Попов Михаил План спасения СССР. Последнее дело Шерлока Холмса
План спасения СССР
1
1990 год. 26 сентября. 3 часа 00 минут.
Тиха подмосковная ночь. Направо от поблескивающих в лунном свете ниток железной дороги большой, утонувший в сосновом массиве дачный поселок. Поселок старый, с двух- и трехэтажными особняками, огромными участками, высоченными глухими заборами. Он разрезан пополам оврагом, который до краев зарос черемуховыми кустами. На участке, примыкающем к оврагу, стоит большой, в два этажа деревянный дом на каменном фундаменте. Окна его темны. Лунный свет, падая в окно второго этажа, освещает большой кабинет с книжными шкафами вдоль стен, огромным письменным столом, кожаными креслами.
В углу кабинета стоит распахнутый сейф из крашеного железа.
На полу лежит навзничь человек в дорогом халате.
В груди у него торчит нож.
1a
1990 год. 26 сентября. 3 часа 1 минута.
Иван Денисович Аникеев проснулся в своей постели и некоторое время лежал неподвижно, глядя в невидимый потолок. Рядом тихо похрапывала жена. Осторожно, чтобы не потревожить ее, Иван Денисович отвернул край одеяла и спустил ноги на пол. Нащупал тапочки и отправился на кухню. Достал сигарету из пачки, лежавшей на холодильнике, и вышел на балкон. Закурил, опершись локтями на балконные перила. Было прохладно, но Иван Денисович терпел, зная по опыту, что лучший способ заснуть – это продрогнуть. Взгляд его был устремлен в ночное небо, но не лунный диск был предметом его интереса. А вот что, сказать было затруднительно. Ничего особенного там, в небесах, не происходило. Так ничего и не дождавшись, Иван Денисович потрогал бородавку у себя на щеке, забычковал окурок и отправился спать.
2
1990 год. 25 сентября. 18 часов 7 минут.
Все-таки справедливость есть на свете и счастье возможно!
Он уезжает!!!
Если бы мне еще вчера предсказали такое развитие событий, я бы решил, что надо мной издеваются. Этот аспирант Женя казался человеком, который будет добиваться своей цели невзирая ни на что. Но приходится верить глазам своим: молодой смазливый негодяй Шевяков стремительно оставляет пост сторожа на даче академика Модеста Анатольевича Петухова, моего работодателя, может быть, благодетеля, человека, к которому устремлены все мои тайные и возвышенные помыслы. Да-а, теперь Женечка не сторож нам. И неважно, куда он убывает, главное – навсегда. «Навсегда» – так и было сообщено Модесту Анатольевичу, едва очнувшемуся от послеобеденного сна.
Академик был в неважном расположении духа-обычное дело во время его ежеквартальных недельных голодовок. Сторож-аспирант почти ворвался к нему и заявил о своей отставке с таким видом, как будто это сообщение должно потрясти академика. Потрясла же Модеста Анатольевича, пожалуй, лишь бесцеремонность молодого человека.
Я вбежал вслед за ним, пытаясь пресечь вторжение, и невольно стал свидетелем короткой сцены. Академик слишком резко и нервно захлопнул дверь своего заветного сейфа, бог знает какие тайны и богатства хранящего. Сейфа, к содержимому которого никто, кроме хозяина, допущен не был. Даже я, его секретарь и преданнейший помощник.
Правда, увидев, что железный ящик в безопасности, Модест Анатольевич тут же успокоился, он вообще великолепно владеет собой, что неизменно, вот уже не один десяток лет, производит сильное впечатление на женщин. Модест Анатольевич не выразил ни малейшего неудовольствия или удивления в связи с неожиданным решением своего ученика. Не задал ни одного уточняющего вопроса и предложил заплатить ему вперед за недоработанные полмесяца. Не исключаю, что он был рад его отъезду, но этого он тоже не показал.
Шевяков отказался от денег с таким видом, будто его оскорбили до самой глубины души.
– Но ты нас будешь, надеюсь, навещать? Просто так. Иногда. – По тону Модеста Анатольевича нельзя было понять, говорит он это всерьез или иронически.
– Боюсь, что такое не случится никогда, – саркастически усмехнулся бывший сторож.
– Ну что ж, дело твое. Только как теперь быть со сторожкой, кто нас будет теперь, так сказать, охранять?
Конечно, в охране нуждались не столько жители дачи, сколько сама дача. Местные алкаши взяли моду совершать в осеннее и зимнее время набеги на оставленную без присмотра собственность. Эта публика не столько ворует, сколько свинячит. Приходится им оставлять на видном месте пару бутылок водки в качестве дани. А тут часто никого нет. Модест Анатольевич то в экспедиции, то на конференции, супруга в Соловьевке, дочь Настенька не вылезает из московских компаний. А ведь дачка-то адмиральская, приданое жены Юлии Борисовны, могли бы держать тут одного какого-нибудь матросика, а то приходится нанимать страстно влюбчивых аспирантов.
Модест Анатольевич отхлебнул из своей чашки с отваром шиповника и недовольно наморщил лоб. Неотвратимость новых хлопот досаждала ему. Но тут Шевяков объявил, что подготовил себе замену. Уверен, он сделал это не для того, чтобы облегчить жизнь великому ученому, а для того, чтобы отрезать себе пути к отступлению.
– Это тот человек, что сидит на скамье у калитки? – позволил я себе поинтересоваться, выглянув в окно.
– Да, это хороший парень, Леня. Я знаю его много лет, он учится…
– Судя по экипировке – в Оксфорде, – не удержал я шпильку во рту.
Шевяков брезгливо на меня покосился. А мне плевать! Женин ставленник был одет как-то уж совсем просто. Черная, липкая на вид болониевая куртка, подольские джинсы, короткие резиновые сапоги, синяя вязаная фуражка, у ног рюкзак, видимо, с пожитками. Я, конечно, сам никакой не денди и не считаю, что человек, одетый бедно, обязательно плохой человек, просто меня злило все, что исходило от этого прилипчивого мечтателя Шевякова.
Модест Анатольевич не стал долее растягивать сцену прощания. Попросил только бывшего хозяина сторожки ввести в курс местных дел хозяина будущего.
Этот Леня в резиновых сапогах при ближайшем рассмотрении не изменил впечатление от себя в лучшую сторону. Русая шевелюра, усы скобою, голубые внимательные глаза, немного косолапит. Рукопожатие-рабочее. Говорит мало, но достаточно, чтобы различить акцент. Наш новый сторож, по всей видимости, малороссиянин.
Свою принадлежность к племени мужиков, у которых руки растут откуда надо, Леня начал доказывать немедленно. Предложил совершить обход владений. Предполагалось, что человек, занимающий сторожку – домик в одну комнатку с кухней, стоящий в дальнем конце немаленького участка за соснами и сиренями, – берет на себя и всю инфраструктуру большого дома, а также присматривает за гаражом и сараем.
Я присоединился к походу в основном для того, чтобы в конце его убедиться, что съезжающий аспирант на самом деле съедет. Честно говоря, так до конца мне и не верилось в мое счастье.
Надо сказать, что за те полтора часа, что мы провели втроем, я пережил немало приятных минут. Шаг за шагом выяснялось, что все дачное хозяйство влюбленный аспирант запустил, довел до ручки, а кое-что даже запорол. Таким образом, я мог заключить, что мое презрение к убывающему Шевякову строится на вполне объективной основе.
Леня в три секунды выяснил, почему выбивает автомат на силовом щите. Женя не только неправильно его использовал, но еще и называл смешно – «спускателем». Даже для биолога это непростительно.
Погремев ключами у батарей отопления на кухне, Леня сделал так, что стала поступать горячая вода на второй этаж. После краткого нашего визита на чердак перестала барахлить антенна. Программа «Взгляд» вновь вернулась к нам.
В течение всего лишь получаса, используя один только хорошо наточенный (им же) топорик и какие-то клинышки, Леня справился с застарелой и, как казалось, неизлечимой болезнью лестницы, ведущей наверх, в кабинет Модеста Анатольевича, к пресловутому сейфу. Дело в том, что, ступая по ней, ты никогда не знал, какая именно ступенька издаст в этот раз склеротическую трель. Всякие приходили плотники, меняли отдельные ступеньки, но это не приносило эффекта. Нужно, оказывается, было скорректировать всю конструкцию. Леня вправил один деревянный позвонок, и лестница ожила, вернее умерла.
Обошли мы дом и с внешней стороны. Новый сторож проверил окна, запоры и прочее в том же роде. Подольше задержались у задней глухой веранды. Дверь, ведущая на нее, была заперта еще в незапамятные времена, а ключ утерян. Да это и к лучшему, так спокойнее. Наша дача не конспиративная квартира, чтобы иметь два выхода. Леня присел на корточки перед нею, поковырялся отверткой в замочной скважине, задумчиво прошептал своими хохляцкими губами «чаго тэта», да этим обход и кончился. Вернее, мог бы кончиться. Если бы я не вспомнил еще об одном «спускателе». О сливном бачке в туалете на первом этаже.
Я увидел, как перекосилась физиономия Шевякова. Этот туалет располагался как раз возле комнаты Маруси, с которой бывшему сторожу после состоявшегося меж ними объяснения встречаться было весьма болезненно. Младшая дочка Модеста Анатольевича, кажется, еще почивает после обеда. Инспекция этого туалета может быть ею истолкована превратно. Все дело в необычном устройстве этого отхожего места, оно имеет два входа, один из коридора, второй из комнаты Маруси. Так что, входя к бачку, Шевяков в известном смысле проникал и в жилище девицы, то есть туда, откуда его совсем недавно и решительно выставили.
Но неисправный туалет есть неисправный туалет, Леня в силу своего характера не мог допустить такого безобразия. Мы отправились.
Пока новый сторож боролся за нормальную водосбрасываемость бачка, Шевяков стоял бледный, напряженный, явно боясь Марусиного появления. Но за ее дверью было тихо. На шум сантехнических работ явился Арсений Васильевич Барсуков, человек, еще неделю назад казавшийся мне странным и милым, а теперь представляющийся странным и опасным. Кто он такой? Сам он о себе ничего не рассказывает, Модест Анатольевич от разговоров на эту тему, усмехаясь, уходит. Маруся, само собой разумеется, ничего о нем знать не может. Приехал Арсений Васильевич в дом академика неделю назад, был рекомендован «стариннейшим другом», но было видно, что гость он незваный. Да и «стариннейшим другом» шестидесятилетнему академику этот максимум сорокалетний дядя быть не мог.
Почему он мне сначала показался милым? Маруся как-то на кухне порезалась рыбным ножом. Увидев это, Арсений Борисович тут же принес флакончик с какой-то мазью, помазал рану и сказал, что к вечеру все пройдет. Все прошло уже через два часа. На месте пореза был едва различимый белый шрам. Увидев результат действия своего лекарства, Арсений Васильевич повел себя странно. Тут же исчез на целые сутки. Вернулся мрачный, ничего не объясняя, заперся в своей комнатушке. Повел жизнь настоящего барсука. На животное это он был и внешне похож. Массивностью, неторопливостью, а главное, мощными, в стороны от щек расчесанными бакенбардами. Что-то было в нем неприятно-таежное.
Леня потянул за фаянсовую каплю, вода с радостным шумом хлынула из бачка. Вслед за этим шумом раздался шум в комнате Маруси. Нервный аспирант тут же торопливо объявил, что осмотр хозяйства окончен. Леня завел было речь о колонке в ванной, но Шевяков был непреклонен.
– Нет, все-все, сам потом разберешься. Пойдем в сторожку.
Бросив в сторону старого знакомого внимательный и удивленный взгляд, Леня стал собирать ключи в фанерный ящик. Шевяков нервно кусал губы, правая рука у него чуть подергивалась. Я переживал минуты блаженства. Браво, Марусенька, представляю, какого она вручила бедному биологу «гарбуза», так, кажется, говорят на изобильной родине нашего неторопливого Леонида.
И вот направились мы к гаражу.
– Мне нужно сказать тебе несколько слов, – выразительно глядя на меня, объявил своему заместителю Шевяков. Ради дела я готов был демонстрировать неделикатность, невменяемость и даже выглядеть полным кретином, но понял, что от меня все равно отделаются, и, чуть поклонившись, отправился в сторону теплицы. Устройство территории дачного участка я знал значительно лучше нашего лже- и горе-сторожа, хоть это и не входило в мои обязанности. За руиной из потрескавшегося стекла и погнутого алюминия имелась укромная тропинка, незаметно выводящая к задней стенке гаража. Едва скрывшись за ближайшим жасминовым кустом, я перешел с нормального шага на тот, что применяется при тройном прыжке, и всего через каких-нибудь пятнадцать секунд уже смог приложить ухо к отверстию, образованному вынутым кирпичом.
– Слушай, ты мне так ничего и не объяснил. Я вижу, тебя прямо трясет, в чем дело?
Говорил сантехник Леня, и говорил без намека на какой-либо акцент. От имени Шевякова слышалось только тяжелое и шумное дыхание. Не удивился бы, увидев, что он рвет на себе волосы.
– Еще полгода назад ты радовался, что попал сюда, а теперь бежишь!
– Да, бегу.
– Ну так объясни, почему?!
Опять взрывы тяжелых выдохов.
– Объясни хотя бы, зачем ты меня сюда затащил?
– Тебе что, не подходит эта работа?!
– Очень даже подходит, но я не хотел бы пользоваться твоей истерикой, чтобы ее получить.
– Хорошо, сейчас объясню. Я ухожу отсюда, потому что перестал уважать Модеста Анатольевича. Я кое-что о нем узнал. Раньше не знал. Теперь узнал. Я перестал уважать его как ученого, я… Знаешь, как он стал членкором?
– Как он стал членкором? – В голосе Лени не чувствовалось заинтригованности.
– Он же никакой не ученый на самом деле, а шарлатан. Его научная репутация ниже нулевой отметки.
Вокруг вьются какие-то темные личности, чуть ли не изобретатели вечного двигателя. Занимается он всем, и ясновидящими, к Ванге в Болгарию ездил, и Тунгусский метеорит разгадывает, Шамбалу-мандалу якобы видел собственными глазами, с Рерихом переписывался. Но это все чушь. А все его настоящие успехи – это успехи у баб. Он всегда был огромный ходок. У него по всей стране их, может быть, сотни. И детей разбросано… Вот Маруся, например, нашлась только три месяца назад.
– Она сама сюда приехала?
– Да, то ли из Томска, то ли из Омска. Двадцать лет назад он искал там упавшую ракету и сошелся с учительницей какой-то сельской школы.
– Ты начал рассказывать, как его принимали в академию.
– Ах, да. Понимая, что шансов у него никаких, над ним почти открыто смеются, он придумывает такой ход. Вечером перед днем голосования он объезжает членов совета и говорит каждому примерно следующее: «Иван Иваныч, я понимаю, шансов у меня на вступление в академию никаких, что и справедливо, конечно, я всего лишь автор популярных журналов, а не ученый. Но будет слишком уж мне больно, если завтра в урне окажутся все до единого черные шары. Бросьте хотя бы один белый вы, пусть поражение будет без позора». А назавтра в урне, как и следовало ожидать, не было ни одного черного.
Эту бредовую сказку я слышал уже раз двадцать. Источник ее происхождения слишком известен – зависть. Люди, добившиеся успеха, обречены тащить за собой шлейф диких и жалких клевет. Что там Модест Анатольевич, есть господа, считающие, что не Ньютон открыл законы Ньютона, но некий Гук, что не Эйнштейн автор теории относительности, а Пуанкаре. Это какой-то всемирный комплекс, мосечная философия. К несчастью всех этих гавкающих из подворотни, слон все равно остается слоном.
Новый сторож тоже не проникся аргументацией Шевякова.
– Ты мне рассказывал эту байку еще когда устраивался. Но тогда она тебя веселила.
Было слышно, что аспирант запыхтел, как школьник, пойманный на очевидном вранье.
– Тут что-то другое. Не хочешь – не говори.
Какое благородство, и по-прежнему, прошу заметить, ни намека на акцент. Не прост этот парень в болониевой куртке. Боюсь, что это вообще никакой не хохол.
– Знаешь что, ты мне лучше скажи, кто это все время с нами ходил, этот худенький черненький.
Ну-ка, ну-ка! Сейчас мы узнаем, какими выглядим в глазах этого неврастеника!
– Да черт его знает. Зовут Дементий. По-моему, он немного с приветом. Появился здесь месяцев пять назад. Из новосибирского Академгородка вроде бы. Составлять и редактировать какой-то сборник. Модест ведь во все нос сует, ему все интересно, вплоть до самой жалкой уфологии. А этот парень личность, по-моему, темноватая. Впился, как репейник. Какой там сборник, он уже вроде секретаря у Модеста. Переписку ведет. Мне кажется, он…
Договорить Шевякову помешали. Явилась своей собственной персоной, на своем собственном, хотя и сильно поношенном «форде» старшая дочь Модеста Анатольевича, рожденная в законном браке, Вероника Модестовна. Отвратное кваканье ее американской развалюхи я узнаю из тысячи автомобильных голосов.
Шевяков выскочил из гаража и отворил ворота.
Таких, как Вика, в наших советских милицейских фильмах умудренные следователи с седыми висками сразу берут на подозрение. Сама девушка вроде как обыкновенный МНС в тихой ихтиологической конторе, но знакомства!!! Фарца, массажисты-шантажисты, подпольные парикмахерши и всякая мелкая «иносрань». Сюда, на дачу, она залетает нечасто, подозреваю, только лишь затем, чтобы разжиться папиной копейкой. Меня она в упор не видит, да я стараюсь и не приближаться на такое расстояние. С Марусей настолько корректна, что это вызывает у меня беспокойство.
Ну вот, въехала звезда наша. Выбирается из тачки, сладко потягиваясь. Смотрите, какая я. Кожаные брюки, белый ангорский свитер, на шее массивное ожерелье из китайской бирюзы. Высокая, стройная, но какая-то чересчур жилистая, нервная, неплавная. Лицо заметно вытянутое, подбородок папин, клином вниз. И веки, тяжелые папины веки. Во рту сигарета коричневая с золотым ободком. Вот законченный образ.
Но не сама Вероника была главным сюрпризом к ужину. Посмотрите, кого она привезла!
– Фил Мак Мес, из Арканзаса.
Вот этого нам только и не хватало!
Высокий, сутулый, веснушчатый мужик под пятьдесят в толстенных очках. Поразительно остроносый. Ему, наверно, очень удобно соваться в чужие дела. Про зубы ничего не будем говорить. Не в джинсах. Такой костюмчик и «Большевичка» может пошить. Клетчатая рубашка. В руке парусиновый портфель. Стоит, улыбается, а что ему еще делать? Вероника представила его Шевякову и Лене в тот момент, когда у одного был в руках ломик, каким запираются изнутри ворота, а у другого ржавый газовый ключ, отчего их вид нельзя было назвать дружелюбным.
Видя, что радушия тут не жди, Вероника скомандовала:
– Камон, Фил, камон.
И они двинулись по кирпичной дорожке к передней веранде дома. Воспользовавшись тем, что эта пара привлекает сейчас всеобщее внимание, я незаметно выбрался из засады. Навстречу гостям вышел сам Модест Анатольевич, со своей неизменной красной кружкой. Он был по-хорошему вальяжен в своем тибетском халате. Мужественные залысины, серебристые виски, мудрый прищур век, выправка. Как будто не его тесть, а он сам был адмиралом. Такой до восьмидесяти будет нравиться дамам. Никакого смущения визит иностранца у него не вызвал. Перевидал он иностранцев на своем веку предостаточно.
– Это Фил, папочка. Он адвокат, журналист и издатель. Он страшно хотел с тобой познакомиться.
Издатель? Интересно.
– Ну, если страшно, – Модест Анатольевич сделал приглашающий жест кружкой. – Думаю, сейчас нам дадут перекусить.
Не желая никого тиранить своим голоданием, он настаивал на полноценном четырехразовом питании для всех прочих домочадцев.
– Ах, да, – Вероника встрепенулась, услышав о еде. – Я, папуль, твои академические заказики привезла. Там в багажнике, пусть Женечка отнесет Марусе на кухню.
– Я отнесу, – сказал Леня.
На веранде появился Барсуков, видимо, проголодался господин таинственный. Модест Анатольевич предложил всем рассаживаться. Половину веранды занимал огромный овальный, застеленный клетчатой скатертью стол. Посреди него стоял настоящий медный самовар с погнутым боком и плетеные корзиночки с сушками и карамельками.
Вика ткнула локтем американца, мол, не церемонься, садись, а сама со словами «пойду сестричку проведаю» исчезла на кухне. Она не принадлежит к породе людей, любящих сидеть на одном месте. Фил, как выяснилось, и не собирался церемониться. Как все американцы, он был уверен, что его появление есть центральное событие в любое время в любом месте. Едва поставив локти на скатерть (хорошо, что не ботинки), он полез к академику с серьезным разговором. Причем все попытки Модеста Анатольевича перейти на английский адвокат пресек, он считал, что достаточно хорошо говорит по-русски. Конечно, наш язык – это такая мелочь, которой любой арканзасский адвокат может овладеть прямо в самолете при перелете через океан.
Из той каши, что представляла собой речь очкастого издателя, съедобными для слуха оказались всего лишь несколько мыслей. Вот они: «Ваш выступлений» (повторено два раза), «давном давном думал» (три раза), «социализмус – но, капитализмус – но», и «третий пут» (по три раза). «Элцин пяный» (пять раз).
Штатник – он и есть штатник. Я лично не решился бы в первые пять минут после появления заявить в американской аудитории, например, что «Буш – наелся груш».
Барсуков сидел мрачный, мне кажется, мучило его не качество русской речи американца и не ее провокационная направленность, а что-то свое, неизъяснимое. Я же с первых слов адвоката немного занервничал, хотя к моим видам на будущее его появление вроде бы прямого отношения иметь не могло.
Тут надо пояснить – Модест Анатольевич на днях дал одной зарубежной радиостанции очень энергичное и немного неосторожное интервью. Мысль, которую он в нем проводил, была такова: по его, академика Петухова, мнению, нынешний СССР никакой перестройке не подлежит, должен быть упразднен, а на его месте следует возвести совсем иное государство. Вместе с тем он, академик Петухов, категорически не согласен с моделями, предлагаемыми Сахаровым и Солженицыным, который на днях опубликовал в «Комсомолке» свою обширную статью «Как нам обустроить Россию». Интервью, как можно видеть, вызвало международный резонанс, будь он неладен!
Из той речи Модеста Анатольевича можно было понять, что им написана уже целая большая книга, в которой затронутая в интервью тема разработана исчерпывающе. Вот уже и американский издатель наготове, и любимая дочка помогает ему добраться до рукописи любимого батюшки. Интересно, за какие комиссионные.
Особую пикантность ситуации придавало то обстоятельство, что не далее как завтра Модест Анатольевич, в компании нескольких академических старцев, должен был отправиться в Кремль, на встречу с «самым высшим руководством» страны. Академик, явно польщенный доверием власти, не скрывал тему предстоящего курултая – референдум о сохранении СССР.
Одного, убей меня бог, одного не могу понять, как Модеста Анатольевича, человека, причастного тайнам высшего порядка, тайнам и ослепительным, и умопомрачительным, может занимать муравьиная суета политики. Что ему до этого референдума, когда… нет, нет, отказываюсь понимать!
– Так что же, дадут нам чего-нибудь сегодня перекусить?! – громко сказал хозяин, вальяжно и небрежно перебивая нервную речь иностранца.
Американец смущенно улыбнулся, догадываясь, кажется, что одним косноязычным наскоком такую крепость, как академик Петухов, не возьмешь. Портфельчик, из которого он, может быть, уже готовился достать текст наглого издательского договора, был убран с колен к ножке стула.
Шевяков, пользуясь моментом, подвел к Модесту Анатольевичу своего преемника. Едва услышав чечеканье Леонида, академик воскликнул:
– Белорус?
Прирожденный сантехник с достоинством кивнул. Ага, значит, я не угадал, он не хохол, но это мало что меняет.
А на Леонида между тем обрушился целый шквал вопросов:
– А Карпюка вы знаете? А Тикоту? А Казимирчика, Сергея Адамовича? А Кулинича, ну такой директор музея в Речице? Нет? А Стрельчика, Васю Стрельчика?!
Все же как много, как разнообразно путешествовал в своей жизни Модест Анатольевич. Но новый сторож на каждый вопрос отвечал отрицательным кивком. Видя, что академик все больше и больше мрачнеет, Леонид заметил, что Белоруссия все же превосходит размерами деревню, где все знают всех. Отзвук ущемленной гордости представителя малого народа.
– Да, да, – уже равнодушно кивнул Модест Анатольевич, – значит, теперь вы теперь будете там, м-м, в сторожке?
– Я.
– Что ж, приступайте, пусть Женя вам все покажет.
Женя сказал, что все и так уж показано, и молодым людям ничего не оставалось, как отойти в сторонку.
– Никакой он не белорус, Васю Стрельчика не знает, – хмыкнул академик, отхлебывая из кружки.
На веранду выпрыгнула раскрасневшаяся Вероника с сообщением, что Маруся с минуты на минуту принесет блинчики с мясом.
– А я уезжаю.
– То есть как? А-а-э…
– А Фил остается. Поверь, у него к тебе самое серьезное предложение. Но даже если ты ему откажешь, ты хотя бы обязан накормить человека, прежде чем выгнать из дома.
Вероника чмокнула отца в висок.
– А ты перекусить? – не находя лучшего аргумента, спросил отец.
– На диете. Не воображайте, товарищ академик, что только вы имеете право не есть.
Я посмотрел на Фила, он облизывался, явно показывая, что мечтает добраться не только до блинчиков академика, но и до его рукописей. Вероломная Вероника! Хороший подарок папочке! Дом и так забит чужаками. Дочка уже спускалась по лестнице, когда Модест Анатольевич зацепил ее последним крючком.
– А как же Фил уедет без машины?
– Ой, пап, поедет, как все. На электричке.
– А если дождь?!
– Ничего, не размокнет.
Фил радостно закивал и полез в свой портфельчик, извлек оттуда книгу в суперобложке и протянул Модесту Анатольевичу.
В этот момент в коридоре, ведущем к веранде, послышались шаги Маруси с подносом.
– Вика, ты меня захватишь? – быстро спросил аспирант, как раз появившийся со своим саквояжем.
– Прыгай в машину.
Академик с удивлением разглядывал фотографию на рекламном отвороте супера, там был изображен наш остроносый очкарик в камуфляжной форме, он стоял под деревом и под дождем. Улыбаясь совсем так, как улыбался сейчас. Книга была, судя по всему, написана Филом, но показывал он ее явно не для того, чтобы похвастаться, но в доказательство того, что не боится дождя.
– Это Вьетнам.
– Где вам дали просраться, – сказал вдруг Барсуков, которого я до сих пор считал человеком либеральных, то есть проамериканских взглядов. Впрочем, ничего удивительного, Барсуков был за демократическую Америку и против Америки милитаристской.
– Так ест, да. Я был прострация. Сикс манс.
– Пап, – крикнула Вероника, высовываясь из-за руля, – вам и без меня будет весело!
И тут же стало ясно почему. Послышалась песня, она приближалась вдоль лицевого забора. Певец был пока не виден за кустами жасмина. Пел он неприятным, небритым голосом на мотив «Марсельезы»:
Коммунисты поймали мальчи-ишку, затащили его в КГБ. «Говори нам, кто дал тебе кни-ижку, руководство в идейной борьбе».Вероника фыркнула, фыркнула и ее машина, и они отчалили. В распахнутых воротах нарисовался во всей своей отрицательной привлекательности Валерий Борисович, родной брат Юлии Борисовны, супруги академика. На несколько секунд он замолк, была короткая немая сцена, потом гость решительно двинулся внутрь дачной территории. В это время из сторожки вышел белорус с косою. Не знаю, что он намеревался с нею делать под вечер, может, просто отбить, не умея по своей крестьянской закваске сидеть без дела. Валерий Борисович замахал на него руками, как будто признал в нем Смерть.
– Рано, рано!
Пожевал губами, собираясь с певческой силой, и снова загорланил:
«Говори, кто учил злонаме-еренно клеветать на наш ленинский строй!» — «В жопе видел я вашего Ле-енина!» — Отвечает им юный герой.Дешевое фрондерство дешевого человека, да еще напившегося под вечер дешевого одеколона. Никакой смелости для того, чтобы издеваться над Лениным, сейчас не требуется.
Было видно, что Модест Анатольевич не рад визиту родственника. Свояк жил на другом конце дачного поселка на небольшой съемной дачке и получал определенное содержание с условием, что не будет докучать своим присутствием. Причина такого условия была очевидна. Валерий Борисович был очень уж неприятен собой. Университет закончил, а пахнет как от бомжа. Но дело даже не в жуткой похмельной щетине, не в пиджаке, застегнутом не на ту пуговицу, а в тяжелейшем характере. Смесь Ноздрева и Мармеладова. Никогда не знаешь, бросится он в ножки или в рожу плюнет. Никак не могу понять, почему Модест Анатольевич не разорвет с ним отношения полностью и терпит порою его выходки. Одного звонка местному участковому за глаза хватило бы для полной победы над этим домашним диссидентом.
Когда Валерий Борисович подошел к ступеням веранды и остановился, дав себя рассмотреть, мне показалось, что он не так уж и пьян, а неправильно застегнутый пиджак и разные носки – наигрыш. Валерий Борисович стоял молча, как бы скромно, но при этом выражая всем видом уверенность, что его сейчас пригласят к столу.
Так оно, как это ни дико, и случилось.
– Ну что же ты там застрял? Пришел – проходи, садись.
И опустившийся человек начал подниматься по ступеням.
3
Это был очень странный ужин.
Во-первых, потому, что он не начинался в течение часа после того как был полностью накрыт. Сначала Модест Анатольевич удалился от стола вместе со своим фатоватым родственником и они о чем-то разговаривали в кабинете. Разговаривали на повышенных тонах. Нам, сидящим на веранде, был слышен только гул голосов, а Марусе на кухне по силам было, я думаю, различить и некоторые слова. Валерий Борисович вернулся из кабинета удовлетворенный. Он не удалился, как обычно, с матерно-сакраментальными угрозами, а уверенно уселся, собираясь как следует поужинать. Самолично откупорил бутылку домашней смородиновой водки, поданной к ужину, и налил себе половину чайной чашки. Предложил Барсукову и американцу. Мне, конечно же, нет, зная, что это бесполезно. Барсуков отказался по непонятной причине, а Фил потому что как раз устремлялся в кабинет к Модесту Анатольевичу.
– Ну и черт с вами, – сказал Валерий Борисович и выпил сам. Обычно я с интересом любуюсь фантастической гримасой, что охватывает его физиономию сразу вслед за выпиванием водки. Но тут мое внимание отвлек Барсуков. Увидев решительный и непосредственный ход американца, он привстал на своих коротеньких ножках и страшно побледнел. Это было видно даже в желтоватом неярком свете единственной лампочки, освещавшей веранду, даже сквозь распушенные бакенбарды. Он выглядел как человек, который с ужасом говорит себе – я опоздал! Чем его могла так уж испугать выходка этого малахольного Фила, какого такого он разглядел в нем соперника?!
Я почувствовал, что у меня холодеет под ложечкой. Неприятно осознавать, что ты не все понимаешь в происходящем. Все время, пока американец находился наверху, за столом стояло полнейшее молчание. Я смотрел в плохо начищенный бок самовара, пытаясь выловить взглядом свое отражение.
Барсуков скрипел плетеным креслом и беззвучно шевелил губами.
Валерий Борисович откинулся на спинку своего кресла и почти беззвучно бредил. Кажется, он был счастлив в эти мгновения.
Маруся была тиха и безмятежна. По крайней мере, внешне. На меня она смотрела со спокойным доверием, тихая моя краса. А я задавал себе жесткие вопросы. Прав ли я, пребывая в уверенности, что все происходящее вокруг никоим образом не касается моего великого умысла? Может, я что-нибудь упустил, может быть, кто-то хитроумный напал на наш след, и все эти гости суть не случайные люди со своими мелкими и случайными целями, а конкуренты. Не мелкие помехи, а главные препятствия.
Нет, в это я не верил и вопрос этот задал себе скорее для порядка и для острастки. Чтобы быть в форме, надо поддерживать форму. Уверившись в собственной неуязвимости, становишься уязвим.
Я улыбнулся Марусе.
Вскоре появились Модест Анатольевич с Филом. По их лицам нельзя было понять, договорились ли они о чем-нибудь. Барсуков пожирал их глазами. Они уселись на разных краях стола. И тут застолье разом как-то оживилось. Маруся вскочила и начала хлопотать. Валерий Борисович проснулся и стал совращать Фила насчет выпить. А на ступеньках появился новый сторож с двухлитровой алюминиевой кастрюлькой «бульбачкы» и шматком сала. Он хотел таким образом поучаствовать в общем застолье. Не помню, чтобы его кто-нибудь приглашал. Может, это у белорусских академиков принято столоваться вместе со сторожами, на высокомерной Московии такого завода нет. Да, наш сторож человек не столько светский, сколько советский. Думается, работящий наш Леня ориентировался на рассказы аспиранта Шевякова о своем житье-бытье на этой даче. Но тот стал относительно своим лишь потому, что некогда был однокурсником Вероники, а такие привилегии по наследству не передаются.
Ну, академики у нас люди воспитанные, никто и глазом не повел, подношенья от сторожки были деликатно кооптированы в общий ужин.
Американец, словно подыгрывая белорусу, прямо-таки набросился на картошку, а Валерий Борисович шумно обрадовался салу, как будто надеялся почерпнуть из него сырье для своих пьяных сальностей.
Маруся сумела мгновенно разогреть блинчики и питье Модеста Анатольевича. Академик одарил ее драгоценно блеснувшим взглядом. Девушка грамотно потупилась и с милой неловкостью одернула фартук. Маруся, Марусечка, настоящая покорная дочь. Ни крупицы косметики, улыбка сестры милосердия. «А у нас светлых глаз нет приказу подымать». Даже очень стараясь быть незаметной, она все равно оказывалась в центре внимания. Понимаю, хотя и не извиняю этого гада Шевякова. Хороша, ангелица! Несомненно, Модест Анатольевич счастлив, что Маруся появилась в его доме, возможно, даже более счастлив, чем можно было предположить. А собственно, чего я жду? Ведь ситуация, если посмотреть на нее трезво и спокойно, полностью созрела. В чем она может стать лучше? Каких еще дополнительных сигналов и свидетельств я жду?! Не надо бояться действовать. Надо бояться упустить момент.
Валерий Борисович, Фил и Леня как раз дернули по стаканчику. Смородиновая еще не докатилась до желудка американца, а он уже опять полез со своим косноязычным политическим трепом. Он говорил с жаром, можно было подумать, что его в самом деле волнует будущее СССР и народов, его населяющих. Мысль была у него, собственно, одна, и мысль-то ничтожная. Он желал, чтобы наша громадная родина, на собственной шкуре изведавшая все прелести социализма, нашла бы в себе силы не соблазниться фальшивым капиталистическим пряником и выбрала новый, другой, ТРЕТИЙ путь.
Модест Анатольевич отмалчивался. И правильно. Дискутировать на предложенном уровне не имело смысла. Барсуков время от времени проверял состояние бакенбардов и жег непрошеного оратора тусклым огнем своих глаз. Иногда он переводил взгляд на академика, и огонь этот становился горячее.
Валерий Борисович охотно ринулся в политбата-лию. Смородиновая придала его голосу рыкливости, и он в ответ на каждую невнятную инвективу Фила заявлял:
– Ерррунда, рррродной!
Американец был неутомим. Он подходил к теме то с одной, то с другой стороны, приводил никому не известные исторические примеры, цитировал ничего не значащие цифры, припоминал невыговариваемые имена, все было тщетно. По его словам выходило, что Америка, имея всего пять процентов мирового населения, потребляет двадцать пять процентов мировых ресурсов. «Это ест пропаст». СССР, имея тоже примерно пять процентов населения, производит двадцать процентов всех мировых отходов. «Это ест пропаст». Нужен «третий пут».
– Третий пут, третий пут – капут! – заявил вдруг утомленный однообразием разговора Валерий Борисович.
Фил неожиданно побледнел.
– Не-ет, – страстно пропел он, – капитализмус капут, социализмус капут. Третий пут-о! – Он показал большой палец правой руки.
И тут подал голос Модест Анатольевич. Неожиданно и от этого особенно веско.
– Но если не капитализмус, как вы изволите выражаться, не социализмус, тогда что остается – национализмус?
Фил задохнулся, попытался что-то сказать, не смог, поискал рукой на столе, нашел стакан, Валерий Борисович ловко плеснул туда водки. Американец глотнул, горло у него перехватило. Из глаз потекли детские слезы. Надо было понимать, что «национализмус» его очень напугал.
В образовавшейся паузе слово взял Барсуков.
– Это идиотская глупость думать, что есть какое-то почти равное противостояние: мы и Запад. Мы всегда тащились Западу вослед, еще со времен допетровских, при Петре это стало официально признано. И сейчас тащимся. Нет параллельных курсов, есть движение след в след. Как бы мы ни хорохорились, ни дурили, а всю уже проделанную Западом дороженьку пройдем до последнего фута и дюйма.
– Да это какие-то «Московские новости»! – выпучил глаза Валерий Борисович.
– Да, «Московские новости» – это моя любимая газета, – со злобным достоинством ответил Барсуков. – А «Огонек» – любимый журнал.
Пьяный спорщик не успел ответить, заговорила фигура совсем уж неуместная – сторож Леня.
– Ладно, мы сильно отстаем от развитых капиталистических стран, но, может быть, это и хорошо. Как утверждает наш американский гость, капиталистический путь – это путь к пропасти. Не разумнее ли при таких перспективах быть в хвосте колонны, а не в голове?
Мысль, может быть, и не лишенная оригинальности, но какая-то уж слишком белорусская.
Барсуков поморщился.
– Игра мыслей, игра слов, все у нас и кончается игрою слов, и мы ею, бедные, и сыты. А ведь все просто, примеры прямо вокруг и под ногами. Возьмите хотя бы заказ этот нынешний, который Вероника привезла. Ведь это же дичь! Человек с мировым именем, академик на семидесятом году существования государства получает паек от своего правительства. Банку шпротов и пачку индийского чая. Да я, собственно, и не про заказ.
– Но если вы не про заказ, то про что? – сухо поинтересовался Модест Анатольевич.
Я думал, что таежный выходец собьется, смутится, но нет.
– Я про свободу. Вы возьмите хоть футбол этот недавний!
Валерий Борисович вдруг зарычал, как раненый, и схватился руками за небритое лицо. Он был страстный болельщик, а сборная страны на последнем чемпионате мира в Италии провалилась так бездарно, что нельзя было не зарычать.
– Футбол-это не игра всего лишь. Футбол-это концентрированное выражение национальной самобытности и национальной культуры в наиболее ощутимой, непосредственной форме. Что нам продемонстрировала наша сборная в Италии? Что мы никогда не победим.
– Но почему? – всхлипнул сквозь прижатые к лицу ладони Валерий Борисович.
– Потому что за команды наших соперников играют свободные люди, а за нас крепостные. Крепостное право у нас не отменили в 1861 году. У нас только объявили об его отмене. Оно у нас сохраняется. До сих пор любой председатель колхоза, любой командир батальона, директор шахты, заведующий кафедрой – барин, Троекуров.
– Мысль не только не слишком глубокая, но и не слишком патриотическая. – Модест Анатольевич отхлебнул отвара.
– Патриотизм – последнее прибежище негодяя! – рубанул Барсуков.
– Патриотизмус есть красиво.
– Кто же вам сказал такую глупость? – Академик резко поставил кружку на стол.
Не сразу стало понятно, к кому относится вопрос, но Барсуков решил принять его на свой счет. Да, кажется, сжигает корабли. Его тайная миссия на пету-ховской даче провалилась. Высокомерным движением освежив свои баки, он заявил:
– Это слова Льва Николаевича Толстого.
Модест Анатольевич зевнул и даже на несколько мгновений закрыл свои запавшие от голода глаза. Неужели заснет, мелькнула у меня дурацкая мысль. Но академик не заснул.
– Вот типичный пример либералистского мышления.
– Что это такое – «либералистское мышление»? – оскалил мелкие зубы Барсуков, кажется, он готовился порвать в клочья аргументацию академика.
– Заметьте себе, не либеральное, для меня либерализм не ругательство, а либералистское.
– Да что же, что же это такое?!
– Это смесь самовлюбленной неграмотности, тупой религиозной веры в прогресс, неудержимого стремления повторять заклинания из некоего нелепого набора. Вроде того, что «демократия никуда не годится, но лучше нее все равно ничего нет».
– Солженицын это выразил короче – «образованщина»! – вскинулся Валерий Борисович.
Ничего себе, а я-то думал, что он ничем, кроме матерных частушек, не интересуется.
Модест Анатольевич величественно пропустил это замечание мимо ушей.
– А теперь о патриотизме, если позволите. Фразу эту сказал впервые не Лев Толстой, не Голсуорси, не Амброз Бирс, как прочитал я тут в одном предисловии. Сказал ее Сэмюэль Джонсон, английский публицист конца восемнадцатого века. Но это так, пример правильной атрибуции. Важно то, какой он вложил смысл в эту фразу. По его мнению, патриотизм – это настолько великая вещь, что способна облагородить даже негодяя. В таком же плане понимали проблему и люди античности. Когда Ганнибал подошел к Риму, сидевшие в тюрьмах преступники попросили дать им оружие и встали на защиту отечества. Патриотический порыв очистил их от грязи и негодничества.
Барсуков сидел, уткнувшись в тарелку, и с ненавистью глядел на остывшую картофелину, неизвестно кем подложенную.
– А глупости не следует повторять даже вслед за Львом Толстым.
– Мне нужно с вами поговорить, – глухо сказал поверженный западник.
Валерий Борисович, живо и пьяно переживавший перипетии перепалки, рванулся душой к свояку и крикнул:
– Выслушай его, Модеска, видишь, человеку нужно!
Академик молча встал.
– Завтра у меня очень важная встреча. Мне необходимо к ней подготовиться.
– Вы идет к президент свой книга? – уважительно спросил Фил.
Модест Анатольевич ничего не ответил и покинул веранду.
На этом стройное течение ужина прекратилось.
Барсуков остался сидеть в своем кресле, весьма напоминая некрасивое изваяние.
– Да плюнь ты на него, на гада! – посоветовал Валерий Борисович, не очень ожидая, что его совету последуют.
Леонид ушел к себе вместе со своей кастрюлей. Чем он там у себя занялся, догадаться было трудно, а проверить я не решился, боясь оставить без внимания основную массу персонажей.
Валерий Борисович и Фил оставались на веранде ровно столько, сколько нужно, чтобы допить бутылку. Это было не абстрактное пьянство, а хороший такой разговор по душам на идейной основе. Валерий Борисович пытался убедить Фила, что Запад в общем-то обречен, но при этом жарко настаивал на том, что «русский человек – скотина, посмотри хоть на меня. Нет, ты посмотри!» И американец смотрел и даже цокал языком, демонстрируя понимание. Потом резко сменил тему и заявил, что всегда стоял и стоит против сегрегации, но за «патриотизмус». Однако, как заразителен оказался этот «измус»! В конце концов Валерий Борисович вывел формулу, которая показывала ущербность Запада перед нами.
– У вас, у демократоров, высшая ценность что? Человеческая жизнь.
Американец приосанился и гордо подтвердил:
– Да, так ест.
– Но это же ужасно!
– Вай?
– Ты еще скажи вах! Главное не человеческая жизнь, но спасение души, понял?!
Тут он вдруг повернулся ко мне и, улыбаясь слюнявым ртом, сказал:
– Дементий, да выпей ты водки, дурак!
Я содрогнулся, представив себе, что душа Валерия Борисовича и в самом деле будет каким-нибудь образом спасена и мы встретимся с нею в мирах иных.
Продолжался этот пир духа довольно долго, и я наконец понял почему. Свояк академика уговаривал бутылку один, Фил лишь обмакивал губы в самогон, как и интеллект в беседу. При этом выглядел он очень пьяным. Выглядел или хотел выглядеть?
Маруся приготовила американцу постель на задней глухой застекленной веранде. Стоял конец сентября, но ночи все еще были теплые, под двумя выделенными пледами выходец из южных штатов не должен был замерзнуть. Сопроводив Фила к месту ночной стоянки, я взял на себя смелость выпроводить Валерия Борисовича. Он явно страдал от расставания с Филом.
– Дай я там с ним переночую, хоть на полу, мы еще покалякаем. Какой парень! Он наш, совсем нам. Душа как… Пусти, Дементий!
Этого еще не хватало! Чтобы убедительно продемонстрировать, что раут окончен, мне пришлось выключить свет на веранде. Валерий Борисович с неожиданной покорностью двинулся по кирпичной дорожке к калитке. Я на всякий случай сопроводил его до самого выхода. Он удалился, напевая:
Пойду ли я в десятый класс, вопрос довольно спорный. За мною нужен глаз да глаз, особенно в уборной.Возвращаясь, я увидел, что Барсуков сидит, как и сидел, с сигаретной искрой в зубах. Когда человек так долго остается в неподвижности, значит, завелся. Не обрадовало меня это. Я прошел на кухню, якобы для того, чтобы помочь Марусе с посудой.
– Не нравится мне этот наплыв гостей, – прошептала она, пустив шумную струю из крана.
– Да, ты права, все это неспроста. И американец не так пьян и не так прост, как кажется. Хорошо, если он просто хочет купить у Петухова рукопись, а вдруг…
– Что «вдруг»?! – Маруся открыла на меня свои огромные карие глаза. – Ты знаешь, Вероника мне угрожала.
– Сегодня?
– Да, говорит, чтобы я оставила Модеста Анатольевича в покое.
– Хорошенькое дельце.
– Может, нам затаиться?
– Да что ты такое, Марусенька, говоришь? Нельзя нам больше медлить, видишь, как все сходится. Американец, Барсуков сам не свой, что выкинет, неизвестно. Новый сторож этот. От Шевякова отделались (Маруся вздохнула, но это уже не страшно), а тут новая беда. Не нравится мне этот Леня. Кроме того, Кремль, ну зачем, зачем ему теперь Кремль!
Маруся прижала палец к губам, тише, мол.
– Значит, так, сегодня ночью попробуем совершить первое приближение. Ты готова?
Она кивнула, она всегда готова, моя умница, наилучшая из моих ангелиц.
– А он не удивится?
– Почему это?
– Он же голодает.
– В данном случае это не помешает. Теперь вот еще что надо решить – на какой час ему, так сказать, назначить. Да, в общем, не важно, я буду наготове в любой момент. А ты просто скажешь ему, что готова.
Маруся вздохнула, но было понятно, что это вздох согласия.
Услышав шаги Барсукова, я выскочил из кухни, пожелал мрачному обладателю бакенбардов спокойной ночи и проследил за тем, как он войдет в свою комнату. Дождался, когда Маруся закончит дела на кухне, кивнул ей, когда она проходила к себе, разговаривать в коридоре было опасно, слишком хорошая слышимость. Она кивнула мне в ответ и грустно улыбнулась. Она сделает все как надо.
Итак, все разбрелись по своим норам. Модест Анатольевич наверху, в кабинете, Фил по ту сторону кухни на глухой веранде, Маруся в комнатке перед кухней, дверь ее как раз выходит к лестнице, ведущей наверх. Барсуков окопался ближе к выходу на основную веранду. Было слышно, как он закрылся изнутри на щеколду. Это еще что такое? Боится, что его побеспокоят этой ночью?! Или просто барсучья привычка?
Можно занимать свой пост.
В первый день своего появления у Модеста Анатольевича я настоял, чтобы мне позволили поселиться в этой клетушке в самом начале коридора, уводящего внутрь дома. В ней никто не жил, она была захламлена разным мусором. Ничего, я привел ее в порядок, втащил топчан, втиснул стол. Хозяева сочли это неопасным чудачеством. Зато весь дом оказался с того момента под моим контролем. Особенно по ночам.
Дверь я, естественно, прикрывать не стал и лег не раздеваясь поверх своего жесткого ложа, закрыл глаза и начал слушать. Я не боялся, что незаметно засну, я давно уже приучил себя засыпать только по приказу.
Поначалу мне казалось, что вокруг меня нет ничего, кроме тишины, но постепенно, по мере превращения всего меня во внимательный слух, я обнаруживал вокруг себя разнообразнейшую жизнь. Можно было различить и самый мелкий, насекомый уровень звуков. Потрескивание обоев, одиссеи одиноких комариков, самоубийство капли воды, выпавшей из крана на кухне. Присутствовал и целый мир звуков воображенных. Шорох бумаг высокогосударственного значения, в которые паркер академика вносит последние поправки, бурление пьяного смородинового бреда в американской голове, шум табачного дыма, яростно выдыхаемого разочарованным Барсуковым. Только насчет Маруси, небесного создания, ничего мне не воображалось. «И тихо, как вода в сосуде, стояла жизнь ее во сне». Хотя, конечно, я знал, что Маруся спит в столь же малой степени, как и я.
Овладев звуковой картиной дома, я вышел слухом наружу. Где-то на границе представимого мира прострекотала последняя электричка. Но о ней не будем думать, она уж точно не вмешается в мои планы. Есть смущающие волны звучания много ближе. Как будто медленный ветер пробрался сквозь кусты жасмина к кустам сирени в той стороне, где насторожилась сторожка. Никакого более плотного звука не образовалось там, и я поверил, что это ветер. Я еще размышлял над природою этого звукового брожения, как услышал отчетливое и несомненное:
– А волны и стонут, и плачут, и бьются о борт корабля…Звук шел из черемухового оврага за тыловой оградой участка. Само по себе это не успокаивало, а тут еще голос. Очень странный голос. Он был женский, однозначно женский, но вместе с тем звучала в нем какая-то боевая решимость.
А вот то, чего я не ждал.
Барсук вышел из норы и начал подниматься по лестнице, ведущей наверх. Осторожно, почти беззвучно. Наверно, он сейчас благодарит нового сторожа за его золотые руки. Если бы я заранее не знал, к чему прислушиваться, то мог и пропустить эту вылазку.
Вот он прошел площадку, где лестница делает поворот.
Теперь наша очередь.
В специальных войлочных тапочках, да еще и на цыпочках, я выскользнул в коридор. Осторожно, медленно, соотнося каждый свой шаг с шагом Барсукова, я добрался до лестницы. Он уже был на самом верху, у двери кабинета. Скребется. Я быстро и бесшумно поднялся ступенек на пять, дальше нельзя, взгляд, случайно брошенный сверху, может попасть на меня.
Дверь кабинета открывается. Но не полностью, только на длину цепочки. Цепочка была поставлена еще в адмиральские времена, когда в кабинете могли находиться секретные военные документы.
Произошел разговор шепотом, но при этом на повышенных тонах.
Барсуков: Я не могу без нее уехать!
Академик: Она вам ничем не поможет, скорее наоборот.
Барсуков: Я не верю вам, Модест Анатольевич, не верю. И не поверю, пока сам не попробую.
Академик: Вот именно поэтому я и не могу вам ее отдать.
Барсуков: Но это же жестоко, жестоко, я же вам объяснял мои обстоятельства!
Академик: Сочувствую, очень, но, поверьте, помощь вам надо искать не здесь. Ваш путь ведет в тупик, если не хуже.
Барсуков: Но как вы можете знать! Надо же попробовать! Я готов рискнуть, вы же знаете, чем я готов рискнуть. Да что я вам говорю! Отдайте мне рукопись, отдайте! Ну зачем она вам, вы все равно все изгадите, вы струсите или продадите за копейки.
Академик: Послушайте, Арсений Васильевич, вы мой гость, но тем не менее…
Барсуков: Отдайте, вы ничтожество, или я за себя не ручаюсь!
Академик: Ну, уж если угрозы… Спокойной ночи!
Дверь в кабинет захлопнулась.
Сверху донеслись странные звуки, у меня не было времени понять, в чем дело, надо было убираться в свое укрытие. Я не удержался и подсмотрел сквозь приоткрытую дверь: Барсуков медленно спускался, по несколько секунд стоял на каждой ступеньке, шатаясь из стороны в сторону. Из его глаз текли неестественно обильные слезы. Со щек они попадали на бакенбарды и распределялись по всей их длине. И смутно сверкали в свете неяркой коридорной лампочки.
Хорошая все же заворачивается история. Во всем виновата пресловутая возрожденческая широта Модеста Анатольевича, он повсюду сует свой гениальный нос, но ведь иной раз есть опасность заработать щелчок по этому носу. Каких только изобретателей он не поддерживал на своем веку, каких новаторов! Что за рукопись нужна Барсукову? Та же, что и американцу? И какое отношение она имеет к нашим с Марусей делам?
Заплаканый, это ж надо до такого довести взрослого человека, Барсуков закрылся у себя. Было очень слышно, как он закрывался, так и громыхнул щеколдою.
Около часа стояла в доме полнейшая тишина. У меня было время подумать.
А вдруг этот сибиряк, подумал я о Барсукове, есть конкурирующая фирма, которая копает наш «курган» с другой стороны. Куротопченко, конечно, человек серьезный и не допустит утечки информации. По своей воле, то есть сознательно не допустит. А если неосознанно, случайно, не заметив этой случайности… Кстати, а ведь его могли и вынудить… Да и жив ли он? Мелькнула у меня такая заведомо безумная мысль. Надо завтра позвонить, хотя это и не приветствуется.
И в любом случае, сегодня надо сделать решающие шаги. Хотя бы первые из них.
Ожидание затягивалось. Да где же он наконец, наш многоталантливый Модест Анатольевич? Я уже начал сомневаться – сегодня ли? Может, это дурацкое голодание сказывается?
A-а, вот он. Спускается, спускается!
И, кажется, прямиком туда, куда надо!
Дверь Марусиной комнаты висит на самых беззвучных в мире петлях, об этом я позаботился, не надеясь ни на аспиранта, ни на белоруса. Никому не слышно, как она открывается. Никому, кроме меня.
Итак, птичка в клетке, зверь в капкане, дело в шляпе. Теперь полчасика надо погодить. Все же тема очень и очень деликатная, и излишняя решительность может показаться обыкновенным хамством. Но я придумал способ, с помощью которого все обставить можно будет в высшей степени пристойно. И главным моим союзником должен был стать туалет.
Что мы можем утверждать наверняка? Модест Анатольевич у Маруси.
Что это за шум по левому борту? Да, да, это с той стороны, куда выходят окна Марусиной комнаты! Я вскочил с лежака и подлетел к своему окну. Свет у меня, слава богу, и не был зажжен. Расплющился щекой на стекле. Нет, ничего толком не видно. Мое окно смотрит туда же, куда и Марусино. И луна где-то шляется на другой стороне дома! Одно можно было сказать с уверенностью – кто-то решил подсмотреть за тем, что творится в комнате у моей девицы-красавицы.
Могу себе представить, что он видит!
Я, сгорая от понятных чувств, попытался приоткрыть створку своего окна. От меня до этого ночного посетителя было метров пять, не больше. Нет, было понятно, что окно, как ни старайся, громыхнет в идеальной тишине ночи. Можно спугнуть. Оставалось надеяться, что он сам своим каким-нибудь движением выдаст себя.
Но тут раздались какие-то новые звуки в коридоре.
Барсук решился на новую слезную попытку?
Или мистер Фил Мак Мес вышел для ночных переговоров с академиком? Или просто в туалет?
Передвижений, причем легких, нешумных, там было немало, кажется, кто-то поднимался по лестнице к кабинету. Может, это Модест Анатольевич? Маловероятно. С помощью одного лишь слуха узнать больше было невозможно.
Ба, произошло бесшумное событие, которое меня насторожило по-настоящему: в коридоре потушили свет.
Надо в любом случае проверить, что там происходит, но тогда придется упустить того, кто подглядывает в окошко. Если это белорус, у меня не останется на его счет никаких сомнений. Парень приставлен известно какими органами. Хотя такое ощущение, что их у нас и нет теперь.
Важно решить, что важнее.
На несколько секунд я, честно признаться, растерялся. Невозможно быть в двух местах одновременно, а так нужно! Но почти сразу я себя одернул. На выбранных мною путях могут возникнуть еще более неразрешимые задачи, позорно пасовать в самом начале пути!
Из коридора продолжали доноситься непонятные звуки.
Так, раз, два…
Три! Я резко дернул створку на себя, захрустела старая краска, дохнуло свежим воздухом, я по пояс вывесился в окно. Сгорбленная фигура отпрянула от окна и, продолжая изображать что-то вроде большой обезьяны, ринулась в кусты крыжовника. Они выступили на стороне злоумышленника. Я успел понять только, что это мужчина, молодой и непьяный. По крайней мере, Валерий Борисович был тут ни при чем.
Уже через каких-нибудь три с половиной секунды я был в коридоре. Света там не было. Ничего толком рассмотреть было нельзя. Кажется, какая-то тень унеслась по коридору в сторону кухни.
Хлопнула дверь на глухую веранду.
Господин американец?! Почему-то он очень не хотел, чтобы его увидели, даже погасил свет. Я понимаю, что с большой скоростью можно спешить в туалет, но зачем так спешить обратно? Много непонятного.
Но больше раздумывать о странностях поведения американца у меня не было возможности. Я обратил внимание на то, что горит свет в туалете, в том самом туалете, что соединен был второй дверью с комнатой Маруси.
Там кто-то находился.
Я начал осторожно подкрадываться, мне совершенно необходимо было узнать, кто там находится, после всего странного, что произошло только что в темном коридоре. Без этого невозможным было все, что я задумал на сегодняшнюю ночь.
Бросил взгляд в сторону двери Барсукова, кажется, заперта. Хотя кто знает, может, это именно он только что выходил в коридор. Впрочем, зачем ему тогда убегать в сторону кухни?
Прислушался, что творится у Маруси. Ничего не понял, тишина.
Положение опять сделалось безвыходным. Дело в том, что в комнату к моей юнице-ангелице я собирался проникнуть именно через туалет, даже отверстие проделал, с помощью которого собирался предварительно определить, какова ситуация в комнате. А тут вот…
Ждать? А вдруг там никого нет? А просто кто-то оставил зажженный свет.
Я стоял в двух шагах и пытался усилием слуха проникнуть сквозь дверь. И тут мне пошли на помощь. Тяжелая, смутно белеющая створка отворилась мне навстречу. И не сама собой, ей помогала нога в домашнем тапке. Вела эта нога себя странно. Она медленномедленно распрямлялась.
– Модест Анатольевич, – прошептал я. – И подумал, что все предыдущие события происходили в полнейшей тишине. – А Модест Анатольевич!
И стало мне ясно, что можно дверь отворить полностью, уже не заботясь о приличиях.
Академик сидел на унитазе, и в левой части груди у него торчал нож.
4
Луна стояла почти вертикально над дачным участком. Он был виден во всех своих деталях как днем и на ладони. Поблескивало несколько разбитых стекол в каркасе теплицы. Тускло отсвечивали мокрые кирпичи дорожки, трава, там, где была не затенена кустами и кронами сосен, тоже влажно светилась. Плетеные стулья стояли в раздраженном непорядке, будто продолжали давешнюю беседу. На ту сторону участка, что была невидима с веранды, падал свет со второго этажа, из кабинета. Окно в комнате Барсукова было открыто, окно Маруси тускло светилось. Больше о главном доме сказать было нечего. Значительно интереснее вела себя сторожка. Ее заднее, ниоткуда не видимое окошко вдруг стало открываться с осторожным скрипом. Тот, кто выбирался наружу, явно старался не нашуметь.
Очень скоро луна осветила его.
Новый сторож Леонид, собственной персоной.
Выбравшись наружу, он повел себя не совсем понятно. Стал осматривать стену сторожки. То, что ему нужно, он нашел под крышей. Подставив к стене перевернутые носилки для цемента, он взобрался на них и долго что-то высматривал, наклоняясь вправо, потом влево. Затем перешел к столбу, вкопанному у забора, перетащил носилки, стоя на них, обследовал столб, что-то там ощупал на нем, подергал, скорей всего это были провода. Потом он осторожно спустился на землю, оттащил в сторону носилки, и, внимательно оглядевшись – не видел ли его кто, – полез в окно.
5
Следователь был немолод, нетороплив и недоверчив. К тому же чувствовалось, что я ему не нравлюсь. Пока его более молодые сотрудники бродили по участку с фотоаппаратами и блокнотами наизготовку, он допрашивал меня на веранде. Собственно, больше допрашивать по большому счету было некого. Маруся по моему совету заявила, что всю ночь проспала в своей девичьей постели и ничего не слышала. Примерно так же, судя по его словам, вел себя и сторож Леня. «Умаялся за день и спал как мертвый». Не знаю, настолько же он врал, насколько Маруся, но держался уверенно. Леня тоже пытался осматривать участок, но помощники следователя ему воспрепятствовали. Чтоб не затоптал следы и всякое такое. С людьми из КГБ не поспоришь, а поспоришь, ничего не выспоришь. Это вам не районная прокуратура.
Началось все стремительно и пугающе.
Явилась вся эта деловая мрачноватая команда на двух машинах час назад. Я едва-едва успел закончить необходимые хлопоты и проинструктировать Марусю. Хлопнув у меня перед носом своими удостоверениями, они сразу же прошли в дом.
– Где он? – спросил меня старший, носивший, как потом выяснилось, фамилию Аникеев.
– В кабинете, – автоматически ответил я. Имело смысл притвориться, что я ничего еще не знаю, и отыскать вместе с представителями органов труп академика, выпотрошенный сейф и бумаги, устилающие пол кабинета. Да, я растерялся, ну что поделаешь. А может, это и к лучшему, я выглядел естественно, и мне не пришлось разыгрывать растерянность.
Пока мы поднимались в кабинет, у меня спросили, кто я такой и что тут делаю. Секретарь, живу и работаю, ответил я, продолжая задавать себе панические вопросы: откуда они узнали? кто им сообщил? что им еще известно?
– Когда вы его обнаружили?
Я лихорадочно соображал. Моя официальная версия была еще не готова, надо было что-то придумывать на ходу.
– Час назад, – сказал я, что было неправдой. Обнаружил я Модеста Анатольевича три часа назад, и не в кабинете, а в туалете. А чем я занимался все эти три часа, надеюсь, никто никогда не узнает.
– Да-а? – Товарищ Аникеев посмотрел на меня внимательнее, чем до этого. – А полтора часа назад вас не было в доме?
– Был.
– А чем вы занимались в это время?
– В смысле? – глупо переспросил я, холодея. Все же не зря у нас так боялись людей из этой организации. Они любую, самую запутанную ситуацию видят насквозь и сразу хватают за горло.
– Я хочу знать, товарищ секретарь, что вы делали в шесть ноль-ноль?!
– Я, думаю, спал, что же еще делать в шесть утра?
– В шесть часов утра можно делать все, что угодно, – медленно сказал следователь.
Даже перетаскивать труп академика с первого этажа дачи на второй, обреченно думал я. У меня появилось ощущение, что этот человек в сером костюме, черной водолазке и с бородавкой на щеке был здесь во время наших с Марусею трудов и все видел собственными глазами.
А что было делать?! Не прикасаться к трупу? Тогда пришлось бы объяснять, что он делает фактически в комнате Маруси. Под подозрение мою белую лебедь подводить нельзя. Она начудит под подозрением, запутается и выдаст все и всех. Вон я и сам трясусь, лишь на меня глянули недобрым профессиональным оком. А я ведь герой, мне ведь, по сути, радоваться надо, я выполнил, добился, сумел! Теперь вполне и полностью возможно то, о чем лишь мечталось, и то смутно и тайно! Только бы выбраться отсюда, только бы! Но для того, чтобы выбраться, нельзя спешить. Убегающий с места преступления обвиняет себя.
– Я спрошу вас по-другому. Почему вы не отвечали на телефонные звонки? Вам начали звонить с шести часов утра.
Господи, всего-то! Гора с плеч! Вот, оказывается, чем питалось их подозрение.
– Да я же сам вам хотел сказать. Телефон же у нас не работает. Отрубило намертво. Около часа назад, как только я обнаружил это несчастье, тут в кабинете, то тут же к аппарату. Но глухо. И у ворот я вас встретил, потому что к соседям бежал, может, у них работает.
Аникеев поднял трубку с аппарата, стоявшего посреди захламленного стола, послушал чуть, и в его взгляде выразилось неудовольствие. Он готовился с ходу раскрутить убийство академика, а главный подозреваемый, как назло, вывернулся. Вместо того чтобы радоваться, что у меня есть шанс оказаться честным человеком, он грустит.
Сердце у меня вновь запело – вспомнилось о бешеной ночной удаче.
После трюка с телефоном мы вместе со следователем спустились вниз и уселись на веранде. Маруся принесла два пледа, чтобы постелить на немного влажные стулья, и занялась по моей просьбе чаем.
Утро было пасмурное. Кусты жасмина и сирени дышали туманом. На бампере черной аникеевской «волги» тускло поблескивали крупные капли. Гамак, натянутый меж пихтой и дубом, потемнел и провис, напоминая жизнь неудачника. Кирпичная дорожка, ведшая к воротам, и гравий у ворот выглядели влажными. Бессильно и надрывно светилась лампочка без абажура в окне сторожки. А крыша сторожки была мокрой. Неужели я не заметил утренний дождь?
– Так. – Товарищ Аникеев без азарта в пальцах полистал свой блокнот. И теперь он показался мне не таким уж страшным. Теперь он был почти в тон своему серому, хоть и финскому костюму. Я не боялся его вопросов.
– Хорошо, тогда все по порядку.
Я показал всем своим видом готовность соответствовать.
– Кто был в доме в день, э-э, в ночь убийства?
– Я. Моя комната вон там, у самого выхода с веранды, видите дверь? Арсений Савельевич Барсуков. Давний приятель Модеста Анатольевича. Так, по крайней мере, было объявлено. Он приехал с неделю назад. Маруся, младшая дочь Модеста Анатольевича. Ее комната там дальше, перед кухней. Кроме того, Фил, американец.
Аникеев должен был среагировать, и он среагировал:
– Американец?!
Я как ни в чем не бывало продолжаю:
– Да, его вчера привезла Вероника, старшая дочь Модеста Анатольевича. Ему мы постелили в другом конце дома, за кухней, на глухой веранде.
– Что значит – глухой?
– С нее нельзя выйти на участок. Да, я еще забыл про Леонида, фамилию, к сожалению, не знаю. Он новый сторож. Он ночевал, естественно, в сторожке. Вон там.
– В каком смысле новый сторож?
– В самом наипрямом, только вчера устроился. Заменил то есть прежнего сторожа.
– Только вчера, – сказал себе под нос следователь, помечая в блокноте. Взял на заметку фактик, взял! – Насколько я понимаю, ни Барсукова, ни американца сейчас на даче нет?
– Ума не приложу, куда они могли подеваться. Как только я обнаружил, что произошло убийство, я к ним, естественно. Но у них было пусто. А окно у Арсения Савельевича открыто…
Я изо всех сил пожал плечами, причем искренне. Мне и в самом деле было интересно, куда могли подеваться эти товарищи. К обоим я испытывал чувство живейшей симпатии, своим исчезновением они сильно упрощали мои отношения с отечественной тайной полицией.
– Кто-нибудь посторонний мог незаметно ночью попасть в дом?
– Вы знаете, я по вечерам, как правило, сам запираю на щеколду вот эту входную дверь. Когда я встал утром, она была, как всегда, закрыта. Я, надо сказать, сплю чутко, весьма даже чутко, но не слышал, чтобы кто-нибудь входил в дом. Или выходил из него.
Говоря это, я пытался для себя определить тот момент, когда Барсуков или американец имели возможность прошмыгнуть наверх к сейфу. Одно можно было сказать точно, я появился там после одного из этих умельцев. У них было всего несколько минут, когда я успокаивал Марусю. Она нервничала довольно громко. Потом Барсуков сбежал через свое окно. Что касается Фила… Не знаю, думаю, это он тогда в темноте удирал в сторону глухой веранды. Больше ну совсем уж некому. И за то, что он после этого не выходил с той половины, руку дам на отсечение. Ту хотя бы, которой я запирал дверь на кухню, перед тем как второй раз зайти к Марусе. Перед тем как перетаскивать академика наверх.
– «Не входил» и «не слышал, что входил» – существенно разные вещи.
Не буду спорить, а лучше скажу так:
– Знаете, может быть, это и не важно, но я заметил вот что. Раньше дверь эту, на веранду, мы всегда оставляли открытой. Сам не знаю, зачем я ее запер в этот вечер. Думаю, поддавшись общему настроению.
– Что вы имеете в виду?
– Мне кажется, что все последние дни, с неделю, пожалуй, Модест Анатольевич жил в предощущении какого-то большого и важного события. Может быть, неприятного, может быть, опасного.
Аникеев посмотрел на меня недоверчиво.
– И поэтому пускал в дом кого попало?
– Фила, я уже говорил, привезла Вероника. А потом, гостеприимство в традиции дома. Модест Анатольевич объехал всю страну, и повсюду у него было много друзей. На даче всегда гостил кто-нибудь из интересных людей. Это касается и иностранцев. Модест Анатольевич не считал нужным ограничивать себя по этой части. Мир науки в общем-то космополитичен. Для великих умов границы государств – это… Знаете, считается, что это наши разведчики выкрали секреты бомбы. Что-то они там, наверно, выкрали. Но главное заключается в том, что Капица послал своего человека к Бору, и Бор все, что нужно, написал там на какой-то салфетке. Просто потому что его попросил Капица. Гений относится к другому гению, даже иностранцу, с большим доверием, чем к родному генералитету.
– А почему Модест Анатольевич не жил в академическом поселке?
Это он сбивает меня с волны интеллигентского трепа простым практическим вопросом. Ладно, ответим про дачу.
– А это не его дача. Ту, что была Модесту Анатольевичу положена, он отдал одному старому ученому, знаете, такому непризнанному официозом гению. Бывают люди совершенно беспомощные в практической жизни. Модест Анатольевич такой человек, что не может он смотреть, как гибнет громадный талант ввиду обыкновенного бытового неустройства. А это дача супруги, Юлии Борисовны, как принято говорить, урожденной Хорлиной. Ее отец был вице-адмиралом. Вице-адмирал Хорлин, слышали?
– Нет.
– Тем не менее фигура по своему ведомству просто легендарная. Льды, торосы, медведи, все белое. Всплытие на Северном полюсе. От него, говорят, громадные и особые реликвии остались.
Аникеев строчил. Вообще-то странно. На такого человека, как академик Петухов, у них наверняка имеется пухлое досье. Для чего эта писанина? А может, по нынешнему развальному времени у них в комитете бардак? Мы воображаем о КГБ какие-то мифологические ужасы, а там все как и везде. Трубу прорвало в архиве, и доносы все размокли.
– Юлия Борисовна умерла?
– Зачем умерла? Жива, только живет не здесь.
– Где?
– В больнице, в психиатрической. Она почти всегда в больнице в последние годы. Жаль. Там наверху есть ее фотографии. Красавица, рослая, статная. Пела хорошо.
– Давно она заболела?
– Трудно сказать. Болезнь ее развивалась постепенно, из одной очень неприятной черты характера, из ревнивости. Насколько я могу судить по обмолвкам Модеста Анатольевича и Вероники, началось это чуть ли с медового месяца.
– Вас посвящали в такие подробности?
– Нет, конечно, тут дело в другом. Они иногда говорили между собой так, будто меня нет рядом. Как будто я предмет мебели. Это особенность моей натуры, я иногда становлюсь как бы психически невидим для окружающих. Приходилось попадать и в неловкие положения в связи с этим.
– Так, значит, Юлия Борисовна…
– Она была дико ревнива, и с годами это принимало все более и более болезненные формы.
– А Модест Анатольевич давал повод для подозрений?
Я покашлял – приступ деликатности.
– Он жил, особенно по молодости, довольно свободно. Ну, сами понимаете, командировки, длительные командировки, мужик он видный. И сейчас еще. Ранняя известность, деньги. Ведь еще лет пятнадцать назад профессор мог считаться обеспеченным человеком.
– Да-да, – сказал Аникеев так, будто как представитель власти берет часть ответственности за создавшееся в стране положение. – Только, я думаю, дальше будет еще хуже.
Я сделал вид, что не заметил этой фразы. Мы начали говорить о странностях брака академика Петухова, так что продолжим.
– Кроме того, была в их отношениях еще одна закавыка. Или это еще один поворот той же самой. Не знаю. А дело в том, что Юлия Борисовна считала, что Модест Анатольевич женился на ней по расчету, из-за карьеры. Чтоб войти в элиту. Он ведь, образно говоря, из «кухаркиных детей».
– У «кухаркиного сына» имя Модест?
– Это вы правильно подметили. Мать у него работала лаборанткой, а отец был довольно известным конферансье. Но все дело в том, что его расстреляли. И знаете за что?
Аникеев кивнул: говорите уж.
– В ноябре 1941 года, обратите внимание, в ноябре, за «антигерманскую пропаганду». Что-то он не то сказал на одном концерте, еще в мае, про объем талии Геринга, донесли, и вперед! У нас ведь тогда была любовь с Германией. Самое интересное, что посадили Анатолия Эрастовича в начале июня, еще до начала войны, а приговор привели в исполнение лишь через пять месяцев. Гитлер уже Москву штурмовал. Правда смешно?
В этот момент я чувствовал себя Марком Захаровым и Юрием Любимовым в одном лице. Какую фигу я свернул у себя в кармане в адрес наших бессмертных органов. И сказал что хотел, и не придерешься.
– Очень смешно, – вздохнул Аникеев и потеребил бородавку у себя на щеке. – Я вам таких историй могу рассказать еще сто, да еще и посмешнее.
Поджав губы, я покивал.
– Н-да. А что касается карьеры Модеста Анатольевича, то, поверьте, всего, чего он добился, он добился по праву. Он, без всякого сомнения, большой настоящий ученый.
– Значит, у него могли быть враги?
– Конечно. Хотя что значит «враги» в нашем научном мире?
– Что значит «враги» в вашем научном мире?
– Столкновение научных теорий вызывает всего лишь бумажные молнии, а они не убивают. Я с ходу могу назвать пятьдесят человек из академической среды, которые, мягко говоря, не удовлетворены деятельностью Модеста Анатольевича. Они распускают о нем самые уморительные, фантастические сплетни. Они, может быть, даже обрадуются его смерти, но чтобы взять и убить… или там подослать убийцу… бред!
– Все же назовите основных научных оппонентов академика Петухова.
Я, иронически улыбаясь, прижал руки к груди.
– Поверьте, это не тот мир, где…
Но он смотрел на меня с такой спокойной требовательностью, что я назвал, назвал несколько фамилий. Пусть, в самом деле, наши доблестные контрразведчики поближе присмотрятся к деятельности, например, профессора Шикунова или, скажем, доцента Мануэльянца. Нечего было безграмотно злорадствовать на газетных полосах и ревниво рычать на академических сборищах. И публициста-скотину Кириллушку Корнеева, вряд ли есть в целом свете подлец подлее.
Аникеев все записал. Вид у него был усталый и какой-то неазартный. Дело это, мне кажется, рисовалось ему смутным и громоздким, без проблесков хоть какой-нибудь осмысленной версии. И взято уже небось на контроль раздраженным, невыспавшимся начальством. Академика, собиравшегося на встречу с самим президентом, зарезали, а почему? зачем? для чего? даже приблизительно представить себе невозможно. Барсукова и Фила, конечно, уже ищут, но, когда отыщут, к какому мотиву придираться? То, что американец и Барсуков удалились по-английски, нехорошо, но само по себе не преступно.
Подчиненные Аникеева стучат каблуками по дачным паркетам, бродят по мокрой траве, заглядывают под хвост кустам, в их поведении не чувствуется ожидания близкой удачи.
Сейчас я, кажется, брошу следственной бригаде спасательный круг.
– Знаете, что я хотел вам еще рассказать?
Следователь в который уж раз потрогал бородавку.
Я его уже немного изучил. Он так делает, когда успокаивает себя. Меня он, конечно же, считает болтливым ничтожеством и не ждет ничего, кроме бородатых околонаучных басен. Впрочем, очень даже хорошо, что так. Если человек считает кого-то глупее себя, он перестает относиться к нему с подозрением.
Изображая неожиданное просветление памяти, я подробно и даже красочно описал Аникееву вечерний разговор Барсукова с Модестом Анатольевичем. Надо ли говорить, что следователь оживился? А когда я дошел до слова «рукопись», он чуть заметно улыбнулся.
– Рукопись? Барсуков требовал у него рукопись?
– Да. Мне было очень хорошо слышно. Причем Барсуков говорил так, словно обладание этой рукописью для него вопрос жизни и смерти.
– Но Модест Анатольевич дверь так ему и не открыл?
– Да, она оставалась на цепочке.
Аникеев все записывал, записывал, записывал.
– Модест Анатольевич вел себя так, словно опасался Барсукова?
– По крайней мере, на это было похоже.
К воротам дачи подкатил «рафик» скорой помощи. Аникеев подозвал одного из своих безликих помощников.
– Там наверху закончили?
– Примерно еще на час работы, товарищ майор. Там какие-то непонятные следы на лестнице.
– Скажи медицине, пусть подождет.
Что там еще могут быть за следы?! Никаких там не может быть следов! Главное не терять самообладание. И гнуть свою линию. И я начал рассказывать товарищу майору о том, как разволновался, как занервничал Барсуков, когда Вероника привезла американца, да не просто американца, а американца-издателя.
– Они ведь, штатники, работают оперативно. Услышали по радио, что у академика Петухова есть скандально интересная рукопись, и тут же прислали человека. Причем уже наверняка с текстом договора, с подписанным чеком и все такое. На мой взгляд, этот Фил не производит впечатления серьезного человека. Но я бы не взялся что-то утверждать определенно. У них и нобелевского лауреата можно застать в дешевой майке и мятых джинсах, и миллиардеры любят повалять дурака.
Аникеев, усилено строчивший в своем блокноте, резко остановился. Видимо, обнаружив, что записывает не информацию, а мои вполне досужие размышления о манерах американских миллиардеров.
– Насколько я понимаю, вы были секретарем Модеста Анатольевича.
– Вы хотите спросить меня, не знаю ли я, о какой именно рукописи идет речь?
– Именно это я хочу спросить.
– На этот вопрос ответить не так-то просто.
Майор погладил бородавку.
– Почему?
– Модест Анатольевич принадлежал к тому типу мыслителей, самым ярким представителем которого можно, пожалуй, назвать Леонардо.
– Поясните, какого такого Леонардо?
– Леонардо да Винчи.
Майор аккуратно покашлял в кулак.
– Насколько мне известно, Леонардо да Винчи был художником.
– Просто он наиболее известен как художник. А вообще-то он интересовался всем на свете, от самолетов до злокачественных опухолей.
Аникеев снова покашлял в кулак.
– Хорошо, скажите, пожалуйста, рукопись Модеста Анатольевича была про самолеты или про опухоли? Условно говоря.
Пришлось помолчать, как бы пребывая в раздумье. О, теперь я понимаю, как трудно приходилось Тихонову-Штирлицу. Нет ничего труднее, чем изображать МЕДЛЕННУЮ работу мысли.
– Ответить, честно говоря, непросто. Модест Анатольевич имел в сфере своего внимания не один десяток тем. Больших и малых, естественнонаучных и гуманитарных. Секретарь-то я, конечно, секретарь, но ведь не соавтор. В свою творческую лабораторию он, разумеется, меня не пускал. Образно говоря, я сидел в предбаннике, и мне иногда бросали на стол какие-то бумажки для перепечатки.
Думаю, во время этой моей речи у Аникеева крепла уверенность, что я просто пытаюсь напустить туману. В высшем смысле так оно и было, конечно. Но в данном конкретном моменте туман был не в мою пользу.
– Я так понял, что конкретного вы ничего не можете сказать?
Погодите, товарищ майор, погодите.
– Конкретного я вот чего могу сказать. Надо плясать от того факта, что Модест Анатольевич должен был сегодня ехать в Кремль. Вы знали об этом?
Аникеев презрительно хмыкнул.
– Если бы не это, нас бы здесь вообще не было и этим кабинетным убийством занималась бы местная прокуратура.
– Тогда вы, верно, знаете и о том, какова была тема кремлевской беседы.
Он полез в карман пиджака типичным жестом курильщика, но сигарет там не оказалось. Видимо, бросил курить, но в моменты волнения забывает об этом.
– Нет, тема кремлевской беседы нам неизвестна, – с ехидцей в голосе сказал майор.
– Модест Анатольевич должен был представить высшему руководству подробный, разработанный план переустройства СССР. Ни больше ни меньше. А всякий план в известном смысле рукопись, правильно?
Выражение лица у майора Аникеева сделалось кислое.
– План переустройства СССР? Это что, еще одна перестройка на нашу голову?
Я почувствовал, что сейчас мне придется говорить то, что я не думаю.
– Модест Анатольевич посвятил меня в свои разработки лишь в самых общих чертах, однако кое о каких моментах его плана я могу говорить довольно определенно. Главное русло его размышлений исходило из того, что в нынешнем своем виде такое гигантское геополитическое образование, как СССР, существовать долее не может. Еще года два-три, и все рухнет. Посмотрите, что творится! Все, кому не лень, выгрызают из общей государственности свой маленький суверенитет. Как Ельцин сказал в Уфе, «берите, сколько унесете», и понеслось. Туркмения, Армения, даже Абхазия!
Не слишком ли я сильно-то, может, наш следователь какой-нибудь демократический комитетчик?! Я решил смягчить:
– Нет, я не то чтобы свою политическую платформу выпячиваю, я хочу пояснить атмосферу, в которой работала мысль Модеста Анатольевича.
Следователь демонстративно захлопнул блокнот. Очевидно, последние мои сообщения показались ему лишенными питательной информации.
– Сейчас стало модным хоронить СССР. Просто толпы гробовщиков стоят наготове. Интересно, что если присмотреться, то в их рядах сплошь те, кто еще недавно цитировал всех Ильичей, целовал моральный кодекс строителя коммунизма и хапал за это жирный кусище. Брат супруги моей, к примеру, учился в Академии общественных наук, слыхали о такой? Кузница кадров. А потом преподавал там. Теперь кричит, что его всю жизнь притесняли. К кормушке притесняли?! И ведь не возмущался, когда его мордой в черную икру тыкали. Теперь выясняется, что он через силу жил в четырехкомнатной квартире, перебарывая себя, шлялся по заграницам. Его, видите ли, все эти годы терзала мысль о свободе, которой лишен советский человек.
Аникеев сплюнул через перила и дал вывод:
– Формула жизни современного интеллигента проста, нужно держать нос по ветру, чтобы вовремя унюхать, в какое корыто начнут наваливать жрачку.
Он явно хотел развить тему исконной гнилостности всякой интеллигенции, но осекся. Честно говоря, судя по вялому старту нашей беседы, я не ждал такого выброса откровенности. В качестве граждански мыслящего собеседника этот бородавчатый майор мне был совершенно не нужен. Я подождал немного, пока гневное «я» само собой вернется в пределы, ограниченные следственным мандатом, и продолжил:
– Модест Анатольевич никоим образом не относился к числу тех, кого вы так образно назвали могильщиками. Наоборот, он был одним из тех немногих, кто утверждал, что у Советского Союза есть будущее. Но, как умный человек, не считал это будущее прямым продолжением прошлого. Вместе с тем и катастрофу, то есть развал, гражданскую войну, голод и тиф, не считал чем-то неизбежным.
Аникеев уже переборол приступ неловкости, который у него, несомненно, был после внезапного воспоминания о недобросовестном родственнике. Помогла ему в этом Маруся, появившаяся на веранде с горячим чайником и тарелкой сырников. Отказавшись от вкусной еды, майор показал, что полностью владеет собой.
– И вы считаете, что рукопись Модеста Анатольевича содержала рецепт спасительного переустройства СССР?
Мне понравилось, как он сформулировал. Именно так: рецепт спасительного переустройства.
– Если хотите, да.
– И какова же, на ваш взгляд, реальная ценность этого рецепта?
– Вы слишком многого от меня ждете, я же говорю, всей рукописи я не видел. С какими-то конкретными оценками мне выступать трудно.
Аникеев угрюмо хмыкнул.
– Насколько я могу позволить себе делать выводы, по крайней мере два человека с конкретными оценками уже выступили.
– Вы имеете в виду Барсукова и американца?
– У них, как я понимаю, огромная ценность рукописи сомнения не вызывала.
Ну вот, кажется, приехали. Я незаметно вздохнул с облегчением. Не без труда, но мы вывели телегу нашего расследования на прямую дорогу. Словно в подтверждение моих ощущений, явился сверху помощник Аникеева и сообщил, что осмотр места преступления завершен. Все бумаги изъяты и опечатаны. Отпечатки пальцев и прочее – все сделано.
– Скажите, – спросил я тихо, – план спасительного переустройства СССР там не найден?
Молодой комитетчик непонимающе нахмурился в мою сторону. Аникеев тихо сказал ему:
– Запускайте медицину.
Минут через десять мимо нас пронесли носилки, накрытые простыней. Глядя им вслед, я вдруг был настигнут одной интересной мыслью. За суетой прошедшей безумной ночи и еще более безумного утра у меня до нее не доходили извилины. Так вот, я подумал, что не имею ведь ни малейшего представления о том, кто убил Модеста Анатольевича Петухова. А ведь кто-то его убил, зарезал ножом. И сейчас разгуливает где хочет. Вольно мне, конечно, думать, что если я ловко играю в кошки-мышки с майором Аникеевым, то нахожусь в безопасности. А вдруг убийца не нашел то, что искал? А вдруг он решит, что эта рукопись находится у меня?! Чушь, если бы не нашел, зачем бы убегал?! Сказать по правде, какая-то идиотская история. Положим, убил Барсуков, тогда куда испарился американец? Деваться ему было абсолютно некуда. Дверь я запер, все окна веранды целы, это я проверял, когда прятал свою добычу. А если убил Фил, такой ловко-ловко маскирующийся под простака агентище Мак Мес, то зачем было исчезать Барсукову?
А вдруг они сообщники?
Чувствуя, что мысль моя начинает впадать в шизофрению, я сказал себе – стоп! Какое мне дело до того, кто убил? Мне все равно, развалится СССР или пребудет вовеки. Мне даже плевать на то, как себя будет чувствовать в этой новой жизни интеллигенция, которую я по смешной инерции защищаю перед лицом бесталанной тайной полиции. Мой дальнейший путь пройдет мимо этой суеты. Минуя ложные маяки.
Я оторвал взгляд от уплывающих носилок, и он уперся в усатую физиономию сторожа Леонида, она появилась прямо передо мной над перилами веранды.
– Чайком не угостите?
– Конечно, Леня, проходите, – пролепетала прелестница Маруся, не спросив ни меня, ни майора. Ненормально взбодренный Леонид ввалился на веранду и шумно придвинул кресло к столу. Майор тут же встал. Не из неприязни к сторожам или белорусам, просто закончил дела. Я встал, чтобы его проводить. Леня уверенно сел и подмигнул Марусе.
– Вы уезжаете? – спросил я следователя.
– Да, – сказал он.
– Разрешите, я провожу вас до калитки.
Он удивился, но не отказался. А я просто хотел закрепить успех и удостовериться, что майор убывает из этого эпизода, размышляя в правильном направлении.
– Ваши люди не упустили там чего-нибудь, я имею в виду в кабинете? Ведь рукопись книги – это не иголка, если бы она все еще была здесь, то ее можно было бы обнаружить.
Остановившись у калитки, майор меня успокоил:
– Если такая рукопись есть, то ее здесь нет. Мои люди потрудились хорошо. Сейф пуст, повсюду лишь разрозненные бумажки. Вы удивитесь, но мы не обнаружили в доме и рукописей каких-либо других книг. Так, наброски, отрывки, обрывки. А ведь обыскали все. Включая и вашу комнату.
И Аникеев ослепительно улыбнулся, показывая отвратительные зубы. У них что там, стоматологов нет в КГБ?
– У меня к вам последний вопрос, вы, конечно, можете на него не отвечать, тайна следствия и все такое. Но он меня мучает прямо зверски.
– Что ж, спрашивайте.
– Как вы узнали об убийстве? Ведь телефон не работал.
Он ответил не сразу, видимо, взвешивая, стоит говорить или нет. Видимо, взвешивание определило, что мне можно бросить кусок.
– Был звонок в спецгараж. Было сообщено, что академик Петухов не может поехать на встречу в Кремль, потому что он убит у себя на даче.
– А кто позвонил? – спросил я и тут же понял, что вопрос задал глупый. Майор тем не менее попытался ответить.
– Говорил женский голос. Молодой, взволнованный женский голос.
6
Проводив майора и его людей, я посмотрел в сторону веранды. Там происходило нечто ужасное. Сторож Леня не только вовсю пожирал не ему предназначавшиеся сырники, но и весело при этом беседовал с моей меланхолической девочкой. И она охотно поддерживала разговор. И даже улыбалась!
Это следовало немедленно прекратить. Я решительно направился к веранде, но тут услышал за спиной звук подъезжающей машины.
Так и знал, Вероника! Пришлось отпирать ей ворота, хотя это никоим образом не входило в мои обязанности. Эй, сторож, хватит болтать, иди займись воротами!
Дочь Модеста Анатольевича была в джинсовом костюме и черных очках, несмотря на пасмурное утро. Видимо, таким образом выражалось ее траурное настроение. Со мной она почти не поздоровалась, захлопнула дверь машины и быстро пошла к дому. При ее приближении веселая беседа у стола прервалась. Маруся спрятала руки под фартук и повесила голову на грудь. Сколько раз я ей говорил, чтобы она не тушевалась перед своей сестричкой, не может себя перебороть.
Вероника поднялась по ступеням и, не задерживаясь ни на секунду, пошла вглубь дома. Конечно, ее целью был отцовский кабинет. Я не счел нужным ее сопровождать. А сделать это имело бы смысл. Вдруг там имеется некий тайник, где и схоронено основное сокровище академика. Еще вчера я попытался бы за ней увязаться, но с тех пор как предмет моих вожделений был у меня в руках, тайны этого дома перестали меня интересовать.
Сторож встал, поблагодарил за сытный завтрак и покинул веранду. С хитрой улыбочкой на лице. Он словно предчувствовал, что мне предстоит неприятный разговор с Вероникой, и нисколечко мне не сочувствовал.
Я сел в плетеное кресло и стал глядеть по сторонам. Вот уж поистине утро туманное. Во всех смыслах. Абсолютно непонятно, что тут у нас произошло и продолжает происходить.
Встающее где-то за сосновыми кронами солнце постепенно проникало во все занятые утренним туманом закоулки. На ветровом стекле Вероникиного «форда» заиграл большой световой блик. Столбы чуть дымящегося солнечного сияния устанавливались меж стволами деревьев. Быстро высыхали крыши.
Великолепие природных картин мало занимало меня. Я продолжал размышлять над словами майора. «Молодой женский голос» через пару часов сообщает в спецгараж об убийстве Модеста Анатольевича. Забавно, если не сказать более. Что же это получается, Барсуков или американец, добравшись до Москвы, ловят на улице какую-то молодую женщину и просят позвонить по такому-то телефону с таким-то сообщением? Во-первых, откуда им может быть известен телефон спецгаража? А во-вторых… дальше считать не имело смысла, картина получалась уж больно расплывчатая.
Вот, кажется, и сторожа Леню такое положение дел не устраивает. Бродит он по участку, что-то глубокомысленно вынюхивая. Остановился у теплицы, полез через кусты жасмина к забору. Выбрался из кустов обратно, куртка и сапоги мокрые от росы. Интересно, почему самодеятельные сыщики всегда выглядят так глупо. Вот он закурил у отсыревшего гамака, и ведь бродит же какая-то мысль у него в голубоглазой усатой голове. Пошел куда-то, огибает дом с севера. Вот туда бы тебе, Леня, лучше не ходить. Я себя поймал на том, что хотя думаю об этом парне в снисходительных выражениях, его ползание по участку вызывает во мне неприятное и сильное волнение. Говоря по правде, бояться мне нечего, я все сделал правильно. Не перемудрил ли? Нет, только идиот устроил бы тайник в собственном чемодане, запрятанном под кровать.
Мое размышление было прервано появлением Вероники. Она остановилась в коридоре у выхода на веранду. Медленно опершись на косяк, сказала:
– Вы еще здесь?
Я только вздохнул в ответ.
– И когда вы намерены убраться отсюда?
Нет, я не нервничал и не был смущен. Примерно так я представлял себе беседу с наследницей.
– Прошу прощения, хотел бы уточнить, кого вы подразумеваете под местоимением «вы»?
Вероника хмыкнула, быстро сняла и так же быстро надела очки.
– Тебя, дорогой мой секретарь, и эту аферистку.
Маруся потянула было фартук к лицу, чтобы в нем спрятать тихую сиротскую слезу и убежать с нею на кухню, но я сделал ей суровый приказ одним лишь взглядом, и она осталась стоять там, где стояла.
– Что касается меня, Вероника Модестовна, то смысл моего нахождения здесь, в связи с гибелью вашего батюшки, исчерпан. И я оставлю этот дом, как только мне позволит сделать это следователь. Я, видите ли, один из основных свидетелей. Без меня в этом деле никак нельзя.
Вероника закурила.
– Что же касается Маруси…
– Она уберется вместе с тобой.
– Ее положение в этом доме несколько отличается от моего положения.
Выпустив клуб дыма, дочка Модеста Анатольевича прошла через веранду и спустилась на дорожку. Полуобернувшись, сказала:
– Да пойми ты, вам здесь ничего уже не светит. Ничего! Лопнула ваша комбинация. Лопнула и провалилась! Ты понял меня, хорек?!
Я думал не об ее словах и не о том, какой циничной стала нынче молодежь – еще тело отца толком не остыло, а все помыслы дочери заняты судьбою наследства! Если б она, глупая, знала, до какой степени ничто не угрожает ее правам на этот дом! Но все это не интересно, а интересно то, от кого бы это Вероника Модестовна могла узнать о гибели отца. Может, Аникеев позвонил? Или все тот же Барсуков-американец. «Доброе утречко, Вика, я только что укокошил вашего папашу, езжайте скорей выручать свое имущество из лап аферистов». Может, попробовать спросить у нее напрямую? Нет, думаю, не стоит. Она не офицер КГБ, правды не скажет.
– Странно, – сказал я.
– Что странного? – с готовностью обернулась Вероника, словно не наговорилась со мною.
– Например, то, что вы не спрашиваете, где ваш друг Фил. Как его там, Мак Мес?
Я, как мне кажется, менее других погружен в суету и всеобщую раздражительность этого мира, но, когда удается осадить хама, испытываю чувство удовлетворения. А сейчас это удалось, Вероника Модестовна явно выбита из колеи своей самоуверенности.
– Что ты хочешь сказать?!
– Вы прекрасно знаете, что я хочу сказать и что я имею в виду.
Она грубо, по-мужски выплюнула сигарету.
– Ты псих!
– Да, нет, я, насколько помню, хорек.
– Ты вот чем решил на меня надавить! Мол, я привезла сюда американца, а он папочку моего грохнул! И сбежал с его бумажками. Ну дурак, ну идиот! Да я только вчера с этим очкариком рыжим познакомилась. И знаешь, кто его мне представил, знаешь?!
– Тем более.
– Что тем более?!
– Тем более следует подумать, зачем человеку, которого ты имеешь в виду, нужно было свести этого Фила-издателя с Модестом Анатольевичем.
Я бил абсолютно наугад, но, кажется, во что-то попал.
– Этот человек, это…
И тут она себя осекла – не слишком ли много болтаю?!
Я уже к этому моменту жалел, что втянулся в разговор с нею. Какое мне до нее дело! Пусть хорьком зовет, пусть идиотом. Моя цель какая? Пересидеть тут пару дней, и в путь-дорожку. Чтобы достичь этой цели, надо как можно меньше привлекать внимания к себе.
Не говоря больше ни слова, Вероника быстро пошла к машине. Сама открыла себе ворота. И ее престарелый «форд» вылетел на просторы сырого подмосковного утра.
Я, недовольный собою, остался сидеть в плетеном кресле. Похоже, я нажал педаль, о существовании которой и не подозревал. Самое главное, я не знаю, на пользу мне это или во вред.
– Я ее боюсь, – сказала Маруся.
– Знаешь, если хочешь поплакать, иди к себе.
Мне было сейчас не до нее. Не терпелось посмотреть, чем занимается сторож.
Я сбежал с веранды и начал огибать дом по часовой стрелке. Прошел мимо гаража, сарайчика с верстаком и лыжами. Вот я уже на траверсе, как сказал бы вице-адмирал Хорлин, глухой веранды. Почему-то мне казалось, что Леня должен быть ошиваться где-то поблизости. Самым загадочным моментом в истории с убийством Модеста Анатольевича было исчезновение Фила. А исчез он с веранды. Стало быть, надо осмотреть веранду. Мне, например, хочется это сделать. Лене тоже должно было захотеться.
Но у веранды его не было.
И у теплицы его не было.
И у кучи камней, которые предназначались для подновления фундамента, он тоже не обнаруживался. Ну и хорошо, ну и слава богу, нечего ему тут делать. Я еще раз осмотрелся и удостоверился, что все в порядке. От сердца у меня отлегло, и я понял, как много на нем лежало.
Теперь можно и перекусить. Мне тоже захотелось сырников.
Заканчивая обход дома, я вышел к главному крыльцу, ища по инерции взглядом сторожа.
Куда бы это он мог запропаститься?
Сидит в сторожке? Скорей всего. Где же еще ему быть!
Нет, мне определенно не по себе, когда я не знаю в точности, где он. Все время грызло ощущение, что он заходит ко мне в тыл. Ничего плохого человек мне не сделал, а я до такой степени настроен против него! И здесь мне вспомнилась пригнувшаяся ночная тень, убегающая по крыжовникам от Марусиного окна в сторону сторожки. Мне ничего другого не оставалось, как присоединиться к мнению Вероники Модестовны, называвшей меня идиотом.
В данный момент именно добродушный и трудолюбивый белорус представляет для меня и Маруси реальную опасность. Не сбежавшие невесть куда Барсуков и Фил, а именно он. Мне страшно захотелось узнать, где он сейчас находится, нестерпимо! И как бы по моей молчаливой просьбе открылась дверь сторожки, и ее обитатель вышел наружу.
Плотно прикрыл дверь.
Куда это он направляется?
К воротам. Сейчас он их закроет… Леня их закрыл, а сам остался с той стороны. Осмотрелся и зашагал налево, то есть не в сторону железнодорожной платформы, а вглубь дачного поселка. Что это с ним? Ну, пусть погуляет, а я хотя бы перекушу в свободной обстановке.
7
Леонид шел по неширокой асфальтовой дороге меж двумя стенами высоких деревянных заборов. Солнце отражалось в мелких дождевых лужах, в воздухе чувствовалась тяжелая лесная сырость. Адмиральские дачные дома стояли в глубине огромных участков, как старые корабли. Было очень тихо, если не считать отдаленного, как бы игрушечного пощелкивания колес ранней электрички. Миновав пять или шесть участков, Леонид не встретил ни единой живой души. Даже бродячей собаки. Понятно, что рано, но странно. Да и не слишком рано, скоро девять.
Дойдя до поворота, сторож, покинувший свой пост, повернул налево. Выбора у него не было, направо открывалось поле, с которого совсем недавно и неаккуратно убрали пшеницу. Поле заканчивалось кладбищем, еще менее привлекательным, чем поле. Однако было понятно, что Леонид при выборе маршрута руководствуется не красотою открывающихся картин, но заранее намеченной целью. Когда ему навстречу показался старичок на велосипеде, Леонид замахал ему рукою, прося остановиться. Старичок остановился. Вид он имел классически похмельный. Глаза красные, к щеке прилипло несколько блесток рыбьей чешуи; одет в выцветшую офицерскую рубашку и синие трикотажные штаны с вытянутыми коленями. На руле велосипеда сетка с пустыми бутылками.
– Слышь, отец, мне бы надо человечка одного разыскать в поселке этом, поможешь, куплю у тебя бутылки по спекулятивной цене.
Утренний велогонщик не торопясь полез в нагрудный карман рубашки, достал оттуда какие-то проводки с маленьким пластмассовым приборчиком, распутал проводки и вставил приборчик в ухо.
– Великодушно прошу прощения, я не расслышал, что вы сказали. Вы не будете так любезны повторить?
Сторож подергал себя левой рукой за правый ус и усмехнулся.
– Извините, бога ради, за беспокойство, я ищу одного человека, он живет в этом поселке, не могли бы вы мне помочь?
– А как называется этот поселок?
– Спасибо, больше вопросов не имею.
– Так вы тоже не знаете? А я специально остановился, чтобы у вас узнать. Жаль, весьма жаль.
Велосипедист достал из уха свое приспособление и начал его сворачивать.
– Это Перелыгино, – торопливо сказал сторож, но было уже поздно.
Старичок в самых деликатных выражениях попрощался с ним и, взгромоздившись на велосипед, покатил дальше. Леонид некоторое время смотрел ему вслед, потом пожал плечами, развернулся и двинулся в прежнем направлении. Шагов через двести он снова увидел людей. В открытых воротах очередного участка стояла черная, видно, что из хорошей конюшни, «волга». Опираясь на открытую переднюю дверцу, покуривала дама в бежевом замшевом пальто. Каблуком своего вопиюще импортного полусапожка она нервно рыла гравий. Водитель машины непростительно задерживался.
– Простите меня, пожалуйста, что я вас отрываю, – сказал Леня, и было непонятно, что он имеет в виду под словом «отрываю». – У меня к вам всего лишь один маленький вопрос.
Бежевая дама достала сигарету изо рта, наверно, от удивления.
– Я разыскиваю Хорлина Валерия Борисовича. Мне известно, что он проживает в этом поселке, и давно.
– Эта гнида слишком давно проживает в этом поселке.
Леонид скованно улыбнулся, у него не было оснований держаться о Валерии Борисовиче другого мнения, но и солидаризироваться с откровенной бранью в его адрес он своей обязанностью не считал.
– И все-таки, где именно он живет?
– Да пошел ты!
Дама окончательно рассталась с сигаретой и уселась в машину. Появился шофер. Он посмотрел на Леонида угрюмо и цыкнул зубом – приятная память о завтраке. «Волга» уехала. Сторож отправился дальше.
Всю необходимую информацию он получил на автобусной остановке от говорливых бабулек с кошелками. Они объяснили, где живет «Лерий Барисыч», и рассказали, как поскорее до него добраться. «Ты сейчас через овраг не иди, после дождя посклизнешься». На вопрос, что за человек разыскиваемый, было ответом пожимание плечами. Одна только бабушка сказала, что «мужик хороший, только ен пьеть».
Леонид улыбнулся выговору и пошел до мостика, перехватывавшего опасное препятствие где-то посередине. За оврагом пошла совсем другая дачная жизнь. Домики были поменьше, участки тоже, никакого асфальта на улицах. Во дворах все больше «запорожцы» с отверстыми задними капотами. И вообще, все было как-то человечнее, другими словами, народу попадалось навстречу больше.
Дом Валерия Борисовича – одноэтажное деревянное строение в четыре окошка-стоял в глубине захламленного участка: какие-то разбросанные дрова, велосипедные рули, рулон руберода под чахлой сливой, ходит одинокая и явно нездоровая курица. Леонид немного задержался у калитки – определял, нет ли собаки. Но, конечно же, в такой обстановке опасного пса быть не могло.
Вошел. Участок наклонялся вниз от уровня улицы, можно было подумать, что домик съезжает куда-то. Оказалось, в сад. Именно сад обнаружил Леонид, обойдя дом с правой стороны. Чахлый, небольшой, запущенный, но, однако же, вишневый. В мае тут, должно быть, поэтично.
На саде внимание гостя задержалось ненадолго. Его привлекла женщина, вышедшая на крыльцо. Седая, как бы немного скрюченная, в сером платке. Она поставила на ступеньку алюминиевую миску с мелкой картошкой и уселась рядом.
– Дайте прикурить, – хрипло сказала она, вынимая изо рта потухшую беломорину.
Сколько вокруг курящих женщин, мельком подумал Леонид.
– Я не курю, – сказал он, чувствуя, что этим заявлением делает себе плохую рекламу.
Женщина неприязненно покосилась на него, взяла из миски картофелину и принялась скоблить ее небольшим ножиком. В силу происхождения Леонид трепетно относился ко всему, что имело отношение к картошке. Невольно присмотревшись к рукам женщины, он отметил про себя, что с ножом она обращаться умеет.
– Извините, я хотел спросить…
– Спрашивай.
– Это ведь дом Валерия Борисовича Хорлина?
– Можно и так сказать.
– А как бы мне его самого увидеть?
– Никак. Нет его.
«Пьеть», подумал Леонид.
– Извините, он что, не ночевал?
– А мне почем знать? Может, и не ночевал.
– Прошу прощения, но я хотел бы узнать, а вы кто ему будете?
– Ну уж не жена! – Женщина начала было смеяться, но смех перешел в тяжелый кашель.
– Вы знаете, мне очень нужно его повидать.
Поймав взгляд женщины на себе, Леонид понял, что производит впечатление обыкновенного, хотя и довольно молодого забулдыги, бродящего по дворам в поисках старого собутыльника. Да, воистину, по одежке встречают.
– У меня к нему дело.
– Я понимаю, дело.
– Где я сейчас мог бы найти Валерия Борисовича?
– Да где угодно. Может, у Степанчикова, может, в пивной на станции, а может, уже и в Москву уехал. Когда у него есть деньги, он едет в Домжур.
– А у Валерия Борисовича появились деньги?
– Когда у него нет денег, он тоже едет в Домжур.
– Я понимаю, это неловко, но все же… Он что, гонорар получил?
– За что же ему может быть гонорар? – неприятно усмехнулась старушка.
– Понятно. И последний вопрос, где живет этот, как его, Степанчиков?
Подождав немного и поняв, что ему не ответят и на этот раз, Леонид попрощался кивком головы и пошел вон со двора Валерия Борисовича.
Примерно через полчаса был отыскан вышеупомянутый Степанчиков. Он оказался пожилым огородником пристойного вида. Леонид застал его на морковной грядке. Он признал, что по временам принимает у себя в гостях литератора Хорлина, но в последнее время они разошлись. Во-первых, у него, у Степанчикова, зашевелились камешки в желчном пузыре, а Валерий Борисович стал проявлять утомительную склонность к бесконечному распеванию матерных частушек, что неприемлемо.
– У меня ведь две внучки.
– Но вы не единственный его со… сотоварищ здесь в поселке. У кого бы я его мог найти?
– А что случилось?
– Он не ночевал дома.
Степанчиков усмехнулся.
– Да он почти никогда не ночует дома. И вообще редко спит по ночам. А этих, как вы хотели сказать, со… бутыльников у него тут в округе до десятка, наверно, будет.
Информация хоть и точная, но скудная.
Леонид отправился домой. То есть в свою сторожку. Шел медленно, бороздя сапогами подсыхающие лужи. Выражение походки было рассеянное. Чувствовалось, что человек этот, медленно и расслабленно двигая ногами, о чем-то напряженно думает.
На деревянном мосту, пересекавшем овраг, Леонид остановился. Оперся локтями о перила и долго изучал взглядом это явление местной природы. Овраг этот явно уступал и размерами, и славой знаменитому Гранд-Каньону, деревья и кусты, покрывавшие его дно и берега, имели вид чахлый, так что причину интереса, читавшегося в голубых глазах, понять было затруднительно. Пешеходы, проходившие по мосту туда и обратно, косились на сторожа без всякого интереса. Ибо, даже бросившись с перил вниз головой, покончить здесь с жизнью было нельзя.
Трудно сказать, сколько бы он простоял так, когда бы не дождик, капли которого зашлепали по доскам, по его куртке, по листьям растущей внизу ивы.
– Ну что ж, – сказал громко Леонид, – сделаем еще один круг. И трохи почакаем.
Сказав эту понятную только ему одному фразу, сторож быстрым шагом направился в сторону дачи покойного Модеста Анатольевича.
Шел он быстро, почти не глядя по сторонам. Но неожиданно остановился, как будто зацепился краем глаза за что-то. Огляделся. Оказывается, остановился он у тех ворот, где полезно побеседовал с бежевой дамой.
Ворота были открыты. Но не так, как в прошлый раз. Неаккуратно, нервно.
В глубине двора, рядом с большой цветочной клумбой, стояла машина. Старая, американская. Машина марки «форд». Машина, принадлежащая Веронике Модестовне Петуховой.
Леонид огляделся, не видит ли его кто-нибудь в этот момент, потом еще раз, явно подбирая место для засады. Ничего подходящего для этой цели поблизости не имелось. Разве что вон тот столб у поворота в переулок. Вместе с растущей рядом акацией он создавал нечто похожее на укрытие.
Несмотря на то, что на улице по-прежнему никого не было, Леонид проследовал к столбу неспешным шагом, чтобы ненароком не привлечь к себе случайного внимания. Прижался к пахнущему застарелым креозотом дереву, изображая утреннего алкаша. Распахнутые ворота отлично просматривались с этой точки. На перекладине ворот виднелась фанерная табличка с отчетливой надписью:
«Улица Крузенштерна, д. 9».
Дом вице-адмирала Хорлина располагался на улице Сенявина.
Только Леонид задумался над тем, какая может быть связь между этими двумя морепроходцами, как послышался звук хлопнувшей двери. Он сопровождался звуками брани очень интимного характера. Много слов, много чувств, ноль информации. Потом хлопнула еще одна дверь, автомобильная. Взревел двигатель. Захрустел гравий под озлобленными колесами, и форд Вероники Модестовны вылетел из ворот на улицу.
Леонид стал еще старательнее изображать пьяного. Но машина повернула не в его сторону, не к родному дому, а в сторону противоположную. То есть неизвестно куда направляясь.
Постояв еще некоторое время у своего столба, Леонид рассмотрел человека, который будет запирать ворота. Высокий бородатый мужчина лет сорока в адидасовских спортивных штанах и тельняшке.
Тельняшка так тельняшка. Как говорится, ну и что?
Когда сторож отправился от столба восвояси, было заметно, что груз его задумчивости стал еще тяжелее.
Не доходя несколько шагов до ворот дачи, состоящей под его охраной, Леонид снова остановился. Заставила только что возникшая мысль. Не в первый раз за сегодняшнее утро конспиративно оглядевшись, он забрался на пустую кабельную катушку, в незапамятные времена забытую у забора лихими связистами, и осторожненько глянул во двор. Для того, чтобы незаметно проникнуть на территорию дачного участка, место было идеальное. Хватайся за сук клена, торчащий над забором, перебрасывай ноги и прыгай вниз, на кучу листьев. Два шага вправо, и куст жасмина сделает все, чтобы тебя не увидели.
Впрочем, и смотреть было некому. На чайной веранде никого не было. И даже дверь с веранды в коридор была закрыта.
По тому, как двигался Леонид, можно было подумать, что его целью является тыловая часть дома, примыкающая к глухой веранде. Так оно и было на самом деле. На этом небольшом, самом укромном кусочке дачной территории Леонид провел минут пятнадцать. Ничего особенно интересного на первый взгляд там не было. Если встать спиной к дому, к глухой веранде, слева два куста персидской, но уже выродившейся сирени. Под ними сломанная тачка со следами присохшего раствора. Прямо по курсу, в десяти шагах, за густыми кустами смородины забор из полуистлевшего штакетника. Направо развалины теплицы. Дюралевый скелет, битые стекла, куча камней.
Леонид заглянул на веранду-нет ли там кого? Там была лишь поваленная на бок раскладушка и старый комод, набитый пыльными банками с вареньем и огурцами. Спрятаться тут было невозможно, даже если бы кто-то захотел.
Леонид занялся делом. Несколько раз присаживался у сирени и у смородины, поднимал с земли какие-то тряпки, рассматривал, клал на место. Поднимал окурки, тоже рассматривал. Одни брезгливо отбрасывал, к другим относился с почтением, упрятывал осторожно в карман куртки. Потом еще что-то рассматривал, похоже, какую-то дощечку или железку. Она тоже последовала в карман.
Был осмотрен и забор. В нем не хватало четырех штакетин. Сразу за этим проломом начиналась тропинка, уводящая вниз, в овраг. При виде тропинки сторож загадочно улыбнулся.
Закончив свои невнятные исследования, Леонид осторожно выглянул из-за угла дома. Именно на эту сторону выходили окна кухни, Марусиной комнаты и комнаты секретаря. Гусиным шагом, чтобы не заметили, и медленно, чтобы не нашуметь, сторож двинулся вдоль дома, заглядывая поочередно и очень осторожно в окна.
На кухне никого не было. Газ не горел, никаких приготовлений к обеду заметно не было. Вообще могло создаться такое впечатление, что дом покинут. Человеческое присутствие тут не ощущалось.
Но, заглянув в следующее окно, сторож понял, что, подумав так, он ошибся.
8
Явился, не запылился!
Маруся сидела на полу в позе Возвышенного Внимания, я располагался перед нею, также на полу, приняв классическую позу Говорящего. Глаза моей «демонической девы», как назвал ее пошляк Шевяков, были закрыты, на лице читалась смесь умиротворения и сосредоточенности. Я же, наоборот, глядел во все глаза, ибо, если Говорящий не зряч, он безумен. Произносимые мною слова напрямую, минуя даже обыкновенный физический слух, вливались в сознание ничему не удивляющейся девицы и отзывались благодарным дыханием ее девственного сознания.
От моего округленного ока не утаилось неожиданно возникшее затемнение в левом нижнем углу окна. Слегка лишь скосив зрачок, я определил, чьему это хамскому вниманию подвергается наше возвышенное уединение.
Я не испугался.
И не удивился.
Даже если бы этот усатый бульбоед мог слышать каждое слово из произносившихся мною, он не уловил бы смысл действа. Просто потому что не в состоянии представить себе то, о чем идет речь. Папуас может взять в руки микроскоп, может разобрать его на винтики, но никогда не поймет, для чего он предназначен.
Физиономия сторожа исчезла. Что ему ответить, когда он спросит, чем мы тут занимались? Во-первых, не спросит, постесняется. А ежели, обнаглев, заговорит на эту тему, скажу – медитировали. Это слово обозначает так много всякого, что уже ничего и не обозначает. Кроме того, знакомо любому, кто хоть разок заглядывал в журнал «Знание – сила». А Леонид, судя по его пытливому характеру, заглядывал. Пусть думает, что мы какие-нибудь тайные йоги или, хуже того, вегетарианцы.
Уложив после сеанса Марусю отдохнуть, я отправился на неизбежную встречу с любопытствующим сторожем. Я был уверен, что он с нетерпением ожидает возможности завести со мною беседу, и не ошибся. Меня, кстати, такое развитие наших отношений устраивало. На самом деле надо же было поближе познакомиться с человеком, с которым ты вынужден делить кров трагического жилища. Существенным было и то, что, беседуя со мной, настырный сторож терял возможность шляться по участку и этим меня нервировать.
На это глобальное сближение я пошел, вооружившись заранее вскипяченным чайником и баночкой малинового югославского джема, изъятого из последнего заказа Модеста Анатольевича. Человек более щепетильный, чем я, счел бы это мародерством, но я не испытывал угрызений совести.
Разглядев мой чайник из окна сторожки, Леонид прискакал к веранде так скоро, как будто чайник был заранее оговоренным паролем. Увидев, как он направляется ко мне со свертком в руках, я заволновался-вдруг он опять тащит шмат сала. Оказалось, нет, не сало. Редкий спиртной напиток.
– Называется «Папарц кветка». Я добавляю иногда в чай несколько капель. Сегодня набегался, утро сырое, надо погреться. Не желаете присоединиться?
– «Папарц кветка»?
– В точном переводе, но одновременно убивающем некий тонкий языковой аромат, – «Цветок папоротника».
– Языковой аромат?
– Да. В нем, на мой взгляд, вся соль и весь мед. Хотите еще один пример точного, но неточного перевода?
– Хочу пример. – Я говорил обессиленно, потому что действительно был обессилен недавним сеансом. Воистину, то, что очищает, то в каком-то смысле опустошает.
– Вот пример: госбезопасность! Согласитесь, как это звучно и угрожающе звучит по-русски. А перейдем на белорусскую мову: дзяржавна бяспека. Ничего страшного, даже погладить можно.
Я продолжал еще немного плавать в облаках.
– Да, да, я понимаю, белорусский язык. Нет малых языков, все языки имеют право…
– Смотрите, вы и хотите, но не можете удержаться от иронии. Слова вроде бы правильные, но они отбрасывают едва заметную тень.
Мне пришлось сделать движение руками, показывающее, что ни в какой тени я не виноват и даже осуждаю ее за то, что она отбросилась.
– Чтобы закрыть тему, я процитирую одного довольно умного русского. Вы его не знаете, но это не имеет значения. Он как-то сказал: Бог понимает по-белорусски. С меня довольно.
Я кивнул, показывая, что и с меня тоже.
– Только один вопрос.
– Весь внимание.
– Вы почти все время говорите очень правильно, а потом вдруг ни с того ни с сего – акцент.
– Это все к той же теме. Я учился в Москве, и продолжаю учиться в Москве, и, так сказать, московский язык знаю хорошо. Но бывают моменты в жизни, когда хочется выразиться посильнее, но без мата. Тогда я зову на помощь мову. Это бывает не часто, но бывает.
Я начал наливать ему чай в знак того, что объяснения приняты. Все-таки приятно, когда национализм носит такой умеренный характер.
Приняв чашку с чаем, Леонид плеснул туда из своей бутылки и пододвинул бутылку мне. Я угостился несколькими каплями, исключительно из вежливости. Грубое алкогольное опьянение меня всегда отвращало. Сторожа, кажется, нет. Он с удовольствием отхлебнул из чашки и, приободренный, пошел в наступление:
– Хотел для начала перед вами извиниться.
Я удивленно поднял брови. Но это не в ответ на заявление, а в ответ на запах напитка в моей чашке.
– Так получилось, что я краем уха слышал окончание вашего разговора со следователем.
Я никак не отреагировал, и он продолжил:
– Тема, поднятая вами, меня очень заинтересовала, чрезвычайно заинтересовала. И я хотел бы спросить – Модест Анатольевич в самом деле написал такую книгу?
– Какую книгу?
– В которой он подробно описывает способ спасения СССР от гибели.
Чтобы скрыть раздражение, мне пришлось отхлебнуть хороший глоток из чашки. «Цветок папоротника» оказался сущей дрянью. Во рту стало так же противно, как и на душе. В другое время я нашел бы способ отделаться от этого слишком любопытного парня, но сейчас этого делать было нельзя.
– Я вам скажу так, Леонид: я эту книгу в руках не держал, хотя знаю, что Модест Анатольевич над такой книгой работал. Очень многие мои наблюдения свидетельствуют именно об этом.
Леонид уже выхлебал свою чашку и самостоятельно наливал себе вторую. Сейчас добавит из бутылки. Добавил.
– У меня сразу возникает несколько вопросов.
Чтоб ты провалился со своим любопытством!
– Чтобы так заботиться о сохранении СССР, нужно быть уверенным в его непременной гибели. И, главное, скорой.
– Насколько я могу судить, Модест Анатольевич был уверен в непременной и скорой гибели СССР. Он считал, что у этой страны впереди два года, максимум три.
Леонид потрогал ус.
– Но ведь, кажется, ничто так уж явно не свидетельствует о близком крахе. Все стоит, как и раньше стояло. Плохо стало с колбасой в московских магазинах? Так в остальной стране и всегда с нею было неважно, и ничего. На чем строится такое оригинальное и мрачное пророчество?
– А вы знаете пример не мрачного пророчества?
Он усмехнулся.
Мне второй раз за сегодняшнее утро пришлось углубляться в тему, предельно далекую от моих истинных интересов.
– Что же касается оригинальности, Леонид, тут я согласен с майором Аникеевым, похоронные настроения – это нынешняя интеллигентская мода. Все, начиная от какого-нибудь заштатного звиадиста или руховца до Солженицына и Сахарова включительно, талдычат об одном. Надо уничтожить Союз, тогда начнется настоящая жизнь для всех. Помните, как у Ильфа и Петрова: будет радио – будет счастье, и вот радио есть, а счастья нет. С Союзом все наоборот. Не будет Союза, будет счастье. Таковы настроения. Лично я Союзов не разрушал, поэтому не знаю, что бывает после этого. Посмотрим.
Леонид не принял юмористического уклона в разговоре. Он сосредоточенно ждал, когда я закончу свою длинную реплику.
– И Солженицын тоже?
– Что тоже?
– За развал?
– Недавнее интервью Модеста Анатольевича западному радио как раз и было его реакцией на последнюю работу Александра Исаевича, которая называлась, кажется, «Как нам обустроить Россию». По мнению Модеста Анатольевича, правильнее было бы эту работу назвать «Как нам развалить СССР».
– Да, я читал в «Комсомолке».
Леонид допил вторую чашку, встал и прошелся по веранде. Встал спиной к перилам. Устремил на меня слишком внимательный взгляд голубых глаз. Я понял, что, пожалуй, оказался в ложном положении, и, главное, по своей вине. Надо было с самого начала оговорить некоторые вещи.
– Понимаете, Леонид, не знаю, кем вы меня видите, но считаю важным заметить следующее: я не являюсь стороной, как говорят в суде, в споре о будущем СССР. Сам я не считаю нужным иметь мнение по этому поводу. Все, что я вам говорю и буду далее говорить, – это всего лишь попытка реконструировать мнение Модеста Анатольевича по тем обрывкам сведений о его работе, которые оказались у меня в силу моей должности.
– Понимаю.
– Надеюсь. Засим спрашивайте.
Он задумчиво вздохнул.
– А давайте поднимемся к нему в кабинет!
Предложение странное, немного бестактное, умысел, продиктовавший его, был мне неясен. Но очевидной причины отказываться не было. В конце концов, человек, вылечивший лестницу, имеет право разок по ней подняться.
К беспорядку в кабинете никто не прикасался. Все было распахнуто. Дверцы книжных шкафов, дверцы в тумбах стола, дверь сейфа. Были выдвинуты все и всяческие ящики, открыты крышки бронзовых старинных чернильниц. Полное впечатление, что большая научная душа вылетела отсюда вон, оставив на полу беспорядочно разбросанные листья черновиков и нарисованную мелом раскоряку.
Я молча наблюдал за Леонидом. Он молча прошелся по кабинету, ни к чему не прикасаясь. Остановился у стола. Посередине его стояла большая фотография Юлии Борисовны. Хорошая фотография. Крупная статная женщина с копною черных распущенных волос.
Черные огромные глаза глядят надменно и уверенно. Подлинная Медея.
– Кто это?
Я сказал.
Он долго рассматривал фотографию, и я уже подготовился к тому, что разговор повернет на семейную дорожку, но ошибся. Будущее Советского Союза волновало моего белорусского друга больше, чем прошлое семьи Хорлиных и Петуховых.
– Насколько я понял, Модест Анатольевич не был согласен со взглядами Солженицына и Сахарова.
– Правильно.
Леонид опустился в низкое кожаное кресло возле глобуса. И то, и другое – адмиральское наследство. Я деликатно примостился на одной из ступенек стремянки, стоящей у входа.
– И в чем же суть несогласия?
Я глубоко вздохнул. Господи, как мне все это неинтересно!
– Чтобы ответить на этот вопрос, надо хотя бы в самых общих чертах обрисовать взгляды Солженицына и Сахарова на эту проблему.
Я остановился. Леонид молчал, давая понять, что с удовольствием посмотрит, как я буду обрисовывать.
– Александр Исаевич считал, что настало историческое время для великого славянского объединения внутри СССР. Не надо, мол, мешать всяким там прибалтам, кавказцам и среднеазиатам, пусть отделяются, пусть строят свои республики и ханства, как у кого получится, а вот русские, белорусы и украинцы должны сплотиться и создать мощное славянское государство.
– Вы считаете, плохая мысль?
– Повторяю, я не считаю ничего. А вот Модест Анатольевич считал эти размышления великого писателя прекраснодушным историко-романтическим бредом. Он любил повторять, что «о поведении на развалинах СССР даже с эстонцами легче будет договориться о чем-либо, чем с хохлами». Он говорил, что если у них, у украинцев, будет один способ избежать подчинения Москве – это перейти в мусульманство, они перейдут.
– Модест Анатольевич любил выражаться броско.
– Что было, то было.
– А о белорусах он что-нибудь говорил?
Я помолчал, честно вспоминая. Сказал от себя:
– Принято почему-то думать, что с белорусами всегда все просто. Они заранее на все согласны, национальные амбиции у них отсутствуют. Мне так не кажется. Вот, например, если я вам сейчас скажу, что ваша «Папарц кветка» отвратительное пойло, вы ведь сочтете оскорбленным не свой личный вкус, но свое национальное чувство, правильно?
Леонид вдруг весело рассмеялся.
– Что, не понравилось?
– Гадость, – сказал я со спокойной убежденностью, и на душе у меня стало легче.
– А я вот русскую водку люблю.
– Объективно говоря, русская водка достижение вершинное в своем виде продуктов. Но представьте, что вы насильно вливаете ее кому-нибудь в глотку. Как бы ни была хороша водка, есть на свете непьющие.
– Понятно, понятно. Модеста Анатольевича способ перепланировки «тюрьмы народов», предложенный Солженицыным, не устроил?
– На этот вопрос не требуется ответа, но требуется комментарий. Я имею в виду выражение «тюрьма народов».
– Это еще про царскую Россию говорили.
– Говорили, правильно. Повторяю, личного мнения у меня на этот счет нет, а вот мнение Модеста Анатольевича я до вашего сведения довести могу.
Леонид расстегнул верхнюю пуговицу на рубашке, как будто от сообщаемых мною сведений ему стало жарко.
– Модест Анатольевич соглашался с таким определением Союза – «тюрьма народов», но требовал, чтобы тогда все прогрессивное человечество согласилось с определением республики США как «кладбища народов».
– Кладбища?
– Да. Строго говоря, с полсотни индейских народов и племен в Северной Америке истреблено было. Минимум три миллиона краснокожих трупов замуровано в фундамент американского процветания.
– A-а, в этом смысле?
– В этом. Модест Анатольевич любил говаривать, что во время колонизационных походов русские в основном спаивали, а янки в основном истребляли. Алкоголику все же радостнее на свете, чем покойнику. Причем академик, насколько я могу судить, одобрял методы американцев.
– Почему это? Методы-то скверные.
– Он считал, что малые народы России рано или поздно доставят ей большие проблемы. И повторял, перефразируя сами знаете кого, – есть народ, есть проблема, нет народа, нет проблемы.
– Жуть какая-то!
Было заметно, что сообщаемые сведения сильно меняют образ академика Петухова в сознании сторожа Леонида. Ничего удивительного, академики, как правило, люди не только умные, но и сложные.
– Теперь пора поговорить о сахаровском проекте.
– Модест Анатольевич не любил Андрея Дмитриевича, что меня, должен вам заметить, весьма огорчало.
– А вы его любили?
– Идиотская, извините за выражение, постановка вопроса.
– Да?
– Да. В данной ситуации «нелюбви» противоположна не «любовь», а уважение. И вот я Андрея Дмитриевича Сахарова уважаю. Считаю его фигурой выдающейся в новейшей отечественной истории.
– А Модест Анатольевич его не уважал?
– Уважал, но не любил.
– Понятно.
Сторож чуть заметно улыбнулся. Считает, что загнал меня в угол. Господи, да пусть тешится. Эта мелкая словесная победа придаст ему уверенности в себе. Уверенные в себе люди не слишком внимательны.
– Неправильно было бы думать, что Модест Анатольевич прямо так вот сидел за столом и занимался нелюбовью к Сахарову. Речь идет о нескольких колких замечаниях, иронических комментариях в его адрес. Например, однажды Модест Анатольевич сказал, уж не помню в связи с чем, что у нас в стране для того, чтобы стать главным борцом с милитаризмом, нужно сначала изобрести самую разрушительную бомбу.
– Понятно.
– А что касается мыслей Андрея Дмитриевича о будущем СССР, то они, насколько я помню, а помню плоховато, заключались в том, чтобы расчленить Союз на несколько десятков территорий. Таким образом он ликвидировался бы как потенциальная угроза всему человечеству.
– И Модесту Анатольевичу эта идея не нравилась?
Я кивнул, вздохнул и зевнул.
– Да, Леонид, не нравилась. Он любил цитировать эмигрантских философов, Ильина особенно, анализировавших эту проблему. По их мнению выходило, что подобное расчленение СССР чревато таким кровопролитием, перед которым обычная гражданская война покажется детской забавой, потому что это будет гражданская война с применением ядерного оружия. Да, болезнь коммунизма надо искоренять, но по-другому. Грипп не лечится четвертованием.
Смотревший до этого прямо на меня Леонид перевел взгляд на стоявший рядом глобус. Взяв его двумя пальцами за Гренландию и Скандинавию, попробовал крутнуть. Глобус крутнулся, но с видимой неохотой и склочным скрипом.
– Да, теперь я, кажется, все понимаю.
Хорошо, подумал я, допустим, он, сторож, убил Модеста Анатольевича, что ему от меня надо? Разыгрывает из себя дилетанта? Мол, и знать не знал, какие ценные бумажки лежат в сейфе академика. А раз не знал, значит, и мотива не имел для убийства. Ну, допустим, я поверил, и что? Кому на всем этом свете интересно мое мнение о возможном убийце?! Зачем ему городить такой сложный огород?
– И что решил противопоставить Модест Анатольевич двум неприемлемым идеям, солженицынской и сахаровской? Было у него что-нибудь кроме бесплодной неприязни?
Впрочем, чего я дергаюсь?! Сидим, интеллигентно разговариваем. Сейчас я спущусь, разбужу Марусю, пусть займется обедом.
– Извините, Леонид, вы есть не хотите?
– Еще нет, но скоро захочу.
– Я сейчас дам команду. Ждите меня здесь.
Когда я вошел в комнату Маруси, она не спала. Она стояла у окна, набросив на плечи платок. И смотрела в сторону сторожки.
– Там кто-то есть? Ты кого-то увидела?
– Там? Нет, никого я не увидела. Я просто боюсь.
– Послушай…
– Я чего-то жду, сама не знаю чего. Я…
– Не надо ничего бояться. Мы уже очень скоро отсюда уедем. Через пару дней. А сейчас займись-ка обедом. На троих.
После этого я пулей поднялся в кабинет. Он возился с подставкой глобуса, уверен – теперь земной шар будет вращаться охотнее.
– Должен вам сказать, Леонид, у Модеста Анатольевича была своя, очень стройная, хорошо разработанная идея переустройства страны.
Собеседник мой вдруг встал, поглядел в окно, расположенное рядом с его креслом, и предложил:
– А давайте пойдем погуляем перед обедом. Погода-то какая на дворе!
– Какая? – поинтересовался я, стараясь вложить в тон голоса все свое неудовольствие.
– Сентябрьская, – нашелся Леонид.
– Это всего лишь нормально, ведь на дворе сентябрь.
Но, несмотря на все мои увертки, гулять мне идти пришлось. Иначе бы он пошел без меня. Нет, хватит, хва-атит с меня этой нервотрепки. Завтра же мы с Марусей убудем отсюда в неизвестном ни для кого направлении.
Мы спустились с веранды на кирпичную дорожку, и я уверенно направился по ней к воротам. Уведу-ка я его вовсе с участка, да хоть к кладбищу. Говорят, там похоронено немало людей заслуженных и даже известных. Перед обедом приятно посмотреть на могилы. Но моему невинному плану не суждено было осуществиться, сторож не собирался покидать участок. Он желал вояжировать «вокруг дома». Можно себе представить, как мне это понравилось. Поддевая ботинком кленовые листья, редкими желтыми звездами осыпавшие еще зеленую траву, я побрел вслед за мучителем в резиновых сапогах.
Первая остановка случилась у гамака.
– Так вы хотите знать, в чем состоял план Модеста Анатольевича?
– Конечно, конечно. Так в чем же?
– Модест Анатольевич исходил из того, что рано или поздно, а вероятнее всего рано состоится нечто вроде всенародного опроса или, говоря по-другому, референдума, при помощи которого партия и правительство спросят свой народ о том, хочет ли он и дальше жить в государстве под названием СССР. На самых верхах такие разговоры, по утверждению Модеста Анатольевича, ведутся уже два месяца. Как минимум.
Леонид пытался подошвой сапога раскачать провисший почти до самой травы гамак.
– И что же плохого в референдуме?
– Не знаю, что в нем плохого, но Модест Анатольевич не видел в нем ничего хорошего. Главным заблуждением власти он считал уверенность в том, что в стране есть какой-то НАРОД.
Леонид, собиравшийся как раз двинуться дальше вкруг дома, опустил ногу и с интересом покосился на меня.
– А что, никакого народа нет?
– Модест Анатольевич считал, что нет. В смысле, советского народа. Есть НАРОДЫ! Бредовое брожение национализма в их головах уже началось, и остановить его может только катаклизм, то есть война, чума, падение еще одного Тунгусского метеорита, но никак не референдум. Вернее, не так – не всякий референдум.
– Что-то я начинаю запутываться, поясните.
Сказал, а сам как ни в чем не бывало поперся дальше. Пояснения пришлось давать в болониевую спину.
– Он, Модест Анатольевич то есть, боялся, что у нас проведут референдум неправильно.
– Неправильный зададут вопрос?
– Да, нет. Это как раз мелочь. Как ни формулируй, смысл будет один: вы за Союз или против? Так вот Модест Анатольевич боялся, что у нас неправильно подсчитают ответы.
– Подтасуют?
Мы были под окнами кабинета, и я инстинктивно начал говорить тише, что заставило Леонида приостановиться и обернуться.
– Не без этого. Но и это не главное.
– Давайте, наконец, к главному. Уж очень заинтриговали.
– Главное, повторяю, как подсчитать. Модест Анатольевич боялся, что выведут одну большую общую цифру, допустим, 76 и 8 десятых процента, и объявят ее законом. Мол, подавляющее число граждан не хочет расчленения страны. Поэтому ничего менять не будем. Но националистические настроения цифрой не испугаешь, рост их продолжится, и через пару лет произойдет настоящий взрыв, страну разорвет в клочья. Там не только хохол с белорусом не обнимутся, там курянин на смолянина станет нож точить.
– Мрачная картина.
Представившееся внутреннему оку Леонида видение было так ужасно, что он прижался спиной к сосне.
– Но это при наихудшем варианте развития событий. Наиболее же вероятным Модест Анатольевич считал развал СССР по республиканским границам. Если бы вы слышали, как он костерил большевиков за это изобретение. Создавая СССР, они одновременно закладывали под него мину.
– И Модест Анатольевич придумал, как эту мину обезвредить?
– Вы сказали совершенно правильно, Леонид.
Зря я его похвалил, он самодовольно и бодро зашагал дальше. Я почти бежал за ним.
– Все гениальное просто. Надо на этом референдуме подсчитывать голоса не вообще, а по областям. А в республиках, где районное деление, по районам.
Леонид был как стрелою пронзен острейшею мыслью Модеста Анатольевича. Он замер прямо перед кустами, сквозь которые уже проглядывали развалины теплицы.
Я торопливо докончил свой рассказ:
– Все на самом деле элементарно. Москва объявляет свободу. Запад, ООН, НАТО и кто там у них еще есть жадно за это ухватываются и заранее признают итоги референдума этого легитимными. Украина хочет отделиться? Пускай отделяется, но только с теми гражданами и землями, которые действительно хотят за нею последовать в самостоятельное государственное плавание. Львов, Тернополь, Ивано-Франковск, Винница, Чернигов, может быть. Пусть Киев. Модест Анатольевич считал, уж не знаю почему, что за Львовом даже Ужгород не побежит, само собой, не говоря про Харьков, Донецк, Одессу, Крым и так далее. Есть риск получить на Волге самостийное татарское ханство? Да ради Бога! Почему татарам не иметь собственной страны? Равно как и узбекам, туркменам, таджикам, казахам. Но при этом Модест Анатольевич считал, что с Россией неизбежно останутся все северо-казахстанские области. Государственное тело новой России будет как бы окружено поясом астероидов, начиная с Калининграда, далее Тирасполь, Одесса, Крым, Аджария. Я могу что-то путать, ибо был увлечен этими геополитическими расчетами далеко не так сильно, как Модест Анатольевич. Кажется, что это слишком сложная конструкция? Его это не волновало. Он хотел достичь главного – чтобы максимальное число русских жило вместе. Разделенные народы – это народы несчастные. Взгляните на немцев, корейцев.
Леонид посмотрел по сторонам, как будто эти несчастные народы располагались тут неподалеку под кустами.
– Модест Анатольевич называл это игрой на опережение. Все эти Ландсбергисы собираются вести речь о расширении границ республиканского суверенитета, а им бах – получите полную независимость. Но на наших условиях! Ослепительная возможность обрести эту самую независимость заслонит споры о границах. Тем более какие могут быть споры при наличии у одной из сторон боеспособной армии, спецслужб, партаппарата и отсутствии всего этого у другой стороны.
– А вдруг Ландсбергисы откажутся?
– Модест Анатольевич считал, что это невозможно. Ведь за спиной у каждого из них конкурент, кто-то второй, и он, этот второй, не задумываясь пойдет на сговор даже с дьяволом, чтобы стать первым. Политики всех времен и всех стран одинаковы, любил говаривать Модест Анатольевич, и в этом я с ним согласен вполне. Я только никак не мог понять, почему он, зная цену этой публике, сам столь стремится ей уподобиться. Он был на многое готов ради того, чтобы стать участником сомнительных и бесплодных политических игр. Поверьте мне, у Модеста Анатольевича были более интересные, возвышенные и творческие варианты развития своей личности.
– Верю, – совершенно серьезно кивнул Леонид и начал раздвигать кусты, чтобы проникнуть в самый укромный уголок дачной территории.
Будь что будет, подумал я, собираясь шагнуть вслед за ним. Я действительно был готов на все.
Если он обнаружит мой тайник…
Я стал глядеть по сторонам, выбирая взглядом железяку.
9
Но нас остановил шум у ворот. Клаксон Вероникиного «форда». Никогда не думал, что смогу так обрадоваться появлению этой хамки.
– Это Вероника. Наверно, что-то случилось! – воскликнул я. – Пойдемте скорее.
Да, мой голос звучал слишком неестественно, моя радость от появления наследницы выглядела очень уж фальшивой, но мне в данный момент было все равно, как я выгляжу в глазах сторожа. Пусть он считает меня припадочным, пусть считает кем угодно, лишь бы убрался подальше от моей теплицы!
Леонид вдруг улыбнулся и сказал:
– Ладно, идемте.
Вероника не стала заезжать внутрь, оставила машину за воротами. Вид у нее был озабоченный, очень даже видно было, что у нее дела идут наперекосяк. На меня она смотрела зло, но нетрудно было догадаться, что злю ее в данный момент не я.
– Не появлялся?
Я еще не понял, о ком речь, а Леонид уже спросил у меня из-за плеча:
– Валерия Борисовича разыскиваете?
Вероника приопустила черные очки и поглядела на догадливого сторожа поверх них.
На веранду вышла Маруся.
– Чем заправить суп, вермишелью или картошкой?
– Я обшарила всю округу, перетряхнула все шалманы…
– Может, он уже уехал в Москву? – спросил Леонид, глядя на часы.
– Рановато. – Вероника тоже взглянула на хронометр. – Еще и двенадцати нет.
– Но ехать-то все равно надо, – усмехнулся сторож.
Вероника вернула очки на место. Вид у нее сделался совершенно неприступный.
– Да.
– Не захватите ли меня? Мне Валерий Борисович тоже нужен, ну прямо позарез.
Заявление это удивило Веронику и несказанно обрадовало меня. Я всерьез боялся, что Леонид прочно осядет на участке и будет медленно удушать меня своим присутствием, а я не выдержу, сорвусь, наделаю глупостей. В конце концов, шарахну его чем-нибудь по голове. Глядя себе под ноги, я мысленно умолял Веронику: «Возьми, возьми его!» Она что-то мысленно прикидывала, и ее можно понять, этот сторож кому угодно покажется подозрительным.
– Ладно, поехали.
Леонид расплылся в улыбке.
– Я только переоденусь.
– Да, неплохо бы.
Когда он через две минуты пробегал мимо веранды в сторону ворот, я заметил, что Маруся смотрит на него как-то необычно. Леонид тоже поймал ее взгляд и весело крикнул:
– А суп лучше заправить бульбой.
И странная парочка укатила.
– Что с тобой? – спросил я у Маруси на кухне. Она мне не нравилась последнее время. Было такое впечатление, что по временам она проваливается в какой-то психологический омут. Ничего вокруг себя не видит, ничего не слышит, потому что слишком прислушивается к себе. А что ей надиктовывает ее скрытая сущность, одному Богу известно. Понятно, что переживания прошедшей ночи не могли пройти бесследно, но я бы предпочел одну стандартную девичью истерику этим периодическим «уплываниям». Когда все это закончится, с нею придется поработать как следует.
– Что с тобой, Маруся?
– У него чужая одежда.
– У кого? Что ты имеешь в виду?
– У сторожа, у Лени чужая одежда.
– С чего ты решила?
– Видно же.
Отлично! То она тонет в тумане своих девичьих грез, то проявляет сверхнаблюдательность. И главное, невозможно проверить, права она или нет.
Впрочем, почему же невозможно?!
10
Вероника слишком хорошо водила машину. Это выражалось в основном в том, что она начисто игнорировала какие-либо правила дорожного движения, так что первые минуты совместного путешествия Леонид молчал, привыкая к новой для себя обстановке. Водители встречных машин и машин обгоняемых, заметив отчаянный гонщицкий нрав Вероникиного «форда», покорно уступали дорогу.
Из перелыгинских дебрей вылетели на Минку, и лихая водительница прервала молчание:
– Давайте-ка о чем-нибудь поговорим, глупо вот так немыми ехать.
Надо понимать, у сторожа имелось немало вопросов к дочке академика, и он не сразу выбрал, с чего начать.
– А скажите, зачем вам нужен Валерий Борисович?
Вероника хмыкнула и «съела» белый жигуленок.
– Чтобы набить ему морду.
– Понятно.
– А вам зачем?
– Мои планы…
– Знаешь, давай на «ты», а то дико как-то. Понимаешь, у меня так, если я не могу говорить человеку «ты», я предпочитаю с ним вообще не говорить.
– Понятно.
– «Понятно» да «понятно», очень понятливый, значит, да?
– А тебе часто приходится бить морду Валерию Борисовичу?
– А как заслужит, так и бью. Чрезвычайно необязательный человек. Если бы я могла без него обойтись, я бы без него обошлась, уж поверь мне. Алкоголизм, гигантское самомнение плюс сломанная карьера, которую он, кстати, сам себе сломал из-за своего самомнения и алкоголизма. Теперь изображает из себя художника, не пошедшего на компромисс с режимом. Он говорит, что «такие, как я, не продаются». А я ему – «таких, как ты, никто просто не покупает». Он меня тоже, я думаю, недолюбливает. Но деваться ему от меня некуда. Во-первых, родственники, во-вторых, если так можно выразиться, компаньоны.
– Компаньоны? А в каких делах, узнать нельзя?
– Нет, не расскажу. Стыдно.
– Понятно. А он правда какой-то поэт?
– Вот именно что «какой-то». По молодости лет примыкал к неофициальной группе, а потом к другой примыкал. Но подпольной славы не снискал, для такой славы нужны были стишки еще более дикие, чем у него. Групки все эти по подвалам да по дворницким ютились. Наберут портвейна и читают друг другу свою галиматью, которую и так знают наизусть. А заканчивается все дракой. Так было тридцать лет назад, так же все там и сейчас.
Леонид усмехнулся.
– Жизнь богемы вы обрисовали, в смысле ты обрисовала, похоже.
– Еще бы не похоже. Приходилось бывать. По молодости лет. Была, как все первокурсницы, глупая и жадная до впечатлений, до всего как бы гонимого. Ореол, то-се. А если разобраться, там ничего, кроме грязных носков, грязных стаканов и грязных приставаний, и не было. Подсунут Кастанеду почитать и сразу тащат в койку. И нищета страшенная!
Минское шоссе на полной скорости врезалось в кольцевую дорогу. Завидев пост ГАИ, Вероника тихонько выругалась и сбросила скорость.
– А ему потом помогли, дяде Валере. На работу на приличную устроили, в партию вступили. Но тут он начал выкаблучиваться. Стыдно ему стало перед прежними друзьями, перед богемными. И новая официозная жизнь не очень-то спешила засасывать. Чувствовала чужака. Ну вот и получилось, что с хлебных постов он повылетал, но живет с печатью приспособленца. Душа его опалена огнем несправедливости. Правда, одно его стихотворение мне нравится:
Если в жизни плохо что-то,
если в жизни счастья нет,
вспомни Бойля-Мариотта,
был у нас такой поэт.
Хотя не исключено, что он его у кого-нибудь украл. Кстати, а тебе для чего мой дядечка дорогой, не скажешь?
Леонид помялся.
– У тебя-то с ним никаких дел быть не может, ты его вчера и увидел-то в первый раз.
– Да, ты понимаешь, мне сдается, Валерий Борисович должен знать, где сейчас находится Фил.
Вероника дернула рулевым колесом, так что пассажир ударился головой об обивку салона.
– Ничего себе, ты что, начал расследование расследовать, да?
Сторож неуютно поежился.
– Если угодно, то можно и так сказать.
– Так на кой черт тебе этот Фил? По-моему, он дебил!
– Или притворяется дебилом.
– Ой-ей-ей. Что происходит, просто шпионские страсти! Злой американский шпион прокрадывается в дом советского академика и выкрадывает у него ценнейшую рукопись. Очень смешно.
– Мне неудобно напоминать, но Модест Анатольевич все же убит кем-то. Сейф опустошен.
– Напоминай, напоминай. Я и сама знаю, что веду себя как зверюга какая-то. Но есть причины, есть. Но папочку мы похороним чин по чину, ты не сомневайся. Тело его, между прочим, сейчас даже и не знаю где. Исследуют. И кортик тоже, отпечатки небось снимают.
– Кортик?
– Да, дедовский, наградной, очень дорогой. Фамильная реликвия. Мне этот, с бородавкой, сказал во время беседы. Очень на него напирал, на кортик.
Возле гастронома «Можайский» пришлось остановиться на светофоре.
– А ты что, уже задумался, запинкертонило тебя? Понимаю, кортик, такая сочная улика!
Леонид немного приподнялся на сиденье и попытался большими пальцами обеих рук поудобнее устроить на животе брючный пояс.
– Растолстел, что ли, на харчах академика Петухова?
Машина рванула, как с низкого старта. Когда проносились мимо Поклонной горы, Леонид уладил наконец все дела с брюками.
– Я хотел спросить вот еще что. С самого начала хотел, но постеснялся.
– Сыщик и стеснительность – две вещи несовместных.
11
Надо осмотреть сторожку, вот какая мне пришла в голову идея. Конечно, нехорошо, но это в обычной ситуации, а в той, в которой оказался я, все средства законны и уместны. Можно назвать этот осмотр мерой превентивной самообороны.
Что я там рассчитывал найти? Я не был даже уверен, что мне удастся проникнуть внутрь, хотя мне не приходилось видеть, чтобы новый сторож запирал свое жилище. Может, входная дверь просто-напросто захлопывается, как в городской квартире. На худой конец заглянем в окна.
Да, это был поход наобум, без конкретной цели. Но я не стал препятствовать своему страстному желанию. Разрастаясь, оно бы меня извело, истомило.
Нет, в руках я себя держал. Не кинулся сразу к сиреням, маскировавшим белое с железной крышей строеньице. Для начала проинструктировал Марусю, инструкция была краткой, но энергичной: сидеть у себя в комнате и никуда не высовываться.
– А суп?
– Высовываться только на кухню!
Солидной, неторопливой походкой я проследовал к воротам и выглянул наружу, конечно же, для того, чтобы удостовериться, что «форд» Вероники Модестовны в самом деле убыл из поселка, а не прячется где-нибудь за деревом.
После этого я внимательно осмотрел территорию сопредельных участков. Слева жила престарелая теща какого-то большого начальника из министерства цветной металлургии вместе со сворой маленьких злых собачек. Ни тещи, ни ее тварей видно не было. Дом справа находился под многолетним ремонтом, и в данный момент ремонт находился в той фазе, когда рабочие не приходят на место работы даже для того, чтобы выпить.
Что ж, я подышал глубоко и замедленно, по всем правилам метода профессора Куротопченко, и почувствовал, что реально успокаиваюсь.
Начнем действовать.
Надо идти к сторожке с таким видом, словно собираешься попросить соли и больше тебе совсем ничего не надо. Да, пусть соль будет моей легендой, на тот случай… на всякий пожарный случай.
Дорожка к белому строению за сиренями тоже была выложена кирпичом, только по ширине уступала главной, магистральной.
Подошел к двери.
Еще раз оглянулся по сторонам, не следит ли за мной какой-нибудь случайно проходящий по дороге пешеход.
Не следит.
Я взялся за ручку и осторожно нажал.
Ручка поддалась! Я отпустил ее, привыкая к первому успеху. Для того, чтобы войти внутрь, надо было заново собираться с силами. И еще раз оглядеться.
Огляделся.
Собрался. И снова надавил на ручку.
Она не поддалась!
Более того, я почувствовал, что не поддалась она не сама по себе, а потому что ее кто-то держит с другой стороны. Я надавил на нее сильнее.
Ручка вела себя как живая, она чуть пружинила, но твердо не желала уступать моему нажатию. Мне даже показалось, что она теплая.
Мысль моя работала лихорадочно, но паники я постарался не допустить. Не позволил себе бросить все и обратиться в бегство. Нет, я сделал вид, что посчитал дверь обыкновенным образом запертой, отпустил ручку, медленно развернулся и медленно, как можно медленнее пошел прочь.
Ничего не сказав про соль.
Пошел по узкой кирпичной дорожке.
Потом по широкой кирпичной дорожке.
По ступенькам.
Через веранду и к себе в нору.
И только там меня прошиб пот. Я рванулся и запер дверь с веранды в коридор.
Добежал до кухни.
Маруся!
Она, ничего не подозревая, возилась у газовой плиты. Я бросился к окну своей комнаты. Из него сторожка просматривалась довольно неплохо. Наблюдал я ее с этой позиции десятки раз, но теперь она выглядела необычно.
Там кто-то есть!
Кто это может быть?
Да кто угодно.
Это может быть Барсуков, это может быть американец, это может быть Валерий Борисович, всеми так страстно разыскиваемый. Но почему этого неизвестного с раскаленной рукой не отыскали люди Аникеева? Они ведь, я это помнил отчетливо, заходили в сторожку, они внимательно осмотрели всю территорию и потом заглянули и к Леониду.
Объяснение очень простое. В сторожке сидит человек Аникеева. Это же так логично. Мне ведь сразу показалось, что следственная бригада комитетчиков ведет себя как бы чуть-чуть небрежно. Без души, без азарта. Как бы не придавая особого значения этому, без сомнения, значительному делу. Вон даже кабинет Модеста Анатольевича не опечатали. Пусть там ничего интересного, на их взгляд, нет… Господи, да кто сказал, что там ничего интересного не было. Они просто сами все интересное и вынесли, не привлекая особого внимания.
Кем тогда является наш новый сторож? Ответа не требуется. А сейчас он уехал, оставив напарника.
Теперь вопрос, поверил ли этот напарник мне. То есть убедительно ли я сыграл там у двери. Если поверил, значит, считает, что не раскрыт, значит, не сунется наружу, будет ждать возвращения Леонида.
А вдруг не поверил? У меня-то ни на секунду не возникло сомнения в том, что ручку с той стороны держит человек, а не замок. Глупо думать, что противник глупее тебя.
Надо ждать, что он начнет действовать. Каким образом? И почему я, собственно, боюсь его действий? На чем меня застукали? Что я такого совершил? Зашел к сторожу за солью!
Несмотря на все эти попытки непредвзятого анализа ситуации, волнение мое никак не хотело улечься. Более того, с каждой минутой мне становилось все страшнее и страшнее. Кажется, я переоценил свои силы, ввязался в игру, не полностью изучив ее правила, а по ходу ее выяснилось к тому же, что не полностью мне известные правила могут еще и меняться.
Бежать!
Вот какая мысль овладела мною. Овладела полностью и до конца.
Там, где ты ничего не можешь, там ты ничего не должен хотеть, сказал кто-то древний и умный. А я ведь даже и не хочу уже ничего здесь, почему же мне не сбежать?!
Свое дело я сделал, устроил, обстряпал, провернул, так не глупо ли продолжать сидеть в этом кровавом курятнике в ожидании неизвестно чего? Не любопытство же меня здесь держит, мелкое человеческое любопытство. Не заражен я этой болезнью ни в малейшей степени. Меня не интересует, распадется ли СССР и как распадется, с гражданской войной или без нее. Так какое мне дело до того, кто воткнул ножик в обширное сердце человека, очень много размышлявшего на эти темы.
Боясь своих слишком быстрых действий, могущих повлечь за собой новые проблемы, я заставил себя сесть на топчан, положил руки на колени на манер карликового фараона и произвел несколько дыхательных упражнений по хорошо мне известному методу. Этого не хватило. Я продолжил и все же заставил свой мозг в известной степени очиститься и успокоиться. И вот этот очистившийся и успокоившийся мозг заявил мне все то же-бежать! Уносить ноги, Марусю и добычу!
Станут ли меня разыскивать?
А что мне можно предъявить?
А главное, поздно будет что-либо предъявлять.
Я жадно пожалел, что не работает телефон, давно бы можно было посоветоваться.
А вдруг телефон прослушивается?
Отключенный телефон?
Я нервно хихикнул и тут же себя одернул, почувствовав, что нахожусь на грани обыкновенной истерики. Последнее дело впадать в «если бы да кабы». Будем действовать так, как если бы телефон еще не изобрели.
Еще раз внимательно поглядев в окно на ненавистную сторожку, я сходил на кухню и притащил оттуда мою замедленную Марусю.
– Встанешь вон там, поняла?
– У калитки?
– Открой почтовый ящик, достань какую-нибудь бумажку.
– Какую бумажку?
– Возьми с собой вот хоть эту газету и сделай вид, что достала ее из ящика и рассматриваешь, поняла?
Маруся вздохнула.
– Я спрашиваю, поняла?
– Да.
– Твое дело привлечь к себе внимание.
– Чье внимание?
– Не твое дело.
– Ты всегда говорил, чтобы я поменьше привлекала к себе внимание.
– Молчи, дура, и делай что тебе говорят.
Глаза Маруси наполнились слезами, но, слава богу, слезы не пролились.
– Простоишь там минуты три-четыре, потом вернешься в дом, поняла?
– Да.
Как только она вышла на веранду, я шмыгнул в комнату Барсукова и к окошку. Его, этого окошка, из сторожки нипочем не увидеть, другая сторона дома. Немного повозился со шпингалетами, как и в прошлый раз. Открыл створку. И выпрыгнул на траву. Все же эти старые дачные участки замечательно охраняются от чужих взглядов своей обильной растительностью. Со стороны стройки, даже если там кто-нибудь и сидит, увидеть мою небольшую пригнувшуюся фигурку было очень непросто. Так что, надо думать, и моя ночная вылазка осталась незамеченной.
На всю операцию, по моим подсчетам, в прошлый раз ушло около полутора минут, и это в темноте. Теперь я надеялся уложиться за минуту. Пусть напарник сторожа любуется, как тихая красавица Маруся дребезжит жестяным почтовым ящиком.
Вот я у глухой веранды, вот я проныриваю между жасминовыми кустами, вот я у заброшенной теплицы.
Остановившись у кучи камней, я остолбенел.
Упал на колени и стал дрожащими руками ощупывать каменный холм высотой в метр, шириной в два. Он казался мне таким надежным, даже остроумным хранилищем для моей находки, и он так меня обманул! Руки еще продолжали безумные поиски, но глаза уже все поняли-нету! Здесь были обломки кирпича, куски засохшего цемента, крупный гранитный щебень, были просто булыжники. Не было того, что я здесь припрятал ночью.
Задрав голову кверху и зажмурившись, я завыл. Негромко, но не потому, что боялся кого-то удивить. Просто у меня свело челюсти, и рвущийся изнутри крик оставался незавершенным и от этого особенно мучительным. Теряя силы от борьбы с ним, я повалился на бессмысленную, бездарную кучу каменных отходов и на несколько секунд, как мне кажется, просто потерял сознание.
«Кто?!»-эта свирепая и внезапная мысль подняла меня из лежачего положения на колени. Она же поставила меня на ноги.
«Кто?!»
Нет, несмотря на этот неожиданный и от этого втройне жуткий удар, я сдаваться не собирался. Ведь не демон же какой-нибудь похитил мою драгоценность. А хотя бы даже и демон! Не-ет, это хитрая и коварная тварь в обыкновенном человеческом обличье, наделенная лишь одной сверхъестественной способностью – к подсматриванию, подглядыванию и вынюхиванию. К схватке с такими существами я был готов еще тогда, когда лишь направлялся сюда.
Выкуплю!
Выманю!
Отберу!
Эти заклинания последней минуты я произносил, пролетая сквозь заброшенную теплицу, и в моей душе уже теплились очертания некоего плана. Раз в сторожке кто-то есть, глупо делать вид, что я этого не знаю. Надо объявить этому человеку, что он раскрыт, и постараться вступить с ним в контакт. Разведать для начала, что он знает о предмете, найденном возле теплицы. А если он откажется говорить? Когда откажется, тогда и станем думать, о чем думать дальше.
Ничего себе!
Неожиданности продолжаются!
Рядом с Марусей, которая, выполняя мой план, неловко гладила поцарапанный почтовый ящик, стоял Леонид.
12
– Про Женю я хотел узнать.
– Что именно? Только учти, я о нем мало что знаю. Романа у меня с ним не было, как-то все случай для случки не подворачивался. О, это она, заразная дядькина страсть к окаламбуриванию всего на свете. И не хотела я говорить ничего плохого, а слова сами заставляют.
– Где ты его высадила?
Помрачнев внезапно, Вероника еще добавила газку. О прежнем стороже ей говорить явно не хотелось.
– Это что, секрет?
– Да никакой не секрет, сейчас покажу. Вон видишь?
– Что?
– Ресторан «Хрустальный».
– Да, вижу.
– Так вот это было не там. А было это…
Выехали на мост, начали забираться вверх к Калининскому проспекту.
– Вот здесь.
– А что тут?
– Что хочешь, хочешь «Арбат», хочешь «Лабиринт», хочешь подземный переход.
Вероника явно хотела поскорее отделаться от этой темы.
По проспекту ехали медленно и в полном молчании. Потом долго выруливали и парковались, и по-прежнему без единого звука. Уже захлопнув дверцу, Вероника сказала сухо:
– Ты знаешь, мне кажется, это он убил отца.
– Ерунда, – сказал Леонид, но в голосе его не было настоящей уверенности.
– Нет, знаешь ли, не ерунда.
– Почему ты так решила?
Дернув плечом, Вероника вошла в маленький дворик, охваченный чугунной оградой. Леонид поспешил за ней, выражение лица у него было решительное. Он догнал девушку у входа и схватил за плечо.
– Это еще что такое?
– Раз начала, говори!
По выражению лица Вероники было видно, что сначала она хотела возмутиться, но передумала.
– Только не в дверях.
Они вошли, Вероника поздоровалась с дамой на контроле, как со своей родной бабушкой. Тут же спросила, нет ли в буфете Валерия Борисовича. Контрольная дама сказала, что вроде бы нет.
– Но знаешь, Викочка, минут десять назад я отлучалась в бухгалтерию, может, он и прошмыгнул. Так что ты сходи посмотри сама.
– Непременно так поступлю. Но чуть позже.
Отводя Леонида в левую часть холла к зеленым пуфикам из кожзаменителя, Вероника тихо процедила сквозь зубы:
– Сука!
– Ты о ком?
– Да об этой суке. Поверь, назвать суку сукой – это всего лишь точно.
Они сели.
– Так, значит, ты хотел, чтобы я тебе рассказала, как везла вчера в Москву твоего друга Женю Шевякова.
– Да, очень бы хотелось послушать.
Лицо Леонида было очень серьезным, даже скорее печальным, как у человека, обманутого другом.
Вероника усмехнулась и закурила.
– Он очень психовал. Очень, пару раз чуть не вывалился из машины, нес какую-то ерунду про мумию, про то, что палачами следует делать женщин, мол, у них лучше получается.
– Это все относится к Марусе.
– Да, к этой моей сестричке.
– Такое впечатление, что ты не рада ее появлению на отцовской даче.
Вероника выпустила струю ядовитого дыма.
– Только без жлобских намеков – дача, имущество, страх, что оттяпают новые родственнички. Хотя, конечно, и этого есть чуть, но не в этом суть.
– То, что Шевяков влюблен в твою сестру (Вероника свирепо поморщилась), не секрет. Он мне сам все рассказал в первом же разговоре.
– И что он в этой кукле нашел, ни одному богу не известно. Она как будто под наркозом все время. Не знала, что мужиков возбуждает, такая вот загадочность, тихо переходящая в кретинизм!
– Кого как. Но ты не закончила.
– Да почти закончила. На въезде на Новый Арбат как он заорет, стой, мол, тормози. Я еще раз хочу с нею поговорить! Она, мол, находится под влиянием отца, недавно обретенного, он влияет на нее как крупная личность, но это неестественно. Если с ней поговорить спокойно, по-человечески, ее можно будет в чем-то убедить. В общем, я тебе излагаю намного короче и грамотней, чем это было у него.
– Он был уверен, что Маруся к нему тоже неравнодушна и все дело только во влиянии отца?
Вероника бросила окурок в пепельницу и не попала.
– Не знаю, в чем он был уверен, и папахена моего, естественно, ругать не смел, но виновником считал, кажется, его.
Леонид встал, поднял Вероникин окурок и опустил куда следует. Она нехорошо хихикнула.
– Ну что, пойдем искать непродажного гения Валерия Борисовича?
– Мне надо позвонить.
– Очень надо?
Сторож так на нее посмотрел, что она, больше ни о чем не спрашивая, подошла опять к даме, охранявшей вход.
– Амалия Петровна, очень прошу и умоляю даже, дозвольте этому парубку сделать один звоночек.
Леонид, с трудом улыбнувшись «суке», полез в карман за записной книжкой.
– Я мигом, – сообщила Вероника и поскакала вниз по лестнице, видимо, в буфет.
Разговор, который вел сторож по телефону, со стороны выглядел довольно странно:
– Валенцина, привитанне. А дзе сам? А будзе кахда? Кепска, вельми кепска.
Когда Леонид положил трубку, лицо у него, как нетрудно догадаться, было непросветленное. Он теребил уголком записной книжки свой загнутый книзу ус.
Амалия Петровна рассматривала его с умеренным любопытством. Среднего роста крепкий парень с голубыми глазами, усатый. Трезвый. Что еще можно было о нем сказать? Бывалая женщина не знала, что этот молодой человек ее еще удивит сегодня.
Леонид снова снял трубку. И набрал, судя по всему, тот же номер. На лице Амалии Петровны выразилось легкое неудовольствие. Речь ведь шла только об одном звонке, а не об аннексии служебного телефонного аппарата на весь вечер.
– Слушай, Валь, у меня к тебе есть вопрос, довольно-таки не слишком скромный. Я бы даже сказал, интимного порядка. Да нет, я не сошел с ума. Да, и прекрасно помню, что Миша мой старинный друг. И очень хороший человек.
В этот момент из обследованного буфета появилась Вероника и стала второй свидетельницей разговора.
– И зря ты о таком подумала. Мне бы и в голову не пришло, странно, как это тебе пришло. Да, я не хочу тебя оскорбить и ни на что не намекаю. У меня к тебе дело.
Леонид произносил фразы отрывисто, быстро, видимо, в те паузы, что появлялись в речи собеседницы. С той стороны провода по нему били прямой наводкой и все время попадали.
– Правда дело! Клянусь! Поклялся бы детьми, да нет. Ну успокойся. Что мы будем из-за двух неудачных слов делать проблему? Успокаиваешься? Слава богу. Что я хотел спросить? Успокоилась? Полностью? Спрашиваю. Давно вы последний раз спали с Мишиком? Как спали? Ну, как муж с женой, как мужчина с женщиной!
На том конце, видимо, бросили трубку. Лоб сторожа был усыпан потом, нижняя губа закушена, в глазах загоралась тихим пламенем покорность судьбе.
Амалия Петровна двумя пальцами деликатно пододвинула к нему аппарат по стеклу, покрывавшему ее стол.
Искоса, но благодарно улыбнувшись ей, Леонид решительно покашлял в кулак и начал вновь накручивать диск.
– Только не бросай трубку, это опять я. Я не лезу в твою личную жизнь, я… А, так, значит, поняла, ну наконец-то! Умница, Валя, именно это я и имел в виду. Какая же ты молодец! То есть спали вы с ним на восьмой день. Все понял. Ты меня выручила. Все, да нет, нет, тут неудобно говорить. Целую… вернее… короче, до видзення.
Обе женщины, и молодая, и пожилая, бывшие свидетельницами этого разговора, смотрели на Леонида с любопытством. Поблагодарив пожилую, сторож обратился к молодой.
– Ну что?
– Ты у меня спрашиваешь?
– Дядечки твоего здесь нет?
– A-а, нет. И никого из постоянных собутыльников. Рано. Даже пьющие журналисты еще на работе.
– Что будем делать?
– Пойдем отсюда. До свидания, Амалия Петровна.
Вышли в огороженный дворик. Направились к воротам. И вдруг Вероника схватила Леонида за рукав и потащила в сторону, шепча при этом:
– Прикрой меня.
Не понимая, что происходит, Леонид выполнил ее просьбу. Встал у ограды лицом к воротам так, что за его спиной образовалось небольшое, просматриваемое пространство. Жадно, но одновременно сдержанно глядя по сторонам, он пытался определить, кого это так испугалась его лихая спутница.
И тут в ворота вошел Валерий Борисович. В дорогом клетчатом пиджаке, роскошных брюках и туфлях; высочайший заграничный класс его экипировки не вызывал никакого сомнения. К тому же дядя Вероники был гладко выбрит, тщательно подстрижен и благоухал самым породистым одеколоном, который только можно было себе представить.
Валерий Борисович вальяжно проследовал мимо Леонида, не посчитав нужным обратить взор в его сторону. В голове белоруса, надо полагать, была полная каша. Что можно было подумать в такой ситуации? Что Валерий Борисович, зарезав мужа своей сестры и украв его ценнейшую рукопись, уже успел ее выгодно продать, успел к тому же протрезветь в какой-нибудь сауне, одеться и поодеколониться как фирмач и теперь не желает узнавать своих старых знакомых. Можно было подумать и вот еще что…
Вероника дернула Леонида за руку.
– Бежим.
И рванула к машине.
Леонид последовал за нею. Он выглядел как человек, сбитый с толку, что и соответствовало действительности.
Вероника взнуздала свою развалюху и погнала в сторону Никитских ворот.
– Послушай, что происходит? Мы же его искали. И ты, и я. Почему удираем? И где он так нарядился?
13
Эта отвратительная черная болониевая куртка, резиновые сапоги, синяя вязаная шапка на голове. Обманул, притворился уехавшим, а сам…
Размышлять далее у меня не было времени, я заклекотал, как хищная птица, и рванулся к воротам. Не глядя под ноги. Зацепился за цветочную кочку и рухнул лицом вниз. Искололся, кажется, до крови. Но не исколотая же физиономия меня остановит! Вскочил на ноги и увидел следующий кадр сумасшедшего фильма: Леонид убегает по улице в сторону железнодорожной станции. Нырнет в электричку и растворится в Москве!
Этого нельзя было допустить.
Перейдя с клекота на рычание, я ринулся за ним.
Эта идиотка Маруся продолжала выполнять задание у почтового ящика. Стояла в проеме калитки, невольно загораживая мне дорогу.
Я с ходу врезался в нее. Но это все равно, если бы дятел врезался в корову. Маруся только слегка ойкнула.
– Куда он побежал?! – рявкнул я на нее, сам не зная зачем. И тут она задала мне вопрос, сбивший меня с толку начисто:
– Кто?
– Ты что, никого здесь не видела?
И моя кареглазая соратница медленно помотала красивой, но не слишком разумной головой.
Ах, она, видите ли, никого не видела! Что это, крайняя степень идиотизма или элементарное предательство?
Выяснять было некогда.
Неопределенно завывая, я выбежал на дорогу. Убегающий Леонид был метрах в сорока-пятидесяти. И продолжал работать ногами изо всех сил. До станции будет поболе километра, а то и все полтора. Если этот белорусский олимпиец не сбавит скорость… Мне бы только зацепиться за него одним пальцем, и я мгновенно докажу, что в некоторые моменты жизни хорошим каратистом быть предпочтительнее, чем мастером на все руки.
Свернул!
Потеряв его из поля зрения, я застонал. Мне показалось, что я его уже потерял навсегда. Добежав до поворота, я убедился, что еще не потерял, но, судя по всему, теряю. Разрыв между нами вырос раза в два.
Спасти меня могло только чудо. Но, несмотря на мои отчаянные, хоть и немые молитвы, никакого чуда не случалось.
Пустые улицы.
Старуха с ведрами. С пустыми.
Собака пробежала.
Леонид опять свернул. Сейчас перепрыгнет через какой-нибудь забор, и все!
Добравшись до этого поворота, я понял, что на моей стороне если не чудо, то везение.
Во-первых, Леонид ни через какой забор перепрыгивать не стал, он продолжал тупо бежать к станции.
Во-вторых, судьба послала мне велосипед. Правда, на нем в данный момент сидел какой-то старикан и висела сетка с пустыми бутылками. Но это мелочи. Я замахал руками, пересекая дорогу престарелому велогонщику. Он покорно остановился и полез во внутренний карман рубашки, как будто собирался предъявить мне права. Оказалось, не права, слуховой аппарат. Очень кстати. Свое чудо скоростной техники он удерживал теперь всего лишь одной сухой стариковской рукой.
Одна стариковская рука была на моем пути к успеху.
И я не задумываясь ударил по ней.
От неожиданности у велосипедиста выпал из уха слуховой уже почти вставленный аппарат.
Но велосипед он не отпустил.
Мне пришлось перейти к более жестким действиям. Потом к еще более жестким. Старик оказался живуч, как репейник из «Хаджи-Мурата». Он только шипел в ответ на мои профессиональные выключающие удары, но и не думал выключаться. Эта сцена была отнюдь не немой. Она сопровождалась мелодическим звоном бутылок в сетке.
Наконец я понял, что похитителя велосипедов из меня не получится, и решил оставить старика в покое и бежать дальше, в надежде, что Леонид не окончательно пропал из поля зрения. Но тут я обнаружил, что глухой старик и не думает со мной расставаться, ему мало, что он отстоял свою собственность, он хочет сдать грабителя правосудию. Слава богу, его представителей не было поблизости.
Старик цепко, намертво держал меня за отворот куртки и за ремень, а я упирался ему в грудь и спирепо матерился, в тоскливом отчаянии понимая, что если на этого каленого ветерана не подействовало мое карате, то, особенно учитывая его глухоту, на мат рассчитывать тоже не приходится.
В тот момент, когда я совсем уже решился пустить в ход свои несчастные плохо запломбированные зубы, в переулок въехала черная, официального вида «волга».
Я обрадовался, но при этом заметил, что мой визави обрадовался тоже. Конечно же, он решил, что это едет какой-нибудь представитель властей, а власти не любят преступников, особенно таких ничтожных, как я.
Машина двигалась вальяжно и неторопливо, так что я успел предпринять еще три попытки освободиться. Надо ли говорить, что все они оказались неудачными? Но неожиданно на помощь мне пришел противник. Чтобы обратить высокое внимание на нашу схватку, ему нужно было как минимум освободить одну руку. Вторая рука, очевидно, в нормальной, небоевой жизни отвечавшая за слуховой аппарат, на мгновение разжалась тоже.
Я невольно отпрянул, и отпрянул прямо под колеса автомобиля.
Визг тормозов.
Справедливая ругань водителя.
Хлопающие двери.
Я, несчастный и ничтожный, лежу на ненавистном перелыгинском асфальте, понимая, что коварного белоруса мне теперь уже точно не догнать, что жизнь прошла даром. И вдруг слышу голос над собой:
– Здравствуйте!
Майор Аникеев. Вряд ли еще когда-нибудь появление офицера тайной полиции кого-нибудь так радовало.
Вскочив мгновенно на ноги, я крикнул ему:
– Скорей!
– Он вор! – тоже громко закричал старик, хватая одной рукой меня, другой засовывая себе в ухо растоптанный слуховой аппарат.
– Надо его догнать! Он там, за поворотом! – втолковывал Аникееву я.
– Он грабитель, хватайте его! – настаивал старик, прокусывая рукав моей куртки костяными пальцами.
– Я вас очень прошу, он побежал к станции, он сейчас сбежит, совсем сбежит.
– Кто? – спросил майор.
– Сторож!
– Он не сторож, это я сторож! А он сволочь, пожилого человека…
Этот коллективный шумный бред не мог продолжаться долго. Все-таки Аникеев неплохо был со мною знаком и внял моей просьбе догнать Леонида.
Мы погрузились в машину.
– Куда вы?! – кричал несчастный велогонщик.
– Кто это? – спросил майор.
– Я не знаю. Я попросил у него на пару минут велосипед, чтобы догнать сторожа, а он решил, что я его граблю.
Мы уже ехали.
– А почему сторож убегает от вас?
– Вот это мы сейчас и узнаем.
Не секрет, что машина передвигается быстрее человека, даже такого, который очень хочет убежать.
– Вот он! – закричал я, увидев впереди болониевую куртку. Леонид бежал быстро, но не изо всех сил, и в его беге было что-то уверенное, даже самодовольное. Наверняка он пару раз оглядывался и понял, что от погони оторвался. Он уверенно обгонял каких-то бабок с кошелками, направлявшихся к станции, мальчишек с удочками.
Мы объехали его и затормозили.
Водитель шарил рукою под пиджаком. Неужели достанет пистолет?
Я выскочил из машины первым.
Увидев затормозившую перед ним черную «волгу», Леонид замер. Наш советский человек всегда в таких случаях робеет. Черная «волга» не может ошибаться, и если уж она выбрала тебя, стой смирно и готовься к худшему.
Да, я выскочил первым. Всю короткую дорогу я лихорадочно думал, как мне поступить. Объявить, что именно у меня похитил этот негодяй, было немыслимо. Отберут, конфискуют, испоганят. Была секунда, когда я вообще пожалел, что связался с Аникеевым в этом деле. Но нет, по-другому поступить было нельзя. Сторож бы сбежал, исчез, растворился, и все. А так он, по крайней мере, схвачен. И если самому не лезть с объяснениями, чекисты ни за что не догадаются, что это у него такое в кармане.
Но меня обязательно спросят, что мне было от него надо.
Придумаем что-нибудь.
Итак, я выскочил первым, чтобы успеть шепнуть Леониду – молчи!
Подлетев к нему вплотную, я увидел, что это никакой не Леонид.
– Здравствуй, Женя! – пропел я медленно, чувствуя, что теряю чувство реальности.
14
– Это не Валерий Борисович, а Виталий Борисович, – сказала Вероника.
– Близнец?
– Именно так.
– А почему ты его боишься?
– А ты его видел?
– И что?
– Он зануда.
Леонид пожал плечами.
– По-моему, он просто хорошо одет.
– Зануда, педант и любит учить жить.
– Это, конечно, недостаток.
Вероника мельком глянула на пассажира – не иронически ли он это сказал. Нет, кажется, всерьез.
– Дядя Виталик у нас журналист-международник. В Лондоне торчит. Может, сейчас и не в Лондоне. Я и не знала, что он приехал. Если бы он меня увидел, я бы от него два часа не отделалась. Усадил бы, распрашивать начал, а когда бы о смерти отца узнал, тут уж… В общем, мне не хочется, чтобы он лез в это дело. Кроме того, есть и еще одна причина прятаться от него за широкие спины сторожей.
– Какая?
– Должок.
– Большой?
– Триста фунтов.
– Не похоже, чтобы человек такого типа мог столько дать в долг.
«Форд» свернул с Тверского бульвара на улицу Горького.
– Я придумала серьезный повод, сказала, что мне денежки нужны на лечение.
– Обманула?
– Конечно.
– Но как бы он определил это? Могла же сказать, вот, смотрите, жива-здорова. Вылечилась, мол.
– У меня такая болезнь, что опытному человеку сразу видно, что не вылечилась. А может, и не лечилась.
– Что же это за болезнь?
– Стоп. И так слишком далеко заехали.
– Ладно, останови.
Вероника машину не остановила и повернула направо, к Манежу.
– Я выразилась фигурально.
– Тем не менее нам нужно выяснить отношения.
– Что?! Какие такие отношения?
Леонид смущенно потрогал ус.
– Я выразился неловко. Просто хотел сказать, что неплохо бы нам определиться с тем, что делать дальше.
– А что определяться, будем кататься. Я знаю еще одно место, где можно найти нашего неуловимого Валерия Борисовича, но туда еще ехать рано. Совсем рано. Время надо убивать. Вдвоем его убивать легче, правильно?
– Правильно.
– Ты мне пока расскажешь что-нибудь о себе. А то мы уже вон сколько разъезжаем вместе, и все обо мне, о моих родственниках, о моих делах. Перекос.
– У меня отец не академик и его не убивали.
– Да, если до сих пор не академик, то вряд ли теперь уже станет. А вот что до второго…
Леонид демонстративно кашлянул.
– Обиделся? Зря-я. Ты вообще меня неправильно воспринимаешь. Психованная, поверхностная, эгоистка. Отца не столько любила, сколько доила. А вот любила. Иногда настоящее чувство маскируется. И правильно делает. Над настоящим чувством ведь часто издеваются. Вот и хочется спрятать его, оградить, иногда даже грубостью.
– Это значит, когда мне хамит продавщица, она в меня влюблена?
– Не притворяйся, что ты ничего не понял. У меня есть хороший один знакомый по институту. У его отца рак горла, так этот мой знакомый зовет его «раковая шейка». Казалось бы, цинично. Казалось бы, но поверь, отца он по-настоящему любит и уважает, почку бы ему отдал, если бы у него был рак почки.
– Н-да.
– А иногда бывает так, что отцу уже не поможешь, но можно еще помочь кое-кому другому.
– Кому это?
Вероника резко перестроилась из одного ряда в другой.
– Опять я о себе. Теперь будешь отвечать на мои вопросы. Откуда родом?
– Из Сибири.
– Ты же белорус.
– Не все белорусы живут в Белоруссии. Некоторые уехали в другие части страны. Часть не по своей воле.
– Типа сталинизм, то-се.
– Да, то-се. Родился в Сибири, а в Москву приехал с Могилевщины.
– Какая богатая, какая детальная информация. Может, тогда хотя бы расскажешь, откуда у тебя сыщицкий нюх? Так прямо хвать след и идешь по нему!
Леонид засмеялся.
– Кое-что досталось мне с генами.
– Что, предки чекистами были?
– Скорее партизанами.
– Ах, да, я же с детства помню: «Партизаны, сосны и…».
– И туман. Мы, Филины…
– Филины?
– В Белоруссии много таких фамилий: Крот, Ерш… Так вот, мы, Филины, семья большая, еще с довоенного времени о нас на Могилевщине было слыхать. У меня семь дедов со стороны отца. Во время войны все мои деды и дядья, конечно же, партизанили. И очень по этой части отличились. Так вот, случился однажды во время оккупации такой эпизод. Ранили одного из дедушек моих, Мечислава. Опасно, в живот. Срочно нужна была операция. Но чтобы скрытно по партизанским территориям добраться до госпиталя, нужно было бы петлять дня два. А это смертный приговор раненому. И тогда другой мой дед решил так. Положил раненого на телегу и рванул прямиком, открыто, через деревни, где стояли полицайские гарнизоны. Расчет был на то, что Филина не тронут. Война войною, немцы немцами, а вот с Филинами лучше не связываться. И что же, полицаи сделали вид, что ничего не заметили. Не знаю, объяснил ли я тебе что-нибудь.
– Да, в общем, не слишком много. Ну, партизаны…
– Так вот сейчас я что делаю – партизаню! Причем кругом туман, погуще, чем в песне.
– Значит, ты не веришь мне.
– Не понимаю.
– Я же сказала, что убил Шевяков. Перестань морщиться и ус оставь свой. Мотив же у него был, и он сам сказал, что собирается вернуться на дачу. Подозрительно.
– Знаешь, если посмотреть на эту ситуацию внимательно, то все, буквально все выглядит подозрительным.
– Слова.
– Почему слова? Подозрительно, что твой дядя Виталий Борисович так внезапно, без предупреждения приехал в Москву из-за пределов. Он знал о работах отца?
– В общих чертах.
– Человек грамотный, он не мог не понимать их ценность. Навел среди западных издателей справки, сколько это может стоить. Оказалось очень много, Советский Союз там сейчас бешено популярен. Связался с братом и…
– Дурак, они не разговаривают уже лет пятнадцать. Дядя Виталя презирает дядю Валеру, а дядя Валера в ответ его еще больше презирает.
– Тогда хочешь еще один подозрительный момент?
Вероника поощрительно промычала в ответ, одновременно склоняясь над баранкой, чтобы лучше разглядеть огни светофора.
– Хозяин дома по улице Крузенштерна, дом девять.
Сказанное было так неожиданно для хозяйки, что даже ее машина заглохла.
– При чем здесь хозяин дома по улице Крузенштерна?
– А он носит тельняшку.
– Ну и что?!
– А то, что твоего отца убили кортиком.
– В Москве, наверно, миллион мужиков носит тельняшки.
– Во-первых, в Перелыгино живет народу значительно меньше миллиона, кроме того, не ко всем носящим тельняшку на следующий день после убийства Модеста Анатольевича Петухова заезжает дочь убитого. И покидает его со скандалом.
– Так ты, значит… партизанил за мной?
– Я вообще партизанил по округе. Зашел на квартиру к Валерию Борисовичу, не застал его там, а застал какую-то старушку, она чистила картошку.
– Какая там может быть старушка?
– Такая седая, черт ее знает. Потом, когда шел обратно, случайно, но в известном смысле и не случайно, увидел, как ты…
– И ты решил, что это мой любовник-моряк, которого я подговорила зарезать моего отца. А тот обязательно по-моряцки, с кортиком. Это даже не дичь, это…
– Вот именно что дичь. Но такая же дичь – подозревать в убийстве Женю Шевякова.
Вероника сняла руки с баранки и сделала ими движение, как будто что-то отбрасывала от себя. Видимо, свою версию.
– А, ладно, как хочешь.
– Кроме того, я успел проверить, что это не он.
– Это когда же?
– В Доме журналистов.
– По телефону?
– Да.
Водительница захохотала. Хрипло, как застарелый курильщик.
– Верю. Верю полностью и до конца. Я слышала этот разговор и могу присягнуть, что после такого разговора не может быть никаких сомнений в том, что Женя Шевяков должен быть признан невиновным.
Леонид ничего не сказал в ответ.
Некоторое время ехали молча.
Но быстро.
По виду зданий, мелькавших за окнами, можно было сказать, что далеко уже не центр.
– Что, сейчас опять потребуешь, чтобы я остановилась?
– Я не обиделся, а задумался.
– У тебя это выглядит одинаково.
– Не знал.
– Тогда, может, скажешь, кому звонил из Домжура?
– Мише Лямурчику, Михаилу Юрьевичу, специалисту по французской литературе восемнадцатого века, а разговаривал с его женой Валенциной. У меня к тебе тоже есть вопрос.
– Спрашивай свой вопрос.
– Этот матрос действительно твой любовник?
– Тебе это важно знать как партизану или как мужчине?
– Не хочешь говорить, но это сейчас и не важно.
– А что важно?
– Где мы сейчас находимся?
– По-моему, где-то на Профсоюзной.
– Не может быть!
– Почему?
– Потому что это как раз то, что нам нужно.
15
Я, как обычно, усадил Марусю напротив себя и ввел ее в состояние благодатной прострации. Против ожиданий, довольно легко. Расследование темных мест в ее поведении в момент бегства мнимого сторожа я решил оставить до лучших времен. Любой бунт надо гасить в зародыше. Это правильно с педагогической точки зрения, но в данном случае немыслимо с тактической. Какое проникающее влияние на ее ментальное ядро я мог бы осуществить, зная, что майор Аникеев в каких-то пяти шагах от нас на веранде ведет допрос быстроногого аспиранта?
Мир обрушился на нас всеми своими силами со всех наших сторон. Мы утратили реликвию, и мы в когтях обстоятельств. Оставалось только надеяться, что второе случайно, а первое поправимо. Надеяться – значит готовиться.
Глядя открыто в лицо создавшейся ситуации, надо было признать, что после беседы майора с Шевяковым под ударом окажется самое слабое звено моего витиеватого, но почти удавшегося замысла.
Маруся!
Влюбленный негодяй Шевяков, сбитый с толку черной «волгой», погоней, удостоверением майора, способен только к одному – чтобы так прямо и вывалить перед следователем все, что ему известно.
А что ему известно?
Для начала, конечно же, он должен будет объяснить, что он делал в сторожке и когда там появился.
Потом, почему убегал?
Почему был одет в чужую одежду?
Какова настоящая причина этих нелепых действий, только одному Богу известно. А вот что будет плести этот кретин, приблизительно представить можно.
Он заявит, что он влюблен в Марусю, в дочь убитого Модеста Анатольевича Петухова. Скажет, что увидел ее всего два месяца назад. Добавит, что, начав ухаживать за миловидною девушкой, вначале почувствовал с ее стороны некое встречное движение. Но с какого-то момента Маруся резко, пугающе резко изменилась. Настоятельно попросила его уехать. Не давая никаких объяснений или давая дурацкие, на его взгляд, объяснения. Ну, тут уж я сам виноват, надо было придумать что-нибудь поубедительней, чем жертвенное дочернее желание отдаться ухаживанию за обретенным отцом. Аникеев тут же возьмет на заметку тот факт, что Маруся появилась на даче всего два месяца назад. И уже с этого момента все окажется под угрозой.
Я тихо зарычал, но моя соратница осталась на поляне своей белоснежной безмятежности. И мне на секунду показалось, только на секунду, что все обойдется.
Само собой.
Вот так ощущение собственной абсолютной власти над другим человеком искажает картину реальности. Заставляет надеяться на то, на что надеяться глупо и опасно.
Ведь майор продолжает беседовать с аспирантом. И аспирант рассказывает ему, что не поверил в объяснения той, в которую был влюблен. Поначалу обида и оскорбленная гордость заставили его уехать, но, оказавшись вдалеке от нее, понял, что история не может так завершиться. Нужен по крайней мере еще один разговор.
Разговор без свидетелей.
Один на один.
У него все время было ощущение, что Маруся находится под чьим-то как бы гипнотическим влиянием. Кого-то конкретно обвинить в этом он не мог и решил одним простым и решительным приемом отсечь всех.
Поэтому он явился ночью, тайно.
И снова из моего горла вырвалось тихое скорбное рычание.
Господи, только дойдя до этого места в своих собственных фантастических рассуждениях, я понял, кто тогда заглядывал ночью в окно Маруси.
Но тогда…
Он видел все!
Остается что? Остается надеяться на то, что он не все захочет рассказать. Я мысленно расхохотался. На что я, ничтожный, надеюсь?! На ум и благоразумие человека, которого сам же презираю до глубины души!
Более того, даже если Шевяков чего-то там не рассмотрел в комнате Маруси или по каким-то причинам решил похоронить на дне души самые радиоактивные отходы, у Аникеева от его душещипательных любовных историй уже полностью открылись профессиональные глаза. Он уже сообразил, какую совершил ошибку утром, перекинувшись всего лишь несколькими словами с младшей дочерью Модеста Анатольевича. Он уже клянет себя за то, что поверил в ее сказку о том, как она мирно спала у себя в девственной кроватке, пока по дому бегали мужики с ножами.
Меня прошиб пот, а потом пробрал озноб. Должно было быть наоборот, но у меня сегодня все не как у людей.
Оставалось, судя по всему, только ждать, когда именно раздастся деликатный стук в дверь.
Нет, сначала я услышу шаги.
Я внимательно посмотрел на Марусю. Она находилась в том состоянии, когда человек плывет и летит одновременно. И при этом остро и радостно ощущает, что поступает правильно.
Что же делать?!
Уйти к себе? Обо мне ведь глупый аспирант не знает ничего определенного. Ведь не меня, а Модеста Анатольевича он видел в комнате Маруси этой ночью. Под чьим влиянием, стало быть, находится эта дева? Так что, когда придут за ней, я еще некоторое время буду как бы ни при чем.
Я улыбнулся, и мысленно, и губами, в ответ на эту наивную мысль.
Да, я сейчас отделен от их бессмысленного и беспощадного следствия, но слишком тонкой переборкой. Тончайшей. И роль этой переборки выполняет сознание Маруси. Сейчас оно замутнено и поэтому служит защитой достаточно надежной. Но у товарища майора найдется чем протереть это стекло.
Но если сделать его мутным навеки?
Самое интересное, что, подумав это, я не содрогнулся. Вот до чего дошло.
Но по моей ли вине?!
Не виноват ли в большей степени грабитель, похитивший чужое сокровище, чем тот, кто при попытке его вернуть преступает человеческий закон?
Всего лишь человеческий.
И тут раздались шаги по коридору.
Я тихо произнес освобождающее слово, и Маруся открыла счастливые глаза.
Стук в дверь.
Деликатный. Если вдуматься, в деликатности есть что-то садистское.
– Войдите.
16
– Это здесь! – сказал Леонид.
Вероника лихо вывернула из второго ряда и причалила к указанному месту. И только после этого спросила:
– Что это?
– Институт.
– Никогда бы не подумала.
И никто бы не подумал, оказавшись на ее месте. Потому что остановились они возле булочной.
Леонид сделал энергичный жест рукой, означающий – давай двигай за мной и не болтай! Но Вероника, подходя к дверям булочной, все же поинтересовалась:
– Это что, институт хлеба, да?
Но в булочную они не вошли, а вошли в арку рядом с нею. Из арки – в темноватый неуютный двор, окруженный по периметру ржавеющими «жигулями» и «москвичами». Середина его была занята детской площадкой, состоящей из выеденной на метровую глубину песочницы и железной карусели, навсегда севшей одним боком на мель.
Вероника быстро семенила за Леонидом, вертя головой, видимо, продолжая разыскивать обещанный институт.
За детской площадкой был загадочно гудящий ящик подстанции, за подстанцией забор. Железные прутья, из которых он был составлен, в одном месте были разогнуты каким-то Гераклом. Вероника охотно шмыгнула вслед за сторожем – ей явно нравились путешествия подобного рода – и увидела перед собою низенькое, в две ступеньки, заднее крыльцо.
Рядом с дверью никакой вывески.
– Это, наверно, секретный институт, – прошептала Вероника.
– Археологический, – наконец снизошел Леонид.
– Они что, раскопки прямо здесь во дворе производят? – указывая на вывернутые на асфальт мусорные баки в двух шагах от крыльца, спросила его спутница.
Леонид не счел нужным что-либо отвечать, взял и просто открыл дверь. За дверью оказалась унылая бетонная лестница, уводящая и вверх, и вниз. На ней пахло пылью и, так сказать, рухлядью.
Они отправились вниз, все время наталкиваясь на эту рухлядь. На старые канцелярские столы, отдельно валяющиеся ящики от этих столов, картонные коробки, стулья со вспоротыми сиденьями. Стульев было много. Вероника автоматически начала их считать. Пять, девять, одиннадцать.
Леонид открыл еще одну дверь, и сразу послышались человеческие голоса. Но слышались они издалека, до них надо было еще добраться. А вокруг были металлические стеллажи, как в сельской библиотеке, заставленные коробками, коробами и коробочками.
Двигаясь уверенно и быстро, что говорило о хорошем знакомстве с помещением, Леонид взял Веронику за руку и счел нужным дать какие-то пояснения:
– Здесь Сашка работает, Колесницын.
Видимо, по его мнению, эта сногсшибательная информация должна была успокоить спутницу и настроить на оптимистический лад.
Наконец «библиотека» кончилась, и открылось свободное пространство, ярко освещенное торчащей из потолка на черном проводе голой двухсотсвечовой лампочкой. Основную часть свободного пространства занимал огромный прямоугольный стол, обитый толстой рыжей, а может, и просто грязной клеенкой. На столе навалом лежал всевозможнейший хлам. Не только сугубо археологического характера. Черепки, черепа, железки ископаемого вида и жестянки из соседнего магазина. Ну и, само собой, окурки и бутылки.
Вокруг стола покачивалось с полдюжины примерно тридцатилетних молодых людей. К девяностому году уже полностью исчез из обращения классический тип молодого ученого: борода, свитер, гитара. Участниками этого пьяного сборища могли оказаться и кандидаты наук, и бомжи.
Один из хозяев поливал голову водой из-под крана у раковины в углу.
Увидев новых гостей, половину из которых к тому же составляли молодые привлекательные женщины, пирующие восхищенно и приветственно заорали. Тот, что в этот момент держал голову под краном, выпрямился и повернулся. Сделал он это резко, отчего в сторону стола полетел с его могучей шевелюры веер тяжелых брызг. Это вызвало повторный вопль.
Уже не восхищенный.
– Саня! – воскликнул Леонид и кинулся к нему обниматься.
Вероника с некоторым удивлением смотрела на бурно радующихся мужчин. Кто знает, может, так принято в среде археологов. Люди, возвращаясь из глубины веков, чувствуют, что не виделись очень много лет.
Пока Леонид с Саней о чем-то шептались, молодой ученый в польском джинсовом костюме и с аккуратной бородкой, по всей видимости, местный Арамис, поднялся из-за стола, почти не покачнувшись, и предложил «даме место». А именно свой собственный стул. При этом он пояснил, что они выбросили из «лаборатории» всю негодную мебель, поэтому есть некоторая проблема «с сиденьями».
Посмотрев на «сиденье», которое ей предлагалось, Вероника, наверно, пожалела о том, что ей нельзя выбрать чего-нибудь с лестницы.
Вместе с местом Вероника наследовала и стакан Арамиса. Тот его даже ополоснул портвейном перед вручением. Лень, видимо, было идти до раковины.
Проснулся один из молодых ученых, лежавший лбом на рыжем линолеуме. Он посмотрел на гостью одним, но очень пытливым оком и спросил у друзей:
– Это Филимонова пришла?
Ему никто не ответил.
– Вероника, – сказал Леонид. – Мы на пару минут тут уединимся.
– Хоть на сто пар.
«Кабинет» Колесницына был за дверью, находившейся между стеллажами. Стол, второй стол. Шкаф с шеренгою деловых папок. Два портрета: Ленина и Шлимана.
Леонид снял с плеча сумку, расстегнул и достал оттуда осколок плоского, как доска, камня. С задней, необработанной стороны к нему была прилеплена крохотная бумажная бирка с номером, обработанная сторона была украшена намного богаче.
– Что это, Сань?
Колесницын молчал, сгребая всею пятернею мокрые волосы с глаз.
– Ты видел такое когда-нибудь?
– Где взял?
– Где взял, где взял – купил!
Волосы продолжали мешать Колесницыну.
– Я о таком только слышал.
– Что слышал?
– Эта штука откуда-то с Урала. Где-то между Пермью и не помню чем, еще в шестидесятые годы, по рассказам, учти, всего лишь по рассказам, нашли несколько вертикальных пластин в горах, вот примерно с такими вот пиктограммами. Хотя это и не совсем пиктограммы.
– И что эти значки означают?
Колесницын стащил со лба наиболее длинную прядь и задумчиво пососал, ему явно хотелось пить.
– Что означают?
– Ну да, да, что они означают?
– А я не знаю, занимался кто-нибудь расшифровкой или нет. А потом, как можно заниматься расшифровкой по рассказам? Публикаций на эту тему я не помню. Ни у нас, ни… тут самое интересное вот что.
– Что?
Из соседнего помещения раздался взрыв хохота. Леонид приоткрыл дверь и выглянул.
– Что они там ей показывают?
Выглянул и Колесницын. Арамис демонстрировал Веронике большую плоскую картонную коробку, разбитую на клетки, как для хранения минералов. Он держал на отлете крышку от коробки, покачивался на каблуках и что-то вдохновенно говорил.
– А, – сказал Колесницын, – это золотой статер Александра Македонского. Жора хочет произвести впечатление на твою очкастую.
– Настоящий?
Археолог даже присвистнул, показывая, насколько настоящий у них статер.
– Сорок тысяч фунтов каталожная цена.
Леонид потеребил ус.
– И хранится в такой простой коробке?
– Да. В коробке.
– Грабанут вас когда-нибудь.
– Грабанут, – покорно согласился археолог. Чувствовалось, что сейчас он судит обо всем с позиций вечности.
– Ты что-то начал говорить про камешек.
– А, да. Самое интересное тут – обработка. Явно не новодел, но при этом как глубоко и чисто в камешек врезались. Словно победитовым инструментом. Понимаешь, тот, кто решил бы сейчас морочить голову научной общественности, стал бы специально косить под старину. Это я так, упрощенно, для тебя.
– Спасибо, я понял. Проще не надо.
– Ладно.
– А сейчас многие этим занимаются?
– Чем?
– Ну, морочат научную общественность.
– А, да. Какие-то цепочки находят в каменноугольных пластах. Микрочипы в янтаре. И еще всякая дурь. Ты знаешь, я ведь античник. ты бы привез мне монетку из-под Фанагории, я бы тебе такое рассказал… А это все какая-то муть.
– Н-да.
– Не помог? – участливо спросил Колесницын друга.
– Не слишком.
– А у меня есть идея.
– Выпить?
– Это идея номер два. А идея номер один – позвать Вадика.
– Кто это?
– Я тебе его сейчас покажу.
И показал.
– Видишь?
– Так он же спит.
– Спит-то он спит, но не в научном смысле. Он самый передовой и схватывающий на лету среди нас.
Леонид поморщился, взвесил в руке свою невнятную каменюку, вздохнул.
– Ладно, веди своего Вадика.
Поднятый ото сна, этот интеллектуально мобильный археолог прежде всего еще разок поинтересовался у окружающих, не Филимонову ли привели в лабораторию. Колесницын, будучи почти вдвое крупней его и будучи начальником, сумел настоять на том, чтобы младший научный сотрудник Вадик проследовал в его кабинет.
– Что это? – спросили у пьяного, сунув под нос камень с вроде бы пиктограммами.
– А-а, – обрадовался он, – видел, видел, видел я такие рисуночки.
– Где?
– У одного психа, вернее у знакомого. У него в журнальчике срисовано было. А нашли все это на горе. А называется эта гора Ак… Ак… Ак…
– Он икает? – спросил Леонид.
– Ак – это значит «белый», – укоризненно сказал Вадик, – но дальше забыл. Потом вспомню. Лет семь назад упала там, где не положено, ракета. Полезли искать, забрались, видят – пещера. Спрашивают у местных спили… спили…
– Спелеологов, – подсказал Леонид.
Вадик недоверчиво на него покосился, но принужден был согласиться.
– Вот у них спросили, что это, мол, за гора, и что за пещера? Они говорят, просто гора и просто пещера. Но решили слазить. Как потом разобрались, кусок ракеты двинул как раз по этой горке. Ак…
– По белой-белой горке, – перехватил его Колесницын.
– Отчего внутри горы что-то обвалилось, и пещера оказалась не пещера, а ход наверх, почти к вершине. А там площадка. Какая, не скажу, не видел, но знаю, что очень ровная. Как бы искусственно сделанная. Ясно?
– Более чем, – спокойно, но твердо сказал Леонид. – Можно продолжать.
– Продолжаю. А сбоку, там, где опять гора, там, где площадка кончилась, а гора снова кверху…
Леонид с Колесницыным кивали в такт Вадику, помогая рождаться словам.
– Там тоже была площадка, а правильнее сказать – доска. Два на три метра. Примерно. Под наклоном вверх. Гладкая-гладкая. На этой доске и обнаружились значки такие вот. Точно такие, как на этом камешке. Сама доска эта тоже, говорят, пострадала, куски из нее повырывало. Наверно, взрывом.
Леонид не дал Вадику потерять концентрацию.
– И что дальше?
– А ничего дальше. Поскольку ракету нашли не всю, какие-то секретные куски остались валяться в тайге, или в тундре, я уж и не знаю, все это решили замять, чтоб люди туда не шлялись. Потому что кто ученый, кто сумасшедший, а кто шпион, не разберешь.
– Ну, запрет запретом, а неужели никто не попробовал туда пробраться?
Вадик медленно, но очень сильно рассмеялся, очень его позабавил вопрос гостя.
– Очень многие пробовали, очень. Прямо экспедиции, конечно, неофициально, шли. Прямо тучи Шампольонов. Все срисовали, подробно-подробно.
– И удалось что-то расшифровать?
Вадик вздохнул. Он дошел до края своей информированности и заскучал.
– А может, и расшифровали. У нас ведь какие люди, у нас ведь фанатики. Они что хочешь расшифруют.
– А что этот твой приятель говорит, ну, у которого ты видел срисованные эти вот… рисуночки?
Вадик снова вздохнул.
– А нет никакого приятеля.
– Что значит нет?
– Уехал и пропал.
– Куда уехал?
– На Урал. А Урал-батюшка велик.
Наступило молчание. Леонид кусал губы, он явно получил от этого разговора меньше, чем ожидал, но достаточно для того, чтобы вопрос продолжал его мучить. Колесницын оставил в покое шевелюру, и волосы, предоставленные себе, начали постепенно сползать с холма головы, сильно омрачая облик своего хозяина. Вадик неожиданно занялся своими ногтями, как всякий дельный человек, он уделял им немало внимания.
– У них там вроде секты, такая дурная религия. Куча народу по всей стране верит в эту гору. В Голос Неба. Иногда вполне серьезные дядьки, со степенями. Но больше технари. Археологи вообще по природе циничней. А инженер, как ни странно, верит в чудеса. Настроили срубов, живут, раз в год у них такие наплывы бывают. По тыще человек. Верят, что в один момент кто-то к ним туда прилетит и бесплатно нальет вечного портвейна. И заберет отсюда.
– Куда заберет?
– Этого я не знаю. Да они и сами не очень знают, только верят, что заберут. И пытаются вычислить, когда же он, этот Голос Неба, заговорит. Считается, что на этой доске все и написано, и осталось ждать им совсем немного. Надо только собрать все осколки вместе, тогда тайна откроется.
– Спасибо, – сказал Леонид, пряча камень.
Вадик посмотрел на него неожиданно прозрачным взглядом.
– А вдруг они правы?
– Спасибо, Саня, – обратился не к нему, но к Колесницыну гость.
– Помог? – спросил тот.
– Черт его знает.
– Значит, все-таки помог.
– Надо бежать.
– А идея номер два?
– За рулем.
– Ты что, машину купил?
– С водителем.
Они вышли к «народу».
Веселье было в разгаре.
Арамис рассказывал, как удаляли аденому предстательной железы в Древнем Египте. Вероника слушала, сняв очки. Рассказ был интересный.
– Вероника, нам пора.
Короткая, не слишком бурная сцена расставания. Напоследок Арамис бросил свою последнюю шутку, видимо, имеющую самый большой успех у женщин:
– Вероника, выходите замуж за археолога. Чем старше вы будете становиться, тем он больше будет уделять вам внимания.
– Я вас провожу, – сказал все еще мокрый начальник.
Все трое двинулись к выходу.
Из кабинета вышел опустошенный лекцией Вадик и поинтересовался, почему ушла Филимонова.
Когда друзья обнимались на дорожку, Вероника спросила Колесницына, кто такая эта Филимонова.
Он пожал могучими археологическими плечами.
– Не знаю. И никто не знает. И он, когда протрезвеет, не помнит о ней.
17
– Можно вас на минутку? – сказал Аникеев.
Я вышел вслед за ним, искренне удивляясь тому, что для допроса вызывают меня, а не Марусю. Но слишком уж задумываться на эту тему я не стал. Если в таком поведении майора заключается какая-то профессиональная хитрость, мне ее все равно не понять.
Вышли на веранду.
По приглашению Аникеева (он уже ведет себя здесь как хозяин, что, впрочем, естественно) сели в кресла. Я старался не смотреть в его сторону. Я радовался возможности этого не делать. Так расстреливаемый радуется мешку, надеваемому ему на голову.
Пауза затягивалась.
Пауза становилась невыносимой. Уместно ли мне прервать ее каким-нибудь вопросом?
Каким?
Например, таким: а где же Шевяков?
В самом деле, где?
Удивительным было то, что я не обратил внимания на его отсутствие в первый же момент своего появления на веранде. В данный конкретный момент не было более важного персонажа в драме моих личных обстоятельств. А я весь внутри себя, я близок к состоянию эмоционального коллапса. Это несомненно опасно, с этим надо что-то делать.
Если уже не поздно.
Все, майор заговорил.
– Вы не могли бы попросить эту девушку, Марусю, чтобы она приготовила нам чай? Как-то сыро, вы не находите?
С тем, что на улице сыро, я согласился.
А вот чай!
Что это такое?! А, это он осторожно, не напрямую проверяет, прощупывает, каково состояние Маруси! Хотя чего ему прощупывать? Он может приказать ей явиться сюда на веранду, и все.
– Она не может приготовить чай!
Сказав эту безумную по своей смелости фразу, я посмотрел на Аникеева. Он выглядел очень удивленным.
– Почему? Я не настаиваю, я просто подумал, что если она обычно…
– Вы думали, что она прислуга здесь, а она дочь. – Я дерзил, как преступник, который знает, что будет повешен вне зависимости от его поведения.
Аникеев, извиняясь, поднял руки. Мне этого не хватило, и я добавил:
– К тому же она спит. Очень намаялась за день. И нервные перегрузки тоже. Кроме того, не надо забывать, что она совсем недавно потеряла отца.
Майор кивал, показывая, что ничто человеческое не чуждо представителям его организации. Потом он посмотрел в свой неизменный блокнот и сказал:
– Не возражаете, если я вам задам несколько вопросов?
В другое время мне бы его тон понравился. В нем слышалось искреннее участие по отношению к преданному, работящему секретарю, совсем недавно потерявшему своего шефа.
Я кивнул.
– Хотелось бы узнать, почему вы полчаса назад так яростно преследовали по улицам поселка Шевякова Евгения.
У меня чуть было не сорвалось с языка, что преследовал я не Шевякова Евгения, а Филина Леонида. Но я удержался. Ничего не сказал. Но раз ничего не сказал, следовательно, промолчал.
Тупым концом шариковой ручки майор постучал в центр блокнота.
– Я так и знал.
– Что вы имеете в виду?
– Я знал, что вы не будете отвечать. На этой даче происходит много всего необъяснимого. Вы были пожалуй что единственным человеком, поведение которого казалось мне понятным и естественным, слова которого казались мне внятными и лишенными второго дна. Теперь и вы туда же!
В голосе майора слышалась отчетливая горечь.
– Ну как вы не хотите понять, что это ненормально, когда взрослый образованный человек ни с того ни с сего кидается в погоню за кем-то. Возникает естественный вопрос, почему он это сделал.
Я изо всех сил молчал, чувствуя, что это молчание в мою пользу.
– За что вы вдруг возненавидели Шевякова?
Пришлось отделываться вздохом.
– А хотите знать, как сам Шевяков объясняет ваш поступок, хотите?
Еще бы. Любопытно было очень, но я и в этот раз счел более разумным промолчать.
– Он заявил, что вы гнались за ним с целью отомстить за смерть своего любимого научного руководителя Модеста Анатольевича Петухова.
– Отомстить?!
Аникеев кивнул.
– Он хочет сказать, что я…
– Нет, он хочет сказать, что он убил академика и вашего научного руководителя, а вы бросились на него, чтобы отомстить ему за это.
18
– Нам не пора наведаться к дому журналистов?
Вероника посмотрела на часы.
– Мало еще убили времени. Есть еще один абсолютно никому не нужный час.
Леонид полез во внутренний карман куртки, достал пухлую, растрепанную записную книжку.
– Как у провинциального импрессарио.
– Что? – невнимательно спросил сторож, роясь в ветхих недрах крохотного гроссбуха.
– Я хотела спросить, ты не работал прежде по снабжению?
– Обижаешь.
– Обижаю. Специально. Хочу задеть. Зацепить. Лишить душевного равновесия.
– Зачем? – искренне удивился Леонид.
– Ты недостаточно обращаешь на меня внимание.
– Нет, нет, достаточно, для этого этапа, мне кажется, вполне достаточно.
– Какого этапа?
– Нашел! Заводи свою тележку.
– У тебя и такой нет.
Леонид отчеркнул ногтем какую-то запись в книжке.
– Теперь не потеряется. Представляешь, сегодня утром записал и найти не могу. Записываю подряд, а получается хаотически, парадокс.
Вероника уже выруливала на середину реки.
– Заведи себе книжку с алфавитом.
– Совет гениальный, только все эти записи придется в книжку с алфавитом переносить, это все равно что «Капитал» от руки переписать.
– Так что ты там нашел и куда едем?
– Нашел адрес Барсукова, и мы едем по этому адресу.
– Где это?
– На Беговой, подъедем ближе, покажу.
Утренний час пик был давно позади, до вечернего было еще далеко, поэтому машина Вероники пересекала Москву в отличном темпе, почти не встречая препятствий в виде пробок и прочего в том же роде.
– А откуда у тебя мог оказаться адрес Барсукова? – с пятнадцатиминутным замедлением спросила Вероника.
– А что тут такого?
– У меня, например, его нет.
– А почему он у тебя должен быть?
– Они с отцом старые знакомые. Друзьями, конечно, не назовешь, но приятелями назовешь.
– По тому, что наблюдал вчера на веранде, это трудно себе представить.
– А что произошло вчера на веранде?
Леонид красочно, во всех деталях описал события вчерашнего вечера.
– Что происходило ночью внутри дома, извини, наблюдать не пришлось. А утром выяснилось, что господин с бакенбардами бесследно исчез.
– Оставив при этом адрес?
– Адрес мне дал Женя.
– А он каким боком относится к Арсению Савельевичу?
– Пару раз ездил с письмами к нему на квартиру за время своей службы у твоего отца. Запомнил место. Еще до того как устроиться к Модесту Анатольевичу, я расспрашивал о нем Женю. Часто. Твой отец был мне очень интересен, и как ученый, и как личность.
– Мерси, – ехидно сказала Вероника.
– Сегодня утром я, конечно же, все, что мог вспомнить, записал. К этому моменту уже было известно об убийстве Модеста Анатольевича, и любая информация об участниках события становилась ценной.
– Так ты к этим, к археологам, заезжал о нем расспросить, о Барсукове?
Леонид отвернулся и некоторое время смотрел в окно на пробегающие мимо дома.
– Черт его знает. Не исключено, что и о нем.
– Не поняла.
– Я советовался с ними по одному поводу, по поводу одной вещицы. По поводу вещицы, найденной мною сегодня утром возле теплицы.
– Когда человек в обычной бытовой ситуации начинает говорить в рифму, это безвкусно.
Леонид продолжал считать дома.
– Я не знаю, к кому эта вещица имеет отношение. Может статься, что и к Барсукову имеет.
– А что это такое?
– Кусок камня.
Вероника вдруг захмыкала тихонько себе под нос.
– Что смешного?
– У папахена можно было найти в его закромах даже кусок дерьма.
– Зачем ты так?
– Правда, правда. Он мне как-то показывал кусок окаменевшего дерьма динозавра. Величиной с батон. Где он только не бывал и чего только не тащил в дом. Знаешь выражение «хрен моржовый»?
– Знаю.
– Он внутри, оказывается, костяной. Сантиметров тридцать высотой, остренький, белый, с дырочками. Можно как статуэтку на полку поставить. У папахена их было штуки три.
В голосе Вероники звучала непонятная гордость. Леонид не стал поддерживать эту тему ввиду излишней ее пикантности. Дочь Модеста Анатольевича ее тоже оставила, но не потому что ей стало неловко, а потому что тема была исчерпана.
– А как твой отец с ним познакомился?
– С Барсуковым? Старая история. И познакомился он не с ним, а с его учителем, доктором Креером. Не слыхал? Ну, бальзам Креера? Дело химического факультета?
– О бальзаме Караваева слыхал.
– Ты еще скажи, что про Чумака слыхал или про Кашпировского.
– Так ты считаешь…
– Это они считают. Копеечку к копеечке. А Креер из Крыма.
Леонид кивнул, как будто тем, что упомянутый доктор происходил из Крымской области, снимались все вопросы.
– Не помню, где он жил, то ли в Феодосии, то ли в Евпатории. Лет двадцать назад отец ездил лечить к нему простатит. Они разговорились, познакомились, сблизились, как это часто бывает между двумя умными людьми.
– Бывает и наоборот.
– Отец стал навещать его каждый год. Оказалось, Креер не просто провинциальный доктор, а настоящий медицинский гений. Он и с травами экспериментировал, и с грязями, и с атмосферным электричеством. И много, много всякого. Могу путать, но мне позволительно, я и в своих-то рыбах разбираюсь не так чтобы очень.
У доктора имелась в санатории, где он работал, целая лаборатория, но неофициальная. Образование у него было всего лишь высшее, санаторию никакая научная единица не полагалась, и держался он лишь тем, что клиентура его была очень солидная. Такой полу-знахарь, полумедик. Отец не раз ему предлагал, перебирайся, мол, в Москву, устрою. Это когда уже академиком стал. Но доктор Креер всегда со смехом отказывался, мне, говорил, и здесь хорошо. Ему и правда было в Крыму хорошо. Он там был богач и король в своей области. Он даже, наоборот, маскировался. Просил, чтобы о нем в столицах рассказывали поменьше.
– Очень нетипичное поведение для врача. Я слышал, что Гиппократ, например, путешественников лечил вообще бесплатно. Он рассчитывал, что они отправятся дальше и разнесут о нем весть.
Вероника на секунду задумалась, потом резко повернула налево. И тут же сообщила:
– По-моему, глупость. Чего он мог добиться этим? Я имею в виду Гиппократа. Разузнав о хорошем и особенно бесплатном враче, к нему хлынули бы тысячи. Причем все представлялись бы путешественниками. Ему пришлось бы пахать с утра до вечера за спасибо.
Леонид, видимо, представил, потому что брови его резко поднялись.
– Ты куда? Кирпич!
– Так короче. Ну бог с ним, с Гиппократом. Не знаю, достаточно ли яркими красками я обрисовала тебе загадочного доктора Креера, осталось добавить, что при нем то ли ассистентом, то ли почитателем естественнонаучного таланта был наш Арсений Савельевич Барсуков. Он, между прочим, кандидат химических наук, а теперь не исключено, что и доктор. Но не Креер. Он просто преклонялся перед своим бездипломным шефом.
– Скорей всего, тот просто давал ему заработать больше, чем платило государство.
– Банальную ерунду сказал. Арсений Савельевич человек страстный. Мерзкое слово – пытливый, но вот Барсуков именно пытливый человек. Готов жизнь положить ради великого открытия. Такие во времена темного Средневековья занимались поисками эликсира бессмертия. Он человек инквизиторского темперамента.
– Этот Креер сейчас жив?
– Лет пять как умер. На девяностом году, кстати. На восемьдесят втором зачал последнего ребенка.
– Такому специалисту сам Бог велел.
– Был такой случай лет пятнадцать назад. Отец как раз отдыхал в Крыму. Или лечился. Он любил в одиночку забрести в горы дня на два, на три так, со спальным мешком и рюкзаком яблок. Лучший способ расправиться с лишним весом.
– Не похоже, чтобы у Модеста Анатольевича были проблемы с лишним весом.
– Их не было, потому что он постоянно занимался их решением. В последнее время начал голодать по методу Николаева по десять дней раз в полгода. Так вот, забрел в горы, свалился с камня, сломал обе ноги. Что получилось?
– Не знаю.
– Мересьев. Полз он, полз по колючкам, метров триста прополз, не больше. Понял, что хана. Кричать бесполезно – сам выбирал для прогулок места поглуше.
Вероника совершила короткий двойной обгон.
– Нашли его на третий день. Он поджег зажигалкой отдельно стоящее дерево. Короче, ноги были уже плохие. Нагнаивалось. Он потребовал, чтобы его везли к Крееру. А у того урология, санаторий, никаких операционных, какие могут быть переломы! Его положили в палату к мальчику, который помирал от какой-то кровяной болезни. Не буду больше тебя мучить – доктор Креер спас академика Петухова. Через две недели он уже ходил. Но не это самое интересное, переломы, в конце концов, были закрытые. Главное, доктор спас и этого мальчика с лейкемией. Вернее, от лейкемии.
– И кандидат химических наук Барсуков при всем этом присутствовал?
– О, сечешь. Насчет ног Барсуков удивился не сильно, а вот мальчик его сразил. После этого он и уверовал в своего шефа.
– Вот в эту арку, так мне представляется.
– Раньше надо говорить! Как я теперь перестроюсь?!
– Постарайся, а то Горбачев накажет.
Вероника очень постаралась, сумела-таки вырулить и в указанную арку въехала. Леонид вышел из машины, огляделся. Сообщил спутнице:
– Здесь.
– Ты уверен?
– Да, вон детский сад…
– А там женщина курила, да?
– Выходи, сейчас мы выясним, в каком он жил подъезде.
– У кого?
Сначала они остановили девочку с собакой, долго и старательно описывали ей Арсения Савельевича, она понимающе кивала, а потом заявила, что живет в соседнем дворе и никого из этого двора не знает.
– Вот к кому нам надо, – сказала Вероника, показывая в сторону одного из подъездов. Там стояла пара скамеек с полудюжиной бабулек. Они что-то оживленно обсуждали. Вероятнее всего, «Рабыню Изауру». Оказалось, нет, речь шла о Ельцине. Седая, сухенькая старушка интеллигентно-затрапезного вида говорила, что именно на Бориса Николаевича вся надежда, только он может сломать хребет партократам и дать народу настоящую жизнь. Собеседницы вяло кивали, кажется, не вполне разделяя эту убежденность, но и не решаясь активно выступить против. Одна только не удержалась и сказала, что все же доверяет Михаилу Сергеевичу, он-де хороший, только ему не все сообщают. Мнение основной массы было скрыто помалкиванием.
– Извините, – сказал Леонид.
Все старушки, без различия идейных убеждений, посмотрели на него подозрительно. Народная мудрость – раз извиняется, значит, виноват.
– У меня к вам вопрос.
И он опять начал про бакенбарды Барсукова.
– Не видали такого?
– Может, и видали, – сказала самая толстая.
– А вы родственники? – спросила ельцинистка.
Леонид не успел объяснить, кто они, Вероника тронула его за плечо. Он обернулся и увидел, как в арку въезжают одна за другой две черные «волги».
– Сейчас нам покажут, где живет Арсений Савельевич Барсуков.
Машины остановились у ближайшего к арке подъезда. Из них выскочили четыре молодых человека в серых и бежевых плащах. Никого ни о чем не спрашивая, они вошли в дом.
Вероника обратила внимание, что все без исключения старушки внимательно наблюдают за нею и за ее спутником.
– Пошли отсюда.
19
Так.
Если все это правда, то это подарок судьбы. Почему-то высшие силы решили передать подарок с идиотом. Не будем привередничать.
Но и не будем спешить принимать.
Не могу же я так сразу признаться в том, что верю, будто убийцей является ничтожество аспирант. Я все время вел себя так, словно забыл о его существовании. Уехал он вчера вечером с Вероникой и уехал. Если бы я его подозревал, то должен был бы сообщить о своих подозрениях еще утром, при первом нашем разговоре с майором.
Похоже, мне строят ловушку!
Надо потянуть время.
– А где он сейчас?
Майор недовольно поморщился. Он явно ждал чего-то другого от меня.
– Сидит в машине. Неужели вы думаете, что я поверю человеку, который несет такую чушь?
– Почему чушь?
– Потому что он не может толком рассказать, как именно все произошло, не может назвать точное время совершения убийства, говорит, что был в состоянии чрезвычайного возбуждения. Несчастные, мол, часов не наблюдают. И приводит какие-то чудовищные мотивы.
– А какие именно?
Майор отлистнул назад несколько страниц блокнота.
– Он якобы не может простить Модесту Анатольевичу своего разочарования в нем как в научном авторитете. Он верил в него, как в Бога, а тот якобы лгал ему всю жизнь. Всю научную жизнь. И дальше еще четыре страницы в том же бредовом духе. Это мотив, это причина, ответьте мне?!
Внутри у меня просветлело.
Не до конца, не полностью.
Главная моя печаль еще оставалась печалью, главное дело еще оставалось не сделанным, но в самом ближайшем будущем появился просвет. «Тьма хладная, прилившая к самым носкам моих ног, отступила на две пяди».
– Вы знаете, товарищ майор, мне кажется, вы чуть-чуть легковесно судите об этих предметах.
– О каких предметах?!
Лицо у него сделалось как во время произнесения филиппики в адрес хитрого родственника из Академии общественных наук. Я боялся, как бы он опять не впал в пафос порицания, поэтому притормозил аргументацию.
Он не впал.
Я тихо продолжил:
– Иногда неосторожным словом, ядовитой цитатой, недобросовестной интерпретацией можно нанести человеку науки глубочайшую рану и несмываемое оскорбление. И вызвать его ненависть к себе. Я прекрасно помню, как переживал Модест Анатольевич после каждой безграмотной узколобой нападки какого-нибудь ничтожества Кирилла Корнеева. Мир наук только на первый взгляд кажется очищенным от страстей. Да, академический институт – это не казино, там никто не стреляется, выбежав из лаборатории после неудачного опыта. Азарт там носит другой характер, но он есть, так же как есть вожделение, зависть, привязанность и разочарование.
Мне было интересно, с какого момента он вспомнит, что пару часов назад я говорил совершенно обратное, что ученый может ненавидеть другого ученого, но не в состоянии убить.
– Обманутое доверие – это тоже ведь не просто так. Это тоже почва для гневных обид, мстительных обид. Что вызревает в душе ученого, пусть еще и молодого, но тем не менее потерявшего пять-шесть лет на следование авторитету, на его нынешний взгляд ложному?! Время – единственный капитал ученого. Это только кажется-не сделал сегодня, сделаю завтра. Не сделанное сегодня не будет сделано никогда. Я имею в виду не время вообще, а личное творческое время ученого. Оно ценнее, чем здоровье. Даже здоровье можно поправить, а вот это краткое цветение интеллекта не повторится никогда. Если это цветение не принесло плодов, то это окончательное бесплодие. Не знаю, может быть, где-нибудь в филологии другие законы, там многолетнее механическое накопление знаний может перейти в новое, более высокое качество, естественникам на это надеяться нельзя. Не реализовал себя до тридцати пяти, значит, не реализовал себя. И теперь попытайтесь представить себе, каково понять эту ядовитейшую истину человеку, который еще пять лет назад считал себя гением и, значит, ждал от жизни очень многого. Люди так устроены, что в очень редких случаях обвиняют в своих неудачах себя. Они ищут причину вовне. В данном случае таким виновником всех жизненных и научных неудач мог быть опознан именно Модест Анатольевич.
Майор смотрел на меня грустными темными глазами. И не только на меня, он и внутрь себя смотрел точно так же.
– Значит, вы считаете, что Шевяков не бредил, рассказывая о том, что он убил Модеста Анатольевича?
Тихо, тихо, ворота открыты, но мы в них не пойдем, потопчемся пока у входа.
– Да нет, мне тоже его заявление кажется истерикой. Я лишь пытаюсь размышлять. Почему Шевяков так резко, так внезапно покинул дачу? Со скандалом. Наговорил зверских гадостей Модесту Анатольевичу. Товарищ академик удивленно жаловался мне. Хватаясь за сердце жаловался. Пожилому человеку, знаете ли, тоже не слишком приятно услышать, что он, оказывается, не научный авторитет, а истукан, имитатор, ложный маяк, одряхлевший Калиостро и прочее в том же роде.
Майор заглянул в свои записи. Если он найдет хотя бы одно из этих определений, можно считать, что он мне поверил. Ищет, ищет, перелистнул страницу, о, кажется, нашел.
– Так вот, когда я увидел Шевякова, я, честно говоря, немного потерял контроль над собою. Все эти злобные, ни на чем не основанные обвинения вспомнились мне на фоне смерти Модеста Анатольевича, я… Ну, остальное вы знаете, видели.
Выяснилось, что моросит мелкий дождь. Такой мелкий, что его даже не слышно. Дом на соседнем участке, и так почти неразличимый за штриховкою веток, исчез окончательно. Вновь залоснилась дорожка к воротам. Водитель машины, в которой находился под предварительным арестом убийца Шевяков, выбрался наружу и занялся установкой дворников.
– Да, без чая нам, наверно, не обойтись.
Мы вместе с майором, стараясь не шуметь, «пусть Маруся еще поспит», сходили на кухню и заварили отличный чаек. Я принес из своей комнаты плед и покрывало, мы набросили их на плетеные кресла, после чего наше пребывание на веранде сделалось просто комфортным.
Интересно, когда он уедет?
Как только стал ослабевать страх, жевавший мне внутренности, вернулась способность наблюдать и рассуждать. И мне сразу же показалось странным поведение майора с блокнотом. Судя по всему, он старший в следственной бригаде, которой поручено это путаное дело. Как минимум три человека, находящихся под подозрением (третьим помимо Барсукова и Фила я считал белоруса), бродят неизвестно где, а он сидит за чаем и водит очень длинные, неторопливые беседы.
– Вы знаете, я должен вам честно признаться, что запутался совершенно. И, чувствую, без вашей помощи мне не обойтись.
Майор хрустнул сушкой в кулаке.
Я насторожился. Меня испугала не судьба сушки, но излишняя доверительность интонации. Вслух же я сказал то, что полагалось:
– Я к вашим услугам.
Он прожевал, запил чаем.
– В голове моей, как вы, наверно, догадываетесь, непрерывно комбинируются некие версии. Они возникают, растут, разветвляются, наступает момент, когда мне начинает казаться-вот оно! Именно в этот момент возникает некая новая физическая или психологическая деталь, при попытке встроить ее в уже существующее здание я это здание разрушаю.
Здание так здание, побеседуем как архитектор с архитектором.
– Все дело в фундаменте, – сказал я совершенно серьезно.
Он кивнул.
– Да. Это правильно. А что должно являться фундаментом в нашем здании?
Так и хотелось ответить – «в вашем», но благоразумие возобладало. Я сказал:
– Молчу только потому, что жду продолжения.
– Мне кажется, что лишь разобравшись в том, каким человеком был Модест Анатольевич, можно будет понять, почему его убили. А от выясненного «почему?» лежит, как мне представляется, прямая дорога к ответу на самый главный вопрос – «кто?».
Рассуждал он разумно и собирался идти правильной дорогой, но это не зажигало меня. Все же по-настоящему меня сейчас занимал вопрос – «где?». Где она, моя выстраданная, моя законная добыча?! Знать, где спрятана, было значительно важнее, чем знать, кто украл. Кто бы он ни был, он отдаст мне то, что по праву является моей собственностью.
Дав волю своим несчастным мыслям, я совсем забыл, что майор ждет моего ответа. Я быстро сказал:
– Спрашивайте. Если я буду в состоянии ответить на ваши вопросы, я отвечу.
– Что он был за человек, Модест Анатольевич? Темперамент, привычки, странности.
– Было бы большой наглостью с моей стороны утверждать, что я проник глубоко в эту сложную и мрачную душу. Существует, например, общее мнение, что он был чрезвычайно любвеобилен. Не знаю, за те месяцы, что я провел здесь, его навестили всего две или три дамы, причем я бы не взялся утверждать, что эти визиты носили обязательно интимный, а не, скажем, деловой характер. Две журналистки и парикмахерша.
– Но дети-то по всей стране.
Я позволил себе пошутить:
– Модест Анатольевич всегда уделял много сил и времени изучению демографических проблем, может быть, он был из тех, кто не проводит четкой грани между работой и личной жизнью.
Майор не усмехнулся в ответ на мою шутку. Наверно, она оказалась слишком тонкой. При этом он что-то записал в блокнот. Интересно, что?
– Демографических?
– На прошлой неделе он, частично в моем присутствии, надиктовывал машинистке статью под названием «Демократия, демография и демагогия».
– Что значит «частичном присутствии»?
– Где-то на середине работы меня попросили уйти.
– А, понятно.
– Да, академик не был утомительно деликатным человеком. Да, в последнее время он очень интересовался проблемами народонаселения. Он считал, что самым главным и самым неизученным фактором мировой военной истории является демографический. Он любил повторять: «Война начинается в постели».
– То есть?
– В конечном итоге побеждает та нация, чьи женщины перерожают женщин противника. От него я узнал, что в основе всех наполеоновских завоеваний помимо всех прочих причин лежала громадная численность французского населения. В конце XVIII века французов было чуть ли не двадцать восемь миллионов. В Англии вряд ли было семь миллионов народу, в Испании около того. В России двенадцать-пятнадцать.
– Следуя этой логике, самыми сильными в военном отношении странами должны быть Индия и Китай.
– Модест Анатольевич считал, что Индия и Китай свое еще возьмут, если не в этом веке, так в следующем. Но это так, это лежит на поверхности. А Модест Анатольевич ввел понятие растущего народа. Важно, чтобы народ сам по себе был большой, но еще важнее, чтобы он находился в состоянии роста. Викингов в десятом веке было не слишком много, но у них наблюдалось бешеное воспроизводство, они едва успевали гибнуть. Маленькая Фландрия выступила против громадной Испанской империи, но дело в том, что население Фландрии росло в пять раз быстрее, чем население Испании.
– Фландрия? – устало спросил майор.
В самом деле, одернул я себя, при чем здесь Фландрия?
– Есть пример ближе – чеченцы. Их выслали в сорок четвертом двести тысяч, вернулось четыреста, а теперь их миллион.
Было видно, что чеченцы майору ничуть не ближе гезов, от моей болтовни немного мутит уже, но он терпит. По причинам не вполне мне ясным. Я решил укрупнить проблему.
– Почему такой страх вызывала в девятнадцатом веке Российская империя?
– Почему? – вдруг жадно спросил Аникеев, и глаза его оживились.
– Сто пятьдесят миллионов человек, и народ продолжает плодиться; в любой крестьянской семье восемь, а то и десять детей; бурно растущая промышленность, бурно растущая наука. И все это богатство не где-то за Гималаями, а тут, рядом, почти в сердце Европы. От Варшавы до Парижа дилижанс во времена Николая I шел сорок часов. А теперь что мы наблюдаем?
– Что?
– Дохнем! Русские из демографического лидера сделались народом вполне средним. В Индонезии почти триста миллионов, в Бразилии сто сорок, в Нигерии сто двадцать, в Пакистане каком-нибудь скоро будет сто.
– Так вы считаете, что Россию специально остановили? – вкрадчивым голосом, как бы осторожненько нащупывая идейного союзника, спросил майор.
Я инстинктивно отшатнулся. Куда это я завел наш разговор? Очень боюсь этих бесконечных, бесплоднейших споров о судьбах России.
– Давайте лучше о Модесте Анатольевиче.
Дурак, надо было продолжать в том же духе! Майор человек темный, но увлекающийся. Наверняка брошюрки от общества «Память» почитывает. Мы могли бы с ним часа на два затеряться на просторах родимой истории. Размышляя о том, почему Олег Рязанский не явился на Куликово поле, я нахожусь в большей безопасности, чем когда пытаюсь объяснить, почему я с таким остервенением преследовал переодетого аспиранта.
Но поздно было жалеть о Брусиловском прорыве, о Брестском мире и о пакте Молотова – Риббентропа. Вернемся к нашим барабанам, как сказал бы Ринго Старр.
– Есть много желающих низвести демографическую теорию Модеста Анатольевича до частного случая глобальной теории Льва Гумилева.
Аникеев радостно закивал, услышав знакомое имя. Сейчас, я думаю, не только майоры, но уже и лейтенанты комитета знают, что такое пассионарность, и даже демонстрируют ее по ночам своим женам и подружкам.
– Да, вот еще какую особенность характера Модеста Анатольевича я бы считал необходимым отметить.
Стило майорское замерло.
– Он всегда шел поперек.
– Поперек чего?
– Поперек всего. Не любил устоявшихся, всеми принятых мнений. Бросил как-то такую фразу: «Живы только те города, где сносят памятники!» Нынешняя общественная мораль твердит, что сносить памятники нехорошо, кому бы эти памятники ни были воздвигнуты. Клянут большевиков, смеются над якобинцами. Модест Анатольевич считал, что памятник, не вызывающий желания снести его, – мертв. Город, наполненный такими памятниками, – это музей под открытым небом. В нем и люди становятся эскпонатами. Париж 1789 года был столицей мира, теперь это столица моды, а мода – это искусство обезьян.
Аникеев улыбался, но довольно скептически, даже криво. Видимо, помимо патриотических изданий он почитывает и демократическую прессу. Он еще внутренне стоит за смертную казнь, но вместе с тем не против того, чтобы прошвырнуться по Елисейским полям.
– Что бы еще вам хотелось узнать о Модесте Анатольевиче?
Задумался. Ой как мне становится тревожно, когда он задумывается.
– Вы, насколько я знаю, помогали ему редактировать некий, как это называется, уфологический сборник.
Вот оно!
– Да. И что?
– Ну, хотелось бы узнать, каковы были взгляды академика на эту область науки.
– Вы имеете в виду НЛО, инопланетян и всякое такое?
– Да, всякое такое.
Надо что-то делать. Не будем надеяться, что он случайно набрел на эту тему. Попытаемся свернуть с опасной дорожки, но так, чтобы он не заметил, что мы сворачиваем.
– А знаете, Модест Анатольевич относился с юмором к тем, ну, кто слишком уж был повернут на летающих тарелках. Он любил говорить – ну вот прилетят они, инопланетяне, и окажется, что никакие они не спасители, не сверхсущества, что там у них, на Сириусах, свои проблемы, своя тоска, неудачные браки, какой-нибудь свой алкоголизм. И вообще Модест Анатольевич считал, что вера в инопланетян – это форма массового психоза.
Произнося эти слова, я казался себе ящерицей, которая отбрасывает хвост ради спасения всего остального.
– Массового психоза?
– Да, да, формой психоза, и еще умственным наркотиком. Тут уж я не знаю, у Модеста Анатольевича было весьма оригинальное представление о проблемах наркомании.
Майор посмотрел на меня очень внимательно, и я почувствовал, что в этот момент я ему не нравлюсь, но я не стал останавливаться, я хотел поскорее проскочить опасное место.
– Он считал, что наркотики надо разрешить. Все.
– Что значит – разрешить, и что значит – все?
– Он считал, что наркомания процветает на восемьдесят процентов потому что наркотики дороги и потому что они в моде. Если разрешить их продавать в аптеках по цене аспирина, а то и вообще раздавать даром, разорится мировая наркомафия, а значит, остановится механизм вербовки новых наркоманов. Тех, кто хочет лечиться, нужно лечить, а остальные пусть форсированно умирают, не надо им мешать. Искусственно растягивая жизнь наркомана, мы просто предоставляем ему возможность совершить лишние преступления и совратить новичков.
– А мода?
– Мода? Ах, да. Модно то, что дорого, дорого то, что модно. Модест Анатольевич обожал повторять эту фразу. Он считал, что нужно приравнять героин к бесплатному супу в столовке для нищих, и тема будет закрыта.
Майор, конечно же, все записал, но явно без восхищения перед оригинальностью мысли. В этом чувстве я с ним готов был солидаризироваться. Мне тоже такие идеи казались полуфашистским бредом.
– На всякого мудреца довольно простоты, – сказал мой собеседник.
– Не понял.
– Ирония судьбы заключается в том, что у человека, рассуждающего о наркомании подобным образом, дочь наркоманка. Интересно, к какому разряду он отнес бы Веронику Модестовну, к тем, кого надо лечить, или к тем, кто пусть себе умирает?
20
Откинувшись на спинки сидений, они наблюдали через лобовое стекло «форда» за подъездом, в который вошли четыре человека в плащах. Вероника сдала немного назад, в тень большого железного ящика для строительного мусора, и теперь они не маячили у всех на виду. Их недавние собеседницы-пенсионерки все вшестером устроились на одной скамейке, они сидели теперь как бы в первом ряду зрительного зала, терпеливо ожидая, как развернутся дальнейшие события. Им отлично были видны обе «волги», машина Вероники и дверь подъезда. Мальчишки, затеявшие возню с мячом прямо перед их скамейкой, были сердито удалены в дальний угол двора.
Вероника, держа руки на баранке, продолжала рассказывать о Барсукове:
– Когда доктор Креер умер, после него были обнаружены какие-то записи, тетради. Отец находился там в это время, и директор санатория попросил его разобрать бумаги, как представителя Академии наук, как бы официально. Барсуков тогда лежал с инфарктом и не мог участвовать. Как рассказывал мне папахен, серьезной научной ценности тетради доктора Креера не представляли, но чтение это было весьма забавное.
Это было что-то вроде новой алхимии. Он называл свой метод «медиология». Что это такое, я из объяснений папахена так и не поняла. Доктор Креер имел самые фантастические представления о биологии человека, но меж явными глупостями встречались и поразительно остроумные с медицинской точки зрения мысли. И самое главное, он ведь реально лечил людей. Он ставил на ноги не только импотентов.
– Насколько я понимаю, Модест Анатольевич несколько тетрадей взял себе.
– Только для того, чтобы их не выкинули на помойку.
– А Барсуков?
– Выздоровел, как можно догадаться, и занял место доктора Креера. Лет семь-восемь о нем ничего не было слышно. И вдруг он появляется в Москве. Выходит на отца, начинает требовать, чтобы тот вернул ему пресловутые тетради. Сначала довольно мягко, и отец не стал сильно так уж противиться. Пару раз он отправлял Женю Шевякова сюда с конвертами. Но Барсукову было мало. Он требовал все. В конце концов отцу хотелось сохранить кое-что и для себя, как память о старинном и таком замечательном друге. Барсуков с каждым месяцем все больше мрачнел, приезжал, подолгу о чем-то беседовал с отцом. Тот был с ним крайне терпелив. Я не понимала почему.
– Стой! – Леонид схватил Веронику за руку. – Выходят!
Вышли не шикарные плащи, а два потертых пальто. Коричневое и синее. Еще две пенсионерки. Закрыв дверь, они направились к скамейке. Как много интересного их ждет, им такое сейчас расскажут.
– Арсений Савельевич, как я поняла, продолжал дело крымского доктора. Считал себя главным медиологом страны, а может, и современности. По праву научного наследования он требовал, чтобы папахен отдал ему все докторские записи. Отца заело, он отдал последнюю тетрадь на экспертизу, я уж не помню куда, но в серьезное место, откуда ему черным по белому ответили, что все это околонаучная чушь. Поэтому он с чистой совестью оставил тетрадку у себя. А вот теперь, кажется, выходят!
Вероника не ошиблась.
Тяжелая дверь подъезда распахнулась, как фанерная. Один, второй, третий, четвертый. Выскочили все. И сразу бросились к машине.
Вероника включила зажигание.
– Ты что? – спросил Леонид.
– Судя по поведению, они сейчас поедут не обедать.
«Волги», как две здоровенные вороны, тяжело набирая скорость, потянулись к выездной арке.
– Посмотрим, куда это они.
Леонид явно не ожидал от своей спутницы такой прыти. А прыть была проявлена изрядная. Выскочив из-под дома, Вероника, сотрясая весь скелет своего престарелого авто, пересекла трамвайные пути перед самым носом истошно дребезжащего вагона и уверенно устроилась в кильватер короткой колонне «волг».
– Никогда не думал, что мне придется следить за КГБ, – криво улыбаясь, прокомментировал свои слова сторож.
– Если включат «волдырь», тогда придется трудновато, – поделилась Вероника профессиональными сомнениями.
– А если они нас заметят?
– Эти никогда не смотрят назад, слишком уверены в себе.
Соратники майора Аникеева спешили, но не так, чтобы сверх всякой меры. То есть нарушали не все правила дорожного движения. Вероника работала в поте лица и почти перестала отвечать на вопросы, все ее внимание было занято погоней.
– Неужели уводят из города?!
Нет. Немного не доезжая до кольцевой, черные машины стали сплавляться в правый боковой ряд, что могло означать только одно – готовься к повороту. Вероника поняла намек и вскоре уже ехала по узкой, лениво петляющей асфальтовой ленте. Слева стена молодого веселого березняка, справа – бесконечная шеренга одинаковых железных гаражей.
– Уже близко, – сообщила преследовательница.
Леонид вряд ли понимал, почему она так считает, но не стал высказываться по этому поводу.
Власть берез слева на пару мгновений была взорвана восстанием молодых елок, но потом опять забелело, запестрело, а справа начали возникать приметы огромной старомосковской усадьбы с длиннющими, плавно изгибающимися одноэтажными службами, высокими ажурными воротами, ложноклассическими колоннами на фасаде основного здания.
– Что-то мне это напоминает, – сказал Леонид.
– Старое здание Склифа, – фыркнула Вероника, и она была абсолютно права.
Черные «волги» въехали внутрь. «Форд» прокатил мимо, притормозил, развернулся и занял позицию возле одного из гаражей, как будто он тут дома.
– Пошли, – скомандовала Вероника.
Они выбрались наружу и, стараясь вести себя как можно естественнее (что, как правило, очень бросается в глаза окружающим), направились к воротам.
Не торопясь.
– Если спросят, кто такие, ищем туалет.
На одной из воротных тумб висела вывеска черного стекла. Она была так удачно разбита, что из написанного на ней можно было понять, что за воротами располагается институт, но нельзя было понять, какой именно.
Пока преследователи шевелили губами, пытаясь реконструировать надпись, за воротами раздалось рычание моторов, и прямо на них – едва успели отскочить – из ворот вылетели все те же черные «волги».
Вылетели и улетели вдоль стены березняка.
Вероника растерянно поглядела в сторону своего старого американца. До него было метров сто. Пока добежишь, пока…
Леонид сказал:
– Как они от нас оторвались, а? Сразу видно – профессионалы.
Вероника сплюнула. Она была явно раздосадована.
– Пошли посмотрим, раз приехали.
Усадьба напоминала институт им. Склифосовского не только архитектурой, но и содержанием. Здесь располагалась какая-то больница. О Барсукове тут слышали не все. Только третья встреченная ими женщина в синем халате понимающе кивнула.
– А, Арсений Савельевич, да, конечно, знаю. Где его найти? А вон идите вон к тем белым дверям. – Она махнула биксом, указывая направление.
За белыми дверями они сразу увидели человека в белом халате, он держал в руках раскрытую папку с бумагами, перелистывал их и быстро пробегал глазами, время от времени постанывая. У него за спиной была открытая дверь, в которую можно было рассмотреть очертания лабораторного оборудования. Колбы, жестяные кубы под потолком, батареи пробирок. Даже из самого краткого взгляда на это научное богатство можно было заключить, что оно находится в чрезвычайном беспорядке. Внутри суетились какие-то люди в марлевых масках.
– Здравствуйте, – сказал Леонид, и на него тут же устремился неприязненный взгляд из-под густых спутанных бровей.
– Что еще?!
– Нам бы хотелось поговорить с товарищем Барсуковым.
Человек с папкой растерянно оглянулся, бросился к дверям лаборатории и быстро их прикрыл. Быстро и старательно.
– Что вы тут делаете?!
Ответить гостям он ничего не дал и тут же стал их решительно выпихивать в белые двери. Захлопнутой папкой он действовал как бульдозер щитом.
Оказавшись на улице, Леонид счел необходимым высказаться по поводу того, что происходит:
– Что вы делаете?! Зачем толкаться-то!
Бровастый нисколько не смутился, наоборот, он стал орать:
– Кто вы такие, что вы тут делаете?!
Веронике, видимо, надоело быть беспардонно и без всяких объяснений попираемой, она издала резкий, неприятный крик:
– Яйа! – и ботинком правой ноги врезала по ненавистной папке. Она вылетела из рук бровастого и шлепнулась на край лужи, расположившейся сразу у входа. Заключавшиеся в папке бумаги лениво выползли из нее и потянулись к воде.
Можно было ожидать, что гневливый ученый разозлится еще больше, начнет звать подмогу, может быть, даже вооруженную охрану, но ничего этого он не сделал. Он обреченно присел у края лужи и начал, обреченно шмыгая носом, вызволять из лужи намокающие бумажки.
Вероника и Леонид присели рядом и стали ему помогать, им обоим пришла в голову одна и та же мысль: вдруг эти бумаги заполнены ценными научными данными, вдруг они вообще имеются в единственном экземпляре.
Между людьми, делающими общее дело, неизбежно возникает взаимопонимание. Бровастый легко и быстро рассказал все, что ему известно о Барсукове. Арсений Савельевич интересный, оригинальный ученый, но очень замкнутый, даже можно сказать, странный человек. Говорят, что в последнее время его донимали тяжелейшие семейные проблемы. Но ведь это не повод для того, чтобы крушить лабораторию!
– Барсуков разгромил лабораторию? – спросила Вероника, одним движением снимая и надевая очки.
– Разгромил, – плаксиво сказал бровастый. – Мне кажется, он применял те же приемы, что и вы против меня.
– Не сердитесь, я инстинктивно. Когда на меня прут вот так буром, я за себя не отвечаю.
– А я отвечаю за всю материальную часть. Вот здесь, – ученый потряс папкой, – отражена вся балансовая стоимость. Поверьте, не одна, не одна тысяча рублей.
– Так это бухгалтерия, – презрительно протянула Вероника.
– А вы, я вижу… где ваши удостоверения?
Выяснив отношения, стороны мгновенно потеряли друг к другу всяческий интерес. Леонид напоследок спросил лишь:
– Так Барсукова здесь нет?
Разоренный завлаб прямо-таки прорыдал в ответ:
– Если бы он был здесь, я бы с наслаждением отдал его тем, кто приезжал до вас.
Усевшись за руль, Вероника не спешила трогаться с места. Молчала, растирая лоб указательными пальцами обеих рук. Леонид сидел рядом и тоже молчал. Минуту, две. Потом все-таки нарушил молчание:
– По-моему, Арсений Савельевич добрался до последней тетрадки доктора Креера.
– Это я давно поняла. Пытаюсь вспомнить, что отец говорил на этот счет.
Она снова потерла лоб.
– Нет, не вспомню.
– Тогда поехали.
– Куда?
– Тебе лучше знать.
Вероника посмотрела на часы.
– Никогда бы не подумала, что Арсений Савельевич способен на убийство.
– Ну, если это он, нам беспокоиться нечего, с ним и без нас разберутся. Компетентные органы.
– Ты говоришь так, как будто не рад, что все кончилось.
Леонид удивленно посмотрел на Веронику, подтекст сказанной ею фразы явно был ему непонятен.
Она завела машину и резко рванула с места.
– Куда мы едем?
– Займемся наконец делом, ради которого выбрались сегодня в город.
Очень скоро Леониду стало ясно, что направляются они к центру. И вот уже снова они на Гоголевском бульваре, снова судорожно паркуются.
– Теперь пойдешь ты.
Амалия Петровна встретила его как родного.
– Вам позвонить?
– Нет, я хотел бы узнать, не появился ли здесь Валерий Борисович.
– Сходите посмотрите.
Леонид сходил поблуждал по закоулкам Домжура, но не обнаружил ни Валерия Борисовича, ни его брата Виталия.
– Пусто, – сказал он, сев обратно в машину.
– Что значит пусто?
– Это значит, там нет ни одного из твоих дядьев.
– Говоришь вроде по-русски, а думаешь как белорус.
– Слушай, хватит!
– Нет, не хватит. Сейчас мы заедем еще в одно место.
– Какое?
– Злачное.
Крутнув пару раз рулем, попетляв по пасмурным переулкам, Вероника выскочила на улицу Герцена.
– Тут расположен, чтоб ты знал, сводный брат Домжура. Здесь, вот в этом особнячке, играют в «Что? Где? Когда?», а вот это Дом центральных писателей.
Вероника выскочила из машины такая решительная, а вернулась такая растерянная.
– Облом, – сообщила она, поправляя очки.
– Да сними ты их, уже скоро стемнеет.
– И оба буфета, и ресторан не работают сегодня. Честно сказать, я и не знаю, что теперь делать.
– Значит, сегодня нам не суждено добраться до Валерия Борисовича. Поехали домой.
– А знаешь что, а пошли-ка со мной.
– Куда?
– Мы сейчас обойдем этот домик с тыла. Ты водил меня сегодня по задворкам, должна же я тебе чем-нибудь отплатить. Тем более что это недалеко и неопасно.
Они дошли быстрым шагом до перекрестка, повернули направо, миновали театральный магазин и журнал «Театр». Далее была высокая глухая стена какого-то посольства, потом опять поворот. Порывистой Веронике, видимо, показалось, что путешествие затягивается, шла уже вторая минута его, и она решила развлечь собеседника светским разговором.
– Видишь вон там впереди ступеньки, крыльцо?
– Ну.
– Это вход в масонскую ложу.
– Отлично. Мы туда?
– Теперь там ее нет. Раньше была. Теперь там вход в Дубовый зал.
– Дубовый зал чего?
– Ресторана.
– Масоны, наверно, любят закусить.
Вероника продолжала торопливо делиться ценными сведениями:
– Не знаю как масоны, а Рейган, когда приезжал в Москву, заходил сюда пообедать.
Леонид стал с большим уважением смотреть на здание, к которому они приближались.
– Там была смешная история.
– Рейган напился и стал буянить?
– Ему захотелось в туалет.
– Тоже смешно.
– Вернее, не захотелось, а могло захотеться. А туалет в ресторане только на втором этаже, надо подниматься по лестнице.
– Сделали лифт?
– Нет, поставили передвижной туалет, на первом этаже. И единственным удобным для этого помещением оказалось помещение парткома.
– Погоди, Вероника, почему мы идем мимо, раз здесь так интересно?
– Закрыто же. Нам дальше.
Опять усадьба! Длинный одноэтажный каменный барак. Железные ворота. Ворота заперты, зато открыта калитка.
– Нам сюда.
Посреди обширного усадебного двора, окруженный подковою аккуратно подстриженных кустов, располагался на высоком постаменте сидячий памятник.
– Лев Толстой, – шепнула Вероника.
Внутри живой изгороди, охватывая памятник, стояли длинные садовые скамьи. Каждая из них была оккупирована шумной и, естественно, пьяной компанией. На расстеленных газетах лежали огурцы, порванные в куски батоны, нарезанная колбаса и стояли бутылки. Звучали стихи и матерщина.
– Здесь! – радостно вскрикнула Вероника.
– Лев Толстой – последнее прибежище негодяя, – усмехнулся Леонид.
Валерий Борисович не принадлежал ни к одной компании, он сидел на самом краю самой крайней скамьи и дремал, свесив руки между колен, а голову прислонив к левому плечу. Могло сложиться такое впечатление, что ему за что-то очень стыдно перед людьми, перед жизнью и перед литературой.
Вероника изо всех сил тряхнула его за плечо. Потом еще раз. Он стал просыпаться. Делал он это замедленно и, можно даже сказать, величественно. Наверно, во сне, который снился ему в данный момент, он виделся себе каким-нибудь Шатобрианом.
Леонид обежал взглядом все скамейки и досадливо щелкнул пальцами. Кажется, он всерьез рассчитывал найти здесь загулявшего американца.
Фила Мак Меса, арканзасского издателя, здесь не было. И почему бы ему не пообщаться в неформальной обстановке с современными русскими писателями!
– А-а, – совсем не радостно закричал спросонья Валерий Борисович, – нашла-а!
– Что ты тут делаешь?!
– Я лечусь, – тяжко вздохнул похмельный и непризнанный поэт, – я от жизни смертельно устал.
Вероника резко занесла ладонь. Валерий Борисович чуть откачнулся и прищурил глаз.
– Ты способна ударить брата собственной матери?
На них стали оборачиваться. Вероника наклонилась к самому уху дяди и тихо, но густо выдохнула:
– Где?
– Ой-ой-ой-ой. – Валерий Борисович поднял одну руку, а другою полез во внутренний карман своего жеваного пиджака. Вытащил оттуда растрепанный конверт и кокетливо, двумя пальцами, протянул племяннице. Она, почти не глядя, схватила конверт и сунула в карман джинсов. Но, судя по всему, не конверт был предметом ее особого интереса. Леонид поймал ее взгляд и понял, что ей бы хотелось поговорить с дядей наедине. Он сделал несколько шагов в сторону.
У той скамейки, возле которой он остановился, как раз «банковали». Разливал высоченный пузатый дядька, похожий одновременно на Портоса и Дон-Кихота. Рядом с ним приплясывал на кривоватых ногах невысокий писатель с круглым и добрым лицом, протягивая пластиковый стаканчик, он торопливо шептал: «По чуть-чуть, по чуть-чуть!»
Одетый в кожу мужчина в очках, с аккуратными усиками, обратился к Леониду:
– Вы за Борисычем? Очень хорошо! Он уже никакой. И деньгами швыряется.
Рядом на скамейке пытался занять вертикальное положение еще один творец. Худой, с какой-то утонченно-неандертальской внешностью. Его качало и валило. Он размахивал собой, как флагом. И усиленно двигал мокрым ртом, но не мог ничего произнести. Очкастый тяжело вздохнул, поглядев на него. Чувствовалось, что доставкой этого писателя домой придется заниматься ему.
Вероника между тем продолжала теребить родственника, одновременно выясняя с ним отношения. Леонид честно старался не слушать, о чем они говорят, но несколько слов, произнесенных особенно громко, не могли не долететь до его слуха.
Прежде всего – «ключ». Вероника яростно, неутомимо и въедливо добивалась у дядюшки, куда он его подевал. Он же отговаривался тем, что «взял только половину, как и договаривались». Не половину же ключа. Может быть, «ключ» был не совсем ключ или вовсе не ключ. Какое-то кодовое слово. Чтобы не выдать себя перед посторонними.
Наконец Валерий Борисович что-то понял. Он откинул свою талантливую голову как можно дальше назад, пытаясь и из сидячего положения посмотреть на племянницу сверху вниз.
– Так ты говоришь про ключ?
Вероника аж замурлыкала от ярости.
– А ключа никакого у меня теперь нет. Обыщи. Был одно время, а теперь нет.
– А где он?
– Жизнь не учила меня отвечать на такие вопросы.
Сразу вслед за произнесением этой фразы у Валерия Борисовича возникло нестерпимое желание высморкаться, и он начал принимать положение, удобное для этой операции. Вероника в ярости отвернулась к нему спиной. Она стояла, широко расставив худые джинсовые ноги, явно борясь с приступом гнева.
Но Валерий Борисович не стал сморкаться, обхватив голову руками, он начал читать стихи:
Однажды ночью вороною,
молчанье белое храня,
прекрасный ангел спал со мною
и сделал девушкой меня.
Обманутая племянница резко обернулась к нему, хрустнув каблуками в песке. И увидела перед собою плачущее, беспредельно несчастное лицо.
– Это про меня, про меня! На ее месте должен быть я. Где мой ангел, где мой конь?!
Вероника подтянула живот, развела руки в стороны, явно готовясь повторить прием, примененный против барсуковского бухгалтера.
Слезы Валерия Борисовича мгновенно высохли.
– Ключ я оставил там, где всегда.
– Почему его там нет?
– Ну, это уж ты не у меня спрашивай, это ты у нее, дорогая, спрашивай.
– Она говорит, что не брала.
– Ну, мало ли что она говорит.
– Ты сейчас поедешь со мной.
Валерий Борисович окинул трагическим взором картину вольного пиршества. Ему не хотелось удаляться с этого праздника жизни. Рот у него исказился, как у греческой театральной маски, и руки разметались в просительном жесте.
– Домой, – тихо, но окончательно сказала Вероника, беря его под руку.
Леонид понял, что ему тоже можно подойти.
Он кивнул писателям, снова запустившим бутылку по кругу, и, сделав несколько шагов, подхватил Валерия Борисовича под вторую руку.
Он не сопротивлялся, он позволял себя транспортировать. Медленно перебирая подкашивающимися ногами, он плыл вдоль по улице, улыбаясь приветливо и встречным домам, и своим мыслям. Несмотря на применяемое к нему насилие, он ждал от жизни только хорошего.
– Только бы менты нам не встретились, – пробормотала Вероника, проходя мимо милицейской будки у входа в кипрское посольство. Будка была не пустая.
Расположившись на заднем сиденье, Валерий Борисович растекся по нему, как пьяная медуза.
Тронулись.
Поглядев в зеркало, Леонид увидел, что дядя водителя отнюдь не спит. И задал ему вопрос, вертевшийся у него на языке с самого утра:
– Валерий Борисович, а где Фил? Где наш доблестный американец?
– На кой черт он тебе сдался?! Ну, был он, теперь его нет. Почему ты о нем заботишься? Откуда в тебе, человеке еще не старом, такое низкопоклонство перед Западом, перед всякой иностранщиной?! Гордись, что ты сын своей страны, а она мать тебя. А то – америкаанец! Тьфу!
– Просто интересно знать, куда он подевался. Вы его не видели после прошлого вечера?
– Ну, подевался, что тебе в нем? Ты на меня посмотри! Нет, ты уж посмотри! Перед тобой человек, лишившийся всего, иллюзий, здоровья и даже уважения к себе.
– А американец?
– Американец этот голодранец! – непонятно на каких данных основываясь, заявил Валерий Борисович и заснул.
Они проезжали мимо «Украины». Уже почти совсем стемнело. Загорелись огни большого города. Улицы приобрели незаслуженно праздничный вид.
Вероника ехала быстро, но не сломя голову. Такое было впечатление, что она попутно еще о чем-то напряженно размышляет. Очевидно, тем же самым был занят и ее спутник. Тот, что сидел на переднем сиденье. Обитатель заднего похрапывал, распространяя характерное алкоголическое зловоние. Вероника брезгливо дергала нервным носом. Леонид относился к запаху сзади спокойнее. После «Папарц кветки» ему было ничего не страшно.
Уже почти на выезде из города пришлось остановиться на перекрестке. На это неожиданно отреагировал Валерий Борисович.
– В чем дело?
– Красный свет, – ответил ему Леонид.
Поэт приоткрыл один мутный глаз, присмотрелся к светофору и сделал заявление:
– Не такой уж он и красный.
После этого он снова спокойно захрапел.
Метров через триста после перекрестка Вероника затормозила. По ту сторону Можайского шоссе горели огни огромного гастронома.
– Надо запастись продуктами. А то дома шаром покати.
– Я думаю, в гастрономе положение не лучше.
– А мы пойдем не в гастроном.
Оставив спящего Валерия Борисовича в машине, Вероника привела сторожа к магазину под названием «Дары природы», спрятавшемуся в тени полуоблетевших деревьев. Видимо, Леониду до этого не приходилось пользоваться услугами подобных торговых точек, потому что он ходил по торговому залу с широко открытыми глазами.
Буженина, копченый окорок, колбаски «Охотничьи», сосиски «Микояновские», перепелиные яйца, маринованные маслята, ветчина консервированная югославская, ветчина китайская. И это только малая часть ассортимента.
И впускают не по пропускам.
И народу не слишком много.
Вероника затаривалась по полной программе. Кило буженины, две палки сервелата. Еще какие-то банки, бутылки. Растерянность спутника ее забавляла.
– Почему у тебя вид такой обалдевший? Не можешь понять, что это за заведение? Никакого секрета тут нет, просто цены чуть повыше. Наши люди как устроены, они лучше полдня простоят за сосисками по два семьдесят, вместо того чтобы зайти сюда и купить спокойно по четыре двадцать. Теперешние деньги ведь вообще ничего не стоят, согласись.
Леонид взял из рук Вероники сумку, туго набитую дарами природы.
– Парадокс заключается в том, что деньги ничего не стоят, но их все равно не хватает.
– А может, тебя смущает то, каким образом они у меня появились? – В голосе Вероники проскользнула явно провокационная нотка.
– Как тебе сказать.
– Так и скажи: очень подозрительно выглядела сцена передачи пьяным дядей истеричной племяннице конверта с бабками. Очень это напоминало дележ добычи.
Леонид промолчал.
Они вышли из фантастического магазина.
Вероника остановилась и взяла спутника за ремень сумки, переброшенной через плечо.
– Да, ты правильно догадался. Мы провернули с Валерием Борисовичем некую операцию. Деньги получены за кортик моего деда, адмирала Хорлина. Кортик был продан моему отцу, академику Петухову. Дело в том, что мой отец с огромным уважением относился к своему тестю. Считал его великим флотоводцем и собирал все, что было с ним связано. Всякие предметы, карты, ордена. Кортики. Не знаю, зачем ему это было нужно. Может, мучило чувство вины из-за того, что он захватил его дом. Хотя это маловероятно. Скорей всего что-то коллекционерское. А вероятнее всего, он боялся, что дачу начнут отбирать, и тогда он объявит, что на даче будет дом-музей знаменитого адмирала. Дядя Валера давно уже раскусил страсть папахена и сплавил ему свою часть флотских побрякушек. Когда они закончились, попробовал подобраться к вещам деда, что перевез к себе после смерти деда дядя Виталя. Все это закончилось разрывом, скандалом. Тогда дядя Валера решил обворовывать сестру, вечно запертую по больницам. Моя мамочка очень ревниво относилась к отцовскому наследству, не подпускала. Не подпускала к нему ни отца моего, ни своего брата.
Дядя Валера подговорил меня, и я согласилась. Мне деньги были нужны очень-очень. Вчера я заехала на городскую мамину квартиру, якобы для того, чтобы полить цветы, и утащила морской ножик.
Вероника судорожно закурила.
– Я не слишком подробно излагаю?
– Примерно так я себе все это и представлял.
– Да-а?!
– Нет, сначала я думал, что твой дядя связан с американцем, мне казалось, что именно в этом ключ к разгадке, поэтому так жадно разыскивал Валерия Борисовича с самого утра. Теперь-то я понимаю – ключ в другом.
При слове «ключ» Вероника вдруг неудачно затянулась и чихнула дымом. Леонид постучал ей по спине. Она раздраженно махнула в его сторону рукой, мол, сама разберусь.
Отдышалась.
Вытерла слезы, сняв очки. Опять подожгла сигарету и затянулась.
– Теперь ты хочешь спросить, не этим ли самым кортиком было совершено убийство. Да, этим. Академик Петухов был убит кортиком адмирала Хорлина. Ну, что скажешь?
Леонид неожиданно усмехнулся.
– Ты рассказала мне очень много интересного, но, что забавно, дело от этого ни чуточки не прояснилось.
Вероника сплюнула и сказала:
– Ладно, поехали.
Когда они подошли к машине, то увидели, что на заднем сиденье никого нет.
– Сбежал, – прошептала Вероника.
21
– Тлетворное влияние Запада? – спросил я.
Аникеев кивнул.
– Очень точная фраза. Вероника Модестовна очень контактная девушка. В свое время вращалась в богемных кругах, но заразу эту она подхватила не там. Люди искусства в основном пьют. Непризнанные – портвейн, признанные – коньяк. Года два назад у Вероники Модестовны появился друг. Иностранец. Итальянец.
– Вы тогда уже за ней… – не удержался я. Столько ведь ходит слухов о том, что буквально каждый второй гражданин находится на заметке у органов. Хотелось хоть чайную ложечку достоверной информации получить из первых рук.
Майор засмеялся и помотал головой.
– Никто, конечно, за ней тогда не приглядывал. Приглядывали за другими людьми, заслуживавшими того. Вероника Модестовна попадала в отчеты как часть человеческой обстановки, в которой действовали те, кто был под подозрением. Отметили: симпатичная, идеологически беспринципная, дочь такого-то академика. И все. Таких девиц у нас знаете сколько.
– Сколько? – Вопрос был настолько глупый, что даже майор счел его шуткой. Отхлебнул уже совсем остывшего чаю. Начал перелистывать блокнот, но было уже совсем темно.
– Зажечь свет? – спросил я.
– Не надо.
Было понятно, что он готовится сказать что-то важное. И прикидывает, стоит это делать или нет. Что могут означать эти терзания?
Только одно – он все еще ведет со мной какую-то игру. Не просто так беседует, чтоб убить время, дать прийти в себя взбесившемуся аспиранту Шевякову. Он прощупывает меня. Ведет мягкую, деликатную осаду в надежде, что я сделаю какую-нибудь глупость. Проговорюсь.
Или это все мои фантазии?!
– Знаете, я ведь беседовал с Вероникой Модестовной.
Я не знал, что ответить. Ну правда, не знал. Беседовал? На здоровье. Почему об этом надо сообщать таким сакраментальным тоном?!
– Мы столкнулись у станции. Номер ее машины нам хорошо знаком. Я расспросил ее кое о чем. Надо сказать, ее ответы не вызвали у меня никаких вопросов.
Я продолжал молчать. Хорошо, что стемнело. Возможно, я не вполне в этот момент владею своим лицом.
– Никаких. Вопросы появились после того, как я прослушал пленку.
Господи, еще и пленка какая-то! Зачем пленка?! При чем здесь пленка?!
– Все звонки, поступающие в спецгараж, записываются. Мы оказались здесь потому, что кто-то позвонил в гараж и сказал, что машину для академика Петухова высылать не следует, потому что он убит.
В груди у меня похолодело, но я бы не сказал, что это было неприятное ощущение.
– Послушав запись, я понял, что это голос Вероники Модестовны. Она, конечно, набросила платок на трубку, это изменило тембр и тоновую интонацию, но смысловую интонацию, манеру говорить платком не изменишь. Плюс место, откуда был произведен звонок.
– Откуда?
– Звонок был произведен из поселка Перелыгино.
– С этой дачи?
– Нет. Здесь, как известно, телефон не работал. Но у Вероники Модестовны здесь очень много знакомых.
– Вы нашли, нашли этот телефон?
– Разумеется.
Так. Я взял себя пальцами за предплечья и сдавил. Закрыться, никаких эмоций наружу! О, этот майор опасный тип. Он еще не все выдал, он еще кое-что знает.
Молчит.
Вертит в руках белую безмолвную чашку и молчит. Опять что-то высчитывает?
Надо продолжить разговор, ибо это многозначительное молчание меня убьет.
– А…
– Что?
– А откуда Вероника могла узнать номер этого гаража особого назначения?
22
Чем ближе они подъезжали к дачному поселку, тем медленнее двигалась машина Вероники. Создавалось впечатление, что ей не слишком хочется возвращаться в Перелыгино. Леонида, наоборот, разбирало нетерпение, и ему даже не удавалось этого скрыть. Он ерзал на сиденье, смотрел в окно, за которым была уже почти полная тьма, смотрел на Веронику, которая после водопада откровений у «Даров природы» сделалась сама непроницаемость.
Валерия Борисовича они искали недолго.
Можно сказать, вообще не искали.
Сбежал так сбежал.
Кое-какие вопросы к нему еще оставались, но с ними можно было подождать.
Вероника сбросила скорость километров до сорока в час. Интересно, что это создавало не меньше аварийных переживаний, чем сверхскоростная гонка. Попутные машины сигналили, визжали протекторами, объезжая задумавшуюся колымагу, водители стучали себя кулаками по лбу и вертели пальцами у виска.
Когда «форд» свернул с трассы на тихую, темную, пустынную дорогу, что вела в недра дачного поселка, Вероника совсем остановилась. Просто у какого-то столба.
– Ну, – сказала она, не поворачиваясь к своему пассажиру, – ты ничего не хочешь мне сказать?
– А что ты рассчитываешь от меня услышать?
– Например, что ты считаешь меня бессердечной тварью и виновницей смерти отца. Что мы, Хорлины-Петуховы, вообще жуткая семейка. Что от таких, как мы и я в частности, лучше держаться подальше.
Леонид промолчал в ответ.
– Сама себе удивляюсь.
– Почему?
– Никому никогда я не рассказывала о себе и своей семье так много, как тебе, строго говоря, первому встречному.
– Такое иногда случается.
– Слушай, может, это потому, что ты мне понравился?
– В таких ситуациях чаще встречается другая реакция-человек замыкается. Трудно откровенничать с тем, кто нравится.
Вероника секунду подумала и уверенно заявила:
– Ерунда. Ты мне нравишься, и я совсем тебя не стесняюсь. Неплохо было бы еще понять, что я в тебе нашла.
Леонид повозился с усом, встряхнул сумку у себя на коленях.
– Наверно, я показался тебе надежным. Как, кстати, все белорусы. У меня есть плечо, на которое можно опереться, кроме того…
– Чушь. Теперь лучше скажи, как ты ко мне относишься.
Опять пошли в ход усы, сумка, пуговицы пиджака.
– Я бы так сказал: мне хотелось бы тебе помочь.
Вероника сняла очки (как она в черных очках вела в темноте машину?!).
– Ах, вот ты, значит, как.
Машина взревела и рванулась с места. И понеслась так, как не носилась по городу. Как Вероника находила нужные повороты и как успевала повернуть, понять сложно. Каждый раз, проделав такое, она довольно громко и злобно шипела-свистела:
– Сволочь!
К чему относилось это слово, к крутизне поворота или к словам Леонида, понять до конца было нельзя.
На мосту через овраг Вероника решительно свернула в «бедную» часть поселка. Стало быть, ехали они не к адмиральской даче, а к домику Валерия Борисовича.
– Сейчас я кое-что тебе покажу!
– Я с удовольствием посмотрю.
– Вряд ли с удовольствием. Но не в твоем удовольствии дело, понял?
– Понял.
– Ты просто сейчас поймешь, что мне нельзя помочь. Нельзя!
Леонид ничего не сказал.
Вот эта улица.
Качаясь на старых песочных кучах, подскакивая на кочках, «форд» подкатил к домику Валерия Борисовича. Его небольшая застекленная в клеточку веранда была ярко освещена. Там кто-то был. Двигался, наклонялся. Пар дыхания залепил стекла, охваченные снаружи холодным вечерним воздухом.
– Пошли! – скомандовала Вероника, открывая дверцу.
Леонид послушно выбрался наружу.
– Нет, сиди, – последовала следующая команда. Тут уж сторож счел возможным подать голос:
– Да в чем дело?
– Как он здесь оказался?!
– Кто?
Что-то хрустнуло в руке Вероники, оказалось – очки. Она тут же швырнула их в сторону веранды. Попала. Стекло звякнуло. Фигура, блуждавшая по веранде, замерла, всматриваясь в темноту.
– Да кто это?
– Неужели не видишь? Виталий Борисович. Дядя мой. Жди меня здесь.
И Вероника стремительно зашагала к дому.
Происходившее дальше весьма напоминало театр теней. Только не вполне немых теней. Скандал, разразившийся на запотевшей веранде, был многословным, с большим количеством перемещений и большим количеством жестов. Стекла затуманивались все больше. Единственные слова, которым удавалось прорваться через эту завесу, были оскорбления.
Леонид наблюдал за происходящим, не проявляя особого волнения. На самом деле у него было время привыкнуть к манерам, принятым в этой семье. Сторож даже скорее размышлял, чем наблюдал. Наверняка появление здесь Виталия Борисовича и для него явилось полнейшей неожиданностью. Не укладывалось в версию, которую он, несомненно, уже взлелеял за время сегодняшних гонок по Москве. Виталия Борисовича нужно было срочно как-то объяснить самому себе. Одно можно было утверждать с уверенностью – что Вероника не его жаждала показать, направляясь сюда.
Леонид размышлял, но всякому душевному равновесию есть предел. Когда он увидел, что тень дяди схватила тень племянницы за горло и начала душить, он сначала не поверил своим глазам, а сразу вслед за этим понял, что пора вмешаться. Он захлопнул дверцу машины и в несколько шагов оказался у веранды.
Вбежал внутрь.
И увидел, что Виталий Борисович и в самом деле душит Веронику Модестовну. Журналист-международник при виде свидетеля сразу же разжал руки и даже поднял их вверх. Видимо, именно так его учили себя вести при появлении британской полиции.
Освобожденная Вероника отскочила в сторону, шипя и свирепо сверкая глазами. В момент, когда она избежала удушения, женщина бывает особенно хороша.
– Кто это? – простонал Виталий Борисович, одной рукой хватаясь за сердце, другой нашаривая валидол. Слабое сердце – вот результат излишне здорового образа жизни.
– Это сторож, – мстительно и чуть злорадно сказала Вероника.
Сторож тем временем осматривался. Веранда была запущенная, даже грязненькая. Батареи пустых бутылок, банок, паутина. Горела газовая плита. Рядом с ней на табурете стоял таз с грязной водой. Колени у Виталия Модестовича были мокрые, ботинки у него тоже были мокрые. Только что вымытые в тазу. Неужели он из Москвы явился такой грязный, что ему пришлось срочно мыться?
– Это сторож Леня, – сказала Вероника, чтобы усилить впечатление. Виталию Борисовичу было явно все равно, он был мокр, устал и несчастен.
– Послушайте, – сказал Леонид, продолжая глядеть на таз с грязной водой. Таз этот ему о чем-то напоминал, – послушайте, а где старушка?
– Какая старушка? – в один голос спросили родственники.
– Сегодня утром я видел здесь старушку. Седую, скрюченную, она чистила картошку.
– А, – махнул рукой дядя, – это соседка. Она готовит для Валерия.
– Соседка?
И тут зазвонил телефон. В глубине дома. Один звонок, второй.
Дядя и племянница переглянулись.
После третьего они разом вышли из оцепенения и начали действовать. Вероника юркнула в комнату, а Виталий Борисович встал таким образом, чтобы загородить Леониду дорогу, если тот вздумает последовать за ней. У сторожа и мысли такой не было, но слаженность в действиях родственников он отметил.
Вероника уже появилась обратно, таща в одной руке телефон, а другой поддерживая провод. Аппарат был большой, черный, еще, пожалуй, послевоенный; ему было неуютно на весу, и он испускал душераздирающие трели.
Трубку снял Виталий Борисович. Но, едва приложив к уху, бросил в руки Вероники. Словно трубка превратилась в гадюку.
Лицо племянницы вытянулось, едва она услышала первые слова телефона.
– Это ты? Откуда? Починили телефон? А куда ты подевался из машины? A-а, понятно, я должна была догадаться. Хорошо-хорошо. Я все поняла, говорю, поняла. Конец связи.
Вероника повесила трубку на рычаг. Внимательно поглядела на дядю, все еще тяжело дышавшего, на Леонида, выглядевшего непроницаемым.
– Ну что же, надо ехать.
– Куда?! – недовольно спросил Виталий Борисович.
– Думаю, ты прекрасно знаешь, куда. Все там.
– Кто это все?
– И Дементий, и сестричка моя, и сторож Женя.
– Ты только что представляла мне сторожа Леню, сколько у вас там сторожей?
– Один старый сторож, другой новый, и оба молодые.
Виталий Борисович закашлялся так, будто это прорывалось у него непереносимое отвращение. Ко всему. К собеседникам, к людям вообще и к самой жизни.
– А главное, дядя Виталя, там следователь Аникеев, Иван Денисович. Так он мне отрекомендовался.
– Какой еще следователь?
– Комитетский. Теперь именно их сразу посылают расследовать такие дела. Две недели назад убили Александра Меня, а они не сразу почесались и, видимо, получили нагоняй.
Вероника говорила спокойно, отчетливо, как диктор.
– Не хочу я никакого Ивана Денисовича, никакого Аникеева. Если я им понадоблюсь, пусть вызывают. Я еду домой. Хватит с меня сегодня!
– Как хочешь, – спокойно, но вместе с тем сурово сказала племянница.
Виталий Борисович обошел кругом стол с телефоном.
– Ты же прекрасно понимаешь, Вероника, что меня пугает встреча не со следователем.
– Я же сказала, как хочешь. Пойдемте, товарищ сторож.
Вероника с Леонидом вышли из комнаты. Сев в машину, отъехали не сразу. Вероника явно медлила.
– В чем дело?
– Сейчас прибежит. Любопытство погонит. Как же так, все важное и интересное происходит без него. А потом, у него тоже в некотором смысле рыльце в пушку.
– А зачем он тебе?
– Не знаю. – Вероника задумчиво пожевала губами, кажется, она действительно не знала, зачем заманивает на дачу своего дядюшку. – Скажем так, чувство композиции требует. Понятно?
– Какой такой композиции?
– О, я же говорила!
Виталий Борисович появился на веранде, вышел на порог, прикрыл дверь. Не запер, а лишь прикрыл. Он все делал не торопясь, словно был уверен, что его обязательно дождутся. Подошел к машине и сел на заднее сиденье.
Ехали молча. Вырулив на улицу Крузенштерна, Вероника сбросила скорость и остановилась у дома номер девять.
– Я на секундочку, надо отдать должок.
23
Это пьяное чудовище показало себя во всем блеске своей хамской натуры.
Середину стола заняли две бутылки «Сибирской» водки и обглоданный с одного края батон. Именно этим батоном Валерий Борисович приветствовал нас с майором, выбираясь из такси. Десять минут назад. Вывалив перед нами свои дары, никак не объяснив смысл своего появления, он зачем-то полез в кусты возле теплицы. Что ему могло понадобиться там, тем более в такой час? Справить малую нужду? Несмотря на наличие в доме нормального туалета, с него станется.
А если…
Я спустился с крыльца и выглянул из-за угла дома.
Пьяное чудовище шумно возилось у забора всего в двух шагах от моего неудачного тайника. Да в каких двух шагах! Он просто топтался по той самой куче камней! Причем не скрываясь, даже что-то напевая.
Случайность?! Не верю я ни в какие случайности! Так что же это такое получается?! Валерий Борисович?! Камень у него? А сейчас он что, показывает, что посвящен в мои секреты? Но откуда он может знать, что я за ним наблюдаю?
Нет, я совсем запутался.
Надо просто немного подождать.
Увидев, что чудовище выбирается из кустов, я спрятался за угол дома и вернулся на веранду. Причем делать все это приходилось расслабленно, как бы небрежно, чтобы не разжигать майорского любопытства.
Вернулся Валерий Борисович из кустов мокрый от вечерней росы и довольный собой. Включил на веранде свет. Что-то отвратительно хозяйское было во всех его движениях.
– Ну как? – спросил я его, сам не зная, о чем спрашиваю.
– Все в порядке, – радостно сообщил он.
Мне очень хотелось, чтобы представитель тайной службы прервал этот парад местного суверенитета. Но тот пока выступал только в качестве наблюдателя. Валерий Борисович, по-моему, даже не понял, что он не знаком с этим человеком, и, скорей всего, счел его каким-то моим приятелем.
Валерий Борисович объявил, что сейчас приготовит «закусочку».
– Но сначала фокус.
Сказав это, он ушел в дом. Топал он ногами громко, так что даже сидя на веранде легко можно было определить – поднимается по лестнице на второй этаж в кабинет Модеста Анатольевича.
Что может выкинуть эта нечеловекообразная обезьяна? Я вдруг подумал о том, что в течение всего этого дня ни разу мысленно не присматривался к этой пьяной фигуре. Я так легко и полностью выкинул его за скобки ситуации. А если я ошибался, если все дело в нем? Так ведь обычно и бывает – самый невзрачный оказывается в конце концов самым опасным.
Зачем он все-таки лазил в кусты и гнусно напевал там?!
У меня было такое ощущение, что я горю, полыхаю, вспыхнул и сижу теперь объятый пламенем волнения. Что подумает майор? Одна надежда, что он сейчас думает не обо мне!
– Звонит по телефону! – сказал Аникеев.
– По телефону? – спросил я, хотя и сам слышал, что происходит в кабинете. Ах, вот оно что – телефон! В телефоне все дело.
Валерий Борисович не спешил к нам. Спустившись из кабинета, он завернул на кухню. Да, он ведь обещал нам закуску.
Подождем еще чуть.
Открылась калитка, и показался Шевяков в сопровождении одного из сотрудников Аникеева.
– Просится в туалет, товарищ майор.
Я инстинктивно привстал, собираясь не допустить опасного приближения Шевякова к Марусиной комнате. Аникеев – не знаю, увидел ли он мою судорогу, – сказал своему сотруднику.
– Проводи, проследи.
– Есть.
Майор ободряюще мне улыбнулся. Я был ему благодарен и начал опасаться его еще больше. Плохо, когда кто-то до такой степени прочитывает твои душевные движения. Или я все-таки преувеличиваю? Это просто какое-то совпадение.
Чтобы прервать тягостное молчание, становившееся к тому же с каждой секундой все тягостнее, я сказал:
– Мне кажется, что Валерий Борисович там, в кустах, чинил телефонный провод.
Произнося эти слова, я больше заботился не о том, чтобы донести до майора свою мысль, но о том, чтобы не дрожал мой несчастный голос.
Аникеев улыбнулся мне в ответ.
– Мы имеем полное право пойти в своих выводах еще дальше. Валерий Борисович чинил тот самый провод, который сам же и повредил прошлой ночью.
– Было бы интересно узнать, с какой целью он это сделал.
– Поверьте, я с нетерпением жду удобного случая для того, чтобы спросить Валерия Борисовича об этом. – Аникеев говорил спокойно, и в голосе его не чувствовалось никакой неприязни к вредителю.
Появился облегчившийся Шевяков. Майор, внимательно поглядев на его бледное, вернее, даже бледно-зеленое лицо, предложил остаться на веранде.
– Вы ведь не собираетесь бежать?
Шевяков, ничего не отвечая, прошел к дальнему краю стола и сел там. Майор шепнул несколько слов на ухо сотруднику, и сотрудник ушел к машине.
Я приготовился к новому раунду неприятного и напряженного молчания. Аникеева я опасался, а Шевяков был мне отвратителен. Разговаривать с первым было для меня пыткой, разговаривать со вторым было не о чем.
Но неприятная ситуация резко видоизменилась. Стала еще неприятнее.
Послышался звук подъезжающей машины.
Причем не просто машины, а машины Вероники Модестовны.
Я вспомнил то, что полчаса назад говорил о ней майор, и голова моя сама собой чуть-чуть втянулась в плечи. Предчувствие скандала меня никогда не обманывает. И сейчас мне казалось, что скандала не избежать.
Первым из машины выскочил новый сторож и, вбежав в калитку, бросился открывать ворота. Наконец-то вспомнил о своих прямых обязанностях.
Вероника вкатила лихо, можно сказать, самоуверенно, можно даже сказать, нагло! Наблюдая за этой бесшабашной красоткой, я со злорадством представлял, как будут сбивать с нее пену убийственные майорские вопросы.
Выбравшись из машины, она церемонным движением открыла заднюю дверцу.
– Вуаля!
Из машины на влажную вечернюю травку, не торопясь, даже чуть покряхтывая, выбрался… Валерий Борисович. Одетый не как обычно, чисто выбритый, можно сказать, ухоженный, но он!
Честно говоря, на какой-то момент мне стало трудно дышать. Я завертел головой в поисках спасительных объяснений. И тут же их обрел. В дверях веранды стоял еще один Валерий Борисович. Только теперь настоящий. В мятом пиджаке, грязной рубашке и с пьяной физиономией.
– Я же говорил, будет фокус!
Аникеев тоже, кажется, был на краткое время ошарашен, правда, его особым образом тренированный рассудок быстрее справился с парадоксальным поведением реальности.
– Это ваш брат? – строго спросил он у пьяного.
– Ага. Младший.
– На сколько вы его старше, минут на двадцать?
– На тридцать две, – с неподдельной гордостью сообщил поэт и обратился к Веронике с сообщением, что холодильник пуст, так что неплохо бы ту сумку с продуктами, что Леонид держит в руках, переправить на кухню.
– А то все голодные и злые.
24
Очень странное получилось застолье. И мне кажется, что по вине Аникеева. Он никак не попытался воспрепятствовать назревшим допросом суетливой сервировке. Вероника со сторожем и полупьяным дядей вынесли на веранду посуду, вилки, потом блюда с закусками. Присоединили к двум бутылкам Валерия Борисовича еще две бутылки самодельной смородиновой настойки. Ее появление сопровождалось отвратительными восторгами Валерия Борисовича и тошнотворно-игривыми каламбурами на алкогольные темы.
По контрасту с этой излишне, даже неестественно оживленной тройкой прочие гости веранды были особенно неподвижны и молчаливы. Полагаю, у всех были разные причины для молчания. Женя Шевяков молчал, потому что находился в глубоком психологическом ауте.
Виталий Борисович молчал, как мне кажется, из презрения. И к себе, и к развязному брату. По его движениям было заметно, как он не хотел сюда приезжать, и теперь он сидит и усиленно презирает себя за то, что приехал. Про презрение к брату и говорить нечего, меня бы и самого морально рвало, окажись у меня такой братишка.
Майор Аникеев молчал профессионально. Решил не мельчить и не торопиться. Со своей точки зрения он был, конечно, прав. Пусть все усядутся. И так ведь ясно, для чего собрались – будут ставить точки над «и». Значит, сами уже движутся в нужном направлении, и не надо подталкивать, и рано или поздно придут туда, куда ему нужно.
А что же я?
Я затаился.
Собрался со всеми своим силами и овладел собой. Сделался холоден, как лед, и однозначен, как простое число. Мои мысли теперь не носились роями бог знает где. Они улеглись. Теперь я не просто ощущал, я наверняка знал, что мой камешек где-то здесь, на территории этого ненавистного мне дачного участка, ибо тут собрались все. Оставалось установить самое главное – у кого именно.
Мне предоставляется вторая попытка. Судьба проявляет несвойственную ей щедрость. И сплоховать в этот раз значит оскорбить ее. Может даже статься, что в мою пользу решили выступить силы, далеко превосходящие по своим возможностям Комитет государственной безопасности. Но и в этом случае не следует расслабляться, ибо не исключено, что силы эти не станут длить свое благоволение долее сегодняшнего вечера.
Я затаился в углу своего кресла, стараясь никому не смотреть в глаза, боясь, что они извергают сияние решимости и это меня выдаст.
Сейчас все они займутся выяснением того, кто же ткнул ножиком в сердце любвеобильного академика, я на манер невидимого паразита поселюсь в организме этого увлекательного процесса и незаметно выловлю необходимый мне минерал.
И вот все за столом.
Маруся, конечно, у себя. С некоторых пор я не вполне в ней уверен, поэтому пусть «болеет». Интересно, что никто о ней не вспомнил. Даже из числа тех, кто занимался выполнением ее обычных обязанностей-накрыванием на стол. С Марусей мы разберемся позже, и какою бы ядреной ни была поразившая ее дурь, путем правильного лечения мы очистим это розовое сознание. А если не получится, что ж – сама виновата!
Так, все уселись.
Разобрали тарелки и рюмки.
Валерий Борисович с ловкостью истинно пьющего человека наполнил сосуды. И предложил выпить не чокаясь. На что ему негромко, но отчетливо ответил младший брат:
– Модест Анатольевич, насколько я понимаю, еще не предан земле, так что это еще не поминки.
Валерий Борисович секунду молчал, возмущенно глядя на брата, а потом начал яростно возражать. Смысл его речи был в том, что не надо оскорблять покойного, Модест Анатольевич был как раз «земле нашей предан», и что «мало было у нас таких патриотов, как Модест Анатольевич».
Не знаю, сознательно ли паясничал подлый литераторишко или просто не мог сдержать элементарное движение своей мерзкой натуры, но в воздухе веранды опять запахло похабным скандалом. И он бы разразился, если бы не Шевяков. Сыграло роль его неприсутственное сидение за столом. Он глядел куда-то в сторону. И что-то там, в этой стороне, увидел.
– Смотрите!
Все посмотрели.
Увидели открытую калитку и стоящего в ее проеме человека.
В следующую секунду стало всем ясно, что это Арсений Савельевич Барсуков.
Наступило всеобщее молчание.
Арсений Савельевич двинулся в сторону веранды. Медленно переставляя ноги. Как бы через силу. Выражение его лица удалось рассмотреть только когда он подошел вплотную к крыльцу. И выражение это было ужасающим. Замечательные его бакенбарды превратились в паклю, галстук съехал набок, глаза глядели в разные стороны.
Первым сориентировался Валерий Борисович.
– Где ты так набрался, Савельич?
Барсуков не удостоил его ответом. Обвел не вполне нормальным взором собравшихся и объявил:
– Я убил его.
25
После этого заявления он попытался поднять ногу на ступеньку, промазал и рухнул всем телом вперед.
К нему бросились. Начали поднимать, усаживать в кресло, протягивали стаканы с водой и водкой. Удивительно, какое у нас иногда прорывается уважение к убийцам.
Ну, пусть себе. Мне некогда ненавидеть Барсукова и некогда ему сочувствовать.
У меня другие планы, и пора приступать к их осуществлению. И начать следует с проверки состояния тылов.
Пользуясь всеобщей суматохой, я нырнул в дом и проскользнул к Марусиной комнате. Прежде чем пускаться в рискованную операцию, надо проверить, в надежном ли трансе находится моя забарахлившая помощница. Хорош я буду, если в ответственный момент выплывет на середину ситуации эта заспанная фемина и начнет лопотать какие-нибудь несусветности.
Я не зря обеспокоился.
Маруся не спала.
Она стояла у окна и что-то чертила пальцем на стекле. Услышав звук открывающейся двери, она резко обернулась. Я медленно подошел к ней вплотную, посмотрел снизу вверх ей в заплаканные глаза, и на душе у меня стало немного спокойнее.
Нет, она не полностью вырвалась из-под моего контроля. Она еще находилась внутри этой невидимой клетки. Но что-то с ней происходило.
Взяв ее за запястья, я начал говорить. Медленно, успокаивающе, включив помимо обычного звучания голоса еще и инфратембр. Он не улавливается на слух, но взаимодействует с глубинными слоями сознания.
Слезы на глазах Маруси начали высыхать. Захлебывающийся, пулеметный пульс стал спадать. Дыхание сделалось более ритмичным и сглаженным, без бурных бурунов и панических пауз.
Я мысленно похвалил себя за предусмотрительность. И приступил к завершению процедуры.
– Маруся, ты мне веришь?
– Да.
– Маруся, ты должна успокоиться.
По ее лицу плавала расплывчатая, не определившаяся в своем значении улыбка.
– Я спокойна, только…
– Волноваться нечего, убийца отыскался.
– Убийца?! – Улыбка слетела с ее лица.
Идиот! Воистину идиот! Зачем было поминать убийцу, зачем?!
– Успокойся, Маруся.
И тут она заявляет:
– Это я убийца.
– Что?!
– Это я во всем виновата. А его отпустите.
– Что?!
– Убила я, а его отпустите.
Что-то взорвалось у меня в голове. Черт побери, а почему я не рассматривал этот вариант?!
Нет, бред!!! Где она могла взять нож? Господи, на кухне полно ножей. Самых разных, сам видел. Учитывая завернутое в узел состояние ее психики… Нет, чумная чушь! И почему тогда в туалете?! О, я уже пытаюсь анализировать эту галиматью!
– Дементий, обещай мне, что его отпустят.
Да что она так заботится о Барсукове?! Какая между ними может быть связь?! И откуда ей вообще знать, что это он сейчас пришел и во всем сознался?!
– Да, да, успокойся. Его отпустят. Я скажу, чтобы отпустили.
– Если ты не сделаешь это, я пойду и сама все им скажу.
В этот момент я испугался по-настоящему. Пришлось принимать экстренные меры.
– Смотри на меня, Маруся, ты хочешь спать.
– Нет. Я хочу им сказать…
– Ты хочешь спать.
– Я…
– Спать!
С трудом препроводив крупную, внутренне опадающую девушку на постель, я поплотнее закрыл дверь ее комнаты и выскочил на веранду.
Осторожно огляделся.
Кажется, моя отлучка осталась незамеченной. Барсуков оставался центром всеобщего внимания. Он что-то жарко и торопливо говорил, держа в каждой руке по стакану. Речь была сбивчивой, но самое главное я уловил почти сразу.
Арсений Савельевич на самом деле совершил убийство, но жертвой его стал отнюдь не академик. Жертвой стал собственный родной сын Арсения Савельевича.
Злокачественное заболевание крови.
Все обычные методы оказались бессильны.
Единственное, во что верил Барсуков, – это метод доктора Креера. Ведь десять лет назад он спас от лейкемии мальчика. Все это произошло на глазах у Барсукова, он «наблюдал чудо исцеления собственными глазами!». Главная тетрадь с рецептами доктора Креера хранилась в сейфе у Модеста Анатольевича. Тот не хотел ее отдавать Барсукову, ссылаясь на то, что реальной научной ценности записи крымского доктора не представляют.
– Я на колени перед ним становился, я умолял, плакал и даже угрожал, но он не отдал мне рукопись.
Барсуков судорожно отпил из стакана и не понял, что выпил, водку или воду.
– И тогда я воспользовался случаем.
Он снова глотнул.
– Последний разговор получился… вернее, не получился. Он даже не пустил меня в кабинет. Он держал дверь на цепочке, наверно, чувствовал, что я небезопасен. Я бродил по своей комнате и бился головой о стены. Если бы мне тогда предложили убить Модеста Анатольевича, я сделал бы это не задумываясь. Когда я услышал шум в коридоре, то осторожно выглянул. Ничего не разглядел. Тогда вышел в коридор, и мне сразу бросилось в глаза, что на лестницу падает свет из двери кабинета. Она была широко открыта. Я не мог удержаться, я бросился наверх. В кабинете никого! Сейф распахнут. Какие-то бумаги валялись на полу. И я сразу увидел то, что мне было нужно. Рукопись доктора Креера лежала сверху. Я узнал ее сразу, у меня ведь было уже несколько похожих.
Горловой спазм прервал речь Барсукова. Он несколько раз сглотнул слюну, борясь с неожиданной немотой.
Да, судя по всему, критический момент близок. Самые опасные слова прозвучали. Академика не было в кабинете, когда там появился Арсений Савельевич. Майор уже наверняка обратил внимание на это обстоятельство. Не мог не обратить. Сидит-то он молча и даже блокнот свой не теребит, но боюсь, что очень скоро заговорит.
– Я схватил ее, спрятал под пиджак и бегом вниз. Кажется, меня никто не заметил. Конечно, я понял, что в доме что-то происходит, но мне неинтересно было с этим разбираться. Мой Сашка ждал от меня помощи, а я держал в руках ключ к спасению. Думал я совсем недолго, вылез через окно и бегом-бегом на станцию. Там поймал частника и в лабораторию. Наутро состав доктора Креера был готов. А к вечеру… Саша умер.
Барсуков выронил один стакан, второй кое-как поставил на стол и уткнулся лицом в ладони.
Майор, сидевший во время рассказа неподвижно, изменил позу, и кресло отозвалось писклявым скрипом. Майор глядел на несчастного отца, и в его взгляде читалось не одно только сочувствие.
– Я понимаю, что вам тяжело, но тем не менее вынужден задать вам несколько вопросов.
Плечи Барсукова тряслись. Вид отцовского горя был столь вопиющим, что слова майора показались на этом фоне бестактностью. Надо было учитывать, правда, что человек при исполнении. Валерий Борисович, не знавший, кто такой этот человек с бородавкой на щеке, начал надувать щеки, собираясь, видимо, призвать Аникеева к более подобающему поведению. Вероника дернула его за рукав и шепотом на ухо объяснила, на кого он вознамерился напуститься. Валерий Борисович изменился в лице и, повалившись в кресло, опасливо затаился.
Барсуков продолжал глухо рыдать.
Аникеев ждал.
И все остальные ждали, чего он дождется. Кроме меня, вряд ли кто-то понимал, в насколько опасном месте остановился разговор, но интересно было всем. А кое-кому, возможно, и страшновато.
Майор деликатно покашлял в кулак, и опять пискнуло под ним плетеное кресло. Ситуация ему не нравилась. Ему не хотелось выглядеть жестокосердным, свирепым следователем, слишком это не в духе времени, но, с другой стороны, он не мог себе позволить выглядеть размазней.
Выручил его, что меня немало удивило, сторож Леня.
– Если хотите, товарищ майор, я помогу вам.
Аникеев холодно поглядел в его сторону.
– Вы готовы мне помочь, хотя я не высказал еще, в чем мое затруднение?
Леонид поднял выроненный Барсуковым стакан, поставил на стол и уселся на перила веранды.
– Поверьте, не так это трудно – догадаться, о чем вы хотите спросить Арсения Савельевича.
Аникеев совершенно справедливо счел это вмешательство наглостью, но не стал спешить с отповедью. Ну-ну, как бы говорил он.
– Дело в том, что вы, товарищ майор, утром сегодняшнего дня обнаружили труп Модеста Анатольевича именно в кабинете рядом с выпотрошенным сейфом, поэтому заявление Арсения Савельевича о том, что он обнаружил только сейф, но не тело, кажется вам подозрительным.
Майор ничего не стал возражать, и уж я-то этому не удивился.
Леонид, почувствовав, что ему дано право продолжать, продолжил:
– Я даю такое объяснение: Модеста Анатольевича убили не в кабинете.
– А где же? – это спросил Виталий Борисович.
– Об этом чуть позже. Тело было доставлено в кабинет с кортиком в сердце уже после того, как все заинтересованные лица успели попользоваться содержимым сейфа.
Эти слова произвели на присутствующих неприятное впечатление. Любой мог счесть себя попавшим под подозрение.
Майор единственный сохранил полное самообладание.
– Что значит «все заинтересованные лица»? Вы хотите сказать, что здесь имел место сговор нескольких лиц?
Леонид отрицательно покачал головой.
– Нет, пока я хочу сказать только одно, что, когда вскрывали сейф, Модест Анатольевич был еще жив.
Майор усмехнулся.
– Основываясь на каких сведениях, вы делаете такое уверенное заключение?
– Модест Анатольевич был убит кортиком адмирала Хорлина. Кортик этот Модест Анатольевич хранил в сейфе, он придавал большую ценность вещам, связанным с памятью адмирала. Он собирал оставшиеся от него вещи, он был готов даже платить за них. Иногда немалые деньги.
Произнося эти слова, Леонид смотрел на Валерия Борисовича. Тот сидел набычившись и катал грязным пальцем хлебный шарик по столу.
– Представить, что Модест Анатольевич собственноручно отдает кому-то этот кортик, невозможно. Он только накануне приобрел его.
Майор опять усмехнулся.
– Вы и об этом осведомлены? Может быть, поделитесь с нами источником такой редкостной информации?
– Обязательно поделюсь, но чуть позже. Закончу сначала мысль. Так вот, мне так же трудно представить, что кому-то удалось бы вскрыть сейф в присутствии хозяина. Значит, что? Значит, Модеста Анатольевича не было в кабинете, когда воровали кортик. Он пребывал где-то в других помещениях дома.
Я сидел все так же неподвижно. В каком-то смысле мне было даже любопытно, догадается ли этот парень про туалет. А может, он все видел собственными глазами, подсмотрел? Но как?!
– Не скажете, в каких именно?
– Скажу, товарищ майор.
– Попозже, да? – ехидно поинтересовался Аникеев. – Что-то слишком много вы откладываете на потом.
Леонид вздохнул.
– Я и сам еще не во всем разобрался. Какие-то открытия делаются прямо по ходу рассуждений.
– Пускай не все еще ясно, но картину, хотя бы в общих чертах, мы уже можем обрисовать.
Сказав это, майор обвел пленников веранды тяжелым взглядом.
– Модест Анатольевич непонятно зачем спустился вниз из своего кабинета. В этот момент кто-то пробрался к нему, вскрыл сейф, так же спустился вниз, нашел место, где почему-то считал нужным спрятаться хозяин, и убил его. В тот момент, когда происходило убийство, Арсений Савельевич Барсуков успел пробраться наверх, схватить тетрадь и незамеченным вернуться в комнату. Дементий Дементьевич…
Ну, наконец-то и до меня дошло дело!
Все меня заметили, все обратили на меня свои взоры, я физически ощутил их неприятную тяжесть.
– …не мог сразу выглянуть на шум, доносившийся из коридора. Он следил за мужчиной, который подглядывал в окно комнаты, чем занимается младшая дочь Модеста Анатольевича. Когда Дементий Дементьевич выглянул в коридор, он уже ничего интересного не увидел. Убийца удалился. По словам Дементия Дементьевича, удалился в сторону кухни и глухой веранды. Я правильно излагаю?
Мне оставалось только кивнуть. Даже невооруженным глазом было видно, что в нарисованной схеме именно моя роль выглядит наименее убедительной. С Барсукова, по всей видимости, подозрение снято, а я, убогий, пытаюсь своими рассказами про план спасения СССР все свалить на американца, неизвестно куда подевавшегося. Черт побери, да я ведь с первой минуты знакомства не понравился этому майору. По горячим следам он меня не застукал, так хочет дожать логикой. Я не знал, какой способ защиты применить и надо ли вообще мне сейчас показывать, что я понимаю, будто атакован.
В момент сильнейшего смятения мне пришли на помощь с той стороны, откуда я не ждал. Вдруг как резаный завопил Валерий Борисович. Так неожиданно и так громко, что даже Барсуков выпал из состояния мертвой прострации, отнял ладони от лица и открыл красные безумные глаза.
Вероника, наоборот, схватилась за свое лицо.
Младший брат горестно и грустно усмехнулся.
– Да, это я продал кортик Модеске! Вчера вечером. Не могу знать, для чего ему надобились все эти погоны, пуговицы, планшеты, фуражки, может, Модеска и правда хотел сделать дом-музей, мне до этого дела не было. Я продал, и все, но больше его не видел и ничего больше не знаю. И пойду сейчас спать.
На майора эта истерика не произвела особого впечатления. Он сказал:
– Вы должны будете еще остаться на некоторое время. У меня есть еще к вам вопросы.
Валерий Борисович сник так же мгновенно, как и вспыхнул. Повалился в кресло и начал тихо хныкать, две большие торопливые слезы прокатились по небритым щекам и разбились на грязных отворотах пиджака.
Я тихо злорадствовал. Майор, уже начинавший гордиться тем, как ловко он сплел против меня сеть косвенных доказательств, вынужден теперь разбираться с пьяными истериками и новыми фактами.
– Первый вопрос будет такой. Модест Анатольевич, получив от вас кортик, запер его в сейф?
Валерий Борисович прохрюкал что-то в подтверждение.
Майор, почувствовав слабину в собеседнике, перешел к самому обыкновенному напору.
– По-моему, вы не все нам говорите.
Валерий Борисович рыдал не хуже Барсукова. Брат и племянница смотрели на него с выражением, которое даже и омерзением назвать нельзя. И тут в голове у меня что-то провернулось. Ну конечно же, сговор был! В сговоре этом состояли члены замечательной семейки. Как просто! Академик им мешал по многим причинам, и решено было его на тайном семейном совете ликвидировать. Только господа хитрые в одном явно просчитались: умышляя что-то серьезное, никогда не привлекай алкоголика.
Майор соображал не хуже меня, он тоже учуял, где находится слабое место, и продолжил наносить в него свои прямолинейные, но, кажется, не бесполезные удары.
– Не в ваших интересах запираться. Рассказывайте! Ведь все равно придется! Так или иначе!
Поэт всхлипывал, пускал сопливые пузыри, чувствовалось – вот-вот рухнет.
– Давайте я помогу Валерию Борисовичу.
Это снова белорусский сторож. Спрыгнул с перил, оправляет слишком плотный брючный пояс.
– Не думаю, что вам следует вмешиваться!
– Извините, товарищ майор, но вы и сами бы попросили меня вмешаться, если бы знали, о чем идет речь.
Аникеев ничего не сказал. А Леонид широко и самодовольно улыбнулся. Так улыбаются в предвкушении успеха. Поглядим.
– Я сейчас, как мне кажется, смогу привести сюда человека, который подтвердит вам, что в самом плохом Валерия Борисовича подозревать не надо. Он человек со слабостями…
– Хватит лекций! – грубо оборвал его майор.
Леонид приложил руку к сердцу, мол, понял вас, и быстренько направился в дом.
Ах ты гадина!
Вот он кого имел в виду.
Вычислил!
Я вскочил, сел, опять вскочил. Майор смотрел на меня с нескрываемым интересом. Но мне было все равно, какое я теперь уже произвожу впечатление.
Теперь уж точно все равно.
Пусть он попробует сначала разбудить Марусю.
Из коридора раздался звук шагов.
Голоса.
Разбудил?!
Нечего и говорить, что все взгляды были обращены к двери и все рты открыты в ожидании чуда.
И чудо произошло.
Из коридорной тьмы появились двое.
Леонид и Фил.
Американец щурился, вид имел предельно помятый, на ногах стоял с трудом. Я находился от него на расстоянии четырех метров, но даже до меня доходила волна тяжелейшего, кисло-мерзкого перегара.
Белорус сиял. Очень был доволен собой и развитием событий. Впрочем, меня устраивал результат его усилий. Но я молчал, по спине продолжал бежать пот предыдущих ужасов.
Молчали и другие, появление Фила все же было слишком неожиданным. Молчание разрядил сам арканзасский издатель:
– Алкоголизмус – ноу!
Валерий Борисович смотрел на него, как мог бы смотреть на отпрыска-урода. Сквозь слезы, но с любовью.
Следующим заговорившим был, что удивило меня не меньше, чем явление американца, младший брат.
– Как вы догадались, что он на веранде?!
Сторож продолжал сиять.
– По вашим штанам.
– Штанам?
– И рукам. Я всего лишь полчаса назад видел, как вы мыли руки после того, как застирали брюки, испачканные на коленях. Сказать по правде, я должен был бы сообразить пораньше, но, видимо, озарения являются, когда захотят.
Виталий Борисович поглядел на свои брюки, на свои руки, теперь-то они были чистыми и сухими.
– Кстати, благодаря вам я набрел и на главную разгадку.
Журналист усмехнулся, вряд ли полыценно:
– Что вы говорите?
В этот момент очнулся наконец майор. Вид у него был отнюдь не победоносный. Он категорически не понимал, что происходит.
– Так, – сказал он. – Посадите товарища.
Вероника бросилась помогать Леониду. Ее кипучая натура требовала деятельности, она не могла сидеть и молчать весь вечер.
Фил усаживался долго, потому что по дороге хотел объяснить, что он не является «товарищем», но желал бы, чтобы его считали «другом».
– Он что, так и провалялся там, на той веранде, все это время, и мы его просто не заметили? – сам себе задал вопрос майор, потому что спрашивать о чем-либо американца было пока бесполезно.
Усевшись наконец за стол, Фил сразу же забыл свою выстраданную мысль о вреде беспробудного пьянства и потянул руки к бутылке.
– Алкоголизмус – ноу! – напомнила ему Вероника.
Он согласился и даже развил тему:
– Алкоголизмус анд наркоманиэн.
– Дурак! – обиделась Вероника.
– Так, – повторил майор Аникеев, и тон его теперь был самым решительным. – Я хотел бы как-то подразобраться в том, что тут происходит.
– И начинания, вознесшиеся гордо, сворачивая в сторону свой ход, теряют имя действия, – страдальчески заявил Валерий Борисович.
Виталий Борисович только вздохнул.
Вид Леонида выражал полную готовность поделиться сведениями.
– Говорите, раз собрались говорить.
– Да, товарищ майор, так принято поступать, но есть одно обстоятельство…
– По-моему, их тут тысячи, этих обстоятельств, – пробурчал Аникеев. – В чем, наконец, дело?
– Мне нужно переодеться.
Не только майору показалось, что над ним издеваются. Валерий Борисович выругался, неразборчиво, но скорей всего грязно. Вероника откинулась в кресле, отводя руку с сигаретой. Барсуков вздохнул-всхлипнул, наверно, ему показалось, что в этом мире установилась абсолютная власть абсурда.
– Причем должен сказать, что для того, чтобы переодеться, мне еще нужен помощник.
– Вы что, принц крови? – поинтересовался Виталий Борисович.
У майора наверняка была более грубая версия, но он удержался от ее озвучивания. Он только спросил:
– И кого бы вы желали получить в напарники?
– Женю Шевякова.
Однако что-то затевается.
– Дело в том, что мы обменялись одеждой, мне необходимо было наведаться в город, в приличные места, мои резиновые сапоги и синяя кепка не подходили для этой цели. Женя любезно одолжил мне свои брюки и пиджак, но я плотнее от природы, мне тесно в его штанах. Натирает вот здесь, и здесь давит, сил нет. Подлинная пытка. Теперь я бы хотел восстановить статус кво.
Объяснение было вроде бы убедительным, но ощущение странности от заявления белоруса все равно осталось.
Майор неуверенно кивнул.
Молчаливый аспирант Шевяков встал и меланхолически последовал за своим другом.
Нет, определенно, парень Леня что-то придумал.
Я приподнялся, еще не зная, каким образом буду сигнализировать майору, чтобы он проявил бдительность, но вовремя понял, что это не нужно.
– Семченко, – сказал Аникеев, и молчаливый помощник, сидевший молча рядом с Шевяковым, направился следом за парочкой игроков в переодевание. С большим удовольствием и более острым пониманием важности момента выполнил бы работу подсматривающего я сам. Но предложить себя было немыслимо. Я был убежден, что сейчас идет в тишине сторожки торопливое перепрятывание моего заветного камня, а я обязан сидеть за столом в обществе совершенно несимпатичных мне людей и абсолютно ненужной водки.
Глазами я смотрел в сторону сторожки, а остальными чувствами в сторону Марусиной комнаты. В любую секунду можно было ждать ее появления и, значит, катастрофы.
Майор продолжал держать меня в поле своего непрерывно исследующего внимания. Что, наконец, ему от меня надо?! Он продолжает подозревать меня, но в чем?! В том, что я убил? Но тогда мне жаль майора. По-моему, давно пора уже ему почуять, что заниматься надо кем-то другим. Не изводить отвлеченными беседами меня, не рыться в уфологическом прошлом Модеста Анатольевича, а присмотреться повнимательнее ко всем этим родственничкам.
– Что-то задерживается наш Леня, – сказал я, исключительно для того, чтобы что-нибудь сказать. Сказал и увидел, что майор Аникеев смотрит на меня как-то особенно загадочно.
– Про какого это Леню говорите? – спросил он загробным голосом. Ответила ему быстрая на реакцию Вероника:
– Как это про какого? Про нового сторожа Леонида Филина. Про того, который пошел сейчас переодеваться.
Аникеев закрыл глаза и потряс головой. Потом полистал свой блокнот.
– Нет там никакого Леонида Филина.
– Ни фига себе! – Это была реакция старшего брата.
– Что вы хотите этим сказать? – спросил младший.
– Только то, что человек, отправившийся сейчас переодеваться, носит совсем другую фамилию. Утром я сам у него проверил документы. Документы его были в порядке. В документах значилась другая фамилия.
Вероника двумя кулаками ударила по столу. Подскочили рюмки и вилки.
– Я что-то все время чувствовала. Дура!
Все что-то чувствовали, мысленно усмехнулся я. Всем этот синеглазый усач казался подозрительным.
Аникеев резко встал.
– Семченко. А ну давай этого красавца сюда.
Семченко толкнул входную дверь.
Заперто. Оглянулся в сторону начальника, требуя новых указаний.
– Стучи, ломай!
Семченко был крупным парнем. Ударив по двери несколько раз тяжелым кулаком, он отступил на три шага, собираясь атаковать препятствие плечом. После первого удара дверь хрустнула, но не поддалась. Семченко стал отступать для повторной атаки.
А мне было весело, воистину безумный день, только пока не ясно, кто тут у нас Фигаро. Одно можно сказать, что майор все больше начинает походить на графа Альмавиву. Человек неглупый, но почему-то всеми обманутый. Вот окружал, окружал меня со всех сторон своими подкопами и окопами, а настоящий пинок получит с той стороны, откуда и помыслить не мог.
Семченке не удалось победить дверь, она сдалась. Открылась сама. И в ее проеме появился никому в этот момент не интересный Женя Шевяков.
– Не этого! – крикнул майор, сбегая по ступенькам веранды и лично направляясь к сторожке.
– Вот такого я бы никогда не могла себе подумать, – обалдело глядя по сторонам, заявила Вероника, имея в виду не поведение майора, но поведение Псевдолеонида.
– Вот это да! – с чувством ответил ей Валерий Борисович. Брат его молчал, задумчиво почесывая указательным пальцем переносицу.
Счастливее всех был Фил, он дремал.
Майор с Семченко ворвались внутрь жилища для сторожей, что-то перевернули там, в поисковом неистовстве обменялись матерными соображениями об отвратительности происходящего.
Шевяков за это время успел не торопясь вернуться в свое кресло на веранде и затаиться там. Вид у него был такой, словно он ждет с минуты на минуту больших неприятностей, но внутренне к ним готов. По моему ощущению, предчувствия не должны были его обмануть.
Майор и Семченко вышли из сторожки.
Смотреть на них было страшно. И интересно.
Семченко бросился к воротам, в надежде, что белорус не успел убежать слишком далеко.
– Ну что же, молодой человек, мне кажется, что вы просто обязаны объяснить, куда подевался ваш товарищ.
Шевяков молчал. Поглядывал на майора искоса и исподлобья и молчал.
– Так.
Дальше последовал приказ ничего не обнаружившему Семченке немедленно связаться с кем следует на предмет организации задержания молодого человека лет двадцати восьми. Особые приметы – вислые усы, синие глаза, грязные сапоги.
Семченко убежал к машине к аппарату спецсвязи.
Майор, делая по пути расслабляющие глубокие вдохи, поднялся по ступеням. Даже заставил себя сесть и сложить руки на коленях, хотя, как я понимаю, главным его желанием в этот момент было желание рвать и метать.
– Как я понимаю, вы со мной начали игру в молчанку, да, Шевяков?
– Я ничего не знаю, – медленно проговорил бывший сторож.
– Так-таки и ничего?! Ваш сообщник на ваших глазах исчезает из помещения площадью в двадцать пять квадратных метров, а вы ничего не знаете.
Сообщник! Это что, получается, банда сторожей? А Маруся? Маруся сообщница? Это ведь не Барсукова, а Шевякова она собиралась выгораживать, беря вину на себя. Странности в ее поведении я заметил всего несколько часов назад. Поверить, что она все эти два месяца меня искуснейшим образом дурачила, я не могу. Не из гордыни какой-нибудь глупой, просто порядок вещей в мире таков, что Маруси не вступают в хитроумнейшие заговоры со сторожами и аспирантами. Но, с другой стороны, сколько раз я видел их вместе за эти два месяца?!
Никогда мне так жгуче не хотелось побеседовать с моею загадочной дурехой, и никогда это не было так невозможно.
– Он переоделся, очень быстро, и выпрыгнул в заднее окно. Оно открывается, если отогнуть два гвоздя. А я одеваюсь медленно.
– И куда же он отправился?
Шевяков вздохнул.
– Этого я не могу вам сказать.
– Да-а?!
– Он сам вам расскажет.
Майору справедливо почудился оттенок вызова в словах аспиранта. Правда, в смысле слов он был, но его не было в тоне. Шевяков говорил так, как будто говорил правду.
– А почему же вы не сбежали? Вот это бы я понял. У меня ваше признание на руках, письменное признание, что это вы убили Модеста Анатольевича, вам-то как раз естественнее всего попытаться скрыться!
Вероника, оба Борисовича смотрели на Женю, очень широко открыв глаза. Почему-то именно на них известие, что он убийца, произвело особенно сильное впечатление.
Даже Барсуков проявил признаки интереса к происходящему.
А я сижу себе и думаю: господи, какой все это бредовый кошмар!
Путаный, сбивчивый, раздраженный допрос продолжался минут пятнадцать-двадцать. Шевяков по большей части молчал, а потом что-то отвечал, как бы после сильного раздумья, но ответы его ничего не проясняли. Уже совершенно невозможно было представить, чем весь этот цирк закончится. Я видел только один путь к продолжению расследования – поймать Псевдолеонида. Но вряд ли это делается в считаные минуты даже при включении всех сил КГБ. И, кроме того, даже если его и поймают, продолжение спектакля пройдет не здесь. Наше верандное расследование в манере Агаты Кристи наверняка является редчайшим исключением из обычного стиля работы органов. Скрутят, увезут, камера, железные двери, лампа в глаза или что-нибудь в этом роде.
Казалось бы, меня это должно было устроить, но камень! Белорус ведь исчез не просто так, он унес с собой смысл моего существования. Я был убежден, что сторожку, да и всю территорию участка обыскивать бесполезно. Унес. Даже если и не понимает всей ценности своей незаконной добычи. Оставалось надеяться на призрачные шансы, например на то, что, если его не поймают, через некоторое время он выйдет на меня и предложит мне купить камень. Уж наверно он догадался, что именно я главный за ним охотник. Недаром он именно меня тащил к тайнику. Хотел видеть реакцию. Но почему не дотащил? Хватило того, что он успел во мне рассмотреть?
– Ладно, – сказал майор, поднимаясь. – Как видно, разговор придется продолжать не здесь. Семченко!
И тут зазвонил телефон. В кабинете Модеста Анатольевича.
– Всем сидеть на месте! – был приказ. Все, понимая, что шутки кончились, приказ выполнили беспрекословно. Хотя каждому хотелось бежать наверх и снимать трубку. Не было и мысли, что это звонок от случайного человека.
Майор поднялся к телефону сам и вернулся довольно скоро. Облик его вновь из расстроенного и раздраженного сделался деловым и сосредоточенным.
– Вероника Модестовна.
– Слушаю вас.
– Вам придется поехать со мной.
– Куда это?
– Тут, недалеко.
– На улицу Крузенштерна?
– При чем здесь Крузенштерн?! Идемте, я вам в машине все объясню. Остальным оставаться здесь. Семченко, проследи, чтобы никто не вздумал вылезти через какое-нибудь окошко. Отогнув гвозди.
Зря я так рано расстроился. По всей видимости, мне и прочим предстоит пережить еще парочку интересных эпизодов.
Надо пока навестить Марусю. Я встал и услышал голос Семченко:
– Сидеть!
Посмотрев в его глаза, я понял, что полученный приказ он выполнит, свидание с Марусей не состоится. Но ладно я. Захотел покинуть кресло и веранду наш общий друг американец. Семченко справедливо считал, что приказ майора распространяется и на иностранных граждан, поэтому решительно воспрепятствовал Филу в его намерении.
Американский гражданин закатил истерику, в которую вложил все свое недовольство переживаниями последних суток. А их было немало. Он кричал, что является гражданином свободной страны и ему не нравится, когда нарушают его «прайвеси», он не любит, когда его таскают «темный яма», когда его засовывают «пыльны место», он устал «от водка». Но самым сильным переживанием для него явилась, как я понял, встреча с какой-то злой седой «ведма». Судя по всему, издателю действительно досталось. Его валяли по полу, били чем-то похожим на утюг и заставляли пить какую-то отраву. «Большой толстый бутыл». Хорошо, если это был рассол.
Семченко, разумеется, было наплевать на переживания американца, он действовал как было велено. Поскольку Фил все время вскакивал и порывался, работник органов взял его в объятия и уселся вместе с ним в кресло. Со стороны могло показаться, что он баюкает несчастного иностранца.
В общем, эта милая сцена заняла все внимание собравшихся до появления майора с Вероникой. Они отсутствовали минут десять. Ее «форд» лихо въехал в оставленные распахнутыми ворота. Фил, очевидно, увидев очертания родной американской машины, расплакался. Семченко вскочил, продолжая сжимать это большое дитя в объятиях, но при этом свирепо сопя.
Но все внимание было в этот момент направлено не на эту пару. На Веронику и Леонида, или, если угодно, Псевдолеонида. Они одновременно вышли из машины. И дочь Модеста Анатольевича обежала капот и с ходу влепила сторожу пощечину. Потом сразу же вторую.
– Сволочь! Гнида! Мразь!
Майор остался сидеть внутри, сквозь лобовое стекло, благодаря свету висевшей над входом на веранду лампочки, хорошо было видно его усталое лицо.
Так, сказал я себе, новый сторож вернулся. Что это значит? Что не он взял камень или что бегал его перепрятывать?
Вероника в третий раз хлестнула по усатой физиономии.
– Вай?! – воскликнул все еще обнимаемый Фил.
– Да, – сказал Валерий Борисович, обращаясь к американцу. – Империя зла, полюбишь и козла.
26
– Сейчас я готов дать все пояснения. Картина мне представляется ясной, – сказал Псевдолеонид, полыхая красными щеками.
Все дачное общество находилось за столом, кроме моей Маруси, о которой все, к моей пользе и немалому удивлению, окончательно позабыли.
Пламя эмоций улеглось. В конце концов, всем больше всего хотелось, чтобы это бесконечное разбирательство подошло к концу. Если этот молодой человек знает, как это сделать, то пусть и делает.
– Начнем с того…
– Давайте начнем с того, что вы сообщите, как вас на самом деле зовут, молодой человек? – немного неожиданно для всех предложил Виталий Борисович.
Белорус смутился.
– Ах, вы об этом. Поверьте, то, как меня зовут, не имеет существенного значения в деле, которое мы сейчас будем разбирать.
– Нам так не кажется, – настаивал младший дядя Вероники.
– Давайте пока обойдемся без этого. Пока!
– Думаю, это невозможно.
Псевдолеонид вздохнул и поморщился.
– Извольте. Меня зовут Кирилл Корнеев.
Майор заглянул в блокнот и кивнул, подтверждая сказанное.
– Ах, вот оно что! – всплеснула руками Вероника. – Я против того, чтобы он что-нибудь здесь говорил.
– Ну, вот видите. – Кирилл опять вздохнул.
Майор растерянно крутил головой.
– Поясните, в чем дело.
– Поясняю. Я один из публичных оппонентов Модеста Анатольевича. Неоднократно в печати выступал против него.
– Выступал?! – Это уже был крик Валерия Борисовича. – Ведра клеветы, грязной, поганой клеветы, это не выступление, это… – Валерий Борисович задохнулся. – Это клевета!
– Да, я критиковал академика Петухова, но он сам подставлялся. Слишком широкий в научном отношении человек. Иногда он лепил такое, что стерпеть было нельзя, пару раз я прикладывал его, и, думаю, болезненно.
Вероника тихо шептала что-то, и, скорей всего, это была все та же ее излюбленная «сволочь».
– Зачем же вы тогда оказались на этой даче? – вполне резонно поинтересовался майор.
– Академик Петухов был человек необычайно яркий. Я спорил с ним, даже иронизировал по поводу некоторых его завиральных идей, но вместе с тем он вызывал во мне огромный интерес. До конца я не мог понять способ его мышления. Сделать это можно было только сблизившись. Но после того, что я написал о нем, сделать это было немыслимо.
– Это верно, – сухо хмыкнул младший брат.
– В последнее время меня до чрезвычайности заинтересовала одна из идей Модеста Анатольевича.
Во-от откуда эти допытывания насчет спасения СССР! Он не просто заговаривал мне зубы, он выпытывал! Вероника Модестовна зря нервничает. Это скорей не оппонент ее папаши, а продолжатель. Несть числа этим интеллектуальным честолюбцам, все хотят что-нибудь спасти. Уж как самый малый минимум – страну!
– Но идея эта нигде не была им сформулирована полно. Оговорки, намеки, фразочки в интервью. А тут такой случай, Женя Шевяков вдруг решил уйти из тутошних дачных сторожей. Я от природы склонен к авантюристическим поступкам и решение принял мгновенно. Устраиваюсь вместо Жени! Под именем Лени Филина. Это общий наш знакомый, замечательный человек. Дал мне на время поносить свое имя. То, что он белорус, мне казалось удачным маскирующим моментом, потом я понял, что это лишняя нагрузка, слишком много сил приходилось тратить на поддержание легенды.
– Так ты мне, значит, все врал, когда мы ездили. И про партизан врал?!
– Да, врал, – покаянно кивнул Кирилл. – Вычитал где-то и приплел.
Вероника шла пятнами от обиды, только утихомирившаяся злость снова проснулась, и, не будь здесь представителя власти, могла бы перейти к новым физическим действиям в отношении обманщика. Мне он тоже врал по белорусской части, но мне кажется, эту обиду я снесу без особых терзаний. Важно было понять другое – врет или не врет он в данный момент. За пять минут не проверишь. Одно несомненно, наш молодой полемист человек по-настоящему опасный, и авантюристичность его не исчерпывается только присвоением имени и национальности. Теперь-то у меня не осталось никаких сомнений, что камень сцапал он.
Майор молчал. Примерял только что рассказанную историю к своей версии. Кирилл-Леонид был внешне абсолютно спокоен.
– Ну что же, продолжим?
Никто ему не ответил, и он продолжил:
– Во-первых, объясню, почему убегал. За последними доказательствами. Мне нужно было задать всего несколько вопросов соседям Валерия Борисовича. Мне не терпелось поставить точку в своем расследовании. Просить на это разрешения у товарища майора было бы значительно дольше.
Товарищ майор никак не прокомментировал это заявление.
– Теперь, если позволите, я пойду с самого начала. Все началось с осмотра дома. Я обратил внимание, что дверь, ведущая на ту, вторую веранду, не забита наглухо, а всего лишь закрыта на замок. За кустами в заборе напротив этой якобы нерабочей двери был проделан лаз. За забором находился спуск в овраг. Разумеется, всем этим деталям я поначалу никакого значения не придал. И вспомнил о них даже не после того, как узнал о смерти Модеста Анатольевича, а лишь после того, как стало известно, что наш американский гость…
Фил, побуждаемый врожденной привычкой к дружелюбному поведению, сделал оратору ручкой, мол, я здесь, дружище.
– …исчез из дома каким-то таинственным образом. Тут же мне вспомнилось и необъяснимое ночное отключение телефона. Оно произошло где-то около двенадцати ночи, через час после общего отбоя. Мне нужно было позвонить в Москву, а тут авария. Я вышел наружу, попытался отыскать обрыв. При все том же первом осмотре я заметил, что телефонные провода крепятся очень ненадежно. Но оказалось, провода в порядке. Сейчас-то мне понятно, что провод оборвал Валерий Борисович, и мне даже понятна цель этого мелкого хулиганства.
– Да я хотел только поговорить с человеком, а Модеска меня прогнал. А я-то видел, что человек свежий, хороший, ему и самому интересно. Где ему еще такую подлинность увидать нашей жизни? И я решил, пусть ночью, под звездами, за самогоном пообщается с аборигеном. То есть со мной. А провод оборвал, чтобы, если хватятся среди мрака, глупых звонков по милициям не было. Место заметил, сам же потом и починил.
Сторож несколько раз кивнул в продолжение этой речи.
– Все правильно. Я возьму на труд изложить что-то вроде предыстории этой истории. Самое интересное – как Валерий Борисович попал на глухую веранду прошедшей ночью. Очень просто, оказывается. С помощью ключа. Дача в прошлом, как всем отлично известно, принадлежала адмиралу Хорлину. Между зятем и дочерью адмирала произошла в свое время серьезная размолвка. Им пришлось фактически разъехаться.
Вероника шумно и тяжело вздохнула, я ее понимал, кому приятно, когда какой-то выскочка лезет в самое сердце твоей семейной жизни.
– Почему именно таким манером, не предмет нашего сегодняшнего рассмотрения. Юлия Борисовна, которой досталась большая московская квартира, на правах дочери забрала себе почти все реликвии, связанные с морской славой отца. О них еще пойдет речь. Заметим только, что среди прочих вещей имелась, как я понимаю, связка ключей. На этой связке был ключ, с помощью которого можно было отпереть дверь глухой веранды. Им и воспользовался Валерий Борисович.
– Ну, воспользовался, и что, это преступление против человечности?!
– Он что, ездил на городскую квартиру к сестре? – поинтересовался товарищ майор.
– Нет, конечно, связка эта находилась совсем неподалеку. За оврагом. Я определил это сегодня утром, когда навестил жилище Валерия Борисовича.
Майор налил себе полрюмки водки.
– Жилище Валерия Борисовича?
– Да, представьте. От Жени Шевякова я узнал, что Модест Анатольевич снимает для своего свояка дачный дом в этом же поселке. С условием, что тот не будет появляться в пределах этого участка.
– Пошел он к черту со своими условиями! Здесь дом моего родного отца!
Виталий Борисович ничего не сказал, но на его усталом холеном лице читалась та же мысль.
– Кроме того, что Модест Анатольевич платил за съемный дом, он еще и выплачивал Валерию Борисовичу нечто вроде содержания.
– Не выплачивал! Вернее, я не брал, – вскочил с места обвиняемый, плюясь слюной и остатками закуски. – Не сметь тут такое говорить! Я не брал никаких его денег.
Сторож легко устоял под этой весьма психической атакой. Он смотрел на своего противника вполне снисходительно. Только спросил.
– Может быть, вы скажете нам всем, Валерий Борисович, на ЧТО Модест Анатольевич эти деньги выдавал?
Налившись краской, но при этом сникнув, Валерий Борисович сел на место.
– У вышеупомянутых фигурантов были и другие виды финансовых отношений. Модест Анатольевич собирал вещи, связанные с памятью адмирала Хорлина. Он платил за них…
Валерий Борисович опять заерзал на своем месте. Он был мне предельно несимпатичен и до сегодняшнего дня, и я не представлял, что я смогу продвинуться в углублении этого чувства.
– Это все она. – Он ткнул пальцем в Веронику. – Кинжал этот подсунула мне она, Вика.
Вероника не стала отпираться, даже не посмотрела в сторону дяди.
– Ей тоже были нужны бабки. А Модеска был хороший бабник, умел заработать. Так вот, родная его дочка…
Сторож не стал дожидаться, как он разовьет свою поганую мыслишку.
– Но пойдем дальше. Вернее, зайдем с другой стороны. Нам придется обратить внимание на других насельников дома в эту роковую ночь.
Ах, вот как, молодой человек, чтобы увести внимание от, кажется, симпатичной вам особы, вы переносите направление удара. Поглядим же, что будет дальше. Я волновался меньше, чем мог бы от себя ожидать.
– Помимо дочери Вероники у Модеста Анатольевича имеется еще одна дочь, Маруся.
– Кстати, где она? – озаботился майор.
– Она спит, – сказал я.
– Все еще спит?
– Чему удивляться, товарищ майор. Психологический срыв, нервы не канаты.
– Я думаю, что мы сможем во всем разобраться и без привлечения Маруси, – сказал Кирилл.
Ах ты мой красавец! Такого подарка я даже от себя себе не мог бы ожидать. Что кроется за этой щедростью? Трудно поверить, что элементарная рыцарственность. Кавалер в ущерб себе оберегает покой дамы! Или не только ее покой?
Я посмотрел на Шевякова. Он был бледен. Ах, вот оно что, ради друга старается.
– Существует такое мнение, что Модест Анатольевич в свои молодые годы во время многочисленных путешествий по стране частенько заводил, так сказать, полевые романы. Дети, прижитые в их результате, якобы живут по всей стране. Маруся родилась после его командировки в Томскую область. Девятнадцать лет назад. Ее гордая мать долго отказывалась ей сообщить, кто ее настоящий отец. И сделала это только два месяца назад, перед смертью.
По правде говоря, я не мог поверить своим ушам. Да кто же у нас, в конце концов, работает в КГБ?! Этот майор с бородавкой или наглый авантюрист с голубыми глазами? Если бы все эти сведения изложил мне работник органов, я бы не удивился, но чтобы какой-то поддельный белорус до всего докопался…
– Похоронив мать, она приехала сюда. К отцу. Он ей обрадовался. Она стала управляться по дому. Женя Шевяков в это время подрабатывал тут сторожем. Отличная работа для аспиранта. Поскольку они оба были, так сказать, связаны с материальной стороной здешнего быта, сталкиваться им приходилось часто. Они подружились. Потом у Жени возникло по отношению к Марусе нечто большее, чем дружеская приязнь. Ему даже показалось, что он может надеяться на взаимность. Но развитие событий пошло по совершенно другому сценарию. Маруся вдруг потребовала, чтобы Женя оставил ее в покое. Ну, знаете, как иногда себя ведут люди в состоянии сильной влюбленности. Ах, так, решил Женя, в один день уволился и уехал. Едва успев вызвать меня по телефону. Но уже по дороге в город ему стало ясно, что просто так он уехать не может. Он должен еще раз поговорить с Марусей. Выяснить, в чем причина ее странного поведения. Ему показалось, что она, как бы это точнее сказать, не вполне свободна в своих решениях.
Этот наглец смотрел прямо на меня. Но я полностью владел собою. Атакуешь – пожалуйста! Но не рассчитывай на паническую капитуляцию. Я весь сегодняшний день варюсь в котле с самыми разнообразными страхами, закалился!
Родственнички академика помалкивали, все сообщаемое было для них полнейшей новостью.
– Женя вернулся. И под покровом ночи пробрался к окну Марусиной комнаты. Он надеялся объясниться без свидетелей. Он заглянул в окно. То, что он там увидел…
– Что?
– Что он там увидел?!
– Но говорите же!
– Секундой позже. Да, он нечто увидел там, но и его увидели. Уважаемый Дементий Дементьевич углядел его в окошко своей комнаты.
– Это не секрет, я в самом начале рассказал об этом. – Говоря эти слова, я обращался к майору. Не позволю я ему забыть об этом факте.
– Испуганный Дементием Дементьевичем, потрясенный увиденным, Женя кинулся бежать.
– Что же, наконец, он увидел?!
– Уже начинаю рассказывать, товарищ майор. Женя вбежал ко мне в сторожку. Собственно, по инерции вбежал, он считал сторожку своим жилищем. Он был в состоянии шока. Он рухнул на кровать, его рвало, его выворачивало, он рыдал. С трудом мне удалось привести его в чувство.
Все собравшиеся смотрели на бывшего сторожа. Шевяков сидел, повесив голову на грудь.
– Я прошу прощения за необходимость говорить о таком… Женя увидел Модеста Анатольевича, голого Модеста Анатольевича, и Марусю, которая как раз раздевалась для того, чтобы… В общем, не могло быть никаких сомнений в том, что должно вот-вот произойти. Перед тем как прогнать Женю, Маруся сказала ему, что собирается посвятить свою жизнь отцу. Он, мол, так одинок, ему нужен уход. Аргументы эти выглядели лживыми, лживыми они и оказались. То, что его любимая спит со своим отцом, не укладывалось в голове Жени.
– Ночь нежна, – хихикнул Валерий Борисович, он всегда радовался тому, что кто-то оказался большей скотиной, чем он сам.
Кирилл даже не глянул на литератора.
– Да и в какой голове это может уложиться? В моей, например, не смогло. Организм мозга отказывался переваривать эту информацию. Фактов у меня никаких не было, но я твердо заявил Жене, что тут какая-то путаница. Не надо вешаться и травиться, надо во всем разобраться. Я высказал ему мысль, своевременным появлением которой в моей голове горжусь до сих пор. Я сказал ему, что Маруся, скорей всего, никакой дочерью Модеста Анатольевича не является.
– Чем тут гордиться, – крикнула с места Вероника, – я давно уже поняла, что она авантюристка. Даже не знаю, почему я ей не поверила. Как ни смешно – сердце подсказало. Об отце легко было навести справки, выяснить, где и когда он бывал. И прикинуться такой вот тихой наследницей. А папахен мой был не такой уж дурак. Он ее, как говорят, расколол. А ей куда деваться? Возвращаться в Томскую область? К маминой могилке? Вот они полюбовно и договорились.
– Какая мерзость, – прошипел Виталий Борисович.
Майор теребил бородавку.
– Это неправда, – вдруг глухо сказал Барсуков.
– Почему же неправда? – вежливо спросил сторож.
– Потому что неправда, и я настаиваю на этом как врач.
– На чем настаиваете? – поинтересовался майор.
Барсуков продолжал напоминать человека, по ошибке вынутого из гроба, говорить ему было невыносимо трудно, но от этого каждое его слово обладало особым весом. Похоже, он собирался выступить с полезным для меня заявлением. Принимаем помощь и от несчастных отцов, и от неудачливых врачей!
– Модест Анатольевич голодал – лечебное голодание – и пил только отвар шиповника. Восемь дней.
Майор записал, но не поверил записанному.
– Не ел восемь дней? Совсем?
– Я же говорю, только отвар шиповника. Раз в полгода Модест Анатольевич обязательно проводил такое голодание. Судите сами, с учетом еще его шестидесяти лет, мог ли он заниматься любовью с молодой здоровой девушкой.
– А давайте разбудим Марусю и обо всем ее расспросим! – предложил Валерий Борисович.
Я так и дернулся в кресле.
Все обратили свои взгляды к майору: как решит он? Собственно, что тут было решать, ему оставалось только отдать команду Семченке. Какая сила тут могла вмешаться?
– Я предлагаю Марусю не будить. Она слишком много вынесла за сегодняшний день. И о нас надо подумать.
Сторож опять стал грудью на пути смертельной для меня опасности. Трогательно, но непонятно.
– В каком смысле? – подозрительно спросил Аникеев.
– Как мы будем выглядеть, когда станем хором допрашивать несчастную девушку о ее вынужденных сексуальных отношениях со стариком?
– Я понимаю, что это не лучший выход, но другого нет!
– Есть, Иван Денисович. И очень простой. Аргумент уважаемого Арсения Савельевича отнюдь не смертелен. Сказать по правде, я и сам сначала засомневался в словах Жени. Но развеял их при помощи одного лишь телефонного звонка.
– Двух, – сказала Вероника.
– А, правильно, двух. Я позвонил своему товарищу, Мише Лямурчику, тоже, кстати, белорусу. Хотя почему кстати? Так вот, Миша недавно перенес лечебное голодание. И, как выяснилось после разговора с его женой, они в этот период время от времени вели обычную половую жизнь. После пятого-шестого дня организм голодающего человека переживает так называемый ацидотический криз и переходит на эндогенное питание. Все системы его функционируют так же, как и у нормально питающегося человека.
– Я не верю в это, – сказал Барсуков, но всем было понятно, что говорит он это зря.
– Ваше право.
– Ну ладно, хватит, – резко сказал майор Аникеев, – хватит научных споров и хождения вокруг да около. Я слушаю вас уже битый час, но мы не стали ближе к разгадке. У меня крепнет ощущение, что вы просто водите нас за нос.
Кирилл поднял руки извиняющимся жестом.
– Я просто хотел, чтобы мои выводы выглядели убедительно. Мы в двух шагах от разгадки. Даже в одном шаге.
– Так вы можете прямо сейчас сказать, кто убийца?
– Да, товарищ майор, могу.
– Ну так кто?!
27
Пошел дождь. Порывом ветра чуть качнуло лампочку над входом на веранду, и показалось, что качнулся весь окружающий мрак. От какой-то отдаленной дачи принесло обрывок телевизионной музыки, сопровождающей прогноз погоды после программы «Время». То есть было еще не так поздно, до полуночи оставалось два с половиной часа.
То есть не прошло и суток с момента убийства Модеста Анатольевича.
28
– Юлия Борисовна Петухова, урожденная Хорлина.
Ничего себе! Надо признаться, сообщеньице меня позабавило. Удивило же то, что оба брата мадам-убийцы и ее дочь на это заявление отреагировали довольно спокойно. По-моему, даже с облегчением.
Поверили?! А может, знали?
Майор выглядел удивленным, но спросил спокойно:
– И чем же вы докажете это свое заявление?
В этот момент заплакала вдруг Вероника и, быстро поднявшись, ушла с веранды в дом. Этот уход прозвучал как подтверждение слов Кирилла, но он все же дал пояснения:
– Помните, я говорил о связке ключей? Так вот, на этой связке был не только ключ от входной двери на глухую веранду, но и от сейфа. Сейф этот оставался в кабинете со времен адмирала Хорлина. Юлия Борисовна большую часть жизни проводила в психиатрических клиниках с не слишком строгим режимом. Когда ее отпускали домой, она жила со своим братом Валерием Борисовичем, который, как я уже говорил, получал за это деньги от Модеста Анатольевича. Не в качестве брата, но медбрата. Отпущенная в очередной отпуск, а может, и самовольно покинувшая клинику Юлия Борисовна заехала к себе на квартиру и обнаружила, что из шкатулки с реликвиями отца пропал самый ценный экспонат – кортик. Доступ в дом имела только дочь Вероника. Ее отыскать не удалось. Тогда Юлия Борисовна, невзирая на позднее время, приехала в Перелыгино к брату, который в этот момент пил со своим американским другом у себя на даче и нисколько ее не ждал. Чтобы отвести удар от себя, он заявил, что кортик продан Вероникой Модесту Анатольевичу. Решительная женщина Юлия Борисовна взяла связку с ключами и тут же отправилась вызволять отцовский кортик. Благо стояла уже глубокая ночь. Не знаю уж, какой она себе составила план, но получилось все удачно. Она спокойно вошла через вечно закрытую дверь. Никого не встретила в коридоре, никого не было в кабинете. Она без помех вскрыла сейф. Вывалила его содержимое на пол. Схватила кортик, спустилась вниз. Ее внимание привлекли звуки голосов, доносившиеся из комнаты Маруси. Подсмотреть, что происходит, можно было только из туалета, того, что находится рядом с комнатой.
Кирилл налил себе водки и быстро выпил.
– Я не зря вас всех заставил слушать про шок, испытанный Женей при виде того, что происходило в этой комнате. Вы легко можете представить себе реакцию жены. А Юлия Борисовна была чрезвычайно ревнивой женщиной, она даже заболела на этой почве. Всю жизнь она подозревала мужа в измене, а тут увидела ее воочию. Пока она приходила в себя, Модесту Анатольевичу понадобилось посетить туалет. Как только он вошел, то получил удар кинжалом в сердце.
Кирилл налил себе еще, но пить раздумал.
– После этого Юлия Борисовна, понимая, что совершила нечто ужасное, очень быстро покинула дом. Не забыв, однако, закрыть за собою ту потайную дверь. Остальное всем нам известно. Арсений Савельевич выскочил на шум, успел подняться в кабинет и завладеть тетрадью. И тоже исчезнуть незамеченным. Лично для меня во всей этой истории загадкой осталось только одно.
– Что же?
– Я не могу понять, товарищ майор, каким образом вы так быстро оказались в курсе дела.
Майор Аникеев пожевал губами.
– А я, в свою очередь, не могу понять, откуда вы раздобыли все эти сведения, и в столь подробном виде.
Кирилл развел руками, словно бы извиняясь.
– Я не применял никаких запрещенных методов. Просто разговаривал с людьми. Например, с Женей Шевяковым. Чтобы он, не дай Бог, не совершил над собой чего-нибудь нехорошего, мы проговорили всю ночь. Если бы вы знали, в какие подробности жизни семьи Петуховых мы вошли. Шоферам, сторожам с их точки наблюдения видно и слышно иногда такое, о чем хозяева и не подозревают. Всю ночь я говорил с Шевяковым, а весь день с Вероникой Модестовной. Мы катались по Москве в поисках Валерия Борисовича и говорили, говорили… О ключах, к примеру, рассказала мне она, даже этого не заметив. А дальше все просто. Про дверь я все выяснил сам, про ключ выболтали; я совместил ключ и дверь в сознании, и образовалась разгадка. Кроме того, скажу честно, многие моменты общей картины я нагло реконструировал, опираясь на обрывки сведений и общие психологические законы. Возможно, я не прав в мелочах, но, убежден, прав в главном.
Следователь слушал, слегка наклонив голову набок. Верит он или не верит в этот фейерверк выдумок, понять я не мог.
– Мне осталось задать вам всего два вопроса. Первый: каким образом, столь замечательно зарезанный в вашей версии Модест Анатольевич перебрался из туалета к себе в кабинет? Второй: сами-то вы видели Юлию Борисовну? Кто знает, может, она по-прежнему тихо лечится у себя в больнице и ничего не слышала о ваших построениях.
– Сначала по поводу первого вопроса.
Ну вот! Еще один решающий момент. Если бы кто-нибудь знал или мог себе представить, как мне надоели за сегодняшний день эти пиковые ситуации.
Сторож плотоядно облизывался.
Что же ты молчишь? Давай уж!
– Мне кажется, тут придется поработать вам самому, товарищ майор. Одно фантастическое достижение у вас уже есть, я имею в виду то, как вы быстро узнали об убийстве. Спустя каких-нибудь несколько часов. Уверен, что и с путешествующим трупом справитесь.
Мне ответ сторожа понравился, а майору нет. Он чувствовал, что ему нахамили, но не понимал, каким образом.
– А сейчас я отвечу на вопрос номер два. Еще во время утренней прогулки я обнаружил, что дом Валерия Борисовича стоит, если брать напрямую, менее чем в сотне шагов от этого дома. Тропинка между ними пролегает укромнее, чем подземный ход. Я сразу сделал вывод, что два этих дома связаны в этом деле. Кроме того, во время этого визита я побеседовал там с одной старушкой, которая, сидя на крыльце, чистила картошку. Старушка эта показалась мне несколько странной, но не более того. Чем больше мне удавалось узнать в течение дня, чем прозрачнее становилась для меня эта история, тем страннее выглядела для меня эта бабушка. В каких мысленных вихрях я ни вертел ее, она оставалась непонятной. Несколько раз я напрямую хотел спросить о ней Веронику, но психологически уместный момент все не подворачивался. Наконец подвернулся, уже вечером, когда мы с нею заехали на дачу Валерия Борисовича и застали там Виталия Борисовича. Между родственниками произошла сцена, и мне стало ясно, что причиной ее является старушка. Но кто она такая?! Я задал этот вопрос. Виталий Борисович, надо признать, с полным самообладанием ответил мне, что это соседка. У меня голова пошла кругом. По телефону нас вызвали сюда. Я уже в тот момент понимал, что старушка – основное звено этой запутанной истории, я догадывался даже, что старушка, возможно, и есть убийца, как ни дико это звучит. Но все еще не мог объяснить себе, кто она такая.
Кирилл выпил вторую рюмку водки. Занюхал костяшками пальцев. Никто не проронил ни слова. Все ждали продолжения.
– Уже здесь, уже когда мы накрывали на стол, мне пришло в голову решение. Озарение, так сказать, в двух частях. Помог мне в первую очередь Сергей Миронович Киров.
– Кто? – Майор сильно наклонился вперед.
– Я не брежу, Киров. Существует мнение, что его в свое время убил Сталин как опасного конкурента. Доказательств никто не приводит, но мнение утвердилось. А я недавно узнал, что Киров просто спал с женой того мужика, что стрелял в него. Служебный роман. Первая мысль, вставшая в фундамент разгадки. Вторая – совсем элементарная. Я подумал – а ведь женщины стареют. И все!
– Что все? – Майор был на грани настоящей злости.
– Я понял, что мне мешало опознать в этой седой старушке Юлию Борисовну. Ее фотографии. Я видел их в кабинете. Большая, статная, черноволосая. Но такой она была лет пятнадцать назад. Пятнадцать лет в психушках. Юлия Борисовна стала совершенно непохожа на себя. Муж, естественно, держал на столе ее старые фотографии. А Киров навел на мотив – ревность! Самая обыкновенная ревность. Седой соседке Валерия Борисовича, какой бы странной она ни казалась, нет никакого резона убивать академика Петухова. Сегодня утром я мог видеть там только Юлию Борисовну.
– Да, соседке незачем, – взялся за подлокотники майор.
– Для того, чтобы снять последние сомнения, я и разыграл это переодевание, сбегал к тому домику и задал ей вопросец. Юлия Борисовна сидела в комнате и пила чай. И ничего скрывать от меня не стала. Показала место, где висела связка ключей. Даже не обругала за любопытство. Да вы сами ее давеча видели, когда приезжали за мной в дом Валерия Борисовича.
– Что же вы давеча мне не сказали, кто эта дама?
– Извините, товарищ майор, пожалел старушку. Хотел избавить от всего этого длинного и неприятного разбирательства. Теперь, если вы захотите с ней поговорить, вам достаточно будет задать ей всего несколько вопросов.
– Да уж мы сами решим, как нам себя вести.
Майор медленно поднялся. Медленно и с трудом.
Тяжело дяденьке. Даже его профессиональная голова, должно быть, уже гудела под грузом всего этого бреда. А бывший белорус и не думал останавливаться.
– Я прошу вас особенно отметить этот момент – состояния аффекта! Юлия Борисовна и без того была очень больна, а тут она видит, что ее муж собирается лечь в постель, да не просто с чужой женщиной, а со своей дочерью! И абсолютно здоровый человек осатанел бы. Действия родственников были всего лишь попыткой избавить несчастную женщину от тягот следствия. Виталий Борисович, узнав от кого-то…
– Слухом земля полнится, – сказал младший дядя Вероники.
– …о несчастье, как умный человек, все понял сразу. Переборов себя, примчался на дачу брата. Юлия Борисовна все ему рассказала, так же как ранним утром, насколько я понимаю, все рассказала дочери. Виталий Борисович, найдя на даче пьяного до невменяемости Фила, решил перетащить его обратно на глухую веранду, чтобы, проснувшись там, где не надо, тот не навел следствие на его сестру. Разве не так должен был поступить любящий брат?
Следователь, подойдя к перилам, сплюнул в ночь.
– А Вероника Модестовна из дочерних чувств навела нас на ложный след своим звонком в гараж, да?
Кирилл радостно всплеснул руками.
– Какая умница! Посудите сами, как же иначе она должна была себя вести? Когда выгораживаешь мать, разве можно думать о такой ерунде, как интересы следствия? Теперь мне понятно, она сегодня весь день разыскивала Валерия Борисовича не из-за денег, она хотела предупредить его, чтобы он не болтал насчет ключа, чтобы не повредил Юлии Борисовне.
Повернувшись к очень довольному собой Кириллу, майор глухо сказал:
– Все, конечно, зайчики, а человека-то убили.
Когда морализировать начинает офицер тайной полиции, я – ничего не могу с собой поделать – опускаю глаза.
Майор Аникеев спрятал блокнот в карман пиджака и сказал своему Семченке:
– Иди, заводи.
– Вы что же – уезжать?! – радостно, но одновременно угодливо крикнул Валерий Борисович. – Поздно, однако, ночуйте!
– Однако, поеду.
Майор спустился по лестнице на кирпичную дорожку. Обернулся.
– Об одном вас всех прошу, не надо слишком уж радоваться. Все, что здесь говорилось, мы еще будем проверять. Очень проверять.
Валерий Борисович кинулся провожать товарища майора, бормоча что-то про посошок.
– Чему радоваться? – растерянно спросил Арсений Савельевич неизвестно у кого.
Кирилл, надо сказать, все-таки с радостным видом наливал себе водочки.
Проснувшийся Фил сообщил, что желал бы немедленно выразить Модесту Анатольевичу свою благодарность за гостеприимство.
Шевяков автоматически протянул Филу рюмку.
– Модеста Анатольевича больше нет, – сухо сказал Виталий Борисович.
Фил серьезно закивал.
– Болше нет. – И отклонил руку сторожа с рюмкой.
Валерий Борисович мелко семенил за следователем и уже у самой калитки, не зная, как выразить свое глубочайшее уважение к нему лично и к организации, им представляемой, заискивающе спросил:
– Что, тяжелый был день, Иван Денисович?
29
1990 год. 27 сентября. 6 часов 5 минут.
Станция Перелыгино. Низкое серое небо. Воздух пропитан нездоровой сыростью. Тускло блестят рельсы. Тускло блестят железные крыши домов вдоль дороги. Меж сосновыми стволами клочья тумана. На неровной асфальтовой платформе мелкие прозрачные лужи. Между ними прохаживается одинокий голубь.
Очень хочется уехать отсюда.
На тропинке, что ведет вдоль насыпи, показались два человека. Один в резиновых сапогах, черной болониевой куртке и синей вязаной фуражке. Второй много ниже его ростом, чрезвычайно худой, черные волосы с проседью, растущие как у индейца, глубоко запавшие печальные глаза и маленький, все время чуть улыбающийся рот. Одет он в серую пару, при галстуке. В руке потертый саквояж. Правильно, когда портрет главного героя возникает на последних страницах.
– Пришли, – сказал Дементий Дементьевич, ступив на платформу, – пожалуйте камешек.
– Погодите, – ответил Кирилл, – давайте дождемся электрички.
– Мне казалось, что мы договорились вполне определенно, вам Маруся, мне камень. Марусю вы получили в лучшем виде, она не спит, не плачет, а вы для чего-то затеяли эти проводы.
– Я хочу убедиться, что вы уехали. Вернее даже, я хочу убедиться, что Маруся осталась.
– Никогда бы не подумал, что эта спящая красавица нужна вам до такой степени.
– Вы же знаете, что она нужна не мне, а моему другу.
– Ну, понятно.
– Что вам понятно? Они любят друг друга. Сильно, по-настоящему. Имеются даже доказательства этого. Знаете, почему Женя пытался объявить себя убийцей?
– Не знаю.
– Во время их краткого разговора у калитки, того, что вы прервали своей идиотской погоней, Маруся успела сказать ему, что это она виновница гибели Модеста Анатольевича, видите ли, эта чистая душа считала себя подлинным убийцей. Им не удалось договорить до конца. Женя бросился бежать.
– Чего же он бросился бежать, герой?
– Боялся подвести меня. Я дал ему строжайшие инструкции. Он не мог выходить из сторожки. Но, увидев Марусю, не выдержал. Так вот, он решил во что бы то ни стало выгородить ее. Он считал, что сделать это можно только одним способом – взять вину на себя. А она готова была все взять на себя, чтобы обезопасить его. И такие чувства вы ломали своим гнусным гипнозом!
– Ну, хватит. Вы же знаете, что ничего так и не произошло. Модест Анатольевич только собирался, так сказать, взгромоздиться, и в этот момент ему приспичило в туалет.
– Если бы «что-то» произошло, я бы с вами разговаривал по-другому.
Они стали смотреть в разные стороны, но оба видели все одно и то же – пасмурное утро. Появились две пожилые женщины на платформе, но они были так далеко, что Кирилл и Дементий Дементьевич при желании могли ощущать себя одинокими.
Молчание нарушил Кирилл.
– Давал себе слово не заговаривать на эту тему, но все же не могу удержаться. Насколько я успел вас узнать, вы человек умный и очень даже образованный.
– Мерси.
– Неужели вы и в самом деле считаете, что эта каменюка, если приставить ее в нужное место на какой-то там скале, откроет вам высший смысл существования или что-то в этом роде?!
Дементий Дементьевич выбрал на асфальте место посуше и поставил на него свой саквояж.
– Могу вам ответить почти теми же словами. Я тоже считаю вас человеком умным.
– Сенкью.
– Как человек умный, вы рано или поздно поймете, что не должны ставить себя выше меня, хотя и одержали надо мною ряд мелких побед. Вы ведь такой же, как я, вы ведь, по сути, тоже ищете камень.
– Какой еще камень?
– Что-то вроде философского. Но если мой камешек есть нечто вполне материальное, я знаю, как им воспользоваться, и представляю, хоть и в самых общих чертах, к чему он может меня привести, то ваш «План спасения СССР» полнейшая фикция, выдумка, дешевая литература. Вы же днем и ночью, я чувствую это, бьетесь над мыслью, как спасти вот это огромное, сложное, временами великое, а по большей части безумное и кровавое, в общем, все то, что мы понимаем под аббревиатурой СССР. Как спасти от неуклонно приближающегося конца. Академик говорил, что это случится года через два. Но даже если через десять, какая разница?! Какая для меня разница?! Разве можно тратить свою жизнь на копание в этой мусорной куче?!
– Мусорной куче?
– Только не вздумайте как-нибудь патриотически обидеться! Мне одинаково плевать и на демонстрацию на Манежной площади, и на перуанских повстанцев. Что бы ни происходило вокруг – коммунизм, фашизм, шариат, геноцид, – я точно знаю, что моя цель вне этого, и она выводит меня из всего этого тем, что я к ней стремлюсь. Можете смеяться над моей каменюкой, как я смеюсь над вашей. Вам ваша жизнь дана в ваших ощущениях, и нечего тут больше говорить. А кто из нас двоих сумасшедший…
Вдалеке послышался шум приближающейся электрички.
– Ну вот, уже едет, давайте камень. Не задумали же вы меня обмануть. Глупо!
– Нет, не задумал.
Кирилл расстегнул сумку, висевшую на плече.
– Давайте же!
– Только один вопрос.
– Какой еще вопрос? Хватит уже! Мы же договаривались!
Поезд уже шел, сбавляя ход, вдоль платформы.
– Вы правда ни разу не видели рукопись Модеста Анатольевича? Ни разу?
– Камень!
Кирилл достал из сумки обломок, тот самый, что показывал Колесницыну, но продолжал сжимать его в своей руке.
– Этой рукописи не существует в природе, нет?
– Академик Петухов был болтун. Типичный русский болтун обо всем. Всемирно отзывчивая душа. Ничего надежного, ничего основательного, ничего реально полезного он был создать не в состоянии. Таких мыслителей полно возле каждой пивнушки.
Поезд остановился. С неприятным шипением открылись двери.
– Камень! – крикнул Дементий Дементьевич, как будто это был последний поезд в его жизни.
Кирилл протянул ему обломок. Схватив его, гипнотизер прыгнул в тамбур. Там он развернулся, опустил на пол саквояж и прижал обеими руками добычу к солнечному сплетению.
Двери медлили.
– Знаете что, Кирилл. Скажу вам одну вещь, вы ее постарайтесь запомнить.
– Говорите.
Двери начали закрываться.
– Запомните, конец СССР – это не конец света. И вообще, конец света будет не на Земле.
Двери закрылись, отделив тамбур от платформы. Электричка тронулась, набирая ход, она шумела все страшнее.
Глядя в пробегающие мимо вагоны, Кирилл пробормотал себе под нос:
– Как сказал бы Валерий Борисович – тамбур уходит в небо.
30
Когда электричка скрылась из вида, из-за станционного здания показался Шевяков. Немного неуверенной походкой он подошел к задумчиво стоящему другу.
– Уехал?
– Ты же видел сам.
– Да, все не верилось, что все кончится хорошо.
– Как там Маруся?
– Вроде бы ничего, но полечиться ей все же придется. Он ведь над нею… он же, как Кощей какой-нибудь, чах над нею. Несколько месяцев. А ведь он у них не самый главный. Но мы их победили, да? – В голосе Шевякова не чувствовалось особой бодрости.
Кирилл кивнул.
– Победили. Только что мы получаем в качестве награды?
– О чем ты?
– Тебе досталась полусумасшедшая, мне-и того хуже.
– Ты кого имеешь в виду, Веронику или страну? – усмехнулся Шевяков.
– A-а, пошли завтракать.
– Послушай, знаешь, на что я обратил внимание? Когда двери начали уже закрываться, в соседний вагон прыгнули двое в плащах. Ну, знаешь, такие, на Семченку похожие.
Кирилл, тронувшийся было с места, остановился. – Да?
– Я видел все очень хорошо, народу же мало.
– Понятно. То-то у меня все время было ощущение, что, собственно, поисками убийцы никто, кроме меня, всерьез не занимается. И Иван Денисович этот явно высматривал все время что-то другое.
Когда они спустились с платформы на тропинку, Кирилл закончил мысль:
– У нас страна, где все занимаются не своим делом. Академики бегают за девицами, аспиранты ищут убийц, а тайная полиция думает об иных мирах. Это не может кончиться хорошо.
Эпилог
Знакомый участок на улице адмирала Сенявина засыпан снегом, так что сделался почти неузнаваемым. Черная «волга», остановившаяся перед воротами, особенно заметна на фоне тихого зимнего пейзажа. Четыре человека, энергично занимавшиеся физзарядкой перед крыльцом дома, замерли, выпуская при этом большие клубы пара изо ртов.
Придерживая полу длинного черного пальто, из машины появился Иван Денисович Аникеев.
– Так, – громко сказал Кирилл, – все в дом. Приступаем к водным процедурам.
Вероника, Маруся и Женя Шевяков, не говоря ни слова, топая кроссовками, чтобы сбить снег, поднялись по ступеням и скрылись в доме.
Майор, приветливо улыбаясь, открыл калитку и по хорошо расчищенной дорожке подошел к Кириллу.
– Да я смотрю, тут у вас порядок, дисциплина…
– В чем дело?
– У меня к вам несколько вопросов.
– Не уверен, что обязан на них отвечать, товарищ майор.
– Подполковник.
– Не думаю, что это что-то меняет.
Иван Денисович кивнул.
– Вы правы, я тут в частном качестве. Просто нужно закончить одно дело. Думаю, вам будет интересно в этом поучаствовать.
Кирилл на несколько мгновений задумался. Потом сделал жест в сторону сторожки.
– Прошу.
Аникеев немного удивился.
– Вы по-прежнему там живете?
– Я по натуре сторож, поэтому мое место там.
Когда они вошли на кухню, Кирилл зажег свет и предложил подполковнику стул. Тот сел, забросив полы на колени и оглядываясь по сторонам.
– А что, здесь уютно.
– Слушаю вас.
– Знаете, меня интересует… скорей всего, это листок бумаги. Листок, на котором записаны некие… знаки. Часть большого текста на неизвестном языке. Мне кажется, что этот листок находится у вас.
Хозяин сторожки, собиравшийся зажечь газ, раздумал это делать и спросил, встряхивая коробок в руке:
– А почему вы решили, что такой листок существует, и почему вы решили…
– Это просто. Я знаю, что вы держали в руках, причем в течение нескольких часов, один интересный камень. Зная вашу любознательность, я не могу поверить, что вы не срисовали нанесенные на нем знаки перед тем, как отдать.
Кирилл зажег газ.
– Я угадал?
– Но…
– Вы хотите спросить, что я вам могу предложить взамен? Ничего особенного, никаких денег, боже упаси. Просто вы утолите мое любопытство, я утолю ваше.
– Любопытство?
– Да, товарищ аспирант. Не станете же вы отрицать, что с течением времени вам вся эта история с убийством кажется все более и более ненормальной. Я вам расскажу, что на самом деле происходило на даче академика Петухова в тот нервный денек, а вы отдадите мне тот листок.
– В тот денек на даче академика произошло убийство, и я его раскрыл.
– А кто спорит? Раскрыли. Но ошибкой было бы думать, что с вами кто-то соперничал в этом деле. Все, дальше я не скажу ни слова, пока не получу принципиального согласия. Ну что, махнем не глядя? Кстати, я возьму у вас только копию вашей копии, вы ни с чем, в сущности, не расстанетесь.
– Чаю хотите?
Аникеев нетерпеливо поморщился.
– Как вы, наверное, догадываетесь, не очень.
Хозяин тем не менее поставил чайник на огонь.
– Хорошо, я вам покажу свой…
– Все, начинаю выкладывать. Несколько лет тому назад где-то в районе Уральского хребта упала суперновая наша ракета. Модест Анатольевич входил в комиссию, которая занималась поисками того, что от нее осталось. В ракете был один такой блок, очень секретный, а в нем одна деталь, еще секретнее. Так вот, блок этот нашли, а детали в нем не оказалось. Хорошо, если бы не нашли ничего, можно было бы заявить, что все погибло, а тут – коллизия. Само собой разумеется, все члены комиссии, даже самые уважаемые, попали под подозрение-наблюдение. Конечно же, негласное. Постепенно круг подозреваемых сужался. В конце концов в нем осталось буквально три-четыре человека. Среди них – Модест Анатольевич. Впрямую работать с таким человеком, как вы сами понимаете, немыслимо. Тем более не имея стопроцентной уверенности. Нам было известно, что происходит на даче. Отлично знакомый вам и мне Дементий Дементьевич давно уже вызывал наш интерес. Потом вдруг появляется Барсуков, возникает американец, возникает новый сторож. И шарах – убийство!
Подполковник сел поудобнее.
– С самого начала я держался версии, что центральная фигура в деле – секретарь. Сказать по правде, я был уверен, что он и убийца. Но поскольку обязанностью моей являлось отыскание детали, а не расследование преступления, я и вел себя соответственно.
– Знаете, хотите вы или нет, но создается впечатление, что вы оправдываетесь.
– Да? Могу вас уверить – это ложное впечатление. Все сыщицкие лавры – вам, я это уже сказал. Я просто объясняю, почему не нашел убийцу. Потому что не искал. Мне нельзя было отвлекаться, я все время должен был держать в поле зрения этого гипнотизера.
– Гипнотизера?
– Это я так, для простоты. Он обладал какой-то особой техникой внушения, мог манипулировать сознанием сразу нескольких людей, причем не вводя их в транс. А уж такая девчушка, как младшая академикова дочь… кстати, вот доказательство того, что я не вел никакого настоящего расследования!
Сторож насыпал чаю в заварочный чайник.
– Какое же в ней доказательство?
– Любой нормальный следователь первым делом тряхнул бы ее. Я даже подходить к ней не стал, не то что допрашивать. Только бросил взгляд и сразу понял – мороженая.
– Что это значит?
– Ну, зомбированная, как любят сейчас писать дураки в газетах. Приходилось с такими работать по другим делам. На такого человека давить бесполезно, максимум, чего можно добиться, – истерики. Можно по-настоящему повредить психику. Кроме того, я боялся спугнуть секретаря. За ним следил, каждое слово ловил, каждую реакцию. Даже чувства перед ним разыгрывал, мол, родственник у меня сволочь, и другое. Ничего. Потом я стал подозревать как сообщника вас.
– Это-то понял.
– Стали следить и за вами. Опять-таки, доказательств никаких, одни версии и эмоции. Когда вы на станции что-то передали Дементию Дементьевичу, было решено, что хватит следить, надо брать. Взяли его. Кстати, не без труда.
Кирилл усмехнулся.
– Да?
– Именно так. Пришлось трижды прочесывать поезд, где он мог спрятаться, до сих пор непонятно. Пока он не стал убегать и сам себя не выдал…
– По его словам, он умеет становиться психически невидимым. Человек смотрит на него в упор, а видеть не видит. Гипнотизер.
– Поймали мы все же этого невидимку. И были уверены, что поймали с деталью, той самой, что вы передали ему при прощании. Но нашли только камень какой-то. Возились с секретарем больше месяца-ничего. Пришлось отпустить. Пришлось еще раз ехать на Урал. И вот там, взобравшись на гору Ак-Забыл, я вновь увидел письмена, такие же, как на камне Дементия Дементьевича. И заинтересовало меня это очень. Камень, который я видел, без фрагмента как раз в размер камня, что вы передали секретарю. Все и сошлось.
Налив чаю себе и подполковнику, Кирилл спросил:
– Там рядом с этой горою какие-то сектанты жили?
– Да, до прошлого месяца. А потом исчезли. Главным у них был некто по фамилии Куротопченко. Следов его отыскать не удалось.
Кирилл встал, прошел из кухни в комнату и вернулся с небольшим листком бумаги. Подполковник положил его перед собой, открыл блокнот и начал перерисовывать в него значки с бумажки.
– Ну а как же деталь, – спросил сторож, наблюдая за работой, – нашлась?
– Деталь? Ах, деталь. Выяснилось, что ее в этот блок просто на заводе забыли поставить. Столько нервов зря.
Кирилл задумчиво отхлебнул чаю.
– Да, в такой ситуации остается только заниматься инопланетянами.
Иван Денисович удовлетворено захлопнул блокнот.
– Что вы говорите?
– Я говорю, что, наверное, этот Дементий Дементьевич никакой не секретарь, а инопланетянин.
– Такой же, как вы белорус.
Подполковник встал. Аспирант тоже встал.
– Я тут связывался с отцом и знаете что выяснил – немного белорусской крови у меня есть.
Последнее дело шерлока холмса
Первая часть
– А, это вы, Ватсон?
Шерлок Холмс опустил газетный лист и медленно откинулся в кресле. Весь его вид говорил, что гостей он не ждет. Письменный стол был завален газетами, газеты были присыпаны пеплом. На углу стола стояла тарелка с остатками пищи. Вилка вообще валялась на полу.
С тех пор как великий сыщик перебрался в этот дом неподалеку от пересечения Кингс-роуд и Парк-стрит, доктор навещал его раз пять или шесть и не мог не отметить, что во все прошлые разы беспорядка было меньше.
Ватсон поставил к стене сложенный зонт и снял котелок, усыпанный мелкими дождевыми каплями.
– Мальчишка-посыльный сообщил мне…
Великий сыщик очнулся от задумчивости.
– Разумеется, мой друг, разумеется, я жду вас с нетерпением. За три часа, прошедшие с того момента, как я отправил к вам посыльного, успело произойти несколько важных и в основном неприятных событий. Взгляните, тут у меня «Таймс», «Дейли ньюс», «Дейли телеграф», «Кроникл»…
В кабинет без всякого стука влетел мальчишка в форменной фуражке и бросил на стол перед Холмсом новые газеты. Тот пробежал глазами заголовки на первой полосе.
– «Стандарт» и даже «Стрэнд»! Все как сговорились! Все пишут одно и то же! Как это ни странно, приходится верить!
Ватсон опустился в кресло у холодного камина и церемонно поставил трость между колен.
– Вера не ваша стихия.
Холмс пропустил это замечание мимо ушей и сказал:
– Волнения в Оранжевой республике.
– Очень интересно, – сухо произнес доктор.
– Не столь интересно, сколь прискорбно, мой друг.
– Судя по тому, что вы выкурили за эти три часа не менее восьми трубок, все обстоит именно так.
Сыщик бросил в сторону доктора удивленный взгляд.
– Браво, Ватсон, именно восемь. Напрасно вы утверждали, что не в состоянии профессионально овладеть моим прославленным методом.
Доктор насупился, отчего его аккуратно подстриженные рыжие усики сделались вдвое гуще.
– В данной ситуации я выступаю профессионально не как сыщик, но как врач. В вашем возрасте восемь трубок на фоне возбуждающего чтения – это чересчур.
– Пожалуй, мой друг, пожалуй.
– Но что же вас так впечатлило в этом сообщении из владений ее величества в Южной Африке? Сейчас не девяносто девятый год, война невозможна.
– Зато возможно падение акций «Кимберли Китченер». Алмазные копи и прочее в том же роде.
– Алмазные копи?! – весьма удивленно и несколько задумчиво произнес Ватсон.
– Бумаги таких компаний падают очень быстро, а потом, даже если выяснится, что оснований для беспокойства не было, растут долго и неохотно.
– И что, это может как-то отразиться на ваших делах?
Холмс постучал холодной трубкой по холодной каминной доске.
– Не только на моих, но и на наших, друг мой.
В глазах доктора появился огонек понимания, правда, почти мгновенно сменившийся туманом сомнения.
– Но, Холмс…
– Спрашивайте, мой друг, спрашивайте!
– Боюсь, я и без ваших ответов понял, что произошло. Компания не в состоянии оплатить наш проект. Величайшее расследование сквозь века! Ведь вы почти уже доказали, что Железный Хромец был отравлен во время последнего китайского похода. Осталось только…
– Да, наша поездка, которую мы так давно планировали, которая должна была стать венцом моей карьеры, быть может, – в голосе великого сыщика звучала откровенная грусть, – кажется, сорвалась.
– О боже, Холмс, только не говорите, что мы должны забыть о могиле Тамерлана. Ведь проделана такая работа…
– Правильно, друг мой, верно.
– Сколько перелопачено материалов, проложены маршруты, уже даже наняты проводники через перевалы Кашмира.
Холмс только грустно кивал.
– И в основном это был результат вашей фантастической трудоспособности, Ватсон.
– А ваши идеи, Холмс!..
– Но что делать, если теперь они стали так же неосуществимы. Но, поверьте, меня больше всего расстраивает тот факт, что из-за разорения «Кимберли Китченер» и крушения идеи величайшего расследования – «Могила Тамерлана» – мы так и не прочтем ваш роман, мой друг. А ведь это было бы грандиозное сочинение.
– Что об этом говорить, Холмс, какой-то роман, вы, вы…
– Что вы говорите, роман-это как раз… Успокойтесь, дорогой друг. Я знаю один способ, как справиться с неприятностью, – тут же пуститься в новое дело.
– Но мы же отказали всем, собираясь в Кашмир. И дочери мясника с ее отравленными племянниками, и викарию, повешенному в своей библиотеке. То есть не самому викарию, впрочем… Я знаю, вы буквально заболеваете во время вынужденных простоев.
Знаменитый сыщик затаенно улыбнулся, он уже начал обретать черты своего привычного образа – уверенность, твердость, силу.
– Судьба сурова, но и щедра. Правда, не всегда ее щедрость может полностью возместить размер потери. Простоя не будет. Одним словом, Ватсон, пока вы ехали ко мне, я получил письмо. Да, мы пока откладываем папку со звучным названием «Могила Тамерлана».
В руках Холмса появился обыкновенный почтовый конверт.
– Я получил это четверть часа назад. Прочтите.
Доктор развернул лист бумаги, поданный ему.
– «Мистер Холмс, Вы моя последняя надежда. Если мне не поможете Вы, не поможет никто. Посетить Вас лично мне мешают опасения за мою жизнь. Я вынужден скрываться и даже изменить свою внешность. Предлагаю встретиться завтра в ресторане «Айви» в четыре часа пополудни. Я подойду к Вам сам. С последней надеждой, X."
– Ну, что скажете, Ватсон?
Холмс крепко держал в зубах девятую трубку.
Ватсон нахмурился и вновь сгустил усы.
– Судя по тому, что вы за мной послали, не зря. Со своей стороны скажу-если я вам нужен, можете на меня рассчитывать.
– Другого ответа я от вас не ждал! Да, кстати, я не слишком бесцеремонно вторгаюсь в вашу жизнь? Предполагаю, что эта история отнимет у нас не один и не два дня. Может быть, придется покидать Лондон.
– Если мы собирались пересечь полмира и забираться в Гималаи…
– Считаю излишним интересоваться, что станется с вашей практикой.
– Вот именно.
– А ваши литературные занятия?
– Они на точке замерзания. Барнетт ждет от меня нового рассказа о Шерлоке Холмсе. Я надеялся, что эта индийская поездка обеспечит меня материалами на годы вперед. Вы же знаете-вы единственный источник моего вдохновения.
Великий сыщик кивнул.
– По правде сказать, я был уверен, что с финансированием все устроено надежно. Очень надеюсь, что про Тамерлана мы забываем не навсегда. А пока придется заняться тем, что есть.
– Я получил авансовый чек из «Чемберса». Уже две недели тому, а в голове ни одной подходящей идеи.
– Думаю, теперь они у вас появятся, Ватсон.
Холмс ожидал доктора в зеркальном холле ресторана. Он сидел в углу длинного зеленого дивана в тени небольшой бихарской пальмы, на носу у него помещались черные очки без оправы. Всякий входящий в высокие стеклянные двери оказывался перед ним как на ладони. Между тем его самого можно было разглядеть, лишь зная, где именно он сидит.
Доктор знал. Он медленно подошел и, не говоря ни слова, сел рядом. Несколько секунд прошло в полном молчании.
– Не стесняйтесь, Ватсон, спросите, почему я устроился здесь, хотя в ресторане полно свободных столиков.
– Считайте, что я уже спросил.
За долгие годы общения с великим сыщиком доктор утратил большую часть своего природного простодушия. Он знал, что любое слово Холмса может оказаться входом в ловушку не только безобидного, но иногда и неприятного розыгрыша.
– У меня две цели. Вторая заключается в том, чтобы увидеть нашего мистера X. со стороны. Люди, как вам известно, почти всегда играют. Даже когда этого не хотят, и особенно тогда, когда думают, что вполне естественны. Тут все зависит от качества раздражителя.
– Вы считаете, что наш контрагент на швейцара среагирует не так, как на…
– Разумеется, мой друг. Перед великим сыщиком он безусловно предстанет в маске. Он просит меня о помощи, но это не значит, что он мне полностью доверяет.
– Какова же ваша первая цель?
Холмс закинул ногу на ногу и наклонился влево, частично покидая полосатую пальмовую тень.
– Она всегда и везде для меня главная: совершенствование моего метода. Согласитесь, что прежде чем присмотреться к человеку, нужно определить, к кому присматриваться. До назначенного срока осталось четверть часа. Будем теперь особенно внимательны, Ватсон. Вам придется отсесть на другой конец дивана и развернуть газету.
– У меня нет газеты.
– Я захватил для вас экземпляр «Таймс».
Доктору нечего было стыдиться, никто не обязан таскать в кармане газету на всякий случай, но легкий укол в самолюбие он все же ощутил. И этот укол подтолкнул его к чуть ехидному вопросу:
– А почему вы уверены, что автор письма еще не пришел? Может, он уже сидит в зале и пьет свой кофе.
– Нет. Исключено. Вспомните текст письма. Этот человек утверждает, что вынужден скрываться. Зачем же ему торчать лишние полчаса в людном месте?
Доктору нечего было возразить. Он взял газету и приподнялся.
– Помните, что внешность этого человека будет изменена.
Ватсон поморщился. Этот совет был явно лишним. Он уже положил себе присматриваться к людям с необычной внешностью. Теперь если он добьется успеха, то будет вынужден делить его между собственной проницательностью и напоминанием Холмса.
За восемнадцать минут наблюдения в холл вошли двадцать четыре посетителя. Четыре пары, две компании, одна в пять человек, другая в шесть, пятеро одиночек, из них одна дама. Человек наивный, вроде Ватсона десятилетней давности, сосредоточился бы исключительно на одиночках, отбросив из их числа даму. Сегодняшний доктор оставил под подозрением всех. Человек скрывающийся мог, например, пристать к большой компании. Это легко сделать, если в ней не все друг с другом хорошо знакомы или успели как следует набраться. Войдя внутрь, он может безболезненно отколоться.
Одиночки подозрительны все, само собой разумеется. И толстяк в белом жилете, и буйнобородый господин с золотым зубом, и коротышка с постоянно выпадающим из глаза моноклем.
И даже дама.
Конечно же, дама!
Ватсон приятно заволновался. Безусловно, это переодетый мужчина! Достаточно вспомнить эту квадратную фигуру, эту тяжелую гренадерскую походку, зверски напудренное лицо, неуместную вуалетку, скрывающую глаза.
Доктор бросил краткий победительный взгляд в сторону сосредоточенного друга. Интересно, он тоже догадался? Будет очень забавно, если нет. Ведь признаки столь очевидны. Достаточно присмотреться внимательным… О, она возвращается из ресторанной залы! Она (он!) нас ищет!
Избранница доктора явилась не одна. Ее аккуратно, но твердо поддерживали под руки два официанта. Шляпка у нее съехала, со щек сыпался косметический мел. Швейцар, увидев эту сцену, бросился на помощь. Но не даме, а официантам! В одно мгновение квадратная женская фигура проследовала через выходную дверь на дождливую улицу и там разразилась визгливой бранью.
– Нам пора, Ватсон.
Доктор сглотнул слюну.
– Думаете, ОН уже внутри?
– Уверен, да.
– И кто же это?
– Сначала хотелось бы услышать ваше мнение.
Доктор лихорадочно соображал, что же ответить.
– Неужели вы не заметили ничего необычного?
В голосе друга не было и тени иронии, но Ватсон почувствовал, что краснеет.
– Почему же, мне кажется, что это джентльмен с огромной бородой. Мне кажется, борода накладная.
– Браво, Ватсон.
– Я угадал?
– Нет.
– Так с чем же вы меня поздравляете? – почти неприязненно поинтересовался доктор.
– Мое восхищение совершенно искренне. Вы направились по правильному пути, но не в том направлении.
Они вошли в залу. Холмс снял очки.
– То есть ваша голова работала как голова нормального человека. Вас предупредили, что внешность будет изменена, и вы решили, что в облике будет что-то прибавлено. Усы, борода. Чем больше борода, тем она подозрительнее. Так думают все нормальные люди. Чтобы заметить убывание чего-нибудь в облике…
– Нужно быть Шерлоком Холмсом, – буркнул доктор.
– Вы обиделись, мой друг? Напрасно. К моему тону можно было привыкнуть за эти годы.
К ним приблизился метрдотель и поинтересовался, чем он может помочь джентльменам.
– Нас ждут. Вон там, у колонны.
Ватсон посмотрел в указанном направлении. Там сидел хорошо одетый и выбритый сорокалетний мужчина. Пока они приближались к нему, доктор успел его рассмотреть. Припухшие веки говорили, несомненно, о пристрастии к выпивке, непреднамеренно надменный вид – о благородном происхождении. Кроме того, нетрудно было заметить, что господин этот чувствует себя явно не в своей тарелке.
Подойдя к его столу вплотную, Ватсон обратил внимание, что сюртук его несколько поношен и короток в рукавах.
– Здравствуйте! – сказал Холмс.
Мужчина привстал и неуверенно улыбнулся.
– Я тот, к кому вы писали, со мною мой напарник, доктор Ватсон.
– Прошу садиться, джентльмены.
Отделавшись от официанта, Холмс спросил:
– Давно сбрили бороду?
Мужчина погладил рефлекторно подбородок и скулы, они были заметно белее остального лица. На левой стороне подбородка виднелся тонкий, длиною в три дюйма, шрам.
– Сегодня утром.
Ватсон вспомнил о своей даме полусвета, и ему стало стыдно.
– Обычно я ношу такую, довольно окладистую. Теперь неуютно. И холодно.
– Приступим к делу, мистер…
– Блекклинер. Эндрю Блекклинер. Я владелец – с недавних пор – поместья Веберли-хаус в Хемпшире, милях в десяти от Винчестера. Места наши считаются глухими, может быть, потому, что неподалеку начинаются холмы Олдершота. А может, мы чувствуем себя живущими в глухомани, потому что соседи нас не жалуют.
Произнося эти простые слова, мистер Блэкклинер начал раздувать ноздри и комкать салфетку правой рукой. Страстная и порывистая натура, сделал про себя вывод доктор. А шрам, безусловно, след старого ранения.
– Почему же они вас не жалуют? – спросил Холмс.
Блэкклинер мощно нахмурился, на секунду замолк, словно решая, стоит ли отвечать на этот вопрос. Потом шумно выдохнул воздух – решился.
– Всему виной наш батюшка, Энтони Блэкклинер, его неуемный нрав. Слишком большим он был охотником до дамского пола. Причем действовал без всякого разбора и оглядки. Ни возраст женщины, ни ее положение, ни даже отталкивающая внешность не служили для него препятствием. Думаю, ранняя смерть нашей матери произошла от горестного состояния, в коем она беспросветно пребывала. Она родила отцу троих сыновей, но это его не укротило. Само собой разумеется, все окрестные дома были закрыты для нас. Нам пришлось искать счастья вдали от родины. Я предпринял военную карьеру. Гарри, средний наш брат, занялся наукой, а младший, Тони, поступил в католическую школу в одном из северных графств.
Мистер Блэкклинер хорошо отхлебнул из своего бокала. На лице Холмса на мгновение появилась тень неудовольствия. Ватсон не обратил на это внимания.
– Насколько я понял, ваш отец живет уединенно.
– Жил. Неделю назад он был найден мертвым у себя в кабинете. За три дня до его смерти мы все собрались в Веберли-хаусе. Такого не случалось уже много лет.
– Почему?
– Мы слишком разные люди и, не будь у нас общих родителей, никогда в жизни не познакомились бы друг с другом. Гарри-это циничный, холодный, расчетливый ум. Он нравственно, может быть, и чистоплотен, но от его чистоплотности разит крещенским холодом. Тони-святой или почти святой. И почти еще подросток. Тихий, с затаенной страстной мечтой о царстве всеобщего счастья. Я же, изволите видеть, джентльмены, слишком офицер по натуре. Хотя и принужден был обстоятельствами выйти из полка. Я более других унаследовал отцовский характер. Карты, дуэли, веселые женщины-вот мой мир. Однако все еще льщу себя надеждой, что душа моя не полностью, не окончательно погрязла, что осталось в ней хотя бы одно светлое пятнышко!
В глазу у мистера Блэкклинера сверкнула самая настоящая слеза. Рука потянулась к бокалу, но была с мягкой решительностью перехвачена рукою Холмса.
– Кто еще кроме вас четверых на момент смерти находился в доме?
Мистер Блэкклинер шмыгнул носом, овладевая собой.
– Постоянно жила при нем мисс Линдсей. Впрочем, не при нем, это я преувеличил. Она дальняя родственница нашей матушки, попала к нам в дом в возрасте уже примерно четырнадцати лет. У нас не было принято об этом говорить, но, предполагаю, Элизабет (таково ее имя) пришлось много претерпеть в прошлом. Теперь это привлекательная девушка. Весьма и весьма привлекательная. Три года назад, когда я в последний раз навещал Веберли-хаус, она была еще ребенком, настоящим ребенком. По манерам, по взглядам на жизнь. И, поверьте, я не хвастаюсь, она увлеклась мною, еще довольно молодым бравым офицером. По понятным причинам роман между нами был невозможен. Она писала мне. Я уехал. Теперь же у меня открылись глаза, джентльмены. Какая красавица! И тут же в моем сердце вспыхнула ревность, я-то уж знал характер отца. В старости он только усугубился. Не мог он оставить без внимания такой цветок, растущий в собственном саду.
– Хорошего же вы мнения о своем отце! – не удержался доктор.
– О, поверьте, таким подозрением его образ не оскорбишь. Грязное, сладострастное животное – вот его самая мягкая характеристика.
– Что же вы предприняли?
– Что я мог предпринять, мистер Холмс! Ревность сжигала меня. Я попытался поговорить с Элизабет, уповая на наши старинные, пусть и вполне эфемерные отношения. У меня ничего не получилось, она была молчаливее камня. Я бродил по дому, пил в одиночестве.
– Понятно. Что же привело в Веберли-хаус вашего среднего брата Гарри? Ведь он тоже, насколько я понял, не жаловал семейное гнездышко.
Сэр Эндрю оторвал взгляд от полуопустошенного бокала и вздохнул.
– Думаю, всему виной деньги. Он скрытен, мой брат Гарри. Но не может скрыть того, что презирает меня как натуру пошлую и крикливую. Считает меня ничтожеством. Но я сумел кое-что разведать о его трудностях. Будучи сверхъестественно щепетилен в своих делах, он умудрился попасть в жесточайшую финансовую зависимость. Причем от дамы. Ему требовались две с половиной тысячи фунтов на проведение какого-то очень важного опыта. Опыт этот должен был увенчаться грандиозным успехом, который прославил бы Гарри среди всех европейских физиков. А может, и химиков. Но опыт не совсем получился или даже совсем не получился. Дама, дававшая деньги, влюблена в Гарри до безумия, но одновременно очень деликатно влюблена. Она, конечно, ни за что не хочет принять эти деньги обратно. Гарри же убежден, что должен их вернуть во что бы то ни стало. Денег у него нет, потому что нет славы. Есть один способ списать долг – жениться. Но это невозможно. Даму он не любит. К тому же думает, что деньги она ему давала не из любви к нему, а из любви к науке. Он боится, что рухнет образ кристально честного и чистого Гарри, великого ученого.
– А у покойного были такие деньги?
– Да, мистер Холмс, были. Ровно три тысячи фунтов. Более того, как раз в такую сумму исчислялась доля наследства Гарри по завещанию нашей матушки. Я свою долю давно спустил. Гарри прежде своей доли не требовал, по все тем же щепетильным соображениям. А тут, видимо, поборол гордыню и явился за деньгами. Но выяснилось, что отец давно уже все пустил по ветру, и его долю, и долю Тони, не говоря уж о том, что причиталось лично ему. Остались три тысячи, но они были обещаны мисс Линдсей за согласие выйти за старика замуж. Она же не спешила с этим согласием, равно как и с отказом, чем разрывала мое сердце. Что-то она выгадывала и взвешивала. Куда-то девался весь ее прежний романтизм, на его месте обнаружился весьма твердый и зрелый характер.
Холмс не торопясь отрезал кусок ростбифа.
Сэр Эндрю вытирал обильно выступивший пот.
Ватсон сурово заметил:
– Если исходить из рассказанного вами, то и у вас, и у вашего брата Гарри были весомые основания убить мистера Блэкклинера.
Отставной офицер грубо скомкал платок и резко приблизил лоснящееся лицо к щеке доктора.
– Вы правы, сэр, были. Скажу больше, не раз в моих горячечных видениях такая возможность соблазнительно рисовалась мне. Но я ни на секунду не рассматривал ее как реальную! Верьте мне, джентльмены, верьте мне!
Сыщик тщательно прожевал кусок мяса, потом так же тщательно промокнул губы салфеткой.
– А что вы скажете о вашем третьем брате?
– Тони? В том смысле, что вы спрашиваете, годится ли Тони в убийцы? Просто смешно! Мне даже немного стыдно слышать от вас этот вопрос, мистер Холмс.
– Тем не менее расскажите, почему ваш младший брат внезапно приехал из своей церковной школы. Ведь он приехал внезапно?
– Нет. Хотя и посреди семестра, но не внезапно. Отец прекратил платить за его обучение.
– Из скупости?
Сэр Эндрю вздохнул, чувствовалось, что он не любит прижимистых людей.
– Отец был скуп, но не до такой степени. На свои грязные развлечения он тратил деньги без счета. На выпивку, на подарки своим прачкам и забеременевшим крестьянкам. Я думаю, ему перестало нравиться то, как глубоко Тони увлекся своим богословием. Отец, надо вам заметить, считал все священническое племя ханжами, готовыми ради денег на любой обман. А тут у Тони появился духовный какой-то покровитель, отец Копстол, вы, верно, слышали о нем. Тони все более и более подпадал под его влияние. Причем, насколько я понял, влияние это было не совсем обычное. Отец Копстол и не протестант, и не католик. Затеял что-то вроде собственной церкви. Тони решил присоединиться к ней, порвать с миром и всякое такое.
– Мистер Блэкклинер был против?
– Он и в школу не хотел его посылать, это матушка настояла. А тут он почувствовал, что теряет Тони. Он был к нему своеобразно привязан, ценил его чистое сердце. Кажется, Тони тоже испытывал к отцу странную нежность. Не то что мы с Гарри.
– Одним словом, вы не можете вообразить, чтобы ваш младший брат мог поднять руку на вашего отца.
Сэр Эндрю решительно замотал головой.
– Нет, нет и нет. Должны же быть какие-то безусловные ценности в нашем сумасшедшем мире! Человек с такой душой, как у Тони, не способен обидеть даже неодушевленный предмет, не то что отца. Их ведь даже звали одинаково, вы заметили?
– А что еще известно об этом Копстоле? – поинтересовался Ватсон.
– Довольно известный деятель англокатолического движения. Можно сказать, скандально известный. Проповедник полнейшего бессребреничества и особых моральных строгостей. У него несколько сотен персональных последователей. Видимо, молодой Энтони – один из них.
Сэр Эндрю сделал хороший глоток джина.
– Да, мистер Холмс, это так.
– Насколько я понимаю, полагающаяся ему часть наследства не была истрачена.
– Какие-то две сотни фунтов. На учебу.
Холмс взял за талию свой бокал и задумчиво поднес ко рту. Перед тем как выпить, заметил:
– Ранее, я полагаю, Тони не проявлял большого интереса к деньгам.
– Они были ему безразличны.
– Теперь, перед вступлением в братство, они ему срочно понадобились. Думаю, Тони написал отцу с требованием своей доли. Тот, будучи человеком крутого нрава и ненавидя все церкви этого мира, не только не дал ему большого, но и отказал в малом.
На лице сэра Эндрю изобразились ошарашенность и восхищение.
Холмс поставил стакан на стол с видом сожаления, что ему приходится быть столь проницательным.
– А теперь вот что, сэр Эндрю: скажите нам, почему вы прибегаете к таким мерам предосторожности? Кого и чего вы боитесь?
Мистер Блэкклинер, словно вспомнив об ужасе своего положения, опасливо оглянулся.
– Поверьте, я человек не робкой дюжины. Неплохо стреляю. Я ушел из полка не по своей воле. Карточная история. Вина моя не была доказана, но… в общем, я не тот, кто трепещет при первой опасности, но опасности, так сказать, понятной, привычной.
Голос говорящего понизился:
– В этой истории, джентльмены, мы имеем дело с опасностью особенной. Когда вы узнаете, как именно погиб мой отец, вы поймете меня лучше. Инспектор Лестрейд…
– Он уже побывал там?
– Да, мистер Холмс. Я человек законопослушный, я сразу же обратился к властям. Ни местный констебль, ни полицейские из Винчестера, ни инспектора из Скотланд-Ярда ничего не смогли прояснить в этом деле. Лестрейд просто-таки бежал из Веберли-хауса, он признал свое поражение, посоветовал мне уехать в Лондон и сменить облик. А также он мне посоветовал обратиться к вам. Он сказал, что такие загадки по зубам только одному человеку. И вот я перед вами в измененном облике. Сам не знаю, чего я боюсь, но боюсь очень.
Медленно вытащив салфетку из жилетного выреза, Холмс сказал:
– Лестрейд болван, но не трус.
Сэр Эндрю почему-то обиделся.
– Ну, знаете, он мне даже болваном не показался. Такой дотошный, въедливый. Во все вник, ничего не упустил. Громадный опыт. У него было не менее шести версий. Только отказавшись от последней версии, он сказал, что ему страшно.
– Расскажите мне, как был убит ваш отец.
– Инспектор посоветовал мне не делать этого, он сказал, что рассказ не даст всей картины или, что хуже, исказит ее. Вам лучше поскорее выехать на место преступления.
Ватсон посмотрел на своего друга. Холмс думал. Тогда доктор обратился к сэру Эндрю:
– Скажите, а вас ни на какие мысли не наводит название компании «Кимберли и Китченер»?
Мистер Блэкклинер равнодушно пожал плечами. Значительно интереснее было в этот момент смотреть на лицо великого сыщика, по нему пробежали две-три весьма выразительные гримасы. Сказал же он всего лишь следующее:
– Мы выезжаем завтра, первым поездом. Встречаемся у меня дома, где-нибудь в половине восьмого.
Сэр Эндрю смущенно улыбнулся.
– Мне не хотелось бы показаться странным, но я бы мечтал провести эту ночь не в одиночестве.
– Чего проще, – усмехнулся сыщик, – в Лондоне три сотни публичных домов.
– Вы меня неправильно поняли. Я бы хотел бы провести ее поблизости от кого-нибудь из вас, джентльмены. Этот Лестрейд нагнал на меня такого страху.
Холм посмотрел на Ватсона. Тот отрицательно дернул усиками.
– Сегодня мы с миссис Ватсон идем в театр. Как всегда по пятницам.
– Нет-нет, театр – это не то место, где я мог бы чувствовать себя спокойно!
– Ладно, диван в моем кабинете вас устроит?
– О да.
Доктор Ватсон явился в дом своего друга на два часа раньше условленного времени.
– Что с вами?
Холмс сидел в гостиной, курил и, видимо, думал. Рядом с его креслом на полу, на коленях халата и на столе лежали газеты. Опять, машинально отметил доктор, но ему сейчас было не до газет.
– Я был вчера в театре, Холмс, – зловещим тоном произнес Ватсон.
– Что же давали?
– Это не важно, тем более что мы с миссис Ватсон не были в зале.
– Почему?
– Нам пришлось задержаться в буфете.
– Иногда это случается, – усмехнулся Холмс, – хотя странно. В вас я раньше не замечал буфетных наклонностей. К тому же вы были в обществе супруги.
Ватсон обошел стол, держа котелок по-офицерски, на сгибе руки.
– Вы тотчас перестанете иронизировать, когда я вам сообщу, что я в этом буфете увидел.
– Уже перестал, рассказывайте.
– Я заказал миссис Ватсон стакан лимонада. – Доктор выразительно посмотрел на своего друга. – Пока мы ждали заказ, я невольно начал рассматривать посетителей. И за одним из столиков, в компании шумно веселящихся джентльменов… – последовала выразительная пауза.
Холмс выпустил вопросительный клуб дыма.
– Я увидел Ройлотта.
– То есть?
– Разумеется, вы не хуже меня помните то дело о девушках-близнецах, отчиме-чудовище и ядовитой змее.
– Еще лучше я помню ваш замечательный рассказ «Пестрая лента», мой друг.
– Сейчас речь не о рассказе, а о его герое. Я глазам своим не поверил. Это был он! Я великолепно его запомнил. Его бешеный нрав, его отвратительную физиономию, сиплый голос. Это был он!
Лицо Холмса застыло. Веки опустились. Задумчивость поглотила великого сыщика.
– Вы же видели его мертвым. Он умер от ядовитого укуса. В театре вы встретили человека, который сильно похож на того Ройлотта. Такое случается. Не исключено, что у каждого из нас где-нибудь на планете имеется двойник.
Ватсон убежденно покачал головой.
– Это был он, погибший Ройлотт!
– На чем строится ваше убеждение? Вы заговорили с ним? Спросили, как его здоровье после пребывания на том свете?
– Я не решился. На меня напало непонятное, а впрочем, вполне понятное оцепенение. Я только смотрел на него и старался, чтобы миссис Ватсон не заметила моего состояния. Но, уверяю вас, мои чувства не могли меня обмануть.
– Смею заметить, они нас обманывают чаще, чем что-либо другое. Методы холодного рассудка надежнее.
– Вы говорили мне об этом много раз и много раз доказывали мне справедливость ваших слов. Но сейчас я дальше, чем когда-либо, от того, чтобы верить в эту теорию.
Лицо доктора сделалось растерянно-задумчивым.
Холмс выдохнул еще одно витиеватое облако.
– Оставим на время теорию. Какие практические шаги вы предприняли в этой ситуации?
– Какие там шаги! Я был не в состоянии подняться с места. Компания, в которой пьянствовал Ройлотт, встала из-за стола и, вульгарно балагуря, удалилась. Мне пришлось отвернуться, чтобы он случайно меня не узнал.
Сыщик усмехнулся одними глазами.
– И это все?
– Конечно, нет. Я поинтересовался у официанта, наконец принесшего лимонад, кто этот человек, известный мне по имени Ройлотт.
– Он вам ответил, что это никакой не Ройлотт, – убежденно заявил Холмс.
– Да, – вздохнул доктор, – он сказал, что это провинциальный актер, кажется, из Бристоля недавно прибыл. Добряк и выпивоха. Имя он не запомнил.
Холмс медленно переменил свою позу.
– Вам показалось этого недостаточно?
– Ни в малой степени. Скажу больше, эти слова ничуть не поколебали меня в уверенности, что я видел именно Ройлотта.
– Вы становитесь на опасную дорожку, Ватсон, и как врач должны понимать, насколько это тревожно, когда ваши ощущения начинают столь упорно сопротивляться очевидным и безусловным фактам. Вам говорят, что перед вами живой актер, а ваши чувства уверяют вас, что это мертвый сквайр. Очень странно.
Доктор яростно потер глаза, словно стараясь удалить туман, застилающий их.
– Друг мой, нам предстоит распутывание чрезвычайно сложного дела, нам потребуются для этого все наши силы, не станем их распылять. Тем более что для этого нет никаких оснований.
– Возможно, вы правы. Что я говорю! Вы безусловно правы. Но мне…
– Понимаю, вам до конца хочется рассеять недоразумение.
– Да.
Холмс вытащил из жилетного кармана часы.
– У нас есть немного времени до отхода поезда. Мы успеем заехать в театр, это почти по дороге.
Ватсон радостно вскочил, но тут же лицо его вновь стало озабоченным.
– У вас опять возникло какое-то чувство?
– Извините меня, Холмс. Мое преклонение перед вашим даром… Но откуда вы знаете, в каком театре мы были вчера с миссис Ватсон? Ведь я вам этого не говорил ни вчера, ни сегодня.
Холмс пожал плечами.
– Не знаю.
– Не знаете? – В голосе Ватсона было и удивление, и смущение.
– Пока не знаю. Впрочем, давайте разберемся. Для начала скажем, что я знаю лондонские театры, в частности мне известно, в буфетах каких из них приняты актерские сборища. Знаю также, в труппу какого театра ни за что не будет принят пожилой провинциал. К тому же, если вы обратили внимание, мое жилище завалено газетами. Половина из них печатает театральные объявления. Кое-что из них само собой осело у меня в голове. Плюс ко всему я знаю ваши вкусы, вкусы миссис Ватсон. Стало быть, мне не трудно сообразить, на какой спектакль вы ни в коем случае не пойдете. Все эти сведения, сопоставившись, сами собой родили вывод – вчера вы с женою были в театре «Савой» с намерением посмотреть «Идиллию старых огней», постановка в славной манере Гилберта и Салливана.
– Правильно, – улыбнулся доктор.
Холмс сбросил халат на спинку кресла и облачился в серый сюртук. Поправляя манжеты, он продолжил лекцию.
– Работу мозга по дедуктивному методу часто путают с рассказом об этой работе. Мозг не механизм, нет никакого тупого арифметического сложения фактов и наблюдений. Часы напряженной работы, часто с ощущением того, что топчешься на месте, и вдруг – озарение. Разгадка сама падает на ладонь, как яблоко.
– Вы вновь и вновь поражаете меня, Холмс. Стоит мне подумать, что я близок к постижению вашего характера, как вы в очередной раз меня поражаете.
– Оставим это. Едемте в театр.
– А как же наш, э-э, мистер Блэкклинер?
– Он еще спит. Мы разработали специальный план. Он прибудет на вокзал в отдельном кэбе. Так безопаснее.
– Так вы считаете, что ему и в самом деле есть чего бояться?
– Я принимаю меры не против опасности, но против его страха.
В театре в этот ранний час они не застали ни актеров, ни оркестрантов. Сонный служитель долго не мог понять, чего от него хотят эти двое джентльменов. Ватсон совершил три попытки растормошить его похмельную память. Он описывал Ройлотта ярко, потом тщательно и, наконец, нервно.
Тщетно.
Холмсу это удалось сделать при помощи одной гинеи.
– Вам нужно поговорить с мистером Харрисом.
– Кто это?
– Управляющий труппой.
– Откуда же мы его добудем?
– Вот он.
Действительно, в вестибюле появился пузатый лысый человек в замызганном цветном жилете, заметно поношенном сюртуке и с потухшей сигарой в углу рта.
– Мистер Харрис?
Под кустистой бровью поднялось тяжелое веко.
– Слушаю вас.
Ватсон в четвертый раз описал свое видение. Он еще не закончил говорить, а управляющий уже вытащил двумя нечистыми пальцами сложенный листок бумаги из внутреннего кармана.
– Вам нужен этот пройдоха Бриджесе.
– Вы узнали его по моему описанию?
– Вы так выпукло очертили его отвратный облик, как будто вы сам Стивенсон.
Доктор покраснел. Холмс спросил:
– Что это за листок?
– Письмо этого негодника Бриджесса.
– Что он пишет?
– В письме этот мошенник сообщает, что покидает труппу, покидает сцену, покидает Лондон и направляется, насколько я могу судить, к чертовой матери.
– Причина?
– Если бы была причина, этот умник все равно ее бы скрыл.
– А откуда он появился у вас?
– Откуда-то из провинции. Я не забиваю голову пустяками, джентльмены.
– Он был мастером своего дела? Я имею в виду, он был хорошим актером?
– Он был мастером выпить и поесть и умельцем отвертеться от платы за еду и питье.
Холмс повернулся к доктору.
– Вы удовлетворены?
По лицу Ватсона было видно, что не совсем. Сзади раздалось хриплое покашливание. Мистер Харрис сказал:
– Если вы хотите узнать об этом бездельнике что-нибудь сверх того, что сказал вам я, обратитесь к газетам.
– Газетам? – резко обернулся доктор.
Управляющий труппой вытащил из кармана номер «Ивнинг пост».
– Вот здесь, вот в этой колонке, мелким шрифтом.
Ватсон взял газету и прочел, шевеля губами:
– В половине двенадцатого… под колесами поезда… вокзал Ватерлоо… на части… документы… Том Бриджесе.
Холмс тоже пробежал заметку глазами. Посмотрел на потрясенного друга. Посмотрел на часы.
– Нам пора, Ватсон.
– А? – не без труда очнулся тот.
– Нам пора?
– Куда?
– На вокзал.
Мистер Харрис то ли чихнул, то ли прыснул со смеху. Впрочем, друзьям было не до него. Они и в самом деле спешили.
Уже почти полностью стемнело, когда коляска с тремя пассажирами выехала из букового леса и, шелестя резиновыми шинами по мелкой сентябрьской грязи, подкатила к воротам Веберли-хауса. Ворота были заперты. Высокие, обитые металлическими полосами, наводившие на мысль, что дом действительно крепость. В небольшой привратницкой, справа от ворот, тускло светилось маленькое квадратное оконце.
Сэр Эндрю, за что-то извинившись, тяжело спрыгнул на землю и с медлительностью, напоминавшей опаску, подошел к этому окошку. Осторожно постучал в него согнутым пальцем и позвал неуверенным голосом:
– Яков, а Яков!
– Знаете, Ватсон, я предвижу, что это дело будет не так-то легко распутать, – без всякой связи с происходящим произнес Холмс.
Доктор деликатно промолчал, у него не было пока никакого мнения.
– Яков, где ты там, надо бы выйти!
– Не исключено также, что это будет мое последнее дело.
Наконец этот самый Яков появился. Высокий, худой горбатящийся мужчина с обширными распушенными баками. Свет, падавший сзади из окна, таинственно подсветил их. Привратник показался вдруг фигурою значительной. Что-то бормоча себе под нос, он отпер ворота. Английские слуги бормочут себе под нос то, что они думают о своих господах.
Сэр Эндрю, тяжело дыша, уселся на свое место. Обращаясь почему-то только к доктору, он сказал:
– Не подумайте ничего такого, джентльмены. Яков славный парень. Очень, очень тонко чувствующая натура. Все принимает близко к сердцу. Большое пристрастие к литературе, его не раз видели рыдающим над книгой. Но жаль – избалован отцом.
– Что вы имеете в виду?
– Уж не знаю почему, но Яков всегда был ему особенно любезен. Может быть, из-за болезненности своей. Да-а, у него ведь бывают эпилептические припадки. Его положение в доме всегда было совершенно незыблемым. Подозреваю, весьма подозреваю, что Яков оказывал родителю услуги в его приключениях по женской части. Он ведь не только привратник, но и садовник. Все ключи от калиток потайных у него. Он отчасти и винным погребом ведает, хотя сам и капли в рот не возьмет.
– Может, именно поэтому? – предположил Холмс.
Они ехали по липовой аллее, было полное впечатление, что это сырой подземный ход.
– Сказать по правде, мистер Блэкклинер, я был удивлен, увидев этот глухой забор. Такое ведь не часто встретишь в этой части Англии.
– Да, мистер Ватсон, редко. Это все отец. Я вам уже говорил об особенностях его характера. Он умудрялся, при всем своем женолюбии, оставаться очень замкнутым человеком. Может быть, он боялся мести, может быть, хранил тайну…
Коляска, хрустя крупным песком, круто вывернула из липового тоннеля и подкатила к парадному крыльцу. Дом смутно рисовался в толще тумана. Трехэтажное массивное здание с белыми оконными переплетами.
На крыльце стоял невысокий плотный мужчина. Даже в темноте было видно, до какой степени он лыс. Он кутался в клетчатый плед, в правой руке держал большой стеклянный фонарь.
– Ну вот, джентльмены, – с непонятным облегчением сказал сэр Эндрю, – добро пожаловать. Человек с фонарем-это Эвертон, дворецкий. Пять поколений в доме и все такое. Прислуги у нас тут немного, да и та приходящая. Из деревни, которую мы проезжали. Гринхилл, кажется. Эвертон первым обнаружил, что с отцом что-то неладно.
Холмс прямо на крыльце провел первый допрос.
– Итак, вы первый, кто увидел труп?
– Не совсем так, сэр. – Голос из массивной головы, влажной от ночного тумана, шел на удивление тонкий, почти писклявый.
– Поясните.
– Как всегда, в шесть часов я принес милорду его чай. Он не ответил на мой стук. Я стучу особенным образом, милорд прекрасно его знает. Я постучал еще раз, громче. Никакого ответа. Тогда я нажал на ручку двери. Она была заперта. Меня это насторожило, у милорда не было обыкновения запирать дверь кабинета изнутри. Кроме известных случаев. То был не известный случай.
– Вы имеете в виду визит женщины?
Дворецкий потупился и деликатно отвел взгляд.
– Проводите нас туда.
Кабинет располагался на втором этаже. Вдоль широкой ковровой лестницы ступенчато висели темные портреты былых владельцев Веберли-хауса. На площадке меж этажами в эту благородную когорту вдруг влезла громадная кабанья морда. Ничего не сказав по поводу людей, Эвертон счел необходимым объясниться по поводу животного:
– Охотничий трофей милорда.
Далее опять шли портреты.
Когда поднялись на второй этаж, Эвертон кивнул влево.
– В той части коридора комнаты сэра Гарри и сэра Энтони.
– Мне хотелось бы поговорить с ними немедленно, – сказал сыщик.
– Боюсь, это невозможно, сэр. Сэр Энтони уже лег. Он всегда ходит к заутрене и поэтому ложится засветло. А сэр Гарри еще не встал, он работает до рассвета и спит, пока не стемнеет.
– Судя по тому, что вы говорите, вы никогда не собираетесь все вместе?
– В каждой семье свои странности, – с достоинством заметил сэр Эндрю.
Переложив фонарь из правой руки в левую, Эвертон нажал ручку двери и произнес торжественно и скорбно:
– Кабинет милорда, джентльмены.
Кабинет был похож на кабинет. Фонарь, поставленный на письменный стол между бронзовым подсвечником и сандаловой папиросницей, едва-едва добрался своим бледноватым светом до окраин помещения. Давало знать о себе золото на книжных корешках в шкафу до потолка. Голая статуя, венчавшая полуколонну в углу у окна, показала только колено, локоть и локон.
– Кто же первым увидел труп?
Сэр Эндрю задумчиво выпятил губы.
– Трудно ответить на ваш вопрос со всей точностью. Эвертон, обнаружив, что дверь кабинета заперта изнутри, позвал меня. Затем появились Гарри и Тони на звук наших голосов. Затем Яков с инструментами, он лучше всех знает, как обращаться с замками. Когда он взломал замок, мы все вместе вошли внутрь.
– Что же вы увидели?
У сына перехватило горло, дворецкий пришел ему на помощь.
– Милорд лежал здесь, на ковре, на левом боку. В правом виске у него была дыра.
– Дыра?
– Точнее сказать, дырочка, сэр. Как от пули.
– Кто обнаружил пистолет?
– Пистолета нигде не было. Мы все осмотрели внимательнейшим образом.
– Кто-нибудь мог его незаметно вынести?
– Исключено, – вступил в разговор сэр Эндрю, – никто не выходил, пока мы не завершили поиски.
– Хорошо. Окна?
– Окна? Ах, да. Окна были закрыты на все шпингалеты, портьеры были опущены, как сейчас. Отец боялся сквозняков.
Холмс подошел к холодному камину и заглянул в него.
– Мы тоже подумали о дымоходе, мистер Холмс. Но там толстая решетка на высоте четырех футов. В старину так часто делали. Через нее даже утке не влететь.
Холмс выпрямился.
– Дверь была заперта изнутри на ключ?
– Не только на ключ, но и на задвижку. Яков очень ругался, когда все это пришлось расковыривать.
– И вы вызвали полицию?
Сэр Эндрю кивнул.
– Немедленно. Сначала деревенского констебля. Еще до того, как он прибыл, Гарри посоветовал телеграфировать в Лондон, в Скотланд-Ярд. Мы не стали прикасаться к телу. И послали за местным врачом, мистером Бредли.
– Это тот пожилой господин с рассеченной губой и в пенсне, что стоит у меня за спиной?
Толстяк доктор окончательно вошел в кабинет, виновато при этом покашливая. Холмс тут же обратился к нему, не давая присутствующим тратить время на восхищение своей проницательностью:
– Что показало вскрытие, мистер Бредли?
Толстяк тщательно поправил пенсне, как будто его неуверенное положение мешало ему говорить.
– Повреждения были весьма характерными. Мне приходилось сталкиваться с подобным. Я был полковым хирургом в действующей армии.
– Лет двадцать назад?
Снова возня с пенсне.
– Откуда вы знаете?
– Извините, но сейчас в вашем облике нет ничего такого, что напоминало бы о действующей армии. Не обижайтесь и скажите мне лучше, из чего был, по вашему мнению, произведен выстрел.
– Надо думать, из пистолета не самого большого калибра. Точнее сказать трудно.
– С какого расстояния?
– Кожа вокруг отверстия не опалена. На самоубийство это не похоже. Нисколько не похоже.
– Выводы буду делать я. На своем веку я видел столько самоубийств, ничуть на самоубийство не похожих при первом осмотре…
– Извините. Стреляли ярдов с двенадцати-пятнадцати.
Холмс оглядел кабинет.
– От того места, где лежит тело, до любой стены не более шести-семи ярдов.
– Но вы еще не знаете самого главного, – тоном плохо скрываемого превосходства заметил доктор.
– Слушаю вас.
– Я не нашел пули.
– Не понимаю.
– В черепе милорда не было пули. Была дыра в голове, была смерть, но не было пули.
Наступило напряженное молчание. Все ждали, как отреагирует великий сыщик на это сенсационное сообщение. Ватсон, например, в глубине души надеялся, что его друг небрежно махнет рукой и своим простым, естественным объяснением сгонит скептические гримасы с этих физиономий.
Холмс молчал.
Ватсону пришлось говорить самому:
– Вы не могли ошибиться, коллега?
Доктор Бредли снисходительно улыбнулся и не счел нужным отвечать.
– Может быть, кто-нибудь еще до того, как вы здесь появились…
Толстяк объяснил:
– Из такой раны невозможно извлечь пулю, не разворотив полчерепа. Даже если бы здесь чудом оказался сам мистер Герфинг со своими новейшими зондами, то и в этом случае остались бы очевиднейшие следы. Пуля была в голове милорда, как в сейфе.
– Кто присутствовал при вскрытии?
– Обычный состав. Впрочем, есть протокол. Учитывая необычность случая, я позаботился обо всех, даже самых мелких формальностях. Сверх всего – инспектор.
– Лестрейд? – подал голос Холмс.
– Он все время был при мне. Ему так не терпелось получить пулю, что он сам порывался взяться за пинцет.
Ответ можно было считать исчерпывающим.
Опять наступило тягостное молчание. Случившееся просматривалось в свете сказанного еще хуже, чем интерьер кабинета в свете фонаря.
– Любопытно, – пробормотал великий сыщик, – труп человека в запертом изнутри наглухо зашторенном кабинете – и без пули в голове. Любопытно.
– Не столько любопытно, сколько страшно.
Все обернулись. В дверях стоял высокий, чрезвычайно горбоносый, в длинном атласном халате человек.
– Мой брат Гарри, – прошептал сэр Эндрю.
– Да, Гарри Блэкклинер, если угодно, – высокомерно подтвердил тот.
– Здравствуйте, – скучным голосом сказал Холмс.
Ватсон молча коснулся кожаным пальцем тульи своего котелка.
– Вы назвали эту историю любопытной, мистер, э-э…
– Холмс, с вашего позволения.
– При чем здесь мое позволение? Здесь позволяю или запрещаю не я.
– Кто же?
Горбоносый обошел стол и опустился в отцовское затаенно скрипнувшее кресло. Он стал похож на большую недовольную жизнью птицу. Фонарь, стоявший рядом, бросал на его физиономию мертвецкий отсвет. На бледно-лоснящемся лбу билась напряженно изогнутая жилка. Во взгляде было что-то безумное. Когда бы не трагическая история, стоявшая за всем происходящим, это заявление прозвучало бы чуть театрально.
– Скажу только одно. Смерть отца – это не последняя смерть в этом доме.
– Что вы имеете в виду? – спросил Холмс.
– О господи! – сказал доктор Бредли.
– Ты имеешь в виду Тони?! – крикнул сэр Эндрю.
С этими словами старший брат бросился к выходу, за ним Эвертон, далее два доктора. И, наконец, сорвался с места сам возмутитель скорбного спокойствия – средний брат.
Когда пристыженные спасители вернулись в кабинет в сопровождении разбуженного, но ничуть не убитого сэра Энтони, они не застали там Холмса.
– Где же он? – раздался чей-то недоумевающий голос. Никто на этот вопрос не ответил. Группу все еще возбужденно дышащих джентльменов окружила угрожающая тишина. Ватсон почувствовал, что по позвоночнику потекла медленная ледяная капля. Бредли схватился за ворот, чтобы облегчить жизнь своему полнокровию. Сэр Гарри раз за разом зачесывал растопыренной пятернею копну волос на затылок. На широком скуластом лице юного Тони то вспыхивали, то гасли горящие ужасом глаза. Он, кстати, первым сориентировался в ситуации:
– А может, он у мисс Элизабет? Неужели что-то случилось с ней?!
Догадка была настолько очевидной, что группа братьев и докторов тут же снова пришла в движение. Вновь из кабинета в коридор, по лестнице на третий этаж, вдоль по тусклой полоске света к полуоткрытой двери.
– Мисс Элизабет занимает третий этаж, – торопливым шепотом пояснял на ходу сэр Эндрю бегущему рядом Ватсону, – у нее большие способности к танцам, отец организовал там что-то вроде танцкласса. Нам запрещено было бывать там.
Эвертон, в последний момент вырвавшись вперед, распахнул перед джентльменами дверь.
Холмс стоял посреди дамского будуара и обнимал за плечи девушку с роскошными распущенными по всей спине волосами. Она явно искала убежища на груди великого сыщика. Объятие было вполне джентльменским, хотя и плотным. При этом Холмс отчетливо шептал в копну великолепных волос:
– Плачьте, плачьте! Надо поплакать!
Переполненные вопросами джентльмены застыли подле неожиданной пары. Холмс, не давая их вопросам оформиться, сам начал говорить:
– Когда все бросились спасать юного сэра Тони, я подумал, что кто-то должен позаботиться и о мисс Элизабет. Я нашел ее в состоянии сильнейшего испуга. Узнав, что я не убийца, а, наоборот, сыщик, она в порыве облегчения бросилась мне на грудь. Вам надо поплакать, дитя мое, и напряжение спадет. Я правильно представляю нервную конструкцию женщины, доктор?
– Да, – одновременно ответили Бредли и Ватсон.
Плечи под валом волос затряслись.
– Вот и славно, – сказал Холмс и погладил одно из них, – а теперь, я думаю, нет никаких препятствий к тому, чтобы все удалились. Для того, чтобы распросить мисс о ее страхах, одного мужчины вполне достаточно.
Ватсон ассистентски покашлял, выясняя, относится ли пожелание к нему тоже. Оказывается, относилось. Впрочем, действия друга показались ему разумными. Перекрестный допрос в полночь – это, пожалуй, слишком для нервов впечатлительной девицы.
Когда группа молчаливых мужчин спускалась по лестнице в толщу тихих сомнений, сэр Эндрю вдруг несообразно весело спросил:
– А что бы вы сказали, господа, о хорошем куске холодной телятины и стакане доброй мадеры? По-моему, мы заслужили нечто в этом роде.
– Слушаюсь, сэр, – пропищал Эвертон.
На следующее утро после завтрака Ватсон, как и было заранее условлено, вышел в редкую дубовую рощицу, замершую над темным овальным прудом в тылу Веберли-хауса. Удобно петляя меж бесшумных прохладных деревьев, песчаная тропинка сбегала к росистому берегу. Облака тумана медленно впутывались в разреженную толпу можжевеловых кустов на том берегу, освобождая для сосредоточенного обозрения темное лоснящееся зеркало неподвижной воды.
Сколь английским было это утро!
Доктор поправил белый шарф и поднял воротник пальто. Вчерашняя телятина еще давала себя знать ломотой в висках и неприятным привкусом во рту.
Сзади раздались сочные шаги по влажному песку тропинки, и одновременно с этим звуком явился запах табачного дыма.
– Доброе утро, Ватсон.
– Доброе, но промозглое.
Холмс заинтересованно огляделся.
– Да? Возможно. Знаете, над чем я размышлял, идя сюда?
– Даже не пытаюсь гадать.
– Правильно, не надо. Я думал над тем, с чего бы следовало начать описание этого дела. Писательское чутье вам что-нибудь уже подсказывает? Не начать ли с этого пруда? Как он таинственен! Смотрите, туманный занавес снова закрывается. Роскошно!
– Вы полезно побеседовали с девушкой?
– Скорее приятно, чем полезно. Она весьма мила, но разговор с нею не дал мне пищи для какой-нибудь стоящей версии. Может, у вас мелькнули трезвые мысли?
Ватсон нервно пожал зябкими плечами.
– Нет. Я даже приблизительно не могу себе представить причину смерти милорда. Пулевое ранение без пули – это ведь настоящий бред.
– Как раз это, дорогой друг, самая легкая из загадок. И я ее, как мне кажется, уже разгадал.
Недоверчивый скошенный взгляд доктора.
– Да, да. Дело в том, что пуля была.
– Куда же она девалась?
– Растаяла.
– Если вам угодно шутить…
– Это была ледяная пуля. Если кусок льда непосредственно перед выстрелом вставить в патрон, то он поведет себя так же, как кусок свинца. А потом исчезнет.
– Но…
– И меня беспокоит это «но». В жизни всегда так. Одна разгадка задает десять новых загадок. Кто засунул лед в патрон? Почему сэр Энтони ждал, пока это будет сделано? Куда девался стрелок после выстрела? Где он хранил лед перед тем, как сделать из него пулю?
– И откуда лед в сентябре, это ведь тоже загадка.
Холмс кивнул, пососал потухшую трубку.
– Как раз на эту тему у меня есть соображения.
– Говорите же!
– Если подпольные помещения Веберли-хауса достаточно глубоки, можно вспомнить, что некогда наши предки имели обыкновение забивать подвалы глыбами льда, вырубленными в замерзших водоемах, и хранили на них рыбу, мясо и овощи. Иногда все лето.
– Но реки в этих местах никогда серьезно не промерзают.
– Реки – да, текучая вода. А вот пруды?
Ватсон совсем другими глазами посмотрел на водное чудо, лежащее у его ног.
– Что вы скажете о последней зиме?
– Моя практика выросла втрое против обычного уровня. Сплошные бронхиты и обморожения у бедняков.
Холмс постучал трубкой по стволу ближайшего дуба.
– Остается выяснить, кто заведует подвальными кладовыми в этом симпатичном особняке. Впрочем, тут не придется долго ломать голову. Ставлю шиллинг против пенса, это наш милейший привратник Яков. Убежден, эта личность не так проста, как кажется.
– Да, пожалуй, я обратил внимание, как лебезит перед ним сэр Эндрю. Так не говорят со слугами.
– Браво, Ватсон, что вы еще заметили? Вчера и сегодня.
– Например, мне кажется, что братья Блэкклинеры очень мало похожи друг на друга.
– Ну, это было заявлено с самого начала. Один бретер, картежник, второй ученый, третий почти святой.
– Я не о том, Холмс. Мне трудно представить, что все они родились от одного отца и одной матери.
– Что-то вы в последнее время ударились в физиогномику. Правда, не всегда ваши выводы основательны. Вспомните вашего Ройлотта-Бриджесса.
Доктор чуть покраснел, но промолчал.
– Да я смотрю, вы так до конца и не признали свое поражение в той истории!
Доктор нахмурился.
– Оставим это.
– И вправду, оставим. Никакого отношения тот актер не имеет к нашему спектаклю. Продолжайте, Ватсон, что еще показалось вам странным?
Ватсон выпятил верхнюю губу, пережидая, пока схлынет обида. Холмс решил его подбодрить.
– С братьями Блэкклинерами вы, надо признать, правы. Трудно поверить, что это одна плоть и кровь. Но прихоти природы необыкновенны и бесконечны. Безусловное ближайшее родство этих трех людей – одна из таких прихотей.
Доктор принял извинения.
– Еще этот доктор Бредли, Холмс.
– Что же с ним?
– За завтраком, к которому вы не вышли, он вел себя странно. Не как врач.
– Что вы имеете в виду?
– Он отказался от овсянки и потребовал вчерашнего жаркого. После этого велел принести вина и выпил две бутылки хереса на протяжении каких-нибудь сорока минут. Какую несусветную чушь он нес при этом!
– Две бутылки хереса с утра могут замутить самый позитивистский разум.
– Мне представлялось, что врач должен быть осведомлен о том вреде, который может принести херес в таком количестве в такой ранний час.
– Он деревенский доктор, это дает право на некоторые заблуждения. А потом, насколько я знаю, в клятве Гиппократа говорится об обязанностях врача по отношению к чужому здоровью, а не к своему. Скажите, вы когда-нибудь видели абсолютно здорового врача?
Ватсон пожал плечами.
– Помнится, даже Авиценну изводил колит.
Чтобы прекратить этот парад познаний, доктор решил слегка повернуть течение разговора.
– Мне показалось, что братья тяготятся обществом мистера Бредли.
– Думаю, не более, чем вы.
Доктор развел руками, показывая, что он все сказал.
– Теперь слушайте меня, Ватсон. Мне придется немедленно уехать.
– Как?!
– Я получил срочное послание от Майкрофта. Дело не терпит ни малейшего отлагательства. Меня не будет несколько дней. Не волнуйтесь, по моим расчетам, за это время не должно произойти ничего серьезного, опасения сэра Эндрю не оправдаются. Так мне кажется. Но будут происходить другие события, за ними вам надлежит следить внимательнейшим образом. Лучше, если вы станете записывать свои наблюдения. И как можно подробнее. Особенно присматривайтесь к Якову. Мне кажется, он способен привести нас к разгадке.
– Вы убываете немедленно?
– Да. Не волнуйтесь и ведите дневник. Белая бумага надежнее сохраняет наши наблюдения, чем серое вещество мозга.
Вторая часть
«Надобно сделать замечание об общей атмосфере Веберли-хауса. Она слишком необычна, чтобы оставить ее без внимания. С чем бы ее можно было сравнить? Прежде всего приходит на ум корабль, капитан коего отсутствует по болезни или смерти. Корабль еще движется прежним курсом, но в сердцах пассажиров уже поселилось подозрение, что в самом скором времени им придется полететь в тартарары.
Что в такой обстановке выступает на первый план – падение нравов и ослабление чувства приличия. Увеличивается потребление алкоголя, возникает словесная несдержанность. Я имею несчастливую и неприятную возможность наблюдать вышеназванные проявления. Пьяны все и с самого утра. Некоторые даже перестали переодеваться к приему пищи, что я считаю верхом невоспитанности, если учесть, что за стол садятся не только родственники, но и гости.
Несдержанность словесная также производит удручающее впечатление. Я всегда подозревал, что английского аристократа, как и всякого человека, иной раз терзает искушение употребить крепкое словцо или соленое выражение. Но я смущен тем, с какой охотой братья Блэкклинер, не исключая даже юного сэра Тони, поддаются этому искушению. Меня, надо признать, они немного стесняются, но с течением времени все меньше и меньше.
Еще одно следствие тайной паники, живущей в сердцах обитателей Веберли-хауса, – расшатывание сословных границ. Конечно, смешно желать, чтобы добрые викторианские нравы сохранялись вечно в своей благородной незыблемости, однако вид их ветшания горек для британского сердца.
Дворецкий Эвертон с каждой встречей выказывает все меньше обходительности и подобающей выправки. Такое впечатление, что его тяготит роль, которую он отправляет в Веберли-хаусе. А ведь известно, что он представляет собой шестое поколение Эвертонов, живущее в доме. Трудно поверить, что действие тайного страха столь стремительно разрушает основания традиционного быта через порчу человеческой натуры. Я был невольным свидетелем того, как на просьбу сэра Гарри переменить остывший чайник и принести настоящего кипятку дворецкий дал такой комментарий, который я просто не решусь здесь привести. Смысл его заключался в том, что сам, мол, не хуже меня знаешь, где кухня. Сходи и вскипяти. Правда, следует заметить, что ни господин, ни слуга не видели меня, оставшегося за выступом буфетной стойки. Стоило мне обнаружить себя, как все встало на свои места. Или почти на свои. Сэр Гарри запахнулся в невидимую тогу отрешенного мыслителя, а Эвертон сделал вид, что ждет его повелений.
Так прошло три дня. 19, 20, 21 сентября. Ощущение некоего непорядка в доме все более усугублялось.
Я завтракал, пил чай, обедал. Вечерами просиживал в библиотеке. Много гулял по парку, по дому, пытаясь проникнуть в секрет его атмосферы и приглядываясь ко всякому, даже самому ничтожному происшествию. Три дня обстановка была хоть и неприятной, но стабильной.
Какие-то события начали происходить 22-го.
Во время очередной прогулки по здешнему чрезмерно тенистому парку я старался держать в поле зрения сторожку Якова (как мне было рекомендовано). Неожиданно я увидел сэра Эндрю. При первом же взгляде на него стало ясно, что он не гуляет, а крадется. Начинало темнеть, и это сэра Эндрю, судя по всему, устраивало. Перебегая от одной древесной тени к другой, он удалялся все дальше от дома.
Надо ли говорить, что я насторожился.
Соблюдая все меры предосторожности, я последовал за ним. Сэр Эндрю все время оглядывался и прислушивался. Странность заключалась в том, что не далее часа назад, за обедом, он с самым серьезным видом сообщил мне, что остерегается выходить из дому после того, как начинает темнеть. «Но, может статься, опасность подстерегает вас внутри дома», – заметил я. Сэр Эндрю автоматически покрутил в руках опорожненную бутылку виски и так же автоматически ответил: «Может статься». В его тоне чувствовалась обреченность.
И вот он один, почти ночью, бродит по парку.
Каково же было мое изумление, когда я понял, что является целью его путешествия.
Сторожка Якова!
Холмс прямо меня предупреждал, что этот привратник фигура очень важная в данном деле.
Сэр Эндрю, предварительно оглянувшись, постучал в деревянную дверь. Ответа не последовало. Он постучал вновь. Стук, насколько я могу судить, был условным, но не возымел действия. Тогда сэр Эндрю встал на колени и что-то быстро забормотал в замочную скважину. Слов его было не разобрать, хотя я находился на расстоянии не более сорока футов.
Шепот оказался убедительнее стука. Дверь отворилась. Сэра Эндрю впустили. Тогда я на цыпочках подкрался к окошку и осторожно заглянул. Да простится мне моя нескромность. Впрочем, она сродни нескромности скальпеля, вскрывающего абсцесс.
Картина моим глазам предстала удивительная. Сэр Эндрю стоял на коленях перед своим привратником, воздевал руки, потом бил этими руками себя в грудь, словом, обращался к Якову с настоятельной просьбой. Понять, о чем именно идет речь, было нельзя. Ясно только было, что о чем-то очень важном для сэра Эндрю. Ясно также было и то, что Яков не склонен идти ему навстречу. Он достал что-то из кармана, повертел перед носом хозяина, неприятно усмехнулся и издевательски покачал головой. Мол, ни за что не получишь.
Сэр Эндрю полез в карман своего сюртука, выгреб оттуда, судя по всему, горсть монет и попытался предложить ее Якову. Но тот не хотел идти на сделку. Еще некоторое время продолжался обмен взаимными упреками, наконец хозяин перешел к активным действиям. Он одним ловким движением выхватил из пальцев Якова чаемую вещицу и выскочил вон.
Что произошло в привратницкой дальше, он не видел. А произошло вот что. Яков на мгновение застыл, как громом пораженный, потом схватился руками за вырез своего шерстяного жилета и попытался разорвать его на груди. Не успел, руки перебросились в область горла, и он стал оседать на пол.
Припадок, понял я и бросился к нему на помощь.
Когда я склонился над ним, взгляд его был бессмысленным, а на губах закипала пена. По телу прошла волна судорог. Надо было чем-то разжать челюсти и высвободить язык. Слава богу, у меня была с собою трость. Мне казалось, что он ее перекусит! Припадок был очень сильным, и если бы не своевременное вмешательство, можно предположить, что закончился бы он скверно.
Когда самое страшное миновало, я помог Якову перебраться на его ложе, покрытое серым суконным одеялом, дал ему напиться. Явилась у меня мысль разговорить его, я рассчитывал на естественное чувство благодарности в спасенном человеке, но мне пришлось отложить эти попытки. Привратник был не в состоянии беседовать. Я сходил в дом за своим саквояжем, сделал несчастному успокаивающий укол и так, между прочим, сообщил ему, что помимо медицинской практики я занимаюсь любительскими разысканиями по архитектурной части. В частности, меня интересуют подвалы старинных особняков. На осторожный вопрос, не может ли он мне помочь в моем интересе, то есть отворить нижние помещения дома, он горько усмехнулся. «Вам тоже нужен подвал?» – таковы были его слова. Он не захотел продолжать беседу на эту тему.
Интересно, кого он имел в виду? Кто еще кроме меня заинтересовался подвалами Веберли-хауса?
Яков лежал с закрытыми глазами и скорбным выражением на лице.
Чего от него добивался сэр Эндрю, я спрашивать остерегся.
Я разыскал доктора Бредли и попросил его присмотреть за больным, может быть, подыскать сиделку в деревеньке, ближайшей к Веберли-хаусу.
Какой можно было сделать вывод из всего случившегося?
Ситуация яснее не стала.
Мысль Холмса о том, что узел этого дела, возможно, находится в привратницкой, получила косвенное подтверждение. Стало ясно также и то, что полагаться мне придется исключительно на свои силы. Сэр Эндрю, скорей всего, не так прост, как могло показаться в самом начале.
Итак, я пришел к решению собственноручно исследовать здешние подвалы.
И немедленно. Откладывать исследование до утра было невозможно. Слишком опасно? Но кто мог сказать, где в этом доме тебя подстерегает опасность?
Необходимо было некоторое снаряжение. Фонарь, свечи, ключи. За поисками всего этого меня застал в буфетной дворецкий. Чтобы сгладить неприятное впечатление от своей возни (посторонний джентльмен в служебных помещениях дома – это не совсем нормально), мне пришлось сообщить ему свою архитектурную легенду. Он немедленно предложил мне помощь. Он был так любезен, что снарядил фонарь и отыскал все необходимые ключи. «Особая связка, – сообщил он не без гордости в голосе, – мало кто в доме знает о ее существовании». Свою услужливость он объяснил желанием быть постоянно рядом с кем-то, ибо одиночество сделалось слишком тягостным в последнее время. «Если мне суждено столкнуться с чем-то необычным, то пусть это произойдет при свидетелях». Я согласился, что атмосфера в доме и в самом деле тягостная и странная. Перед тем как отправиться в путешествие по подвалам, я поднялся в свою комнату, чтобы переодеться. На столике рядом с изголовьем моей кровати лежал конверт. Это было письмо. Вот его содержание. «Должен сообщить вам следующее: известный вам привратник скрывает свою истинную фамилию. Он не Кэшмен. Он Смерд, сын небезызвестной Оливии Смерд».
И это все!
Долго я вертел листок в руках, но ничего больше на нем не отыскал.
Одевшись подобающим случаю образом, я вышел в задумчивости в коридор, где сделался свидетелем весьма странной сцены. По лестнице с третьего этажа прямо мне под ноги буквально скатился сквернословящий сэр Тони. Самым мягким выражением в его спиче было слово «собака»!
На третьем этаже располагались комнаты мисс Элизабет (мне так и не удалось с нею пообщаться, она почти не покидала своих апартаментов, завтракала и обедала наверху), и надо было полагать, что все ласковые слова относились именно к ней. Но тогда сам собой возникал вопрос: а что, собственно, делал там, наверху, этот богобоязненный юноша?!
Пока я размышлял над этой загадкой, сверху спустился еще один Блэкклинер. А именно сэр Гарри. Он тоже изрыгал проклятия, тоже поминал собаку и озабоченно дул на левую кисть.
Мое неожиданное появление немного их смутило.
«Позвольте», – сказал я и взял руку сэра Тони, чтобы как следует рассмотреть. На руке были несомненные следы укуса. Ничего не оставалось, как предположить, что он укушен мисс Элизабет!!!
Выражение лиц у этих джентльменов было таково, что я понял – на мои вопросы они отвечать не станут. Была надежда, что они хотя бы выслушают врачебные советы. Выслушали, но с постными лицами и весьма нетерпеливо.
После чего мы раскланялись.
Что же там произошло на третьем этаже?
Загадок становится все больше.
Прежде всего следовало навестить мисс Элизабет. Необходимо было узнать, как она себя чувствует после общения с братьями Блэкклинер. Признаться, поднимался наверх я без особой охоты. Существовала опасность быть понятым неправильно и попасть, что называется, под горячую руку. Оказалось, что опасался я не зря. «Что тебе нужно, щенок?!» – послышалось из-за двери в ответ на мой деликатный стук.
Чтобы дать понять, что стучит не щенок, а человек взрослый, я кашлянул. Как можно гуще.
Дверь отворилась. Мисс Элизабет явилась передо мною во всей растрепанной красе. Надобно заметить, что в этот момент я впервые ее толком рассмотрел. Живое подвижное лицо, весьма милое. Темные быстрые глаза, немного раздражения в уголках рта. И копна распущенных волос.
«Ах, это вы, доктор!» – сказала она тусклеющим голосом.
Я осторожно поинтересовался, могу ли войти. Не слишком охотно, но она меня впустила, при этом пытаясь привести в порядок свои волосы. Беседа наша получилась сумбурной, затрудняюсь ее изложить как-нибудь связно. Состояла она в основном из монолога мисс Элизабет. Она горько и длинно сетовала на свою ужасную роль одинокой беззащитной девушки в современном обществе. Все смотрят на нее как на вещь, никто не считается с жизнью ее души. Каждый норовит вторгнуться в ее судьбу и грязно наследить там. Первым это вообразил сам милорд. Но он хотя бы старался придать своему влечению оттенок благородства, вел речь, хотя и туманно, о женитьбе. Брал на себя обязательство обеспечить сироту. Да, она чувствовала себя морально униженной, плакала ночи напролет, но не ожидала, что с его смертью станет еще хуже. Предполагавшиеся деньги исчезли. Никто даже не упоминает о трех тысячах фунтов, обещанных милордом ей. Сыновья ведут себя как свиньи. Они, кажется, убеждены, что деньги находятся у нее. Вообще их ничего не интересует, кроме денег. Они даже угрожают, что если они денег не получат, то не выпустят ее отсюда.
Она зарылась лицом в ладони и зарыдала. Надо было что-то сказать. Но вид плачущей женщины парализует во мне всякую способность соображать. Сказав несколько дежурных фраз о сочувствии, понимании, о железном оскале нашего молодого века, я ретировался.
Нет, уж лучше отправиться на поиски прошлогоднего льда, чем утешать разочарованную даму.
Спускаясь вниз по лестнице, я отметил про себя, что мисс Элизабет, пожалуй, не англичанка. Нервное напряжение обнажает в ее речи скрытый акцент. Кроме того, меж ее оборотами мелькают явные галлицизмы.
Эвертон ждал меня с нетерпением, о чем говорило звякание ключей у него на связке. Мы немедленно приступили к инспектированию подвальных помещений Веберли-хауса. Там было сумрачно, сыро, царили запахи плесени и занавеси паутины. Эти помещения посещаются весьма редко, по утверждению Эверто-на. Сам он вел себя так, словно оказался в подвале впервые. Путался в ключах, отвечал с неуверенностью о том, что нам предстоит увидеть за той или иной дверью. Я дважды поскользнулся на влажных камнях, он умудрился сделать это раз пять.
На неизбежный вопрос о привидениях Эвертон ответил неестественным смехом. Мол, ходят какие-то разговоры на эту тему, но лично ему ни разу с привидениями сталкиваться в Веберли-хаусе не приходилось. Конечно, в истории любого английского родовитого семейства полно кровавых и таинственных историй, но не всякая оставляет по себе память в виде колоритного духа.
Воспользовавшись тем, какое направление принял разговор, я сказал, что если дворецкий не желает беседовать об умерших, то, может быть, он охотнее поговорит о живых. Например, не знает ли он, какова фамилия привратника Якова?
Эвертон нахмурился. Поставил фонарь на пол и огляделся, хотя мы были совершенно одни в каменном мешке. Потом он засвистел мне на ухо своим тонким шепотком. Оказывается, Яков действительно не Кэшмен, а Смерд, это фамилия, очень, кстати, странная, его беспутной материи Оливии, связавшейся некогда с неуемным сэром Энтони. От этой связи привратник и родился.
Интересно: Яков сын покойного милорда!
Это открытие следовало обдумать.
Кроме того, стало понятно, что письмо написано не Эвертоном.
Выходило, что привратник мог иметь свои виды на наследство. Не об этом ли говорил он с сэром Эндрю перед своим припадком? Если разговор шел о наследстве или хотя бы об исчезнувших трех тысячах фунтов, то припадок не кажется чрезмерной реакцией. Проясняется и причина заискивающего поведения отставного капитана Блэкклинера по отношению к Якову. Тот ведь хоть и незаконнорожденный, но старший по возрасту! Сэр Эндрю наверняка посвящен в его тайну. Не может хозяин не знать того, что известно дворецкому.
Может быть, сэр Эндрю посвящен и в историю с ледяной пулей?
Я так разволновался, что чуть было не пропустил маленькую уловку Эвертона. Он оставил без внимания одну дверь в глубине винного погреба. Она была почти не заметна за пирамидой пыльных бутылок сомерсетширского сидра и корзинами с бутылями яблочного уксуса.
Когда я на нее все же указал, он стал меня уверять, что там ничего нет, что дверь фальшивая. Вот, извольте убедиться, на связке даже нет ключа для того, чтобы ее отпереть. Она никого никогда не интересовала. Вокруг было полно следов грубого хозяйничанья. Перевернутые корзины, пара разбитых бутылок. В других помещениях ничего подобного не было. Тут кто-то был, и совсем недавно. Но я сделал вид, что поверил дворецкому. И мы начали подниматься наверх.
Когда мы были на поверхности, Эвертон сказал, что гонг к обеду будет через час. Обед через полтора. У меня было достаточно времени, чтобы записать увиденное.
Приведя себя в порядок, я вышел к столу, и моим глазам открылась презабавная картина. Центром ее был мой старый знакомый инспектор Лестрейд. Увидев меня, он бросился обниматься. «Вы решили вернуться?» – «Да, из чувства долга. Я не мог поступить иначе, когда есть люди, нуждающиеся в защите, а мистер Холмс вынужденно отсутствует». Такой между нами произошел диалог.
Надо сказать, что находившиеся тут же сэр Эндрю и мистер Бредли смотрели на инспектора без всякого восхищения. Видимо, они не до конца верили в его способность кого-нибудь защитить.
К столу в этот раз вышли все. И сэр Гарри, и сэр Тони, и даже мисс Элизабет. Над столом висело тревожное ожидание. И, как выяснилось, причиной его был не черепаховый суп и не консоме из спаржи, последовавшее вслед за ним.
Я поинтересовался у мистера Бредли, как чувствует себя его подопечный. Оказалось, что ему лучше, но он пока не встает. Припадок был все же слишком сильным. При нем постоянно находится сиделка. Ему отправили с кухни тарелку супа и картофельное пюре.
Тут же взял слово инспектор. Время от времени косясь в мою сторону, он произнес речь, с видимой тщательностью подбирая слова. Он призвал всех к сдержанности и терпению и выразил убежденность, что все закончится к всеобщему удовлетворению. Да, положение серьезное, но оно не безнадежно.
Ответом ему были презрительные улыбки, тихое фырканье в ложку и прочие знаки неуважения. Да, отметил я про себя, авторитет моего друга здесь неизмеримо выше, чем авторитет представителя властей.
Молодой Тони, подпирая щеку забинтованной рукой и глядя на меня своими искренними, чистыми глазами, поинтересовался, как идет следствие.
Я ответил, что оно идет. У него, у следствия, есть свои интересы, которые могут пострадать от праздных обсуждений. Шерлок Холмс убыл ненадолго, скоро он вернется, и все выяснится.
«Как вы думаете, почему он уехал?» – спросили у меня сразу несколько голосов.
«Это показалось ему необходимым. Не все необходимые действия очевидны», – отвечал я. Мне и самому хотелось, чтобы мой друг был рядом, но что я мог поделать?
«А правда ли, что его отвлекли от происшедшего в Веберли-хаусе какие-то личные неприятности?» – поинтересовался сэр Эндрю.
Вопрос этот вызвал нервную волну, пробежавшую вокруг стола. Отреагировал даже Эвертон, громко ударивший горлышком бутылки о край бокала.
Мой ответ должен был быть безупречным, учитывая создавшуюся обстановку. Вот как я ответил: «Никакие личные обстоятельства не могут помешать моему другу оказать помощь тому, кто в ней нуждается. Кажется, с тех пор, как он уехал, никто больше в Веберли-хаусе не умер».
По-моему, эти слова удовлетворили всех. По крайности, никто о причинах отсутствия Холмса больше не спрашивал.
В целом от этого обеда у меня осталось непонятное впечатление. Собравшиеся вели себя совсем не так, как можно было бы от них ожидать. Никто не был озабочен приближением очередной ночи, никто не упомянул о таинственной и неотвратимой угрозе, затаившейся где-то под крышею дома. Даже сэр Эндрю, еще недавно прибегавший к маскировочным мерам, был теперь тоскливо-задумчив и даже рассеян. Между тем было ясно, что мысли этих людей чем-то напряженно заняты.
Чем?!
Может, я что-то упустил, не заметил?
Но что?!
Да, Шерлок Холмс прав, эта история запутана сверх всякой меры!
Сначала я предполагал осмотреть запертую дверь в винном погребе вместе с моим другом, но потом, особенно учитывая, что срок его возвращения неизвестен, принял решение действовать в одиночку.
И немедленно!
То есть нынешней же ночью. Благо у меня было все для этого необходимое. Во-первых, фонарь. Тот самый, с помощью которого нам было впервые освещено место преступления. Холмс настоял, чтобы он был доставлен в его комнату как вещественное доказательство. Неужели мой друг уже тогда предполагал, что в нем возникнет необходимость?! Во-вторых, набор изумительных отмычек из коллекции Холмса. Мой друг утверждал, что сыщик должен владеть преступным ремеслом лучше преступника, только тогда у него есть шанс его поймать. Ни один взломщик Лондона, а может быть, и всего Соединенного Королевства, не обладает таким широким набором профессиональных инструментов, как тот, что я нашел в саквояже Холмса.
Важную часть снаряжения составляло устройство из моего личного арсенала. Имеется в виду мой револьвер. Осмотрев его и засунув в карман, я почувствовал себя несколько увереннее.
Перед тем как отправиться в подвал, я привел в порядок свои записи и оставил их в том месте, где Холмс, зная мои привычки, легко сможет их отыскать. В случае моей гибели. Приходилось думать и о такой возможности.
Между тем пробило половину двенадцатого. Правда, сказать, что дом замер в предощущении каких-то трагических событий, было нельзя. Я осторожно обошел его кругом, дыша сырым осенним воздухом, и с удивлением обнаружил, что значительная часть окон в здании освещена. Горел свет у мисс Элизабет на третьем этаже, горел свет и в комнатах сэра Гарри и сэра Тони. Горел свет и в библиотеке, где инспектор Лестрейд с доктором Бредли играли в шахматы и пили херес. Оставалось определить, где находится Эвертон. Надо думать, делает приготовления к завтраку. Если так, то это плохо. Значит, он находится в буфетной, дорога в подвал пролегает как раз мимо нее.
Я снарядил фонарь, положил в карман пиджака пару свечей, незаметно похищенных из столовой, и коробок со спичками. Свечу в фонаре я, разумеется, не зажигал. Быть темным в темноте – это самое укромное состояние.
Продефилировав вниз по лестнице перед невидимыми лицами бесчисленных Блэкклинеров, я свернул налево. Пересек холл. Попал в коридор правого крыла. Несколько осторожных шагов-как хорошо, что я догадался надеть мягкие домашние туфли, – и я у дверей библиотеки. Дверь эта была приотворена. Сыщик во мне победил джентльмена, и я заглянул. За столом с двумя подсвечниками, пылающими, как две неопалимые купины, сидели Лестрейд с доктором. Судя по тону их речей, они уже давно перешли с шахмат на карты и с хереса на джин. Беседа их состояла из обмена невнятными колкостями. В их времяпрепровождении была одна польза-они не могли помешать мне в моих занятиях.
Ступая еще более осторожно (от библиотеки до столовой, как я заметил накануне, был опасный участок трескучего ясеневого паркета), я отправился дальше. Я тенью проплыл футов около пятнадцати. Со стороны я в этот момент вполне мог сойти за привидение. Но, как часто случается в жизни, за опасным участком следовал еще более опасный.
Коридор от столовой сворачивал к дверям буфетной. Кроме того, слева стена коридора превращалась в последовательность высоченных, ничем не задрапированных окон, выходящих на лужайку перед парадным фасадом. Меня можно было обнаружить с обоих флангов. Мои армейские воспоминания говорили мне, что нет положения опасней. Но другого пути к лестнице в подвал не имелось.
И я рискнул.
Слева темнота в исполнении ночи.
Справа песня в исполнении Эвертона. Он скверно, но узнаваемо напевал «Лиллибуллеро», позвякивая серебром. То ли он чистил его, то ли воровал. Я не успел задуматься, потому что должен был насторожиться.
Эвертон вышел из буфетной!
Я замер, задержав дыхание.
Он направился в сторону холла.
Я с облегчением выдохнул.
Потом достал из кармана связку отмычек. С первым замком возиться не пришлось, он был не закрыт. Что ж, тем лучше.
Внутри было абсолютно темно. Спустившись вслепую на несколько ступенек по каменной лестнице, я зажег свечу в фонаре. Подземелье неохотно осветилось и показалось мне вдвое более таинственным, чем во время первого посещения.
Вторая дверь тоже не доставила мне особых хлопот. Замок был, видимо, современным, из большой фабричной серии. Приоткрыв тяжелую, пахнущую старинным деревом створку, я прислушался. Нет, никто не заинтересовался едва слышимым металлическим щелчком в подвале.
Теперь можно было действовать более смело, между мною и остальным миром были две массивные двери. Третий замок заставил меня попотеть. Я добрался до середины Холмсовой коллекции, прежде чем почувствовал, что нащупал слабость в нем. Несомненно, автором этого хитроумного запора был какой-то местный умелец, не знакомый с современными промышленными стандартами замочного дела. Он вложил в устройство свою индивидуальную хитроумную волю.
Когда я добрался до винного погреба, то был насквозь мокр. Вскоре выяснилось, что все самое трудное у меня еще впереди. Все до единой отмычки Холмса оказались бессильны перед секретом таинственной последней двери. В глубине души я был готов к тому, что последний рубеж окажется самым трудным, но я не думал, что он окажется непреодолимым. Впадая в состояние, близкое к отчаянию, я ударил грязным кулаком по замку и с удивлением заметил, что створка двери слегка отошла. Я просунул пальцы внутрь и потянул. Она без сопротивления открылась полностью. Я поднял фонарь и увидел… каменную кладку. Старинную, заплесневелую. Дверь и в самом деле ничего не скрывала.
Декорация!
В этот момент замигала свеча в моем фонаре, предупреждая, что вот-вот догорит. Я открыл стеклянную дверцу, чтобы заменить ее, и тут услышал шум шагов. Кто-то быстро, не скрываясь, шел по подвальной анфиладе в сторону винного погреба.
Не один человек, а больше.
Я сжал пальцами фитиль.
Наступила полнейшая темнота.
Неизвестные гости освещали себе путь голою свечой, о чем свидетельствовало нервное поведение теней.
Я спрятался за кучей перевернутых ивовых корзин и взвел курок своего револьвера. Сколько бы их там ни было, моя жизнь будет им стоить дорого.
Фокус с декоративной дверью, несомненно, психологическая ловушка. Они знали, что я сюда отправлюсь. Делали вид, что пьянствуют, распевают беспечно песенки… Но каков Эвертон!
Двое мужчин ввалились в винный погреб, о чем-то громко переговариваясь. Приземистое местное эхо затаптывало их речь. Одно можно было утверждать – оба навеселе.
Наблюдение вести можно было только сквозь отверстие в дырявой корзине, поэтому видно мне было не все. Однако первого мужчину я узнал сразу-сэр Эндрю. Второй был мне не знаком. Или знаком?!
Снедаемый сомнениями и предчувствиями, я затаил дыхание.
Чем они занимались?
Набивали карманы бутылками! Только и всего. Неужели они явились сюда только за этим?
Проделали они все очень быстро, видимо, спешили. Когда они уже направились назад, друг сэра Эндрю вдруг остановился, потянул носом и сказал: «Слушай, здесь кто-то уже побывал перед нами». – «Почему ты так думаешь?» – «Все двери раскрыты, нам даже ключи не понадобились. Может, он и сейчас здесь». – «И дьявол с ним, пошли».
И тут я узнал этого второго, несмотря на эхо и скверное освещение. Его физиономия на мгновение осветилась очень хорошо.
Это был Ройлотт!!!
Некоторое время я сидел, не в силах подняться с корточек. В голове кружился вихрь из мыслей и их обрывков.
Однако надо было что-то предпринимать. Надо было хотя бы выбраться вон отсюда. Я поднялся, и, не снимая пальца со спускового крючка, двинулся в обратный путь.
Оказавшись на первом этаже, немного успокоился.
С привычной осторожностью миновал дверь в буфетную. Внутри было тихо.
Теперь библиотека. Створка все так же приоткрыта. Как на ладони передо мною был большой стол, занимавший середину помещения. Стол был заставлен в беспорядке бутылками, тарелками с паштетом и фруктами. Горело несколько разномастных подсвечников. Стояли и валялись бокалы. За столом восседали, пребывая в разной степени опьянения, Эвертон, сэр Гарри, сэр Тони, мистер Бредли, инспектор Лестрейд, сэр Эндрю ковырялся вилкой в яблоке. Над всеми возвышался громадный Ройлотт, он тоже ковырялся, но штопором в пробке одной из только что принесенных бутылок.
Пируют. Но как мрачно. Какая странная компания! Может, это пир от ужаса, пир во время чумы?
Рубашка льдом обожгла тело. И сразу вслед за этим меня бросило в жар.
Мисс Элизабет!
Надо было немедленно проверить, что с ней. Невзирая на столь поздний час. Откуда-то во мне появилась уверенность, что с нею не все в порядке. Почему? Среди необъяснимого кошмара, затопившего дом, возможно все.
Все еще стараясь не шуметь, я решительной птицею взлетел на третий этаж. И на цыпочках двинулся к двери мисс Элизабет. Подойдя к ней на расстояние в пять футов, я услышал странные звуки. Они шли изнутри. Сдавленные, жутковатые, похожие на подвывание, нытье и стон.
Кто-то там есть, в комнате мисс Элизабет, и этот кто-то совершает над девушкой нечто преступное.
Кто?!
В моем мозгу произошла вспышка-Яков!!! Только его не было на мрачном празднике в библиотеке.
Я вдруг со всей жуткой отчетливостью представил, как этот мрачный припадочный привратник сдавливает кривыми пальцами бледное горло девушки.
Идиот! Горе-сыщик! Пока бродил по дурацким сырым подвалам… Неужели он имитировал эпилептический припадок?! На время он отвел от себя непосредственные подозрения! Имитировать слишком трудно? Ерунда, за столько лет сотрудничества с Холмсом я должен был научиться не удивляться ничему.
Так, но если Яков ее душит, значит, она еще жива.
Надо действовать!
Ударом ноги я высадил дверь (сколько их было в этот вечер) и влетел в скудно освещенную спальню, выставив вперед своего металлического дружка и вопя:
– Руки вверх!
Зрелище, открывшееся моим глазам, заставило меня опустить оружие и умолкнуть. В следующее мгновение у меня возникло желание поднять его вновь и разрядить себе в сердце.
Голый Шерлок Холмс лежал в объятиях голой мисс Элизабет и совершал действия, не оставляющие никаких сомнений в том, что я полный кретин».
Третья часть
Вернувшись в свою комнату, доктор Ватсон первым делом разрядил револьвер. Вторым – записал подробнейшим образом все, что случилось с ним в последние два часа. Он сидел за столом, стиснув зубы, выпрямив спину, с каменным выражением лица, аккуратно макая перо в чернильницу. Таким образом ему удавалось удерживать себя в руках. Он почти полностью овладел собой, но в этот момент рассказ его подошел к тому месту во времени и в пространстве, где омерзительный лицемер Шерлок Холмс зверски овладел несчастной запуганной девушкой.
Ватсон швырнул перо поверх листа, усыпая текст кляксами своего отчаяния. Вскочив, он стал метаться по комнате, растирая запястья и топорща усы.
Раздался стук в дверь.
Доктор знал, кто стучит. Он саркастически каркнул:
– Открыто.
Доктор не ошибся, на пороге стоял насильник в сюртуке его друга, в рубашке с отогнутыми воротничками – любимой рубашке друга и с трубкой того же друга в зубах. Кроме того, он имел наглость улыбаться мудрой дружеской улыбкой.
– Знаете, Ватсон, я даже рад, что все так получилось.
Холмс вошел внутрь, закрыл за собою дверь и сел к столу. Посмотрел на исписанные и забрызганные листы.
– Это могла быть ваша лучшая повесть. Простите, что я ее, кажется, испортил.
Грудь доктора вздымалась все выше и выше с каждым словом гостя.
– Повесть?! Вам жалко только ее?! И ничего больше?!
– Что еще я, по-вашему, испортил?
– Хотя бы нашу дружбу! Надеюсь, вы понимаете-после того, что я увидел наверху, отношения между нами изменятся.
Холмс дочитал до конца лежащую перед ним страницу.
– Великолепно! Какая экспрессия! Какая живость изложения!
– Вы издеваетесь надо мной?! Я это писал кровью сердца! Я не позволю… Я разрядил свой револьвер, но ничто не помешает мне…
Холмс резко повернулся на стуле в сторону говорящего. Глаза сыщика были печальны, трубочный дым вяло тек из приоткрытого рта.
– Вы способны убить меня?
Ватсон отвел взгляд, но ответил твердо:
– Да. Но только в честном поединке.
– И будете настаивать на нем, даже если я дам объяснение случившемуся?
– Дайте объяснение, и я решу, как мне вести себя дальше.
Прежде чем начать говорить, Холмс затянулся своей трубкой, но было видно, что табак не доставляет ему привычного наслаждения.
– Сегодня печальный день, Ватсон. Печальный по многим причинам. В частности потому, что отныне наши отношения никогда уже не станут прежними. Даже если мы не будем стреляться. Во-первых, я начинаю другую жизнь. Во-вторых, вы сейчас узнаете, что все эти годы я был не тем, за кого вы меня принимали.
– Многословно, но непонятно.
– Начнем с того, что я женюсь, Ватсон.
Заявление было столь сильным, что доктор был сбит со своего непреклонного настроя. Лицо сделалось мягче, глаза растерялись.
– Да, мой друг, да. Та женщина, которую вы видели в моих объятиях в столь решительный момент, – моя возлюбленная. Возлюбленная настолько, что я решил связать с нею остаток своих лет. Кстати, Ватсон, я не думаю, что вам следует брать за правило врываться в комнату в тот момент, когда запершаяся там пара…
– Я хотел помочь! Я думал, что мисс Элизабет угрожает опасность.
– Вы думали, что этот эпилептик Яков на нее набросился?
– Как вы догадались, что я подумал именно так? – спросил Ватсон и тут же пожалел, что спросил. Сколько раз возникала такая ситуация – он задает наивный, спонтанный вопрос, а всеведущий Холмс со снисходительной улыбкой объясняет, в чем тут дело. Терпеть интеллектуальную экзекуцию от старого друга-это еще куда ни шло, но сносить ее от некой темной личности – ни за что! Ватсон добавил с кислой миной:
– Что я спрашиваю, разумеется, пресловутый метод…
Холмс отрицательно покачал головой.
– Нет, мой друг, дедукция тут ни при чем. Я вообще думаю, что дедуктивный этот метод есть миф, навязанный ВАМИ доверчивому воображению ваших многочисленных читателей. В реальности он не существует, ибо существовать не может.
– Что вы такое говорите?!
– Это я докажу и покажу вам позже. Что касается данного конкретного случая, то я ничего не угадывал, ибо ничего угадать не в состоянии. Это написано на листе бумаги, который лежит у вас на столе. Я не удивился, прочитав это. Потому что специально ПОДВОДИЛ вас к возникновению именно такого подозрения. И мои помощники помогали мне в этом.
Доктор медленно, как бы недоверчиво опустился на стоящий у окна стул. Недоверие его было направлено не на предмет мебели, но на речь Холмса.
– Подводил?
– Да. Прошу простить меня, мой друг, но все, кого вы здесь видели, – не реальные люди…
– Привидения?
– Это персонажи, изображенные нанятыми мною актерами.
Левая часть докторского лица начала как бы скисать, глаз прищурился, угол рта пополз вверх.
– Да, да, спектакль.
– Вы хотите сказать…
– Никакого сэра Энтони Блэкклинера не существовало. Никто никого не убивал ледяной пулей. Надо признать, эта часть замысла получилась излишне громоздкой. Очень уж хотелось посильнее запутать мозги читателю. Кабинет заперт изнутри, окна закрыты, шторы опущены, труп с дырой в голове-и никаких следов пули, здорово, да?
Глаза Холмса творчески загорелись.
– Правда, я стал жертвой собственного размаха. Дырку в голове я нашел чем объяснить, а вот все остальное! Хотя, честно говоря, я не первый раз в подобном положении, в конце концов выпутался бы.
– Не в первый раз?!
– Не первый, – хмыкнул Холмс, – но мы к этому еще подойдем, сейчас нужно покончить с недоумениями сегодняшнего дела. Я уверен, у вас уже миллион вопросов возник. Спрашивайте, мой друг, я клянусь отвечать предельно правдиво.
Стул под Ватсоном страшно скрипнул, могло показаться, что это рассудок доктора.
– Начните с самого главного, Ватсон. Спросите, для чего все это было затеяно. Интересно ведь, правда?
– Интересно, – прошептал доктор одними усами.
– Главной целью затеянного мною представления была будущая ваша повесть. Если бы все прошло как следует, вы бы ее непременно написали. Разве не так? Разве не за вдохновением вы сюда приехали? Да что там говорить, значительный кусок ее уже готов! Вот он, на столе.
Стул Ватсона скрипнул снова.
– Поверьте, я и не думаю шутить. Я серьезен, как никогда. Как только вы стали публиковать ваши записи о моих подвигах, стало очевидно, что у вас замечательное, редкое перо, природный вкус и от Бога полученное чувство меры и композиции. Мало у кого из ныне действующих авторов есть хотя бы полтора из этих достоинств.
Ватсон фыркнул, одновременно недоверчиво и полыценно.
– Вы думаете, это лесть? Я слишком уважаю себя и вас, чтобы заниматься славословиями. Я начал говорить вам правду, теперь слушайте ее до конца.
Доктор приосанился.
– Вместе с тем вы напрочь лишены дара воображения. Вы не способны придумать мало-мальски оригинальный сюжет. В этом отношении Киплинг и Стивенсон неизмеримо выше вас. Не обижайтесь.
– Я не обижаюсь.
– Мне попадались на глаза ваши сочинения, изготовленные вне связи с моим образом и моими сюжетными изобретениями. Они благопристойны, даже элегантны, но, увы, мертвы. Теперь перейдем ко мне.
– Да, пора бы уж.
– Природа наделила меня многими достоинствами.
– Главное из них-верное представление о самом себе.
Холмс вытащил трубку изо рта и нарисовал в воздухе недовольный вензель.
– Что может быть мельче колкостей, Ватсон? Оставим их, разговор пойдет о важных вещах.
– О ваших достоинствах.
– Ва-атсон.
– Что ж, слушаю.
– Продолжаю. Оставив в стороне все прочее, замечу: воображением Создатель наделил меня щедро, если не более того. Но, видимо, чтобы соблюсти какое-то одному Ему известное равновесие, Он начисто лишил меня способностей, подобных вашим. Когда я начинаю что-либо излагать на бумаге, получается тусклый кошмар. Это так плохо, что даже показать нельзя.
– Но вы мечтали о славе и во мне увидели недостающую половину той творческой личности, какой хотели бы быть?
Холмс задумчиво потрепал свой подбородок.
– Несколько упрощенно, но близко к сути.
– Но я не могу понять, зачем это было вам нужно, известнейшему, авторитетнейшему сыщику? У меня, наоборот, создалось впечатление, что вы бежите всякой публичности. Вы все самые сочные плоды успеха отдавали Лестрейду, даже тогда, когда это делать было необязательно.
Холмс тихо улыбнулся и постучал чашечкой трубки в ладонь.
– В том-то и дело, что обязательно.
– Не понимаю вас.
– Постарайтесь. Дело в том, что я никакой не сыщик.
Непонимающее молчание было ему ответом.
– Был момент и даже период, когда я пытался подвизаться на этом поприще, но потом оставил все попытки. Вы, судя по выражению вашего лица, не верите мне, не хотите верить и не собираетесь. Инерция представлений. Шерлок Холмс, великий сыщик, – это выдумка. Выдумки живучи. Даже виденная вами наверху сцена лишь слегка поколебала ваше представление обо мне. Вы просто обиделись. На меня плохого за меня хорошего. Пожелай я дурачить вас далее, мне без большого труда удалось бы вернуть все на свои места.
– Вы меня дурачили все эти годы?!
– Да. И прошу у вас за это прощения. Поверьте, ваша роль в нашем совместном предприятии была ничуть не унизительной, как вам, возможно, кажется. Я всегда относился к вам с искренней любовью.
Доктор встал. Сделал несколько шагов к двери. Но внутренняя путаница чувств и мыслей была не способна разрешиться простым порывом. Доктор не ушел. Он сел на свой стул.
Холмс внимательно следил за поведением Ватсона.
– Знаете что, давайте я вкратце изложу вам свою историю, а вы зададите мне после этого все вопросы, которые сочтете нужным задать. По-моему, это самый короткий путь к тому, чтобы разогнать туман, застилающий истинную картину событий.
– Валяйте, – с неожиданной развязностью сказал Ватсон и забросил ногу на ногу.
Холмс не торопясь раскурил трубку, посидел несколько секунд в задумчивости.
– Вы, наверное, знаете, что Шерлок-это редкое ирландское имя. Мы, Холмсы, в значительной степени ирландцы. Со всеми вытекающими отсюда последствиями. От нашего отца нам с Майкрофтом достался неуемный и предприимчивый характер. Причем силы натуры разделились между нами пополам. Но разными компонентами. Вы общались с Майкрофтом и, вероятно, согласитесь, что это личность незаурядная. В прежние времена он был одним из самых изысканных скандалистов и самых изящных бретеров Лондонского света. Теперь его стихия – международные заговоры, тайные миссии и прочее в том же роде. В известном смысле он человек выправки и карьеры. Я – другое дело. Я шалопай и мечтатель с детских лет. С самого начала не ставил ни во что светскость и приличия. Компания у меня была всегда самая разношерстная. От священников до актеров, где между ними располагались воры, боксеры и репортеры. Именно в этой пестрой среде я и приобрел свои странноватые нравы. Кое о чем вы писали и сами. Именно вы заметили, что я храню сигары в ведерке для угля, табак – в носке персидской туфли, а письма, которые ждут ответа, прикалываю перочинным ножом к деревянной доске над камином. Именно вы заметили, что я люблю, усевшись в кресло, лупить из револьвера в противоположную стену. Правда, вы смягчили образ, написав, что я стремился украсить стену патриотическим вензелем «К.В». То есть «Королева Виктория». На самом деле я собирался написать таким способом неприличное слово. Эти сведения почерпнуты мною из начала ваших записок обо мне. Там же вы пишете, и справедливо, о периодах нападающей на меня прострации, о моей любви поваляться на диване с любимой книгой и трубочкой гашиша. Причем поваляться не день или два. А месяц-полтора. Почему-то из всех этих правильных наблюдений вы сделали неправильные выводы. Но вернемся к дням моей молодости. В один неизбежный день я сбежал из дому. С актерской труппой. Наглость, живость и тяга к прекрасному и алкоголю были намешаны во мне в нужных пропорциях. В ваших глазах я увидел очередную вспышку недоверия. Холмс – актериш-ка! Как это может быть?! Но вспомните, сколько раз за время нашей совместной деятельности я прибегал к разного рода актерским уловкам! Кого я только не изображал, и скверного старика, и назойливого букиниста, и слесаря. А как я сыграл священника – рассказ «Скандал в Богемии»! А эта история с моей мнимой смертью из рассказа «Шерлок Холмс при смерти»! Актерство всегда рвалось из меня наружу.
Ватсон неуверенно кивнул.
– Но тем не менее на сцене я не задержался. Меня привлекал театр, но угнетала театральная жизнь. Необходимость притворяться, когда нет ни малейшего желания делать это. Мне кажется невыносимо скучным играть двадцать раз подряд одну и ту же роль. К тому же я ленив. Тут я предлагаю еще раз вспомнить мою любовь к длительному диванному лежанию. И я решил заняться частным сыском.
– Насколько я могу судить, работа хлопотнее театральной.
– На первый взгляд. Главное в работе сыщика то, что всегда можешь от нее отказаться, если она тебе не нравится, и в любой момент ее бросить, если она тебе надоела.
– Но гонорар?..
– Я забыл вам сказать, что мой отец к концу жизни стал весьма состоятельным человеком. Он провел много времени в Южной Африке и сделал чрезвычайно удачные приобретения. Меня за мое беспутство он проклял как отец, но понял как ирландец. Через Майкрофта я узнал, что значительная часть наследства мне гарантирована. Как правило, о таких вещах еще раньше тебя самого узнают твои кредиторы. Таким образом, я получил возможность делать такие долги, которые позволяли мне существовать, не задумываясь ни о чем, кроме моих удовольствий. Профессия сыщика позволяла мне входить в тесный, часто очень тесный контакт со множеством людей. Среди них было немало женщин. Какие-то из них привлекательны, какие-то состоятельны. Иногда это совпадает.
– Вы хотите сказать, что случай на третьем этаже…
– У вас снова потрясенный вид. Вы что же, друг мой, все эти годы всерьез думали, что я этакий монах сыска? Я, здоровый, привлекательный, обаятельный мужчина! Вы думали, что женщины меня занимают только как клиенты или свидетели?
– Я думал, что вы джентльмен.
– Не хочется вас разочаровывать, но для большинства женщин важнее убедиться в том, что вы мужчина, а не в том, что вы джентльмен.
– Это не английский юмор.
– И тем не менее, Ватсон, и до встречи с вами, и после нее я вел веселую жизнь. Где-то между простой половой невоздержанностью и настоящим распутством. Потому-то я и снял квартирку у нашей милейшей миссис Хадсон. Это была тихая заводь в море бушующей женской стихии. Будь я мелкий пошляк, я бы поселился у какой-нибудь молодящейся вдовушки и тайком от вас таскался бы на ее половину, хлопал по заднице при каждом удобном случае и требовал, чтобы она не брала с меня деньги за кормежку, ибо большая часть энергии на нее же, вдовушку и тратится по ночам.
Холмс возмущенно затянулся дымом. Описанное поведение представлялось ему отвратительным.
– Такие, как вы, Ватсон, семейные счастливцы…
– Оставим это!
– Как хотите. Итак, время вернуться от женщин к характеристике моей работы. Первоначально я брался за любое дело, я искренне хотел победы в этих витиеватых поединках с проявлениями неистребимого многоликого зла. Я старался. Поверите ли, рисковал здоровьем и входил в расходы ради достижения результата. То есть вел себя именно так, как и положено тому Шерлоку Холмсу, что описан вашим волшебным пером. После годичных мытарств я пришел к глубокому, хотя и неожиданному выводу.
Тяжелая, длинная затяжка.
– Мир преступления, мир реального, бытующего преступления невероятно скуден, сер, однообразен, плосок. Вспомните, как я порой открыто сетовал, просматривая отделы уголовной хроники лондонских газет. Повар побил скалкою свою жену, заподозрив в связи с поваренком. На рынке Гринхарниш похищены три лотка с рыбой. В драке между кэбменами выбито пять зубов, из них два лошадиных. Какой смысл всем этим заниматься?! К тому моменту, когда мы об этом читаем, повар помирился с женой. Кэбмены и лошади поделили зубы. Рыба или съедена, или протухла. Наконец мы натыкаемся на что-то интересное. Заголовок: «Таинственное убийство!!!» Миссис такая-то зарезана в своей комнате. Ящики бельевого шкафа выпотрошены. Через четверть часа после начала следствия обнаруживается на первом этаже того же дома пьяный квартирант, безработный кочегар. Карманы его куртки набиты тонким женским бельем. На столе початая бутылка дорогого джина. На вопрос, откуда у него все это, он с пьяными рыданиями сознается, что он убийца.
По лицу великого сыщика пробежала гримаса отвращения.
– Были дела более кровавые, но не было более запутанных. Я затосковал. И хотя мне, как уже говорилось, нравился мой образ жизни, я начал подумывать о смене декораций. Судьба человека – это характер плюс два-три случая. Иногда достаточно одного. Ум нужен для того, чтобы распознать такой случай. Вот мой. По просьбе одной экзальтированной и состоятельной дамы я затеял возню вокруг истории со смертью ее брата. Смерть эта, по ее мнению, наступила безвременно. И в этом была ее главная странность. Смерти, но не дамы. Сорокалетний мужчина скончался от сердечного приступа. Так заключили врачи. По мнению сестры, он был кем-то убит. Она истерзала своими претензиями полицию. Особенно инспектора Лестрейда. Он и без того был тогда на неважном счету в Скотланд-Ярде, бедняга. Как раз тогда мы познакомились и сдружились на всю жизнь.
– Странно, я бы ваши отношения дружбой не назвал.
– Придет время, и уже скоро придет, я расскажу, в чем тут дело. Итак, исследовав все, что только можно было исследовать в истории гибели сорокалетнего джентльмена, я пришел к выводу – ни малейшего намека на чей-либо умысел в ней нет. Она прозрачна, как ясное утро. Но чем сильнее, чем изобретательнее я убеждал в этом сестру-заказчицу, тем яростнее она настаивала на своем. Ищите, сэр! В этот момент мне чрезвычайно нужны были деньги, о наследстве я еще не знал, гонораром пренебречь не мог. Сознание мое работало в лихорадочном режиме. Надо было что-то придумать. Я было даже хотел предъявить обвинение самой сестрице. Ее настойчивость, подумалось мне, может быть, есть следствие тайного комплекса вины перед братом. Ей станет легче, стоит ее обвинить. Но нет, решил я, не будем отбирать хлеб у психиатров. Облегчение она, возможно, и испытает, но денег не даст, это точно.
Поезд подходил к дебаркадеру вокзала Ватерлоо, когда было сделано открытие, перевернувшее всю мою жизнь. Правда, выяснилось, что мне потребуются помощники. Как минимум двое. Первым должен был стать Лестрейд, то есть полицейский чин, официальное лицо. Мы с ним быстро поняли друг друга. Дела у него на службе шли неважно, как я уже говорил. О повышении он не мог и мечтать. Мой же метод мог его вознести, прославить.
– Дедуктивный метод?
– Назовете как хотите, когда дослушаете до конца. Итак, нужен был еще один. И тут я вспомнил о своих театральных знакомствах. Одним словом, через два дня в доме подозрительной старой девы состоялась следующая сцена. Мы с Лестрейдом представили заказчице смазливую девчонку. (Мы якобы заманили ее предложением стать секретарем хозяйки дома.) После двух-трех заранее отрепетированных вопросов девица созналась (в потоках слез), что являлась любовницей сердечника, поступившего с ней в итоге бессердечно. Он решил ее бросить, она явилась к нему в дом, как бы для последнего объяснения, и подсыпала в чай редкий колониальный яд, который нельзя определить при вскрытии. Сколько я изобрел на своем веку этих невероятных колониальных штуковин! Один дикарь с Андаманских островов чего стоил.
– Но я же сам видел этого дикаря!
– Переодетый мальчишка. Люди с легкостью верят во все, что не способны вообразить сами. Окончание истории: Лестрейд предъявляет старой деве какие-то крупицы в запаянной пробирке, это якобы яд. Без вещественных доказательств нельзя. Потом он с самым суровым видом защелкивает наручники на руках продолжающей рыдать актрисы. Я принимаю конверт с чеком на триста фунтов. Довольны все. Заказчица получила душевное спокойствие и отнюдь не разорилась. Лестрейд обрел газетную славу. Актриса – гонорар, превышающий ее трехмесячное жалованье.
– И с тех пор вы полностью переключились именно на такие дела? – без тени восхищения в голосе спросил Ватсон.
– Вы, как всегда, спешите, мой друг. Я бы умер с голоду или с тоски, ожидая второго такого случая. Я пошел дальше. Решил тачать такие случаи собственноручно, по колодке, подброшенной мне судьбою. В помощь мне было то, что скончался мой отец. Появилась возможность оплатить фантастические долги и финансировать фантастические замыслы. Надо признать, первые опыты были не вполне великолепны. Были ляпы, подводили предварительные расчеты. Дважды я был на грани разоблачения. Но технология замысловатого развлечения постепенно отрабатывалась. Оттачивали свою технику игроки. Первым и главным был, конечно, наш дорогой Лестрейд. Я бы снял перед ним шляпу, когда бы она была у меня на голове. Ни одна криминальная история не будет убедительно выглядеть и не может законно завершиться без участия человека с подлинным полицейским жетоном. Лестрейд и его официальное удостоверение были главной опорой моего замысла. Кроме того, ему надлежало увязывать все дела по линии своей службы, чтобы не было никаких недоумений и шероховатостей. Но главное, конечно, то, что он редкий актер.
– Он же идиот – ваши слова!
– С актерами это случается. Здесь другой случай. Он гениально играл идиота. И гениально долго играл. У себя на службе он другой человек. Важно и то, что он был честен.
– Честен?
– Он не получил за все эти годы от меня ни шиллинга. Лишь изредка мне приходилось компенсировать его дорожные и алкогольные расходы. Кстати, у меня накопился перед ним немалый долг по этой части. Гонораром его была слава. Коллеги восхищались им, что его радовало, и ненавидели, что его забавляло.
– Боюсь, он заботился о том, чтобы не попасть под обвинение в мошенничестве.
– Кто знает, – вздохнул Холмс.
– Но актерам вам приходилось платить? – вдумчиво спросил доктор.
– Да. И чем дальше, тем больше. Ведь платить приходилось не только за собственно игру, но и за соблюдение секретности. Это, как вы понимаете, для людей подобного типа в высшей степени тяжело. Кроме того, приходилось требовать, чтобы самые активные участники представлений покидали лондонскую сцену во избежание случайной встречи с вами. На мою финансовую беду, вы, с помощью вашей очаровательной супруги, сделались заядлым театралом. Представляете, сколько может потребовать продажный лицедей за такой подвиг, как оставление столичной сцены!
– Надо понимать, Ройлотт – нарушитель подобной договоренности?
– Да. Он будет оштрафован согласно подписанному договору. Сюда он явился, чтобы выпросить прощение. Но прощения не будет. Я хотел принять во внимание то, что он сам мне сообщил о вашей встрече в буфете и тем самым дал мне возможность подготовиться к вашим вопросам и отвлекающему маневру. Но уже здесь, в Веберли-хаусе, он повел себя самым неподобающим образом.
– Значит, он не погиб на вокзале Ватерлоо?
– Конечно, нет. Я взял первое попавшееся газетное сообщение о несчастном случае и выдал его с помощью толстяка Харриса за сообщение о смерти Ройлотта-Бриджесса. А он не тот и не другой. Он пьяница Джонс. Ему в театре никогда не доверяли ничего серьезного. Он играл только неблагородных разбойников и палачей. Единственная главная роль в его карьере – это злой отчим в «Пестрой ленте», и такая неблагодарность. Стоит один раз дать поблажку такому субъекту, и прощай дисциплина. Впрочем, есть и другая причина, мешающая мне заплатить этому негодяю, как и всем остальным.
– Вы разорены?
– Близок к этому. Алмазные копи, обладателем коих сделался некогда наш отец, в результате безумных и корявых действий наших политиков оказались на так называемой территории размежевания. Долго объяснять, суть же в том, что акции нашей компании обесценились раз в пять. Если положение не изменится, а оно, судя по газетам, не изменится, я банкрот. Мои дела были плохи уже в тот момент, когда затевалось нынешнее представление. Оно стало возможным только благодаря необычайному характеру сэра Оливера.
– Кто это?
– Ах да, вы же… Это Яков. Это он действительный владелец Веберли-хауса. Сэр Уиллогби, в роду пэры и все такое. Человек с личными и родовыми странностями. Плюс эпилепсия. Он жил предельно уединенно. Вот откуда забор. Дожил до пятидесяти лет и вдруг совершенно случайным образом попал в театр. Кажется, в театр Гаррика. На какую-то дрянную постановку. Неподготовленный мозг его был потрясен. С того момента ничто, кроме театра, его не интересовало. Он попытался поступить на сцену под вымышленным именем, но был с позором отвергнут. Разумеется, никаких данных для сцены у него не было. Кроме воспламенившегося сердца и бешеной, всепоглощающей любви к искусству. Это род болезни, вроде той же эпилепсии. Он бы умер, если бы его не познакомили со мной. Те самые негодяи, что изображают семейство Блэкклинеров.
– По-моему, искусственная фамилия.
– По-моему, тоже. Они хихикали над ним, эти мелкие души, издевались. Представили мне его как забавный казус. Я поговорил с ним полчаса и тут же предложил роль. Он был рад, как ребенок, у него даже случилось что-то вроде приступа. Условие я поставил одно-он предоставляет нам свой замок как декорацию. Он согласился. Я им доволен. Он единственный, кто не требует денег, не пьет и не пристает к мисс Элизабет с вульгарными предложениями. Потом, он по-настоящему перевоплотился в своего персонажа. В незаконнорожденного, припадочного, несчастного Якова.
– А что за пьесу мы тут все разыгрываем?
– Я был слишком занят делами своей компании и предложил подыскать сюжет мисс Элизабет, тем более что ей предстояло играть одну из главных ролей. Она, конечно, сюжет этот не придумала, а вычитала. Я предполагаю, из иностранного романа, потому что коллизия мало напоминает истинно британскую, но в ней много мощи. И надрыва. Представляете – все хотят убить отца. Отец человек омерзительный, но человек. Все не только мечтают его убить, но и имеют к этому прямые побуждения. Ничего похожего на холодный расчет, сплошные терзания. Я бы ни за что не взялся за этот сюжет, если бы не мисс Элизабет. Она просто сгорала от желания сыграть эту роль. Влюбившись, становишься мягкотелым.
– У мисс Элизабет есть дар?
Холмс серьезно задумался.
– Как вам сказать. Она неплохо танцует, есть определенная балетная выучка. Как драматической актрисе ей пока не везло. Но всегда хотелось успеха именно по этой части. Кроме Якова лишь она по-настоящему прониклась судьбой своего персонажа. Остальные только пьянствовали и притворялись вполсилы. Уверен, что это было заметно.
Ватсон вдруг расхохотался.
– Что с вами?
– Я вспомнил сцену в привратницкой, когда сэр Эндрю, или как там его, требовал у Якова ключ. Теперь-то понятно, что это был ключ от винного погреба.
– Сэру Оливеру не жалко было своих бутылок, он боялся, что джин помешает господам актерам играть как следует. Его ужасала возможность провала. Он согласился выдать ключ только для целей сюжета, когда Эвертон сопровождал вас к фальшивой двери. Труппа ведет себя как наемная армия. Чем меньше платишь, тем меньше стараются. Они стали стремительно превращаться из наследников благородного рода в то, чем являлись на самом деле, в картежников и алкоголиков.
– И не только это, Холмс. Я был свидетелем бесчестного поступка, совершенного джентльменами, играющими роль сэра Гарри и сэра Тони.
– Что же натворили ученый и святоша?
– Мне показалось, что они пытались неподобающим образом атаковать мисс Элизабет. Я не знал тогда, кто она вам, иначе бы обязательно вмешался.
Холмс грустно улыбнулся.
– Спасибо, мой друг, но вы немного неправильно все поняли. Не они пытались ее атаковать, а она пробовала бежать из Веберли-хауса. Они ведь, друзья-актеры мои, взяли ее в заложники, отправив меня за деньгами в Лондон. Она хотела тайком выбраться из этого логова, ее схватили. Когда ее водворяли на третий этаж, она искусала обоих братьев. Вы стали свидетелем окончания этой сцены. Теперь я вернулся. Тайком ото всех. Тайком пробрался наверх, где вы меня и застали.
– Вы собирались бежать, оставив меня здесь?
– Нет, что вы. Я привез немного денег, мне, я думаю, удастся погасить большую часть долга.
Ватсон потер виски и на несколько секунд закрыл глаза.
– Нет, это слишком невероятно. Я то верю вам, то вновь теряюсь. Слишком много такого, что вызывает вопросы.
– Задавайте, бога ради. Я уже все рассказал.
Ватсон снова потер виски.
– Правильно ли я понял ваше сбивчивое признание-я был единственным зрителем, ради которого готовились эти громоздкие розыгрыши?
– Только ради вас. И не заблуждайтесь насчет громоздкости. Чаще всего удавалось обойтись минимумом средств. Разве что история с собакой Баскервилей потребовала особых приготовлений. Да еще, может быть, гонка катеров по Темзе.
– А сокровища Агры вы взяли напрокат?
– Милый Ватсон, вспомните, разве вы видели их?
Вы все время имели дело с закрытым ящиком. Их вообще никогда не существовало. Зато они теперь существуют хоть и не на дне реки, зато в воображении читателя.
– А история с премьером и пропавшим письмом? Я сотню раз видел фотографию этого человека в газетах, я не мог ошибиться!
– Не забывайте, мы имеем дело с театром. Вы не представляете себе, что такое грим в умелых руках.
– А убитый нами Милвертон?
– Ну-у, мой дорогой, умение притворно умереть чуть ли не главное в мастерстве актера. Даже Ройлотту-Бриджессу-Джонсу это по силам.
Доктор сильно осклабился, потом пожевал губами.
– Понимаю, у вас найдется простое объяснение любому эпизоду этой эпопеи.
– Любому, – бодро подтвердил сыщик.
– Итак, меня разыгрывали, чтобы впечатлить, дать ход моему перу?
– Да.
– Просто изложить мне ваш сюжет словами вы не желали?
– Я лишил бы вас живого переживания и превратил из творца в ремесленника. Наш случай соавторства уникален не только по методам, но и по результатам. Нам удалось то, что не удавалось самым большим талантам. Убедительный образ положительного героя!!! Ведь что такое наш Шерлок Холмс – это пример практической святости. Гениален, деятелен (когда нужно), нравственно трезв. И при этом живой человек. Такая фигура должна быть в культуре. И неважно, что прототипом для нее послужил развращенный, нечистоплотный, сибаритствующий наркоман. Не видя вокруг себя таких людей, как изображенный вами великий сыщик, читающая публика должна знать, что они возможны в принципе. Должна верить, что они где-то есть. Шерлок Холмс должен стать предметом веры, да это уже, по-моему, произошло. Я, если хотите, бессмертен. Равно как и вы, мой друг.
– Возможно, у вас нет литературного дара, но дар критика несомненен.
– О, несчастный дар, – засмеялся сыщик, – как бы там ни было, моя беспутная жизнь искуплена моим литературным существованием.
Ватсон бросил на своего друга длинный взгляд исподлобья.
– У меня к вам остался последний…
– Вопрос сердца или вопрос ума?
– Сочтете как захотите. Меня теперь не столько волнует ваша судьба, сколько судьба вашего дедуктивного метода. Вы обещали разъяснить.
Сыщик смущенно насупился. Потом поморщился.
– Надеялся, что вы догадаетесь сами. Конечно же, все демонстрации своих сверхспособностей я подстраивал. Как фокусник готовит свой цилиндр, чтобы из него в нужный момент вылетали голуби и конфетти. Возьмем самый последний пример. Я заставил нашего загорелого сэра Эндрю сбрить свою шкиперскую бороду непосредственно перед нашим визитом в ресторан, вот вам и весь метод. Еще проще объясняется то, как я догадался, какой именно театр вы посещали с миссис Ватсон. Увидев вас и сообразив, что замечен вами, ко мне ночью примчался Ройлотт. Он рассказал мне не только о факте встречи, но и о том, где она произошла. Несколько труднее было объяснить мою догадливость. Вы меня чуть было не раскусили. Пришлось изворачиваться, плести несусветную чушь. В этом самая суть моего дедуктивного метода. Не нужно, чтобы он на самом деле работал, нужно, чтобы верили, будто он работает.
Чуть было не установилась неприятная во всех отношениях пауза, но Холмс не допустил этого.
– Совсем другое дело, когда гадать нужно без подготовки, вслепую. Мельчайшая чуть-чуть ошибочно понятая деталь способна увести вас так далеко, что вы ужаснетесь, когда узнаете, где находитесь со своими выводами. Чтобы вам стало яснее, возьмем трость доктора Мортимера из первой главы вашей блистательной «Собаки Баскервилей». Кстати, обратите внимание, как удачно она была ПОДСТАВЛЕНА! А теперь представьте, что вместо нее, и без всякой предварительной подготовки, мы с вами вынуждены были бы исследовать трость другого доктора. Например, доктора Ватсона. Дайте мне ее. Что бы обнаружил наш анализ? Кто владелец трости?
Холмс возбудился, и его возбуждение передалось оцепенелому до этого Ватсону. Не слишком желая этого, доктор начал размышлять вслух:
– М-м, мы могли бы предположить, что владелец господин средних лет, молодые люди таких тростей не носят. Могли бы сказать, что он горожанин. Она не испачкана и не ободрана о дорожные камни.
Ватсон задумчиво замялся.
Холмс усмехнулся.
– Эти выводы так же точны, как заявление, что Великобритания остров.
Ватсон пожал плечами.
– Я бы мог продолжать подобные придирки еще долго. Ограничусь только одной. Как нам быть с зубами?
– Какими зубами?
– Человеческими! На вашей трости отчетливые следы человеческих зубов. Я Шерлок Холмс, я беспристрастно исследую вашу трость. Каким образом я могу догадаться, что вчера, в шестом часу дня, вы спасали привратника Веберли-хаус Якова от эпилептического припадка?!
Доктор вздохнул.
– Даже если я каким-нибудь непостижимым образом догадаюсь, что владелец этой трости доктор, – специальная табличка, какая была на трости Мортимера, не обязана быть на любой другой, – то что я должен подумать об этом медицинском муже? Что он работает в клинике для буйнопомешанных? Что он исследует каннибалов и ему совсем недавно пришлось отбиваться от предмета своих исследований? Как мне истолковывать эти следы? Так вот, запомните, в жизни не бывает историй, которые бы развивались стройно и разумно от начала до конца. Всегда откуда-нибудь появляются такие «зубы».
Ватсон смотрел в пол и выглядел неважно.
– Можно произвести еще множество разоблачений в том же роде, но к чему? Метод мой хорош только для книжных страниц. Там он выглядит убедительно, и не надо от него требовать больше, чем он может дать. И упаси вас боже переносить книжный опыт непосредственно в жизнь. Может получиться неловко, а может и страшно. Миру дела нет до стройности наших умозаключений.
Собеседник, оказывается, сдаваться не собирался.
– Но если додумать вашу мысль до конца, то получается, что мы ни о чем не можем судить, никогда не узнаем, что происходит на самом деле. Бог с ними, с чувствами, но мы, выходит, не можем доверять и наукам. Как же мы умудряемся жить? Получается, я не могу быть уверен даже в завтрашнем восходе солнца!
– Но представьте, как вы обрадуетесь, если он все-таки случится.
Доктор вскочил, сделал круг по комнате. Второй раз за время разговора остановился перед дверью, как бы опять прикидывая, а не уйти ли ему отсюда. Но это была его комната.
– Можно привести множество опровержений вашего заявления.
– Приведите.
– Возьмем хотя бы вашу невесту, – роковым тоном произнес доктор.
Холмс слегка раздул ноздри.
– Зачем?
– Как вы думаете, могу я знать что-нибудь о ней?
– Смотря что. Вы ведь тут виделись. Мало ли что она вам сказала.
– Могу ли я знать о ней что-либо такое, что она хотела бы скрыть?
Сыщик весело покачал головой.
– Исключено.
– Между тем я могу утверждать, что она не англичанка.
– Верно, она не англичанка. Она русская. Ее фамилия Павлова. Елизавета Павлова. Подозреваю, что роман, который мы здесь разыгрываем, – это русский роман.
За дверью послышались приближающиеся шаги многих людей. Холмс и Ватсон выжидающе поглядели на дверь. И оба сказали: «Войдите!», когда раздался стук. Ватсон в глубине души пожалел, что поспешил разрядить свой револьвер.
На пороге стоял Эвертон. За ним все братья Блэк-клинер, Лестрейд и еще кто-то. Они все явно удивились, увидев Холмса. Он спросил твердым голосом:
– В чем дело, джентльмены?!
Из толпы выбрался инспектор, он почесывал переносицу и морщил лоб и был при этом по-особенному, официально серьезен. Он не играл в этот момент.
– Повесился привратник. То есть сэр Оливер. Он оставил записку, из которой следует, что это он убил отца.
– Какого отца?! – прошипел Холмс.
– Под подушкой у него были обнаружены три тысячи фунтов. Его сиделка понятия не имеет, откуда они взялись. Она отлучалась в деревню.
Эпилог
Зима. Меж неплотно задернутых портьер видны густо сыплющиеся снежные хлопья. Потрескивает огонь в камине. На диване, сложив на груди рукава атласного халата, лежит Шерлок Холмс и смотрит в потолок. Рядом на стуле, положив руки на шерстяные колени, сидит Ватсон. У правой ноги раскрытый саквояж.
Классическая сцена: визит врача.
Вошла миссис Холмс с подносом, на нем хрустальный графин и два стакана. Миссис Ватсон с грустной улыбкой ставит его на столик у изголовья кровати. И уходит.
Доктор тяжело вздыхает.
– Я понимаю, вы не можете не терзаться, но смею заметить, в этих терзаниях нет никакого толка. Вы не виноваты в этой смерти.
– Но зачем я оставил деньги у него под подушкой?! Зачем?!
– Не терзайтесь. Кто мог представить, что сэр Оливер вообразит, что все происходящее происходит на самом деле!
– Деньги были толчком. Проснувшись и пересчитав их, он решил, что это как раз те три тысячи фунтов, что были украдены из кабинета несуществовавшего милорда. И что они украдены именно им. А перед тем как украсть их, он убил их владельца. Таков был сюжетный ход романа. Он ведь почти наизусть выучил этот длиннющий русский роман. Он сроднился с ним, он был уверен, что живет в нем.
– Такое случается со слишком впечатлительными натурами.
– Знаете, как он называется? «Братья Карамазовы». Очень длинное, очень мрачное сочинение. Я еще могу себе представить, что этот роман поразил воображение моей русской супруги, но чтобы солидный великовозрастный англичанин… Согласитесь, есть тут что-то странное. Он полностью отождествил себя с отвратительнейшим, жалким персонажем по имени Смердяков.
– Яков Смерд?
– Да, мой друг, да, еще раз прошу меня простить. Это тоже выдумка Элизабет. Равно как и фамилия Блэкклинер. Этакий полунамек на русское название. Впрочем, сейчас легко говорить об этих филологических играх, а сэр Оливер между тем мертв.
– Но вы же не могли знать, что он может так вжиться в чужую судьбу. Скажу больше, он был нездоров. Он все равно свел бы счеты с жизнью. Ваши деньги здесь ни при чем!
– Я всего лишь не хотел, чтобы господа актеры обнаружили их у меня раньше времени! Они были так озлоблены, что не остановились бы и перед самым вульгарным обыском. Да! Я хотел сначала убедиться, что с Элизабет все в порядке.
– Вы рассуждали вполне логично.
– Да! Но я мог отдать деньги вам!
– Меня тоже могли обыскать.
– Я мог засунуть их за какую-нибудь картину, запихнуть между книгами. Почему я положил их ему под подушку?! Почему?!
Ватсон нахмурился и поглядел в свой саквояж: там лежал заранее снаряженный шприц.
Холмс, не глядя на него, усмехнулся.
– Не бойтесь, Ватсон, успокаивающее не понадобится. Налейте лучше виски.
Доктор с удовольствием выполнил просьбу. Холмс приподнялся на локте и взял рюмку двумя пальцами.
– Представляю, как страдал наш старик. Мне стало известно, что отец сэра Оливера Джон Уиллогби закончил жизнь при странных обстоятельствах. Существовало даже подозрение, что он был убит. Ходили слухи, что тут замешан кое-кто из родственников.
– Вот как?!
– Трудно что-то утверждать, но не исключено, что сэр Оливер жил все эти годы в атмосфере кошмарных семейных воспоминаний и наша невинная забава послужила лишь катализатором его поступка.
– Вы хотите сказать, что на сердце сэра Оливера лежал старый тяжкий грех?
Холмс задумчиво отхлебнул из бокала.
– Не думаю, что именно это я хочу сказать. Сэр Оливер подчинился требованию сюжета, в который уверовал. Меня занимает другое: почему я пошел на поводу у чужого замысла? Ведь только этим можно объяснить мою выходку с деньгами. Но ведь я к тому времени не читал романа!
– Да, я знаю, романов вы не читаете.
– Этот пришлось.
– Утверждают, Холмс, что это великое произведение.
– Но не до такой же степени!



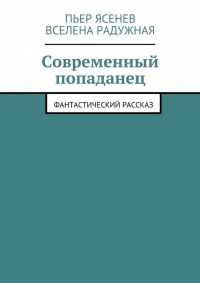

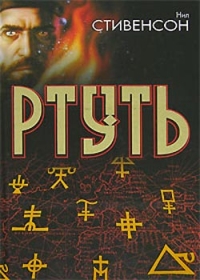








Комментарии к книге «План спасения СССР», Михаил Михайлович Попов
Всего 0 комментариев