Ян Мортимер Заложники времени
© Жирнов А., перевод на русский язык, 2017
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2018
* * *
Эта книга посвящается моему сыну, Александру Мортимеру
Дом – это не место, но время
Благодарность
То, как этот роман был написан и опубликован, само по себе могло бы стать романом. Неоценимую помощь мне оказали мои редакторы: Клер Хэй, Джо Дикинсон и Карла Джозефсон, а также мой агент, Джорджина Кэпел. Я бесконечно благодарен всем им за терпение, советы и уверенность в успехе. Мне очень помогли мои братья, Роберт и Дэвид Мортимер; преподобный Саймон Франклин (который героически сражался с рукописью, где все средневековые диалоги были приведены на девонском диалекте); Джон Аллан; Энди Гарднер; Поппи Берджесс; Майк Грейди; Ян и Пэм Мерсер; Никки Ходжес; Джеймс Киднер и Стюарт Уильямс – а также множество тех, с кем я обсуждал эту идею в течение десяти, а то и двенадцати лет. Прошу прощения, если я забыл, что именно сказали вы, что сказал я, как вас звали и что вы заказывали в баре. Извините, если я испортил вам все впечатление, рассказав, чем все закончится. Были моменты, когда мой энтузиазм возрастал настолько, что я уже не мог удержаться. Работа над этой книгой стала моей страстью. И я бесконечно благодарен тем, кто был рядом со мной в это время. Спасибо вам за вашу поддержку.
Особо мне хотелось бы поблагодарить мою жену, Софию. Без нее эта книга так и осталась бы простой болтовней в пабе. Она всегда была рядом, она стала моим верным спутником, когда я отправился прочь из своего времени и оказался в самом негостеприимном месте – в далеком прошлом.
Ян Мортимер Мортонхэмпстед, 25 ноября 2016 годаI
Вторник, 16 декабря 1348
Главное, что вам нужно понять: что такое – продать свою душу. Для этого вовсе не обязательно пожимать руку некоей туманной фигуре или обмениваться обещаниями с пылающим кустом. Что вы продаете? Вы этого не знаете. Кому вы собираетесь это продать? Опять же неизвестно. Вы знаете только одно: ваше желание предложить на продажу эту непонятную сущность продиктовано непреодолимейшим желанием вопить. Вам хочется завопить так громко, чтобы разрушить оковы времени.
Именно это я и чувствую – и чувствовал каждый день с того момента, когда впервые увидел смертельную работу чумы. Когда я оглядываюсь на пройденный путь и не вижу там ни единой души, во мне возникает желание кричать. Глядя на далекие холмы, где некогда царили мир и благоволение, я вспоминаю жуткую тишину: заброшенные фермы и дома, скелеты животных, мертвые тела детей и их родителей… Нет благодати. Нет жизни в глазах. И когда мы приближаемся к облетевшему дубу на окраине Хонитона и к постоялому двору под этим могучим деревом, желание кричать и рыдать становится непреодолимым.
Когда я был здесь в последний раз, за три дня до Михайлова дня, в зале звучала веселая музыка. С того дня не прошло и трех месяцев. Я останавливаюсь, бросаю свою суму на землю и закрываю лицо руками. Я шепчу имена моих умерших родителей. Мой брат Уильям поворачивается и поторапливает меня. «Ты медленнее покойников», – шутит он. Я отнимаю руки от лица и гляжу на него, а потом подхватываю суму и снова пускаюсь в путь. Но в душе моей все кричит. Я не могу рассказать миру о своих чувствах, потому что вокруг нас все мертво. И душа наша тоже умирает.
Я оглядываюсь на безжизненный дуб и вспоминаю тот день, ту музыку и веселье. В тот день мы проезжали через этот город и видели, как девушки и женщины пляшут с мужчинами, как развеваются на ветру их распущенные волосы. У каждой был свой избранник. Любовь светилась в их глазах, когда они оказывались рядом. Они и нам улыбались, словно понимали, что мы, чужаки, заметив их улыбки, узнаем тайны их сердец. Я вспоминаю, как распевал веселые песни, опрокидывая одну кружку эля за другой и позабыв, что мы с Уильямом собирались выехать в Солсбери пораньше. Теперь же, глядя на могучее дерево, я думаю, сколько этих женщин умерло. Зима обрушилась на нас дважды. Сначала она заморозила нас декабрьским холодом: голые ветки на фоне пасмурного неба, короткие дни, замерзшие лужи на обочинах дорог. А потом она вернулась вороньим граем ледяного отчаяния и ощущением того, что весна больше никогда не наступит. В прошлом году все было иначе… Теперь же зима пришла навсегда, и время остановилось.
Время шло, когда в рыночном городке Хонитоне царили цвет и движение. В базарные дни здесь собирались люди в охристых, коричневых, серых и красных одеждах, разнообразных капюшонах и шляпах. Если на мгновение прищуриться, то размытая картина напоминала улей – человеческая толпа уподоблялась деловитым пчелам. Среди снующих по своим делам людей всегда кто-то замирал на месте: глашатай сообщал новости, монах в черном капюшоне рассказывал группе юношей о том, как их души могут попасть в царствие небесное. Сегодня не было ни глашатаев, ни монахов, ни заблудших душ. Не было даже торговцев – мясники и пирожники не кивали прохожим, не протягивали рук за серебряными пенни, не поворачивались к следующим покупателям. Гравий и грязные лужи были засыпаны сухими листьями. Под длинным прилавком сломались козлы, и теперь он валялся на боку – последний базарный день был давным-давно. Он походил на старого, сгорбленного могильщика возле могилы давным-давно позабытого человека.
Мы с Уильямом ехали через город. Было еще довольно рано, третий час после рассвета, но после бессонной ночи, проведенной под каплями, падающими с деревьев, у нас не осталось сил. Ставни во всех домах были закрыты, словно горожане еще не проснулись.
– Как думаешь, сколько трупов мы увидим сегодня? – спросил Уильям, поправляя дорожную суму на плече. – Бьюсь об заклад, больше, чем вчера. Что скажешь, Джон? Больше шести? Поцелуй сладких губ Элизабет Таппер и кружка ее лучшего эля тому, кто насчитает больше трупов в этой части Уимпла!
Я посмотрел на брата, но не ответил. Я смотрел на золотое кольцо с гранатом, с которым он не расставался, резонно полагая его самым драгоценным своим имуществом. Похоже, он думает, что для нас жизнь не изменилась – только для несчастных жертв.
– Смелее, братец! – подбодрил меня Уильям. – Отвечай же! Ты же еще не умер! Ты так мрачен, что тебя можно принять за Ноя в ковчеге в тот момент, когда он понял, что забыл взять коров.
– Не шути так, Уильям. Это и правда второй потоп. Господь очищает землю. Не водой, а чумой. Разве ты не видишь?
– Не дури, Джон. Я вижу то же, что и ты, не больше и не меньше. Но ты слишком ограничен. Эта чума – не Божий промысел. Мы с тобой видели маленьких детей, даже младенцев. И все они валялись у дороги, сплошь покрытые черными пятнами. За что Господу наказывать их? Они не успели согрешить. И чума – это не кара Божья за грехи. Это дело рук дьявола, и я не собираюсь замирать в благоговении.
Я тяжело вздохнул.
– Уильям, дьявол – вассал Бога и делает только то, что приказывает ему Господь всемогущий. Если Бог хочет очистить этот край от грешников, дьявол берется за дело. Те, кто не ходит в церковь…
Уильям прервал меня, подняв руку.
Прямо на земле среди камней лежал седобородый мужчина лет пятидесяти. Голова его была повернута набок. У основания шеи мы увидели здоровенную черную опухоль размером с два кулака, сжимавшую его горло. Рот мужчины был полуоткрыт. Белизна зубов привлекала внимание к двум отсутствующим. Уильям наступил на плащ бедняги – ткань задубела на морозе. Колени мужчины были покрыты грязью. Кошель с пояса уже кто-то срезал. Глаза замерзли и стали матово-белыми.
Обычно, находя мертвеца, мы извещали об этом констебля, но сегодня в этом не было смысла.
– Не красавец, – заметил Уильям, отворачиваясь от трупа.
– Ему еще повезло, – ответил я, пускаясь в путь и почесывая подмышку.
– Повезло? Послушай, брат, если такую судьбу считать везением, то мою лошадь можно назвать знатоком латыни. Чем же это ему повезло?
– Он лежит лицом вниз. Он не мучился много дней, обливаясь потом и страдая от боли. Он шел до последней минуты, а потом упал и умер. Он чистил зубы каракатицами, значит, был человеком состоятельным. А его плащ – даже ты гордился бы таким одеянием! И посмотри, где его кошель? Тот, кто срезал кошель с его пояса, нашел там не пару монет, а много – достаточно, чтобы рискнуть жизнью: ведь, срезая кошель, он сам мог заразиться. Так что, брат мой, могу сказать, что этот богатый человек, неожиданно сраженный болезнью, рухнул и умер быстро. Разве он не счастливец?
Уильям покачал головой.
– Тебе не следует так пристально изучать смертные муки чужих людей, Джон. Пусть мертвецы страдают сами по себе.
Что я мог на это ответить? Этот мертвец был одним из немногих, кого мне не было жаль. Я плакал по живым. За живых болело мое сердце. Я думал, что после сражений во Франции мне больше не доведется видеть массовых захоронений. Я думал, что там я в последний раз видел покрытые засохшей кровью тела, сваленные в ямы, над которыми роились мухи. Но смерть настигла нас и здесь. Я видел ее в не закрытых после заката ставнями окнах. Я видел ее за ставнями, которые и после рассвета оставались закрытыми. Я видел ее в лодке, плывшей по реке, стукаясь о берега и мели: хозяин ее неподвижным кулем лежал на дне. Проходя мимо церкви в Сомерсете, где родители хоронили свое дитя, я слышал голос смерти. Этим голосом была тишина: колокола не звонили по мертвому мальчику. Даже звон погребального колокола был голосом жизни. Сегодня же в последний путь мертвых провожают только наши скорбные мысли. А потом мы движемся дальше и забываем их – и даже безмолвные колокола наших мыслей не провожают их.
В шести милях от Хонитона мы остановились, чтобы перекусить черствым хлебом и сыром. Мы ели в молчании. Примерно в пятидесяти ярдах от дороги я заметил еще одного мертвеца. На нем была охристая туника. Он, скорчившись, лежал посреди вспаханного поля, настолько сливаясь с землей, что поначалу мы его даже не заметили. Только когда на него спикировала ворона, я обратил внимание на небольшой холмик и разглядел ногу и плечо мужчины.
Уильям вытер рот и поднял свою суму.
– Пошли?
Я видел, как ворона поднялась и полетела прочь. Я смотрел на замерзшую красную землю, серое небо, труп посреди поля и гадал, не постигнет ли и нас та же судьба. Кто похоронит этого человека, когда чума кончится? Его труп будет лежать здесь, медленно погружаясь в землю, потом пойдут дожди, и дикие кабаны и другие звери найдут тело и растащат кости. Если лиса утащит череп в лес, то крестьянин, который наткнется на эти останки, вспахивая поле, даже не поймет, принадлежали ли они человеку или зверю.
Я подхватил свою суму и пошел вслед за Уильямом.
Кем был тот человек на поле? Простой, безымянной вещью. Мне казалось, что я сжимаю голову руками – только щеки мои сжимали не руки, а две недели постоянного страха. Может быть, я сошел с ума? Но разве можно в эти дни сохранить рассудок? Сдерживаться мне помогало только одно – я понимал, что не могу позволить своей жене, Кэтрин, увидеть меня в таком состоянии. Я твердил себе, что нужно идти быстрее и дышать дарованным мне Богом воздухом, чтобы вернуться к ней.
В Солсбери жил еще один резчик по камню, Джон, Джон Комб. Он подхватил чуму одним из первых в городе. До болезни Джон был человеком разговорчивым и трудолюбивым. Он вечно крутил в руках свой резец, подбрасывал и ловил его. Но за неделю до этого на стройке объявили перерыв, и он не ходил на работу. Когда же он вернулся, то был мрачным и рассеянным. Он три или четыре раза ударял своим резцом, а потом замирал на месте. Однажды, когда мы работали рядом, я заметил его отсутствующий взгляд и спросил, что его беспокоит. Помолчав, он сказал мне, что несколько дней назад заметил болезненную припухлость под правой рукой и понял, что это чума. Он сразу же ушел из собора и направился на север, к Великому кругу. Дошел он туда почти в темноте. Джон бродил вокруг камней и молился Богу, дьяволу, любому, кто мог услышать и спасти его. И когда он стоял там, то неожиданно почувствовал, как кто-то очень сильный обхватил его сзади и зажал ему рот, чтобы он не закричал. А потом он услышал зловещий шепот: согласен ли он продать свою вечную душу в обмен на выздоровление смертного тела и долгую жизнь? Или лучше ему будет умереть на дороге, возвращаясь в Солсбери? Джон ответил, что готов продать душу. Хватка ослабела. Через два дня после нашего разговора Джон поскользнулся на мокрых деревянных лесах и упал с высоты восьмидесяти футов. Я видел это с земли. Тело Джона дважды ударилось о леса, а потом тяжело рухнуло на землю. Я был уверен, что он погиб, но он всего лишь сломал правую руку и ребро. Костоправ сказал, что с ребром сделать ничего не может, но для жизни это неопасно. А рука быстро заживет, потому что перелом несложный. Все твердили, что выжить Джону удалось лишь чудом.
Уильям обернулся и сказал:
– Давай заглянем к Элизабет Таппер. Думаю, ее поссет[1] пойдет нам на пользу.
Я следил за движениями его плеч и головы, меня зачаровывала его целеустремленная походка человека, привыкшего делать то, что ему захочется. Я был не в восторге от его предложения. У Элизабет было двое детей, а мужа никогда не было. А ведь всем известно, что чума в первую очередь поражает грешников. Уильям относился к Элизабет с той же добротой, что и к другим женщинам. Честно говоря, он щедр по отношению ко всем, не только к женщинам. Но я не понимал, почему он поддается своей порочной натуре и навлекает проклятие на наши головы.
Да, конечно, я все знаю. Уильям скажет, что в этом-то и заключена разница между нами: он считает, что законы пишутся людьми, а не Богом, и в глазах Господа нет греха в нарушении человеческих законов, поскольку законы эти – вещь чисто земная и светская. Уильям считает, что Библию написали люди и люди же ее толкуют, поэтому нарушение записанных в ней законов не является преступлением против Бога. А в Ветхом Завете говорится, что многие великие, святые люди имели много жен. Он говорит, что грешник, который знает, что поступает греховно, верит, что попадет в ад, и ад будет ему по вере его. Человек же, который согрешил случайно, имея чистые намерения, ничем не пятнает души своей.
Я с Уильямом не согласен. Я верю, что Бог создал этот мир таким, каким хотел его видеть. И если человек пятнает мир Божий своими грехами, то мир будет запятнан – даже если грешник не собирался сбиваться с пути праведного. Да, конечно, Элизабет Таппер – женщина привлекательная, хотя ей уже больше тридцати. Но если Бог хранит ее красоту, то делает это для мужа, а не для путников, которые забредают к ней с несколькими монетами в кармане. О ней и детях должен заботиться честный человек, а не какие-то сомнительные бродяги.
Но я ничего не сказал. Я и сам не ангел. Несколько лет назад, когда я работал на строительстве собора, в Эксетер приехал Уильям, и мы с ним отправились на постоялый двор «Медведь» возле Южных ворот. В тот вечер мы страшно напились, а потом прямо при свечах произошел акт физической любви, о котором я всегда сожалел. Для меня тот вечер был цветком времени. Зеленая невинность дала бутон желания, который за несколько часов распустился и мгновенно увял, превратившись в отвратительную слизь.
А в тот момент мне хотелось только одного: оказаться дома, рядом с моей Кэтрин, у нашего очага, где весело потрескивают поленья. Мне хотелось рассказать ей о том, что я чувствовал, бродя по миру, охваченному чумой. Я хотел поделиться с ней всем. Я хотел, чтобы она рассказала мне о своих чувствах. Я хотел, чтобы наши страдающие сердца утешили друг друга и слились в нежном объятии. Я хотел, чтобы величайшие испытания мы встретили вместе, а не порознь.
Небольшой дом Элизабет Таппер располагался чуть в стороне от дороги. Он был построен в старинном стиле: две изогнутые балки располагались по обе стороны крыши. Вблизи было видно, что основание стен, где бревна входили в землю, уже тронуто гнилью. Да и побелку стоило бы обновить. Кое-где солома провалилась внутрь, в других местах – поросла мхом. Крыша наверняка течет. Большинство девонцев давно снесли бы такой дом до основания и построили новый, с квадратным деревянным каркасом на каменном фундаменте и прочными, теплыми стенами. Но у Элизабет не было денег, а бейлиф не знал жалости. Она и жила-то здесь, на самой окраине поместья, потому что ее не хотели видеть в деревне.
Но должен признать: у нее отличный, ухоженный огород – много капусты, порея, высокие стебли лука и бобов. Такой запас сегодня должен быть у каждого: в конце лета урожай может мгновенно погибнуть, а зимы становятся все более суровыми. Огород может стать для семьи настоящим спасением.
Уильям вошел в дом первым, а я остановился, чтобы полюбоваться огородом. И тут я услышал его крик.
Такой крик я слышал лишь раз в жизни, много месяцев назад. Тогда, в день нашей победы при Кресси, Уильям кричал над телом своего друга. Уильям не любит показывать своих чувств никому и, уж конечно, своему младшему брату. Свою боль он держит в себе.
Я вбежал в дом. Там было темно, пахло дымом, прокисшим элем, луком и беконом. И еще сухой лавандой, которую для аромата добавляли в камыш на полу. Привыкнув к темноте, я увидел в конце зала перегородку. Дверь вела во внутренние помещения. Там неподвижно стоял Уильям. А рядом с ним женщина, почти такого же роста, как и он. Я даже не думал, что Элизабет такая высокая. Но потом я понял, что она не двигается. Она стояла совершенно неподвижно, опустив руки и склонив голову набок под странным углом.
Ноги ее висели в четырех дюймах от земли. В четырех дюймах. Всего ладонь отделяла жизнь от смерти.
Я сразу же подумал, что ее ограбили или изнасиловали и убили, повесив на балке собственного дома. Но у нее нечего было взять. Она была самой обычной женщиной – кому понадобилось убивать ее. А потом я спросил себя: где же ее дети?
Я подошел ближе. Глаза Элизабет были открыты, они смотрели в вечность, вошедшую в ее дом. Я перекрестился и прочитал молитву за ее душу, а потом еще одну, за собственную жену и детей.
Порыв ветра качнул дверь. Она заскрипела и почти закрылась. Прислоненная к стене щетка упала на пол. Я подошел к двери, поднял щетку и подпер дверь поленом, чтобы она не закрывалась, – иначе в комнате было слишком темно.
Уильям не двигался. Он сам окаменел, как труп. Я подошел к очагу и наклонился пощупать пепел: он все еще был теплым. Я слышал, как молился Уильям: «Benedicat vos omnipotens Deus Pater et Filius et Spiritus Sanctus». Приходский священник учил нас молитвам. Уильям перекрестился. Я тоже. Мы хором произнесли: «Аминь».
Впервые за много дней я почувствовал, что мы вместе. Да, мы стоим на краю обрыва темной ночью, мы смотрим в тот же вечный мрак, что и Элизабет Таппер, но мы вместе.
Уильям вошел в комнату, я следом за ним. Мы увидели детей Элизабет. Старшему было семь, младшему пять. Они лежали рядком, на старом соломенном матрасе. В ставнях были широкие щели, и мы увидели, что лица детей покрыты пятнами, а глаза закрыты. Мать выпрямила им ручки и ножки. Она оставалась с ними до самого конца, а потом лишила себя жизни. Рядом с матрасом все еще стояла плошка с недопитым овсяным отваром.
Я выскочил в зал, где воздух был чище. Я мог думать только о собственной семье – до дома был еще целый день ходу. Что ждет меня, когда я открою дверь своего дома? А вдруг и Кэтрин висит на балке, как несчастная Элизабет? Вдруг веревка уже охватила ее белую шею? Вдруг ее руки, глаза и сердце уже пусты? Мысленно я увидел, как она висит в воздухе, как безжизненный мешок плоти. А вдруг мои сыновья, Уильям, Джон и Джеймс, лежат мертвые в своих кроватках, а лица их покрыты пятнами? Я вспомнил их волосы и глаза, в ушах зазвучали их голоса. Если они мертвы, то не захочу ли и я свести счеты с жизнью?
Какой-то звук отвлек меня от этих мыслей. Я увидел, что Уильям двигает скамейку. Он встал на нее, снял с балки солидный окорок и засунул его в дорожную суму.
– Ради всего святого, Уильям! Имей же уважение!
– Если я этого не сделаю, это сделает кто-то другой, – ответил брат. – Добрая еда – для живых, а не для воров и червей. – Он застегнул суму и выставил ее за дверь. – Кроме того, если ты винишь меня в неуважении, то что скажешь насчет чумы? Какое уважение Бог проявил к Элизабет и ее детям? Разве он не оскорбил их?
– Это богохульство!
– Оставь свое благочестивое занудство, Джон, меня от него тошнит. Лучше помоги мне ее снять.
По тому, как Уильям смотрел на нее, я понял, что ему нет дела до того, что она была шлюхой. Он жалел ее, несмотря ни на что.
Я подошел, обхватил тело и приподнял его, а Уильям отвязал веревку. Мне было грустно. Руки и ноги Элизабет окостенели, а кожа напоминала остывший воск. Уильям спустился со скамьи, и мы опустили ее на пол, а потом перенесли в комнату. Ее волосы рассыпались по моим рукам. Мы положили ее на пол, рядом с детьми, встали в изножье и прочли молитвы.
Помолчав, Уильям сказал:
– Часа через три стемнеет, а до Эксетера еще шесть миль.
Я смотрел на тела, охваченный глубокой жалостью.
– Джон, если бы я мог, я бы похоронил их всех. Но…
Я знал. Во имя Христа… Я знал.
Я вышел из дома и остановился, судорожно вдыхая свежий воздух. Уильям вышел следом за мной. Я смотрел в небо и мысленно твердил себе: «Мы все хотим поступать правильно. Но… Но… НО… Этим коротким, незаконченным предложением все было сказано. Жизнь будет продолжаться – но… Праведнику нечего бояться – но… Не укради, но… Почитай отца и мать твою, пока они не умрут от чумы. Хорони мертвых, как подобает, но только если у них под мышками и на шее нет черных опухолей, и если они не утопились и не повесились, потому что дети их умерли от чумы.
Я чувствовал, что слезы текут по щекам. Разозлившись на себя, я вытер глаза рукавом.
– Не бойся слез, брат. Дай волю горю…
Я глубоко вздохнул и отвернулся.
– Однажды я познакомился с моряком. Он рассказал, что его корабль штормом унесло в открытое море. Берегов не было видно. Мачта сломалась, и три недели корабль дрейфовал в море. Моряки умирали один за другим. Тот человек сказал мне, что умирали они не от голода и не от волн. Их убивала мысль о том, что они никогда больше не увидят земли. Эта мысль, как зверь, впивалась в их души и постепенно высасывала из них волю к жизни. Она разрушала их связь с жизнью. И я сейчас чувствую то же самое.
Уильям обнял меня за плечи и прижался лбом к моему лбу.
– Ты помнишь нашего отца на смертном одре?
Я кивнул. В то время мне было не больше двенадцати, но я до мелочей помнил, как он кашлял и корчился в постели на нашей мельнице в Кренбруке, где сейчас живет наш старший брат. Когда священник соборовал его, отец сорвал с себя ночную рубашку и объявил, что пойдет на прогулку. Он засмеялся и упал навзничь. Так он умер.
– Иногда я говорю странные вещи, словно безумный… Вот я спросил тебя, сколько трупов мы увидим… Все то, чего мы не в силах вынести, мы складываем в корзину безумия. Таким был и его последний смех.
Слова Уильяма удивили меня, и я решил обдумать их позднее.
– Пошли, – сказал он, взваливая на плечо дорожную суму. – Мы ей больше не нужны.
Через два часа стало еще холоднее, пошел неприятный дождь. Начало темнеть. Но сквозь тучи все же пробился последний луч солнца, разбросавший яркие пятна по сумрачному пейзажу. Солнце отразилось от камней на зеленом кургане, и мы сразу же увидели еще два мертвых тела.
Казалось, что мужчина до самой своей смерти стоял на коленях. На нем была черная мантия, подбитая мехом, и черная меховая шапка. Красная туника, видневшаяся из-под мантии, была выкрашена не соком марены, как это делают простые люди, но каким-то более ярким красителем. Чулки тоже были дорогими – черными, а не темно-серыми. Я удивился, почему такой человек стоял на коленях, словно бил челом всем прохожим.
Примерно в десяти футах от него лежало тело его юной жены. Белая туника была расшита зеленью и золотом. Светлые волосы и черная дорожная мантия сразу же привлекали внимание чистотой и качеством. Они резко контрастировали с темными отеками и красными кровеносными сосудами, ярко выделявшимися на фоне бледной кожи. В последнюю минуту жизни женщина откинула голову назад, подставив шею небесам и воронам. Я поразился тому, как такая красота могла подвергнуться столь жестокому поруганию. Рот женщины был раскрыт, глаза еще не замерзли. Взгляд был настолько пустым, что выражение лица женщины было сродни экстазу. Она была настолько красива, что мне захотелось запомнить ее, чтобы потом изобразить в своих барельефах. Но почему она умерла там же, где и ее муж? Почему она не пошла дальше? А если она умерла первой, то почему он остался здесь?
Рядом с рукой женщины я заметил серебряное распятие на янтарных четках. К поясу на длинном кожаном ремешке была прикреплена небольшая книжка.
Я все еще раздумывал над тайной этой смерти, когда неожиданно увидел, что рука женщины зашевелилась. Я подскочил на месте от отвращения. Эта женщина мертва – мертва, как любой, пораженный чумой. Я взглянул на Уильяма, но он, столь же пораженный, смотрел на меня.
И тут мы услышали плач младенца.
Теперь я все понял. Купец, стоящий на коленях, знал, что его мертвое тело никто не заметит. И только поза сможет привлечь внимание. И он умер на коленях, моля о помощи тех, кто окажется на дороге – о помощи не для себя и даже не для своей жены, но для младенца. Женщина умерла рядом с мужем, не потому что не хотела покидать его. Наоборот. Она знала, что умирает. Они оба надеялись, что их тела привлекут внимание к ребенку. Я понял, что она прижимала ребенка к себе, до последней минуты согревая его теплом своего умирающего тела.
Палкой я приподнял край мантии умершей женщины. Ребенок был черноволосым, как и его отец. Ему было не более трех месяцев. Он был привязан к доске-качалке и завернут в белые пеленки. Он был голоден и вертел головой в поисках материнской груди.
– Брось его! – крикнул Уильям с выражением злости и страха на лице. Я лишь однажды видел его таким – когда капитаны утратили контроль над армией и мы ворвались в Кан, вступив в безумную схватку с жителями города. – Брось его!
Ребенок плакал. Брат кричал. Но я почему-то был удивительно спокоен.
– Это невинный младенец, Уильям. Он умрет, если мы его бросим.
– Да, он умрет! И ты тоже, если коснешься его! Ты умрешь так же, как его мать и отец.
– Нет, Уильям, – покачал головой я.
– Ради всего святого, Джон! Ты же видел ямы в Солсбери! Груды тел прямо на земле – их так много, что невозможно сосчитать. Ты ощущал отвратительный смрад разложения! Через пару дней эти люди станут такими же – их тела сгниют, как тухлое мясо. Ты хочешь, чтобы тебя постигла та же судьба?
– И ты можешь поступить так, Уильям? – спросил я, пытаясь разглядеть лицо брата. – Ты позволишь христианской душе погибнуть на дороге? Невинному младенцу? Что ты за человек?! Как ты можешь стоять здесь и судить малого сего?
Ветер шумел в кронах деревьев. Уильям молчал.
– Где тот отважный пикинер, который сражался во Франции рядом с королем? – взывал я. – Где тот человек – я так гордился называть его своим братом… А сейчас… посмотри на себя: куда делась твоя смелость перед лицом этой болезни?
Я снова услышал плач младенца.
– Сладким именем Иисуса, Уильям, заклинаю тебя, вспомни: в свой тягчайший час мы должны заботиться друг о друге. А ты хочешь бросить ближнего своего…
Уильям указал на младенца, лежавшего под рукой мертвой матери.
– Коснись его, и я буду твоим братом только по имени…
– Ты ханжа, Уильям! Мы с тобой оба касались тела Элизабет Таппер. Ты забрал окорок из ее дома. Мы с тобой вместе вынули ее из петли!
– Она повесилась сама! Она не была больна!
– Откуда ты знаешь? Она ухаживала за сыновьями, а они были больны. Умирая, она могла быть такой же больной, как и они. А может быть, она была здорова, как ты и думаешь. И этот ребенок тоже может быть здоровым. Я знаю лишь одно: она не видела в этом мире ничего, ради чего стоило бы жить. Но у этого ребенка есть шанс. Мы с тобой – мы его шанс. Если ты окажешься трусом, этот ребенок умрет, а мы с тобой станем его убийцами.
Я еще раз посмотрел на тело мертвой женщины и решился. Я подошел ближе и потянулся к плачущему младенцу.
– Нет, Джон! Оставь его!
Я не обратил на слова Уильяма внимания, обеими руками взялся за доску-качалку и осторожно вытащил младенца из-под матери. Труп повалился на траву, словно избавившись от тяжкого груза ответственности. Привязанный к доске младенец мог лишь крутить головой и плакать. Он молил о еде и тепле – и о человеческой доброте. И только это я мог дать ему сейчас. Детский плач, а не слова – вот истинный звук человечности. Он так же близок нам, как песни для птиц. Я вспоминал плач собственных детей в момент рождения. Двое умерли в младенчестве, трое, слава богу, еще живы. И плач этого младенца напомнил мне о них. Я заглянул ребенку в глаза. Они блестели от слез. Я понял, что если сейчас оставлю этого малыша, то откажусь от всего, что заставляет меня верить в себя, считать себя отцом и человеком.
Взяв малыша на руки и пытаясь согреть его своим телом, я поспешил прочь от мертвецов.
– Вот, наградил же Господь братцем, – вздохнул Уильям.
Мы замолчали. Тишину нарушал лишь отчаянный плач младенца и вой ветра в ветвях деревьев. Младенец то захлебывался плачем, то смолкал, а потом начинал кричать с еще большей силой. Он был голоден и страдал от боли.
– Ради всего святого, Джон, это безумие! Но, может быть, ты и есть безумец. Наш старший брат унаследовал отцовскую землю, я – его силу, чувство юмора и купеческий талант. Ты меня знаешь: я никогда ни за что не переплачиваю, будь то шерсть или кружка эля. Но ты? Что унаследовал ты? Ничего! Ты мягкотелый, слабый, ворчливый. Ты слишком уж полагаешься на Бога. Эти мертвые богатеи из города при жизни не дали бы тебе и фартинга. Зачем же ты рискуешь собственной жизнью ради их ребенка? Бог сделал их богатыми. Тебя он богатым не сделал. Он даровал тебе лишь умение резцом делать камни прекрасными. А потом пришла чума, и у тебя больше не будет работы – не будет собора. И церкви в Солсбери. И никому больше не требуются стригали. И шерсть. Мы будем голодать в окружении мертвецов. Ты готов рискнуть заражением – и погибнуть. Я не могу так рисковать – я не могу оставаться с тобой.
Ребенок все еще плакал. Почувствовав тепло моего тела, он умолк и попытался найти источник молока, но, ничего не найдя, закричал с удвоенной силой. Брат потряс головой и отвернулся. Он сделал несколько шагов и повернулся, чтобы сказать что-то еще, но я опередил его:
– Ты никогда не думал, как мало сделал, чтобы заслужить царствие небесное? Даже сейчас ты думаешь только о деньгах! Неужели ты не понимаешь? Что ты за человек? Какое твое доброе дело позволит заслужить вечное блаженство? Я поклоняюсь Господу своими резцами. Я стараюсь быть хорошим мужем и отцом, хорошим братом тебе и Саймону. Но в Евангелии сказано, что Иисус бродил среди больных и умирающих – не среди здоровых. Он не боялся.
– Он был сыном Божиим!
– Но он был и человеком тоже! Разве нет? И он пришел явить нам пример! Разве нет! – Я указал на мертвецов. – Представь, что эти мужчина и женщина Иосиф и Благословенная Дева Мария на пути в Египет. А это – их младенец. Ты и тогда сказал бы, что мы должны оставить их дитя умирать?
– Если бы перед нами лежали Иосиф и Мария, а это не так, я сказал бы то же самое. Оставь их ребенка!
– Ты убил бы Христа и лишил бы сотни тысяч невинных душ вечного спасения, чтобы не рисковать собственной шкурой?! Какая жалкая трусость! Ты презрен в глазах Господа! И тебе хватает наглости заявлять мне, что я ничего не унаследовал от нашего отца?! Ради всего святого, Уильям, я знаю, что я унаследовал: его доброту! Когда он зачал меня, я унаследовал его моральную силу и любовь к соотечественникам. Я никогда не променяю эти добродетели на твою деловую сметку, твоих овец и добрых вдов. И если бы этого ребенка сейчас держал ты, а не я, я бы не отрекся от тебя так, как ты сейчас отрекаешься от меня. Я сказал бы: «Уильям, я понимаю твое призвание. Может быть, я его и не слышу, но я помогу тебе нести это бремя». И я буду помогать, несмотря ни на что – не потому что я нуждаюсь в твоей помощи сейчас, а потому что ты – мой брат. И ты всегда будешь моим братом!
И с этими словами я пустился в путь. Не успел я сделать и двадцати шагов, как услышал, что Уильям зовет меня. Я не обернулся.
Он позвал меня снова, но я продолжал идти.
Он поспешил за мной, выкликая мое имя.
В конце концов, через несколько сотен ярдов я сдался. Я повернулся и увидел, как он спешит за мной, держа в одной руке дорожную суму, а в другой что-то еще.
– Ребенок должен унаследовать деньги своего отца, – сказал он. – И ты тоже. Ребенку это понадобится.
Уильям протянул мне кошель, книжку и распятие на янтарных четках.
– Если эту чуму послал Господь, Джон, то он тебя благословит. Ты трудился над камнями дома Господнего. Твои молитвы сильнее моих. Но я не верю в то, что Бог спас это дитя, и я боюсь за тебя. Не думай, что я не люблю тебя, своего брата.
Я кивком поблагодарил его.
– Может быть, когда-нибудь ребенок это прочтет, – добавил он, опуская глаза на книгу. – И я бы мог помочь ему.
– Это было бы хорошо.
– Книга всегда стоит дорого. В Оксфорде тебе заплатили бы за нее не меньше пяти шиллингов.
За пять шиллингов – шестьдесят пенсов – мне пришлось бы в самые лучшие времена работать дней десять. А статуи заказывают нечасто. Чаще всего приходится заниматься простой работой каменщика или работать над сводами, а за это платят всего четыре пенса в день. Я положил младенца на землю, открыл свою суму и убрал кошель, распятие и книгу. А потом я туго затянул веревки, взвалил суму на плечо и поднял ребенка.
Небо помрачнело еще больше.
– Где нам найти кормилицу? – спросил я, пытаясь успокоить младенца, дав ему вместо соски собственный палец. Ребенок на мгновение смолк, а потом снова разразился слезами.
– Помнишь Сюзанну, дочь кузнеца Ричарда из прихода Сент-Бартоломью? Она живет неподалеку от аббатства. Но прошло два месяца – не знаю, жива ли она и ее сын.
Крики младенца становились все громче.
– Ты пойдешь со мной?
– Это было бы глупо…
– А разве Господь спасает мудрых? Ты думаешь, что все те мертвецы, которых мы видели сегодня, были глупцами?
– Кто знает? – Уильям закрыл глаза, закинул голову и выкрикнул прямо в небеса: – Господь, укажи мне путь?
– Если сомневаешься, Уильям, и не можешь найти верного пути, не спрашивай у Христа, что тебе делать. Делай то, во что ты веришь. Он поступил бы так.
Уильям посмотрел на меня. И мы двинулись в путь.
Я поражался, как у ребенка хватает сил столько кричать, какую жалость он у меня вызывает, как он пытается найти хоть какую-то пищу. Но я больше не мог относиться к нему как к чему-то безличному. Это мальчик или девочка. Я решил, что это мальчик, и задумался, какое имя подошло бы ему. И мгновенно мне пришло в голову имя Лазарь – ведь младенец этот буквально восстал из мертвых. А сегодня еще и канун дня святого Лазаря. Но маленький Лазарь продолжал отчаянно кричать, взывая к холодному миру, потом он давился, сглатывал и снова начинал кричать. Как бы мне хотелось его утешить!
Когда так отчаянно кричал мой старший сын, Кэтрин давала ему хлеб, размоченный в теплом коровьем молоке, чтобы насытить его. Хотя молока у меня не было, я решил поступить так же. Я остановился на обочине и опустил ребенка, прислонив доску к стволу могучего дуба. Потом я достал из сумы хлеб, отломил небольшой кусок и смочил его элем из фляжки. А потом я положил хлеб в рот Лазаря – но он втянул воздух и не проглотил хлеб, а лишь заплакал еще более отчаянно.
– Он больше выплюнул, чем проглотил, – заметил Уильям, заглядывая мне через плечо.
– У тебя есть план получше?
– Нет. Из нас двоих у тебя явно больше опыта в общении с детьми.
Я еще раз попытался протолкнуть хлеб в ротик Лазаря, но тот стал кричать еще громче. Чувствовалось, что он уже охрип. Я добавил еще эля, но это не помогло. Лазарю явно нужно было молоко, но найти его здесь было невозможно – пришлось бы стучаться в чей-нибудь дом, а в такие времена никто не примет мужчину с младенцем. Я снова поднял ребенка, пристроил его на бедре и пошагал вперед.
– Что ж, ты хотя бы пытался, – сказал Уильям. – Уж не знаю, благословение это или проклятие, но ты действительно не осознаешь собственных возможностей. Ну какой еще мужчина попытался бы накормить орущего младенца?
По обе стороны дороги тянулись холмистые поля. Разные оттенки соломы четко обозначали наделы и полоски. Кое-где урожай остался неубранным, колосья поникли и почернели. Но в большинстве мест чума разразилась уже после уборки урожая. Поля были пусты, никто не работал. Редкие странники, которых мы видели, сходили с дороги, чтобы не встретиться с нами. Ближе к городу мы встретили целую семью: женщина сидела в повозке, запряженной пони, а рядом с ней стояли два сундука со скарбом и лежал младенец. Старший мальчик вел пони под уздцы, еще четверо детей шли следом. Отца нигде не было видно. Когда мы приблизились, старший крикнул, и младшие быстро закрыли лица. Мать заметила Лазаря и перекрестилась.
На закате мы были все еще в миле от Эксетера. Странников стало больше – темные личности поодиночке и парами. Все скрывали свои лица под капюшонами. Мы встретили еще пару повозок. Люди, как тени, покидали город – настоящий исход торговцев и купцов. Но ни одного из них нельзя было назвать бедным – пешком не шел никто. Бедные остались в городе – кто-то надеялся разжиться в богатых домах, а кому-то просто некуда было идти.
– Во время чумы крик младенца подобен боевому кличу, – пробормотал Уильям.
– Мы скоро найдем кормилицу.
– Ворота будут закрыты. Нам лучше остановиться где-нибудь на ночлег. Или придется оставить ребенка где-нибудь, пока мы найдем место.
– В такой холод? Уильям, нет!
– И что же мы скажем? Мы не сможем подойти к воротам и попросить впустить нас с этим отродьем – он визжит, как свинья на убое.
– Мы скажем, что моя жена умерла в пути.
– Ты думаешь, стражники идиоты?
В этот момент крики Лазаря стихли. Инстинктивный плач лишил малыша последних сил, и через минуту он уже тихо спал.
– Он умер? – спросил Уильям.
Я уже собирался ответить, но тут впереди увидел несколько повозок, которые стояли возле огромной, длинной ямы у дороги. Яма была длиной в четыреста футов и в десять футов шириной и более всего напоминала котлован под строительство нового собора.
– Эта яма еще больше, чем в Солсбери, – сказал я. – Здесь можно похоронить тысячу человек.
– Три тысячи, если они положат их в три слоя, как в Солсбери.
И тут мы почувствовали ужасный смрад – словно от застоявшегося пруда, который погиб вместе со всеми растениями, водорослями и множеством населявших его рыб, жаб, угрей и мелких существ. Но это было гораздо хуже. Это был самый ужасный смрад – запах разлагающейся плоти тысяч мужчин, женщин и детей, запах гниения, исходящий от их изуродованных болезнью тел, запах их экскрементов и мочи, их нечистой одежды и смертного пота.
В сумерках могильщики казались призраками. Лица их были закутаны, руки замотаны тряпками. В каждой подъезжающей повозке было десять-двенадцать тел. Двое могильщиков поднимались на повозку и, стоя прямо на трупах, сгружали верхние тела тем, кто ожидал внизу. Те волочили трупы к яме и сбрасывали вниз, а там их уже укладывали рядами. Меня даже тронуло то, как аккуратно укладывают мертвые тела, но потом я вспомнил причину. После кровопролитного сражения в Кане нам тоже пришлось тщательно складывать трупы, потому что у нас не было времени копать глубокую яму. Эта тщательность не имела никакого отношения к уважению к мертвым.
К нам никто не подходил и не заговаривал. Меня мутило от запаха разложения, но я не мог оторвать глаз от этого зрелища: тела укладывали на тела. Я видел, как обнаженное тело молодой женщины выгрузили из повозки и опустили в яму. Я слышал, как могильщики отпускали непристойные замечания. Я думал, где лежит ее отец, может быть, в той же яме, и ее могут положить рядом с ним или прямо на тело чужого мужчины. Следующий труп бросили прямо на землю. Один из могильщиков решил снять кольцо, но у него не получилось. Тогда он вытащил нож, отрезал палец и раздробил сустав. Сняв кольцо, он швырнул палец в яму. Кого и с кем хоронили, не имело значения. При жизни мы часто высказываем свои пожелания – чтобы нас похоронили в углу приходского кладбища, рядом с нашими предками. Сейчас же все эти пожелания рассыпались в прах, как листья на ветру.
Мы с Уильямом пошли дальше молча. Уже почти стемнело. Мы подошли к перекрестку в Сент-Сетивола, возле восточных ворот города. Температура стремительно падала. Поля подернулись инеем. На фоне темно-синего неба четко вырисовывались силуэты крепостных укреплений, а прямо перед воротами виднелись городские виселицы. Было странно видеть их пустыми. Обычно там болтался хотя бы один вор – в предостережение другим. И тут же мы почувствовали знакомую вонь городских сточных канав. То, что раньше вызывало тошноту, сейчас показалось утешительным признаком нормальности.
– Дай мне твой узел, – сказал Уильям. – И прикрой щетину капюшоном. Сейчас уже темно. Попробую сделать вид, что ты – моя жена.
– Черт тебя побери, Уильям, я не собираюсь этого делать!
– Нам нужно уговорить стражника, чтобы он впустил нас. Тебе никого не убедить в том, что это я – твоя жена. Так что ты либо принимаешь мой план, либо находишь женщину, которая сыграет для тебя эту роль. Попробуй – несложное дело здесь, за городскими стенами в сумерках и на морозе. Да еще возле чумной ямы!
Я отдал Уильяму свою дорожную суму, а сам обмотал лицо длинным лирипипом[2] в виде кисточки. Свою родословную лирипип ведет от шаперона – капюшона с длинным шлыком. Название liripipe возникло от латинского «cleri ephippium» (головной убор католического духовенства).
Уильям изо всех сил заколотил в ворота с криком:
– Открой, мастер привратник! Открой!
Никто не отвечал. Уильям продолжал колотить в ворота:
– Открой, если ты окончательно не оглох! Открой, сукин ты сын! Открой эти чертовы ворота!
– Кем бы ты ни был, ты сюда не войдешь. Мэр отдал приказ, чтобы все входили и выходили только через северные ворота.
– Благодарю тебя, добрый человек, – крикнул Уильям. – Пусть Господь в безграничном милосердии своем смилуется над тобой. Доброй ночи.
Мы с Уильямом в темноте побрели вдоль городских стен. Мы слышали, как мерзлая земля скрипит под нашими ногами, слышали посапывание и стоны дремлющего младенца. Время от времени над нашими головами ухали совы. А иногда слышались другие звуки: жуткий плач в городе. У северных ворот мы тоже слышали душераздирающие рыдания над мертвыми телами родных людей.
– Что это за шум? – прошептал я.
– Причитания. Оплакивание мертвых.
– Если бы наши кости могли петь, они пели бы так…
Младенец проснулся и снова начал кричать.
– Тише, Лазарь, – шепнул я.
– Ты дал ему имя? – прошипел Уильям.
– В честь святого Лазаря, восставшего из мертвых. Завтра праздник этого святого.
– Зачем ты сделал это?
– Это показалось мне правильным.
– Ради всего святого, Джон, правильно было бы оставить этого ребенка и позволить Господу решить его судьбу.
Уильям снова вытащил свой нож и стал стучать рукоятью по дубовым воротам.
– Добрый привратник, впусти нас ради всего святого! Я торговец, я часто бывал в Эксетере. А сейчас я иду со своей женой… Джоанной… и моим сыном Лазарем. Мы пришли из Солсбери, моя лошадь пала сразу, как мы вышли из города. Открой нам, умоляю тебя!
Мы ждали ответа.
– Зачем нам нужен этот забытый богом городишко? – тихо проворчал Уильям. – Если бы не младенец, я бы отправился домой. За ночь мы добрались бы.
Но потом он снова забарабанил по воротам:
– Добрый привратник! Впусти нас! Меня приютит кузнец Ричард, он живет рядом с аббатством святого Николая…
– Слышу, слышу, – раздался голос привратника. – Иду уже, лопни твои глаза! И уйми своего щенка!
Дверца в боковой створке ворот приоткрылась, и мы увидели тощего, лысеющего мужчину. Он держал почти догоревший факел. Красные искры сыпались на землю.
– Как, ты сказал, тебя зовут?
– Уильям Берд, торговец из Мортона. Ты наверняка узнаешь меня, если посветишь мне в лицо.
Привратник поднес факел к лицу Уильяма. Слабый свет осветил и меня. Наш вид и плач Лазаря успокоили привратника.
– Мне приказано впускать только вольных жителей города и их родственников. Никаких странников, аптекарей, точильщиков, жестянщиков, бродяг, нищих и коновалов.
– Разве я похож на бродягу? – ответил Уильям. – Мы с женой приезжали сюда перед днем святого Михаила на повозке, запряженной четверкой лошадей. Мы привозили шерсть. А теперь мы вернулись пешими и неимущими. Мне пришлось за бесценок продать лошадей и повозку в Солсбери. А потом и моя лошадь пала…
– А где твой фонарь? Добрые люди после темноты ходят с фонарем…
Уильям тряхнул головой. Он опустил наши сумки на землю, повернулся ко мне, развязал веревку на моей суме и достал кошель Лазаря. Порывшись в нем, он вытащил золотую монету. Золото блеснуло в свете факела.
– Вот мой фонарь.
Привратник наклонился, чтобы рассмотреть такое диво. Я тоже. Я никогда прежде не видел золотых монет.
– Ты предлагаешь это мне?
– А ты предлагаешь впустить нас?
– Твой фонарь светит ярче моего, добрый сэр, – усмехнулся привратник, принимая монету. – Прошу прощения за то, что задержал тебя. Уверен, стража тебя не потревожит. Иди с миром, и пусть Господь защитит нас.
Мы вышли на главную улицу, которая шла от северных ворот к центру города, и вскоре свернули направо. Узкий переулок привел нас в приход Сент-Бартоломью. Дорогу мы чувствовали ногами, то и дело поскальзываясь в грязных лужах на мелком гравии. Когда крики голодного Лазаря стихали, мы слышали стенания и плач – отцы и матери оплакивали умерших детей. Иногда раздавались крики боли. А где-то завывали драчливые коты.
А потом пошел дождь. В темноте я почти не различал силуэтов домов. Капли дождя звучно падали в бочки, установленные в этом бедном квартале возле домов для сбора воды. Лазарь окончательно охрип – долгие часы плача даром не прошли. Он то засыпал, но просыпался. Вес доски, к которой он был привязан, стал для меня невыносим, и мне больше всего хотелось опустить его на землю. Я жаждал тепла и отдыха с той же силой, с какой Лазарь жаждал женского молока.
Я поскользнулся в очередной раз. В ботинки хлынула холодная вода.
– Здесь, – тихо произнес Уильям и постучал в дверь низенького одноэтажного домика. – Ричард! Это Уильям Берд из Мортона. Мне нужно с тобой поговорить.
Никто не ответил.
Уильям несколько раз стучал и звал хозяина. Наконец дверь слегка приоткрылась. В проеме я видел горящую свечу, капли горячего воска падали на землю и шипели в лужах. В слабом свете свечи я разглядел чернобородого мужчину.
– Что привело тебя сюда в столь поздний час? – спросил кузнец.
– Это мой брат, Джон, из Реймента, близ Мортона. Вместе с ним, его женой Кэтрин и их маленьким сыном мы ехали из Солсбери, но Кэтрин заболела и вчера умерла. Мы весь день шли в надежде на то, что твоя Сюзанна сможет накормить малыша. Без помощи он точно умрет.
– Скажи мне правду, Уильям Берд, это была чума?
Уильям посмотрел другу прямо в глаза.
– Нет, Ричард! Клянусь, Кэтрин умерла не от чумы.
Кузнец слегка расслабился, но дверь открывать не спешил.
– Пожалуйста, – взмолился я, чувствуя, что вот-вот рухну от усталости и холода. – Мы пришли издалека. Помогите нам, как добрый христианин… В мире осталось так мало добра…
Холодная капля упала мне на шею и потекла по спине.
– Мы заплатим твоей дочери, если она накормит малыша, – добавил Уильям и вытащил вторую золотую монету. – Fiorino d’oro из Флоренции. В Лондоне и Бристоле их называют флоринами.
Ричард взял монету и стал рассматривать ее в свете свечи.
– И сколько она стоит?
– Около сорока пенсов.
Кузнец впустил нас и плотно закрыл тяжелую деревянную дверь.
Мы оказались в старом купеческом доме. Дым поднимался от очага, пылавшего в центре комнаты, и устремлялся к потемневшей крыше. Вокруг очага стояли три стула и скамья. Свеча Ричарда осветила еще одну дверь, которая, как я полагал, вела в жилую комнату. Он открыл дверь и крикнул в темноту:
– Сюзанна!
Он взял палку, повернулся к нам, сел и палкой указал нам на стулья.
– Садитесь.
– Как дела в Эксетере? – спросил Уильям, протягивая руки к огню. – Мы видели огромную могилу в Сент-Сативоле…
Ричард, опираясь обеими руками на палку, проворчал:
– Они роют другую, за стенами, возле Кралдича, где раньше проходила Ламмасская ярмарка. Твой брат прав: добра в мире почти не осталось. – Он наклонился вперед и палкой подтолкнул полено в очаг. – Сегодня никто не ходит в церковь. Все священники сбежали, укрылись в своих загородных домах. Рынки почти опустели – никто не хочет везти зерно в город. Каждое утро тех, кто умер за ночь, выносят на улицы, чтобы возчики их подобрали. Вот так мы в последний раз видим любимых людей – их тела валяются на улицах, над ними вьются мухи, а потом грязные могильщики сваливают их на повозки и увозят прочь.
Появилась Сюзанна. Она оказалась пухлой молодой женщиной с черными волосами – так мне показалось в тусклом свете очага. Темная туника делала ее кожу ослепительно белой. Интересно, где ее муж, подумал я. Но в эти дни лучше не задавать подобных вопросов.
– Он уснул наконец-то, – сказала Сюзанна отцу.
– Хорошо, – кивнул Ричард. – Этот младенец голоден. Уильям заплатил мне, надеясь, что ты сможешь его накормить.
– А я что-то получу? – потребовала Сюзанна.
– Конечно, цветочек. Но это золотая монета, она стоит сорок пенсов. Я разменяю ее и отдам тебе достойную долю.
– Достойную? – переспросила Сюзанна, глядя на нас с Лазарем.
– Десять пенсов, – сказал Ричард.
– Вор!
– Двадцать.
Она кивнула и повернулась ко мне.
– Это мальчик или девочка?
Я замешкался.
– Его зовут Лазарь…
Ребенок снова заплакал. Сюзанна забрала его и расстегнула платье.
– Ему нужно не только молоко, – заметила она. – Когда вы в последний раз меняли ему пеленки?
– Утром, в Хонитоне. – Лазарь сосал грудь, но не с той жадностью, какой я от него ожидал. – На постоялом дворе, где мы останавливались, была кормилица.
Я посмотрел на Уильяма, но он глядел на огонь, стараясь не встречаться со мной взглядом. А вот Ричард смотрел на меня с подозрением.
– Когда, ты сказал, умерла твоя жена?
– Вчера утром.
– И ты едешь один, с ребенком? Только с Уильямом?
– А что мне делать? Господь в великой мудрости его взвалил на меня это бремя.
Наступила тишина. Уильям по-прежнему не смотрел на меня.
– До Мортона полдня пути, – сказала Сюзанна, глядя на ребенка, который то сосал, то снова порывался заплакать. – Я накормила его, накормлю, когда он проснется, и еще раз утром, перед вашим уходом. Думаю, он проспит всю дорогу. Ваша ходьба укачает его.
Я благодарно кивнул. Сюзанна улыбнулась. Ее щедрость и доброта успокоили меня.
– Ричард! – неожиданно воскликнул Уильям, поворачиваясь к хозяину. – В прежние времена у тебя всегда имелся бочонок эля. Не говори мне, что эта добрая традиция пала жертвой чумы!
Ричард поднялся, тяжело опираясь на палку.
– Ячмень мы бережем на хлеб, ты же понимаешь… Но могу угостить тебя добрым сидром. Яблоки с моих деревьев, за городскими стенами.
– Было бы здорово!
Ричард взял черпак с бочки с сидром, стоявшей в темном углу, и осторожно наполнил большую чашу с двумя ручками. Я слышал, как он медленно льет сидр. Вернувшись к огню, он сказал:
– Женщина по соседству год назад потеряла мужа. Я сделал ей два новых замка для дома, а она расплатилась со мной садом. Ей страшно жить одной. Когда я увидел сад, там было полно гнилых яблок на сидр. – Он сделал глоток, передал чашу Уильяму и сел. – Если бы я не был осторожен, то смог бы сделать состояние на замках. Сейчас такое время…
– И на их взломе? – усмехнулся я. – А как же те, кто умер в запертых домах, не имея рядом никого, кто вынес бы их тела на улицу?
Ричард промолчал.
Уильям, не произнося ни слова, передал чашу мне. Он сидел и смотрел в огонь. Я принял чашу, поднес ее ко рту и ощутил сладость сидра. Потом я передал ее Сюзанее, которая все еще пыталась кормить ребенка.
– Потом, когда он успокоится, – сказала она, подняла качальную доску и стала разворачивать пеленки.
– Вы наверняка голодны, – сказал Ричард. – Там осталось немного похлебки.
– У нас есть ветчина к ужину, – ответил Уильям. – И немного…
Но прежде чем он договорил, Сюзанна издала дикий вопль. Она только что держала Лазаря на руках и вдруг отшвырнула его в сторону, зажав рот ладонью. Она смотрела на него с ужасом.
– Как вы могли?! Будьте вы все прокляты! Будьте прокляты!
Она повернулась ко мне. Я смотрел на вопящего Лазаря, на испачканные пеленки – и на черные пятна на его ручках и ножках. Я попытался подняться, но тут Сюзанна ударила меня по лицу. Свеча погасла, комнату освещал лишь огонь очага. На голову мою обрушилась палка. В тусклом свете очага я видел, как Сюзанна швырнула в огонь пеленки, а потом пинком отправила туда же ребенка. Я чуть не оглох от дикого визга. Я попытался достать ребенка, но только обжег руки. Пеленки ярко вспыхнули, и я увидел, как обугливается кожа, и жир капает с крохотных ножек. Что-то ударило меня по спине, и я рухнул, лишь чудом не оказавшись лицом в очаге. Я откатился в сторону, укрывшись в углу комнаты.
– Убирайтесь! Убирайтесь немедленно! – орал Ричард. – Убирайтесь оба!
– Ричард, – пытался уговорить его Уильям, – это ужасная…
– Убирайтесь! – визжала Сюзанна. – Вы слышали, что сказал отец! Убирайтесь, или я убью вас обоих!
Ричард вдруг умолк. Он не кричал. Он замер, осознав, что позволил дочери кормить грудью зараженного чумой ребенка. В этот момент меня охватило чувство глубокого раскаяния. Даже не взяв свою дорожную суму, я бросился к двери, отодвинул засов, распахнул ее и выбежал в кромешный мрак под проливной дождь.
Я не видел, куда бегу, и сразу же споткнулся на неровной дороге. Упав на колени, я чувствовал, как дождь струится по лицу и волосам. Запахи навоза и грязи душили меня. Мне нужно бежать, нужно броситься в чумную яму вместе с мертвыми и ждать Божьего суда.
Мысль о жене и детях заставила меня подняться. Я стер грязь с лица, вытер губы и снова рухнул на колени. Дождь хлестал по спине, одежда моя промокла. Я поднялся и зашагал вперед, не представляя, куда иду. Плащ, туника и рубашка промокли насквозь. Впереди я увидел фонари городской стражи и остановился, чтобы они меня заметили. Но из-за дождя они низко опустили свои капюшоны и не обратили на меня внимания.
Я оказался на улице, ведущей к южным воротам, рядом с постоялым двором «Медведь». От дождя я укрылся под навесом у входа в большой особняк. Я был так одинок! Мне хотелось увидеть хоть одно дружеское лицо, но в этом городе моими друзьями были только статуи, которые я сам и вырезал. Собор был обнесен высокой каменной стеной. Она тянулась вдоль одной стороны соборного квартала: можно было подняться на парапет возле южных ворот, где домики примыкали прямо к старым стенам. Достаточно было найти какую-нибудь бочку – и вы оказывались на крыше одного из этих домиков, а по ней можно было уже подняться на стену. Оказавшись на парапете, можно было пройти по стене и спрыгнуть прямо во двор епископского дворца.
Дорогу я нашел не сразу. К тому времени, когда я дошел до западного фасада собора, дождь кончился. Я поднялся к скульптурам и потянулся, чтобы в темноте коснуться нижнего ряда ангелов, одного за другим. Мои пальцы скользили по мокрому камню. Я вспоминал, когда вырезал эти руки и лица. Тогда моим мастером был Уильям Джой. Он всегда говорил, что скульптуры мои были бы лучше, если бы я их любил. «Пусть фигуры работают сами, – твердил он. – Пусть они улыбаются, если им хочется. Пусть они обнимаются, пусть танцуют… Пусть у них будут собственные тайны». В темноте я не видел скульптур, но знал, что они здесь, рядом, танцуют и шепчутся. Я поднялся на фундамент и потянулся к царям Ветхого Завета, которых я вырезал над ангелами. Я припал к их стопам – так же, как в библейские времена приговоренные к смерти припадали к стопам царей, моля о пощаде. На башенке, расположенной справа от больших западных врат, я вырезал фигуру царя, вдохновившись портретом короля Генриха Третьего. Под ним находился ангел, прикрывавший крылом колонны, на которых стоял царь. А вон ту фигуру, чуть выше, я вырезал по подобию старого соборного казначея: он всегда здоровался с нами, когда мы трудились во дворе собора. На одной консоли я изобразил собственного отца. Консоль была расположена довольно высоко, и я подумал, что никто ее не увидит. Никто, кроме Бога. Все резчики, трудившиеся в соборе, изображали близких людей. Если разобрать собор по камешкам и изучить его, то станет понятно, что величественное здание построено из наших повседневных нужд и устремлений – из любви сотни простых людей. Все великие церкви таковы. Они только кажутся огромными, бесстрастными, благородными и величественными, но если подойти поближе, сразу ощущается сердцебиение прошлого, и понимаешь, что они состоят из тысяч лиц возлюбленных, матерей, отцов и друзей. Все это те самые маленькие чудеса, о которых мы мечтали во время работы. Я спустился с фундамента и вернулся к северному краю фасада, где когда-то давно мы делали ручки, чтобы подниматься на западный фасад без помощи лесов.
Поднялся я так же легко, как когда-то: пальцы сами вспоминали, за что хвататься – за плечо этой фигуры, за ногу той… Скоро я был уже наверху. Пальцы мои ощупывали знакомые башенки. «Скульптуры следует слушать, – говорил Уильям Джой. – Если услышишь прекрасно изваянную фигуру, она наполнит твой разум красотой». И сейчас я слушал. Какое бы горе я ни принес в мир, работа моя убеждала меня в том, что намерения мои были чисты и имели хорошие последствия.
Но что делать дальше? Я сидел под ледяным дождем, не видя ничего вокруг. Царила полная тишина, изредка нарушаемая криками отчаяния. Мне не верилось, что Лазарь мертв. Я стал раскачиваться из стороны в сторону, тихо напевая: «Весело бывает летом…»
Я помнил, как эту песню в детстве пела мне мать, и память снова вернула меня в счастливые времена. Когда мы с Саймоном и Уильямом были еще мальчишками, мы посещали воскресную школу. Как-то раз ректор – гадкий человек по имени Филипп де Воторт, чтоб ему вечно жариться в пекле, – сказал нам, что псалмы Давида – самая прекрасная музыка на свете. Саймон спросил, откуда ему это известно. А священник ответил, что может судить о таких вещах, поскольку обладает знаниями и опытом. Но когда он запел, голос его был подобен скрежетанию ржавого лезвия. Мне не поняли ни одного слова – ведь пел он на латыни. И тогда я поднял руку и сказал, что его псалмы вовсе не так красивы, как песенка про лето, которую поет нам мама. Священник жестоко отхлестал меня розгой по рукам. Я плакал от боли и взвизгивал каждый раз, когда розга опускалась на мои пальцы. Сквозь слезы я бормотал: «Почему вы наказываете меня?! Ведь я сказал правду!» За это меня наказали еще раз. Но как только мы вышли из церкви, братья хлопнули меня по спине и трижды прокричали «ура!» в мою честь на рыночной площади. А когда мы подходили к Крэнбруку, они подняли меня на плечи – отец видел, как они внесли меня в дом. Он перестал смазывать ось мельничного колеса жиром, вытер руки и направился к нам. Когда братья рассказали ему о том, что произошло, он сказал: «Джон, ты хороший парень. Никогда не забывай, что голос твоей матери чистым и приятным сделал сам Господь. Но Господь не создавал священников – он создал людей. Некоторые из них – хорошие люди, другие – дурные. И единственный способ разобраться – сказать им правду. Сегодня за ужином ты будешь разрезать мясо – это твоя награда».
От воспоминаний меня отвлек скребущий звук в темноте. От испуга я затаил дыхание, но звук повторился.
Здесь, над каменными фигурами фасада собора, рядом со мной был кто-то еще.
Я подвинулся и вытянул руку – а вдруг этот кто-то опасен? Но он не пытался скрыть свое присутствие. Я слышал, как он потирает руки, пытаясь согреться, и кашляет. Через минуту он запел:
Весело бывает летом, Все залито солнца светом. Но зима уже близка, Скоро будут холода…Я похолодел от ужаса.
– Кто здесь? Кто ты?
– Ты знаешь меня, Джон, – ответил голос, очень похожий на мой.
– Кто ты?
– Они зовут меня Джоном…
– Как ты сюда попал? Ты был каменщиком?
– Ты знаешь, кто я…
– Ты Джон Комб? Тот, кто работал со мной в Солсбери, а потом отправился к кругу гигантов?
– Нет. Я родился в Крэнбруке, а сейчас живу в Рейменте, в усадьбе Рей.
Я лишился дара речи.
– Нет! Это я! Ты самозванец!
– Нет. Я – это ты!
– Убирайся прочь! – закричал я и услышал, как мой голос отдается от каменных стен. Горький вопль вернулся ко мне, отразившись от крыши собора. Я отодвинулся чуть дальше.
– Тебе от меня не избавиться, – произнес голос.
Я услышал шепоты мужчин и женщин в соборе – казалось, меня окружают десятки тысяч призраков. Их отчаяние буквально сочилось сквозь камни.
– Где мой брат?
– Я оставил его в доме кузнеца Ричарда – ты же знаешь…
– И где он сейчас?
– Я не знаю, потому что этого не знаешь ты.
– Ты говоришь не так, как я.
– Меня не мучает и твоя боль – из-за той ссадины, под правой рукой…
Теперь мне казалось, что голос звучит отовсюду. Я попытался лягнуть его правой ногой, но ощутил лишь пустоту и скользкую поверхность свинцовой крыши.
– Господи Иисусе, помоги мне, – пробормотал я.
– Наша мать поет лучше священника, – сказал голос.
– Прекрати! – крикнул я, но голос снова запел:
– Весело бывает летом…
Я снова лягнул его ногой и снова не ощутил ничего, кроме каменного парапета.
Я рухнул на колени, прижался лбом к холодному свинцу и начал молиться:
– О Мария, Матерь Божия, и святой Лазарь, чей праздник наступит завтра, и святой Петр, защитник этой церкви, спасите меня от этого безумия!
– Я – твоя совесть, Джон.
Я потерялся, как моряки на дрейфующем судне. Я рухнул в мрачнейшее море.
– Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли…
– Прекрати! Прекрати это! – кричал я, колотя кулаками по парапету. Я разбил костяшки пальцев, и они болели так же сильно, как в тот день, когда священник наказал меня.
Я чувствовал, что рядом кто-то есть, кто-то ждет… Камни шептались…
– Ты не получишь мою душу, – пробормотал я. – Ты не получишь мою душу!
– Разве ты не понимаешь, что почти ничего не сделал, чтобы заслужить царствие небесное?
– Я… Я пытался спасти ребенка…
– Но именно из-за тебя младенец погиб в пламени, – ответил голос. – Теперь умрет и кузнец, и его дочь, и ее ребенок.
– Мне так жаль… Мне очень жаль…
– Что ты сделаешь, чтобы это исправить?
– Как это исправить? В мире столько дурного и неправильного… Как я могу склеить все разбитые горшки в этом городе, вернуть все исчезнувшие улыбки, залечить все разбитые сердца и прикушенные языки? Как я могу исправить творение Господа, если этого не смог даже сам Он?
Наступила тишина.
– Почему ты думаешь, что Господу нужно только совершенство? – спросил голос. – Если ты веришь, что все на небесах и на земле создано Господом, то почему не веришь, что он создал грех? Сожаления? Неудачи? Как ты думаешь, кто создал проклятие?
– Я верю в милосердие Господа…
– Разве не веришь ты в то, – продолжал голос, – что если бы Бог желал совершенства своего творения, то этого не случилось бы мгновенно и радостно? Как могла бы существовать праведность, если бы не было греха?
– Как могу я исправить то, что совершил?
Голос молчал. Я услышал ответ через несколько минут, которые показались мне вечностью.
– У тебя есть семь дней на то, чтобы спасти свою душу. Если ты покоришься мне.
– Покорюсь тебе? Как?
– Отправляйся в Скорхилл, к кругу камней.
Я ждал чего-то еще, но вокруг царила тишина. Ни шепотов, ни песен, ни голоса. Я не слышал, как этот кто-то ушел. Я ничего не видел. Я был на крыше собора в полном одиночестве и мраке и дрожал от холода.
Теперь я не понимал, явился ли мне ангел, чтобы спасти мою душу, или меня искушал демон, желавший купить ее. Может ли судьба человека зависеть от слов, произнесенных шепотом во мраке ночи? Я не знал, но я знал, что Бог или дьявол задал мне вопрос, и единственный способ ответить на него – отправиться в Скорхилл.
II
Я не спал до рассвета. Как только веки мои опускались, я тут же просыпался. Я видел чаек, которые кружили над собором и городскими стенами и посылали хриплые проклятия людям, сновавшим внизу. Птицы усаживались на крышу церкви, расположенной западнее собора, и с холодным безразличием оглядывали страдающий город. Ветер раздувал мой капюшон, а я с тем же холодом смотрел на птиц. Наступил день святого Лазаря. Я закусил губу, вспомнив несчастного младенца. Но я не мог не понимать, что его душа – одна из многих, отлетевших этой ночью. Люди выносили умерших из домов и оставляли на улицах для могильщиков. Они с ужасом смотрели на тела, появившиеся прошлым вечером, на трупы любимых дочерей и сыновей.
– Джон! Джон, ты там?
Я пополз вперед и посмотрел за край парапета. Меня всего колотило от холода. Внизу стоял Уильям. В одной руке он держал мою суму, в другой – свою. Волосы его были растрепаны.
– Ричард пошел к городским властям. Он говорит, что ты специально принес зараженного ребенка в его дом, чтобы убить его. Он будет требовать, чтобы тебя повесили.
Я вспомнил голос, говоривший со мной ночью. Нужно ли рассказать Уильяму?
– Ты спустишься? Я принес твои вещи…
События прошлого дня промелькнули в моем мозгу – от облетевшего дуба в Хонитоне до драки в доме кузнеца. Мне не хотелось верить своим воспоминаниям, но они были подобны глубоким ранам. Мне было так больно, что я никак не мог об этом забыть… Я увидел, как через двор собора идет священник в рясе. Он заметил двух мужчин, направляющихся к нему, и отступил в сторону, предпочтя ступить в грязь, чем встретиться с ними. Даже здесь, на святой земле, люди избегали друг друга. Но кто захочет оставаться в одиночестве?
Болезнь несет не только страдания. Она лишает нас человечности.
– Давай же, Джон! Ради всего святого! – крикнул Уильям.
Я спустился во двор. Уильям держал мою дорожную суму на вытянутой руке. Неужели и он боится находиться рядом со мной? Уильям заметил выражение моего лица, наклонился и обнял меня. И мы с ним пошагали к северным воротам.
На всех улицах лежали тела – могильщики еще не проезжали. На Северной улице я увидел растрепанную светловолосую женщину с искаженным страданием лицом. Закрыв глаза, она скорчилась над телом ребенка. Женщина не ушла, оставив труп, а сидела над ним, издавая монотонные стоны. Неожиданно появился могильщик. Схватив ребенка за ногу, он швырнул труп в повозку. Женщина издала дикий вопль, вцепилась ногтями в стену дома и стала колотить ее кулаками. Мы смотрели, как повозка продвигается по Северной улице: вначале в ней лежало четыре трупа, но, когда она подъехала к воротам, трупов было уже восемь.
Привратника мы не увидели, а ворота были открыты. Нам повезло. Выбравшись из города, мы направились к большому мосту, по которому можно было попасть в пригород Ковик, расположенный на другом берегу реки. С моста я увидел крыс, копошившихся на болотистом берегу. Горожане сваливали туда мусор, и крысам было раздолье. Городская помойка была завалена испорченным мясом, содержимым помойных ведер, обрезками овощей. Я увидел даже труп собаки. Улицы Ковика были пустынны. Большинство окон все еще было закрыто ставнями. Мы прошли еще милю. Когда мы поднимались на крутой холм Дансфорд, карабкаясь по камням и скользя на замерзшей грязи и опавших листьях, взошло солнце. Я обернулся, чтобы еще раз взглянуть на собор, гордо высившийся над городом. Как часто любовался я им отсюда в прошлом… Этот собор был для меня спасением души и моей работой. Теперь же его шпили стали двумя последними оплотами надежды, а я шел в противоположном направлении. Что ждет меня дома? И в Скорхилле? Настали времена библейских ужасов – Потоп, гибель Содома и Гоморры, Исход из Египта. Случалось ли после этого что-то подобное сегодняшней чуме?
На вершине холма мы обнаружили еще один труп. Это был мальчик лет двенадцати. Он лежал под облетевшим деревом в нескольких футах от дороги на груде опавших листьев всех оттенков коричневого, охристого, серого и желтого. Он и сам напоминал опавший лист. Возле его головы мы увидели следы замерзшей рвоты. Я смотрел на его русые волосы и юное лицо, изуродованное отвратительными пятнами и следами разложения. На его тунике я заметил зеленоватую пыль. Наверное, он прислонился к дереву или сел спиной к нему. Я не сомневался, что бедный парень умер в одиночестве. Рядом с ним не было ни матери, ни отца, кто мог бы утешить его в последний миг. Впрочем, они не подошли бы к нему, даже если бы он умирал дома, так что это ему еще повезло – он умер и не почувствовал себя брошенным самыми близкими людьми в свой тяжкий час.
Я снова вспомнил голос на соборе. Даже сейчас эта мысль меня страшила. Я постоянно думал о том, что на спасение души у меня всего семь дней.
– Уильям, ночью…
– Я не хочу говорить об этой ночи!
– Ты был прав.
– Я был прав. И что? А сейчас я замерз и устал. Мне тяжело. Я хочу только добраться до дома.
– Я знаю. Прости меня. Но я чувствую, что должен сделать что-то хорошее. Чтобы исправить то зло, которое я причинил. Я знаю, что недостаточно только желать добра. Я должен творить добро. Только так я могу заслужить Царствие Небесное.
Уильям посмотрел на меня.
– И что это значит? Какие чудеса ты собрался совершить? Хочешь основать монастырь? Или отправиться в крестовый поход? Что ж, удачи… Джон, ты не воин Христова воинства. Ты не святой. Ты каменщик, у которого нет работы, – только и всего. И если ты снова попытаешься совершить доброе дело – например, подобрать сироту, умирающего от чумы, – то погубишь нас обоих.
Я смотрел на листья, гнившие в грязи на дороге. На буковых листьях еще сохранилась зелень, дубовые полностью почернели. На некоторых листьях сохранились желтые и оранжевые оттенки. Я пнул листья, и они взлетели в воздух. Что заставляет деревья сбрасывать листья? Почему одни деревья сбрасывают листья, а другие – например, остролист – нет? Может быть, так Бог наказывает растение за то, что оно отравляет человека и животных? Но ведь каштан сбрасывает листья, хотя плоды его так вкусны. А ягоды остролиста ядовиты, и его шипы причиняют боль – но остролист листьев не сбрасывает. А тис, который ядовит для всех птиц и растений настолько, что в его тени ничего не растет, живет вечно.
Семь дней, чтобы спасти свою душу…
А есть ли душа у растений? Обретают ли они царствие небесное? Если нет, то они не могут согрешить, не могут совершить грех, за который понесут наказание в жизни вечной.
Семь дней, чтобы спасти свою душу…
Не растут ли наши чувства, подобно растениям, пуская корни в сердце и расцветая в разуме? Они цветут в наших улыбках и увядают в хмурости и злобе. А если так, то не возвращаются ли они каждый год? Не подобна ли одна радость другой, даже если вызваны они разными причинами?
Семь дней…
Что мне сделать, чтобы спасти свою душу? Я честно трудился, я заботился о своей семье, я молился и занимался резьбой по камню во славу Господа. Если подумать, то я сделал больше многих других. Скорее, я грешил меньше многих других. Но, наверное, этого недостаточно. Наверное, даже абсолютно безгрешный человек не может войти в Царствие Небесное, если не сделает добра. Наверное, для Господа важнее не отсутствие грехов, но добрые деяния веры.
Но что могу я сделать за семь дней, чтобы заслужить Царствие Небесное? На соборе со мной говорил явно не ангел. Он кашлял и притворялся мной. Он говорил, что он – моя совесть. Ангелы не кашляют. Они не притворяются. Но откуда он знал о том, что пение моей матери было лучше пения священника? Или мне это почудилось?
Когда весь мир охвачен кошмаром, почему бы и мне не столкнуться с собственным ужасом?
Семь дней…
Я представил, как спускаюсь с холма к Мортону, вижу город, старую церковь и рыночную площадь, за которой начинается великая пустошь, Дартмур. На северо-западе я видел холмы Баттердона и земляные укрепления старой крепости над Крэнбруком. Рядом с крепостью и находилась мельница, где выросли мы с Саймоном и Уильямом. Теперь там живет Саймон со своими детьми. К югу от города находился Реймент, где ожидали меня за повседневными заботами Кэтрин и наши сыновья, Уильям, Джон и Джеймс. Сейчас Кэтрин и Мэри из Сторриджа, наверное, убираются в доме или занимаются стиркой на Рейбруке. Уильям уже достаточно большой, чтобы помогать взрослым. Он может отвезти зерно из амбара на мельницу, а потом отправиться с мукой к пекарю. А Джон и Джеймс наверняка играют прямо на улице, раскалывая ледок на лужах камешками.
Что хорошего я могу сделать для них – или для кого-то еще – за семь дней?
Я мог бы научить детей основам резьбы по камню. Я мог бы рассказать им об опасностях греха. Я мог бы взять в дом ребенка из бедной семьи в качестве слуги. Но будет ли это хорошо? Я могу вернуться в Эксетер и трудиться в больнице Магдалины, заботясь о прокаженных, как в старину поступали святые, чтобы показать, что они не боятся суда Господнего и не осуждают его наказания, посланного людям. Но сейчас все это неважно. Кому есть дело до прокаженных, когда в городе поселилась чума?
Что же доброго можно сделать в наши времена? Чем можно заслужить Царствие Небесное?
Я вспомнил, как в церкви нам рассказывали о святых, о мужчинах и женщинах, которые отдали жизнь за свою веру, о святых чудотворцах. Уильям был прав: я – не такой. Моя судьба в том, чтобы покинуть дом на многие недели, отправиться на строительство собора или церкви, где нужны каменщики, и целыми днями резать, ваять, придавать форму и вдыхать жизнь в обычный камень. Из камня, дарованного нам Богом, я создаю лица, руки, венцы и одеяния. Платят за это немного. Кэтрин приходится постоянно трудиться на наших четырех акрах. Говорят, что богатые далеки от Царствия Небесного, но я в это не верю. Богатые могут отказаться от своего богатства и заслужить вечное спасение. Для бедных эта дорога закрыта. Может быть, Христос и был беден, но я никогда не слышал от священников о том, что он пытался раздобыть несколько пенни или целыми днями трудился на своих четырех акрах. Человек, который трудится за мизерные деньги, не может попасть в Царствие Небесное – ведь простого уклонения от греха для этого недостаточно.
Когда мы приблизились к Дансфорду, то сразу почувствовали отвратительный запах разложения. Мы заглянули за живую изгородь и увидели на улице сани. Они стояли возле увитого плющом дерева, наполовину съехав в канаву. Два трупа остались в санях, четыре других свалились в канаву. Под водой мы увидели разинутые рты и пустые глазницы. Один из ехавших освободил лошадь от упряжи, но сам упал неподалеку. Труп лежал на боку, лицо мертвеца исказила ужасная гримаса.
Мертвые ведут мертвых…
– Господи, помилуй, – воскликнул Уильям. – Это настоящий ад!
Я прикрыл лицо, как в Эксетере. Когда мы отошли достаточно далеко, я скинул капюшон.
– В каждом городе и каждой деревне… И конца этому нет…
Дансфорд был пуст. Казалось, город замерз: южнее церкви я видел маленькие, крытые соломой домики – глинобитные или каменные. Вдали виднелись густо поросшие лесом холмы. Отсюда начинался долгий подъем к великой пустоши.
Мы вброд перешли реку Тейн. После дождей вода доходила нам почти до бедер, а течение было довольно быстрым. Осенние листья и сучки задерживались на отмелях. Я поднял свою суму повыше – ведь в ней лежала книга. Если сума промокнет, пергаментные страницы погибнут, Я решил пожертвовать книгу церкви в Мортоне в память о Лазаре.
Когда я первым ступил на берег, ноги мои буквально подкашивались. Мы зашагали дальше, в лес, но от усталости я еле брел. Примерно через милю я окончательно лишился сил и остановился, обливаясь потом. Уильяму приходилось еще тяжелее. Да, он был крупнее меня, но не привык ходить пешком – обычно он ездил в повозке или верхом. Я дождался, пока он меня догонит, и хлопнул его по спине.
– Мы справились, брат.
– Я позабыл, какой крутой здесь подъем, – отозвался Уильям. – Нам нужно добраться до Клиффорда.
Мы двинулись дальше. Лес преимущественно состоял из ольхи, ясеня, ивы и буков. Кое-где сохранились искривленные дубы, напоминавшие горбатых ведьм из давних времен. Люди безжалостно обкромсали ивы – прутья годились для постройки домов и возведения изгородей. Ольху и ясени тоже обрезали – ветки шли на кровлю и древесный уголь. Примерно в миле от реки я снова остановился. Несмотря на холод, я сильно вспотел. На вершинах холмов, в тени больших камней лежал снег. Я посмотрел на солнце – грело оно слабо, но солнечные лучи поднимали настроение. Прошло около трех часов с того момента, когда мы покинули Эксетер.
Он брел еще медленнее, чем раньше, еле передвигая ноги, и я остановился, чтобы подождать его. Обернувшись, я увидел, что Уильям стоит, прислонившись к дереву и утирая пот со лба. В тревоге я направился к нему и заметил, что его вырвало – желтые капли покрывали сухие листья дерева и его бороду.
– Держись подальше от меня, – прохрипел он. Лицо его побагровело. – Не подходи ко мне!
– Уильям, что с тобой?
– Я вспотел, как жирная свинья. У меня болят подмышки. И меня тошнит. Как ты думаешь, что со мной?
Мне стало ясно, что смерть нагнала нас.
– Чума поймала меня, Джон. Она уже пожирает мое тело.
Я хотел что-нибудь сказать, но не мог найти слов. Теперь я понимал, почему меня прошиб пот, почему я так ослабел. Ноги моги подкашивались не от усталости и не от голода. Отрава уже струилась по моим венам.
– Но у меня было семь дней, – пробормотал я.
– Что? – с гримасой переспросил Уильям, по-прежнему опираясь на дерево. – Что ты сказал?
– Ничего, просто я…
Я опустил глаза и увидел сухие сучья на дороге и опавшие листья. Левой рукой я ощупал правую подмышку, потом правой – левую. И я ощутил острую боль. Я похолодел от ужаса, меня затошнило. Руки мои задрожали. Я вытер пот со лба и со слезами посмотрел на Уильяма.
Брата снова вырвало. Он сплюнул и уставился на меня.
– На что ты смотришь?
– Я делал то, что казалось мне правильным…
– Будь ты проклят, Джон! Ты убил меня. Ты и твое чертово благочестие! Я ни разу в жизни не ударил тебя, хотя твои нудные проповеди выводили меня из себя. А теперь ты убил меня…
– Мне так жаль…
Уильям утер лицо.
– Мне нет дела до того, что тебе жаль. Будь ты проклят, брат! Я ненавижу твою проклятую религию – в ней нет проку. Если Господь хочет заставить человека страдать, святость ему не защита. Богу нет дела до святости.
– Я тоже чувствую это… В себе…
– Что ты чувствуешь?
– Чуму.
Уильям выпрямился и глубоко вздохнул. Пот струился по его лицу и бороде. Он встряхнул головой.
– Что это за мир…
Он пошагал вперед.
– Мне отвратительна мысль о том, что я стану таким же трупом на дороге, какие мы видели. Меньше всего мне хочется, чтобы какой-нибудь мелкий торговец прошел здесь и причислил меня к безымянным мертвецам.
Я ничего не ответил. Мы были братьями, и наше молчание порой было более важным, чем разговор.
Я думал о Кэтрин. Я вспоминал, как впервые увидел ее на рыночной площади в Мортоне. Тогда она была еще девочкой. Ее отец, Роджер из Реймента, взял ее с собой. Она была на пять лет младше меня и кувыркалась на лужайке посреди площади. Заметив, что я смотрю на нее, она спросила: «А ты умеешь кувыркаться?» – и тут же перекувырнулась еще раз. «Мне нравится твой пояс», – сказала она, и я с гордостью посмотрел на оловянную пряжку: когда-то я нашел на дороге бляху паломника и соорудил из нее пряжку. В следующее воскресенье Кэтрин улыбнулась мне, выходя из церкви. У нее была удивительная улыбка – не улыбнуться ей в ответ было просто невозможно. И с того времени мы стали немного болтать каждую неделю – на рынке или после церкви. В том же году я уехал в Эксетер учиться резьбе. Мы виделись редко, только когда я возвращался домой. Когда мать Кэтрин умерла, отец решил оставить ее дома. Многие хотели жениться на ней, даже Уолтер Парлебен, сын Джона Парлебена, одного из самых богатых людей Мортона. Но Роджер всем отказывал. Шли годы. Я трудился на строительстве собора в Эксетере, а Кэтрин пришла в город со своим родичем. Он крикнул, чтобы я спустился. Я отложил резец и спустился по лесам. Кэтрин показалась мне очень встревоженной. Она рассказала, что отец ее умер и теперь дом и четыре акра земли принадлежат ей. Но бейлиф сказал, что ей нужно выйти замуж, и если она не выберет себе мужа сама, он сделает это за нее. «Джон, пожалуйста, – взмолилась Кэтрин, – я не хочу бросать свой дом, а у тебя дома нет. Почему бы тебе не поселиться у меня?» «Почему ты выбрала меня?» – поразился я. «Потому что с тобой я счастлива», – просто ответила Кэтрин. Через две недели мы поженились в церкви Мортона.
Я больше ее не увижу. Даже если она жива, я не пойду к ней, чтобы не заразить ее и детей. Лучше мне будет отправиться на кладбище и вырыть себе могилу – только так я смогу упокоиться в освященной земле.
Мы продолжали свой путь по холму Коссик. Уильям молчал. Он смотрел на камни на вершине, словно решив упокоиться под ними. Я думал о печеных яблоках с медом, которыми часто угощала нас мама. Я вспоминал спокойное лицо спящей Кэтрин, вспоминал, как учил сыновей стричь наших овец. Я вспоминал, как варил пиво для церкви и так напробовался, что начал петь. Я вспоминал, как в молодости мы плясали на площади летними вечерами под звуки скрипки и свирели. Я вспоминал ярмарки в Мортоне, когда вся площадь была заставлена прилавками, окрестные поля пестрели яркими шатрами купцов и торговцев, а из пивных доносились музыка и громкий смех.
Все эти воспоминания скоро уйдут в прошлое.
У Коссика мы сошли с дороги и побрели по еле заметной тропинке среди камней, дрока и вереска. Я тщетно пытался справиться с дурнотой. Меня вырвало на большой куст засохшего папоротника. Ноги у меня подкосились, я весь дрожал от холода и одновременно обливался потом. Без сил я опустился на большой камень. Во рту стоял кислый вкус рвоты. Я сплюнул и увидел в слюне кровь.
Уильяма била крупная дрожь. Он сел рядом со мной.
– Как долго это продлится?
– Может быть, быстро. А может быть, несколько дней. Несколько человек в Солсбери болели три-четыре дня. Один прожил целых шесть.
– Господи Иисусе… – Уильям закрыл лицо руками и замолчал. Потом он опустил руки и долго смотрел влево, на гряду холмов. – Помнишь Кристину из Люведона?
– Помню, – кивнул я. – У нее были длинные черные волосы и добрая улыбка. И бедра у нее были славные, как у коровки.
– Она была у меня первой. Муж ее ушел на охоту на пустошь. Она заметила меня на дороге и попросила ей помочь: ей было никак не справиться с упрямым бараном. Не говоря ни слова, она повела меня через лес подальше от Люведона, а потом неожиданно остановилась, обхватила мое лицо руками и поцеловала. Меня никто никогда так не целовал. Верой клянусь, я никогда этого не забуду. А потом она толкнула меня на землю и оседлала, задрав юбки до пояса. Честно говоря, она взяла меня увереннее, чем я трахал французских девок. Как ты думаешь, это считается грехом?
– Ведь были и другие, потом… Правда? – меня скрутил приступ боли.
– Больше, чем я могу сосчитать.
– Если ты не можешь их сосчитать, значит, это грех. Ты должен был хотя бы имена их запомнить.
– Зачем мне сдались их имена?
Мы снова замолчали.
– Я завидую тебе, Джон, – неожиданно прохрипел Уильям, схватившись за живот и сморщившись от боли. – После тебя хотя бы что-то останется…
– Что?
– Твои дети. Твои скульптуры. А кто вспомнит Уильяма Берда? Священники не станут молиться обо мне. Дом мой сдадут другим людям. Ты хотя бы исчезнешь не бесследно.
– Люди будут видеть твое лицо, – ответил я.
– Нет. Я исчезну, как песок в океане.
– Они увидят тебя на соборе. Твое лицо я изобразил на алтаре в часовне святого Эдмунда.
Уильям задумался.
– Ты правда сделал это?
– Конечно. Я изобразил тебя еще в часовнях святого Андрея и святой Екатерины. И в западном клуатре, хотя там ты получился не очень похожим.
– Почему?
– Там слишком большие уши, а леса разобрали прежде, чем я смог это исправить.
– Ты – хороший брат, – сказал Уильям, хватаясь за грудь и раскачиваясь на камне. – Даже несмотря… на это… Прямо перед Рождеством…
Рождество. Я никогда больше не увижу, как озаряются радостью лица моих сыновей при виде такого обилия мяса. Я не увижу наш дом, дверь, увитую плющом, и омелу под карнизом. Я не увижу сияющей улыбки Кэтрин, когда она присматривает за нашими мальчиками.
Я посмотрел на пустошь.
– Как далеко отсюда до Скорхилла?
– Что?
– До того каменного круга на пустоши, куда мы бегали как-то с Джоном Парлебеном, Уильямом Кеной и другими жестянщиками. Далеко это отсюда?
– Миль восемь-девять… А что?
– Мне нужно туда…Чтобы спасти мою душу…
– Что?! Ты с ума сошел!
– Нет, я… Мне нужно туда.
Уильяма снова вырвало.
– У тебя есть кошель того ребенка. Пожертвуй деньги церкви, и священники будут молиться за тебя.
– Это не мои деньги, чтобы жертвовать их. Ведь бедный ребенок погиб в огне.
– Зачем тебе в Скорхилл?
– Прошлой ночью я слышал голос… На соборе…
– Голос?
– Да.
– Ты сошел с ума.
– Может быть. Но голос велел мне идти в Скорхилл, чтобы спасти свою душу. Было бы безумием притворяться, что я этого не слышал. Подумай: Иисус ушел в пустыню, которая наверняка была такой же, как наша пустошь. Отцы Церкви тоже уходили в пустыню – они строили там первые монастыри. В пророчествах Исайи говорилось о том, что посланец Господа был голосом, вещающим в пустыне. А Иоанн Креститель крестил кающихся не в церкви, но в пустыне, в чистых водах Творения. Пустыня – это истинное творение Господа, чистое и незамутненное.
Уильям опустил глаза.
– Ты был счастливым человеком при жизни. Я все отдал бы, чтобы иметь такую жену, как Кэтрин. Но сейчас мы одинаковы – нас рвет, мы плюемся, нас трясет… А ты еще и последний ум потерял…
– Как человек может потерять свой ум? Если это его ум, он не может его потерять.
– Бред сивой кобылы! Тебе кажется, что крики в пустыни – это признак здравого рассудка? Нет, братец. Это означает лишь то, что никому твои стенания не нужны.
Я посмотрел на небо, затянутое тяжелыми тучами.
– Я пойду туда.
– Ради всего святого, Джон, зачем?
– Тот голос знал обо мне, о нашем детстве такое, что известно только мне. Он знал все про тот день, когда я сказал священнику, что наша мать поет лучше его. Он знал, что произошло со мной вчера. Если я доберусь до Скорхилла, может быть, он заговорит со мной снова…
– И чей же это был голос? Ангела?
– Не знаю. Голос был похож на мой. Но откуда нам знать, каков на самом деле голос с неба?
– Вряд ли голос с неба был бы похож на твой. Ты уверен, что с тобой говорил не дьявол?
– А как я мог понять разницу? У голоса не было рогов и копыт…
Лица наши застыли от ледяного ветра. Я отвернулся, и меня снова вырвало. В желудке ничего не осталось, только желчь. Я видел, как темная слизь тянется к земле с моих губ. Вчера я говорил, что мы останемся братьями до конца времен, наивно полагая, что время – наша вотчина. Но сейчас мы уже умирали.
– Может быть, до Скорхилла всего семь миль, – неожиданно сказал Уильям.
– Ты пойдешь со мной?
Он пожал плечами.
– Ты не считаешь это безумием?
– Не дури, Джон. Конечно, это безумие – слушаться воображаемого голоса. Но еще большим безумием будет отпустить тебя одного. Или вернуться к твоим жене и детям. Ты не можешь вернуться домой.
Я посмотрел на Уильяма. Он был прав. Кто сообщит о моей кончине Кэтрин? Уильям тоже болен. И рядом с нами никого нет.
Мир неожиданно опустел…
Зима пришла в третий раз…
Путь к Скорхиллу стал тяжким испытанием. Нас мучила боль, все расплывалось перед глазами. Чувства изменяли нам, а ноги слабели. Мы могли думать только о том, что мы умираем. Эта мысль мучила нас сильнее физической боли. Она, словно острый нож, терзала нашу плоть. Уильям больше не был торговцем шерстью. Никогда больше он не поедет на ярмарку в повозке, набитой шерстью. Никого он не хлопнет по спине и ни с кем не выпьет доброго эля. Никогда ему не перекинуться парой шуточек с людьми, собравшимися на рыночной площади. То, что я был резчиком, теперь не имело никакого значения. Это лишь напоминало о чем-то, что было когда-то…
В Истон-Кросс я посмотрел на вершину холма. Где-то вдали лежал Крэнбрук. Детьми мы с братьями часто гуляли здесь в лесу. Мы вырезали себе палки и атаковали или защищали укрепления старой крепости. В тот день, когда сотник объявил нам с Уильямом, что мы отправимся воевать во Францию, мы отправились сюда, чтобы найти крепкие палки, которые помогут нам в пути. Тогда я думал, что это очень благородно – сражаться за короля Эдуарда и за Англию: ведь я же буду сражаться за эти леса и холмы, за свою родину. Но кто сейчас мой враг? С кем я буду бороться?
Враг живет внутри меня, в моей собственной крови…
Я опустил суму на камень, дрожа и обливаясь потом. Я медленно снял плащ, тунику и пояс. Оставшись в одной рубашке, я достал нож.
– Что ты делаешь? – воскликнул Уильям.
– Кровопускание…
Я закатал левый рукав, поднял руку и почувствовал запах застарелого пота. Запах был отвратителен. Но под мышкой я не увидел того же огромного черного нарыва, как на шее мертвеца в Хонитоне. Мой нарыв был желтоватым, его окружали черные пятна и налитые кровью припухлости – словно на мне вырос чудовищный гриб. Я ненавидел его, но не решался срезать. Это лишь симптом… Я закатал правый рукав и, держа нож в левой руке, нацелился на внутреннюю сторону предплечья. Место найти было несложно: когда-то мне уже пускали кровь. Боль была острой и леденящей, но она казалась здоровой. Из меня вытекала не кровь, но болезнь. Я поразил врага в самое сердце. Мне сразу стало легче. Спустив кровь, я поднял руку и закрутил рукав, чтобы остановить кровотечение. В изнеможении я откинулся на камень.
– Тебе следовало стать хирургом, – сказал Уильям.
– Резать камень проще…
Я поднялся. Голова у меня закружилась, и меня снова вырвало, но желудок был совершенно пуст. Я поднял свою тунику и неуклюже принялся натягивать ее через голову. После нескольких попыток мне это удалось. Я застегнул пояс и накинул плащ – он показался мне очень тяжелым.
– Надо идти, – сказал я, поднимаясь на ноги и глядя в темнеющее небо.
– Пусти кровь и мне тоже, – приказал Уильям.
Какое-то время мы молчали. Тишину нарушало только вечернее пение птиц. Я видел кровавые пятна на шее и щеках Уильяма, не закрытых бородой. Я покачал головой.
– Я никогда не пускал никому кровь. Только себе. Я знаю, где это можно сделать…
– Джон, то, что случилось вчера, уже случилось. Время вспять не обратить. Но я все же верю в тебя. Тебя ведет Бог. Сделай же для меня то же, что сделал для себя.
– Я не знаю…
– Что может случиться?
Уильям скинул свой плащ и с большим трудом стянул через голову тунику. Увидев, как он закатывает рукав рубашки, я задрожал. Уильям протянул мне руку.
– Я не вижу места…
– Ради Христа, Джон, режь, где захочешь.
Я надрезал кожу. Кровь брызнула и потекла по руке.
– Пусть течет, – сказал я, утирая холодный пот со лба. Когда вытекло достаточно, я поднял его руку. – Держи ее так. Наклонись вперед, пусть чистая кровь прильет к голове.
Уильям подчинился. Он тяжело дышал.
– Мне кажется, что вся жизнь проходит перед глазами, – сказал он.
– Расскажи, когда ты был счастливее всего…
– Когда в первый раз был с Кристиной из Люведона.
– В первый?
– Ее муж часто охотился.
Когда Уильям пришел в себя, мы пошли дальше, медленно пробираясь между деревьями. Хотя деревья уже давно облетели, под их кронами стало гораздо темнее. Мы двигались медленно, спотыкаясь о толстые корни. Я подвернул правую щиколотку. Я часто наступал в лужи и чувствовал, как холодная вода заливает ноги. Сквозь просвет в тучах выглянула луна, и переплетенные голые ветви стали серебряными. Казалось, что мы идем по остову гигантского корабля.
Когда совсем стемнело, Уильям выдохнул:
– Хватит!
Я оглянулся и увидел, что он упал. Я подхватил его под руки.
– Поднимайся, Уильям! Если останешься здесь, к утру умрешь.
– Я больше не могу идти. Ноги меня не слушаются. У меня кружится голова, и я не понимаю, куда идти. У меня онемели пальцы. Я и пошевелиться не могу…
Я попытался поднять его, но он был слишком тяжелым.
– Поднимайся, Уильям! Помнишь, где был старый лев? Представь, что там, на пустоши, самая прекрасная женщина, созданная Господом…
– Самую прекрасную женщину я видел в лондонском переулке, – ответил он. – Она была очень юной и шла с отцом. Я стоял и смотрел ей вслед. Я увидел, как она вошла в церковь… Тогда я был словно в трансе…
– Представь, что она там, на пустоши, и ждет тебя… А отца ее рядом нет.
– Нет. Она не замужем…
– И что с того? Ты и сам не женат.
– Из замужних женщин получаются отличные любовницы. Они точно знают, чего хотят.
– Значит, она замужем. А муж ее ушел на охоту.
– Нет, все кончено… В моем теле больше нет желаний…
– Уильям, я не позволю тебе остаться здесь. До пустоши осталось меньше мили…
– Мне кажется, что я… – Он закашлялся, начал отплевываться, потом снова закашлял.
– Ради всего святого, Уильям! – закричал я. – Пожалуйста! Я не могу уйти и бросить тебя. Но я не могу и лечь здесь и ждать смерти. Мы добрались сюда, потому что нас было двое. Помнишь те одинокие трупы вдоль дороги? Никто не помог им. Нас не похоронят по христианскому обряду, это я знаю, но мы не можем просто лечь и ждать смерти… – Я утер пот с лица. – Если мы так поступим, наши родители на небесах будут стыдиться нас. Если не для меня, то ради них, поднимись, Уильям!
Я снова подхватил его под руки. Он вцепился в мой рукав и попытался подняться. На этот раз это ему удалось. Он оперся на меня, тяжело дыша. Нарыв под левой рукой болел еще сильнее, словно я нес на плече свою суму. Тут я понял, что у Уильяма уже нет его сумы. Мы почувствовали запах холодной земли. Над нашими головами свистел ветер, он выл среди безжизненных ветвей, и те стукались друг о друга в темноте.
Наконец, мы выбрались на пустошь. Здесь уже ничто не мешало ветру, и он трепал траву, дрок, сухой папоротник и вереск. Ветер выл в наших ушах и морозил щеки. Держаться на ногах стало еще труднее. Над головой проносились тучи, в просветах изредка выглядывала луна. Впереди брезжила тонкая линия горизонта. По кочкам, камням и впадинам мы добрались до вершины первого хребта и начали спускаться по влажному мху. Обувь наша безнадежно промокла.
Так мы добрались до холма Скорхилл.
Я в очередной раз зацепился штанами за куст дрока. Поредевшие тучи стремительно проносились по лику луны, но потом большая черная туча полностью закрыла луну.
Уильям положил руку мне на плечо:
– Тихо!
Я прислушался. Когда вой ветра стих, я услышал журчание ручья в камнях.
Мы спустились к ручью и пошли по берегу. Ветер стих, и мне послышались жалобные голоса над пустошью. Я вспомнил Эксетер. Я был измучен. Каждый шаг по влажной болотистой почве давался мне с трудом. Я видел темные очертания каких-то фигур и яркие пятна – словно придавил глаза пальцами. На небе я видел синие и оранжевые всполохи, а потом целое кровавое озеро. Вновь поднялся ветер.
Нам никак не удавалось найти круг.
– Давай вернемся в лес, – сказал Уильям. Я с трудом расслышал его из-за воя ветра. – Под деревьями можно укрыться.
Я боялся ответить. Все мое тело ныло и болело. Мне было все равно, где упасть. Но Уильям, споткнувшись несколько раз в темноте, остановился. Он взял мою руку и положил ее на холодный, мокрый камень на уровне груди. Тучи снова разошлись, и я увидел призрачный каменный круг – две дюжины каменных столбов стояли на небольшом расстоянии друг от друга. Чуть в стороне и немного выше находился еще один камень – он упал, и сейчас от него отражался свет луны.
Мы пришли.
Уильям направился в центр круга. Я, спотыкаясь, побрел за ним. Луна снова скрылась за тучами. Мы оказались в полной темноте, и ветер выл вокруг нас.
– Что теперь? – спросил Уильям.
– Нам нужно молиться…
Я преклонил колени и прижался лбом к земле, защищая лицо от жалящих укусов ветра.
– Что это за свет вон там? – спросил Уильям.
– Отражение луны.
– Нет, не может быть. Луну скрывают тучи.
Я посмотрел наверх. Свет продолжал гореть, словно на камни упала звезда.
На пустоши я снова услышал далекий, рыдающий голос. Уильям начал читать «Отче наш». Это место вселяло в меня страх. Но то, что скрывалось за пределами каменного круга, на продуваемой ветром пустоши, страшило нас еще больше. И оттуда донесся женский голос. Он больше не рыдал и не стонал, но пел – очень медленно.
Весело бывает летом, Все залито солнца светом. Но зима уже близка, Скоро будут холода… Эй! Эгей! Ночь длинна. И несет в себе она Слезы, горе и тоску…Мгновение – и мы снова слышали только вой ветра.
– Это был голос нашей матери, – прошептал Уильям.
– Может быть, ее дух поможет нам…
– За этим мы и пришли? Чтобы она наставила нас?
– Вы здесь, потому что не хотите умирать, – произнес голос, который я слышал в соборе.
– Ты слышал это? – спросил Уильям.
– Я не могу дать вам то, о чем вы просите, – продолжал голос. – Я не в силах даровать смертным долгую жизнь. После этой ночи вы проживете еще шесть дней. Этого не изменить. Но ты доверился мне, Джон из Реймента, и пришел сюда. И я тоже доверюсь тебе. Ты увидишь то, чего не видел ни один из живущих.
– Ради всего святого, – прошептал Уильям, – кто это?
– Выбор за тобой, – произнес голос. – Ты можешь остаться здесь, вернуться домой и провести последние шесть дней с женой и детьми. А можешь отдаться в мои руки. Я сотру шрамы с твоего лица и нарывы с твоего тела. Я избавлю тебя от лихорадки. Я позволю тебе провести последние шесть дней твоей жизни в далеком будущем. Девяносто девять лет пройдет, прежде чем ты сможешь прожить первый из оставшихся тебе шести дней. Еще девяносто девять пройдет перед вторым. Пятьсот девяносто пять лет пройдет перед твоим шестым и последним днем, когда я приду за тобой.
Неожиданно время показалось мне пустым и ненужным. Вся жизнь уподобилась бутону на розовом кусте. Я видел, как многие жизни расцветали и лепестки их вяли и опадали. И неважно, быстро или медленно они увядали, неожиданно или ожидаемо. Важно лишь то, что они были.
– Я останусь здесь, – сказал Уильям. – Я не страшусь своей судьбы. Я умру здесь, в своем мире.
– Шесть дней, – пробормотал я, не в силах перестать думать о Кэтрин и сыновьях. – Шесть дней… А если я вернусь домой, то принесу с собой болезнь.
Я медленно поднялся на ноги. Меня била крупная дрожь.
– Прощай, Уильям, – сказал я, наклоняясь к нему.
Я опустился на колени и обнял его. Я крепко прижал его к себе – не как брата, но как последнего друга в этой жизни. Скорбь терзала меня сильнее чумы. Слезы текли по щекам и замерзали на ветру.
– Вот же незадача, – вздохнул Уильям. – Я не могу этого сделать. Я не могу расстаться с тобой, Джон. Пойдем вместе.
Я помог ему подняться. Ветер стих. Над нами горели звезды. На ночном небе осталось всего несколько тучек.
– Где луна? – спросил я.
– Наверное, она уже зашла.
– Так неожиданно?
– Как ты себя чувствуешь?
Я пощупал рукава плаща.
– Моя одежда просохла, а ноги зябнут, но лихорадки больше нет.
– Что же случилось?
– Это был голос… Он назвал меня по имени…
– Ты думаешь, что мы все еще…
– Больны? Я не знаю.
Наступила долгая пауза.
– Думаешь, это действительно был голос нашей матери? Это она пела? – спросил Уильям.
– Похоже на нее.
– Может быть, ее дух пришел спасти нас…
– Или смутить нас… Тот голос, что говорил с нами, звучал как мой собственный.
– Это странно… Мне показалось, что он звучал как мой…
– Пошли…
Я нашел свою дорожную суму на том камне, где оставил ее, и мы вернулись назад по той же дороге.
В Истоне мы сошли с дороги, по тропинке пробрались в Крэнбрук и спрятались в одном из амбаров Саймона на мельнице. Зарывшись в сено, я вспомнил голос в каменном круге. Я не понимал, что с нами произошло, но понимал, что искупление необходимо мне больше, чем когда бы то ни было. Но я не знал, каким станет это искупление. И не знал я, что случится, если я не смогу его обрести. Я лежал в темноте и постепенно погружался в сон. Последней моей мыслью стал очень простой вопрос: что я знаю про ад?
III
Когда первые лучи солнца пробились сквозь щели в крыше амбара, я сразу понял: что-то не так. Я с детства помнил гнилое пятно на большой балке, поддерживающей крышу. Мне достаточно было подумать о нашей мельнице, как я сразу же видел свисающую с балки густую паутину, присыпанную древесной гнилью. Отец говорил, что балка только кажется гнилой, но дуб, из которого она сделана, тверд как камень. Пройдет еще лет пятьдесят, прежде чем ее нужно будет менять. Но даже в тусклом утреннем свете я видел, что крышу поддерживает совершенно новая балка.
Я потряс Уильяма за плечо. Он перестал храпеть, открыл глаза и уставился в потолок.
– Где это мы – у шотландцев или у самого дьявола?
– В амбаре в Крэнбруке.
– Все изменилось…
Мы услышали, как на дворе лает собака, потом раздался мужской голос. Я его не узнал. Это явно был не наш брат.
– Что ты там унюхал, чертово отродье? Из-за чего этот шум? Что-то в амбаре, верно?
Через мгновение дверь распахнулась, и в амбаре стало светло. В дверях стоял крепкий мужик с редеющими седыми волосами. На нем были длинные брюки и колет длиной до бедер. На груди я разглядел деревянные застежки, которые скрепляли полы колета. На голове мужчины был не капюшон, а что-то вроде шапки, но какой-то странной формы. Колет был подпоясан толстым кожаным ремнем, за которым торчал нож.
– Ради всего святого, – воскликнул он, – что это за бедолаги?
Я смотрел на него, а он на нас. И было понятно, что, по его мнению, странно одет не он, а мы. Обувь моя прохудилась, серые штаны порваны в дюжине мест, и в дырах виднелись голые ноги. Коричневая туника тоже порвалась, а дорожный плащ был покрыт грязью. Уильям выглядел не лучше. Складчатый капюшон, который он обычно накидывал на голову с таким шиком, слипся от влаги. Серебряную цепь он потерял. От нищих его отличала только пряжка на поясе и кольцо с гранатом.
– Мы – братья Саймона из Крэнбрука, – объяснил я. – Наш отец, мельник Саймон, умер. А наша мать, Мэри, была дочерью мельника Уильяма, который держал эту мельницу раньше.
– Вы не наши родственники, – ответил мужчина. – Я – мельник Саймон, сын Саймона. И мне не нравится, что в моем амбаре устроились какие-то бродяги.
– Нам нужно поблагодарить этого доброго человека за гостеприимство и оставить его в покое, – сказал Уильям, поднимаясь с груды сена. – Саймон-мельник умер. Да здравствует Саймон-мельник. – Он поклонился мужчине, который только сейчас разглядел его золотое кольцо и серебряную пряжку на ремне. – Благодарим тебя, добрый мельник, за приют. Меня зовут Уильям Берд, а это мой брат, Джон из Реймента. Если мы можем чем-то отплатить тебе за этот кров, скажи, и мы все исполним.
Уильям снова поклонился и вышел из амбара. Я поклонился мельнику и последовал за братом.
На улице было морозно. Мы шагали вперед. Мельничный пруд справа от нас был покрыт льдом, вся трава заиндевела. Лужи на дорожке тоже замерзли. Дул легкий ветерок, птицы распелись вовсю. Но за прудом, где раньше не было никаких изгородей и стен и где сеяли зерно, теперь мы увидели стены, канавы, деревянные изгороди и ворота. Все холмы были поделены на маленькие, огражденные со всех сторон поля.
– Где мы? – спросил я.
– Ты не помнишь? Голос ведь сказал…
– Ты веришь, что прошло девяносто девять лет?
Уильям огляделся вокруг.
– А у тебя есть другое объяснение? Вот так Крэнбрук выглядит спустя девяносто девять лет после 17 декабря двадцать второго года правления короля Эдуарда Третьего, упокой, Господи, его душу.
«Упокой, Господи…» Я поразился тому, что Уильям говорит о добром короле Эдуарде как об умершем. Но если мы действительно перенеслись на девяносто девять лет вперед, то именно так и должно быть.
– Какой же сейчас год?
Уильям пожал плечами.
– Все зависит от того, кто сейчас король.
– Наверное, даже Эдуард Вудсток умер…
Уильям указал вперед на низкие стены, наполовину скрытые папоротником.
– Что здесь случилось?
– Ты знаешь, что случилось, – ответил я. – Чума. Ты был здесь.
Мы подошли к полуразрушенным каменным стенам высотой не более четырех футов. Это был Баттердон. Плющ уже покрыл руины, в углу дома вырос бук. На месте дома лежала куча опавших листьев, пожухшего папоротника и сухих веток. Пахло влажной землей – как в лесу после ночного дождя.
– Здесь жили Илберт и Ричард, – произнес Уильям.
Я промолчал. Может быть, и мой дом в Рейменте являет собой то же зрелище?
Мы зашагали дальше по мерзлому пастбищу. Было ясно, что сейчас здесь почти не ходят. Погруженные в свои мысли, мы почти не разговаривали, пока не дошли до Мортона. Мы увидели старую церковь. К западной ее стене была пристроена большая четырехъярусная башня из серого гранита. Она гордо высилась над окрестными холмами.
– Вчера этого не было, – сказал Уильям.
– Почему они построили новую башню, а не новую церковь? Она смотрится так же неуклюже, как рыцарь в доспехах на пони.
– Все из-за Чагфорда, – ответил Уильям. – Наша башня выше, чем у них.
По обе стороны дороги в Мортон мы увидели три больших дома, крытых соломой. Пока мы шли, вдали ударил церковный колокол, а потом тишину нарушил бронзовый перезвон пяти колоколов на колокольне. В наше время к мессе прихожан сзывал удар одного колокола.
– Вот и ответ, – сказал Уильям. – Они построили башню, чтобы разместить на ней колокола.
В центре городка изменилось абсолютно все. На площади, где раньше стояли рыночные прилавки, появились деревянные дома. Большинство домов, окружавших площадь, стали каменными, с ярко раскрашенными ставнями и широкими дубовыми дверями. Но более всего нас поразила одежда горожан. Я увидел женщину, которая была причесана самым необычным образом: волосы образовывали два рога, задрапированных тонкой белой вуалью. Мы с Уильямом буквально вытаращились на нее: она шла в церковь, хотя по виду более всего напоминала сестру дьявола. Мужчины выглядели не менее странно. На них были туники длиной до колена. У молодых парней туники еле прикрывали зад. Через площадь прошел пожилой, плотный мужчина с седыми волосами и бородой. На нем была длинная черная мантия с капюшоном, напоминающим капюшон Уильяма. Но даже у этого человека рукава свисали до колен, и ему приходилось скрещивать руки на груди, чтобы не запутаться в собственных рукавах.
– Ты правда хочешь пойти в церковь? – спросил Уильям.
– Нет, – ответил я. – Все это кажется мне дурным сном. Может быть, позже…
На площади собралось довольно много народу, и все с удивлением смотрели на нас. Стало совсем светло. Мы шли через площадь и ловили на себе неодобрительные взгляды. Замужние женщины в традиционных головных уборах и ярких длинных платьях нас явно осуждали. Молодые девушки с распущенными волосами, в длинных юбках и коротких туниках, напоминающих корсажи, посматривали на нас исподтишка и прыскали от смеха. На взрослых мужчинах мы увидели необычные высокие шляпы с опущенными полями. На одной молодой женщине было довольно простое длинное платье с длинными рукавами, подхваченное под грудью, и аккуратные кожаные туфли с заостренными носами. Она шла одна, позади большой семьи, и я понял, что она – служанка. Но даже она смотрела на нас весьма неприветливо.
– Ты видел хоть одного нищего? – шепнул мне Уильям.
– Нет – разве что нищие теперь носят одежду, подбитую мехом кролика или лисы…
Мы вышли из города по дороге, которая спускалась в долину Рей. Мост над Рейбруком восстановили, поля по обе стороны дороги превратились в пастбища. Мимо нас шли люди, спешившие в церковь. Некоторые из них явно были крестьянами – одежда у них была не столь облегающей, как у тех, кого мы видели на площади. Но даже у крестьян одежда была сшита из хорошей ткани. Никто не казался бедным – только мы. Мы же казались грязными оборванцами – как заброшенный дом в Баттердоне.
Ферма в Сторридже изменилась почти до неузнаваемости. Появилось много новых построек. Хозяева фермы насыпали крошек птицам: дрозд уже весело клевал сухой хлеб, к нему быстро присоединилась малиновка. Отсюда дорога вела к моему дому. Там, где раньше ничего не было, стояли высокие деревья, а вдоль дорожки, спускавшейся к ручью, выросла колючая ежевика.
По мере приближения к дому меня охватило радостное предчувствие, но когда мы оказались совсем рядом, надежды мои рухнули. Все вокруг заросло, буковый лес лорда поглотил нашу ферму. Когда я, наконец, увидел стены родного дома, их почти целиком покрывал плющ. Они были чуть выше руки в Баттердоне, но всего лишь в человеческий рост. Гранитную притолоку двери кто-то украл, а корни дерева раскололи заднюю стену надвое, и часть стены рухнула. Мой дом напоминал скалу, высящуюся над морем сухих листьев и буковой поросли.
Я опустил свою суму на землю и вошел в мир разбитых камней, толстых корней и грачей. Одна оконная рама сохранилась, но перед ней вырос густой куст. Сколько раз я подходил к этому окну по утрам и открывал ставни, чтобы впустить в дом утренний свет… А потом я шел к нашему очагу, чтобы развести огонь на старых углях… Я смотрел на полусгнившую ветку, которая валялась на том месте, где когда-то весело пылал мой очаг, где мы с Кэтрин сидели за кружечкой сваренного ей эля, когда дети уже спали. Может быть, она выжила и покинула этот дом? Или бейлиф заставил ее снова выйти замуж? Руины говорили о заброшенности и смерти. Судя по всему, никто из наших детей этот дом и наши четыре акра не унаследовал.
Даже если Кэтрин и мальчики пережили меня, сейчас они уже мертвы. Уильям, Джон, даже маленький Джеймс… Косточки их давно сгнили на кладбище. Ветер шевелил побеги плюща. Я закрыл глаза и понял, что сам я тоже давно мертв. Я медленно прошелся по полу некогда моего дома, ощущая под ногами влажную землю. Может быть, я призрак? Может быть, люди в городе, которые так странно смотрели на нас, видели перед собой призраков? Что хорошего может сделать призрак, чтобы спасти свою душу?
Я положил руку на стену. Стена была холодной. Рука моя ощутила материальную преграду. Я не могу проходить сквозь стены. Если я что-нибудь подниму, оно поднимется. Я слышу пение птиц. Когда я заговорил с мельником в Крэнбруке, он услышал меня. Я – не призрак.
– Пошли, – тихо проговорил Уильям. – Здесь не осталось ничего, кроме скорби.
– Куда нам идти?
– Я думал, что ты хочешь сделать какое-то доброе дело…
– Не смейся, Уильям. За шесть дней? Что мы можем сделать за шесть дней? Я начинаю думать, что мы не заслуживаем места в раю. И не потому, что совершили какой-то грех. Просто мы такие люди.
Я указал рукой на стены.
– Это был мой дом. Мы с Кэтрин были здесь счастливы, и наши дети…
– У тебя хотя бы был дом. У тебя была семья. Ты был счастлив. А когда мы были на площади, ты видел, где стоял мой дом? На его месте построили новый. В Мортоне от меня не осталось даже следа… Но если мы пойдем в Эксетер, то обязательно увидим твои фигуры. Если мы окажемся в Солсбери или Тонтоне, там тоже остались твои работы. Башенки и портреты, цари и пророки… Сила твоей души вечно будет трогать сердца людей.
Я молчал. Холодный ветер обдувал мое лицо. Совсем рядом раздалось громкое, хриплое карканье ворона.
– Послушай, – сказал Уильям. – Мы все о чем-то сожалеем. Я так жалею, что ты тогда подобрал того ребенка. Но сожаление ничего не изменит. Может быть, мы уже были заражены чумой – ведь мы могли принести ее на себе из Солсбери. Я не знаю. Но я знаю одно: утраты не лишают нашу жизнь смысла. Всегда остается что-то, ради чего стоит жить.
Я посмотрел вперед, на деревья на вершине холма.
– Когда кто-то из моих сыновей боялся темноты, я брал его на руки, приходил сюда и говорил, чтобы он посмотрел на холм. Я говорил, что если посмотреть на дерево даже ночью, то обязательно увидишь очертания его веток. Полной темноты не бывает…
– Точно. Разве это не воплощение надежды? Нам есть к чему стремиться. Сейчас у нас есть только мы. Но и этого немало. И мы – не единственные люди на свете. Джон, мужчина может найти любовь в объятиях женщины, в ее улыбке и ее смехе – даже если он провел с ней не больше часа. Порой не нужно даже касаться ее – достаточно просто увидеть, как она двигается, услышать ее голос, и все трудности мгновенно отступают. Разве тебе не становилось от этого легче?
Я промолчал. Уильям вздохнул.
– Джон, я не знаю, что сказать. Скажу одно: когда мы проживаем отпущенные нам дни, один за другим, и ничего не меняется, нам кажется, что каждый день подобен камешку на тропинке. Он совершенно обыкновенный, в нем нет ничего особенного. Но заслышав колотушку смерти в собственной груди, мы теряемся. Мы понимаем, что вот этот, самый обыкновенный камешек на тропинке – последний из всех, что нам суждено увидеть. И тогда он перестает казаться обыкновенным. Но, честно говоря, нам с тобой повезло. Нам позволили понять, что каждый день – каждое мгновение каждого дня – это дар. Тебе не кажется, что сейчас, когда нам осталось жить всего несколько дней, мир стал прекрасным местом? Разве не чудо вот это дерево, которое каждую весну выпускает новые побеги? А если лесник срубит его, то оно послужит материалом для оград и ворот. Разве не счастлив ты тем, что еще раз можешь ощутить запах влажной земли, дарующей жизнь всему сущему? Разве не радостно тебе видеть пышные девичьи волосы, ниспадающие по плечам юной красотки? Разве не горд ты, когда замечаешь, как серьезно молодой лучник натягивает свой лук? Разве не будит в тебе мужскую гордость вид матери, ухаживающей за своими детьми? В мире столько красоты! Не закрывай же глаза только потому, что ты утратил свою крохотную долю счастья.
– Я счастлив, что у меня есть такой брат, – ответил я. – По делам моим, я должен был бы быть здесь один. Я не забыл, что ты сам выбрал свой путь – вместе со мной.
– В наши времена жизнь была бы невыносима без тебя…
– Но ты хотел остаться…
Уильям отвернулся.
– Для меня все было не так. В круге я услышал совсем не то, что ты.
– Не может быть! Что ты слышал?
– Я не могу сказать тебе. Сейчас не могу. Но я скажу, скажу позже.
Мы вернулись к мосту через Рейбрук, и я высыпал содержимое моей сумы на плоский камень, лежавший рядом с дорогой. В суме были вещи, которые мы забрали у купца и его жены: кошель, книга и четки с серебряным распятием. Кое-что принадлежало мне: пара штанов, грязная старая туника, две грязные рубашки, кожаный фартук каменщика, семь резцов разной величины, точило, старый деревянный молоток, почти новая киянка, две свечи, кремень и мой кошель с малой толикой денег: пять шиллингов, шестипенсовик и три фартинга. Эти деньги мне удалось сберечь за два месяца работы в Солсбери. Я собирался отдать деньги Кэтрин, чтобы нам было на что провести зиму.
Уильям вытряхнул на грязную ладонь содержимое кошеля купца. Монет было около тридцати. Уильям по одной выложил их на камень. Около пятнадцати оказались золотыми, еще два английских четырехпенсовика и три пенни – я их узнал. Остальные были иностранными серебряными монетами. Я взял одну, чтобы рассмотреть. На ней был изображен человек в митре. С одной стороны находился обычный крест, с другой – крест, из которого вырастали лепестки или языки пламени. По ободу шла надпись, но я не мог ее прочесть.
– Что это? – спросил я, протягивая монету Уильяму.
– Это Папа Римский, – ответил он. Взвесив монету на руке, он сказал: – Каждая стоит не меньше шиллинга.
– То есть, если все эти золотые монеты – флорины, а эти стоят по шиллингу каждая… Это больше трех фунтов…
– И мы еще не считали твоих и моих денег… – Уильям потянулся к кошелю на поясе. – Черт! Я вчера выложил деньги в суму. У меня было двадцать семь шиллингов.
– Это неважно. Сколько мы сможем потратить за шесть дней? Я думаю, что деньги Лазаря мы должны пожертвовать церкви.
Снова раздалось карканье ворона – но на этот раз он прокаркал дважды.
Наступила тишина.
Мы переглянулись. Ворон смолк.
– Мне кажется, что за нами наблюдают, – прошептал Уильям, оглядываясь вокруг.
Я заметил, что между деревьями, в стороне от дороги, мелькнула красная туника. Через мгновение я увидел бегущего человека и услышал крики. Я хлопнул Уильяма по плечу и указал в ту сторону.
Мы быстро собрали монеты в кошель, и я спрятал его в свою суму. В лесу раздался крик – мне показалось, что плачет ребенок. Мы сошли с дороги, ведущей к моему дому, и стали подниматься вверх по холму. Дорога была крутой, но огромные, покрытые мхом валуны и толстые стволы деревьев надежно скрывали нас от чужих глаз. Поднявшись повыше, мы увидели хижину под соломенной крышей. Мы укрылись за толстым стволом поваленного дерева, чтобы осмотреться.
– Почему мы идем навстречу опасности? – шепотом спросил Уильям.
– Ты же слышал крик. Кому-то нужна наша помощь…
– Еще одно твое доброе дело?
Я жестом остановил его, и тут мы снова услышали крик ребенка – мальчика.
– Нет! Нет! Не надо!
– Просто свяжите ему руки, – произнес низкий мужской голос.
Я посмотрел на Уильяма.
– Знаешь, что я думаю? Мы можем провести остаток нашей короткой жизни в поисках безопасного убежища, переходя из одного укрытия в другое. Но мы можем делать то, что будет правильно – везде, где бы мы ни оказались.
– Ты – прямо рыцарь короля Артура!
– Нет, я – безработный каменщик и ничего больше… Ты же сам сказал…
Не успел я закончить предложения, как мы услышали девичий крик, который тут же оборвался. Я ползком обогнул дерево, за которым мы прятались, и стал подниматься наверх, прячась за голыми деревьями. Я слышал, что Уильям последовал за мной.
Перед домом виднелась вытоптанная площадка. С одной стороны находился свинарник и небольшой загон для овец. К изгороди были привязаны пять лошадей. От их дыхания в морозном воздухе поднимался пар. Красивый черный жеребец был достоин истинного лорда. Двое крепких мужчин среднего возраста, вооруженных мечами, пытались связать руки темноволосому мальчишке лет одиннадцати. Он отчаянно сопротивлялся. За их борьбой наблюдали двое других – на одном была серая с голубым туника, на другом – кожаный колет и красная накидка. Я разглядел на накидке белую нашивку на груди: герб семейства Фулфордов.
Земли Фулфордов находились за рекой, близ Дансфорда. В наши времена Фулфорды вечно досаждали Мортону. Они ломали изгороди, охотились на чужих оленей и воровали скот – и в этом им помогал наш главный злодей, ректор Мортона, Филипп де Воторт. Остановить их было некому. Лорды соседних поместий жили вдали, а их землями управляли бейлифы, которые собирали все платежи. Фулфорды и де Воторт могли делать все, что им захочется.
Один из мужчин швырнул мальчишку на землю.
– Преподай ему урок, Уолт, – сказал он тем самым низким голосом, что мы уже слышали.
Он напоминал монаха лет сорока, но на его коричневой тунике красовался ливрейный знак: белая нашивка на красном фоне.
Мужчина наступил ногой на грудь мальчика.
Уолт, сморщившись, потащил мальчика на веревке прямо по мерзлой земле сначала в одну сторону, потом в другую. На обратном пути он бросил конец веревки лысому мужчине, тот перекинул ее через толстую ветку и вздернул мальчишку в воздух. Мальчик повис, привязанный за руки. Он извивался, лягался, задыхался.
Светловолосый человек в серо-голубой тунике засмеялся. Он был меньше остальных. На груди его тоже красовался знак Фулфордов.
Человек в красной накидке подобрал камень и швырнул его в мальчика, попав тому прямо в лицо.
– Попал! – воскликнул он.
Дверь дома распахнулась. Оттуда вышел плотный мужчина в богатой черной мантии. Он подошел к висящему мальчишке и толкнул его. Мальчик закрутился в воздухе.
– Твоя сестра меня удовлетворила, – хрипло прорычал мужчина. – Теперь твоя очередь. Где деньги твоего отца?
Мальчик ничего не ответил.
Мужчина сделал шаг вперед и положил руку на плечо стоявшего рядом лысого слуги.
– Теперь твоя очередь, Джон, – сказал он. – Только не попорти ее – мне нравится ее гладкая кожа.
– Фулфорд, – прошептал я.
– Прошло девяносто девять лет, – ответил Уильям, – а это семейство так и продолжает бесчинствовать.
Фулфорд приблизился к мальчику, держа руку на рукояти меча.
– Ты, конечно, считаешь меня тираном и все такое… И ты прав. Я действительно тиран – и действительно все такое… Поэтому скажи, где твой отец прячет деньги, и тогда, когда мы все развлечемся на славу с твоей сестрой, мы опустим тебя на землю и оставим в покое.
Я не смог сдержаться. Возможно, я еще как-то пережил бы жестокость по отношению к мальчику. Может быть, я смог бы смириться и с насилием по отношению к девочке. Но насилие по отношению к двум детям было невыносимо. Я поднялся и подошел к дому. Сердце у меня билось, словно на поле боя. Я даже не подумал спрятать свою суму.
– Оставь его в покое! – крикнул я. – У тебя нет права мучить этих людей.
Фулфорд повернулся ко мне.
– Посмотрите-ка, кто это! Воин Господа? Спаситель детей? Или тот, кому тоже захотелось девичьего тела? Жди своей очереди. Когда мы закончим, тебе тоже что-нибудь перепадет. Даже если ты ночевал в навозной куче…
– Спусти его на землю!
– НЕ приказывай, что мне делать, деревенщина!
– Спусти его на землю – или это будет твой последний день на земле!
– И как ты собираешься убить меня, а? Ты вытащишь свой нож, повалишь меня и зарежешь, как свинью, на глазах моих людей? Или пернешь так, что меня унесет отсюда ветром? Если уж ты угрожаешь мне, то у тебя должна быть подмога. Готовься к драке, мужлан!
– Я готов к драке!
– И чем же ты будешь драться?
– Знанием, дарованным мне дьяволом в Скорхилле. Я знаю, что не умру сегодня!
Фулфорд нахмурился, пытаясь сообразить, смеяться ли над моими словами или остерегаться нечистой силы. И тут внимание его переключилось на кого-то позади меня.
– Он не один, – произнес Уильям, направляясь к привязанным у ограды лошадям. – Сегодня на его стороне сам дьявол, а на моей – Бог.
Он отвязал большого черного жеребца.
– Жизнь полна сюрпризов, – сказал Уильям, хватая поводья и вскакивая в седло. – Если хочешь вернуть лошадку, тебе придется меня догнать.
И с этими словами он поскакал по тропинке.
– Хватайте его! – заорал Фулфорд, и его прислужники бросились к лошадям.
На шум из дома вышел Джон, завязывая штаны.
– Нет, – приказал Фулфорд. – Джон, Том, вы оставайтесь здесь. Роб и Уолт разберутся. – Он повернулся в сторону погони и крикнул: – И притащите его сюда, на коленях.
Теперь он обращался ко мне:
– Ну, если дьявол на твоей стороне, то он встретил достойного противника.
– Сколько должен тебе отец мальчика? – спросил я. – Скажи, и я заплачу.
– Мы ничего ему не должны, – прохрипел мальчик, все еще висевший на дереве.
– Тогда я не стану тебе платить, – сказал я.
Фулфорд вытащил меч и повернулся к мальчику. Голые ноги мальчишки болтались в воздухе, и Фулфорд рубанул по ним изо всей силы. Мальчик закричал от боли. Он кричал, пока были силы, а потом лишь всхлипывал, раскачиваясь в воздухе. Кровь текла прямо в его ботинки и капала на землю.
Фулфорд направил острие меча на меня.
– Ты отдашь мне все, что у тебя есть, – сказал он, стремительно бросаясь ко мне. – Твой друг тебя бросил. Если раньше ты был не один, то теперь все изменилось. Нас трое против одного.
Я отступил, поднимая суму, чтобы отразить удар меча, и огляделся в поисках помощи. Но рядом не было ничего и никого.
В дверях дома показалась темноволосая девочка лет четырнадцати. Она прислонилась к двери, уставившись на нас. Я надеялся, что она сделает что-нибудь, чтобы отвлечь Фулфорда, но она не двигалась. Я смотрел то на нее, то на меч и медленно отступал. Подручные Фулфорда наблюдали за нами: Джон стоял возле мальчика, Том – у лошадей. Похоже, эта сцена их забавляла.
Фулфорд бросился вперед, я уклонился вправо, одновременно оглядываясь вокруг в поисках оружия. У меня был нож, но это слабая защита от меча. Фулфорд нацелился на мою правую руку, я ушел влево. Он повторил выпад со злобной улыбкой. Отступая, я споткнулся и с трудом удержался на ногах. Глаза Фулфорда блеснули. Подобно лисе, которая выслеживает кролика, он чувствовал, что победа – всего лишь вопрос времени.
Следующий его выпад был смертельно опасен. Он нацелился прямо мне в лицо, я инстинктивно поднял суму, чтобы парировать удар, но она была слишком тяжела. Фулфорд мгновенно изменил направление удара и теперь целился прямо мне в живот. Избежать удара мне удалось лишь чудом – я отпрыгнул назад, упал и быстро откатился вправо. Сума выпала у меня из рук, но убить меня Фулфорду не удалось. Я услышал глухой звук, словно камнем ударили о камень. Фулфорд резко обернулся. Том в красной накидке повалился на землю. Уильям вернулся. Я видел, как он отбрасывает камень, которым только что раскроил Тому череп, и выхватывает у того меч. Фулфорд и Джон бросились к нему, но Уильям оказался быстрее. Теперь уже Фулфорду пришлось следить за острием нацеленного на него меча. Джон предусмотрительно отступил. Уильям двинулся ко мне.
Всадники, преследовавшие Уильяма, вернулись с лошадью своего лорда. Они молча спешились, не ожидая увидеть ничего подобного. Лошадей они привязали к дереву, где висел истекавший кровью мальчик.
Фулфорд и его люди стояли прямо напротив нас. Теперь они все обнажили мечи.
– Том! – крикнул Фулфорд. Но упавший слуга не шевелился. – Посмотрите, он убит?
Джон склонился над телом и приложил ухо к его рту.
– Он жив.
– Убирайся, Фулфорд, и забирай своего человека, – крикнул Уильям. – Я отпущу вас. Но если вы останетесь, пощады не ждите. – Мне он прошептал: – Готовься бежать. Беги наверх, в лес. Я встречу тебя у скал Хингстон.
Фулфорд перевел взгляд на девочку, все еще стоявшую в дверях. Мальчишка все еще болтался на дереве, Том не подавал признаков жизни.
– Ты думаешь, что герой? – прокричал он. – Посмотрим, что ты за герой. – Он указал на Уильяма. – Даю пять фунтов тому, кто принесет мне его голову. Двадцать шиллингов за его спутника-доходягу. И суму его мне тоже принесите.
Мы с Уильямом не стали дожидаться нападения. Мы повернулись и бросились бежать через лес.
Мерзлая земля была твердой, но ноги тонули в ворохах осенней листвы. Я искал корни, чтобы опереться на крутом склоне, пригибался и цеплялся за низкие ветки. Мысль о том, что судьба гарантировала нам шесть дней жизни, казалась мне безумно глупой.
– Беги туда, направо, – крикнул Уильям и свернул налево.
Я бросился направо. Оглянувшись через плечо, я заметил, что подручный Фулфорда в серо-голубой тунике бежит за мной. Но я всегда был хорошим бегуном и в свое время мог обогнать любого. Даже сума не была мне помехой. Я досконально знал этот край, несмотря на прошедшие годы. Преследователь отстал. И очень скоро я уже бежал по лесу на юг в полном одиночестве, подальше от Хингстона.
Я свернул, спустился на дорогу и стал карабкаться на противоположный холм. Здесь я перевел дух и побрел между деревьями на север. Примерно через полчаса я увидел на дороге Фулфорда с его людьми. Том, похоже, пришел в себя, потому что всадников было пятеро. Но они забрали девочку – она сидела на лошади позади Джона. Я спустился и последовал за ними на безопасном расстоянии, чтобы убедиться, что они возвращаются в Фулфорд.
Когда я добрался до скал Хингстона, Уильям ждал меня, сидя на камне. Судя по всему, он не пострадал.
– Ты от него убежал? – спросил он.
– Да.
– Мне пришлось остановиться и сразиться с ними. Лысого я обезоружил, и тот сбежал вместе со своим безобразным дружком. Клянусь, они никогда не сражались. У меня есть подарок для тебя.
Он протянул мне меч Джона. Я заметил на лезвии несколько царапин.
– И это подарок? А где ножны? Только не говори, что ты забыл ножны!
Уильям усмехнулся.
– Поищу на болотах. Пустошь всегда казалась мне местом скучным. Но ты называл ее «Божьим творением в его чистом виде». Мне это понравилось. Хотя надо сказать, что за эти годы она слегка изменилась. Всего девяносто девять лет прошло, а вокруг появилось столько стен и изгородей.
– Пустошь осталась прежней…
– Но она изменилась. Мы смотрим на нее глазами двух умирающих.
– Мы еще не на кладбище.
– Да, пока нет… Я просто так…
Я посмотрел вниз, на церковь. Никто из живущих не знает, где похоронены моя жена и дети. Если Кэтрин снова вышла замуж, она, наверное, лежит со своим вторым мужем. Но я знал, что они должны быть где-то там.
– Я хочу спуститься туда, – сказал я.
– Ты упрямец, – усмехнулся Уильям. – Жизнь тебя ничему не научила. Миру нет дела до твоих добрых деяний. Пока я тебя ждал, я думал о том доме, где мы только что побывали. Девочка… Она не хотела, чтобы мы ей помогали. Я видел слезы на ее лице, когда она стояла в дверях. Да, они ее изнасиловали, но она ничего не сказала и не сделала. Она не попыталась бежать. Словно все это уже случалось прежде и случится снова. И лучше всего просто принять все происходящее. А потом мы вмешались, напали на Фулфорда и его людей. И крестьянские дети за это расплатились.
– Они забрали ее с собой. Я видел их на дороге.
– А когда их отец вернется домой… Господи Иисусе…
Я вздохнул.
– Я хочу пожертвовать книгу Лазаря церкви. Ты идешь со мной?
Уильям поднялся.
– Конечно. Хотя бы для того, чтобы выяснить, что в это время не так.
* * *
Через час мы уже шагали по монастырскому полю к церкви. И тут сзади нас кто-то окликнул.
– Вы двое выглядите так, словно вас волочили по скотному двору. Что, ради всего святого, привело вас в наш город?
Оглянувшись, мы увидели высокого, худого человека. На нем была широкая черная ряса и белый стихарь с черным капюшоном, лежавшим на плечах. Ряса была подпоясана веревкой. Мужчина был одет точно так же, как в наши дни одевался Филипп де Воторт. На голове его мы заметили тонзуру, как у священника. Но его поведение показалось мне странным. Голос этого человека был властным и решительным, но я не чувствовал в нем угрозы. Карие глаза на худом лице пристально смотрели на нас.
– Отец, мы с братом родились в этом приходе, – ответил Уильям, – но много лет странствовали. За это время город изменился до неузнаваемости. Когда мы уходили, у церкви не было колокольни. Те дома, что мы помним, ныне лежат в руинах. На площади стояли прилавки. Люди одевались по-другому…
– Похоже, вы странствовали всю жизнь. Колокольню построили тридцать лет назад, в шестой год царствования благословеннейшего короля, Генриха Пятого. Но вы не ответили на мой вопрос. Вы нищие?
– Нет, отец, – произнес я. – Мы вернулись, чтобы сделать пожертвование церкви, где были крещены. – Я открыл суму, порылся в ней и нащупал книгу. – Я желал бы подарить эту священную книгу церкви.
Священник с почтением взял книгу, раскрыл ее и просмотрел несколько листов. Среди мелких черных букв я заметил блеск золота. И красные буквы.
– Кто дал вам эту книгу? – спросил священник.
– Несчастное дитя. Его отец был из Эксетера.
Священник внимательно посмотрел на нас.
– Какие вы странные люди… Мне казалось, что я преследую пару бродячих мошенников, а вы вручили мне часослов. Позвольте мне показать эту книгу нашему ректору, канонику-прецентору Уолтеру Коллису. Он сегодня приезжает из Эксетера. Идемте же.
Не дожидаясь ответа, священник повернулся и пошел назад, к церкви. Черные полы рясы развевались на ветру. Мы с Уильямом последовали за ним.
В церкви я огляделся. Ближняя ее часть осталась почти такой же, как и в наше время – крашеные стены и сводчатый потолок нефа. Но в северной части появился еще один проход. Большие окна закрывали яркие, цветные стекла – все это было совсем не похоже на узкие стрельчатые окна старой церкви, закрытые простым зеленоватым стеклом.
В восточном конце нового прохода появился новый резной алебастровый алтарь с изображением святой Маргариты-пастушки. Близ алтаря, где погребали ректоров, находился единственный саркофаг.
– Здесь погребен добрый отец Филипп де Воторт.
Я обернулся. Ко мне обращался старый священник в красной рясе и белом стихаре, круглолицый, краснощекий, с толстой, словно у быка, шеей. Седые волосы его были очень коротко подстрижены, а из-за тонзуры он казался совершенно лысым. Рядом с ним стоял невысокий, толстый священник в черной рясе.
– Де Воторт пятьдесят три года служил ректором этой церкви, – сказал священник в красном. – А теперь он покоится здесь еще дольше, следя за паствой этого бедного прихода после смерти так же, как делал это при жизни. Благословен будь!
Священник умолк, пристально глядя на меня голубыми глазами. Меня поразили его манеры – вести себя так мог бы королевский судья. Священник, прищурившись, смотрел на нас с Уильямом, потом вытащил из кармана небольшую деревянную рамку со стеклышками, подобными двум круглым окошкам, и водрузил ее на свой нос. Рассмотрев нас как следует, он снял эту загадочную рамку и убрал ее.
– Назовите мне ваши имена.
– Меня зовут Жан де Рейман, – говоря с человеком столь высокого положения, я решил назваться по-французски. – А это мой брат, которого прозвали Жюльен Бер.
– У вас разные фамилии, – удивленно сказал священник в красном, – но ведь вы братья? У вас были разные отцы?
Он перевел взгляд с меня на Уильяма, словно ожидая объяснений. Но ведь было совершенно ясно, что разные фамилии не имеют ничего общего с нашим отцом, и все дело в Уильямовой бороде! Тем не менее я терпеливо ответил:
– Его прозвали Бером из-за его бороды (beard – борода). Меня же прозвали по месту, где я жил. Теперь, когда ты знаешь наши имена, назови нам свое.
– Я – каноник Уолтер Коллис, прецентор эксетерского собора и слуга графа Девонского. Последние девять лет я был ректором этой церкви. А этот человек, – он указал на высокого священника, – мастер Ричард Лей, местный викарий, окормляющий местных жителей. Это же – Стивен Парлебен, служитель часовни святой Маргариты.
Услышав фамилию Парлебен и всмотревшись в лицо священника, я заметил его явное сходство с теми Парлебенами, которых знал в прежней жизни.
Мастер Лей протянул канонику книгу, и отец Коллис с почтением принял ее.
– Очень необычный том, – сказал он. – Где вы ее нашли?
– Я не находил ее, отец. Ее вручил мне мальчик по имени Лазарь. Он умер и оставил книгу мне.
– На ней герб семейства Кью из Эксетера. Полагаю, ты знаком с олдерменом Саймоном Кью?
– Нет, отец, я…
– А тот мальчик, Лазарь, он знал олдермена Кью?
Я покачал головой.
– Я же сказал, отец, он умер.
– Этот Лазарь умел читать?
– Нет, отец.
– А ты?
– Нет, отец. Но клянусь, эта книга не украдена!
Священник помолчал, рассматривая меня.
– Что ж, я рад. Я возьму эту книгу с собой в Эксетер и спрошу у олдермена Кью, не пропадал ли у его духовника часослов. Если все будет в порядке, я с радостью приму твое пожертвование. Если же нет, я верну его законному владельцу.
Его слова еще не отзвучали, когда заговорил Уильям.
– Отец Коллис, мы странники, а не воры. Мой брат прибыл сюда, чтобы творить добрые дела. Поэтому-то мы и вернулись в родной приход. Прискорбно видеть, что эта церковь, хотя и получила красивую новую колокольню, но все еще мала и темна – особенно в этом нефе. Думаю, мой брат собирался пожертвовать церкви не только книгу, но и немного денег.
Каноник-прецентор переглянулся с другими священниками и повернулся ко мне:
– Что ж, ты удачно выбрал время. Я приехал сюда, чтобы обсудить, как собрать средства на перестройку нашей церкви. Вы и сами заметили, что церковь не подобает даже столь отдаленному и небогатому приходу, как наш. Скажите, сколько вы хотите пожертвовать?
– Я надеялся, что вы примете пожертвование в сорок шиллингов, отец, – ответил я.
– Щедрая сумма для человека, который похож на нищего, вымаливающего крохи на хлеб, – заметил отец Парлебен.
Я стойко выдержал его взгляд, повернулся к своей суме, наклонился и достал кошель Отсчитав десяток золотых монет, я протянул их высокому священнику, мастеру Ричарду Лею. Уильям уныло наблюдал за тем, как золото утекает из наших рук.
– Мы не отказались бы от доброго обеда, достопочтенные отцы. Мы много дней провели в дороге.
– Но откуда у вас эти монеты? – воскликнул мастер Лей.
– В странствиях мы всегда держим при себе золото, – пояснил Уильям. – И нам не приходится возить с собой много серебряных пенни.
– Почему же вы не берете английские золотые монеты? – спросил отец Парлебен. – Нобли и полнобли. Английские монеты для вас недостаточно хороши?
Уильям развел руками.
– Добрые сэры, простите нас. Подумайте, разве могли бы мы испытать презрение к добрым английским монетам? Я продал свою шерсть итальянскому торговцу в порту Саутгемптона, и он заплатил мне флоринами.
– Значит, он переплатил тебе, – сухо произнес каноник. – Это старинные венецианские дукаты.
Неловкое молчание нарушил мастер Лей.
– Позвольте сказать, достопочтенный отец. В моем доме еды хватит на всех, и вино тоже есть. Я готовил праздничный обед в честь вашего визита. Давайте же вместе отправимся за мой стол, и эти люди расскажут нам о своих странствиях.
В доме мастера Лея слуга принял мою суму и наши мечи. Мы вошли в просторный зал с белыми каменными стенами. Длинную крышу поддерживали деревянные балки, причем нижние были покрыты резьбой. В центре зала в очаге пылал огонь. Ставни были открыты, воздух свободно проникал в помещение, направляя дым в разные стороны. Пол был засыпан таволгой, и ее сладкий запах перебивал запах дыма. Нас ждал чернобородый мужчина в длинной темно-синей мантии. Мастер Лей представил нам его: Питер Вейси, мэр города. Вейси вежливо приветствовал нас, но наш неприглядный вид явно не внушил ему доверия.
Снова вошел слуга с мальчиком. Они несли большой кувшин и таз. На левой руке у каждого висело полотенце. Каноник омыл руки в теплой воде. За ним то же самое проделал наш хозяин, отец Парлебен, мэр и мы. Нас пригласили к столу. Я сел спиной к окну и увидел на скатерти свою тень. Уильям сидел напротив меня. Он с жадностью смотрел на плотный темный хлеб, лежавший на доске прямо перед ним. Мастер Лей сел справа от меня, каноник рядом с ним. Дальше сидел мэр. Отец Парлебен сел рядом с Уильямом. Каноник прочел молитву, мы вторили ему. Затем все взяли салфетки и принялись за еду.
Разговоры, естественно, шли между двумя собеседниками. Со мной беседовал мастер Лей. Хотя говорил он довольно резко и мог показаться чрезвычайно строгим человеком, характер у него оказался очень приятным. Он обладал едким чувством юмора, ему явно нравилось свое вино. Первый напиток он назвал «рейнским», а второй – «гасконским». Слуги подали первое блюдо, подобающее времени: поскольку был рождественский пост, нам подали соленую рыбу, тушенную с травами, и запеченную щуку в соусе галантин.
Мастер Лей нравился мне все больше. Он говорил и ел, а когда умолкал, чтобы подумать, поднимал глаза к клубам дыма под крышей, словно пытаясь собраться с мыслями. А потом он резко поворачивался ко мне, улыбался и продолжал разговор. Я понял, что он многим обязан канонику – тот был его двоюродным братом и его хозяином, но почувствовал, что все это ему не очень нравится. Сколько бы он ни трудился, от каноника он не получил бы ни на пенни больше положенного жалованья. Приходская десятина уходила канонику. Мастеру Лею приходилось даже платить за жилье, поскольку каноник не позволил ему жить в доме ректора. Все это мастер Лей рассказал мне шепотом, чтобы не услышал каноник – тот очень серьезно обсуждал что-то с мэром.
Мэр спросил у каноника, в какой раз он приезжает в Мортон с того времени, как стал ректором.
– В пятый, – ответил каноник.
Я был поражен тем, что священнослужитель так мало делает для своей паствы. Филипп де Воторт хотя бы жил рядом с нами.
– Но я три года служил констеблем прихода в Бордо, – добавил священник, кинув взгляд на нас с Уильямом.
Я повернулся к мастеру Лею, чтобы расспросить его о том, что произошло в Мортоне в последние годы.
– О, несомненно, самым важным событием последнего времени стало создание комиссии с целью призвать к ответу Болдуина Фулфорда. Ты, конечно же, помнишь Фулфорда?
– Да уж…
– Он по-прежнему не дает покоя местным жителям, но теперь у него уже нет такой власти, как прежде. Банда его, «Спутники Сатаны», покинула его. А вот несколько лет назад здесь творилось полное беззаконие. Если кто-то осмеливался сказать хоть слово, эти разбойники приходили к нему, пили его эль, ели его хлеб и мясо и насиловали его жену или дочь прямо на его глазах.
– И никто не пытался ему помешать?
– А кто мог бы? Если бы констебль осмелился, он стал бы следующей жертвой. Честно говоря, люди здесь делятся на тех, кто служит Болдуину Фулфорду, и тех, кто держит язык за зубами.
– А граф Девонский?
Мастер Лей понизил голос:
– Болдуин Фулфорд – лучший друг графа. Поэтому-то он тут так и бесчинствует. Но, я уверен, ты уже слышал об этом. Дело дошло до Суда королевской скамьи.
– Я ничего об этом не знаю.
– Все началось с Маргарет Гейбис. Может быть, ты ее помнишь? Славная молодая женщина. Она была замужем за отличным, работящим парнем, Томасом Гейбисом. Разбойник Фулфорда, Джон Сторридж, решил попытать удачи с юной Маргарет. Он дождался, когда Томас Гейбис ушел из дома, и вломился к ней. Маргарет была одна, и он взял ее силой. Маргарет была слишком юна и покорна. Она не рассказала мужу об этом, чтобы тот не попытался отомстить Сторриджу. Ведь Болдуин Фулфорд и его головорезы попросту убили бы Томаса. И она ничего не сказала. Джон Сторридж решил, что может безнаказанно насиловать ее и дальше. Но со временем Гейбис все узнал. Он пришел в такую ярость оттого, что узнал все последним, что ни слезы, ни мольбы Маргарет на него не подействовали. Он жаждал мести. К несчастью, Господь от него отвернулся. В драке соблазнитель раскроил Гейбису голову железным горшком… – Мастер Лей покачал головой. – И с этого времени в жизни юной Маргарет начался настоящий ад.
Слуги поставили перед нами три больших серебряных блюда с рыбой. На одном лежал запеченный лосось, на другом – жареные миноги, а на третьем – огромная белорыбица. Слуги поставили на стол три миски с горячими соусами. Горчичный я узнал сразу, а два других мне были незнакомы. Мастер Лей сделал знак одному из слуг:
– Филипп, не мог бы ты разрезать рыбу?.. На чем я остановился?
– Джон Сторридж убил Гейбиса, ударив его железным горшком по голове…
– А, да… Бедная Маргарет оказалась в бедственном положении. Она решила, что лучше всего ей будет выйти замуж за человека, живущего подальше отсюда, и покинуть Мортон. И она отправилась в Эшбертон…
– Как ей это удалось? Разве бейлиф не поручил мэру найти ей нового мужа?
– Нет, это больше не прниято. Маргарет решила выйти замуж за вполне состоятельного человека по имени Уильям Долбер. Объявления о браке три воскресенья подряд читали в приходских церквах Мортона и Эшбертона, как велит обычай. Но когда Джон Сторридж, случайно оказавшись в церкви Мортона, услышал это, он пришел в ярость. Он отправился к Болдуину Фулфорду и попросил, чтобы тот помог ему отменить этот брак. Фулфорд узнал, что свадьба назначена на Страстную неделю. И тогда он объявил: «Мы устроим ей Страстную пятницу!» За день до свадьбы Маргарет вместе с матерью и подругами отправилась за тринадцать миль отсюда, в Эшбертон. Они остановились на постоялом дворе. А когда стемнело, в город ворвалась банда Фулфорда с факелами. Он узнал, где находится невеста, и разбойники бросились на постоялый двор. Маргарет уже была в постели. Мне говорили, что Фулфорд первым насиловал ее, заявив, что это не грех, поскольку она еще не вступила в брак. А после него ею воспользовались все его люди. Фулфорд послал одного из них собрать мужчин города – восемьдесят человек, – чтобы и они бесчестным и постыдным образом овладели этой женщиной. Но никто из добрых горожан Эшбертона не согласился на это злое дело. Они сказали, что не посягнут на обрученную невесту, поскольку Долбер – человек достойный и богатый. Отказ их взбесил Фулфорда, и тот отправился прямо к Долберу. Он ворвался в дом и избил Долбера до полусмерти, а потом разграбил дом и сжег его дотла. А Маргарет увез с собой. Но это была огромная ошибка. Сэр Уильям Бонвиль ненавидел графа Девонского. Он убедил короля создать комиссию по расследованию насилия над Маргарет и ее похищения. В наши дни добиться справедливости можно только так – если стравить друг с другом могущественных лордов.
– Боюсь, что у девушки, которую он похитил сегодня, таких друзей нет, – сказал я.
– Он все еще продолжает свои злые деяния?
– Мы видели его возле домика в лесу, в западной части долины Рей, чуть выше развалин Реймента. Сегодня утром, верно, Уильям?
– Да, – кивнул Уильям, набивая рот рыбой. – Ее отец отправился в церковь, а разбойники напали на дом. Это отвратительное преступление.
– Это дом пастуха Марка, – сказал мэр.
– Они похитили его дочь, Алису?
– А мальчика они подвесили за руки на дереве, – сказал я. – Они насиловали девушку в ее собственном доме, пока мы их не спугнули. Но они оказались сильнее нас, поэтому мы не смогли помешать похищению.
– Он не должен был оставлять их одних, – сказал отец Парлебен. – Это вина отца.
– Конечно, – кивнул каноник. – Но не по неведению. Почему богобоязненный крестьянин оставляет дочь в доме без присмотра и не берет ее в церковь? Чтобы такой человек, как Фулфорд, мог надругаться над ней. А поскольку сам отец был у мессы, то он сможет утверждать, что ни в чем не виноват. Крестьяне часто именно так и платят свои долги.
Уильям слизнул соус с пальцев.
– Мужчина никогда не может быть абсолютно уверен в том, что сделал все, чтобы защитить своих дочерей, верно, отче? Тебе повезло, Джон, что у тебя только сыновья.
– Да. Очень повезло.
– Проблема в самих девушках, – продолжал Уильям. – Некоторые не хотят оставаться в той безопасности, какую могут обеспечить им отцы. Когда мы с Джоном вместе с армией короля высадились во Франции…
– Уильям, не стоит… – начал я, но мастер Лей перебил меня.
– Вы участвовали во французских войнах? – спросил он. – Вы были при Азенкуре?
– Где? – недоумевающе переспросил Уильям.
Мастер Лей с удивлением посмотрел на него.
– Ты шутишь, верно?
– Нет, – покачал головой Уильям. – Я не шучу. Я говорю о женщинах. Конечно, я не имею в виду их мужей…
– Кузен Уолтер, – сказал мастер Лей, – этот человек никогда не слышал об Азенкуре. Можно ли в это поверить? Разве есть в Англии хоть один человек, который не слышал о самой знаменитой битве короля Генриха?
– Мы победили? – спросил Уильям, накалывая на нож сочную миногу, обмакивая ее в сладкий соус и поднося ко рту.
– Это попахивает изменой, – пробормотал отец Парлебен, обращаясь к мэру.
Уильям посмотрел на меня и пожал плечами.
– По их виду я сказал бы, что они бродяги, – ответил мэр.
– Уверен, что кольцо на его пальце краденое, – добавил отец Парлебен.
Каноник сурово смотрел на нас с Уильямом.
– Юнцов я обвинил бы в падении нравов. Но вы не молоды. Вы должны были бы знать. Господь был милостив к нашему доброму королю Генриху. Он был милостив ко всей Англии. То, что вы уже забыли об этом, достойно порицания.
– Достопочтенный каноник, – начал Уильям, дожевывая рыбу, – мы с моим братом Джоном сражались во Франции. Вы могли быть констеблем Бордо, но что вы делали там? Получали письменные приказы от короля и отдавали поручения. Повторяю: мы с Джоном сражались. Мы пускали стрелы людям прямо в лицо. Мы кололи вражеских солдат в грудь и чувствовали, как их кости ломаются под нашими пиками. Нас рубили мечами и наносили нам удары булавами. Когда битва кончалась, мы бродили среди умирающих и перерезали им горло, собирая их латы, чтобы их подсчитали королевские герольды. Вы когда-нибудь перерезали людям горло? Оно такое мягкое и нежное, но перерезать его трудно – ты знаешь, что забираешь жизнь и делаешь детей сиротами. Но стоит перерезать десятое и почувствовать теплую кровь на руках, тебя охватывает странное безразличие. И люди превращаются для тебя в простое мясо. После двадцати перерезать горло так же легко, как подоить корову. А после тридцатого это начинает доставлять удовольствие. А потом останавливаешься и понимаешь, что ты наделал. И ты смотришь на последний труп – и мертвые начинают говорить с тобой в этой ужасной тишине. Их молчание молотом стучит в висках твоей совести. И совесть начинает обвинять тебя… И чтобы сохранить рассудок, ты перерезаешь горло и совести тоже. И тогда ты уже становишься не человеком, а понять тебя могут только те, кто тоже отказался от себя. Мы выдержали бесконечный холод осады, мы стояли под стенами Кале, когда французы раздумывали, атаковать нас или нет…
На этих словах каноник резко ударил кулаком по столу, сбросив на пол льняную салфетку.
– Ты лжец и вор! Я читал хроники. Осада Кале происходила ровно сто лет назад, в год одна тысяча триста сорок седьмой от Рождества Христова. И ты хочешь, чтобы я поверил, что вы были там? Это чудовищно!
Уильям утер рот салфеткой.
– Осада, если я правильно помню, происходила на двадцатом и двадцать первом году правления нашего превосходнейшего короля Эдуарда, третьего этого имени со времен Завоевания. Другого летоисчисления я не знаю.
– Но это год Господа нашего, – сказал отец Парлебен. – Годы, прошедшие со времени рождения Иисуса Христа.
– Ты, полагаю, слышал о Спасителе? – добавил каноник. – Или во время твоих странствий ты поддался безбожным магометанам? Где же вы странствовали, что не знаете ничего о своих честных английских братьях?
Я попытался снять напряжение.
– Если мы скажем, вы нам не поверите. Мы видели собакоглавцев на берегах Индии. И большеногов в великой пустыне юга. Мы делили хлеб с язычниками Литвы и китайскими сересами…
Мастер Лей наклонился ко мне и прошептал:
– Думаю, тебе нужно узнать, что литовцы несколько лет назад приняли христианство. Наш добрый король, блаженной памяти Генрих Четвертый, дед нашего короля, сыграл важную роль в распространении христианства…
– Откуда вы знаете, когда родился Христос? – спросил Уильям.
– Достаточно притворства и невежества! – вскричал каноник.
Уильям наклонился вперед и подцепил еще одну миногу. Он наставил свой нож на меня, соус с рыбы капал прямо на скатерть.
– Какой же сейчас год нашего Господа? – спросил он.
– Одна тысяча четыреста сорок седьмой, – ответил отец Лей.
Уильям отхлебнул вина.
– Но откуда вам знать? Вас же не было на свете, когда Он умер, не говоря уже о том, когда Он родился? И многие ли из нас точно знают, когда они родились?
Каноник посмотрел на меня.
– Скажи мне, Джон, если ты не такой глупец, как твой брат, были ли вы в армии герцога Хамфри Глостера?
– Кто такой герцог Хамфри? – спросил Уильям.
Я понял, что он слишком много выпил.
– Брат, ты перебрал…
Уильям поднял нож, наклонился вперед и подцепил миногу. Он отправил рыбу в рот, прожевал, проглотил и заговорил снова.
– Вы когда-нибудь видели chevauchée (шевоше – разорительные рейды по вражеской территории)?
– Мне отлично известно, что такое chevauchée, – ответил каноник.
– Я не об этом спрашиваю, – оборвал его Уильям. – Я спрашиваю, вы когда-нибудь видели это? Вы видели, как пятнадцать тысяч человек маршем прочесывают территорию на восемь-десять миль от авангарда? Мы поджигали каждый дом на своем пути. Каждый амбар, сеновал, птичник и свинарник. Мы убивали всех животных. Люди в ужасе бежали от нас. Если кто-то оставался, то мы убивали всех мужчин и мальчиков старше четырнадцати, а всех женщин и девочек старше двенадцати отдавали солдатам для их удовольствия – даже безобразных старух! И насиловали их не один-два солдата, а десятки. Мы рвали их, как собаки рвут мясо. Остались только церкви. И знаете почему?
– Потому что это священный дом Господа, – ответил мэр.
Уильям покачал головой.
– Потому что с высоких колоколен командиры могли видеть пылающую землю на мили вокруг.
Все замерли. Молчание придавило нас свинцовым грузом.
– Вот такой была война во Франции, великий констебль Бордо.
В глазах каноника блеснула холодная ярость.
– При Азенкуре все было по-другому, – сказал он. – Король Генрих – божественный монарх.
– Откуда тебе знать? Ты был там?
– Нет. Но я читал Gesta Henrici Quinti.
– Судя по латинскому названию, эту книгу написал писец. А если я правильно припоминаю, писцы не участвуют в сражениях. Мужья и работники, пекари и кузнецы, торговцы шерстью и каменщики – такие, как мы, – сражались вместе с рыцарями, королями и дворянами, – Уильям пристально смотрел на каноника. – Если ты гордишься битвой, то должен признать ее суть. А суть любой битвы – сражение. Король Эдуард – величайший воин нашего королевства – устроил множество chevauchée, чтобы заставить армию французского короля атаковать нас. Послать против нас тысячи рыцарей, графов и баннеретов (рыцарей-знаменосцев) на своих боевых конях. Король хотел, чтобы в последний момент, когда все французские рыцари окажутся в двух сотнях футов перед нами, мы перестреляли их. Из своих луков.
Уильям переводил взгляд с одного на другого. Он поднял указательный палец и очень медленно произнес:
– Вы представляете, каково это – стоять и смотреть, как величайшая армия христианского мира надвигается на нас под развевающимися знаменами, ощетинившись острыми копьями? Земля дрожала под копытами двадцати тысяч боевых коней так сильно, что трудно было стоять. Рев стоял оглушающий. А потом ты видел, что острая сталь нацелена тебе в горло. Пробить доспехи и забрала стрелой можно было только со ста ярдов. На таком расстоянии можно было выпустить лишь две стрелы. И обе должны были поразить цель – иначе можно было считать себя мертвецом. Нам было страшно при Креси, но французским рыцарям было куда хуже. Они почти ничего не видели через узкие щели своих забрал. Некоторые добрались до наших рядов – мы видели их воздетые руки… И все это время постоянно раздавались залпы пушек, рибальд и других орудий, gonnes (пищалей)… Взрывы глушили нас, и даже наши собственные лошади пятились в панике и сокрушали лучников. Вот на такой войне были мы с Джоном. Мы не перебирали листы пергамента с буквами и цифрами. Не получали и не передавали приказов. И не говорите, что мы должны стыдиться того, что не знаем названия битвы, которую вел другой король. Война – это священный, славный ужас, когда напуганные люди несут смерть и трагедии другим напуганным мужчинам и женщинам. И я повторяю: суть битвы – сражение и страдание сражения, а не пустая похвальба священников, не державших в руках оружия.
Наступила тишина.
Мастер Лей откашлялся.
– Что ж, все это было очень интересно. По здравом размышлении, полагаю, что я немного поспешил пригласить вас двоих на наш праздничный обед. Такие слова – это верх неприличия…
– Успокойся, мастер Лей, – прервал его каноник. – Эти люди уходят.
– Отец Коллис, я хотел лишь сказать, что верх неприличия требовать чего-то от гостя…
– Или ты выгонишь их, или я пошлю за констеблем, – рявкнул каноник.
Но мастер Лей не замолчал и заговорил еще громче.
– Однако, из уважения к нашему ректору, моему щедрому и великодушному нанимателю, и из величайшего уважения, какое мы все испытываем к его месту в этом мире, я должен потребовать от вас двоих правды – несмотря на то, что вы были моими гостями. Откуда вы пришли и где побывали? Отвечайте правду!
– Ты действительно хочешь знать? – спросил я.
– Очень хочу, – ответил мастер Лей.
– Мастер Лей, – вмешался каноник, – я хочу увидеть этих воров болтающимися на виселице!
Я повернулся к мастеру Лею и заговорил, обращаясь к нему одному, хотя меня слышали все. Я рассказал ему об ужасной чуме, косившей людей в наши времена, о том, как мы нашли двух мертвецов на дороге, а рядом с ними плачущего младенца. Рассказал о своей попытке спасти дитя. Я рассказал о голосе, который говорил со мной на крыше собора той ночью, о том, что мне отпущено лишь шесть дней, чтобы спасти свою душу. Я сказал, что в тот момент ничего не понял, что мы с Уильямом направились домой, не ведая о своей болезни, но, поняв, что мы заражены чумой, мы стали молиться. Я не стал говорить про Скорхилл, рассказал лишь, что нам ответил ангел, который сказал, что мы сможем прожить по одному дню из шести оставшихся в каждом веке.
– Ответ на твой вопрос, откуда мы пришли, прост. Мы родились в этом приходе. Но, хотя это наш дом, мы не чувствуем себя дома. Дом – это не место, но время.
Мастер Лей переводил взгляд с меня на Уильяма. Он был мрачен. Мэр опустил глаза в пол. Каноник смотрел в сторону, не обращая на меня никакого внимания, словно я был одним из «спутников Сатаны». Отец Парлебен был суров.
– Ты закончил свои басни? – спросил он. – Я сам позову констебля.
Но мастер Лей ему не позволил.
– Нет, отец Парлебен. Я этого не позволю и не допущу. Это истинное чудо!
– Ха! Чудо! – хмыкнул каноник. – Деревенские суеверия!
– Ты вправе сомневаться, кузен Уолтер, – спокойно ответил ему мастер Лей. – Но в мире множество чудес, которые неподвластны нашему разуму. Мы читаем о них в Библии и на страницах трудов самых просвещенных людей мира. Ты же образованный человек, ты читал труды Роджера Бэкона… Он пишет о машинах с крыльями, которые будут бить по воздуху, и человек сможет летать на них, как птица. Он пишет о доспехах, которые позволят человеку путешествовать по дну морскому, не боясь утонуть, о мостах через великие ущелья, не имеющих никаких опор… Если, как пишет брат Бэкон, такое возможно, то почему бы людям не путешествовать во времени? Брат Бэкон пишет также о колесницах, которые смогут двигаться с невероятнейшей скоростью без помощи животных, об огромных кораблях, которые за несколько дней смогут пересекать моря, а управлять ими будет один человек. Можно сказать, что все это выдумки старого монаха, слишком увлекшегося предсказанием будущего, но ведь именно этот монах придумал ранее невиданные вещи, как, например, твои очки, без которых ты многого не смог бы различить.
Каноник повернулся к Уильяму.
– Если ты был здесь во времена Великой чумы, то скажи нам, как звали тогдашнего ректора?
Уильям жевал печеное яблоко, соус тек по его пальцам.
– Это была вонючая свинья по имени Филипп де Воторт. Он был жирным, говорил по-французски, и мы все его ненавидели. Надеюсь, сейчас он жарится на самой горячей сковородке преисподней.
Каноник щелкнул пальцами и сделал знак одному из слуг Лея.
– Зовите констебля. Этих двух чумных бродяг нужно забрать отсюда и доставить в тюрьму в Эксетере.
– Чумных? – переспросил я. Мне и в голову не приходило, что в это далекое время чума все еще убивает людей.
– Мы все еще бредем долиной смертной тени, – ответил мастер Лей.
– Не утешай их, – рявкнул каноник.
– Каждые семь-восемь лет чума возвращается. И мы все еще воюем во Франции. И все еще страдаем от нападений разбойников. С того времени, которое вы зовете своим, мало что изменилось.
– Нет, отец Лей! Как вы можете так говорить? Все изменилось! – воскликнул я, глядя прямо на него. – Кто управлял городом в наши дни? Я скажу вам: Джон Парлебен, Реджинальд Вейси, Уильям Кена, Уильям Карнсли, Уильям Корвисет, Джон Уайт, Уильям Тозер и Уорен Бейлиф. Где они сейчас? Умерли, конечно. Ты не знаешь, как они выглядели, как одевались – и это несмотря на то, что вон те два человека носят их имена.
– Это недоказуемо, – заявил каноник, отбросил салфетку и вскочил на ноги.
– Кто может вспомнить нежность прабабки? Или страхи прапрадеда? Но вы не должны считать, что ваше неведение о прошлом означает, что ничего не изменилось. Уверен, что каноник гордится собором в Эксетере, но сомневаюсь, что он знает имя хоть одного каменщика, построившего его. Я назову вам много имен, и одно из них – Джон из Реймента.
Мэр и отец Парлебен тоже поднялись, Коллис пересек комнату и обратился к отцу Лею, держась от него подальше.
– Мастер Лей, я нахожу твои попытки оправдать этих двух людей скучными и оскорбительными. Если я тебе понадоблюсь, я буду в ректорском доме.
Он сам открыл дверь, не дожидаясь, когда это сделает слуга, и вышел из дома. Отец Парлебен последовал за ним.
Питер Вейси немного задержался.
– Я благодарю тебя за обед, мастер Лей. Это было прекрасно. Мне жаль, что все так дурно закончилось. У меня нет выбора – я должен следовать за каноником. Ты же знаешь, нам нужно его согласие на перестройку церкви.
Он поклонился мастеру Лею и вышел.
Мастер Лей посмотрел на свой стол. Он почти улыбался.
– Вы должны извинить каноника-прецентора, – сказал он, потянувшись за кубком и поднося его к губам. – Ему не хотелось ехать сюда из-за такой мелочи, как перестройка нашей церкви. Уверен, он скоро успокоится.
Он отставил кубок в сторону.
– Полагаю, вы не заражены чумой. Вы оба выглядите вполне здоровыми. А по твоему аппетиту, Уильям, заметно, что ты вовсе не болен.
– Мастер Лей, позволь тебя спросить, – проговорил я. – Что должен сделать человек, чтобы обеспечить себе Царствие Небесное? Достаточно ли мне будет пожертвовать деньги и книгу?
– О, какая неожиданная перемена! Почему ты спрашиваешь?
– У нас осталось мало времени. Мне кажется, что ты, как священник, должен это знать…
– Это трудный вопрос. В Риме считают, что, покупая индульгенции, мы очищаем свои души от греха и обеспечиваем себе спасение. Каноник-прецентор скажет вам то же самое. Но не все в этом убеждены. Например, если бы ты был одним из «спутников Сатаны», я бы сказал, что никакие дары не смогут искупить твоих грехов. Но это не означало бы, что пути к спасению нет. Можно, например, отправиться в паломничество в Иерусалим и смыть свои грехи покаянием перед Гробом Господним.
Мастер Лей утер рот краем салфетки.
– Представь, что ты – большая редкость, человек, не имеющий грехов. Почему ты должен платить пенни за спасение своей души? Она и без того совершенна. Так как же тебя можно заставить платить за искупление? И кто из нас способен по-настоящему оценить грехи других людей? Это под силу только Богу. Если бы ты был безгрешен, то индульгенция была бы так же бесполезна для тебя, как соломенный щит. Что же касается твоего вопроса, я не думаю, что твой дар что-то изменил. Мне жаль, что я разочаровал тебя.
– И я ничего не могу сделать? Совсем ничего?!
– Насколько я понимаю, главное затруднение в том, что ты стремишься творить добро ради того, чтобы спасти свою душу, а не ради добра как такового. Если ты увидел, как Болдуин Фулфорд напал на добрую женщину и попытался спасти ее, это доброе дело. Но если ты пришел ей на помощь только для того, чтобы обеспечить своей душе царствие небесное, то твой добрый поступок становится эгоистическим. Несчастное положение этой женщины оказалось выгодным для тебя. И в этом нет добродетели.
В окно подул холодный ветер. Мастер Лей знаком приказал слуге закрыть окно. Уильям допил вино, не допитое отцом Парлебеном, и прикончил кубок каноника-прецентора. Я пальцем подобрал сладкий красный соус с одной из тарелок и облизал его. Тут в дверь постучали. Мастер Лей не обратил на стук внимания, но слуга, уже закрывший окно, пошел открывать. В зал вошел плотный мужчина в длинной кожаной накидке на плечах. Накидка доставала ему до колен. Он скинул накидку и потянулся за шляпой.
– Мастер Лей, мне сообщили, что в твоем доме находятся зачумленные лжецы и воры.
– Благодарю тебя, что ты пришел, констебль Карнсли, но, боюсь, тебя ввели в заблуждение. Между моими гостями и ректором произошел небольшой спор о войнах прежнего короля. Как ты видишь, эти люди не больны. Если же они лгут, то должен признать, что их ложь более приятна для моего уха, чем многие факты, которые я слышал в последнее время. Доброго тебе дня.
– Похоже, все действительно так, мастер Лей. Сожалею, что побеспокоил тебя. Пошли за мной снова, если возникнут какие-то недоразумения.
– Обязательно, констебль, – кивнул мастер Лей, и слуга проводил констебля к выходу.
– Что ж, – повернулся к нам хозяин дома. – Мне больше нечего тебе сказать и утешить тебя. Все зависит от тебя самого. Не сомневаюсь, что тебе есть куда пойти и чем заняться.
Мы с Уильямом переглянулись.
– Честно говоря, мастер Лей, – сказал я, – нам некуда идти. А через пару часов стемнеет. Если бы ты позволил, я поработал бы в твоем доме – может быть, на кухне, – чтобы заработать на ночлег у твоего очага.
– Вы – удивительные люди, – отозвался мастер Лей. – Вы даете мне деньги на церковь, вы рассказываете истории – то ли поразительную ложь, то ли свидетельство истинных чудес. И после того, как я принимал вас за праздничным обедом, вы просите позволения мыть посуду.
– Это Джон просит, не я, – возразил Уильям.
Мастер Лей поднялся.
– Вы мои гости. Если хочешь потрудиться, Джон, можешь помочь моему кухарю, Уиллу, на кухне. Твой труд будет благотворен для всех нас.
Так мы смогли воспользоваться гостеприимством доброго священника. Уильям уселся у огня, а я отправился на кухню, которая располагалась в отдельной каменной постройке через двор. Очаг здесь располагался не в центре, а у стены, и над ним был устроен специальный дымовой короб, чтобы дым не распространялся по всему помещению. Кухарь Уилл оказался симпатичным юношей с вьющимися волосами и приветливой улыбкой. Я помог ему натаскать воды из колодца на дворе и согрел ее в большом котле. Котел висел над огнем на специальной металлической скобе – раньше я ничего подобного не видел. Когда вода согрелась, я помог Уиллу и другим слугам собрать объедки для свиней (свиньи жили в небольшом загоне на заднем дворе), а потом мы вместе принялись отчищать закопченные железные горшки грубой соломой и золой. Закончили мы уже в сумерках. Мы закрепили лучины на металлических подставках, чтобы лучше видеть. Уилл подбросил поленьев в очаг – слугам в этом доме зимой теплее, чем их хозяину. Мы принялись взвешивать различные корни и приправы на весах. О некоторых я уже слышал – например, о шафране и перце, хотя мы с Кэтрин никогда не могли себе такого позволить. Но были и совершенно новые для меня приправы. Уилл показал мне горшок с ароматными коричневыми семенами, называемыми тмином. Я впервые увидел укроп и гвоздику. Уилл показал мне сладкие сушеные фрукты, которые он называл финиками, и толстые желтые корни какого-то имбиря. В отдельной коробочке лежали куски ароматной коры – корица, а в другой душистые орехи – Уилл назвал их мускатными. На этой теплой, ярко освещенной кухне среди восхитительных ароматов и драгоценных специй я ощутил вкус настоящего богатства.
– Где же мастер Лей берет все это? – спросил я, когда Уилл принялся чистить миндаль. – Он посылает в Лондон?
– Мы покупаем это на ярмарках поблизости – в Бови, Оукхэмптоне и Чагфорде. Да и в Мортоне тоже. У бакалейщиков в Эксетере целые склады специй. Если я куплю для хозяина восемь унций мускатного ореха, нам хватит этого на целый год. Даже при всей его любви к этой специи. Он любит добавлять молотый мускатный орех в подслащенное вино.
– Сахар? У вас есть сахар? Я никогда его не пробовал.
– Я добавлял сахар в красный соус к запеченной камбале. – Уилл достал с полки коричневую голову и показал мне. – Сахар бывает разным. Бывает красный плоский сахар, белый плоский сахар, патока, конфеты, сироп…
Большим ножом Уилл отрезал небольшой кусочек от сахарной головы и протянул мне.
Вкус у этого сахара был таким, словно Господь создал его, чтобы человек улыбался. Сладость была настолько непередаваемо прекрасной, что я не смог сдержать улыбки. Мне так хотелось поделиться этим восхитительным вкусом с Кэтрин… Я сразу вспомнил о своей утрате. Прекрасный, незнакомый вкус заставил меня задуматься о своей жизни. На глаза навернулись слезы. Я держал сахар во рту, стремясь продлить это ощущение, и чувствовал, как он тает. Но даже когда он растворился полностью, вкус еще долго сохранялся во рту.
Так прошел весь вечер. Мы взвешивали специи, мололи их, беседовали о еде и прихлебывали эль с медом и травами. Потом пришел слуга и сообщил, что мастер Лей велел подать ему и моему брату легкий ужин. Уилл приготовил блюдо устриц, сваренных в вине и бульоне с миндальным молоком, молотым сухим имбирем, сахаром, мускатным цветом и рисовой мукой.
– Разве мастер Лей может позволить себе такую роскошь? – удивился я. – Он говорил, что получает от ректора очень мало – лишь скромное жалованье.
– Хозяин не дурак. Когда каноник-прецентор приехал сюда в первый раз и осмотрел церковные поля, в его стаде было двадцать четыре овцы. В его стаде и сегодня двадцать четыре овцы. Но мастер Лей купил больше трех сотен овец. Когда мужчины отправляются на пустошь за оловом, мастер Лей арендует их земли – луга и права на выпас своего скота на общих землях. Вон те мешки набиты шерстью с его овец. Он вырос здесь и понимает, что к чему. Прихожане всегда на его стороне. Они не любят каноника-прецентора, он для них – чужак и вор.
Когда подали ужин, я заметил, что Уилл и двое слуг едят вместе с мастером Леем. Ставни уже закрыли, в очаге весело потрескивали поленья. На столе стояли четыре лучины в специальных подставках. Мы ели, и наши тени двигались на стенах зала. После ужина хозяин подал нам теплое вино, сваренное с мускатным орехом, сахаром и корицей. Мы с Уильямом рассказывали разные истории, и вскоре мастер Лей присоединился к нам. Он рассказывал смешные истории о глупых рогоносцах, которым изменяли хитроумные жены, о симпатичных юных девушках, которых похотливые мужчины соблазняли обещаниями жениться и кольцами из глины и соломы, о глупых монахах, которые покушались на деньги аббатства из богомерзких побуждений.
Потом нам принесли матрасы, набитые соломой, одеяла и поленья, чтобы положить под голову. Я предпочел положить под голову свою суму. Уилл и слуги отправились спать на кухню. В комнате остались гореть лишь две лучины.
– Полагаю, что утром я вас, скорее всего, не увижу, – сказал мастер Лей перед уходом. – Мне было приятно поговорить о чем-то, кроме дорогих овец и заблудших душ. Или о дорогих душах и заблудших овцах. – Он умолк, а потом добавил: – Джон, на твоем месте я не задумывался бы о том, как спасти свою душу. То, к чему ты стремишься, может произойти только само по себе. Ты не можешь сделать так, чтобы это случилось. Сколько бы дней Господь ни отпустил тебе, этого будет достаточно. Доброй ночи, и пусть Господь благословит вас обоих в ваших странствиях сегодня и навеки. И когда-нибудь вы обретете дом и покой.
Я улегся на свой матрас и услышал, как мастер Лей поднимается по лестнице в свою комнату над кладовой. Я немного поворочался, устраиваясь поудобнее. Солома громко шуршала.
– О чем ты думаешь? – прошептал Уильям.
– Почему в наше время у нас не было такого священника, как мастер Лей? Почему нам достался де Воторт?
Одна лучина догорела, вторая тоже была на исходе.
– Как ты думаешь, что будет завтра?
– Еще одно морозное семнадцатое декабря. Но уже в другом году. Каноник-прецентор сказал, что осада Кале происходила в одна тысяча триста сорок седьмом году. Чума пришла на следующий год. Прошло еще девяносто девять лет. Мы должны проснуться семнадцатого декабря одна тысяча пятьсот сорок шестого года.
– Думаешь, там будет не так, как сегодня?
– Конечно! Я в этом не сомневаюсь.
– Может быть, они будут есть больше баранины – у них же столько овец.
– В декабре не будут. Это же рождественский пост…
– Вот черт! Ну почему мы не можем провести наши последние дни в июле?
Лучина догорела. Теперь комнату освещал лишь огонь очага. Я повернулся на бок и уставился на краснеющие угли. Несколько искр взлетело в воздух. Наступила тишина.
– Думаю, нам не нужно рассказывать людям о том, откуда мы пришли, – сказал Уильям. – Они не помнят правления короля Эдуарда Третьего. Это для них непостижимо. А людям не нравится то, чего они не понимают.
– Точно…
– Надо говорить, что мы прибыли из мест, где никто не бывал. Из Индии… или Московии…
Я лежал на боку, глядя в огонь.
И думал я о том, прожил ли кто-то из моих детей столько, чтобы попробовать сахар.
IV
Я проснулся, но глаза не открыл. Я чувствовал, что моя нога прижата к какой-то массивной мебели. В комнате было темно. Сквозь ставни не пробивались лучи света. Не чувствовал я и тепла от очага, рядом с которым заснул вечером.
Рядом раздавалось мерное похрапывание.
– Уильям?
Храп продолжился.
Я стал вспоминать вчерашнее утро. Мельник из Крэнбрука произносил слова, смысл которых был нам непонятен. Что бы это значило? Не может ли язык за девяносто девять лет измениться настолько, что я не пойму, о чем говорят в собственном доме? Если так изменились дома, одежда и пища, то почему бы не измениться и языку? Как нам с Уильямом выйти на улицу, не вызвав удивленных вопросов о том, откуда мы родом?
Храп прекратился.
– Ты думаешь так громко, – сказал Уильям, – что я проснулся. Что у тебя на уме?
– Новая одежда, брат. Чем дальше мы от собственного времени, тем более странно выглядим. И тем больше вопросов нам станут задавать.
– Нам нужен портной.
– Если мы закажем новую одежду, то как скоро сможем получить ее? В лучшем случае портной скажет: «Приходите завтра». А завтра для нас наступит через девяносто девять лет!
– Что же нам делать?
– Нам нужен тот, кто сможет продать нам старую одежду. Может быть, хозяин этого дома? Он хотя бы может знать кого-то, кто недавно умер, и вдова распродает ненужную одежду.
В темноте раздался глухой стук, словно кто-то стукнулся головой о балку. Я услышал звук шагов прямо над нашей головой.
– Интересно, не призраки ли мы? – поинтересовался Уильям.
– Я тоже об этом думал.
– Но я решил, что это не так. Живые боятся призраков. А мы сами боимся живых.
– Может быть, они сами призраки, – прошептал я. – Все, что мы видим и слышим, это мир призраков, а мы – единственные живые люди в этом мире.
– Ох, Джон, какая страшная мысль…
Я поднялся и положил свою суму на стол. Меч мой куда-то делся… Потом я вспомнил, что оставил его в проходе. Я вспомнил белые каменные стены дома мастера Лея и двинулся туда, где, как мне казалось, была дверь, но сразу же наткнулся на какой-то деревянный шкаф. Металлическая тарелка полетела на пол.
– Похоже, тебе не терпится встретиться с нашими хозяевами, – сказал Уильям.
В углу комнаты я заметил отблески огня и направился туда. Я нагнулся, надеясь найти кочергу и расшевелить угли, но не нащупал ничего подходящего. Я выпрямился – и тут же ударился головой о нависающий камень. Я выругался и потер шишку на голове.
– Здесь камин, – сообщил я Уильяму.
– Новый хозяин явно хочет уберечь свою красивую одежду от дыма, и я его понимаю.
Я двинулся направо, где у мастера Лея было большое окно. Стена между камином и окном оказалась не каменной, а гладкой, словно покрытой гипсом. Под пальцами я почувствовал дерево – ставни находились внутри комнаты. Сквозь щели пробивался тусклый свет. Я пошел дальше, нащупывая дорогу. За окном оказался какой-то высокий деревянный шкаф – примерно с меня. Передние дверцы были покрыты резьбой. За этим шкафом я нащупал еще один, выше себя, с квадратными резными панелями. Ощупав его, я понял, что это не шкаф, а покрытие стен. Вся стена была покрыта деревянными панелями.
Потом я наткнулся на какой-то невысокий предмет. Он был покрыт очень толстой шерстяной тканью, гораздо толще и тяжелее, чем пригодна для одежды. Под этой странной тканью обнаружился сундук с большим замком. Дальше я нащупал среди деревянных панелей дверь с засовом, другие панели, а в углу комнаты нечто такое, что напомнило мне плотное одеяло, повешенное прямо на стену. Мои пальцы ощущали гладкие пятна на шершавой поверхности этого странного одеяла. Крашеная ткань покрывала всю стену, кроме дверного проема.
Я вернулся к столу в центре комнаты. В доме началось какое-то движение.
– Нам лучше убраться отсюда, – сказал я.
Но не успел я договорить, как услышал шаги за дверью.
В комнату вошла девушка со свечой. Я замер у двери. Девушка нас не заметила и направилась к окну, чтобы открыть ставни. Она откинула тяжелый металлический засов, распахнула ставни и задула свечу.
За окном я разглядел крыши высоких, темных домов. Заметил я и то, что балок в комнате уже нет – оштукатуренный потолок находился всего в паре футов от моей головы. Окно было застеклено прозрачным стеклом: три резных гранитных бруска делили окно на четыре части, и в каждой были установлены стекла необычной формы. Я и представить себе не мог, что в Мортоне появятся дома с застекленными окнами. Это зрелище меня так изумило, что я забыл, где нахожусь, и сделал шаг вперед, чтобы убедиться, что глаза меня не обманывают.
Девушка вскрикнула. Сначала это был крик неожиданности, но когда Уильям вскочил, а я направился к ней, чтобы заверить, что мы не причиним ей вреда, девушка закричала:
– Мастер Ходж! Мастер Ходж! В доме чужаки!
– Как нам отсюда выбраться? – воскликнул Уильям, хватая мою старую дорожную суму и швыряя ее мне в руки.
Но мы опоздали. Дверь в обшитой деревянными панелями стене неожиданно распахнулась, и в комнату ворвался плотный, мускулистый мужчина со свечой в руках. У него были темные, кустистые брови, а щеки гладко выбриты. На голове я заметил мягкую черную шапочку. Широкие плечи казались еще более широкими из-за того, что туника под мантией была подбита чем-то мягким. На ногах мужчины были тонкие белые чулки. На поясе красовались позолоченные ножны для кинжала, украшенные драгоценным камнем.
– Раны Господни, что ты тут кричишь? Долбер! Долбер, зови констеблей! Боуден! Скотт! Все сюда!
Говоря все это, мужчина поставил свечу на стол и кинулся к камину. Со стены он сорвал длинное оружие – нечто среднее между топором и копьем. На стене имелось и другое оружие, но я не сделал попытки схватить его. Мужчина угрожающе наставил свое копье на меня. Я услышал, как по лестнице бегут какие-то люди. Появились четверо мужчин. Двое держали в руках узкие мечи, один – лук с изготовленной стрелой. У четвертого была длинная полая палка, к одному концу которой были прикреплены металлические части. По-видимому, это тоже было оружие – человек держал его весьма угрожающе.
А потом я понял. Это же gonne (пищаль)!
Уильям поднял руки.
– Мы не причиним вам вреда. Мы ничего не взяли.
Я положил суму на пол и тоже поднял руки.
– Обыщите их, – приказал хозяин дома.
Один из его людей подошел ко мне сзади и толкнул к стене. Он заставил меня поднять руки еще выше, а другой начал ощупывать мою одежду. Убедившись, что на мне ничего не спрятано, кроме обычного ножа, они обыскали Уильяма. Один из слуг поднял мою суму и высыпал ее содержимое на каменный пол. Парень этот мне сразу не понравился. У него было неприятное лицо с темной щетиной на подбородке. На щеке, прямо под глазом красовался шрам. Он вытащил из кучи моего барахла серебряное распятие на янтарных четках и поднял его повыше, чтобы все видели.
– Где ты это взял? – потребовал ответа хозяин дома.
Я повернулся посмотреть, о чем он говорит. Рук я не опустил.
– Мне это подарили. Мать ребенка, которому я помог в болезни. – Лица окружающих не внушали доверия, и я добавил: – Мы следуем закону Святейшего Папы Римского.
– Откуда вы?
– Из Эксетера. Я каменщик.
– Здесь еще деньги, резцы и другие орудия, – подтвердил слуга неприятного вида. Он поднялся, положил распятие на стол и поднял мой кошель.
– Мастер Ходж, – взмолился Уильям, – мы всего лишь искали убежища.
– Как вы попали в этот дом?
– Нас приютил мастер Лей, – ответил Уильям.
– Никогда не слышал этого имени! Вы не имеете права быть здесь. И никто не имел права вас впустить!
– Уверен, это недоразумение, – вмешался я. – У нас есть деньги. Посмотрите на эти монеты – они из далеких стран. Я знаю, мы похожи на бродяг. Одежда наша истрепалась в странствиях. Пожалуйста, позвольте нам забрать наши вещи и отправиться в путь.
– Это неважно, что вы ничего не взяли. Вы просто не успели – мы вовремя вас остановили. А если вы не воры, то зачем вы здесь? Вы следите за нами?
– Мы не воры, – ответил Уильям. – И уж точно не шпионы!
– Осмотрите дом, – предложил я. – Посмотрите, есть ли разбитые окна или сломанные замки. Входная дверь заложена на засов, верно? Если этим утром что-то и исчезло, то это были ваши люди, а не мы. Проверьте каждое стеклышко.
– Если это так, то это колдовство, – сказал слуга, державший меч.
Мастер Ходж поднял руку.
– Боуден и Скотт, проверьте дом! Проверьте все двери и подвал!
Слуги вышли. Я слышал, как под их ногами скрипят деревянные полы, пока они осматривали дом.
Один из оставшихся слуг сказал:
– А вдруг они повинны в колдовстве, мастер Ходж? На них странная одежда. И говорят они странно – совсем не так, как у нас. Они наверняка попали сюда колдовством.
Все смотрели на меня так, словно у меня выросла вторая голова.
– Никогда не слышал, чтобы люди колдовством проникали в дома, – сказал я. – Я знаю, что к колдунам или ведьмам обращаются, чтобы найти потерянное – кольцо или печать. Но неожиданно возникнуть в чужом доме? Это уже что-то другое…
Мастер Ходж не опускал свое оружие. Он направил острие прямо мне в лицо.
– Разве ты не знаешь королевского закона? Все повинные в колдовстве должны быть повешены!
– Нет ничего плохого в том, чтобы использовать магию для поиска потерянного, – повторил я. – Если ты что-то потерял, а потом нашел, что в этом дурного? Это не более дурно, чем верить в святую католическую Церковь. – Я опустил руки, шагнул вперед и взял со стола распятие. – Разве это дурно? Господь мог творить чудеса: вы и Его повесили бы?
– Ты смел, римлянин, – сказал мастер Ходж, опуская свое длинное оружие. – В Англии есть дома, где тебя сразу повесили бы за такие слова.
Судя по всему, мои слова неожиданно внушили хозяину дома уважение. Я ничего не говорил, прислушиваясь к шагам. Слуги Ходжа, осматривавшие дом, вернулись.
– Никаких следов взлома, – сказал один из них.
Мастер Ходж передал свое оружие слуге, подошел ко мне и посмотрел прямо в глаза.
– Я не знаю, преступники вы или нет, но я не хочу, чтобы дом мой был проклят. И не желаю, чтобы дом мой обыскивали в поисках приверженцев старой веры. Я не знаю, кто вас впустил. Но если я отправлю вас в тюрьму в Эксетере, то вы наверняка используете ту же магию, какая помогла вам проникнуть сюда, и избежите правосудия. Так что убирайтесь из этого города побыстрее и никогда не возвращайтесь.
Все молча наблюдали за тем, как я собираю свои пожитки и складываю в старую суму. Я взвалил суму на плечо, и мы направились к двери. Когда мы вышли на затянутый густым туманом двор, нам обоим казалось, что мы сбежали из тюрьмы.
Проходя мимо новых домов, появившихся на рыночной площади, мы молчали. Мы старались не смотреть на людей, встреченных на улице. Уильям заговорил, только когда мы добрались до церкви.
– Смотри-ка, они ее перестроили.
Церковь действительно изменилась. Интересно, оплатил ли эти работы сам мастер Лей или ему помогали каноник-прецентор и прихожане.
Я поднял взгляд на скалы Хингстон, наполовину скрытые в тумане.
– Как ты думаешь, почему он нас отпустил?
– Он повел себя по-другому, когда ты поднял это распятие…
– Он сказал, что за такие слова в других английских домах нас повесили бы…
– И он говорил о «старой вере»… Ты думаешь, англичане более не христиане?
– Посмотри на церковь, – ответил я. – Новая церковь говорит мне, что слово Господа в этих краях крепко, как и прежде. А если бы он был магометанином, он наверняка зарезал бы нас, увидев крест.
Уильям оглянулся на город.
– Послушай, а это очень неприятно, что мы не знаем, во что верят люди. Мы не знаем сегодняшних законов. Судя по его словам, есть закон, запрещающий колдунам находить потерянное. А что еще запрещено? Пить эль? Есть мясо? Целовать женщин?
– Нам нужна пища и новая одежда, – сказал я. – Нужно идти в Чагфорд.
– Сегодня рыночный день?
– Нет, в Чагфорде рынок по четвергам.
– А откуда ты знаешь, что сегодня не четверг?
– У мастера Лея мы были в воскресенье. В каждом году, не считая високосных, триста шестьдесят пять дней. Если бы в году было всего триста шестьдесят четыре дня, то первый день каждого года приходился бы на один и тот же день. Но из-за високосных годов каждый год начинается на день позже. Если первый год начинался в понедельник, то второй начнется во вторник и так далее. Значит, девяносто девятый год начнется на девяносто девять дней позже – то есть на один день, поскольку девяносто восемь делится на семь…
– Ты меня окончательно запутал…
– Уж поверь мне.
– Я верю.
– Пошли в Чагфорд.
Шагая по грязной проселочной дороге, мы догнали крестьянина, ехавшего верхом на отличной лошади. Чувствовал он себя вполне уверенно, сидел на лошади, гордо выпятив грудь. Шапка была лихо заломлена, плечи расправлены. Но я не мог не заметить, что едет он очень медленно, несмотря на то что лошадь его была гораздо крупнее боевых коней нашего времени.
– Доброго дня, друг, – сказал я. – Твоя лошадь больна?
– Доброго дня, странники, – ответил крестьянин. – Нет, она не больна. Просто я не тороплюсь. А что привело вас в Мортонхэмпстед?
– Мортон-что?
– Мортонхэмпстед, – повторил он.
– С какого же времени появилось такое название?
– Сколько я себя помню. Вы, наверное, люди мастера Периэма?
– Нет, мы просто странники. А ты?
– Том Бримблкомб, к вашим услугам.
– Ты направляешься в Чагфорд?
– Веду лошадь в Плимут. Ее отправляют в армию герцога Норфолка, в Булонь.
– На войну во Францию?
– Если это можно назвать войной. Кроме Булони, у нас остался только Кале. Если спросите меня, то я скажу, что Генриху не стоило бы именовать себя «королем Франции». Да это долго не протянется. Говорят, он умирает…
– Ты не любишь короля?
– А ты как думаешь? – хохотнул Том.
Я бросил быстрый взгляд на Уильяма.
– Я думаю, что он – король. И не мне его судить.
– Тогда ты глупец, – ответил Том. – Генрих Восьмой – это самый величайший тиран в истории Англии. Варить женщин живьем за отравление – это страшная жестокость. Вешать странников, которые называют себя египтянами, за то, что они бродят по стране и просят милостыню, – это несправедливость. Запрещать паломничества и уничтожать святые мощи – это нечестивое богохульство. А уж красть монастырские земли, закрывать монастыри и разрушать их – это совсем плохо. И он еще называет себя защитником веры! Ха! Никто так не навредил вере, как он.
Я снова посмотрел на Уильяма.
– Может быть, стоит попытаться возместить этот ущерб?
Том рассмеялся.
– И не думай! Кончишь, как Роберт Аск!
– Какой Роберт? – переспросил я.
– Аск. Ну тот, что поднял бунт на севере восемь лет назад. Король уговорил его начать переговоры, согласился с его условиями, а когда армия Аска разоружилась, Генрих повесил его и сотни других добрых людей. Как можно договариваться с королем, который не держит слова?
– Мортон, похоже, процветает, – сменил я тему. – Кругом богатство – хорошие дома, красивая одежда…
– Для некоторых это так, – кивнул Том. – А другим приходится больше работать и больше платить. Ты, наверное, видел красивые дома на улицах, а я живу на чердаке над конюшней.
– У нас и конюшни-то не было, – сказал Уильям.
– Тогда мне тебя жаль, – посмотрел на него Том. – Но сколь бы бедными и жалкими мы ни были, но наши имена записаны в книгах. И какой в этом смысл?
Я взглянул на Уильяма, тот пожал плечами.
– Все налоги, налоги, налоги, – продолжал Том, глядя на дорогу. – Налоги и записи идут рука об руку. Слова – это заклятие, которое они наложили на простой народ; а налоги – проклятие, лежащее на наших плечах. Они записывают твое имя при крещении. Не заплатишь свои налоги – и королевские солдаты придут за тобой. А они знают, где ты живешь и где твоя родня, потому что у них есть списки всех живущих в каждом приходе. Да отправятся все чиновники в ад на бумажных кораблях, плывущих по чернильному океану!
– Но откуда взялись чиновники, которые все это записывают?
– Месяца не проходит, чтобы мы не слышали о создании новой школы. Люди учатся читать Библию. Даже женщины!
– Милосердный Боже, смилуйся над нами! – изумленно воскликнул Уильям. – Зачем женщинам читать? Слова не принесут им добра. Они неспособны понять смысл вещей.
– Они учатся читать, чтобы суметь понять, – ответил я. – Ты же сам учился, чтобы вести счета. Представь, как изменился мир, если женщины уже умеют читать.
Уильям рассмеялся.
– Да уж, наверное, теперь никто не убирается и не шьет. Женщины собираются и обсуждают Моисея и Ноя, пока их мужья горбатятся, чтобы заработать на хлеб насущный. Если женщины теперь так осмелели, что могут говорить с мужьями о религии, то мужчинам стоит взять посохи, отправиться в далекие края и никогда не возвращаться. Вот до чего доведет их чтение!
– Не думаю, – сказал я. – Мудрое слово доброй жены может удержать руку жестокосердного судьи. Если король задумает недоброе, может ли он не внять совету жены, зная, что она умеет читать книги, полные священной мудрости?
– Брось, Джон. Давай не будем об этом даже и думать. Твои сыновья выросли бы слабаками, если бы твоя жена читала им в твое отсутствие.
И тут мне в голову пришла странная мысль:
– А если бы она и писать умела?
– Есть такие, что умеют, – подтвердил Том. – Мистрис Чарльз из Мортонхэмпстеда умеет писать. Мистрис Уиддон из Уиддон-Хауса тоже. А ее муж, мастер Джон Уиддон, как раз судья.
– Понятно, почему он занялся законами, – усмехнулся Уильям.
– А если он оскорбит или обидит ее, – сказал я, – она сможет пожаловаться на него публично – может написать всем своим знакомым.
Мы подошли к Истон-Кроссу. Я посмотрел на холмы, покрытые облетевшими деревьями. Гряда холмов отделяла нас от родного Крэнбрука. Каждый раз при этом зрелище меня охватывала тоска по утраченной жизни. Церковный колокол в Чагфорде пробил девять раз.
– Часы бьют девять, – почесываясь, сказал Том. – Еще два часа до Джерстона.
– Что такое «часы»? – спросил я.
Том удивленно посмотрел на меня.
– Ты не знаешь, что такое часы? Это машина для измерения времени. С гирями и шестернями… Ты никогда об этом не слышал?
– Брат мой очень невежественен, – вмешался Уильям. – Прости его, добрый человек.
– Спасибо, братец.
– Эти из Чагфорда страшно гордятся своими часами, – продолжал Том. – Все живут по своим колоколам. А эти, из города, вечно извиняются за опоздания – и почему? Потому что им так велят их часы! Если бы у них не было часов, они никогда не опаздывали бы. И никто бы не знал.
Я был озадачен. Как машина может отсчитывать время? Время определяется движением солнца вокруг земли, как постановлено волей Господа. Как же можно создать машину, которая будет толковать волю Господа?
– И они вечно жалуются, когда часы останавливаются, – продолжал Том. – Зубчатое колесо сломалось, механизм барахлит, твердят они, притворяясь, что все понимают. А я отвечаю: «Если ты так много знаешь о часах, почему бы тебе их не починить?» И они умолкают – я умею поставить их на место.
Простившись с Томом Бримблкомбом на окраине города, мы направились в церковь. Чагфордскую церковь, как и в Мортоне, перестроили. Мое сердце похолодело при мысли, что собор в Эксетере могли разрушить и построить заново. И тогда там, где некогда высились мои стены и скульптуры, стоит что-то совершенно другое.
В жизни бывают моменты, когда цикл времени и разрушение трудов прежних поколений вдохновляют. Такие минуты многое сулят молодежи. Но позже человек сознает, что это означает, что и его труд тоже будет стерт с лица земли. И единственный способ снискать вечную славу – это создать нечто такое прекрасное, что ни одна другая эпоха не сможет с этим соперничать. Вряд ли кто-нибудь так высоко оценит мою руку.
Туман над пустошью уже рассеялся, и стали хорошо видны окружавшие нас холмы и взгорья. Длинных одноэтажных домов в городе не осталось, все дома были двухэтажными. Чагфорд казался столь же процветающим, как и Мортон. На улицах мы увидели много народу. Слуги держали лошадей, дожидаясь, пока их хозяева закончат свои дела. В большинстве домов двери и ставни были распахнуты, чтобы в помещениях было светлее. Я видел женщин за необычными прялками – деревянными, с большими, быстро вращающимися колесами. Машин таких было много, судя по всему, они выполняли ту же работу, для которой в наши времена существовали веретена и ручные прялки. Казалось, что всем вокруг управляют колеса, время отсчитывают часы, а процветание обеспечивают деревянные прялки с колесами.
Хотя день был не рыночный, на площади мы увидели много народу. Мужчины болтали друг с другом, гордо демонстрируя свои мягкие шапки и красивую одежду. Несколько тяжело нагруженных свертками и коробками лошадей терпеливо ожидали хозяев. Крестьяне занимались обычным делом: один гнал стадо коров на холмы, другой перегонял небольшую отару овец с одного поля на другое. Западнее церкви строился новый дом. Его окружали деревянные шесты и леса. Я вспомнил, что в наше время посреди этой площади находился небольшой дом, где состоятельные жестянщики собирались, чтобы обсудить свои дела, поделить места добычи олова и утвердить их у рудничных властей. Теперь же на этом месте стоял большой открытый деревянный дом, где внизу ожесточенно торговались купцы, а наверху находился зал – по-видимому, как раз для заседаний рудничного суда.
Мы с Уильямом пробрались под навес и сразу оказались в самой гуще жизни. Я переводил взгляд с одного лица на другое, ища того, кто согласится нам помочь и подскажет, где бы купить одежду. Вот один человек прислонился к низкой стене, а другой рассказывает ему об идее водяного колеса. Другой человек в длинном кожаном колете слушал пространные разглагольствования своего собеседника, нетерпеливо постукивая носком кожаного ботинка по каменному полу. Неожиданно передо мной выросла массивная фигура. На этом человеке была синяя стеганая туника, подпоясанная широким кожаным ремнем с серебряной пряжкой. Мужчина был чисто выбрит, а шапка на нем была совершенно черная.
– У вас здесь какие-то дела? – спросил он.
– Мы хотели найти кого-нибудь, кто мог бы продать нам одежду, новую или поношенную, – объяснил я.
– Здесь собираются только жестянщики. И еще те, кто ищет работу на рудниках и в мастерских. Если у вас здесь нет дел, вы должны уйти.
– Мы ищем работу, – неожиданно сказал Уильям.
Человек, который говорил с нами, оценивающе посмотрел на него, потом на меня.
– А вы уже работали в балке?
Я не понимал, о чем он говорит. Для меня балка была прочным деревянным брусом – например, на лесах, возведенных вокруг собора, чтобы мы могли работать на них. Поэтому я ответил:
– Конечно, и не раз.
– Что в суме?
– Резцы и киянки… И еще старая одежда.
– Бери ее с собой, – сказал наш собеседник, указывая в угол здания. – Олдермен Периэм как раз ищет новых рабочих.
Мы сделали, как было сказано. На верхнем этаже собралось около двадцати мужчин разного возраста. Писец спросил наши имена, и мы назвали их:
– Уильям Берд и Джон из Реймента.
Писал парень как-то неуверенно. Он всем телом налегал на стол и часто окунал свое перо в чернила. Записывая наши имена, он медленно повторял их:
– Уи – ль – ям – Бе – рд. Джо – нн – Ис – рей – мен.
В дальнем углу комнаты я заметил хорошо одетого человека лет тридцати.
– А теперь выслушайте рудничного мастера, моего отца, олдермена Уильяма Периэма.
Я увидел пожилого человека, сидевшего на деревянном кресле. На нем была такая же мягкая черная шапка, как и на многих других, но она была чернее остальных. Человек этот был седым как лунь, с белой бородой. Он не поднялся, но заговорил громко, резко и четко.
– Я сороковой год управляю балками на пустоши. За это время слух мой ослабел, а голос стал громче. Но дело мое развивалось. Поэтому вы и пришли сюда – вы все хотите стать богатыми. Сейчас большинство самых богатых шахт уже истощилось. Как же быть? У меня есть ответ. Мы будем работать и вместе сделаем друг друга богатыми. Я хочу поделиться с вами частью своего богатства.
Говоря это, Уильям Периэм обводил нас взглядом.
– Не думайте, что я родился богатым. Мой отец был простым, богобоязненным крестьянином с востока. Он усердно трудился на тех нескольких акрах, которые выделил ему лорд. Но для меня он хотел лучшей доли. И он послал меня в Эксетер изучать труд шапочника. Не поймите меня превратно, сегодня шапочники – уважаемые люди. Это достойное, полезное занятие. Но никто из этих людей не стал по-настоящему богатым. Я знал, что не заслужу уважения отца, если не превзойду – превзойду – его ожиданий.
Уильям Периэм поднял руку с подлокотника и указал пальцем наверх.
– Я видел, что люди хотят украшать свои шапки пряжками, но олова было недостаточно, а серебро стоило слишком дорого. Все олово отправлялось в другие страны или шло на отливку бронзовых пушек. А когда я спросил: «Почему мы не добываем больше олова?», мне ответили: «Потому что на это нужно много времени». Вы помните, что в те времена многие жестянщики просто бродили по ручьям после сильных дождей и искали крохотные кусочки олова. И тогда я подумал: если после дождей в ручьях можно найти столько олова, то под землей его должно быть еще больше. Ведь олово не падает с неба. Так зачем же ждать дождя? Я застолбил свой первый участок в районе Эшбертона и нанял на работу мужчин из Уайдкомба. И скоро я понял, что через холмы Дартмура проходит жила оловянной руды, и частицы ее выходят на поверхность после дождей. За десять лет я стал одним из богатейших людей Эксетера. За двадцать – самым богатым. Через тридцать лет я стал не только олдерменом города, но еще и избранным мэром. У меня есть земли в разных приходах. В моем доме лежат шелковые подушки, стоят позолоченные подсвечники, алтарь в моей часовне украшен красным бархатом, а стены моей гостиной увешаны гобеленами. Я сорок лет посвятил добыче олова, и теперь мне не на что тратить деньги – только на будущее. На хороших людей вроде моего сына Джона. И на таких, как вы.
Какие люди мне нужны? Вы думаете, сильные. И вы не ошибаетесь. Но мне нужно нечто большее. Мне нужны хорошие люди – щедрые и гостеприимные. Мне нужны такие, которые могут стать для других тем, чем был Иов для тех, кто жил с ним: глазами для слепцов, ногами для хромых, надежной опорой для тех, кто рухнул в пучину отчаяния. Я знаю, что многие из вас все еще привержены старой вере. Я понимаю, что настоящий мужчина не изменяет своей истине. И мне нужны люди сильные, но в то же время умеющие прощать. Мне нужны терпимые. Я точно знаю: на земле нет существа более проклятого в глазах других, чем сам человек. Homo homini daemon – человек человеку дьявол. Так говорят. Я предпочту взять на работу в свои балки слабого, чем злобного самолюбца или того, кто похваляется своей верой перед другими работниками.
Когда Уильям Периэм смолк, вперед выступил его сын:
– Работать на пустоши тяжело, особенно зимой. Вы все наверняка слышали историю Хильда Охотника. Тем же, кто не слышал, я расскажу еще раз. Хильд был богатым землевладельцем и часто охотился на пустоши. Однажды он попал в туман и снег, завыл сильный ветер. Он потерял своих спутников. Снег повалил еще сильнее. Когда лошадь споткнулась под ним, он вытащил нож и зарезал ее. Он вспорол лошади живот, вытащил внутренности и забрался в теплую полость. Но и это не спасло его. Когда снег кончился, его замерзшее тело нашли монахи из Тэвистока. Он лежал в трупе своей лошади. Пусть это станет вам уроком.
– Да, это так, – подтвердил старик. – Погода на пустоши жестока и быстро меняется – без предупреждения.
– Вы должны помнить еще одно, – произнес Джон Периэм. – Помните о трясинах. Это не просто болото – вы не просто утонете, трясина вас засосет, словно сама земля жаждет вашей плоти и крови. С каждым движением вы будете уходить все глубже и глубже. Если вы провалитесь в трясину, выбраться можно только одним способом: нужно лечь на живот и откатиться в сторону. И если такое случится, нужно спешить: я видел, как лошадь ушла в трясину быстрее, чем я успел сделать петлю и попытаться спасти ее. Когда выйдете на болото, доверьтесь своим пони. Лошадь может провалиться в трясину, но пони родились и выросли на болотах, и они не пойдут в опасное место. А если с вами не будет пони, ни в коем случае не сходите с тропинки.
Сурового вида мастер с узким лицом разбил собравшихся на две группы. Мы с Уильямом вместе с еще девятью работниками отправлялись на север, на рудники в Уотерн-Тор. Олдермен благословил нас и сообщил, что мы будем получать четыре пенса в день и еду. Нас повели вниз.
Чтобы согреться, работники переминались с ноги на ногу. Все оценивающе посматривали друг на друга. Почти все были бородатыми, и бороды слегка заиндевели на морозе. Один из работников достал из кармана небольшой деревянный гребешок и начал расчесывать волосы, жестоко раздирая колтуны и стряхивая вшей на рукав.
Церковный колокол прозвонил одиннадцать раз. Я заметил, что один из работников пристально смотрит на меня. Человек этот был довольно высоким, с густыми темными волосами и бородой. На нем был кожаный колет до бедер, кожаная шапка, свободные длинные штаны и грубые кожаные ботинки. Брезгливо скривив губы, он обратился к нам с Уильямом:
– Почему на вас женские кертлы? Вы собираетесь нас посмешить?
Раздались смешки.
Уильям выпрямился и смерил наглеца презрительным взглядом. Но даже он уступал этому человеку в росте. Уильям потрогал кожаный колет работника:
– Вижу, ты страшно замерз. Ты уже прибил свою лошадь и забрался внутрь. Я буду звать тебя Хильдом.
Высокий работник усмехнулся.
– Ты откуда, приятель? Говоришь ты как-то странно.
– Из Солсбери, – ответил Уильям.
Я все это время рассматривал вьючных животных, которым предстояло отправиться с нами: две лошади и десять пони, построившись в цепочку, терпеливо ожидали на северной стороне площади. На спинах лошадей вместо седел красовались деревянные ящики с высокими стенками. На нескольких пони я увидел корзины, доверху нагруженные плетенками с мясом, хлебом, яйцами и сыром. Они были прикрыты холстиной и перевязаны веревками. Сверху были привязаны деревянные клетки с курами. Большие лошади и остальные пони были нагружены мотыгами, пилами, тяжелыми молотками и металлическими резцами. Увидел я свертки холста, деревянные шесты и планки, бочки с гвоздями, мешки с кожаными ремнями и несколько пар крепких ботинок. На одной лошади красовались двое больших кожаных мехов фута четыре в длину, не считая ручек. Но, насколько я мог заметить, запасной одежды не было.
Неожиданно появился мастер, который нас отбирал. На нем был кожаный колет и шапка, как у того работника, который назвал нашу одежду «женскими кертлами». Он быстро направился к лошадям.
– Мы выдвигаемся сейчас, чтобы добраться до мельницы в Аутер-Даун, потом мы поднимемся на Тейнкомб, перейдем мост у Тейневера и пойдем на рудники в Уотерн-Тор. Следуйте за нами. Если спустится туман и вы заблудитесь, идите вниз по реке Тейн, она приведет вас назад в Чагфорд.
– С чего это ты решил записаться на оловянный рудник? – спросил я Уильяма, когда мы тронулись в путь.
– Я думал о тебе. Как тебе творить добро и спасать душу в городе? Мы ничего не знаем, ничего не умеем. Мы – как дети. Нас нужно учить одеваться и говорить, распознавать специи и все такое. А если мы отправимся на пустошь, то сможем хоть что-то сделать. Если уж ты хочешь спасти свою душу, это нужно делать там.
Я шагал вслед за работниками. Уильям за моей спиной попытался завязать разговор с молчаливым работником по имени Джордж Беддоуз, одежда которого была столь же потрепанной и неказистой, как и наша. Он отвечал Уильяму односложно. Я понял, что он из Эксетера и на пустоши прежде не бывал. У него есть жена. Было трое дочерей, но одна умерла, и эта утрата явно причиняла ему страдание.
Скалы, высившиеся впереди, меня пугали. Когда мы поднялись на холм, то сразу почувствовали, что холодный ветер усилился настолько, что глаза у меня заслезились. Картина окружающей местности заметно изменилась. Под серым небом и темными, тяжелыми тучами простиралась серо-зеленая пустошь, наполовину скрытая густым туманом. Среди травы то и дело виднелись большие гранитные валуны. Ближе к нам тянулась широкая красновато-коричневая полоса. Я знал, что это пожухший папоротник, в изобилии росший на пустоши. Ближе господствовали зеленые и коричневые тона – деревья, трава, покрытые мхом гранитные столбы и ограды полей.
Высокий парень в кожаном колете, который назвал нашу одежду женской, повернулся и заговорил со мной. Его звали Ричард Таунсенд, и он тоже оказался из Эксетера.
– Ты впервые на пустоши? – спросил я.
– Нет. Я участвовал в вылазках олдермена Периэма много лет, – ответил Ричард. – Но скоро я начну собственное дело.
– У тебя есть план?
– Я подам заявку в рудничный суд и начну разрабатывать собственную балку. Нашему парнишке пора учиться в Эксетере, чтобы уметь читать и писать.
– Ты хочешь, чтобы он стал священником?
– В церкви денег не заработаешь – только если ты достаточно богат, чтобы купить бывшие монастырские земли. Но сегодня каждый нуждается в услугах писцов.
– Сегодня ты уже второй, кто говорит мне о монастырях…
– Их больше нет. Утром монахи поднялись, помолились за души умерших, и тут появились королевские солдаты. Они велели всем монахам убираться в течение часа и больше никогда не появляться в монастырях. Монахам было приказано сдать все золото, серебро, драгоценные реликварии, украшения и епископские посохи. Тэвисток, Бакленд, Торр – все было продано в пользу королевской казны. Многие считают, что это величайшее воровство в мировой истории.
– А приорат в Эксетере?
– Теперь там живет торговец шелком.
– О, нет! А собор?
– Собор все еще остается святым местом. Но если эти фанатики будут и дальше действовать так же, боюсь, его постигнет судьба приората. Они хотят запретить все – религиозные облачения, четки, обручальные кольца, скульптуры, картины…
– Но почему скульптуры?
– По той же самой причине. Они хотят реформировать Церковь, вернуть библейскую религию, а в Библии ничего не говорилось о десятинах, епископах и обручальных кольцах. И они говорят, что от этого нужно избавиться. А про скульптуры они говорят, что в Библии говорится: не сотвори себе кумира.
– Но ведь скульптуры – это чистая молитва, которой не нужны слова…
– Осторожнее со словами, – предостерег меня Ричард. – Такое можно говорить не всем.
Я услышал глухой шум, идущий из долины. Казалось, в подземном мире фурии ритмично молотят каменными молотами в огромный барабан. Птицы продолжали петь – они явно давно привыкли к этому звуку. Но мне он показался очень зловещим.
– Что это за гром? – спросил я, оглядываясь на других работников.
– Это мельница, – объяснил Ричард. – Там дробят руду. Два молота приводятся в действие водяным колесом. Они дробят руду, чтобы потом ее можно было расплавить в печи.
Когда мы подошли ближе, грохот молотов заглушил птичье пение на деревьях. Группы работников собрались возле прикрытых дерном угольных костров, горевших возле тропы. Чуть в стороне, на склоне холма стоял дом под соломенной крышей. С одной его стороны я увидел большое водяное колесо, установленное на отведенной от реки канаве. Мы с Уильямом и еще несколько новичков шагнули вперед, чтобы рассмотреть этот источник громоподобного шума. Шумно было так, что мы не могли разговаривать друг с другом.
Деревянная дверь отворилась, и мы вошли внутрь. Весь дом содрогался от грохота молотов. Внутри было дымно. Свет поступал через два маленьких, незастекленных окна. В доме было очень жарко и влажно. Когда глаза мои привыкли к полумраку, я увидел напротив себя возле стены печь. Возле нее стояли два работника с лопатами на длинных ручках. Они перекладывали желтовато-белый расплавленный металл, вытекающий из выпускного отверстия печи, на специальные поддоны для остывания. Я знал, что сильно нагретый металл начинает плавиться, становясь похожим на густую похлебку. Я видел, как плавили свинец при постройке церквей – расплавленным свинцом запечатывали стыки кровельных листов. Но я никогда не видел, чтобы олово зачерпывали лопатами. Когда один из работников отложил лопату и начал качать меха, чтобы снова разжечь печь, я заметил, как на плечах другого работника блестит пот.
Справа от печи находилась открытая дверь – оттуда и доносился оглушающий ритмичный звук. Два работника подкидывали руду на гранитные жернова, по которым колотили два массивных молота. При вращении водяное колесо приводило в действие рычаг, который по очереди поднимал и опускал молоты. Под ударами этих мощных молотов руда превращалась к крошки и пыль. Я видел подобные мельницы раньше: водяное колесо приводило в действие молоты, которые выбивали шерстяную ткань, но эта мастерская меня просто поразила. Я не понимал, как люди могут постоянно работать в этом адском шуме среди витающей повсюду оловянной пыли. На улице мне показалось очень холодно и как-то уныло. Я больше не слышал пения птиц, грохот молотов заглушал все остальные звуки.
– Я отойду по нужде, – сказал Уильям, когда мы стояли, оглохшие от страшного шума. – Эти молоты скоро начнут стучать еще чаще.
Уильям отошел в сторону, а я вернулся к лошадям. Я смотрел на затянутое темными тучами небо над пустошью. Становилось все холоднее – казалось, вот-вот пойдет снег.
Мы зашагали по дороге, уходящей вверх. Дорога становилась все более узкой. Мы приближались к крутому спуску. Мастер остановил лошадей и отвязал их друг от друга. Ветер был так силен, что он чуть было не потерял свою шапку. По склону мы повели лошадей и пони по одной. Если бы кто-то поскользнулся на мокрых камнях, мы все могли бы кубарем полететь вниз. Когда все оказались внизу, лошадей и пони снова связали в цепочку, и мы зашагали по каменистой тропе к следующему холму. Пронизывающий ветер трепал кусты вереска и дрока, траву и пожухлый папоротник.
Я попытался заговорить с Джорджем Беддоузом, но он оставался столь же неразговорчивым, как и раньше. Я сдался и переключился на Стивена Уоллера, пришедшего в Чагфорд с востока графства. Я спросил, почему он решил работать у Периэмов.
– У меня не было выбора, – ответил он. – Лорд забрал мою землю.
– Почему он так поступил?
– У моего деда было восемнадцать акров на больших полях, и все были хорошо обработаны. А еще у нас было десять акров пастбища и десять акров лугов. Дед мой имел право пасти трех коров и двадцать овец на общих землях. Потом шерсть вздорожала, и лорд забрал общие земли, выплатив нам всем немного денег.
– Почему вы согласились их продать?
– Если бы мы не отказались от общих земель, то вряд ли получили бы какие-то новые участки на больших полях, – пояснил Стивен, с трудом перекрывая вой ветра. – Нам пришлось согласиться. Но у меня оставались мои восемнадцать акров, и мы с женой кое-как справлялись. Но потом стюард лорда сказал, что он покупает оба поля, где находились мои участки. Я отказался, сказав, что нам без них не прожить. Мы уже унавозили их на следующий год. Да и незаконно это – сгонять крестьян с земли. Через два дня я вернулся домой с рынка и увидел, что все мое имущество – инструменты, стол, скамьи, кухонная утварь, постель – валяется на земле, солома с крыши нашего дома увязана в тюки, а люди лорда ломают мой дом. Они сказали, что мы больше не считаемся местными жителями и лорд теперь может забрать нашу землю. Стюард дал мне шесть шиллингов и восемь пенсов компенсации за дом и велел убираться. Жена и дети были в слезах. Я сам чуть не плакал, но что было делать? И мы отправились в Эксетер, а потом я пришел к Периэмам.
– Похоже, простые люди дорого платят за богатство страны.
Ветер взвыл с удвоенной силой, чуть не сбив нас с ног. Стивен Уоллер выждал, пока ветер не стих.
– Поговори с любым из этих людей, – сказал он, – и они расскажут тебе то же самое. Нас всех выбросили из жизни – так или иначе.
Мы молча шагали по каменистой тропе, сгибаясь под порывами ветра. В глазах стояли лишь коричневые купы болотных трав, темно-коричневый торф и серые камни. Я заметил, что мы все еще идем вдоль реки Тейн, хотя теперь она напоминала уже не реку, а небольшой ручей. Ветер стал оглушающим. Мы отошли от мельницы всего на милю, но грохот молотов стал почти не слышен. Было удивительно, как этот маленький ручей может приводить в действие такие огромные молоты. Силы природы соперничали в борьбе за первенство, и каждая показывала свою непреодолимую мощь.
До Уотерн Тора я больше ни с кем не разговаривал. Лица работников были мрачными. И когда мы добрались до места нашей работы, мне стал ясен истинный смысл слов олдермена Периэма. Нам действительно предстояло копать олово – прямо в склоне холма. На склоне мы увидели огромную серо-коричневую расщелину, где трудилось с полдюжины мужчин с мотыгами. Еще трое разбивали большие куски породы тяжелыми кувалдами. Мелкие куски складывали в тачку и везли на вершину холма.
Раньше я был каменщиком. Я придавал камню прекрасную форму во славу Господа. Теперь же я оказался на продуваемой всеми ветрами пустоши, где мне предстояло разбивать камни для камнедробильной машины ради богатства олдермена Периэма. Мне страшно захотелось вернуться к камням Скорхилла и попроситься назад, в свое время, чтобы спокойно умереть там, где меня знали и уважали. Но потом я вспомнил Лазаря, кузнеца Ричарда и его дочь. И мне показалось, что в этом месте я оказался неслучайно.
Лошадей и пони отвели на вершину цепи холмов. Ветер там был так силен, что буквально сбивал с ног. По ту сторону холма оказалась еще одна дробильная мастерская. Спускаясь мы слышали уже знакомый громоподобный грохот, перекрывавший даже вой ветра. Я окинул взглядом голую пустошь. Кроме дробильной мастерской под нами и еще одного каменного дома рядом с ней, никаких построек больше не было. Вокруг была пустынная, голая земля, не пригодная ни для чего, кроме выпаса тощих овец. Уильям был прав: это рычаг. Но он не поднимает людей, а втаптывает их в грязь.
Мы повели лошадей и пони вниз по склону, к дробильне. Там мы разобрали их груз и пустили пастись на пустошь. Вторая постройка оказалась домом: там работники жили, когда не занимались работой. Здесь мы сгрузили припасы. Дальше нам велели грузить олово, переработанное в плавильной печи. Каждый слиток весил чуть больше хандредвейта (около 50 кг), и носили мы их в одиночку. Работа была тяжелой. Когда мы все сделали, работники, которые дробили камни при нашем появлении, ушли – им предстояло отвести нагруженных пони в Чагфорд. Там олово предстояло взвесить и оценить. До самой темноты мы добывали руду, дробили ее и в деревянных тачках отвозили в дробильню и на переплавку.
Мы почти не разговаривали друг с другом. Работа была выматывающей, и ветер выл слишком громко. Попытавшись завязать разговор в дробильне или на самом руднике, я понял, в каком отчаянном положении оказались мои товарищи. Эдвард Боуден был вынужден покинуть свой приход: он отказался принести клятву верности королю, который провозгласил себя главой Церкви. Но сделал он это не потому, что признавал верховенство Папы Римского: он оказался одним из тех фанатиков, которых называли протестантами. Он верил в то, что истина содержится только в Библии, а все остальное – это искажения тех, кто неспособен постичь истинного смысла веры. Его единоверцы подвергались страшным гонениям. Одну из них, Анну Аскью, всего полгода назад страшно пытали в лондонском Тауэре. На дыбе ей вывернули из суставов руки и ноги, а потом сожгли на площади. Все ее преступление заключалось в том, что она читала Библию и не признавала за священниками права толкования ее истинного смысла. За это она приняла поистине мученическую смерть. Уильям считал, что никто не будет заниматься домашней работой, если женщины научатся читать. Но женщины явно пошли гораздо дальше.
Когда спустились сумерки, мы зажгли факелы, закрепленные в расщелинах, и попытались колоть камни в их тусклом свете. Но ветер был слишком силен, а факелы быстро догорали, поэтому мастер объявил конец работы. Мы подняли молоты и укрепили их клиньями. Поступление воды на водяное колесо перекрыли, печь загасили, подготовив ее к утренней плавке. Оставшиеся работники направились в дом, который представлял собой простую длинную каменную хижину. Мы поужинали хлебом, холодным мясом и сыром при свете лучин, закрепленных на стенах. Пили мы странный напиток – наши товарищи называли его «пивом». Он был похож на наш эль, только чище и крепче. Ветер выл и свистел за стенами дома. Под этот свист начались рассказы о том, как люди делали и теряли состояния на олове. Но мы все еще остерегались друг друга. Взаимное недоверие ощущалось почти физически. Рассказывая об удачной находке, никто не называл точного места.
Ветер завывал вокруг нашего жалкого жилища, хлопая дверью. Я слушал истории рудокопов и думал, насколько хуже сейчас в открытом море. И я вспомнил моряка, товарищи которого умерли от отчаяния при мысли о том, что они никогда не увидят твердой земли. В некотором смысле все мы тоже были в открытом море – мы были выброшены из общества, к которому некогда принадлежали. Верили ли эти люди в то, что когда-нибудь смогут вернуться? Я смотрел на их лица. Того человека согнали с его земли, а этот пострадал за свою веру – но они все еще продолжали цепляться за жизнь и хранили веру. Тот, кто потерял землю, надеялся построить новый дом для своих детей. Протестант твердо верил, что Бог посылает ему испытания – и это временно. Другие верили в то, что эта работа сделает их богатыми. Им нужно лишь заработать денег, чтобы начать собственное дело, и они станут такими же, как олдермен Периэм и его сын. Их надежды были совершенно не похожи на то общество, в котором некогда жил я сам. Мы были гораздо более едины. Мы все принимали Божью волю. Теперь же все люди были разъединены и неудовлетворены. Каждый надеялся, что Бог улыбнется именно ему – ему одному.
Я сидел на земляном полу возле двери. Каждый раз, когда кто-то поднимался, повинуясь зову природы, мне приходилось подвигаться. Когда дверь распахивалась, меня обдавало холодным воздухом. Я дрожал, пока дверь не закрывалась. Пару раз кто-то забывал задвинуть засов, и дверь распахивалась. Мне приходилось подниматься, чтобы закрыть ее.
– Это была ошибка, – прошептал Уильям, когда Ричард Таунсенд направился к двери и вышел из дома. – Мне следовало быть умнее.
– Это работа в наказание, – ответил я.
– Но мы оба знаем, что есть лучшие формы искупления.
– Может быть…
Джордж Беддоуз прошел мимо нас и открыл дверь. Нас снова обдало леденящим холодом.
– И для отдыха тоже есть места получше. Интересно, как сейчас выглядит королевский дворец в Вестминстере?
– Наверное, так же, как любой дворец. Гобелены, сундуки, полные золота и серебра, огромные кухни с поварами и поварятами, часовня с цветными стеклами и стенами. И спальня с огромной кроватью под балдахином – и пуховые одеяла и перины.
– Значит, жизнь изменилась только для бедных, но не для короля и придворных.
– Может быть, у короля есть часы, которые отбивают время, – предположил я (ведь и жизнь богатых тоже должна была измениться). – И желания короля тоже постоянно меняются: начать войну с другим королевством, начать новый крестовый поход, арестовать лорда-изменника… Но живет он точно так же, как и раньше. Он носит корону, сидит на троне, ест жареное мясо и пьет вино. В королевских дворцах время остановилось. Но для этих рудокопов все изменилось.
Мы замолчали, прислушиваясь к вою ветра. Лучина догорела до конца, и мастер зажег другую от той, что еще не догорела. Рудокопы тихо переговаривались, а потом кто-то громко, чтобы слышали все, спросил:
– А кто из нас забирался дальше всех? Пусть тот, кто побывал дальше всех, расскажет свою историю.
Все повернулись к нам.
– Эти парни, в кертлах, они были в Китае, – сказал высокий рудокоп, который не разговаривал со мной.
Я вопросительно посмотрел на Уильяма. Он кивнул мне – именно это он и сказал тому человеку.
– Говорите, говорите, говорите, – потребовал один рудокоп, и вскоре к нему присоединились все остальные.
Уильям поднял руку.
– Хорошо, мы расскажем. Но вы точно не поверите и половине из того, что мы видели.
– С кем вы вышли в море?
Уильям покачал головой.
– Друзья, мы не плыли в Китай. Мореплавание – это для слабаков. Нет, мы вышли из Дувра и перебрались в Кале в девятнадцатом году правления нашего монарха. И на тамошнем рынке я продал немало шерсти. Мы собирались уже вернуться на английские берега, но судьба свела нас с ломбардским торговцем по имени Никколинус. И он сказал, что если мы готовы отправиться с ним на восток и вложить свои деньги в китайские специи и шелка, то обогатимся, как и мечтать не могли. И мы решили последовать за ним.
По пути до Венеции мы покупали и продавали ткани, – продолжал Уильям, – и в Ломбардию прибыли богаче, чем раньше. Когда мы добрались до Венеции, я чувствовал себя настоящим принцем в подбитой мехом мантии, а Джон делал щедрые пожертвования всем церквам, где хранились святые мощи. Никколинус принял нас в своем красивом доме, прямо на берегу моря, в тени гор, в окружении парка, где бегали олени. Нас приняла прекрасная жена Никколинуса, темноволосая и кареглазая Фиеска. На ее лице всегда играла улыбка. За обедом она наливала нам вино в серебряные кубки, а слуги наблюдали. У Никколинуса была большая шахматная доска из черного дерева, слоновой кости и золота. Он предложил мне сыграть, и я, не желая его разочаровывать, согласился. «Назови свою ставку», – сказал я. «Все богатство, привезенное вами из Франции», – ответил он. Я опешил, но отступить не мог, поэтому согласился. «Но ты тоже должен сделать ставку равной ценности. И если уж ты назвал мою ставку, я назову твою». «Назови, и я с радостью приму твое предложение». И я ответил: «Ночь в постели с твоей женой». Я сказал это так, чтобы она слышала, и еще добавил: «Ибо она – самая прекрасная женщина, какую я видел. За пределами Девона, конечно».
При этих словах раздались смешки. Уильям явно сумел завладеть вниманием слушателей, поэтому я решил молчать.
– Никколинус с гордостью сказал, что ему нечего бояться, поскольку он сумеет и заполучить мои деньги, и спасти честь жены. Но он не знал женщин! Он даже собственной жены не знал! Я видел, как ей не понравилось, что он готов поставить ее честь на кон. Зато мои слова ей очень понравились: ведь я сравнил ночь с ней со всем своим богатством. В шахматах Никколинус оказался большим мастером – он быстро съел четыре мои пешки. Но в этой игре я ставил на королеву. Когда Фиеска наливала нам вино, мужу она налила темного, крепкого ликера, который он очень любил, и он похвалил ее за внимательность. В мой же кубок она налила напиток из похожего кувшина – но это была простая вода! Она была хитрой лисой, эта Фиеска. Я долго обдумывал каждый свой ход, часто поднимая кубок и говоря: «Никколинус, это превосходнейшее вино! Спасибо, что не жалеешь его для гостей». Естественно, что Никколинус пил так же часто, как и я, и очень скоро был уже пьян, как монастырский келарь. Он ошибся с одним ходом, и это разозлило его. Он стал ругаться на меня за медлительность, но к тому времени дело уже было сделано. Я стал еще дольше обдумывать свои ходы. Веки Никколинуса стали смыкаться, и он заснул прямо на столе, смешав все фигуры. И тогда Фиеска взяла его кубок и осушила до дна. Потом она наполнила его снова и сказала слугам: «Вы все свидетели: я обязана провести ночь с этим мужчиной. А мужу моему нет дела до моей женской чести – вы все видите, как он напился». И мы с ней отправились в постель. Клянусь сапогами Господними, в постели она оказалась горячей штучкой! Мы не спали всю ночь, и она доставила мне такое наслаждение, что я сказал ей, что с радостью отдал бы все заработанные во Франции деньги за такую ночь любви. Она же рассмеялась, сказала, что не будет ставкой в игре и что я вознаградил ее достаточно, унизив ее гордеца-мужа перед слугами. Утром она разбудила меня рано, чтобы я уехал прежде, чем муж проснется. А когда я уходил, она вложила мне в руку кошель с дукатами, чтобы я скрылся побыстрее. А если вы мне не верите…
Уильям бросил на меня хитрый взгляд и протянул руку за моей сумой. Он открыл суму, достал кошель и показал рудокопам золотые монеты.
– Вот последние дукаты…
Рудокопы склонились над сумой, чтобы разглядеть монеты, которые доказывали правдивость этой истории. Они смеялись и толкали друг друга локтями.
– А где Ричард Таунсенд и тот молчун? – вдруг спросил Эдвард Боуден. – Они уже давно ушли.
Мы замолчали. Под соломенной крышей выл ветер. Дверь стучала под его порывами.
Мастер указал на меня и еще двоих, с которыми я не познакомился.
– Джон, Роберт, Ричард, вы пойдете со мной. Надо осмотреть дробильню.
Мы зажгли факелы, и черный дым потянулся под крышу. Стоило открыть дверь, как порыв ветра чуть не задул наши факелы. Я инстинктивно отпрянул, но потом склонил голову и зашагал к дробильне, полагая, что Беддоуз и Таунсенд не ушли далеко. Я пошел вдоль стены дома: земля под ногами была неровной, я то и дело спотыкался о груды отработанной руды, камни и пучки травы или скользил по влажной грязи. Ветер был так силен, что факел мой почти потух. Мне не удавалось рассмотреть почти ничего, но тут я неожиданно увидел руку. Я наклонился и поднес факел к лицу человека. Это был Ричард Таунсенд. Его темные волосы, словно траву, трепал ветер. Пульса мне нащупать не удалось, запястье было чуть теплым. Он лежал в луже крови, с открытым ртом и широко распахнутыми глазами, словно в последний момент жизни его что-то изумило.
Я выпрямился и поднял факел, пытаясь рассмотреть окрестности, Рядом никого не было. Беддоуз, по-видимому, сбежал.
Я крикнул остальным, но они не услышали меня. Поэтому мне пришлось снова выбраться на скользкую тропинку, которая привела меня сюда, и позвать снова. Я увидел свет факела – мои спутники вышли из дробильни.
– Ричард Таунсенд мертв, – крикнул я. – Он лежит там, у дома.
– Ричард мертв? – переспросил мастер.
– Тот молчун был крепким парнем, – заметил второй рудокоп.
– Его ударили сзади, – пояснил я. – На таком ветру он ничего не услышал.
Мы пробрались туда, где лежал труп. Мастер закрыл Ричарду глаза, выпрямил ноги и скрестил руки на груди. Мы перекрестили его и вернулись в дом.
В доме мастер вышел на середину и осмотрелся.
– Ричарда убили. Кто-нибудь хочет что-нибудь сказать?
– Упокой, Господи, его душу, – произнес один рудокоп, и остальные отозвались нестройным хором: – Аминь.
– Он был хорошим человеком, – сказал кто-то из нас.
– Я всегда подозревал Беддоуза! – воскликнул Эдвард Боуден. – Он не подходил для этой работы. Держу пари, он вышел только для того, чтобы убить Ричарда!
– Но зачем?
– Этого мы никогда не узнаем…
– Может быть, нам нужно искать его? – спросил я.
– Ночью ты наверняка собьешься с пути и попадешь в трясину, – ответил мастер. – И тебя засосет, прежде чем ты успеешь понять, что случилось. Никто не услышит твоих криков о помощи и не увидит тебя. Если есть в мире справедливость, то с Беддоузом случится именно это.
– Мы похороним тело? – спросил Боуден.
Мастер взглянул на него.
– Мы на Дартмурской пустоши, в приходе Лидфорд. Даже если бы мы знали дорогу, добираться до церкви целый день. Чтобы похоронить его по церковному обычаю, мне придется выделить опытного человека и крепкого пони. Еще день уйдет на возвращение. И шесть пенсов придется заплатить за рытье могилы. Некоторые из вас знали Ричарда. Я не буду приказывать вам, что делать, а чего не делать. Но есть ли среди вас тот, кто знает дорогу в Лидфорд и готов отвезти его туда, потратив на это два дня без платы?
Все молчали.
– Тогда решено.
– Мы просто оставим его там? – спросил я.
– Мы привяжем ему к ногам камень и бросим в трясину в долине. Завтра утром. Прежде чем сюда кто-нибудь придет.
– А его одежда? – спросил Уильям.
– По обычаю, одежда мертвеца принадлежит тому, кто нашел тело. Джон может забрать ее.
– Она будет ему велика, – пробормотал кто-то.
– Но подойдет моему брату, – ответил я.
– Отдай одежду, кому захочешь, – скомандовал мастер. – А деньги из его кошеля мы разделим поровну между всеми.
Мы с Уильямом поднялись и снова зажгли факелы. Когда мы уходили, тщательно закрыв за собой дверь, никто не сказал ни слова. Когда мы подошли к трупу, Уильям взял факелы, а я стащил с тела одежду, шапку, пояс, нож, кошель и сапоги. Все это я придавил камнями, чтобы не унес ветер.
Прежде чем вернуться, я встал на колени и произнес молитву за упокой души усопшего. Наверное, моя молитва станет единственной. Семья его не узнает, что он был убит ударом в спину, а тело его сброшено в трясину на болоте.
– Когда ты беден, – сказал я Уильяму, – тебе никому не помочь. Все твои мысли заняты тем, чтобы самому как-нибудь прожить.
Он не расслышал моих слов.
– Что ты сказал? – крикнул он.
Я посмотрел ему в лицо и покачал головой. Собрав одежду, я поспешил обратно в дом. Уильям следовал за мной.
После этого происшествия никто не разговаривал. Мы легли и попытались заснуть. Уильям надел кожаный колет мертвеца, а сверху натянул собственную одежду. Свой старый плащ он отдал мне, чтобы было теплее. И потом наступила тишина – слышен был только вой ветра на пустоши.
Я пытался осознать смысл этой смерти. Она не будет записана ни в одной книге. Через десять лет мало кто вспомнит, что был такой Ричард Таунсенд, и почти никто не будет помнить, как он выглядел. Через девяносто девять лет о нем совсем забудут. Даже убийство не имеет никакого значения. Это слово кажется нам таким значительным, но в действительности смерти не имеют значения – разве что умрет сам король. Через четыре дня, когда настанет моя очередь умирать, никому не будет дела до человека по имени Джон из Реймента – или Жан де Рейман – или Джон Исреймен. Мои жена и дети не узнают об этом. Они и сами давным-давно умерли.
Честно говоря, я больше не боялся смерти. Меня страшило только одно – что я не встречусь с ними после смерти.
V
Я задыхался. В ледяном мраке я не понимал, куда идти. Мне казалось, что я умираю.
Не сейчас, вспомнил я. У меня есть еще четыре дня. Но дышать я все равно не мог. Я рванулся вперед, сопротивляясь, словно оказался под водой, дергая руками и ногами. И неожиданно я ощутил прилив свежего воздуха. Я глотал его большими глотками, но ничего не видел.
Я оказался в огромном ледяном сугробе. Была ночь, но я не видел звезд.
– Уильям! – крикнул я во мраке.
Голос мой прозвучал глухо и странно.
– Уильям! – крикнул я снова.
Я вскочил на ноги. Ни ветра, ни звука.
Меня била крупная дрожь. Я не слышал ничего, кроме собственного голоса. С нашего времени прошло двести девяносто семь лет. Сейчас, наверное, одна тысяча шестьсот сорок пятый год – если верить канонику-прецентору. Я вспомнил, что сегодня семнадцатое декабря, и вычислил, что это среда. Но больше я ничего не знал. Я не слышал даже журчания ручья, который приводил в действие водяное колесо. Единственным моим ощущением был холод – ноги заледенели, руки промерзли до костей.
– Уильям! – кричал я. – Уильям!
Я вспомнил, что, засыпая, положил под голову свою дорожную суму. Потянувшись во мрак, я нащупал ее. Ладонью я отгреб снег в сторону, нашел завязки и вытащил суму на поверхность. Под рукой возникли знакомые формы металлических резцов и распятия. Одежда, лежавшая в суме, намокла и превратилась в бесформенный комок.
А что, если рассвета не будет? Что, если в этом году солнце больше не поднимается? А вдруг весь мир покрыт безмолвным белым снегом? Сколько бы меня ни пугали адским огнем, я не мог представить ничего хуже пребывания в мире без света и звуков, в окружении глубокого белого снега. В мире вечной зимы. Хуже всего было то, что я остался совершенно один. Даже грешнику, который пребывает в аду в обществе себе подобных, лучше, чем душе, замерзающей в одиночестве.
Рядом послышался шорох. Я насторожился и прислушался. Я был бы рад, даже если бы это оказалась обычная лиса, прокладывающая себе путь в сугробах.
– Раны Христовы! – услышал я голос Уильяма.
– Слава богу!
– Я ослеп или вокруг действительно темно?
– Если ты ослеп, то и я тоже.
– И тебе так же холодно, как и мне?
– Ради всего святого, Уильям, конечно! Я продрог до костей. Нас со всех сторон окружает снег и лед.
– Хорошо бы нам никогда отсюда не выбраться…
– Это была твоя идея. Это ты предложил отправиться с рудокопами.
– Моя идея? Это ты заявил, что нам нужно идти в пустыню: «Пустыня – это творение Господне в первозданном его виде!» Ну вот и получай! Мы с тобой оказались в настоящей пустыне – и я что-то не слышу хора ангелов!
– Уильям, ты передергиваешь! Это ты сказал, что мы ничего не знаем, ничего не умеем и подобны детям. «Пойдем на пустошь – и там мы будем на равных», – сказал ты.
– Черт тебя побери, Джон! Разве мы оказались бы здесь, если бы ты не подобрал больного ребенка?
Мне нечего было ответить.
Даже Господу не понравилось бы в этом холодном, ужасном месте. Да и зачем бы Ему здесь быть? Бог живет в городах – там, где, как говорил олдермен Периэм, человек человеку дьявол, homo homini daemon. Бог живет там, чтобы смягчать жестокие сердца людей и укреплять решимость слабых.
– Куда нам идти? – спросил Уильям.
– Вон к тому темному пятну.
– Что?
– Ну откуда мне знать, Уильям? Мы и шагу не можем сделать, чтобы не свалиться в расщелину или овраг или, того хуже, в трясину.
– Ты полный дурак, Джон! Ты слышишь журчание ручья? Нет! А почему нет? Потому что какой-то злой дух осушил его за последние девяносто девять лет. Или он попросту замерз. Сейчас по любой трясине можно прокатиться с ветерком, Джон. – Уильям помолчал и добавил: – Послушай, нам нужно выбраться на вершину холма. Прошлой ночью я заснул в середине комнаты, значит, дверь должна быть с твоей стороны.
Я услышал, как он приближается ко мне, потом почувствовал касание его руки. Вместе мы нащупали разрушенную стену дома и выбрались из четырехфутовой ямы. Мы направились туда, где, как нам казалось, была тропа.
Идти по глубокому снегу было тяжело. Целая вечность прошла, прежде чем мы добрались до вершины. К этому времени небо начало светлеть, но мы по-прежнему ничего не видели. Только снег, лед и серое небо… Глазу не за что было зацепиться. Вокруг не было ни одного дерева – только холмы и сугробы.
Переведя дух, мы направились на восток. Перед нами простиралась заснеженная равнина. Встающее солнце, еле видимое за облаками, освещало безмятежную, идеальную – и абсолютно бесчеловечную картину.
– О чем ты думаешь? – спросил Уильям.
– Ричард Таунсенд надеялся заработать денег, чтобы научить сына читать и писать. Сейчас, наверное, его сын уже мертв. Семья Таунсенда осталась в нищете.
– Так-то ты ощущаешь течение времени…
– Даже сильнее… Я не смог спасти того человека – точно так же, как днем раньше не смог спасти тех детей в домике в лесу. Я не смог совершить доброго дела, даже когда его нужно было свершить.
– Может быть, так Бог неявно показывает тебе, что ты не создан для вечного блаженства?
– Тогда зачем мы здесь? Зачем все это, если мы просто бесцельно движемся по своему пути, направляясь в ад?
– Я замерз, – ответил Уильям. – Я промок, и я голоден. И здесь нет женщин. В мире нет жизни, если в нем нет женщин.
– И в этом ты видишь смысл нашей жизни? В сухости и тепле – в еде и женщинах?
– Да.
– И это все?
– Джон, этот мир мне подходит, я точно знаю.
Мы зашагали вперед, время от времени оглядываясь на свои следы на снегу, чтобы убедиться, что мы движемся на восток. Через два или три часа мы увидели круг камней. Некоторые уже упали, другие стояли на своих местах на склоне холма.
– Ты знаешь, что это за место, – сказал Уильям.
Скорхилл. Только один камень сохранился в прежнем виде. Я вспомнил, как мне хотелось вернуться сюда и попросить смерти в собственном времени. Теперь же подобная мысль была мне чужда. Мы пошагали дальше – мы были рады, поняв, где находимся. А когда солнце, наконец, пробилось сквозь тучи и заиграло на снегу, слепя глаза, настроение у нас еще больше улучшилось. Мы поднялись на холм, спустились по противоположному склону – и наконец-то увидели первые деревья. Толстые ветви были припорошены снегом – в неярком свете они показались нам очень красивыми. Где-то рядом запели птицы. Впереди показались заснеженные стены первых домов.
Через несколько минут мы нагнали невысокого плотного мужичка в кожаной шапке, холщовой накидке и тяжелых кожаных сапогах. Он нес вилы, которые явно были длиннее его самого. Более всего нас поразила его борода. Подбородок у него был выбрит, но по бокам красовалась пышная борода, переходящая в бакенбарды. Мужичок сгребал сено на заснеженном поле, где паслись две серые лошадки.
– Вы за парламент или за короля? – крикнул он нам, весьма угрожающе наклоняя свои вилы.
Уильям повернулся ко мне.
– Король или парламент. Мы за кого, Джон?
– Мы не хотели бы никого обидеть – мы простые странники, – прокричал я в ответ.
Мужичок в шапке озадаченно посмотрел на меня.
– Что ты сказал? Почему это вы так странно разговариваете? Бьюсь об заклад, вы – роялистские шпионы. – Он снова наставил на нас свои вилы. – Пошли-ка со мной. Будете держать ответ перед мистером Парлебоном.
– Мистером? – недоумевающе посмотрел на меня Уильям. – Что это за имя такое?
– Наверное, это титул, вроде «мастера», – ответил я.
– Руки вверх, – скомандовал мужичок, угрожающе наставляя на нас вилы.
Мы шли мимо красивого каменного дома. С краев крыши свисали сосульки длиной семь или даже восемь футов. Они блестели на солнце и уже начали подтаивать. Я почувствовал запах дыма – над трубой поднимался дымок. Но мужичок вел нас не сюда. По-видимому, «мистер» жил в более солидном доме. И примерно через четверть мили мы этот дом увидели.
Особняк мистера Парлебона тоже был построен из гранита, но оказался намного выше и больше. Все камни были тщательно обтесаны – так мы готовили блоки для колонн соборов, чтобы их поверхность была абсолютно гладкой. На верхнем этаже я увидел высокие стрельчатые окна, украшенные красивой резьбой. Слева от портика располагались четыре застекленных окна – я решил, что там находится большой зал. Над входной дверью красовалась арка с резными изображениями солнца. Один элемент был поврежден. На крыше этого дома никаких сосулек не было – вода стекала со свинцовых листов в водостоки и свинцовые трубы. Двор перед домом был вымощен брусчаткой. Слева находилась конюшня. В ограде имелись ворота, за которыми я увидел хозяйственные постройки – амбары, птичники, хлева и свинарник.
Пока я осматривал хозяйственный двор, кто-то рассыпал зерно для кур, и они бросились туда прямо по снегу. Я заметил среди кур трех более крупных, упитанных птиц: они странно горбились и были покрыты черными перьями. На голубоватой голове, лишенной перьев, я увидел странные красные наросты, напоминавшие кровь. По снегу прогуливались еще две такие птицы, с удовольствием клевавшие корм.
– Что, черт побери, это за птицы? – спросил Уильям.
– Индейки, – ответил крестьянин, утирая нос рукавом.
– Откуда они взялись? – поинтересовался я.
– Оттуда же, – хмыкнул наш конвоир, – из-за амбара.
Прежде чем я успел объяснить, что имел в виду, под портиком появилась женщина. Ей было лет за тридцать. Одета она была в длинное синее платье с белым фартуком и белым воротничком вокруг шеи. Бедра у женщины оказались на удивление широкими – платье явно было чем-то подбито, потому что ни одна женщина любого возраста не могла бы иметь столь пышную фигуру. На локте женщина держала корзину, а руки сложила на животе. Но больше всего нас поразили ее волосы: они были рыжевато-русыми и волнами спадали на плечи. В наши времена только незамужние девушки могли выходить из дома с распущенными волосами. Но эта женщина была уже в возрасте, и такая красавица никак не могла быть не замужем.
Женщина смотрела на нас.
– Что это за люди, Калеб? – спросила она, переводя взгляд с меня на Уильяма и обратно.
– Роялистские шпионы, мистрис Парлебон, – ответил крестьянин. – Я заметил, как они рыщут вокруг верхнего поля.
– Наверняка на наших лошадей нацелились. – Женщина смотрела прямо на меня. – Полковник Фейрфакс уже забрал всех наших кобыл. – Она посмотрела на Уильяма. – Ну же, расскажите мне все, если языки не проглотили. Что привело вас в Гидли?
– Мы пришли полюбоваться вашей красотой, миледи, – галантно ответил Уильям. – Эти локоны обрамляют лицо ангела. Ваша кожа бела, как снег на пустоши. А ваши губы напоминают изогнутые луки херувимов, хранящих сладкие наслаждения рая.
– Сомневаюсь, что найдутся столь сладкоречивые шпионы, – улыбнулась женщина.
– Мы не шпионы, мистрис Парлебон, – вмешался я. – Мы странники, и мы заблудились. Сильно заблудились. Мы знаем, где находимся, но не знаем больше ничего. Я не знаю, как мы сюда попали, куда идем и как добраться куда бы то ни было. А еще я не знаю, как нас примут, когда мы придем, и когда это может случиться. Честно говоря, я даже не знаю, почему мы оказались здесь. Мы совершенно потерялись.
Мистрис Парлебон рассмеялась. Полосатая кошка выскользнула из полуокрытой двери и побежала по снегу. Калеб воткнул вилы в снег и наклонился, чтобы подозвать животное. Он щелкал пальцами, чтобы привлечь внимание кошки. Кошка подошла, и он стал гладить ее.
– Калеб, если эти люди кажутся тебе шпионами, ты должен был бы следить за ними, а не играть с котенком. – Женщина повернулась к нам. – Как ваши имена?
– Я – Джон Дреймен. – Я назвался так, как меня записали в рудокопы в Чагфорде. – А это мой брат Уильям.
– Вы голодны? Верно?
Женщина смотрела на нас с Уильямом. Я был страшно голоден, но понимал: признайся я в этом – и она сочтет нас нищими попрошайками. Поэтому я покачал головой.
– Мы страшно голодны, – признался Уильям. – Я сейчас лошадь съел бы.
Мистрис Парлебон обратилась к крестьянину.
– Калеб, не волнуйся из-за этих людей. Возвращайся к работе. – Она повернулась к нам. – Входите и обогрейтесь у камина в холле. Мы – добрые протестанты и с радостью разделим с вами наш обед.
Входя, я коснулся поврежденной резьбы на портике. Мистрис Парлебон заметила мой интерес.
– Арку повредили солдаты короля, проходившие здесь после битвы при Блэкэтон-Мид.
– Из пищали?! – удивился я.
– Ну да. Точнее, из мушкета.
Я внимательно присмотрелся к поврежденному камню. Если бы у нас было достаточно времени, я мог бы восстановить резьбу. Но на это ушел бы целый день, а то и больше. Гранит – камень сложный, он слишком легко крошится.
Мы с Уильямом вошли в дом. Внутренняя дверь состояла из множества толстых дубовых плашек. Дверь закрывалась на мощный засов. Это показалось мне странным: тот, кто хотел проникнуть в дом, легко мог сделать это через большие застекленные окна. Но при этом входная дверь казалась неприступной.
Пройдя через темный коридор, мы оказались в большом зале с каменным полом и стенами, отделанными дубовыми панелями. В дальнем конце пылал большой камин – в комнате было очень тепло. Я слышал, как потрескивают поленья. Рядом с камином стояла большая скамья – человека на три – с высокой спинкой, чтобы сохранять тепло. Прямо перед нами стоял длинный стол, покрытый белой скатертью. По обе его стороны мы увидели скамьи, а в торцах – кресла. Стол был накрыт на шестерых – шесть салфеток, шесть серебряных ложек и шесть серебряных тарелок. А еще четыре стеклянных кубка!
– Подождите здесь, – сказала мистрис Парлебон. – Я схожу за Карнсли и попрошу его позаботиться о вас.
Мы с Уильямом огляделись. На окнах висели зеленые бархатные занавеси. В одном углу стоял расписной столик с глубокой выемкой – словно гроб на деревянных ножках. На нем стояла бело-голубая посуда исключительного качества – в наши времена так демонстрировали серебряную утварь. На стене напротив окна мы увидели несколько картин в позолоченных рамах. На одной была изображена битва: множество солдат в доспехах и лошадей. На другой я увидел мужчину, положившего руку на стол, накрытый черной тканью. Мужчина явно был богат. Длинные его волосы были откинуты назад, открывая высокий лоб. Плечи туники явно были чем-то подбиты, но талия была узкой, поэтому грудь гордо выпячивалась вперед. Бедра прикрывала короткая юбка из расшитой ткани. Штаны были украшены теми же узорами в тех же цветах. На икрах красовались белоснежные чулки и черные туфли с серебряными пряжками. С пояса свисали ножны очень узкого меча с богатым эфесом.
Уильям коснулся струн музыкального инструмента, висевшего на стене. По форме инструмент напоминал каплю с шестью струнами и грифом.
– Как ты думаешь, какую музыку они сейчас играют? – сказал я, подходя к нему, бросая свою дорожную суму на скамью возле камина и протягивая руки к огню.
– Наверное, веселую, – ответил брат. – У хозяина этого дома есть все, о чем можно желать: стеклянные окна, камин, подушки, картины, музыка, еда, серебряная посуда – и красивая жена.
– Она сказала, что идет война.
– Похоже, война ее не слишком беспокоит.
Послышались шаги, и в дверях появилась мистрис Парлебон с молодым, темноволосым слугой.
– Карнсли поможет вам переодеться в сухое, – сказала она. – А потом он приведет вас в холл на ланч.
– Ланч – это обед? – поинтересовался Уильям.
– Именно. Повар сказал, что сегодня у нас будет пирог с олениной и овощами.
Мой рот наполнился слюной при одном упоминании об оленине, царском мясе, которое могли позволить себе только очень богатые.
– Это настоящий рай! Я остался бы здесь навсегда! – прошептал Уильям.
– Я думал, тебе больше нет дела до рая, – ответил я, следуя за Карнсли.
– Я передумал, когда увидел, каким он может быть.
Карнсли был высоким молодым парнем, лет шестнадцати. Он повел нас по лестнице, равной которой я никогда в жизни не видел ни в одном доме. Лестница была из резного дерева, с балюстрадой и поручнями. Она шла вокруг большого квадратного проема, куда проникал свет из окон.
Карнсли провел нас по коридору к деревянной двери и впустил в комнату с белыми стенами. Над камином находился резной фриз с изображением охотников с собаками, преследующими оленя. Напротив камина стояла широкая кровать под балдахином. Деревянные шесты изображали полуодетых женщин под странными деревьями экзотических стран. На кровати лежал пухлый матрас и груда подушек. Около двух стен стояли сундуки. Но мое внимание привлек предмет на столе, справа от камина. Свет от окна играл на нем. Я остановился и подошел ближе. Нагнувшись, я заметил, что свет исчез, а на стекле появилось изображение. Я смотрел на худое лицо – свое лицо! – а оно смотрело на меня.
Изумленный, я отвернулся. Потом посмотрел снова и понял, что это отражение – но не обычное, расплывчатое отражение, как в луже или на воде. Отражение было очень четким – я видел самого себя во плоти и крови!
– Уильям, посмотри!
Я взял странный предмет в руки и снова посмотрел на свое лицо. Желтое, изможденное… Я видел морщины вокруг глаз, шрамы и отметины на щеках, грязные уши, щетину на подбородке… Я видел длинные, грязные, темные волосы. Это мои волосы. Я повернул стекло и посмотрел на себя сбоку. Нос мой оказался совсем не таким, каким я его себе представлял. Но больше всего меня поразили глаза.
– Ты не настолько красив, чтобы так долго себя рассматривать, – бесцеремонно заявил Уильям и отобрал у меня стекло. Осмотрев себя со всех сторон, он обратился к Карнсли: – А это стекло никогда не лжет?
– Нет, – ответил парень, изумленный нашим поведением. – Это зеркало. В нем отражается все, что находится перед ним.
– Ты хочешь сказать, что оно всегда говорит правду? – подозрительно спросил Уильям.
– Да, только наоборот. Если ты закроешь левый глаз, то в отражении закрытым будет правый.
Уильям тут же это проверил. И уставился на себя.
– Значит, вот что видят другие, когда смотрят на меня…
Я отобрал у него зеркало и повернул его так, чтобы видеть лицо Уильяма.
Уильям указал на зеркало, а мне показалось, что он указывает на меня.
– Только подумай, – сказал он, – сколько людей жило, не подозревая, какими их видит мир. Даже Иисус не знал, как он выглядит на самом деле.
Карнсли поднял один сундук и поставил его на другой.
– Мистрис велела показать вам это.
Он открыл крышку. Внутри лежала одежда – кипы одежды!
Я неверяще смотрел на эту одежду – Господь внял моим молитвам!
– Нам нужно сначала помыться, прежде чем надеть такую красивую одежду.
– Это старье, – пренебрежительно ответил Карнсли. – Мистеру Парлебону это больше не нужно. Не думаю, что он захочет, чтобы вы это вернули.
– Но мне хотелось бы помыться…
Уильям кивнул.
– Если уж мы собираемся в рай, то нельзя тащить туда свою грязь.
Карнсли кивнул.
– Я принесу вам воды.
Я начал рассматривать одежду из сундука. Памятуя картину из холла, я выбрал пару красновато-коричневых штанов и белые чулки, а также плотно облегающую тунику того же красновато-коричневого оттенка. Мне впервые довелось надевать одежду с застежками впереди. Я порылся в суме, нашел наименее грязную рубашку и, хотя она была влажной, решил, что она подойдет, а высохнет прямо на мне. Обувь моя не подходила к новому костюму, и я принялся искать что-то другое. Нашел я пару черных ботинок, но под пяткой у них были большие клинья, и я почти не мог в них ходить – а уж убежать точно не получилось бы, поэтому я предпочел остаться в старой обуви на плоской подошве.
Уильям все еще рассматривал себя в зеркале.
– Как ты думаешь, почему мистрис Парлебон была так добра к нам?
– Может быть, она питает слабость к бородатым мужчинам?
– Ну честно, Джон…
– Может быть, таким богатым людям просто не на что тратить деньги – только на добрые дела?
– Ты сам-то в это веришь?
Я пожал плечами.
– Мы уже третий день проводим в другом времени – и сегодня самый странный день. Если бы я спросил тебя: «Ты за короля?», ты ответил бы: «Разумеется». А если бы ты спросил меня, подчиняюсь ли я законам, принятым парламентом, я ответил бы то же самое, ибо парламент управляет от имени короля. Но теперь законодатели и король дерутся друг с другом. Я не знаю, что из этого выйдет.
Карнсли принес нам медный таз с водой. За ним шел второй слуга с тазом, над которым поднимался пар. На руке он нес несколько белых льняных полотенец. Слуга поклонился, приветствуя нас. Оба таза поставили на стол, где прежде стояло зеркало.
– Холодная вода для мытья, – пояснил Карнсли, – а горячая для головы. – Рядом с тазами он поставил глиняный кувшин и два гребня из слоновой кости. – Вот щелок, гребни и полотенца. Обед подадут через полчаса.
Когда слуги ушли, Уильям отставил зеркало. Он выбрал ярко-красную тунику, приложил ее к груди и снова взял зеркало.
– Этот цвет мне идет?
– С каких пор это тебя волнует?
– Бьюсь об заклад, на том, кто носил это последним, не было ни одной вши.
– У всех есть вши. Так всегда было и всегда будет. Людям всегда нужна одежда и обувь, сон, вода и еда. А вшам всегда нужны люди.
Я разделся, помылся и прополоскал волосы в горячей воде.
– Возьми щелок, – посоветовал Уильям.
– И что с ним делать?
– Втирай в кожу на голове. Щелок убьет блох и вшей и смоет грязь. А потом ты сможешь все вычесать.
– Откуда ты это знаешь?
– В наше время я знавал женщин, которые очень заботились о свои волосах.
От щелока кожу защипало. Я наклонился над тазом, но вода потекла по шее. Да уж, мыть голову нелегко. Но еще хуже стало, когда я поднял голову: вода попала мне в глаза, вызвав страшную боль. Я принялся тереть их руками.
Уильям расчесывал волосы перед зеркалом, распутывая колтуны.
– Как думаешь, мистрис Парлебон это понравится?
– О чем ты говоришь?
– Ну, поцелует она меня или нет?
– Она – замужняя женщина!
– Но она же женщина! Если бы ты отвлек ее мужа, я смог бы за ней поухаживать. Ты же не откажешь человеку в последней просьбе? Твоему брату, между прочим, который тебе все прощал.
– Уильям, ты, конечно, мой брат, но иногда ты – сам дьявол. Ну почему ты не можешь оставить женщин в покое? Особенно замужних – и особенно хозяйку этого дома. Не забывай, ты же вот-вот встретишься со своим Создателем!
– Жестоко с твоей стороны, Джон. Ты – человек праведный и честный. Я это знаю. Но ты должен пожалеть меня. В твоей жизни столько радостей, мне же приходится довольствоваться малым. Моя жизнь – стремительная река одиночества. Женщины – это камни, по которым я перехожу эту реку.
– Так они нужны тебе для этого? Чтобы не чувствовать себя одиноким? А ты не можешь обойтись… ну, хотя бы разговором с ними?
– Это все равно что обойтись тестом, не попробовав начинки. Такому, как я, нужно чувствовать. Чувство – вот истинный смысл жизни! Мы доверяем глазам и ушам, но когда хотим постичь что-то в полной мере, мы протягиваем руку, чтобы потрогать.
– Она замужем, и этим все сказано. Ты ей не нужен.
– Никогда еще не встречал женщины, которая говорила бы только «нет».
– Врешь!
– Нет, это правда. Я хочу любить всех женщин, и многие женщины хотят быть любимыми.
Я закончил одеваться и посмотрел на себя в зеркало. Впервые увидеть себя было странно, а в новой одежде я показался себе совершенно чужим человеком. Уильям же прекрасно чувствовал себя в этом красном наряде. Кольцо он повесил себе на шею – гранат, оправленный в золото, прекрасно подходил к его новому костюму.
Вернулся Карнсли. Не сказав ни слова, он сделал знак следовать за ним. Спускаясь по лестнице, я услышал звуки музыки и почувствовал запах еды. В зале я увидел, что все собрались у огня: мистрис Парлебон, трое мужчин и мальчик лет шести. Из расписного стола, который показался мне похожим на гроб на ножках, достали всю бело-голубую посуду, а крышку подняли и установили под углом. Девочка лет тринадцати сидела у этого стола и нажимала на клавиши из слоновой кости, извлекая приятные звуки. Она играла веселую мелодию – причем одновременно исполняла разные партии с изумительным мастерством. Стол теперь был накрыт на восьмерых.
– Итак, вот и наши удивительные странники, – сказал чисто выбритый и коротко подстриженный мужчина лет пятидесяти. Я заметил на нем широкий кожаный пояс с ножнами для меча.
– Должен сказать, – продолжал он, – ваши лица не слишком соответствуют этой одежде. Вы не могли выбрать другие?
– Это не наша вина, – ответил я. – Когда мы выбирали их на рынке, первым был старший брат. Уильям стал вторым, а мне досталось только это.
– Хвала Господу, что у вас нет младшего брата, – сказал пожилой мужчина с седыми волосами и бородой.
– И хорошо еще, что у них не было сестры, – подхватил третий мужчина. У него были длинные темные волосы, спадавшие на плечи, а лицо чисто выбрито. На правой его руке я заметил недавно наложенную повязку. Верхняя одежда была накинута на плечо, чтобы не бередить рану.
– Ну хватит, хватит, – сказал хозяин дома. – Добро пожаловать к нашему столу. Простите мои грубые шутки. Я – Чарльз Парлебон, хозяин этого дома, а эти два джентльмена – мои друзья.
Жизнерадостный молодой человек приветливо кивнул. Пожилой стянул с правой руки перчатку и протянул мне. Он крепко сжал мою правую руку и тряхнул ее, затем проделал то же самое с Уильямом.
– Чертовски холодная зима, не правда ли? – сказал он. – Славно оказаться в теплом доме мистера Парлебона.
Хозяин пригласил нас за стол. Мистрис Парлебон указала на два места поблизости. Мистер Парлебон сел во главе стола, его гости – напротив нас. Мистрис Парлебон уселась в торце, девочка, игравшая на музыкальном инструменте, устроилась справа от меня. Она приветливо кивнула нам и представилась: «Сара». Ее младший брат Томас сел напротив нее.
– Тихо, друзья, – сказал мистер Парлебон и прочел короткую молитву.
Затем он возблагодарил Господа за хлеб насущный. Я заметил, что при упоминании Господа перекрестился только я один. Никто не крестился, даже когда мистер Парлебон произнес имя Христа. Уголком глаза я наблюдал за руками хозяйки дома во время молитвы. Обручального кольца на пальце не было.
Я вспомнил ее слова – «мы добрые протестанты». Не означает ли это, что они ненавидят скульптуры? Потом я вспомнил, что нам подадут на обед – оленину. А ведь сейчас рождественский пост! Мне стало неуютно. Говоря о том, что мы не знаем, как ведут себя люди, я даже не представлял, что они могут пренебречь столь важным постом.
– Аминь, – произнес мистер Парлебон, повернулся к двери и кивнул.
Карнсли и другой слуга были уже готовы. Они внесли два больших серебряных блюда. Сердце у меня забилось, руки задрожали. Все было неправильно! Мне захотелось уйти. Даже голод мой мгновенно прошел. Но эти люди были так добры к нам – они дали нам новую одежду, согрели и накормили. Я не мог отказаться от еды. На ближнем ко мне блюде лежали какие-то белые клубни, напоминавшие жир. На другом – желтые корни.
– Вы никогда не видели моркови? – спросил мистер Парлебон.
Карнсли налил в мой стеклянный кубок немного прозрачного вина.
Я указал на клубни:
– Это морковь?
– Это цветная капуста, – пояснила Сара. – Морковь там.
Даже если бы я оказался в Африке – и то не почувствовал бы себя так далеко от дома. А ведь я родился всего в двух приходах отсюда.
Я увидел, как слуги несут еще одно серебряное блюдо с пирогом. Над блюдом поднимался пар. Запах мяса был одуряющим.
– Мистер Парлебон, – нервно начал я, – ведь сейчас рождественский пост, верно?
– Вы правы.
– А почему мы едим мясо?
– Это не противоречит слову Господа. Сейчас только католики придерживаются старых обычаев. – Он замолк, а потом спросил: – Надеюсь, вы не католики?
Он быстро переглянулся с другими гостями.
– Все зависит от того, что вы имеете в виду под словом «католики»…
– Это очень просто: вы признаете верховенство Рима?
– Я следую слову Господа, наставлениям моего священника и указаниям нашего епископа. Но не в этом дело. Были времена, когда подобных разногласий не существовало. Все англичане признавали верховенство короля в вопросах земных, и верховенство Рима – в духовных. Сегодня общество разделено. Но почему? Как человек может определять волю Господа? Мне кажется, что человек знает Бога не лучше, чем кошка знает своего деда.
– Воля народа есть воля Господа, – сказал пожилой мужчина.
Уильям кивнул.
– Это правда, – и потянулся за куском пирога с олениной.
– Мистер Перкинс прав, – произнесла мистрис Парлебон. – Господь создал человека по собственному образу и подобию. Значит, и волей он наделил человека в соответствии со своей божественной волей.
– Если бы это было так, – ответил я, – накладывая себе морковь, – то Бог был бы таким же, как человек: алчным, неверным, себялюбивым, жестоким и напыщенным. Так говорить нельзя!
– Почему вы говорите так странно и архаично? – спросил молодой человек.
– Мы долго странствовали, – ответил Уильям, прихлебывая вино из кубка.
– Что с вами случилось? Вы были в плену у турок?
– Нет, благодарение Господу!
– Эти турки просто ужасны, – вступил в разговор мистер Перкинс. – Я слышал об одной женщине из Дартмута. Ее муж ушел в море три года назад и не вернулся. Если бы он утонул, она могла бы снова выйти замуж. Но его корабль захватили пираты. Всех мужчин продали на рынке рабов в Тунисе. Прошло семь лет, прежде чем ей позволили объявить мужа умершим и вновь вступить в брак. А до этого времени у нее не было ни денег, ни еды – а ведь ей нужно было кормить троих детей и платить за жилье. Она умоляла священников помочь ей, и они выделяли ей четыре пенса в неделю. Прискорбно видеть женщину в такой нужде – она отдавалась любому мужчине за шесть пенсов!
– Неужели такова воля Господа? – спросил я. – Бог покинул народ свой? Может быть, неверное толкование закона Божьего и заставило Его отвернуться от страданий своего стада?
– Я тебя не понимаю, – сказал мистер Парлебон. – Даже если закон Божий праведно изменялся от поколения к поколению, откуда тебе знать, что, следуя воле народа, ты не отклоняешься от воли Господа и не навлекаешь проклятие на наши души?
– Поэтому мы и ведем эту войну, – подхватила мистрис Парлебон. – Господь выразит волю свою через победу. Роялисты утверждают, что король Карл царствует по воле Господа, что он – представитель Господа на земле и что воле короля следует подчиняться, как воле Бога. Другие же считают короля слабым глупцом, которого следует сместить и заменить его власть властью совета во имя благоденствия народа. Если роялисты правы, то Бог сделает так, что сторонники парламента потерпят поражение. Но это вряд ли случится. У короля осталось лишь несколько крепостей – Оксфорд и Эксетер, больше ничего.
– Это не просто война, – добавил мистер Парлебон. – Господь не ограничивает суд свой полями битв. Он посылает еще и чуму. В этом году Лидс чуть не вымер. А еще Вустер, Винчестер и Бристоль.
– Эксетер тоже сильно пострадал, – кивнул мистер Перкинс. – Они выгнали свиней из города, надеясь остановить распространение болезни.
Я доел морковь, но цветную капусту есть не стал – вкус ее мне не понравился. Я отхлебнул вина и задумался, что вот я сижу и ем странные овощи, а люди все еще умирают от чумы.
Юный Томас, сидевший напротив меня, обратил внимание на то, что я не съел цветную капусту. Он изо всех сил болтал ногами под столом. Мальчик был очень мил и весел.
– Вы должны съесть цветную капусту, добрый Дреймен. Она питает кровь.
Старшая сестра согласно кивнула.
– Из всех капуст она самая вкусная и питательная, когда сварена в уксусе. – Сара взглянула на молодого человека. – Дядя Эдвард всегда говорит нам, что все зеленое не питательно и вызывает возбуждение гуморов меланхолии.
– Правда? – удивился Уильям. – В таком случае, я возьму еще пирога с олениной, если можно.
– А вы бывали в Америке? – спросил Томас. – Вы стреляли в индейцев?
– В Америке? – переспросил я, все еще терзаясь сомнениями относительно еды. – Нет, там мы не бывали. А вы?
– Нет, глупый, – ответила его сестра. – Это слишком далеко. И меня наверняка укачало бы.
– Но у нас есть индейки! – добавил Томас.
– Судя по виду ваших индеек, Америка – это удивительные острова.
– Это не острова, – сказала Сара. – Это одна огромная страна, в сто раз больше Англии.
– И там много индейцев, – подхватил Томас. – Они прячутся в лесах, у них есть луки, стрелы, копья и дубинки, и они нападают на всех христиан под покровом ночи и срезают с их голов скальпы. Поэтому в них нужно стрелять!
– Достаточно, Томас, – остановила его мать.
– Если вернуться к словам мистрис Парлебон о разных точках зрения, – заговорил мистер Перкинс, – надо сказать, что воля человека идет вразрез с волей Господа. Мистрис Парлебон столь любезна, что придала мнениям обеих сторон значения больше, чем они заслуживают. В качестве аргумента против короля достаточно вспомнить дело Джайлза Момпессона.
При упоминании этого имени мистер Парлебон и его молодой друг согласно кивнули.
– Момпессон – живое доказательство, что король назначает министров вовсе не по промыслу Божиему, – продолжал мистер Перкинс. – Народ сам должен выбирать министров – а под «народом» я имею в виду состоятельных землевладельцев и работодателей нации, становой хребет Англии, от мировых судей до домовладельцев, платящих налоги.
– Я люблю морковь, – сказал Томас. – Мастер Джон Герард говорит, что от моркови образуются газы в кишках, как от брюквы.
С этими словами мальчик хитро усмехнулся и посмотрел на мать.
– Достаточно, – строго сказала она.
– А кто такой Джайлз Момпессон? – спросил я.
– Мошенник, – ответил мистер Перкинс. – Он управлял королевскими лесами и все дерево продал, а деньги прикарманил. Всех хозяев постоялых дворов в Англии он заставил покупать у него разрешения за пять-десять фунтов. Однажды он укрылся от дождя в пивной. Дождь шел всю ночь. Утром он заплатил хозяину за причиненное беспокойство, а когда тот взял деньги, Момпессон обвинил его в том, что он содержит постоялый двор без разрешения. Несчастного хозяина заковали в железо и держали, пока он не купил разрешение. Момпессон признан виновным в трех тысячах злоупотреблений против владельцев постоялых дворов.
– Таких, как он, десятки, – подхватил более молодой собеседник. – Королевские ставленники набивают свои карманы за чужой счет. Хотелось бы мне встретить его и его приспешников на дороге в Эксетер. Мой меч свершил бы доброе дело.
– У Фейрфакса тоже хватает дурных людей, – возразила мистрис Парлебон. – Вряд ли можно назвать хорошими тех, кто забрал наших лошадей. Преподать им урок было бы славно.
– Более всего я желал бы провести остаток дней своих за добрыми делами, – сказал я. – Но как понять, какое деяние в это время будет добрым? Что есть «добро» и «зло», если закон Божий постоянно меняется? Как можем мы творить добро, если понятие о добре и зле зависит от того, кто одержал победу в войне? Как жить человеку, если он не понимает, правильно ли поступает?
– Непростые вопросы, – вздохнул мистер Парлебон. – Отвечу лишь одно: загляни в свое сердце и делай то, что кажется тебе правильным. И конечно же, руководствуйся Священным Писанием. Особенно десятью заповедями.
– Но я об этом и говорю. В одной из заповедей говорится, что нельзя создавать кумиров – но я скульптор. За долгие годы я изваял немало статуй. В десяти заповедях говорится, что не следует прелюбодействовать, но у царей Ветхого Завета было много жен и прелюбодействовали они сплошь и рядом.
– Добрый Дреймен, сердцем ты чист, но в теологии не силен. Создавая статуи религиозные или светские, скульптор не совершает греха. Если царь, который жил в давние времена, имел много жен, это не грех. Нужно сочетать свои законы с законами тогдашнего времени, законами Второзакония. Царь, который одержал победу в бою, мог забрать женщин и скот своего врага. Но, конечно же, это не воля Господа, а грех. Когда мы победим в этой войне, наш парламент закрепит праведность общего блага, издав закон, по которому женщины, которые будут прелюбодейничать вне брачного ложа, будут повешены.
Уильям подавился своим пирогом. Откашлявшись, он взглянул на мистера Парлебона.
– Женщины-прелюбодейки?! Мистер Парлебон, мне неизвестно, насколько много знаете вы о прелюбодействе, но я считаю, что и мужчины тоже участвуют в этом процессе и должны нести ответственность. Если это не так, то я лучше поддержу Папу.
– Не при детях! – вспыхнула мистрис Парлебон, сурово глядя на Уильяма. – Это слово в нашем доме под запретом!
– Какое слово? – не понял я.
– Папа, – с плохо скрытой усмешкой пояснила Сара.
– Слушайте, слушайте! – воскликнул младший друг мистера Парлебона. – В присутствии детей говорить об антихристе нельзя!
– Мастер Кристофер! – воскликнула мистрис Парлебон. – Достаточно! Дети, вам пора идти!
– Вы сказали достаточно, чтобы сохранить ваши имена в тайне, – пробормотал мистер Парлебон, пока его жена выпроваживала детей из-за стола. – Хорошо, что мы живем в этом удаленном уголке Англии, а не в Оксфорде или Эксетере. Или – Господь сохрани! – в Лондоне. Там повсюду шпионы… Я не смог бы там и глаз сомкнуть.
Мистер Перкинс посмотрел прямо на меня.
– И какие же добрые дела вы намерены совершить, покинув этот дом?
– Не знаю, – ответил я. – Но, боюсь, что законы так изменились, что все доброе может оказаться страшным грехом.
– Возможно, ваша роль не в том, чтобы творить добро самому, но позволить другим сделать добро для вас, – сказала мистрис Парлебон, возвращаясь на свое место и накрывая колени салфеткой. – Я – простая женщина, но я верю в то, что порой главная заслуга в том, чтобы отступить и позволить другим насладиться славой.
Я покачал головой.
– Мистрис Парлебон, я знаю, что душе моей необходимо искупление. И просто отступить не получится. Я должен сам совершить добрый поступок. Когда-то я был скульптором – занимался резьбой по камню. Теперь же мне предстоит придать форму собственной судьбе.
Я вновь мысленно вернулся на несколько веков назад, вспомнил маленького Лазаря и холодную ночь у стен Эксетера, когда весь город оплакивал своих мертвых. Я вспомнил свое преступление: когда я принес зараженного ребенка в дом кузнеца и отплатил за его доброту и доброту его дочери мучительной смертью. Но как же мало я смог сделать с того времени! Я вспомнил свою семью – все они умерли без меня. Может быть, умирая, они проклинали мое имя…
– Мы можем предложить вам сделать доброе дело, – сказала мистрис Парлебон. – Это немного, но если вам удастся, вы спасете жизнь человеку.
Лицо ее помрачнело, она положила руки на стол.
– Их никто не узнает, – сказал мистер Перкинс, глядя на мистера Парлебона.
Тот кивнул. Немного помолчав, он обратился к нам.
– Вы знаете Фулфорд в приходе Дансфорд?
– Мы знаем это место.
– Майор Фулфорд, который оборонял это поместье, давно был переведен оттуда. Но отчаянные роялисты под командованием капитана Эдварда Тревельяна до сих пор остаются там. Оттуда они нападают на армию парламента, которая стоит близ Кредитона, и наносят большой ущерб. Они не дают замкнуть осаду Эксетера. Полковники парламента Томас Фейрфакс и Оливер Кромвель уже придумали план. Мои гости сообщили, что до атаки на Эксетер полковник Фейрфакс должен разобраться с людьми короля в Фулфорде. А Кромвель не позволит подойти к городу роялистам лорда Вентворта, которые сейчас находятся в Боуви-Трейси. Короче говоря, Фейрфакс собирается атаковать Фулфорд в ближайшие два дня, сжечь поместье и казнить всех, кто там находится, в поучение другим.
– Эдвард Тревельян – мой брат, – пояснила мистрис Парлебон. – Он хороший человек. В начале войны его призвали в армию короля. Но защищает он не короля. Он воюет из чувства долга и преданности своим товарищам.
– И что мы должны сделать? – спросил Уильям.
– Капитан Тревельян не сдаст Фулфорд-Хаус, – ответил мистер Парлебон. – Но сейчас ему грозит смертельная опасность, и мы должны предупредить его. Он должен сложить оружие – и это не нанесет урона его чести.
– Но для этого мы должны сообщить врагу – капитану-роялисту – о планах полковника Фейрфакса, – добавил мастер Кристофер.
– Ни один из нас не может этого сделать, – сказал мистер Перкинс. – Это будет изменой.
– Мы думали, как послать ему сообщение, – в разговор вступила мистрис Парлебон. – И ваше появление оказалось как нельзя кстати. Вы можете проникнуть в Фулфорд к моему брату и сообщить ему о плане полковника. Мы считаем, что наступление начнется в ближайшие два дня – рано утром, в пятницу девятнадцатого.
– В амбаре мельницы в Клиффорде есть хорошая верховая лошадь, – сказал мастер Кристофер. – Капитан Тревельян сможет добраться до Клиффорда пешком, а оттуда под покровом темноты ускачет на лошади, если сможет пробраться через сугробы.
– Но разве он поверит нам? – спросил я.
– Вы будете знать тайный сигнал, – ответила мистрис Парлебон. – Перед главными воротами поместья нужно будет трижды махнуть черным плащом над головой. Кроме того, мы дадим вам письмо-пропуск на случай, если вас остановят войска парламента.
– А если он откажется уйти? – спросил Уильям.
– Это не ваша забота. Он просто должен все узнать и выбрать свой путь.
Я повернулся к Уильяму.
– Спасти жизнь человека – это хорошее дело. Мы должны доставить письмо.
– Даже во время войны, – сказал мистер Парлебон, – мы должны оставаться людьми и относиться к другим людям с добротой и уважением. Но вам придется переодеться – этот красный костюм слишком уж бросается в глаза.
– Напротив, муж мой, – возразила мистрис Парлебон. – Кто заподозрит человека в такой одежде? Уильяму будет достаточно черной шапки. Джон, а вы можете надеть тот старый плащ, в котором вы прибыли. Но будьте осторожны. Идите по дороге к мосту через Блэкэтон-Брук, потом через лес Рашфорд к Сэнди-Парк, а оттуда лесными тропами к северному берегу реки. По южному берегу, через Крэнбрук, не идите: в окрестностях Мортонхэмпстеда слишком много солдат парламента.
Я глубоко вздохнул:
– Что ж, я готов.
– Я тоже, – добавил Уильям.
– В таком случае, – сказал мистер Парлебон, – вас, мои добрые артуровские рыцари, вас ждет подвиг.
Мы целый час готовились к походу на Фулфорд. Мистрис Парлебон рассказала нам, что мы должны сказать ее брату. Мастер Кристофер и мистер Перкинс объяснили, как обойти армию парламента и что делать, если нас остановят солдаты. В отведенной нам комнате я перебрал свою суму и пристегнул старый нож к поясу. Потом я взял свою старую тунику, грязную и рваную.
– Это лишний вес, – сказал Уильям, прочитав мои мысли.
– Как и все наше прошлое, – откликнулся я.
– Нет, брат. Мы не были бы сами собой, если бы не несли с собой свое прошлое. Мы не знали бы, что есть добро, а что зло, не понимали бы, что обстоятельства меняются, но добродетели вечны.
– Вечные добродетели? Таких не существует.
– Без прошлого мы вообще не имели бы представления о добродетели. Мы стали бы скотами.
Я посмотрел на свои резцы. С ними я – скульптор. Я могу изобразить всю свою жизнь. А без них – кем я стану? Паломником без храма. Человеком, прыгнувшим с обрыва времени. В конце концов, тунику я решил выбросить, но резцы сложил в суму.
В холле мы простились с нашими хозяевами. Уильям галантно поцеловал руку мистрис Парлебон. Она дала ему пропуск на беспрепятственный проход, подписанный ее мужем, мировым судьей. Это письмо мы тоже положили в мою суму. Мистер Перкинс вручил Уильяму черный плащ. Все пожелали нам благополучного пути и пожали руку, несколько раз встряхнув ее – по-видимому, теперь так принято желать всего доброго. Я набросил свой старый плащ, взвалил суму на плечо, и мы отправились в путь.
Мы шагали по дороге, и снег хрустел под нашими ногами.
– Ну вот, ты получил то, что хотел, – подвиг, – сказал Уильям. Борода его заиндевела от дыхания.
– Ты тоже получил то, что хотел: обед.
– Но ты не выполнил мою последнюю просьбу!
– Какую? Помочь тебе соблазнить мистрис Парлебон? Забудь о ней, Уильям. Ты правильно поступил, не став испытывать удачу.
Уильям ничего не ответил. Он смотрел в сторону, на заснеженные ветви деревьев, и пинал льдинки на дороге. Так мы в молчании шагали по дороге, стараясь держаться колеи проехавшей недавно повозки. Потом мы перешли через мост и пошли по лесу, где снег был не таким глубоким.
– Я все-таки не понимаю, – подумал я вслух, – почему люди продолжают воевать друг с другом? Ведь им так хорошо живется…
– Уверен, что не все живут так хорошо, как мистер Парлебон.
– Но ведь даже тот мужик, который наставлял на нас вилы, Калеб, живет в каменном доме с камином.
Уильям промолчал.
– Может быть, король и парламент воюют именно из-за этого. Простые люди теперь живут, как лорды, и хотят командовать, как лорды. Они больше не хотят мириться с правлением короля.
Уильям вновь ничего не ответил.
– Наверное, это действительно так. Король, с которым они сражаются, наверное, настоящий тиран, если его верноподданные хотят избавиться от него – и от всех королей.
Уильям остановился.
– Это не наша война, Джон.
– Что ты хочешь сказать?
– Мы ничего не знаем об этом времени. Мы знаем только о временах правления доброго короля Эдуарда Третьего, будь благословенна его память. Даже его отец, Эдуард Второй, по моему разумению, был не так уж и плох. Он был человеком благочестивым и хранил верность друзьям.
– Похоже, теперешний король тоже был очень уж верен своим друзьям. Он обогатил их за счет других.
– Может быть. Но ты же не убиваешь гусыню за то, что она снесла плохое яйцо – и не собираешься навсегда избавляться от гусей. Следует ли нам способствовать избавлению от королевской власти, если мы знаем, что короли бывают и хорошими, и дурными? Плохую услугу окажем мы памяти доброго короля Эдуарда, если поможем свергнуть с трона его законного наследника…
– Последний король, о котором мы слышали, Генрих Восьмой, разрушал монастыри и явно был плохим человеком. Может быть, люди просто устали от дурных правителей? Если плохие яйца появляются одно за другим, ты наверняка убьешь гусыню и съешь ее.
– А если у скульптора выйдет неудачная статуя? Тогда ты запретишь скульптуру?
– Но в доме мистера Парлебона ты сказал, что поможешь ему…
– Я сказал это, потому что с меня достаточно. Я просто хотел уйти.
Мы пошли дальше, спотыкаясь о палки и ковыляя по сугробам между деревьями.
– Уильям, скажи, что с тобой? Почему ты такой грустный? Мы получили наш подвиг!
– Мы не получили ничего, Джон. Они были добры к нам – но безо всякой причины. Эти люди доверились нам – и тоже без причины. Они поручили нам подвиг – но веришь ли ты в это?
– Они дали нам пропуск.
– Возможно, он ничего не стоит…
Целый час мы почти не разговаривали. В конце концов, мы дошли до края леса. Перед нами лежала дорога вдоль северного берега реки по лесистой долине, окруженной холмами. Справа находилась мельница и мост через реку Тейн.
Уильям остановился. Я тоже.
– Пора решать, – сказал он.
– Что решать?
– Хочешь ли ты идти по северному берегу реки в Фулфорд, как велела нам мистрис Парлебон, или вместе со мной пойдешь на южный берег.
– То есть назад, в Мортон? Но она сказала, что там солдаты парламента. А если мы вернемся в Мортон… В последний раз нам были там не очень-то рады…
– В Крэнбрук, Джон. Я хочу снова увидеть Крэнбрук. Я хочу увидеть, где мы выросли, старую крепость, где мы играли детьми, старый дом, где жили и умерли наши мать и отец. Я хочу увидеть то, что считаю своим домом – в последний раз.
– Но почему? Почему сейчас?
– Нам наговорили столько лжи. А ты – ты же всегда был таким чутким, – как ты этого не почувствовал?
– О чем ты говоришь, Уильям?
– Судьбу не обманешь, – махнул рукой брат и закрыл глаза.
– Уильям, я не могу покинуть тебя. Ни за что на свете. Ты не только мой брат, ты все, что есть у меня в целом мире. Я не могу покинуть тебя – это все равно что отказаться от собственного сердца.
– Ты хочешь увидеть, как я умираю?
– Нет, конечно же, нет!
– Тогда иди своим путем. Иди и делай свое доброе дело.
С этим словами он обнял меня и прижал к груди. Уильям долго не отпускал меня.
– Уильям, не дури! Ты не бросил меня, когда я подобрал того ребенка, и я тоже не покину тебя. Я буду твоим братом до конца времен. До конца времен, Уильям – а не только до конца сегодняшнего дня.
– Так ты не пойдешь своим путем?
– Нет! Никогда!
– Тогда дай мне твою суму.
– Что?
– Дай ее мне. Я должен нести письмо-пропуск.
– Почему?
– Или отдай ее мне, или иди своей дорогой без меня.
Мы смотрели друг на друга.
– Не отдам, пока ты не скажешь мне правду.
Уильям глубоко вздохнул.
– Вспомни, эти люди доверили нам свою тайну. Я думал об этом. Ты разозлил их, когда заговорил об изменении божьей воли. Они сочли нас католиками. И все же рассказали нам все о Фулфорде.
– И что?
– Никто не доверяет чужакам, особенно если те придерживаются другой веры. Ты сам доверил бы еретику свои секреты?
– Мистрис Парлебон сказала, что нам необязательно уговаривать ее брата – главное, доставить письмо.
– Именно. Ее волновало только письмо. И знаешь почему?
– Нет.
– Потому что они хотят, чтобы он сражался.
Я уставился на него, пытаясь понять, что он имеет в виду. Я поверить не мог в такое двуличие. А потом я вспомнил слова мистера Парлебона при упоминании имени молодого человека. Он говорил об опасности жизни в Оксфорде или Эксетере – двух последних оплотах роялистов.
– Дай мне твою суму.
Я отдал суму. Уильям открыл ее и вытащил письмо. Письмо было написано на белом материале, похожем на пергамент, но более тонком. И он прочел его.
– Что там написано?
– Почерк не похож на наш, но, насколько я вижу, в нем говорится, чтобы нас беспрепятственно пропускали.
– И все?
– Кроме общих любезностей…
Уильям засунул письмо обратно в суму и взвалил ее на плечо.
– Пошли в Крэнбрук.
Мы направились к мосту. Снег стал очень глубоким – два-три фута, а кое-где и глубже. Дорогу полностью замело – за день по ней никто не прошел и не проехал. Справа и слева перекликались птицы. Мы видели, как они порхают между голыми ветвями – они явно страшились, что из-за снега придется голодать. В небе парили пустельги, выискивая добычу. Мы попытались забраться на покрытые снегом гранитные стены, тянувшиеся вдоль дороги. Нам казалось, что снега на них меньше. Но это еще больше затормозило наш путь – постоянно приходилось думать о скрытых под снегом трещинах, ямах и разбитых камнях.
Стало еще холоднее. Пар от нашего дыхания отражал лучи солнца.
Мы прошли Уиддон-Парк и вышли на старую дорогу из Чагфорда в Крэнбрук – мы так хорошо ее знали. Но теперь мы шли там, где прошли другие – причем недавно. Судя по глубоким следам, здесь прошло немало солдат. Я знал, что нам осталось три дня, и все же боялся, что нас схватят солдаты. Подняв глаза, я увидел старую крепость – развалины были засыпаны снегом. Мне казалось, что оттуда уже следят за нами, и дрожал я уже не только от холода. Я понимал, что мы оказались как на ладони: две фигуры в темной одежде посреди бескрайних снегов.
Уильям заметил мое беспокойство.
– Что тебя беспокоит?
– Если встретим солдат, я не буду знать, что им сказать.
Через несколько минут на перекрестке мы увидели солдат. На них были металлические нагрудники, такие же пластины защищали спины. На головах у них были круглые шлемы. Вооружены солдаты были длинными пиками. Приблизившись, мы увидели, что к перекрестку подтягиваются и другие группы.
– Похоже, все они – сторонники парламента, – сказал я, переводя дух.
– Если бы это были люди короля, они не вели бы себя так свободно.
Солдаты не выглядели особо устрашающе, как люди, которые знают, что жизнь их зависит от предстоящего сражения. Но и дружелюбными я бы их не назвал.
Мы прошли мимо.
Прямо перед Крэнбруком дорога сворачивала направо, а потом спускалась в небольшую долину, где стояла мельница. Здесь дорога была расчищена. По обе стороны мы видели груды снега, засыпанные сучьями и сухими листьями. Каменная ограда поросла дроком. Старую мельницу укрывали от непогоды могучие дубы и буки. Возле небольшого брода через ручей мы увидели группу людей, а справа – невысокую стену на месте каменного амбара, где мы провели первую ночь после событий в Скорхилле. Старый дом давно разрушился и был перестроен новыми хозяевами. С другой стороны дороги находился двор, окруженный несколькими новыми амбарами. Подойдя к ручью, мы увидели во дворе несколько десятков человек.
Мы пошли дальше.
По веткам старых дубов прыгали три грача, внимательно наблюдая за нами. Я вспомнил птицу на мертвеце в поле близ Хонитона много лет назад. Может быть, один из этих грачей когда-нибудь спланирует и на мой труп.
Нет, у меня еще целых три дня.
Дверь мельницы открылась. Появился высокий человек, который сразу привлек наше внимание. Одет он был почти так же, как его солдаты, но по поведению сразу чувствовалось, что это командир. Боковым зрением я заметил, как двое солдат, держа перед собой длинные пики, вышли со двора, блокируя нам путь.
– Куда идете? – спросил один.
– В Эксетер через Дансфорд, – уверенно ответил Уильям, поворачиваясь так, чтобы его слышали все окружившие нас солдаты. – Если хотите, можем показать вам пропуск, подписанный мировым судьей.
Солдат вопросительно взглянул на подошедшего командира, потом перевел взгляд на Уильяма.
– Ты как-то странно говоришь. – Он посмотрел на меня. – И зачем вы идете этой дорогой?
– Мы родились здесь, в Крэнбруке, – ответил я, пока Уильям искал в суме наш пропуск. – Это наш обычный путь.
Я повернулся, чтобы рассмотреть командира, который стоял у меня за спиной. Ему было около тридцати, темноволосый, чисто выбритый, с удивительно глубоко посаженными глазами.
– Кто это, Тозер?
– Они утверждают, что местные, капитан Беринг. Но говорят они как-то странно.
– И куда вы идете? – спросил капитан, беря у Уильяма документ.
Уильям всегда отвечал очень быстро, и я даже не пытался его опередить. Но сейчас красноречие ему изменило.
– Мы идем… в церковь.
Явная ложь тяжелым камнем упала в снег.
Капитан повернулся к другому солдату.
– Позови мельника, – приказал он, не сводя с нас глаз. – Он скажет, местные они или нет.
Капитан принялся тщательно изучать документ. Помолчав немного, он посмотрел Уильяму прямо в глаза:
– Зачем вы идете в Дансфорд? Скажите правду – иначе мы не сможем вас пропустить.
Уильям вытащил из моей сумы пару резцов.
– Мы каменщики, резчики по камню. Мы закончили работу в доме мистера Парлебона – там были кое-какие повреждения. А теперь мы направляемся в Дансфорд, к ректору. Он сообщил мистеру Парлебону, что ему нужны наши услуги.
Появились две солдат с длинными пищалями, похожими на те, что мы видели в доме мастера Ходжа в Мортоне. Наверное, именно такие пищали мистрис Парлебон называла мушкетами. Солдаты вели старого человека в рабочей одежде. На его голове клочками торчали седые волосы. Он смотрел на нас водянистыми голубыми глазами.
– Мельник Уайт, – сказал капитан Беринг. – Ты знаешь этих людей?
Старик покачал головой.
– Никогда прежде их не видел – никогда в жизни.
Он сплюнул в снег.
– Они утверждают, что родились здесь, в Крэнбруке.
– Не могу припомнить их лиц. Да и имен их не знаю.
Капитан жестом отпустил мельника.
– Мы ищем двух мужчин, путешествующих вместе. Один из них носит бороду. Прошлой ночью патруль остановил их на дороге к северу от Боуви. У них были пистолеты. Они начали стрелять и убили нашего человека. Обоим удалось скрыться, но один был ранен – он вскрикнул от боли, когда патруль стал стрелять.
Капитан Беринг посмотрел мне прямо в глаза.
– Вы знаете, где могут быть эти люди?
Я покачал головой.
Капитан подошел к Уильяму.
– У роялистов, бегущих на север из Боуви, только одна дорога. Верно?
Уильям ничего не ответил.
Капитан снова повернулся ко мне.
– Если вы отсюда, то должны знать ответ.
Он снова обратился к Уильяму.
– Разве не странно, что мировой судья выписал пропуск простым каменщикам?
Я лихорадочно соображал, что сказать, пытаясь сохранить спокойствие. Я хотел сказать, что умер лорд поместья и нам предстоит сделать надгробие, но сразу же понял: мы не знаем, кому сейчас принадлежит поместье.
Уильям неожиданно бросился в сторону и побежал через двор. Солдат, стоявший рядом со мной, тут же наставил на меня пику, а другой нацелил мушкет мне в грудь.
– Стой, где стоишь! – рявкнул капитан Беринг и отдел приказ своим солдатам.
Я смотрел, как мой брат бежит мимо новых амбаров по заснеженному полю. Он бежал по снегу, вниз по склону холма.
Раздался мощный взрыв, потом еще один. Грачи взлетели с деревьев. Два оглушающих мушкетных выстрела последовали один за другим, потом еще два. Несколько солдат упали на колени и принялись стрелять. Выстрелы, выстрелы… Дым поднимался над их мушкетами, и я уже не видел Уильяма.
– Прекратить огонь! – скомандовал капитан Беринг.
Я всматривался в заснеженное поле. Никого не было видно. Десяток солдат прямо по снегу двинулись к неподвижной темной фигуре.
– Позвольте мне подойти к нему! – взмолился я.
– Запереть его! – приказал капитан солдатам. Даже не посмотрев на меня, он направился к полю.
– Дайте мне поговорить с братом! – закричал я, но трое солдат схватили меня и поволокли по двору.
Обернувшись, я увидел, как солдаты волочат Уильяма по снегу. Я слышал, как он кричит от боли, словно его режут ржавым ножом.
– Уильям! – кричал я. – Уильям! Покойся с Богом, Уильям!
Меня втолкнули в темный амбар возле мельничного пруда и швырнули на земляной пол.
Кричать и плакать я хотел с самого начала чумы. Теперь же у меня не осталось сил на крик. Я снова и снова шептал имя моего брата. Я чувствовал себя Лазарем – рыдал, не надеясь на помощь, а лишь от горя и ярости на этот мир.
На дворе поднялась какая-то суета: люди ходили туда и сюда, раздавались крики и ржание лошадей. Но Уильяма я не видел.
Я упал на колени. Слезы заливали мне лицо.
Прошел почти час. Я услышал, как отодвигают засов. Дверь распахнулась. Свет ослепил меня, несмотря на то что уже смеркалось. Мне приказали подняться на ноги и повели через двор к старому дому. Меня втолкнули в холл. Хотя я вырос в этом доме, но почти не узнавал его. Новый хозяин сделал камин. У камина стоял стол. Капитан Беринг сидел за столом и рассматривал какие-то бумаги. В комнате находилось еще трое вооруженных людей.
И тут я увидел Уильяма.
Он был еле жив. Голова, правая рука и левая нога у него были перевязаны. Он полулежал в кресле с открытым ртом и пристально смотрел в окно. Рубашка его была покрыта кровью, борода тоже. Кровь сочилась из-под повязки на голове.
– Почему ты побежал? – спросил я.
Уильям с трудом поднял руку, но ничего не сказал.
– Не разговаривать с пленником, – рявкнул капитан Беринг. – Не открывать рот, пока не спросят. Как тебя зовут?
Я повернулся к нему.
– Джон из Реймента.
– Этот человек – твой брат?
– Да, и я горжусь этим.
– Почему ты называешь его другим именем?
– Из-за его бороды. А меня назвали в честь Реймента, потому что это мой дом.
– Твой брат – предатель народа этой страны. В воротнике его плаща было зашито предательское письмо! Он признался, что знает его содержание. Он застрелил нашего солдата прошлой ночью…
– Он не мог! Он был со мной!
– И где вы были?
– В хижине рудокопов, на пустоши.
– Значит, он добрался туда после преступления. Сегодня он сопротивлялся аресту. В его суме мы нашли монеты с изображением и девизом Папы Римского. У него было распятие и четки, а это противозаконно.
– Это моя сума. Если он виновен, значит, и я тоже!
– Ты тоже шпион католиков?
– Меня учили креститься при произнесении имени Господа. И я молюсь, чтобы Он смилостивился над всеми нами. Ваше протестантство все извратило. Все думают только о себе, а не об общем благе.
– Мы все думаем об общем благе. И об искоренении католических суеверий и свержении Антихриста – ибо это служит общему благу.
Я покачал головой и рассмеялся столь смелому утверждению.
– Откуда вы знаете?
Беринг посмотрел на меня, помолчал, потом сказал:
– Тебе повезло. Вешать католиков – не мое дело. Но долг обязывает меня вешать солдат-роялистов, их подручных, шпионов и гонцов. Документ из плаща твоего брата не оставляет сомнений. А своим признанием он подписал себе приговор.
– Если повесите его, вешайте и меня. Мы виновны в одном преступлении. Сума – моя.
– Не шути со мной, Джон Исреймен. Нам нетрудно будет использовать ту же веревку дважды.
– Этот плащ не принадлежит Уильяму. Его дал ему мистер Перкинс.
– Где вы видели мистера Перкинса?
– В доме мистера Парлебона, в Гидли.
– То есть не в хижине рудокопов на пустоши. – Капитан Беринг придвинул к себе лист бумаги с какими-то знаками. – Читай.
Я покачал головой.
– Я не умею.
Капитан Беринг поманил меня пальцем. Я подошел ближе, и он ткнул пальцем в бумагу.
– Читай!
Я смотрел на черные значки.
– Я не умею.
– Тогда напиши имя человека, который командует роялистами в Боуви.
– Меня никогда не учили читать и писать.
– Ты знаешь его имя?
– Лорд Вентфорд.
– Вентворт. Напиши это.
– Я не умею.
– Ради спасения жизни своего брата…
– Я не умею писать! – закричал я.
Повернувшись к Уильяму, я понял, что он умирает…
– Пожалуйста, развяжите его, – взмолился я. – Он – добрый человек!
Капитан Беринг поднялся, вышел из-за стола и приблизился ко мне:
– Ты хочешь умереть?
– Нет, но…
– Мы повесим Уильяма Берда в старой крепости на вершине холма, – сказал капитан, обращаясь к остальным. – Этот пленник ничего не знает о заговоре. Он не стрелял в наших людей прошлой ночью. Думаю, он даже не знал, что за сообщение его брат нес в Фулфорд. Он не мог ни написать, ни прочитать его. Однако он помогал предателю, поэтому он станет палачом Уильяма Берда – это его наказание.
– Нет!
Капитан Беринг повернулся ко мне.
– Если ты исполнишь свой долг, мы похороним твоего брата на освященной земле кладбища, а ты будешь свободен. Если ты откажешься, мы застрелим вас обоих и закопаем прямо здесь, во дворе.
– Почему? Матерь Божья! Повесьте и меня тоже!
Щелчком пальцев капитан подозвал двух солдат.
– Заберите этих людей. Пусть тот тащит своего брата в крепость. Когда он все выполнит, отпустите его.
– Ты слышал капитана, – сказал солдат, наставляя на меня мушкет.
Я смотрел на своего бедного брата.
– Господи Боже мой, Уильям, мы должны были умереть от чумы! Нам нужно было умереть там!
Слезы полились из глаз. Их накопилось столько, что они буквально душили меня, выжигая мне глаза. Я вытирал их, моргал, но они текли, и текли, и текли… Я подхватил Уильяма за руку и попытался поднять его. Он был тяжелым. На раненую ногу наступить он не мог. Мушкетная пуля не просто повредила кожу; она впилась в плоть и разбила кость. Я содрогнулся, представив, как его тащили по заснеженному полю. Я кое-как поднял его, он оперся о стену, и мы поковыляли к двери. Во дворе Уильям жестом попросил, чтобы ему дали длинную палку, на которую он мог опираться. Мы очень медленно побрели по снегу к крепости на холме.
– Не бойся, – прошептал я Уильяму. – У нас есть еще три дня.
– Нет, – хрипло ответил он. – Не у меня.
– Уильям, голос у камней сказал, что у нас есть шесть дней. Ты же был со мной.
– Мне голос отпустил три дня.
– Нет, Уильям, шесть! Ты говоришь так, чтобы успокоить меня!
– Шесть дней было отпущено тебе. Мне – только три.
– Нет!
– Послушай, Джон. Триста лет назад, когда мы шли в Эксетер, ты спросил меня, что бы я сделал, чтобы спасти мою душу. Так вот, я делаю это сейчас. Когда ты сказал, что голос отпустил тебе шесть дней жизни, я понял, что мы слышали не один, а два голоса. Я знал, что есть один Господь Бог, и Он говорит одним голосом. Я понял, что должен помочь тебе. Вот почему я передумал и решил не возвращаться домой, а отправиться вместе с тобой.
– Я слышал «шесть дней», Уильям! Совершенно отчетливо! Ты, должно быть, ошибся!
– Джон, ты что, не понял? Было два голоса, и каждый из нас слышал свой. Твой голос отличался от моего.
– Пошевеливайтесь! – прикрикнул на нас солдат.
– Брат, я знаю, что это конец. Но я знаю, что это хорошо. Я должен умереть, потому что ты должен идти. Не только ради спасения собственной души – но и ради моей тоже. Я знаю, что грешен. Я соблазнял многих женщин, и, честно говоря, мне трудно сожалеть об этом. Возлежать даже с самой безобразной из них было таким наслаждением. И как я могу раскаяться? Я бы произнес слова покаяния только для того, чтобы исполнить свое эгоистическое желание, как говорил мастер Лей. Мне нужно, чтобы ты шел дальше и исполнил то великое деяние, которое тебе суждено…
– Нет, Уильям!
– Когда ты увидишь святого Петра, восседающего одесную от Бога, ты сможешь сказать ему, что у тебя был брат, и он не был праведником, но не был и дурным человеком. Призови в свидетели доброго короля Эдуарда и скажи ему, что, хотя в Уильяме Берде было много плохого, все это только от любви. Он никогда не предавал женщин, даривших ему любовь, и не изменил – ни своему королю, ни своей стране, ни своей семье.
Пробираться по снегу в сумерках было тяжело. Мы и полпути еще не прошли.
– Ты понял меня, Джон? Только так ты сможешь стать искупителем моей души.
Уильям остановился, чтобы перевести дух. Он оглянулся на наш дом и замер. Он смотрел на мельницу, всем телом налегая на палку и обхватив ее обеими руками. Я не видел, что он делает, но тут он что-то мне передал.
Я инстинктивно сжал руку и лишь потом взглянул. Это было гранатовое кольцо Уильяма.
– Нет, Уильям! Я не могу его взять!
– А кому еще я могу его отдать?
Я надел кольцо на палец, и мы медленно побрели вверх по холму к развалинам крепости.
Я уже видел укрепления. В какой-то момент я поскользнулся на заснеженной траве, и мы с Уильямом упали. Он закричал от боли. Солдаты заорали на нас. Мы с трудом поднялись и побрели дальше.
– Ты спрашивал меня, почему я побежал, – сказал Уильям. – Просто я знал, что умру сегодня. И это было хорошо: я знал, что умру, и смог сделать свою смерть полезной. Может быть, ты сможешь сделать то же самое для кого-нибудь, когда наступит твое время.
– Я не понимаю этого мира, – ответил я. – В наше время мы трудились изо всех сил. Жизнь была трудна, но мы жили хорошо. Мы много работали, но у нас были простые радости. Теперь же многое стало намного проще – но стал ли проще этот мир? Он погряз в страданиях и убийствах.
Мы достигли вершины холма и прошли между белыми курганами, где некогда стояли ворота. Перед нами расстилалась вся пустошь – бескрайние мили заснеженных белых холмов. Я увидел, как один из солдат уже устроил петлю на мощной ветви одинокого дуба и теперь проверяет ее крепость. Привели лошадь, и она терпеливо ожидала в стороне.
Уильям молчал, глядя на последние лучи заката, пробивавшиеся сквозь облака над пустошью. А потом он сказал:
– Ты был прав. Пустыня – это действительно истинное и неизменное творение Господа. Но не с Господом тебе придется иметь дело. Не Бог мешает людям попасть в царствие небесное. Господь принимает всех, кто уклонится от козней дьявола. Именно с дьяволом предстоит столкнуться тебе. Иди же с Богом, брат мой Джон, иди с Богом.
Он повернулся ко мне, и я почувствовал его руку на своем плече. Мы обнялись. Он на мгновение прижался лбом к моему лбу.
Тут подошел солдат и оторвал его от меня. Они поволокли Уильяма к дереву. Другой солдат жестом велел мне следовать за ними.
Когда они усадили Уильяма на лошадь, он закричал от боли в раненой ноге. Солдаты затянули петлю на его шее. Лошадь стояла смирно. Солдат подозвал меня. Я шагнул вперед, не сознавая, что делаю, и взял поводья.
– Прости меня, брат, – прошептал я, глядя на него. Уильям поднял глаза к небу. На меня он не смотрел. У меня перехватило горло. Я не знал, слышит ли он меня, и я произнес снова, уже громче: – Прости меня, Уильям, лучший из братьев. Сердце мое всегда будет с тобой. Мы будем братьями до конца времен.
Я закрыл глаза и тронул лошадь, произнося молитву, которую помнил с детства: «Benedicat vos omnipotens Deus Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Аминь». Когда я умолк, слышен был только скрип снега под копытами лошади.
Солдат забрал у меня поводья. Я бездумно смотрел на белую пустошь. Со мной заговорили – наверное, тот солдат, что забрал поводья:
– Можешь свернуть ему шею, если хочешь…
Я повернулся к нему.
– Обхвати его и прыгни. Его смерть будет легче…
Я увидел дергающееся тело Уильяма. Я подошел, обхватил его за пояс, и содрогнулся при мысли, что мой шаг станет концом жизни брата. Но тело его не хотело покидать этот мир. Он бился, как муха в паутине. И я прыгнул, вложив в этот прыжок весь свой вес. Я услышал приглушенный треск, увидел, как шея Уильяма вытянулась и скривилась. Я отпустил его, поскользнулся, упал и остался лежать, лицом в грязный снег.
Я видел, как все пролитые слезы замерзают подо мной, и ледяной ручей тянется к пустоши. Таковы мы. Мы живем на замерзших слезах наших предков.
Подняв глаза, я увидел, как тело Уильяма медленно вращается. Глаза его были устремлены к небесам. Он больше не принадлежал времени. Не принадлежал этому миру.
– Уходи, – велел мне один из солдат. – Утром мы заберем его тело и похороним на кладбище.
Я поднялся и медленно побрел к выходу из крепости. Спускался я по другой стороне холма, спотыкаясь о заснеженные изгороди. Мне было холодно. Я так устал. Через час стемнело. Я уже не знал, где нахожусь. Мне хотелось лечь и забыться, уступив собственной слабости. Я уже ненавидел сам себя. Упав в снег, я не нашел в себе сил подняться. Я был отвратителен сам себе. Мне следует замерзнуть, и пусть мое тело съедят лисы и дикие кабаны.
Но я еще не исполнил свое обещание Уильяму. Поднимайся! Поднимайся, Джон! Ты не имеешь права лежать и жалеть себя. Тебе нельзя ненавидеть себя за то, что ты остался жив!
Я с трудом поднялся и побрел в темноту – от одной ограды к другой. Через два часа я вышел к реке и вошел в ее холодные воды, надеясь, что меня унесет. Река была глубокой. Чернота охватила меня. Я задыхался. Мне все же удалось выбраться – как сегодня утром. Я шагнул в темноту и ударился о камень. Я судорожно глотал воздух. Горе охватило меня, словно могучая река. Утром, когда я выбирался из снега, я позвал Уильяма, и он был рядом. Теперь же я знал, что он ушел навсегда. Я потерял все – от моего времени у меня остались лишь старые сапоги и кольцо брата.
Трясясь от холода, я выбрался из воды и зашагал по склону холма к лесу. Холод был мучительным – я не мог останавливаться. Я шагал вперед и вперед. В конце концов я нашел дорогу и пошел по ней. Вскоре я услышал низкий звук, который прозвучал как музыка. Вытянув вперед руку, я почувствовал под ней стену, потом деревянную дверь и засов. Я вошел в теплый темный хлев и рухнул на солому. Я слышал, как коровы дышат и мерно пережевывают свою жвачку. И тут милосердный сон сошел на меня.
VI
Разбудил меня звук открывающейся двери. Луч света больно резанул по глазам. Я огляделся. Полдюжины коров сгрудились возле кормушки. Крестьянин с кустистыми бровями сурово смотрел на меня. На нем была круглая соломенная шляпа, поверх рубашки накинут колет без рукавов, длинные коричневые штаны начинались намного выше пояса. На ногах крестьянина были грязные кожаные сапоги.
– Ты что делаешь в моем амбаре?
Я поднялся и медленно двинулся к дверям. От яркого света я начал моргать, голова у меня кружилась. В глазах у меня потемнело, и я упал на колени. Чтобы подняться, мне пришлось опереться о стену.
– Прости меня, – прошептал я.
– Ты откуда взялся?
– Из Мортона.
– Одет ты как-то странно… Даже для Мортона…
– Это досталось мне от деда.
– Есть хочешь?
Я кивнул.
– Я не прогоню голодного, которому приходится носить дедову одежду. Входи в дом и попроси служанку накормить тебя. Она на кухне.
Я с благодарностью кивнул, поднялся и вышел во двор. Вокруг меня были постройки под соломенными крышами, поля и деревья. Хотя светило солнце, но только что кончился дождь. Повсюду я видел грязные лужи.
– Что это за место?
– Хэлстоу, приход Дансфорд.
Я посмотрел на дом и окружающий пейзаж. Даже труба казалась очень старой.
– Входи и сверни налево. Служанку зовут Китти, – сказал крестьянин. – Смелей, она тебя не укусит. Ну, если ты не будешь ее лапать.
Я направился к дому. Дверь была открыта. По коридору с каменным полом я пошел налево и оказался на кухне с белеными стенами. В кухне было светло и просторно; большие окна были застеклены множеством мелких прямоугольных стеклышек. В очаге пылал огонь, дым поднимался и уходил в трубу. Молодая женщина в длинном фартуке и чепце из тонкой белой ткани месила тесто. Сбоку у нее выбилась прядь темных волос. Я мысленно услышал, как Уильям восхитился бы такой красоткой. От мыслей о брате на глаза у меня навернулись слезы, и я не мог ничего сказать.
Девушка посмотрела на меня.
– И кто ты такой?
– Джон… Из Мортона…
– Не шибко-то много я узнала. И чего тебе надо?
– Твой хозяин сказал, что я могу попросить у тебя еды.
– Ну и говор у тебя! Ты точно из Мортона?
– Я много лет странствовал.
Девушка бросила свою работу.
– Он добрый человек, этот Джордж Ходжес. Всегда привечает странников, дает им кров и пищу. Скоро он заведет колокол, чтобы каждый бродяга знал сюда дорогу. Ну, и чего же ты хочешь? Хлеба и масла с шалфеем? Или хлеба, поджаренного с подливой?
– Немного хлеба с маслом будет достаточно. Спасибо.
– Садись вон там, у окна. Я накормлю тебя, как только поставлю эти булки в печь.
Я сел, где она показала, и осмотрелся. На полке над большим столом у дальней стены красовались четыре медные кастрюли разных размеров с длинными ручками. Справа от меня стоял деревянный чан для засолки. Слева стоял рабочий стол, а на нем миски, кастрюли, горшки и сковороды. С балки под потолком свисали окорока и связки лука. В очаге был установлен вертел, там же стояли несколько решеток для жарки и два медных чайника. В высоком деревянном ящике – что-то вроде сундука на ножках с четырьмя открытыми полками – стояли металлические тарелки. Ящик этот стоял у стены слева от меня. А еще я увидел высокую машину в деревянном коробе. Внутри что-то тикало.
Я снова посмотрел на девушку – и неожиданно для себя обратил внимание на то, как колышутся ее груди, когда она месит тесто. Уильям глаз бы от нее не оторвал.
Она подошла к очагу, взяла металлический лист, а потом обошла очаг и открыла деревянную дверцу печи. Девушка ловко посадила свои булки в печь и быстро закрыла дверцу, обмазав ее глиной из деревянного корыта, стоявшего на полу.
– Ну а теперь, – сказала она, вытирая руки о фартук, – хлеб и масло.
Она взяла булку, нож и отрезала пару толстых ломтей. И тут прозвонил колокольчик. Девушка не обратила на звук никакого внимания. Через четыре-пять звонков я понял, что звук исходит из машины в деревянном коробе – она звонила, как часы в Чагфорде. Восьмой звонок медленно умолк, а потом снова раздался тикающий звук.
– Скажите, – заговорил я, – такие есть в каждом доме в округе?
– Ты про это? Такие вещи чаще всего ставят в гостиной, чтобы видели все. Но старик Джордж не таков. «Мы крестьяне – и живем на кухне, – говорит он. – И мои часы будут стоять здесь!»
Служанка протянула мне металлическую тарелку с двумя ломтями хлеба, щедро намазанными маслом. Хлеб оказался пшеничным – он был совсем не похож на тот грубый, темный ржаной хлеб с отрубями, которым мы питались раньше.
– Ну, собираешься ты есть или как? – спросила служанка. – Не собираюсь возиться с тобой целый день. Уже восемь часов, а мне еще нужно собрать яйца и убраться в комнате дочерей мистера Ходжеса.
Я взял тарелку.
– Простите за медлительность.
– Когда другая служанка мистера Ходжеса, Полли, три недели назад вышла замуж, – продолжала служанка, – вся домашняя работа на мне.
С этими словами она вышла из кухни, оставив меня в удивительном мире медных кастрюль, пшеничного хлеба и света.
Доев хлеб, я замер, прислушиваясь к тиканью часов.
Что делать теперь? На пустоши меня ничего не ждет. В этом уютном доме тоже. Я нужен бедным людям, а они нужны мне.
И все же я не мог заставить себя подняться. Только когда часы прозвонили еще раз, я поднялся. Я подошел к часам и увидел круг каких-то знаков – наверное, это цифры. Я увидел «I», «II» и «III». Следующие цифры отличались. Я понял, что пятерка обозначается знаком «V», «Х» я принял за две пятерки, то есть два знака «V», поставленных друг на друга.
Мне захотелось поближе рассмотреть окно – я никогда такого раньше не видел. Стекло было заключено в две деревянные рамки, выкрашенные в белый цвет. Каждая рамка разделялась на шесть прямоугольников и сама была вставлена в большую внешнюю раму. Когда одна рама поднималась, а другая опускалась – а сейчас так и было, – замок удерживал их на месте, и окно было закрыто. Я сразу же подумал, что залезть в этот дом очень просто – достаточно разбить маленькое стекло и открыть замок. Неужели в этой стране не совершают преступлений? Неужели крестьянам не приходится опасаться взломщиков и воров?
В окно я увидел птиц, летящих над амбаром. На небольших полях за амбаром паслись овцы. Маленький побег плюща трепетал на ветру.
Китти не возвращалась, поэтому я решил выйти из кухни и двинуться в путь, не прощаясь.
Во дворе я увидел мистера Ходжеса. Он выходил из пристройки с лопатой на плече.
– Благодарю вас, мистер Ходжес, – крикнул я.
Он поднес палец к своей шляпе в знак того, что услышал меня, и скрылся за амбаром.
Я двинулся на восток, к Эксетеру. Вдоль дороги тянулись изгороди, поросшие сорняками, терновником и ежевикой. Я подумал, что это остатки земляных насыпей, созданных еще в наши времена – мы рыли канавы четыре фута шириной и четыре фута глубиной и насыпали вдоль них насыпь. Но канавы, по-видимому, давно заилились и обвалились, и теперь представляли собой заросшие травой впадины вдоль дорог. Я шагал по дороге, которая шла между двумя такими мелкими канавами. Посередине дороги я заметил хорошо знакомую полоску травы – лошади, тянувшие повозки, щедро удобряли землю своим навозом. В колеях, где катились колеса, трава практически не росла. Ни один сорняк такого не выдержал бы.
На следующем повороте я окончательно понял, где нахожусь. Отсюда до Эксетера было не больше двух миль. В дороге я иногда замечал людей – судя по моим расчетам, год был одна тысяча семьсот сорок четвертый. Многие ехали верхом или в небольших повозках. На них были длинные туники зеленого, синего, серого или красного цвета с застежками впереди. Мужчины носили черные шляпы и белые рубашки, а на ботинках у них красовались металлические пряжки. На женщинах я увидел длинные платья с пышными юбками и накидки, закрывающие их от шеи до пят. Шляпки венчали странного вида прически. Многие женщины носили длинные, элегантные перчатки. А вот деревенская девушка, которая торопливо прошла мимо меня с двумя ведрами свежего молока, выглядела совсем по-другому. На ней была соломенная шляпа, похожая на шляпу мистера Ходжеса, рукава рубашки были закатаны выше локтя, обнажая руки. Светло-коричневая юбка имела высокий корсаж, а пояс располагался почти под грудью. За ней бежал парнишка лет пятнадцати. Он выкрикивал: «Черити!» Наверное, это было ее имя, потому что она оглянулась и дождалась его. Я внимательно рассматривал одежду мальчика: короткий голубой камзол, коричневые штаны до колен и серые чулки. Да, моя одежда снова оказалась старомодной…
Примерно через два часа я оказался на вершине Дансфордского холма и увидел Эксетер. Передо мной высился старый собор: две могучие башни моего времени – и мои скульптуры. Одна из двух башен потеряла шпиль, но в остальном собор почти не изменился. А вот окружающий его город стал намного больше. Раньше его окружали высокие крепостные стены, теперь же эти стены просто потерялись среди высоких домов. Садов в городе стало меньше. В пригородах было столько домов, что невозможно было рассмотреть ни мост, ни реку. Казалось, весь город поднялся внутри стен, как тесто, и выплеснулся наружу.
Я спустился по холму и зашагал между крытыми соломой домами с высокими трубами и застекленными окнами. Все смотрели на меня, и я нервно улыбался. Никто не улыбался мне в ответ. Некоторые морщились. Один вообще практически не удостоил меня взгляда. На вид ему не было и тридцати, но его волосы, уложенные тугими локонами на висках, были белоснежными. Меча я у него не заметил – да и ни у кого мечей не было. Зато он с гордостью опирался на длинную прямую палку с золотым набалдашником.
Дойдя до конца улицы, я увидел мост, и это зрелище наполнило мою душу радостью. Я видел тот самый старый мост через Экс, что и в мое время, а за ним высилась церковь святого Эдмунда. Весь мост был застроен домами. В окнах верхних этажей сушилось белье, и это лишало картину всего ее величия. Казалось, все эти дома вот-вот рухнут в реку. И все же мост держался. На болотистом берегу, где я четыреста лет назад видел крыс, по-прежнему громоздились груды мусора. Перейдя через мост, я свернул налево, на Фрог-лейн и увидел старые деревянные дома – но даже в самых старых окна были стеклянными. В воздухе стоял сильный запах дыма. Улица упиралась в сад, через который проходила широкая канава. Вода в ней буквально бурлила. Я поднял глаза и увидел на холме над собой городскую стену из песчаника. Я был рад, что вернулся, но радость моя была омрачена одиночеством.
Я направился на набережную, где стояло несколько больших морских судов. В мои времена такого не было. В год моего рождения лорд Коуртни перекрыл реку дамбой. После этого все товары пришлось разгружать в Топшэме, и лорд получал хорошие деньги. Наверное, горожане снесли дамбу, и все вернулось на круги своя. Но суда были совсем не похожи на одномачтовые корабли, на которых мы с Уильямом отплывали во Францию. На многих я увидел две и даже три мачты. Набережная тоже стала гораздо длиннее и шире, чем раньше. Вдоль нее стояли большие склады. С помощью колесных механизмов с кораблей сгружали бочки и ящики.
В дальнем конце набережной я увидел элегантное новое здание, двухэтажное, со стеклянными окнами на верхнем этаже и белоснежным фронтоном. На первом этаже под открытыми аркадами громоздились ящики и тюки с товарами. Но самым замечательным мне показалось то, что стены здания были построены из небольших прямоугольных блоков красноватого цвета. Я никогда ничего такого не видел. Они были похожи на песчаник, только крепче. Я задумался, где их добывают и почему такой редкий и удивительный камень использовали для постройки дома там, где его увидят только работники и моряки.
Я вернулся к западным воротам, прошел под старой каменной аркой и по крутой улочке зашагал вверх, в центр города. Здесь изменилось абсолютно все. Все углы были прямыми, все крыши покрыты черепицей, те дома, что раньше были двухэтажными, стали трех-, а то и четырехэтажными. Впрочем, грязь на улицах осталась прежней. Вокруг по-прежнему воняло выгребными ямами и гниющим мусором. Да и улицы не выпрямились – они, как и раньше, вели туда же, куда и в наши времена. Это было истинное царство народа.
Главные улицы вымостили брусчаткой или засыпали гравием. По ним то и дело сновали лошади, повозки, экипажи и телеги. Небольшие открытые экипажи были запряжены одной лошадью, большие крытые – парой. Я встречал множество всадников, а пешим путникам приходилось внимательно смотреть по сторонам, чтобы не попасть под лошадь – и не наступить в груды навоза. Кучера постоянно кричали прохожим, чтобы те освободили им дорогу. Всадники тоже покрикивали. Совершенно ясно, что существовал определенный порядок в том, кто и кому должен уступать дорогу, и касался он не только прохожих, но и всадников и экипажей. И, как всегда, основным преимуществом пользовались самые хорошо одетые люди. Один молодой человек с белыми волосами поднял свою длинную палку и кончиком ее бесцеремонно сгонял людей со своего пути.
Старые южные ворота надстроили. Над стенами появились большие круглые башни. Судя по всему, сделано это было давно – каменная кладка давно нуждалась в ремонте. Улица стала уже, а народу на ней появилось больше. В мои времена каждый дом был шестьдесят-семьдесят футов шириной, с широкой аркой, ведущей во внутренний двор. Теперь же редкий фасад был шириной больше двадцати футов, а ворот вовсе не осталось, только узкие двери. Но все дома стали выше и стояли плотно друг к другу. Щипцовые крыши выступали вперед над головами прохожих. Мне показалось, что дома, словно попрошайки в высоких колпаках, умоляюще сложили ладони и склонились к пробегающим мимо покупателям.
На северной стороне улицы, где когда-то был постоялый двор «Медведь», я заметил расписную доску, свисавшую с металлической перекладины. Я видел много таких досок на улице, ведущей к южным воротам, но эта меня особенно поразила. На ней был нарисован медведь!
Я и представить себе не мог, что столь нематериальная вещь переживет века! Я видел, как целые города меняли свои названия – так Мортон превратился в Мортонхэмпстед. Но в целом люди, возвращаясь обратно, спустя много лет, могли увидеть прежние названия. Традиция, как столетний плющ, медленно прокладывает себе путь по извилистым тропинкам наших разговоров и закрепляется на таких словах, твердо удерживая их на месте. Можно было подумать, что это частная собственность, уцелевшая, несмотря на завистливые взгляды и чужие руки. Но все городские дома моего времени уже исчезли. Они погибли в пожарах, их разграбили, время не пожалело их. А самые обычные вещи – названия и дороги – сохранились в веках.
Солнце, отразившееся от квадратных окон фасада «Медведя», ослепило меня. Где-то прозвонил большой колокол. И прежде чем он отбил двенадцатый раз, по всему городу зазвонили другие колокола. Я закрыл глаза и попытался вспомнить, как этот постоялый двор выглядел в мои времена. Я помнил арку и проход во внутренний двор. На дворе находились конюшни, большой зал – слева, а справа часовня: постоялый двор принадлежал аббатству Тэвисток. В середине зала был устроен большой очаг, а наверх вела лестница: в солнечных комнатах часто останавливались богатые гости. Те, кто платил немного, спали на соломенных матрасах прямо в зале, иногда поставив кружку эля рядом с поленом, служившим подушкой. Обычно в зале горели две свечи – два золотых пятна в полном мраке. Света они давали так мало, что пойти облегчиться к стоявшему в углу ведру было нелегко. Иногда слышались звуки плотской любви – местные шлюхи знали свое дело. А утром, когда все поднимались, слышались крики тех, кто отправлялся в путь, требовавших эля на завтрак. Нужно было найти хозяина в кожаном фартуке, заплатить ему серебряные пенни, вытребовать оставленное ему оружие и крикнуть мальчишек на конюшне, чтобы привели лошадь.
Раздался крик кучера, и мимо меня проехал крытый экипаж. В окошке я увидел мужчину в высокой шляпе. Дорога явно ему наскучила. Через мгновение экипаж пронесся мимо, направляясь к южным воротам. Кучер усердно нахлестывал длинным кнутом двух черных лошадей, упряжь дребезжала. Я проводил экипаж взглядом, дивясь тому, что в этом времени стеклянные окна появились не только в домах, но и в экипажах. Неудивительно, что люди, способные позволить себе путешествие в подобной роскоши, считают поездки делом скучным.
Я вошел на постоялый двор и сразу же увидел несколько небольших комнаток с низкими балками. В каждой расположилась своя компания. В первой сидели двое мужчин в длинных туниках. Меня поразили их белые, зачесанные назад волосы. Тот, что сидел спиной к окну, опершись на стол, помешивал дымящийся темный напиток какого-то странного цвета. Спутник его держал в руке большой лист белого материала, напоминающего пергамент, и рассказывал о гибели военного корабля близ Нормандских островов. «Победа» затонула со всем экипажем. Более девятисот человек погибло или пропало в море. Англия потеряла сотню пушек. Постройка корабля стоила более тридцати восьми тысяч фунтов – так сказал этот человек, явно читая об этом с большого листа пергамента. Мне хотелось остаться и послушать, но тот, кто помешивал странный напиток, весьма недружелюбно на меня покосился. И я двинулся дальше, не в силах забыть о корабле, способном вместить почти тысячу человек и стоившем больше, чем годовой заработок шести тысяч таких каменщиков, как я. Представляете, что можно было бы построить даже за четверть этой суммы! Соборами новой эпохи стали корабли.
В другой комнатке стоял небольшой столик, за которым сидел жизнерадостный молодой человек с девушкой. Я увидел, как служанка застелила стол белой скатертью, поставила две блестящие тарелки и блюдо с хлебом, маслом и сыром, а потом принесла красиво украшенный мясной пирог. В третьей в кресле развалился молодой человек в белых шелковых штанах и серебристого цвета камзоле. Судя по всему, он уже отобедал, на столе стояли тарелки с недоеденными блюдами. Рядом с ним сидели две пышногрудые женщины с очень красными от пудры щеками. Среди тарелок стояли темные выпуклые бутылки. Молодой человек наливал из одной вина – впрочем, он уже был сильно пьян, и большая часть вина пролилась на скатерть. Женщины так и покатились со смеху. Под их туго зашнурованными корсетами не было рубашек, и молодой человек мог любоваться их пышной грудью. Я заметил у него тонкий меч, хотя его хозяин не был похож на человека, умеющего с ним обращаться – даже в трезвом состоянии.
Я пересек переулок, который вел от улочки слева от меня на двор справа. За дверью велись оживленные разговоры. Открыв дверь, я оказался в просторном зале с большими окнами по обе стороны. Стены были обшиты деревянными панелями. В зале стояло около двадцати столов. Слева в стену были вбиты крючки, и на них висели шесть-семь треугольных шляп. За одним столом сидели мужчины с серебристыми волосами и что-то оживленно обсуждали. Перед ними стояли стеклянные кубки с вином. У двоих во рту я заметил белые палочки. Палочки заканчивались небольшими чашечками, из которых поднимался дым. Я сделал глубокий вдох и уловил запах какой-то травы. Судя по всему, никто не испытывал никакого неудобства от того, что трава горела буквально у них под носом.
– Тебе что-нибудь принести, золотко?
Я повернулся и увидел женщину в белом фартуке и чепце. В руках она держала груду металлических тарелок.
– Нет, мне нужно встретиться здесь кое с кем.
– Что ж, ладно, – ответила она, направляясь на кухню. – Когда что-то понадобится, зови.
Я прошел через зал. В дальнем правом углу за столом сидели четыре женщины. Они пили какую-то бесцветную жидкость и громко хохотали. В дальнем левом за столом устроился мужчина с книгой. На носу у него была рамка с круглыми стеклышками, которая напомнила мне каноника-прецентора, только на сей раз у рамки имелись дужки, которые зацеплялись за уши. Женщина, сидевшая рядом с ним, маленькими глотками пила что-то из стакана и наблюдала за окружающими. Между этими двумя столами перед большим красивым каменным камином, где пылала целая поленница, стоял стол, за которым сидели четверо. Я решил, что люди эти пользуются уважением, потому что им позволили занять лучшее место перед огнем. Справа сидела женщина лет тридцати в малиновой накидке и треугольной шляпе. У нее были длинные черные волосы и белые перчатки. Поверх перчаток я заметил четыре золотых кольца, по два на каждой руке, с разноцветными камнями. Спутники ее были разного возраста: молодой человек с серебристыми волосами и впалыми щеками, мужчина постарше с темными волосами и брюхом, которое буквально вываливалось из камзола, и голубоглазый веснушчатый рыжий парень лет двадцати. Мужчины друг с другом не разговаривали, но по очереди кидали на стол небольшие листочки пергамента с красными и черными знаками. Неожиданно они расхохотались, а человек с худым лицом стал торжествующе размахивать в воздухе одним таким листочком. Серебряные монеты, лежавшие на столе, подвинули к нему. Я повернулся и направился к двери.
Проходя через зал, я поймал взгляд служанки, которая назвала меня «золотком». Она кивнула на игроков.
– Клара зовет тебя.
– Кто?
– Клара Колдстрим. Ее еще называют Кларой Колдримз («Холодные сны» – игра созвучий stream – dream). На твоем месте я не поворачивалась бы к ней спиной.
Я обернулся и увидел, что четыре игрока смотрят на меня. Я подошел к их столу.
– Ты же новичок в городе, верно? – спросила женщина.
Спутники ее попросили у мужчины за соседним столом лучину и разожгли свои белые палочки с чашечками, наполненными травами.
– Да, – ответил я.
– Как тебя зовут?
– Джон из Реймента.
– Ну-ну, Джонно. Почему бы тебе не присесть? Питер пересядет вон туда, чтобы ты смог к нам присоединиться.
Она указала на пустой стул за соседним столом. Я придвинул его и сел.
– Что будешь пить, джин или бренди?
Слова эти были мне незнакомы, но слово «бренди» понравилось больше, и я выбрал этот напиток.
– Хороший выбор, – сказала Клара своим спутникам. Они шутливо склонились перед ней и заулыбались.
– Человек с тонким и изысканным вкусом, – сказал мужчина с большим брюхом, попыхивая своей белой палочкой.
– Это сразу видно по его одежде, – добавил молодой человек с худым лицом. Все за столом расхохотались.
– Это не моя одежда, – сказал я, когда Клара наклонилась вперед и принялась щупать ткань на рукаве.
Рядом со мной неожиданно появилась служанка.
– По пинте того и другого, Мег, дорогая, – сказала Клара, отпуская мой рукав. – Что же привело тебя в Эксетер, Джонно?
– Я вернулся сюда, чтобы творить добро. Мне нужно спасти мою душу.
Клара хмыкнула.
– Как-то ты непохож на картежника – ни по словам, ни по интонации…
– Что? – переспросил я.
– На игрока в карты, дорогой, ну ты понимаешь, – она взяла стопку листков пергамента, которыми они только что играли. – Вот карты… Узнаешь?
– Простите, я странствовал…
– Откуда ты взялся?
– Из Мортона.
– И в этом Мортоне все говорят так, как ты? – Эти слова Клары вызвали за столом новый взрыв хохота.
– Когда-то говорили…
– И как давно это было? В Средние века?
Все засмеялись. Я нервно улыбнулся, не понимая, о чем она говорит.
Мег поставила на стол два серебряных кувшина. Они были такими блестящими, что я увидел в них свое отражение. Клара налила в стакан какой-то темно-коричневый напиток и подвинула ко мне. Я взял стакан, понюхал и сразу понял, что это крепкий напиток, гораздо крепче вина. Почувствовав, что за мной наблюдают, я выпил его залпом, закинув голову, словно это был эль. Напиток обжег мне горло. Я закашлялся.
– Что ж, пить хотя бы он умеет, – сказала Клара, обращаясь к своим спутникам. – Так ты собираешься играть или как?
До меня постепенно дошло, что они хотят, чтобы я сыграл с ними в их игру. Я покачал головой.
– Честно говоря, я не знаю правил…
Клара снова наполнила мой стакан с хитрой улыбкой.
– Это вист, дурачина. Все знают вист. Иногда его называют «козыри». – Она взяла карты и изготовилась сдавать. – Шиллинг, пожалуйста.
От бренди мне стало тепло и спокойно. Я вновь поднял стакан и опустошил его.
– У меня нет денег, – сказал я, закашлявшись и ставя стакан на стол.
Клара кинула карты на стол.
– Тогда какого черта ты уселся?! Боже правый! Что ты тут делаешь? Твой плащ не стоит и двух пенсов!
Я посмотрел на свою одежду. У меня не было ни кошеля, ни ценных вещей, поэтому я просто пожал плечами.
– А как ты собираешься платить за свое питье?
– Я? Это же вы заказали!
Клара посмотрела на мужчину с брюхом, тот усмехнулся в ответ. Она вновь повернулась ко мне.
– Твое кольцо, – сказала она, указывая на мою правую руку.
– У него еще и нож есть, – добавил молодой человек с худым лицом, кивая на мой пояс.
– Больше нет, – засмеялся веснушчатый парень, наклоняясь вперед и выхватывая мой нож из ножен.
Я ощутил прилив холодной ненависти.
– Верни его!
Клара протянула руку и выхватила нож у парня.
– Ты не понимаешь, Джонно. Никто не садится за мой стол и не выпивает за мой счет просто так. Если у тебя нет денег, ты должен отдать мне кольцо. Дик, держи-ка его, а я ему все объясню.
Веснушчатый парень вскочил и заломил мне левую руку назад. Я не сопротивлялся, только прижал правую руку к груди. Я не думал, что этот юнец способен на что-то серьезное – уж слишком он был пьян. Но Клара не зря получила свое прозвище. Она направила нож мне в лицо и усмехнулась.
Мне показалось, что я вижу дерево, пораженное молнией.
Три дня назад я проснулся в амбаре, и еще до полудня мне пришлось противостоять мечу. Сегодня все повторилось. Но три дня назад моим противником был Болдуин Фулфорд.
– Почему ты усмехаешься? – прошипела Клара.
– Чем вещи больше меняются, тем больше они похожи на прежние.
– Да, да, дорогуша… Отдай мне кольцо.
Я дождался удобного момента, глядя ей прямо в глаза, а потом прыгнул влево, извернулся так, чтобы оказаться позади веснушчатого парня. Он так крепко вцепился мне в руку, что не составило труда развернуть его спиной к Кларе. Я изо всех сил толкнул парня, он налетел на Клару и они повалились на стол, роняя серебряные кувшины и стаканы. Парень выпустил мою руку, чтобы смягчить падение. Он поднялся и в ярости бросился на меня. Но я отступил в сторону, схватил стул, на котором сидел, и выставил его перед собой как щит.
В зале стало очень тихо. Клара все еще держала нож. Мужчина с брюхом переводил взгляд с нее на меня и обратно. Белая палочка с чашечкой выпала у него изо рта. Я пристально смотрел на них, следя, чтобы никто не напал на меня сзади.
– Я не для того сражался за короля во Франции, чтобы стать добычей кучки пьяных мошенников, церковь которых – постоялый двор, а причастие – этот крепкий напиток! – Я переводил взгляд с одного на другого. – Я сказал вам, что пришел в город делать добрые дела. И сейчас я совершу такое дело – я отпущу вас с миром. Возьмите мой нож в уплату за бренди.
Я медленно отступил, бросил взгляд через плечо и, пятясь, направился к двери. Я слышал, как стулья скребут по каменному полу – люди поспешно освобождали мне путь. Никто ничего не сказал. Если бы это случилось в мое время, все уже вернулись бы к своим разговорам. Все бы закончилось. Но все молчали, словно финальный акт этой драмы еще не разыгран.
– Уходи, быстро! Беги, – шепнула мне служанка, оказавшаяся позади меня.
Я услышал, как кто-то тихо произнес:
– Некоторых находили в реке с перерезанным горлом и за меньшее…
Я опустил стул и выбежал из зала. На улице я быстро смешался с толпой прохожих и быстро зашагал к водоводу в конце Хай-стрит, где люди с большими мешками из черной кожи и деревянными ведрами столпились, чтобы взять воды. Солнце скрылось за облаками, и стало холоднее. Я быстро прошел Фор-стрит, затем свернул направо, к приорату святого Николая. Я проходил почти там, где жил кузнец Ричард, но дома и переулки казались мне совершенно незнакомыми. Церкви приората я не увидел.
Перестав понимать, где я нахожусь, я пошел по грязной тропинке, но она привела меня в тупик. Я вернулся назад и пошел по другому переулку. Обогнув угол, я оказался на небольшой улочке за старым домом с фасадом из песчаника. Голова у меня кружилась. Мне казалось, что я попал в узкое ущелье.
Следующий переулок, по которому я пошел, привел меня во двор, окруженный ветхими домами. Пошел дождь. Я прошел мимо старой женщины, стоявшей в дверях. Она уставилась на меня и провожала взглядом, поворачивая голову мне вслед, словно глаза ее утратили свою подвижность. Я увидел трех мальчишек, игравших в луже. Две старухи шили одежду перед открытой дверью. Иглы с нитками так и мелькали в морщинистых руках. Сколь бы внешне гордым и новым ни выглядел город, бедности, горя и отчаяния в нем стало не меньше. На каждого щеголя с тростью с серебряным набалдашником приходилось трое детей, возящихся в грязи. Новые дома на главной улице были красивы, но за ними, в узких переулках теснились старые ветхие дома с окнами, никогда не знавшими стекол и забитыми деревянными планками. В стене, укрепленной деревом, зияли огромные дыры – камни давно вывалились, и никто не озаботился починкой. Сквозь одну такую дыру я увидел полутемную лестницу, ведущую на второй этаж. В одном грязном дворе я чуть не провалился в вонючий колодец, поскользнувшись на выросшем вокруг мхе. Выбраться из этого хаоса было невозможно. Вокруг царил распад и зловоние. Я сворачивал с одной улицы на другую и всюду видел грязь, ветхие стены и кривые двери. Многие дома попросту покосились от ветхости.
И вдруг я оказался на знакомой улице – Норт-стрит. Она вела к старым воротам, через которые мы с Уильямом в ту ночь вошли в город, а я нес Лазаря.
Я решил вернуться на Хай-стрит. Выйдя на нее, я не увидел ничего знакомого – только саму улицу, которая шла в прежнем направлении. Повсюду я видел пятиэтажные дома с крашеными фасадами, резными украшениями, балюстрадами и балконами. По улице шли люди, которые уводили прочь непроданных коров и овец. Наблюдая за тем, как пару бычков водили туда и сюда, я заметил улыбающуюся толстушку, которая весьма соблазнительно улыбалась прохожему. Подойдя к нему, она ласково погладила его по щеке, и тут за спиной мужчины появилась девочка лет девяти. Я решил, что это дочь той женщины. Пока мать соблазняла мужчину улыбками и поцелуями, девочка ловко вытащила кошелек из кармана его пальто. Но недостаточно ловко – по-видимому, она еще лишь училась этому незаконному ремеслу. Мужчина заметил движение, оттолкнул женщину, схватился за карман, огляделся вокруг, увидел убегающую девочку и заорал от ярости. Он бросился за ней, расталкивая прохожих, и схватил ее за воротник. Вырвав у нее кошелек, он начал крутить ей ухо, а потом принялся колотить. Он сильно толкнул девочку, так что она упала прямо в грязь, и стал пинать ее ногами. Несколько прохожих остановились посмотреть, но быстро потеряли интерес к этой сцене и переключились на аукцион скота.
Все вокруг было каким-то неуклюжим и неловким. Я не чувствовал какого-то великого замысла – элегантность в этом обществе отсутствовала. Что доброго я мог сделать для них? Они разделены, каждый сам по себе, в их мире господствует мошенничество, воровство и обман. Даже дома стремятся привлечь к себе внимание – те, что еще не обветшали до крайности. Высокомерные мужчины с серебристыми волосами – тщеславие их заметно невооруженным взглядом. Выпитый бренди туманил мне разум, но не настолько, чтобы я не видел уродливой стороны жизни.
Я прошел под аркой Бродгейт и вошел в соборный квартал.
Неполнота признания болезненна. Двор собора был обнесен оградой, засажен травой и цветами и напоминал сад какого-нибудь богатея. Все старые дома каноников, которые я помнил, давно исчезли. Их место заняли большие особняки с фасадами из песчаника. Когда я посмотрел на собор, меня охватило чувство, словно я смотрю на труп старого друга, безжалостно ободранного до костей. Оконные переплеты во многих местах были повреждены. Клуатр, где я вырезал портрет Уильяма со слишком большими ушами, разрушили. Мне не удалось сдержать обещание, некогда данное Уильяму: здесь его уже не помнили. На месте клуатра выстроились высокие дома со стенами из тех самых мелких прямоугольных камней, которые я впервые увидел на набережной. Дома были пристроены прямо к северной башне и делили лужайку собора пополам. Резные фигуры царей облупились от времени. Вся каменная резьба пребывала в плачевном состоянии. Моя скульптура Генриха Третьего была разбита на уровне груди. Ангел под ним, простирающий крыло для защиты колонны, на которой он стоял, лишился глаз и носа и стал более похож на вампира, чем на небесное создание. Я с печалью взирал на свой портрет доброго отца-казначея: черты лица его сгладились, и голова статуи напоминала червя с конской гривой. Я мечтал сохранить его лицо навечно, но новая эпоха получила от меня лишь бесформенный кусок камня, почти вернувшегося к своему изначальному состоянию.
Большие западные врата собора были закрыты, но справа я заметил небольшую открытую дверь. Я вошел в собор, перекрестился и увидел человека в черной рясе. Он был молод и чисто выбрит. Тонзуры, подобающей священнику, я не заметил. Я попытался обойти его, но он преградил мне путь. Я попробовал обойти его с другой стороны, но он снова помешал мне.
– Два пенса, пожалуйста, – сказал он.
– За что?
– Во славу Господа, – улыбнулся он и указал рукой вверх.
– Неужели в этом городе никто ничего не делает, не получив денег?
– Два пенса, – твердо произнес молодой человек в рясе.
Я отрицательно покачал головой.
– Тогда ты должен уйти.
– Ты отказываешь паломнику в праве прийти в дом Господа, потому что у него нет пары монет? Это неправильно!
– По твоему дыханию я чувствую, что ты не паломник. Ты пьян. Уходи – или я позову сторожей.
Я шагнул вперед и толкнул его.
– Нет! Бог обещал мне, что я умру не сегодня – и не завтра!
– Ты не можешь войти!
– Ты ошибаешься. Я уже вошел.
Я прошел мимо него и свернул налево, в часовню святого Эдмунда. Я поднялся к деревянной ширме, отделяющей часовню от помещения церкви. Двери были заперты. Я поискал отверстие, надеясь разглядеть алтарь, где я когда-то изобразил лицо Уильяма. Его там не было – не было и самого алтаря. Там не было ничего – даже алтаря. Это была не часовня. Простой каменный мешок.
В гневе я ударил кулаком по ширме и побежал по нефу. Повсюду стояли деревянные скамьи, словно люди этого времени стали слишком слабы, чтобы стоя слушать слово Господа. Я посмотрел наверх – в соборе почти не осталось резных фигур. Алтарные образы были уничтожены, да и самих алтарей не осталось. Надгробные надписи кто-то осквернил непристойными рисунками. Прекрасная женская головка, изваянная Уильямом Джоем, утратила подбородок, и лицо ее стало безобразным. С алтарной преграды сняли крест, заменив его странной конструкцией из дерева и металла. Ни в одной из боковых часовен не осталось ни алтарей, ни росписей. Окна были застеклены простым прозрачным стеклом. Они вырвали собору зубы, и теперь нежная улыбка пугала зияющими провалами.
– Эй ты! Уходи! – кричал мне священник. – Ты не можешь сюда войти! Это святое место!
– Больше нет, – ответил я, проходя за алтарную преграду.
На меня набросились двое в черных рясах. Один пытался оторвать мою руку от двери на хоры, но я попросту отбросил его в сторону. Другой хотел остановить меня, схватив за плечо. Я повернулся и оттолкнул и его тоже.
– Не мешайте моему призванию, – сказал я. – Поцелуй дьявола горит на моих губах! И вы вряд ли захотите ощутить его!
Я повернулся и пошел по хорам. Вид разрушений терзал мою душу. Краска на стенах давно облупилась. За главным алтарем более не было алтарного образа – только простые деревянные панели. Большое восточное окно собора лишилось розы, некогда сиявшей синим и красным светом. Маленькие арки обрушились. Даже огромный трон епископа Стейплдона своим жалким видом более всего напоминал затонувший корабль.
Я вошел в часовню святых Андрея и Екатерины.
И сразу же увидел Уильяма. Фигура почти не имела лица и ничем не напоминала моего брата. Казалось, что лицо смыто приливами времени и утратило свои черты. Я повернулся, чтобы увидеть лицо моей жены на алтаре святой Екатерины. Фигура все еще стояла там. Она лишилась красок, но пострадала не так сильно. На голове и лице виднелись следы птичьего помета, словно кто-то разбил десяток яиц над ее головой и оставил гнить. Фигуру напротив Уильям Джой ваял с меня. У нее был поврежден подбородок – и те же следы птичьего помета на голове.
Вот все, что осталось от нас. То же самое останется от каждого: мелкие фрагменты, изуродованные людьми, которым нет дела до прошлого и которые не понимают смысла его памятников.
Мне казалось, что весь собор, как огромный камень, швырнули в глубокий пруд. Стайка мелких рыбок-священников то вплывает, то выплывает из этого остова, не замечая фигур, в которых воплотилась вся моя жизнь. Щука в рясе мелькает в ярком свете витражей, пузырьки поднимаются между резными арками. Щука не обращает на них внимания, ее холодный взгляд ищет только серебристый блеск очередной монетки, брошенной случайным гостем и медленно опускающейся на дно.
Мой взгляд упал на маленькую резную голову у пяты свода. Я вырезал ее, когда мне было двадцать лет. Я изобразил лысого диакона, но моим товарищам она очень понравилась. Теперь же губы диакона кто-то стесал, от чего посреди лица и на щеке образовался глубокий провал. Казалось, череп вопит от отчаяния в вечности.
Я повернул к дверям часовни и наткнулся на преследовавших меня священников.
– Вы безбожники! – закричал я. – Разве вы решились бы стесать лица ваших матерей с их голов? А в соборе вы сделали именно это! – Я обвел рукой стены и свод. – Каждый камень здесь – творение рук человеческих. У этих людей были страсти и страхи, и свои чувства они вложили в эти камни. Этот собор строился, чтобы привести мужчин и женщин к Богу, приблизить нас к Господу! Но ваши безбожные деяния превратили собор в безликую груду мусора – и все это во имя дьявольской прибыли!
– Как можешь ты говорить такое? – возмутился один из священников.
– Как могли вы сотворить такое?! Где прекрасные скульптуры, некогда украшавшие это место? Где цвет и свет? Где любовь?
– Уходи! Немедленно!
– Достаточно, – рявкнул старый, толстый священник. – Этому человеку место в тюрьме. Тимоти, зови сторожей! Он должен предстать перед членами магистрата еще до заката. Они спустят кожу с его спины!
Молодой священник убежал.
– Твое милосердие, священник, должно быть, исходит из твоей задницы – твой рот не произносит слов милосердия.
Священники приблизились ко мне и попытались схватить, но я пнул старшего по голени, и он рухнул на пол. Его спутник хотел ухватить меня за полу камзола. Я ударил его по руке, а потом двинул кулаком в нос. Я побежал по галерее. Шаги мои гулким эхом отдавались от каменных стен и сводов. На бегу я видел знакомые лица давно умерших людей: епископы смотрели на своего Творца, рыцари неподвижно лежали, вечно сжимая в руках свои мечи.
Я слышал крики в нефе и кинулся на хоры, чтобы скрыться от преследователей. Я быстро кинулся к трону епископа. Но появилось слишком много людей. Они рассыпались по собору, чтобы выловить меня между сидений. Поначалу мне удавалось уворачиваться. Я пробежал прямо по скамьям, оттолкнул своего преследователя, ударил его в лицо и кинулся к дверям. Но тут появились сторожа или констебли. Я затормозил, пытаясь скрыться от них, и тут меня схватили сзади.
Мне связали руки за спиной, вывели из собора и повели в ратушу, а там кинули в холодную камеру без окон. Больше часа я сидел на полу в полной темноте со связанными за спиной руками. Я слышал, как капли падают с мокрых стен и потолка. Я ощущал влажный воздух. Я слышал, как большой колокол собора пробил два часа пополудни. Я чувствовал, что потерял не только жену, детей и брата, но и собор. Его украли у меня – скульптуру за скульптурой.
Три часа еще не пробило, когда открылась дверь. Свет снова ослепил меня, как утром. В дверях стояли два стражника.
– Это мистер Берч, – сказал один. – Меня зовут Уильям Грин. Мы пришли по поручению мэра. Он узнал о твоих богопротивных речах в соборе, драке со священниками и непристойном поведении на постоялом дворе «Медведь». Поскольку никакого ущерба собственности причинено не было, он решил не взимать с тебя штрафов. Но за драку и оскорбление собора и священства ты приговариваешься к двадцати плетям в работном доме в Хэвитри. После этого ты можешь остаться в работном доме до трех дней, за что придется отработать. Покинув работный дом, ты не имеешь права возвращаться в город – иначе тебя будут бить хлыстом и заключат в замок.
Меня вывели за восточные ворота. Там, где некогда находился городской ров, заполненный стоячей водой и гниющим мусором, теперь выстроились дома. Все дома имели правильную форму и были построены из тех самых красных прямоугольных камней, которые я впервые увидел на набережной. Справа от меня, на месте, которое я знал под названием Кралдич, находилась ровная зеленая площадка. На подстриженной траве мужчины в треугольных шляпах играли в какую-то игру. Они катали большие черные мячи, стараясь попасть по маленькому белому мячу. Все было чинно и благородно. Казалось, ничто не может нарушить спокойствия собравшихся здесь. Но я в это не верил. Одна улица таких новых домов была элегантной, но ряды одинаковых улиц начинали подавлять – одни прямые углы, никаких изгибов. Судя по всему, единственная архитектурная концепция этого времени – это прямая. Все просчитано, измерено, выровнено и уточнено. Правила холодны и безжизненны, словно их составляли люди, лишенные воображения, а не мастера-каменщики, стремящиеся порадовать Бога.
Впереди я увидел большой дворец. Здание с трех сторон охватывало большой квадратный двор. С одной стороны дворца располагался парк и сад, с другой – поля. Ширина фасада составляла около двадцати пролетов, длина каждого крыла – десять. Дворец был построен из тех же прямоугольных красных камней. Когда мы подошли ближе, я увидел низкую стену, проходящую по периметру поместья, красивые кованые ворота и широкую подъездную дорогу. К нам подскакали два молодых человека, миновали нас и свернули на север. Из-под копыт лошадей летела грязь. Потом проехала старая крестьянская повозка. В повозке среди корзин, накрытых тряпками, сидела женщина с детьми.
– Из какого камня построен этот дворец? – спросил я.
– Это не дворец, – усмехнулся один из стражников. – Это работный дом. И построен он не из камня, а из кирпича.
Выражение «работный дом» безобразно. Неважно, откуда ты, неважно, кто ты. Важен лишь твой труд. Ты превращаешься в рабочий скот. Если ты бродяга, тебя отправят сюда. Старый милосердный Бог устал и захлопнул врата рая, наказав привратнику отправлять всех, кто ищет милосердия, в работный дом. Но разве бедность не добродетель? Если бы Христос жил в то время, то разве не оказался ли бы он в работном доме? Да, даже к Нему в эту безбожную эпоху отнеслись бы как к рабочему скоту.
Эта мысль сокрушила мой дух. Как могу я совершить доброе дело в мире, где большинство людей отвергли само понятие добра? Я не могу радоваться этой травле человечества, этой точности, этим прямым линиям, этой нетерпимости к человеческим слабостям. Я не вижу красоты в мире, лишенном изгибов, невинности и естественной грации. Но то, что я считаю прирожденным правом – свободный вход в собор, – отвратительно и непонятно этим людям. В прошлом веке, в доме мистера Парлебона, меня поразили изменения в природе добра и зла. Теперь же я почувствовал, что мое представление о добре абсолютно противоположно представлениям этих людей. Что доброго могу я совершить в этом мире, где все мое добро считается грехом?
Страх перед работным домом не ослабел при входе. Я стоял перед решетчатой входной дверью, словно перед пастью дракона. Высокая крыша нависала надо мной, как гигантские глаза, огромные крылья довершали впечатление. Я чувствовал, что дракон этот жаждет человеческих душ, стремится превратить людей в бездушные существа. Над дверью красовался гигантский диск, напомнивший мне часы на кухне фермера Ходжеса. Стражник постучал в большую дверь. Я услышал лязг отпираемых замков, и дверь медленно распахнулась. Все ужасы контроля и управления обрушились на меня. Я шел по каменному залу, во все стороны от которого отходили длинные коридоры, и чувствовал себя беспомощным существом, оказавшимся в полной зависимости.
Дверь за моей спиной захлопнулась с глухим звуком. Полный мужчина лет пятидесяти с усталым лицом запер все замки. На нем был черный камзол и белая рубашка.
– Мистер Берч, мистер Грин, рад вас видеть, – обратился он к моим стражам, занимая место за столом писца.
На лице этого человека я заметил ту же рамку со стеклышками, что и на мужчине, читавшем книгу на постоялом дворе «Медведь».
– Взаимно, мистер Петибридж, – ответил мистер Грин. – Вот приказ мэра. Бродяга и осквернитель церквей. Признан виновным: драка на постоялом дворе, побои, нанесенные регенту собора. Мэр хочет, чтобы вы преподали ему урок: двадцать плетей. После экзекуции он может остаться на три ночи, если будет работать в уплату за пребывание. Затем он изгоняется пожизненно.
Мистер Петибридж осмотрел меня с ног до головы и снял очки:
– Хорошо, что мэр проявляет такое милосердие, но вы должны понять, что нам придется поработать. Этого человека придется осмотреть на предмет болезней и дезинфицировать в бане. Нам придется найти ему рабочую одежду на три дня – и перестирать ее, когда он уйдет. Нам придется выстирать его собственную одежду. Мы должны будем кормить его и предоставлять ему ночлег. У меня уже на сорок человек больше, чем следовало, а мистера Тернера сегодня нет. И мистера Эванса тоже. Я уже исполнил тягостный долг, отослав женщин, которые покинули заведение, чтобы всю ночь веселиться в таверне, а на следующее утро умоляли принять их обратно. Все это требует новой одежды, новой стирки, новой еды и новых документов. Если мэр хочет наказывать мужчин и женщин, он должен отправлять их в тюрьму или на виселицу, а не сюда.
– Я обязательно передам ему ваши слова, – сказал мистер Грин. – Вряд ли вы могли бы более четко высказать свои пожелания.
Мистер Петибридж вздохнул.
– Доктор Хэллетт еще не ушел, так что он сможет хотя бы осмотреть этого человека. Но сейчас мы здесь втроем, поэтому наказание придется отложить до возвращения мистера Киннера.
– Так тому и быть, мистер Петибридж, – ответил мистер Грин.
Мистер Петибридж вновь водрузил рамку со стеклышками на нос, пошуршал бумагами на столе и взялся за перо. Он окунул кончик пера в чернила и обратился ко мне:
– Имя?
– Твое имя, – рявкнул мистер Берч, пиная меня в ногу.
– Джон из Реймента, – ответил я.
– Фамилия?
– У меня ее нет.
Мистер Петибридж воззрился на меня так, словно я превратился в паука.
– Как звали твоего отца?
– Саймон.
– Значит, Джон Саймонсон, – записал мистер Петибридж. – Возраст?
– Четыреста тридцать три года.
Мистер Петибридж посмотрел на меня поверх рамки со стеклышками.
– Мне не составит труда дать тебе вдесятеро больше плетей. Когда ты родился?
– В среду после Троицы на пятом году правления короля.
– Какого короля? Георга Первого? Тебе явно больше двадцати пяти лет.
– Короля Эдуарда Второго.
Мистер Петибридж покачал головой.
– Если ты говоришь о правлении королевы Анны, тебе тридцать восемь. Если о короле Вильгельме Третьем, тебе пятьдесят один. Что выбираешь?
Я пожал плечами.
– Тридцать восемь нравится мне больше.
– Какой приход?
– Мортон.
– То есть Мортонхэмпстед?
– Да, его сейчас называют так…
– Род занятий?
– Что?
– Чем зарабатываешь на жизнь?
– Каменщик.
– Женат?
– Да.
– Дети есть?
– Да.
– Сколько?
– Трое.
– Возраст?
– Все они уже мертвы.
– Значит, детей нет. Умеешь читать и писать?
Я покачал головой.
– Знаешь арифметику?
Я пожал плечами.
Он отложил перо, поднял листок, внимательно изучил его и отложил снова.
– Сейчас тебя осмотрит доктор и пустит кровь. Но сначала правила. Запомни как следует. Вставать будешь каждое утро в шесть утра по удару колокола. На завтрак получишь три унции хлеба и унцию сыра с полпинтой пива. На обед восемь унций говядины, четыре унции хлеба, пинта пива и капуста, горох или бобы. Ужин: хлеб, сыр и пиво. Работать будешь в прядильне – каждый день до шести. По воскресеньям – посещение часовни, впрочем, тебя это не касается, в воскресенье тебя здесь не будет. Никаких песен. Никаких танцев. Бегать и кричать запрещается. Непристойно обнажаться запрещается. За неподчинение смотрителю – порка и лишение пищи. Общение с женщинами – сто плетей и заключение в карцере на две недели с половинным рационом и последующим постоянным изгнанием из работного дома. За содомию тебя передадут городским властям и повесят. Драки с другими обитателями работного дома – порка и заключение в карцер. Вопросы есть?
Я покачал головой.
Мистер Петибридж взял бумагу, велел мне следовать за ним, прошел через зал и открыл дверь.
Мистер Грин развязал мне руки и толкнул вперед:
– Иди за смотрителем.
Я подошел к двери и заглянул в длинный коридор. Справа появился мистер Петибридж. Жестом он указал мне на комнату.
– Доктор Хэллетт осмотрит тебя прямо сейчас.
В комнате доктора были высокие потолки и застекленные окна. В камине горел огонь. На полу лежала странная толстая ткань, которая напомнила мне покрывало сундука в доме мастера Ходжа, где мы были два дня назад. На стенах висели картины в черных рамах. На полке над камином стояли небольшие часы. За столом сидел мужчина лет шестидесяти и что-то писал в книге. Седые волосы на маленькой круглой голове были завиты в тугие локоны. Доктор был одет в длинный черный камзол с застежками на груди. На шее красовался белый шарф. На меня он не смотрел. Несмотря на солидный возраст, движения его были очень точными. Справа от меня у стены стояла скамья, а слева – большой шкаф со множеством ящичков.
Я посмотрел в окно. Столб для порки стоял посреди заднего двора.
Доктор Хэллетт посмотрел на листок.
– Джон Саймонсон?
– Да.
– Вижу, ты каменщик. Травмы были?
– У меня есть боевые шрамы. Несколько шрамов от сорвавшихся резцов и неосторожных ударов молотком.
– Тяжелые болезни?
– Что?
– Были у тебя какие-то серьезные болезни? Оспа, например, или сифилис?
– Была чума…
Доктор покачал головой.
– Наверное, это была малярия. Когда с тобой это случилось, ты жил у воды?
– Это была чума.
– Чумы в нашей стране не было уже семьдесят лет.
– Не было? Не было чумы?!
Неужели нашелся святой Георгий, который наконец-то поразил этого дракона, так долго терзавшего людей?
– Не было со времен правления короля Карла Второго…
– Второго? – поразился я. – А что случилось с королем Карлом Первым?
– Что ты спросил?
– Вы сказали «Карла Второго». Что произошло с Карлом Первым? Скажите мне, что случилось с роялистами. Они должны были проиграть – у них остался лишь Эксетер и Оксфорд.
– Карлу Первому отрубили голову – это знает каждый ребенок. Но после смерти Кромвеля через десять лет после этого пало и его правительство. В тысяча шестьсот шестидесятом году генерал Монк призвал на правление принца, и он стал Карлом Вторым. Тебе этого достаточно?
Я подумал о мистере и мистрис Парлебон. Интересно, дожили они до коронации сына их монарха? Или они смирились с правлением Кромвеля, а потом были признаны изменниками? Узнать этого я не мог.
Доктор снова заглянул в книгу.
– Ты неграмотный. И арифметики не знаешь.
– Я никогда об этом не слышал.
– Ты умеешь считать?
– Да.
– Можешь складывать? А вычитать?
– Да, могу.
– Сколько будет из тысячи вычесть сто пятьдесят три?
– Восемьсот сорок семь.
Доктор Хэллетт удивленно поднял брови.
– А семью семь?
– Сорок девять.
– Пятнадцатью пятнадцать?
– Двести двадцать пять.
Доктор откинулся на спинку кресла и посмотрел на меня.
– А тридцатью пять тридцать пять?
Я видел, что он делает какие-то записи на листке.
– Одна тысяча двести двадцать пять, – ответил я, пока он еще писал.
Он посмотрел на меня и ничего не сказал, потом что-то зачеркнул и снова записал.
– Где ты ходил в школу?
– Я никогда не ходил в школу, мистер Хэллетт.
– Доктор Хэллетт, – поправил он меня.
– Простите, доктор Хэллетт. Я никогда не ходил в школу.
– Но умножаешь ты быстрее, чем я.
Доктор поднялся из-за стола и подошел ко мне. Осмотрев меня с ног до головы, он скомандовал:
– Вытяни руки вперед.
Я подчинился.
– Это кольцо твое?
– Это кольцо моего умершего брата. А раньше оно принадлежало нашему отцу.
Доктор осмотрел мои руки, шею, волосы, заглянул в рот.
– Приспусти штаны, – велел он.
Я сделал, как он сказал, и доктор осмотрел срамные места.
– Язв нет? Зуда? Жжения?
– Нет, доктор Хэллетт.
– Отлично.
Доктор вернулся за стол, взял стеклянный сосуд и протянул мне.
– Помочись сюда.
– Что?
– Пописай сюда. Если все чисто, мистер Петибридж и мистер Киннер узнают, что ты не болен. А это спасет тебе жизнь.
Доктор протянул мне сосуд и отвернулся к окну. Мне было очень трудно – в последнее время я очень мало пил. Я с трудом выдавил из себя немного.
– Больше не могу.
Доктор взял сосуд и поднес его к свету.
– Что ж, довольно чисто. – Он поставил сосуд на стол. – Ты искусан вшами и блохами, у тебя много старых ран, но в целом все в порядке. Никаких оспин. Утром тебя вымоют, подстригут волосы и ногти. Настоятельно советую кольцо спрятать, чтобы смотрители его не заметили. Ты хорошо себя чувствуешь?
– Да, хорошо, – ответил я, поворачивая кольцо Уильяма камнем внутрь.
– Когда испражняешься, крови нет?
– Нет, насколько помнится.
– Хорошо. Тогда я возьму у тебя немного крови.
Доктор подошел к шкафу, достал серебряный тазик и нож. Знаком он показал, чтобы я сел на скамью. Доктор закатал мне рукав и развернул руку так, чтобы на нее падал свет из выходящего на север окна. И тут он заметил след от моего кровопускания.
– Как давно это было?
– Четыре дня назад.
Доктор ничего не сказал и сделал небольшой надрез на внутренней стороне руки, рядом с моим надрезом. Удерживая тазик, он отворил кровь, но текла она медленно.
– Подержи тазик.
Я подчинился.
– Ты знаешь, что они спустят с тебя шкуру, – сказал доктор, направляясь к шкафу.
– Мэр приказал двадцать плетей…
– Какое ханжество… – Доктор вытащил из ящика повязку.
– Вы так считаете? – удивился я.
– Посмотри на этот дом: он был построен так, чтобы никто не знал, какие ужасы творятся за этими стенами. Внешний мир считает, что все в порядке, но это истинный ад, где людей запирают и избивают, порют и порой убивают. Меня вызывали к мальчикам со сломанными ногами и к девушкам, тела которых были изувечены до неузнаваемости. У многих нет выбора – им приходится идти сюда, где они смогут получить еду и кров. Ты увидишь, сколько несчастных душ заперто в этих стенах. Здесь обитают мужчины и женщины, страдающие самыми ужасными психическими болезнями: они ведут себя нормально, но не могут справиться с некоторыми сторонами жизни – и они дерутся, совершают ужасные поступки или постоянно мучают себя. Отвратительно, что им позволяют брать с собой сюда детей: что вынесут отсюда юные души? Да, несомненно, это оплот ханжества!
– Но почему король это позволяет? Почему вы не обратитесь к его величеству и не расскажете, какие несправедливости творятся от его имени?
– Я объясню тебе, Саймонсон… – начал доктор и замолчал.
Он снял с головы все свои серебристые волосы и поправил тонкие пряди седых волос на висках и затылке. Голова его оказалась почти лысой. Доктор внимательно осмотрел локоны парика и стряхнул невидимую пыль, прежде чем снова надеть его.
– Ты видишь, мы от природы отвратительны и безобразны – по крайней мере, большинство. Представь старую кокетку с румянами и белилами на лице, вспомни мой парик. Мы храбримся и делаем вид. Разве это преступление? Разве преступно скрывать собственное уродство? Нет. Ложь не всегда дурна. Таково и общество. Среди нашего населения есть неприглядные и неприятные особи, которых следует исправлять или скрывать. В этом и заключено ханжество, но ханжество с хорошей миной. Оно делает жизнь проще – для большинства.
Доктор остановил кровь, велел мне придержать ткань и начал бинтовать мне руку.
– Доктор Хэллетт, мы все еще воюем с Францией?
– Конечно. Война идет уже три года. Почему ты спрашиваешь?
– Три года? Не четыреста лет?
– Понимаю, это может показаться вечностью, но, честно говоря, мы воюем с Францией время от времени – не постоянно. Мы воюем каждые девяносто девять лет. С французами воевали в тысяча триста сорок восьмом, тысяча четыреста сорок седьмом и тысяча пятьсот сорок шестом. С собственными соотечественниками, англичанами, воевали в тысяча шестьсот сорок пятом. А теперь, в тысяча семьсот сорок четвертом, снова воюем с французами. И я даже не сомневаюсь, что будем сражаться в тысяча восемьсот сорок третьем тоже. Только в этом году мы начали воевать с французами в Северной Америке, чтобы умерить их колониальные амбиции на этом континенте.
– А где это, Северная Америка?
– Восточное ее побережье находится в трех с половиной тысячах миль за Атлантическим океаном. И она тянется на три тысячи миль от побережья. Сиди спокойно, не дергайся!
– А что находится за Северной Америкой?
– Шесть тысяч миль Тихого океана.
– А дальше?
– Восемь тысяч миль Азиатского континента – и Константинополь.
– Значит, Земля круглая?
– Да, шар. Шар, плывущий вокруг Солнца в безвоздушном пространстве.
Я тряхнул головой.
– Нет, это не так. Это солнце вращается вокруг земли. Вы же сами видите, как оно движется по небу с востока на запад.
– Ты не католик, верно?
– Некоторые называют меня так.
– На твоем месте я бы об этом не говорил. Они и так выпорют тебя. А если узнают, что ты католик, сделают это с еще большим наслаждением. Но тебе скажу: учение Папы в этом вопросе ошибочно. Нет никаких сомнений в том, что Солнце находится в центре нашей Солнечной системы. Тебе кажется, что Солнце движется вокруг Земли, но это происходит из-за вращения Земли. – Доктор взял листок бумаги и посмотрел на него. – Если у тебя нет других важных вопросов, это все.
Опираясь на трость, он вывел меня из комнаты и вернул в зал. Стражники, которые привели меня сюда, ушли, но с мистером Петибриджем сидели двое других.
– Этот Саймонсон умный парень, Петибридж, – объявил доктор, похлопывая меня по спине тростью. – Надеюсь, вы не будете к нему слишком жестоки.
– Запомню, доктор Хэллетт, – сказал мистер Петибридж, отпирая тяжелую входную дверь. – Я позабочусь о нем, не беспокойся.
Он закрыл дверь и запер замки, а потом заговорил, не глядя на меня.
– Оставайся в своей одежде до утра. Потом тебя вымоют. А пока иди в прядильню и работай до шести. Выпорют тебя после работы, когда придет мистер Киннер.
Я посмотрел на тех двоих, что сидели рядом с мистером Петибриджем. Один из них, лет тридцати, показался мне особенно неприятным. Другой был лет на десять старше, худой, с голубыми глазами и нечесаными светлыми волосами.
– Саймонсон, ты пойдешь с мистером Роджерсом. Он отведет тебя в прядильню.
Мистером Роджерсом оказался худой с голубыми глазами. Он повел меня по коридору в дальнее крыло здания. Мы попали в длинный зал с большими окнами вдоль одной стены. В зале стояли три ряда крепких столов, на каждом из которых стояли машины с большими деревянными колесами. За ними работали мужчины и женщины, и машины издавали странный ритмичный звук. У дальней стены на низких скамьях сидели плетельщики корзин. Двое мужчин переходили от стола к столу и зажигали чадящие сальные свечи – на улице уже начало темнеть. На нескольких скамьях парами сидели старухи и беседовали друг с другом. Вокруг них носились дети, мучая их вопросами или просто гоняясь друг за другом.
Мистер Роджерс подвел меня к столу, на котором стояла странная машина. Он сказал, что, если понадобится помощь, женщины мне помогут. С этими словами он ушел.
Я сел и посмотрел налево. Рядом со мной сидела женщина лет тридцати, с длинными нечесаными русыми волосами, в блеклом синем платье, поверх которого был надет грязный белый фартук. Под глазами у нее я заметил мешки, а на лбу – глубокую морщину от постоянной хмурости.
– Как тебя зовут? – спросил я.
Она мельком взглянула на меня и вернулась к работе.
– Хетти.
Я посмотрел на загадочную машину.
– Я не знаю, как она работает.
– Смотри на Розу и на меня. Быстро научишься.
Я повернулся направо – и сердце у меня остановилось.
Это была Кэтрин.
Я смотрел на нее. Она снова была молода, не больше четырнадцати лет. Она двигалась в точности как моя жена. У нее было то же лицо, те же плечи. Она постоянно вытирала руки о подол грязной серой юбки, даже не глядя – именно так всегда поступала и Кэтрин. Волосы девушке подстригли очень неумело, они выбивались из-под тонкой белой косынки. Но в ней сохранилась та же красота, какую я запомнил в своем времени.
– Кэтрин?!
Девушка не поняла, что я обращаюсь к ней. Через несколько минут она мельком взглянула на меня – наверное, почувствовав, что я на нее смотрю. Темные глаза ее были столь же прекрасны. Но в них не мелькнуло узнавания. Я повернулся к своей машине, но ничего не мог сделать. Руки у меня дрожали.
Я сделал глубокий вдох и снова посмотрел на девушку. Она запускала вычесанную шерсть в отверстие, где под действием небольшого колеса пряжа наматывалась на длинный металлический штырь. Девушка действовала очень аккуратно, чтобы шерсть поступала в механизм под постоянным натяжением – если пряжа стала бы слишком тонкой, она порвалась бы, если бы слишком толстой, то на катушке образовывались бы неровности. Когда шерсть у нее кончилась, она остановила колесо, подошла к корзине, стоявшей у стены позади нас, набрала шерсти и прикрепила кончик к концу пряжи на катушке.
– Ты не поможешь мне? – робко попросил я.
– Роза не говорит, – сказала Хетти, снимая полную катушку с машины.
Когда колесо машины у Розы снова завертелось, я понял, в чем дело. Под столом находился хитроумный механизм: нажимая ногой на две платформы, она приводила в действие два рычага, которые заставляли колесо вращаться словно бы само по себе. А руки прядильщицы были свободны и могли направлять шерсть.
Роза заметила мое внимание и поняла, что мне нужна помощь. Она указала на корзину с шерстью и развела руки, показывая, сколько шерсти нужно взять. Взяв кончик собственной пряжи, она показала, как закрепить шерсть на катушке, как протянуть шерсть сквозь отверстие и запустить машину в действие. Девушка указала на ножной механизм, приводящий в действие колесо. Первая моя попытка окончилась неудачей – я неправильно оценил натяжение, и пряжа порвалась. Роза коснулась моей руки и показала, как снова заправить шерсть, словно разрыва и не было. Через какое-то время она отошла и занялась собственной работой.
Работал я плохо – я не мог сосредоточиться на собственных неуклюжих действиях, то и дело поглядывая на Розу. Я делал вид, что пытаюсь перенять ее навык. Но в действительности мне было трудно смириться с тем, что я сижу рядом с призраком, который более реален, чем я сам.
Вокруг нас то и дело ходили люди – забирали шерсть, относили катушки в груду в конце зала. Рычаги, вращавшие колеса, клацали, столы потрескивали. С нами никто не разговаривал. Ни Хетти, ни Роза не пытались общаться со мной больше, чем это требовалось для работы. Но мистер Роджерс и еще один смотритель постоянно прохаживались по залу, следя за нашим усердием.
Когда окончательно стемнело и даже свет свечей нас не спасал, на моей катушке уже было достаточно пряжи. Я отнес ее туда, где оставляли катушки Роза и Хетти, взял пустую и вернулся на свое место. Роза показала, как установить катушку в машину. Когда она наклонилась ко мне, у меня перехватило дыхание – я хотел ощутить запах тела Кэтрин. Я знал, что это будет мучительно для меня, но все же вдохнул. И запах ее еще более усилил ощущение близости. Роза села на свое место, и мы принялись за работу.
Руки мои дрожали. Работа была столь монотонной и тщетной, что я никак не мог овладеть этим навыком. Я постоянно останавливался. Почему я работаю на людей, которые собираются меня выпороть? В чем здесь добро? Равно ли принятие наказания хорошей работе, которой я когда-то занимался, вырубая камни в Уотерн-Тор? Но достаточно было взглянуть на Кэтрин, и сердце у меня замирало. Мне никуда больше не хотелось. И хотя она не узнавала меня, хотя ей было всего четырнадцать, я чувствовал ее доброту и знал, что эта доброта – единственное, что нужно мне в этом городе.
– Почему ты копаешься? – раздалось за моей спиной.
Я обернулся. В тусклом свете свечей я разглядел мужчину слегка за сорок, с темными волосами, низким лбом и злобным выражением лица. Лицо у него было длинным, а подбородок еще длиннее, и весь он напомнил мне лошадь – между верхней губой и носом было слишком большое расстояние, покрытое волосами. Мужчина был одет в черный камзол, как и мистер Петибридж.
– Я спросил, почему ты мешкаешь, дармоед!
Я промолчал.
– Ты новенький – тот, кому нужно всыпать двадцать плетей, верно?
Я повернулся к своей машине – настолько отвратителен мне был этот человек. Я взглянул направо. Плечи Розы напряглись, руками она прикрыла грудь. Колесо ее машины остановилось. Роза смотрела в пол.
– А ты почему остановилась, моя принцесска? – спросил мужчина, поворачиваясь к ней. – Замерзла? – Он схватил Розу за плечи, тряхнул ее, потом наклонился к ней и развел ее руки, накрыв ее грудь своим ладонями. – Я согрею тебя, красотка. Ты всегда была моей любимицей – ты же никогда не жалуешься.
Я видел, как волосы выбились из-под ее косынки, когда он наклонился, чтобы поцеловать ее в шею.
Смотритель заметил мой взгляд и повернулся ко мне.
– На что пялишься?
Я снова промолчал.
– Ты что, немой, как эта дурочка?
Наши взгляды снова встретились, и он почувствовал мое отвращение. Я смотрел на вены на его толстой шее, слегка раздутые ноздри, жестокий рот. Одного зуба недоставало.
Смотритель снова повернулся к Розе и медленно провел пальцами по ее шее. Роза сжалась, но не оттолкнула его.
Я был вне себя от гнева, но понимал: ударь я его сейчас, и это ничем ей не поможет.
– Будь паинькой, Роза моя, будь осторожной со своими шипами, – пробормотал смотритель, крутя прядь ее волос в пальцах и оттягивая так, чтобы девушке пришлось закинуть голову. Неожиданно он оторвался от нее и посмотрел на мою руку. – Ну-ка, дай мне твое кольцо.
Я наклонился вперед и запустил колесо своей машины.
– Я сказал, отдай кольцо мне.
Я покачал головой.
Он плюнул на пол и вытер рот рукавом.
– Что ж, пряди-пряди, новичок, – прошипел он совсем другим тоном.
Я услышал медленные шаги. К нам приблизился другой смотритель. Тот, что домогался Розы, наклонился ко мне и громко прошептал:
– Если ты не отдашь его мне, когда мы будем тебя пороть, я отрублю твой чертов палец!
С этими словами он отошел прочь.
– Как зовут этого человека? – спросил я, глядя ему вслед.
– Майкл Киннер, – ответила Хетти. Роза молча смотрела в пол. – Он так обращается с Розой… Хочется ему все зубы повыбивать. Он ко всем молоденьким подкатывает. И твое кольцо он заберет. Я слышала, что он сказал. Он ничего не забывает.
– Почему вы не пожалуетесь мистеру Петибриджу?
– Они все заодно. Пока в конце дня здесь скапливается достаточно катушек, никто и слова не скажет смотрителям. Все считают, что они хорошо работают.
– Почему вы не уйдете отсюда?
Хетти взглянула на меня, не прекращая работы.
– Мне некуда идти. А Роза сирота. Она останется здесь, пока ей не исполнится двадцать один год – пока ее не заберет кто-то из родственников. Или мэр не прикажет.
– Значит, на смотрителей нет управы?
– Единственное, чего они боятся, это сифилиса.
– Сифилиса?
– Молодые реже болеют.
Я видел, что Роза все еще не приступила к работе. Она дрожала не от холода. Я протянул руку и положил ей на плечо. Она снова вздрогнула.
– Мне жаль…
Девушка молчала.
Я снова повернулся к Хетти.
– А эта болезнь, сифилис, ею болеют многие?
Хетти хмыкнула.
– Многие? Откуда ты взялся? Да ею болеют чуть ли не все! Эти мужчины в белых париках – все они лишились волос из-за лечения ртутью! Эти дамы в длинных перчатках и наглухо закрытых платьях – они скрывают язвы и черные пятна от этой болезни. Она есть у каждой английской шлюхи и у всех мужчин, которые ими пользуются! А потом они передают болезнь своим женам.
Прозвонил колокол. Все колеса разом остановились, клацанье прекратилось, и люди заговорили друг с другом.
– Сейчас будет ужин, – сказала Хетти, поднимаясь и останавливая свою машину.
Работники направились к выходу из зала. Роза толкнула меня и указала на дверь. Все медленно выбрались в полутемный коридор. Возле лестницы к нам присоединились другие работники, спускавшиеся сверху. Большой толпой мы двинулись в столовую. Запах гнилых овощей был невыносим. Столовая освещалась свечами, но на каждом длинном столе их было не больше трех. Дети хватались за юбки матерей, чтобы не потеряться в темноте. Потолка столовой я не видел – было слишком темно. По примеру Розы я взял из стопки деревянную тарелку и встал в очередь за крохотным кусочком сыра, ломтем хлеба и пинтой пива. Мы уселись на скамью между двумя свечами, почти в темноте.
Стоило мне поднять кружку, как ко мне приблизились два смотрителя.
– Поднимайся, Саймонсон! Поставь кружку и идем с нами.
Я тяжело вздохнул и поднялся, подвинув свою еду и пиво Розе. Мистер Киннер, усмехаясь, поигрывал ножом. Ножом он показал, что я должен следовать за мистером Петибриджем.
– Вот, молодец! Сейчас ты потеряешь аппетит…
Луна находилась в последней четверти: серебристый полукруг стоял очень низко. На высоких стойках были закреплены два пылающих факела. Возле столба для порки меня ожидал мистер Роджерс с другим смотрителем неприятного вида. Лица их блестели в свете факелов. Мистер Киннер и мистер Петибридж схватили меня и привязали к столбу. Руки мои заковали и вздернули вверх так, что я находился лицом к столбу. Кто-то затянул на моей шее шнурок так, что щека моя оказалась прижатой к шершавому дереву. Сколько несчастных до меня уже целовали этот столб… Кто-то попытался сорвать с моего пальца кольцо Уильяма, но я сжал руку в кулак и не позволил. Я заметил, как мистер Киннер переглянулся с мистером Петибриджем. Не говоря ни слова, он схватил нож и всадил его мне в руку. От страшной боли я закричал. Более я не мог помешать ему разогнуть мои пальцы – рука моя была пришпилена к столбу. Киннер сорвал кольцо с моего пальца. После этого он вырвал нож, разрезал мою одежду на спине, оторвал рукава и оставил меня дрожащим и полуобнаженным на морозном ветру.
После первого же удара мне показалось, что плеть сорвала всю кожу с моей спины. Второй удар выбил весь воздух из моих легких. Третий и четвертый удары последовали так быстро, что я понял: меня хлещут два человека с двух сторон. Я закусил губу и закрыл глаза. Скоро на моей спине не осталось живого места, и каждый следующий удар был мучительнее предыдущего. Мучители мои стали задерживать удары, чтобы я успевал ощутить боль и страх перед следующей плетью. После пятнадцатого удара я был почти в агонии. После двадцатого они остановились. Я слышал, как они переговаривались, чувствовал во рту вкус крови от закушенной губы. А потом последовал еще один удар. И еще один. Я знал, что они хотят, чтобы я закричал – и они продолжали хлестать меня с обеих сторон. И я молчал. Но я не знал, сколько еще ударов мне предстоит вынести, и от этого наказание становилось еще мучительнее.
Вдруг я увидел перед собой лицо Майкла Киннера:
– Знаешь, за что это?
Я молчал.
– Знаешь, за что ты получил еще десять плетей, а, новичок?
– За что?
– Ни за что. Так что только посмей что-нибудь сделать. В следующий раз я буду пороть тебя, пока на спине твоей живого места не останется.
Наступила тишина, и вдруг мне на спину плеснули ледяной воды. Но это была не вода, а рассол. От соли боль в спине стала невыносимой. Мистер Петибридж расковал мне руки. Я закричал от боли, хватая ртом воздух, и рухнул к подножию столба. Но от падения кожа на спине разошлась еще больше.
– Умолкни, слабак, – прошипел мистер Петибридж. – Вчера женщина выдержала тридцать плетей лучше тебя.
Я поднялся и медленно побрел к дверям.
– Одежду забери, – прокричал мистер Петибридж.
Я вернулся к столбу и подобрал разодранную одежду левой рукой. Прижав сверток к себе, я пошел в дом. Спина моя горела, правая рука не слушалась из-за раны.
В тусклом свете свечей в столовой я увидел нескольких человек. Большая часть обитателей работного дома уже разошлась. Я сел на скамью, все еще прижимая одежду к себе, и уставился в пустоту.
Люди посматривали на меня, но никто не подходил.
Я посмотрел на раненую руку. Кольца Уильяма больше не было. Это стало еще одним ударом. Самым тяжелым.
Я думал о Кэтрин. Единственное мое сокровище, моя память, причиняло мне невыносимую боль. Я пытался перестать вспоминать, хотел думать о милосердии, но сама идея эта казалась мне обманом.
– Человек человеку дьявол, – шептал я, раскачиваясь взад и вперед, вцепившись в свою изодранную одежду. – Homo homini daemon.
Эта мысль так меня захватила, что я не заметил, как ко мне кто-то подошел. Только когда девушка помахала рукой перед моим лицом, я понял, что рядом кто-то есть. Изумленный, я поднял глаза. И сразу увидел лицо Кэтрин. Потом я понял, что это Роза. Она держала хлеб и сыр – мой ужин. Девушка сохранила еду для меня. Я благодарно улыбнулся и отложил свою одежду. Взяв сыр, я разломил его пополам и протянул половину ей. Она отказалась, прижав руки к груди, но я настаивал, и она согласилась. Я положил кусочек сыра в рот и ощутил его вкус. Вкус человеческой доброты. Если весь мир превратился в ад и каждый человек стал слугой зла, достаточно одного доброго дела, чтобы вернуть мне веру в человечество.
Я отдал хлеб Розе – сейчас я не мог есть. Я дрожал от холода и боли. Единственным лучом света для меня было присутствие Розы.
Я спросил, откуда она.
Она указала на пол, потом указала рукой совсем невысоко.
– Ты живешь здесь с детства?
Роза кивнула.
– Ты когда-нибудь выйдешь отсюда?
Роза быстро закивала.
– Здесь всегда было так плохо, как сегодня?
Она снова кивнула и рукой изобразила плеть. Правой рукой она сжала левую грудь и указала на дверь.
– Послушай, Роза. В приходе Дансфорд, всего в пяти милях отсюда, есть крестьянский дом, Хэлстоу. Хозяин – добрый человек. Его зовут Ходжес. У него есть дочери и служанка Китти. Она – добрая девушка, но не справляется с работой. Ему нужна служанка. Если бы ты смогла сбежать отсюда, они позаботились бы о тебе.
Роза пожала плечами. В столовой было так темно, что я не видел ее лица.
– Ты помнишь своих родителей?
Она снова пожала плечами.
– У тебя есть брат? Или сестра?
Роза отрицательно покачала головой.
Я стал рассказывать ей об Уильяме. Мне хотелось, чтобы она была рядом, чтобы я мог с ней говорить. Я рассказал ей, как его поймали с моим распятием и монетами с изображением Папы Римского. Я рассказал ей, что меня приговорили стать палачом собственного брата, что перед смертью Уильям отдал мне свое кольцо.
Мы смотрели на мою раненую руку и палец без кольца.
Быстро оглянувшись, чтобы нас никто не заметил, Роза перекрестилась.
Я улыбнулся ей. И она улыбнулась мне. Это была прекраснейшая улыбка на свете.
Прозвонил колокол, и Роза знаком показала мне, что пора спать.
Мы вышли из столовой и направились к лестнице. Свечей не было, но все шли в одном направлении, и мы смешались с толпой. Я все еще нес сверток своей одежды. Когда кто-то задевал мою несчастную спину, я вскрикивал от боли, поэтому постарался пробраться к стене. Розу я потерял. На первом этаже я почувствовал, что мужчины направляются к свече в конце коридора, а женщины поднимаются наверх, на чердак. Никто не разговаривал. Вслед за мужчинами я направился в спальню. Здесь горела всего одна свеча. Прямо на полу валялись матрасы и одеяла. Не зная, где можно лечь, я дождался, пока все улеглись на свои места, и лишь потом бросил свою одежду возле двери и улегся ничком.
Я думал о том, как Уильям смотрел вверх, в небеса, и вручил жизнь свою Господу, не произнеся ни слова. Я вспоминал, как перекрестилась Роза.
Я не знал, каким будет завтра – станут ли наказания безземельных и отверженных еще более тяжкими, станет ли жестокосердие богатых еще сильнее.
Я вспоминал маленького Лазаря, брошенного в огонь. Я думал о младенце, о черных пятнах на его теле, о пламени, о крике Сюзанны. Уильям однажды говорил о том, как вся жизнь пронеслась перед его глазами. Вот последние дни моей жизни – не хотел бы я увидеть их вновь.
Я то задремывал, то просыпался от боли в спине и раненой руке. Но неожиданно меня разбудил странный звук. Я услышал, как кричит женщина. Потом наверху раздались другие крики.
Мужчины вокруг меня заворочались, но никто не поднялся, хотя теперь уже кричали все женщины. Я поднялся и подошел к двери, но не увидел замка – только ручку. Дверь не открывалась.
– Дверь заперта, – сказал кто-то рядом.
– Разве вам нет дела до того, что происходит наверху?
– Возвращайся и ложись.
Я еще раз дернул дверь и ударил по ней левой рукой, чтобы понять, насколько она прочная. Дверь оказалась полой – две доски в одной раме. Я пнул ее ногой: дверь оказалась достаточно прочной, и я пнул ее сильнее. Что-то треснуло, но дверь не поддавалась.
– Ложись, – прошипел кто-то в темноте. – Ты что, хочешь, чтобы Киннер и Петибридж пришли сюда со своими дубинками?
– Тебя снова выпорют, – добавил кто-то.
Наверху раздавались громкие крики. Потом я услышал, как мужчина кричит на женщин, потом чей-то визг. Я еще раз ударил по двери – и она подалась. Я ударил сильнее. Доски были прочными, но рама отделилась от стены – стена оказалась не каменной, простая перегородка. После десяти ударов я налег на дверь, и она открылась. Я оказался в темном коридоре. Впереди я увидел небольшой фонарь, освещавший стены и потолок. Тот, кто шел с фонарем, остановился, словно не зная, куда идти. Потом он направился наверх. Я поспешил за ним. Я слышал, как плачут и кричат женщины.
Во мраке мелькали фигуры. Люди сновали по коридору. Все говорили шепотом. Фонарь направился в спальню, и я пошел за ним. Я отталкивал женщин, чувствовал, что дети снуют вокруг нас и прыгают на матрасах, чтобы хоть как-то развлечься. В дальнем конце появился второй фонарь. Кто-то из женщин случайно задел мою спину, и я зашипел от боли. Но боль эта снова напомнила мне, как ненавижу я тех, кто управляет этим работным домом.
– Что случилось? – спросил я. – Скажите, что случилось?
– Кто-то пырнул мистера Киннера, – ответил женский голос. – Она ударила его катушкой прямо в сердце.
– Молчать, или я всех выпорю, – закричал мужчина в дальнем конце. – О, слава богу, мистер Роджерс, вы пришли. – Он обращался к тому, за кем я следовал. – Посмотрите-ка, что сделала эта шлюха!
– Она ткнула этого ублюдка Тернера в горло, – прошептала другая женщина сбоку от меня.
– Он это заслужил…
– Ее повесят, бедняжку…
– Это Киннер, а не Тернер…
– Он заслужил…
Я двигался вперед, внимательно слушая женщин.
– Ему не следовало насиловать девушку против ее воли…
– Успокой Дженни – ты же не хочешь, чтобы ее мучили кошмары…
– Киннер и Тернер и Эдит Гослинг насиловали. Брали ее по очереди: каждую ночь ей приходилось спать с кем-то из них. Я иногда успокаивала ее… Смерть стала для нее избавлением…
– Месть – святое дело. Киннер получил по заслугам. Они все получат…
Я услышал голос второго смотрителя:
– Отойдите, ради всего святого, освободите его. Дайте ему дышать…
– Черт, – выругалась женщина. – Он еще жив.
– Хуже и не придумаешь! Ее повесят, а он будет мучить других девушек.
– Даже если этот ублюдок выживет, он заплатит за свои прегрешения. Хоть шрам на нем останется…
– Заплатит? Таким ничего не бывает. Они всегда выкручиваются…
– Да он и так безобразен, что ему какой-то шрам…
Я пробрался вперед и увидел мистера Петибриджа на полу возле окровавленного тела. Рядом стоял мистер Роджерс с фонарем. Кровавый след остался на стене – по-видимому, Киннер схватился за стену, когда падал. Он лежал на спине, хватая воздух ртом, словно выброшенная на берег рыба. Мистер Петибридж держал свечу у его плеча, пытаясь остановить кровотечение. Катушка все еще торчала в горле Киннера.
Я подумал, в каком же отчаянии была женщина, которая это совершила. Или девушка. Может быть, это была Роза?
– Посветите мне, – громко сказал я.
Мистер Петибридж оглянулся.
– Кто это?
– Утром вы назвали меня Джоном Саймонсоном. Но меня зовут Джон из Реймента.
– Что ты тут делаешь? Почему ты не в спальне?
– Я пришел совершить доброе дело.
– Держи здесь, – сказал мистер Роджерс своему спутнику, поднялся на ноги и вытащил дубинку. – Убирайся в мужскую спальню, или ты об этом пожалеешь.
Он угрожающе навис надо мной, и я чуть отступил, чувствуя, что женщины тоже отшатнулись.
– Верните мое кольцо, которое украл мистер Киннер, – сказал я, стараясь сделать так, чтобы Роджерс оказался дальше от света. – Он украл его, когда порол меня.
Роджерс замахнулся дубинкой. Но я видел его хорошо, он же почти ничего не видел в темноте. Я заставил его сделать еще два шага вперед. Хотя правая рука меня почти не слушалась, но мне нетрудно было перехватить дубинку левой и заломить Роджерсу руку. Я пнул его сзади, повалил и навалился сверху. Оттолкнувшись, я изо всех сил ударил его дубинкой по голове – раз, второй… В третий раз я промахнулся – он откатился по полу в сторону, и я попал ему по плечу.
– Мистер Роджерс! – закричал Петибридж, вскочив на ноги. – Вы ранены?
– Стой, где стоишь! – крикнул я. – Слушайте вы все! Вы все знаете, что женщина, которая это сделала, всего лишь защищала свою честь. Мистер Петибридж и мистер Роджерс тоже это прекрасно знают. Но мистер Киннер еще не умер. За свою несчастную спину, за кражу кольца моего брата, за его жестокость по отношению к девушкам и женщинам я прикончу его прямо сейчас. И это буду я, кто убьет его, и никто другой! Если кого-то и должны повесить за убийство, пусть вешают меня, Джона Саймонсона! Если вы хотите помочь мне, отпустите мистера Петибриджа и мистера Роджерса. Кто-нибудь, возьмите у мистера Петибриджа его фонарь!
– Ты собираешься хладнокровно убить мистера Киннера? – закричал мистер Петибридж. – Этот человек беззащитен… Это жестокое убийство!
Но потом я услышал, как он кричит:
– Оставьте меня! Оставьте!
Его поволокли к дверям, фонарь его упал на пол и погас.
Теперь единственным источником света была свеча возле тела мистера Киннера.
Я подошел к телу. Женщины расступались передо мной. Я наклонился и посмотрел на залитого кровью умирающего. Ноги его дрожали. Я слышал, как судорожно он хватает воздух. Я заметил, что штаны его приспущены – по-видимому, кто-то из смотрителей натянул их, чтобы прикрыть его срам. Я видел катушку в его окровавленном горле. Киннер поднял руку, но я схватил катушку и ткнул ее глубже. Другой рукой он попытался схватить свечу. Я остановил его, но ему удалось уронить свечу, и наступила темнота.
– Мистер Киннер, вы сказали мне, что десять плетей дали мне просто так – на случай, если я что-то задумаю. Ну так вот, я задумал! Я задумал отправить вас в ад!
Под рукой я почувствовал его лицо и надавил пальцами ему на переносицу. Он мотал головой из стороны в сторону. Кровь бурлила в его горле. Я надавил пальцами на глаза. Он продолжал мотать головой, но уже понял, что спасения нет. Правой рукой я вырвал катушку из его горла, наставил ее ему на глаз и изо всех сил надавил. Он замер. Я вырвал катушку и вонзил в другой глаз. Тело Киннера обмякло подо мной.
Перерезать горло французским солдатам, павшим на поле боя, было куда тяжелее.
Я ощупал его руку: кольцо Уильяма он не надел. Я обыскал его одежду и нашел кольцо в маленьком кармане под камзолом. Кольцо я надел на безымянный палец раненой правой руки и поднялся.
За дверью горели три фонаря. Они поджидали меня.
Я взял дубинку в левую руку и медленно двинулся к двери. В полумраке я видел силуэты женщин. Но тут кто-то встал передо мной, преградив мне путь. Я видел женский силуэт. Девушка обняла меня. Я не видел ее лица – свечи стояли слишком далеко. Но запах показался мне знакомым. Я попытался высвободиться, но она держала меня очень крепко. Не говоря ни слова, она поцеловала меня в щеку и прижалась ко мне. Мы замерли, а потом кто-то молча оторвал ее от меня.
В свете свечей я видел лица смотрителей: мистер Петибридж, мистер Роджерс и тот неприятный тип, имени которого я не знал.
– Ну? Ты выполнил свою трусливую угрозу?
– Он заслужил смерть. Этот дом был построен ради заботы о бедных и сиротах, а не для того, чтобы вы мучили их.
– Отдай мне дубинку, – произнес мистер Петибридж.
– Отпустите его, – закричали женщины за моей спиной.
– Отпустите!
– Киннер заслужил смерть!
– Отдай мне дубинку, чертов ублюдок! – яростно заорал мистер Петибридж.
– Убей этих ублюдков! – кричали женщины.
Я не шевелился.
– Я не отдам вам дубинку. Вы убьете меня, если я буду безоружен.
– Мы и так убьем тебя, болван!
– Вас больше, – спокойно проговорил я, – но я в темноте. Если вы хоть пальцем меня тронете, то горько пожалеете. Мне нечего терять.
– Что ж, хорошо, – прошипел мистер Петибридж. – Будь по-твоему. Мистер Роджерс, мистер Флей, ведите этого человека в карцер. А мы займемся несчастным мистером Киннером. – Повернувшись к женщинам, он крикнул: – А вы все оставайтесь в спальне. Любой, кто выйдет, получит сотню плетей. Мы вернемся за телом мистера Киннера позже.
Я прошел по коридору, спустился по лестнице, пошел по другому коридору. И вдруг что-то хлестнуло меня по спине, а потом тяжелый удар обрушился на голову. Я оказался на полу. Они били меня жестоко – теперь моя вина была очевидна. Я пытался разбить их фонари, чтобы они меня не видели, но я не мог подняться с пола, и они продолжали избивать меня. Я скорчился, пытаясь правой рукой защитить голову и спину. Левой рукой я вслепую отбивался дубинкой. Только когда я сумел попасть кому-то по колену, раздался крик боли. Двое других еще более ожесточенно принялись пинать меня в грудь и голову. Им удалось вырвать дубинку из моей руки, Меня поволокли по каменной лестнице и бросили в темный подвал. Лязгнул замок, и они ушли.
Тяжело дыша и дрожа от боли и холода, я поднялся на колени, наклонился и прижался лбом к каменному полу. Я себя не помнил от боли. Спина моя горела, правая рука почти не слушалась, голова кружилась. Я был покрыт кровью – и собственной, и мистера Киннера.
Сердце стучало так, что я почти ничего не слышал. Но постепенно сердцебиение успокоилось и стало нормальным.
И я услышал, что рядом кто-то дышит.
– Кто здесь?
После долгой паузы раздался голос, похожий на мой. И я услышал песню:
Эй! Эге-гей! Ночь длинна. А я тоскую и печалюсь, Меня обвинили несправедливо.– Никогда не слышал такой горькой песни, – произнес я.
– Ты убил человека, Джон. Теперь врата Царствия Небесного качаются на ветру. Замки сломаны, петли скрипят. Огонь разведен в покоях твоего Господа. И все тщетно.
– Что ты хочешь сказать?
– Ты нарушил заповедь. Снова. Твое место на небесах потеряно – и все кознями дьявола.
– Ты – дьявол!
– Я твоя совесть, Джон.
– И ты тоже на коленях?
– Ты знаешь, кто я, и я знаю, кто ты. Ты привел меня сюда.
– Это было не хуже того, что мы творили на полях сражений во Франции.
– Ты убил этого человека не во славу своего короля или Господа, а по собственному разумению.
– Я сделал это ради той девушки, Розы. Ты считаешь, это было собственным разумением?
– Никто ничего не считает. Ты пытался совершить доброе дело.
– Да, я пытался. И это действительно было доброе дело.
– Ты не знаешь, что есть добро.
Я вспомнил Джорджа Беддоуза, который холодной ночью убил на пустоши Ричарда Таунсенда. Было ли это убийство справедливым?
– Тебе кажется, что мораль четко определена, – продолжал голос. – Даже сейчас ты считаешь ее камнем, на который можно возложить руку и сказать: «То, что я свершил, хорошо». Но в действительности мораль – это длинная лента в руках счастливого ребенка, развевающаяся на ветру. Она взлетает и опускается, она сворачивается и развевается. Ты можешь прицелиться. Твои деяния могут поразить или не поразить эту сложную цель. И уверен ты можешь быть только в одном: невозможно присвоить себе мораль.
За сегодняшний день я увидел демонстрацию всех семи смертных грехов. Я видел гордость богатея с длинной тростью на Ковик-стрит; чревоугодие обжор на постоялом дворе «Медведь», особенно того, что обедал со шлюхами; леность тех, кто проводил время за пьянством; алчность игроков; зависть и похоть Майкла Киннера; ярость тех, кто пытался убить его, будь то Роза или кто-то другой. И видел собственную ярость. Я тоже виновен так же, как и остальные.
– Это город делает нас грешниками, – сказал я. – Здесь слишком много людей. Разве это не уменьшает нашу вину?
– Отшельнику в пустыне легко считать себя хорошим человеком. Рядом нет никого, кто поспорил бы с тем, что все его деяния хороши и добры. Но в городе душу человека судят другие. Если твои сограждане проклинают тебя, значит, ты проклят.
– Воля народа – воля Бога, – вспомнил я слова мистера Перкинса.
– Это большое заблуждение.
– Что ты хочешь сказать?
– Увидишь…
VII
Я проснулся от звука колокольчика. Казалось, где-то наверху по коридорам бегает мальчик и будит своих товарищей. Он что-то громко выкрикивал, потом бежал дальше. Судя по затихающему звону, я понял, что колокольчик довольно тяжел. Этот мальчик прекрасно чувствовал себя в мире, которому я не принадлежал. Поскольку проснулся я семнадцатого декабря одна тысяча восемьсот сорок третьего года. Я оказался еще дальше от дома. И еще дальше от рая.
Я слышал шаги на лестницах и в коридорах. Под рукой я ощутил гладкое дерево – это была дубинка из прошлой ночи девяносто девять лет назад. Что еще у меня осталось? Кроме кольца Уильяма и старых штанов, подаренных мне мистером Парлебоном, единственным моим достоянием оставались ботинки.
Я мог остаться в этом подвале и спокойно провести здесь два последних своих дня. Но я знал, что не поступлю так. Мое любопытство не удовлетворить во мраке. Думаю, этот инстинкт свойственен всем людям – мы хотим знать, где и как мы умрем. Застанет ли смерть меня замерзшим и скорчившимся на обочине дороги? Или мушкетная пуля остановит мое сердце? Или демон чумы, притаившийся во мне, черными, скрюченными руками вцепится мне в горло, поразит мой разум, помутит мой взор и превратит в безумца?
Интересно, когда завтра я умру? Случится ли это ночью или на закате? Или это произойдет утром? Каждый день я свободно дышал и никогда не задумывался о часе смерти. Но очень скоро наступит момент моей самой последней мысли.
Я думал о том, что случилось с Розой. Выросла ли она? Покинула ли работный дом? Узнала ли радость любви? А если узнала, то сыграл ли я свою роль в этом? Я не знал, смог ли я совершить это доброе дело.
Я поднялся с пола и ощупью направился к двери. Рука моя коснулась какой-то ручки и повернула ее. Дверь была не заперта.
Я медленно поднялся по каменной лестнице и вышел на тусклый свет утра, подобно призраку жертвы кораблекрушения, вернувшемуся, чтобы преследовать выживших моряков. Меня никто не заметил, пока я не оказался в главном зале здания. Два смотрителя беседовали между собой, а третий доставал еду из деревянного ящика. Все они были выше меня – почти как Уильям. Седых париков я на них не увидел – только высокие черные шляпы. На них были длинные серые штаны и черные камзолы выше талии. Увидев, как я, полуобнаженный, в коричневых штанах до колена, покрытый кровью, весь в синяках, ранах и шрамах, со щетиной, которую вернее было бы называть бородой, с клочковатыми, спутанными волосами, появляюсь из глубин работного дома, смотрители отшатнулись в изумлении.
– Что это за дьявол?! – воскликнул один.
– Я его не знаю, – отозвался другой.
– Эй ты! – закричал первый. – Откуда, черт побери, ты взялся?!
Я смотрел на них.
– Забудьте, что вы видели меня. Меня здесь никогда не было.
– Это не наш, – сказал третий.
Спина моя все еще болела после порки. Ныли синяки после вчерашнего избиения. Я вышел из дома во двор. Никто не шел за мной.
Подъезд к работному дому остался почти таким же, как и прежде. Такими же были и окрестные поля. Но все остальное изменилось, Коровы стали намного больше тех, что я видел девяносто девять лет назад на Хай-стрит. Вокруг центра города выросли ряды кирпичных домов. Последний шпиль собора исчез. Клубы черного дыма поднимались из огромной трубы над зданием в южной части города. На дорогах я видел множество людей. Некоторые ехали в черных двухколесных экипажах, запряженных одной лошадью. Другие передвигались в четырехколесных повозках. Кто-то ехал верхом. Люди прогуливались с маленькими собачками странного вида – они вели собак на коротких поводках. Я увидел много женщин – явно состоятельных. Поверх платьев на них были надеты пальто, а волосы покрывали изысканной работы головные уборы. У всех мужчин я заметил пышные бороды и усы. Прогуливаясь, мужчины помахивали тросточками с серебряными набалдашниками. Те, что ехали в экипажах, то и дело наклонялись отдать приказ кучерам. И все люди были очень высокими. Я привык считать себя человеком нормального роста, но сейчас я видел женщин, которые были выше меня. Лишь немногие были ниже меня – только бедняки или дети. Женщина в старой шапке с тяжелой корзиной на спине согнулась вдвое, чуть не касаясь лбом земли. Она тащила свой груз в Эксетер. Ниже меня оказался и водонос в ярко-красной рубахе, сером камзоле и соломенной шляпе. Он попыхивал длинной курительной трубкой и подгонял свою тощую лошадь, которая с трудом тащила вверх по склону холма повозку с большой бочкой воды.
Куда бы я ни бросил взгляд, все изменилось. На земле появились железные решетки над световыми колодцами подземных погребов. Вдоль улиц были устроены широкие тротуары, и прохожим более не приходилось шагать прямо по грязи и навозу. Даже дороги стали чище, чем раньше. Теперь никому и в голову не пришло бы устраивать аукцион скота на Хай-стрит – улица превратилась в царство повозок и экипажей. Городские ворота исчезли. Узкие купеческие дома с кирпичными фасадами стояли повсюду. Высокие окна первого этажа были застеклены множеством прямоугольных стеклышек. В окнах были выставлены товары на продажу в пакетах и коробках с красивыми надписями. Чем больше я смотрел вокруг, тем больше слов замечал. Над дверями магазинов красовались надписи. Надписи были на дверях некоторых экипажей и на циферблатах часов над большими зданиями и на церковных колокольнях. На некоторых домах слова были написаны большими буквами. Но воздух был каким-то серым. Я чувствовал резкий, отвратительный запах, похожий на запах сжигаемого угля. Мне казалось, что весь город превратился в одну большую кузницу. Это было так же отвратительно, как миски с выпущенной кровью, какие в мое время цирюльники выставляли перед своими лавками, рекламируя свои услуги.
Вид и запахи города были мне чужими. Выражения лиц людей пугали меня еще больше. Люди поджимали губы, оборачивались, шокированно смотрели мне вслед. Когда я проходил рядом с кем-то, этот человек шарахался в сторону. Дети, игравшие на улице, бросали свои игры и таращились на меня. Это были чужие мне люди, принадлежавшие миру слов и металла. Железные вывески свисали с металлических штырей. На каждом доме я видел железные трубы, спускавшиеся с металлических крыш. Перед многими зданиями стояли железные ограды. Железными были уличные фонари. Металлические пластины были установлены на стенах домов, чтобы люди могли очистить свою обувь. Я прошел по двум мостам, сделанным из чистого железа, – особенно меня поразил огромный мост в конце Норт-стрит, где некогда находились северные ворота.
Я перешел этот мост и стал подниматься на холм Сент-Дэвид. Я не узнал здания, стоявшего там, где когда-то стояла церковь. Эта постройка менее всего походила на церковь: вдоль фасада выстроились стройные белые колонны. Я решил, что люди настолько привыкли к прямым линиям, что начали поклоняться им. И словам тоже. Вокруг церкви я заметил множество камней с надписями. Остановившись, я задумался, чему теперь поклоняются люди – Богу или слову Божьему? Но потом я спросил себя: а может быть, они много веков поклонялись словам, сами не сознавая того?
По холму я спустился к реке. Будь благословенна, река! Она, сильная и молчаливая, осталась единственной моей опорой в этой стране. Лишь она не изменилась. Теперь я понимал, почему мой тезка, Иоанн Креститель, решил крестить людей в реке. Река – это воплощение Бога: оба они дают жизнь, и обоих невозможно остановить. Водоросли колыхались в сильном течении. Я опустил дубинку в воду, по поверхности реки разошлись круги. А потом я опустил в воду руку, ощутив ледяную чистоту Творения. Это я знал и этому доверял. А город с его высокими, злыми людьми, железными мостами, вывесками и тиранией прямых линий был не для меня.
Я вошел в реку, чувствуя, как холод охватывает мои ноги. Дубинка незаметно выскользнула из моих пальцев, и течение унесло ее.
– Извините, – произнес кто-то за моей спиной. – Я могу вам чем-то помочь?
Я быстро повернулся, потерял равновесие, поскользнулся и оказался в холодной воде. Я цеплялся за камни, чтобы подняться, но боль в правой руке не давала мне этого сделать.
Когда я все же поднялся, то увидел перед собой круглолицего мужчину в очках. Он был примерно моего возраста и оказался не таким высоким, как большинство людей этого времени. У него был высокий лоб, а густые волосы странно зачесаны набок. Кустистую бороду уже тронула седина. Одет мужчина был в черное – белыми были только маленький воротничок и перчатки. В одной руке он держал очень высокую черную шляпу, в другой – трость с серебряным набалдашником.
– Я уже видел людей с такими шрамами, – произнес он.
Глаза у этого человека были добрыми. Казалось, что он постоянно улыбается.
– Я хотел сказать, – продолжал он, – что, принимая во внимание морозную погоду, вы вряд ли пришли сюда, чтобы искупаться.
Я посмотрел на реку: дубинка моя давно скрылась из виду.
– Я все потерял. Все, кого я знал, мертвы. Дом мой разрушен. Все, что у меня было, давно исчезло. Я потерял веру – ее лишил меня король Генрих Восьмой. А самое страшное – я потерял свое место во времени. Я знаю, что завтра умру – но завтра наступит нескоро. – Я посмотрел на этого человека. – Вас послал голос камней?
– Простите?
– Вам не нужно мое прощение. Это мне нужно прощение от вас. Я хочу умереть, погрузиться под воду и соединиться со своими родичами, но… О, понимаю – это голос велел вам спасти меня.
Мужчина посмотрел на воду, собираясь с мыслями.
– Вы помните вспышку холеры тридцать второго года?
Я покачал головой. Я понятия не имел, что такое холера.
– Как-то утром я пришел сюда – я часто прогуливаюсь здесь по утрам – и увидел красивую женщину. С ней были двое маленьких детей. Она утопила обоих на том самом месте, где вы стоите. Она сделала это, потому что муж бросил ее, а мать ее умерла. Мне она совершенно спокойно сказала, что не хочет, чтобы они тоже умерли от холеры. Та женщина положила мертвых детей на берег и запела. Не сомневаюсь, что она и сама собиралась утопиться.
– И вы остановили ее?
– Да. Когда об этом стало известно, ее хотели судить за убийство и повесить, но я убедил их, что женщина повредилась в уме и ее нужно поместить в психиатрическую лечебницу в Эксминстер.
– Если бы вы хотели помочь мне, то вам стоило бы удержать меня под водой.
– Идите же сюда, друг мой. Жизнь не так плоха, как кажется. Даже самой темной ночью всегда можно что-то рассмотреть, пусть даже всего силуэт крыши или ветки дерева.
– Кто вам это сказал?
– Когда я был ребенком, так говорила моя мать.
Я посмотрел вверх, на деревья.
– В детстве я тоже так думал. Я всегда говорил это моим сыновьям – никогда не бывает полного мрака. Но я ошибался. Мрак есть, он существует и порой может охватить тебя, даже если сквозь листья пробивается свет.
– Если даже в свете ты видишь только мрак, значит, тебе изменило зрение. Или нужно просто открыть глаза.
Он протянул мне правую руку.
– Я – отец Эдвард Харингтон, викарий прихода Сент-Дэвид.
Я не принял его руку.
Он наклонился еще ниже.
– Ну же… Вы не похожи на человека, который собирается топиться.
– Мне некуда идти…
– Так почему бы не провести часть дня со мной.
Он все еще протягивал мне руку.
– С каждым днем я все дальше от родного дома. С каждым днем я все более одинок. У меня не осталось надежды совершить доброе дело и спасти свою душу. Каждый день – это… непредсказуемый ужас… Нет, это ужасная непредсказуемость! Я никого не знаю. Никто не знает меня. Я никому не нужен, но мне нужен кто-то. Каждый день я просыпаюсь семнадцатого декабря спустя еще девяносто девять лет. Мне больно. Я потерялся. Я знаю, что мне осталось жить два дня. И, честно говоря, я предпочел бы не проживать их.
– Да, это достойно сожаления. Но должен указать, что сегодня не семнадцатое декабря. Сегодня двадцать девятое.
– Вы добры… Но я знаю…
Священник убрал руку.
– Поверить не могу! Вот вы стоите передо мной, полуголый, в холодной реке, и говорите, что я не знаю, какой сегодня день! Кто из нас тронулся умом, а? Друг мой, четыре дня назад я отмечал Рождество вместе с матерью и сестрой. Они уже дома, в Саутернхее. Можете спросить у них, какой сегодня день, если захотите. Можете любого спросить. Почему вы не спросили рабочих на вокзале? Или тех, кто строит новую гостиницу у подножия холма? Нет никаких сомнений: сегодня пятница, двадцать девятое декабря одна тысяча восемьсот сорок третьего года от Рождества Христова.
Я чувствовал себя обманутым глупцом. Вчера я, по крайней мере, мог утешаться тем, что знаю дату – девяносто девять лет после последнего прожитого мной дня.
Отец Харингтон указал на мою спину.
– Я вижу, что вас били, что вы в отчаянии. Я чувствую, что в вашей душе борются ангелы и демоны. Но я верю, что на этой земле спасение может обрести каждый. Нет души, которая не нашла бы искупления. И у меня есть к вам предложение. Если вы подарите мне один день вашей жизни, я постараюсь убедить вас, что жить стоит. А если мне это не удастся, завтра вы сможете сюда вернуться и кинуться в воду.
– Почему вы это делаете?
– Потому что не хочу видеть столь несчастную душу.
– И куда вы хотите меня отвести?
– Как насчет отличной, теплой бани? Смягчающей мази для вашей спины и чистой одежды? А когда мы разберемся с вашими ранами, можно будет пообедать. Кухарка приготовила нам троим – мне, моей матери и сестре – треску и устричный пирог. Но я уверен, что еды хватит на четверых. Вы видели гравюры Бартлетта или картины Норткота? Вы слышали музыку Шуберта? Вы когда-нибудь пили апельсиновый сок? В мире столько прекрасного. И я уверен, что, если вы подарите мне один день вашей жизни – день, который вам не хочется проживать, – я сделаю его прекрасным. И вы будете рады, что прожили его, даже если не захотите проживать день следующий.
Я вспомнил, что должен прожить шесть отпущенных мне дней – и свою клятву Уильяму. Я поклялся ему, что сделаю все, что смогу, чтобы спасти наши души. У меня не было выбора. Я выбрался из воды на берег.
Священник снова протянул мне правую руку, хотя я более не пытался утопиться. Я ухватился за его руку левой рукой. Мы обменялись рукопожатием, и это его обрадовало.
– Очень рад, – заулыбался он. – Я назвал вам свое имя, а как зовут вас?
– Меня называют Джон из Реймента.
– О, – с уважением произнес викарий, – древнее и благородное имя, «Исреймен». Я читал когда-то о Жераре д’Исреймене, который сражался в Нормандии в XII веке. – Он поднял указательный палец и прервал себя: – Извините, извините, уверен, что средневековая история вам неинтересна. Извините меня. Позвольте проводить вас в мой дом. Я живу рядом с театром. Чем быстрее мы туда доберемся, тем быстрее Элиза приготовит вам горячую ванну.
Мы молча шагали к городу. Когда мы проходили мимо стройки, викарий указал на растущие стены.
– Через четыре месяца прибудет первый поезд. И тогда мы сможем добираться до Лондона или Манчестера всего за несколько часов. В следующее воскресенье я буду читать проповедь на эту тему. Мне кажется, что современные изобретения соединяют нас и превращают в единый народ, разрушая местные границы. Весь мир станет единым благодаря дару Господнему – силе пара.
– Поезд? – переспросил я. – Поезд из повозок? Которые тянут тягловые лошади?
Викарий недоуменно посмотрел на меня.
– Откуда вы?
– Я же сказал, из Реймента в приходе Мортон. Или Мортонхэмпстед, как его теперь называют.
– Что ж, Мортонхэмпстед не такой уж медвежий угол…
– Но что такое ваш поезд?
– Видите вон те трубы?
– Да.
– Вы понимаете, что происходит в них?
Мы шли дальше, и я замечал, как странно люди смотрят на хорошо одетого человека, идущего рядом со мной, бродягой-оборванцем.
– Паровые двигатели, Джон, – повторил викарий. – Вы понимаете, как они работают?
– Они выбрасывают дым.
Священник остановился и вытащил из кармана серебряный диск со стеклянной крышкой. Он взглянул на него и сказал:
– У нас есть время. Выдержите небольшую прогулку? Вода согреется как раз к тому времени, когда мы доберемся до дома.
Мне было холодно. Я стыдился своего оборванного вида. Но это был предпоследний день моей жизни. Ванна и одежда значили для меня меньше того, что хотел показать мне отец Харингтон. И я просто кивнул.
Пока мы шли, викарий рассказывал мне о своем приходе. Местные жители хотят назвать этот «железнодорожный вокзал» «Ред-Коу» (рыжая корова), но он твердо настаивает на том, чтобы станция называлась «Сент-Дэвид».
– Это достойное название. Приличные люди будут встречать здесь своих близких, вернувшихся издалека. Что подумают лондонские джентльмены и леди, когда окажутся на станции «Рыжая корова»? Они решат, что здесь их встретят нечесаные мужланы с соломой в волосах и женщины с голыми грудями, с ведрами молока в руках и детишками, цепляющимися за их юбки! Так быть не должно. Мы должны строить лучшее будущее, не такое, как сейчас.
Я начал понимать, что на «железнодорожный вокзал» будут приезжать люди из Лондона – это что-то вроде набережной. А приезжать они будут на повозках-«поездах».
Новый мост оказался намного легче и красивее старого. Никаких домов на нем и в помине не было. Старую набережную расширили. Жизнь на ней так и кипела. Эдвард Харингтон рассказал мне об искусственном канале для кораблей, который был построен ниже по течению. Рассказал он мне и о кирпичном здании на набережной, которое привлекло мое внимание девяносто девять лет назад. Это была таможня, где чиновники взимают пошлину с ввозимых товаров. За таможней высились высокие трубы, где и располагались «паровые двигатели». Викарий попытался объяснить мне, как они работают. Я слушал невнимательно, но понял, что расширяющийся пар двигает поршень. Мне стало ясно, что теперь необязательно строить мельницы на реке: мельницу с паровым двигателем можно построить где угодно, и она будет такой же мощной, как и водяная, если не мощнее.
– Когда-нибудь, – сказал викарий, – водяных мельниц вовсе не будет. Все будет работать на пару.
Вскоре мы увидели деревянный корабль с двумя мачтами, на носу и на корме, и с большими водяными колесами по обе стороны. Высокая металлическая труба в центре была такой же высокой, как и мачты.
– Вот, – с гордостью произнес викарий, словно он сам построил этот корабль. – Что вы об этом думаете?
Я никак не мог понять, что удивительного в этом корабле. Он был немногим больше одномачтовых кораблей, на которых я отплыл во Францию с армией короля, и значительно меньше «Победы», которая затонула девяносто девять лет назад, имея на борту девятьсот человек и сто пушек. И я не понимал, как будут работать водяные колеса, даже если корабль будет двигаться. Если корабль пойдет под парусами, колеса будут бесполезны. Я предположил, что главная особенность этого корабля – дымящая металлическая труба.
– На этом корабле мельница?
– Нет, добрый мой Джон! Эта труба соединена с паровым двигателем в корпусе корабля. Двигатель этот приводит в действие два больших колеса, с помощью которых корабль и движется. Это корабль, который движется благодаря углю! Только подумайте: он никогда не попадет в штиль, когда на море нет ни ветерка. Больше не придется зависеть от сил природы и плыть против ветра.
Я смотрел на корабль, а потом попытался соединить два понятия воедино: паровую мельницу, которой не нужна сила воды, и корабль. Внутри этого корабля находится паровая мельница – она приводит в действие водяные колеса, которые толкают корабль вперед. Разум мой никак не мог понять, что водяное колесо можно использовать для того, чтобы толкать воду – все равно что повозка, которая толкает лошадей. Это казалось настолько неправильным, противным порядку вещей, установленному Господом. Но если это работает, то как не считать это даром Господа? И все же подозрения мои не развеялись. Если люди все еще доверяют Богу, то почему они перестали верить направляемому Им ветру?
Я повернулся и посмотрел вниз по течению, на спокойную, ровную воду. А потом снова перевел взгляд на корабль.
– Люди найдут этому дурное применение – я в этом уверен.
– Почему вы так говорите? Разве это не чудо? Разве вы не понимаете, как такие корабли изменят мир?
– Я понимаю. Но понимаю я и то, какие перемены сулит это открытие. Люди вторгаются в те сферы, управлять которыми должен только Бог. И когда люди разрушат возведенные Богом барьеры, безопасных мест больше не будет.
– Я не понимаю вас, Джон.
– Были времена, когда городские ворота запирали, и их стерегли стражники. Путешественник тогда считался человеком великим, и его слушали со вниманием. А за бедными присматривали и заботились о них – ради той службы, какую они могли сослужить. Теперь же все преграды мира снесены, и мир стал холодным, жестоким, пугающим местом, где хорошо только богатым. Вместо стен, обеспечивающих безопасность, появились деньги.
– Любопытный взгляд на мир… Но кто рассказал вам все это? Вы умеете читать?
– Я вижу это собственными глазами, отец Харингтон.
– И что же вы видите?
– Я вижу перед собой прошлое со времен нашего доброго короля Эдуарда Третьего. Я вижу один день каждые девяносто девять лет, один за другим. Я видел ворота Эксетера девяносто девять лет назад, обветшавшие и полуразрушенные. Я видел их высокими и могучими. Я видел жителей этого города, когда они были готовы отдать жизнь, сражаясь за короля Эдуарда. И видел их слабыми и бедными духом настолько, что они требовали два пенса лишь за то, чтобы войти в собор. Я видел жестокость тех, кто поддерживал полковника Фейрфакса, и ханжество каноника-прецентора. Я видел, как безжалостно изматывают рудокопов Периэмы. Отец Харингтон, не спрашивайте меня, почему и зачем. Я не понимаю этого. Но вся христианская жизнь развернулась на моих глазах, как на столе. И я окунал свои пальцы в соусы и пробовал душу человеческую во многих ее формах. И, должен признаться, все это оставило горечь в моем рту.
Отец Харингтон изумленно смотрел на меня. Он заговорил было, но тут же остановился, отвернулся и стал смотреть на корабли у набережной. Но все же он собрался с мыслями и снова повернулся ко мне.
– У вас было видение – это нечто необычайное! Нет, нет, не будем судить об этом. Бог послал вам видение. Вот что с вами произошло.
Я покачал головой.
– Не было у меня никакого видения. Я просто хотел объяснить…
– Но я должен вас поправить, – перебил меня викарий. – Эдуард Третий не был хорошим королем. Он начал войну с Францией, которая продлилась более сотни лет. Он безжалостно обложил свой народ налогами, он ненавидел мир и соблазнил множество женщин. Он не поощрял свободу торговли и свободу мышления – и любую свободу, кроме собственной. Он был дилетантом, распущенным человеком. И ему чертовски повезло, что он не погиб на поле боя.
– Нет! – воскликнул я. – Что вы знаете о нем? Он был благороднейшим человеком, воплощением доброты к своему народу и безжалостным врагом французских воинов. Все короли берут налоги со своего народа, но если человек не мог заплатить восемь пенсов королю Эдуарду, то не платил ничего. Он любил свою жену, королеву Филиппу, только ее и никого другого – никогда, по крайней мере, при моей жизни. И он истинно любил Господа – и Господь даровал ему победу в битвах. Говорят, что солдаты Александра Великого последовали за ним в Индию. И если бы Эдуард захотел завоевать Индию, мы последовали бы за ним! И за все годы, что довелось мне увидеть, в Англии не появилось короля, подобного ему. Разве ваша армия пойдет за нашим королем в Индию?
– У нас нет короля, – мягко произнес отец Харингтон. – У нас королева. И она правит Индией.
Это изумило меня. Когда-то мы удивлялись тому, что женщины учатся читать и писать. Мне и в голову не приходило, что женщина может править.
– Но если Англией правит королева, если она королева Индии, то и добрый король Эдуард по праву был королем Франции. Давным-давно он показал нам истинный дух англичанина. Вы забыли его и теперь хулите его доброе имя. Сегодня истина изменилась. Все здесь чужаки. А ваш паровой корабль… Я скажу вам, почему он не будет использован во благо: потому что человек человеку дьявол. Homo homini daemon. Со времен Великой чумы люди стремились превзойти друг друга, словно все зависит только от воли человека, а не от воли Господа. И чем умнее становился человек – чем больше появлялось часов и механических прялок, дробилок и паровых кораблей, – тем чаще использовал он свои изобретения против других людей. Тик, тик, тик – идут часы. Динь, динь, дон – звонит колокол. И богач твердит: «Делай это немедленно!» Этот корабль будут использовать для войны и убийства. Возможно, не в этом году и не в следующем, но когда-нибудь эти корабли будут убивать людей. Этот мир затянут в корсет, и корсет этот затягивается все туже и туже. И хотя наши тела сближаются, души наши далеки друг от друга.
Отец Харингтон поклонился мне.
– Сэр, я не ожидал столь эрудированной проповеди от человека, который полчаса назад собирался покончить с жизнью. Могу я поинтересоваться, принимая во внимание ваше старинное одеяние, не актер ли вы? Подобная риторика свойственна тем, кто с головой погружен в творения великого Барда. Я сам веду свой род от елизаветинского поэта и придворного, сэра Джона Харингтона, и знаком со многими трудами того времени. Мне доводилось встречаться с прекрасными актерами, которые не прочли ни одного слова Шекспира, но играли в его пьесах с таким мастерством, что я не мог поверить, что эти слова не принадлежали им самим.
– Я не понимаю вас, отец Харингтон.
– Чего вы не понимаете?
– Кто такие актеры?
Отец Харингтон тряхнул головой. Он долгое время молчал, а потом с любопытством поинтересовался:
– Вы сказали, что мир затянут в жесткий корсет, который сближает наши тела, но отдаляет души друг от друга. Что ж, если вы правы, то этот корабль являет собой печальное зрелище. Он – символ великого стремления к совершенству, но в действительности всего лишь еще одна остановка на крестном пути взаимного непонимания и разрушения человеческого вида. – Викарий посмотрел на меня. – Но я в это не верю. Просто не могу. Даже если это и правда, мы обязаны отвергнуть ее. Прогресс человеческого духа зависит от прогресса человеческого разума – это неоспоримо. Как иначе можем мы облегчить страдания бедных? Как можем защититься от хитроумной злобы наших врагов? Как донести слово Господа до злобных туземцев, которые убивают путешественников и во грехе живут на просторах Африки? Вот вы стоите здесь, полунагой, бедный и измученный – вы явились миру, как сам Христос на кресте. И все же я скажу вам, что Господь Бог наделил человека великим разумом, и не по-христиански будет отвергать этот дар или отказываться от того добра, которое можем мы с его помощью свершить.
– Тогда вы затянете корсет еще туже…
– Нет! – воскликнул викарий. – Я бы соединил страны, чтобы приблизить души людские к Господу. Я бы строил корабли, которые могли бы пересекать океаны и доставлять зерно с великих американских равнин бедным и голодающим. Я посадил бы добрых миссионеров на эти корабли, чтобы они проповедовали слово Божие африканцам, китайцам, индийцам, эскимосам, аборигенам и маори. Я доставлял бы плоды Вест-Индии в Англию, чтобы ими могли наслаждаться простые рабочие – так, словно они живут в Эдеме. Я сделал бы жизнь лучше для всех.
Я опустил глаза и увидел у своих ног камешек. Я подобрал его и швырнул в воду. По поверхности воды разошлись круги. Когда они исчезли, я снова обратился к священнику.
– Отец Харингтон, я не знаю, что такое Америка и где она находится. Вчера кто-то пытался объяснить мне это, а позавчера об этом говорил мальчик. Я не сомневаюсь, что она существует. Но я не знаю, Бог ли создал ее. Я не знаю, для чего Он ее предназначил и нравится ли Ему то, что мы делаем с ней. Я не знаю, кто такие эскимосы и аборигены. Но я знаю одно: завтра я увижу, какой станет жизнь в Эксетере через девяносто девять лет. Может быть, люди не всегда будут так жестоки друг к другу. Может быть, Господь найдет для нас более мирное и нужное занятие на этой Земле, чем видел я прежде. Я на это надеюсь.
– Джон, я вижу, что вы человек богобоязненный, и это важнее всего. А теперь: я обещал вам горячую ванну – и я не обману вас. Идем же этой дорогой. На Саутерней!
И мы покинули набережную совершенно не так, как на нее пришли. Я более не стыдился того, что иду рядом со священником. Я шел с достоинством, несмотря на свои раны и рваную одежду. В дороге мы разговаривали. Скорее, говорил викарий. Он рассказывал мне о бедных, говорил о своей мечте: увидеть времена, когда у всех семей будет достаточно еды, когда все дети будут учиться и все матери смогут получить помощь врача во время деторождения – наряду с профессиональной повитухой, которая будет учиться своему ремеслу. Он говорил о том, как следует расчистить трущобы, возникшие во времена дешевого труда, как на их месте нужно построить дома с канализацией и водопроводом. Он говорил о человеке из Лондона по имени Чэдвик, который стремится уничтожить ядовитые пары, которые убивают бедных людей в городах по всей Англии. И говорил он о соборе, о его важной роли в жизни людей, несмотря на то что он был построен во времена «католических суеверий», но до сих пор остается истинным сердцем города.
– Но в давние времена, – перебил его я, – в соборе вас встречал чудесный свет, игра цвета и аромат благовоний. Возникало чувство, что это шаг к вечной благодати. И в часовне святого Андрея и святой Екатерины был очень дорогой для меня уголок, где я вырезал портрет моей жены, чтобы мужчины и женщины вечно могли любоваться ею.
– Нам с вами нужно будет побывать в соборе, – сказал викарий, когда мы подошли к широкой двери в ряду кирпичных домов, выходящих на длинный, узкий сад, где некогда находился Кралдич.
Викарий постучал. Дверь открыла очаровательная молодая темноволосая служанка в длинном, простом платье. Увидев священника, она присела. Но потом увидела меня и от страха зажала рот рукой.
– Не бойся, Элиза, это Джон Оффремонт, самый замечательный человек, какой только был в нашем доме. Он нуждается в нашей помощи. Будь добра к нему. Матушка Харингтон уже пришла?
Элиза закрыла за нами дверь.
– Ваша матушка, сэр, и мисс Харингтон отправились с визитом к миссис Дженсинс. Они просили передать вам, что не забыли об обеде в час дня.
– Отлично. – Викарий повернулся ко мне. – Не придется пускаться в объяснения, пока вы в таком виде. Это, несомненно, возбудило бы мою сестру, которая пребывает в довольно нервном состоянии, и побудило бы мою престарелую мать к длинной проповеди за обедом. – Повернувшись к служанке, он сказал: – Элиза, скажи кухарке, что обедать мы будем вчетвером, и попроси Шарлотту помочь тебе с ванной и одеждой для нашего гостя. Возьмете черный костюм в левой части гардероба и рубашку, которую в октябре оставил доктор Гибберт, она ему больше не нужна. Джон может примерить ботинки моего отца, которые я носил когда-то.
Я с интересом осматривался в новом доме. Дом был роскошным. Пол был сделан из полированных деревянных планок. Поверх них лежали, как мне показалось, гобелены. Стены были не просто выкрашены в светло-голубой цвет; на уровне пола проходила белая дощечка, еще одна – на высоте около трех футов и третья на высоте около девяти футов. В двух футах над ней находился потолок, украшенный белой лепниной. На стенах в резных позолоченных рамах висели большие картины поразительной красоты. Они поразили меня тщательной проработкой деталей и гармонией колорита. Очень красивая лестница с полированными деревянными поручнями элегантно поднималась на второй и третий этажи. Наверху я увидел большое застекленное окно. Этот прием показался мне очень разумным: в наши времена никто и представить себе не мог стеклянной крыши.
– Отец Харингтон, – сказал я, – я даже не подозревал, что за прямыми линиями этих домов скрывается такая красота и богатство. Ваши дома казались мне холодными и строго геометрическими. Но это прекрасно!
– Спасибо, Джон. Но вы пока что увидели только холл. Для начала накиньте вот это. – Он подал мне темно-синее одеяние. – Пойдемте сюда, в гостиную.
Я последовал за ним. От увиденного в этой комнате у меня в буквальном смысле слова отвисла челюсть. В гостиной было тепло – уголь горел в красивом кованом камине. Стены были обтянуты красным шелком, на котором прекрасно смотрелись картины в позолоченных рамах. На полу лежал еще один огромный гобелен из цветной шерсти. Отец Харингтон беспечно наступил на эту красоту, словно под ногами его был разбросан обычный мусор. Дневной свет проникал в гостиную под углом и падал на круглый столик с инкрустированной поверхностью. На столе лежали книги. Я не увидел ни одной деревянной скамьи – вокруг стола стояли элегантные стулья, в спинках и сиденьях которых были закреплены ярко расшитые подушки. В углу стоял какой-то полированный деревянный предмет на ножках, напоминавший похожий на гроб музыкальный инструмент в доме мистера Парлебона. В большом книжном шкафу у стены я увидел несколько сотен книг в кожаных переплетах с золочеными надписями на корешках. На полке над камином стояли часы, сделанные из мрамора. За часами я увидел две головки, вырезанные из белого алебастра, а над ними большое зеркало, делавшее гостиную еще больше.
Мастер, сделавший мраморные часы, прекрасно поработал. Грани были абсолютно прямыми. В качестве украшения он выбрал морские раковины. Не меньше поразили меня и картины. На одной был изображен воин в доспехах верхом на лошади с крупными глазами. Лошадь прыгала через глубокую пропасть. Фон картины был темным, но фигуры всадника и лошади показались мне совершенно живыми. Я понял, что художники моего времени не знали и доли того, что стало известно сегодня. Они просто не умели передавать на своих картинах движения и эмоции.
Но поражало меня не только качество тех или иных предметов. В этом доме все было драгоценным. В моем доме роскоши почти не было – все мои вещи были практичными. У меня было все необходимое для работы по камню, обработки земли, готовки или хранения. В нашем доме был деревянный стол, две кровати и три скамьи. Большая часть нашей утвари была глиняной – миски, из которых мы ели и пили, горшки, в которых варили похлебку.
– И вы прочли все эти книги?
– Они не для чтения. Это собрание текстов по медицине – я их коллекционирую. Если хотите увидеть мою библиотеку, прошу за мной.
Коридор привел нас в другую комнату, окна которой выходили на задний двор и небольшой садик. Вдоль стен стояли книжные шкафы темного дерева высотой около десяти футов. Они вмещали тысячи книг в кожаных переплетах. Книг не было только на камине и над ним. Над камином висела большая картина, изображавшая лесистую долину. В библиотеке царило спокойствие и тишина, словно в песочных часах, после того как весь песок высыпался.
– Немыслимое богатство, – изумленно пробормотал я.
– Особенно если у вас есть время на чтение, – ответил викарий. – Но в наши дни свободного времени у меня слишком мало.
– Наверное, ваши часы сломались.
Отец Харингтон взял книгу с полки. Пролистав ее, он нашел нужное место и подвинул книгу ко мне.
– Я не умею читать, – сказал я.
– А вам и не нужно. Взгляните на гравюру.
Я посмотрел на книгу и увидел цветную картину, настолько правдоподобную, что мне показалось – она движется. Изображение не было похоже на картину. Я увидел большой кирпичный мост и несколько прямых линий, идущих через кирпичную долину с крутыми стенами к трем красивым каменным мостам. Под мостами ехала повозка с трубой, над которой поднимался белый дымок.
– Это железная дорога? – спросил я.
– Именно! Этот поезд едет со скоростью сорок миль в час. Из Плимута до Эксетера он может доехать за час.
Мне же, чтобы добраться до Плимута, нужно было два дня.
– Но это не линия Плимут – Эксетер, – продолжал викарий. – Наша линия, как вы видели, еще только строится. Это железная дорога Лондон – Бирмингем. А вы знаете, кто ее построил?
– Мне кажется, что для строительства одной лишь кирпичной долины нужно было немало людей.
– Нет, нет, я спрашиваю, кто ее придумал. Это были два человека: Роберт Стефенсон и Джордж Паркер Биддер.
Викарий замолчал, выжидательно глядя на меня.
Я покачал головой.
– Роберт Стефенсон – это сын великого Джорджа Стефенсона, отца наших железных дорог. И вы должны все знать о Джордже Паркере Биддере.
Я снова покачал головой.
– Знаменитый чудо-мальчик из вашего родного города Мортонхэмпстеда. Чудо арифметики! Он же примерно вашего возраста! Вы наверняка должны знать друг друга.
– Похоже, я покинул родной город до того, как он прославился.
– Что ж, тогда вы должны узнать об этом. Задолго до того, как научиться читать и писать, он научился сложным вычислениям – он лежал в постели и слушал, как его старший брат делает уроки. В семь лет он уже поправлял ошибки в вычислениях местных жителей – но при этом он не умел прочесть ни одной написанной цифры. Затем его отец, каменщик, понял, что на этом можно зарабатывать деньги. Он стал показывать сына на всех ярмарках Девона как какое-то чудо. В девять лет мальчик выступал перед герцогами и графами, и даже перед королевой. Королева Шарлотта задавала ему очень сложные математические вопросы, и на все вопросы он отвечал за полминуты!
Отец Харингтон отложил раскрытую книгу на столик, порылся в шкафу, вытащил тонкую книжечку и раскрыл ее.
– Вот послушайте. Если колесо имеет в окружности пять футов десять дюймов, то сколько раз оно обернется, если проедет восемьсот миллионов миль?
Я недоумевающе смотрел на викария.
– Биддер, когда ему было всего девять лет, ответил: «Семьсот двадцать четыре миллиарда сто четырнадцать миллионов двести восемьдесят пять тысяч семьсот четыре раза – и останется еще двадцать дюймов». Все вычисления он сделал в уме за пятьдесят секунд. Вот почему его называли Моцартом математики!
– А что такое мотсарт?
– Небеса обетованные, Джон! Вы еще спросите меня, кто такой Шекспир!
– А что это за круглая штуковина на картине – над поездом?
– Что? А, на гравюре линии Лондон – Бирмингем? – отец Харингтон поднял книгу. – Это воздушный шар.
– Что?
– Летательная машина.
– С людьми?
– Да.
– ЛЮДИ МОГУТ ЛЕТАТЬ?! – вскричал я.
Я посмотрел в окно. Хотя летающих предметов я не увидел, но моя уверенность в том, что я понимаю этот мир, неожиданно испарилась. Раньше я не понимал, во что люди верят, теперь же я не знал их физических возможностей. И это было еще более мучительно. На поезде можно за час доехать до города, дорога до которого у меня занимала два дня. Люди могут летать в небесах. Боже правый! Если бы во время осады Кале у нас были воздушные шары, нам не пришлось бы одиннадцать месяцев потеть под этими стенами. Либо французы атаковали бы нас с неба, и наши арбалеты и луки оказались бы бесполезными. Либо мы сами взлетели бы над стенами цитадели и обрушили на защитников греческий огонь.
Постучав, в библиотеку вошла Элиза.
– Ванна готова, как вы и просили, отец Харингтон. Одежду я тоже приготовила.
– Спасибо, Элиза, – поблагодарил викарий и повернулся ко мне: – Джон, встретимся за обедом. Надеюсь, ванна доставит вам удовольствие.
Вслед за Элизой я поднялся на второй этаж. С каждой ступеньки я любовался картинами, напольными гобеленами, деревянными панелями и роскошными драпировками. Даже гардеробная комната оказалась очень красивой – с бледно-зелеными стенами, окаймленными светло-коричневыми планками. В гардеробной стояли два больших полированных сундука, поставленных вертикально. В одном на металлических вешалках висела разнообразная одежда. На стене я увидел картину с изображением коленопреклоненного рыцаря за молитвой. Свет падал на него с алтаря, а старый рыцарь смотрел на него из мрака. В центре комнаты стояла удлиненная медная ванна со скругленными краями. Ванна была наполнена теплой водой, от которой поднимался пар.
Элиза прошла по комнате, показывая все, что мне понадобится.
– Полотенца здесь, – сказала она, указывая на стойку рядом с ванной. – Тут же мыло, пемза и губки. Вот лимонный сок и щелок, если вам понадобится. Перед зеркалом вы найдете мыло и бритву, если захотите побриться. Вот расческа и гребень. Это зубной порошок, если будете чистить зубы. Тряпочки для зубов возле раковины в углу. Чистая одежда на столе. Старую одежду можете бросить в корзину у стола. Думаю, все. Приятного купания, мистер Оффремонт.
Элиза вышла, и я сразу же сбросил одеяние, которое викарий дал мне внизу. Я снял грязную одежду и обнаженным встал перед зеркалом. Я посмотрел на щетину на подбородке и вспомнил Уильяма. Бороду я решил сохранить в память о нем.
Я повернулся и осторожно погрузился в ванну. Раны мои тут же напомнили о себе болью. Заныли шрамы на спине и рана на правой руке. Погрузившись в воду, я сидел неподвижно. Взгляд мой упал на картину, где старый рыцарь смотрит на юношу, дающего свои обеты.
Вот любопытно: на улицах Эксетера я не заметил ни одного рыцаря. Но и этот не походил на рыцарей моего времени. По размышлении я решил, что это современное представление о былых временах: кто-то попытался изобразить сцену из моего времени точно так же, как я изображал ветхозаветных царей и пророков. Может быть, в новую эпоху летающих воздушных шаров и поездов, когда все несется стремительно и пугающе, люди стали тосковать по далекому прошлому.
Я постарался вымыться как можно тщательнее. Я использовал все, что показалось мне предназначенным для мытья. Спину и раненую руку я мыл очень осторожно. Сполоснувшись, я вышел из ванны и вытерся полотенцем, а потом приступил к изучению оставленной мне одежды. Я не знал, что нужно надевать сначала. Красивая повязка, которой мужчины украшали шею, озадачила меня. Как же ее повязать? Я оставил ее в стороне и надел то, что могло меня согреть. Одевшись, я посмотрел на себя в зеркало: конечно, я был небрит, и повязки на шее у меня не было, и шляпы. Но в целом я выглядел в точности, как люди из тысяча восемьсот сорок третьего года.
Спустившись, я нашел отца Харингтона в библиотеке.
– Надо же, Джон! Ванна и рубашка сделали из вас другого человека! Вы выглядите прекрасно!
– Вы – самый щедрый хозяин, отец Харингтон. Я весьма признателен вам.
– Мне приятно слышать это, Джон, но не думайте об этом. Теперь, когда вы готовы, мы можем прозвонить к обеду и отправиться в столовую. Я познакомлю вас с моей сестрой и матерью.
– Простите, отец Харингтон, но прежде мне хотелось бы облегчиться…
– Конечно, конечно… Спуститесь по лестнице, пройдите на кухню, выйдите через заднюю дверь – и в правой части сада вы увидите наше место уединения.
Я прошел, как мне сказали, и обнаружил земляной нужник, очень уютный и чистый. Там было два сиденья разной высоты. Оба были сделаны из полированного дерева, имели отверстие в середине и крышку, прикрывающую это отверстие. Рядом лежали аккуратные стопки белого материала, похожего на пергамент. Я решил, что предназначение его мне понятно. Конечно, подобного материала для подтирки в наше время не существовало, но в целом этот аспект повседневной жизни мало изменился – как и сон и утоление голода. Сидя в нужнике, я почувствовал себя почти дома.
Столовая оказалась украшена столь же роскошно, как и гостиная, где я уже побывал. Вокруг стола стояли восемь элегантнейших полированных стульев с красивой обивкой. Стол был накрыт на четверых. В центре стояли серебряные подсвечники, свечи уже горели. Блюда из глазурованной белой керамики, расписанные голубыми фигурами, были накрыты серебряными крышками. Возле каждой тарелки стояли два стеклянных кубка, лежали три ножа с костяными ручками, два серебряных прибора с зубцами и две серебряные ложки. Стеклянные кубки были настолько тонкими и изысканными, что, пожалуй, даже сам король Эдуард не пил из подобной посуды. Но для чего предназначены эти странные приборы с зубцами? И как резать еду, если оба ножа имеют скругленные концы? Похоже, что с моих времен сохранился только один обычай – накрывать стол белой скатертью.
Сестра отца Харингтона, которая сидела напротив меня, имела сразу три имени: Мэри Джорджиана Харингтон. К счастью, обращаясь к ней, все три можно было не использовать. Я понял, что она на семь лет младше брата, но из-за бледности девушка казалась совсем юной. Волосы ее были расчесаны на пробор, и когда она двигалась, они следовали за ней с секундным опозданием. Светло-голубое платье было украшено красными розами. Короткие рукава обнажали красивые руки. В ушах ее я увидел золотые серьги с темно-синими камнями.
Мать отца Харингтона, Фрэнсис, была немолода. Она явилась к обеду в черном платье с длинными рукавами. Темные волосы тоже были расчесаны на пробор, но если у Джорджианы волосы были распущены, миссис Фрэнсис собрала их в пучок на затылке. Вид пожилая дама имела весьма суровый. Когда она обращалась ко мне, мне казалось, что я предстаю перед судьей.
Отец Харингтон прочел краткую молитву. Я открыл глаза и уставился на незнакомые приборы.
– Чем вы зарабатываете на жизнь, мистер Оффремонт? – спросила Фрэнсис, намазывая масло на хлеб.
Этот вопрос меня немного успокоил – в столь чуждой для меня обстановке хоть на что-то я мог ответить. Заметив, что пожилая дама намазывает масло маленьким ножом, я поступил так же.
– Я – каменщик.
– Какое полезное занятие! Вы строите церкви?
– Я делаю скульптуры и башенки, а также резные украшения для сводов и стен.
– Моя лондонская кузина сообщила, что фигуру Нельсона наконец-то установили на вершине колонны на Трафальгарской площади. Достойная работа, вы согласны со мной, мистер Оффремонт?
– Миледи, меня зовут просто Джон из Реймента. Я не «мистер».
– Что ж, меня вы тоже можете не называть «миледи». Я же не баронесса. Но что вы скажете об этой колонне адмирала Нельсона? Если вы искусный мастер, то могли бы отправиться в Лондон, чтобы ваять фигуры наших героев – уверена, что лорд Мельбурн вскоре покинет этот мир.
– И герцог Веллингтон, – добавила Джорджиана. – Только подумайте, насколько высокой должна была бы быть его колонна.
– Лично я считаю Трафальгарскую площадь насмешкой над добродетелями нашей эпохи, – сказал отец Харингтон. – Мы живем в самое просвещенное время, какое только знало человечество, а правительство снесло множество домов бедняков, чтобы освободить место для памятника военному тщеславию. Мне печально видеть, что прогрессивное правительство вигов, столь приверженное духу реформ, снесло столько домов. И для чего? Чтобы увековечить память военного распутника, бросившего собственную супругу, чтобы жить во грехе с женой другого человека!
– Эдвард, – остановила его Фрэнсис, – людям нужны герои. Нельзя ограничиваться только строительством жилищ и улучшением условий жизни бедных. Ты начинаешь говорить, как мистер Чэдвик.
– С нас достаточно героев, – вспыхнула Джорджиана. – Проблема в том, что все они – мужчины. Я умею читать и писать, обсуждать и спорить, как любой мужчина, – но мне не позволено учиться…
– Мы знаем, Джорди, – вздохнул отец Харингтон, – но есть более животрепещущие…
– Ты говоришь, что знаешь, но ни разу не выступил в нашу защиту! Для тебя существуют только бедные – словно остальные и не важны вовсе. Позволь напомнить тебе, что даже богатые женщины могут стать бедными из-за бездумных и безответственных поступков мужчин!
Вместе с Элизой в столовую вошла служанка, которой я прежде не видел. Они несли два белых круглых керамических блюда. Элиза поставила свое блюдо перед отцом Харингтоном и мной, второе блюдо оказалось перед Фрэнсис и Джорджианой.
– О, как вкусно пахнет! – воскликнула Джорджиана.
– Человек не в силах объять необъятное, – обратился отец Харингтон к сестре. – Я согласен, то, что девушкам из хороших семей не разрешают учиться в университете, несправедливо. Но вы не испытываете лишений. Многие интеллигентные женщины способны воплотить свои интересы в жизнь, и не посещая колледжа. Гораздо несправедливее то, что девушки из бедных семей не могут получить достойного образования. Но ты считаешь, что я должен выступить в вашу защиту. И что же мне сказать? Что бедные семьи, которые целиком зависят от заработков сыновей и дочерей, должны поступиться этими средствами и потратить дополнительные деньги, чтобы отправить их в школу? Это обернется еще большими страданиями. Перемены должны осуществляться постепенно. И сначала нам нужно улучшить условия жизни бедных, повысить получаемый ими доход. И только потом можно приступать к реформе образования.
– Но ты не сможешь изменить их положения, если они не получат образования, – настаивала Джорджиана.
– Как вам пирог, мистер Оффремонт? – поинтересовалась Фрэнсис.
Кусок пирога соскользнул с закругленного ножа и упал на тарелку. Я не мог удержать его на плоском лезвии, поднося ко рту.
– Очень вкусно, – ответил я, наблюдая за тем, как отец Харингтон накалывает отрезанный кусочек на прибор с зубцами и ловко подносит его ко рту.
– Как называется этот прибор? – спросил я.
– Вилка, – ответила Джорджиана. – Там, откуда вы приехали, ими не пользуются?
– Мы никогда не могли позволить себе серебра, – пояснил я.
– А вы видели, что сегодня идет в театре? – спросила Фрэнсис. – Пьеса того самого драматурга.
– Я уже купил билеты, – ответил отец Харингтон.
Фрэнсис поперхнулась.
Наступило долгое молчание, нарушаемое лишь звоном приборов. Все смотрели на Фрэнсис.
– Прошу меня простить, – сказала она, выпив немного воды. – Мне показалось, ты сказал, что купил билеты…
– Да, купил. Мы втроем идем смотреть пьесу Марло!
– Эдвард! – Фрэнсис бросила вилку.
– Мама, этот человек так же умен, как Шекспир!
– Придержи свое мнение при себе. Я лучше знаю!
– Правда? Откуда же?
– Мы дали тебе хорошее образование, и ты мог бы не смущать меня столь глупыми вопросами, – рассердилась Фрэнсис. – Если ты забыл, напомню: я – вдова священника и мать священника. И женщине моего положения не подобает смотреть пьесу, написанную человеком, который открыто отрицал существование Бога! И, кроме того, он совершал акты… содомии!
– Он ничего такого не делал, мама, – вмешалась Джорджиана. – Он лишь хотел этого. Мы говорим об его «Докторе Фаусте»?
– Дочь моя, ты НЕ пойдешь на эту пьесу! – твердо заявила Фрэнсис, откладывая нож и вилку.
– Но почему? – возмутилась Джорджиана. – Эдвард уже купил билеты!
– Потому что ты – дочь священника и сестра священника. И, надеюсь, когда-нибудь ты станешь женой священника и матерью священника! Но ни один достойный священнослужитель, узнавший, что ты переступила порог места, где произносят постыдные слова, не сочтет тебя добродетельной женщиной! Это просто немыслимо!
– И ради этого я должна запереть себя в четырех стенах?! А как же Эдвард пойдет туда?
– Он джентльмен и может поступать, как ему заблагорассудится. Но и он должен задуматься, чем это чревато.
– Теперь ты, дорогая сестра, понимаешь, что произойдет, если я выступлю в защиту прав состоятельных молодых девушек? Я бы не посмел зайти так далеко. Даже за нашим столом это не находит понимания.
– Но я все равно не понимаю, – стояла на своем Джорджиана, – что плохого в том, что мужчина целует другого мужчину.
– Дело не в поцелуях, – отрезала Фрэнсис.
– Я понимаю, – выпрямилась Джорджиана. – Я просто не считаю, что его заигрывания с мальчиками чем-то аморальнее того, чем многие мужчины занимаются со своими женами. Мужчина может требовать от своей жены чего угодно, может даже избить ее и сломать ей руки. И это не противоречит закону! А когда мужчина занимается любовью с другим мужчиной, его следует повесить? Я считаю, что мы должны вешать тех, кто избивает своих жен, а не любовников.
– Дорогая, – перебила дочь Фрэнсис, – я думала, что ты выступаешь в защиту прав женщин, а не за свободу содомитов.
– Да, мама, но это же ты заговорила о Марло!
– Не смей произносить его имя!
Но Джорджиана не унималась.
– Если люди твоего поколения так твердо выступают против того, что мужчины могут дарить другим мужчинам наслаждение, то меня не удивляет, что вы совершенно не возражаете против того, что мужчины могут причинять женщинам боль.
– Мистер Оффремонт, – спросила Фрэнсис, – а в вашем доме за обедом царит мир и согласие? У вас есть семья?
– Шшшш, – предостерегающе произнес отец Харингтон.
– У меня была семья, – ответил я, прожевывая последний кусок превосходного пирога и откладывая нож и вилку. – У меня была прекрасная жена, Кэтрин, и трое сыновей, Уильям, Джон и Джеймс. Но все они умерли много лет назад – и жена, и мальчики.
Наступила тишина.
– Мне очень жаль, – вздохнула Фрэнсис. – Это просто ужасно!
– Это ужасно! – сказала Джорджиана. – Но, мистер Оффремонт, вы не считаете, что таким девушкам, как я, следует позволить учиться в университете и заниматься тем, чем занимаются мужчины – например, быть врачами или хирургами и голосовать за членов парламента?
– Не думаю, что наш гость… – начала Фрэнсис.
Но отец Харингтон остановил ее.
– Нет, мама, мистер Оффремонт очень красноречив. Интересно было бы узнать, что он думает по этому поводу. Должны ли мужчины и женщины быть равными?
Я откашлялся.
– Со всем уважением к вам, отец Харингтон, должен отметить, что это разные вопросы. Ваша сестра спросила у меня, следует ли позволить женщинам заниматься тем, чем сегодня занимаются мужчины. Вы же спрашиваете о равенстве – а это нечто совершенно другое. Вы говорите о том, следует ли женщинам делать все, что сегодня делают мужчины.
– Не уверен, что понимаю вас, – сказал отец Харингтон, заканчивая есть и откладывая нож и вилку на тарелку. – Но нам хотелось бы узнать ваше мнение.
– Мне довелось видеть множество мужчин и женщин в разных местах и в разные времена. Некоторые мужчины относились к своим женщинам так, другие – иначе. Говорить, что одно поведение правильное, а другое нет, все равно что делать выбор: в акте выбора нет праведности. Но мне кажется справедливым было бы задуматься, могут ли женщины быть врачами? В мои времена они могли быть – пусть не докторами, но целителями. Многие из нас прибегали к помощи женщин в болезнях. Сегодня люди считают, что женщинам нельзя заниматься медициной, по крайней мере, публично. Мне кажется, что они глубоко заблуждаются. В будущем женщинам-врачам будет позволено свободно заниматься своим делом, как это было во времена доброго короля Эдуарда. И королева позволит женщинам учиться. Но это не сделает женщин равными. То, что вам что-то позволили, еще не делает вас равными остальным, которые занимаются тем же.
– Слушайте, слушайте! – воскликнула Джорджиана. – Мы станем лучшими докторами!
– Миледи, – добавил я, – вы должны бороться за эти перемены. Вы должны убедить все общество, что это в интересах всего народа, а не только женщин.
– Чушь! – отмахнулась Джорджиана. – Речь идет о справедливости. И конечно же, о том добре, какое мы сможем сделать.
– Миледи, я прожил долгую жизнь и могу сказать, что справедливость для общества – это пятое колесо для телеги. Общество меняется не ради справедливости: оно меняется ради собственной выгоды. И общество не изменится, если большинство людей не увидит в переменах собственной выгоды. Что будет, если богатые женщины смогут голосовать за членов парламента, станут врачами и все такое, а бедные мужчины этого права не получат? Мужчины, которые много и тяжело работают, будут оскорблены, если ими пренебрегут в угоду богатым женщинам.
– Пора приступать к пудингу, – остановила наш спор Фрэнсис. – Хочу кое-что уточнить: когда речь заходит о добавке хлебного пудинга, мы все становимся равными.
– Есть все же справедливость в обществе, – улыбнулся отец Харингтон. – Возьмите, к примеру, телеграф. Женщины имеют такое же право отправлять телеграммы, что и мужчины… – Он посмотрел на меня и понял, что я ничего не понимаю. – Вы не знаете, что такое телеграмма, Джон?
Я покачал головой.
– Это сообщение, передаваемое с помощью импульсов электрической энергии в длинных проводах, протянутых вдоль железнодорожных линий. Сообщение поступает получателю почти немедленно. Телеграф изменит мир сильнее, чем железные дороги. Люди смогут мгновенно сообщать полиции о преступлениях.
– Полиции? – переспросил я.
– Таким особым констеблям, – пояснил отец Харингтон, вооружаясь вилкой и ложкой и приступая к пудингу.
Я взял ложку и последовал его примеру.
– Я знал женщин, которые не нуждались в законе для защиты. Они смело глядели в лицо судьбе, принимая все ее преимущества и недостатки. И они получали справедливое возмещение – если не равенство. Женщины всегда могли заставить мужей выступить от их имени: это искусство так же старо, как сама любовь. И женщинам не всегда нужно было использовать любовь. Даже если вы добьетесь равенства по закону, это не будет равносильно равенству в жизни. А мне кажется, что женщинам гораздо важнее второе, чем первое.
– И все же я хочу увидеть пьесу, – заявила Джорджиана.
– Ни в коем случае, – отрезала Фрэнсис.
– Мама, мне двадцать пять лет!
– Значит, ты уже достаточно взрослая, чтобы все понимать.
Настало молчание.
Отец Харингтон отложил ложку и обратился к Джорджиане.
– Дражайшая сестра, я возьму тебя в театр, несмотря на все протесты матушки, если ты сыграешь нам на фортепиано. Сыграй ту пьесу Моцарта, которая мне так нравится…
– Эдвард, она моя дочь! – воскликнула Фрэнсис.
– Фантазию в D минор? – спросила Джорджиана.
– Джон говорил мне, что не знает произведений великого Вольфганга Амадея.
– Эдвард!
– Матушка, она – моя сестра. Она живет под моей крышей и находится под моей защитой. И когда она выйдет замуж за своего священника, именно я поведу ее к алтарю, а не вы. Кроме того, в той пьесе, на которую мы пойдем, нет ни содомии, ни атеизма.
– Ты хочешь сказать, что читал ее?! – ахнула Фрэнсис.
– Именно!
– Боже мой! Не знаю, что с вами двоими делать! Ваш отец в гробу перевернется!
– Если он проснется, то услышит, как его дочь играет Моцарта. А эта музыка способна утешить любую страдающую душу.
После обеда отец Харингтон произнес благодарственную молитву, и мы вышли, предоставив слугам убирать со стола. Мы же вернулись в гостиную. Джорджиана открыла крышку большого музыкального инструмента, который отец Харингтон назвал фортепиано. Мы уселись в мягкие кресла и приготовились слушать.
Я никогда прежде не слышал ничего подобного. Люди, лишенные какой бы то ни было роскоши, решили бы, что это музыка небес. И были бы правы. Это была чистая благодать. Голос воспоминаний. Играя, Джорджиана не смотрела на нас. Эта музыка была выше ее и нас. Она была истинно божественным вдохновением. Джорджиана закрыла глаза. А мы были лишь свидетелями настоящего чуда, которое творила она своими пальцами на этом инструменте. Как хотелось бы мне, чтобы Кэтрин услышала эту музыку. Конечно, Уильям предпочел бы поиграть с грудями Джорджианы, а не слушать, как ее пальцы бегают по клавишам инструмента. Но Кэтрин это понравилось бы. Но она никогда не слышала ничего подобного. Она так и не узнала, что из музыкальных нот может родиться такая красота. И когда Джорджиана закончила играть, в глазах моих стояли слезы. Наступило долгое молчание, а потом отец Харингтон сказал:
– Это было прекрасно! Спасибо!
– Это было просто невыразимо, – произнес я.
– Не понимаю, почему вы хотите все испортить, отправившись на грязную пьесу, – вздохнула Фрэнсис.
– Матушка, не спорьте с нами! – резко ответила Джорджиана, со стуком захлопывая крышку фортепиано.
– Джон, не хотите прогуляться? – предложил отец Харингтон.
Мы направились к выходу. Отец Харингтон одолжил мне пальто. Мы шагали по Саутернею, викарий покачивал тростью и указывал мне на разные здания. Солнце скрылось. День выдался холодным и пасмурным. Люди занимались собственными делами. Поднялся сильный, холодный ветер.
– Откуда же вы? – спросил отец Харингтон.
– Я из прошлого – я же говорил вам.
– Вы знаете, куда направляетесь?
– В будущее. У меня остался один день. Через девяносто девять лет после сегодняшнего дня.
– А потом?
– А вы что думаете? Мне кажется, я окажусь в чистилище. Не знаю, как долго мне придется там оставаться.
– Джон, чистилища не существует. Это всего лишь старое католическое суеверие. Никакие молитвы после вашей смерти не могут изменить судьбу вашей души.
Я посмотрел на него. Но викарий улыбнулся и продолжил:
– Кто знает, какой будет загробная жизнь? Иногда я думаю, что это величайший трюк в истории человечества. Две тысячи лет мы рассказывали людям, какие страдания ожидают их в аду, и ни разу не сказали, чем же так хорош рай.
Показывая мне город, отец Харингтон провел меня по всем его уголкам. Напротив его дома стояло большое здание с высокими колоннами. Викарий сказал, что это общественные бани, где люди могут наслаждаться горячими и холодными банями. Он указал мне на театр, куда мы собирались пойти вечером. Большое кирпичное здание на другой стороне улицы оказалось больницей Девона и Эксетера. Когда мы направились к собору, викарий показал мне гостиницу «Роял Кларенс» – это нечто вроде постоялого двора. Люди останавливаются здесь, чтобы поесть, выпить, переночевать и развлечься. В одном из домов по соседству я увидел множество книг. Викарий предложил зайти внутрь и показал полки с книгами в кожаных переплетах от пола до потолка. Пожилые люди сидели за полированными деревянными столами, читая большие листы пергамента. Отец Харингтон сказал, что это «газеты». Они выходят каждый день, и из них читатели узнают о событиях, произошедших в разных местах. Слова на этих листах пишут не вручную, а «печатают» на специальной машине за несколько секунд. А «бумага», на которой напечатаны газеты, это вовсе не тонкий пергамент. Эту бумагу производят из тряпок.
Это время оказалось самым цивилизованным из всех, где я побывал. Экипажи были элегантными, одежда отличалась красотой и изысканностью. Библиотеки превратились в настоящие дворцы просвещения. Дома были красивыми, просторными и светлыми благодаря обилию стекла. Жизнь казалась прекрасно устроенной. Более всего меня поразила почта: отец Харингтон сказал, что ему нужно отправить письмо, и мы отправились на почту на Хай-стрит. Мы вошли в просторный зал с высокими потолками. Викарий подошел к стойке, заплатил пенни и получил маленький кусочек красной бумаги – он назвал его «маркой». Человек за стойкой ножницами вырезал марку из большого листа и приклеил ее на письмо викария. И письмо отправилось в путь вместе со множеством других. Я был поражен.
– Это ненадолго, – сказал мне викарий, когда мы вышли на улицу. – Скоро всю страну объединит телеграф. И тогда нам не нужно будет отправлять письма.
Отец Харингтон рассказал мне о переменах, произошедших в городе. Последние ворота были снесены двадцать пять лет назад, чтобы каретам и экипажам было удобнее выезжать на улицы города. Большой железный мост по частям доставили сюда по судовому каналу с металлургических заводов, расположенных на севере страны. Викарий показал мне Королевский дом увеселений на Хай-стрит, где когда-то стояли старые восточные ворота. В этом доме устраиваются «балы» – вечера танцев для состоятельных горожан. На месте доминиканского монастыря кольцом стояли красивые кирпичные здания – Бедфорд-Серкус. Плавно скругленные фасады домов на этой овальной улице словно обнимали прохожих и казались истинным оазисом в царстве прямых линий.
Мы шли по недавно проложенной широкой улице Куин-стрит, названной в честь английской королевы. Размеры и величественные пропорции домов на этой улице многое говорили об амбициях мэра города. Затем мы направились в замок – эти древние стены и ворота были мне хорошо знакомы. Старый ров, окружавший замок, превратился в общественный парк. Внутри замка находился городской суд. В этом городе стало так много публичного, что мне показалось: город вывернули наизнанку. Многое из того, что было личным, превратилось в общественное. Дома джентльменов и старые монастыри снесли, и на их месте появились общественные дома, церкви, библиотеки и больницы. Город открылся для своих жителей.
Викарий подвел меня к новому домику в своем приходе – на улице стояло пять таких домов. Здесь жили Пейшенс Мадж с дочерью Мэри.
– Пейшенс – бедная женщина, ей девяносто три года, – рассказал мне отец Харингтон. – Подумайте только, Джон, девяносто три! Представьте, сколько всего произошло за время ее жизни! Когда она родилась, мы пользовались старым юлианским календарем – вот почему вы считали, что сегодня семнадцатое декабря. В ее юности Америка была британской, мы отправляли туда заключенных. Капитан Кук еще не отплыл в Тихий океан. Никто и мечтать не мог о том, что поезд или корабль будет двигаться с помощью силы пара. А сегодня корабль Бранела «Грейт Вестерн» пересекает Атлантический океан менее чем за пятнадцать дней. Пейшенс родилась еще до Французской революции. Еще не был принят Закон о великих реформах. Почти вся промышленность работала на водяных колесах. Население Англии было вдвое меньше, чем сегодня. В Австралии и Новой Зеландии жили одни лишь аборигены. Никто не делал фотографий и не отправлял телеграмм… Англия делала лишь первые шаги из Средневековья…
– Отец Харингтон, я видел Эксетер девяносто девять лет назад, и город показался мне не менее странным. Каждый считает свое время уникальным.
Мы подошли к дому Пейшенс, поднялись по двум ступенькам и вошли в небольшую гостиную. В кирпичной нише находился металлический камин, рядом стояли три деревянных стула, стол и кровать с одеялами и чистыми простынями. Окна были застеклены, а стены оштукатурены. Пол же оказался из тех же кирпичей. На стене висела черно-белая картина в деревянной раме. Под кроватью стоял ночной горшок. Штукатурка на стенах потрескалась, в углах висела паутина. Старая женщина с дочерью сидели в дальней комнате – на кухне. Мэри и сама была немолода, за семьдесят. Она нарезала лук и порей к ужину. Чувствовалось, что работа дается ей нелегко. Она предложила нам горячий напиток, называемый «чаем», а мы решили поговорить со старой женщиной, сидевшей возле огня, укутав ноги одеялом. Я удивился тому, что напиток оказался настолько горячим. Наверное, они так сильно нагревают его, чтобы избавиться от всего вредного и нечистого в воде. Оглядывая комнаты, я думал о том, что жизнь Пейшенс и Мэри мало чем отличается от жизни в наши времена. Да, топили они теперь углем, а не деревом или торфом. Они пили чай вместо эля. Но распорядок их жизни и жизненные тяготы остались теми же. А когда я спросил у Пейшенс, какая самая важная перемена произошла при ее жизни, ожидая услышать что-то такое, о чем мне говорил отец Харингтон, она сразу же ответила, что это была смерть ее мужа.
– С того дня меня перестали волновать его пьянство и сквернословие. Но мне пришлось думать о деньгах.
Я вспомнил свой разговор с Уильямом на пустоши, когда мы говорили о том, что короли всегда живут в роскоши. «В королевских дворцах время остановилось», – сказал я в тот день. Но оказалось, что я был совершенно не прав. Не изменилась жизнь бедняков. Это богатые могли ходить в общественные бани и на почту. Если вся твоя семья состоит из одной лишь дочери и дочь эта живет с тобой, то зачем тебе почта?
Прежде чем вернуться в Саутерней, мы зашли в книжный магазин. Уже стемнело, и хозяин магазина зажег лампы: в двух фонарях были установлены масляные лампы, в подвесных стеклянных сосудах горели свечи. От этого в книжном магазине царила какая-то волшебная атмосфера. Отец Харингтон снимал с полок книги и одобрительно кивал, читая что-то под лампой. Он прочел мне вслух фрагмент книги его друга, доктора Форрестера «Краткое исследование вечной души человечества»:
«В темном мире прошлого солнце не светило и ветер не дул. Те, кто пытался писать об этом месте, видели все очень расплывчато. Они слышали странные звуки, словно доносившиеся с огромного расстояния. Только просвещенный ученый, который много лет изучал мельчайшие детали, мог надеяться на понимание этого факта во всей его сложности. Но возникает вопрос: что лучше – иметь размытое представление о человеческом прошлом или абсолютно четкое о крохотной крупице человеческого опыта? Просвещенный ученый, который смотрит на вас через свои очки над грудой пыльных томов, скажет, что даже малое, но точное знание дороже тонны простых вымыслов. Простой прохожий, которому его мелкая любовь дороже величайшей победы давно умершего короля, ответит, что годы, проведенные в поисках абсолютной истины, были потрачены впустую».
Викарий умолк, прижимая к груди книгу.
– Почему вы перестали читать? – спросил я.
– Думаю, все это вам скучно.
– Вовсе нет. Я согласен с вашим другом. Человек, не знающий прошлого, не имеет мудрости. Прочтите дальше…
Викарий удивленно посмотрел на меня.
– Что вы сказали?
– Человек, не знающий прошлого, не имеет мудрости.
– Да, да, именно это вы и сказали…
Викарий еще раз взглянул на меня и стал читать дальше:
«Как мы должны относиться к прошлому? Зачем мы должны изучать его? Неужели только для того, чтобы доказать своим соотечественникам, что это нам по силам, или чтобы вести просвещенные споры? Ответ кроется не в том, чтобы отдать предпочтение размытому, общему представлению перед знанием точных деталей. И не в противоположном мнении. Оба они лишены истины. Мы должны найти собственный путь в твердой уверенности в том, что мы сможем войти в тот мир, где солнце не светит и не дует ветер. Если мы хотим понять наше место на земле, то должны понять тех, кто ушел до нас. Мы должны выйти за пределы настоящего и увидеть свое отражение в глубоком омуте времени, ощутить себя частью великого человечества, а не чем-то преходящим, что мы каждый день видим в зеркале и что исчезнет навеки».
Викарий захлопнул книгу, поставил ее на полку и несколько минут молчал. Потом он тряхнул головой, посмотрел на меня и сказал:
– Пора идти.
Настал вечер, но на улицах было довольно светло. Свет давали стеклянные лампы, установленные на металлических столбах. И я видел не только дорогу, но и лица прохожих. Отец Харингтон объяснил, что освещение дает некая субстанция, называемая «газом» – нечто вроде горючего воздуха. Каждый вечер группа людей проходит по улицам города с лестницами и огнем и зажигает каждый фонарь. Прошли те времена, когда я брел по улице под дождем в полной темноте.
В доме отца Харингтона царило мрачное настроение. За ужином мать почти не разговаривала с викарием, ограничиваясь короткими просьбами.
– Будь любезен, передай мне ветчину и хлеб, Эдвард.
Казалось, Джорджиана уже сожалеет о том, что так резко выступила против матери. Но признавать свою неправоту она не собиралась и всеми силами пыталась разговорить матушку. Впрочем, все ее усилия остались тщетными.
После ужина мы с отцом Харингтоном и его сестрой отправились в театр. Здание театра тоже было освещено газом – и снаружи, и внутри. Мы оставили свою одежду у смотрителя гардероба – точно так же, как прежде те, кто приходил в поместье, оставляли свои мечи у привратника. Вслед за отцом Харингтоном по красивой лестнице я поднялся на наши места на галерею. Сцена была закрыта большими занавесями. Вокруг слышался гул возбужденных разговоров. А потом свет в зале погас, а занавеси раскрылись.
Перед нами открылся некий помост. Доктор Фауст сидел в большой библиотеке, подобной тем, что я уже видел. Из темноты выступила фигура и подала ему том трудов Аристотеля. Другая фигура протянула книгу по медицине, третья – по юриспруденции. Доктор отбросил их прочь, отказавшись от наук ради Библии.
– В конце концов, не лучше ль богословье? – произнес Фауст, но потом, терзаемый внутренними сомнениями, провозгласил: – Возмездие за грех есть смерть. Как строго!.. Коль говорим, что нет на нас греха, мы лжем себе и истины в нас нет.
Я замер. Я чувствовал, что подошел к ответу на вопрос, что есть грех и почему все мы должны творить добро. Доктор Фауст продолжал:
– Зачем же нам грешить, а после гибнуть? Да, гибелью должны мы гибнуть вечной. Ученье хоть куда! Che sera sera – что быть должно, то будет!
И в этот момент я вновь услышал голос мастера Лея: «То, к чему ты стремишься, придет само собой. Ты не сможешь заставить это случиться». Я чувствовал, что сам оказался на сцене, где разворачивается драма моей греховности.
Доктор Фауст беседовал с двумя ангелами – добра и зла. Несмотря на предостережения ангела добра, он ночью отправился в уединенную рощу. И здесь, опираясь на труды Роджера Бэкона и Альберта, он произнес заклинание на латыни, вызвал дьявола, Мефистофеля, и подчинил его себе. Когда Фауст беседовал с Мефистофелем, свет вокруг них почти погас – на сцене воцарилась волшебная атмосфера. Я вспомнил ночь на пустоши и таинственный отблеск на камнях за каменным кругом. Я похолодел. Меня била дрожь – я предчувствовал открытие истинных тайн и глубоких истин.
Вперед выступил Мефистофель в облике монаха-францисканца:
– Я лишь слуга смиренный Люцифера и не могу прислуживать тебе, пока на то приказа нет владыки…
– Был ангелом когда-то Люцифер?
– Да, ангелом – любимейшим у Бога…
– А почему стал ныне князем Тьмы?
– Тому виной предерзость и гордыня – за них его низвергнул Бог с небес.
– Присуждены к чему вы?
– К аду – вечно.
– Так как же ты из ада отлучился?
– Мой ад везде, и я навеки в нем. Ты думаешь, что тот, что видел Бога, кто радости небесные вкушал, не мучится в десятке тысяч адов, лишась навек небесного блаженства?
Я не смог сдержать вскрика. Может быть, это место и есть ад? А все эти люди вокруг меня – уже в аду? Может быть, все они, с их роскошными гостиными, вилками и фортепиано, банями и картинами, находятся в преддверии ада – все эти сокровища вечности дарованы им лишь для того, чтобы быть навек утраченными?
Джорджиана толкнула меня в бок.
– Джон, ведите себя тише. И откиньтесь назад: тем, кто сидит сзади, не видно сцены.
Затем мы снова увидели Фауста в его библиотеке.
– И вот теперь ты проклят безвозвратно, и не спастись от этого ничем…
Появившийся Мефистофель сообщил Фаусту, что Люцифер предложил ему соглашение: двадцать четыре года Фауст будет иметь все, что захочет: деньги, власть, знания, магию. Но по истечении этого срока за его душой придет Люцифер, и Фауст будет проклят навеки. Фауст должен подписать бумагу кровью, и соглашение будет заключено.
Как только Фауст пронзил свою руку и подписал бумагу, на сцене началось настоящее безумие. Появились огромные черные дьяволы во главе с самим Люцифером.
– Христос тебе помочь уже не может, – произнес Люцифер. – Он справедлив. Души твоей не нужно уж никому – лишь мне она нужна.
«Что же будет со мной? – думал я. – Неужели я нагрешил так много, что Христос не сможет спасти меня? Боже! А Уильям?» Фауст пожелал, чтобы страсть его удовлетворила Елена Прекрасная. Он целовал ее – и тут ему вновь явились Люцифер, Мефистофель и Вельзевул, чтобы забрать его душу в ад.
Такова моя судьба и судьба Уильяма. Такой ее назначила нам некая неизвестная ужасная сила, и это было записано в древней книге много веков назад. Я видел, как на сцене появился ангел зла, но слышал тот голос, что говорил со мной на крыше собора, в Скорхилле и в подвале работного дома. Голос моей судьбы обращался ко мне, словно я и был Фаустом:
– Пусть с ужасом глаза твои глядят в застенок этот, вечный и огромный. Там фурии на вилах раскаленных подкидывают души осужденных. Тела их вечно жарятся на углях, не умирая никогда…
– Я увидал довольно, чтоб страдать! – громко вскрикнул я.
Ангел зла поднял глаза на галерею и произнес, указывая на меня:
– Нет, должен ты изведать все мученья! Тот должен пасть, кто любит наслаждения! Тебя я покидаю, Фауст. Вскоре в ад полетишь в отчаянье и горе.
Неожиданно наступила тишина.
– Джон, – прошептал отец Харингтон, – вам нехорошо? Вам нужно выйти?
Я весь дрожал. Я хотел сказать, что мне действительно нужно уйти, но, прежде чем я открыл рот, со мной заговорила моя совесть. Совесть обращалась ко мне со сцены:
– Один лишь час тебе осталось жизни. Он истечет – и будешь ввергнут в ад!
Часы пробили одиннадцать раз.
– Что делать мне? – воскликнул я. – Как мне спастись?
Зрители стали шикать на меня. Но тут Фауст вновь заговорил голосом моей совести:
– Ах, полчаса прошло… Вмиг минет час… Пусть тысячу в аду томлюсь я лет, сто тысяч лет, но, наконец, спасусь!.. Но нет конца мученьям грешных душ!
– Я спасусь! – вскричал я, поднимаясь. Меня потянули на место, на меня шикали и кричали. – Я спасусь! Я спасусь!
Но Фауст не унимался:
– И если бы метапсихоз был правдой, душа моя могла б переселиться в животное! Животные блаженны! Их души смерть бесследно растворяет. Моя ж должна для муки адской жить. Будь прокляты родители мои.
– Нет, Фауст, кляни Люцифера, – крикнул я, не обращая внимания на зрителей. – Это он лишил меня блаженства рая!
В шуме я расслышал, как часы пробили раз, два – двенадцать раз. Я смотрел на тех, кто сидел рядом со мной, и видел перед собой змей и медведей, волков и хищных животных. И они произносили мой приговор:
– Бьют, бьют часы! Стань воздухом ты, тело, иль Люцифер тебя утащит в ад! Душа моя, стань каплей водяною и, в океан упав, в нем затеряйся!
Меня толкали со всех сторон. Я слышал собственные слова:
– Мой Бог, мой Бог, так гневно не взирай! О, дайте мне вздохнуть, ехидны, змеи! О, не зияй так страшно, черный ад! Не подходи же, Люцифер! Не подходи же, Люцифер! Не подходи же, Люцифер!
В следующий момент я почувствовал, что лежу навзничь. Спина болела. Я слышал тиканье часов, потрескивание огня. И голос Фрэнсис Харингтон, доносящийся из дальнего угла комнаты.
– Я же говорила, что ничего хорошего не выйдет! Ты не должен был брать его на пьесу, написанную атеистом!
– Вы этого не говорили, мама, – ответила Джорджиана. – Вы не хотели, чтобы я шла!
– Думаю, это последствия падения, – произнес незнакомый мужской голос. – Удар мог повлиять на мозг самым неожиданным образом.
– Что ж, – произнесла Фрэнсис, – я стыжусь того, что мои дети, добрые христиане, подвергли этого человека такому испытанию, явили ему откровенную ересь и бесстыдство. Они не должны были так поступать.
– Там не было бесстыдства! – воскликнула Джорджиана.
– Тогда ты, несомненно, была разочарована, – сухо ответила Фрэнсис.
– Благодарю вас, доктор, – произнес отец Харингтон. – Пожалуйста, запишите этот визит на мой счет.
– Спасибо, отец, я так и сделаю. А теперь, если мне подадут пальто и шляпу, пожелаю вам доброй ночи…
Я моргнул и пришел в себя. Я лежал на какой-то узкой кровати в гостиной дома отца Харингтона. Камзол с меня сняли, но в остальном я был одет. Меня укрыли несколькими одеялами.
Я повернул голову и увидел отца Харингтона.
– Час близок, – прошептал я.
– Мне жаль, что пьеса вас так взволновала.
– Это было предупреждение. Это прекрасная, высокоморальная пьеса. Вы обязательно должны показать ее матери.
– Наш гость пришел в себя? – вежливо поинтересовалась Фрэнсис от дверей.
– Да, матушка. С ним все в порядке.
– Хорошо. В таком случае я удаляюсь в спальню. Пойдем, Джорджиана. Доброй ночи, мистер Оффремонт. Надеюсь, вам станет лучше. Если ночью вам что-то понадобится, позвоните, и Элиза вам поможет.
– Доброй ночи, мистер Оффремонт, – произнесла Джорджиана.
Я услышал, как захлопнулась дверь.
Отец Харингтон взял меня за левую руку.
– Скажите, Джон, что вас так поразило?
Я перекрестился.
– Доктор Фауст не смог нарушить договор, заключенный с дьяволом. Я тоже. Мне осталось жить один день.
– Джон, не говорите так.
– Это правда. Я тоже заключил договор. И дух, с которым я его заключил, был со мной вечером. Я слышал его.
– Он – ваш ангел зла. Я же – ваш ангел добра. Разорвите договор!
Я уставился в потолок.
– Это непросто, отец. Я оказался здесь в силу этого договора. Если я его разорву, то умру сейчас же.
– Джон, пообещайте мне, что не будете пытаться лишить себя жизни.
– Вы были очень добры ко мне, отец Харингтон. Но однажды я согласился на подвиг и совершаю его до сих пор. Я надеялся творить добро для других. И каждый раз терпел неудачу.
– Джон…
– Отец Харингтон. Бог посылает на эту землю праведников, и их немного. Но я верю, что вы – один из них. Там, где я был вчера, мне явились все семь смертных грехов во плоти. Все они говорили со мной. Сегодня я снова увидел их на сцене. И я подумал, а где же семь главных добродетелей? Теперь я их вижу. Они воплотились в вас: целомудрие, умеренность, щедрость, трудолюбие, терпение, доброта и смирение. Не сомневаюсь, что следующий, последний этап моего странствия станет лучшим. Через девяносто девять лет мир станет лучше – благодаря таким людям, как вы. Я в этом не сомневаюсь. И все же я боюсь – сильнее, чем прежде.
Я услышал, как бьют часы. Часы пробили двенадцать.
– Оставьте меня, – сказал я. – Я не хочу, чтобы вы видели, как я исчезну.
Отец Харингтон осторожно кивнул.
– Надеюсь, вы хорошо выспитесь, Джон. Вам что-нибудь нужно? Здесь есть еще одеяла. Звонок у дверей – на случай, если ночью вам понадобятся слуги. Попросите их разбудить меня.
– Доброй ночи, отец Харингтон. И спасибо вам.
– Я буду молиться за вас, – сказал он, положив руку мне на грудь. Потом он поднялся и добавил: – Мы так и не сходили в собор, верно? И я не увидел лица вашей жены.
– Вы сможете увидеть ее завтра, – ответил я. – Молюсь, чтобы мне тоже довелось увидеть ее. В раю.
VIII
Ад я услышал раньше, чем увидел его. Оглушающее монотонное гудение, словно сотню тысяч ножей точили на сотнях тысяч гранитных валунов, которые катились вниз по склону с такой сокрушающей силой, которой не в силах было помешать ни одно препятствие. Но этот монотонный звук имел какой-то особый оттенок. Я расслышал в нем низкое гудение медленно натягиваемой тетивы, соединяющей небеса и землю.
А потом я увидел кресты в небе. Десятки парящих крестов, направляющихся на запад.
К такому я был не готов. Даже те голоса, что говорили со мной в каменном круге, не были столь бесстрастными. Даже чуму понять было легче, чем эту армаду летящих черных распятий. Я неподвижно лежал, ненавидя этот гул, страшась его. И потом все стихло.
Дом отца Харингтона исчез. Вокруг меня валялись цветные щепки, битая черепица, искореженный металл и огромное множество черепков и осколков. Надо мной не было ни потолка, ни крыши. Не было стен – только одна, что выходила на улицу. Все соседние дома тоже были разрушены – я видел руины на сотни ярдов во все стороны. От ряда в восемь домов остались одни фасады. Там и сям среди обломков я видел какие-то мелочи, которые говорили, что здесь когда-то жили люди: белый кожаный башмачок куклы, циферблат часов без стрелок… Я увидел часть позолоченной рамы, деревянный ящик с почерневшей бронзовой ручкой, обгоревшую книгу… Помятую медную кастрюлю… Руку небольшой скульптуры…
Множество людей несколько дней крушили эти дома и уничтожали все в них, срывали крыши и рушили стены и потолки. Но почему, если уж они зашли так далеко, они не завершили это черное дело? Почему фасады остались нетронутыми? Такие разрушения под силу только тем, у кого есть осадные орудия или огромные пушки.
Выбравшись из развалин, я увидел и другие признаки того, что здесь жили люди. Рядом со мной валялась черно-белая картинка в деревянной рамке. Я увидел молодую пару. Картинка была проработана очень тщательно – мастеру удалось в точности передать лица и настроение молодых людей. Казалось, сама природа на миг замерла в этой рамке. В руках у молодой женщины в длинном белом платье был букет цветов, а голову ее украшала нежная вуаль. Молодой человек в черном костюме и высокой блестящей шляпе гордо смотрел на меня. Молодожены, улыбаясь, стояли перед церковью. Но стекло в рамке треснуло. И где теперь эти люди? Может быть, они погибли под этими развалинами?
На мне все еще был тот же костюм и черные ботинки, что дал мне отец Харингтон. Ничего своего у меня не осталось – только кольцо Уильяма напоминало мне о прошлом. Я поднес кольцо к губам и поцеловал в память о брате.
Выбраться из дома было нелегко – перед входной дверью скопилась целая груда обломков. У меня закружилась голова, меня замутило. В воздухе пахло горелым. Улица выглядела очень странно. Зеленые газоны Саутернея были завалены досками, дома на другой стороне улицы лежали в руинах. Посреди же стояла чудовищная крытая повозка с огромными черными колесами и верхом из темно-красного железа. На боках ее я увидел стеклянные окна и двери, а позади большое пустое пространство. Какая же лошадь могла тащить такого монстра? Насколько же больше и сильнее за это время стали лошади и волы, что могут тащить подобные повозки?
Неожиданно повозка издала громкий звук, похожий на звук летящих крестов. Позади нее образовалось облако вонючего дыма. Звук стал еще громче и неприятнее. Я ничего не слышал, кроме грохота и воя. И когда я уже готов был бежать, повозка поехала прочь – и никто ее не тащил и не толкал. Изумленный, я смотрел, как она исчезает вдали, оставляя за собой вонючий дым, от которого меня замутило еще сильнее.
Роджер Бэкон предвидел это. Если бы я мог вернуться и рассказать все мастеру Лею! Как он говорил? «Брат Бэкон писал о колесницах, которые смогут двигаться с невероятной скоростью без помощи тягловых животных». Но это меня не обрадовало. Наоборот, мне показалось, что я наткнулся на огромный собор таинственных и непонятных знаний. Своды его были выше небес – над ними летали распятия, а у их подножия на огромной скорости мчались огромные ревущие повозки. Найдется ли просвет, чтобы божественный свет просиял на собор этот так же, как он сияет мне? Найдется ли алтарь или кафедра, которые управляют человечностью подобного? А если есть, то я боюсь этого. Потому что я этого не понимаю.
Напротив дома отца Харингтона, где некогда находились общественные бани, я увидел огромную груду мусора. Последней уцелевшей постройкой была церковь. Ее шпиль четко вырисовывался на фоне светлеющего неба. Повсюду валялись огромные куски кирпичей, скрепленных цементом, резные наличники, осколки стекла. Я пошел дальше – и повсюду видел одно и то же. Остовы домов напоминали погибшие корабли. Всюду громоздились кучи обломков и осколков. Расчищена была только сама дорога.
Я видел, как повсюду суетятся люди. Ощущение спешности их движений было незнакомо. Или, наоборот, слишком знакомо – но в последний раз я видел такое, когда мы были во Франции с армией короля по дороге в Креси. Тогда мы быстро и эффективно делали все, что нужно было сделать. Такова война. Мне было совершенно ясно: в Эксетер пришла война.
В центре Бедфорд-Серкус я снова увидел самодвижущиеся металлические повозки. Они были выкрашены в темно-зеленый цвет. Множество молодых людей в длинных зеленых брюках и шерстяных камзолах странного покроя выгружали из повозок лопаты, заступы, ведра, ломы и другой инструмент. Группа юношей хохотала совершенно спокойно и весело – их смех напомнил мне мое время. Но, кроме этого смеха, я не узнавал ничего, и это меня тревожило. Я понимал, что люди привыкли к оглушающим звукам и ужасным разрушениям повсюду. Две молодые женщины остановились возле юношей. На обеих были темно-синие камзолы и короткие юбки. Я видел не только щиколотки, но и икры! Никогда прежде я не видел ничего подобного! Мне показалось, что они хотят пробудить в юношах непотребные мысли – и это на развалинах разрушенных домов! По другой стороне улицы прошла группа женщин в таких же темно-синих костюмах. Я отвернулся. Мне была отвратительна мысль, что так много женщин одеваются неподобающим и непристойным образом. Казалось, армия проституток марширует на войну, мечтая безжалостно совокупиться с врагом.
А потом я свернул за угол.
Ни одна самая сильная армия, по моему представлению, не могла нанести такой ущерб! Даже если она будет вооружена самыми мощными пушками. Во Франции во время шевоше, когда мы разрушали все постройки, попадавшиеся нам на глаза, мы не могли сделать ничего подобного. У нас не было времени. Когда мы сжигали французские дома и церкви, полностью сгорали те, что были построены из дерева и соломы. Но многие церкви, купеческие дома и городские постройки были построены из камня. Мы оставляли за своей спиной обгорелые развалины. Но сейчас между мной и Хай-стрит осталась всего пара домов, и те угрожающе повисли в воздухе, норовя рухнуть. Все остальное было снесено до основания. Передо мной лежали груды щепок, обломков, осколков стекла и керамики, искореженные куски ржавого металла.
Но люди были совершенно спокойны. Казалось, они даже не замечают тех разрушений, что их окружали. Мужчины в длинных плащах и мягких шляпах спешили по каменным тротуарам, словно груды битого кирпича и искореженного металла за их спинами – это зеленый парк с клумбами. Полуразрушенные дома высились над развалинами, стеная от разрушения и страданий. В оконных рамах не было стекол, и тонкие занавески жалобно развевались на ветру. Но люди спокойно прислонялись к стенам, чтобы почитать газету. На развалинах церкви святого Лаврентия валялись обломки скульптур и камни, но на этих грудах сидели женщины, ели пироги и хлеб с какой-то начинкой. Они вроде бы и не сознавали трагедии, которая разыгралась под разрушенными крышами за их спинами. Огромная металлическая балка, некогда поддерживавшая крышу широкого здания, торчала вертикально, словно огромная кость – но какой-то человек спокойно поставил одну из грохочущих железных повозок прямо под ней. От большого дома на Хай-стрит остался только первый этаж – казалось, все, что находилось выше, откусили какие-то гигантские челюсти: кирпичные обломки напоминали следы огромных зубов. В дверях стояли две женщины. Во рту они держали маленькие белые цилиндры с ароматной травой, дым которой так полюбился людям. Они стояли спокойно, совершенно не думая о дьявольской картине над головой.
На первый взгляд собор показался мне уцелевшим и нетронутым. Но, присмотревшись, я заметил, что в окнах не осталось стекол. Старое здание было разрушено. Я подошел ближе и увидел, что руки одной фигуры, которые я собственными руками сделал по образу своих рук, полностью раскрошились. Лица фигур растрескались, рук не было. Некоторые фигуры полностью заменили неуклюжими современными поделками. Я вошел внутрь. В нефе лежали груды стеклянных осколков, на полу стояли лужи. Большое восточное окно исчезло. Трон епископа Стейплдона исчез. Свет проникал через огромную дыру в южной стене собора. Часовня святого Иакова была уничтожена.
Я перелез через барьер, чтобы рассмотреть развалины часовни, не обращая внимания на предостерегающие крики какого-то человека. Повсюду валялись обломки резных камней. Башенки разрушились. Две соседние опоры растрескались. Да и все здесь казалось очень шатким – нагрузка на уцелевшие опоры слишком увеличилась, они долго не выдержат. Свод опасно навис надо мной. Я ощущал его вес – он казался мне колоссальной слезой самого Господа.
Я вернулся в неф и присел на одну из уцелевших деревянных скамей. Когда-то война была делом отважных солдат, сражавшихся плечом к плечу. Потом она превратилась в кровопролитную стрельбу мушкетными пулями. Теперь же война была повсюду. Война заразила всех, и даже самые драгоценные стороны нашей жизни стали ей подвластны. Только в тысяча восемьсот сорок третьем году мы ни с кем не воевали. Похоже, что создатели оружия использовали этот мирный период для создания более смертоносных средств убийства и разрушения. Но кто мог оказаться столь бездушным, чтобы покуситься на этот величественный собор? Война явно была не гражданской – у англичан не поднялась бы рука на собор. Наверное, во всем виноваты проклятые французы.
Я вошел в часовню святого Андрея и святой Екатерины, страшась худшего. Но часовня уцелела. Уцелело и лицо Кэтрин. Я вздохнул с облегчением: тоска моя не усилилась еще более. Я взглянул на каменный портрет жены и порадовался, что у камней нет глаз, чтобы увидеть меня. Прошлое можно увидеть, само же оно видеть не может. Но потом я задумался: а что, если все эти разрушения вокруг меня связаны с тем, что мы можем смотреть только назад? Случилось ли бы все это, если бы современники отца Харингтона могли смотреть в будущее? Или тогда они совершили бы другие ошибки?
Я вышел из собора. На улице, что вела к южным воротам, я увидел новые руины – целый ряд выгоревших зданий. Повсюду глаз мой падал на почерневшие стены, лишившиеся штукатурки и обнажившие старинные окна и арки. Но им тоже не суждено было уцелеть, они ждали своей гибели вместе с другими руинами. Им предстояло превратиться в груды щебня и мусора.
Я спустился с холма к реке. Вид развалин угнетал меня. Мне хотелось увидеть хоть что-то, что не изменилось с моего времени. Но я сразу же увидел, что элегантного моста из времен отца Харингтона больше нет: на его месте высился однопролетный мост из камня и железа, с балюстрадами по обе стороны дороги. Приблизившись, я заметил, что мост совсем не такой длинный, как его предшественники. Река стала намного уже и напоминала, скорее, канал. Болота на ее берегах, куда всегда сваливали мусор, исчезли. Крысы больше не рыскали по кучам внутренностей и костей, которые я помнил со своих времен. В новом веке убрали все, что было раньше – и даже саму реку. Я направился обратно в город. У меня было чувство, что я потерял еще одного близкого друга.
На углу остановилась самодвижущаяся повозка. Из нее выскакивали молодые люди в темно-зеленой одежде. На плечах они несли тяжелые мешки. Моя старинная одежда явно их удивляла. На них же никто не смотрел. Люди занимались своими делами. Лавка, где продавали конфеты, работала на полную: колокольчик на двери то и дело звякал, когда дверь открывали или закрывали. Возле дороги стоял стол. Две женщины установили на нем большие котлы и разливали из них горячий коричневый напиток. К столу выстроилась целая очередь из мужчин и женщин. Одна из девушек поймала мой взгляд и не отвернулась. Она была высокой, с черными, вьющимися волосами, оливковой кожей и красивыми карими глазами. Мне показалось, что ей чуть больше двадцати. На девушке было распахнутое пальто, светло-коричневое, с меховой опушкой на капюшоне. Под пальто я заметил синий камзол, почти такой же, как та непристойная форма, что бросилась мне в глаза ранее.
Девушка пристально смотрела на меня. Мне хотелось рассмотреть ее получше, но я отвернулся и с неохотой переключился на женщину, стоявшую за ней. Женщина неожиданно начала кричать. Но долго я на нее не смотрел. Раздался ужасающий вой. И тут что-то с огромной силой ударило меня в спину.
* * *
Когда я пришел домой, почти стемнело. Я откинул засов и открыл дверь. Кэтрин сидела на скамье, штопая одежку нашего сына при свете лучины, установленной на столе. Я закрыл за собой дверь, отметив, что со времени моего ухода петли немного разболтались. Может быть, все эти дни из других веков были сном и он закончился? Может быть, я снова оказался в своем времени?
Кэтрин отложила иголку и поднялась. Я сразу же отступил, боясь заразить ее.
– Все хорошо, Джон?
Я приложил руку ко лбу. Лихорадки не было.
– Похоже, да. Все хорошо.
Кэтрин обняла и поцеловала меня.
– Как продвигается работа над ангелами в Солсбери?
– Хорошо. А как наши ангелочки?
– С ними все в порядке. Они уже спят.
Я сел на стул и посмотрел в окно, которое когда-то будет сломано. Я попытался забыть все, что видел в будущем.
– Дела в стране плохи. На дорогах и полях валяются мертвецы. Горожане пытаются убежать от чумы. Рынки опустели – на площадях стоят лишь пустые, потрескавшиеся столы.
– Рынок в Мортоне стал дешевле, чем прежде. Покупателей так мало, что продавцы рады любому. Я купила ткань на одежку детям всего за четырнадцать пенсов.
– А для себя? Ты купила что-нибудь для себя?
Кэтрин улыбнулась и удивленно посмотрела на меня.
– Я купила перец.
– Перец?
– Немного. Мне рассказала о нем Изольда из Рейкомба, и я увидела его на рынке. Торговец знал Изольду. На рынке совсем не было народу, и он продал нам три унции за одиннадцать пенсов.
– Хорошая цена. Значит, моя жена теперь всегда будет острой и горячей? – спросил я, обнимая и целуя ее.
– Это блюдо придется тебе по вкусу, – ответила она, возвращая поцелуй. – Обними меня покрепче.
Мы продолжали целоваться, и я попытался повалить ее на солому возле очага, но она вырвалась.
– Сначала проверю, спят ли мальчики.
Кэтрин ушла в спальную комнату, а я сел на скамью и уставился в огонь, вспоминая те видения, что мне были о грядущем. Я был счастлив, что нам удалось избежать чумы. Я вспоминал закрытые монастыри, рудокопов на пустоши, повозки со стеклянными окнами, красивые картины. Я вспоминал солдат, повесивших Уильяма, и Розу из работного дома. Воспоминания эти были невыносимы. Мне хотелось навсегда избавиться от них, и единственным способом была любовь Кэтрин. Моей Кэтрин. Запах ее волос, мягкость ее кожи, радость любви, стоны удовлетворения. Я был счастлив ее счастьем, а она – моим.
Я посмотрел в сторону спальной комнаты.
И ничего не увидел. Только черный проем.
Я поднялся и подошел поближе. Но даже в дверях я ничего не видел и не слышал.
– Кэтрин? – позвал я.
Она не ответила. Может быть, она тоже заснула?
В темноте я почти ничего не видел, поэтому вернулся к столу и взял лучину. Я вернулся к дверям и поднял лучину повыше, чтобы увидеть жену.
Наши мальчики лежали на матрасе – в точности как сыновья Элизабет Таппер. А Кэтрин висела в петле в углу.
– Кэтрин! – закричал я и сразу же ощутил, как волна смерти смывает последнюю надежду.
Горе обрушилось на мои плечи, и я зарыдал. Я бился о стены, о дверь, пытаясь достучаться до какой-то высшей силы.
А потом я увидел свет.
– Эй, вы там живы? – произнес женский голос.
Я оказался в длинном зале с желтыми стенами. Железные кровати стояли в два ряда. Боль в истерзанной спине ослабела. Руки все еще болели. Но боль эта не могла сравниться с болью разума и ощущением утраты, пронзившим мое сердце. Я вертел головой, пытаясь избавиться от этой боли, но она не отступала и становилась лишь сильнее.
Постепенно я рассмотрел, кто говорил со мной. Я увидел девушку с прекрасными глазами и вьющимися черными волосами, которая стояла возле котлов.
– Транспортер вас чуть не задавил, – сказала она. – Вы вышли прямо перед ним, дурачок. Чудо, что вы не пострадали более серьезно.
– Вы ангел? Я в раю?
Девушка рассмеялась.
– Нет. Я – Селия, а вы в Девоне. – Она поправила повязку на моей голове. – Девон не самое райское место на свете, особенно сейчас. Вы в Королевской больнице Девона и Эксетера. Я приехала вместе с вами в «Скорой помощи».
– В чем?
– В «Скорой помощи». Большая машина, с носилками, сиреной и красным крестом. А потом я помогала сестрам. Я только что закончила свою смену и направлялась домой, когда вы заметили меня у чайного стола. Конечно, лестно, когда посторонние мужчины останавливаются и смотрят на тебя – но лично я предпочла бы, чтобы они при этом не попадали под машины. Это как-то неловко. Как бы то ни было, боюсь, у вас сотрясение мозга. Врачи наверняка захотят подержать вас здесь какое-то время. Меня попросили заполнить ваши документы. Как вас зовут?
– Джон из Реймента.
– Джон… как? – переспросила она, держа в руках доску с листом белой бумаги и устройство для письма. – Я не совсем понимаю ваш акцент. Изримен? Эсримен? Эвримен?
– Из Реймента.
– Не могли бы вы сами написать?
Я закрыл глаза.
– Простите, нет.
– Ну и ладно. Я запишу «Эвримен», и мы вернемся к этому позже, если понадобится. Семейное положение?
– Что вы имеете в виду?
– Вы женаты?
– Да.
– И вашу жену зовут…
– Кэтрин.
– Сколько вам лет, мистер Эвримен?
Я покачал головой.
– Когда вы родились?
Я посмотрел на нее. Лгать таким прекрасным карим глазам было невозможно, да и незачем.
– Я родился в среду после Троицы в пятый год правления короля Эдуарда Второго.
– Вы хотите сказать Эдуарда Седьмого? В тысяча девятьсот пятом году? Значит, вам тридцать семь лет?
– Если хотите. А вы когда родились?
– Я? Восьмого мая тысяча девятьсот восемнадцатого года.
– А кто ваш муж?
– Вы слишком торопитесь, мистер Эвримен. Я не замужем, но у меня есть друг. Он американец, и зовут его Рон. Он – единственное хорошее, что случилось в моей жизни с начала войны.
– Почему французы стремятся уничтожить наш город?
– Вы хотите сказать, немцы. Французы на нашей стороне – по крайней мере, борцы Сопротивления. Когда наши парни в марте бомбили Любек, им удалось уничтожить весь город. И Гитлер приказал в ответ уничтожить английские города. Они начали с Эксетера.
Я поднял руку, чтобы остановить ее.
– Мистрис Селия, я – невежественный человек…
– Зовите меня просто Селией.
– Я не знаю, кто такой этот Гитлер.
– Господи боже мой! Разве есть человек, который не знает Гитлера? Похоже, у вас сильное сотрясение! Он – рейхсканцлер Германии, вождь Третьего рейха. И он захватил почти всю Европу.
– А как назывались кресты в небе?
Селия замолчала, наклонилась и посмотрела на меня.
– Сколько пальцев я подняла?
Я увидел два пальца и честно ответил:
– Два.
– Мне нужно кое с кем поговорить… Вернусь через минуту.
Я закрыл глаза. Кэтрин, Кэтрин, как я надеялся, что эта судьба тебя минует. Изо всех кошмаров этот был самым страшным. Кэтрин, ради всего святого, молю тебя слезами и смертью своею, не делай этого! Даже если все наши прекрасные мальчики умрут, не отправляйся во мрак! Живи – выйди замуж, постарайся быть счастливой.
– А ты? Ты постарался бы жить, Джон? – услышал я ее ответ.
И что я мог ответить на это?
– Я раскаиваюсь. Хотя, может быть, я опоздал, но я раскаиваюсь в том, что решил покинуть наше время.
Я смотрел в потолок. Странные круглые фонари свисали с потолка на тонких черных веревках, и от этого зрелища я содрогнулся. Не здесь я должен провести свои последние часы. Я должен творить добро – ради Уильяма и ради себя самого. Я поднялся на локте и осмотрелся. Я увидел множество людей, у некоторых были повязки на руках и ногах. Рядом с некоторыми сидели женщины. Многие были совсем молоды. Если я должен умереть, а летающие кресты будут способствовать моей смерти, то погибнут и эти люди. Немцы уничтожат всю больницу и убьют всех, кто в ней находится. Мое присутствие – это молчаливый смертный приговор этим людям.
Я откинул одеяло и медленно опустил ноги на пол. Я нашел ботинки и надел их. Руки у меня дрожали еще сильнее, чем утром. Завязать шнурки оказалось мне не по силам. Я боролся со вторым ботинком, и тут вернулась Селия.
– Джон, что вы делаете? У вас сотрясение! Вернитесь в постель, вам нужен отдых!
– Мистрис Селия, – я задыхался, сердце отчаянно колотилось в груди. – Вы узнали, что означают эти кресты в небе?
– Это самолеты. Но, Джон, вам нужно…
– Мистрис Селия, я должен уйти. Здесь всем грозит опасность. Ни вы, ни эти несчастные – никто не должен находиться рядом со мной. Я обречен умереть сегодня, и если кто-нибудь окажется рядом со мной, когда самолет поразит меня, ему не уцелеть. Я видел, на что они способны.
Я попытался пройти мимо нее, но она схватила меня за руку.
– Джон, что вы говорите? Мы все в опасности – каждый день и каждую ночь. Нам нужно просто сохранять спокойствие, вести нормальную жизнь и оставаться оптимистами.
– Где мой камзол?
– Ваша куртка? Она здесь. – Селия указала на вешалку. Мой камзол висел под ее пальто. – Мне пришлось снять ее…
Я надел камзол.
– Джон, что вы делаете? Вы не можете уйти – вы не в том состоянии. У вас повязка на голове, потому что врачи обнаружили трещину в черепе. Вы потеряли много крови…
– Мне жаль, мистрис Селия, но я не могу стать причиной смерти этих людей. Это ляжет тяжким грузом на мою совесть. Я должен попасть в рай, чтобы молиться за душу моего брата и узнать, что случилось с моей женой и детьми.
Я направился к двери. Селия схватила пальто и поспешила за мной.
– Джон, послушайте. Вам нужен отдых. Вам нужно восстановить силы. Никакие самолеты вас здесь не поразят. Вы в безопасности.
Я вышел из зала и стал спускаться по лестнице.
– Вы хоть знаете, куда идете? – спросила Селия, спускаясь вслед за мной. – Послушайте меня, Джон!
Нотки ярости в ее голосе заставили меня остановиться. Я посмотрел прямо ей в глаза.
– Мистрис Селия, вы – самая добрая девушка на свете. Я не вынесу, если вас поразит самолет, который должен стать причиной моей смерти.
– Не говорите глупостей! Немцы бомбят нас только после темноты, когда наземные батареи не видят самолетов и не могут их сбить. – Она посмотрела на меня. – Вам есть куда идти?
Я покачал головой.
– Я пойду в собор. – Потом, немного подумав, я добавил: – Нет, нет! Я не могу идти в собор! Если кресты в небе увидят меня, они уничтожат собор! А ведь достаточно легчайшего удара, и свод обрушится. И погибнут все скульптуры южного фасада и часовня святого Иакова!
Селия подошла ко мне.
– Джон, послушайте. Вы ранены. Вас сбил грузовик – только подумайте! Вам нужен уход врачей.
– Это мой последний день на земле, – сказал я, закрывая глаза и чувствуя ее теплую руку на своем плече.
– Тогда давайте вернемся и выпьем чая в моей квартире. А потом, когда вы будете готовы, мы найдем вам место, где вы сможете остановиться, пока мы не свяжемся с вашей женой и не сообщим ей, что вы живы. В городе есть приюты для людей, которые потеряли жилье из-за бомбежек.
Селия крепко взяла меня за руку и вывела из больницы. Мы прошли через Саутерней, через квартал собора, прошли через лежащую в руинах Хай-стрит и направились на восток. Разрушения вокруг были еще более чудовищными. Мы прошли мимо дома, который показался мне обкусанным какими-то гигантскими челюстями.
– Какая жалость, – сказала Селия. – Все любили «Деллерс». Отец впервые угостил меня здесь вином, когда мне исполнился двадцать один год. Струнный квартет играл Моцарта… официанты с бабочками… Все мои родные и друзья собрались там. А потом квартет сыграл для меня «С днем рождения!», и все, кто был там, стали подпевать. Было страшно весело! А теперь, посмотрите-ка… Так грустно…
Я уже не понимал, где находились восточные ворота. Там ничего не осталось – даже того дома, где, по словам отца Харингтона, устраивались танцы. Только груды битого кирпича и искореженного металла по обе стороны улицы. Мы подошли к огромному современному зданию. Селия сказала, что это «Одеон» и здесь показывают «кино». Мы остановились, и она принялась рассматривать яркие цветные картины со словами. На одной был изображен железный корабль с огромными мушкетами, установленными на палубе.
– Хочу это посмотреть, – пробормотала Селия. – Говорят, что Ноэль Кауард просто прекрасен. Он написал сценарий и музыку, и сам сыграл в этом фильме. Я хотела сходить в кино с Роном сегодня.
Я не понял, что означает «сыграл», но не стал спрашивать. Новая эпоха подавила меня, и я уже не пытался ее понять. Я просто обернулся и посмотрел на город. Собор высился над ним и казался еще грандиознее. Солнце пробилось сквозь тучи. Луч упал на груду камня и металла, отделявшую нас от собора, и мне показалось, что мы оказались на краю глубокой пропасти. Хотя собор потерял свои шпили, хотя в его стене зияла дыра, хотя он мог рухнуть в любую минуту, но он все же стоял, уверенный и гордый. В нем была какая-то истина, известная нам, его строителям. И истина эта оставалась непоколебимой в веках.
– Они хотят его взорвать, – сказала Селия, проследив за моим взглядом. – Члены совета считают, что он служит ориентиром для немецких пилотов, когда те бомбят дома в восточной части города. И мы должны взорвать собор сами, чтобы спасти свои дома. Безумие, правда? Это все равно что швырнуть драгоценное наследство в огонь, чтобы его не украли.
Мы с Селией пошли дальше. Через десять минут мы пришли к ее трехэтажному дому из красного кирпича, стоявшему в ряду таких же. Мне сразу же бросились в глаза большие окна на всех этажах. В отличие от дома отца Харингтона, окна состояли не из мелких стеклышек в опускающейся раме, а из единых больших листов стекла.
– Я живу наверху, – сказала Селия, – но сначала нужно пройти мимо миссис Харботтл. Ей почти девяносто, и она живет на первом этаже. Это ее дом. Ей не нравятся одинокие женщины. Заметив, что я пришла не одна, она откроет дверь и будет ждать, когда вы уйдете, а потом сделает мне выговор, точно указав время, какое вы здесь проведете.
– Похоже, это вполне достойная женщина…
– Шшшш…
Селия отперла белую дверь, и я проскользнул в дом следом за ней. Пол в холле был покрыт тканью кремового цвета, лестница тоже. Лестница находилась слева. Дверь справа была открыта. Я увидел очень старую женщину, восседавшую в большом коричневом кресле в углу комнаты. Она сурово смотрела на нас через очки в черной оправе. Лицо ее изрезали глубокие морщины, но губы были неестественно красными, словно она их накрасила.
– Этот мужчина с тобой, Вероника? – спросила старая дама.
– Я Селия, миссис Харботтл. А это Джон Эвримен. Он был ранен.
– Правила дома, девочка! Только не под моей крышей!
– Мистер Эвримен зашел лишь на чашку чая, – объяснила Селия. – Он приехал этим утром и только что вышел из больницы – вы же видите его повязки. Вы же не откажете раненому, верно?
Миссис Харботтл подозрительно уставилась на меня.
– Скажи, пусть подойдет поближе.
Селия кивнула мне, и я подошел ближе. Я стоял прямо перед креслом, глядя на старуху сверху вниз. Ее лицо было покрыто тонкой душистой пудрой.
– Сколько ему лет?
– Тридцать семь. И он женат.
– Похоже, ты его уже хорошо знаешь, да?
– Миссис Харботтл, я узнала об этом из его документов в больнице.
Старуха кивнула.
– Хорошо. Пусть зайдет на чашку чая. Но через час он должен уйти.
– Спасибо, миссис Харботтл, – ответила Селия и повела меня наверх.
На лестничных площадках и на первом этаже я увидел множество дверей. Наверху было две двери: Селия открыла правую. Потолок в ее комнате был покатым – там был устроен альков с окном, выходящим на задний двор. У стены, справа от меня, стоял небольшой столик с двумя стульями. У другой стены, рядом с камином, стояло ведерко угля. Слева от себя у стены я увидел большой металлический предмет кремового цвета с разными уровнями и цифрами, а за ним – глубокую белую раковину с кранами над ней. Перед камином с потолка свисала рама на веревке. На ней сушилась какая-то одежда. Увидел я и один круглый белый фонарь на тонкой веревке, как в больнице.
– Простите миссис Харботтл, – сказала Селия, скидывая пальто. – Она – страшная зануда. Если бы у нее остался хоть какой-то разум, она бы поняла, что ее попытки помешать нам с Вероникой скидывать трусики совершенно тщетны.
– Трусики? – переспросил я.
Селия странно посмотрела на меня.
– А вы уверены, что женаты?
– Конечно!
Она потянулась к вешалке у камина, сняла белый предмет с кружевом по краю и кинула его мне. Я поймал и недоумевающе уставился на него. Но, покрутив его в руках, я понял его предназначение и спешно вернул Селии.
– Мистер Эвримен, – с улыбкой сказала Селия, убирая «трусики» в шкаф, – чувствую, что я заставила вас покраснеть. Не нужно смущаться. Скажите Кэтрин, чтобы она себе тоже такие купила. – Селия хлопнула в ладоши. – Я обещала вам чашку чая. Этим мы с вами и займемся.
Она направилась к двери и нажала на маленький черный рычаг на круглой черной коробочке. Фонарь в центре комнаты зажегся.
– Как это работает? – спросил я, подошел к коробочке и опустил рычаг. Свет погас. Я снова поднял рычаг, свет загорелся. Я снова выключил. И снова включил, дивясь такому чуду. И еще раз. И еще.
– Достаточно, Джон, – сказала Селия, наполняя чайник водой над раковиной и ставя его на большую железную машину.
Селия взяла коробочку, достала оттуда маленькую палочку, чиркнула ей по боковой стороне – и палочка загорелась. Селия подожгла воздух, проходящий через большую машину, и огонь разгорелся прямо под чайником. Вскоре чайник засвистел. Селия налила воду в горшочек с носиком и помешала.
– Почему бы вам не пройти в комнату? – спросила она. – Там вам будет удобнее. А через минуту я принесу чай.
Я вернулся на площадку и вошел в другую дверь. Эта большая комната занимала всю ширину дома. Слева у окна, выходящего на улицу, стояла кровать, застеленная красным шерстяным одеялом. В изголовье лежала белая подушка. У кровати стоял сундук с четырьмя ящиками. Напротив стояли два обитых тканью стула с подлокотниками и обитая тканью скамья. В центре комнаты, перед скамьей стоял низкий столик, на котором лежали книги и газета. Картины в комнате тоже были. На одной был изображен замок у озера в окружении деревьев, на другой – собака. Еще я увидел множество небольших черно-белых изображений людей. Все они висели рядом. Их было около двух десятков. Где-то был изображен кто-то один, где-то группа людей: старые и молодые, мужчины и женщины, и несколько детей.
– Вижу, вы познакомились с моей семьей, – сказала Селия, входя в комнату с подносом, на котором стоял чайник и две чашки. – Не будете ли вы так любезны подвинуть эти книги? – спросила она, указывая на стол.
Я сложил книги на пол, а газету положил на обитую скамью. Селия поставила поднос и уселась на стул.
– Вы все это прочитали?
– По большей части. Я изучаю английскую литературу в университетском колледже Эксетера…
– Женщинам позволили учиться?
– Конечно! Сейчас же не Средние века, как вам известно. Я читала лекции по английской литературе до войны. Папочке пришлось вернуться в армию, он руководит тренировочным лагерем. А мне сообщили, что лекции в университете возобновятся после войны. К сожалению, мне не сказали, когда именно это случится. Поэтому мне пришлось искать работу – а медсестры и сиделки сейчас нужны как никогда. Но я не оставляю свою науку – читаю стихи в перерывах между сменами в больнице.
Она разлила чай по чашкам.
– У вас есть земляной нужник? – спросил я, ощущая желание облегчиться.
– Простите?
– Место уединения?
– А, понимаю, – улыбнулась она. – Ватерклозет. Да, конечно, спуститесь на один пролет, и дверь будет прямо перед вами.
Я вышел на лестницу, гадая, поняла ли она, что я имел в виду под «земляным нужником». Мы на втором этаже: как можно устроить нечто подобное между первым и вторым этажами жилого дома? Тем не менее я последовал указаниям Селии и нашел дверь, о которой она говорила. За дверью оказалась небольшая комнатка с большой белой чашей с небольшим количеством воды. Металлическая емкость над чашей была соединена с ней длинной трубой, с емкости свисала цепочка. Я окончательно запутался. Она здесь моется? Я понимал, что, если потянуть цепочку, вода из верхней емкости перельется в чашу. Но я не мог использовать в своих целях место, где Селия и другие жильцы умываются.
Я увидел рулон бумаги. Выполняет ли этот рулон ту же функцию, что и стопка бумаги в нужнике отца Харингтона? Или ею вытирают лицо?
Я решил не рисковать и помочиться в саду перед уходом.
Когда я вернулся, Селия пила чай и читала газету.
– Они снова начали бомбить. Вчера разбомбили Истберн и Фулхэм.
Я промолчал.
– Не знаю, безумие это или нечеловеческая жестокость – или и то и другое одновременно, – пробормотала Селия. – Почему люди воюют друг с другом, когда могли бы счастливо жить в мире?
– Потому что людям нужен общий враг. Война – это то, что нас объединяет. Мужчинам нужно противостоять кому-то – иначе они начнут воевать друг с другом.
– Мужчины, мужчины… Всегда одни мужчины…
– Но если бы в Англии не было мужчин, женщинам пришлось бы заниматься мужскими занятиями…
– Я не виню мужчин в целом. Я виню тех, кто начал эту войну. Гитлера, например…
– Я ничего не знаю об этом Гитлере, но он наверняка начал эту войну, считая, что действует во благо своего народа, сплачивает нацию и делает ее сильнее. Если бы это было не так, народ не стал бы воевать за него.
Я попробовал свой чай. Вкус был мягкий и приятный, гораздо лучше, чем то, чем нас угощала Пейшенс Мадж. Но все же я не мог сказать, что этот напиток лучше эля, который мы каждый день пили в мое время. Взгляд мой остановился на книгах, которые я переложил со стола на пол.
– О чем все эти книги?
– Я же говорила вам. Английская литература. Поэзия. Классика – Байрон, Шелли, Китс. Современные писатели – Йейтс. У меня есть и новинки. Всегда интересно быть в курсе того, что издают мои современники.
Я взял верхнюю книгу и уставился на загадочные символы. Вторая книга была переплетена в кожу. На обложке я увидел три золотые буквы, написанные так, словно были вырезаны резцом. Я отложил первую книгу и взял книгу в кожаном переплете. Внутри я увидел множество фигур голубого цвета.
– Это ваша работа?
– Да.
– А буквы на обложке – что они означают?
– СРБ – Селия Роза Беринг.
– Роза?
– Это старинное семейное имя по материнской линии. Уж и не знаю, откуда оно взялось.
– О чем вы пишете?
– Я пишу стихи.
Я протянул девушке книгу.
– Не могли бы вы прочесть?
Селия нахмурилась.
– Нет. Это очень личное…
– Пожалуйста! Хотя бы одно.
Селия задумалась, потом кивнула.
– Ну хорошо, одно я прочитаю. А потом я пойду в ванну.
В этот момент над домом с тем самым ужасным низким звуком пролетел самолет. Селия замерла и посмотрела на меня. Звук стал тише, потом смолк вдали. Но Селия все еще молчала. Она со страхом прислушивалась. Потом девушка перевела взгляд на страницу.
– Называется «Несмотря ни на что». Я написала это стихотворение для своей матери.
Нет полной темноты. Всегда мы что-то видим. Пусть даже просто тень деревьев, Разорванное кружево ветвей на фоне неба. Нет полной тишины. И в самой тихой ночи Ты слышишь крик совы иль поезда гудок За лесополосой. Всегда мы что-то слышим Под звездами в ночи. Так вспомни же об этом, когда лежишь без сна И думаешь о том, что никогда не канет. Ни под холодным ветром, ни в мороз. Никто не позабыт. Я помню о тебе, И гром другого дня возденет руки, чтобы мы Надежду сохранили. Желанье загадай: И сбудется оно – хоть как-то, хоть когда…Когда Селия замолчала, я не мог сказать ни слова. Душу мою захлестнуло невыразимое счастье – и одновременно печаль.
Селия смотрела на меня, ожидая реакции.
– Это самое трогательное, что я слышал в своей жизни! Невероятно! Вы – самая талантливая женщина в мире.
– Спасибо, Джон. Надеюсь, мне удастся вскоре это опубликовать. Редактор уже принял текст, но он не знает, когда выйдет книга – сейчас очень тяжело с бумагой.
Еще один самолет пролетел над домом, и я почувствовал, как Селия вздрогнула.
Мы молчали.
Неожиданно Селия поднялась и обратилась ко мне:
– А теперь мне нужно быстренько помыться. На кухне есть хлеб и консервы – если захотите сделать сэндвич. Простите, масла нет. Карточки – вы понимаете… – Она подошла к деревянному ящику, стоявшему возле постели. – Оставлю вас с радио, чтобы вы не скучали. Я быстро.
Она прихватила с собой какую-то одежду и вышла. Из ящика донеслись какие-то звуки. Я различил мужской голос. Я подошел к ящику и взял его в руки. На передней панели имелась мелкая металлическая сетка, откуда и исходил звук. Но ящик ни с чем не был соединен. Мне показалось, что им управляет магия. Мужской голос сообщил мне о новой тактике бомбежек, примененной на позициях немцев во Франции, и о том, как это способствует военным успехам. Затем мне рассказали о ходе военных действий в Средиземноморье. Говоривший несколько раз повторил название «Эль Аламейн». Повторялись и другие непонятные для меня слова – «танки», «русские», «Сталинград». Один пилот совершил сто перелетов через Атлантику. В Индии какие-то люди, которых называли «японцами», начали бомбить Калькутту. Слушая все это, я не мог не вспомнить о великой надежде отца Харингтона на объединение всех людей Земли. Мне стало ясно, что мир действительно сблизился – но только для того, чтобы удобнее было воевать.
Мужчина, выступавший по радио, закончил говорить и объявил, что сейчас можно будет послушать музыку. Чем дольше оставался я в этом доме, тем выше была вероятность того, что бомбы вот-вот его уничтожат. Но я не мог уйти, не простившись.
Заиграл какой-то веселый мотивчик. Я поднялся и принялся с тревогой расхаживать по комнате. На сундуке в углу комнаты стояло большое зеркало. Я увидел свою забинтованную голову. Перед зеркалом лежало множество мазей и карандашей – так много, что я и предположить не мог, для чего они нужны. Я видел книги в бумажных обложках с яркими рисунками. Возле постели стояли небольшие металлические часы. А потом я подошел к семейным портретам на стене – их было десятка два. И среди них я заметил изображение старика. Он сидел у окна библиотеки с книгой в руках, а рядом с ним стояла ваза с цветами. Лицо его показалось мне знакомым. Это был отец Эдвард Харингтон!
Я услышал, как открылась дверь. Селия подошла и остановилась за моей спиной. На ней была черная туника и серая шерстяная накидка. Волосы она вытирала белым полотенцем.
– Что здесь написано? – спросил я, указывая на слова под изображением отца Харингтона.
Селия придвинулась ближе и прочитала:
– «Человек, не знающий прошлого, не имеет мудрости». Это мой далекий предок по материнской линии.
– Что с ним произошло?
– Он был ректором собора и тратил все свое время на добрые дела ради бедных. Он способствовал открытию всех железных дорог в нашей стране.
– Благослови Господь отца Харингтона!
– Вы знаете его имя?
– Он был хорошим человеком – лучшим из всех, – сказал я, рассматривая изображения.
На одном из них я узнал сестру викария. Точнее на двух: на одном она была изображена с братом в молодости, на другом – уже в старости. Женщина лет семидесяти держала на руках младенца, а маленький ребенок стоял рядом с ней.
– Вот откуда ваш характер, – сказал я, указывая на изображения. – От Мэри Джорджианы.
– Джон! – изумленно воскликнула Селия. – Откуда вы их знаете?
Я извиняющимся жестом поднял руку.
– Нет, нет, мистрис Селия! Я не хотел вас тревожить. Простите! Простите меня!
– Откуда вы их знаете?
На ее лице был страх, а я не знал, что ответить.
– Скажите же мне!
– Я встречался с ними. В их доме.
– Но это невозможно!
– Я гостил в их доме в Саутернее. А утром, когда я проснулся, дом лежал в руинах. Виной всему кресты в небе, клянусь!
Селия готова была закричать, но сдержалась и ничего не сказала.
– Ваш дальний родственник был очень добр ко мне. – Я опустил взгляд на свою одежду. – Это его одежда.
– Наверное, вы сильно стукнулись головой.
– Я не виноват, мистрис Селия. Отец Харингтон сказал, чтобы я не пытался утопиться. Он показал мне свою библиотеку и свои книги, и картины в гостиной. Там была одна: всадник совершал прыжок над глубоким ущельем…
– Нет! Эта картина висит в доме моих родителей, в Корнуолле!
– И я слышал, как Джорджиана играла Моцарта на инструменте, который называли фортепиано. В комнате отца Харингтона была картина с изображением рыцаря и мальчика…
– Пожалуйста, пожалуйста, остановитесь! Замолчите! Не знаю, кто вы и откуда вы это знаете, но я не хочу этого слышать.
Я огляделся по сторонам.
– Он был добрым человеком, отец Харингтон. Я лишь хотел сказать об этом.
– Уходите! Пожалуйста!
Подойдя к двери, я оглянулся. Не так я хотел расстаться с этой доброй душой. Селия опустила голову. Она не хотела видеть меня. Я услышал низкий гул самолета, повернулся и стремглав сбежал по лестнице. Я поклонился миссис Харботтл, но никак не мог выйти из дома – я не понимал, как устроены новые замки. Когда я оказался на улице, над моей головой со страшным ревом пролетел самолет, и я проводил его взглядом. Самолет улетел на восток.
Я направился к центру города, не зная, куда идти и что делать. Тучи рассеялись. То и дело между облаками пробивались лучи солнца. Я вспомнил, что точно такой же погода была, когда мы с Уильямом в последний раз возвращались в Эксетер. В нескольких шагах отсюда была чумная яма, где хоронили трупы. Теперь же на том месте, где упокоилось столько людей, рядами стояли дома. И вскоре умру я сам. Единственное, чего я не знал, – как это произойдет. Как я умру? Может быть, меня поразит молния с самолета так, что от меня ничего не останется? Я вошел в парк и помочился за кустом.
Шагая дальше, я проклинал себя. Конечно, все это стало результатом принятых мной решений. Даже испуг бедной Селии стал следствием моего решения, принятого давным-давно. И что теперь? Я не мог вернуться в собор и стать причиной его разрушения. Может быть, мне следует уйти далеко в поля, где рядом не будет ни одной живой души, и спокойно дожидаться конца?
Мимо проехало несколько громыхающих повозок. К моему изумлению, одна остановилась рядом со мной. Открылась дверь, и появилась Селия.
– Джон, простите меня, – сказала она, подходя. – Мне не следовало выгонять вас из дома. Ведь вы были контужены и все такое… Я знаю, что вы бредите и не контролируете себя. Я не прощу себе, если с вами что-то случится. Я просто… не знаю… просто испугалась.
Я не знал, что сказать.
Селия посмотрела мне в глаза, потом оглянулась.
– Мы с Роном собирались в кино. Пойдете с нами?
Возчик самодвижущейся повозки подошел к нам. Это был очень высокий, чисто выбритый, черноволосый молодой человек. Одет он был очень изысканно: штаны и камзол подходили друг другу, а черные ботинки блестели. Во рту он держал белую трубочку – я почувствовал уже знакомый запах горящей травы.
– Рон, это Джон Эвримен. Джон, это Рон. Он из Нью-Йорка, но работает на британское правительство.
Рон протянул мне руку. Я пожал ее левой рукой.
– Может быть, вы и мне сможете рассказать о моих предках, – сказал Рон. – Семейная легенда гласит, что Уайты происходили из этих мест и перебрались в Америку на «Мэйфлауэре».
Я улыбнулся ему, не поняв ни слова.
– Мы хотим посмотреть фильм Ноэля Кауарда «В котором мы служим», – сказала Селия. – Помните? Мы с вами видели афиши…
– Мистрис Селия, я точно знаю, что сегодня погибну под бомбами. Вы же должны прожить долгую, счастливую жизнь, как отец Харингтон. Вам нельзя находиться рядом со мной, когда упадет бомба.
– Мистер Эвримен, – перебил меня Рон. – Немцы не могут позволить себе рисковать своими самолетами только для того, чтобы поразить вас. Они дождутся темноты.
– Вы говорите как-то странно, – удивился я. – В Йорке теперь все так говорят?
– Это я говорю странно? – рассмеялся Рон. – Это же надо! Нью-Йорк, сэр. Это в старых, добрых Соединенных Штатах Америки.
– Откуда привозят индеек?
– Именно, сэр. Каждый День благодарения на столе должна быть индейка. Кстати, вы любите индейку?
– Не знаю. Но я точно знаю, что сегодня умру.
Рон переглянулся с Селией.
– Мы все когда-нибудь умрем, Джон.
– Вы не понимаете. Я умру именно сегодня.
– Что ж, значит, так тому и быть, – кивнул Рон. – Я могу подвезти вас к «Одеону» на своей машине. И не беспокойтесь из-за одиннадцати пенсов за билет. А если не захотите, сможете уйти. Но сейчас нужно ехать. Киномеханик нас ждать не будет. Идете?
Я осмотрелся по сторонам. Самолетов не было. Я задумался: может быть, они действительно правы и немцы не будут бомбить при свете дня?
– Я еду, – сказал я.
– Браво, – улыбнулась Селия. – Вы об этом не пожалеете!
Мы вернулись к экипажу Рона. Он огляделся, выбросил свою белую трубочку с горящими травами, затоптал ее ногой и сел в машину. Откинувшись на кресле, он открыл заднюю дверцу для меня. Селия села впереди, рядом с Роном.
Машина оказалась шумной и очень быстрой – она ехала быстрее, чем лошадь, несущаяся галопом. Я закрыл глаза, но от такой быстрой езды меня замутило. Я посмотрел на свою руку, вцепившуюся в спинку сиденья Селии, и понял, что косточки побелели. Я отпустил спинку, твердя себе, что мы скоро приедем.
Рон остановил машину возле развалин церкви святой Сативолы, мы вышли и направились к огромному зданию – самому большому вокруг. Мы встали в очередь вместе с другими людьми. Рон заплатил за нас. Мы втроем поднялись по лестнице, накрытой тканью, и вошли в зал. Я увидел ряды сидений. Если бомба накроет меня здесь, то погибну не только я, но и еще сотни людей! И театр этот будет разрушен!
– Не волнуйтесь так, – успокоила меня Селия, садясь между нами. – Если что-нибудь случится, объявят воздушную тревогу. И тогда мы выйдем отсюда и отправимся в ближайшее убежище.
Свет в зале погас. Мы на какое-то мгновение оказались в полной темноте. И вдруг на белой стене перед нами появилось огромное черно-белое изображение. Я увидел людей на улице – увидел в мельчайших деталях. И они двигались!
Как изображение может двигаться?! Я смотрел на саму жизнь, не на картину. Но как им удалось показывать через стены?
После этого я увидел нечто вроде движущейся и говорящей газеты. Я видел изображения больших железных повозок, на которых были укреплены пушки. Эти повозки ехали по африканской пустыне, где британская армия сражалась с немецкой. Я не понимал, кто есть кто: ни гербов, ни знамен, ни штандартов, как это было принято в наши времена, на повозках не было. Я видел разбомбленные и разрушенные немецкие города – королевская авиация делала свое дело. Звук был громким – намного громче обычной человеческой речи. Вид разрушений и несчастных людей, бредущих куда-то длинными вереницами, потряс меня и погрузил в бездну отчаяния.
Когда новости закончились, начался «фильм». Сначала наступила темнота, а потом мы услышали удивительную музыку, исполняемую множеством инструментов. Откуда она исходила, я не понял.
– Это история корабля, – произнес голос.
Я увидел, как строят современные железные корабли, и подивился тому, как они держатся на воде. Мне хотелось спросить у Селии, но вопросов возникло слишком много. Я жалел, что в зале нет окон: я бы заметил, что наступают сумерки, и вовремя увидел бы приближающиеся самолеты.
На стене появилась газета, плавающая на поверхности грязной воды. Селия наклонилась ко мне и шепотом сказала:
– Заголовок гласит: «В этом году войны не будет – Берлин слаб, Гитлер не готов».
Я видел, как построили и спустили на воду корабль «Торрин». Капитан корабля – человек по имени Кинросс – говорил со странным акцентом и так быстро, что я понимал лишь отдельные слова. Капитан всем сердцем любил свою жену, красавицу Аликс. Появились вражеские самолеты. Они обстреливали «Торрин» и роняли на его палубу странные предметы, напоминавшие по форме рыбу. Предметы эти взрывались. Солдаты с корабля подбили несколько самолетов из пушек, но два странных предмета взорвались прямо посреди палубы, и корабль начал тонуть. Матросы прыгали в воду и пытались спастись на плотах. Но самолеты возвращались и обстреливали их из скорострельных мушкетов, несмотря на то что люди в воде были совершенно беззащитны.
Уцелевшие моряки думали о женах. Капитан Кинросс вспоминал разговор с Аликс о том, будет ли война. Я понял, что этот разговор состоялся до начала войны. Капитан Кинросс пил чай и курил «сигареты», глядя на море. Жена его пила чай. Передо мной появлялись все жены и близкие других моряков. Я видел множество поездов, прибывающих на «вокзалы», как их называл отец Харингтон. Люди садились в поезда, беседовали, а поезда неслись по путям – даже ночью.
Постепенно мне стало ясно, что за война сейчас идет. Самолеты сбрасывали взрывные устройства на простые дома, не думая о том, что там могут быть женщины и дети. На таких кораблях, как «Торрин», имелись длинные взрывные устройства, «торпеды». «Торпеды» эти могли достичь других кораблей и потопить их, а все моряки оказывались в море, и матросы с «Торрина» расстреливали их из своих мушкетов. Я видел, как внимательно прислушивались люди к бесплотному голосу: «В одиннадцать пятнадцать премьер-министр выступит с обращением к нации. Ожидайте». И вскоре мы услышали торжественный голос:
– Я обращаюсь к вам из кабинета дома десять по Даунинг-стрит. Сегодня утром британский посол в Берлине вручил германскому правительству окончательную ноту, в которой говорится, что, если до одиннадцати часов Германия не сообщит об отзыве своих войск из Польши, наши страны будут находиться в состоянии войны. Сообщаю вам, что, поскольку ответа получено не было, наша страна объявляет войну Германии.
И тут я услышал, как Селия заплакала.
Может быть, у современных людей нет той роскоши, в какой жили их предки девяносто девять лет назад. Они делят дома со множеством других людей. Для сада им отводятся крохотные участки земли. Возможно, они не могут ваять скульптуры, как умел я. Но они могут создавать картины, которые по своей силе превосходят все созданное ранее. Селия была тронута этим фильмом. Я тоже был тронут. Если собор говорил о достижениях моей эпохи, молоты рудокопов – о времени мастера Периэма, стопушечные корабли из тысяча семьсот сорок четвертого года – о величии страны, а железные дороги – о таланте современников отца Харингтона, то эти движущиеся картины были доказательством гения тысяча девятьсот сорок второго года. Чувства и страдания людей были показаны в этом фильме с такой силой, какая недоступна даже лучшей скульптуре. Что означала эта война? Вовсе не то, что люди в летающих крестах могли уничтожить все, что им захотелось бы. Война означала, что люди могут создавать нечто удивительное – вдохновляющие истории, полные идеалов и сострадания. И никакой страх не может им помешать.
В конце концов, смысл любого искусства в том, чтобы будить эмоции, трогать человеческие души. Я был поражен чувствами этих людей, когда они узнавали, что с любимыми людьми все хорошо – или что муж или жена не вернулись домой. Я был вместе с ними в трагические моменты расставания. Меня поражала их сила и честность. Я понимал, что многое из того, что поразило меня в прошлые годы, было совершенно неважно. Неважно, что женщины могут читать Библию и требовать, чтобы их мужья были более милосердными и добрыми. Неважно, что они могут прочесть телеграмму, где говорится «ваш муж жив и здоров» или «ваш муж убит». Важно то, что не изменилось за все эти века: матери и жены, как и раньше, счастливы, узнав, что их сыновья и мужья живы, и эта весть заставляет их танцевать и петь от радости; мужчины, как и прежде, исполняют свой долг, подвергая себя опасности, и делают это не ради себя, но ради всего общества. Я был тронут силой духа этих людей, которая не уступала силе духа моих современников.
В конце концов, капитан Кинросс и еще несколько матросов спаслись. Он произнес короткую речь, прощаясь с выжившими. Он отдал честь своему кораблю и экипажу – половина матросов погибла в море. Капитан сказал: «Если им суждено было погибнуть, они сделали это с честью!» Эти слова звенели у меня в ушах. Они нашли отклик в моей душе и моем разуме. Мне казалось, что именно их я ждал пятьсот девяносто четыре года.
В зале загорелся свет. Я увидел, что фильм растрогал многих зрителей. Некоторые прижимали к лицу клочки белой ткани, другие просто смотрели на экран, а некоторые смотрели вниз, ожидая возможности покинуть зал.
Когда мы вышли, первым заговорил Рон.
– Увидев афишу, где говорилось, что это величайший фильм нашего времени, я отнесся к этому скептически, – сказал он. – Мне казалось, что Ноэль Кауард сделал это только для того, чтобы поднять дух британцев. Я был уверен, что он проводит войну в каком-нибудь баре на Карибах. Но должен признаться: это действительно лучший фильм из всех, что я видел. И уж точно лучший фильм о войне!
Селия высморкалась в белую ткань и спрятала ее в рукав.
– Что ж, в этом фильме выпили столько чая, что и нам стоило бы последовать примеру героев. Вы не против?
– Отличная идея, как говорят бритты, – одобрил ее Рон. – Но «Деллерс» закрыт – надеюсь, временно. Давайте пойдем в то маленькое заведение на Норт-стрит. Джон, вы идете с нами?
Я остановился.
– Нет, – сказал я чуть ли не шепотом, потом откашлялся и добавил: – Нет, я должен вас покинуть.
– Джон, вы плохо себя чувствуете? – встревожилась Селия.
– Нет.
– У вас болит голова? – спросил Рон.
– Нет.
Я посмотрел в небо. Самолетов не было. Я не слышал даже их гула.
– Пойдемте, выпьем чая, – настаивала Селия. – Вы сразу почувствуете себя лучше.
– Мистрис Селия, – сказал я, беря ее за руку. – Вы знаете, что со мной не все в порядке. Вы знаете, что я пронзил время, как камень пронзает воду. Шесть раз – я шесть раз переносился в другие эпохи.
– И я хочу расспросить вас о моем предке…
В этот момент завыла сирена. Оглушающий звук становился все сильнее и сильнее.
Я смотрел на Селию.
– Это учебная тревога, – сказала она, мельком взглянув на небо. – Они не будут бомбить при свете дня.
– Таких планов не было, – мрачно произнес Рон. – Это воздушный налет. Они будут бомбить центр города. Нам нужно бежать в ближайшее убежище.
– Позаботьтесь о ней, мистер Рон.
– Джон, не глупите, – Селия схватила меня за руку. – Вы должны идти с нами.
Я вырвал руку.
– Дорогая, милая Селия, я должен быть как можно дальше от вас. Любите друг друга – и не только сейчас, но и всегда.
– Что ж, если вы так хотите… – Рон посмотрел на меня. – Но нам нужно бежать…
Я протянул ему левую руку, и он крепко ее пожал.
– Спасибо, что взяли меня в кино, Рон. – Повернувшись к Селии, я добавил: – Идите с миром. Любите и почитайте своего мужа и будьте ему такой же верной подругой, какой была моя жена Кэтрин. И он тоже будет любить и почитать вас. А когда будете смотреть на портрет отца Харингтона, вспомните, что он был добрым человеком, и его доброта сохранилась в вас.
С этими словами я поклонился и быстро зашагал прочь.
Я услышал гул первого самолета. Звук этот отдался от стен гулким эхо. На углу я остановился, не зная, куда идти. Я стоял на улице, а звук становился оглушающим. Последовала яркая вспышка, и я услышал ужасающий грохот взрыва. Меня сбило с ног воздушной волной, словно содрогнулся весь город. Огромный самолет появился над домом и полетел над улицей. Люди кричали от ужаса, но грохот рушащегося здания заглушил вопли отчаяния.
Этот самолет был первым из многих. Я знал это точно. Через мгновение я услышал приближение второго. Он летел над рекой в направлении города. И появление его сопровождалось адским гулом.
Я мог сделать только одно. Я бросился на развалины близ улицы, которая когда-то называлась Маркет-стрит, и упал на колени. Когда бомба упадет на меня, никто другой не пострадает. Я далеко от собора. Это и станет моим добрым делом. Я мог надеяться только на то, что смерть моя будет быстрой. Никто не пострадает, ничто не будет разрушено.
Я перекрестился и начал молиться за души умерших – Кэтрин, моих сыновей, моих братьев и родителей. Я молился за души мастера Лея, Розы из работного дома, отца Харингтона и его сестры. И за Селию и Рона. Мне так хотелось, чтобы они остались живы и были счастливы.
Самолеты один за другим проносились над моей головой. Некоторые сбрасывали свой смертельный груз в юго-западной части города, другие на востоке. После каждого взрыва земля содрогалась. Я стоял на коленях, оглохший от грохота. Сирена продолжала выть. Но хотя я знал, что настал час моего расставания с этим миром и соединения со своей женой, смертельная бомба так и не падала.
Я посмотрел на темное небо.
– Ты забыл меня? Ты сказал, что придешь за мной на шестой день. Не заставляй меня переживать седьмой.
Ответом мне стал очередной взрыв и вой сирен – самодвижущиеся повозки неслись по улицам. Я слышал крики, которые становились все более отчаянными, и вопли ужаса, когда рухнул еще один дом.
– Я готов! – крикнул я, простирая руки. – Забери меня!
– Эй ты! – раздался крик. – Что, черт побери, ты тут делаешь?
Я поднял глаза. Рядом со мной стоял мужчина в темном пальто. На его голове была круглая металлическая шапка, а за поясом торчал короткий мушкет.
– Поднимайся и беги в убежище, быстро!
Я не мог собраться с мыслями.
– Мне суждено погибнуть сегодня, – пробормотал я, – и я не хочу, чтобы бомбы упали на убежище. Это единственное доброе дело, которое я могу сделать.
– Знаешь, парень, быстро поднимай свою задницу и иди помогать на Холлоуэй-стрит. Там десятки людей оказались под развалинами.
Я помнил эту старую дорогу близ южных ворот. Сейчас там поднимался огромный столб черного дыма. Я поблагодарил обратившегося ко мне человека, поднялся и поспешил туда, где раньше стояли ворота. Я слышал, как люди кричали, рыдали, громко отдавали приказы. Я подбежал к горящему зданию. На ступенях я увидел труп. Другой труп лежал в луже крови на обочине дороги. Мужчины в форме и шлемах тянули длинный шланг от большой повозки – они явно пылись бороться с огнем, охватившим соседний дом. Я услышал вой новых сирен – повозки подъезжали и отъезжали. На месте, где стоял дом, сейчас высилась груда осколков и битого кирпича. Еще две повозки проехали мимо меня, но свернули в переулок – обрушившийся дом перекрыл дорогу.
Когда я добежал до Холлоуэй-стрит, густой дым поднимался от пылающих домов. Дым был настолько черным, что оранжевые языки пламени были почти неразличимы. Мужчины в форме со шлангами направляли струи воды на пылающие крыши. Вокруг стояли люди. Я увидел на крыше соседнего дома людей, сбивавших пламя. Все кричали, чтобы они спускались. Кто-то застыл от ужаса.
Я продолжал пробираться поближе к домам. Из двери рядом со мной валил густой дым. Потом оттуда выскочил мужчина с головой, замотанной рубашкой.
– Кто-нибудь видел миссис Браун? – услышал я чей-то голос.
– Наверное, она все еще там…
– Боже, только не это! На этой неделе она присматривала за своими внуками, Кристофером и Фредериком.
Наверху от жара лопнуло окно. Потом еще одно. Шум стоял неимоверный – гудение пламени, звон стекла…
Я услышал голос брата: «Я знал, что сегодня умру. Хорошо, что я это знал. Потому что я понимал, что могу что-то сделать своей смертью». В моих ушах звучали слова капитана Кинросса: «Если им суждено было умереть, они сделали это достойно». И я ответил обоим, обратившись к Богу: «Господи, я готов! Позволь мне сделать доброе дело для жителей этого города!»
Я сорвал с себя старый камзол отца Харингтона и взял его правой рукой, чтобы прикрыть лицо. Люди вокруг меня кричали. Я почувствовал чью-то руку на плече, но сбросил ее, не оборачиваясь. Я бросился вперед и, пригнувшись, вбежал в горящее, заполненное дымом здание.
Жар был невыносимым. Дым разъедал глаза. Я почти ничего не видел. Слышалось только жуткое гудение пламени и треск дерева. Жар охватил меня со всех сторон. Кое-где в темноте пламя неожиданно вспыхивало особенно ярко, почувствовав приток свежего воздуха. Я всматривался в комнаты, но видел только белые, желтые, красные и оранжевые пятна. Я задыхался от дыма, глаза почти не открывались. Неожиданно наверху из мрака вырвались огненные шары и принялись лизать потолок. Я вспомнил дома, которые мы сжигали во Франции, вспомнил такой же гул пламени…
На первом этаже я никого не нашел и стал подниматься на второй. Я карабкался на коленях в обжигающем мраке. Дым стал особенно густым, а пламя металось с ужасающей скоростью. На втором этаже я наткнулся на закрытую дверь. Потянувшись, я нащупал ручку. Она так раскалилась, что я сразу же отдернул руку. Не открывая глаз, я попытался открыть дверь, замотав руку камзолом. Но дверь не открывалась – она была заперта. Я поднялся на ноги и налег на дверь плечом. Она не открылась. Собрав последние силы, я отступил и стал бить по ней ногами, пока она не подалась.
В комнате было полно дыма. Часть крыши обрушилась. В ярком пламени я увидел, что старая женщина с внуками жила именно здесь. Она была мертва. Пламя лизало ее одежду и волосы. Один из детей, совсем малыш, тоже был мертв. Он лежал рядом с бабушкой. Второй ребенок, лет девяти, находился далеко от меня. Он был жив, но его придавило упавшей балкой. Балка тоже пылала. Мальчик протянул ко мне руки, словно я мог спасти его. Я подбежал к нему, схватил его за руки и заглянул в глаза. То же выражение ужаса и надежды я видел когда-то в глазах Лазаря.
– Я помогу тебе. Как тебя зовут?
Он не слышал меня. Его рыдания превратились в вопли, но он по-прежнему тянул ко мне руки.
Я попытался поднять балку и освободить его, но она была слишком тяжелой. Я крикнул, чтобы мальчик не шевелился, что я его вытащу. Но дым попал мне в горло, и я закашлялся. Я почти ослеп и никак не мог найти того, что мне было нужно. В дыму я различил кресло и разбил его об пол У меня оказалась палка длиной примерно три фута. Я подсунул ее под тяжелую балку, надеясь приподнять ее и вытащить ребенка, но балка поднялась всего на пару дюймов. Потом мой рычаг сломался, и балка рухнула на ребенка. Раздался дикий вопль.
Глаза мальчика закрылись.
Вот что значит продать свою душу. Ты хочешь избавиться от хватки времени. Для чего? Ты не хочешь умереть – ты хочешь никогда не жить!
– Почему ты не даешь мне спасти этого несчастного ребенка? – Я смотрел на языки пламени. – Почему за все эти века борьбы и страданий ты так и не дал мне совершить ни одного доброго дела? Почему ты лишил меня этого?
Жар сделался невыносимым. Я кричал от боли, кожа на моем теле лопалась. Я вспомнил мученицу-протестантку Анну Аскью, которую сожгли за ее веру. Стойкость. Жизнь – это стойкость. За дверью я видел охваченную огнем лестницу. Пламя стремилось к небесам быстрее, чем я.
Я упал на колени и снова закашлялся. Вокруг меня дым и пламя слились в один черно-оранжевый вихрь. Я лежал на полу рядом с мертвым мальчиком, держа его руку в своей, надеясь, что он проведет меня туда, куда назначила нам смерть. Одежда моя загорелась.
И тут я услышал голос. Голос Фауста. Голос моей совести.
– Ты все еще веришь, что воля народа – воля Бога?
Собрав все свои силы в жару и пламени, я попытался ответить так же спокойно:
– Это не может быть волей Бога. Это воля человека – и это не одно и то же. – В этот момент загорелись волосы, а кожа начала истекать жиром. – Чего еще ты хочешь от меня?!
– Если это воля человека, – произнес голос, – а ты человек, значит, это твоя воля?
– Это не моя воля, – простонал я. – Человек человеку дьявол. Я давно это понял.
– И это все, что ты понял?
Боль от сгорающей кожи стала невыносимой.
– Я… я понял, что во всем есть темная и светлая сторона. Даже добрый человек не может сделать мир лучше для всех. Даже если все мужчины и женщины на Земле будут добры друг к другу, это продлится недолго. Это будет лишь момент, и момент совершенства пройдет быстро, как стрелка на часах проходит свой путь. И человечество вновь двинется к раздору и войне.
Я чувствовал себя очень странно – я лежал на полу, в дыму и пламени. Я видел, что руки мои охвачены огнем, но не чувствовал их. Я не мог пошевелиться.
– Что еще ты понял?
– Что людям отпущена ограниченная способность испытывать счастье и страдание. Если сделать их жизнь более роскошной и избавить их от боли, они найдут другие способы для страданий. А если сделать их несчастными, они научатся находить радость в мелочах.
– Говори еще…
– Я больше ничего не знаю…
– Ты знаешь тайну жизни. Ты познал ее, когда девушка отдала тебе что-то твое.
Девушка? Селия? Роза? Потом я вспомнил:
– Даже если весь мир станет дурным и все будут охвачены злом, даже один добрый поступок вернет мне веру в человечество.
– Твои шесть дней истекли, – произнес голос. – Хочешь ли ты пожелать что-нибудь, прежде чем предстанешь перед высшим судом?
Я посмотрел на горящие тела в охваченной огнем комнате.
– Я… я хотел бы помочь людям. Я хотел помогать, но так и не смог. Я был слабым, невежественным и бесполезным. Единственное доброе, что случалось в моей жизни, было добро, сделанное мне другими людьми.
– Встань, Джон, – произнес голос.
Я медленно поднялся. Это было легко. Боли я не испытывал. Я закрыл глаза.
– Скажи Богу то, что только что сказал мне.
– Богу?
– Да, Богу.
– Господь Бог всемогущий, Создатель земли и неба, я так хотел помогать другим, но оказался недостойной тварью. Ты знаешь, что мне это так и не удалось. Единственным добром в моей жизни было добро, сделанное мне другими. Мне так жаль. Ибо я знаю, что недостаточно всего лишь не грешить. Я должен был совершить поистине добрый поступок. Забери же меня сейчас – навсегда забери мою душу. Но, молю тебя, выслушай меня, ибо прошу я за своего брата, Уильяма. Он не всегда был чист и целомудрен. Он ел красное мясо в постные дни и часто не ходил в церковь. Но он был верен нам, самому себе и всем, кого любил. И не забудь душу доброй моей жены, Кэтрин, которая всегда любила меня, с самого первого дня, когда она танцевала для меня. Без нее я был бы самым несчастным и одиноким мужчиной на земле.
– Открой глаза, – приказал голос.
Я подчинился. Я увидел, что пламя вокруг меня стало не красным и оранжевым, но синим и зеленым. Это была синева неба и зелень холмов.
– Теперь ты видишь?
– Что?
– Ты – самый счастливый из людей.
– Счастливый? Но чем? Мне ничего не удалось.
– Джон, ты совершил самый добрый поступок, на какой только способен человек.
– Не смейся надо мной, прошу! Я не могу страдать сильнее!
– Ты сделал самый добрый поступок, на какой только способен человек, – но ты этого не понимаешь, потому что смотришь только на себя. Ты должен понять, что ты значил для других, и тогда ты поймешь истинную свою ценность.
– Но я был никем. Я ходил в лохмотьях. Я побирался. Я убил человека. Я не смог даже спасти этого мальчика.
– Нет, Джон. Ты спас их всех. Без тебя никто из них не обрел бы жизни.
– Молю тебя…
– У камней Скорхилла ты решил не возвращаться домой. Если бы ты поступил иначе, твоя семья погибла бы от чумы.
– Но именно это и произошло – я же видел развалины собственного дома.
– Нет, Джон, все они выжили. Все, с кем ты встретился за эти дни, жили благодаря тебе. Все они – твои потомки.
Я онемел.
– Твои сыновья добились процветания, и у них родились дети. И все они сохранили добрую память о тебе. Двенадцать твоих внуков поступали так же… И твои правнуки… Никто из тех, с кем ты встретился в других эпохах, не родился бы, если бы не твое решение. И если в этих людях ты почувствовал какое-то добро, то оно возникло благодаря тебе. Ты был прав: сами по себе люди не хороши и не плохи. Важно то, что они делают для других. Ты дал жизнь миллионам. Они не знают твоего имени, но твой добрый поступок будет жить вечно. И этого не изменить.
– Зверь мог бы поступить так же…
– Нет, Джон. Ты дал им силу. Трое твоих сыновей всегда вспоминали, как ты в минуты их отчаяния выводил их из дома, показывал ночное небо и говорил: «Посмотри! Полного мрака не существует. Всегда можно что-то рассмотреть, пусть даже всего лишь тень дерева». И каждый из них твердо поверил в твои слова. Они говорили это своим сыновьям и дочерям, а они своим детям. И утешение твое жило в веках. Некоторые забыли эти слова, другие их запомнили. Но все они научились у тебя, что нужно желать жизни и сражаться со всеми препятствиями.
Я слушал эти слова, а синее и зеленое пламя пылало вокруг меня. Душу мою охватило солнечное тепло. И я, наконец, понял великую тайну умирания. Человек может в конце пути победить тиранию времени. Я не знал, где лежит мое тело. Я не знал, осталось ли оно на крыше собора много лет назад, сгнило ли среди камней на пустоши. Я не знал, утонул ли я в Эксе или сгорел на Холлоуэй-стрит. Это было неважно. Синее пламя было не просто синевой неба, это была синева неба над Рейментом в весенний день. Зеленое пламя было зеленью травы на холмах в долине Рея. Я знал это место. Я видел свой дом. Я шел к нему по знакомой дороге и уже видел нашу соломенную крышу. Подходя, я увидел, как открывается дверь и выходит Кэтрин. Не скульптура в соборе – живая женщина из плоти и крови. Она посмотрела на меня, узнала и бросилась ко мне, подбирая юбки, чтобы они не мешали ей бежать. Наши взгляды встретились, и я обнял ее – обнял. Я сжал ее в объятиях, словно наши жизни соединились навечно. Вот что важно. И больше ничего. В этом объятии был наш конец и наше начало. Я знал: что бы ни случилось со мной до моей смерти, я совершил малый, но поистине великий добрый поступок.
Сноски
1
Горячий напиток из подслащенного молока с пряностями, створоженного вином или элем (примеч. пер.).
(обратно)2
Деталь головного убора (обычно академической шапочки (примеч. пер.).
(обратно)





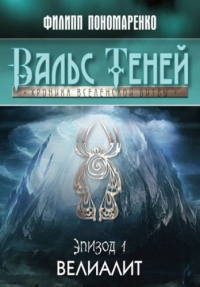





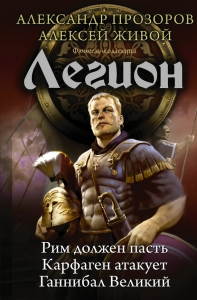
Комментарии к книге «Заложники времени», Ян Мортимер
Всего 0 комментариев