Юрий Гельман Перекресток Теней
Моей жене, невидимый подвиг которой достоин преклонения.
Пролог
«Единственный человек, с которым вы должны сравнивать себя — это вы в прошлом. И единственный человек, лучше которого вы должны быть — это вы сейчас»
Зигмунд ФрейдПредвидя и распределяя каждое событие в материальном мире, Бог, вероятней всего, предвидел и то, что человеку захочется докопаться до глубинной сути каждого явления. И Он придумал Время, неизбежное течение которого подрезает крылья любому человеческому устремлению.
Но человек на то и создан, чтобы искать, чтобы преодолевать и бороться. Искать истину, преодолевать непонимание на пути к ней, бороться на пути к ней же с собственными пороками. Возникает вопрос: где искать — в прошлом, настоящем или будущем?
Кому-то дано быть археологом, копаться в окаменелостях и выражать свое восхищение перед Временем ползанием на коленях. Кому-то дано быть реалистом сегодня — без оглядки на день вчерашний. Такие люди деятельны, кипучи, они заслуживают уважения, но не имеют перспектив. Есть и другие — им безразлично и вчера, и сегодня, они целиком устремлены в завтра. Они с легкостью делают прогнозы, заставляя остальных в эти прогнозы верить. Но Время настолько стремительно, что очень быстро превращает будущее в настоящее, а настоящее — в прошлое. И те, кто вчера фантазировал, сегодня подвергаются разочарованию, а завтра уже будут стоять на коленях. Так задумано свыше.
Но человек создан еще и для творчества. Счастливы те, кому подарена эта возможность: им вовсе не обязательно следить за временем, ибо настоящее искусство — вечно. Но они же по-своему и несчастны, поскольку обречены, как Сизиф, постоянно вкатывать на гору искусства свой талант, и в этом нелегком занятии далеко не каждому удаётся удержаться на вершине.
Следует помнить главное: время неумолимо, его нельзя остановить, замедлить, повернуть вспять. С ним вообще нужно быть предельно осторожным: однажды не заметишь — а оно уже прошло…
ГЛАВА 1
1
С утра было пасмурно. Угрюмые серые облака неподвижно и грузно висели над Парижем. И только после полудня они заметно поредели — будто чья-то магическая рука раздвинула завесу мрака, одаривая долгожданным светом и еще скупым мартовским теплом город и его жителей.
Закатное солнце, выглядывая из-за тучи, порванной в лоскуты, золотило верхушки деревьев. Темная крыша Собора Нотр-Дам, составленная из свинцовых пластин и от того похожая на рыбью чешую, то и дело мрачно поблескивала.
Мощный и величественный фасад, разделенный по вертикали на три части пилястрами, а по горизонтали — на три яруса галереями, молчаливо и хмуро взирал на толпу людей, собравшихся на паперти. Изображение Страшного суда над центральным входом, казалось кукольной миниатюрой по сравнению с тем, что должно было произойти здесь с минуты на минуту. И даже оскаленные морды гаргулий, венчавшие концы балок в верхней части собора, выглядели вовсе не устрашающе, а даже как-то смиренно.
А народ все прибывал. Деревянный помост, сколоченный накануне королевскими плотниками, еще был пуст, еще был гол и бесприютен, но вокруг него, как возле эпицентра какой-то магической энергии, уже гулко покачивалась возбужденная толпа горожан. За семь последних лет Париж и Франция видели всякое: и многочисленные аресты рыцарей храма, и предвзятое следствие, и утомительно долгие, а порой и скоротечные суды, чаще всего кончавшиеся кострами. Сегодня, восемнадцатого марта тысяча триста четырнадцатого года, должен был грянуть апофеоз сражения короля Филиппа и преданного ему папы Климента V против Ордена тамплиеров, должен был состояться заключительный акт грандиозного спектакля, разыгранного с коварной жестокостью, подлогом и предательством.
Незавидная участь тысяч людей, состоявших в Ордене и служивших ему — рыцарей, священников, сержантов, оруженосцев, пажей, охранников, солдат и ремесленников — уже давно была решена. Признавшим выдвинутые обвинения инквизиции под пытками — смертная казнь была заменена на различные сроки заключения, стойких и непокорных поборников веры и справедливости ожидало аутодафе.
И вот назрел финал. Оставалось разобраться с сановниками Ордена Храма, с верхушкой священного воинства, на протяжении последних двух веков державшего в руках весь христианский мир. В Жизоре, в королевском замке, ставшем для них тюрьмой, провели четверо заключенных последние несколько лет.
Они, эти четверо, были живы, это знали все, кому оставалась не безразличной судьба Ордена. Они были живы, но ни для кого кроме папских кардиналов-следователей не доступны. И вся Франция ждала развязки. Впрочем, предварительное решение судей — пожизненное заключение для тех, кто признал свою вину — давно было у всех на слуху. Вот только публичного объявления этого приговора до сих пор не было.
И вот, наконец, этот долгожданный день настал. Королевские и папские прислужники, подлостью и клеветой сфабриковавшие страшное обвинение, объявили этот день праздничным, будто собирались устроить на площади перед Собором Нотр-Дам настоящий карнавал. И народ живо откликнулся на событие. Каждому парижанину было интересно увидеть покаянные головы Великого магистра и его ближайших помощников, каждому хотелось услышать приговор для них, в справедливости которого почти никто не сомневался.
Им, простым людям, трудолюбивым и малограмотным, было невдомек, что несколько лет назад, когда по приказу короля Филиппа начались массовые аресты тамплиеров, почтенный архиепископ Нарбоннский, бывший хранителем королевской печати, отказался участвовать в этом позорном фарсе. Тогда король назначил хранителем печати своего самого продажного и лживого клеврета — Гийома де Ногарэ, готового на любые мерзости и преступления для того, чтобы заслужить благосклонность монарха. Ему под стать были помощники — личный духовник короля Гийом Эмбер, ставший великим инквизитором Франции, и брат королевского первого министра Ангерран де Мариньи, получивший титул епископа Санского.
Назначение руководителями процесса над тамплиерами этих отъявленных мерзавцев оправдало ожидания Филиппа. Низость и предательство стали фундаментом обвинений. Главными свидетелями тогда выступили несколько бывших храмовников, исключенных из Ордена за совершенные преступления. Среди них особой подлостью выделялся Эскен де Флойран — бывший приор Монфоконский, приговоренный в свое время Великим магистром за убийство одного из рыцарей к пожизненному заключению. Теперь, желая отомстить, он охотно подтверждал немыслимые обвинения инквизиторов и, стараясь угодить королевскому канцлеру, сам выдумывал еще более страшные грехи, приписывая их своим бывшим соратникам.
Впрочем, через три года после ареста рыцарей Храма, папа Климент добился того, чтобы следствие вели не инквизиторы короля, а представители церкви, преданные интересам христианства. Теперь Великий магистр и его сподвижники ожидали проявления доброй воли со стороны папы, которому иногда удавалось отстоять свои взгляды по некоторым из еще нерешенных вопросов в отношениях между церковью и королем. Папа в последнее время выказывал все меньше склонности возвращаться к затянувшемуся и дурно пахнущему судебному процессу, но заключенные об этом могли только догадываться.
Познакомившись с материалами дела, составленными прежними следователями, Климент признал обвинения лживыми или, по крайней мере, преувеличенными. Однако испытывая сильное давление со стороны Филиппа, которому он был обязан своим избранием, папа все время пребывал в нерешительности, к тому же совершенно теряясь перед этим государем, достаточно дерзким и циничным. Папа был способен лишь на слабые попытки сопротивления, вроде мелких бунтов и коротких возражений, не получавших дальнейшего развития. Он бесконечно вилял, трясясь за свой трон и предпочитая праздные разговоры с кардиналами решительным действиям. Он не мог определиться, к какой стороне ему лучше примкнуть, поскольку магистр Ордена Храма в свою очередь тоже доставлял ему беспокойство. Видя, как волны клеветы накатывают, словно по волшебству, на его Орден, Жак де Моле требовал у папы учинить настоящее, справедливое расследование.
Без проволочек и крючкотворства все же не обошлось, процесс в общей сложности длился долгих семь лет, и все эти годы высших руководителей Ордена держали в самых страшных подземельях — сначала в Шиноне, потом в королевском замке в Жизоре, ставшем для тамплиеров тюрьмой — и там, и тут подвергая пыткам и всяческим унижениям, поддерживая жизнь в изувеченных телах лишь хлебом и водой.
«Едут! Едут!» — пробежало по толпе. — «Везут!»
И действительно, по рю Арколь к паперти Собора Нотр-Дам медленно двигалась длинная процессия: четыре закрытых повозки с судьями и членами папской комиссии, за ними в богато украшенной повозке представители короля Гийом де Ногаре и Ангерран де Мариньи, затем в окружении солдат еще две повозки — открытых для всеобщего обозрения. На каждой из них, стоя на коленях, находилось по двое заключенных — сгорбленных и жалких.
Впереди торжественной процессии, раздвигая плотный строй зевак, шли королевские стражники и угрожающе размахивали булавами. Народ, сгрудившийся перед Собором, с криками шарахался в стороны, пропуская обоз. Наконец, достигнув паперти, процессия остановилась.
Из передних повозок в своих фиолетовых и черных сутанах с дзимаррами и фашьями, с малиновыми биреттами на головах выбрались несколько епископов и прелатов — самодовольных и важных. Неторопливо и вальяжно поднялись они на помост, встали, образуя полукруг и с настороженностью оглядывая толпу. Во главе этой группы находился Арно д'Ош, епископ Альбанский, назначенный папой старшим для проведения следствия. Рядом с ним встали Гильом де Бофе — епископ Парижа, архиепископ Нарбоннский, епископы Байё, Менда и Лиможа, мэтр Матвей Неаполитанский — апостолический нотарий и архидьякон Руана, архидьяконы Тренто и Магеллона, а также настоятель церкви в Экс-ан-Прованс. Тут же встали и Ногарэ с Мариньи.
Вслед за судьями, звеня цепями на руках и ногах, на помост поднялись и обвиняемые тамплиеры — Великий магистр Ордена Жак де Моле, командор Нормандии Жоффруа де Шарне, командор Аквитании и Пуату Жоффруа де Гонневиль и, наконец, Гуго де Перо, досмотрщик Франции. Все четверо были уже не молоды, а годы, проведенные в тюрьме, унижения и пытки, которым эти люди подвергались, сделали их даже похожими друг на друга. На каждом была изорванная одежда, у всех были длинные и нечесанные седые волосы на голове и в бороде.
Помогая им взойти на помост, солдаты, совершенно не стыдясь, проявляли грубость и пренебрежение, на которое бывшие рыцари уже мало обращали внимания. Их поставили лицом к толпе народа, в шаге друг от друга, чтобы каждого можно было хорошо рассмотреть. Все четверо производили удручающее впечатление. От их былого величия не осталось и следа.
— Еретики! — раздались крики из толпы. — Кровопийцы! Так вам и надо! Поделом!
Через минуту для оглашения приговора вперед выступил епископ Альбанский, желчный человек, основной чертой которого давно стало недоверие к каждому ближнему. Сутана висела на его плечах, как на вешалке, плохо скрывая болезненную худобу епископа. Тень волнения пробежала по лицу священника. Дрожащими руками поправив на голове биретту, он развернул перед собой лист пергамента и, подождав, пока народ притихнет, торжественно произнес:
— В этот знаменательный для всего христианского мира день от имени суда Святой Церкви Христовой я заявляю, что присутствующие здесь Жак де Моле, Жоффруа де Шарне, Гуго де Перо и Жоффруа де Гонневиль, занимавшие ранее различные посты в иерархии Ордена тамплиеров, отныне объявляются преступниками перед Церковью и государством. В ходе следствия, которое мне было поручено возглавить, с полной достоверностью установлено, что руководители ордена — являются жестокими людьми, еретиками и святотатцами. Каждого, кто, обнаружив творящееся беззаконие, пытался выйти из Ордена, они убивали и хоронили тайно. Было также доказано, что властители Ордена учили обесчещенных ими женщин делать аборты и тайком убивать явившихся на свет младенцев. Будучи приверженцами еретических учений, члены Ордена презирали папу и отрицали авторитет Церкви, насмехались над ее таинствами, особенно над покаянием и исповедью, и всего лишь делали вид, что соблюдают церковные ритуалы. Кроме того, Великий магистр и его приближенные постоянно предавались разврату в самых разнузданных формах, они поклонялись дьяволу, совершали дикие обряды содомии и скотоложества. А те из братьев, кто осмеливался осудить их, наказывались пожизненным заключением. Их многочисленные храмы — давно стали вместилищем всех мыслимых мерзостей и пороков. Их иконы кощунственны, оскорбительны для Церкви и противоречат христианским догмам. И, кроме того, ни один порок, ни одно бесчинство, совершенное во имя Ордена, не считалось у них грехом. — Он сделал паузу, набирая воздух в легкие. Потом его кашляющий голос снова полетел над головами. — Исходя из вышесказанного, суд Святой Церкви своим постановлением признает достаточность предъявленных обвинений и объявляет названных людей полностью виновными в перечисленных тяжких преступлениях. С данным постановлением каждый из обвиняемых был заранее ознакомлен и каждый же перед лицом следственного комитета безоговорочно признал свою вину. Таким образом, опираясь на каноническое и божествнное право, комиссия из епископов и прелатов, возглавляемая мною, по зрелом размышлении приговорила названных людей, а именно Жака де Моле, Жоффруа де Шарне, Гуго де Перо и Жоффруа де Гонневиля к пожизненному заключению в тюрьме самого строгого содержания. Местом отбывания наказания назначен Жизор. И да свершится божественное правосудие!
Ропот прокатился над площадью перед Собором — то ли недовольства приговором, то ли одобрения. В любом случае то, чего так долго ждали тысячи людей, свершилось.
— По закону, — передохнув, добавил епископ Альбанский, — каждому из заключенных предоставляется последнее слово. И да будет это словом раскаяния!
Он повернулся к узникам, чьи темные силуэты, будто каменные изваяния, возвышались позади него. Взгляд епископа остановился на высокой, не смотря ни на что сохранившей статность, фигуре Великого магистра. Жаку де Моле недавно исполнилось шестьдесят восемь лет, но в его глазах не было подавленности, напротив, они теперь сверкали решимостью и гневом. Потрясая цепями, старик сделал твердый шаг к краю эшафота. Присутствующие судьи и весь Париж замерли в ожидании услышать от де Моле признания своей вины. И осуждающим, и сочувствующим не терпелось узнать правду, и они хорошо понимали, что в такую минуту даже самый стойкий узник не сможет врать. Над площадью перед Собором воцарилась напряженная тишина. И эту тишину прорезал громкий и властный, не сломленный пытками голос Великого магистра.
— В этот ужасный день, можно сказать, в последние минуты своей жизни я должен обличить всю несправедливость лжи и дать истине восторжествовать. Сим я объявляю, пред небом и землею, что, к стыду своему, совершил самое тяжкое из всех преступлений — признал тёмные деяния, приписываемые Ордену. Однако сегодня истина обязывает меня заявить о его невиновности. Ради того, чтобы избежать мучительной боли и угодить моим палачам, мне пришлось сознаться в том, чего от меня требовали. Это вы сказали, что я сознался! — повернувшись, крикнул он в лицо Гийома де Ногаре. — Но разве это я сознался на вашем допросе? Разве это я взял на душу чудовищный и нелепый плод вашей фантазии? Нет, мессиры! — Де Моле медленно обвел взглядом всех священников. — Это пытка вопрошала, а боль отвечала! Я хорошо знаю о муках, которые испытали все те, в ком было мужество отказаться от подобных признаний. Но отвратительное действо, разыгравшееся перед моими очами, не позволяет мне пасть ещё ниже и подкрепить старую ложь новой. Клянусь своей жизнью, ставшей столь ненавистной мне, что отрекаюсь от всего сказанного. Чего я добьюсь, продлив свои жалкие дни, коль скоро я трачу их лишь на клевету?
Последние слова Жак де Моле произнес в зловещей тишине. Все вокруг замерли, пораженные таким поворотом дела. Епископы нарушили полукруг, сгрудились в бесформенную группу, стали нервно переглядываться и шептаться. Они явно были не готовы к подобной выходке Великого магистра, они растерялись.
Первым нашелся Гильом де Бофе.
— Сеньор! — воскликнул он звонким голосом, боком подступая к узнику и прижимая сутану к животу. Епископ Парижа был невысокого роста и слегка полноват, и смотрел на Жака де Моле снизу вверх. — Не далее как вчера я слышал от вас иные слова, дававшие вам право надеяться на лучшую участь.
Великий магистр повернул лицо к народу и, глядя поверх фигуры Гильома де Бофе, произнес:
— Я давно догадывался, а сегодня понял, что надеяться на лучшую участь в моем положении уже не имеет смысла. Предавшие меня однажды папа и король не достойны моей мольбы. Добавлю только, что ведомые мною тамплиеры всегда были добрыми христианами, которые никогда не бежали от врага и принимали смерть во имя Бога, справедливости и чести. Так поступаю и я!
Толпа у помоста загудела. Теперь явно сочувственные возгласы раздавались со всех сторон.
— А как считают ваши соратники? — отделившись от группы священников, осторожно спросил епископ Альбанский.
— Спросите у них сами, — ответил Жак де Моле, гордо подняв голову. — Больше я вам ничего не скажу.
Но не успел глава следственной комиссии повернуться к остальным заключенным, как Жоффруа де Шарне, командор Нормандии и брат дофина Оверенского, встал рядом с Великим магистром. В лязге цепей руки двух узников сжались в сильном мужском пожатии.
— Как! И вы, сеньор? — воскликнул епископ. — Разве вы не знаете, что король собирался через некоторое время смягчить ваше наказание?
— Знаю! Но в сравнении с милостью короля мне дороже честь!
— А что же вы, господа? — Епископ Альбанский повернулся к двум оставшимся фигурам.
Жоффруа де Гонневиль и Гуго де Перо оставались на месте, молча опустив головы.
— Перед лицом Святой Церкви, перед всем народом Франции вы признаете свою вину? — прямо спросил епископ.
Бывшие рыцари даже не пошевелились.
— Молчание мы расцениваем, как согласие, — удовлетворенно сказал священник.
— Вот истинно верное решение! — воскликнул Гильом де Бофе.
Толпа зашумела еще больше. Священники, тронутые речью Великого магистра и поступком его друга, наскоро перебросились несколькими фразами. Им не хотелось решать судьбу повторно отрекшихся от своих показаний рыцарей именно сейчас. Наступило некоторое замешательство. Подозвав к себе парижского прево, епископ Альбанский дал ему четкие указания: поместить Жака де Моле и Жоффруа де Шарне под стражу до следующего дня.
— Завтра мы обстоятельней рассмотрим дело этих двух глупцов и примем окончательное решение на их счет, — добавил он громко, чтобы его слышали не только рядом, но и в толпе. — А на сегодня все кончено.
Священники гуськом начали спускаться с помоста. Тем временем начальник королевской стражи зычным голосом приказал собравшимся на площади расходиться, и солдаты принялись дружно расталкивать горожан. Люди отступали неохотно, каждому хотелось обсудить с ближним увиденное. Кое-где завязались потасовки. Крики и ругань раздавались в толпе. Прибытие процессии на площадь полчаса назад выглядело значительным и помпезным, удаление ее превратилось в хаос. Верховые сновали между людей, опрокидывая многих наземь, рассыпая направо и налево удары плетьми. Люди кричали от гнева и боли, лошади хрипели и ржали. Повозки разворачивались, наталкиваясь друг на друга и создавая заторы.
И вдруг в толпу на горячем коне врезался неизвестный всадник. На нем был красный табар — короткий плащ, расшитый серебряной нитью, надетый поверх пурпуана из вишневого бархата. Он проложил себе дорогу к опустевшему помосту, проворно поднялся над бурлящим морем парижан и поднял руку. Его заметили, и постепенно вокруг всё стихло. Люди узнали в этом человеке королевского герольда.
Епископы еще не успели взобраться в свои повозки, и теперь стояли внизу, напряженно ожидая объявления. Так же замерли четверо узников, исподлобья наблюдая за происходящим.
Герольд, наслаждаясь произведенным впечатлением, дождался тишины и громогласным голосом произнес:
— Его Величество король Франции Филипп, которому доложили о случившемся здесь, высочайше повелевает двух рыцарей тамплиеров, а именно Жака де Моле и Жоффруа де Шарне, как еретиков, признавшихся в злодеяниях, но отрекшихся от своих показаний, казнить путем предания огню! Приговор Его Величества окончательный и обжалованию уполномоченными папы не подлежит. Исполнить приговор приказано сего же дня, восемнадцатого марта! — Он обвел взглядом притихших людей, достал из-за пазухи свернутый лист, скрепленный печатью, потом обратился к епископу Альбанскому: — Вот королевский указ, ваше преосвященство, извольте взглянуть.
Ошарашенный епископ развернул пергамент, медленно, стараясь не пропустить ни одного слова, прочитал написанное торопливым почерком. Потом поднял глаза, переглянулся с другими священниками.
— Каким образом указ издан так быстро? Мы даже не успели разойтись…
— Мне только приказано немедленно доставить, ваше преосвященство, — ответил герольд.
— Он сошел с ума… — пробормотал Гильом де Бофе. — Возвести на костер крестного отца своей дочери!..
— На всё воля божья! — сухо ответил епископ Альбанский.
…Тем же вечером на небольшом пятачке у оконечности острова Сите, ниже Королевских садов, напротив набережной Августинцев наспех был установлен эшафот. Двух приговоренных к смерти рыцарей храма привели к нему по-прежнему закованными в цепи.
Последний раз прошел по Парижу Великий магистр Ордена тамплиеров — босой, в колпаке из желтой льняной ткани, на котором были изображены черти и языки пламени. Еще так недавно благородного воина сопровождали слуги и оруженосцы, а теперь впереди него с торжественной медлительностью, рвущей душу, шли около сотни угольщиков с тюками соломы и вязанками хвороста для костра и двенадцать священников в белых облачениях. Замыкали шествие доминиканцы в черных сутанах и капюшонах, закрывающих лица.
Небо над городом было темным и беззвездным, лишь чадящие свечи многочисленных факелов разрывали зловещую мглу над страшным местом казни.
Народу собралось столько, что казалось, еще немного — и островок под тяжестью толпы погрузится в Сену. По головам людей метались отсветы огня, то и дело выхватывая из полумрака удивленные и скорбные лица.
Проявляя неожиданное сочувствие, солдаты королевской стражи помогли двум рыцарям сойти с повозок и, поддерживая их под локти, взвели на эшафот. Находившиеся тут же священники, мимо которых провели Жака де Моле и Жоффруа де Шарне, торопливо накладывали на них крестное знамение, шепча молитвы.
Оба приговоренных к смерти шли с опущенными головами, но ступали твердо, были спокойны и мужественны. Взойдя на помост, оба выпрямились и оглядели несметную толпу народа, собравшегося вокруг. Из мрака наступившего вечера на рыцарей смотрели тысячи пар глаз.
Увидев, что костер готов, Великий магистр сказал:
— Снимите цепи, я разденусь сам!
К нему тут же подступили двое солдат. От волнения они перепутали ключи и не сразу отперли замки, скреплявшие путы на ногах и руках узника.
Жак де Моле разделся без всякого страха и трепета, оставшись в одной камизе — нательной рубахе, доходящей почти до колен. Когда-то она была белой, но темно-рыжие пятна засохшей крови на груди и плечах давно поменяли ее цвет, и эти пятна в мерцающем свете факелов увидели все. Освободившись от оков, Великий магистр выпрямился с достоинством настоящего благородного рыцаря и теперь стоял свободно, как подобало мужественному и незаурядному человеку. Ни на миг он не задрожал, ни на миг не проявил слабости, чего несколько лет добивались от него и чего желали враги.
Не мешкая, его взяли двое палачей, чтобы привязать к столбу, и он без боязни позволил им это сделать. Но когда те попытались связать ему руки за спиной, Великий магистр попросил:
— Сеньоры, по крайней мере, позвольте мне соединить ладони и обратить молитву к Богу, ибо настало время и пора. Я вижу здесь свой приговор, где мне надлежит добровольно умереть.
Палачи не посмели перечить и оставили руки Жака де Моле свободными.
— Благодарю вас, — произнес он, и голос его неожиданно дрогнул. Собрав последние силы, Великий магистр продолжил: — Один только Бог знает, кто виновен и кто грешен. И вскоре придет беда для тех, кто несправедливо осудил нас. Бог отомстит за нашу смерть. Все, кто делал нам вред, понесут страдание за нас. Филипп и Климент, не пройдет и года, как я призову вас на суд Божий! И да будет проклято потомство Филиппа до тринадцатого колена. Не быть Капетингам на троне Франции! В этой вере я хочу умереть. И прошу вас, чтобы к Деве Марии, каковая родила Господа Христа, обратили мое лицо.
Просьбу Жака де Моле выполнили, повернув его лицом к Собору Нотр-Дам. Изумление и восхищение собравшейся публики превратилось в сплошной гул голосов.
Затем на костер поднялся Жоффруа де Шарне. Его раздели палачи, привязали к другому столбу, рядом с Великим магистром.
— Я преклоняюсь перед вашим мужеством, мессир! — сказал он. — Вы — великий человек и великий мученик! И я счастлив разделить с вами последние минуты!
— Благодарю вас, Жоффруа, — тихо ответил Жак де Моле. — Всем нам зачтется на небесах. А смерть, мой друг, это только начало…
Вдруг из монотонного ропота толпы, окружавшей место аутодафе, раздался чей-то внятный крик, заставивший всех прислушаться. Через несколько слов стало понятно, что голос принадлежит какому-то трубадуру, по случайности или же намеренно примкнувшему к сотням парижан в этот вечер. Над головами зевак звучали свежие стихи, вероятно, сочиненные по случаю увиденного.
«Бог всемогущий слишком далеко, Сумели западню устроить без него, В ней головы сложили кувшины, что по воду ходили, И тамплиеры в ту же яму угодили. Расплату понесли они за преступленья, Не получив у судей снисхожденья, А может быть, наветы им послало провиденье… Осуждены людьми гореть в кострах, Чтоб удостоиться венца на небесах».Уже не гул, а рев одобрения прокатился вокруг эшафота. Но этот рев, равно как и с опозданием возникшее сочувствие парижан, уже не могли остановить маховик запущенного механизма. Спектакль должен был завершиться хорошо известным финалом.
Тем временем палачи заложили проход к столбам тюками соломы, набросали поверх них связки хвороста, так что зрителям оставались видны только бюсты двух седоволосых мучеников. Вскоре эти тюки подожгли со всех сторон. Едким, тяжелым дымом заволокло столбы и фигуры, и пламя принялось за свою зловещую трапезу. Оно ослепительно полыхало, хищными языками поджаривая темное парижское небо, отвоевывая у темноты клочья освещенного пространства. Теперь это был единственный источник света во мраке ночи — света, отправляющего души во мрак.
Через несколько минут все было кончено…
2
Утро без настроения — это даже не катастрофа. Это особое состояние души, когда любой шорох может стать раздражителем, — не то что случайный телефонный звонок или голос на лестничной площадке. Это действительно особое состояние души, когда не только посторонний звук, но даже запах или пустяковый предмет, обнаруженный не на своем месте, — могут вызвать прилив таких эмоций, которые способны смести всех и всё на своем пути. И хорошо еще, что у одинокой женщины подобное состояние чаще всего проходит, оставаясь незамеченным для окружающих. Зная свои «возможности», одинокая женщина предпочитает оставаться дома — собственно, в одиночестве. Конечно, когда не нужно идти на работу.
Было воскресенье. И было именно такое утро. Не то что без настроения — оно было, это настроение, но какое! Накануне вечером в разгар любимой передачи «Что? Где? Когда?» тихо погас экран телевизора. Никого не мучил, а просто скончался в один момент — и все.
Ночь была наполнена отсутствием сна, столпотворением мыслей о никчемности всей жизни, стойким желанием снова закурить и отчаянной борьбой против собственного желания.
Она не курила уже два года. Мужественно продержалась почти семьсот пятьдесят дней — считала намеренно, отмечая в календарике. Для чего? Не ответила бы сама. Не рекорд ведь какой-то побить хотела. Когда бросала, не думала о рекордах. Просто поняла, что ее дети — старшеклассники — как-то с пренебрежением стали поглядывать в ее сторону. То ли от того, что вид у нее замороченный был, то ли — того хуже — от запаха дыма, от перегара табачного, въевшегося уже в одежду. И бросила. Сказала себе, дала установку — и бросила. Смогла.
…За окном разлаписто падал снег. Ложился на мокрый асфальт и таял. Прибавлял южному городу грязи. Может быть, и хотел задержаться, привнося в декабрь красоту, да никак не мог. Такая уж была зима. Из года в год повторялась. Но в окно смотреть было некогда, да и незачем. Нужно было срочно что-то предпринимать. Не хватало еще на новый год без телевизора остаться! Тогда вообще — хоть в петлю полезай.
Во вчерашней газете, как всегда по субботам, целая колонка была посвящена всяким объявлениям.
«Не стану мудрить, — подумала она. — Наберу первый подходящий номер».
Но прежде чем позвонить, почему-то посмотрелась в зеркало. Так, наверное, делают все женщины…
— Ну, что скажешь? — спросила, глядя в глаза той, что была так похожа. Такая же фигура, овальное лицо, серо-зелено-голубые глаза — это в зависимости от освещения, светлые волосы до плеч — пшеничные с легкой рыжиной. И еще взгляд — какой-то замкнутый, едва ли не обреченный.
— А ты что скажешь? — спросила та, что была напротив. Потом скривила мину и отвернулась.
— Слушаю. — Мужской голос был с бархатистым оттенком, опереточный какой-то.
— Я по объявлению. У меня телевизор перестал работать.
— Как именно перестал? Какая у вас модель?
Положив трубку на рычаги, она тут же принялась ждать. Мастер пообещал подойти в течение часа. Деньги приготовила разными купюрами, чтобы тому не пришлось искать сдачу. Положила в карман халата. Не полезет же она при чужом человеке в шкаф на заветную полочку.
Вяло просмотрела субботнюю газету. На всех страницах город отчитывался за истекший год, готовился к празднику. И вдруг вспомнила, что через три дня у нее начинались каникулы. Точнее, не у нее, а в школе. Но ведь учителей тоже ждала неделя отдыха.
«Классно! — подумала она. — Можно будет выспаться! И сходить на каток. И перечитать что-нибудь из Набокова. И повязать свитер, наконец».
И когда дверной звонок заикнулся о госте, ее настроение уже заметно отличалось от прежнего, утреннего. В лучшую сторону отличалось.
Мужчина средних лет — обладатель бархатистого голоса — стоял на пороге. Пузатый коричневый портфель — потертый, из тех, старых, с пружинной застежкой — с заметной грузностью оттягивал его руку.
Женщина принуждено улыбнулась.
— Входите. — Одним жестом она показала и «наконец-то», и «проходите», и «курточку можно на вешалку».
Телемастер вошел, торопливо разделся в прихожей, скромно оставив свои полусапожки у самой двери.
Хозяйка провела его в комнату.
— Вот, — указала она глазами.
— Хорошо, сейчас посмотрим, — сказал он.
Он отыскал на стене розетку, спрятавшуюся за шторой, подключил к ней телевизор, потом раскрыл портфель, и через несколько секунд уже погрузился в свои исследования.
Хозяйка получила возможность рассмотреть мужчину. Она делала это с осторожным любопытством. Не каждый день в ее доме появлялся представитель сильной половины человечества. Далеко не каждый день. В последний раз это было… не вспомнить уже с точностью, когда. Лет семь, наверное, назад… Или восемь… Так, эпизод…
Телемастер был довольно высок, аккуратно, но скромно одет и не полон. Она терпеть не могла полных мужчин. Женщин объемных не любила, а мужчин и подавно. Лицо у гостя было слегка вытянутым, с острым подбородком и глубокой морщиной в виде буквы «У» над переносицей. Обыкновенное лицо, даже симпатичное. Правда, прическа — удлиненные волосы, скрывающие уши, что-то в стиле семидесятых — не понравилась хозяйке. Показалась неопрятной. И было еще что-то, что незаметно отталкивало ее от этого человека. Она чувствовала, что в ней как-то исподволь, практически беспричинно нарастает внутренняя неприязнь к гостю. Но никак не могла понять — почему. Силилась понять, и не могла. И стояла поодаль, наблюдая за манипуляциями телемастера. Какая к черту неприязнь? При чем тут это? Главное, чтобы сделал все, как надо.
А тот на удивление управился очень скоро. Телевизор — ее старенький Samsung — ожил, расцветил комнату яркими красками. От сердца хозяйки отхлынула волна беспокойства.
— Сколько я должна?
— Пятьдесят. Это минимальная такса. Здесь работы-то было всего ничего.
— Спасибо. Вы вернули меня к жизни, — сказала она и подумала: «Зачем эти лишние откровения?»
— Не вас, а его, — хмуро, без улыбки ответил телемастер и направился в прихожую.
Он быстро оделся — привычно, без лишних движений и суеты. Потом вынул из портмоне визитку и со словами «может, пригодится когда-нибудь» протянул хозяйке. Еще через полминуты — она слышала — за ним затворились двери лифта.
Тогда она вернулась в комнату, схватила пульт дистанционного управления и принялась гонять своего любимого «корейца» по всем каналам. И вдруг бросила пульт на диван, шмыгнула к балкону и растворила дверь. Холодный воздух декабрьского утра хлынул в квартиру.
Она вдруг поняла, почему этот человек вызывал в ней неприязнь. От него пахло бензином.
* * *
Интернет не «пАрил», как бывало в другие вечера. У нее была куча закладок — почти все на литературных сайтах. И она перескакивала с одной закладки на другую — порой вчитываясь в произведения неизвестных авторов, но чаще по первым строкам понимая, что графоманов в сети на несколько порядков больше, чем достойных писателей. Это удручало. Ей, учителю русской литературы, было как-то неловко от того, что среди сотен и тысяч имен почти не на ком было остановиться.
…Зазвонил телефон. Точнее, начал бодренько исполнять «Final countdown». Она вздрогнула от неожиданности, не сразу попала пальцем на кнопку ответа.
— Добрый вечер, Инна Васильевна.
— Добрый.
— Это из родительского комитета вас беспокоят, мама Сережи Литвинова.
— А, да, припоминаю. Зоя Федоровна, кажется?
— Да, вы не ошиблись. Я вот по какому поводу. Мы тут с родителями небольшой вечер придумали. Совместный — с ребятами девятых классов. Не все, конечно, согласились, а так, человек двенадцать. Уже столики заказали в кафе «Парус». Знаете? Так вот ребята в один голос требуют, чтобы мы вас пригласили. И мне поручили позвонить. Вы не против?
— ПризнАюсь, я несколько озадачена, — ответила Инна Васильевна.
— Я понимаю. Мы решили: пусть лучше вместе с родителями посидят, старый год проводят, так сказать, чем они сами где-то соберутся, да и начудят чего-нибудь. А так — сухое вино разрешим, не малолетки все же. Так вы как?
— Даже не знаю.
— Они вас очень любят. И мой, да и другие — все говорят, что вы для них самая лучшая.
— Спасибо, Зоя Федоровна, я подумаю.
— Тридцатого, в семь вечера. Мы вас будем ждать.
— Я постараюсь.
Она отложила телефон. Повозила стрелочку «мышки» по странице — без внимания, чисто механически.
«Любят они меня», — подумала с грустью.
Нет, что-то в жизни было не так. Что-то в мире было не так. Как-то по-другому устроено, не по-человечески, не по-доброму — не для счастья, а для сплошного преодоления…
И она открыла экспресс-панель в Опере, где одна из закладок называлась Стихи. ру. Любимого автора у нее не было — так, листала одного за другим. Иногда находила что-то для души, чаще — разочаровывалась.
Ей хотелось чего-то такого… такого — она сама не знала какого. Именно в эту минуту хотелось. Чтобы чьи-то слова задели, захватили ее целиком, заставили всколыхнуться океан души, подняли в нем волну светлой грусти, понимания, стремления жить дальше. И она подсознательно чувствовала, что именно сегодня что-то подобное случится.
Гул подземелий страха, вой одичавших нимф. У Харона взмокла рубаха, у Христа покосился нимб. Исковеркано все, измято, перепробовано на вкус. Но не стало больше понятно то, о чем я писать решусь. Насыщенье духовной пищей не приходит, как ни тужись. И чадит стихов пепелище, отравляя спокойную жизнь. Из души — как со дна колодца — зачерпну родниковых слов и продолжу стихами бороться за земную свою любовь.Дочитав стихотворение до конца, она остановилась, замерла. На странице автора фото не было. Просто Андрей Глыбов, и все. Ни возраста, ни города.
Вернулась к тем же строкам, перечитала еще раз. Да, это было оно — то самое, что она ждала! То самое… Автор подгонял слова друг к другу плотно — будто каменщик, кладущий кирпичи, он не оставлял даже малейшей щели, из которой бы сквозило графоманство.
И уже через несколько секунд, открывая и глотая одно стихотворение за другим, она перечитала все двадцать или чуть больше, что автор поместил под общим названием «Избранное». И поняла, что этому человеку она бы без всякого стеснения смогла открыть душу — даже самые потаенные ее уголки…
* * *
Она носилась с этой мыслью дня два. Знавшим ее людям, будь они внимательней, стало бы заметно ее внутреннее волнение, просветлившее лицо, придавшее особенный, какой-то мистический блеск ее зеленым глазам.
Она по-прежнему вела уроки литературы в девятых и десятых классах, и даже забыла, что эти самые старшеклассники пригласили ее в кафе. Еще совсем недавно она колебалась — пойти на этот предновогодний вечер или нет. Но сегодня, в последний день четверти, прощаясь с учениками, она уже твердо знала, что ни на какую встречу тридцатого декабря не пойдет — сошлется на недомогание, вот и все. Она нашла, с кем встречать новый год! И пусть это был виртуальный образ — пусть! Пусть со стороны это будет выглядеть глупо — пусть! Ее не смущало теперь ничего. И мысль, возникшая из космоса и просочившаяся в ее сознание, прочно засела в нем, требуя скорейшего воплощения в действие.
И вечером, собравшись с духом, Инна снова зашла на страницу Андрея Глыбова, где ниже его имени синим цветом выделялась ссылка: «Отправить письмо автору». При наведении на нее «мышкой» буквы краснели, будто призывным огнем привлекая тех, кому захотелось пообщаться с поэтом.
«Здравствуйте, Андрей, — написала Инна. — Здесь не указано Ваше отчество, поэтому обращаюсь к Вам по имени. Впрочем, если автор отчества не указал, значит, он еще молод душой и телом. Не так ли? Пишу Вам потому, что, случайно наткнувшись на Ваши стихи, уже не смогла от них оторваться. Да, поверьте, они вошли прямо в мое сердце. Я по профессии учитель русской литературы, и за свою жизнь прочитала много хороших стихов. Вы понимаете, что это весьма внушительный список авторов — по программе и без нее. Однако хочу заметить, что давно не испытывала такого душевного подъема от поэзии, как после прочтения Ваших строк. Я будто нашла ответы на свои больные житейские вопросы. Мне тридцать семь лет, и вопросов, как нетрудно догадаться, в жизни хватает. Спасибо Вам. Не знаю, где Вы живете — далеко ли, близко ли от меня. И даже не хочу знать. Это совершенно не важно. Это не принципиально. Интернет преодолевает любые расстояния и соединяет самых далеких людей. Знайте же, что в моем лице Вы приобрели самого благодарного читателя. Буду очень рада, если Вы ответите мне. С наилучшими пожеланиями, Инна Журавлева».
Затем она ввела четыре цифры защитного кода, указала свой электронный адрес и отправила письмо.
Сердце женщины трепетало, будто она готовилась к своему первому свиданию. Она откинулась на спинку стула и несколько минут сидела, прикрыв глаза.
«Что это я? — спросила сама себя. — Совсем голову потеряла, что ли? Как девчонка, ей богу…»
И она отправилась на кухню пить чай. Около восьми вечера у нее был такой ритуал — выпить чашку чая с кусочком твердого сыра и медом.
Голубые с золотинками языки пламени жадно лизали кремовое дно чайника. Тот сипел, но терпеливо ждал, когда его снимут с огня.
Прошло не более четверти часа. Инна вымыла чашку, блюдце, нож, водрузила их на подвесную сушилку.
А в комнате ее ждал сюрприз. И от этого сюрприза сердце женщины чуть не выскочило из груди. В электронном почтовом ящике «лежало» письмо. Открыв его, она обомлела: ей написал Андрей Глыбов.
«Здравствуйте, Инна.
Спасибо за откровенное содержание Вашего письма. Мне очень приятно, что находятся люди, которым по душе мое творчество. Вы без стеснения написали о своем возрасте. Когда я узнал, что мы ровесники, понял: это неожиданное знакомство и общение не только обещает быть приятным, но и, вероятно, длительным. Тем более что мы с Вами не только одновременно родились, выросли и получили образование в одной стране, но и были воспитаны на одних и тех же ценностях.
В связи со всем сказанным, предлагаю сразу перейти на «ты». Идет?
Ты сказала, что даже не хочешь знать, где я живу. Что ж, не стану говорить. Просто скажу несколько слов о себе — в надежде то же самое узнать о тебе, Инна.
Итак, я родился по одним гороскопам в последний день Водолея, по другим — в первый день Рыб. В общем, ни рыба, ни мясо. Хотя в каждом из нас есть черты всего Зодиака, и спорить с этим не стОит.
Женат, есть дочь старшеклассница.
Творчеством занимаюсь с детства, причем, к этому меня никто не понукал — пришло само и не отпускает уже тридцать лет. За эти годы успел написать несколько сотен стихотворений, которые иногда выставляю на разных сайтах.
Инна, пишешь ли ты сама, и если да, то — что? Очень хочется верить, что ты не только читатель.
Ну, пока все. С наилучшими пожеланиями, Андрей».
«Господи! — подумалось ей. — Неужели это правда? Мне ответил настоящий писатель!»
Снова захотелось курить. Нужно было как-то унять руки. И сигарета на какой-то миг показалась самым подходящим предметом. Нет, глупости, еще чего!
Она прочитала письмо еще раз и тут же — счастливая и окрыленная — стала писать новое.
«Здравствуй, Андрей!
Я тронута твоим вниманием. Не каждый день судьба дарит встречи с таким поэтом, да ещё и позволившим сразу перейти на «ты»!.. У меня это первый раз, волнуюсь, и вообще…
Сама я… давно ничего не пишу, просто очень люблю читать. Все жанры, кроме ужасов.
Очень хотела бы почитать твои стихи. Как можно больше. Ты знаешь, они действительно меня поразили в самое сердце. Раньше я кому-то признавалась, что и сама пишу. Иногда. Теперь просто стыдно об этом говорить. Я ведь писала, только когда любила, и любовь не реализовывалась во встречи, объятия, поцелуи — вообще, в какие-либо отношения. Всё это и рождало стихи, даже не моя голова, а что-то такое… не знаю, что. Пространство… они там витали, и я выхватывала их, возвышенная любовью. Потом прошло. Приземлилась.
По гороскопу я типичная Дева, могу, долготерпеливо и многократно прощая, нести свою ношу, но если кто-то начинает меня обижать, лицемерить и плевать в лицо, переполняя чашу терпения, у меня опускаются руки, я просто теряюсь иногда, но всё же нахожу в себе силы, перешагиваю и иду дальше. Вспыльчивая ещё бываю… Нет, раньше бывала…
Не знаю, что ещё написать о себе. И так уже много… Всего тебе доброго! Спокойной ночи».
ГЛАВА 2
1
— Все кончено, мессир! — Тибо сжал губы, преданно глядя в глаза Венсану де Брие. — Их души уже на небесах…
Рыцарь поднялся с табурета и молча перекрестился. Потом тяжелой поступью прошелся по комнате к маленькому темному окну. Остановился в глубоком раздумье, обхватив пальцами правой руки подбородок. И так стоял несколько долгих минут, не обращая внимания на сержанта Тибо Мореля, который шесть последних лет был его оруженосцем.
Венсан де Брие ждал эту весть, он хорошо знал, какой она будет, и все равно в его глазах мелькнули искры отчаяния. Тибо не решался прерывать размышления своего хозяина, хотя затянувшаяся тишина становилась все более тягостной.
— Мессир, — наконец, не выдержал он, — как же так! Почему все получилось именно так? И что теперь будет с нами?
Венсан де Брие ответил не сразу. Был он высок, статен, могуч в плечах. Темно-русые локоны до плеч с ручейками ранней седины придавали его облику вид благородный и романтичный, к тому же молодцеватый и даже щегольски неотразимый. Прямой нос и открытый, цепкий взгляд свидетельствовали о натуре целеустремленной и бесстрашной.
Если бы не обет целомудрия, данный им в свое время при вступлении в Орден, граф Венсан де Брие со своей внешностью наверняка бы пользовался немалым успехом у женщин. Но он избрал иной путь — путь монаха-воина, путь, принесший ему славу в боях и уважение среди равных. Но теперь этот путь привел рыцаря к тупику и заставлял пересмотреть прежние взгляды на жизнь, заставлял искать достойное его продолжение. Преданный слуга смотрел на него и понимал это.
— Что будет с нами — зависит от нас самих, — тихо ответил де Брие своему бывшему оруженосцу. — А почему получилось именно так — знает один только Господь. Всё, что произошло с Орденом, вероятно, должно было произойти. Где-то и когда-то была допущена ошибка, роковая ошибка. И теперь за нее заплачена высокая цена, слишком высокая цена…
— И Великий магистр, и де Шарне держались мужественно, как подобает настоящим героям! — воскликнул Тибо. — Я протиснулся в первый ряд, я видел всё до мельчайших подробностей… Оттуда, из огня, не слышно было ни одного стона, ни одного крика…
— Высокая цена, мой друг, это не только смерть де Моле, — хмуро сказал бывший рыцарь, поворачиваясь к товарищу и продолжая мысль. — А сотни других, сгоревших раньше? А десятки умерших от пыток в подземельях инквизиции?
— Да, вы правы, мессир. Но в чем была ошибка? Я солдат, я умею хорошо драться, и доказывал вам это не один раз, но я не умею глубоко размышлять, и я не совсем понимаю, как столь могучую и грозную силу, какой был Орден, смогли так быстро уничтожить. Поясните мне, если вы склонны к беседе в этот поздний час, и простите великодушно мое невежество.
— Да, время действительно позднее, — согласился де Брие. — Должно быть, уже далеко за полночь. Но разве можно уснуть, когда в голове роятся сотни мыслей.
— Вот и я о том же.
Граф с теплотой посмотрел на верного оруженосца. Тибо стоял у двери и, комкая в руках шляпу, преданно смотрел на хозяина. Был он невысокого роста, но крепкого телосложения — широкоплечий, с короткими руками и шеей, с круглым лицом и слегка близко посаженными голубыми глазами. Свою малограмотность он с лихвой компенсировал преданностью, внимательным отношением к своим обязанностям и к жизни вообще, из которой постоянно черпал не только подсказки, но знания и опыт.
— Пойдем вниз, — сказал де Брие. — Помянем наших товарищей. Полагаю, хозяин харчевни еще не спит.
— Когда я пришел, он еще крутился в кухне, — подтвердил Тибо.
— Вот и славно!
Они спустились со второго этажа. В харчевне Одноглазого Жака на улице Жюиври, где с недавнего времени бывший тамплиер с оруженосцем под видом купца средней руки и его компаньона снимали комнату, было немноголюдно. В питейном зале сидели двое изрядно захмелевших лавочников с соседней улицы и по очереди что-то рассказывали молодой шлюхе, расположившейся между ними. Той очевидно давно надоели байки пьяных мужчин, но она не покидала их в надежде все-таки заработать. Увидев вошедших, шлюха встрепенулась, быстрым и метким взглядом оценивая свои перспективы.
Была она удивительно красива, в ее облике угадывались черты не только французские, а и какие-то едва уловимые штрихи, присущие древнему народу, стоявшему у истоков цивилизации. И эта смесь, придававшая крови девушки одновременно стремительный разбег и природную сдержанность, украшала не только ее лицо, но и осанку, жесты и даже голос. Губы ее были сочными, брови тонкими, а ресницы настолько длинны и мохнаты, что казалось, ими можно пользоваться, как веером.
Венсан де Брие и Тибо присели за стол у стены. К ним тут же приблизился хозяин харчевни — полноватый мужчина неопределенного возраста, с пухлыми пальцами рук и с косой черной повязкой на лице, закрывавшей пустую правую глазницу.
— Не ожидал, что господа постояльцы станут ужинать так поздно, — сказал он фальцетом, в котором звучали нотки предупредительности. — Что прикажете подать? Есть жаркое из говядины, колбаса, сыр, есть суп из требухи и сала с петрушкой.
— Подай-ка нам два полштофа гренаша, к нему сыра да очищенного миндаля, — сказал де Брие.
— Это все?
— Наедаться перед сном — дурная привычка, любезный Жак, — вежливо ответил бывший рыцарь. — Нам с товарищем просто захотелось выпить.
— Как прикажете.
Одноглазый метнулся в кухню отдать распоряжения, и уже через минуту все заказанное было у постояльцев на столе.
Тем временем шлюха, которая уже давно не сводила глаз с Венсана де Брие, поднялась со своего места и собиралась выбраться из-за стола.
— Эй, милашка, ты куда это? — воскликнул один из ее временных кавалеров, едва разворачиваясь на стуле.
— Мне что, и облегчиться уже нельзя? — грубо ответила девушка. — Обойдетесь пока без меня.
Пьяные согласно закивали головами и снова стали разливать в свои кружки вино из большого кувшина, стоявшего перед ними и бывшего наполовину пустым. Девушка же, обогнув несколько столов, приблизилась к постояльцам харчевни. В ее пестром, слегка аляповатом наряде, преобладали кружева и ленты самых разных цветов и оттенков, в роскошные черные волосы была вплетена красная роза. В темных бархатных глазах девушки отражались настольные свечи, придавая им игривую загадочность.
— Мальчики, — развязно сказала она, подсаживаясь на свободный стул, — я готова помочь вам развлечься. Недорого, всего пять су с человека. Тем более что, как я слышала, вы здесь живете, и никуда не нужно идти.
Де Брие посмотрел на нее строго — как мог бы посмотреть на свою заблудшую дочь горячо любящий отец. Она была в том прекрасном возрасте, когда юность наивно полагает, что ей подвластно всё на свете.
— Тебя как зовут, дитя мое? И сколько тебе лет? — спросил он с неожиданной усмешкой и теплотой в голосе.
— Меня зовут Эстель, мой повелитель. А лет мне вполне достаточно, чтобы вы не считали меня ребенком.
— И давно ты научилась так отвечать на вопросы?
— С тех пор, как мне их стали задавать, — уверенно ответила девушка.
— И все же, — настаивал де Брие.
— Ну, хорошо, девятнадцать! Устраивает это вас?
— Это устраивало бы меня в том случае, если бы мне, например, тоже было девятнадцать или двадцать лет, и вся жизнь, как бескрайняя дорога, простиралась бы передо мной. А мне, Звездочка, уже давно вдвое больше, и конец моей дороги с каждым годом приближается все стремительней.
— Почему вы так говорите, сеньор? Вы не выглядите старым и немощным. И почему вы назвали меня Звездочкой?
— Потому что так переводится твое имя. Ты действительно похожа на звездочку — такая же яркая и красивая. Правда, звезды иногда падают с неба куда-то за горизонт. Ты сама, наверное, когда-нибудь видела это. А мне не хочется, чтобы ты падала, мне не хочется, чтобы ты бесследно исчезла с небосвода.
Девушка порозовела. Ее, должно быть, никогда бы не задели какие-нибудь пошлости или непристойности, вплетенные собеседниками в привычный разговор. Но странные слова незнакомца смутили Эстель, как может смущать оступившегося справедливый укор близкого и любящего человека.
— Вы, наверное, ученый, сеньор? — робко предположила она. — Вы умеете так красиво говорить…
— Я просто кое-что видел в этой жизни, — ответил де Брие, — и кое-чему действительно научился…
— А ваш спутник? Он все время молчит.
— Это мой приказчик, ему положено молчать и прислушиваться к распоряжениям хозяина.
— Теперь понятно, почему он так смотрит на меня, — сказала девушка.
— А как он смотрит? — Де Брие повернулся к Тибо. — Что в нем особенного?
— В его глазах я давно вижу огоньки желания, которым что-то мешает вырваться наружу.
— У тебя не по годам опытный взгляд, — заметил де Брие. — Однако мне кажется, что в глазах моего спутника в этот вечер мелькают совсем иные огоньки. Не так ли, Тибо?
— Да уж, хозяин, — вздохнул бывший оруженосец. — Нет повода веселиться.
— Вот видишь, Эстель, мы просто спустились сюда выпить и погрустить вдвоем, — сказал де Брие. — Ты напрасно покинула тех двух парней. Впрочем, они уже допились до безобразия и едва ли будут способны воспользоваться твоими услугами.
— У вас что-то случилось? — осторожно спросила девушка, не обращая внимания на последние слова незнакомца. — Может быть, я действительно могла бы вас как-то утешить? Иногда присутствие женщины способно встряхнуть любого мужчину и даже вывести его из отчаяния.
— Послушай, Эстель, тебе правда девятнадцать лет? Ты рассуждаешь, как взрослая женщина.
— Правда. Но я тоже успела кое-что повидать и кое-чему научиться.
— А знаешь, ты определенно начинаешь мне нравиться! — воскликнул де Брие.
— Я рада, сеньор! Я только не знаю, как к вам обращаться.
— Если хочешь, зови меня дядей Венсаном. Идет?
— Я согласна. А тебя я буду звать просто Тибо. — Она повернулась к молчаливому спутнику де Брие. — Ты не против?
Тот кивнул головой, отпил из своей бутылки, потом откинулся на спинку стула и принял вид равнодушный и флегматичный.
— Ну, а теперь можно мне узнать, что у вас случилось? — не унималась девушка. — И знаете, дядя Венсан, я проголодалась и тоже чего-нибудь бы поела и выпила.
— А ты, я смотрю, своего не упустишь!
Девушка хихикнула и бесцеремонно уставилась на де Брие.
— Хорошо, Эстель, я закажу тебе ужин, — сказал тот, — но только при одном условии: ты пересядешь за другой стол и не будешь нам докучать. А потом пойдешь домой. Ты ведь живешь где-нибудь поблизости, не так ли? Не станешь же ты всю ночь напролет шататься по Парижу в поисках клиента!
— Хм, как скажете, дядя Венсан! — Было заметно, что девушка слегка расстроилась. — Я живу через две улицы отсюда и завтра утром обязательно приду сюда, чтобы снова увидеться с вами. И это — мое условие.
— А ты смелая! — воскликнул де Брие. — Ставить условия незнакомому человеку — это в наше время граничит с безумием.
— Вы с Тибо не похожи на инквизиторов, — уверенно ответила Эстель. — И на тайных агентов парижской полиции тоже не похожи. А значит, мне нечего вас бояться.
— Тогда последний вопрос. — Де Брие переглянулся с оруженосцем. — Скажи, на кого же, по-твоему, мы похожи?
Девушка пристально посмотрела в глаза собеседнику, задумалась, потом, слегка пожав плечом, сказала:
— Если бы у вас, дядя Венсан, была борода… вы походили бы на рыцаря тамплиера…
* * *
— Семь лет назад, когда это все началось, я был помощником прецептора Франции Жерара де Вийе. Меня как раз только что назначили на эту должность, и у меня появилась возможность приблизиться к тайнам, которые раньше были недоступны. Так вот, всё, что происходило в королевском дворце и в государстве, мне было хорошо известно. Например, то, что к тому времени не просто оскудела, а полностью истощилась казна, что Филипп всячески исхитрялся перед кредиторами и пытался сводить концы с концами всеми доступными и недоступными способами. Даже непомерные налоги, которые король тогда ввел, не могли спасти Филиппа от разорения. И однажды он предпринял совершенно отчаянный шаг — приказал чеканить золотые и серебряные монеты, облегчив их вес. Это и привело к народному возмущению. Ты, Тибо, тогда служил на Кипре и плохо знал, что происходит.
— Я был в Тунисе, мессир, — поправил сержант. — Но до нас доходили какие-то известия.
— Какая разница, где ты был! Ты просил рассказать, так слушай.
— Простите, мессир. — Тибо покорно склонил голову. — Я никогда не спрашивал вас ни о чем, потому что не моё дело сплетничать и размышлять над этим. Но сегодня я хочу понять и разобраться. И я больше не буду перебивать вас.
— Так вот, сначала на улицы вышли парижане, потом поднялась и вся страна. Испуганному королю пришлось укрыться в нашей крепости Тампль. Жак де Моле, старинный друг Филиппа и крестный отец его дочери, конечно, не отказался приютить опального владыку и даже послал десять рыцарей на подавление мятежа. Ты хорошо знаешь, Тибо, что в нашем уставе есть очень важный пункт: никогда не выступать с оружием против христиан. — Оруженосец кивнул. — Но королю было невдомек, почему отряд воинов Христа не разгоняет толпу агрессивно настроенных людей, а просто стоит в оцеплении вокруг Тампля, не применяя оружие. Тогда шли переговоры, мы всячески стремились решить вопрос мирным путем. А тем временем, чтобы скрасить пребывание Филиппа в непривычной обстановке, по сути — под стражей, и чтобы поднять ему настроение, Великий магистр водил друга и родственника по коридорам и комнатам, поднимался с ним на крепостные стены с высокими бойницами и опускался в подземелья, искусно устроенные в замке. И там, в тайных подвалах, Филипп Красивый впервые в жизни увидел несметные богатства Ордена, накопленные почти за двести лет. Я, мой друг, был там, и я хорошо знаю, как это было.
— Вот бы и мне хоть одним глазком взглянуть на это! — с завистью воскликнул Тибо.
— Для этого, мой друг, нужно быть или Великим магистром, или королем Франции, — усмехнулся рыцарь. — Или, по крайней мере, Венсаном де Брие.
— Нет уж, мессир, увольте! — воскликнул Тибо. — По мне уж лучше оставаться простым оруженосцем и беседовать с вами, чем предстать на небе перед Святым Петром и отвечать на его вопросы. Да и королем быть — я думаю, незавидная участь…
— Да, ты прав, мой друг, — согласился де Брие. — Быть монархом — означает при внешней роскоши и всесильности всю жизнь оставаться жертвой обстоятельств, заложником пороков, интриг и страстей, окружающих трон. Монархом может быть либо незаурядная личность, могучая и твердая, как скала, либо хитрец, обладающий редкой изворотливостью. А Филипп — как раз ни то и ни другое. Что делать, король слаб, как и все простые люди… Я хорошо помню, как его алчный взор уперся в кованые сундуки, набитые золотом, в кожаные мешки с бриллиантами, сапфирами, рубинами, изумрудами. Полагаю, в ту же минуту Филипп понял, что нужно сделать все возможное и невозможное, лишь бы заполучить все эти богатства нашего Ордена. И никакая дружба, никакое крестное родство по дочери не смогло тогда уберечь Филиппа от рокового шага. Ты ведь знаешь, что, вернувшись в свой дворец после восстания, он поспешил обвинить Орден в ереси. Тот самый Орден, который спрятал его и помог уберечь трон и саму жизнь.
— Но ведь это предательство, мессир!
— Иначе не назовешь, — кивнул де Брие. — Это не просто предательство, это — удар в спину.
— А дальше?
— Дальше, чтобы выдвинуть обвинение, требовалось согласие самого папы, и Филипп добился от Климента разрешения на роспуск Ордена.
— Но как, мессир? Орден ведь всегда отстаивал интересы Церкви!
— Да, это так, но Филипп пошел на хитрость, он объяснил папе, что задолжал Ордену громадную сумму денег, вернуть которую в силу различных причин не может. Но если сокровища тамплиеров перейдут в его руки, сказал он, то половину своего долга король отдаст Клименту. Словом, они быстро нашли общий язык.
— А Великий магистр? Как же он?
— Жак де Моле был хорошим воином и организатором, Тибо, и ты это знаешь не хуже меня. Но вместе с тем он был слишком порядочным, доверчивым человеком. И в этом — его роковая ошибка. Он и мысли не допускал, что его могут предать столь коварным образом.
— И все же, мессир, как же он позволил себя арестовать?
— Всё было устроено с величайшими предосторожностями, а свершилось настолько внезапно и стремительно, что именно это и принесло королю успех. Понятно, что какие-то слухи о предстоящих арестах могли просочиться в ряды тамплиеров и дойти до ушей Великого магистра. Возможно, так и было. Скорее всего, так и было. — Де Брие сделал многозначительную паузу, отпил вина, пожевал сыра. — Но он до самого конца еще верил, что ничего страшного не произойдет — ни с ним лично, ни с Орденом. А Филипп, хорошо понимая, что прежде всего соперника нужно обезглавить, и опасаясь, что де Моле может ускользнуть, совершил абсолютно бесчестный поступок, впрочем, весьма ему свойственный. За день до всеобщего ареста во дворце состоялись похороны внезапно скончавшейся невестки короля. Их-то и решил использовать Филипп. Как родственника, крестного отца дочери, он пригласил Великого магистра на церемонию погребения. Жак де Моле в ту скорбную минуту даже нес погребальное покрывало, что всегда считалось знаком особого доверия. А на другой день, в пятницу, тринадцатого октября, его вместе с шестью десятками руководителей Ордена взяли под стражу по приказу коварного короля!.. А дальше… дальше ты знаешь…
— И сегодня, вернее, уже вчера всё кончилось…
Венсан де Брие внимательно посмотрел на бывшего оруженосца. Тибо был честным парнем и грустил совершенно искренне.
— Не всё кончилось, мой друг, — тихо сказал рыцарь. — Орден живет, и кое-что еще происходит…
— Что вы имеете в виду, мессир? — встрепенулся оруженосец. — Я не понимаю.
— Тебе пока и не нужно понимать. Скажу лишь, что далеко не все наши братья арестованы, многим удалось избежать преследований. Кто-то отправился в чужие земли, кто-то, как мы с тобой, остались во Франции. И мы будем продолжать выполнять свою миссию, святую миссию…
— Но как? Орден объявлен вне закона, как же мы будем… Нас тоже арестуют и в лучшем случае на долгие годы бросят в какое-нибудь подземелье.
— Наивный мой друг Тибо! Кто тебе сказал, что мы по-прежнему будем разъезжать на лошадях в белых плащах с красными крестами? Кто тебе сказал, что меч, лук и копье будут по-прежнему нашим оружием?
— А что же тогда?
— Отныне, мой друг, Орден переходит в скрытное положение, полностью сохраняя устав и принципы, которыми руководствовался два столетия до этого. У нас по-прежнему есть люди, способные вести за собой, у нас найдутся и те, кто с открытым сердцем выступит на защиту прежних идеалов.
— А вы, мессир…
— Полагаю, ты теперь догадался, что я — один из тех, а ты, надеюсь, станешь одним из этих.
— Не сомневайтесь в моей преданности, мессир! — с воодушевлением произнес Тибо. — За вами я готов пойти хоть на край света!
— Не исключено, что именно это нам предстоит сделать, — тихо сказал де Брие, положив свою тяжелую руку на плечо бывшего оруженосца.
2
Время — это такая категория… растяжимая и непредсказуемая. Оно — как кошка: его нельзя приручить. Оно течет с убийственной монотонностью, и ничего с этим не поделаешь. Время — это единственная данность, в которую человек не в состоянии всунуть свой любопытный нос.
Некоторые, правда, пытаются как-то изменить свои неизбежные отношения со временем: лукавят, пробуют намеренно отстать от него, полагая, что таким образом замедляют течение своей жизни, — и кажутся смешными; другие, напротив, пытаются его опередить, обогнать, забежать наперед и встречать время на каком-то обозначенном рубеже, наивно считая себя победителями, — эти также смешны, как и первые, и в той же степени вызывают сочувствие у тех, кто просто стремится от времени не отставать, иными словами — идти с ним в ногу.
…Следующие три дня тянулись, как тринадцать. Или тридцать… Не шли, а именно тянулись.
Уже начались каникулы, уже можно было полностью расслабиться, если не считать каких-то приготовлений — закупок на несколько дней, уборки в квартире, и еще пусть небольшой, но все-таки ёлки. Инна всегда ставила ее посреди комнаты — чтобы замечать постоянно, чтобы не нарошно, а как бы случайно цеплять локтем веточки, проходя мимо, и поправлять соскользнувший на пол «дождик». А иначе — как? Это ведь драгоценный лучик света прямо из детства, из того детства, когда, оберегаемый родителями, ты совершенно не знал никаких забот, когда запах мандаринов и хвои становился запахом исполнения желаний и соответственно — счастья. Оказывается, у счастья есть запах!
Тридцатого утром позвонила мама Сережи Литвинова.
— Извините, я не смогу прийти, — сказала Инна. — У меня изменились обстоятельства. Передайте ребятам самые лучшие пожелания…
Даже покраснела от вранья, но ничего не смогла с собой поделать. Вот бывает же так — не хочется никуда идти, никого видеть. А вместо этого — запереться в четырех стенах, где каждый звук — родной, где даже в темноте любой предмет — безошибочно наощупь. Иными словами — побыть с собой наедине, и больше ничего. Вот только наедине с мыслями — это уже не наедине, это уже с кем-то. С тем, о ком мысли…
Маялась. Приготовила «Оливье», «Селедку под шубой», запекла мясо в духовке — много, как на двоих… Потом посмотрела на всё это, пожала плечами — когда съем? Запихнула в холодильник, и в кухне стало как-то пусто.
Торт печь в этот раз не стала, решилась купить в кулинарии. Этикетку заветную достала с названием — у кого-то на Дне рождения от коробки отскоблила и спрятала. Понравился очень: с черносливом и орехами, весь шоколадный такой, монолитный, будто крепость…
Телевизор не выключался весь день. Какой-то итоговый концерт молодых талантов шел — не за что зацепиться, не на ком глаз остановить: то девицы полуголые с вульгарными лицами и движениями, то парни уж слишком смазливые все. Сама себе удивлялась: раньше ведь эстрада нравилась. Гм, так то — раньше. «Иронию судьбы» в сто тридцатый раз посмотрела. Скорее, прослушала, хотя и так все эпизоды знала наизусть. Все равно улыбалась в некоторых местах. И сердце замирало — от особенной какой-то романтики, особенной ауры этого фильма.
Еще в электронную почту заглядывала раз десять — ящик был пуст, практически стерилен…
«Дура… Размечталась… Сказано же тебе: семья, дочка. Интересно, что у него на праздник наготовлено? Дура…»
В половине восьмого вечера вышла прогуляться — район тихий, почти заповедный, не страшно одной. Думала купить сигарет, потопталась возле киоска — передумала, спохватилась, ушла.
Снега не было, уже не было. Растаял и истлел, превратив город в грязную лачугу… Такая зима, что поделаешь, не привыкать. Старую песню вспомнила: «Снег кружится, летает, летает, и поземкою клубя, заметает зима, заметает всё, что было до тебя…» Так — тихо, почти шепотом напевая, к своему дому и подошла. С настроением, в общем-то, не безнадежным. А возле подъезда — пьяный какой-то крутится. Не местный, не сосед. Расхристанный, и взгляд нагло-мутный какой-то. Заблудился, что ли? Может, «Третью улицу строителей» ищет?
— Эй, дамочка, вы в этом подъезде живете?
— Нет!
И прошла мимо. Испугалась. Круг сделала: на улицу вышла, дом обогнула и снова к подъезду вернулась. Никого. Торопливо код набрала, озираясь, и бегом — в лифт, из лифта — домой. Фу, знакомый запах родного жилья! Тепло, сухо.
Переоделась, в кухню пошла. Есть не хотелось, только чаем согреться. Пока чайник терпел и не сигналил — включила компьютер, а там!..
«Здравствуй, Инна!
Вот собрался и решил еще в этом году порадовать тебя. Ты ведь просила еще что-то почитать, посылаю с удовольствием. Пусть эта зимняя подборка станет моим скромным подарком тебе к Новому году. Не знаю, какая у тебя в городе стоит погода, а у нас зима пока не радует. В детстве, помню, снега бывало по пояс — это мне, первокласснику, а взрослым, наверное, по колено. У меня были санки, с которых я позднее, лет в десять, снял спинку, чтобы разгоняться и катиться лёжа. Мама переживала, а папа сказал, что я всё делаю правильно. Они на работе были, когда я со школы приходил. Поем быстро — и во двор. А там нас было несколько однолеток, и у каждого санки. Так мы ходили в одно место — «спуск» называлось: там горка такая длинная, метров сто, наверное, будет. А внизу она как бы соприкасалась с дорогой, по которой ездили большегрузные автомобили. Там поворот был, и машины притормаживали. А мы-то с горки без тормозов летим! Головой вперед! И перед самой дорогой носками ботинок за снег укатанный цепляемся, чтобы свернуть и под колёса машине не попасть. А тормозить — не получается! Адреналину было — полные штаны! И снежной крошки — полные ботинки, а щеки — как свеклой натерты у каждого. И не болел никто. Сейчас там по-другому всё, перестроили. А вообще, детство — это единственная тема в жизни, которую никогда не устанешь вспоминать и которую, как правило, окутывает светлая грусть. И грусть эта от того, что наше ожидание взрослости в те годы, ожидание самостоятельности еще не знало постоянных примесей этой взрослой жизни в виде ответственности, долга или каждодневных забот, о которых никто из нас даже не подозревал. И это был период настоящего счастья, о котором сейчас и хочется грустить.
Впрочем, что это я? Скоро праздник — рубеж обновления календаря и обновления жизни. Хочу тебе пожелать, чтобы твои обновления были направлены только в сторону позитива, и никуда больше. Ты тонкий и умный человек — я это чувствую и вижу. Спасибо тебе за то, что написала мне. Спасибо Господу за то, что подарил мне общение с тобой. Здоровья, исполнения желаний и любви тебе, Инна, в новом году!»
И стихи — много!
Прочитала залпом, как говорится, не переводя дыхания — как одно сплошное стихотворение. Они-то и цеплялись друг за дружку — темой, образами, выстраивались в целую подборку. Опомнилась, когда чайник на кухне охрип и чуть не расплакался.
«Ой, что это я? Так и пожар можно сделать! Дура!»
Потом неспешно, обстоятельно, с паузами — каждое стихотворение. По второму кругу. И по третьему… А они короткие, строк по двенадцать-двадцать всего. Не любил, видно, Андрей Глыбов растекаться мысью по древу. И так всё понятно было, успевал главное сказать…
Разъезжен снег, разбросан по кюветам, изрезан чёрным скальпелем дорог, освобождён от девственного цвета и от прикосновения продрог — прикосновенья гусениц к асфальту, прикосновенья тысячи подошв, размыт цивилизованною фальшью, как горстку пепла размывает дождь. И я стою, уже не веря в чудо, ловя губами сырость января. Теперь мой город — грязная лачуга, испачканная ретушью заря. И я стою, лишившийся наследства — той чистоты, струящейся в тетрадь, которая вросла корнями в детство, и без которой страшно умирать…Опешила. Остановилась здесь, перевела дыхание. «Господи! Как такое возможно вообще? — подумала вдруг. — И я ведь сегодня, вот только что, город с лачугой сравнивала… Это мистика какая-то… Или телепатия… Или еще что-то…»
Она читала стихи, и они застревали в ее воображении цветными картинками — близкими, понятными, осязаемыми. И оставались жить в нем, полностью совпадая по группе крови… Через полчаса некоторые строки уже просто знала наизусть. И радовалась, как девчонка радовалась — что они у нее есть…
* * *
«Ты рассказал мне о детстве… Вот так просто взял — и рассказал. Мне, в общем-то, незнакомому человеку, поведал какие-то тайны своей души. Один отдельный эпизод — а как трогательно… Спасибо.
Я тронута и растеряна тем, что ты вообще написал мне. Так я должна была начать ответ на твоё первое письмо. Но ты написал снова, и я… почувствовала, что почему-то тебе нужна… Зачем? Я уже привыкла быть одна, давно научилась закрываться в своей раковине, быть и казаться всем грубой, шершавой, обросшей мхом и водорослями. Утрирую, конечно, но всё же… Я будто вижу, как ты, читая эти строки, пытаешься мне возразить. Как ни уверяй меня, я не хочу казаться никому человеком. Мне так проще жить. Говорят: вот этот человек, эта женщина, Инна эта, то да сё, — а я не обращаю внимания. Это про Инну какую-то говорят, про другую, а я-то — раковина, камень, подорожник. У меня 25 жизней. Я знаю, что никогда не умру, как бы меня ни убивали. Всё преимущество теперешнего воплощения только лишь в том, что я могу тебе писать, но кто его знает, возможно, и камень может общаться — по-своему? Душа ведь у всего на свете есть. Бывает, что служит и он — камень — орудием или великой наградой в руках Господа. Может, и мы — всего лишь исполнение Его предназначения? Не хочется думать, что орудие или наказание… лучше бы сладкая награда…
С первого твоего письма я хожу и в любую свободную минуту говорю с тобой. Глупо, да? Уж слишком я наивна, да? Для учителя неприемлемо? Когда я читаю твои письма, душа моя отзывается под левой ключицей сладкой болью. Этого не надо пугаться, это пройдёт… Меня посещает состояние непонятных вибраций. Они похожи на то, как бывает перед началом концерта симфонического оркестра. Музыканты вразнобой пробуют инструменты — зазвучит то скрипка, то флейта, приглушённый гул зрительного зала, дирижёр стучит своей палочкой по пюпитру, вот-вот погаснет в зале свет, вспыхнут софиты, и начнётся сказка… и вот меня словно настраивают на этот оркестр, проверяют звучание, и диссонанс отзывается болью в затылке и в стенке аорты. Такое ощущение времени и пространства у меня сейчас. Короче, улетевшая дурочка, никогда не слышавшая добрых слов. Пора ставить диагноз: Чучело, в котором только — солома, шляпа, крест, а всё остальное — фантазии, фантазии и ничего от реальной жизни. И сомневаюсь, что я тебе по-настоящему нужна.
Вот чувствую, что сейчас разоткровенничаюсь… но… хочется, и ничего с собой поделать не могу… Мне в жизни моей всегда хотелось и всегда не хватало любви, внимания и понимания. Мои родители в годы детства моего и юности были очень занятыми людьми. Мама — учительница в интернате для отсталых детей, она уходила на работу в 7 утра и возвращалась в 10 вечера — измотанная и нервная. Папа был директором предприятия слепых, всё время до и после работы что-то строил, выбивал цемент, кирпич, советовался с областным начальством. Все каникулы я проводила в деревне у папиной старшей сестры. Меня, конечно, любили по-своему, заботились, но свободы я с детства накушалась вдоволь. Мужского внимания мне не хватало, а хотелось очень, чтобы папа приласкал, спросил, как у меня дела, что со мной. Меня и мама-то не баловала нежностью. Когда я поступала в университет в Одессе, то получила от неё письмо, которое начиналось словами: «Милая доченька…» Я сутки рыдала над ним, потому что первый раз в жизни она меня так назвала. Конечно, и у неё детство было несладким, послевоенным — я понимаю, и никого ни в чём не виню. Я просто пытаюсь сейчас отыскать корни своих проблем, отчего я такая. Наверное, я и замуж-то выскочила в 19 лет поэтому — вдали от родителей, в чужом городе. И только через два года поняла, что у нас не сложилось… Прости, Андрей, это другая история…
Ты знаешь, был такой период в жизни — нежелания жить, не в смысле желания смерти, а просто спрятаться от всех, уйти от шума, взглядов, слов каких-то ненужных, элементарно лечь лицом к стене, и чтобы не трогал никто. Подруга повела меня к знакомой женщине — экстрасенсу. Та поколдовала надо мной пару раз, и у меня словно спала пелена с глаз: всё стало видеться таким чётким и выпуклым, и цветным, стали просматриваться детали, и захотелось жить, летать, радоваться чему-то, просто жизни, просто дождику, просто прохожему. Поменялось само восприятие жизни. Давно это было…
А вот последние полгода я с тревогой стала за собой замечать, что снова хочется схватить песчинку и захлопнуться в раковинку — жемчужинку выращивать — так я называю это состояние. Та женщина-экстрасенс давно перестала принимать. Обращаться к другим? Сплошные шарлатаны кругом. А куда денешься? Стала искать, газет всяких накупила: ни один психотерапевт не поместил объявлений о приёме, старые телефоны вдруг оказались заблокированы, а те, что отвечали, только кодировали от пьянства. Значит, это не для меня, надо подождать. Я подождала совсем немножко, может пару недель, и вдруг… нашла тебя… Вот стихи твои, Андрей, именно такие. Не понадобилось никаких экстрасенсов, чтобы стало видно небо и ласточек в нем, чтобы стали как-то близки дождинки на листьях и муравьи в траве, и цвета — сочные, летние. Пыль, или что это было, прибило дождём, и весь мир окрасился в яркие краски, которыми ему положено быть разукрашенным. Спасибо тебе за это».
Палец дрожал над левой кнопкой «мыши» — то ли ждал приказа, то ли подтрунивал над своей хозяйкой. Потом, наконец, толкнул мягко клавишу — и письмо улетело в бескрайнее пространство: искать того, единственного, кому…
Сна не было. Долго, как в юности, мечталось о чем-то, картины всякие занимали воображение, хромали, спотыкались о робость, о застенчивость, о целомудрие — даже здесь, наедине с собой…
«Странно, — думала Инна, — уж не влюбилась ли я на старости лет!? Почему на старости? Я-то еще ничего так… Точно, влюбилась. Втюхалась!»
Она встала с кровати, накинула на плечи толстый махровый халат и вышла на балкон. В небе с серебристым звоном сияла почти полная луна. Крошечного сегмента не было с левой стороны ее, будто кто-то нарочно стесал один край. Кто? И звезды — они веселились наперебой, перекликались задиристыми голосами, перемигивались. А во дворе, внизу — одинокий фонарь с подвесным конусным колпаком упрямо светил в угол детской площадки. Стоял, сгорбившись, и терпел, терпел…
Инна постояла несколько минут, потом почувствовала, как стылый сумрак позднего декабрьского вечера заползает снизу под халат, бесстыдно крадется по ногам. Нет, она не потерпит подобного нахальства! Вдохнула напоследок плотного, сырого воздуха, впорхнула обратно в комнату и уже там — выдохнула.
И снова легла — впрыгнула под одеяло, натянула его на лицо, стала дышать часто, чувствуя, как тепло и влага ложатся, осыпаются на лоб и щеки. Зажмурилась от удовольствия и вдруг… увидела его… Силуэт, контур — сперва расплывчатый, потом все более четкий. Будто направлялся к ней, но не становился крупнее. Так — на расстоянии держался. Высокий, фигура стройная. Он ли? А кто тогда? Точно влюбилась! Как малолетка, ей богу!
Протянула руку к пуфику, что возле кровати постоянно, как дрессированный, сидел. Подсветила будильник: половина первого.
«Всё, родная, пора спать!» — приказала себе и уснула.
И когда луна через два часа сперва осторожно, а потом бесцеремонно заглянула в окно спальни, она увидела, как женщина во сне улыбается ей… А кому же еще?
ГЛАВА 3
1
Ночной Париж не замирал ни на минуту. От хлебного рынка приятно веяло свежим ароматом — как-то уютно и по-домашнему. В городе, давно не отличавшемся чистотой, в городе, где по прорытым канавам вдоль улиц текли фекалии, редко можно было вдохнуть глоток чистого воздуха. Разве что снежной зимой, да и то не на каждом квартале.
Издалека слышны были голоса торговцев, грузчиков, скрип колес и фырканье лошадей. Многочисленные лавки, булочные и пекарни, растянувшиеся на добрую сотню метров улицы Жюиври, даже в столь позднее время продолжали жить напряженной жизнью. Несколько более замедленной, чем в светлое время суток, но все-таки — жизнью.
Венсан де Брие неторопливо брел по улице. В темном небе над городом угадывались вереницы стремительно летящих облаков. То и дело вспыхивали и снова гасли, исчезая из виду, звезды. Было свежо, как бывает всегда в начале весны.
Отправив Тибо спать, рыцарь вышел прогуляться. У них уже давно сложился обычай — спать по очереди, оберегая сон другого. Тем более это нужно было сейчас, когда Орден оказался обезглавленным, разорванным на клочки, и уцелевшим его членам необходимо было проявлять особенную осторожность, чтобы скрываться от случайных «доброжелателей». Впрочем, в этот вечер Венсану де Брие меньше всего думалось об опасности. Что-то оборвалось в нем, что-то навсегда покинуло прочные позиции в душе…
Тибо заснул мгновенно. Он был настоящим солдатом, и три часа, отведенные ему для отдыха, умел использовать с максимальной пользой для себя. Он хорошо знал, что через определенное время будет разбужен твердой рукой хозяина, и тогда уже ему придется бодрствовать столько, сколько понадобится бывшему рыцарю для восстановления сил. Они давно доверяли друг другу, давно стали единым целым — живым, подвижным организмом, двуликим и четырехруким, но с общим сердцем и общим отношением ко всем превратностям судьбы, не смотря на разницу в происхождении и образовании. И то, что дворянин де Брие читал по-древнегречески, а писал и говорил на латыни, в то время как Тибо не умел писать даже на родном французском — вовсе не мешало им быть больше чем друзьями.
…Сначала де Брие хотел выйти в одной камизе — нательной рубашке, едва покрывавшей бедра. Ему было душно в харчевне — то ли от количества выпитого, то ли от пережитого в последнее время. Но во избежание простуды он все же накинул поверх камизы еще и котту — туникообразную куртку, доходившую до колен. Болеть никак было нельзя, особенно теперь, когда не стало тех, на кого можно было положиться, когда он сам превратился в одну из ключевых фигур в далеко еще не оконченной партии…
Под ногами шуршал песок. Полусапожки из свиной кожи, без каблуков и со слегка заостренными носками, которые так любил Венсан де Брие, помогали ему ступать тихо, почти бесшумно. Часть улицы Жюиври, где находилась харчевня Одноглазого Жака, не была вымощена булыжником — он начинался дальше, от пекарни Жанетты, где в эти минуты еще горели факелы и царило привычное оживление.
Рыцарь сделал несколько десятков шагов и уже собирался поворачивать назад, как вдруг чья-то рука легла ему на плечо. Но прежде чем он выхватил кинжал, спрятанный на поясе под туникой, прежде чем он обернулся, Венсан де Брие услышал голос. И напряжение, в один миг охватившее его, схлынуло так же быстро.
— Это я, сеньор!
— Эстель?
— Простите мою дерзость. Но я все время шла вслед за вами.
— Зачем?
— Не знаю. Мне так хотелось увидеться снова!
— Но ты ведь поужинала и ушла домой, не так ли?
— Я обманула вас. У меня нет дома.
— Почему? И где ты живешь?
— Живу где придется, снимаю комнату то там, то здесь. А в основном брожу по свету в поисках удачи.
— И промышляешь древним ремеслом?
— Да, сеньор. А иначе на что жить?
— А твой дом, твои родители? Где они живут?
— Про отца я ничего не знаю, мать родила меня на одном постоялом дворе, а потом оставила там и убежала. Так мне говорила Аделайн, простая крестьянка из Клюи, у которой я жила до семнадцати лет. Она воспитала меня, научила жить. Спрашивайте меня, о чем хотите, я готова всё рассказать…
Венсан де Брие смотрел на девушку с какой-то легкой брезгливостью, к которой примешивалась жалость. И даже плохо различая в полумраке его лицо, Эстель догадывалась об этом.
— Ты замерзла? — спросил он вдруг с неожиданной заботой в голосе. — Тут неподалеку есть неплохая таверна. Это на улице Нуайе, возле моста Планш Мибре. Пойдем?
— Я не смею навязывать вам свое общество, дядя Венсан, — робко ответила девушка.
— Тем, что караулила меня на улице, ты уже сделала это.
— Простите великодушно, сеньор! Но мне почему-то так хочется быть рядом с вами! Я не знаю, как это объяснить…
— Сейчас выпьешь подогретого вина и объяснишь, — сказал рыцарь и взял спутницу за локоть. — Пошли.
Через несколько минут они уже сидели за столом, в центре которого тускло горела, порой выстреливая оранжевые искры, толстая, наполовину оплывшая свеча. Пламя ее колебалось от дыхания собеседников, и по их лицам блуждали тени.
— С первого взгляда я почувствовала влечение к вам, сеньор. И это не вино развязало теперь мой язык, и не мой промысел позволил говорить столь открыто и дерзко. Со мной такое впервые в жизни… Я чувствую, что рядом с вами могу быть защищена от всех напастей…
Она говорила, и ее голос был эхом чистой и непорочной души, которую не запятнали ни беспросветная жизнь, ни условия древней профессии. В ней угадывался космос — бескрайний и загадочный.
— Возможно, ты ошибаешься, девочка, — с непривычным смущением ответил Венсан де Брие. — Мне кажется, что ты просто давно нуждаешься в опекуне. Ты ведь росла без отца, и ремеслом своим занялась не потому, что дурно воспитана или это был единственно возможный твой заработок, а исключительно для того, чтобы познать не только мужскую силу, плоть или страсть, но и мужскую ласку, которой ты с детства была лишена. Или я не прав?
Эстель молчала, не отрывая от лица рыцаря своих печальных глаз, на дне которых уже вспыхивали искры восторга.
— Наверное, я все-таки прав, — сам себе ответил де Брие. — Но ты ошибаешься в том, что видишь во мне надежную защиту для себя. Мне бы самому устоять и уцелеть, самому отыскать гавань, где могли бы укрыться от урагана мои корабли. Впрочем, я очень надеюсь, что ураган вскоре закончится, и в моей жизни наступит ясная погода…
— Вы говорите так загадочно, дядя Венсан. Вы вкладываете в слова какой-то скрытый смысл…
— Да, я не склонен откровенничать с первой попавшейся девушкой, даже если она проявляет ко мне повышенное внимание.
— А если эта девушка готова зачеркнуть ради вас всю свою прежнюю жизнь? Если готова служить вам верой и правдой в любом качестве? Если согласна идти за вами хоть на край света?
— Хм, ты второй человек, кто сказал мне сегодня эти слова, — грустно усмехнулся рыцарь.
— А кто был первым? Наверное, Тибо?
— Да, ты угадала, Эстель.
— И вам действительно предстоит подобное путешествие?
— Возможно…
— Осмелюсь предположить, что вы…
Девушка осеклась. Она испугалась, что слишком далеко зашла в своих откровениях и вопросах.
— Что? Договаривай, — властно сказал рыцарь.
— …что вы не тот, за кого себя выдаете…
Де Брие налил вина из кувшина в глиняную кружку. Долго, мелкими глотками пил, не спуская глаз с одухотворенного лица девушки. Что-то было в ней — неуловимое, загадочное, во что непременно хотелось проникнуть и познать. Когда-то он уже испытывал подобные чувства, когда-то его душа трепетала и взлетала под облака от одного лишь женского имени, от одного лишь взгляда. Это было так давно, что в реальность затерявшихся в памяти событий теперь было трудно поверить. Он давно научился сдерживать чувства, он давно воспитал в себе холодность и твердость, граничившую с самоотречением. Этого требовал и устав Ордена тамплиеров, это стало его личным убеждением. Но теперь, когда…
— Ты действительно готова пожертвовать собой ради меня? — Его голос прозвучал глухо и от того как-то магнетически. — Ты искренне желаешь изменить свою жизнь?
— Да, сеньор… — Эстель задрожала, она совершенно отчетливо понимала, что в эту минуту решается ее судьба. — Я готова на всё…
— И ты не предашь меня ни при каких обстоятельствах?
— Не предам.
— Даже если твоей жизни будет угрожать смертельная опасность?
— Да…
— Готова поклясться?
— Да.
— Тогда знай, что перед тобой сидит не торговец сукном из Руана, как считает хозяин харчевни Жак, а рыцарь Венсан де Брие, исполняющий обязанности прецептора Франции. И ты была очень проницательной, Эстель, когда представляла меня тамплиером с бородой. Мне пришлось сбрить ее совсем недавно…
Девушка затрепетала от волнения и чуть не опрокинула свою кружку с вином. Де Брие заметил это. Ее губы задрожали, глаза опустились и уткнулись в стол.
— Ты испугана?
Эстель ответила не сразу. Она сплетала и снова разрывала пальцы рук, то и дело поправляла на себе складки платья.
— Да, испугана, — наконец, выдавила она из себя.
— А я ведь предупреждал.
— Нет-нет, — торопливо сказала девушка. — Не это…
— А что же тогда тебя так напугало?
— Я кое-что знаю про тамплиеров, — тихо ответила Эстель, не осмеливаясь взглянуть в лицо де Брие. — И меня напугало, что вы… что вы никогда не сможете… меня полюбить…
* * *
Большая бледная лысина с пучком волос в том месте, где высокий лоб переходил в темя, слегка лоснилась от пота. Папа Климент нервничал. В его пристальном колющем взгляде из-под густых ломаных бровей, в длинном с горбинкой носе, в губах, изогнутых в раздраженной гримасе, было что-то демоническое.
Он сидел за столом, бесцельно и беспорядочно перекладывая перед собой какие-то документы. Свет из высокого стрельчатого окна падал на листы, на бронзовый с позолотой чернильный прибор, на тонкие пальцы понтифика с кустиками волос на фалангах. На безымянном пальце правой руки то и дело вспыхивал, пересекаясь с солнечным лучом, большой сапфир, вправленный в золотой перстень.
В белой сутане, перетянутой муаровым поясом, и с алой маццеттой, накинутой на плечи, папа выглядел бы вполне мирно и дружелюбно, если бы его волнение не выдавал голос. Когда Климент был чем-то недоволен, его обычно мягкий и вкрадчивый голос, становился резким и каким-то даже лающим.
— После того, что случилось, — сказал он, — у меня больше нет доверия к вам! Вернее сказать, оно катастрофически уменьшилось. Слышите, катастрофически!
Гильом де Бофе развел в стороны свои короткие руки. Он никак не ожидал, что папа всех собак спустит на него. Но спорить с Климентом не стал, полагая, что гнев понтифика вскоре пройдет, сменится привычной сдержанностью, и с папой можно будет обсудить некоторые вопросы в более спокойном тоне.
— Мои люди доложили, что обнаружили в протоколах допросов показания рыцаря Жана де Шалона. Он утверждает, что в ночь перед арестами из Парижа вышли три крытые повозки, груженные сундуками с сокровищами Храма. Повозки сопровождал конвой из сорока двух рыцарей во главе с прецептором Франции Жераром де Вилье.
— Да, ваше высокопреосвященство, — робко согласился епископ Парижа, — возможно, так и было.
— Вы говорите «возможно»? Вы не уверены в этом?
— Осмелюсь сказать, что сейчас нельзя быть уверенным ни в чем.
— Знаете, де Бофе, — раздраженно сказал папа, — меня вовсе не удивляет, что сокровища тамплиеров бесследно исчезли. Жак де Моле, и это очевидно, был весьма неглупым и осторожным человеком. И он окружил себя людьми, способными не только героически сражаться, но и чрезвычайно строго хранить секреты Ордена. И если нам удалось, в конце концов, развалить эту старую крепость, то это вовсе не означает, что мы одержали безоговорочную победу. Где трофеи? Где несметные богатства, о которых мы столько слышали, ради добычи которых затеяли эту кровавую авантюру, но которых нам так и не удалось не только осязать, но и увидеть?
— Это известно одному Богу, — осторожно ответил Гильом де Бофе.
— А должно быть известно мне! — вспылил папа, ударяя ладонью по столу. — Вы столько лет занимались следствием, потратили столько средств! Где результат? Где результат, я вас спрашиваю? И почему, в конце концов, самые важные показания, полученные на допросах, теряются в ворохе бесполезных документов и доходят до моего сведения с таким чудовищным опозданием?
Чем больше он кричал, тем больше заводил и накручивал самого себя. Казалось, этому не будет конца.
— Мы безусловно виноваты, ваше высокопреосвященство, — поспешил ответить епископ Парижа. — Однако осмелюсь предположить, что следователи, которые вели это дело с самого начала, могли не все документы передать нам вовремя. У них ведь тоже свой интерес…
— Вы имеете в виду короля?
Папа задумался. Де Бофе заметил, что он колеблется. Наконец, Климент продолжил более спокойным тоном:
— Филипп расточителен и несдержан. К тому же он глуп и вспыльчив, и вы сами об этом знаете. Не так ли? — Епископ Парижа, не моргая, смотрел на папу. — От его неоправданной горячности пострадало уже немало людей. Что нашел он в подземельях Тампля после ареста де Моле и его окружения? Несколько оброненных монет? А ведь по его собственным словам там содержалось по крайней мере несколько десятков сундуков с золотом и драгоценными камнями, старинные изделия и украшения, которым нет цены. Но самое главное, там хранились святые христианские реликвии, в том числе Священный Грааль. Где теперь это всё?
Епископ Парижа угрюмо молчал. Гильом де Бофе хорошо знал, что гнев папы не может продолжаться долго. Пройдет еще минута, другая, и глава Церкви поменяет интонацию разговора. Так случилось и на этот раз.
— Присядьте, де Бофе, — после паузы спокойно предложил папа. — И слушайте меня очень внимательно.
Епископ устроился на стуле против понтифика, сложил руки в замок и преданно смотрел ему в глаза.
— Мне хорошо известно, — приглушенным голосом произнес Климент, — что в Париже осталось несколько человек, принадлежность которых к Ордену тамплиеров очевидна и не вызывает сомнений, но которую эти люди со всей возможной тщательностью теперь скрывают от посторонних. Вы удивлены, де Бофе? Вы полагали, что все, кто избежал арестов, давно покинули Францию?
— Я удивлен не этим, а вашей осведомленностью, ваше высокопреосвященство!
— Я делюсь с вами, епископ, только потому, что мне в Париже нужен человек, способный не только преданно служить Церкви, но и способный в определенный момент проявить необходимую твердость и сообразительность.
— Благодарю за высокое доверие. — Де Бофе склонил голову. — Я весь внимание, ваше высокопреосвященство.
— Слушайте же. — Папа сделал паузу, будто все еще сомневался, стоит ли доверять епископу свой новый замысел. Затем, взглянув на де Бофе, он продолжил: — Сейчас где-то в городе находится некий Венсан де Брие, бывший рыцарь Ордена Храма, который в свое время являлся помощником прецептора Франции. После того, как его начальник Жерар де Вилье исчез с обозом сокровищ, о чем я говорил в начале разговора, этот де Брие остался в Париже на тайном положении исполнять обязанности прецептора. Я уверен, что он поддерживает связь с теми, кто покинул королевство. Кроме того, два года назад Жак де Моле, понимая, что его участь практически решена, передал свой титул Великого магистра рыцарю Жану-Марку Лармению, который находится на Кипре и посвящает все свои силы сохранению последнего оставшегося там отряда тамплиеров. Я не исключаю того, что между де Брие и Лармением существует тайная связь. Я не исключаю и того, что де Брие может знать, куда подевались сокровища Ордена. Вы понимаете, епископ, к чему я клоню?
— Вы хотите поручить мне разыскать этого де Брие, арестовать его и допросить с пристрастием? Я перепоручу это дело самым надежным и преданным сыщикам!
— Вы разочаровываете меня, де Бофе! — Папа снова проявил раздражение. — Нужно быть гибче, епископ, и мыслить тоньше. Арестовывать де Брие было бы опрометчиво и глупо, это не привело бы ни к каким результатам. Наверняка он тверд, как скала, и ни в чем не признается. А вот приставить к нему нашего человека, который бы сумел войти в полное доверие… Это принесет гораздо больше пользы. Мы будем регулярно получать сведения о деятельности остатков Ордена и, возможно, когда-нибудь нащупаем главное…
— Гениально, ваше высокопреосвященство! — воскликнул епископ Парижа.
— Возможно, результат придется ждать долго, — добавил Климент. — Рыцари храма всегда были скрытными, в особенности же теперь. И тем не менее… У вас, де Бофе, найдется надежный человек, которому можно было бы доверить это весьма деликатное дело?
— Найдется! — уверенно ответил епископ Парижа.
2
Порой люди совершают ошибки, наивно полагая, что их можно исправить в будущем. Это не так. Ни одной ошибки исправить нельзя — можно только не совершить новой, но для этого нужны немалые душевные усилия, которые не каждому по плечу. Впрочем, кто и каким образом способен определить, в какой степени тот или иной поступок принадлежит к разряду ошибок? Можно ли считать ошибкой опрометчивый окрик «постой, не уходи!», если он был продиктован мимолетным движением сердца, а не выверенным приказом разума? Можно ли считать ошибкой приверженность многолетним привычкам, если они никому не мешают жить? А навязчивые идеи — кто и когда их рассматривал в лупу? А внезапно вспыхнувшая страсть — окрыляющая и сжигающая одновременно? Можно ли дарящую полёт и отнимающую покой считать ошибкой? Любовь… если это она…
…И прошла новогодняя ночь, и еще одна, и еще несколько… И всё вернулось на круги своя — как должно было вернуться.
«Господи! Что я натворила? — говорила она самой себе, пытала себя, терзала. — Зачем всё это затеяла?»
«А что ты хотела? — отвечала другая Инна, оттуда, из самой глубины. — Душа и физика — два сообщающихся сосуда. Любые чувства оплачиваются болью».
Андрей не писал целую неделю. Можно подумать, что он нарушил какой-то договор. Размечталась… Сама виновата, вот! Лезу к человеку со своими откровениями, экзальтированная дурочка. Чего ждать? У него семья и творчество, а ты — кто? Внешность… сомнительная, а запросы… Примитивная училка языка и литературы, начитавшаяся классики. Думаешь, что в современной жизни всё, как у Тургенева или Толстого? Ты где-нибудь, у кого-нибудь такое видела? То-то же.
Ну, понравились стихи. Ну, написала бы, что понравились. Спасибо, успехов, пока… Да сотни у него читателей, тысячи. И половина что-то высказывает по поводу творчества — так принято, так нормально. А что вместо этого? Глупое ожидание, напрасные надежды, необоснованная ревность. И как следствие — сдвиг сознания к началу координат — к нулю…
И закончились каникулы. И пошел по программе Лермонтов, и на одном из уроков она прочитала ученикам:
И скучно и грустно, и некому руку подать В минуту душевной невзгоды… Желанья!.. что пользы напрасно и вечно желать?.. А годы проходят — все лучшие годы! Любить… но кого же?.. на время — не стоит труда, А вечно любить невозможно. В себя ли заглянешь? — там прошлого нет и следа: И радость, и муки, и всё там ничтожно…А те сидели, затаившись, будто мыши, почуявшие приближение свирепого домашнего зверя. У них как раз тот самый возраст, тот самый, когда… Но это у них.
— Я никого не заставляю выучить это стихотворение, — сказала она, скользя взглядом поверх голов. — И двоек ставить не буду. Если кому-то понадобится, тот выучит сам, помимо школьной программы. И не только это…
— Инна Васильевна, а можно вопрос?
Это Сережка Литвинов — тихий такой, вдумчивый мальчик, почти незаметный, всегда уроки учит, отвечает рассудительно, а у самого в душе, наверное, буря настоящая. По глазам видно. И Катюша Коробейникова с первой парты наверняка знает об этом, и весь класс знает…
— Да, пожалуйста.
— А вы любили когда-нибудь?
За окном шел снег — неторопливый, крупный, разлапистый. Ветра не было — в медленный полёт снежинок, в эту восхитительную гармонию, созданную природой, не посмел вмешаться хаос вихревых потоков. Казалось, это не снег стремится к земле, подчиняясь законам притяжения, а, напротив, целый город поднимается вверх — ему навстречу, ловя эту сказку ладонями площадей. И сейчас в классе вдруг стало слышно, как снежинки за окном шуршат по воздуху…
— А я и сейчас люблю…
Господи! Как такое могло вырваться? Самоконтроль — а что это?..
И вмиг порозовели щеки, засуетились глаза. А сердце уже стучало — как молоточек старого будильника по чашке звонка, и казалось, этот стук слышен даже на последней парте…
— А как вы понимаете это чувство?
Дальше пошли. Зацепили главное. Умные… Отшутиться? — наивно. Углубиться? — урок сорвать. Впрочем, сама только что не настаивала… И ведь ждут ответа — все до единого ждут, доверяют. Глазами так и едят! Знают, что не увильну… Взрослые уже.
— А хотите, я вам кое-что почитаю?
Вопросом на вопрос отвечать не всегда уместно, кажется. Но просто такой случай…
Я буду ждать до вечера письма — Потом с утра продлится ожиданье, Смешаются и поздний час, и ранний, И всё в душе перевернет зима. И вьюга будет мне в лицо швырять Обрывки фраз твоих и обещаний Коротких писем. И в мою тетрадь — С руки опять стекает ожиданье… Входящих — ноль… Входящих писем — ноль, И день за днём — как будто век за веком… Я никогда не встречусь с человеком, И ожиданье — будет, как пароль. Как капелька с ресниц — вот этот ноль — Солёная — вдруг в чашку с чаем сладким. И кто-то спросит: — Что опять с тобой? — Со мной?.. нормально… С миром — не в порядке…Последние строки Инна читала, глядя в окно — на этот снег, на моргающий желтым светофор на перекрестке, на прохожих с белыми шапками и эполетами на плечах. Но не видела никого — а никого и не было: ни людей, ни машин, ни самого города. Не было ни света, ни запаха, ни звука. Не было движения, не было мысли. Не было ничего. Ноль. Входящих — ноль. Вообще — ноль.
И вдруг эту космическую пустоту, этот вакуум скомкал, как ненужную бумажку, свел в ничтожную точку тихий девичий голос с первой парты:
— Инна Васильевна, он обязательно напишет…
* * *
«А я ведь тоже в какие-то периоды жизни чувствовал себя одиноким, никому не нужным. Замыкался в себе, ясное дело, что много писал. Не хочу вдаваться в подробности — я уже научился избавляться от прошлого. Раньше мне было как-то уютно с ним, грели какие-то воспоминания, хотелось больше оглядываться назад, чем смотреть вперед. Но жизнь давно расставила свои акценты, обозначила иные приоритеты, и огромный рюкзак с прошлым пришлось бросить на какой-то развилке дорог.
Сегодня думал: приду домой, пятница, тяжелая неделя закончилась, включу машину, а там — новое, полное замечательных слов письмо. Полное эпитетов, сравнений, невыразимой нежности, которую ты умудряешься облечь в словесную форму — и это все для меня! Для меня, который, в общем-то, не привык к этому, для меня, который давно забыл, что такое романтические отношения — всё быт, рутина, обязанности и труд. Но письма нет, и это понятно: нелепо ждать инициативы от тебя, хоть ты однажды и написала мне первой…
А сейчас я хочу сказать о другом. Я, вообще-то говоря, в какой-то степени фаталист, верю в судьбу, в предназначение, в переселение душ, в неслучайность случайностей. Мне почему-то кажется, что наше с тобой заочное знакомство — это знак! И все последние несколько дней меня не покидает мысль о том, что наши души были отправлены в этот мир для какого-то эксперимента. И если в ИХ планы входило наше знакомство в Интернете — стало быть, эксперимент удался. А если не входило — то теперь мы сами будем устанавливать правила игры. И пусть нам завидуют те, у кого не было подобного опыта.
А может, мы сейчас придумали для себя эту сказку, в которой нет колдунов и злых ведьм, нет преград нашей фантазии и чувствам? И только полет наших душ — взявшись за руки или в обнимку… Поживем — увидим…
И еще. Всю жизнь, сколько я себя помню, я считал женщину венцом творения. Своих взглядов не поменял до сих пор. Женщина для меня — это самое прекрасное и самое загадочное, что удалось создать Господу. Нет, есть, конечно же, монстры и среди женщин — но их подавляющее меньшинство, это просто ошибка природы, это — неродившийся мужчиной мужчина. Все настоящие женщины — красивы, причем, глубоко красивы, к тому же — каждая по-своему. И мне, как писателю, всегда хочется прикасаться к этой красоте снова и снова. Питаться от нее. Находить новые образы. Вот теперь — к твоей… пусть и виртуально…
Вот писал, а будто разговаривал с тобой. Ты сидела напротив — почему-то на кухне, положив руки на белый пластик столика. Рядом стояла вазочка с вишневым вареньем. Пока я говорил — ты всё съела. На здоровье, милая, близкая и далёкая. Теперь целую тебя в вишневые губы, слизываю остатки варенья языком, а ты жмуришь глаза и таешь в моих объятиях. Куда там молодежи до нас! У них физиология, у нас — Вселенная. Красивая сказка?
P.S. Чтобы не скучала — посылаю тебе кое-что еще. Читай, думай обо мне, желай мне всего, что желаешь обычно — и я буду счастлив. Будь умницей, будь смелой и красивой. Будь со мной — в письмах, мыслях и в снах.
P.P.S. Прости, я не знаю, почему сегодня всё это написал… Так написал…»
* * *
«Я, конечно, православная, и переселение душ должна воспринимать, как грех… Но я твёрдо уверена, что все, кого мы встречаем на протяжении жизни, обязательно будут иметь с нами какие-то отношения потом, или были нам близки когда-то. Знакомый мальчик был моей сестрой. Чужой дяденька — отцом, который в какой-то неведомой стране любил меня и берёг. Едва знакомая женщина была наставницей. А мы с тобой… может, и встретимся где-нибудь на неизвестном берегу? Ну, во-первых, я тоже фаталистка, и считаю, что по жизни нас кто-то ведёт, подаёт нам ЗНАКИ, которые мы понимаем или нет, следуем им или нет, но они есть, и я твёрдо в этом уверена. Судя по твоему письму — да, мы очень похожи, только я не поэт, и от этого более приземлённая по сравнению с тобой. Сейчас распечатала архив и начала читать твои стихи — не смогла прочесть всё сразу — слёзы перехватывают горло. ТАКИХ стихов я не писала никогда, мне это не дано. Ну, а то, что я вообще откликнулась… было бы странно, если бы это была душа, сильно отличная от твоей. Всё равно в стихах этих присутствуют определённые вибрации, на которые может откликнуться только тот, чья душа на них Богом настроена, как на камертон. Ведь любое другое произведение точно так же нравится или не нравится, но только редкие строки ТАК совпадают с тем, о чём только думалось туманно, а здесь — вот оно! — явь!
Стихи твои все-таки перечитала… прочитала… мне страшно и зябко, и так не бывает… у меня такое ощущение, знаешь, как шестерёнки, встав на место, заполняют каждая у каждой промежутки между зубчиками, так твои стихи заполнили во мне какое-то пространство, пустоту какую-то…
А по поводу прошлого, я только нынче стала задумываться… даже не задумываться, а мне стали везде попадаться просто прямые указания, что хватит уже вздыхать о былой любви, питать воспоминаниями прежние боли и обиды, пора всё оставить в прошлом, выбросить ненужный хлам, избавиться от старых вещей и связей, и открыть окна, чтобы впустить в свою жизнь что-то новое. Это как твой рюкзак на перепутье. И я всё думала: от каких таких отношений я должна избавиться? И помаленьку просто стала избавляться от всего, что не пригодилось мне на протяжении какого-то длительного времени, от вещей в основном. А еще перестала холить и лелеять, как самое ценное в жизни, свою память. И теперь вижу, что не зря я это делала. Ради тебя, я не знаю, от чего можно ещё отказаться — наверное, очень от многого.
Андрей, я тебя физически ощущаю. В пятницу, я не помню точно, наверное, я два письма уже получила к пятнице. Так вот, я физически ощутила на своей спине твои руки. Знаешь, как будто ты заключил меня в объятия, но перед собой я тебя не вижу, а спине моей, защищённой твоими ладонями — тепло. И каждый раз, впервые прочитывая очередное твоё письмо, я чувствую, как ты отнимаешь мои ладони, которыми я закрываю лицо от смущения, знаешь, как бывает, когда человек про тебя много и неожиданно знает, хочется закрыться от смущения, потому что нет ещё такой близости отношений, а знания уже есть…
Впрочем, знаешь, мне кажется, что скорое развитие событий влечёт за собою их скорый конец. И где-то там, на другом берегу, мы сделали с тобою эту ошибку, и нас разлучили. Но теперь я как-то опомнилась, и я хочу, чтобы наши отношения были долгими и не такими горячечными. В следующий раз я хочу прожить с тобой большую счастливую жизнь, а сейчас — на чужом несчастье своего счастья не построишь. Как бы ни хотелось. Это я виновата. Мне не нужно быть такой откровенной, и я это учту. Мне уже дорог и ты, и твоя дочь, и жена твоя. Пусть говорят, что так не бывает, но это так…
И ещё… ещё раз спасибо тебе за это письмо. Ты знаешь, я пока не могу удержаться от всех тех ласковых слов и мечтаний, которыми переполнена. Я думаю, что со временем это пройдёт. А может, и нет. У меня не было ещё опыта таких отношений. Хотела бы я надеяться, что всё уравновесится. Мы станем с тобой очень хорошими друзьями, такими, знаешь, когда дружат независимо от всего — неурядиц, любовей, семей, работы, а пока… жду твоих писем, а если их долго не будет… наверное, не выживу… Помнишь, как Хозяин Аленького цветочка умер, когда Настеньки долго не было? Вот и я так же… Сначала надо будет разлюбить. А возможно разлюбить? Мне кажется, что всех, кого я любила когда-нибудь в жизни, я буду любить всегда. И не имеет значения, как они ко мне относились, всё равно ведь было что-то хорошее в каждом дне, в каждом моём чувстве, как бы мы ни расстались. Просто эти чувства приняли какой-то другой облик, другую форму… но название осталось прежним…»
ГЛАВА 4
1
— Будет излишним напоминать, — с легким нажимом сказал де Брие, — что все наши планы, разговоры и действия станут носить отныне тайный характер. К той великой миссии, которую мне поручено исполнить, я вынужден привлечь вас, поскольку невозможно представить, как это сделать без помощников. Без надежных и преданных помощников.
Он сидел за столом, положив тяжелые кулаки перед собой и по очереди глядя на собеседников. Тибо и Эстель слушали рыцаря, не перебивая. Каждый понимал, что хозяину нужно выговориться, нужно раз и навсегда обозначить перед ними задачу и заручиться согласием и поддержкой верных друзей.
— Прошу не обижаться на меня, — продолжал де Брие более мягко, — но в целях абсолютной безопасности я не стану посвящать вас во все подробности. Каждому будет известен только следующий шаг, а главная цель откроется в самом конце миссии. И я очень надеюсь, что когда-нибудь мы доберемся до этого конца.
— Я не против, мессир, — сказал Тибо, искоса поглядывая на девушку. — Мне вообще все равно, чем мы там будем заниматься. Я целиком доверяю вам, и уверен, что честь и справедливость по-прежнему останутся нашим девизом.
— Я согласна с Тибо. — Эстель выразительно посмотрела на де Брие. — Мы не подведем вас, мессир. Я не подведу…
— Хорошо, — согласился рыцарь. — Только меня беспокоит вот что: для успешной работы нужен еще один человек. Вскоре нам предстоит разделиться. Я с Эстель останусь в Париже, а ты, Тибо, отправишься в Ренн-ле-Шато. Я напишу письмо, которое ты передашь лично в руки тому, кого я назову тебе позже. И мне хочется, чтобы с тобой поехал надежный товарищ.
— Мессир! — воскликнул оруженосец, заерзав на стуле. — Я и сам прекрасно справлюсь с задачей. Зачем еще кого-то привлекать к этому? Это ведь лишние глаза и лишний язык…
— Ты прав, Тибо. Но на дорогах беспокойно. Разбойников и всяких негодяев хватает с избытком. Будет гораздо спокойнее, если ты поедешь не один. Подумай, может быть, у тебя найдется кто-нибудь, кому ты сам бы мог полностью доверять?
— Уж не знаю, мессир. До сих пор я доверял только двум людям: вам и себе…
— А мне?
— Эстель, ты не в счет. За тебя отвечает сеньор де Брие. Доверять тебе — это его выбор.
Девушка усмехнулась.
— Я сама за себя отвечаю!
— И все-таки подумай, Тибо, — настаивал рыцарь.
Оруженосец сжал губы, нахмурился. Глаза его сдвинулись к переносице, и выражение лица стало каким-то детским.
— Хорошо, мессир, — сказал он после размышлений, — я попробую. Мне только нужно будет кое-куда сходить и кое с кем встретиться.
— Отправляйся. Нам дорого время, на счету каждый день.
Через минуту Тибо уже не было в комнате. Венсан де Брие с нежностью посмотрел на девушку. Она притихла, сжалась в комок, забравшись с ногами на кровать, и, не зная, что делать с руками, все время теребила свои черные локоны, спадавшие с плеч.
— А тебе, Эстель, я уже сейчас дам поручение. Отправляйся на левый берег. Пройдешь по набережной Турнель к воротам Сен-Бернар. Это не так далеко. Надеюсь, ты бывала в той части города? — Девушка кивнула. — Хорошо. Спросишь дом графа Гишара де Боже и передашь ему записку, которую я сейчас напишу.
— А если графа не окажется дома?
— Узнаешь, когда он вернется, и будешь ждать столько, сколько понадобится. Но записку отдашь только ему лично.
— Что ж, дядя Венсан, если так — я готова! — с воодушевлением заявила Эстель, соскакивая с кровати. — Пишите…
— Нет, ты не готова, — оборвал ее рыцарь.
— Почему? — В глазах девушки застыло удивление. — Что вы имеете в виду?
— Милая Эстель, в таком наряде тебе нечего слоняться по улицам. Пойми, ты уже не будешь заниматься своим прежним ремеслом, а это значит, что и одеваться нужно так, чтобы на тебя не косились все проходящие мужчины. Ты должна стать обыкновенной горожанкой, неприметной и похожей на других. У тебя есть, во что переодеться?
— Кое-что найдется, — с пониманием ответила девушка. — Мои вещи остались на улице Вуарри, где я снимаю комнатенку у одного лавочника.
— Тогда отправишься туда, чтобы переодеться, а потом вернешься и возьмешь записку для графа. Заодно я посмотрю, как ты выглядишь.
— Хорошо, дядя Венсан.
— И еще одно, — озабоченно добавил рыцарь. — Постарайся не попадаться на глаза полицейским и людям прево. Постарайся не вляпаться в какую-нибудь историю. Ты очень нужна мне, Эстель.
Лицо девушки просияло.
* * *
Тем временем Тибо, насвистывая какую-то веселую песенку, слонялся по Соборной площади и вокруг нее. Здесь, на самом оживленном рынке Парижа, как всегда, было тесно и шумно. Между Большим мостом, давно облюбованным менялами, лавками и мастерскими ремесленников, и улицей Глатиньи, широко известной как район публичных домов, нищих и воров, он рассчитывал встретить своего старого приятеля Луи.
Тибо и Луи были ровесниками, выросли на одной улице в Лане, маленьком городке на северо-востоке Франции, когда-то бывшем столицей династии Каролингов, в то время как весь Париж тогда умещался на острове Сите. На высоком холме горделиво стоял свой — ланский — собор Нотр-Дам, на четырех башнях которого располагались, пугая искаженными мордами, пучеглазые скульптуры быков. Этот собор был значительно меньше парижского, но зато он был на добрую сотню лет старше. Прихожане любили его и гордились такой достопримечательностью. Жизнь в провинции была тихая, мирная и голодная.
И однажды парней потянуло в большой город с большими возможностями. Они бросили сельскую глушь и приехали в Париж в поисках лучшей судьбы. Сняв угол на окраине, возле ворот Сен-Дени, они поначалу перебивались случайным заработком: то удавалось наняться на стройку или разгрузку в порту, то стать временным подмастерьем, а то и торговцем вразнос. Так продолжалось до тех пор, пока Луи однажды не украл у своего хозяина-лавочника отрез дорогого сукна. Его поймали и взяли под стражу. Через несколько дней королевские судьи приговорили Луи к публичному наказанию, и несчастный воришка получил свои сорок плетей у позорного столба в Сен-Жермен-де-Пре.
С тех пор дороги приятелей разошлись. Луи, озлобившись на весь белый свет, примкнул к шайке воров, где в короткий срок прошел полный курс обучения весьма непростому ремеслу. Тибо же подался к тамплиерам, принял их жесткую дисциплину, через некоторое время дослужился до звания «сержанта» и впоследствии стал оруженосцем рыцаря Венсана де Брие.
За десять лет, прошедших после тех событий, с приятелем детства Тибо виделся всего несколько раз, да и то случайно. Они перебрасывались парой фраз и снова расходились на долгое время. Не будучи ни в чем уверенным, Тибо очень надеялся, что Луи по-прежнему обретается в Париже, и встретить его можно не иначе как на Соборной площади.
Так и случилось. Проходя в очередной раз по Большому мосту в сторону Сите, Тибо заметил быстро идущего прямо на него земляка. Тот стремился вперед, пряча одну руку под камизой, не глазея по сторонам, не заглядывая в лица прохожих, и явно хотел от кого-то улизнуть. Ему помешал Тибо.
— Эй, приятель! — окликнул он, задерживая Луи за локоть. — Давно не виделись!
— Тибо! Друг! — Луи замялся на мгновение. — Рад встрече, но я тороплюсь. Если хочешь, пошли со мной.
Луи был такого же роста, как Тибо, только худее и Уже в плечах. Его лохматая рыжая голова сидела на тонкой подвижной шее, светлые, будто выцветшие глаза постоянно бегали из стороны в сторону. Он был из тех, кто не любит ветра в лицо, кто не способен преодолевать сопротивление жизни. Он плыл по течению, однако не бездумно и вольно, а еще и стараясь извлечь из этого максимальную выгоду для себя.
— А ты, я вижу, на работе? — усмехнулся оруженосец. — Срезал?
— Что ж ты так кричишь? — Луи забеспокоился, оглядываясь. — Или ты теперь служишь в полиции?
— Я не служу в полиции, — ответил Тибо, — и я не кричу. Просто рад встретить тебя, вот и все.
— Пошли. — Теперь уже Луи взял приятеля за локоть и повлек за собой. — Здесь неподалеку, на Английской улице, есть замечательное местечко. Посидим там.
— На твои или на мои?
— Сегодня на мои, — ответил Луи с улыбкой, потом добавил приглушенно: — Ты угадал, я теперь сборщиком промышляю.
— Значит, я правильно предположил, что ты только что срезал кошелек с пояса какого-нибудь зеваки?
— Ну да! И если мы не поторопимся, меня могут увидеть и опознать.
— Тогда вперед! — Тибо и сам оглянулся, бегло осмотрел прохожих, пытаясь определить, нет ли за Луи погони. — Как называется твое местечко?
Через несколько минут они уже сидели в небольшой, но уютной таверне под названием «Джон-три пальца» и потягивали вино из кружек.
— Действительно хорошее заведение, — сказал Тибо. — Мне как-то раньше не доводилось тут бывать. Почему только оно так называется?
— Это очень просто, — ответил Луи. — Хозяин когда-то был кукольником, бродил со своей ширмой по свету, показывая представления детишкам и взрослым. А тряпичную куклу держат ведь тремя пальцами, вот его так и прозвали.
— Забавно, — усмехнулся Тибо. — Но меня больше интересуешь ты, друг детства Луи Ландо. Сколько мы не виделись, года два?
— Да, примерно так.
— И где ты теперь живешь?
— Знаешь, постоянного места у меня нет, — вздохнул Луи. — То у кого-то из приятелей переночую, то на постоялом дворе.
— Выходит, семьей не обзавелся еще?
— Нет угла — нет и семьи. — Луи вздохнул и сжал губы. — Такая вот жизнь…
— А дома бываешь? Как там твоя мать? Все работает на мельнице?
— Умерла в прошлом году, — произнес Луи, — мне передали…
— Жаль, хорошая она была женщина. Меня всегда чем-то угощала.
— Ну, а ты? — переключился Луи. — Сам-то как? По-прежнему с тамплиерами? Орден ведь запретили… Сам король и папа занимались этим.
— Да, и три дня назад казнили Великого магистра.
— Я был там, — сказал Луи. — Знаешь, в большой толпе бывает особенная удача.
— Ты и во время казни занимался своим ремеслом!
— А что такого? Каждому своё, как говорится.
— Нет, бог тебя непременно накажет, Луи. Ты подумай об этом.
— Ну, это еще когда будет! — воскликнул тот, потом оживился, переводя разговор на другую тему. — Ну, а ты? Великого магистра сожгли, и что теперь? Как собираешься жить дальше? Ты ведь у кого-то из рыцарей служил?
— Да, служил, — осторожно сказал Тибо, вглядываясь в лицо приятеля. — Оруженосцем.
— И в походах участвовал? — оживился тот.
— Приходилось.
— И убивал?
— И это приходилось.
— А теперь? Твоего тоже арестовали?
— Нет.
— Убежал?
— А почему ты спрашиваешь?
— Из чистого любопытства, Тибо! Да не бери в голову! Выпьем!
Они дружно отпили из кружек, немного помолчали, приглядываясь друг к другу.
— Вот мы с тобой выросли вместе, во многом были одинаковыми, согласись, — сказал, наконец, Луи.
— И что?
— А то, что я, например, если кошелек срезать или с прилавка что-то потянуть, так у меня рука не дрогнет, а вот чтобы убить кого-то, даже врага… Не смог бы я, наверное…
— Поэтому сержантом в Ордене тамплиеров был я, а не ты, — сказал Тибо. — У каждого свой путь.
— Эх! — воскликнул Луи. — Если бы можно было жизнь как-то прожить заново!
— Ты бы не стал воровать, что ли?
— Может быть… А что ты усмехаешься, Тибо? Может, я бы и с тобой подался. У вас хоть идея какая-то была, а у меня что… Да и деньги водились немалые, я что, не слышал об этом? Все только о сокровищах тамплиеров и говорят! А я больше двух ливров никогда в руках не держал…
— А ты бы хотел больше?
— А кто бы не хотел?
— И ты серьезно считаешь, что у меня тоже водятся деньги?
— Про тебя не знаю. Сам расскажешь, если захочешь.
— А жизнь прожить другую — это ты сейчас придумал?
— Не другую, а эту заново… Ты что, не понял?
— Да все я понял, дружище, — сказал Тибо. — Но я ведь не Господь, и предложить тебе то, что ты хочешь, не могу. А вот кое-что другое…
— А что другое, Тибо? — Луи оживился. Его светлые глаза прищурились и будто потемнели. — Говори, не тяни.
Тибо неторопливо допил вино, показал приятелю, что его кружка пуста.
— Давай еще по полштофа, — сказал он.
Луи подал знак хозяину, и через минуту им в кружки налили новую порцию откровений.
— Есть дело, дружище, — тихо сказал Тибо после паузы. — Есть хорошее дело. И я очень рад, что тебя встретил, потому что в этом деле мне нужен помощник. И не просто случайный человек, а тот, кому я смогу доверять.
— Вот как! — Луи отхлебнул вина, встряхнул рыжей головой. — Говори, Тибо. Со мной ты можешь быть откровенным.
— Может, выйдем на улицу? Душновато здесь всё же, — предложил Тибо. — Да и ушей лишних полно…
— Я вижу, у тебя серьезное дело!
— Серьезней не бывает.
— И ты не боишься довериться мне, вору?
— Боюсь, — прямо ответил оруженосец. — Но мне просто не к кому обратиться, а ты… ты же не предашь друга детства… Ведь так? Есть же вещи, которые сильнее денег и амбиций — это общая память о тех далеких светлых временах, когда житейских забот гораздо меньше, чем ожиданий. Я так понимаю…
— Можешь не переживать, Тибо, — поспешил заверить Луи. — Во мне ты найдешь надежного друга или партнера в любом деле, каким бы опасным оно не оказалось, какие бы непредвиденные обстоятельства не вставали у тебя на пути.
— У нас на пути, — поправил Тибо.
— Да, у нас. — Луи поднялся, уже стоя допил содержимое своей кружки и хлопнул Тибо по плечу. — Что ж, пошли на набережную.
2
Пусть говорят, что бескорыстие отжило свой век, но нет чувства благороднее любви, ничего не требующей взамен. А она возникла, она родилась, она вспыхнула, она уже была! Она не могла не возникнуть, не родиться, не вспыхнуть, не быть! Она просто жила в каком-то потаённом уголке души и терпеливо ждала своего времени — того самого, которое неумолимо… А что до взаимности… Как можно чего-то требовать — на неощутимом, необозримом расстоянии, до умопомрачения плотно заполненном единичками и нулями? Этими странными, по сути, примитивными значками, из которых, наверное, состоит Космос, из которых теперь вырастает всё…
И потом, есть мораль, есть ведь какие-то жизненные принципы, есть однажды установленная граница дозволенного — как же без неё… Это на других сайтах, в других чатах присутствует, но не здесь, и не сейчас, и не с нами…
Здесь — другое. Здесь — прикосновение эфемерных материй, кармических, нет, даже интуитивных тел, здесь — непорочное зачатие подаренных Богом отношений…
«Я перечитала стихи, вернее — прочитала вновь. Кусочек жизни, который притягивает и не отпускает, завораживает, как блеск родника среди травы, как бормочущий неразборчиво его исток, и чтобы услышать, чтобы разглядеть, надо очень низко склониться над ним, ощутить его на вкус, от которого ломит зубы, но хочется пить и пить, по капле согревая на языке, ибо, не поняв вкуса, не расслышишь его голоса. Не знаю, может, слишком мудрёно написала, но я ТАК чувствую тебя.
За окном — темно, потому что пасмурно. Город экономит на фонарях. Машины проносятся мимо… редкие. Надо идти спать, говорю я себе… надо идти. Что тут ждать ещё? И почему ожидание повергает в отчаяние? И куда уходит радость? Радость, которой я была так полна весь день? О, раньше, в молодости, я решала эти вопросы гораздо легче… просто в омут с головой… только вечер, только раз… как поёт Пугачёва в какой-то старой песне. Пойти куда-нибудь с кем-нибудь…(еще было — с кем…) посидеть за бокалом вина сладкого, поплакать, посмеяться, развеяться, разменять обиду на монетки слов и рассыпать щедро из горсти… Только не хочется сейчас ничего этого. Хочется всё сберечь в себе… Потому что всё, что происходит — это что-то особенное, неправильное, и от того еще больше к себе манящее…
А по-правильному — это когда люди встречаются, потом возникает симпатия, потом — в разлуке — переписка, потом уже… далеко потом — любовь… Всё солидно, основательно — традиционно. А здесь, у нас, с самого начала всё было не по-правильному… и кто устанавливает правила?.. все правила устанавливаем только — он и я… и всё… и даже только — он… Просит писать — пишу… скажет замолчать — перестану… а пока нужна — хотя бы так — словами, буквами, сообщением о новом письме… Значит — жива, значит, бьётся и трепещет сердце, значит — где-то там, далеко в Космосе, стоит на учёте у Господа маленькая искорка — душа…
Скажи мне, объясни, почему это происходит?.. ведь, когда я познакомилась с тобой… стихотворения прочитала… я не знала, что так будет… Сия тайна велика есть… и имя ей — Любовь…
А знаешь, я вдруг, в один момент, испугалась всего того, что происходит между нами. Страшно испугалась… И поняла, что мы не имеем права ломать сложившуюся жизнь… Нет, я не имею права ломать — твою…
…сейчас кое-что вспомнила, хочу рассказать тебе о любви. Понятно, что не мне тебе рассказывать, и всё же это другое… Знаешь, когда после универа я устроилась на работу, меня приняли там по-разному. Сам понимаешь, на девяносто процентов женский коллектив, все разных возрастов, отсюда и отношения. Одна женщина лет пятидесяти, черноглазая, черноволосая, в общем-то, симпатичная, яркая такая, откровенно меня невзлюбила. Она химию преподавала, настолько далёкий для меня предмет, я сама еще в школе ее ненавидела. Так получилось, что столы наши в учительской стояли рядом. Ну, и как-то незаметно вышло так, что я быстро въехала в тему, как говорит молодежь, нашла общий язык с другими учителями, да еще и ученики приняли меня. К тому же хорошо владела компьютером, а она никак не могла даже азы постичь. А невзлюбила она меня в том числе и за то, что я практически не красилась, предпочитая естественную внешность искусственной. У меня, конечно, был набор необходимой каждой женщине косметики, однако применяла я ее крайне редко, да и то — лишь обозначая штрихи, так сказать. Короче, я оскорбляла её эстетический вкус. Это я потом уже поняла. А в то время — всё вроде было нормально, и работа, и зарплата, меня всё устраивало. Но как-то мне однажды стало плохеть, силы убывали с каждым днём, я еле таскала ноги, усталость наваливалась на плечи, всё время хотелось посидеть, а если садилась, то полежать. И это в мои-то двадцать четыре! Постепенно моё состояние стали замечать и окружающие. И вот одна знакомая посоветовала мне пойти к знахарке, звали её Таня. В народе про таких говорят «бабка», но никакая она была не бабка, а молодая, но со способностями, полученными по наследству. Я пошла, рассказывала тебе уже о ней, только называла экстрасенсом. После её манипуляций я заплакала, просто зарыдала. А когда успокоилась, Таня мне сказала, чтобы я смотрела завтра, на кого всё зло, мне напророченное, вернётся. И вот я настороженно сижу на большой перемене, учебник там пролистываю, тетради, короче, никому не мешаю, «починяю свой примус». И вдруг соседке моей стало худо. Её стало скручивать прямо в бараний рог, никогда такого не видала, пена изо рта и всё такое. Очень мне стало жутко. Вызвали «Скорую помощь», те определить ничего не смогли, сказали, что отравилась, и в инфекционное отделение везти хотели. А я в это время в панике лихорадочно думала: «Господи! Не надо ничего, спаси её и сохрани!» Понемногу она отошла. Может, это и совпадение было. В следующий раз Таня мне сказала, чтобы я закрывалась от неё, ставила защиту. Я делала всё, как она сказала, представляла себя за экраном, за золотым крестом, но и на это уходило много сил тоже. И от этого я уставала, не так, правда, как раньше, больше физически, но всё равно. И вот я бросила это дело и подумала, что я должна растворить её неприязнь в своей любви. А может, мне это кто сверху подсказал? Не знаю. И я стала её любить со страшной силой. Я оправдывала всё, что она делала, помогала осваивать комп, обращалась к ней за помощью, если мне надо было что-то купить, подправить в своей внешности, да и просто сочинить поздравление коллеге — я просила помочь, рассказать о ней, она ведь лучше меня всех знала. И неприязнь действительно растворилась, мы постепенно стали понимать друг друга с полуслова… Но вот тогда, когда ей было плохо, я дала себе обещание, что никогда не попрошу себе даже жизни, если за неё надо будет забрать другую жизнь. И с тех пор я поняла, что любовь — это великая сила. А до тех пор вообще не понимала, думала, что любовь — это просто чувство между женщиной и мужчиной, ну, и ещё там к Родине любовь, к животным, семье, детям — всё разные виды. Ну, и про другое. Я потом к Тане ещё сходила, но она меня не приняла. Сказала: ты же не идёшь к хирургу, если у тебя насморк. А помочь себе ты и сама вполне можешь. Я спросила — как, но она не объяснила, сказала, сама, мол, знаешь. А я до сих пор ничего такого не знаю и не умею. Вот и всё про любовь.
Ты давно молчишь, Андрей. А я скучаю по твоим словам. Как странно — вот эти печатные буквы, которые на сотнях тысяч клавиатур — отождествились с тобой, и стали такими родными, что перехватывает дух, когда я открываю очередное письмо, или любой файл, отправленный тобой. Хотя чем они отличаются от миллионов других? Ни почерком, ни наклоном, ни особым нажимом… (это ведь не письмо рукописное, как встарь!) Наверное, отпечатком твоей души.
Спасибо за предыдущее письмо, особенно за варенье… Не избалована я этим, и вниманием… колючая бываю ни с того, ни с сего… спасибо… можно, пуговку на рубашке расстегну? Ну, очень хочется… поцеловать тебя в эту ямку… и ниже… там душа живёт, я знаю… прости, смущаюсь… спрячусь на твоей груди, зароюсь лицом в рубашку и вдохну… тебя… как жаль, что запахи по Интернету нельзя…
И опять прости…»
* * *
«Да, знаешь, наверное, ты права в том, что нам не стоит горячиться и ломать… Не смотря на то, что твои слова, обращенные ко мне, творят чудеса — они проникают в меня, преображают душу, наполняют ее новым звучанием. Если бы я был моложе, не придавал бы этому особого значения — так, поигрался бы в Интернете и вышел из игры. Может быть, поступил бы жестоко — не знаю. Но сегодня, когда за спиной уже накоплен немалый жизненный опыт, когда любовь к женщине (моей жене, естественно) постепенно трансформировалась в иное, не менее высокое качество — преданность, я просто не могу себе позволить игры, не могу одним нажатием клавиши Enter зачеркнуть своё прошлое и настоящее ради какого-то виртуального будущего… Прости, Инна, но это так…
Мои чувства к тебе — это нечто новое, малоизученное современными психологами, поскольку выходят за рамки общепринятых опытов. Они не в строках, они — между строк… Но я не знаю иного слова, кроме слова «Любовь», его просто не придумали, как синоним. И пусть это называется так…
…Какой у тебя замечательный слог, Инна! И вовсе я не преувеличиваю. Твои описания событий в жизни — они настолько поэтичны, настолько выпуклы, что кажется, будто смотришь какой-то фильм, а за кадром идет твой текст, и всё вместе так хорошо ложится на душу, что создается полное ощущение счастья, востребованности, праздника души. И еще слова любви, обращенные ко мне. И нежность, и словесная шалость, никогда не переходящая границу, от чего пропитанная пошлостью современность — отодвигается на второй план, уступая место утраченной большинством людей романтике прошлого. Романтике, рождавшей возвышенные чувства и наполнявшей жизнь красотой. Спасибо Господу, что придумал нашу встречу! Спасибо тебе за то, что ты даришь мне часть себя. Говорю это — не громко, без восклицательного знака, определяющего высоту. Скорее с многоточием, в котором — глубина. Пусть кто-то докажет, что многоточие — слабее…
Но не будем горячиться, хорошо? Возможно, у нас впереди еще немало того, что не приснится никому на планете Земля…»
ГЛАВА 5
1
Дом графа Гишара де Боже у ворот Сен-Бернар представлял собой два двухэтажных каменных строения желто-серого цвета, стоявших рядом и соединенных между собой короткой галереей, под которой были устроены ворота — широкие ровно настолько, чтобы проехала небольшая повозка. Фасадом дом смотрел на улицу Сен-Жак, имел небольшой внутренний дворик, отделенный деревянным забором от соседних построек. Сюда выходили двери из комнат прислуги и хозяйственных помещений. Здесь же располагалась графская конюшня на три стойла, в которой, впрочем, никогда не было больше одной лошади.
За двориком начиналась лужайка, а за ней — фруктовый сад, упиравшийся в городскую стену. За садом почти не ухаживали, поэтому деревья с переплетенными ветвями походили больше на дикие заросли, чем на творение рук садовника. Но сад, не смотря ни на что, благоухал, и сидя в небольшой беседке, утопавшей где-то в его глуши, можно было наслаждаться не только искренним очарованием птичьих трелей, но и в полную грудь дышать весенним нектаром, со щедростью преподнесенным природой.
Молодой граф в свои двадцать четыре года был худощав, строен и не по возрасту рассудителен. У него были светлые волосы и чайного цвета глаза с подвижным взглядом — редкое сочетание, придающее лицу некую мечтательную холодность. Рано оставшись без родителей, юноша всею душой потянулся к своему дядюшке, бывшему на то время Великим магистром Ордена тамплиеров. Но он был слишком молод не только для того, чтобы примкнуть к Ордену в качестве его постоянного члена, но и для того, чтобы вообще думать о воинской службе. Однако дядя не оттолкнул юного племянника, а, напротив, приблизил к себе и всячески готовил молодого человека к будущим подвигам.
Граф был весьма честолюбив и предан своему благородному происхождению и начальному воспитанию, опиравшемуся на религиозные моральные устои и не позволявшему скатиться до низости и предательства. Он до сих пор свято верил в справедливость, и Венсан де Брие не хотел его в этом разубеждать.
Казнь Великого магистра подействовала на Гишара де Боже так угнетающе, что уже в течение четырех дней он пребывал в исключительно подавленном состоянии. Граф заперся в своей комнате, всякий раз отвечая отказом на призывы дворецкого, зовущего хозяина к обеду или ужину. Он был растерян и смят чередой последних событий и теперь совершенно не знал, оставаться в Париже или уехать в свое родовое имение. Эти душевные колебания разрывали его сердце. И только визит какой-то неизвестной девушки, настойчиво требовавшей встречи с ним, вывел молодого графа из ступора.
Он принял ее, спустившись в прихожую, прочитал адресованную ему записку, после которой его мрачное лицо просияло. Потом написал короткий ответ сам и с волнением передал девушке. И теперь, поздним мартовским вечером, нервно расхаживая по гостиной, освещенной четырьмя свечами, Гишар де Боже ждал гостя. Этот визит, к которому он готовился весь остаток дня, мог изменить всю его дальнейшую жизнь. Так казалось графу или так он страстно желал сам — теперь не имело значения.
Когда дворецкий доложил о госте, де Боже встрепенулся, и глаза его заблестели. Он вскинул руки и, как старого приятеля, долгожданного и самого дорогого, обнял Венсана де Брие. Рыцарь искренне прижал к себе молодого графа — как младшего брата или даже сына, встречи с которым тоже долго ждал.
— Ну, наконец-то! — воскликнул де Боже. — Я опасался, что с вами может что-то случиться. В городе так неспокойно по вечерам.
— Еще более неспокойно днем, — ответил де Брие.
— Простите, граф, я вас не понимаю…
— Слишком много глаз, — пояснил рыцарь. — Особенно теперь, после всех событий…
— Ах, да! Вы совершенно правы. Я до сих пор не могу прийти в себя!
— Необходимо иметь большое мужество, чтобы пережить все это, — сказал де Брие и добавил, глядя прямо в глаза молодому графу: — Надеюсь, у тебя его окажется достаточно?
— Мой дядя когда-то говорил мне: мало толку в мужестве, не подкрепленном высокой целью. Я верил дяде и понимал его стремление направить меня в нужное русло. Вы прекрасно знаете, дорогой граф, что дядя многие годы руководил мной и заменял отца.
— Да, знаю, — подтвердил де Брие. — Твой дядя был прекрасным человеком и примерным воином.
Де Боже благодарно кивнул и указал на стулья. Мужчины расположились возле камина лицом друг к другу. Камин слегка гудел, жадно втягивая в дымоход оранжевые языки пламени с синеватыми ободками. Поленья медленно умирали в нем, сипло потрескивая.
— Ваша милость, — заметно волнуясь, сказал де Боже, — я бесконечно рад нашей встрече, особенно теперь, когда нахожусь на распутье. Поверьте, я совершенно не знаю, что мне делать. До последнего дня я надеялся, что все обойдется, что старика де Моле помилуют, что Орден как-то продолжит существование… и вдруг эта необъяснимая жестокость короля… Семь лет назад я был еще слишком молод, но Великий магистр обещал лично посвятить меня в рыцари и принять в Орден, когда я достигну совершеннолетия. Увы, его вскоре арестовали, и рыцарем я не стал до сих пор, хотя душа моя — с вами.
— Это опасные рассуждения, Гишар, — остановил его де Брие. — Орден Храма давно распущен папой Климентом, и теперь неразумно высказывать сочувствие тамплиерам, которых признали виновными во всех смертных грехах!
— И это мне говорите вы, один из тех, кто ближе всех стоял к Великому магистру де Моле! Вы, о чьих подвигах не раз рассказывал мой дядя, когда я был еще мальчишкой! Вы, на кого я смотрел с восторгом и трепетом, с кого я брал пример долгие годы!
— Да, Гишар, это говорю тебе я, — сказал де Брие, испытывающе глядя в глаза молодому графу. Потом добавил тихо, но убедительно: — Орден распущен, однако он не умер. И я хочу, чтобы ты это понял. Остались люди, осталось немало преданных людей, Гишар. Они теперь живут скрытно, не выставляя напоказ свою принадлежность к Ордену. Когда ищейки Филиппа и папы снуют по всей Франции и за ее пределами, оставаться незаметным особенно трудно, поверь мне. Но дело, которому мы служили долгие годы, не погибло в костре четыре дня назад. Когда умер твой дядя, а Жак де Моле сменил его на посту Великого магистра, мне было столько же лет, как тебе сейчас. Я только начинал служить Ордену и еще не знал многих вещей. Но теперь я знаю то, что было недоступно другим и во что меня посвятили самые высокие лица Ордена. И я пришел к тебе, Гишар, как к верному и преданному товарищу, чтобы доверить некоторые секреты.
При этих словах молодой граф вскочил со стула и заметался по комнате. Небывалое воодушевление овладело им. Он почувствовал, что ему, отчаявшемуся выбрать путь, может найтись достойное применение.
— Ваша милость, вы доверяете мне?! — воскликнул он. — Мне, простому человеку, мечтавшему о белом плаще с красным крестом, но так и не ставшему рыцарем?
— Да, Гишар, доверяю, — ответил де Брие. — Только хочу предостеречь от одной ошибки.
— Любое ваше слово я восприму, как приказ!
— Для начала присядь и выслушай меня.
Гишар де Боже послушно присел на стул, заглядывая в лицо вечернему гостю. Глаза молодого графа сверкали, по лицу блуждала таинственная улыбка.
— Прежде всего, мой юный друг, тебе необходимо научиться сдерживать свои эмоции. Негоже рыцарю, пусть и молодому, коим отныне я буду тебя считать, показывать на лице все то, что скрывается в душе. Сдержанность, невозмутимость, а порой и смирение должны стать чертами твоего поведения с этого дня. Учитель церкви Святой Бернар Клервоский говорил: Рыцарь Христа должен быть вооружен Щитом терпения, Доспехами смирения, дабы охранять глубины души, и Копьем милосердия, поскольку с ним, направляясь ко всем людям и взывая к милосердию, он ведет битву Господню. Не исключено, что вскоре тебе предстоят нелегкие испытания, и чрезмерная горячность или торопливость отнюдь не послужат подспорьем для успешного их преодоления. Выдержка и душевное мужество — вот залог успеха. Понимаешь ли ты меня?
— Отлично понимаю, ваша милость! Мне только неясно, о каких испытаниях идет речь.
— Сейчас поясню, — сказал де Брие, доставая из внутреннего кармана котты небольшой свиток. — Вот, Гишар, мы подошли к самому главному.
Молодой граф взял из рук де Брие документ, развернул его и прочитал следующее: «В могиле твоего дяди, Великого магистра де Боже, нет его останков; там тайные архивы Ордена и реликвии — корона Иерусалимских царей и четыре золотые фигуры евангелистов, которые украшали Гроб Христа и которые не достались мусульманам. Остальные драгоценности хранятся внутри двух колонн, против входа в крипту. Капители этих колонн вращаются вокруг своей оси и открывают отверстие тайника».
Венсан де Брие, наблюдая за Гишаром, заметил, как задрожали его руки. Закончив чтение, молодой граф поднял глаза на рыцаря.
— Что это? — спросил он с придыханием.
— Эту записку несколько дней назад написал для тебя Жак де Моле, — ответил Венсан де Брие. — Мне передали ее надежные люди. Великий магистр уже знал, что его ожидает, поэтому и решил обратиться к тебе, Гишар.
— Но я думал, что в могиле… Я много лет считал для себя святым это место… Где же тогда похоронен мой дядя, Великий магистр Гийом де Боже?
— На Кипре, мой друг, его прах остался на Кипре. Когда Жак де Моле приехал в Париж, в числе многочисленной поклажи он действительно привез с собой гроб, объявив, что в нем находятся останки его предшественника. Но это был тщательно продуманный ход, настолько же рискованный, насколько и мудрый. Никто из врагов Ордена тогда ни о чем не догадался.
— Как же так! Почему Жак де Моле так поступил? Он обманул меня!
— Он обманул не тебя, — с отеческой теплотой сказал де Брие. — Могила — это всего лишь символ бренности бытия, место скорбных дум и молитв. Память — вот лучшее из надгробий, и пока ты будешь помнить своего дядю, он будет жив и будет оставаться с тобой. Ты смел и рассудителен, Гишар, и ты должен понять, что есть вещи в этом мире несравнимо более ценные, чем жизнь и смерть даже самого выдающегося человека. Есть реликвии, с которыми просто нет сравнения, потому что они единственны и неповторимы никогда. И сохраняя эти реликвии от покушения злодеев и врагов христианства, Жак де Моле обманывал не тебя, мой друг, а всех тех, кто еще не оставил попыток завладеть бесценными для человечества артефактами. Эти попытки, Гишар, продолжаются до сих пор и могут продолжаться еще очень долго. Вот почему необходимо спрятать сокровища так, чтобы никто и никогда не посмел даже надеяться их отыскать. И только ограниченному кругу истинных ревнителей веры, нескольким посвященным должны быть доступны сведения об их нахождении. Одним из таких посвященных отныне являешься и ты, Гишар.
— И что мне теперь делать? — В голосе молодого графа слышалось разочарование. — Я не понимаю…
— Все очень просто: ты пойдешь к королю и попросишь его высочайшего позволения вывезти из замка Тампль гроб с останками твоего дяди. Я уверен, что король не станет возражать против столь деликатной просьбы, тем более что его люди уже давно обыскали все подвалы крепости и ничего там не нашли. Филиппу и в голову не придет, что вместо человеческих останков в гробу будут находиться бесценные реликвии, за которыми он столько лет гонялся.
— А как же мне удастся сделать это незаметно?
— Ты попросишь Филиппа, чтобы эту печальную церемонию тебе помогли провести несколько твоих слуг, а не королевские гробокопатели, чье присутствие могло бы осквернить память великого предка. В свое время молодой еще король был знаком с твоим дядей и высоко о нем отзывался. Я уверен, что все пройдет хорошо.
— А слугами…
— Буду я и мои люди, — сказал де Брие. — Ну, и твой конюх с повозкой, разумеется.
— А потом, ваша милость? Куда мне всё это деть?
— Если всё пройдет так, как задумано, я скажу тебе, куда следует отправиться.
— А если…
— Мы должны все сделать так, Гишар, чтобы второго «если» не было…
— Я постараюсь…
* * *
Поздним дождливым вечером, когда Париж был погружен в навязчивую липкую сырость, к главным воротам величественной крепости Тампль подкатила фура, запряженная крепкой лошадкой. Парусина фуры потяжелела, провисла от дождя и теперь лоснилась в темноте так же, как широкая спина лошади и плащ возницы, согнувшегося на козлах. Из фуры проворно выскочил человек, одетый во все темное, с капюшоном, накинутым на голову. Постучав кулаком в ворота, он дождался, пока откроется смотровое окошко и караульный выглянет оттуда.
— Позови начальника стражи! — сказал Тибо, пытаясь придать голосу властный оттенок. — Да проворней!
Не затворяя окошка, караульный отступил в сторону. Ночному гостю было видно, как прибитый дождем неяркий огонь факела исчез в помещении сторожки, но уже через несколько секунд появился снова. Теперь к воротам приближались две фигуры.
— Кто вы такой, сеньор, и что вам угодно? — Второй караульный щурился то ли спросонья, то ли пытаясь разглядеть через квадратное отверстие в воротах лицо прибывшего.
— Ты начальник стражи?
— Да.
— Тогда возьми это. — Ночной гость засунул руку за пазуху, потом протянул в окошко свиток, перевязанный шелковой лентой. И добавил: — Читай быстрее! Хочется поскорее укрыться от дождя.
Стражник поежился и сделал вид, что пропустил эти слова мимо ушей. Он развернул документ и стал внимательно его изучать. Караульный держал над головой факел и заглядывал через плечо начальнику. Но уже через полминуты оба засуетились и торопливо стали отпирать засовы на массивных дубовых воротах. Королевский указ предписывал им пропустить в крепость подателя сего документа и оказывать ему всяческое содействие в случае необходимости.
— Если вам угодна помощь, сеньор, то я готов позвать солдат из охраны, и они сделают все, что вы прикажете, — сказал начальник стражи, когда фура, покачиваясь, проезжала мимо.
— Нет, благодарю, — ответил Тибо. — Мы справимся сами. Позаботься лишь о том, чтобы ни одна живая душа не совала нос в наше дело. Это королевская тайна, и любопытные будут сурово наказаны. Нам только нужны ключи от Главной башни.
— Как прикажете, сеньор, — ответил стражник.
Он исчез в караульном помещении и вскоре вышел оттуда со связкой ключей на большом железном кольце.
— Вам сначала нужно попасть в казарму… — начал пояснять он, отдавая ключи, которые приглушенно позвякивали.
— Мы знаем, любезный. — Венсан де Брие высунулся из повозки, отогнув край парусины. — Возвращайся к службе.
Стражник осекся на полуслове и покорно отступил в тень. Тибо влез на козлы, устроился рядом с возницей, и фура тронулась дальше.
В темноте ночи осыпаемый мелким, но густым дождем, пустынный, давно покинутый практически всеми постоянными жителями, замок Тампль представлял собой мрачное, почти мистическое зрелище. Ни в одном из окон семи его башен не мелькал даже отблеск огня. Нигде не горели камины, ни одна свеча не освещала многочисленные комнаты и коридоры. На внутреннем дворе, параллельно стенам, тянулись конюшни и казармы, дальше располагался плац для воинских учений. Тишина и мрак окутывали опустевшие постройки.
Фура графа де Боже, едва поскрипывая колесами, медленно катилась вдоль безжизненных сооружений. Рыцарь Венсан де Брие негромким голосом подсказывал вознице, где нужно было сворачивать, и через несколько минут ночные посетители Тампля остановились перед сержантской казармой.
— Это здесь, — сказал де Брие. — Выходим.
Из повозки на землю выбрались несколько темных фигур. В длинных плащах и с накинутыми на головы капюшонами они выглядели совершенно одинаково.
— В башню можно попасть только по специальному подъемному мосту, — тихо сказал де Брие. — Он начинается на крыше этой казармы и ведет прямо к единственной двери. Система рычагов и блоков мне хорошо известна. Потом я скажу, кому и куда нажимать. Пойдемте.
С этими словами он отпер казарму, и все вошли в пустое и мертвое помещение, до сих пор хранившее тяжелый запах мужского пота и солдатских одежд. И только здесь, внутри сонного здания, они зажгли один из факелов, приготовленных для дела. Эти факелы, спрятанные в кожаный чехол с лямкой, нес на плече не кто иной, как Луи Ландо.
Накануне Тибо познакомил Венсана де Брие со своим приятелем, и рыцарю не оставалось ничего другого, как взять с собой в ночную вылазку нового человека. Он понимал, что полностью доверять незнакомцу еще не может, поэтому приказал своему верному оруженосцу не сводить глаз со старого приятеля, быть с ним рядом в любую минуту и в любом месте. К тому же, хорошо зная короля, Венсан де Брие понимал еще и то, что Филипп, внявший просьбе молодого графа де Боже, мог вдруг спохватиться и поменять свое решение на противоположное. Он чувствовал, что времени на задуманное предприятие катастрофически мало. Вот почему, собрав небольшую группу помощников, которые, по его мнению, еще не превратились в единомышленников, Венсан де Брие так торопился.
По длинному коридору молча и сосредоточенно прошли они к лестнице, ведущей на крышу. Впереди уверенной походкой шагал рыцарь, чуть сзади, выставив перед собой факел, ступал Тибо, за ними, не отставая ни на шаг, двигались де Боже, Луи, Эстель и графский кучер Юрбен, крепкий мужчина средних лет со свирепым выражением лица, но мягким и отзывчивым сердцем. Все уже откинули на плечи капюшоны, и теперь, оказавшись в незнакомом, едва освещенном месте, вертели головами, стараясь привыкнуть к новизне ощущений.
Поднявшись на крышу казармы, покрытую черепицей и почти плоскую, ночные посетители увидели, что подъемный мост опущен. Начинаясь неподалеку от люка, через который все взобрались на крышу, он с небольшим наклоном вел вверх — к каменному выступу в стене, сделанному в виде порога перед единственной входной дверью в Главную башню крепости Тампль. Башня отстояла от здания казармы не более чем на десять туазов, но в темноте дождливой ночи другой конец подвесного моста терялся во мраке. Каково же было удивление Венсана де Брие, когда, пройдя по этому мосту, он обнаружил, что массивная дубовая дверь, укрепленная коваными железными пластинами, оказалась нараспашку открытой.
— Здесь что-то не так, — тихо сказал он, поворачиваясь к де Боже. — Вход в башню запирался всегда. После ареста Великого магистра здесь были многочисленные обыски, но в конце концов башню заперли и оставили в покое.
— Может быть, стоит вернуться к начальнику стражи и спросить, в чем дело, — предложил молодой граф.
— Нет, отдавая нам ключи, стражник не проявлял признаков беспокойства, — ответил де Брие. — Стало быть, он был уверен, что все двери в Тампле заперты.
— Выходит, там кто-то есть? — Голос Эстель задрожал. Она спряталась за спину Тибо и осторожно выглядывала оттуда. — Я боюсь заходить внутрь, я боюсь призраков!
— Призраков бояться не стоит, девочка, — спокойно ответил де Брие. — Гораздо опаснее могут быть живые люди. Мы сейчас все выясним.
— Мессир, я пойду вперед! — заявил Тибо. — Луи, держи факел.
— Нет, первым пойду я! — Голос рыцаря оставался твердым и решительным. — Нужно зажечь еще один факел, и пусть кто-то идет рядом со мной, а кто-то замыкает движение.
С этими словами де Брие достал из-за пояса длинный кинжал и решительно шагнул вперед. Рядом — с факелом в одной руке и кинжалом покороче в другой — ступал верный оруженосец. Следом двигались остальные, замыкал процессию со вторым факелом Луи Ландо.
Пройдя несколько футов по узкому проходу, они миновали толщу стены и оказались перед разветвлением коридоров. Здесь рыцарь остановился, подняв руку и показывая, чтобы остановились и замерли все. Так простояли они некоторое время, прислушиваясь.
— Ты что-нибудь слышишь, Тибо? — шепнул де Брие.
— Кажется, там наверху какие-то звуки, — ответил оруженосец.
— Голоса?
— Голоса, — согласился Тибо.
— Сейчас проверим. Отдай факел, пойдем без света, — сказал рыцарь.
Приказав остальным оставаться на месте и ждать, Венсан де Брие и Тибо стали медленно и бесшумно подниматься по железной винтовой лестнице, ведущей к вершине башни. Вскоре их глаза привыкли к темноте. Через каждые два полных витка ступенек открывались коридоры, ведущие к различным помещениям. По коридорам гуляли сырые сквозняки. Везде было темно и зябко.
Постепенно где-то вверху замаячили отсветы огня. Рыцарь и оруженосец замедлили шаги и снова прислушались. Теперь совершенно ясно послышались человеческие голоса, но невозможно было определить, скольким людям они принадлежат.
— Кто это может быть, мессир? — шепнул Тибо за спиной Венсана де Брие.
— Уж во всяком случае, не призраки, которых так боится Эстель.
— А если их много и они вооружены?
— Много их быть не может, иначе они производили бы гораздо больше шума, — рассудил де Брие. — А что касается оружия… Ты разве разучился драться?
— Конечно же, нет. Однако сейчас мы не на войне, мессир. И драться с кем бы то ни было в мирное время…
— Знаешь, Тибо, если ты верен мне и если ты верен тому делу, которому служу я, ты должен быть решителен и непреклонен в любое время — мирное или военное.
— Хорошо, мессир, по вашему приказу я убью всякого, кто бы ни встал передо мною.
— Я не сомневаюсь в тебе, мой верный друг. Пошли дальше. Кажется, я знаю, где эти призраки находятся. На следующем этаже располагаются комнаты, которые занимал Великий магистр.
Они поднялись еще на несколько ступеней, и свет, падающий сверху, стал намного ярче. Вскоре Венсан де Брие и Тибо увидели факел, вставленный в кольцо, прикрепленное к стене. Часть коридора была хорошо освещена, из открытой двери в четырех шагах от угла послышались внятные голоса.
— …но мы не можем вернуться с пустыми руками!
— Я знаю это не хуже тебя. Продолжай искать.
— Я уже третий раз просматриваю одни и те же полки. И ничего нет. Он убьет нас!
— Не ной! Пролистывай каждую страницу.
— Я так и делаю.
— Да, в скверную историю мы с тобой попали!
Снова наступила тишина, было слышно только шуршание пергамента.
— Сеньоры, вам помочь? — Голос Венсана де Брие прозвучал как гром среди ясного неба. — Что ищут в библиотеке Великого магистра Жака де Моле двое священников в столь позднее время?
Рыцарь вошел в помещение и встал у двери, как скала. За его спиной остановился Тибо. Двое священников в черных сутанах от неожиданности вздрогнули и повернулись перекошенными от ужаса лицами к вошедшим. Увидев блеснувшие кинжалы, оба повалились на колени.
— Не убивайте нас, благородный сеньор! — взмолился тот, что минуту назад приказывал другому что-то искать среди книг. У него было слегка одутловатое, рябое лицо и густые черные брови.
— Не убивайте, мы простые люди, мы действуем по приказу епископа Парижа! — воскликнул второй, похожий на засохший лист из гербария.
— Весьма интересно узнать, что приказал вам его преосвященство Гильом де Бофе? И почему этот приказ нужно выполнять под покровом ночи? И каким чудесным образом вы проникли в Главную башню Тампля, если ключи от нее находились у начальника стражи? Ну! У меня мало времени, а вопросов так много, и я жду объяснений.
— Благородный сеньор, — сказал первый священник, продолжая оставаться на коленях, — мы готовы рассказать вам все, что знаем, только не убивайте нас…
— Все будет зависеть от правдивости вашего рассказа, — уклончиво ответил де Брие.
Он прошел в комнату и сел на короткий диван, приставленный к одной из стен между книжными стеллажами. Тибо остался стоять у двери.
— Ну, я слушаю, — сказал рыцарь, подав знак священникам, позволяющий встать с колен.
Те выпрямились и теперь стояли, прислонившись спинами к шкафу с рукописными книгами, в котором только что рылись. При этом оба молитвенно сложили руки на груди, смиренно опустив глаза к полу.
— Дело в том, сеньор, что его преосвященство епископ Парижа послал нас сюда по весьма деликатному и тайному делу…
Первый священник замолчал, искоса поглядывая на своего товарища.
— Продолжайте! — властно сказал де Брие, перекладывая кинжал из одной руки в другую.
— Нас убьют, если мы кому-то расскажем… — сказал второй дрожащим голосом.
— Поверьте, я не стану доносить на вас его преосвященству, — улыбнулся де Брие.
Первый священник помялся, потом продолжил объяснения.
— Дело в том, что два дня назад заболел папа Климент, — сказал он. — Однако вызванный к нему лекарь не смог определить причину недомогания его высокопреосвященства.
— А что с ним?
— Гм, как бы это сказать… Из него внезапно стала литься вода…
— То есть?
— Ну, понимаете, сеньор, обычно у человека вода льется только из одного отверстия…
— Ах вот что! — Венсан де Брие переглянулся с Тибо. — Может быть, папа просто чем-то отравился?
— Что вы! Ни он сам, ни кто бы то ни было в его окружении не допускают этой мысли! И потом, по словам епископа Парижа, который всё своё время проводит возле больного, весь этот… процесс сопровождается мучительными болями… Папа очень страдает!
— Но я не вижу связи между этим безусловно неординарным событием и тем, что вы под покровом ночи проникли сюда!
— Дело в том, благородный сеньор, что в период короткого облегчения папа высказал мысль о том, что на него так может подействовать проклятие Жака де Моле, произнесенное им перед казнью.
— И поделом! — воскликнул де Брие, оживившись. — Если это так, то господь как никогда проявляет свою высшую справедливость!
— Благородный сеньор, мы не знаем, кто вы, — с дрожью в голосе выдавил из себя «плоский» священник, — но вы сейчас говорите страшные вещи…
— Вы так считаете? Хорошо, я скажу вам, кто я, но прежде вы сами расскажете, что делали здесь.
— По приказу его преосвященства мы искали здесь книги по магии, манускрипты или какие-то записи, принадлежавшие Жаку де Моле, и в которых можно было бы отыскать способы избавления от проклятия.
— Теперь все стало ясно! — сказал де Брие. — Папа считает, что Великий магистр был колдуном! Но это утверждение само по себе является ересью и святотатством!
Священники угрюмо переглянулись, но никто из них не стал возражать против заявления вооруженного незнакомца.
— И последний вопрос: как вы сюда проникли, минуя стражу?
— Нам известен тайный подземный ход, — ответил первый священник. — А ключ от Главной башни давно был подделан, и его преосвященство епископ Парижа дал нам дубликат.
— Что ж, — заключил де Брие, поднимаясь с дивана, — я вижу, что вы не стали скрывать от меня истинную причину вашего странного пребывания здесь. Полагаю, пришел черед и мне открыться перед вами. Но прежде чем я это сделаю, скажу лишь то, что диктует мне сердце и честь воина. Великий магистр Жак де Моле никогда не был ни колдуном, ни алхимиком, ни сторонником какого-либо иного дьявольского ремесла. Он был благородным и мужественным человеком, истинно порядочным и истинно верующим в Бога. И если ему довелось десять дней назад произнести свои пророческие слова, то это значит, что он до последней своей минуты свято верил в Его высшую справедливость. И теперь, коль скоро папа действительно заболел, я полагаю, в ближайшее время должно свершиться торжество этой справедливости.
— Кто же вы, сеньор?
— Я — граф Венсан де Брие, рыцарь Ордена тамплиеров и в данное время являюсь прецептором Франции. И пока бьется мое сердце и сердца таких же благородных рыцарей, разбросанных по всему свету, Орден будет жить! Он разгромлен, но не погиб. Теперь вы понимаете, сеньоры, что отпускать вас на все четыре стороны для меня равносильно смерти?
— Пощадите нас, ваша милость! — взмолились священники, снова падая на колени. — Мы никому не расскажем о нашей встрече!
— А вот тут я позволю себе не поверить вам. Как только вы окажетесь на свободе, тут же наперебой станете докладывать епископу Парижа обо мне, и тот непременно организует поиски и погоню. А мне это вовсе ни к чему.
— Мы не сделаем этого, бог свидетель!
— Ваши слова, как и слова любого священника в наше время, ничего не стоят! Все вы лживы и продажны. И потом, не вы ли говорили несколько минут назад, что вас убьют, если не отыщете нужной книги в этой библиотеке? Так не лучше ли вам умереть от руки благородного рыцаря, чем от жалких палачей инквизиции?
Через минуту, сняв со стены факел и освещая ступени перед собой, Венсан де Брие и Тибо уже спускались вниз.
— Нас, наверное, заждались, — твердым голосом сказал рыцарь.
Тибо не ответил. Его руки и губы дрожали.
2
Общение людей — самых разных и по различным поводам — наполняет жизнь смыслом. С этим трудно спорить, да и не станет никто этого делать. Совершенно иное — способы общения, тут уж с особенной наглядностью очевиден технический прогресс цивилизации. От марафонца Фидиппида — до мобильного телефона, от почтовых голубей — до Скайпа. Казалось бы, научившись в одно мгновение преодолевать немыслимые расстояния и с помощью радиоволн отыскивать нужного человека на противоположной стороне земного шара, люди должны были бы стать не просто доступнее друг для друга, они должны были бы стать ближе — в полном смысле этого слова. Но почему-то не становятся… и как это объяснить?.. Может быть, гарнитура Bluetooth возле уха или подернутое легкими искажениями лицо собеседника в Scype, при всей гениальности этих изобретений, лишает людей самой малости — обыкновенной тактильности, и в этом, наверное, всё дело… А как иногда хочется, общаясь с человеком, как бы случайно коснуться его теплой руки, насытиться натуральным цветом волос и глаз, вдохнуть тонкий аромат ненавязчивых духов или просто чистого тела…
«Кстати, о снах. Раньше я думал, что есть лишь одна область человеческой жизнедеятельности, в которой каждый, независимо от социального статуса и достатка, лишен возможности да и необходимости носить ту или иную маску. Это — сон, здесь любой человек открыт и чист, как младенец. Однако в последнее время — уж не помню, когда это началось — мне стало казаться, что во сне у человека помимо его воли наступает какая-то особая ответственность, причем, не только перед собой. Иногда складывается впечатление, будто события, в которых приходится подсознательно участвовать, они каким-то образом оказываются чрезвычайно важны, значительны и, мало того, требуют приложения недюжинных усилий. И уже никакой открытости, никакой чистоты. Опять маски… Это отдельная тема, и мне не хочется ее сейчас развивать. Может быть, когда-нибудь…
Скажу о другом. Недавно жена меня спросила: всё ли в порядке? Она не читает мою почту, где может среди обширной корреспонденции наткнуться на твои письма. Она просто что-то чувствует, наверное… Я, конечно, соврал, сказал, что ничего не произошло, просто в одном из литературных конкурсов не оценили так, как я рассчитывал. Жена успокоилась, я ее знаю. А вот дочка — та как-то по-особенному чувствует. Приласкалась однажды вечером и тихо так спрашивает: — Пап, а почему у тебя в последнее время такие грустные глаза? — Это тебе показалось, говорю, у меня всё в порядке. А сам думаю: перегрустил я, перемаскировался, что ли, чтобы не показать своего нового счастья — виртуального, с теплым именем Инна. Это вовсе не означает, что отныне мы уходим в глубокое подполье. Это вовсе не означает, что я издалека, исподволь подхожу к финалу нашей истории. Просто я не могу им объяснить, что у каждого из супругов, даже счастливых в браке, в душе есть уголок, недоступный для другого: это та ниша индивидуального одиночества, куда порой хочется спрятаться даже от счастья; это тот единственный уголок, где душа остается наедине с Богом и с тем подарком, который Он преподносит тайком.
А наша история непременно будет продолжаться до тех пор, пока мы сами не поймем, почему она случилась. Ты не против?
Вот, вспомнился эпизод из жизни. Почему именно сейчас — не знаю. Как-то я сидел в парикмахерской и, как водится, разговорился с девочкой, что меня стригла. Оказалось, что она, кроме основной специальности, занимается еще изготовлением кукол и костюмов для них. Эти куклы играют в каком-то любительском театре. Я даже не знал, что у нас в городе есть такой. И вот она готовила спектакль «Снежная королева», и никак не могла придумать образ этой самой королевы. Вроде бы и платье изготовила королевское, и куклу с соответствующей осанкой — но что-то было не то. Подскажите, если можете, — попросила меня эта девочка после того, как я рассказал ей, что сам кое-что пишу. И я сказал: сделай королеве грустные глаза. При всем ее богатстве, практически неограниченной власти в своем королевстве она, эта Снежная королева, по сути — очень одинока, а это уже совсем иная драматургия…
…Я вот спрашиваю себя: достоин ли я того, что происходит? Не ответив на вопрос причинный: почему это происходит? — я уже пытаюсь определить такой подарок судьбы качественно: достоин ли я его? Может быть, я иногда более сдержан в словах, чем тебе бы хотелось. Может быть, пишу не так часто, как тебе бы хотелось. Но ты ведь и так всё понимаешь и чувствуешь — между строк. За немногими словами, за порой скупыми фразами прячется мое большое и открытое сердце, в котором с недавнего времени отыскался уголок для тебя. И я готов отдавать столько, сколько ты способна унести. И пусть мне поможет Тот, Кто всё это придумал».
* * *
«Знаешь, в детстве мне казалось иногда, что настоящая жизнь моя происходит во сне, а то, что наяву — наоборот, скучный или страшный сон.
Вот почему, наверное, есть несколько снов, которые я помню явственно, но они какие-то были — ни к чему, не вещие, хотя, казалось бы, такими только и быть вещим снам. Особенно один, снился лет десять назад, волшебный, сказка. Вечер, сумеречно, но ещё всё видно. Я иду с мальчиком, может, братом. Лес тёмный уже, неразличимы деревья, а дорога в траве — чернеет, вернее — тропа. Трава тёмно-зелёная, густая, каждый стебелек — отдельно. В траве пасутся белые единороги. Один настроен к нам доброжелательно, подходит, берёт горбушку хлеба с ладони, идёт с нами. Впереди — белый зАмок. Вокруг него — галереи по спирали со сложными переходами, поворотами, типа веранды: открыты на улицу с одной стороны. Мы входим в эти галереи и вдруг понимаем, что за нами — погоня. Какие-то стражники с алебардами в блестящих шлемах мчатся за нами. Единорог бьёт копытами и встаёт на дыбы в этом тесном пространстве, будто пытается защитить нас, а мы бежим, задыхаясь, из последних сил, кажется, что вот-вот — и нас схватят. Выпрыгиваем с галереи, с высоты — как часто бывает во сне, приземляемся без потерь, но и тут бегут за нами стражники… И вдруг впереди начинает полыхать северное сияние, и мы знаем, что это — волшебный портал, один только шаг в него — и всё, мы спасены. И как только я хотела сделать этот шаг… конечно же, проснулась…
К чему мне приснилось это чудесное спасение в самые беспросветные дни моей жизни? К тому, чтобы я верила, что всё будет ещё? По крайней мере, после этого сна никаких чудес со мной не произошло. Сейчас вот только — когда письмо от тебя пришло. Самое первое.
А недавно мне снился другой сон… такая библиотека, как в средневековых университетах (можно подумать, что я там была — смешно!) или в английских домах — старинная коричневая мебель, темная, дорогая, покрытая лаком, стеллажи, книги — тоже старинные, с золотым тиснением на корешках… я там библиотекарем работала… Пришёл мужчина с сыном — таким, не очень большим, лет шести, стали книжки выбирать, листать… и он говорит мне, что у него ещё дочка есть, тоже ей надо хорошую книжку… Вот и всё. Казалось бы, что тут такого? На ретро потянуло, что ли? Да нет. Просто библиотека снится к тому, что в жизни человека скоро появится Учитель.
Андрей, дорогой, может быть — это ты?.. Может быть, где-то спрятан какой-то секрет для меня, а ты пришел подсказать, как его добыть? Нет, я уже вообще в мистику какую-то погрузилась, надумала себе Бог весть что. От избытка чувств, наверное. Я ведь давно ни на что не претендовала, а тут… Поднимаю глаза к небу. Спасибо Тебе, что дал такое счастье (это говорю я Ему), спасибо, что дал такой дар — Любить. Как оказалось, не всем дано… Когда мы маленькие (это я по себе сужу), не понимаем, что все люди разные. Кажется, чтО тебе дано — тО и другому. Обижаемся, когда не понимают… как это — не понять, если все одинаковые? Это и Таня мне говорила, что она, когда маленькая была, тоже думала, что все люди видят ауру (тогда думала, что все цветные: большинство — серые, кто-то — радугой, кто розовый, кто — пятнами, как жираф). А я считала, что все, как я, думают рифмами. Представляешь, было со мной в детстве. Родители даже пугались. Потом ушло…
А что до твоего вчерашнего письма и заключительной фразы… знаешь, существует закон всемирного равновесия. Сколько души отдашь в пространство, столько к тебе и возвратится. Ты считал, сколько отдал?.. Я — просто инструмент отдачи. Так и воспринимай. Не надо задавать вопросы: достоин — не достоин. Если уж так случилось, какой мерой измерить доверие, или счастье, или любовь? Если знаешь такую — мерь, а я отдаю щедрой рукой и мерить не хочу, не хочу задавать вопросы о том, достоин ли кто-нибудь моего чувства. Поверь, в жизни моей бывали такие случаи, когда чувство доставалось, казалось бы, недостойному человеку… оно кончалось быстро… но после — оставались стихи, опыт… может быть, мудрость… чуть-чуть… Но тебе-то — грех такие вопросы задавать. Ты и сам прекрасно знаешь, что любят не за какие-то там достоинства, а просто так, ни за что.
Знаешь, Андрей, были такие у меня моменты, когда хотелось обратиться к Нему, лично, попросить что-нибудь для себя. Вот, собираюсь, формулирую, напрягаюсь несколько дней, готовлюсь… Думаю: как останусь одна, то есть никто не помешает, не прервет моего «контакта» — попрошу денег там, квартиру, жильё отдельное, ещё какие блага. А сама с собой — не полукавишь. Что мне материальные блага, если я знаю, как летаешь — когда любишь?.. И вот, когда наступал час Х, и я оставалась наедине с собой, когда только и возможно просить что-нибудь у Него (это как та ниша, про которую ты говорил), у меня не поворачивался язык просить материальное. Я всегда говорила: «Господи! Дай мне ещё раз полюбить!..» Долго Он колебался. Может, подбирал для меня кого-то? И вот, дал… Нет, чтобы добавить: «Свободного и взаимно!» Ума не хватило на это… только на любовь. Но, наверное, слишком много чуда в одном флаконе не бывает — или любовь, или свобода, или взаимопонимание…»
ГЛАВА 6
1
В центре основного коридора находилась еще одна винтовая лестница, широкая настолько, что по ее ажурным металлическим ступеням одновременно могли спускаться или подниматься два человека. Лестница вела в небольшую подземную церковь, которая была местом для усыпальниц предшественников Жака де Моле. Магистров решено было хоронить под полом, под огромными каменными плитами. Впрочем, в Тампле, как было хорошо известно, пока был захоронен только один человек.
— Кто был там, наверху? — с тревогой спросил Гишар де Боже, когда де Брие с оруженосцем вернулись, наконец, к ним. — Признаться, мы тут сильно волновались за вас…
— Пустяки! — небрежно бросил де Брие. — Теперь в башне кроме нас никого нет, и помешать никто не сможет. От этого места наш путь лежит вниз. Иногда приходится устранить помеху вверху, чтобы опуститься до самого дна. К делу!
Он взял из рук Луи факел и уверенно шагнул на первую ступень. Она отозвалась приглушенным звоном. Эстель, понимая, что только рядом с рыцарем может находиться в безопасности, шагнула вслед за ним. И вдруг замерла на полушаге. И сердце ее забилось вдвое быстрее, и к горлу подкатил ком. Она увидела кровь на заткнутом за пояс кинжале Венсана де Брие.
— Сеньор, — жалобно позвала девушка, — вы… кого-то убили?
— Ради твоей жизни, девочка, — ответил рыцарь, и по его тону Эстель поняла, что ни на какие вопросы он больше отвечать не намерен.
Вскоре все шестеро оказались в довольно просторном квадратном помещении с низким куполообразным потолком. Сюда вела только одна широкая дверь, войдя в которую ночные гости вдохнули тяжелый, спертый воздух настоящего подземелья.
Венсан де Брие приказал добавить огня, и когда света стало больше, глазам тайных посетителей усыпальницы открылись плиты пола, покрытые причудливым орнаментом, и две довольно толстые колонны, расположенные напротив входа. Вдоль стен было устроено несколько ниш с каменными скамьями и подставками для молитвенников, а над каждой в стенах оказались вмурованными кольца для крепления факелов.
Луи Ландо и Юрбен вставили в эти кольца четыре факела — по одному с каждой стороны помещения. Стало светло, как если бы в окна пробивался свет пасмурного дня, но этого освещения было вполне достаточно для того, чтобы осуществить задуманное.
Все шестеро собрались в центре крипты. Сообщники сгрудились вокруг Венсана де Брие, от которого теперь ждали дальнейших указаний. Рыцарь посмотрел на своих спутников, по очереди обведя всех глазами. Он понимал, что от его решения теперь зависела судьба не только спрятанных под ногами сокровищ, но и жизнь всех этих людей, так или иначе втянутых в опасное предприятие. Но обратной дороги уже не было. И он это понимал, как никто другой.
— Гишар! — сказал де Брие с некоторым пафосом. — Я знаю, что не один раз ты приходил сюда молиться над останками своего дяди, не подозревая, что их тут нет. Ты был искренен и сквозь толщу этих стен обращал свой взор ввысь, к Отцу Небесному, прося у Него вечного покоя для близкого тебе человека. Но твоему дяде, Великому магистру Гийому де Боже, пришлось даже после смерти выполнять почетную и очень ответственную миссию: своим высоким именем охранять бесценные реликвии христианства. И сегодня мы пришли сюда для того, чтобы освободить его дух от этой миссии, дать ему настоящий покой и открыть светлый путь в царствие небесное. И да поможет нам Господь в наших усилиях!
Венсан де Брие перекрестился. То же сделали остальные. Наступила пауза, все взоры были направлены на рыцаря. А тот стоял, будто задумавшись, и долгим, отрешенным взглядом смотрел в одну точку. Его величественная фигура с правой рукой, сжимающей рукоять кинжала, была похожа на изваяние.
— Мессир, — нарушил молчание Тибо, — а что мы должны делать?
— Да, друзья мои! — ответил Венсан де Брие, будто встрепенувшись. — Я взял вас с собой, намеренно ничего не объясняя заранее. Это было сделано в интересах сохранения тайны и безопасности нашего предприятия. Но настало время. Сейчас я укажу вам место, в котором нам предстоит провести раскопки…
— Раскопки? Чем? — спросил Тибо. — У нас нет никакого инструмента!
Оруженосец чувствовал себя единственным из всех, кто может говорить с рыцарем на равных.
— Нам ничего и не понадобится, — спокойно ответил де Брие. — Одна из плит пола довольно легко сдвигается, нужно просто знать секрет. А под ней… Под ней мы обнаружим то, что в свое время было спасено тамплиерами, нашими далекими предшественниками от разграбления и поругания врагами христианства. Все, что мы поднимем из могилы и достанем из этих двух колонн, которые тоже являются тайником, мы перевезем сегодня же ночью в дом графа Гишара де Боже для временного хранения, а позже я укажу ему, куда с этими сокровищами следует отправиться дальше. И мне очень хочется верить, что никому из вас не придет в голову мысль предать своих товарищей и это великое дело.
— Мессир, я навеки с вами! — воскликнул Тибо.
— И я тоже! — подхватил Луи Ландо, восторженно глядя на рыцаря. — Я благодарен вам за то, что поверили мне и не оттолкнули. Говорите же, что нам теперь делать.
— Вот эта плита. — Венсан де Брие указал рукой в сторону одного из углов крипты. — Нужно, чтобы три человека встали с дальней стороны, и я скажу, как ее сдвинуть.
* * *
— Ты сомневалась, что все пройдет хорошо?
— Признаться, да! — Глаза Эстель сияли. — Но я до последнего верила вам, сеньор. И продолжаю верить теперь, когда всё закончилось. Я понимаю, что мне довелось участвовать в очень важном деле…
— Ты даже не представляешь себе, в каком важном! — подчеркнул де Брие. — Правда…
Он не договорил, будто смутные сомнения в его сердце снова напомнили о себе.
— Что-то получилось не так? — Девушка чутко уловила смену настроения рыцаря. — Я далеко не всё знаю и понимаю, сеньор…
Они сидели в маленькой беседке, затерявшейся в саду Гишара де Боже. Дождь давно кончился, но с голых веток все еще падали капли, звонко ударяясь о натянутый над беседкой купол из тонко выделанной свиной кожи. В ослепительно голубом весеннем небе сияло умытое до блеска солнце. Земля парила, придавая воздуху терпкость обновления.
— Тебе пока и не нужно все знать и понимать, — хмуро ответил де Брие. — Впрочем, не обижайся, если я тебя чем-то обидел.
— Что вы, сеньор! Для меня самая высокая честь находиться рядом с вами, к тому же иногда быть полезной. И мне вполне хватает того, что я знаю о вас. Дело слуг задавать меньше вопросов.
— Но ты ведь не служанка, Эстель! Я не нанимал тебя в услужение, поскольку давно привык во всем обходиться собственными силами. Разве что Тибо всегда был рядом.
— Всегда?
— Нет, последние несколько лет.
— А раньше?
— А раньше были походы и сражения с мусульманами: одно переходило в другое, будто сама смерть смешивала тысячи людей, просеивая их сквозь свои корявые пальцы. Я не раз видел, как люди умирали вокруг меня, это были и друзья, и враги. Я искренне сочувствовал первым и ничуть не жалел вторых, я хорошо понимал, что жизнь человеческая ничего не стоит, если на карту поставлена истинная вера. За веру и справедливость нужно биться, не щадя ни врагов, ни себя самого.
— Но разве убивать людей — это справедливость? Жизнь, подаренную Богом, может отнять только сам Господь.
— Он и делал это, только руками своих воинов!
— Но ведь погибали не только мусульмане, но и рыцари, — возразила Эстель. — И слуги, и оруженосцы, и те, кто просто помогал тамплиерам, и случайные люди. Чьими руками в этих случаях управлял Бог?
— Погибали слабые, кому не уготовано было главное испытание — пройти всё до конца. Да, это испытание, Эстель, — пройти до конца. И здесь Господь сам простирал руку и снимал с шахматной доски ненужные ему фигуры.
— А вы, сеньор…
— А мне была подарена жизнь, опыт и знания для той миссии, которую я пытаюсь сейчас выполнить. И пусть кто-то скажет, что эта миссия легче смертельной схватки с тысячей сарацин!
— Но я не знаю, что это за миссия, — робко вставила Эстель. — И не могу судить…
— Я скажу тебе, — ответил де Брие, — но… не сейчас…
В это время по желтой песчаной тропинке к ним приблизился хозяин дома. Молодой граф был в приподнятом настроении, хотя следы озабоченности отражались на его лице.
— Все готово, сеньор! — сказал он, искоса поглядывая на Эстель. — Кроме кучера со мной поедут еще двое надежных людей. Они считают, что гроб настоящий, и искренне сочувствуют моим переживаниям.
— И пусть! Нам не нужны лишние глаза и уши. — Де Брие поднялся, взял графа за локоть и отвел в сторону. Лишними ушами в данную минуту оказались и уши Эстель. — А теперь, друг мой, я скажу тебе то, что собирался сказать накануне отъезда. Ты, наверное, думаешь, что с этим грузом должен отправиться в свое родовое поместье в Клюни, а там спрятать артефакты в фамильном склепе?
— Если честно, я действительно так думал, — ответил молодой граф, учтиво кивнув, и в его голосе зазвучали нотки тревоги. — Но теперь я понимаю, что вы приготовили для меня иной маршрут…
— Ты догадлив, мой друг.
— Это Ла-Рошель? А потом — Кипр или другое место?
— А вот теперь не угадал. — Рыцарь понизил голос. — Если за нашими действиями кто-то сумел проследить, а я до сих пор не исключаю этого, то было бы верхом неразумности искать укрытия в тех местах, которые ты называешь, Гишар. Эти точки на карте земли слишком известны и доступны, равно как и ваше родовое поместье. И у меня нет никакой уверенности, что всё останется в полной тайне. Люди папы или короля достаточно изворотливы и хитры, и те и другие сумеют найти возможность незаметно расковырять эти точки в поисках спрятанных сокровищ. Но ты, Гишар, поедешь в другое место. И это место — Аржиньи.
— Да, сеньор, это еще один замок, принадлежащий нашей семье! — сказал молодой граф, удивленно глядя на де Брие. — Я бывал там еще в раннем детстве. Но откуда вы о нем знаете?
— Это моя обязанность, Гишар: знать и пользоваться знаниями. Аржиньи находится за пределами владений Филиппа, на берегу Роны. Когда-то и я бывал в тех местах.
— Я хорошо помню Аржиньи, — сказал молодой граф. — Когда мы с отцом приезжали туда, эти сводчатые входы, эти толстые стены и башни, эти глубокие рвы вокруг замка производили на меня неизгладимое впечатление. Мне тогда казалось, что место это очень старинное, хотя сегодня я знаю, что замку всего около сотни лет.
— И ты поедешь именно туда, Гишар. И сделаешь это немедленно!
— Может быть, стоит дождаться ночи?
— Нет, мой друг, — возразил де Брие. — Мы попрощаемся с тобой прямо сейчас, и ты отправишься в путь, не задерживаясь ни минуты.
— Я понимаю, как важно сохранить тайну. Но почему все же такая спешка?
— Потому что Тибо со своим другом детства к вечеру придут сюда для ночлега. И когда они появятся, ты будешь уже далеко от Парижа. Никто не должен знать, когда ты выехал и куда.
— Вы полагаете, что Луи…
Де Брие покачал головой.
— Это новый для меня человек. Я должен быть уверен полностью.
Он положил руки на плечи молодому графу и по-отечески заглянул в его пытливые и преданные глаза.
— На тебя возложена очень ответственная миссия, Гишар. Постарайся справиться с ней по-рыцарски достойно. Когда-нибудь, в лучшие времена, мы еще вспомним с тобой это приключение. А сейчас ступай. И прости, что я втянул тебя в это дело…
— Что вы, сеньор! О нашей встрече я буду помнить всю оставшуюся жизнь!
— Да, и вот еще что… — Венсан де Брие осекся, будто до последней минуты не решался сказать молодому графу чего-то очень важного. — Я хочу попросить тебя еще об одной услуге. У меня просто раньше не было возможности об этом узнать…
— Я слушаю вас со всем вниманием, сеньор.
— Когда будешь дома, — приглушенным голосом сказал де Брие, — когда разместишь всё привезенное, поищи в архиве документ, составленный Великим магистром Жаком де Моле. Он называется простым словом «Список». Узнай из этого документа всё, что сказано о Ковчеге завета, а главное — где он спрятан. Потом пришлешь ко мне в Париж самого надежного из своих людей с одним только словом, которое он должен сказать мне, Венсану де Брие, и никому другому. Ты всё понял?
— Да, сеньор. Я всё исполню, не сомневайтесь.
— Что ж, ступай с Богом.
Они обнялись, крепко, по-мужски прижавшись друг к другу. Потом, кивнув издалека Эстель, Гишар де Боже резко повернулся и пошел прочь. Он понимал, что может больше никогда не увидеть этих людей.
Венсан де Брие перекрестил удалявшуюся фигуру.
* * *
— Такого испытания у меня еще не было!
— Ты жалеешь? — спросил Тибо, заглядывая в глаза Луи.
— Что ты! Напротив! Тем более что твой хозяин так щедро меня отблагодарил.
— Ты только поменьше болтай языком, хорошо?
— Неужели ты мне не доверяешь? — Луи сделал вид, что обиделся. — Тогда не нужно было и приглашать.
— Ты прекрасно знаешь, что без твоей помощи мы не могли обойтись, просто не хватило бы мужских рук.
— Знаю, знаю, — примирительно произнес Луи. — А эта Эстель ничего так, а? Я бы с ней не прочь позабавиться!
— Попробуй, — усмехнулся Тибо. — Тогда де Брие, не дрогнув, свернет тебе шею.
— Знаешь, я как-то об этом догадываюсь, — парировал Луи.
Они выпили по кружке терпкого вина, потом еще по одной. Беседа двух старых приятелей после бессонной ночи постепенно стала угасать. Рыжая голова Луи клонилась все ближе к столу, светлые глаза тускнели и будто теряли привычную подвижность, а язык переставал слушаться.
— Что-то я устал, — пожаловался Тибо, чувствуя, что силы оставляют и его. — Пошли в нашу комнату, отдохнем.
— Если ты думаешь, что я откажусь, то сильно ошибаешься.
Шатаясь и поддерживая друг друга, они поднялись на второй этаж харчевни Одноглазого Жака, и уже через несколько минут, не раздеваясь, рухнули на кровати. Вскоре из комнаты, которую снимал Венсан де Брие со своим напарником, раздался мерный храп. А еще через несколько минут дверь комнаты тихо отворилась, и Луи Ландо, стараясь не шуметь, вышел в коридор. Взгляд его был настороженным, но ясным и чистым, как будто он вовсе не был пьян. Спустившись вниз, недавний сборщик бесшумно и незаметно, как хорошо умел, прошмыгнул на улицу, затем сначала крадучись, а потом быстрой и уверенной походкой направился в сторону Сите.
Через четверть часа он уже стоял у аккуратного одноэтажного домика, одного из десятков разместившихся вокруг резиденции епископа Парижа и похожих друг на друга, как бывают похожи священники в одинаковых сутанах, составляющие окружение папы. Подойдя к темно-вишневой двери, покрытой растрескавшейся от времени краской, Луи по привычке еще раз оглянулся по сторонам и постучал условным стуком.
— Входи, сын мой, — приглушенным голосом сказал аббат Лебеф, когда отпер дверь и узнал гостя.
Склонив голову, Луи проскользнул в полутемный коридор и остановился. Хозяин дома за его спиной немного повозился, запирая дверь, потом повернулся к вошедшему.
— Проходи, или ты забыл, куда идти? — сказал он. — Надеюсь, после столь долгого отсутствия ты принес хорошие новости?
— Благодарю, святой отец, я помню, куда идти, но только из почтения пройду в гостиную вслед за вами… А новости… полагаю, они придутся весьма кстати…
… Тибо проснулся, когда закатное солнце поравнялось с маленьким оконцем съемной комнаты и плеснуло в него на прощание багряным кипятком. Бывший оруженосец потянулся, разминая отяжелевшее тело, потом открыл глаза и сел, свесив ноги с кровати. На соседней койке, лежа на спине и сложив руки на груди, как младенец, тихо посапывал Луи. Тибо показалось, что тот улыбается во сне.
Торопливо спустившись вниз, бывший оруженосец справил нужду в проходящую за домом канаву, потом вернулся в комнату. Подойдя к кровати своего приятеля, он пнул ее ногой.
— Вставай, бездельник! Пора собираться.
Луи пошевелился, недовольно поморщился и с трудом разлепил веки.
— Что такое? — спросил он сонным голосом. — Я никуда не пойду.
— Ты что, еще не проспался?
— Тибо, друг, напомни, куда мы должны собираться?..
— Ты что, и вправду забыл, что ночевать мы будем в доме Гишара де Боже? Граф де Брие ждет нас там. И он просил не задерживаться допоздна.
— А-а, помню, — протянул Луи, опуская ноги на пол и мотая головой. — А Эстель тоже будет с нами ночевать?
— Оставь свои глупости!
— Да ладно, подумаешь!
Луи вдруг засуетился, ногами нашаривая под кроватью башмаки.
— Я сбегаю помочусь! — сказал он. — А ты пока закажи что-нибудь поесть. Я чувствую, как во мне просыпается зверский голод!
— Облегчишься по дороге! — отрезал Тибо. — И ужинать будем в другом месте. Одевайся быстрее.
— Зачем такая спешка? Мы что, на войне?
— Может быть, и так…
— Ну, приятель, тебе виднее…
Луи уже пришел в себя, протер сонные глаза и выглядел вполне бодрым. Через минуту друзья торопливо шагали по улице Жюиври в сторону Гревской набережной.
— Я вот только одного не пойму, — говорил на ходу Луи, — как твой хозяин собирается спрятать добытые сокровища? И почему их вообще нужно прятать?
— Ты разве не знаешь, что все предметы, взятые в подземелье, принадлежат Ордену? И архивы, которым уже около двухсот лет, представляют собой не меньшую ценность, чем корона Иерусалимских царей. Это — как знамя священного воинства: если оно попадет в руки врагов, можно будет считать Орден действительно погибшим.
— Да кто враги? Здесь, во Франции — кто враги? Мне точно известно, что мусульман в Париже не было и нет.
— А почему ты считаешь, что врагами могут быть только мусульмане?
— А кто тогда? — Луи сделал удивленное лицо, потом дернул приятеля за рукав. — Поясни!
— Король Филипп и папа Климент, вот кто! Или тебе неизвестно, кто организовал аресты тамплиеров, следствие, пытки и казни?
— Конечно, известно, вот только…
— Что?
— Только я думал, что после казни Жака де Моле все должно было закончиться.
— Как бы не так, Луи! Все только началось. И если раньше папа с королем были как бы заодно, то теперь каждый из них ведет свою собственную игру, каждый в отдельности пытается отыскать сокровища тамплиеров и раньше другого завладеть ими. И тот, и другой хитры и коварны, и тот и другой имеют в своем распоряжении большую сеть тайных агентов, разосланных во все концы Франции. Теперь ты понимаешь, как непросто будет нам избежать встречи с теми или иными.
— Понимаю, — согласился Луи. — Только папа вряд ли теперь станет гоняться за сокровищами…
— Это почему?
— Потому что он сейчас тяжко заболел и…
Луи осекся и сделал вид, что окончание фразы не стоит произносить, поскольку оно и так понятно собеседнику. Его рука сделала в воздухе замысловатый пируэт. Тибо замедлил шаг, пристально посмотрел на товарища, а тот продолжал идти рядом, не поворачивая головы и будто не замечая на себе подозрительного взгляда.
— А откуда тебе известно, что папа заболел?
— Так это… на улице слышал, на рынке, — ответил Луи. — Может, врут…
— Может, и врут, — согласился Тибо и нахмурился.
Он решил больше ни о чем не спрашивать и перевел разговор на другую тему. Так, о чем-то болтая, вскоре они подошли к дому графа де Боже и постучали в дверь. К ним вышел дворецкий — немолодой седоволосый мужчина с длинными усами, свисавшими вниз.
— Проходите, сеньоры, — простуженным голосом сказал он. — Его милость граф Венсан де Брие ждет вас в гостиной, я провожу.
— А твой хозяин? — спросил Тибо. — Он тоже дома?
— Его нет. — Дворецкий, будто извиняясь, развел руками. — И уже долго не будет.
— Как не будет? — Тибо переглянулся с Луи. — Почему?
— Еще утром, собрав две телеги багажа, сеньор уехал.
— Куда? — с неподдельной тревогой спросил Луи Ландо.
2
…Шло время, и неожиданно выяснилось, что, как мусорная куча в глубине двора — выросли, в сущности, никчемные, мелкие, пустые, но такие цепкие — не отвязаться — житейские дела. Они цеплялись друг за друга, они вырастали одно из другого, они делились и размножались, как клетки живого организма. То внезапно обнаружилось, что в холодильнике не хватает многих необходимых мелочей, то бельевая корзина вдруг стала чересчур полной, то из крепления почтового ящика бесследно исчез один из шурупов, и теперь зеленый футляр для почты, неестественно покосившись, выглядел как-то болезненно и чужеродно в монолитном ряду остальных. И нужно было всё решать самой, причем, не откладывая.
Так часто бывает, когда рутина отодвигает на второй план главное — то, что ты однажды назначил для себя, принял за основу бытия и стремился ему следовать неукоснительно. Бывают обстоятельства, все знают…
Но как при этом сохранить, не растерять, не расплескать то главное, чему до сих пор посвящал жизнь? Как найти время для заветной книги, которая давно отвыкла от прикосновения теплых человеческих пальцев и сиротливо следит за тобой с книжной полки? Как найти время для прогулки по любимому парку — зимнему, весеннему — не важно, прогулки, которая исподволь заряжает энергией и только тебе одному доступным вдохновением? Как, наконец, найти время, чтобы сказать кому-то самые важные слова — те, с которыми ты носился несколько дней, те — которых не бывает много, те — с которыми ты засыпал и просыпался…
Людям свойственны заблуждения и ошибки, далеко не каждому удается отыскать верную дорогу впотьмах. И только избранные освещают путь себе и остальным, хотя расплачиваются за это самой высокой ценой. Примеров тому немало, но как же хочется порой стать избранным лишь для одного единственного человека, которого ты, может быть, и случайно встретил в своей жизни — но встретил же… Иногда очень хочется быть избранными друг для друга — чтобы не заблуждаться, чтобы освещать… и не думать о той самой цене, и назначать ее самостоятельно… и отодвинуть весь накопившийся мусор, и навсегда забыть о нем…
«Сегодня ты — как огонёк, укрытый ладонями от ветра и дождя… знаешь, такая плошка каменная с фитильком, и горит огонёк — ровный, яркий… и хотя я и боюсь — ни за что не погаснет… он не очень сильно греет — только ладони и пальцы… но вселяет уверенность и спокойствие… мне так хорошо и спокойно с ним… и света вроде немного, а — светло… Снится или просто чудится… я бегу тебе навстречу по ромашкам, справа от меня — склон крутой, травой поросший, слева — берег реки с родниками и незабудками… так в деревне у меня было… я помню. Я была там, знаешь, такая — девушка с косой… старшеклассница, а ты-то — сегодняшний… Фигуру твою вижу, лицо. Представляю тебя каким-то, образ откуда-то навеян — стихами, что ли? К Солнцу моему спешу — по маленьким солнышкам. Как сердце бьётся, Андрей… что будет, когда добегу?..
Знаешь, с некоторых пор, после того, как я оказалась однажды в полшаге от Той стороны (банально всё: аппендицит лопнул, ну, и все прелести этого на меня хлынули — вспоминаю, и жутко становится!), я стала считать, что о моей любви человек должен знать с первого дня (не знакомства первого дня, а — любви). Кто знает, может, завтра я попаду под трамвай, а этого человека больше не полюбит никто… Или я буду его любить, а он знать не будет, а потом мы не пересечёмся, кто-нибудь из нас уйдёт на Ту сторону, и останется в наших отношениях досадная недосказанность. Конечно, я не пристаю ни к кому со своей любовью, ни в коем случае не навязываюсь. Это происходит только после шага навстречу с обеих сторон. Впрочем, происходило раньше — я давно уже не та. Эти люди, про которых я говорю, они не обязательно мужчины, даже большинство из них — женщины. Но бывали и такие мужчины, которые мне нравились очень, но — как друзья, собеседники, старшие товарищи… или, наоборот, это они искали во мне опору. Кратковременную такую. Подпитаться. Моей любовью. Пожалуйста, мне не жалко, тем более — сама люблю… Потом уходили к своим друзьям, к своим женщинам, мужчинам. Приходили другие, которым плохо… Знаешь, такой любовью можно любить одновременно нескольких человек. И это, наверное, не любовь всё-таки, а какая-то жертвенность, самоотдача ради кого-то. А может — болезнь… Я не знаю… И тут появился ты… свалился со звёздного неба… кометой… звездой… Солнцем… исполнителем желаний — ворвался в мои серые будни и зачеркнул всё прошлое, и дал старт новому измерению жизни, и забрал себе всё, не прилагая к этому никаких усилий. Как у тебя это получилось? Как-то так вышло, что никто стал не нужен и неинтересен — и это меня поражает больше всего. Ведь ты так далеко…
Я закрываю глаза… и сразу твои руки опускаются мне на плечи… и кружится голова… я наклоняю её немного назад… там — ты… тёплый… родной… желанный… ты наклоняешься надо мной… И сладко замирает сердце от твоих прикосновений… я еще наклоняю голову немножко назад и вбок, чтобы потереться щекой о твою руку… и что будет дальше, я не расскажу никому… Это только мой опыт…»
* * *
«Опыт — это то, что мы получаем взамен ошибок и несбывшихся желаний. Опыт — это часть эксперимента, в котором мы сами принимаем участие в качестве исследуемых объектов.
Каким бы оптимистом я ни хотел казаться, все равно считаю, что жизнь — жестока, несправедлива и горька. Всегда была, есть и будет. Потому что жизнь — это эксперимент над нами, людьми. И все мы в ней — подопытные кролики. Счастливой, беззаботной, легкой жизнь кажется, наверное, только тем, кто лишен возможности адекватно к ней относиться. Но мы называем таких людей сумасшедшими. Жестокость и несправедливость, постоянно сопровождающая нас — в быту, в транспорте, на работе, на рынке, в отпуске, да где угодно — настолько прочно вошла в нашу жизнь, что порой мы ее просто уже не замечаем, стало быть, научились не реагировать возмущением или сочувствием. И это — тоже наш опыт.
И люди, с которыми нас связывает судьба, — это составляющие одного большого эксперимента, к которому можно только прикоснуться, но который невозможно до конца постичь. Вот сказал и подумал, что этими словами могу тебя обидеть… Прости…
Помнишь, недавно мы говорили о снах? Сегодня я хочу тебе кое-что еще рассказать об этом. Представь себе, что какому-то человеку снится один большой долгий сон. Он повторяется чуть ли не через ночь, и каждый следующий эпизод совершенно четко и последовательно продолжает предыдущий. Это как сериал — с одними и теми же героями, отношения между которыми давно сложились определенным образом. И человек, о котором я говорю, всякий раз должен во сне, то есть в этой многосерийной истории, выполнять какие-то задания, участвовать в каких-то событиях, причем, он хорошо понимает, что от его решений или поступков часто зависят жизни других персонажей этого сна, этого сериала. А персонажей достаточно много, и все они разные по характеру, статусу, полу, наконец. Есть женщины, с которыми связано прошлое, есть те, с кем будто бы связано будущее. Есть друзья и есть враги, есть единомышленники и есть предатели. Всё как в большом и захватывающем кино, скорее — экранизации какого-то романа. И хуже всего то, что этот герой ничего не может противопоставить наваждению, он обречен участвовать в этой истории, поскольку она немедленно продолжается, как только он засыпает. Какой же выход — постоянно бодрствовать? Но человек ведь не может не спать вовсе, вот почему тот, о котором я тебе рассказываю, очень страдает от всего навалившегося, но ничего не может с этим поделать. Не идти же к психиатру! Не ровен час, еще и диагноз определенный может выискаться…
Представила, Инна? А теперь ответь, как бы ты сама относилась к человеку, если бы такой отыскался и попросил о помощи? Впрочем, о какой помощи может идти речь? Скорее — о сочувствии, не более…»
* * *
«Бывают такие моменты в природе, когда кажется, что всё это — небо, деревья, погода, косые лучи спрятанного за облаками солнца — как декорация в театре. Шла по улице и видела только что. С севера и востока наступала мгла, так бывает перед снегом, когда тучи полны его и несут уже из последних сил, готовые просЫпаться от любого шёпота и лёгкого дуновения, а не то что от ветерка. А над головой сияли высокие облака, словно софитами, освещённые невидимым солнцем, закрытым не мглой с северо-востока, а светлыми тучами запада. Освещение самое естественное, но показалось таким волшебным и сотворённым чудным образом. И я подумала: Боже, как давно не была я в театре! Как мне хочется снова вдохнуть этот аромат, смешанный из пыли кулис, грима, пудры, декораций, сколоченных из неоструганых досок, старых костюмов и париков, услышать приглушённый гул зрительного зала, увидеть этот волшебный свет, обещающий чудо прикосновения…
…когда целый день падаешь в пропасть, в какой-то момент начинаешь замечать то, что проносится мимо: редкие деревца на уступах, какие-то травинки и даже цветы… эдельвейсы, наверное… так высоко только они растут… и так труднодоступно. О, нет, ещё альпийские фиалки… да много, наверное, только не знаю, как зовут. В голову начинают приходить какие-то мысли, не только отчаяние одно движет сознанием. Сознанием движет ревность… надеюсь, ненадолго… Просто письма от тебя долго нет…
Я много слов могу написать, но всё не то… всё старо… говорено… и читано… всё — штампы… как превратить в слова — дыхание… или биение сердца… или — замирание души… или — трепетание точки… как бабочка — о стекло… где-то внутри ямочки под шеей… Как это было, что я жила, тебя не зная?..
Я просто счастлива, что у меня есть ты — моё Солнышко, мой студёный родник, мой колодец, откуда я могу напиться твоих родниковых слов — если б не было твоих стихотворений, я задохнулась бы от этого графоманства… В прошлые зимы я просто приходила домой и брала с полки любую книгу стихотворений: Ахматову, Цветаеву, Пушкина, Рубцова — кого угодно, или в компе искала — Бродского, Мандельштама, Пастернака — чьё имя наберёт рука — и читала всё подряд, чтобы просто не сойти с ума… А теперь я читаю тебя, и тоже всё подряд, а потом перечитываю снова и — веришь? — нахожу новые слова для себя, новые образы, новые посылы, которых прежде не замечала. Как это получается, что раньше, при первом прочтении я их пропустила…
Я теперь ощущаю себя такой — пылинкой мироздания… как ты смог разглядеть меня, такую маленькую — среди планет? среди всей Солнечной системы? и чтО я — тебе? И как смею… прикасаться?
Я иду спать… а перед сном — целую тебя, молюсь за тебя. Пусть всё у тебя будет хорошо, ведь тебя любят и обожают… не только твои родные… пусть никогда не намокнут крылья, мой добрый ангел!»
ГЛАВА 7
1
Они въехали в Орлеан под вечер — де Брие верхом на игривой гнедой лошади, Эстель — на муле, спокойном и флегматичном, как бледная луна, висевшая над собором Сент-Круа.
— Нам туда, — сказал рыцарь, указывая на возвышавшуюся над городскими домами постройку, издалека напоминавшую Нотр-Дам. — На берегу Луары есть постоялый двор. Это рядом с собором. И там неплохая кухня.
— Вы бывали тут, сеньор?
— Да, приходилось.
— Если честно, то я очень устала.
— Это и не мудрено: преодолеть такой долгий путь девушке, да еще верхом — большое испытание.
— Я сильная, — с грустью усмехнулась Эстель. — Но и мои силы не бесконечны…
— Обещаю тебе, что очень скоро ты будешь есть жареного цыпленка, запивать его хорошим токайским вином и думать о чистой постели, которую в это время будет стелить для тебя жена хозяина постоялого двора.
— Зачем вы это сказали, сеньор? Я уже стала думать об этом!
— Потерпи, девочка.
Он посмотрел на нее с нежностью, от которой у девушки действительно тут же прибавились силы. И она ответила рыцарю благодарным взглядом, на какое-то время ставшим отражением ее мечтаний.
Венсан де Брие не обманул юную спутницу: не прошло и получаса, как они уже сидели за столом в небольшой, просто обставленной, но отдельной комнате, снятой на постоялом дворе. Она здесь была единственной и стоила довольно дорого — шесть денье за сутки, потому что предназначалась для купцов, знатных горожан или военных, которых вечер застал в пути и которым не пристало ночевать в общей спальне с простолюдинами — на соломенных матрацах, разбросанных прямо на полу.
Хозяин постоялого двора, маленький, круглый, к тому же косоглазый и подвижный, как ртуть, заискивающе суетился перед новыми постояльцами, пытаясь опытным взглядом определить статус гостей. Де Брие помог ему, назвавшись купцом из Парижа, и для убедительности похлопал ладонью по туго набитому кошельку, висевшему на поясе.
Услышав согревающий душу звон монет, на часть которых он справедливо рассчитывал, хозяин задвигался еще быстрее, при этом произнося слова, которые одновременно были окрашены в самые разные оттенки.
— Мишо! Меня зовут Мишо, сеньор! Вы можете располагать мною по своему усмотрению. А это, вероятно, ваша дочь? Впрочем, что это я! У нас отличная кухня! Широкий выбор. Моя жена прекрасно готовит баранину. Все проезжающие через Орлеан хотят ночевать на моем постоялом дворе. Мы работаем всей семьей: мои два сына и дочь с нами. Да, представьте, сеньор, многие заезжают специально. Или племянница? По большому счету, мне все равно. Это если жена спросит. Женевьева. Ее так зовут. Как святую. Она у меня очень любопытна. Но это ведь не порок. Как вы считаете? У нас чисто и тихо. Да. И никогда не бывает проходимцев. Вам с вашей юной спутницей нечего опасаться. Я не смею предположить, что это ваша супруга… Впрочем, не отвечайте. Это ваше дело, сеньор. Я вовсе не любопытен. И не являюсь ревнителем строгих нравов. Каждый живет так, как хочет. Все равно перед Богом каждый когда-то даст ответ за все. Разве не так, сеньор?
— Возможно, ты и не любопытен, Мишо, — усмехнувшись, сказал де Брие, выслушав сумбурную речь Мишо. — Этот постулат еще требует доказательства. Но то, что ты весьма неразговорчив — это неоспоримый факт.
Мишо замер на мгновение, потом снова встрепенулся.
— Я понял, сеньор, я все понял! Вы устали с дороги и хотите отдохнуть.
— Ты прав, — подтвердил де Брие. — И моя племянница была бы очень признательна, если бы ты, наконец, дал ей возможность раздеться и лечь в кровать.
— Ага, все-таки племянница! — воскликнул Мишо. — Я немедленно пришлю к вам свою супругу. Женевьева. Ее зовут Женевьева, как святую. Она прислужит сеньоре.
— Я привыкла обходиться сама. — Эстель взглянула на рыцаря. — В конце концов, дядя поможет мне развязать шнуровку на котте.
Через несколько минут им в комнату подали ужин. Мишо явился вместе с женой — долговязой и костистой женщиной лет сорока, с растрепанными черными волосами и полуобнаженной обвисшей грудью. Находясь рядом, эти двое выглядели несуразно и комично. Хозяева проворно расставили все на столе. При этом и Мишо, и Женевьева не сводили глаз с постояльцев.
— Дверь можете не запирать, — вкрадчиво сказал хозяин постоялого двора. — Вам ничто не будет угрожать. Мое заведение давно пользуется хорошей репутацией.
— Охотно верю, — простодушно ответил де Брие. — Хотелось бы только узнать, до которого времени будут слышны пьяные голоса из харчевни?
— Обычно все укладываются после полуночи, сеньор, — ответила Женевьева. — Правда, Мишо?
— Но если вы хотите, я попрошу людей не шуметь прямо сейчас, — сказал тот.
— И тебя послушают?
Мишо пожал плечами.
— Не утруждай себя, — сказал рыцарь. — Не стОит из-за нас лишать кого-то удовольствия поболтать друг с другом. Мы едем издалека, поэтому изрядно утомились. Полагаю, ничто не помешает нам крепко уснуть. Ты разбудишь нас на рассвете, приготовишь что-нибудь в дорогу. Да, и не забудь распорядиться, чтобы покормили наших лошадей.
— Всё будет исполнено в лучшем виде, сеньор! Нечасто на нашем постоялом дворе можно встретить таких благородных гостей! Мы с женой желаем вам и вашей племяннице приятных сновидений.
Отвесив поклоны, Мишо и Женевьева торопливо выскользнули из комнаты. Только после этого де Брие стащил с себя сюрко, затем котту и остался в одной камизе и шоссах — узких штанах, прикрепленных завязками к поясу. Эстель сидела на кровати и наблюдала за ним. Она была вялой и полусонной.
— Дядя Венсан, — тихо позвала девушка, — помогите мне раздеться.
— Сама справишься, — не грубо, но с достаточной твердостью ответил рыцарь.
— Но я ведь не прошу чего-то бОльшего! — В голосе девушки с подкупающей искренностью промелькнули нотки обиды. — Я давно перестала на что-то надеяться…
— Ты совершенно правильно делаешь.
— Я понимаю, — сказала она утомленно и жалобно, — однажды вы дали обет безбрачия. Но теперь, когда вашего Ордена больше нет… Ведь можно вернуться к нормальной человеческой жизни… Со всеми ее прелестями…
— А говоришь, перестала надеяться, — усмехнулся он.
— Когда женщина перестает надеяться — она умирает. А я не хочу умирать! Я молода и красива! И я хочу не просто надеяться — я хочу по-настоящему любить! Разве я не достойна этого?
— Я не говорил о том, что ты недостойна, Эстель! Но ты выбрала путь служения мне, а он исключает близкие отношения между нами. И мы это уже обсуждали…
— Да, обсуждали! Но разве так трудно понять, что каждый день, проведенный рядом с вами, заставляет меня все больше привязываться к вам, пробуждает в душе огонь, который разгорается все сильнее. И я чувствую, что совсем скоро настанет день, когда это пламя уже невозможно будет погасить!
— Тогда нам нужно расставаться немедленно! — отрезал де Брие. — Таким образом я только нанесу тебе рану — болезненную, долго не заживающую рану. Но не убью тебя наповал, нет. И придет время, когда ты позабудешь о своих чувствах… Так бывает, поверь. Твоя светлая душа устремится к другому мужчине, и прошлое останется далеко позади.
— Нет! Не бросайте меня!
Она вскочила с кровати, молитвенно сложила протянутые вперед руки и рухнула на колени перед Венсаном де Брие. В глазах Эстель дрожали слезы.
Рыцарь приблизился, тоже встал на колени перед ней, обнял и прижал к себе бедную девушку. Она прильнула к его твердой груди и затаилась, и зажмурилась от удовольствия.
— Не плачь, прошу тебя. Женские слезы вырывают меч из моих рук…
— Как это?
Вместо ответа де Брие пожал плечами.
— Вам часто приходилось видеть женские слезы? — Эстель подняла голову и заглянула в лицо рыцарю. — Расскажите…
— Нет, не часто, — после паузы ответил он, и Эстель показалось, что рыцарь в эту минуту о чем-то вспоминает.
— Расскажите же, прошу вас…
— Зачем?
— Я хочу лучше узнать вас.
— Когда-нибудь ты узнаешь. Но не сейчас…
— Хорошо, я буду ждать сколько угодно Богу.
Они поднялись с колен, сели на разные кровати.
— Нужно поужинать и ложиться, — сказал де Брие. — Завтра нам предстоит преодолеть немалый путь. Давай я помогу тебе раздеться.
— Нет, я сама, — ответила Эстель и грустно улыбнулась.
* * *
Он долго лежал с открытыми глазами. И даже не боролся со сном — по многолетней привычке, а теперь и согласно обстоятельствам. Его некому было сменить на посту. И он охранял сон девушки, как настоящий рыцарь, отдав себе приказ и следуя ему беспрекословно.
Глубокой ночью, когда уже давно смолкли голоса в харчевне, когда совсем немного времени оставалось до вторых петухов, дверь в комнату осторожно и бесшумно отворилась. Полная луна стояла высоко в небе, протягивая к окну серебряные струны света, и в каждой из этих струн звучала божественная мелодия. Казалось, в этом волшебном сиянии вот-вот должно было произойти что-то таинственное.
В приоткрытую дверь тем временем протиснулась щуплая фигура и, задержавшись на мгновение, стала приближаться к кровати, на которой лежал торговец из Парижа. Вот в сумраке мелькнуло юное лицо, освещенное лунным светом, вот из-под одежд выпростались худые руки и потянулись к поясу постояльца, лежавшему на табурете у кровати. Но не успели эти руки дотронуться до кошелька, намеренно оставленного на виду, как де Брие вскочил и одним ловким движением захватил воришку за шею. Тот не успел даже вскрикнуть, как уже лежал на кровати, а рядом, удерживая его крепкими пальцами за горло, сидел рыцарь.
— Я буду спрашивать, ты будешь отвечать, — сказал де Брие шепотом. — И старайся делать это так, чтобы слышал только я. Если от твоего голоса проснется моя племянница, я тебя задушу. Понял?
Ночной воришка попытался кивнуть, потом тихо и жалобно промычал что-то нечленораздельное.
— Кто ты? — спросил де Брие, ослабляя руку на шее незваного гостя.
— Я Филипп, сын хозяина.
— Это он послал тебя?
— Да.
— Сколько же тебе лет?
— Четыр-над-цать. — Шепот мальчишки прерывали слезы. — Скоро будет…
— Ты раньше проделывал что-то подобное с другими постояльцами?
— Да, сеньор.
— И тебе не стыдно?
— Стыдно, сеньор.
— Ты ведь только начинаешь жить, и начинаешь с порока. Ты не боишься гнева Господня?
— Я боюсь отца и мать. Они всегда бьют меня, если мне не удается украсть хотя бы несколько денье.
— Но у меня в кошельке гораздо больше.
— Я бы не брал всё, это стало бы заметно.
— Ах ты, хитрец!
— Простите, сеньор! Я умоляю вас, простите!
Эстель пошевелилась на своей кровати и повернулась на другой бок. Де Брие чуть сильнее сжал горло мальчишки, потом снова отпустил, когда услышал мерное дыхание девушки.
— Я прощу тебя и даже дам тебе целый су, если ты ответишь на несколько моих вопросов.
— Охотно, сеньор. Вы так великодушны!
— Просто я не хочу, чтобы отец снова поколотил тебя.
— Спасибо, сеньор! Спрашивайте.
— Скажи-ка, Филипп, не останавливались ли у вас три дня назад двое молодых людей из Парижа? Им на вид лет по двадцать семь, двадцать восемь, оба невысокого роста, один коренастый и крепкий, другой заметно худее и с рыжими волосами.
— Останавливались, сеньор! Я хорошо их запомнил!
— Тише, парень, что ты так возбудился? Почему ты их хорошо запомнил? Они как-то особенно вели себя — пьянствовали, кричали, цеплялись к другим людям?
— Нет, что вы, сеньор! Напротив, они вели себя очень скромно. Мне даже показалось, что оба чем-то озабочены. Я приносил им ужин и заметил это.
— Ты такой наблюдательный?
— Мне просто нравится изучать человеческие лица.
— Гм, ты интересный малый. — Де Брие убрал руку с горла подростка. — И что же они все-таки натворили, если ты их запомнил?
— Они ничего не натворили, сеньор. Их просто арестовали.
— Как арестовали?! — Де Брие повысил голос, но тут же взял себя в руки. — Ты ничего не путаешь?
— Конечно же, нет.
— Рассказывай немедленно!
— Хорошо, сеньор, слушайте, хотя рассказывать особенно и нечего. Ночью, когда уже все спали, к постоялому двору подъехали две брички. Так часто бывает: кто-то задерживается в дороге и не успевает к ночлегу до темноты. Мы с отцом вышли встретить гостей. Это оказались двое священников в сопровождении орлеанского прево и четырех солдат. Они спросили про двух мужчин, описали их так же, как вы только что описывали мне. Отец указал им, где разместил этих людей. Тогда солдаты зажгли факел и стали смотреть среди спящих, пока не нашли тех, кого искали.
— Дальше, что было дальше? Что им говорили священники и прево?
— Я ничего не понял, сеньор. Их просто подняли, связали руки за спиной и увели. Мы потом долго не могли уснуть.
Де Брие задумался, отвернувшись от мальчика. А тот лежал, боясь дышать и шелохнуться. Рядом с ним на фоне светлого окна возвышалась могучая фигура, и юноша своим детским умишком уже хорошо понимал, как опасно в эти напряженные минуты ее тревожить.
Наконец, рыцарь отвлекся от своих размышлений и повернул голову к Филиппу. Сердце юноши затрепетало с новой силой.
— Обещай мне, что никому не расскажешь о нашем разговоре, — сказал де Брие.
— Обещаю, клянусь вам, сеньор!
— Вот и хорошо. Ты, я вижу, смышленый малый, так что я на тебя надеюсь.
— Спасибо, сеньор! А можно спросить?
— Что?
— Вы их знаете — этих двоих?
— Если бы не знал, не расспрашивал.
— А кто они?
— Ты уж прости, но тебе знать незачем.
— Я понимаю, это какая-то тайна. Просто эти двое парижан не показались мне преступниками.
— Они и не преступники, — после паузы сказал Де Брие. — И все же мне кажется, что один из них может оказаться негодяем…
Он снова замолчал, задумавшись. Мальчик успокоился и теперь просто ждал, когда его отпустят.
— А ты действительно хороший парень, Филипп. Жаль только, что занимаешься воровством, — вдруг сказал де Брие. — Это нехорошо.
— Я уже давно решил: вырасту и брошу это дело. Я буду сильным, отец тогда не посмеет меня бить.
— Верно, не посмеет. Ну, ступай. — Де Брие достал из кошелька несколько монет, сунул в потную ладонь мальчишки. — И помни: никому!
— Никому, сеньор!
* * *
Молочный свет луны мягким саваном покрывал темные постройки Вьерзонского монастыря. Острые углы базилики сглаживались и округлялись в этом небесном сиянии, тени становились размытыми и медленно перемещались, повинуясь плывущему к горизонту светилу. Холодные апрельские звезды то и дело вспыхивали новыми красками, потом тускнели, чтобы через несколько мгновений снова вспыхнуть с еще большей силой. Казалось, это ангелы ведут неторопливую беседу о вечном, освещая свой диалог.
В альмонарии — просторном помещении с низким потолком и несколькими длинными скамьями вдоль голых стен, не смотря на поздний час, было многолюдно. Обычно в назначенные дни здесь раздавали милостыню: аббатиса и ее помощницы принимали нищих и больных из округи, да еще тех, чей путь по воле судьбы пролегал через Вьерзон. Монастырь давно снискал себе славу одного из самых открытых и щедрых по отношению ко всем нуждающимся. Но в эту ночь его размеренную жизнь, его обычаи и традиции нарушили те, кто еще совсем недавно требовал неукоснительного соблюдения этих самых традиций.
Папские прелаты Боне и Моро в сопровождении нескольких солдат прибыли в монастырь четверть часа назад. С собой они привезли двух молодых мужчин со связанными за спиной руками, которые теперь понуро стояли посреди альмонария, освещенные светом трех факелов. Прелаты сидели на скамье, их черные сутаны растворялись на фоне темных стен, их лица терялись в полумраке, но голоса были хорошо слышны арестованным, а интонации понятны.
— На колени! — скомандовал епископ Боне. — Негоже преступникам стоять в присутствии представителей его высокопреосвященства!
— Почему? — Тибо вглядывался в темноту, пытаясь различить лица священников. Он хорошо понимал, что вместе с Луи они попали в какую-то скверную историю, суть которой должна будет вот-вот раскрыться. — В чем нас обвиняют?
— На колени! — повторил уже другой голос. — Мы привезли вас сюда не для того, чтобы давать какие-то объяснения.
— Но мы ни в чем не виноваты! — заявил Луи.
— А вот сейчас мы это все и выясним. На колени, негодяи!
Друзья переглянулись и молча выполнили приказ.
— Итак, — сказал один из прелатов, — перед вами представители папской следственной комиссии, епископы Боне и Моро. Мы будем задавать вопросы, вы будете правдиво на них отвечать, и от вашей правдивости зависят ваши судьбы. Это понятно? Надеюсь, что понятно. Ваши имена Тибо Морель и Луи Ландо, не так ли?
— Да, ваше преосвященство. Но откуда…
Тибо повернулся к Луи, тот удивленно пожал плечами.
— Повторяю, вопросы задаем мы! Итак, с какой целью вы приехали в Орлеан?
— Мы простые ремесленники, мы ехали на юг в поисках заработка, — не моргнув глазом, сказал Тибо. — Я кузнец, а мой друг неплохой плотник. В Париже сейчас большой наплыв народу, трудно найти работу.
— Вот как! — воскликнул епископ Моро. — Выходит, что вы, сеньоры, не услышали нашего призыва к правдивости ответов.
— Мой друг говорит правду! — фальцетом воскликнул Луи.
— Что ж, хорошо, — сказал Боне. — Сейчас мы разделим вас, и каждый даст собственные показания, которые мы потом сравним. Тогда нам без труда удастся определить, где истина, а где ложь. Эй, стража, вывести этого рыжего!
Двое солдат подхватили Луи под локти, подняли с колен и грубо вытолкали из комнаты. Вслед за ними вышел епископ Моро.
— Ну, а я побеседую с тобой, Тибо, — вкрадчиво сказал Боне.
Он сделал паузу, внимательно изучая коренастую фигуру Тибо, потом сказал тихо, но убедительно:
— Нам хорошо известно, что ты, Тибо Морель, некоторое время состоял в Ордене тамплиеров и был в услужении рыцарю Венсану де Брие. Так это или нет?
— Да, ваше преосвященство, — с достоинством ответил Тибо. Он хорошо понимал, на какие вопросы отвечать можно, а какие нужно оставлять без ответа.
— Вот и хорошо, что ты не стал отпираться. Надеюсь, что мы быстро поладим, и уже утром отпустим вас с другом на все четыре стороны.
— Я не знаю, что вам от нас нужно, — осмелился сказать Тибо.
— Сейчас узнаешь.
Священник поднялся, подтащил скамью ближе к арестованному и снова сел. Теперь свет факелов хорошо освещал его одутловатое лицо с тонкими, будто нарисованными бровями и маленькими бегающими глазами неопределенного цвета. Некоторое время епископ молча смотрел на Тибо. Потом сказал с прежней вкрадчивостью в голосе:
— Орден распущен, Великий магистр его казнен, однако некоторая деятельность этой преступной организации продолжается. Я бы сказал, тайная деятельность. Ты, наверное, думаешь, что нам неизвестно, что твой хозяин, помощник прецептора Франции граф Венсан де Брие жив, здоров и находится в Париже? Мало того, мы хорошо знаем, где он живет. И не арестовали его вместе с другими рыцарями только лишь потому, что нам это не нужно. Почему? — хочешь, наверное, спросить ты.
— Да, хочу.
— Ответа на этот вопрос ты не получишь, Тибо. Это дело не твоего ума. Но вот если ты нам кое-что расскажешь про своего хозяина и, кроме того, если сведения о нем совпадут с теми, которые желает получить папа, обещаю, ты будешь весьма щедро вознагражден. И тогда тебе не понадобится искать случайного заработка ни на юге Франции, ни на севере, ни в самом Париже. Вместо этого ты снимешь для себя достойное жилье, а может быть, и купишь собственный домик, куда приведешь молодую и красивую жену, о которой, наверное, уже много лет мечтаешь… Ну, Тибо, разве тебя не привлекает такое будущее?
— Весьма привлекает, ваше преосвященство, — ответил Тибо. — Только я не понимаю, что вы от меня хотите. Мой хозяин давно не служит, потому что Орден уничтожен. Он сбрил бороду, он ведет совсем не рыцарский образ жизни, он предпочитает теперь заняться какой-нибудь торговлей, только еще не выбрал, какой именно. Вот и все сведения. И за это, ваше преосвященство, вы готовы щедро наградить меня? Поистине, это будет самый легкий и непредсказуемый заработок в моей жизни!
— Молчать! — вскрикнул епископ Боне. — Ты задумал опасную игру, Тибо Морель! Не советую тебе разговаривать со мной в подобном насмешливом тоне.
— Но я и не собирался…
— Молчать! И отвечать только на мои вопросы!
— Но как же я буду отвечать, если вы приказали мне молчать, ваше преосвященство?
— Ну, все! Мое терпение лопнуло! — Священник вскочил со скамьи. — Эй, ребята, а ну-ка всыпьте ему, как следует, чтобы отбить охоту шутить со мной!
Солдаты подскочили к Тибо и замахали кулаками. Бывший оруженосец, склонив голову и не имея возможности защищаться связанными руками, мужественно терпел побои.
— Хватит! — остановил их епископ. — Мне нужно, чтобы он еще мог разговаривать.
Боне снова присел рядом.
— Ну? Теперь ты понял, что ты всего лишь червь, которого я могу просто растоптать.
— Понял, ваше преосвященство.
— А могу и возвысить, — продолжил священник.
— Это ваше право, — ответил Тибо, сплюнув кровь.
— Говори же, какое поручение де Брие вы с другом собирались выполнять? Куда направлялись?
— Я говорил вам: мы ищем работу. С графом де Брие у меня уже нет прежних отношений, ему не нужен оруженосец, он отпустил меня на вольные хлеба.
— Врешь! Эй, стража, обыщите его!
Солдаты снова подскочили к арестованному и уже через минуту передали епископу Боне небольшой лист пергамента, сложенный вдвое и найденный у Тибо за пазухой. На лице священника, предвкушавшего удачу, появилась загадочная улыбка. Подойдя ближе к свету, епископ стал всматриваться в написанные строки, потом вернулся к Тибо. Глаза священника были налиты кровью.
— Что это за письмо и кому оно адресовано?
Тибо молчал, глядя в пол.
— Хорошо, — сказал епископ, — возможно, что ты не знаешь тайнописи тамплиеров, и не можешь передать мне содержание письма. Но уж кому ты его вез — это я из тебя вытащу! И если не сегодня, то завтра или послезавтра. Утром мы отправимся назад в Париж, и там, в подземелье Жизора, ты расскажешь все!
2
Почему и для чего Господь сводит в определенных точках пересечения жизненные пути незнакомых людей? Разных людей. Противоположных людей. Впрочем, кому дано понимать истинную, а не кажущуюся противоположность? То-то же…
Если это замысел Творца — нужно принимать его безоговорочно и даже не пытаться оспаривать, даже не пытаться выстроить в логическую цепочку причины и следствия подобных соприкосновений. Не доросли мы, люди, не заслужили еще этого понимания.
Если же, напротив, всё сводится к случайности, и божьего промысла в этом нет — остается только не пропустить тот момент, когда случайность превратится в закономерность. Тогда, вероятно, ее легче будет изучить, проще оцифровать и анализировать. А впрочем, кому охота этим всем заниматься? Человек со здоровым румянцем на щеках, твердо знающий, чего он хочет от жизни, — никогда не отдаст свое личное пространство подобным исследованиям. Пожалеет времени, и будет прав. Или будет думать, что прав.
Иной же — бледный, с внутренним душевным свечением, больше мыслящий, чем совершающий поступки, — такой с азартом может ухватиться за новые размышления, хотя вовсе не факт, что они выведут его к заключениям однозначным и безоговорочным.
Случайность человеческих связей не поддается ни логике, ни статистике, ни ощущению, ни интуиции. Ее нельзя предугадать, запланировать, рассчитать по формуле. Случайность человеческих связей — это космический вихрь, в котором те или иные частицы, именованные и заряженные по-разному, сталкиваясь и разлетаясь врозь, создают хаос. И из этого хаоса, собственно говоря, состоит Вселенная. Она подвижна, она — пусть не быстро, но постоянно — меняется. И поэтому она — управляема… Или нам кажется, что управляема…
«Господи! Что происходит в этом мире? И в этом ли?.. Тот человек, о котором ты рассказал… во сне… нуждается в сочувствии… И я готова его проявить… всею душой, как никто другой, наверное…
Я долго не решалась написать. Я ходила убитой два дня. Я не знала, кАк написать и что. Впервые за время нашей переписки — не знала… Руки не слушались, пальцы промахивались, попадая не по тем клавишам. Я пыталась что-то набросать, но выходил сплошной винегрет из чужих, непонятных слов. Я набирала текст и тут же его удаляла.
До сих пор мне не было затруднительно писать, я говорила с тобой — как думала, а думала — как чувствовала, поэтому получалось легко, может быть, иногда сумбурно, излишне эмоционально… как еще бывает, когда любишь…
А сегодня я просто смята, я — тетрадный лист, которому хотели доверить тайну, а потом передумали, скомкали и швырнули в корзину. Я случайно прикоснулась к этой тайне, чужой тайне, ставшей моей, а теперь не знаю, что с этим делать… Нет, ты не собирался обидеть меня — я понимаю, это совсем другое. Просто есть вещи, которые, как ни старайся, невозможно объяснить. И одна из таких вещей — твой рассказ о том человеке… И я даже догадываюсь, как его зовут. Нет — знаю… Потому что сама — представляешь, сама! — нахожусь внутри такого же «сериала». Да-да, именно так!
Мои сны, о которых я тебе рассказывала — они теперь, как детский лепет, как невинная фантазия, как легкая страница безобидной повести… Вот только про Учителя — вещий, наверное… А что теперь? Эксперименты… Это они, Андрей? Над нами? Над всеми людьми или только над избранными? Надо мной и тобой? Нет, ты же не сказал, что тот человек — это ты сам. ЧтО это я уже напридумывала? Вот когда скажешь…»
* * *
«Конечно же, я не хотел тебя ничем обидеть, Инна! Я просто думал, что со мной происходит нечто странное, не поддающееся объяснению, и это может в чужих глазах выглядеть как-то нелепо, даже вызывать определенные подозрения… Я никому еще ни о чем не рассказывал, тем более жене — она слишком эмоциональный человек, её нельзя нагружать подобными вещами. А вот тебе… Да, тот человек — именно я. Хочешь узнать мою историю? А ты бы потом рассказала свою. Даже забавно — поделиться сценариями…»
«Конечно хочу узнать! — сказала Инна сама себе. — Хотя у меня уже есть кое-какие догадки…»
Она встала из-за стола, накинула на плечи халат и вышла на балкон. Вечерело. Тусклый дневной свет стремительно сменялся густым январским сумраком. В матово-синем небе было пусто — взгляду не за что зацепиться. Но где-то там — она знала — было то, что управляет всеми телами и энергиями во Вселенной и сочиняет законы для этих тел и энергий. Она знала. Где-то там…
«…я просто женщина, а это просто полночь — такая полночь, за которой утра нет. Угрями мутных фар лицо проспекта полно — такими красными, как бабушкин ранет. И в этой, самой неизвестной точке мира, я то, последнее, вверяю вышине — чему до одури мала была квартира, и что теперь не умещается во мне…»*«Расскажи, расскажи мне всё — до мелочей, до каждого слова и вздоха, до каждого жеста и взгляда. Я погружусь в твой сон, я буду там с тобой рядом и постараюсь помочь… Ничего не выдумывай и ничего не обобщай, пусть простые слова станут живой водой и истиной, в которую я поверю, как не верила никому и никогда…
…Шла с работы. Сегодня был тихий светлый день — даже не похожий на зимний. Деревья еще с осени подстрижены… и солнце! Такое тёплое, большое… что я представила, как чувствует себя… знаешь, кошка, лежащая на окне, лениво, сквозь ресницы, взглядывающая на солнце, греется в его лучах, лапки свесились с подоконника, кажется, вот-вот и свалится… ан, нет! подтянется — и ловит последние лучи… и нежится… и что там будет завтра: дождь, снег, голод или тоска… сегодня — Солнце! и дарит тепло, любовь, счастье… и ласкает каждым лучиком… вот и я… только не привыкла ещё, не умею, чтобы нужна кому-то: не детям своим, не родителям, а — тебе… спасибо… Солнце…»
* * *
«Представь себе тысяча триста четырнадцатый год. Париж. Тамплиеры…»
Она вскочила из-за стола, заметалась по комнате. «Господи, что это! Как? По каким законам? Почему? Франция. Тамплиеры…»
Она даже не стала читать письмо дальше. Она знала всё, о чем там было написано. Она знала. Она сама была там. Улица Жюиври, пешеходный мост Планш Мибре, ворота Сен-Бернар и дом Гишара де Боже, подземелье Тампля и архив Ордена…
Нет, это невозможно! Так не бывает! Она говорила себе эти слова, даже не замечая, что произносит их вслух, нервно перемещаясь по комнате. Потом рывком упала в кресло, едва не раздавив что-то пластмассовое, нащупала под собой еле живой пульт и включила телевизор. Нужно сменить тему, нужно что-то такое захватывающее, чтобы отвлекло, чтобы зацепило, чтобы вернуло на землю…
Пробежалась по каналам: сплошные «сти» — новости, неприятности, глупости, пошлости, гадости… Бред! Ничто не может перебить внимание, ничто.
Пошла на кухню. Уверенно пошла, целенаправленно. В шкафу с посудой стояла давно початая бутылка немецкого коньяка — Инна уже и не помнила, с кем и когда ее распечатала. Плеснула прямо в чашку — щедро, как себе… «Asbach» согрел горло, пищевод, желудок — как солнечный луч, который удалось поймать ртом и проглотить. Чудодейственное тепло мгновенно разлилось по всему телу, дотянулось даже до ногтей, до каждого волоска. Расслабило, размягчило, подтолкнуло приунывшие мысли, просветлило.
И потом, слегка пошатнувшись с непривычки, она вернулась к компьютеру и дочитала большое письмо до конца. Медленно, неторопливо, будто снова и снова переживая давно знакомые картины. Да, Андрей был именно тем, на кого Инна подумала с самого начала. А кем же еще? Не мог же он быть хозяином харчевни или кучером у графа де Боже…
И она снова пережила эпизод знакомства с ним, и ночной разговор на пустынной улице, а потом за ужином, и желание понравиться, и спокойную уверенность в защите, и увидела кровь на кинжале рыцаря… и его глаза… И она не могла понять, почему всё сложилось именно так — два современных и образованных человека — и раннее средневековье, автор замечательных лирических и философских стихов — и суровый тамплиер, скромная учительница литературы — и уличная девка…
Вспомнилась фраза из Фрейда: «Мы выбираем не случайно друг друга… Мы встречаем только тех, кто уже существует в нашем подсознании».
Выходит, страница Андрея Глыбова на сайте стихов попалась на глаза не случайно. Выходит, желание написать ему, а потом и его ответ — тоже не ошибка, а хорошо спланированный контакт, прописанный давным-давно в книгах судеб — её и его… И сон — общий для двоих — не просто совпадение, а некое поприще, на котором им следует пройти определенный путь и как-то применить свои навыки. Какие и в чём? — вот вопрос.
«Здравствуй, Андрей! Добрый день, сеньор де Брие! Как вам спалось на Орлеанском постоялом дворе? Сама я спала, как убитая, правда. Мне что-то снилось, наверное, но я проснулась и ничего не могла вспомнить. Кроме того, что накануне вечером… призналась вам в любви… Вы сами-то помните? Я еще заявила, что когда женщина перестает надеяться — она умирает. Ничего себе я сказанула! Неплохо для девушки облегченного поведения, а?»
Инна откинулась на спинку стула и несколько раз перечитала написанное. Сначала с улыбкой, потом с тревогой. Хотела стереть, но передумала…
«Господи, — подумалось ей, — какая забавная и необычная история происходит! Я засыпаю — и переношусь на семь столетий назад, в совершенно чуждый мир с полудикими нравами, с привычной, обыденной жестокостью жадных до зрелищ людей, с зачатками романтизма, которому еще будто нет ни предпосылок, ни названия. Но я там — своя, местная, родная. Я — не инородное тело, а один из полноправных членов примитивного общества. Того общества, в которое мне открылся портал, где меня приютило время. Впрочем, инородное тело — хороший пример. Это как на уроках химии в какой-то раствор помещают что-то там такое, чтобы понаблюдать реакцию… С химией у меня были нелады, не помню ни одного названия… Да какая разница! Главное — суть. И он, Андрей, — тоже. Там же. Строгий, неразговорчивый, замкнутый. Порой даже суровый. Так иногда кажется. Наверное, и в жизни он такой… Иначе бы не прошел кастинг на свою роль… Фу, глупость какая в голову пришла. Кастинг. Слово-то какое — пошлое… Но мы — катализаторы каких-то реакций, это точно. Вот, вспомнила из химии кое-что…»
«Я ничего не понимаю, Андрей! Решительно ничего! Может быть, это — не до конца стертая память при реинкарнации? И нам только во сне становятся доступны некоторые эпизоды. Тогда возникает вопрос: зачем? Так же, как в любом преступлении нужно искать того, кому это было выгодно, так и в наших ночных многосерийных превращениях нужно искать тот смысл, которым эти метаморфозы могут быть наполнены. Ты не против его искать? Давай вместе.
А может быть, это просто розыгрыш? Какой-то хорошо спланированный, продуманный до мелочей. Или я шизую? Или меня так колбасит от одиночества? Просто… мне не хватает тебя, твоих слов, пусть они и редки в моей почте — но всё же есть. Сладко читать и обманываться… верить, что всё ты говоришь всерьёз… о той части твоей души, которая любит меня между строк… и отождествлять эту часть — с целым. Но это не так. И если я действительно хочу тебе счастья… тебе, современному, а не выдуманному, я должна это признать. Я просто ставлю себя на место, только и всего. Чтобы не давать себе лишней надежды, чтобы не тешить себя тем, что всё когда-нибудь, ТАМ или ЗДЕСЬ, будет по-другому… По-другому не будет НИКОГДА… вот и всё, что я хотела сказать себе…»
ГЛАВА 8
1
Неподалеку от ущелья Норуз, на вершине холма, покрытого густыми зарослями ракитника, расположилась деревня Ренн-ле-Шато. Меловые известняки, составляющие фундамент древнего горного массива, давно забыли о тектонических сдвигах и застыли, образуя острые зубчатые гребни с мощными одиночными утесами. Тут и там открывались глазу темные отверстия в скалах — притягательные и отпугивающие одновременно. Это были входы в пещерные лабиринты, но далеко не каждый человек решался проникнуть в них, чтобы полюбоваться фантастически красивыми подземными сводами и послушать хрустальное журчание никогда не видевших солнца ручьев.
В тринадцати лье от Каркассона, в дикой горной местности, на дороге, по которой когда-то проходили паломники в испанский город Сантьяго-де-Компостела, находилась эта деревня. И менее чем в полулье от нее, на другом холме высились величественные стены родового замка Бертрана де Бланшфора, четвертого Великого магистра, который полтора века назад принес в дар Ордену тамплиеров свои земли в этих окрестностях.
Еще чуть поодаль, но в другом направлении от Ренн-ле-Шато возвышался неправильным конусом холм Безю. К нему и подъехали Венсан де Брие и Эстель в полдень пятнадцатого апреля.
Расстояние от Орлеана до неприметной деревеньки они преодолели за три неполных дня, и почти весь этот нелегкий путь проехали молча. Даже оставаясь наедине в комнатах, снятых для ночлега, путники почти не разговаривали. Де Брие сосредоточенно молчал, девушка старалась ему не докучать. Он заказывал на ужин дичь — и она ела дичь, он пил токайское — она пила тоже. В дороге он перекусывал твердым сыром, она давилась им, потому что терпеть не могла твердый сыр, но — терпела. И всё это время Эстель искоса наблюдала за рыцарем, ей было хорошо видно, какие глубокие и без сомнения тревожные размышления владели ее спутником. Он был угрюм — если не сказать мрачен, и он был сосредоточен — если не сказать подавлен.
Девушка не знала и даже не могла догадываться о том, чтО послужило причиной столь разительной перемены в настроении ее покровителя. Проснувшись утром на постоялом дворе в Орлеане, она и не подозревала, что ночью в двух шагах от ее постели Венсан де Брие беседовал с местным мальчишкой, и то, что ему удалось узнать о друзьях, посланных накануне с поручением, сильно расстроило его. Он многое понял в ту ночь, и утром предстал перед спутницей совсем иным человеком.
— Вы плохо спали, сеньор? — осторожно спросила Эстель. — Ваше лицо осунулось…
— Да? Считай, что я плохо спал, — отстраненно ответил рыцарь, и девушке стало ясно, что он не намерен ничего объяснять.
Они быстро собрались и тут же отправились в путь.
— Куда мы все-таки едем? — Этот вопрос Эстель решилась задать, когда стены Орлеана остались далеко позади. — Вы до сих пор не сказали мне об этом…
— Ты жалеешь, что согласилась на эту поездку? — вместо ответа спросил он, не поворачивая головы.
Девушка не ответила. Она насупилась, замкнулась и поняла, что не стОит задавать лишних вопросов. Она понимала, что рано или поздно обо всем узнает. И даже не догадывалась, как своим молчанием помогает Венсану де Брие.
И вот теперь у подножия Безю он остановил коня и повернулся к спутнице. Его лицо с недельной щетиной, ничуть не умалявшей суровой мужской привлекательности, освещалось в эту минуту каким-то внутренним воодушевлением. Линия бровей благородного воина слегка надломилась, в глазах плескались языки глубокого огня. Чуткая и внимательная Эстель заметила это и затаилась.
Узкая каменистая дорога, уходящая к вершине холма, была пустынна. Низкорослый кустарник колючими пальцами скрюченных ветвей цеплялся за сухую землю, настойчиво взбираясь по склону. Яркое весеннее солнце, то и дело прячась за мелкими облачками, мягким светом обливало величественную фигуру бывшего рыцаря. Эстель смотрела на де Брие снизу вверх. Ей вдруг показалось, что это вовсе не она, а совсем другая девушка находится здесь — в немыслимой глуши, дикой и безлюдной, в далекой дали от шумного, противоречивого, а порой опасного, но такого родного и понятного Парижа. И эта другая девушка, неожиданно для себя преодолевшая огромное расстояние верхом, испытывавшая порой мучительные неудобства, проклинавшая тот день и час, когда согласилась на это безумие, — сейчас, здесь, рядом с мужчиной вдвое старше ее самой, понимала, что все-таки безгранично верит каждому его слову, готова потакать каждому его желанию, ибо от этого мужчины исходило поистине отеческое тепло, от него теперь полностью зависела ее собственная жизнь.
И вместе с тем именно в эти минуты она поняла еще и то, что этот мужчина никогда не будет принадлежать ей — а только тому миру, чуждому и загадочному, который его взрастил и воспитал.
— Теперь я расскажу тебе, куда и зачем мы приехали, — глухо произнес де Брие.
— Не скрою, я ждала этого часа, — робко, но с достоинством ответила Эстель.
— Спешимся и перекусим, — сказал рыцарь, и это предложение прозвучало, как приказ.
Они расположились возле ствола молодого пробкового дуба, едва позеленевшая крона которого давала небольшую, но густую тень. Эстель засуетилась, доставая из котомок еду и вино.
— Посмотри на это дерево, девочка, — вдруг сказал де Брие, поглаживая ладонью шершавый ствол. — Теперь на меня.
Эстель подняла голову и замерла.
— Ты видишь, как мы похожи? Я тоже превратился в дуб — гордый и одинокий.
— Почему одинокий? А я?
— Разве что ты…
— А Тибо?
— Тибо больше нет…
— Как нет? — Эстель вздрогнула и замерла. — Почему?
— Скорее всего, нет, — поправился рыцарь. — Тибо и Луи были арестованы на том самом постоялом дворе в Орлеане, где ночевали мы с тобой. За две ночи до нас.
— Откуда вы знаете, сеньор?
— Знаю.
— И поэтому вы всю дорогу молчали? Я видела, что с вами творится что-то такое…
— Да, я обдумывал дальнейший план действий. И благодарен тебе, что ты не мешала мне это делать.
— Я старалась…
— Тибо был верным оруженосцем. Он не предаст меня, я уверен. И даже если они отнимут у него письмо, все равно никто не сможет прочитать его.
— Какое письмо? Я ведь ничего не знаю, поэтому ничего не понимаю из того, о чем вы говорите, сеньор!
Эстель вдруг с особенной силой почувствовала свою второстепенность, и ей стало до слез обидно.
— Да, я тебе объясню, девочка. Если честно, я до сих пор не знаю, почему вообще взял тебя с собой… Какой-то голос из глубины души подсказал это. И сегодня ты осталась единственным человеком, с которым я могу поделиться. Пока единственным…
— Вы это только сейчас поняли?
Де Брие молча пожал плечами.
— Сеньор, вы можете полностью мне довериться…
— Извини, не могу…
— Почему?
Де Брие ответил не сразу. Он долго смотрел куда-то в сторону, потом повернулся к Эстель.
— Ты даже не представляешь себе, какие бывают способы у инквизиторов, чтобы заставить человека говорить… Взрослого, сильного мужчину… И я не хочу, чтобы когда-нибудь…
— Я поняла, сеньор, не продолжайте. — Эстель поникла. — Но все равно я с вами.
— Я ценю это, девочка, — сказал де Брие и тепло посмотрел на нее. — Так вот, о письме. Я послал Тибо и Луи к моему брату.
— У вас есть брат?!
— Да, Эстель, у меня есть брат-близнец. Его зовут Северин, и он тоже тамплиер.
— Ни за что бы не подумала! Обычно близнецы стараются всегда быть рядом.
— Да, так и было добрых два десятка лет, пока судьба не развела нас на долгие годы.
— Это было давно?
— Давно, девочка.
— И все это время вы не виделись с братом?
— Не виделся. Вступая в Орден, рыцарь должен отказаться не только от мирской жизни, но и от всех родственников. Когда это случилось со мной, Северин оставался жить в родовом замке вместе с нашим отцом.
— А ваша мать?
— Она умерла, когда рожала нас… Я появился на свет на несколько мгновений раньше брата.
— Боже, какой ужас!
— Нас вскормила горничная, а в строгости и воздержании воспитывал отец. Мы очень его любили. Наверное, потому, что боялись… Когда-то он тоже был рыцарем и участником крестового похода.
— А разве страх перед кем-то способен родить любовь?
— Любовь может стать порождением всякого иного чувства, моя девочка, даже ненависти.
— Странно, я об этом никогда не думала. А что было потом?
— А потом случилась одна история, и я подался в Орден тамплиеров. Я побывал на востоке — на Кипре, в Тунисе, Палестине и Египте, потом вернулся во Францию. Через десять лет мне сообщили, что рыцарем стал и мой брат Северин. В Орден его принимал сам Великий магистр Жак де Моле. Это было в тысяча триста четвертом году. С того времени мы написали друг другу всего несколько писем.
— Я бы так не смогла. — Эстель с сочувствием посмотрела на покровителя. — Я бы обязательно придумала, как все-таки повидаться.
— Знаешь, в этом не было необходимости. Мы служили в Ордене, правда, в разных местах. Каждый из нас выполнял свой священный долг. Через других людей я кое-что узнавал о брате, он — обо мне.
— Вы, наверное, когда-то поссорились?
— Не то чтобы поссорились… Это давняя история, Эстель, она тебе ни к чему.
— Я понимаю, поэтому не лезу с расспросами.
Венсан де Брие отхлебнул вина из бутылки, передал ее девушке. Несколько минут они сидели молча, доедая остатки провизии, взятой в дорогу на последнем из постоялых дворов.
— Я послал их к Северину с письмом, в котором просил его приехать в наш дом в Брие. Мне нужно обсудить с ним одно важное дело. Самое важное, какое только может быть. С ним и больше ни с кем. Я не хотел звать его в Париж — теперь это очень опасно. Но когда я узнал, что папские ищейки арестовали Тибо, я принял решение самому ехать к брату. И сегодня я надеюсь встретиться с ним.
— Где? — Эстель встрепенулась, торопливо проглатывая кусок хлеба. — В этой глуши?
— Там.
Венсан де Брие посмотрел в сторону вершины холма. Девушка проследила за его взглядом.
— А что там?
— Командорство Кампань-сюр-Од, — ответил рыцарь. — Северин служит здесь каштеляном.
— Кем?
— Комендантом крепости.
— Господи, помоги этому человеку осуществить задуманное! — воскликнула Эстель.
* * *
Филипп де Шамбро чем-то был похож на де Брие. Он тоже был высок и могуч в плечах, как подобало настоящему рыцарю, правда, его волосы были светлее, и он носил окладистую бороду. Темно-серые глаза каштеляна едва заметно косили, что временами придавало лицу умудренного жизненным опытом человека неожиданную детскость. Вместе с тем голос де Шамбро оказался на редкость низким, гудящим, больше похожим на звериный рык.
Они сидели в гостиной комендантского домика в глубоких плетеных креслах. Де Шамбро длинной кочергой пошевеливал поленья в камине и слушал гостя. Поленья взвизгивали и трещали, искры, не успевая подслушать разговор двух тамплиеров, торопливо уносились ввысь.
Венсан де Брие впервые за последние несколько недель позволил себе вытянуть ноги, сползти в полулежачую позу и расслабиться. Здесь, в заброшенном на окраину Франции командорстве, он чувствовал себя в полной безопасности.
— Признаться, ваша милость, в первый момент, когда я увидел вас, мне в голову полезли нехорошие мысли, — произнес де Шамбро. — Если уж сам Северин де Брие — а я ведь принял вас за него — через несколько лет отсутствия вдруг явился в Кампань-сюр-Од, стало быть, подумал я, наши дела плохи, потому что ваш брат и бывший комендант приехал о чем-то предупредить. Сейчас ведь можно ожидать чего угодно.
— Да, я заметил крайнее удивление на вашем лице, сеньор, — ответил де Брие. — Поэтому и развеял все сомнения с первых же слов разговора.
— Вы с Северином удивительно похожи!
— Только внешне, — улыбнулся де Брие. — Уверяю вас, любезный брат, что с детства мы всегда были разными — и по характерам, и по поступкам. Это позднее судьба указала каждому из нас один и тот же путь.
— С вашим братом, сеньор, мы были очень дружны. И я говорю это вовсе не для того, чтобы завоевать ваше расположение.
— Я верю, любезный Филипп. Вы — настоящий тамплиер, а это значит, что искренность и прямота являются главными чертами вашего характера.
— Благодарю за комплимент, ваша милость. В последнее время нечасто встретишь собеседника, понимающего человеческие души.
— Когда был еще жив и могуч Орден, мне приходилось немало встречаться с разными людьми, — сказал де Брие. — Я воочию наблюдал все человеческие пороки и добродетели, я научился читать по лицам людей, понимать их стремления и слабости. Сперва это забавляло меня, потом, с годами, начало отягощать. Уж слишком много темного и ужасного накопилось в этом мире, и слишком мало светлого и чистого осталось для борьбы со злом.
— Да, вы правы, любезный брат, — прорычал де Шамбро. — Когда до нас докатилась весть о смерти Великого магистра, многих братьев командорства охватило настоящее отчаяние. Со дня на день мы ждали, что кровавые лапы инквизиторов дотянутся и до Ренн-ле-Шато.
— Вам нечего опасаться, дорогой Филипп, — успокоил коменданта де Брие. — С того самого дня, когда по всей Франции прокатились аресты наших братьев, папа Климент особым своим распоряжением взял под личную опеку ваше командорство. Разве вы не получали сведений на этот счет?
— Да, еще когда каштеляном крепости был ваш брат, мы получили письмо от его высокопреосвященства с уверениями о всемерной поддержке. Но дальнейшие события, о которых мы узнавали здесь — эти многочисленные суды, эти ужасные казни, — как-то подорвали в братьях веру в покровительство папы.
— Но ведь за эти несколько лет ни один из рыцарей командорства не был арестован, не так ли?
— Это правда, — рыкнул де Шамбро. — Мы по-прежнему все вместе и по-прежнему исправно несем службу, много лет выполняя поставленную задачу.
— А сколько людей живет в крепости?
— Восемнадцать рыцарей и две дюжины слуг. У нас небольшой, но крепкий гарнизон.
— Это радует, — улыбнулся де Брие. — Мне хорошо известна ваша основная задача, и я не сомневаюсь, что никто в ближайшем будущем не помешает вам ее выполнять. А папа… коль скоро он является потомком Бертрана де Бланшфора, приложит для этого все мыслимые и немыслимые усилия.
— Ваши слова, сеньор, в свою очередь радуют меня! — воскликнул де Шамбро. — Я непременно поделюсь хорошими новостями со своими братьями по гарнизону.
— Да, конечно, весть о моем приезде уже, вероятно, дошла до всех. Вам следует успокоить братьев, чтобы не сеять в гарнизоне ненужные слухи.
— С вашего позволения я отдам распоряжения, — сказал де Шамбро, поднимаясь. — Отдыхайте, сеньор. Я прикажу вскоре подать обед.
С этими словами комендант вышел. Де Брие прикрыл глаза и погрузился в размышления. Они текли медленно, вяло, спотыкаясь и наслаиваясь, — как могут чередоваться мысли безумно уставшего человека. Так продолжалось несколько минут. Наконец, вернулся де Шамбро.
— Вашей спутнице, сеньор, отвели скромную, но уютную комнату во флигеле, — сказал комендант. — Там ей будет удобно и спокойно.
— Это хорошо, девочка заслужила несколько часов покоя.
— Несколько часов? — уточнил де Шамбро. — Вы так долго ехали из Парижа, чтобы погостить у нас всего несколько часов?
— Конечно же, нет. Просто я очень рассчитывал встретить здесь Северина.
— Северина де Брие еще в шестом году отозвал из Кампань-сюр-Од сам Жак де Моле. По моим сведениям, ваш брат сейчас живет в Англии, у меня записан его лондонский адрес. Правда, он давно мог его поменять…
— Я непременно съезжу в Англию, — задумчиво сказал де Брие, — при первой же возможности. — Потом добавил, поразмыслив: — Впрочем, любезный брат, с вами я тоже могу и даже готов обсудить кое-какие вопросы.
— К вашим услугам, сеньор. Полагаю, дело, которое привело вас к нам, носит весьма важный характер?
— Именно так. И не столько важный, сколько секретный.
— Тогда я прикажу подать обед прямо сейчас, и мы совместим беседу с трапезой, так сказать, приятное с полезным.
— И покормите мою спутницу, любезный брат.
— Об этом, ваша милость, можно было не просить, — с легким смущением ответил де Шамбро. Потом добавил, понизив голос: — Она — наша сестра?
— Скорее, доната, — ответил де Брие. — В моем лице эта девушка посвятила себя Ордену. И прошу заметить, это особенно ценно теперь, когда папа своей буллой расформировал нашу организацию, а Великий магистр казнен четыре недели назад. Эстель дала обет послушания мне, прецептору Франции, и теперь повсюду сопровождает меня как верный и надежный секретарь.
— Если бы не крест, которому я служу уже много лет, я бы позволил себе заметить, что ваша спутница удивительно хороша собой.
— Да, это так, брат, — сказал де Брие. — Молодая и красивая женщина естественным образом привлекает к себе больше внимания, но и способна выполнить более деликатные поручения, нежели та, на которую не хочется взглянуть второй раз.
— Возможно, вы правы, сеньор, — согласился де Шамбро. — Мне трудно судить, поскольку в нашем командорстве женщин не было никогда.
Он встал и вышел отдать распоряжения. Де Брие тем временем снова закрыл глаза и, полулежа в кресле, наслаждался покоем и тишиной. «Странно, — думал он, — последнее письмо от Северина я получил четыре года назад. Но брат ни словом не обмолвился, что живет в Англии. Более чем странно…»
* * *
— Я никогда не был в монастыре, — каким-то жалобным голосом произнес Луи. — Тем более женском…
— Теперь тебе будет чем похвастать перед друзьями, — с иронией ответил Тибо.
Их заперли на ночь в одном из душных помещений, расположенных в пределах внешнего ограждения. Здесь было темно и сухо, пахло какими-то травами. В полумраке они так и не поняли, куда привели их стражники.
— Подумай до утра, Тибо Морель! — сказал при этом епископ Боне. — Твоя будущая жизнь находится в твоих же руках. Ты называешь мне адресата письма графа де Брие, я отпускаю тебя и твоего друга на свободу, да еще и дам денег в придачу.
— Заманчивое предложение, ваше преосвященство, — усмехнулся Тибо. — Над ним действительно стоит подумать до утра.
И вот теперь в темноте какой-то кельи, где в крошечное оконце, забранное крепкой решеткой, едва пробивался свет луны, сидели на полу двое друзей и размышляли о своей дальнейшей участи.
— А о чем спрашивали тебя, Луи? — Тибо хотел бы посмотреть в глаза приятелю, но это было невозможно. — Расскажи без утайки.
— Наверное, о том же, о чем и тебя, — ответил бывший карманник. — Кто мы, да что мы, да куда едем.
— А ты?
— А что я? Ты ведь даже не сказал мне, куда мы едем на самом деле. Как же я мог ответить на этот вопрос?
— И то правда, — согласился Тибо. — Извини, что втянул тебя в это дело.
— Да что уж там. Где наша не пропадала! — сокрушенно вздохнул Луи. — Я же за тебя, дружище, горой!
— Приятно слышать.
— Ну, а сейчас-то ты мне уже можешь сказать, куда мы с тобой ехали? Завтра все равно повезут в Париж… Де Брие отправил нас не просто ведь прогуляться?
— Да, не просто.
— Ну, расскажи.
— А ты все передашь им…
— Если на тебя наденут «испанский сапог», ты им тоже все расскажешь!
— Посмотрим…
— Знаешь, Тибо, если честно… Я ведь не такой фанатик, как вы со своим рыцарем. И мне вовсе не хочется сгнить в подземелье Жизора!
— И мне не хочется! — помедлив, сказал Тибо. — Только предавать друга для собственного спасения я все равно не стану.
— Но я ведь тебе тоже друг!
— Ты — приятель детства. Дружба — это нечто другое. Она проверяется поступками, а не соседством.
— Но я надежный приятель! Ты ведь не станешь этого отрицать?
— Мне трудно об этом судить, — сказал Тибо, ища глазами в темноте силуэт Луи. — Но в Орлеане нас настигли люди папы. Каким образом они узнали, куда мы направляемся?
— Ты хочешь сказать…
— Я хочу сказать только то, что сказал, потому что об Орлеане говорил тебе накануне отъезда.
— Но мы же не расставались с тобой ни на минуту, Тибо! Если бы я хотел тебя предать, как бы мне удалось это сделать?
— В этом, приятель, мне и хотелось бы разобраться…
Они замолчали. Каждый был погружен в свои мысли. Луи хотел было еще что-то сказать, но осекся, понимая, что Тибо сейчас готов прицепиться к каждому слову.
А у бывшего оруженосца в голове вереницей мелькали мысли, и «как выбраться отсюда» — была первой из них. Опершись спиной о стену кельи, Тибо закрыл глаза и старался сосредоточиться. Он понимал, что только спокойное размышление, без суеты и отчаяния от сложившейся ситуации, способно породить какой-нибудь подходящий план действий. Шло время. Оно неумолимо приближало рассвет, а с ним и развязку. Ни сна, ни решения о побеге у Тибо все еще не было. Неподалеку тихо и ровно сопел Луи.
Вдруг в дверном замке осторожно пошевелился ключ. Тибо встрепенулся и открыл глаза. На расстоянии вытянутой руки по-прежнему ничего нельзя было разобрать. Рядом пошевелился Луи.
— Ты слышишь? — шепнул он, и Тибо понял, что бывший карманник тоже не спал.
— Да, слышу.
— Кто бы это мог быть?
— Сейчас узнаем, — сказал Тибо. — Ангел это или бес, уже не имеет значения. Но то, что не стража — это точно.
Тем временем дверь в келью бесшумно отворилась, и на пороге возникла темная фигура со свечой в руке.
— Эй! — позвала она женским голосом. — Эй, сеньоры!
— Мы здесь, — сдержанно ответил Тибо. — Кто вы?
— Это не важно, — сказала монахиня. — Я пришла вывести вас отсюда. Идемте же, пока никто ничего не услышал.
Тибо и Луи вскочили на ноги и направились к двери.
— Хвала Всевышнему! — произнес бывший оруженосец.
— Ступайте тише, — предупредила монахиня. — Я погашу свечу, и мы возьмемся за руки.
— Сначала их нужно развязать.
— Бедолаги… — вздохнула монахиня, опуская свечу на подоконник.
Затем она по очереди развязала веревки, которыми были стянуты руки пленников.
— А где солдаты? Где их преосвященства? — сдавленным шепотом спросил Луи, потирая замлевшие пальцы.
— Солдаты напились и спят, — ответила монахиня. — Долго галдели, я не могла прийти раньше.
— А прелаты? — спросил Тибо.
— Что дети малые, — сказала женщина. — Аббатиса предоставила им комнату для гостей, а там всего одна кровать, так они улеглись вдвоем — так и спят в обнимку.
— Все равно нам следует поторопиться, — шепнул Тибо. — Куда идти?
Через полминуты они уже полной грудью вдохнули свежего воздуха. Стояла ясная и прохладная ночь. Высоко в небе висели мелкие кучерявые облачка. Они медленно двигались на север, напоминая стадо послушных кудлатых барашков. И выпасая это стадо, между ними сновала ущербная с правого бока серебряная луна.
Выбравшись из приземистого строения, беглецы в сопровождении спасительницы пересекли небольшое поле, на котором послушницы монастыря выращивали лечебные травы для больницы, и приблизились к деревянной изгороди. Монахиня уверенно шла впереди. Она уже высвободила свою руку из крепкой ладони Тибо, и теперь просто вела двух мужчин за собой. Те шли молча, то и дело оглядываясь и, казалось, всё ещё не веря в собственное спасение.
Через несколько десятков шагов женщина остановилась.
— Здесь нужно отодвинуть доску в заборе, — сказала она. — Попробуйте, какая поддастся.
Луи выступил вперед и стал проверять прочность изгороди. Вскоре он отыскал доску, которая была закреплена слабее остальных, и сдвинул ее с места. В образовавшуюся щель протиснулся Тибо, уже снаружи перехватил доску, чтобы дать возможность пролезть своему приятелю. Но когда Луи оказался рядом с ним, Тибо просунул голову обратно. Монахиня стояла чуть поодаль, как черное изваяние посреди серебристой ночи. Ее лицо было скрыто капюшоном.
— Сеньора, а вы? — позвал Тибо. — Не накажут ли вас за столь дерзкий поступок?
— Идите с Богом, сеньоры. Там, за пригорком, увидите дорогу. Пойдете направо, и вскоре будет деревенька, там есть маленькая харчевня с комнатой для ночлега. Думаю, что до утра вас никто не хватится, а потом уж вы постараетесь уйти как можно дальше. А я остаюсь, что бы там ни случилось. Тем более что мне просто некуда идти.
— Спасибо за помощь. Я никогда этого не забуду, — сказал Тибо. — Но почему вы так поступили? И как вас зовут? Я помолюсь за вас в ближайшей церкви.
— Мое имя Ребекка, — ответила монахиня. — Вам, сеньоры, оно не скажет ничего. Но, возможно, его вспомнит Венсан де Брие, о котором вас так усердно расспрашивал епископ Боне.
— Как! Вы знаете графа де Брие?
— Это он знает меня, — с невыразимой грустью сказала женщина. — А я просто думаю о нем всю свою жизнь!
2
Бог давно отвернулся от людей, ему перестал быть интересен собственный эксперимент, как очень скоро после окончания перестает быть интересен писателю его новый роман. И наступает вакуум, наступает пауза до следующего божественного озарения, наступает хаос. Мир, погруженный в это состояние, никогда не приобретет стабильности и равновесия без вмешательства Того, кто сам написал его законы.
Выходит, этот вселенский хаос все-таки управляем, его можно обуздать и спрогнозировать его беспорядочные колебания. И порой — для забавы или насмешки — человека тоже подключают к управлению им. Но что из этого получается — не знает никто…
Вот почему иногда приходится во всем этом копаться. Правда, доверяют далеко не каждому — лишь избранным… И оказывается, что находить первопричины в прошлом столь же увлекательно, как наблюдать следствия в настоящем и будущем. И в этой неразрывной связи времен, наверное, есть единственная возможность для человека что-то исправить в построении мира, хотя не исключено, что эти исправления тоже являются частью замысла Всевышнего. Для забавы или насмешки…
Но как же все-таки хочется считать, что человек — не просто примитивный винтик в огромном и сложном механизме, а винтик — мыслящий и способный принимать самостоятельные решения, которые, в конце концов, и приведут к стабильности и равновесию мира… А что в этом такого? Мы же по образу и подобию все-таки… Или нет?
Но равновесие… Что это? На каком фундаменте держится? И возможно ли оно вообще, если в мире на протяжении тысячелетий идет постоянная борьба добра со злом? Стоп! Борьба действительно постоянна — как время, и она идет с переменным успехом. И как бы кому-то ни хотелось, а добру никогда не суждено победить зло. Как, впрочем, и наоборот. Это — утопия. Природа не потерпит какой-либо доминанты. Гармония Природы — это равновесие. Вот оно что… значит, борьба…
«А брат Северин… Мы не встретили его там. И ты был расстроен, я видела. Что-то нарушилось в твоих планах, нет, в ваших планах, сеньор де Брие… Но вы так и не сказали мне ничего — ни главного, ни второстепенного. И я снова осталась ни с чем — в тревоге и ожидании. Как остаюсь в тревоге и ожидании — здесь…
Ведь что-то происходит, что-то происходит — с нами или между нами… как понять это?.. Сон, средневековье, и мы вдвоем куда-то едем, с кем-то встречаемся, от кого-то стараемся улизнуть, а с кем-то непременно увидеться. Это безумно напрягало меня тогда, когда я не знала, что рядом — ты, Андрей. Я мучилась этими снами, я ложилась спать и боялась уснуть, хорошо понимая, что бессонная ночь — напротив, сломает меня еще быстрее. И как я покажусь своим детям — лахудрой с синяками у глаз и заторможенной речью? И я засыпала, и я смирялась, и я улетала туда…
Но теперь, когда я знаю, что не одинока — ни там, ни здесь… я готова на всё, на любой поворот сюжета, который мы сами не можем контролировать, на любые испытания, на самый непредсказуемый конец… И мучает меня уже совсем не то, что раньше, а иное — простой вопрос: зачем? Зачем разыгрывается вся эта история? Ради чего? Что заложено в нее — какой смысл, какие идеи? И в какой части этого повествования мы сейчас находимся: в прологе, в экспозиции? Я литератор, и хорошо понимаю, что по всем правилам нам еще далеко до кульминации и развязки. Но если бы это происходило не со мной… А так… просто звенят натянутые нервы… и все время тянет открыть книгу с обратной стороны и подсмотреть концовку…
Наверное, вместе мы не пропадём — очень хочется надеяться на это. Я не о реальности говорю, а о том, что сейчас сложилось между нами. И мне суетно и, вместе с тем, как-то счастливо на душе, потому что ты называешь меня своей — здесь, в этом мире, и доверяешь — в том. Ведь где-то в глубинах наших душ есть такое место, куда никому кроме нас нет входа, и там ты — только мой, а я — только твоя. И возможно, что только для понимания этого нас погружают в такую необычную игру… где мы живём без будущего, то есть без нашего времени, из которого зачем-то пришли туда…
А знаешь, я теперь по-иному представляю тебя. Вот стоишь, будто застёгнутый на все пуговицы, строгий, серьёзный. Непроницаемый… граф Венсан де Брие… а там, в груди, бьётся большое горячее сердце и такая живая и чуткая душа… и эти пальцы… я их вижу… они не только меч способны держать, это я теперь знаю… они могут перенести на бумагу — превратить в буквы — малейшие движения души этой живой. Наверное, если бы я жила где-то рядом, то я бы боялась тебя: подойти не вовремя, сказать что-то невпопад, глупость какую-то — вот как сейчас — ты словно стал выше ростом и на мои глупости смотришь свысока — не свысока заносчиво, а с высоты лет, опыта, ЗНАНИЯ — вот правильное слово, будто знаешь такое, чего не знает никто… Но ничего с собой поделать не могу… всё равно — твоя, всё равно — люблю и целую, всё равно хочу… хочу не просто быть — там, где-то… а удариться оземь — прилететь к тебе ветром, дождём… посмотреть на тебя глазами вон той сероглазой девочки, что засмотрелась на тебя нынче утром… ты, верно, и не заметил… а это я была…»
* * *
«Девочка моя сероглазая и темноглазая одновременно, Инна, Эстель — какая разница! Так же, как и ты, я до сих пор не могу определить для себя: зачем? «Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно», — говорил поэт. Если нас погружают в этот сон — это кому-нибудь нужно — говорю я. И даже очень может быть — именно нам и нужно, только мы еще этого не понимаем… Или тому, кто сильнее и выше нас, кто… не хочется думать… держит нас на поводках…
Знаешь, я всю жизнь, лет с двенадцати, наверное, любил историю — предмет такой школьный, а потом, когда повзрослел, и науку вообще. Как в пятом классе начали изучать древний мир — так и влюбился! Палка-копалка там, добывание огня, первобытно-общинный строй, рабовладельческий… Средневековье — глубокое, потом раннее, потом ренессанс… Почему же именно так? Почему сейчас именно об этом наш с тобой сон? Или, может быть, ты тоже любишь историю с детства, и тут совпали какие-то энерго-информационные потоки… Я, например, в разное время накупил множество книг — не романов, а научных работ по тем или иным историческим темам. Есть книги и о тамплиерах, конечно. Я тогда не знал, зачем покупаю. Хотелось — и всё! Однако я не скажу, что воспринял их настолько глубоко, что теперь это всё всплывает наружу в столь причудливой форме. Или это не мне решать?..
Впрочем, в последние годы я больше склоняюсь к тому, что наука, обращенная не в будущее, а в прошлое — мертва. Копаться в прошлом — все равно что расчленять труп. Историки — это стервятники, их привлекает падаль. Хорошо сказал, правда? И вместе с тем, нет такой тайны в истории, которую бы не хотелось разгадать. И нет такой разгадки, которая бы не порождала новую тайну. Ты согласна со мной, Инна? Люди научились заглядывать в будущее с помощью фантазии, в прошлое же — с помощью кропотливого труда. Но мы-то с тобой никакого труда не прикладываем, а вместо этого просто живем в далекой и чуждой нам эпохе, воспринимая, как должное, ее дикие порядки и жестокие законы. Не думаешь ли ты, что мы — своего рода «попаданцы», это модный нынче термин в фантастике, то есть люди, оказавшиеся в каком-то времени ради определенной миссии. Если это так — в чем тогда наша? И когда мы об этом узнаем?»
* * *
«Люди хотят познать прошлое, потому что в человеке заложено стремление к первооткрывательству. Кому-то, как Колумбу, дано было открыть дорогу в будущее. Кому-то, как Шлиману, — в прошлое. И те, и другие — своего рода одержимые люди, ибо без фанатизма невозможно ни одно сколько-нибудь заметное открытие. А я хорошо сказала?
Андрей, дорогой мой человек! По всему выходит, что мы с тобой оба — фанатики, потому что, скорее всего, для нас в этом Сне (давай его с большой буквы называть!) приготовлено нечто особенное — то, что откроется не сразу, а только тогда, когда мы как-то проявим себя и свои способности. А может быть, и вовсе не откроется — не оправдаем доверия… так тоже может случиться…
Но мы сможем, правда? Я уже ничего не боюсь. Рядом с тобой — не боюсь. Потому что ты для меня…
Вот, вспомнила одну сказку… охотник на дракона пробирается в пыльное и закопчённое его логово, дрожа и за каждым поворотом ожидая встретить противостояние… за одним из поворотов вдруг открывается ему гора сокровищ: драгоценные камни в кадушках и сундуках, сверкающие всеми гранями, чудесное оружие и доспехи, золотые и серебряные украшения, и блики таинственного света на всём — на стенах пещеры, на самом драконе, уже кажущемся не ужасным, а прекрасным, на охотнике, его лице, руках, кольчуге…
Вот так и я… проплутав всю ночь в тёмных лабиринтах подсознания, вываливаюсь в утро… а там — драгоценное письмо — и блики эти я ношу на себе весь день… и таю от того, что ты назвал меня своей — а для чего ж тогда ты завоёвываешь меня? Так медленно и так искусно…»
ГЛАВА 9
1
В пещере было настолько тихо, что каждый звук от человеческих шагов из шуршания превращался в настоящий рокот. Впереди с факелом осторожно шел Филипп де Шамбро, за ним двигался де Брие. Замыкала тайную процессию Эстель, которая видела перед собой могучую спину покровителя и боялась отрывать от нее взгляд, боялась отстать и потеряться. Впервые в жизни ей довелось оказаться в подобной ситуации: в глубоком и глухом подземелье, да еще и наедине с двумя мужчинами. Последнее обстоятельство, впрочем, смущало девушку меньше всего. А вот то, что ни она сама, ни ее опекун не знали наверняка глубины и протяженности этого лабиринта, и случись какая неприятность с провожатым — они бы сами ни за что не отыскали выхода, — это не просто тревожило Эстель, это заставляло ее трепетать от грядущего ужаса. Она шла сзади, и рыцари, пристально смотревшие перед собой, не замечали волнения юной спутницы.
Факел в руке де Шамбро слегка чадил, оставляя после себя тягучий шлейф ядовитого дыма. Языки пламени иногда дотягивались до потолка и с хищным желанием облизывали известковые своды.
Минута шла за минутой, повороты коридоров сменялись один за другим, а сами коридоры, то сужаясь, то расширяясь, будто капилляры матушки земли, всасывали в себя отчаянных смельчаков, рискнувших спуститься в эту магнетическую преисподнюю.
— Когда вы были здесь в последний раз? — спросил де Брие, и его голос, приглушенный низко нависшим потолком, потерял привычную зычность.
— Давно, сеньор рыцарь, — ответил де Шамбро. — Я был здесь только однажды. Мне показывал тайник ваш брат Северин перед самым отъездом.
— И за все эти годы никто больше не спускался сюда?
— Никто, сеньор, не сомневайтесь.
— И вы так хорошо запомнили дорогу?
— Нет, тогда я еще не знал всех таинств этого подземелья. Ваш брат выводил нас обратно. Потом у меня была возможность изучить все ходы по карте. Если бы я бывал здесь часто, мне бы не пришлось идти столь медленно.
— По карте? Вы сказали, что изучали этот лабиринт по карте?
— Великая тайна должна быть великой тайной при любых обстоятельствах, — сказал де Шамбро, приостановившись и оглядываясь. — По уставу нашего братства, если со мной что-то случится, мой преемник должен вскрыть письмо с указанием точного места тайника и картой лабиринта, и только тогда сможет узнать, как до него добраться. А письмо это всегда находится при мне. Его оставил мне ваш брат перед отъездом, а ему в свое время передал прежний командор. Так было много лет.
— Я не сомневался, что тайник охраняется надежно, иначе бы папа Климент давно распорядился перенести его в иное место. Судя по всему, он очень доверяет вашему гарнизону и вам лично.
— Надеюсь.
— А вообще должен заметить, что немецкие шахтеры, нанятые полтора века назад Бертраном де Бланшфором, хорошо знали свое дело. Они потрудились на славу.
— В начале нового времени здесь были золотые рудники, — напомнил де Шамбро. — Когда Великий магистр пригласил сюда рудокопов, все думали, что он решил продолжить добычу золота, но оказалось, что все разработки были давно опустошены римлянами.
— Да, я это знаю, — ответил де Брие. — Шахтерам оставалось только заложить какие-то штольни, прокопать новые ходы и запутать их так, чтобы получился настоящий лабиринт.
— И со своей задачей они справились блестяще, не так ли?
— Гм, если нам предстоит пройти еще столько же, сколько мы уже прошли, то я стану утверждать, что рудокопы Бертрана де Бланшфора явно переусердствовали, — с усмешкой сказал де Брие и оглянулся на Эстель.
— Как ты? — Его голос прозвучал по-отечески тепло. — Нужно еще немного потерпеть.
— Да, я терплю, — выдавила из себя девушка.
Они замолчали и какое-то время продвигались, не разговаривая. Эстель, страх которой постепенно проходил, чувствовала, что узкий коридор все время ведет вниз. Было по-прежнему сухо, но воздух становился плотнее, и откуда-то из неведомой глубины тянуло затхлостью.
— Скажите, сеньор де Шамбро, а мой брат вывозил что-то из хранящихся здесь сокровищ?
— Если честно, я просто не знаю, — ответил комендант. — Сеньор де Брие в сопровождении двух рыцарей и трех оруженосцев отбыли из командорства глубокой ночью. Мы тогда попрощались у сторожки, и я вернулся в свой дом.
— Хорошо, об этом я надеюсь вскоре узнать у самого Северина.
Эстель, ступавшая вслед за покровителем и не отстававшая от него ни на шаг, давно хотела спросить, как долго еще продлится их путешествие. Девушка была утомлена и подавлена. Вопрос уже готов был сорваться с ее губ, но вдруг впереди раздался голос де Шамбро.
— Еще немного, дорогой брат, — сказал он, — еще два поворота и небольшой коридор.
Де Брие не ответил. Он был сосредоточен на своих мыслях.
Вскоре они уткнулись в стену, казавшуюся совершенно глухой. Коридор внезапно оборвался, приведя путников к месту, напоминавшему небольшую комнату. Стены ее были довольно ровными, будто стесанными умелой рукой. Ни направо, ни налево, ни прямо продолжения хода не было.
— Это тупик? — со страхом в голосе спросила Эстель. — Мы заблудились?
— Нет, сестра, — уверенно ответил де Шамбро. — Это конечный пункт нашего путешествия.
С этими словами он передал факел в руки де Брие, а сам подошел к стене, в которую упирался последний из пройденных коридоров. Отыскав на ней нужные точки, комендант командорства Кампань-сюр-Од приложил к ним обе руки и нажал с определенной силой. В то же мгновение стена, будто нехотя, ожила — она вздрогнула и неторопливо, с песочным скрипом повернулась на невидимой оси. Перед путниками открылся еще один тайный ход — зияющая темнотой узкая щель, в которую хотелось устремиться, не задерживаясь, но которая отпугивала с такою же силой, с какою и звала.
Венсан де Брие шагнул первым, освещая путь факелом.
— Прошу вас, — сказал де Шамбро, обращаясь к Эстель, и пропустил ее вперед.
Девушка вошла в помещение и остановилась как вкопанная. Перед ней находился просторный зал, глубину которого в полумраке было еще трудно определить. С двух сторон от входа на ровных стенах были закреплены факелы, пропитанные загустевшей смолой. Венсан де Брие не сразу, но все же поджег оба, и когда они разгорелись, свет огня вырвал из темноты остатки непознанного пространства. Взору девушки открылась поистине сказочная картина. Повсюду были расставлены многочисленные сундуки и бочки. Обитые железными или медными обручами, они были разных размеров. На доброй половине из них крышки были откинуты, другие оставались запертыми, но ни у кого из вошедших в сокровищницу не возникало мысли о том, что эти ящики пусты. Между бочек и сундуков то и дело попадались туго набитые мешки — пузатые и солидные.
Филипп де Шамбро и Эстель оставались у входа, в то время как Венсан де Брие, не потушив своего факела, ходил между этих сокровищ, заглядывая в каждый угол, поднимая по очереди каждую крышку и осматривая содержимое каждого сундука.
В пляшущих языках огня золото, много столетий погруженное во тьму, излучало таинственный свет далекого прошлого, будто когда-то вобрало в себя солнечный праздник мандариновых рощ Иерусалима.
Эстель с трепетом смотрела на сундуки, доверху наполненные золотыми украшениями, монетами, драгоценными камнями, и в ее сердце шевелилась какая-то неведомая печаль, словно девушка видела перед собой предметы из собственного детства, давно утраченные бесследно, исчезнувшие в потоке лет, но теперь вдруг снова явившиеся из небытия, как напоминание о далеком и несбывшемся счастье. Ее глаза на мгновение вспыхнули, но снова погасли.
Венсан де Брие, который, казалось, не замечал ничего вокруг и позабыл о своих спутниках, вдруг посмотрел на девушку как-то по-особенному.
— Тебе бы хотелось всем этим владеть? — спросил он.
— Нет, что вы! Я недостойна…
— Никто из нас на самом деле не знает, чего он достоин. Это решается на небесах. Подойди и выбери что-нибудь для себя.
— Вы не шутите, сеньор?
— Нисколько. Я действительно хочу сделать тебе подарок. И полагаю, что мой духовный брат Филипп де Шамбро не станет возражать против того, что расформированный Орден тамплиеров сегодня обеднеет на какую-нибудь безделицу.
— Пусть будет так, — ответил комендант командорства.
Тогда Эстель нерешительно приблизилась к одному из ларей, доверху наполненному украшениями изумительной красоты и нежности. Ее ладонь осторожно легла на холмик из цепочек, кулонов, браслетов и перстней. Но уже через мгновение девушка отдернула руку, будто от золота исходил нестерпимый жар.
— Я не знаю, что можно взять, — робко сказала она. — Это украшения царицы, а не бывшей шлюхи…
— Тогда позволь выбрать Господу, который без сомнения любит тебя и будет управлять моей рукой.
Де Брие подошел к сундуку и погрузил руку в ворох золотых изделий, ответивших на вторжение приглушенным звоном. Подняв горсть украшений, он раскрыл ладонь, и золото посыпалось назад, сверкая в свете факела. И когда рука рыцаря оказалась почти пустой, Эстель заметила, как что-то зацепилось за его пальцы. Это была тонкая цепочка с маленьким кулоном в виде сердца. Тогда де Брие повернулся к девушке и сказал:
— Ты будешь носить это и всегда помнить обо мне.
…Когда они возвращались, Эстель то и дело нащупывала на шее цепочку. Не смотря на то, что теперь приходилось все время идти немного вверх, обратный путь не казался ей длинным и утомительным.
— Позвольте откровенный вопрос, — вдруг сказал де Шамбро, обращаясь к гостю.
— Да, к вашим услугам, — хмуро ответил де Брие.
— Мне показалось, сеньор, что вы остались не очень довольны осмотром. Вы рассчитывали отыскать здесь нечто особенное?
— Если я отвечу «нет» — вы справедливо заподозрите меня в неискренности. Если отвечу «да» — станете выяснять, что именно я ожидал обнаружить в этом тайнике.
— Ваш ответ, любезный брат, вполне удовлетворил меня, — сказал де Шамбро. — Мне искренне жаль, что ваш приезд в наши края оказался не столь удачным, как вы, вероятно, рассчитывали.
— Да, я действительно рассчитывал на бОльшее. Что ж, отрицательный результат — это тоже результат, и он увеличивает шансы найти искомое в другом месте.
— Мне остается только пожелать вам удачи.
* * *
В Старом порту Ла-Рошели, на набережной Вален неподалеку от маяка одиноко жил глубокий старик. Звали его Эмильен Флери. Больше сорока лет назад это был отважный воин, участник боевых походов и гроза сарацин. В одном из сражений он потерял кисть правой руки. Многие видели, как Эмильен упал и выронил свой меч. Но никто не понял, откуда в раненом, истекающем кровью рыцаре нашлись силы подняться и, перехватив грозное оружие левой рукой, продолжать крушить врагов вокруг себя. Тогда его и прозвали Эмильен-левша.
После битвы отважный воин получил высокую награду от Великого магистра, навсегда завоевал уважение и почет среди тамплиеров, но все же был вынужден оставить военную службу и уйти на покой. Поселившись в Ла-Рошели, Эмильен-левша открыл небольшую харчевню возле Старого порта, куда в любое время дня и ночи могли заходить тамплиеры, прибывшие во Францию или отбывающие из нее. В его доме они всегда находили приют для отдыха и задушевной беседы, здесь встречались те, кто подолгу не видел друг друга, здесь довольно часто проводились тайные совещания, здесь назначались или отменялись наказания, здесь по справедливости решались судьбы людей.
Выйдя в отставку, бывший рыцарь Эмильен Флери несколько лет оставался одиноким, потом все-таки женился и с годами обзавелся тремя сыновьями и двумя дочерьми. Все они давно выросли, создали собственные семьи и разъехались в разные стороны. Жена Эмильена-левши однажды заболела лихорадкой и умерла. Мужчина на склоне лет остался один, но скучать и тосковать ему не позволяли постоянные гости. Десятки людей знал он, сотни людей знали его. У старика спрашивали совета, ему доверяли тайны.
— Что скажешь, старик? — Де Брие поставил на стол пустую кружку, вытер ладонью губы и заглянул в выцветшие от времени глаза хозяина харчевни. — Мы не виделись лет семь или восемь. Как живешь?
— Как все, — ответил Эмильен-левша.
Они сидели за столом на крепкой веранде с камышовой крышей. Перед ними открывалась панорама бухты Эгюйон со скалистым островком Ре неподалеку от берега, будто специально созданным природой в виде мола и защищавшим бухту от ветров Бискайского залива. Был вечер, закатное солнце, окрашивая горизонт в золотисто-кровавый цвет, осторожно окуналось в воду океана. Легкий ветерок, по-весеннему ласковый и по-морскому соленый шевелил темные локоны Венсана де Брие и редкие седые волосы хозяина харчевни. В воздухе витал стойкий запах морских водорослей. Над берегом носились и кричали чайки.
Полчаса назад рыцарь со своей спутницей приехал в Ла-Рошель из Ренн-ле-Шато по одной из семи тамплиерских дорог, давно связавших с оживленным портом любой уголок Франции. Сняв комнатенку у старого воина, де Брие велел Эстель отдыхать, и девушка, совершенно не стесняясь, тут же разделась и рухнула в кровать. Через минуту она уже спала крепким сном. А ее спутник, казавшийся бодрым и нисколько не уставшим с дороги, тем временем уединился с хозяином харчевни.
— А ты по-прежнему немногословен. — Де Брие улыбнулся. — Узнаю старого солдата.
— Зачем болтать пустое? Ты не хуже моего знаешь, как живут все те, кому достался этот король и этот папа.
— Но многие ликуют!
— Стадо, — проворчал старик.
— Стадо, — согласился де Брие.
— А эта девчонка? — Эмильен-левша прищурил глаза. — Что она делает с тобой и что ты делаешь с ней?
— Она просто сопровождает меня повсюду. Привязалась месяц назад, как раз после казни Жака де Моле.
— А ты привязался к ней?
Эмильен Флери не умел обходить прямые вопросы.
— У нее никого нет, — смутившись, ответил де Брие. — А у меня достаточно денег, чтобы содержать служанку, и достаточно дел, чтобы нуждаться в помощниках.
— Но тамплиер и женщина!
— Да, при вступлении в Орден я давал обет целомудрия, и я его не нарушил до сих пор! К Эстель я отношусь, как к младшей сестре или дочери.
— Святой Бернар в свое время утверждал, что целомудрие превращает человека в ангела, — задумчиво произнес старик. У него был высокий голос со скрипом, и это придавало словам Эмильена-левши какую-то особую, эпическую значимость. — Человек не преображается, оставаясь самим собой, у него не вырастают крылья. Но если целомудрие ангелов является их естественным состоянием, то человеческое целомудрие может быть только плодом дерзновенных усилий добродетели.
— Ты читал труды Бернара Клервосского? Когда? ПризнАюсь, я искренне удивлен.
— Нашел время.
— Я тоже читал и помню, как дальше святой говорил о том, что целомудрие без милосердия — ничто. А что касается этой бездомной девочки, то можно смело сказать, что я проявил к ней именно милосердие.
— Но сказанное о милосердии святой Бернар распространил и на другие добродетели, в частности, на смирение, которое, по его утверждению, более похвально, чем девственность, ибо смирение — это заповедь, тогда как целомудрие — только совет.
— В последние годы мне, как никогда, приходится быть смиренным, — сказал де Брие, уводя разговор в иное русло. — Ты понимаешь, старик, в каком смысле…
— Понимаю.
— Это нелегко, поверь.
— Знаю и верю. Ну и вернулся бы в свое родовое поместье, разводил бы овец, поливал огород…
— Ты полагаешь, старик, что прецептор Франции должен этим заниматься?
— А чем тогда должен заниматься прецептор Франции, особенно теперь, когда Орден разгромлен?.. Жизнь поменялась, дорогой Венсан. Того, что было — не вернешь.
— Орден не разгромлен! Есть я, и есть ты, старик, и есть еще десятки других рыцарей и воинов, сержантов и капелланов, которые избежали гонений и которые готовы продолжать служение Христу.
— Десятки других рыцарей и воинов… — задумчиво повторил Эмильен-левша, потом спросил, тяжело вздохнув: — Где они теперь? Чем заняты и кто ими руководит? Ты сам-то, Венсан, веришь в то, о чем говоришь?
Де Брие ответил не сразу. Он налил себе в кружку вина из желтого глиняного кувшина, сделал несколько глотков. Потом осторожно положил свою тяжелую ладонь на плечо старика и сказал, заглядывая в его глаза:
— Я верю только в то, что сам делаю! А делаю то, к чему меня призывает Господь и моя честь! Не далее как две недели назад мне удалось спасти полный архив Ордена и переправить его в надежное место! Теперь ни папа, ни король Филипп никогда не доберутся до этих документов.
— Это было нелегко?
— Это было рискованно, потому что к делу пришлось привлечь малознакомых людей. Но потом я принял меры предосторожности, и только двое знают теперь, где хранится архив.
— Что ж, похвально! — воскликнул Эмильен-левша. — Полагаю, Жак де Моле одобрил бы твои действия.
— Представь, старик, он сам незадолго до своей смерти поручил мне это сделать.
— Вот как! А почему он выбрал именно тебя?
— Не знаю. В последние несколько лет Великий магистр доверял мне. Мы не раз встречались и беседовали на разные темы.
— Какие это несколько лет? — настороженно переспросил старик. — Его арестовали в седьмом году, а сейчас четырнадцатый…
— Я имею в виду до ареста. Я неоднократно бывал в Тампле, у него дома. Знаешь, старик, Жак де Моле чувствовал, что конец близок. Это он однажды посоветовал мне уйти в тень и заниматься делами Ордена тайно. Но и потом, во время следствия, через надежных людей я получал от него указания и просьбы, которые старался по возможности выполнять. Я давно сбрил бороду, сменил рыцарский плащ на простую одежду, веду образ жизни торговца, но, конечно же, ничем не торгую. Просто езжу по стране и решаю кое-какие вопросы.
— Решаю кое-какие вопросы… — снова повторил Эмильен-левша. — Ты сказал это так, будто не прочь поведать мне о своих планах…
— Не совсем так, старик. Извини, но есть вещи, о которых даже тебе я не могу рассказать.
— Эмильен-левша не обижается, — скрипнул старик. — Эмильен-левша достаточно много знает, еще о бОльшем догадывается, но никогда не лезет никому в душу и ни о чем не говорит вслух.
— Да ты кладезь самой добродетели!
— Нет уж, не стОит приписывать мне то, чего нет. Я грешен, и грех мой состоит именно в том, что я позволяю себе много размышлять о бренности бытия. Стараюсь не делать выводов, но у меня не всегда получается.
— И к каким же выводам ты пришел?
— Ты молод, Венсан. Тебе еще рано принимать к сведению стариковские мысли.
— И все же…
— Ты непременно хочешь от меня что-то услышать?
— Да, хочу.
— Хорошо, слушай. Не всегда то, что ты ищешь, является тем, что тебе нужно. И не всегда то, что ты нашел, является тем, что ты искал.
Де Брие с легким удивлением посмотрел на старика и опустил голову. Наступила пауза. Эмильен-левша налил себе вина, медленно, будто процеживая сквозь зубы, выпил из кружки. Его цепкий взгляд тем временем скользил по лицу гостя.
Солнце успело погрузить в темные воды половину своего раскаленного тела. Где-то там, за потускневшим горизонтом, океан стонал и корчился, но терпел это огненное безумие.
— Завтра будет тихо, — сказал старик. — Все паруса умрут…
— Почему ты решил, что я что-то ищу? — тихо спросил де Брие.
— Разве я об этом сказал?
— Нет.
— Тогда почему спрашиваешь?
— Потому что ты — Эмильен-левша, и ты никогда не произносишь пустых слов.
— Это верно.
Хозяин харчевни поднялся из-за стола.
— Давай прогуляемся, — сказал он. — Вечером я имею обыкновение бродить по берегу бухты. Говорят, это полезно для сердца.
— Ты полагаешь, что здесь нас могут подслушать? — удивился де Брие.
— Я просто хочу подольше пожить. Морской воздух перед сном — лучшее снадобье для старика.
Они спустились вниз. На кухне Эмильен-левша приказал повару — смуглому финикийцу с простодушно-улыбчивым лицом — приготовить для них ужин.
— Мы скоро вернемся, — сказал он. — Через четверть часа разбуди спутницу моего друга, чтобы поужинала вместе с нами.
Повар кивнул, его пухлые губы расплылись в широкой улыбке.
— Я подобрал его в Тунисе еще ребенком, — пояснил Эмильен-левша. — Его отец был местным воином, одним из лучших, и погиб в честном бою. Поначалу мальчишка был диким, как египетская кошка, но потом привык и привязался ко мне. Наверное, за то, что я никогда его не обижал.
Они вышли на берег, неторопливо двинулись в сторону Старого порта.
— Слушаю тебя, Венсан.
Де Брие какое-то время собирался с мыслями, не решаясь открывать старику Эмильену все свои тайны.
— Я ищу брата, — наконец, сказал он. — В командорстве Кампань-сюр-Од мне сказали, что несколько лет назад Северин отправился в Англию и остался там. Возможно, он поможет мне отыскать то, что я ищу.
— Все-таки ищешь… — Старик остановился и, повернув лицо к собеседнику, пристально взглянул в глаза де Брие. Тот пожал плечами. — Ты имеешь в виду Грааль?
— В данный момент Грааль представляет для меня меньший интерес, — уклончиво ответил де Брие, понимая, что Эмильену-левше будет нетрудно догадаться, о чем идет речь.
Старик был проницателен, и он догадался.
— Кажется, я понимаю, на что ты замахнулся! — сказал он. — Позволь только узнать, зачем?
* * *
В небольшом относительно чистом и уютном зале харчевни в этот вечер было малолюдно. Лишь два стола оказались заняты. Неподалеку от кухонной стойки расположились трое изрядно подвыпивших моряков с португальской галеры, которая утром следующего дня должна была уйти с грузом соли в Лиссабон. Они сидели уже давно, и по всему было видно, что вскоре собирались покинуть заведение. У окна в противоположной стороне зала, поддерживая неторопливую беседу, тихо ужинали двое мужчин и молодая женщина.
Стойкий запах жареного лука приятно щекотал ноздри посетителям. Пышнотелая румяная посудомойка с розовой вспотевшей шеей и глубоким вырезом нательной рубахи, в который то и дело вываливалась грудь, гремела в кухне оловянными тарелками. Привыкшая видеть в харчевне разное отребье, она искоса с интересом наблюдала за благородного вида задумчивым сеньером, сидевшим к ней лицом. Руки и глаза ее были заняты, поэтому обнаженную грудь она просто не спешила поправлять.
— Я помню даже тот день, когда твой брат Северин отправлялся в Англию, — сказал Эмильен-левша. — Это было в субботу, то ли двенадцатого, то ли тринадцатого октября.
— А почему ты запомнил этот день? — с интересом спросил де Брие.
— Во-первых, я был удивлен, что это твой брат, а не ты, — сказал старик. — Мы-то с тобой знакомы давно, а Северина мне не доводилось видеть никогда раньше. Вы очень похожи, правда…
— А во-вторых?
— А во-вторых, у него был довольно большой багаж. Я еще подумал: зачем это он тащит в Англию столько одежды и всякого другого барахла, которое по дешевке можно купить там?
— Какого барахла, старик? — оживился де Брие.
— Разного. У него было несколько ящиков.
— Ты можешь описать их?
— Конечно же, нет. Ящики как ящики, просто показалось, что их много.
— Не исключено, что один из этих ящиков… — пробормотал Венсан де Брие. — Жак де Моле когда-то говорил мне, что опасается за судьбу реликвии, что Ренн-ле-Шато перестает быть надежным местом для тайника. Не исключено, что папа Климент в скором времени лично пожалует на холм Безю, и его проведут по тому лабиринту, по которому несколько дней назад прошли мы с Эстель.
— Папа не пожалует на холм Безю, — со спокойной уверенностью сказал Эмильен-левша.
— Почему ты так думаешь?
— Потому что, пока ты переодевался после прогулки, ко мне заглянул один знакомый и принес весточку из Парижа. Я просто не хотел с этого начинать нашу беседу.
— Какую весточку? О чем ты?
— Позавчера папа скончался, — сообщил Эмильен-левша. — Говорят, что в страшных муках. И еще говорят, что сбылось какое-то пророчество Великого магистра.
После этих слов все трое, сидевшие за столом, перекрестились.
— Господи, упокой его душу! — искренне произнесла Эстель.
— Все-таки умер! — воскликнул Венсан де Брие. — Стало на одного конкурента меньше.
— О чем вы говорите, сеньор! — Девушка с недоумением посмотрела на своего покровителя. — Разве его высокопреосвященство кому-нибудь являлся конкурентом?
— Еще каким, девочка! — ответил ей старик.
— Но я ничего не понимаю. Вы все время говорите загадками. То какие-то ящики, то папа конкурент. Ваша милость, сеньор де Брие, если уж вы повсюду возите меня с собой, то позвольте и мне знать, куда мы едем, и понимать, зачем. Неужели до сих пор вы не убедились в моей преданности?
— Не обижайся на него, девочка, — сказал старик. — Он даже мне, своему давнему приятелю, далеко не все рассказывает.
— Я давно убедился в твоей преданности, Эстель, — тихо произнес де Брие и с теплотой посмотрел на девушку. — Поэтому скажу и то — куда мы едем, и то — зачем.
— Я клянусь никогда и никому ни под какими пытками не выдавать вашей тайны! — торжественно заявила Эстель. — Говорите же, сеньор!
Но не успел де Брие открыть рот, как в харчевню вошли двое мужчин в серых плащах с накинутыми на головы капюшонами. В тусклом свете нескольких свечей нелегко было рассмотреть их лица. Скорее всего, это были какие-нибудь путешественники или бродяги, прибывшие в Ла-Рошель в поисках места на случайном судне. Не обращая внимания на сидящих в зале, прибывшие направились к кухонной перегородке и кликнули повара.
И в ту же минуту Венсан де Брие поднялся и решительно направился к вошедшим. Резко стащив капюшон с головы одного из них, рыцарь заставил его обернуться.
— Мессир! Вы здесь! — воскликнул тот.
Это был Тибо.
2
Конец января выдался на редкость холодным. Солнце пряталось в пелене седых облаков, даже не пытаясь подсмотреть за буйством зимы. Снега в городе давно не было, асфальт звенел и будто ёжился от непривычных минус десять. И всё время дул ветер — несильный, но удивительно настойчивый. Обнаженные тополя, выстроившись вдоль улиц, невесело уклонялись от его редких порывов, размахивали голыми ветками, наполняя ледяной воздух звуками, похожими на стук кастаньет. Но прохожих было мало — холод загонял людей в транспорт, в магазины, в дома, и слушать непривычную деревянную музыку было некому. Впрочем, оставались еще фонарные столбы, понуро склонявшие длинные тонкие шеи над дорогой. По вечерам их головы оживали и нервно вспыхивали, отбрасывая на тротуары болезненный свет, а утром, как только холодные губы рассвета касались их затылков, фонари гасли и переставали жить.
Утром першило горло — сразу с двух сторон, будто накануне Инна хватанула чашку холодного молока. Но такой привычки не было, однажды в детстве случилось — на всю жизнь запомнила. Оставалось грешить на то, что просто продуло в трамвае или кто-то кашлянул в ее сторону. Всегда ведь находится один, который чихает или кашляет… В любом случае, причину было искать нелепо, только время тратить вместо того, чтобы немедленно устранять следствие. А как, если с каждой минутой становилось все хуже?
Давно она не болела, даже как-то подзабылось, как это — болеть. Хорошо еще, что был выходной, плохо — что не вызвать врача на дом.
Столбик термометра переполз через отметку «тридцать семь», сделал еще три шажочка и нехотя остановился. «Самое то! — подумала Инна. — Температура для ломоты костей, для тяжести в голове, заложенности носа и текучести глаз. Уж лучше бы тридцать восемь и пять».
Она знала себя: небольшие температуры валили с ног, разбивали организм, распинали его, накрепко приколачивали к постели. Так и случилось. Сначала было горло, потом включилась голова, потом эстафету подхватили руки и ноги, не осталась в стороне спина. Моментами казалось, что болят даже волосы.
Инна лежала под своим любимым верблюжьим одеялом и медленно соображала: что теперь делать? Потом заставила себя встать, сделала чай с малиной, хотя хорошо знала, что он сейчас ни к чему, потом поставила себе на ступни горчичники и натянула поверх них толстые шерстяные носки. Есть не хотелось, было тяжело телу и нудно душе.
Выпростав руку из-под одеяла, Инна нашарила на пуфике пульт от телевизора, попыталась что-то посмотреть, но быстро устала от мелькания кадров. «Спать! — прозвучал в голове приказ. — Теперь только сон может вытеснить из меня этот вирус».
И она уснула — не смотря на то, что было утро, что легла она накануне не поздно и, в общем-то, выспалась. Но сон все-таки пришел, обнял ее, согрел своими мохнатыми лапами, бережно окутал тишиной и плавно погрузил в состояние покоя.
«Вчера я болела. Впрочем, больна и сегодня — температуры уже нет, но тяжесть в теле осталась — очагами, отголосками. Я очень плохо переношу простуды. Помню, как в детстве меня растирали барсучьим жиром, уксусом, водкой — было дело. Это потом, повзрослев, я стала понимать, как тяжело родителям, когда болеют их дети. Со своей стороны понимать — с дочерней. Своих-то у меня нет…
Я проспала несколько часов кряду, причем, это было днем, при солнечном свете, чего со мной практически не бывает никогда. За редким исключением. И знаешь, мне ничего не снилось в этот раз — либо меня пожалели, либо мне снится только тогда, когда мы с тобой спим вместе… Нет, одновременно — я это имела в виду… покраснела, наверное…
А, вот, кажется, догадалась, где могла подцепить простуду. Помнишь пещеру в Ренн-ле-Шато? Там было душно и сыро, и все время откуда-то тянуло затхлым сквозняком. Или мне показалось? Или я вообще схожу с ума, если предполагаю, что простудилась от собственного Сна?
Сейчас уже вечер. Я устала. Ничего не делала — и устала, как будто провела шесть или семь уроков. Снова пойду спать и не знаю, встретимся ли мы с тобой опять. А завтра в школу по-настоящему, надеюсь к утру быть, как огурчик. Впрочем, если не отпустит полностью, позвоню директрисе и попрошусь в отгул. В конце концов, имею я на это право по законодательству или нет?»
* * *
«Удивительное дело, Андрей! Сегодня ночью мне приснился совершенно другой сон! Даже странно как-то… непривычно уже… Будто я гуляла в каком-то большом нездешнем парке. Не знаю, в каком городе и в какой стране. Там было такое место, аллея… я стояла в тени тополей, а впереди было открытое пространство, залитое солнцем, в нём парИли последние пушинки наперегонки с мотыльками, а я стояла, словно отстранившись от этого мира, было тихо, трава в тени была яростно зелёной, освещённая дорога впереди поворачивала в сторону, терялась из виду, и только по маленькой просеке можно было угадать её направление… И еще там был старинный дом, особняк такой, как в пьесах Островского или Чехова. Он выглядывал из-за деревьев, перед ним была лужайка — такая изумрудная, что аж дух захватывало от этой красоты. И я представила, что там гуляют барышни с зонтиками от солнца и в платьях с кринолинами, а возле них бегают счастливые дети, слышен их звонкий, беззаботный смех. И я поймала себя на мысли, что, пожалуй, я готова полюбить лето. А ведь мне всегда нравилась осень, дожди, мокрые тротуары, гулять по ним, не важно в какую сторону. Потом я полюбила март, с его слякотью на дорогах, синевой по утрам, с начинающими таять сугробами, когда в каждом — волшебные чертоги, а когда заглянешь, наклонившись, все прячутся, только край чьей-то шляпы, или обронённый носовой платочек — прозрачным кружевом… А теперь было лето… яркое, звонкое, такое, знаешь — из детства… И мне там было хорошо! Тепло и уютно. Может быть, именно поэтому я проснулась совершенно здоровой!
Но скучаю по тебе, Солнце моё, Лето моё. Как мне быть с этим?..»
* * *
«Господи, Андрей! Почему ты мне не рассказываешь о наших планах? Нет, я совсем сошла с ума, запуталась… Откуда ты можешь знать… это ведь сеньор Венсан де Брие знает о планах — о его планах, а ты — так же, как и я, только исполнитель, марионетка… И мы оба — слепые котята, разве не так? Приехали в этот городок, я впервые в своей жизни увидела Атлантику. Неужели она такая на самом деле? Нужно будет посмотреть в Интернете…
…Как интересно было в Ла-Рошели! Что за удивительное место! Я помнила какую-то полуразрушенную постройку по старому фильму о мушкетерах, а когда зашла на сайт, была убита информацией о том, что в фильме снимали Хотинскую крепость в Черновицкой области Украины. Обманули, а мы не заметили… Откуда нам было знать, какая Ла-Рошель на самом деле? Эти две старинные башни у входа в порт, Шенн и Сен-Николя — я узнала из Википедии — оказывается, были посторены гораздо позже того времени, когда мы с тобой, вернее, Эстель и де Брие — были там… Им, этим башням, сейчас по семь веков, а мы были еще раньше!
Маленький, невзрачный поселок с фантастическим видом на океан! Эти парусники со скрипящими деревянными корпусами, эти колоритные матросы пиратского вида, как у Стивенсона в «Острове сокровищ», этот неповторимый соленый бриз, а еще запах дегтя и специй… А Эмильен-левша… какой персонаж!
Поначалу мне было страшно — да, честно. В той старой харчевне, где мы сидели вечером, не было ни одной женщины кроме меня. Ну, там посуду мыла одна и всё время пялилась на де Брие — но она не в счет. Знаешь, Андрей, когда женщина остаётся наедине с толпой мужчин, пусть даже спокойных, занятых своими делами, — ей все равно становится не по себе. А-ну как кому-нибудь в голову придет шальная мысль… И женщина всегда боится подобных ситуаций — это природа. Знаешь, даже в присутствии де Брие не было полной уверенности… Только когда появились Тибо и Луи. И ты снова не успел мне рассказать… прости, вы не успели, сеньор… Зачем мы туда приехали, о чем вы говорили со стариком — для меня осталось загадкой. Может быть, вскоре представится случай… я ведь давно доказала, что готова служить верой и правдой, мне можно доверять…
Ну, довольно об этом… Знаешь, Андрей, мне в последние дни кажется, что ты… как бы это сказать… отстраняешься от меня, что ли. Нет, я всё понимаю… без комментариев. Просто я оказалась как-то не готова… Вот, вбила себе в голову мысли о взаимности… а теперь страдаю еще и от этого…
Просто у меня нет ничего кроме твоих стихов и нашего Сна. В остальном я — одинокий человек… Ты, конечно, можешь сказать, что Сон и стихи — это уже немало. Да, согласна, я даже готова признать это и ни на что больше не претендовать… впрочем, я и раньше-то не слишком претендовала… возомнила себе…
А одиночество — это такая штука… как сон разума рождает чудовищ, так — одиночество рождает мысли… Вот будто иду… будто жизни принадлежу, а она — мне. Вижу вокруг себя что-то, воспринимаю видеоряд: какая-то скамейка, груда чернозёма почему-то рядом нарыта (зачем о ней думать?), какая-то дощечка отдельно валяется, травинки дрожащие, еще живые — в изморози, в снежинках… иду… и сердце на три четверти — тоже в этой изморози. Да нет, не изморози уже, а — в корке льда… только левая верхняя четверть — как те травинки, жива ещё, бьётся из последних сил, горячая, истекает кровью (или любовью?)… а вокруг… вокруг меня, в радиусе до полуметра — застывший непроницаемый воздух… как в цилиндре я, в колбе… вот едет машина — без звука, вот собака лает — не слышно, только догадываюсь, вот разговаривают женщины, хлопают двери магазина, наверное, шумит рынок — ни звука, ничего, всё застыло… тишина кругом — одиночество…
Напиши мне…»
P.S. «Этот город болеет гриппом, чертит вспять временные оси, виснет чаечным мерным хрипом на беззвучии неба. Носит в бронхах комья речного ила, не прямит каменелых плеч. Я сегодня с ним говорила: наказала тебя беречь…»** * *
«И я ведь тоже болею! Как это совпало — удивительно! Тоже простуда, горло и температура. И я так же, как ты, тяжело переношу небольшую. Два дня не подходил к компьютеру — жена приказала лежать, и была права: зато я теперь почти выкарабкался. Болеть нельзя — нам предстоят большие планы… Шучу, конечно. Откуда мне знать о планах де Брие?
А вообще… мне самому иногда становится не по себе от осознания своей странной миссии, а в особенности от того, что я никак не могу повлиять на ход событий. Я — человек двадцать первого столетия. Впрочем, как я могу повлиять? Находясь в далеком прошлом, я могу лишь наблюдать за ним, в какой-то степени изучать… Хотя… зачем-то же мы туда приходим с завидной регулярностью. Неужели для того, чтобы действительно что-то изменить, переставить местами, повернуть в другую сторону? Нас, людей рационального мира, помещают в мир иной, в мир чуть ли не драконов и фей — для чего?
Есть такой жанр в современной фантастике — альтернативная история. Там герой попадает в прошлое и что-то меняет в известных исторических событиях. А потом история, как река, движется по иному руслу — альтернативному. И автор новые события по-всякому крутит и рассматривает. Знаю, что многим читателям это интересно. А что у нас с тобой? Мы же не герои какого-то романа… впрочем, я сейчас подумал, что было бы опрометчиво так заявлять… Ну, если не романа, то какого-то замысла… причем, не писательского. Как ты думаешь, Инна?
Мы с тобой явно участвуем в каком-то эксперименте, это очевидно. Нас не заставляют, не принуждают — нас мягко, но целенаправленно к чему-то ведут. Мы погружены в историю цивилизации, и это пробуждает не только любопытство, но накладывает определенную ответственность. Разве не так? Разве ты сама этого не чувствуешь? Выходит, мы в какой-то степени первооткрыватели — помнишь, ты говорила…
Нас пригласили в путешествие на семь столетий назад, хорошо еще, что не в каменный век! А ведь время неумолимо, его не повернуть вспять. Время — лучший тайник для истории. Копаться в этом тайнике — привилегия избранных, и мы с тобой сейчас — эти избранные. Люди на протяжении веков написали сотни трактатов и летописей, из которых до наших дней дошли десятки. Но историки — наибольшие в мире фальсификаторы. На их «ошибки» может указать лишь Создатель самой истории. Но чаще всего Он остается в стороне. И поэтому поручили нам… Но — что? Хочу верить, что совсем скоро мы оба об этом узнаем…»
ГЛАВА 10
1
Луи Ландо радовался, как ребенок. Десять дней вместе с другом Тибо он пробирался к Ла-Рошели — скрытно, как никогда: не нанимая экипажей, почти все время пешком и лишь изредка на случайных попутных телегах, ночуя в самых заброшенных и малозаметных постоялых дворах или придорожных харчевнях, если там отыскивалась хоть какая-то конура для ночлега. Бывшему карманному вору не впервой приходилось скрываться от преследования, но одно дело, когда тебя догоняет обворованный простак или даже полицейский, к которому тот обратился за помощью, а иное дело — когда тебя разыскивают агенты инквизиции, от которых ты только что улизнул самым загадочным образом.
Луи хорошо понимал, что даже если их на какой-то дороге настигнут ищейки папы, ему нетрудно будет объясниться с ними и избежать унижений и наказания. Но ради друга Тибо, миссия которого для Луи до сих пор оставалась загадкой, он был готов на всё — даже на то, чтобы отмерять шагами половину Франции. Он принял для себя эту опасную игру, он изо всех сил держался ее правил, и он справедливо полагал, что судьба, в конце концов, по достоинству отблагодарит его за испытанные лишения и усердие. Луи знал, что Тибо ведет его в Ла-Рошель, но не знал — для чего. Луи не был посвящен в детали плана, разработанного де Брие вместе со своим оруженосцем, и это угнетало его. Он хорошо понимал, что ему еще не до конца доверяют, и прилагал все усилия для того, чтобы это недоверие разрушить.
И вот теперь, после стольких дней скитаний, когда в харчевне Эмильена-левши состоялась неожиданная встреча бывшего рыцаря со своим оруженосцем, Луи Ландо воспрянул духом. Он понял, что игра продолжается, и он сам не выпал из нее, а остается одним из участников.
— Мессир! Как я рад вас видеть здесь! — воскликнул Луи вслед за Тибо, и его глаза заблестели. — Не скрою, моему отчаянию уже наступал предел!
— Я тоже рад видеть вас здесь, друзья! — сказал де Брие. — Хотя, если честно, на это уже не рассчитывал.
— Мы пришли пешком из Вьерзона, — сдержанно сказал Тибо.
— Из Вьерзона?
— Да, мессир. Позже я вам все расскажу.
— Пойдемте за наш стол, — сказал де Брие, чутко улавливая интонации своего друга. — Вы, наверное, голодны после такого долгого путешествия?
— Не то слово! — воскликнул Луи, вращая головой и заискивающе глядя на рыцаря. — Я бы сейчас и целого барана съел!
— Барана я вам не обещаю, но что-нибудь иное для подкрепления сил в этом славном заведении обязательно найдется.
С этими словами де Брие приобнял Тибо за плечи и повел к своему столу, где, молитвенно сложив руки на груди, восторженно следила за их диалогом Эстель. Когда оруженосец приблизился, девушка поднялась и кинулась ему на шею, потом обнялась и с Луи.
— Как я рада вас видеть, сеньоры! — воскликнула она. — Когда мы узнали, что вы арестованы, я плакала…
— А как вы узнали, что мы арестованы? — удивился Тибо.
— Мы были в Орлеане, — сдержанно сказал рыцарь. — И на постоялом дворе мне все рассказал про вас сын хозяина.
— Да, эти негодяи взяли нас глубокой ночью! — начал рассказывать Тибо, устроившись за столом. — Мы спали, ни о чем не подозревая. По всему видно, за нами следили от самого Парижа, но догнали только в Орлеане.
— А кто вас арестовал и что им было нужно? — спросил де Брие, переводя взгляд с Тибо на Луи и обратно.
— Папские прелаты Боне и Моро. Они со стражей ворвались на постоялый двор и подняли нас среди ночи. Ничего не говоря, связали нам руки и затолкали в повозки. Потом едва ли не целый час куда-то везли. Мы думали, что обратно в Париж, а оказалось — во Вьерзон.
— Странный выбор, — задумчиво сказал де Брие. — Хотя, может быть, они полагали, что в монастыре вас легче будет держать под стражей.
— Но это же не тюрьма! — в сердцах сказал Луи. — Нам просто очень повезло! Если бы не случай… нас бы точно отвезли обратно в Париж и кинули в подземелье Жизора.
— Так вы сбежали?! — воскликнула Эстель. — Но как! Разве можно сбежать из-под стражи?
— Я обязательно расскажу вам, мессир, — ответил Тибо. — Прошу вас, закажите что-нибудь для нас. Право слово, силы покидают меня. Да и Луи уже еле перебирает ногами.
— Это правда, сеньор, — подтвердил Луи. — Мы не ели со вчерашнего дня. У нас закончились деньги…
Эмильен-левша, пристально наблюдавший за этой неожиданной встречей, поднялся из-за стола и отправился на кухню. Через минуту по его распоряжению гостям подали овощное рагу, жаркое из говядины и кувшин белого вина. Хозяин харчевни приблизился к де Брие и тихо сказал ему на ухо несколько слов.
— Время позднее, — обратился он ко всем, прежде чем удалиться. — Мне, старику, уже полагается спать. А вы тут гуляйте хоть до утра. Радостную встречу нужно как следует отметить.
— Спокойной вам ночи, дедушка! — пожелала старику Эстель.
— Ты бы тоже шла отдыхать, девочка, — ответил Эмильен-левша. — Стоит ли слушать грубые мужские разговоры?
— Все, что касается моих друзей, касается и меня, — с гордым видом ответила девушка.
Через несколько минут, после того, как Тибо и Луи с голодной жадностью съели жаркое, запили его вином и расслабились, разговор продолжился.
— Что они хотели от вас? — спросил де Брие.
— Они допытывались, куда и зачем мы едем, — ответил Тибо.
— Мы сказали, что являемся простыми ремесленниками, а направляемся на юг в поисках заработка, — торопливо вставил Луи.
— Поверили?
— Конечно же, нет. — Тибо покосился на товарища. — Они не были настроены нам верить.
— А дальше?
— А дальше Луи куда-то увели, а меня продолжали допрашивать, — сказал Тибо.
— Меня допрашивали в соседней комнате! — заявил Луи.
— Потом и ты мне все расскажешь, — повернулся к нему де Брие. — А сначала я хочу послушать Тибо.
— Как вам будет угодно, сеньор.
Луи сник и опустил голову. Эстель взяла его руку и искренне пожала ее, ободряя парня.
— Ну, что было дальше? — спросил рыцарь.
— Мессир, они расспрашивали меня про вас, — тихо сказал Тибо. — Епископ Боне интересовался, чем вы теперь занимаетесь и куда нас направили с поручением.
— Вот как!
— Да, он совершенно точно знал моё имя и то, что я вам служу.
— Очень интересно!
— И еще он сказал, что вами очень интересуется папа Климент.
— Так и сказал?
— Да, и еще предлагал денег за то, что я расскажу ему про вас и впредь буду сообщать о ваших планах.
— И ты согласился?
— Мессир, я не для того сбежал из-под стражи и, рискуя снова быть схваченным, направился в Ла-Рошель, где мы с вами условились встретиться, чтобы выслушивать унизительные обвинения в свой адрес! Вы хорошо знаете меня, сеньор, и я не допускаю мысли, что вы сейчас искренне подозреваете меня в предательстве.
— Прости, Тибо! Я уверен, что ты остался честен и предан мне.
— Именно так, сеньор!
— Благодарю, ты настоящий друг! Но что было дальше?
— Когда я отказался от предложения епископа Боне, он приказал солдатам из стражи, и они меня изрядно поколотили. А потом обыскали и отобрали то письмо.
— А потом епископ спрашивал, не знаешь ли ты, о чем оно? — предположил де Брие.
— И кому я его везу.
— Ну, что написано в письме, мог прочитать… только тот, кому оно было адресовано, — спокойно сказал де Брие.
— Я ничего не сказал епископу, — заключил Тибо.
— Хорошо, верю.
Де Брие сделал паузу. Он задумался на несколько минут, не глядя ни на кого, но точно зная, что все трое за столом внимательно следят за его взглядом.
— Ну, а ты? — спросил рыцарь у Луи после паузы. — Что скажешь ты?
— Меня отвели в соседнюю комнату, и епископ Моро спрашивал меня о том же, о чем в это время спрашивали Тибо. Но я ведь ничего не знал тогда, ничего не знаю и теперь. Ни вы, сеньор, ни Тибо не говорили мне, куда мы должны поехать и с кем встретиться. Я только сейчас узнал о каком-то письме…
— Гм, предположим, — согласился де Брие. — Но для меня все же остается загадкой, как папские прелаты узнали, в каком направлении вы отправились из Парижа?
— Я сам удивляюсь, — произнес Луи, переводя взгляд с де Брие на Тибо. — И зачем еще вы понадобились самому папе?
— Ну, теперь нашему папе не понадобится вообще никто, — ответил рыцарь.
— Почему? — спросил Луи, преданно заглядывая в глаза де Брие.
— Потому что не далее как два дня назад папа Климент навсегда оставил сей бренный мир и вскоре предстанет перед Господом.
— Как! Папа умер? — с искренним отчаянием воскликнул Луи.
Тибо молча смотрел на рыцаря, не веря своим ушам.
— А разве не говорил о скором ответе папы перед судом божьим Великий магистр Жак де Моле, восходя на костер? — Голос де Брие стал звонким и пафосным. — Ничто в этом мире не может быть случайным. И ни одна причина не может обойтись без следствия.
— Упокой, господи, его душу! — воскликнул Луи и неистово перекрестился. Потом добавил поникшим голосом: — Как же теперь… без папы?
— А что теперь изменится? — спросила вдруг Эстель, глядя на своего покровителя.
— Этого я не знаю, — ответил де Брие. — Могу сказать только одно: с этим папой или с другим, которого изберет конклав, с его высокопреосвященством или без него — но жизнь будет продолжаться, и главное, чтобы в душе каждого оставался жить Бог. А с этим, поверьте мне, ничего не страшно.
В это время от стола, за которым безудержно пили матросы с португальской галеры, отделилась неясная, расплывчатая фигура. С трудом преодолевая зигзаги между другими столами, эта фигура приблизилась к нашим собеседникам.
— Луи! — воскликнул пьяный матрос. — Луи, это ты, сто чертей мне в глотку!
Луи поднялся из-за стола. С удивлением и испугом он таращился на пьяного, а де Брие тем временем наблюдал за Луи.
— Ну, Луи, черт рыжий! — не унимался матрос. — Не признал, что ли? Да это же я, твой подельник Пьер! Не узнаешь? Эх, сколько кошельков мы в свое время с тобой срезали в Париже! Ну, Луи, вспомнил? Да! А теперь я в матросы подался, вот, завтра уходим. Не помню, правда, куда и зачем, но все равно! Эх, а ты как? Это твои новые друзья, что ли? Ну, познакомь! И девчонка тоже с вами? А как поживает твой старый друг, аббат Лебеф? Увидишь его, передай привет от меня.
С этими словами пьяный протянул руки, намереваясь обнять приятеля. Тот отступил назад.
— Я тебя не знаю! — воскликнул, опомнившись, Луи. Потом повернулся к де Брие и развел руками. — Я его не знаю! Он просто пьян и обознался!
— Как это обознался?! — Не смотря на сильное опьянение, матрос, назвавшийся Пьером, был искренне возмущен. — Да я твою рыжую голову из тысячи узнаю! Ты мне еще три су должен! Не помнишь? Так я тебе сейчас напомню…
Не дожидаясь ответа, матрос бросился на Луи, но тот ловко увернулся, и Пьер, пролетев мимо, рухнул на пол, как бревно. Ударившись при этом головой, пьяный потерял сознание и быстро затих, лежа ничком между двух столов.
— Эй, ребята! — позвал де Брие, поднимаясь. — Отнесите-ка его на галеру. Да и самим вам пора бы отдохнуть, если уже завтра нужно отправляться в плавание.
— Да, сеньор, вы правы, мы так и сделаем, — с трудом подбирая слова, согласились друзья Пьера и нерешительно приблизились.
Тибо и Луи помогли им поднять с пола бездыханное тело. Матросы закинули обмякшие руки Пьера к себе за шеи и поволокли товарища прочь из харчевни.
— Это правда твой знакомый? — спросила Эстель, с легкой тревогой глядя на Луи.
— Нет, он обознался! — не теряя самообладания, ответил парень.
— Надо же, какие бывают удивительные встречи! — сказала Эстель. — Он до завтра проспится и ничего, наверное, не будет помнить.
— Бывает и наоборот, — задумчиво ответил де Брие. — Я знавал людей, которые напивались до полусмерти, но они никогда не забывали ни имен, ни лиц своих давних приятелей.
Луи чувствовал неловкость от случившегося, но понимал и то, что любые оправдания, прозвучавшие сейчас, не покажутся рыцарю убедительными. Поэтому он молчал, хмуро поглядывая исподлобья на своих новых друзей.
— Пора спать, — сказал де Брие, обращаясь к Тибо. — Эмильен-левша приготовил для вас комнатку. Мы с Эстель будем ночевать в другой, по соседству. Обо всех делах поговорим завтра.
— Спокойной ночи, месир, — пожелал Тибо.
— Я очень надеюсь, что эта ночь будет спокойной, — ответил рыцарь.
* * *
Рано утром, лишь только солнце показалось из-за скал и вонзило в морскую гладь свои огненные клинки, Венсан де Брие был уже на ногах. Он осторожно разбудил Тибо, и вместе они вышли из харчевни.
В порту начиналось движение, слышны были отрывистые голоса и возня торопливой погрузки. По сходням на галеру с грохотом катили тяжелые бочки, на спинах грузчики таскали увесистые мешки.
Рыцарь с оруженосцем обогнули портовые сооружения и вышли к просторному пологому берегу, серпом уходящему вдаль. Отыскав удобный валун, они устроились на нем спиной друг к другу.
— Расскажи, как вам удалось бежать из-под стражи, — сказал де Брие. — О каком случае вчера говорил Луи?
— Это удивительная история, мессир! Нам помогла женщина!
— Какая женщина?
— Одна из послушниц монастыря.
— А с какой стати? И она не побоялась гнева папских прелатов? Ведь ей несдобровать, если прознают, что она помогла вам.
— В том и дело, сеньор!
— Вы успели поговорить? Она объяснила, почему решилась на это?
— Мы обмолвились всего несколькими фразами. Она сказала, что знает вас, сеньор, и только поэтому решилась помочь нам.
— Откуда же она узнала, что вы связаны со мной?
— Случайно подслушала допрос, где называлось ваше имя.
— А потом?
— Когда нас поместили на ночь и заперли в одной из комнат, эта женщина пробралась мимо спящей стражи и открыла дверь. Потом провела во двор монастыря и указала место, где можно было выбраться наружу через ограду. Я предлагал ей уходить вместе с нами, но она отказалась, сеньор.
— Но она хотя бы сказала, как ее зовут?
— Да, мессир. Она сказала, что вы должны помнить ее имя, и назвалась Ребеккой.
Тибо почувствовал, как вздрогнула спина де Брие, но сделал вид, что ничего не заметил. Рыцарь помолчал некоторое время, потом тихо сказал:
— В своей жизни я знал только одну Ребекку. Это было так давно, что в правдивость той истории уже трудно поверить. Но если это та самая Ребекка, то хвала Господу за то, что он иногда устраивает нам подобные случайности!
Тибо хотел что-то добавить, но почувствовал, что не стОит продолжать прежнюю тему, тем более что де Брие резко поднялся и повернулся к нему лицом.
— Теперь о деле, — совершенно другим тоном сказал он. — Наши планы меняются, Тибо!
— Слушаю вас, мессир, — ответил Тибо, вскакивая с камня.
— Узнав, что вы арестованы, я сам отправился в Ренн-ле-Шато, но человека, которому ты вез письмо, там не оказалось. Несколько лет назад он уехал в Англию, где и находится до сих пор. Тогда я приехал сюда, в Ла-Рошель, чтобы первым же удобным способом отбыть в Лондон. Мы договаривались с тобой о встрече здесь, но это были другие планы, Тибо. Теперь ты снова со мной, а значит, я опять на коне! Понимаешь, без помощи того человека в Англии мне никак не осуществить задуманного. Но теперь… Теперь через Ла-Манш поплывешь ты, Тибо! Я напишу новое письмо и очень надеюсь, что в этот раз с тобой, мой друг, не произойдет ничего плохого.
— Я тоже на это надеюсь, сеньор!
— Ты передашь письмо и, если тот человек согласится с моим предложением, ты вернешься в Париж вместе с ним. Я буду ждать вас в доме де Боже.
— Слушаюсь, сеньор! Я сделаю все, как вы сказали. Но как я найду этого человека в Англии? И потом, вы не сказали мне, кто он…
— В Лондоне, неподалеку от Темпл-Чёрч, живет один мой старый приятель, сэр Роланд Колдуэлл. Отыщешь его, и он поможет тебе.
— Я надеюсь, что этот англичанин хоть немного говорит по-французски? — с сомнением в голосе спросил Тибо.
— Так же, как мы с тобой.
— Это меня воодушевляет, сеньор!
— А тот, кого тебе предстоит разыскать — мой брат Северин. Мы с ним близнецы, Тибо.
— Как! Вы никогда не говорили мне о брате! Я даже и думать не мог… Ну, теперь-то я точно его узнаю!
— Не сомневаюсь, — усмехнулся де Брие, потом добавил, нахмурившись. — А что ты скажешь о своем друге Луи?
— Если честно, то я каюсь в том, что привлек его для нашего дела, — искренне ответил Тибо. — Эти несколько совпадений…
— …не могут быть случайными, — закончил фразу де Брие. — Согласен. Луи теперь представляется лишней фигурой на шахматной доске…
Тибо согласно кивнул, продолжая внимательно слушать рыцаря. Он уловил, как поменялось выражение его глаз.
— Вы поплывете в Англию вместе, — тихим, но твердым голосом сказал де Брие, — но на берег должен сойти ты один.
— Понимаю…
— Справишься? Рука твоя не дрогнет?
— Моя рука ни разу не дрогнула в бою, мессир, и вы это знаете. Но теперь…
— Это тоже бой, Тибо! — сказал де Брие. — Ты даже не представляешь, какой важный! Просто пока я не могу тебе всего рассказать. Но поверь, та цель, которая сейчас стоит передо мной, благородна и чиста, как ни одна другая, когда-либо стоявшая перед рыцарем-тамплиером! И достижение этой цели потребует от нас умения не только противостоять врагам, повергая их на пути, но и умения переступить через собственную слабость. Будь же сильным и мужественным, Тибо, будь решительным и твердым. И ты сделаешь это!
— Я постараюсь…
— Я по-прежнему верю тебе, друг мой, — с теплотой сказал рыцарь, положа тяжелую руку на плечо оруженосца.
— А вы сами, сеньор? — спросил Тибо. — Пока я буду в Англии, будьте осторожны, мало ли что…
— Обо мне не беспокойся, — ответил де Брие. — У меня не так много врагов, как ты думаешь.
— Отправив нас, вы поедете в Париж?
— Не сразу, Тибо. Сначала я хочу посетить Вьерзон и поблагодарить ту, кто помогла устроить нам эту встречу.
2
Ничто так не меняет человека к лучшему, как поздняя любовь: окрыляя, как в юности, она, вместе с тем, указывает направление для полета. Впрочем, когда к человеку должна прийти любовь, чтобы ее можно было отнести именно к поздним подаркам судьбы? Разве любовь сама по себе не является высшей наградой жизни, которую, как и всякую награду, еще нужно суметь заслужить? Вот и получается, что к одному она приходит в ранние годы, возможно даже, что — авансом, другой идет к ней длинной и тернистой дорогой, а иному и вовсе не случается до конца жизни встретиться с ней. Таких, конечно, меньшинство, и это меньшинство стоило бы пожалеть, как жалеем мы иногда самых ущербных и больных.
Бывает и так: чувство прерывается на самом взлёте, пресекается обстоятельствами и остается либо разрушенным, либо гонимым… Чаще всего при таких условиях любовь медленно затухает, колебания истерзанного сердца становятся всё менее значимы, и через какое-то время рыхлая земля зарастает новой травой, бугры и рытвины сглаживаются, будто и не было здесь никогда раньше рваных ран.
Бывает и по-другому: любовь продолжает жить в угнетенном сердце — тихо, незаметно тлея и озаряя человеку дорогу бледным, но ровным огнем негасимых воспоминаний. С таким светом можно пройти весь жизненный путь — как с неповторимым отблеском счастья, однажды повстречавшегося на пути. Но если вдруг земная ось повернется как-то по-особенному, если в книге судеб, начертанной рукой Бога, внезапно откроется страница со ссылкой на предыдущие главы, — любовь способна из едва живого огонька вспыхнуть с новой, непредсказуемой силой, и возродиться в полной мере, и одарить счастьем того, кто нежно и бережно сохранял в себе ее осколки.
«Меня в жизни никто и никогда не предавал — не было случая. И я даже не подозревал, что это может быть так болезненно. Нет, я с самого начала понимал, что далеко не каждому, кто близок мне в качестве соратника или, современно выражаясь, подельника — можно доверять. Чувства во Сне — самые настоящие, это так, и я ощущаю, как меняется моё настроение в зависимости от ситуации, но никогда не знаю наперед, как станут развиваться события. Вернее сказать, не знаю я, Андрей Глыбов. Что касается Венсана де Брие… в мозг которого мне пока никак не удается проникнуть… и удастся ли вообще, позволят ли… Я не знаю, как с этим быть. Мне симпатичен этот образ, я несу его через Сон с интересом и даже с гордостью. Но пока не понимаю, куда мой герой идет, к чему стремится. Судя по всему, это откроется лишь тогда, когда должным образом сложатся какие-то обстоятельства — я еще не знаю, какие…
А пока… пока он отправил Тибо в Англию разыскать брата и выполнить еще одно, жестокое, но необходимое поручение. И написал Северину письмо… Знаешь, Инна, я держал в руках этот кусок пергамента и не мог прочитать на нем ни одной буквы, ни одного слова. Это письмо как-то само собой возникло в моих руках, будто мне его передали из того, далекого от нас времени. Это — тайнопись тамплиеров, но мне, так тщательно исполняющему роль, все же не доверили тайну. И я не знаю, что написано в письме. И я не знаю, что с нами будет дальше…
Одно только греет душу, и ты, наверное, понимаешь — что именно. Да, Ребекка… Это юношеская любовь, сохранившаяся в потаённых уголках сурового сердца. Я чувствовал во Сне, как каждая клеточка моего тела воспрянула и торжествует! Я чувствовал во Сне, как за спиной Венсана де Брие вырастают крылья. Это непередаваемые ощущения, поверь.
Когда я проснулся, долго не мог прийти в себя. У меня в этой жизни, как и у всякого, наверное, была первая любовь. Эту девочку звали Катей, я и дочку в свое время предложил назвать так только поэтому… а жене понравилось… Так вот, здесь, в нашем мире, с той поры прошло столько же лет, как и у де Брие во Сне, но я совершенно точно знаю, что ничего во мне не вздрогнет уже, если доведется встретиться с той, кому двадцать лет назад я посвящал стихи… Ушло, растаяло. Истлело в душе под толстым слоем жизненного опыта. Как-то так…
А во Сне я погружен в иную реальность, в иные обстоятельства, в иную драматургию и, соответственно, в иные чувства. И мне безумно хорошо в них купаться! Мне ново и необычно, а от того еще больше интересно и восхитительно испытывать то, что не случилось, но вполне могло случиться в реальной моей жизни. Знаешь, Инна, это как альтернативная история, это как другое русло одной и той же реки. Мне его показали, оно еще сухое, но вот-вот туда хлынет стремительный поток, сносящий всё на своем пути. И у меня есть только две возможности спастись: либо успеть выбраться на высокий берег, отказавшись от перемен, либо отдаться этому потоку и нестись вместе с ним, не сопротивляясь, — к устью, к финалу, к развязке… И я, наверное, так и поступлю… А ты?»
* * *
«Господи, Андрей, о какой жестокости ты говорил? Что еще за поручение для Тибо? Мне страшно… С нами что-то случится, да? Впрочем, я понимаю, что мой вопрос неуместен: мы оба не знаем, что там — впереди…
А мне во Сне тревожно… Иногда бывает даже не по себе, не знаю, как это объяснить… как рыбки в аквариуме или птицы загодя чувствуют землетрясение, так и я, наверное… Вроде бы ощущаю постоянную защиту со стороны де Брие, а все же как-то страшно… Это во мне, наверное, проявляется Инна Журавлёва. Ее, то есть мои знания истории не позволяют Эстель оставаться беспечной в каждую минуту навязанных событий. Она, то есть я, постоянно чувствует какое-то нагнетание… Это и не мудрено: наша история, скорее всего, приближается к кульминации…
Андрей, дорогой, мне знаешь, что подумалось… даже не знаю, как сказать… вот если была бы такая возможность: нам с тобой реально встретиться в жизни, посмотреть друг другу в глаза, подержаться за руки… Мы бы обсудили живьём то, что с нами происходит, может, придумали бы что-то — чтобы избежать самого плохого… я не знаю… Ты мне с некоторых пор так дорог… не представляешь даже… услышать твой голос, увидеть, как дрожат твои ресницы…
И если я могу, если в моих силах — словами — подарить тебе счастье, хоть немного сделать полегче твою жизнь — то не в этом ли смысл жизни вообще — дарить Любовь, и не в пространство кому-то там, и не всем, а — одному, Тебе одному, мой рыцарь Венсан де Брие, мой любимый грустный Поэт… Я Слова твои с ладони на ладонь пересыпаю бережно и нежно, и только блики по стене — цветные, калейдоскопом — возвращая Детство, и ту же свежесть и непосредственность восприятия, когда кажется, что Любовь — навек, и Разлука — навсегда… Господи боже ты мой! Ну, не может же этого быть! Не можем мы, современные люди, в век поездов и самолетов, не встретиться никогда! Ну, пойди же ко мне, положи голову на мои колени — я поглажу тебя, чтобы ушли беспокойство и боль, сядь рядом, прислонись к моему плечу… ты чувствуешь, как моя сила и моя любовь переливается в тебя? если мы с тобой так похожи — то мы, наверное, одной крови… и если я могу дать её тебе, то что за причина, которая помешает мне это сделать? Ведь ни время, ни расстояния не разлучат нас — коль мы всё равно рядом — вот, протяни руку — и встретишь мою…»
ГЛАВА 11
1
Поселок Мери-Сюр-Шер в полумиле к западу от Вьерзона представлял собой крохотную, заброшенную деревеньку не более чем с двумя десятками домов, прижавшихся к подножию живописного холма. Правда, и в этой глуши имелась своя часовня с гордым названием «Спасения Богородицы» — небольшое прямоугольное строение с изогнутым западным фронтоном и башенкой колокольни на коньке крыши. Капелланом при ней служил давний знакомец Венсана де Брие Огюст Годар.
Это был маленький толстенький человек неопределенного возраста с короткой шеей и узкими плечами. Голова его была непропорционально велика, а огромную блестящую лысину скрывала малиновая биретта, окаймленная курчавой порослью черных волос. Священник был неуклюж на вид, но лицо его с широким рыхлым носом и живыми, светлыми глазами лучилось добротой. Его руки были настолько подвижны, что иногда казалось, будто они существуют сами по себе, не подчиняясь ни эмоциям, ни рассудку этого человека.
Жил он тут же, при часовне, в небольшой комнатке, больше похожей на келью, в которой ему давно было тесно среди множества рукописных книг, сложенных стопками на полу. Но он не роптал, он был предан вере, и его любили немногочисленные прихожане.
Когда в сумерках одного из апрельских вечеров де Брие постучал в дверь этой кельи, капеллан был занят размышлением о поучительном трактате Святого Августина. В завтрашней проповеди он собирался цитировать для прихожан некоторые места. Отложив рукопись, Огюст Годар недовольно проворчал что-то себе под нос и отпер дверь.
— В такой глуши даже тайные агенты самого короля не всегда отыщут бывшего капеллана тамплиеров! — глухо сказал де Брие. — Узнаёте ли вы меня, святой отец?
Священник прищурился, внимательно изучая статную фигуру нежданного гостя, за спиной которого маячила фигура поменьше.
— Как не узнать! — высоким голосом с заметной хрипотцой и одышкой воскликнул капеллан. — Благородного рыцаря видно даже невооруженным глазом.
— Бывшего рыцаря, — поправил де Брие. — Увы, святой отец, бывшего рыцаря. Времена нынче не те…
— Да уж, не те, — согласился Огюст Годар. — Сколько это мы не виделись с вами?
— Лет пятнадцать, наверное. Или даже шестнадцать.
— Эпоха! — произнес капеллан пафосно.
— Да, эпоха, — повторил де Брие. — Так вы впустите нас?
Капеллан спохватился, отступая на шаг в сторону и пропуская в свой дом гостей. Затем притворил входную дверь и засеменил следом. В комнате Годара сразу стало тесно. Но, несмотря на это, священник предложил гостям присесть на свой топчан, покрытый тюфяком, в котором шуршала солома, а сам достал из полутемного угла маленькую скамеечку и, кряхтя, устроился на ней.
— С вами женщина? — удивленно спросил он, когда Эстель откинула капюшон на спину.
— Да, отец Огюст, она сестра наша и служит при мне, — ответил де Брие.
— Как, вы всё еще служите? — В вопросе капеллана было больше искреннего удивления, чем любопытства. — После всех событий…
— Нет, святой отец, теперь уже никто не служит, как раньше. Изменилась жизнь, изменились и задачи.
— Полагаю, одну из них вы теперь решаете, сеньор?
— Вы очень прозорливы, отец Огюст. Именно так.
— И что же вас привело ко мне?
— Позвольте сначала немного прийти в себя, — сказал де Брие. — Мы прибыли из Ла-Рошели. Путь, согласитесь, не близкий. Можем ли мы рассчитывать на ваше радушие, святой отец?
— Гм, двери храма всегда открыты для нуждающихся в приюте. Господь принимает под опеку любого страждущего. Но, сеньор… не лучше ли было вам остановиться на постоялом дворе?
— Вы имеете в виду присутствие Эстель? Это как-то смущает вас?
— Должен признаться, вы правы.
— Конечно, святой отец, если вы будете настаивать, мы уйдем ночевать на постоялый двор. Однако же я полагал, что ваши умеренные взгляды на жизнь, примеров которым я накануне вспоминал немало, позволят нам с Эстель надеяться на приют именно под сводами вашей капеллы. И потом… хочется укрыться от любопытных взглядов, тем более что в вашей глуши каждое новое лицо непременно будет вызывать излишнее любопытство. Может быть, я ошибаюсь, и годы, прошедшие с нашей последней встречи, изменили вас?
— Да, я понимаю… Понимаю, и не стану вас гнать куда-то на ночь глядя, — ответил слегка смущенный Огюст Годар, пожевав губами. — Но как мы все разместимся в этой крохотной комнате, где мне, порой, и одному бывает тесно?
— Если позволите, здесь будет спать одна Эстель. А мы с вами скоротаем ночь у алтаря.
— И проведем ее в душевной беседе? — осторожно спросил священник.
— И даже больше, святой отец!
Венсану де Брие показалось, что его старый приятель оживился. Еще бы, не каждый день судьба дарит встречу с хорошим собеседником, особенно в такой глуши. А с бывшим рыцарем было о чем поговорить.
— О, вы расскажете мне о своих военных подвигах? — спросил капеллан. — После того, как я оставил службу в Ордене, многое произошло…
— Нет, я бы хотел исповедоваться…
Капеллан посмотрел на де Брие с пристальным вниманием. От него не укрылось внутреннее волнение, с которым бывший рыцарь ожидал ответа. Огюст Годар хорошо понимал, как много страданий и страстей могли оставить неизгладимый след в сердце этого человека.
— Что ж, брат мой, — вздохнул он, — если уж Богу было угодно привести вас ко мне, стало быть, у Него имеются некие особые планы на ваш счет, и не мне, скромному капеллану, противиться божественному замыслу.
— Честно признаюсь, я не сомневался в вашем гостеприимстве. И если позволите, сестра Эстель хотела бы лечь спать не мешкая. Она очень устала и уже давно сдерживает в себе жалобы.
Девушка метнула в своего покровителя полный любви и благодарности взгляд, но тут же опустила голову, испугавшись проявления эмоций в присутствии священника.
Через полчаса в крохотной и тесной исповедальне, устроенной прямо в алтаре часовни, беседовали двое мужчин. Святой отец, как и было положено, сидел на скамеечке, рыцарь Венсан де Брие стоял на коленях. Их разделяла решетчатая деревянная перегородка, занавешенная темной полупрозрачной тканью.
— Учитывая твои прежние заслуги, о которых мне хорошо известно, сын мой, позволю тебе не стоять на коленях, а присесть, — сказал Огюст Годар. — Там есть скамеечка.
— Благодарю, святой отец, — ответил де Брие. — Однако позволю себе отказаться, ибо это лишит меня ощущения исповедания грехов.
— Весьма похвально, сын мой! Итак, слушаю тебя…
Де Брие заговорил не сразу. Неожиданно он поймал себя на мысли о том, что совершенно не знает, с чего начать. Ему, решительному и мужественному воину, никогда не ведавшему слабости ни во владении мечом, ни в красноречии, вдруг стало как-то не по себе. В голове вереницей мелькали мысли, беспорядочно чередовались картины событий, и совершенно невозможно было на чем-то остановиться.
Опытный священник, не раз исповедовавший не только прихожан, но когда-то и воинов храма, хорошо понимал состояние своего собеседника, поэтому терпеливо и деликатно молчал, давая тому собраться с духом.
— Я не стану говорить о том, почему я прибыл сюда, — начал, наконец, де Брие приглушенным голосом. — В этом исповедоваться мне нет нужды, я готов рассказать и так. Я же хочу поведать о том, что мучает меня долгие годы, что терзает мой ум, заставляя принимать порой жестокие решения, что терзает мое сердце, заставляя предавать тех, кто совершенно справедливо ожидал от меня преданности и любви…
Он замолчал, снова собираясь с мыслями. Огюст Годар терпеливо ждал.
— Святой отец, я хочу покаяться в том, что проявил слабоволие, — выдавил из себя де Брие и запнулся.
— В чем это выразилось, сын мой? — Священник почувствовал, что без наводящих вопросов рыцарю будет трудно справиться с волнением. — Ты можешь говорить все, что лежит на сердце и в его глубине. Господь непременно услышит тебя…
— Это началось несколько лет назад, когда я был помощником прецептора Франции Жерара де Вийе. Тогда мне удалось сблизиться с Великим магистром Жаком де Моле и даже завязать с ним дружбу. Мы достаточно времени проводили вместе, со мной советовались, и я, будучи еще достаточно молодым, весьма гордился этим. Орден процветал, ничто не предвещало беды. Но однажды меня пригласили в Жизор, в королевский дворец. Со мной встретился посыльный Филиппа, и, разумеется, все было в тайне. Я беседовал с королем больше трех часов. Мы обедали с ним наедине. Слуг он отправил, я сам наливал королю вино в кубок и подавал закуски. — Де Брие замолчал, потом попросил: — У меня во рту пересохло, святой отец. Нельзя ли глоток воды?
— Терпи, сын мой, — сухо ответил священник.
— Хорошо, я продолжу. Так вот, Филипп предложил мне тогда некую сделку… я не стану пока раскрывать ее суть. Поясню лишь, что речь шла о том, чтобы я через какое-то время вышел из Ордена и перешел в услужение к королю на очень высокую должность. Но прежде я должен был… впрочем, не стоит об этом… Тогда я отказался, причем, в довольно решительной форме, чем очевидно расстроил Филиппа. Но я был горд и предан Великому магистру, мне было абсолютно безразлично настроение короля. Потом, когда начались массовые аресты тамплиеров, когда в подземелье Жизора и в других тюрьмах томились сотни рыцарей, когда был арестован сам Жак де Моле, а я каким-то образом избежал преследования — мне стало ясно, что Филипп имеет на мой счет особые планы. Я долго размышлял над этим положением. Несколько месяцев я скрывался от королевских сыщиков, снимая комнаты в разных местах на окраинах Парижа и в его окрестностях. Я сбрил бороду, сменил одежду, чтобы ничем не выдавать своей принадлежности к Ордену. Я стал вести иной образ жизни, но продолжительное время совершенно не знал, как жить дальше, куда направить свои стопы. Иногда мне казалось, что честнее и благороднее с моей стороны было бы самому прийти и сдаться, а потом разделить судьбу моих братьев по Ордену. Но я все же не решался это сделать. Одному Богу известно, как тяжело было мне жить с этим постоянным напряжением. Прошло около года после первых громких арестов, шумиха как-то улеглась. Тем временем тянулись долгие судебные разбирательства. Никто не знал, сколько может длиться следствие. И однажды я решил бросить всё и уехать в свое родовое гнездо. Эта мысль преследовала меня неотвязно, и я уже собирался в дорогу, как вдруг меня снова позвал к себе король. Оказывается, все это время он не выпускал меня из виду и следил за каждым шагом. Тогда я понял, что от судьбы не уйти. Мы снова обедали, и снова наедине. Только в этот раз… я согласился играть на стороне Филиппа. Мне предоставили полную свободу перемещений и действий, было объявлено, что против меня лично у короля и высокой папской следственной комиссии не было никаких обвинений, что я чист перед государством. Тогда же мне разрешили беспрепятственно посещать арестованных моих бывших братьев по Ордену, в том числе и Великого магистра. В этом и заключался план короля, поскольку через меня он рассчитывал получить от Жака де Моле, сломленного заточением, чрезвычайно важные сведения…
Венсан де Брие замолчал. В его горле скрипел песок пустыни.
— Сын мой, — осторожно позвал капеллан, — я готов нарушить правила и смягчить для тебя условия исповедания, поскольку хорошо понимаю, как тебе тяжело…
— Вы очень добры ко мне, святой отец! Я осмеливаюсь попросить только глоток воды.
— Я подам, — сказал священник и покинул исповедальню.
Вернувшись через минуту, он протянул де Брие кружку.
— Пусть эта святая влага поможет тебе облегчить душу, — сказал Огюст Годар, снова устраиваясь на скамеечке. — Слушаю с нетерпением…
Де Брие с жадностью напился, перевел дыхание и продолжил.
— Так вот, я несколько раз приходил в Жизор. Меня пускали к Великому магистру, который по-прежнему питал ко мне самые искренние чувства и радовался тому, что мне не предъявлены никакие обвинения. Он был наивен, как ребенок. Он не понимал до конца, что происходит. Он верил мне и надеялся, что рано или поздно выйдет на свободу. Но я уже хорошо знал, что этому никогда не суждено будет сбыться. И я подолгу разговаривал с ним, выводя разговор на нужную тему, но всякий раз что-то мешало довести его до конца. А Филипп ждал результатов, ему не терпелось добиться главного. Он торопил меня, одновременно затягивая следственный процесс, который вели епископы, назначенные папой. Правда, и сам папа не очень торопился с выдвижением окончательных обвинений. Он тоже являлся одной из ключевых фигур в этой игре, и у него тоже был свой интерес, причем, как я однажды понял, полностью совпадавший с интересом короля. Таким образом, святой отец, по воле Всевышнего я оказался в центре грандиозной интриги, которая очень скоро стала разрывать мою душу на части, всячески мешая мне оставаться самим собой. И настал день, когда эти нестерпимые муки, эти жгучие страдания подвигли меня к принятию самого ответственного в жизни решения, которое показалось мне единственно верным и которое в одночасье подняло меня над всеми остальными. Те, кто раньше опирались на меня и давили на плечи, оказались внизу — подо мной, и мои крылья получили свободу. Это решение позволило сохранить в целости душу и направить ее на исполнение божественного предназначения. Теперь интересы короля и папы я превратил в свои собственные. Теперь все, что я должен был получить от Жака де Моле, я собирался применить в свою пользу. Признаюсь честно, я долго колебался: по силам ли мне будет вынести подобное испытание. И все же я решился на этот шаг. Я долго молился, и небо послало мне вдохновение. Таким образом, поступив так, я предал и Великого магистра, который доверял мне всецело, и короля Филиппа, которому был обязан своей свободой. Но самое главное — я предал святую веру, которой честно служил два десятка лет. И сегодня я нашел вас, святой отец, чтобы рассказать об этом, поскольку во всей Франции, наверное, уже не осталось никого, кому можно доверить эту тайну.
Венсан де Брие замолчал. Наступила долгая пауза. Капеллан часовни «Спасения Богородицы» Огюст Годар искал слова для поддержки исповедовавшегося только что рыцаря.
— Все, что ты рассказал, сын мой, — произнес он тихо и перекрестился, — непременно дойдет до Господа нашего Иисуса Христа, ибо сказано с примерной искренностью и прямотой. Достоин любви и прощения тот, кто находит в себе силы смирить гордыню и прийти к исповеди с открытым сердцем. Жаку де Моле выпал его жребий, папе Клименту — его. Придет время, исполнится жребий и для Филиппа Валуа, прозванного Красивым. Придет время и для тебя, сын мой. В своей исповеди ты коснулся тех, от кого во многом зависела и еще зависит судьба Франции, а может быть, и всего мира. Но случайно или намеренно ты умолчал о самом главном — о том, вокруг чего, собственно говоря, и вертится вся эта интрига. Никто не в силах заставить тебя сказать это, никто кроме самого Господа не способен ответить на это умолчание. Если тебе есть, что добавить — я услышу, если нет — я пойму…
— Простите меня, святой отец… я не могу…
— Бог простит, — ответил священник. — Великая бездна сам человек, волосы его легче счесть, чем его чувства и движения сердца. Так говорил Блаженный Августин. Ступай же с миром, и пусть Господь умножает твои силы, если они направлены на благое дело. И помни: всякий, кто имеет свою меру, то есть мудрость — блажен.
С этими словами Огюст Годар просунул в окошко перегородки руку. Венсан де Брие подхватил ее и припал к запястью горячими губами. Священник почувствовал, как у бывшего рыцаря дрожат пальцы.
* * *
В альмонарии было тихо. Несколько нищих смиренно сидели на низких скамьях, расставленных вдоль гладких стен, и ожидали ежедневной милостыни. Еще два года назад Вьерзонский женский монастырь принадлежал могучему и славному Ордену тамплиеров, но после папской буллы, зачитанной во время Вьенского собора и упразднявшей опальный Орден, монастырь перешел во владение госпитальеров. Принадлежность его поменялась, но раздача подаяния нуждающимся, кормление и одевание убогих, лечение страждущих — оставалось неизменной традицией. Вот и теперь полдюжины оборванцев из числа местных жителей пришли к сердобольным монахиням, чтобы позавтракать, чем Бог послал.
После утренней молитвы в альмонарий вошли трое послушниц. Они принесли горшок с кашей, оловянные миски и ложки, хлеб. Насыпав каждому из ожидающих по увесистой порции, сестры удалились. Одна из них задержалась у двери и сказала:
— Как поедите, ступайте с Богом, и да будет мир с вами и благословение Господа нашего!
Но когда через четверть часа эта же послушница вернулась посмотреть, все ли довольны угощением, в альмонарии почти никого не было. Лишь в углу всё еще оставалась одна нищенка. На ней были какие-то лохмотья, голову покрывала надвинутая на глаза накидка. Она уже поела, отставила в сторону миску и теперь сидела, низко согнувшись — будто молилась, ни на кого не обращая внимания.
Послушница подошла к ней.
— Что случилось, сестра моя? — спросила она ласковым голосом, наклоняясь над бедной женщиной. — Может быть, ты больна?
Та подняла голову, накидка сползла на плечи, обнажая длинные и густые волосы цвета вороньего крыла. Была она молода и удивительно хороша собой, и даже изношенное тряпье, надетое на нищенку, не портило ее неземной красоты.
— Послушай, сестра… как тебя зовут?
— Феодосией зовут, — ответила послушница, не отрывая глаз от нищенки. — Так что тебе?
— Послушай, Феодосия, дело у меня важное к тебе. Женщину я ищу одну, давно ищу. Знаю, что в монастыре она, да вот не знаю, в каком. Вот и хожу по всей Франции. И до Вьерзона дошла, скитаясь…
— Я бы помогла тебе, сестра, если бы ты имя мне той женщины сказала.
— Но я не знаю, какое имя она при постриге приняла, я знаю только мирское.
— Так назови его.
— Ребекка Мошен, ей сейчас сорок лет должно быть.
— Хорошо, я узнаю у аббатисы, — ответила Феодосия. — Ты подожди меня здесь, я скоро. Скажи только, кем тебе эта Ребекка приходится?
— Она тетка моя, родная сестра отца. Он, когда умирал, просил разыскать ее.
— И давно ты ищешь?
— Полгода уже, с прошлой осени.
— Бедняжка! Посиди тут, я скоро.
Феодосия удалилась, а девушка в лохмотьях осталась сидеть, согнувшись, на низкой скамье у стены альмонария. В помещении было светло и, несмотря на скромность и неказистость обстановки, все же уютно. Чисто выбеленные стены с лимоновым оттенком отражали веселый солнечный свет, струившийся в окно. Откуда-то извне долетали иногда женские голоса — спокойные и ровные. Нищенке подумалось, что в монастырях, должно быть, всегда так: женщинам, давшим обет, нечего делить между собой и не о чем спорить, повышая голос, а стены святой обители являются надежным оплотом от посягательств мирской суеты. Откуда ей было знать, что именно в этом помещении две недели назад допрашивали и били Тибо. Нищенка бы еще о многом подумала, оставаясь в одиночестве, но тут ее кто-то окликнул.
— Это ты ищешь свою тетку?
Девушка вздрогнула и подняла голову. Рядом с ней стояла стройная моложавая монахиня в черной рясе и белом капоре на голове. Ее лицо казалось слегка осунувшимся, уголки губ были опущены вниз. Смотрела монахиня на девушку приветливо, и, вместе с тем, в ее темных, с искрами глазах мелькало любопытство.
— Да, я, — ответила Эстель, вставая с лавки.
Монахиня оглядела девушку с ног до головы придирчивым взглядом. Та, потупив глаза, замерла, как испуганная лань.
— Иди за мной, — тихим грудным голосом сказала монахиня и повернулась к выходу из альмонария.
— Куда?
— Не бойся, сейчас всё узнаешь.
Эстель повиновалась без колебаний. Она знала, что поручение своего покровителя нужно выполнить до конца, с какими бы неловкостями ни пришлось ей при этом столкнуться.
Монахиня провела ее через второе ограждение, куда посторонним вход был закрыт. Когда женщины прошли в арку, глазам Эстель открылась небольшая, но аккуратная базилика монастырского собора, кремовые колонны которой сверкали на солнце, будто покрытые лаком. Через минуту монахиня привела свою спутницу в клуатр — прямоугольный внутренний дворик, примыкавший к храму. Посреди клуатра находился маленький круглый бассейн с прозрачной, почти голубой водой. Вокруг него располагались выкрашенные в весенний зеленый цвет скамейки.
— Здесь нам никто не помешает, — сказала монахиня. — Сестры сейчас разошлись по своим обязанностям: кто в мастерскую — шить, кто на огород — готовить грядки к посадке.
— У вас все строго?
— Нет, никто никого не заставляет, — ответила монахиня. — Просто это наша жизнь, мы сами ее выбрали, она нам нравится, и никто не собирается ее менять.
— Я понимаю, — сказала Эстель, постепенно смелея. — Но вне монастыря тоже ведь каждый выбирает свою жизнь, не так ли? Просто в ней гораздо больше соблазнов…
— Любой человек рано или поздно встает перед выбором, — после паузы сказала монахиня, пристально глядя в лицо Эстель. — Вот только не всегда этот выбор совпадает с промыслом божьим, а это, в свою очередь, порождает страдания, множа заблуждения и грехи.
— А как же тогда угадать при выборе?
— Нужно слушать свое сердце — это самый верный указатель.
— Если бы все было так просто! — воскликнула Эстель.
Монахиня снова пристально вгляделась в лицо девушки.
— Как тебя зовут, дитя мое?
— Эстель.
— Красивое имя, — сказала монахиня, и девушке показалось, что она вздрогнула. — Знаешь, что оно означает?
— Знаю, мне говорил один человек. А вас как зовут? Мне девушка сказала, что узнает про тетушку… а пришли вы…
— Я отвечу на все твои вопросы, — сказала монахиня. — Только позволь мне сначала задать и свои.
— Конечно, как я могу отказать!
— Что ж, зовут меня сестра Стефания, я старшая помощница аббатисы монастыря.
— И вы знаете Ребекку Мошен?
— Конечно, знаю.
— И вы позовете ее? Мне очень нужно с ней встретиться!
— Ты куда-то спешишь?
— Не так чтобы очень, сестра Стефания, но все же…
— А для чего она тебе?
— Это моя тетка, сестра отца. Он умер в прошлом году и просил перед смертью ее разыскать. Она давно в монастырь ушла, я еще маленькой была и ее совсем не помню…
— А что же ты хочешь ей сказать, дитя мое?
— Они с отцом когда-то поссорились, вот он и хотел, чтобы я у нее попросила для него прощения, иначе душа его не успокоится на небесах…
— Да, трогательная история, — сказала сестра Стефания. — Только одна загвоздка, дитя мое…
— Какая?
— Врать ты не умеешь, вот какая.
— Почему?
Эстель вздрогнула и съежилась. Впервые в жизни ей было так неловко. Она вдруг подумала, что эта въедливая монахиня может легко разрушить разработанный ее покровителем план. И что тогда? Как объясняться с ним? Как доказать, что она ни на шаг не отступила от его указаний?
— Вы сейчас прогоните меня? — жалобно спросила Эстель.
— Почему ты так думаешь?
— Ну, я же наврала вам…
— А почему ты это сделала?
— Но что-то ведь нужно было рассказать…
— А что тогда ты скажешь ему?
— Кому? — встрепенулась девушка, и сердце ее заколотилось.
— Тому, кто тебя послал.
— Я… не знаю…
— Хорошо, а что ты должна была сказать Ребекке Мошен?
Эстель запнулась. Она хорошо понимала, что попала в ловушку. Эта помощница аббатисы оказалась на редкость проницательной. И открыть ей правду означало не только пропасть самой, но и навлечь наказание на ни в чем не повинную монахиню, которая помогла бежать из-под стражи друзьям де Брие.
— Я ничего вам не скажу, хоть пытайте! — воскликнула Эстель.
— Глупая! — Сестра Стефания взяла девушку за руку. — Эти двое парней наверняка рассказали ему, как им удалось отсюда бежать.
— Откуда вы знаете?!
— А ты еще не догадалась?
— Господи! — воскликнула Эстель. — Теперь я поняла. Это были вы? Как хорошо, что все так получилось! Я уже думала, что вы не выпустите меня отсюда, позовете кого-нибудь на помощь и возьмете под стражу, чтобы потом передать инквизиторам.
— Ты этого так боишься?
— Больше всего на свете я боюсь… за него…
— Почему?
Эстель помялась.
— А вот этого я вам точно не скажу, — ответила она и покраснела.
Ребекка Мошен выразительно посмотрела на девушку, потом отвернулась. Что-то далекое, почти забытое снова шевельнулось в ее душе.
— Ну, а теперь ты скажешь мне то, что хотела сказать своей придуманной тетушке?
— Да, сеньора. Граф де Брие просил передать, что очень хочет вас видеть…
2
Бог инертен и равнодушен ко всему, что происходит на Земле. Иначе бы он не позволил людям совершать такое количество преступлений и переносить такое количество страданий. У Бога в запасе есть еще мириады солнц и миров, полных совершенства и гармонии, где Творец отдыхает, удовлетворенный своей работой.
А что делать нам — оставленным на произвол судьбы? Что делать тем, кто взывает о помощи небес, с разной степенью убежденности веря в то, что его «услышат»? А тем, кто не верит, но тоже нуждается в поддержке — что делать им?
Абсолютно счастливых людей не бывает. И утверждение о том, что счастливы только те, кто воспринимает жизнь неадекватно, иными словами — сумасшедшие, — тоже спорно. Как спорно само понятие счастья. По большому счету, его вообще нет, оно не существует в природе, оно как элемент бытия, не заложено в мироздание. А поскольку его нет, стало быть, оно и недостижимо — ни для здравых умом, ни для больных. Вот и всё — так просто.
А страдание… О, этого материала всегда было с избытком — во все времена и у всех народов. Это самый реальный из признаков человеческого существования. Почему же так? Что может означать сия несправедливость? Страдание, воспринимаемое как образ жизни; страдание, положенное в основу воспитания; страдание, возведенное порой в национальную идею. Что еще нужно для того, чтобы показать Богу: мы устали от испытаний, мы искупили вину, мы достойны прощения… Вернись к нам, посмотри, как мы живем, смилуйся…
Но Его здесь нет — ни на Земле, ни поблизости… Город, где не ощущается присутствие Бога, — мертвый город. Земля, над которой Он не простер свою благодать, — пропащая территория. Человек, лишенный божественного дыхания, — сосуд, наполняемый рукой дьявола. Что нужно сделать, чтобы снова привлечь внимание Бога? Кто знает?
* * *
«Вот! Я был близок, я стоял на самом краю. Еще несколько слов, и я бы узнал тайну Венсана де Брие! Но он снова ускользнул от меня! Я исповедовался в часовне «Спасения Богородицы,» я рассказывал отцу Огюсту про свою жизнь и про свои «подвиги,» но так и не признался в главном. Теперь это терзает душу рыцаря и мою вместе с ним… И я не знаю, что делать. Впрочем, скоро по тому руслу, о котором я говорил, хлынет стремительный поток. И он смоет всё на своем пути, подхватит, закружит и понесет в неизведанное меня — как сухой опавший лист. Тогда я и узнаю свою участь, тогда и ты узнаешь свою…
А встретиться… Я не знаю, Инна… я пока не знаю… Прости, я не вижу причины, не вижу необходимости… И вовсе не факт, что это как-то облегчит нашу жизнь — твою и мою… разве не так? Если спуститься на землю, если отбросить наше общее — Сон, то как ты себе это представляешь? Кому-то из нас — скорее, мне — пришлось бы придумать причину, чтобы приехать в твой город. И кого бы я при этом обманул: жену, дочь? Или себя?
И потом, знаешь, мне иногда приходит в голову мысль о том, что я просто непорядочно, низко поступил с тобой… позволил раскрыться твоим чувствам… вместо того, чтобы сразу, с самого начала нашей переписки — всё обозначить ясно и твердо. Пресечь всякие поползновения… Прости. Это получается, что я сейчас отталкиваю тебя… прости… прости… прости…
Но я слишком люблю жену и дочь, и я не могу себе позволить даже в мыслях… ты понимаешь? Я не хочу потом просить прощения у Него — я знаю, что это будет уже невозможно, то есть, само прощение будет невозможно, при условии, что Он меня услышит… понимаешь?
Я действительно люблю твои письма, и твои стихи мне бесконечно дороги… ты сама мне бесконечно дорога, потому что нас связывает нечто особенное… это никому не объяснить… Но предать самых дорогих мне людей — этого я не сделаю никогда. Впрочем, никогда не говори «никогда» — так, кажется, назывался один фильм… И я допускаю, мизерной долей своего разума допускаю, что должно случиться нечто сверх-неординарное, как говаривал Ленин — архи-неординарное, чтобы я решился на поступок, противоречащий седьмой заповеди Господней… Впрочем, в ней говорится вовсе не о чувствах, но я давно и твердо понимаю, что не только физиология может называться прелюбодеянием…
Прости…»
* * *
«А я и не претендовала никогда… ни на тебя, ни на твою любовь… всё понимаю, взрослая уже… Просто иногда позволяю себе фантазировать — разве нельзя? Я ведь большая фантазёрка, Андрей! Разве ты до сих пор не заметил? Помнишь, у Носова рассказ «Фантазёры»? Так я — оттуда, из того рассказа. Придумываю разные истории с самыми невероятными сюжетами, а потом старательно сама в них верю… Так и теперь…
Ты действительно дорог мне, понимаешь? Вошел в мою жизнь — как метеор ворвался в атмосферу: всё было тихо и спокойно, много лет, и вдруг — яркая вспышка, и полёт такой затяжной какой-то, вовсе не стремительный — наверное, для того, чтобы не просто успеть желание загадать, а обдумать всё тщательно, взвесить, и уж сказать — так сказать! И сказала… просто наговорила тебе…
Нет, не то — цену себе набиваю… Ты уже раскусил меня, да? Пустые слова это — о тщательности, о взвешивании. Я, наверное, не так глубока, как ты: мне вовсе не нужно время на раздумья, на сомнения, я слишком быстро загораюсь. Казалось бы, должна и быстро гаснуть — ан, нет: тлею, тлею, тлею… будто еще надеюсь… Ты, пролетая мимо, чиркнул об меня своим раскаленным краем — я и вспыхнула, как спичка…
Но я тебя и вправду полюбила — на расстоянии, заочно. Думала, так не бывает — глупости всё киношные, а сама в это и впуталась… как рыба в сети — безнадёжно… и думала, что ты — тоже… Мне всегда, в каждый момент жизни, нужно знать, что меня кто-то и где-то любит: это не моё кокетство или эгоизм, это — главная составляющая моего женского счастья. До сих пор его было так мало… а теперь…
Но только я хочу тебе сказать, что мои чувства — это на самом деле то, высшее, что только может случиться и быть между людьми, между женщиной и мужчиной. Не плотское, не страсть, не извержение вулкана, не ураган. Это — осознанное отречение от телесных желаний, это космический полёт двух возвышенных душ, это полное самопожертвование во имя счастья и покоя другого… Так я себе представляю то, что сейчас происходит между нами… пусть и в одностороннем — моём — порядке… это легкий бриз, несущий душе благодать… Только позволь мне иногда помечтать, хорошо?
…Я когда в монастырь пошла, всё думала: как там сложится? Эта Ребекка, которую ты любил… не ты, а сеньор де Брие… какая она? Всё представляла фигуру ее, рост, волосы, лицо. Потом, когда мы говорили, мне вдруг страшно стало: а вдруг всё рухнет, не сложится, как де Брие задумал. И пойдет не так, и Сон пойдет не так, и всё поломается… Смотрела на нее, а в душе молилась. И невольно с собой сравнивала: что он в ней нашел? Так, наверное, каждая женщина бы делала…
Но ревновала жутко! Хотела, чтобы она пошла со мной, и одновременно ревновала. Вот бывает же такое! Целую гамму эмоций во Сне испытала! Но она научила меня главному, знаешь. Когда о выборе каждого человека говорили. Слушать свое сердце — такое решение… Я его теперь в жизни буду применять — всегда, и не смотря ни на что.
Ну, вот, кажется, всё сказала… Теперь помечтаю, ведь ты же разрешил… Про тебя помечтаю, про нас…
Вот придешь ты с работы, поужинаешь, поговоришь с дочкой, с женой, потом к компьютеру сядешь — будто к другой работе приступишь. (Да так и есть, наверное, правда?) И будет вечер… и я приеду в гости… нет, прилечу, я — сложенная из нолей и единичек двоичной системы счисления… вдруг превращусь в живую, реальную… сяду рядом, невидима никем, кроме тебя, на маленький стульчик, обниму твою руку, прижмусь к ней щекою… и буду долго сидеть, не отпуская… настраиваясь на тебя, привыкая к тебе… и только луна — в окно… и свет монитора — как приоткрытая дверь в другое измерение, чтобы я могла в любой момент исчезнуть… едва дверь скрипнет… А ты будешь писать новые стихи и обдумывать каждое слово, и я стану подсказывать в каких-то местах… осмелюсь… И ты засидишься допоздна, когда уже глаза и руки устанут, и тело попросится отдыхать. И ты выключишь компьютер, и мой образ размоется, как размывается сложенная руками ребенка песчаная крепость под монотонным набеганием волн… И мы уснем… и снова приснимся друг другу…
Спокойной ночи, Андрей…»
ГЛАВА 12
1
Часовня «Спасения Богородицы» была расположена посреди поселка Мери-Сюр-Шер, фасадом выходя на единственную его улочку, а задней стеной упираясь в каменистый склон холма. Издали создавалось впечатление, будто аккуратная желто-коричневая капелла причудливо выросла из этого холма, выдвинулась вперед из него, являясь гармоничным продолжением природного образования.
С западной ее стороны когда-то был разбит небольшой садик, с годами разросшийся и обнесенный забором, а еще позднее превращенный во внутренний дворик. Здесь, под ветвистой кроной высокой груши, располагалась круглая беседка с ажурным куполом из кованых прутьев, причудливо переплетенных с лозами дикого винограда. Беседку много лет назад смастерил местный кузнец, а виноградный куст посадил рядом тогдашний капеллан часовни. Посреди сада, мимо беседки, начинаясь где-то в недрах холма и со сдержанной радостью выходя на свет божий, протекал скромный ручей. Он журчал монотонно и тихо, стараясь не быть навязчивым для тех, кто, сидя в это время в тени, размышлял о жизни. Вода убегала неторопливо, но безвозвратно — как время. И уносила с собой мысли и чаяния людей.
— Поверь, после того, как отец выгнал тебя из нашего дома, я еще долго не мог прийти в себя, — сказал Венсан де Брие, с нежностью глядя на Ребекку.
— Знаете, сеньор, тогда мне было все равно! Вы, наверное, помните, что я любила не вас…
— Я помню, Ребекка. Но зато Я любил тебя! И ты тоже не могла это забыть!
— Если бы вы любили по-настоящему, то не позволили бы отцу так поступить со мной! Я уже не говорю о вашем брате…
— Я не мог идти отцу наперекор, это не принято. Это противоречит морали. И Северин тоже…
— А выбросить на улицу без содержания беременную женщину — это разве не противоречит морали? Да, простите, ваша милость, я позабыла, что у французского дворянина и дочери еврейского коммерсанта — разные морали. И ваш брат ничем не лучше вас!
— Зачем ты так, Ребекка? Мне действительно было плохо тогда.
— А мне было хорошо? Мы с вами выросли вместе, у нас не было секретов друг от друга, мы были как два брата и сестра. Так, во всяком случае, долгое время казалось мне. Тогда я не понимала, какая пропасть пролегает между нами. Но после того, как мы повзрослели, после того, как внутри каждого из нас возникло влечение… После того, как моя душа устремилась к вашему брату и готова была принадлежать ему всецело…
— Но я ведь тоже искренне любил тебя! Не меньше, чем ты сама любила Северина. Он был холоден и сдержан, он весь был увлечен богословием. Почему ты выбрала его, а не меня?
— Это невозможно объяснить…
— Тогда и я не смогу объяснить, почему на протяжении стольких лет ощущение вины и досады не покидает меня…
— Простите, сеньора, — вмешалась в разговор Эстель, — расскажите мне эту историю. Пожалуйста, расскажите.
— Зачем это тебе, девочка? Я почти двадцать лет старалась всё забыть…
— Но ведь не забыли…
— Нет, не забыла.
— Я тоже, — вставил де Брие. — Я только затем и решился круто изменить свою жизнь, чтобы иными впечатлениями загасить пламя, бушевавшее в моей душе…
— А потом расскажете вы, дядя Венсан, хорошо? Вы ведь пригласили сестру Стефанию не для того, чтобы выяснять отношения и ссориться, правда?
— Правда. Мне показалось, что по прошествии стольких лет можно что-то вернуть…
Ребекка выразительно посмотрела на графа, потом на девушку. Она давно сняла с головы белый капор, вынула из волос заколки и распустила свои локоны по плечам. Если бы не черное монашеское платье, об этой женщине нельзя было подумать, что всего час назад она вышла из ворот Вьерзонского монастыря. Она была в замечательном возрасте — между тугой спелостью молодого плода и его очевидной дряблостью в самом начале увядания, когда упругость сменяется осязаемой податливостью, основанной на жизненном опыте, но еще больше на усталости от этого самого опыта.
— Когда старый граф объявил мне о своем решении, — тихо сказала она, — первое, о чем я подумала, было наложить на себя руки. Я убежала в свою комнату, упала на кровать и проплакала всю ночь. Если вы помните, сеньор, утром следующего дня мне было приказано покинуть Брие. Но утро всегда оказывается мудрее вечера, и когда в окно ударили первые лучи солнца, желание жить дальше превзошло во мне желание умереть. К тому же, подумала я, во мне шевелится плод моей беззаветной любви, и, убивая себя, я бы убила это ни в чем не повинное создание. И я решила во что бы то ни стало сохранить жизнь этому ребенку. Да, сеньор, я ушла, даже не попрощавшись — ни с вами, ни с вашим братом, ни с вашим отцом, который так долго был добр ко мне, но, в конце концов, обошелся столь жестоко. Мне казалось, что прощание в такой момент жизни могло бы просто разорвать мое сердце. И я ушла на рассвете, собрав свой нехитрый скарб в один небольшой узел…
— Но я ведь ничего не знал! — воскликнул де Брие. — У меня с отцом накануне был серьезный разговор, мы даже повздорили. Но я не думал, что он примет решение так быстро! О том, что отец приказал тебе уйти, я узнал от него только ближе к полудню. Тебя тогда уже не было в нашем доме…
— Теперь это не имеет никакого значения, — сказала Ребекка. Она собралась с мыслями и продолжила свой рассказ. — Я шла по дороге на Трюво и плакала, потому что совершенно не знала, куда мне идти. Вскоре мне повстречались крестьяне с телегой, муж и жена, они везли большую копну сена. Я попросила их о помощи, и несколько лье мне удалось дать отдых ногам. Пока ехали, я разговорилась с женщиной и рассказала свою историю. Она посоветовала идти в Париж — там больше возможности отыскать жильё и работу. Но я ведь никогда не работала. Когда был жив мой отец, он содержал меня, а когда его убили разбойники, меня под свою опеку взял Гийом де Брие, ваш отец, сеньор. Мне тогда было двенадцать лет.
— Да, я помню: мой отец дружил с твоим, поэтому и взял тебя на содержание, — сказал де Брие.
— Это была не дружба, сеньор. У них просто были какие-то общие дела…
— Да, вероятно. Мне тогда было всего четырнадцать, и я плохо разбирался в делах отца. Но мы с тобой действительно стали как братья и сестра, ты помнишь? Между нами не было разницы…
— Я все помню, сеньор…
— А что же было дальше? — с трепетом спросила Эстель.
— Дальше? Несколько дней я брела по дороге, спрашивая у местных крестьян направление до Парижа. Ночевала, где придется — два или три раза в поле, еще столько же на каких-то постоялых дворах. У меня были мелкие деньги, иногда удавалось что-то положить в рот. Но вот на шестой или седьмой день моего скитания я почувствовала такую смертельную усталость, что уже просто валилась с ног. И я испугалась, что рухну прямо посреди поля и умру в придорожной канаве. Наверное, так бы и случилось, если бы мои молитвы не услышал Господь. Он послал мне спасение в виде еще одной телеги, на которой меня, полностью обессилевшую, довезли до постоялого двора в Клюи, неподалеку от Парижа. Там надо мной сжалилась какая-то местная женщина и приютила у себя в доме. Она покормила меня, дала чистую одежду. А когда я рассказала, что беременна, моя спасительница без колебаний предложила оставаться у нее, пока не родится ребенок. Я согласилась, и прожила в этом доме целых пять месяцев…
Ребекка замолчала. Было видно, что воспоминания даются ей с трудом.
— Эстель, милая, принеси мне воды, — попросила она.
— Да, сеньора! — Девушка вскочила со скамьи. — Только вы пока ничего не рассказывайте! Я не хочу пропустить ни единого слова!
Она метнулась в капеллу, схватила в трапезной большую глиняную кружку и вернулась во дворик. Там, зачерпнув прямо из ручья чистой, как слезы ребенка, воды, подала кружку Ребекке.
Венсан де Брие тем временем хмуро молчал, глядя в сторону.
— Когда родился ребенок… — продолжила женщина.
— Это была девочка? — вырвалось у Эстель.
— Да, девочка. Она родилась крепенькой и здоровой, с огромными черными глазищами. Когда мне подали ее для кормления, я заметила в этих глазах грусть…
— Это невозможно, — тихо сказал де Брие.
— Это было именно так, — ответила Ребекка.
— А потом? Что было потом? — торопила Эстель.
— А потом случилось то, что случилось. Моя любезная хозяйка, чьим добрым расположением я пользовалась так долго, предложила мне сделку. У нее с мужем своих детей не было, вот они и придумали дать мне немного денег на первое время, чтобы я могла где-то устроиться самостоятельно, а мою девочку оставить у них.
— И ты согласилась!? — воскликнул де Брие.
— А что мне оставалось делать? Мне ведь нужно было где-то найти работу, как-то устроиться. Как бы я это сделала с грудным ребенком на руках? Я согласилась, но только при условии, что иногда буду приходить и видеться с дочерью. Но… все сложилось не так, как я хотела… Поначалу я работала прачкой в одном доме. И все бы ничего, если бы ко мне не стали приставать мужчины… А потом… А потом уже совсем другая история…
— Сеньора… — тихо позвала Эстель. — И вы больше никогда не видели свою дочь?
— Никогда, — с невыразимой печалью в голосе ответила Ребекка. — И никогда не могла себе этого простить. Потом, уже находясь в монастыре, долгие годы я вымаливала у Бога прощения для себя, но видно Он так и не услышал меня. Или не захотел простить…
— Сеньора, это действительно было в Клюи? — уточнила Эстель.
— Да, там.
— В доме напротив молочной лавки?
— Да, но… откуда…
Ребекка встрепенулась и застыла на полуслове, пристально вглядываясь в лицо девушки.
— И женщину, приютившую вас тогда, звали Аделайн, а ее мужа Клод Оди?
Венсан де Брие, до этого смотревший в ручей, повернул голову и уставился на Эстель.
— Они назвали меня Эстель, — дрожащим голосом сказала девушка.
— Нет… это имя… придумала для тебя я…
Ребекка вскочила и тут же упала на колени перед дочерью.
— Прости, прости меня! — просила она, протягивая руки. — Если сможешь… Господи, ты все же внял моим молитвам!
Эстель подхватила Ребекку подмышки и, подняв с колен, снова усадила на скамью.
— Сеньор, представляете, какое чудо! — Девушка повернулась к рыцарю, застывшему как изваяние и угрюмо наблюдавшему за трогательной сценой. — Как такое может быть?!
Ребекка тоже повернулась к де Брие.
— Сеньор! Как я вам благодарна за то, что вы вытащили меня из монастыря! — воскликнула она. — Это не чудо, это промысел божий! А где сейчас Северин? Я… хочу его видеть…
— Это случится раньше, чем ты думаешь, — сдержанно сказал граф. — Завтра мы отправляемся в Париж, а Северин очень скоро тоже приедет туда. Я послал за ним человека. Думаю, он уже собирается в путь.
— Северин? — переспросила Эстель. — Это ваш брат, сеньор? Тот самый, которого мы не застали в Ренн-ле-Шато?
— Да, Эстель.
— Это твой отец, девочка, — сказала Ребекка.
Венсан де Брие сжал зубы и промолчал.
* * *
На открытой палубе когга «Знамение» было ветрено и пусто. Небольшой быстроходный корабль, героически преодолевая волны Бискайского залива, упорно продвигался на север. К вечеру первого дня пути на траверзе правого борта когга был Сен-Назер, вдали маячили мыс Киберон и остров Бель-Иль.
Солнце упало за горизонт, океан очень быстро потемнел, стал неприветливым и грозным. На высокой мачте, выгнувшись стремительной дугой, напряженно гудел парус.
Дюжина лучников давно спустилась в трюм, присоединившись к матросам, еще раньше в своей каюте заперся капитан. Из команды корабля на юте остался один рулевой. Накинув на голову капюшон и намертво вцепившись крепкими руками в штурвальное колесо, он перестал быть похожим на человека и превратился в неподвижный и безликий монумент.
Спрятавшись от свистящего ветра за высокой надстройкой с зубчатыми бортами, на баке приютились двое пассажиров «Знамения». Судно принадлежало венецианскому купцу и предназначалось только для перевозки грузов. Его капитан попутчиков брал крайне редко, да и то при условии, что ночевать они будут на палубе. Тибо и Луи не оставалось ничего другого, как согласиться с требованиями капитана. Это был седой мужчина неопределенного возраста, худощавый и загорелый, с острым взглядом и нервной походкой. Его тело, казалось, было иссушено солеными ветрами, но держался он бодро и строго.
— Ваше дело, — сказал он, обращаясь к двум друзьям перед тем, как когг выбрал якорь в порту Ла-Рошели, — не мешать команде работать. Океан у побережья суров, иногда приходится сутками не смыкать глаз. Ваше место — на баке, среди канатов и запасных парусов. Идти нам, если повезет с погодой, почти два дня, так что не замерзнете. И молитесь, чтобы попутный ветер был щедр и благосклонен к нам.
Тибо и Луи закивали головами и не стали спорить. Главным для них было поскорей добраться до Англии и выполнить секретное поручение Венсана де Брие. Днем они терлись возле лучников — нанятого отряда солдат, предназначенных для отражения возможного нападения пиратов. Их покормили похлебкой из чечевицы со свининой. В благодарность за еду пассажиры «Знамения» по очереди рассказывали солдатам какие-то забавные истории.
И вот теперь, скорчившись от холода, но не теряя присутствия духа, при качающемся свете одинокого фонаря, болтавшегося на грота-рее, они уплетали собственные небольшие запасы еды и разговаривали.
При всей схожести общего далекого прошлого, Тибо и Луи давно стали разными людьми, настолько непохожими друг на друга, как вода бывает непохожа на камень, перегородивший путь ручью. Теперь их случайно сблизило конкретное дело, но относились они к нему по-разному: один — с искренней преданностью и рвением, другой — с настороженностью и тайным умыслом. И вот, когда по воле судьбы двое друзей остались наедине посреди ревущей морской стихии, когда каждому неоткуда было ждать спасения или возможности укрыться от нежелательных обстоятельств, между ними произошло то, что неизбежно должно было произойти.
— Скажи, Тибо, — осторожно начал Луи, когда его друг откинулся назад и прислонился спиной к бухте каната, — ты полностью доверяешь своему покровителю?
— Сеньор де Брие вовсе мне не покровитель, — ответил Тибо.
— Но ведь это он тебя кормит и одевает взамен на ту службу, которую ты ему время от времени оказываешь.
— Я служу не время от времени, а постоянно, причем, не за еду или деньги.
— Тогда как? Поясни. Разве в наше время можно как-то иначе?
— Можно, Луи. Я действительно во всем доверяю сеньору, потому что меня с ним связывает давняя дружба, и я служу тому делу, которому служит и он.
— Заметь, что нас с тобой тоже ведь связывает давняя дружба, — вставил Луи. — Однако же я не могу сказать, что мне ты так же доверяешь. И потом, мне не совсем понятно, какому делу вы с де Брие служите.
— А тебе хочется понять?
— Согласись, Тибо, я был с вами в Тампле, меня вместе с тобой арестовали папские епископы, после чего мы оба каким-то чудом спаслись и ушли от преследования. Так неужели до сих пор я не заслужил того, чтобы знать, какие перед нами ставятся задачи и какие цели мы преследуем!
— А зачем тебе это, Луи?
— Гм, просто знать, и всё.
— И при случае рассказать, кому следует?
— Зачем ты так, Тибо?
— Ты обиделся?
— А ты бы как повел себя на моем месте?
— Во-первых, мне никогда не быть на твоем месте, — сказал Тибо и повернулся лицом к Луи. — А во-вторых, я никогда не предавал друзей.
— Но я ведь тоже не предавал!
— Разве?
— А как? Что ты имеешь в виду?
— Ты действительно хочешь, чтобы я сказал?
— Хочу.
— Хорошо, слушай. Первое мое подозрение возникло тогда, когда ты проговорился о болезни папы Климента. Это в те дни было еще большой тайной для всех, и о ней могли знать только избранные люди, а не торговцы на рынке, о которых ты сказал. И потом, мы с тобой не разлучались несколько дней накануне, и на рынке ты без меня не был. Дальше — интереснее. Мы выезжаем из Парижа тайком, но нас каким-то образом выслеживают и берут под стражу в Орлеане, причем епископ Боне безошибочно называет наши имена. Спрашивается, от кого он их узнал? И о чем, хотелось бы знать, вы беседовали с епископом Моро в соседней комнате, пока меня били солдаты? Но и это, Луи, еще не самое интересное. А вот когда в Ла-Рошели тебя узнал твой бывший подельник и попросил передать привет аббату Лебефу… Вот тут мне, а в особенности мессиру де Брие стало очень любопытно: каким образом у карманного вора могут быть такие серьезные знакомства? Ведь аббат Лебеф давно известен моему хозяину как тайный агент папы. И что же у тебя может быть общего с ним, как не доносительство? Ну, что скажешь теперь, дружище Луи?
— Да! — Луи вскочил на ноги, но тут же упал на колени перед Тибо. — Да! Ты прав, Тибо! Я доносил. Я виноват перед тобой. Хочешь, я скажу честно: когда ты спал пьяный в харчевне, я встречался с аббатом Лебефом, а потом вернулся и тоже лег спать. Это он сказал мне о болезни папы. Я выдал себя, да. Грешен, грешен, Тибо! Прости меня… Знаешь, однажды меня поймали со срезанным кошельком и кинули в тюрьму. Там было ужасно! Толпа оборванцев, давно потерявших человеческий облик — воры, убийцы, насильники — все находились в одном общем помещении. Нас, наверное, нарочно поместили вместе, чтобы мы передушили друг друга. Но не это еще самое страшное, Тибо! Там был постоянно мокрый пол, на котором просто нельзя было спать. Я все время сидел, отыскав, как и все другие, сухой угол и опершись спиной о стену. А передо мной, шлепая своими лапками по лужам, туда-сюда сновали крысы. Огромные, Тибо! Они сверкали в мою сторону огненными бусинками глаз и, наверное, ждали, когда я сдохну. Это нельзя передать! Потом был суд, мне назначили срок в два года. Я просидел в душном подземелье, в этой преисподней почти семь месяцев, когда однажды пришел аббат Лебеф. По его распоряжению нас приводили к нему в сухое и светлое помещение где-то наверху. Он беседовал с каждым узником, а нас там было больше двадцати человек. Аббат Лебеф предложил мне работу… ты понимаешь, какую, Тибо. И я согласился. Знаешь, еще бы несколько месяцев — и я бы отдал богу душу. А вместо этого — довольно сытое житьё, просто нужно было ходить по людным местам, присматриваться и прислушиваться к разговорам. Ну, и попутно это не мешало мне заниматься любимым делом. Так продолжалось года полтора. А потом я встретил тебя…
— И донес, что я служу бывшему рыцарю тамплиеров…
— Прости, Тибо…
— Бог простит.
— Друг, я готов искупить свою вину! — встрепенулся Луи. — Сейчас, когда умер папа Климент, мне совершенно не обязательно служить аббату Лебефу. Я брошу это дело, обещаю. Нет, клянусь! Теперь я искренне на твоей стороне, на вашей стороне! Теперь я буду служить твоему хозяину так же, как служишь ты, Тибо! Мы выполним его поручение в Англии, вернемся, и я покаюсь перед ним. Слышишь, Тибо? Я покаюсь, и пусть он примет справедливое решение…
— Знаешь, Луи, — сказал Тибо, поднимаясь в полный рост, — мы действительно были с тобой друзьями — там, в Лане, в далеком детстве. Случилось так, что наши дороги разошлись, и от прежней дружбы не осталось и следа. Это не ты виноват перед сеньором де Брие, это я виноват перед ним. Да, Луи, виноват, что привел тебя и вместе с тобой притянул неприятности.
Луи тоже поднялся, и теперь оба стояли у борта, обдуваемые ледяным ночным ветром Бискайского залива. Во мраке они почти не видели лиц друг друга — только силуэты и контуры.
— Я понимаю, Тибо. Я буду служить честно!
— Человек, однажды предавший, никогда не сможет удержаться от повторного предательства, — сказал Тибо. — Это я знаю не понаслышке, доводилось видеть. А что касается моего хозяина… Хотелось бы знать, что тебе поручали относительно него?
— Я скажу, конечно же, скажу. Я должен был докладывать о каждом его шаге: куда ездил, с кем встречался, о чем говорил.
— А для чего?
— Не знаю, мне не объясняли. Я слишком маленький человек в чужой игре. Думаю, это связано с поисками сокровищ тамплиеров… Папа никогда не скрывал, что хочет их отыскать. А твой хозяин каким-то образом избежал ареста, вот они и следили за ним, думали, что он выведет на какой-то след…
— А тут еще и тайник в Тампле…
— Да, аббат Лебеф был крайне удивлен! Нет, скорее, возмущен. Мне досталось от него за то, что я не сумел предупредить заранее. Тибо, друг, я все потом расскажу сеньору де Брие. Я очень надеюсь, что он меня простит.
— Знаешь, Луи, он уже принял справедливое решение. Но я никогда не думал, что мне придется делать именно это…
— Что, Тибо, о чем ты? — Голос Луи задрожал. — Что ты собираешься…
— Прости, Луи, — коротко сказал Тибо и взмахнул рукой.
… Ясным и солнечным утром на палубу вышел капитан. Оглядев горизонт, он остался доволен ходом «Знамения» и отдал несколько отрывистых команд матросам. Потом поднялся на бак, где заметил одинокую фигуру Тибо.
— Доброе утро, сеньор капитан! — поздоровался пассажир.
— Доброе. А где ваш приятель?
— Знаете, он передумал плыть в Англию и ночью сошел с корабля, — не моргнув глазом, ответил Тибо.
Капитан сощурился и пристально посмотрел на него.
— А вчера мне показалось, что вы были друзьями, — сказал он. — Впрочем, это не мое дело.
— Благодарю вас, сеньор! — ответил Тибо и отвернулся.
На душе у него скребли кошки.
2
С первых дней февраля стала вдруг с восторгом ломаться вся статистика многолетних метеонаблюдений. Воздух прогревался солнцем до неприличных температур, городские птицы, всю зиму прятавшиеся в только им известные щели, вдруг высыпали гурьбой на тротуары, стали носиться над головами людей и тараторить наперебой, будто торопливо делясь друг с другом новыми впечатлениями. Запахло весной. Из твердой, омертвевшей земли внезапно проклюнулись побеги каких-то отчаянных, ошалелых от новизны трав. Небо менялось на глазах, из безжизненно-бледного превращаясь в лазорево-чистое, льняное. Город ожил. Улицы, как артерии, наполнялись жителями южного города — еще медлительными, сонными, но все более смелыми. Так продолжалось целую неделю, точнее, восемь дней.
И вдруг повалил снег — на дома, на дороги, на деревья и на людей. На те жалкие ростки из-под земли, которые не успели даже помолодеть. На птиц, обманувшихся в своих ожиданиях. На мусорные баки. На трамвайные рельсы. На жизнь. Он был густым и мелким — мелким, но густым. Он стремительно покрывал город выстраданным слоем — плотным и переливчатым. Сугробы поднимались повсюду, как пенка на вскипающем молоке.
И всё в какие-то несколько часов исчезло, прекратило существование, с молчаливой торжественностью оказалось погребенным под снегопадом. И уже углы домов перестали казаться прямыми, а закруглились не по канонам архитектуры, скамейки на опустевших аллеях будто вставали на дыбы, выгибая напряженные спины, а деревья понуро опускали ветки под тяжестью белоснежно-кремовых гирлянд. Цветосмешение близкой весны в один день сменилось однотонными белилами, которые уходящая зима в отчаянии выплеснула из бездонного ведра февраля.
* * *
Всякая любовь — есть переход на новую ступень. Чувство, которое возвышает, которое озаряет душу, не может делать человека беднее, обкрадывать его. Напротив, оно приносит ни с чем не сравнимые богатства — даже если проходит испытания, даже если сопровождается страданием. Так было и так будет всегда…
«Я поняла одну простую вещь: мне во Сне додаётся то, чего не хватало в жизни… эмоции, любовь… Почему-то так… Может быть, и тебе тоже?
Я ведь уже много лет думала, что в моей жизни ничего не может произойти — в смысле, ничего такого, что станет переворачивать душу. У меня был опыт в юности, я тебе рассказывала. Обожглась настолько, что навсегда закрылась — думала, что навсегда… И вдруг — это… Любовь в реальной жизни и еще одна — во Сне. Кому рассказать, кто поверит?
Но если в реальной жизни всё как бы понятно (гм, скептически поморщилась в этом месте…), то во Сне — где мы не в силах управлять, принимать решения… Какова тогда моя роль? Кто я и что — я? И для чего — я? Тем более что мне там даны две любви вместо одной… к мужчине и к матери… Я ведь любила ее заочно, всю жизнь любила — как святой образ, как некую сущность, которую никогда не видела, но связь с которой чувствовала постоянно, с самого детства, как только смогла понимать эту связь. Мне снилось, и я знала, что любила. Твердо знала. Почему — так?
Еще в монастыре, когда я только говорила с ней, в моей душе уже что-то шевельнулось — вошло в какие-то клеточки, застряло, защемило там неожиданной догадкой и держало в напряжении всё время. Пока мы не разговорились во дворе часовни. Я старалась не подавать виду, была намеренно колючей, холодной с ней. Помнишь? Вернее, хотела быть такой. Ну не могла же я сразу кинуться на шею человеку, который меня в самом раннем детстве оставил чужим людям… А как хотелось! Обнять ее, приласкать… сказать какие-то слова… произнести это слово — «мама»… Простить — а за что прощать…
В моей жизни появилось счастье, и я в душе ликовала. Счастье ведь не приходит с опозданием, или не вовремя, или по ошибке — счастье приходит тогда, когда человек становится его достоин, когда соединяются в один узел все причины и следствия, все условия и необходимости. Счастье приходит, чтобы окрылить человека, чтобы поднять его на иную, недосягаемую прежде высоту. Это та более высокая ступень, с которой открываются не только новые горизонты, но и новые возможности. А вместе с ними — новые испытания… Да, иначе не бывает, и я это хорошо знаю и чувствую… и готовлюсь. Что-то будет, что-то обязательно случится впереди. Каждая любовь имеет свое значение и предназначение. И нам с тобой они тоже даны не случайно — это очевидно. За каждую следующую ступень приходится платить новой ценой. И придется, Андрей. И я согласна! А ты?»
* * *
«А я — нет… Я уже плачУ за счастье — и слишком дорогой ценой… За счастье творить, за счастье поднимать голову выше среднего уровня, определенного, установленного для всех мирозданием. И эта цена чересчур высока, просто чрезмерна. Однако не я сам ее назначил, мне только нести эту ношу — пожизненно и по возможности с достоинством. Ты, конечно, не понимаешь, о чем я говорю. А я пока не стану ничего объяснять — прости…
Мне во Сне тоже дана любовь — особенная, неяркая, такая, какую не сразу заметишь, потому что она не кричит повсюду о себе, не привлекает внимания, она — таится, она опасается чужих взглядов и мнений, она прячется от всех, кто способен хоть как-то ее задеть, оскорбить своим касанием. Любви в моем Сне уже много лет, но она прошла испытание временем, и не стала от этого меньше, не притупилась, не сменила свою начальную пронзительную ноту. Она просто стала тише, она стала негромкой, как легкий шелест травы, ее может услышать лишь тот человек, которому она адресована… И я знаю, что Она меня слышит…
Наверное, так устроено потому, что у меня в реальной жизни происходят определенные испытания чувств. И та любовь, с которой мне приходится жить во Сне, — она как эхо, как отголосок моей реальной, двадцать первого века любви, не нашей с тобой, а — любви к жене, именно эта любовь сейчас и проходит испытания… И это мне урок, и это мне — память: пронеси через годы, через все трудности жизни, через все преграды, нагроможденные судьбой — и тебе зачтется… И я несу…
Возможно, мне в этом плане труднее, чем тебе, возможно, ты и дана мне в этой жизни для того, чтобы можно было сравнить, чтобы можно было с кем-то об этом поговорить, посоветоваться, поделиться. Возможно, что нас с тобой где-то там, на небесах, соединили, познакомили для того, чтобы мы вместе исполнили некое предназначение, чтобы, выполнив его, каждому дать шанс подняться на новую ступень, на новый уровень — то, о чем ты говорила. Видимо, там посчитали, что именно мы с тобой этого заслуживаем и этого достойны… На данном этапе своей жизни…
И сейчас, как я понимаю, следует ждать какого-то поворота, какого-то шага, который изменит все прежние построения. Давай будем к этому готовы».
* * *
«А я готова… Я давно готова ко всему. Я готова больше, чем ты думаешь. Я готова пройти через всё, что заложено в сюжете — ради того только, чтобы ты, Андрей, был счастлив, чтобы ты преодолел те испытания, о которых говоришь, ничего не объясняя…
Знаешь, мне иногда кажется, что у меня будто похитили судьбу и навязали другую… Так всё идет — непривычно, нетривиально. Я ведь кто была по сути — училка, одиночка, серая мышка… даром что очки еще не ношу, а то бы совсем… Я ведь что раньше знала: Пушкин, Некрасов, Чехов, Толстой… еще с десяток имен… И каждый год — одно и то же, одно и то же. Шаг влево, шаг вправо — расстрел на месте…
Зато теперь… теперь я знаю изнутри начало четырнадцатого столетия, теперь история Ордена тамплиеров, во всяком случае, его закат — известна мне не из учебников. Теперь я точно знаю, во что одевались французы средневековья, как разговаривали, что ели. Теперь я знаю, как выглядел Париж! Господи, увидеть Париж — и умереть! Помнишь, был такой фильм лет двадцать назад? Там, конечно, совсем иная история, но фраза-то прижилась! У нас с тобой другой Париж — убогий, вонючий, грязный — но я именно там! И это все равно — Париж! И это остров Ситэ и Нотр-Дам!
И я готова! Я готова проживать эту свою вторую жизнь, потому что твердо знаю: это кому-нибудь нужно…
А здесь… Недавно мне приснился сон. Удивительно, что он пришел ко мне — совсем другой, будто лирическое отступление… Такой маленький сюжет из старых времён — ты был моим отцом, а я — девочкой лет восьми. Мы — нищие, в какой-то старой одежде, бредём по дороге, пыльно, но не жарко — где-то в средней полосе. У нас сумки холщовые на одной широкой лямке — через плечо. Входим в какой-то городок, тротуары в две доски, видимо, спасающие горожан от грязи в дождь. Какая-то корчма, завалинка, мы садимся. Нам туда нельзя. Ждём подаяния, корочки хлеба. Нам трудно, дом наш сгорел, вся семья погибла, жить негде и не на что. Мы пробираемся на юг, чтобы пережить зиму. Бредём уже давно — и нигде нет пристанища. Ощущение непроходящей усталости заставляет закрываться мои глаза, и я засыпаю тут же, положив голову тебе на колени, потому что спать хочется больше, чем есть… К чему это всё? Просто так устаю, что пришла со школы и легла на час. В третьей четверти — много работы. Вот и приснилось… Но я справлюсь — со всем, что только будет…»
ГЛАВА 13
1
«Любезный мой брат!
Годы разлуки давно укрепили меня в мысли о том, что обида, нанесенная тебе мною, не стОит настоящей братской дружбы и должна быть в скорейшем времени забыта. Да, я был виноват перед тобой, но сегодня, через многие годы разрыва, готов предоставить тебе полную сатисфакцию, если, конечно, ты склонен мне верить и согласишься дважды войти в одну реку. Однако те высокие чувства, которые ты некогда испытывал, которые не понимал наш отец и которые однажды я оскорбил, позволяют мне все же надеяться, что встреча с известной особой снова всколыхнет твою душу и возбудит в ней новый прилив прекрасного состояния, именуемого любовью. Я искренне верю, что это еще возможно!
Кроме того, любезный мой брат, есть еще одно дело, не требующее отлагательств, в котором мне жизненно необходима именно твоя помощь, ибо никому другому я доверять не могу. Речь идет о Ковчеге Завета, который после гибели Великого магистра усиленно ищет король Филипп. Мне пока не известно местонахождение Ковчега, но я очень надеюсь с твоей помощью отыскать его и не позволить этой величайшей реликвии оказаться в руках столь жестокого и алчного человека. Свою миссию после разгрома нашего Ордена я вижу в том, чтобы сохранить в недосягаемости для врагов самую дорогую святыню современного мира.
Если ты по-прежнему чувствуешь братскую привязанность ко мне (а я утверждаю, что моя — к тебе — и вовсе никогда не иссякала!), то прошу откликнуться на мое приглашение и как можно скорее прибыть в Париж. Мой человек, передавший это письмо, проводит тебя. Он получил указание служить тебе беспрекословно, как служит мне.
Остаюсь с любовью и надеждой вскоре увидеться с тобой, любезный мой брат. Твой Венсан.
P.S. Она очень ждет тебя…»
Над Лондоном вторые сутки висел дождь. Он сеялся на город мелкой, пронзительной, совсем не весенней сыпью, покрывая улицы и крыши домов мокрым холодным глянцем, воруя у пристального взгляда острые углы и детали.
Северин де Брие задумчиво и неторопливо сложил письмо вчетверо, засунул в карман штанов и подошел к окну. Улица Флит и церковь Святого Дунстана расплывались в бесформенные силуэты.
Граф долго и неподвижно стоял, вглядываясь в серую даль. Казалось, он совсем позабыл о человеке, доставившем письмо и теперь ожидавшем в гостиной. Тот терпеливо переминался с ноги на ногу, боясь издать лишний звук. Мелкие капли воды на его промокшем плаще соединялись в более крупные и то и дело стремительно скатывались на пол, образуя серповидную лужицу вокруг коренастой фигуры.
— Ты долго искал меня? — вдруг спросил Северин, поворачиваясь к вечернему гостю.
— Нет, сеньор, — поспешно ответил Тибо. — Лондон устроен гораздо проще Парижа, здесь нельзя заблудиться. К тому же, многие говорят по-французски.
— Ты просто не знаешь этого города, — усмехнулся де Брие. — Если только захотеть, здесь можно без труда затеряться.
Он отошел от окна, приблизился к Тибо и пристально вгляделся в его лицо. Бывший оруженосец преданно смотрел в ответ, не отворачиваясь. В его голубых глазах плескался неподдельный восторг.
— Как он узнал мой адрес?
— Это мне не известно, ваша милость.
— Ладно, я выясню позже. Как тебя зовут?
— Тибо Морель, ваша милость.
— Ты давно служишь Венсану?
— Мы знакомы больше десяти лет. Наши пути тогда случайно пересеклись. А через несколько лет мы встретились снова, и сеньор принял меня оруженосцем, с тех пор мы не расстаемся.
— Так ты еще и воин! Брат высоко отзывается о тебе.
— Я стараюсь служить ему верой и правдой!
— Тебе знакома тамплиерская тайнопись?
— Нет, сеньор. Но даже если бы я ее знал, ни за что бы не прочитал чужое письмо.
— Брат написал, что дал тебе указание служить и мне, если понадобится.
— Да, я готов исполнить любое ваше поручение, сеньор!
— Венсан приглашает меня в Париж.
— Я буду сопровождать вас.
— Но я еще не решил, ехать мне или нет.
— Я буду ждать вашего решения столько, сколько понадобится.
— А где ты собираешься в это время жить?
— Где угодно, ваша милость. Я привычен ко всему, мне и на постоялом дворе будет удобно.
— Нет, Тибо, на постоялом дворе тебе нечего делать, — сказал Северин де Брие. — Ты остановишься у меня. Как видишь, я живу одиноко, прислуги не держу, и тебе придется полностью заботиться о себе.
— Я справлюсь, сеньор.
— Возможно, мне понадобится уехать на несколько дней…
— Я готов сопровождать вас, — повторил Тибо.
— В этом нет необходимости. Мне просто нужно завершить некоторые дела, прежде чем отправиться в Париж. Сам понимаешь, приглашение брата столь неожиданно…
— Так вы все же решили ехать?
— Еще нет, — ответил Северин де Брие и снова задумался.
Тибо рассматривал этого человека и удивлялся тому, какой щедрой и удивительной бывает природа. При внешнем абсолютном сходстве братьев де Брие было что-то едва уловимое, что-то ускользающее, что делало их разными. Тибо замечал эту разницу, но объяснить ее не мог.
— Я тебя совершенно не знаю, — вдруг сказал Северин. — Но уж если за тебя поручается мой брат, то мне не остается ничего иного, как довериться Венсану.
— Вы можете быть совершенно спокойны, сеньор!
— Хорошо. Я уеду завтра. Деньги на еду получишь утром. Только одна просьба, если угодно, приказ.
— Слушаю…
— Возможно, ты захочешь погулять, выпить и повеселиться. Возможно, у тебя появятся новые знакомые. Прошу только об одном: никого не води сюда.
— Что вы, сеньор! Как можно!
— Я надеюсь, что так и будет. А сейчас мы поужинаем, Тибо, и ты расскажешь мне о моем брате.
— Вы поразительно похожи!
— Я знаю, я хорошо это знаю…
— А сколько лет вы не виделись?
— Сколько? Об этом больно подумать и страшно произнести вслух…
— Вот удивительное дело! — воскликнул Тибо, заметно осмелев. — Вы оба состояли в Ордене, но за долгие годы ни разу не встретились!
— Возможно, мы и сами не хотели этого, — задумчиво ответил Северин де Брие.
— Простите, ваша милость, не смею вмешиваться…
— Ничего, Тибо, не робей.
— Да я и не из робких.
— Это и понятно. Иначе мой брат не взял бы тебя оруженосцем.
— Ваш брат очень смелый и отчаянный человек! И годы не меняют его характер.
— Идем же скорее на кухню! Мне не терпится выпить с тобой, Тибо, по кружке вина и услышать рассказ о Венсане.
* * *
Приземистое, монолитное строение, состоящее из центральной базилики и двух боковых, соединенных между собой пространными нефами, утопало в зелени яблоневого сада. Сюда, в церковь Святого Михаила в местечке Брэй, что на правом берегу Темзы в двадцати милях от Лондона, Северин де Брие приехал перед полуднем.
Дождь закончился еще накануне ночью, в высоком ослепительно синем небе снова сияло солнце, быстро высушивая сочную траву и сокращая размеры луж. Воздух пьянил цветением деревьев, его хотелось не вдыхать, а пить, как нектар.
Впрочем, Северину де Брие было не до романтических сравнений — он оставался хмур и сосредоточен на своих мыслях. Сойдя с лошади, всадник привязал ее к столбу неподалеку от центрального входа в церковь, а сам обогнул здание с левой стороны и уверенно вошел в узкую дверь, расположенную почти в самом конце базилики. Задержавшись на несколько мгновений у входа, чтобы глаза привыкли к полумраку, де Брие направился к алтарю. Там у большого деревянного распятия стоял и молился священник. Несколько прихожан сидели на скамьях, обращая свои взоры и молитвы к ликам святых.
Де Брие приблизился к священнику сзади, перекрестился в сторону распятия, шепча одними губами «Pater noster», потом тихо сказал:
— Здравствуйте, святой отец. Рад видеть вас во здравии и труде.
Священник оглянулся. Это был высокий худощавый старик с красивой благородной сединой и лицом смиренного человека. Узнав де Брие, он ответил с редким достоинством:
— И тебе здравия, сын мой. Помолись со мной рядом, и да услышит Господь чаяния твои. Полагаю, серьезное дело привело тебя ко мне?
— Именно так, святой отец.
— Что ж, помолимся и за то, чтобы всё наилучшим образом разрешилось.
Через четверть часа в комнате для переодеваний двое мужчин продолжили разговор.
— Давно я тебя не видел, сын мой! Сколько воды утекло…
— Да, я не приезжал к вам несколько лет. На то были веские причины, святой отец.
— Не оправдывайся, я тебя ведь ни о чем не спрашиваю.
— Я и не оправдываюсь. Как живете?
— Когда я был магистром тамплиеров в графстве Беркшир, — неторопливо, будто взвешивая слова, сказал святой отец, — когда меня еще все знали как Филиппа де Мьюса, я не чувствовал одиночества, дорогой мой Северин. Я был на виду, у меня была сила и власть над людьми. Ко мне стремились те, кто нуждался в помощи и защите. И я всегда давал им то, что они ждали.
— А теперь?
— А теперь всё изменилось. Когда меня арестовали и под пытками заставили подписать отречение… Знаешь, Северин, я уже не молод и всякого повидал на своем веку. Но мне до сих пор не по себе. А ты? Ты тоже был арестован?
— Мне удалось избежать этой участи, святой отец. Я долго скрывался, пока не закончились преследования.
— Ты не знаешь, что такое Тауэр, ты не знаешь, что такое пытки инквизиции… И слава богу, что не знаешь!
— Хвала Всевышнему, он уберег меня от этого!
— А меня не уберег. Но я держался мужественно, как и многие рядом со мной.
С этими словами священник порылся в бумагах на столе и протянул Северину свиток, исписанный мелким почерком.
— Прочитай это, сын мой, — сказал он печальным голосом.
— Что это?
— Это заявление, которое мы, рыцари Храма, взятые под стражу, передали епископам Лондонскому и Чичестерскому в церкви Всех Святых в Беркипгчерч, когда нас доставили туда на допрос.
Северин развернул документ и прочитал следующее:
«Да будет известно достопочтенному отцу нашему, епископу Кентерберийскому,
примасу всей Англии, и всем прелатам святой церкви, и всем христианам, что все
мы, братья-тамплиеры, которые собрались здесь, все вместе и каждый в отдельности,
как добрые христиане веруем в Господа нашего Иисуса Христа, и веруем в Бога-Отца
Вседержителя, создавшего небо и землю, и в Иисуса, Сына Его, зачатого от Святого
Духа, рожденного от Девы Марии, претерпевшего страдания и страсти, умершего на
Кресте за всех грешников, спустившегося в ад, а на третий день восставшего от
смерти к жизни, и поднявшегося на небо, и воссевшего одесную Отца, и грядет Он в
день Страшного суда судить живых и мертвых, и сие да пребудет вовеки; и веруем
во все, во что верует святая церковь и наставляет нас. И что наше монашеское
служение основано на повиновении, целомудрии, нестяжательстве и пособничестве в
завоевании Святой земли Иерусалима, всеми силами и мощью, кои дарует нам Господь.
И мы полностью отрицаем и не признаем, все вместе и каждый в отдельности, все
виды ересей и злодеяний, кои противоречат вере святой церкви. И во имя Бога и
милосердия мы просим вас, тех, кто представляет нашего святого отца, папу,
видеть в нас истинных детей святой церкви, ибо мы хранили и блюли веру и закон
церкви и нашего собственного монашеского братства, доброго, честного и
справедливого, в соответствии с привилегиями и ордонансами римского престола,
объявленными, утвержденными и принятыми Собором; и оные привилегии, вместе с
уставом нашего ордена, записаны в римской курии. И мы могли бы пригласить всех
христиан (кроме врагов и клеветников наших), с кем мы хорошо знакомы и среди
которых мы жили, чтобы они рассказали, как и каким образом проводили мы нашу
жизнь. И если при допросе мы сказали или сделали что-либо дурное из-за незнания
слова, ибо мы неграмотны, то мы готовы пострадать за святую церковь, подобно
Тому, Кто умер за нас на Святом кресте. И мы веруем во все церковные Таинства. И
мы молим вас во имя Господа и во имя вашего спасения, чтобы вы судили нас так,
как придется вам ответить за себя и за нас пред Господом; и мы просим, чтобы
наши показания были зачитаны перед нами и перед всеми людьми на том языке и в
тех самых словах, в каких они были даны и записаны на бумаге».
— Кто составил этот документ? — спросил Северин.
— Уильям де ла Мор, магистр Храма, твой покорный слуга и еще несколько наших братьев.
— А что было потом?
— Это заявление никак не устраивало папских инквизиторов. Понтифик, узнав о таком повороте событий, написал строгое письмо королю Англии Эдуарду, и тот направил новые приказы мэру и шерифам Лондона, велев поместить тамплиеров в отдельные камеры и заковать в цепи. С нами обращались то строго, то снисходительно — и в эти моменты нас посещали ученые прелаты и мудрые доктора теологии, которые путем увещеваний, убеждений и угроз пытались вырвать у нас требуемые признания. Так продолжалось больше двух месяцев. Мне казалось, я побывал в аду! — Святой отец замолчал. Было видно, с каким трудом даются ему воспоминания. — Шестого июля, я хорошо помню этот день, епископы Лондонский, Винчестерский и Чичестерский беседовали в Саутворке со мной и несколькими братьями-служителями Нового Темпла в Лондоне. Они сказали, что мы очевидно повинны в ереси. Клирики объясняли нам, что мы жестоко заблуждались, считая, что магистр ордена, который не имеет священнического сана, был вправе отпускать нам грехи, и предупредили, что если мы станем упорствовать в своем заблуждении, нас признают еретиками, и что если мы не можем очистить себя от этого обвинения, нам следует отречься от всех ересей, в которых нас обвиняют. Мы ответили, что готовы отречься от заблуждения, в которое впали, и что смиренно и почтительно подчиняемся приказаниям церкви, моля о прощении и милосердии. Затем епископы торжественно отпустили нам грехи и приняли в лоно церкви. Нас выпустили на свободу, а мне, как священнику, разрешили вернуться к своей прежней деятельности.
Однако, признав свою вину, тем самым я признал себя слабым. От всего, чему я так долго учил других, пришлось отречься. Я предал не только братьев тамплиеров, я предал себя и веру! И я пришел к Нему — не столько для того, чтобы в иной форме продолжить путь наставления, а больше для того, чтобы замолить собственный грех.
— Вы считаете, что оставшись твердым в своих убеждениях и, возможно, разделив участь Великого магистра, вы принесли бы больше пользы Ордену и человечеству в целом?
— Об этом судить не мне, дорогой Северин, а тому, кто распоряжается людскими судьбами.
— Как говорится, грешно подменять собственной волей творящую волю Бога. Не так ли?
— На мне уже достаточно грехов! — сокрушенно воскликнул священник. — До самой смерти хватит, о чем молить Всевышнего.
— Я полагаю, Он распорядился вашей судьбой именно так, чтобы привести к выполнению еще одной миссии, — понизив голос, сказал Северин. — Возможно, самой главной и ответственной в жизни…
— Я не совсем понимаю, о чем ты говоришь…
— Я поясню, святой отец. Для этого я и приехал.
Старик внимательно посмотрел на гостя. На лице Северина де Брие не дрогнул ни один мускул.
— Это связано с какой-то тайной? — предположил де Мьюс.
— Да, вы правы. Это связано с тем, что спрятано в подземелье этой церкви.
— Ковчег?! — воскликнул старик. — Ему угрожает опасность?
— Пока еще нет, но есть вероятность, что такое возможно.
— Откуда ты знаешь?
— Вчера я получил письмо из Парижа. Человек, которому у меня нет оснований не доверять, сообщил, что тайные агенты короля Филиппа разыскивают Ковчег по всей Франции. Не исключено, что они могут напасть и на британский след. Когда восемь лет назад Жак де Моле привез эту святыню в Англию, его сопровождало немало людей. Далеко не каждому было известно, что именно везет в своем багаже Великий магистр. Но были и те, кого де Моле посвятил в тайну. Где эти люди сейчас? Кому они служат? Этого мы с вами не знаем, святой отец. Поэтому я считаю необходимым как можно скорее перенести реликвию в другое место. И чтобы знали об этом только два человека: вы и я.
— Ты сразил меня наповал! — сказал де Мьюс. — У меня путаются мысли. А если бы инквизиторы что-то прознали тогда…
— Теперь вы не станете отрицать, что остались жить на этой земле для высокой цели?
— Да, Северин, эта цель стОит того, чтобы именно за нее отдать свою жизнь.
— Но этого от вас никто не требует.
— И, тем не менее, я готов!
— Нам нужно обговорить детали, — сказал Северин. — Прежде всего: куда переправить Ковчег?
— Тут нужно подумать.
Филипп де Мьюс опустил подбородок на сжатый кулак и задумался. Северин не стал торопить старика с ответом. Он хорошо знал своего старшего собрата по Ордену: пройдет минута-другая, и у того будет готово решение — продуманное и взвешенное.
Наконец священник встрепенулся и поднял голову.
— В десяти милях от Херефорда на берегу реки Монноу стоит церковь, — тихо сказал он. — Знаешь, чье имя она носит? Святого Михаила, как и наша. Там, неподалеку от валлийской границы, была одна из старейших в Англии прецепторий. И мне знаком капеллан этой церкви — верный и надежный человек. Я думаю, что Святой Михаил, который так долго охранял Ковчег здесь, постарается сберечь его и там.
— Святой отец, я не сомневался, что вы примете самое верное решение! — сказал Северин.
— Это решение продиктовал мне Он, — ответил священник, поднимая глаза к небу.
— Мы не договорились — когда.
— Ты сам говорил, что тянуть с этим опасно. Ведь так? В таком случае, давай завтра же отправимся в путь. Ты достанешь лошадь и повозку, я подготовлю провиант в дорогу.
— А сколько туда ехать?
— Не больше двух дней.
— Хорошо. Я пока вернусь в Лондон, — сказал Северин. — А завтра к вечеру приеду к вам уже с телегой. Не станем же мы выносить Ковчег из церкви среди белого дня.
— А все-таки как здорово, что я в свое время посвятил тебя в эту тайну! — воскликнул де Мьюс. — Если бы ты не знал о Ковчеге…
— Даже страшно подумать, что бы могло произойти…
Они помолчали несколько минут.
— Я ни разу за все эти годы не спускался туда, — вдруг сказал священник.
— Это глубоко?
— В комнату ведет узкий коридор, он делает два поворота и все время опускается вниз. Если не ошибаюсь, там восемьдесят семь ступенек. На какую глубину они ведут — определить трудно.
— А вход?
— Вход в подземелье находится под алтарем. Крышка над входом накрыта ковриком.
— Как всё просто! — воскликнул Северин. Потом добавил: — Вы помогали де Моле восемь лет назад?
— Нет, ему помогали другие люди, я не помню их имен. Я только сопровождал Великого магистра.
— А что кроме Ковчега хранится в подземелье?
— Ничего.
— А Ковчег тяжелый?
— Одному, пожалуй, не под силу. Я видел, как его несли двое. Не беспокойся, Северин, я хоть и стар уже, не подведу. Теперь мы просто обязаны справиться, чего бы нам это ни стоило!
* * *
Спускаясь вниз, Северин невольно вспоминал подземелье в Ренн-ле-Шато: такие же ступени, такой же спертый воздух, в котором не было даже глотка жизни — только дыхание тайны, граничившей с вечным покоем.
…Несколько лет назад, когда его по личному распоряжению Жака де Моле из командорства Кампань-сюр-Од перевели в Лондон, Северин де Брие даже не предполагал, какую высокую миссию ему, в конце концов, придется выполнять. Набожный и смиренный, он строго придерживался устава Ордена, не позволяя себе даже думать о каком-то продвижении по службе. И когда в Ренн-ле-Шато с инспекцией прибыл Великий магистр, Северин де Брие, будучи новоиспеченным комендантом крепости, никоим образом не пытался как-то угодить главе Ордена, выделиться и казаться нарочито полезным.
Жак де Моле, давно знакомый с Венсаном, не переставал удивляться тогда не столько внешнему сходству братьев де Брие, сколько различности их характеров. Как мудрый и дальновидный человек, Великий магистр быстро уловил перспективы от такого знакомства. Решительный и твердый, а порой жесткий в поступках Венсан нужен был Великому магистру для быстрых и продуктивных действий, мягкий и деликатный же Северин — для более тонкой деятельности, невидимой, скрытой от всеобщего обозрения, но от этого остающейся не менее важной для Ордена.
И он назначил его помощником прецептора Лондона с особыми полномочиями, о которых могли знать только три человека: магистр Ордена в Англии, Жак де Моле и сам Северин.
— От тебя, брат мой, не требуется геройство на полях сражений с неверными, — говорил Северину Великий магистр во время ужина tete-a-tete в Кампань-сюр-Од. — Для этого есть другие люди, коих я высоко ценю и переживаю за судьбу и здоровье каждого. От тебя требуется умение анализировать и сопоставлять, умение предупреждать и предвидеть, умение убеждать и возлагать доверие на тех, кто, по твоему собственному разумению, окажется наиболее достоин этого. Ты будешь сам распоряжаться, кому можно доверять, а кому нельзя. Ты будешь моим вторым сознанием, моей неотъемлемой частью, ты будешь тенью Ордена, завесой, покрывающей его тайну. Мой мальчик, я уже не молод, мне порой трудно охватить разом всю деятельность Ордена. Поэтому я избрал тебя для самого ответственного и деликатного задания и убежден, что именно ты на этом поприще проявишь себя наилучшим образом.
— Весьма благодарен вам, мессир, — с трепетом сказал Северин де Брие. — Для меня остается неразрешимой загадкой, почему вы для этой деятельности избрали именно меня, а не кого-то другого. Есть ведь немало в вашем окружении людей, достойных самых высоких оценок.
— Есть, брат мой, и есть действительно немало, — ответил Жак де Моле. — Но свой выбор я остановил на тебе и объяснить этого не могу… Должно быть, это был голос свыше, который дал мне подсказку… Видишь ли, Северин, возможно, в скором будущем Орден ждут большие и серьезные перемены. Возможно, случится так, что я не смогу в полной мере управлять этой огромной организацией. Возможно, существование Ордена перейдет в несколько иную форму или же окажется перед угрозой полного исчезновения…
— Я слушаю вас с внутренним трепетом, мессир…
— А мне приходится с трепетом говорить эти слова.
Жак де Моле сделал паузу. Он отпил вина из кубка, задумался. Северин, затаив дыхание, наблюдал за Великим магистром.
— Самое главное — это сохранить святыни, — произнес, наконец, де Моле. — И ты, брат мой, справишься с этим. Здесь, в Ренн-ле-Шато, на протяжении многих лет хранится Ковчег завета. Скоро я поеду в Англию и сам перевезу его туда — подальше от короля и папы, каждый из которых давно стремится им завладеть. В Англии есть надежное место, где Ковчег можно спрятать. Об остальных реликвиях и об архиве Ордена я тоже позабочусь в свое время. И ты, брат мой, непременно обо всем узнаешь.
— Ковчег завета хранится здесь?! — воскликнул Северин. — И в нем — каменные скрижали Моисея?!
— Да, брат мой, именно так, — ответил Жак де Моле.
Северин, всегда отличавшийся спокойствием и сдержанностью, вдруг поднялся с табурета и зашагал по трапезной. Сделав несколько шагов, он остановился, потом встал перед Великим магистром на колени.
— Мессир! — возвысив голос, произнес рыцарь. — С глубочайшей благодарностью я принимаю от вас это новое для меня назначение и клянусь все силы и всю жизнь положить на то, чтобы оправдать ваше высочайшее доверие ко мне.
— Я не сомневаюсь, мой мальчик, что сделал правильный выбор, — ответил тогда Жак де Моле.
…Спускаясь в подземелье церкви Святого Михаила, Северин вспоминал этот разговор с Великим магистром. Тогда, восемь лет назад, ему не удалось как следует рассмотреть святыню: он оставался у входа в пещеру, тогда как люди Жака де Моле, завернув реликвию в несколько слоев плотной серой ткани, вынесли ее из темноты многолетнего захоронения в темноту ночи и погрузили на телегу.
Великий магистр подошел к Северину и сказал, положив одну руку ему на плечо, а другой указывая на повозку за спиной:
— Брат мой, ты вскоре отправишься в Англию, где встретишься с ним. Наш преданный друг и брат Филипп де Мьюс поможет тебе обустроиться. Помни лишь одно: никто из христиан не может снять крышку с Ковчега, никто не может заглянуть внутрь — это привилегия избранных, для остальных — это мучительная смерть. Почитай Талмуд, и ты узнаешь об этом подробнее. А теперь прощай…
…И вот сейчас, приближаясь к святыне, Северин снова вспоминал эти слова Жака де Моле, и трепет снова охватывал его. Шуршал песок под ногами, потрескивал факел в дрожащей руке. Наконец, ступени кончились, и перед ним открылся проем, за которым угадывалась небольшая комната.
— Это здесь, — произнес де Мьюс, выглядывая из-за спины Северина.
Оба мужчины вошли в комнату, в которой едва ли могли развернуться три человека. Свет факела выхватил из темноты серые стены и низко нависший потолок.
— Ничего не понимаю! — воскликнул святой отец. — Как такое возможно?!
Северин холодно посмотрел на священника и повернулся лицом к выходу.
— Я не виноват, я ничего не знаю! — Голос де Мьюса дрожал. — Надеюсь, ты меня ни в чем не подозреваешь?
— Подозревать вас — значит растоптать веру. Этого я себе позволить не могу, — ответил Северин, шагнув обратно в коридор.
2
Снег растаял, сошел очень быстро, превратился в воспоминание. Водостоки приняли последнюю зимнюю влагу, помогли асфальту быстрее высохнуть. И во второй половине февраля пришла весна — еще робкая, осторожная, но все-таки настоящая. И всё проснулось, потянулось к свету, к теплу, к жизни. Разнообразие красок, звуков, запахов. Разнообразие лиц. И мыслей. И чувств.
Весной почему-то больше всего думается о начале — начале пути, начале отношений, начале творчества. С началом пути все ясно: билет на поезд или самолет, решительный шаг к новым горизонтам. Можно и пешком — просто уйти из дому — куда глаза глядят, лишь бы от прошлого. Тоже ведь начало. И в чем оно: в твоей мысли о том, что пора бы уже что-то поменять? Или в железнодорожной кассе, куда ты пришел за билетом? Или в том дереве, из древесины которого сделана бумага для билета?
С отношениями — тоже нет ясности. Когда они зарождаются, где тот самый — тот самый — взгляд? Или вздох, или мысль? В какой момент времени, в какой точке пространства? Что должно пересечься и почему, какая искра должна вспыхнуть? «Любовь с первого взгляда» — общепринятая формулировка. Чушь собачья — невозможно влюбиться от одного лишь первого взгляда! Мало этого, мало… А тембр голоса, а поворот головы, а жест, а запах волос или духов, а шуршание платья или шагов, да и сами шаги — их размеренность или их торопливость, а касание рук… Какое касание, спросите вы? Не было? А легкий ветерок от тела к телу, неощутимый, неосязаемый, как взмахи невидимых крыльев, а флюиды, что сталкиваются в полете навстречу друг другу — это не физика, это не подзаконно, а если все же физика, то из такой тонкой материи, куда еще не проникла со своими грубыми формулами человеческая мысль. Вот и касание! Начало…
Впрочем, в чем состоит начало творчества — разве с этим определением нет проблем? Да тут их еще больше! Творческий процесс непредсказуем, он вообще не поддается описанию, поскольку находится за гранью общепринятых схем, за гранью логики. Он приходит к тебе, сваливается из ниоткуда и захватывает тебя целиком — не отвертеться… Вдохновение — легкое, как бабочка над цветком, неуловимое, невесомое, просто несуществующее… Это то редкое, что подарено человеку Богом без всяких объяснений. Заметим — подарено далеко не всем. Почему? Разве не мог Творец приобщить к творчеству каждого, сделать всех гениальными? Наверное, мог, но как тогда можно было бы отличить великое от обыденного? Как можно было бы заметить «Сикстинскую мадонну» или «Джоконду» в ряду похожих полотен? Как можно было бы услышать Сороковую симфонию Моцарта или Первый концерт Чайковского, если отовсюду бы звучало нечто подобное? А Слово? Разве существует необходимость, чтобы Словом владел каждый? Если все будут писать — кто останется читателем? Это как в военной авиации: есть ведущие в звене, а есть ведомые. Кому-то дано принимать решения, а кому-то — им подчиняться. Кому-то дано говорить, а кому-то слушать. Следует только помнить, что Слово — это движение. Слово — есть воплощение мысли, выраженной устными или письменными символами. А поскольку сама мысль подвижна — вслед за ней подвижно и Слово. И пока это так — продолжается жизнь. И пока это так — ширятся страдания, потому что творчества без страдания не бывает. ОН так задумал…
* * *
«Перед тем, как уснуть, промелькнула в голове неясная мысль о тебе, не словами, а каким-то странным образом — как газо-пылевая туманность. Вот, жаль, что ты далеко и Атлас звёздного неба смотрю я одна. Много бы ты мне мог порассказать, думаю я, засыпая… И ещё думаю, смогу ли я за это время долететь до тебя мыслью? И за этот час приснился сон — тоже про тебя, только мы были не люди — а вот эти туманности, или частицы — мы носились где-то в космосе и никак не могли встретиться. Зазвенел будильник на телефоне, открыла глаза и никак не могла понять — кто я, где я… почему тут… и одна?.. ведь ты только что был рядом… и зачем я сюда сегодня — с утра… тут пусто и безлюдно… и не видно следов человека… за моим окном пусто и темно — и здесь пусто и темно также… я знаю, чтО это — это начало полярной ночи, начало пустоты и одиночества… я ничего не прошу… и пусть бывают в полярной ночи северные сияния — но у меня не та широта, чтобы им быть… да и когда взгляд всё время вниз… от того, что груз тяжек… трудно заметить сияние в небе… и Солнце… и Луну… заметишь отражённый свет, подумаешь: как счастлив тот, для кого они светят… без зависти — потому что понимаешь: раз Бог не дал, значит, недостойна… и бредёшь себе дальше своей дорогой… и глотаешь свои горькие слёзы, склонив голову… чтобы не увидал никто…
Я ведь начала писать — снова… уже несколько стихотворений тебе послала, ты мой первый читатель. Знаешь, Андрей, как-то так радостно от этого! Будто какая-то опора в жизни опять появилась, какая-то цель, что ли… писать, мучиться от того, что никак не подберешь слова… рифму… Тут только жаловалась, что в школе устаю, а сама про стихи… От них я не устаю, от них — тепло, от них — свет в душе, от них — смысл жизни, наверное… Пафосно сказала, да? Но это же правда. И всё это ты всколыхнул во мне! И волны, как на море, накатываются, накатываются… Прости, не могу думать о тебе только как о де Брие… не могу…
Боже мой, думаю, сколько в нём трогательной, щемящей этой нежности, этой осторожности, словно хрупкий сосуд в руках. Даже от того, кто со мной был наяву, в физическом плане, я не получала столько заботы, столько ласки… никто не спрашивал, хорошо ли мне, сладко ли, тепло или прохладно. А ты мягок, нежен и ласков так, как, наверное, ждёт женщина от любящего мужчины. Просто за всю мою жизнь никому не было интересно — про меня, что я чувствую, что я думаю, что меня огорчает или радует. Тебе — это интересно — всё. И почему считается, что по-мужски — это обязательно сухо и сдержанно. Мне кажется, по-мужски — это сильные чувства, это бережно и нежно, это так — как ко мне относишься ты. Думала ли я, что Бог мне даст такое счастье? И, наверное, всё-таки хорошо, что мы далеко. Представь, что я бы обрушилась на тебя со всею своею любовью в непосредственной близости. Наверное, крышу бы снесло у обоих. А так — можно жить без потерь. И знаешь, после твоих писем — хочется летать и всех любить — а уж тебя-то — целовать во все места, обнимать, залезть под руку и мешать работать, потом, нахохотавшись, сесть рядом, положить голову на колено и просто наслаждаться близостью тебя, покоем, умиротворением, пока ты работаешь… если ты сможешь, конечно, работать…
Прости, я не сдержалась, а удалять… не поднялась рука…»
* * *
«А знаешь, я, когда начинал писать стихи — в периоды школьных влюбленностей, — мне казалось, что так глубоко и проникновенно не пишет никто. Представляешь? Ну, в юности каждому, кто пишет стихи, кажется, что он — непревзойденный поэт. Я просто был поглощен всем этим: постоянно влюблялся и постоянно писал. Не то чтобы метался в своих чувствах, а просто мне хотелось любить всех! Полно было вокруг хороших девчонок, повезло! А количество любви, заложенной в меня, видимо, было достаточным именно для этого. Я уже тогда где-то в глубине души ощущал свою особенность, отличность от других, но не думал, что это всё настолько затянется — практически навсегда. И стихосложение, и душевные муки…
Я стремился отыскать адекватную форму своим мыслям, своему страданию, сначала юношескому, потом — повзрослевшему. Днем набирался впечатлений, терпел, не торопил событий, оставляя самое сокровенное ночи.
И ночь брала меня в плен — поглощала, впитывала, растворяла в себе, и в благодарность за это безропотное подчинение — дарила сверхъестественные, космические фантазии, насквозь пронизанные несносным ароматом эротизма. И результатом этих невообразимых и бесконтрольных полётов были не только обильные брызги физиологических соков, смущавшие и обескураживавшие по утрам (прости за натурализм), но и бешеные по ритму, по напору, по эмоциональному посылу стихи. Они рождались внутри меня, но вне моего разумения. Вскакивая на рассвете, я записывал их в тетрадь — торопливо, размашисто, не экономя бумаги, рука моя будто парила над листами, а слова, не дожидаясь написанного окончания, уже вспархивали в полёт, начинали жить самостоятельной, независимой жизнью — и будто радостно перекликались между собой, освобожденные из плена безмолвия.
Вот так, практически ежедневно, ежемесячно и ежегодно преодолевая и радость, и сложности жизни, я становился поэтом, и мало что из возвышенного, романтического прошлого счастья с годами оставалось жить во мне. Чем больших высот мастерства и постижения я добивался — тем угрюмее и мрачнее становился сам. Мне теперь виделась откровенной и понятной разительная несправедливость мира, искусно завуалированная под всякие привлекательные блага, щедро сдобренная обманом и обернутая в яркую упаковку. И я уже мог ее осязать, мог сделаться ее аналитиком, ее хронистом — но никогда не умел с ней бороться. А те стихи… я никому их не показывал, они в моих старых тетрадях, спрятанные от всех… Они давно умерли вместе со мной — прежним…
И вот прошло много лет — не знаю, сколько. И вот настало сегодня. И вот появилась ты. И пришло то, что должно было прийти. Пришло ко мне и к тебе — к нам. Наверное, для того, чтобы мы вместе что-то преодолели: в мире или в себе. И неизвестно еще, что важнее…»
ГЛАВА 14
1
Оба двухэтажных строения желто-серого цвета, принадлежавшие графу Гишару де Боже, каменными были только наполовину, потому что верхние этажи их представляли собой деревянные надстройки. Дом был старым, но еще вполне крепким, добротно сколоченным и практически ничем не выделялся среди других домов парижской знати, расположенных на улице Сен-Жак. Правда, молодой граф к знати себя не причислял, образ жизни вел довольно скромный, замкнутый и никогда не появлялся в королевском дворце в качестве гостя на каком-нибудь приёме.
Впрочем, его дом все-таки отличался от многих других — садом, который в конце апреля роскошно цвел и благоухал всеми возможными ароматами. Эти живые белые, кремовые и розовые запахи обновленной природы с трудом, но все же перебивали стойкое зловоние, доносившееся с набережной Турнель и окутывавшее весь двухсоттысячный город. Именно в саду теперь хотелось находиться жителям этого дома. Именно в маленькой деревянной беседке, устроенной между двумя яблонями и одной грушей, сидели тихим теплым вечером Ребекка и Эстель, мать и дочь, которым было о чем поговорить.
— Я хочу, чтобы ты рассказала мне про свою жизнь, — сказала Ребекка, с нежностью глядя на Эстель. — Поверь, мне это очень важно знать.
— Если бы вы на самом деле хотели о ней знать, то давно бы разыскали меня, — ответила девушка.
— Наверное, ты права, моя милая девочка, — согласилась Ребекка. — Я давно боролась с желанием покинуть монастырь и отправиться на поиски тебя.
— И что же вам помешало?
— Я боялась…
— Чего?
— Я боялась разочарования…
— Что вы имеете в виду?
— А ты не понимаешь?
— Кажется, понимаю, — ответила девушка. — Вы боялись узнать, что моя жизнь, скорее всего, в точности повторяет вашу собственную в молодости. Так оно и есть. Нет, так оно было. Вы разочарованы?
— Повторяет, — согласилась Ребекка, — но с той разницей, что в твои годы я любила молодого графа де Брие.
— А я — взрослого…
— Это разные люди.
— Мы с вами тоже разные.
— Эстель, милая девочка, почему ты относишься ко мне с такой прохладой? Если Богу было угодно соединить нас по прошествии стольких лет, почему бы нам самим не сблизиться, как родным людям, почему не шагнуть навстречу? Почему бы не открыть друг другу сердца?
— Но у меня к вам нет чувств, — ответила Эстель. Потом добавила: — Пока нет. Почти нет…
— И все-таки ты даешь мне надежду…
— Знаете, жизнь научила меня во всем рассчитывать на саму себя.
— Меня ведь тоже! — воскликнула Ребекка. — И однажды я сумела направить свою жизнь по иному руслу.
— Моя тоже потекла по иному руслу, когда я встретила дядю Венсана.
— Вот видишь, у нас на самом деле много общего. Расскажи, как ты познакомилась с ним.
— Вы в самом деле хотите это знать?
— Очень.
— Если честно… — начала Эстель и запнулась. — Если честно, я просто хотела заработать. Я подсела к нему в одной харчевне.
— Ты спала с ним?!
— Нет, что вы! Дядя Венсан сразу дал мне понять, что этого не будет. Я, конечно же, удивилась, почему он отказывается от моих услуг. Но он повел себя так, что мне вовсе перехотелось его соблазнять. Он сразу показался мне каким-то особенным. Это уж потом, позже, я узнала, что дядя Венсан — бывший тамплиер.
— Бывших, моя девочка, не бывает.
— Да, вероятно…
— И что было дальше?
— Я попросилась повсюду сопровождать его. В один миг захотелось изменить свою жизнь. Мне тогда казалось, что с ним я всегда буду в безопасности.
— А он согласился?
— Не сразу, конечно. Он везде бывал с Тибо, и я, наверное, показалась ему обузой. Потом мне удалось выполнить одно поручение, и дядя Венсан понял, что я не подведу его.
— И давно ты с ним?
— Примерно полтора месяца.
— А чем он занимается теперь, после того, как Орден распущен?
— Я толком не знаю, — честно ответила Эстель. — Мы ездили с ним в разные места, он с кем-то встречался, но я никогда не присутствовала при этих разговорах. Однажды я прямо спросила об этом, и дядя Венсан обещал рассказать, но до сих пор этого не сделал. Да мне и не нужно. Я понимаю, у мужчин могут быть серьезные секреты от женщин.
— Тогда я сама спрошу его об этом, — сказала Ребекка. — Полагаю, мне он не откажет.
— Дядя Венсан очень скрытный человек. Он не станет рассказывать о своих делах кому попало.
— Я не кто попало! — возразила Ребекка. — Меня с Венсаном де Брие связывают общие воспоминания. К тому же… когда-то он любил меня, и ты это знаешь.
— Это еще ни о чем не говорит. Любовь проходит — как аромат этих цветущих яблонь.
— Да, у кого-то проходит. Но бывает и так, что любовь остается в сердце, не смотря ни на годы, ни на испытания… Ты еще очень молода и не можешь этого знать. А я чувствую… И знаю…
— Что он вас по-прежнему любит?
— Да, Эстель.
— И думает о вас?
— Да.
— Странно, дядя Венсан ничем не проявил себя до сих пор. По-моему, его занимают совсем иные мысли. А те слова, что он вам говорил в часовне «Спасения Богородицы», могли быть всего лишь его оправданием прежних поступков…
— Если бы это было так, он бы не стал присылать тебя в монастырь. Он не из тех, кто совершает поступки или произносит слова по легкомыслию.
— А может быть, вы понадобились ему для чего-то иного?
— Может быть… — Ребекка задумалась. — Может быть…
— Он сказал, что скоро сюда должен приехать его брат Северин. Они не виделись много лет, и то, что дядя Венсан послал Тибо в Англию, означает только одно: он что-то задумал.
— И я выясню это сегодня же вечером.
— А Северин… — вдруг спросила Эстель, — он какой?
— Он… — начала Ребекка и замолчала, глядя куда-то вдаль — поверх высокого забора, за которым бронзовели закатные облака.
Пронеся через годы любовь и ненависть к одним и тем же людям, она просто устала выбирать между ними и решилась остановиться на том, что подсказывало ей теперь сердце. И сердце Ребекки не позволило женщине нарушить вселенский закон о гармонии, основой которого была Любовь.
— …он… особенный, Эстель, — закончила она фразу. — И я очень хочу, чтобы ты полюбила его так же, как люблю я.
* * *
Тем временем стемнело. В аспидном небе суетливо подергивались звезды. Улегся едва заметный с вечера ветерок, и стойкий аромат цветущих яблонь повис неподвижно, насыщая воздух нектаром.
Из двери, выходящей во внутренний двор, показалась высокая фигура, слабо освещенная дрожащей луковичкой огня. Фигура пересекла лужайку, свернула на дорожку сада и, неторопливо ступая, приблизилась к беседке, где Эстель и Ребекка, затаившись, наблюдали за ней.
Войдя в беседку, де Брие опустил на подставку глиняную плошку, в которой весело потрескивал сине-оранжевый фитилек, и робкое сияние осторожно коснулось одухотворенных женских лиц.
— Не спится, сеньор? — спросила Ребекка, глядя на лицо мужчины, в полумраке казавшееся задумчивым.
— А вам? — вопросом ответил тот, потом добавил: — Понимаю, матери и дочери нужно наговориться.
— Мы уже всё выяснили, не так ли, Эстель?
— Да, сеньора, — подхватила девушка. — Уже поздно, пойду-ка я спать.
Она поднялась, уступая место на скамеечке де Брие. А тот вдруг поймал в темноте ее ладонь и с несвойственной нежностью сжал на несколько секунд своими крепкими пальцами. Девушка вздрогнула и замерла, будто прикованная к месту этим нежданным проявлением чувств сурового и неприступного рыцаря. Глаза их встретились на мгновение и тут же скользнули мимо друг друга.
— Да, иди, девочка, — тихо сказал де Брие. — И возьми с собой огонь. А мы с твоей мамой посидим еще немного.
Он подождал, пока светлая фигура Эстель, прошуршав по дорожке, скрылась в доме, потом присел рядом с Ребеккой. В густеющей темноте апрельской ночи, будто подсвеченное изнутри ярким душевным пламенем, бледнело ее лицо. И она боялась дышать. Венсан де Брие придвинулся ближе, отыскал ее дрожащие пальцы, обхватил их ладонями. Это был чуждый, малознакомый предмет в его руках, и от того движения рыцаря становились неумелыми, трогательно робкими. И женщина чувствовала это.
— Мне так много нужно рассказать вам, — тихо сказала Ребекка, осторожно заглядывая в лицо Венсану де Брие и пытаясь угадать в темноте выражение его глаз. — Но еще больше хочется послушать вас…
— Меня? — удивился граф. — Разве ты не знаешь, чтО я могу сказать? Или ты думаешь, что два десятилетия скитаний выветрили из моей головы любовь, которой ты однажды пренебрегла?
— Но я полюбила вашего брата, как две капли воды похожего на вас! Разве это не означало, что я полюбила и вас тоже?
— Мы действительно похожи, но мы — не одно целое. Мы — две разных души и две разных плоти.
— Простите, сеньор, но я до сих пор не знаю, почему получилось именно так… — будто оправдываясь, сказала Ребекка.
— Этого не знает никто, — согласился де Брие. — Когда-то я посчитал, что время станет мне бинтом на раны памяти. Увы, я ошибался. Вступив в Орден, я дал обет безбрачия, и следую ему до сих пор. Но ни клятвы, ни походы, ни раны на полях сражений не вытравили из моей души того неподвластного объяснению чувства, которое однажды вспыхнуло в ней. И когда я случайно узнал, что ты находишься в монастыре, мне на короткий миг показалось, что можно попробовать всё возродить, можно вернуть молодость и с большим опозданием, но все же ступить вместе с тобой, Ребекка, на дорогу, ведущую к блаженству. Однако сегодня я слишком хорошо понимаю, что никому не дано дважды войти в одну реку. Ты сама точно так же, как и я, сохранила в себе настоящую любовь и пронесла ее через все годы. И пусть эта любовь была направлена на другого человека, я все равно склоняю голову перед твоей стойкостью и преданностью. Ты как никто иной достойна счастья!
С этими словами он приподнял руку женщины, хотел поднести ее к своим губам, но сдержался. Сердце Ребекки выпрыгивало из груди.
— Простите, сеньор, — едва слышно произнесла она, — я очень хочу надеяться, что так же будет думать ваш брат… Он ведь был равнодушен…
— Да, мой брат… он другой…
Де Брие вздрогнул и задумался. Ребекке показалось, что мысли рыцаря внезапно направились в другую сторону.
— Вы ведь не случайно позвали его в Париж? — осторожно спросила она. — После стольких лет разлуки…
— Да, не случайно, — подтвердил де Брие после паузы.
— Мне Эстель рассказала, что вы с Северином не виделись много лет.
— Это правда.
— А что же случилось теперь? Не станете же вы утверждать, что просто решили устроить нам встречу?
— Это тоже немаловажно, — ответил де Брие. — Но главная причина действительно не в этом, и тут ты права, Ребекка.
— А что же тогда? Надеюсь, вы расскажете мне?
— Расскажу, — согласился рыцарь. — Тебе расскажу.
В саду стало совсем темно. Ни де Брие, ни его возлюбленная уже не видели лица друг друга. Только ладонь Ребекки по-прежнему утопала в руке графа, и эти два сосуда — мужчина и женщина, — соединенные нежным прикосновением, будто представляли сейчас одно целое, неделимое существо с общим дыханием, с общей кровеносной системой.
— Тебе холодно? — с нежностью спросил тамплиер. — Ты вздрогнула.
— Да, стало как-то сыро.
Де Брие торопливо снял с себя тунику и, накинув ее на плечи Ребекке, сверху еще положил свою руку.
— А так?
— А так я готова слушать вас до утра.
— В этом нет необходимости, — сказал де Брие. — Скоро мы отправимся спать, но прежде… Но прежде я все-таки расскажу тебе то, что пока скрыто от всех и что будет еще какое-то время скрыто от всех, кроме тебя. И ты, Ребекка, узнав сейчас мою тайну, пообещаешь держать язык за зубами, пока я сам не сделаю эту тайну доступной для других людей.
— Обещаю, — с трепетом произнесла женщина.
— Тогда слушай. — Он перевел дыхание. Ребекка терпеливо ждала. — Есть на земле одна реликвия, сравниться с которой не может ничто другое. Эту реликвию однажды привезли во Францию из Иерусалима тамплиеры предыдущих поколений. Они надежно спрятали ее от всего мира только лишь для того, чтобы эта величайшая и единственная в своем роде ценность никогда не досталась неверным. И эта святыня — Ковчег завета.
— И в нем хранятся каменные скрижали Моисея?! — воскликнула Ребекка.
— Да, именно так.
— И где же он?
— А вот это я и пытаюсь сейчас выяснить, — ответил де Брие с легкой примесью досады в голосе. — След Ковчега утерян, однако существует архив Великого магистра, где обо всем должно быть сказано. И возможно, что очень скоро мне откроется эта тайна.
— Вы думаете, что Северин может вам помочь?
— Я в этом просто уверен.
— А зачем вам Ковчег, ваша милость? — наивно спросила Ребекка и почувствовала, как вздрогнул от этого вопроса де Брие.
— Понимаешь, — после паузы ответил он, — Ковчег — это не просто сундук с заповедями, начертанными на камне, хотя он сам по себе тоже является величайшей ценностью. Ковчег — это беспредельная сила и власть для того, кто им владеет. Ковчег — это способ прикоснуться к Тому, Кто сотворил этот мир, ибо сказано, что Он говорил Моисею: «Я буду открываться тебе и говорить с тобою над крышкою». Так оно и было, Ребекка, задолго до того, как началась новая история. Никто без опасности для жизни не мог смотреть на Ковчег или прикасаться к нему, поэтому он всегда был обернут специальной тканью. Тревожили Ковчег только тогда, когда сыны Израиля снимались со стоянки для путешествия. Ковчег они брали с собою, перевозили в середине войска, и над ним всегда висело облако. Ты понимаешь, что это было за облако? Присутствие Ковчега способствовало победам иудеев над врагами, с ним эти древние люди не проиграли ни одного сражения.
— Но… зачем он вам, сеньор? — уже с трепетом повторила свой вопрос Ребекка, в глубине души предчувствуя ответ рыцаря.
— Видишь ли, дело в том, что король Филипп давно охотится за Ковчегом завета. Я это знаю потому, что однажды он сам предложил мне послужить ему и заняться поисками. По большому счету, он и Орден разгромил для того, чтобы завладеть святыней. Король невероятно алчен и жесток, он способен не щадить врагов и цинично предавать союзников. Я хорошо знаю Филиппа и так же хорошо знаю, чем всё закончится, если вдруг Ковчег действительно окажется в руках этого человека. Вот почему я сам решил во что бы то ни стало отыскать святыню и потом уже спрятать ее так, чтобы Ковчег никому кроме меня самого не принадлежал. А я… я соберу новое войско, которому будут не безразличны идеалы христианства. С помощью Ковчега низложу короля Филиппа и построю во Франции цветущее королевство — мировой оплот веры и справедливости! И ты, Ребекка, могла бы стать в нем королевой!
— Иудейская женщина не может быть королевой Франции, сеньор, — робко возразила Ребекка, пораженная планами де Брие.
— Иудейская женщина, которую столько лет любит французский дворянин, достойна самой высокой вершины. Разве тебе не хочется этого?
— Я не знаю, как ответить на этот вопрос…
— Тебе и не нужно отвечать сегодня, — сказал де Брие. — Придет время, и ответ появится сам собой.
— Всё, что вы рассказали, сеньор, так опасно! Ваши поиски, скорее всего, сопровождают затруднения, люди короля наверняка следят за каждым вашим шагом…
— Да, ты права, — согласился тамплиер. — Но до тех пор, пока не найден Ковчег, я нахожусь в безопасности. А как только он отыщется, Филипп попытается убрать меня с дороги. Вот почему я позвал во Францию Северина. Мне нужен человек, надежно прикрывающий спину. И таким человеком может быть только родной брат.
— Господи! Я буду неустанно молиться о том, чтобы вы никогда не отыскали то, что ищете! — воскликнула Ребекка.
* * *
Рано утром, лишь только оранжевый солнечный диск выпарил вокруг себя все облака и с облегчением оторвался от горизонта, Венсан де Брие услышал в коридоре голоса. Один из них принадлежал Тибо, другой показался удивительно знакомым, но оставившим след лишь в далеких закоулках памяти.
— Северин! — вырвалось у де Брие. — Он уже здесь!
Рыцарь, который давно проснулся и просто лежал с закрытыми глазами, вскочил с кровати, наспех надел шоссы и так, с обнаженным торсом, распахнул дверь спальни. По слабо освещенному коридору шли двое мужчин в серых дорожных плащах и широкополых шляпах. Их движения были неторопливыми, мягкие полусапоги обоих не громыхали по деревянному полу, но сам пол под натиском тяжелых фигур скрипел нещадно. Мужчины приблизились к де Брие, замершему в проеме двери, и остановились. Свет из спальни падал на их лица.
Тибо снял шляпу и учтиво поклонился хозяину, но де Брие даже не посмотрел на него. Взгляд тамплиера был прикован ко второму утреннему гостю. Статная фигура, высокие плечи, гордая осанка и прямой взгляд темных и пронзительных глаз — всё напоминало Венсану его самого, будто он просто смотрелся в зеркало. Так и стояли они какое-то время, отражаясь один в другом.
— Как видишь, я принял твое приглашение, — глухим голосом сказал Северин. — Здравствуй, брат!
— Здравствуй, брат! — воскликнул Венсан. — Ты не представляешь себе, как долго я ждал этой встречи!
Они сблизились и обнялись, тиская друг друга могучими руками. Рядом, застенчиво улыбаясь, топтался Тибо. Он давно представлял себе эту встречу и все же, привыкший к суровым мужским отношениям, не мог наблюдать за объятиями двух рыцарей без умиления.
Через несколько мгновений братья де Брие вошли в спальню. Северин быстро оценил скромный интерьер комнаты.
— Здесь жил Гишар де Боже? — спросил он.
— Это спальня для гостей, — ответил Венсан. — Впрочем, покои хозяина немногим отличаются от нее. Гишар вел очень скромный образ жизни, в душе он был настоящим тамплиером.
— Тибо рассказал мне, что он уехал отсюда и оставил дом в твое распоряжение…
— Да, так сложились обстоятельства, и я тебе потом всё расскажу. Молодой граф обещал написать, когда устроится в своем родовом имении.
Тем временем Тибо, выйдя из тени коридора, возник на пороге, и его глаза теперь настойчиво искали встречи с глазами хозяина. И когда Венсан де Брие коротко посмотрел на слугу, он успел прочитать на лице бывшего оруженосца полный отчет о поездке в Англию.
— Можешь отдыхать, Тибо, — сказал рыцарь. — Ты славно поработал и сегодня больше не понадобишься.
— Слушаюсь, сеньор.
Когда бывший оруженосец удалился, Венсан де Брие еще раз обнял брата и усадил его на жесткую кровать, с которой минуту назад вскочил сам.
— Отдохнешь с дороги? — спросил он, усаживаясь рядом. — Извини, более мягкой постели я предоставить тебе не могу. Матрац набит конским волосом, и когда-то о таком ложе в Аравийской пустыне мечтали многие тамплиеры.
— Отдохнуть я еще успею, — ответил Северин. — Полагаю, ты не для того меня вызвал во Францию, чтобы я в первый же день завалился спать.
— Ты прав. И возможно, отдыхать нам с тобой по-настоящему доведется не скоро.
— Всё так плохо?
— А что может быть хорошего там, где всё замешано на предательстве и интригах?
— Ты имеешь в виду разгром Ордена?
— И не только.
— Я, конечно, не осведомлен обо всём, что происходило и происходит во Франции. Так, доходили кое-какие известия…
— Тебе повезло, что ты оказался по ту сторону пролива, — сказал Венсан. — Такой напряженности, как была здесь в последние четыре года, я не испытывал даже в походах.
— Но ты, Венсан, каким-то образом остался невредим…
— Ты тоже. В Англии с этим было проще, хотя и там, как я знаю, многим довелось непросто.
— Стало быть, мы оба — игроки, а не пешки, не так ли?
На этот раз Северин пристально посмотрел в глаза брату, вероятно, пытаясь отыскать в их глубине давно знакомые искорки.
— Вероятно. — Венсан де Брие отвел взгляд. Он понял, что не стоит нажимать, не стоит торопить события, что разговор нужно пока повернуть в иную сторону. — Мне так много хочется узнать у тебя!
— А мне у тебя, брат, — ответил Северин. — В частности, о том, что именно ты знаешь о Ковчеге.
— Ты прямо сейчас хочешь обсудить главную тему? — Венсан удивленно поднял брови. — Может быть, ты мне сначала расскажешь, как решился служить Ордену? Или я сначала расскажу, как нашел Ребекку?
— Знаешь, Венсан, мы с тобой так долго не виделись, что ты просто не можешь знать о моих привычках и склонностях. Равно как и я — о твоих. Мы оба изменились, не так ли? Того юноши, с которым ты расстался двадцать лет назад, давно уже нет. Есть достаточно взрослый человек, научившийся прежде всего решать главные задачи, второстепенные оставляя на потом.
— Представь, что я также этому научился!
— Тогда не будем откладывать наш разговор.
— Как скажешь, Северин, — согласился Венсан. — Позволь только мне распорядиться насчет завтрака?
— Вот это дело! Со вчерашнего вечера ничего не держал во рту.
— Но у нас тут принято завтракать всем вместе…
— Кому это всем? — переспросил Северин. И добавил, улыбнувшись: — У тебя тут целый отряд?
— Мне, Ребекке и еще одной девушке, — ответил Венсан без улыбки.
— Что еще за девушке? Неужели мой брат, рыцарь-тамплиер, завел себе любовницу?!
— Поверь, Северин, даже после того, как Орден был разгромлен, даже после того, как я сбрил бороду, сменил одежду и перестал отличаться от любого французского ремесленника или торговца, я не изменил уставу тамплиеров и не запятнал свою честь ни одной порочащей меня связью!
— Это более чем похвально, брат, — ответил Северин. — Представь, что то же самое я могу сказать о себе.
— Я не сомневался, что ты — настоящий рыцарь!
— Твой пример в какой-то степени подвигнул меня ему последовать. Правда, только через пять лет после того, как ты покинул наше имение.
— А отец?
— Я ухаживал за ним до последних его дней. А когда отца не стало, не осталось и того, что могло бы удержать меня в нашем доме. И я пошел по твоим стопам.
— Но наши дороги за все эти годы никогда не пересекались!
— Так распорядилась судьба, — вздохнул Северин, потом добавил, слегка прищурившись: — А ты сам хотел этого?
— Если честно, я думал об этом меньше всего, — ответил Венсан. — Мне доставались весьма ответственные должности в Ордене, было просто некогда предаваться лирическим воспоминаниям…
— Вот-вот, и у меня то же самое… Я писал тебе когда-то.
— А я тебе.
Они помолчали, потом Венсан спросил, будто спохватившись:
— А кто посвящал тебя в рыцари, кто принимал в Орден? Может быть, я знаю этого человека.
— Еще бы ты его не знал! Это был сам Великий магистр.
— Странно… — протянул Венсан. — Я был довольно близок с ним, особенно в последние годы. Но он никогда даже не обмолвился о тебе…
— Может быть, у Жака де Моле были на наш счет особые планы?
— Ты думаешь?
— Не исключаю.
— Как бы там ни было, теперь мы сами будем решать свои судьбы, — заключил Венсан. — И судьбы тех, кто нам близок и дорог.
— Ребекки и той девушки?
— Ее зовут Эстель. Это дочь Ребекки.
— Дочь? Ты уверен?
— Да, уверен.
— И сколько же ей лет сейчас?
— Девятнадцать, Северин, девятнадцать!
— Постой, это что же получается, Ребекка была беременна, когда…
— Да, брат, именно так! Она призналась мне, а я рассказал об этом отцу. Если ты помнишь, я, так же, как и ты, очень любил Ребекку, но побоялся просить у отца благословения для себя и попросил его для тебя. Но ты же знаешь нашего отца! Он просто рассвирепел, он метал молнии и громы! У нас был долгий разговор, Северин, поверь. В конце концов, я согласился с отцом. А дальше ты знаешь.
— Но почему я ничего об этом не знал тогда?
— Ты был поглощен своим богословием, а Ребекка любила тебя и не хотела навредить. Поэтому она призналась именно мне, полагая…
— Не продолжай! — Северин поднялся с кровати, сделал несколько шагов по комнате. — Почему ты сам не рассказал тогда мне?
— Если честно, я боялся, что ты можешь наделать глупостей.
— И поэтому ты позволил, чтобы Ребекка ушла?
— А ты бы смог повлиять на волю отца? Или ты не помнишь наши семейные правила?
— А честь женщины? А справедливость, Венсан?
— В тот момент мне была дороже честь семьи. Да, Северин! Возможно, я поступил подло по отношению к женщине и к тебе. Возможно, я буду за это наказан — там, на небесах. Я уже просил прощения у Ребекки, просил в письме прощения и у тебя. Поверь, мне было непросто жить с этим. Вступление в Орден, полагал я, как-то залечит рану, выветрит из головы воспоминания…
— А каково было мне, оставшись в доме, постоянно думать о том, что лишь вчера в этой комнате мы вместе с Ребеккой смеялись, лишь неделю назад играли в прятки в саду, несколько дней вместе сочиняли рондо? То и дело мне слышался отовсюду ее звонкий голос…
Венсан обнял брата за плечи, прижал к себе. Потом спросил тихо и проникновенно:
— Ты любишь ее до сих пор?
— Не знаю…
— Она, наверное, колдунья, брат. Ей удалось свести с ума двух молодых дворян, ставших впоследствии рыцарями, давших обет безбрачия только затем, чтобы не предать своей первой любви!
— Она не колдунья, она… богиня, брат…
— Вот ты и ответил на мой вопрос. А что бы ты сделал тогда, если бы всё узнал?
— Я бы ушел вместе с нею! И будь что будет!
— А вот и глупость! Тогда это была бы глупость, разве не так, Северин?
— Возможно. И каждый из нас прожил бы иную жизнь…
— Да, ты прав, — задумчиво сказал Венсан. — И в этих иных жизнях мы могли бы уже никогда не встретиться. Но случилось то, что должно было случиться, что было написано в наших книгах судеб. И лишь теперь, после стольких лет разлуки и скитаний, мы вместе, мы снова все вместе, и должны сделать так, чтобы нам всем было хорошо в этом мире. Ты согласен?
— Согласен.
— И мы с тобой не будем соперниками, брат? Как не были соперниками тогда…
Северин поднялся, задумался, долго глядя в окно на проснувшуюся улицу. Потом вдруг резко повернулся к Венсану.
— Они знают? — спросил он. — Я имею в виду женщин…
— Они знают то, что должны знать, — ответил Венсан и опустил голову. Потом добавил с грустью: — И она по-прежнему любит тебя, брат…
* * *
Венсану де Брие за завтраком досталась роль пассивного наблюдателя. В центре внимания, и это было неудивительно, оказался его брат. Обе женщины не сводили с него своих бархатных черных глаз, только наполнены эти взгляды были по-разному. Ребекка не могла скрыть внутреннего ликования и восторга, Эстель проявляла довольно сдержанное любопытство.
По этой же причине и беседа между ними разделилась на два на первый взгляд не связанных между собой диалога: Ребекка, пронесшая свою любовь через десятилетия, наслаждалась теперь обликом и голосом Северина, Эстель же, будто не обращая на них внимания, разговаривала с Тибо, приютившимся на краю стола.
— А почему ты вернулся без Луи? — спросила она. — У него отдельное поручение от дяди Венсана?
— Нет, что ты! — уверенно ответил Тибо. — Просто Луи решил вернуться не сюда, а к своей прежней жизни. Всю дорогу он жаловался на то, что ему трудно, что он сильно устаёт в поездках, что не привык подчиняться кому бы то ни было и хочет снова стать вольной птицей.
— И что? Дядя Венсан отпустил его?
— Как видишь, Эстель. У нас был договор: после поездки в Англию хозяин отпустит Луи.
— Это правда, дядя Венсан? — не унималась девушка.
— Что? — переспросил де Брие. Он был рассеян, чего раньше за ним не замечал никто. Он не мог собрать вместе даже несколько коротких мыслей: они разлетались от него, они ускользали, как бабочки ускользают от сачка энтомолога. — О чем вы?
— Это правда, что вы отпустили Луи?
— Да, правда.
— А вы не боитесь, что он может кому-нибудь проболтаться о том, чем занимался с нами?
— Он не проболтается, милая девочка, — задумчиво ответил де Брие. — Он дал мне клятву, и я ему поверил.
— А мне все время казалось, что Луи себе на уме. Я просто боялась об этом говорить…
— Напрасно, — ответил рыцарь. — Обо всех своих подозрениях ты должна была мне говорить немедленно.
— Я не знала. У вас свои, мужские правила…
— Но однажды ты приняла их, не так ли?
— Да, это правда. И я до сих пор не жалею об этом.
Глаза Эстель засветились гордостью. И еще вспыхнуло в них что-то такое, о чем женщины предпочитают умалчивать.
— Я думал, что уже никогда не увижу тебя, — сказал тем временем Северин, глядя на Ребекку.
В его глазах вместе с пламенем отважного воина была еще какая-то едва уловимая мягкость, почти смиренность, присущая людям глубоко верующим не только в Бога, но и в земную справедливость, поборниками которой они сами являлись.
— Это я думала так, сеньор… Вначале. Но я молилась, долго молилась, чтобы Господь не оставил меня в одиночестве. И вот…
— Мы встретились, и мы сидим за одним столом — как в юности. Только в другом доме, в другом городе. Да и сами мы — другие…
— Мы другие только внешне, — поспешила вставить Ребекка. — Годы изменили наш облик, но не состарили наши сердца. Во всяком случае, моё трепещет, как тогда… вы помните?
— Да, я понимаю, о чем ты говоришь, Ребекка, — кашлянув, ответил Северин.
— И еще у меня есть прекрасная дочь!
— Да, она унаследовала все твои лучшие черты.
— И не только мои, сеньор!
— Да, конечно…
Северин де Брие отвел взгляд, перевел его на брата, но тот хмуро молчал, уставясь в одну точку.
— А какой Лондон, Тибо? — воспользовавшись паузой, спросила Эстель. — У тебя было время погулять по городу?
— Конечно, было. Его милость дал мне достаточно денег для того, чтобы я посетил самые лучшие заведения английской столицы.
— Брось! Неужели ты только и делал в Лондоне, что сидел по кабакам?
— Нет, конечно. Я видел Темзу, на этой реке стоит город. По размерам он такой же, как Париж. Только несколько дней кряду шел дождь. А река шире Сены — мне так показалось.
— А женщины, Тибо?
— Что ты имеешь в виду?
— Англичанки — они красивы?
— Так себе, — покривился Тибо. — Если бы ты жила в Лондоне, непременно бы считалась первой красавицей!
— Да ну тебя! — Девушка порозовела, но было заметно, что ей приятны слова Тибо. — А в каком доме ты жил там?
— У графа небольшой, но довольно крепкий домик, — ответил Тибо, покосившись на Северина де Брие. — Возможно, ты когда-нибудь побываешь в нем.
— И я? — спросила Ребекка, обращаясь к английскому гостю.
— Жизнь покажет, — уклончиво ответил тот.
2
«Я знаю! Я теперь всё знаю про де Брие! Когда ты ушла спать… когда Эстель ушла спать, мы говорили с Ребеккой… и он открыл ей всё! Свои планы, свои мысли. Хочешь, я расскажу тебе раньше, чем ты узнаешь — во Сне? Или подождать, пока тебе самой станет известна истина?
Когда ты ушла… а мы остались… Что это было? Мне не повторить этого состояния никогда — да и нужно ли? Оно должно быть и оставаться единственным, его нельзя испытывать многократно, его нельзя тиражировать. Я даже не представлял себе, что можно так любить — так… Мне, человеку двадцать первого столетия, мне, прагматику и где-то даже цинику, — сие было неведомо никогда. А теперь открылось, будто с удивительной щедростью кем-то подарено… Это что-то особенное… Мне сорок, но я держу за руку любимую женщину — и мне снова двадцать! И сердце колотится, как в юности. И трепет ожидания, и трогательная нежность, которую не может огрубить ни средневековое дворянское происхождение, ни рыцарское прошлое со всеми его ужасными чертами. Разве такое возможно в наши дни?
Сейчас в моде расчет и брачные контракты. Деловые, партнерские отношения… Я не скажу, что сплошь и рядом, но — очень много. А где же чувства, где то высокое, небесное, божественное, к чему стремились люди на протяжении своей истории? Где то, что сформулировано было еще в античности и развивалось, и преображалось, и наполнялось новыми красками на протяжении двадцати веков? И к чему в итоге пришли? Самцы и самки, мачо и сексапилки… Хочется кричать: эй, опомнитесь! Оглянитесь вокруг — вы прекрасны! Люди, остановите деградацию душ! Но никто не услышит… Понятие «любовь» стало неуместным в этом жестком и жестоком мире. Вопрос: «Ты что, влюбился?» — звучит, как насмешка. Говорить о чувствах — не принято, теперь это чуть ли не дурной тон. Как всё перевернулось — в одночасье, мы даже не заметили, когда… Выходит, это наша ошибка, наш недосмотр — людей среднего поколения…
Нет, свою дочь я воспитываю правильно, по-нашему. А много ли таких девушек теперь? И парней. Тебе, конечно, виднее — перед тобой каждый день десятки подростков, со своими судьбами, со своими взглядами и пониманием жизни. И может быть, я не прав, утверждая, что мир катится к катастрофе духовности? Поругай меня за это, докажи обратное, если сможешь…
Сегодня утром вдруг сочинилось кое-что. Как в юности — встал и записал торопливо. Показываю тебе без правок — как получилось.
Я думал: время станет мне бинтом на раны памяти… Но как я ошибался, когда опять в подробности въедался, ненужные и странные при том! От искренности маленьких стихов — до вычурной нелепости романов — все улеглось во мне до потрохов, до боли в сердце, до пустых карманов. Все соткалось в отрезок полотна — сплошной поток душевных упражнений, но даже греки в поисках руна не испытали столько унижений. И я устал, устал от немоты, с которою так много лет батрачил. Ах, как смешно — лишиться высоты, той, что однажды сам себе назначил!..Вот, такие строки…»
* * *
«Андрей, ты еще и романы пишешь? В стихотворении мелькнуло, так ведь? Я думала — только собираешься… Воистину, человек — безграничен! Ни за что бы не подумала. Мне кажется, что после стихов, и времени-то нет на что-то большое, даже на рассказы какие-нибудь. Это же не поэзия — когда поймал вдохновение и воплощай на бумаге или в компьютере. А сюжет, а построить его и строго следовать, а целый ряд героев да со своими характерными чертами, а привязки-зацепочки там всякие… Как найти время на это? Как ты-то находишь? Ну, удивил, ну, сразил наповал! Представляю, какие у тебя романы… Нет, глупая, не представляю. Ты же такой… непредсказуемый, глубокий, разносторонний… О чем ты пишешь? Хотя бы жанр… Наверное, что-то классическое, как у Диккенса или Тургенева? Может быть, уже издал что-то? Прости за дурацкие вопросы, но — действительно смята, ошеломлена открытием тебя, как прозаика. Боже! За что мне это всё? И после этого ты хочешь, чтобы я тебя… разлюбила? Нет, ты этого не говорил, но мы подобное обсуждали… Прости — теперь, даже ничего из твоей прозы не читая, — НИКОГДА!
Я теперь хожу и разговариваю с тобой. Я писала однажды, что такое со мной происходит, но то было по-другому: я читала вслух твои стихи, спрашивала о чем-то, сама себе отвечала от твоего имени… А сейчас… поменялась тема: просто не укладывается в голове, что ты можешь быть ещё чей-то. Жены, которую ты очень любишь, дочери, в которой души не чаешь. Да что это я! Ты — ничей, ты — САМ, это мы все — твои, и я в том числе. Надеюсь… Знаешь, есть такой народ в Индии — сикхи, так вот я читала однажды, они молятся, чтобы их постигла судьба собаки — не бродячей и никому не нужной, а собаки, у которой есть хозяин, которому она может служить и которого она будет слушаться, который следит за ней и кормит. Вот вспомнилось сейчас отчего-то… я бы тоже хотела, если бы хозяином был ты. Лечь на полу, положить голову на лапы и следить из-под бровей, как ты работаешь, или с дочерью беседуешь, или пошёл куда — вскочить и за тобой, виляя хвостом от радости, гулял бы со мной… со своей — мной…
Все время мечтаю — это у меня с недавних пор ниша такая, «мечтальная»… Лягу в постель, например, обниму подушечку, глаза закрою… и вдруг дом со стеклянными дверями, большими — прямо в сад, в лето… ни ступенек, ни веранды… сразу лужайка изумрудная — и сад — но не фруктовый… деревья старые — липы, ясени с плодами — крылатками, знаешь? — кроны раскидистые, в их тени на лужайке стол со стульями — там ты в светлых парусиновых штанах, немодных сейчас, в белой рубашке… чеховский такой персонаж… стеклянные двери открыты… и я несу чай… Только сейчас там зима, двери заперты, под них снегу намело по самые стекла… я стою у окна, гляжу на голый сад, кутаюсь в большую шаль… а ты встаёшь из-за стола, где что-то писал, не на компьютере, конечно, а — пером, как в старину… подходишь сзади… и я чувствую уже твоё тепло… твои объятия… подбородок на моём плече — ты хочешь смотреть за окно с той же точки, что и я… Но не бывать же этому никогда, боже мой! Но, может быть — когда-нибудь… в другом времени… в другой реальности…
…А дети мои — действительно разные. Есть и такие, о которых ты говорил. Есть возвышенные, нежные, трогательные такие, как не от мира сего… С ними интересно — мне, во всяком случае. Они учатся у меня, а я — незаметно — у них… Только иногда страшно становится именно за таких — как жизнь сложится в этом суровом циничном времени, которое им и нам досталось? Смогут ли уберечься, пройти через всё? И кто поможет? Не у всех же родители, как Андрей Глыбов…
Вот… поймала себя на мысли о том, что у меня комплекс начал развиваться — боязнь несоответствия тебе… Страшно и стыдно…
Я даже как-то о де Брие позабыла, о Сне… Напиши, конечно, что он там придумал. Или ты? Нет — он…»
* * *
«Инночка, ты не поверишь — речь идет о Ковчеге завета! Тебе, конечно, известно, что это такое. Не сундук со скрижалями, как таковой, а — символ, древнейшая реликвия, космическая энергия, в нем заключенная… И де Брие замахнулся на это! Да, в последнем Сне мне открылись его замыслы. Сильный человек. Волевой! Горжусь, что именно мне доверили эту роль… там, на небесах доверили… или где? Справлюсь ли? Им движет не алчность — это очевидно. Им движет большая любовь, и она поможет преодолеть все преграды! Я верю. По всей видимости, скоро наступит конец, и мы доберемся до финала этой захватывающей истории… Даже как-то не по себе становится от ощущения близкой развязки. Напиши мне, что ты об этом думаешь…»
* * *
«А я думаю… А я думаю… не так, как ты, Андрей. Ты удивлен? Сейчас попробую пояснить… Мне просто страшно… Страшно от того, что Ковчег, с которым связано столько тайн, вдруг отыщется, у него появится хозяин… Даже такой, как де Брие, которого я люблю во Сне… Здесь что-то не так, Андрей, что-то не так… Не случайно это всё, понимаешь? Как тебе объяснить… не подберу слов никак… нас к этому подключили не случайно…
Вот, прилетела откуда-то мысль, заставила вздрогнуть, но сразу просветила меня, будто подсказала верное решение. Оно огорошит тебя, наверное — мне так кажется… Просто я хочу в глаза твои посмотреть, они теперь очень нужны мне, живые твои глаза, я только тогда смогу что-то сформулировать… свой страх и свое понимание всего происходящего… только тогда…
Господи, почему это случилось с нами?! Мы так далеко и так нужны друг другу — именно теперь, когда что-то главное происходит в мире… я так это вижу, Андрей…
В самом начале нашего общения я сказала, что даже не хочу знать, из какого ты города и вообще, мне достаточно было читать стихи и письма. Сейчас — не достаточно. Что-то поменялось, Андрей. И это не мои уловки, чтобы тебя как-то заполучить… Фу, написала — и самой противно и гадко от этой мысли. Я не такая, ты же знаешь. Тут другое, пойми. Я чувствую… это интуиция, наверное… На всякий случай скажу, а вдруг ты где-то рядом. Мой город — Приморск, и если ты каким-то чудом сможешь приехать, хоть ненадолго, хоть на одну встречу, то я расскажу, где бы мы могли увидеться… Хотела сказать: только поторопись, не то может случиться что-то непоправимое — во Сне… можем не успеть… Потом поняла: как я могу тебя торопить? Глупая. Прости… Просто постарайся… Это очень важно… Интуиция…»
* * *
«Я знаю Приморск, я даже… бывал в нем… и я постараюсь…»
ГЛАВА 15
1
— Что ж, Венсан, вернемся к нашему разговору?
— Мне кажется, мы его еще не начинали.
— Тогда начнем?
После завтрака братья де Брие отправились в сад и уединились в той же беседке, где накануне поздно вечером Венсан разговаривал с Ребеккой. Они не хотели пока выходить из дома на улицу, не хотели, чтобы их, похожих друг на друга и оттого еще больше приметных, видел кто-нибудь в городе.
День выдался пасмурный. Солнце, с утра обнадежив, очень скоро огорчило парижан, спряталось за курчавым облаком, вальяжно разлегшимся посреди неба, и не торопилось выходить из тени. Из этого облака лениво падали капли дождя — редкие и ненавязчивые.
— Начнем. И сразу ответь на вопрос: что ты знаешь о местонахождении Ковчега?
— Я знаю то, что, вероятно, знаешь и ты, — уклончиво ответил Северин.
— Меня это не устраивает! — повысил голос Венсан. — Брат, я искренне надеюсь, что вместе мы обязательно отыщем его!
— Тогда и ты ответь на вопрос: зачем?
— Как зачем? Ты же читал моё письмо. Мне казалось, что я доступно всё изложил.
— Но я хочу еще раз услышать от тебя.
— Сколько лет ты живешь в Англии?
— Около восьми.
— И за эти годы ни разу не был во Франции?
— Нет.
— Тогда ты совсем не знаешь, что из себя представляет король Филипп.
— А ты мне расскажи, брат.
— Тут и говорить нечего. Филипп задолжал Ордену огромную сумму денег, из-за чего, собственно, и захотел с ним расправиться. Он жесток и абсолютно бесстрастен, он способен на любую подлость, его коварству нет предела, брат! При всей его улыбчивости и манерности, на уме у этого человека всегда интриги. Он способен улыбаться, подписывая смертный приговор. Он вкрадчив, но никогда не бывает навязчивым. И он щедр только тогда, когда рассчитывает на многократно бОльшую выгоду для себя. Я хорошо знаю короля и отчасти посвящен в его планы.
— Каким образом, Венсан? У тебя есть свои люди в окружении Филиппа?
— Да, есть. Но я скажу больше: я сам однажды мог стать одним из таких людей. Это другая история, Северин, поверь. Так вот, мне известно, что совсем скоро король собирается начать военный поход на Фландрию. Он хорошо понимает, что без поддержки рыцарей ему трудно будет собрать сколько-нибудь мощное, боеспособное войско. Вот почему, разгромив наш Орден, Филипп поставил своей новой главной целью отыскать Ковчег завета. Тебе хорошо известно, брат, какой невероятной мощью обладает эта святыня, и какую силу она придаёт тому, кто ею владеет. Если Филипп доберется до Ковчега, он сможет с его помощью покорить не только Фландрию, а и всю Европу! Но у этого негодяя не должно ничего получиться! Вот почему я собираюсь во что бы то ни стало воспрепятствовать планам короля. Я хочу сам отыскать Ковчег и перепрятать его так, чтобы ни одна живая душа на земле не знала места его хранения. Мне известно, что Ковчег находится где-то на территории Франции. Я ездил в Кампань-сюр-Од, где надеялся встретить тебя, поскольку был уверен, что ты еще служишь в этом командорстве. Я спускался в пещеру с тайником в Ренн-ле-Шато. Теперь я знаю, что Ковчега там нет. Но где же он тогда? И я спрашиваю тебя, Северин, что ты знаешь об этом? Я рассчитываю на тебя, брат. Одному мне не под силу справиться с этим.
— Я всё понимаю, Венсан, — тихо и рассудительно ответил Северин, — и я приложу все усилия, чтобы осуществить задуманное тобой. Но я не знаю, где и кем спрятан Ковчег, я не знаю, где его искать…
— Ты говоришь правду, Северин? — Венсан прямо посмотрел на брата. — Как на духу?
— А почему ты мне не веришь? — вопросом ответил Северин, не отводя взгляд.
Венсан помялся, но не стал отвечать на вопрос. Ему не хотелось смущать брата подозрениями, хотя слова Эмильена-левши о многочисленном багаже Северина, отправлявшегося в Англию, не шли у него из головы.
— Жаль! Мне искренне жаль! Ты убил во мне последнюю надежду! — воскликнул он, затем вскочил со скамейки, вышел из беседки и несколько раз обошел ее кругом. Северин искоса наблюдал за перемещениями брата.
— Недавно мне удалось обмануть Филиппа, — сказал тот, останавливаясь. — С помощью Гишара де Боже я вскрыл тайник в подземелье Тампля, который устроил там Жак де Моле.
— И что же в нем хранилось?
— Так, побрякушки, — небрежно ответил Венсан. — Но это мелочи. Главная ценность — это архив Ордена! И Гишар увез его подальше от Парижа и любопытных глаз.
— Полный архив Ордена?!
— Именно, Северин! За двести лет существования. И там, я уверен, есть сведения о Ковчеге!..
— Так это же меняет дело! — воскликнул Северин. — Надеюсь, Гишар — надежный малый?
— Я доверяю ему, как самому себе. И в ближайшее время жду от него весточки.
— А ты уверен, что никто не проследил за Гишаром?
— Следят за мной, — сказал Венсан, глядя на Северина. — Причем, давно следят люди короля. Я это знаю так же хорошо, как и то, что со мной захотят расправиться, как только я найду то, что нужно и Филиппу, и мне! И я позвал тебя на помощь, брат. Им не одолеть нас двоих!
— Но им и не найти Ковчега! — воскликнул Северин. — Я уверен, что наши предшественники как следует позаботились о его сохранности. Зачем же тебе предпринимать какие-то попытки, если ты хорошо знаешь, что за тобой следят? Это нелогично, Венсан! Ты сам становишься инструментом в чужих руках. Ты сам наводишь чужую стрелу на мишень.
— М-да, ты прав, — согласился Венсан, почесав подбородок. — Вот видишь, со стороны виднее. Не зря я тебя все-таки позвал в Париж!
— Наверное, не зря, — ответил Северин. Он помолчал, потом добавил с прежней рассудительностью: — Так ты говоришь, что за тобой следят? А что если нам поиграть с ними в «кошки-мышки»?
— Что ты имеешь в виду?
— Кажется, я придумал, как навести ищеек Филиппа на ложный след.
— Так расскажи!
— Слушай. Как ты думаешь, брат, где сейчас больше всего ушей?
Венсан де Брие взглянул на Северина и на мгновение задумался. В его глазах мелькнула догадка.
— Ты имеешь в виду то место, где дует бриз?
— Именно! Так давай дадим этим ушам то, что они хотят услышать!
* * *
В начале мая, когда в Атлантике открылся новый сезон активного мореплавания, в тихой гавани Ла-Рошели началась бурная жизнь. Норманские кнорры с вызывающе поднятыми штевнями, венецианские крутобокие и неуклюжие нефы, ганзейские высокобортные когги — теперь им было тесно в бухте Эгюйон. Десятки торговых и военных судов, преодолевая неприветливые воды Бискайского залива, практически ежедневно приходили сюда из всех уголков Европы и Северной Африки и уходили отсюда — привозя во Францию и увозя из неё самые разнообразные грузы.
В эти горячие дни в харчевне возле Старого порта было многолюдно и от этого шумно. Моряков самых разных мастей и кровей можно было увидеть тут: от бесцеремонных и кичливых пиратов с красными лицами и бегающими глазами до молчаливых и деловитых купцов, у которых животы пухли с тою же скоростью, что и кошельки; от жилистых, загорелых греков с обветренными лицами до светловолосых и флегматичных скандинавов или рыжих ирландцев, иногда веселых и разговорчивых, а иногда обидчивых и драчливых. Для каждого в заведении Эмильена-левши находилось угощение и вино по вкусу, и совершенно не имело значения — на каком языке разговаривали матросы с разных судов. Конечно же, большинство из них довольно сносно изъяснялось на французском, но был для всех и один общий язык — язык морской стихии, не однажды покоренной ими, язык жестов и мимики, понятной всякому моряку.
Человеку, случайно попавшему в эту обстановку, могло бы показаться, что каждый из разношерстной компании был давно знаком с каждым, настолько компанейски по отношению друг к другу вели себя моряки с разных судов и стран, не смотря на то, что могли познакомиться здесь всего несколько минут назад. Хорошее вино и общие интересы способствовали налаживанию отношений. Случалось, правда, что чрезмерное количество этого вина, плохое настроение из-за каких-то временных неудач или давние счёты — приводили к ссорам и даже дракам. Когда слова оказывались неубедительными, в ход шли не только ножи, которые каждый моряк непременно носил на поясе, но и бутылки из-под напитков, мебель и всё, что только попадалось под руку разгоряченным спорщикам.
Справедливости ради нужно заметить, что к харчевне в Старом порту Ла-Рошели большинство моряков относилось с какою-то детской привязанностью, а к ее хозяину, старому тамплиеру — с давним уважением, поэтому любые конфликты, коль скоро они время от времени возникали, столь же быстро и заканчивались, а недавние драчуны тут же распивали мировую и братались.
В один из погожих майских дней, ближе к полудню, в шумное и душное заведение Эмильена-левши вошли двое странствующих монахов-францисканцев. Оба были высокого роста, но длинные коричневые манто из грубой шерсти с широкими рукавами хорошо скрывали статные фигуры вошедших, а низко опущенные шапероны — их лица. Монахи были не в диковину в этих краях: немало их братии — не только францисканцев, но и бернардинцев, цистерцианцев, картезианцев, иоаннитов — скиталось по суше и морю в поисках лучшей судьбы, а то и просто куска случайного хлеба. Моряки относились к монахам дружелюбно, чаще всего помогая мелкой монетой или угощением, а иногда даже, то ли спьяну, то ли по наивности просили странников об исповеди.
Свободного стола в харчевне в этот дневной час не нашлось, поэтому оба монаха, попросив у хозяина по кружке самого дешевого вина, остались стоять у шершавой дубовой стойки, неторопливо отпивая из своих кружек.
— Эй, ребята! — крикнул Эмильен-левша, обращаясь к группе моряков с французской бузы, небольшого торгового судна, недавно закончившего погрузку и вечером собиравшегося выбирать якоря. — Ну-ка, дайте места божьим людям!
Несколько матросов, сидевших за длинным столом у окошка, потеснились, освобождая места на лавках для монахов. Те, поклонившись в знак благодарности хозяину, молча присели за стол друг против друга. Их лиц по-прежнему не было видно.
— А меня вот всегда интересовал вопрос: если есть на небе Бог, почему он никогда не показывается людям? — повернувшись к одному из монахов и будто продолжая давно начатый разговор, слегка охрипшим голосом сказал один из моряков. — Скажи, как там тебя, брат…
— Господь показывается людям в деяниях своих, — спокойно ответил францисканец, не поворачивая головы. — Оглянись вокруг, и ты увидишь Его…
— Пустяки! — воскликнул изрядно выпивший моряк. — Я вот смотрю по сторонам, но кроме стен этой харчевни и своих собратьев по ремеслу никого не вижу. Разве не так?
— Тебе, брат, стоит задуматься над тем, что Бог ближе и понятнее нам, чем все чувственные или телесные предметы, и потому мы легче познаем его, — по-прежнему спокойно произнес монах. Потом добавил: — Когда люди думают о Боге, которого не в состоянии постигнуть, то в действительности думают о самих себе, а не о нем; они сравнивают не Его, а себя, и не с Ним, а с собой.
Моряк изобразил на лице мучительные раздумья, потом заявил, повысив голос:
— Умеете вы все-таки путать мозги людям, братья!
— И ты не боишься это нам говорить? — строго спросил второй монах. — Ты ведь не знаешь, с кем разговариваешь, а произносишь ересь…
— А я ничего не боюсь — ни штиля, ни шторма! По мне хоть завтра голову на плаху! — с каким-то даже вызовом ответил моряк.
— Эй, Паскаль, не гневи Бога! — окликнули его сразу несколько голосов с другого конца стола. — Простите его, братья, наш капитан просто напился и болтает лишнее… А вообще он хороший малый и любит короля и папу.
— Да это понятно, — сказал первый францисканец. — Мы все в большей или меньшей степени любим короля и папу. А бояться вам сегодня в самом деле нечего, братья. Мы не инквизиторы, что трутся по людным местам, входят в доверие, вызывают собеседников на откровенность, а потом им же связывают руки за спиной. Мы действительно монахи, и пришли в Ла-Рошель по важному делу. И если кто нам поможет — отплатим со щедростью.
— А я и не болтаю лишнее! — с опозданием заявил Паскаль. — Говорю то, что есть в душе у меня, да! А там — сам не пойму что…
— Это плохо, брат, — сказал монах. — В душе покой должен воцариться вместо хаоса, чтобы дьяволу там места не нашлось. А что до Бога, то никто не способен найти его, если раньше не поверит в то, что потом узнает. Так Блаженный Августин говорил.
Паскаль потянулся за своей большой кружкой, наполненной до половины, ухватил ее крепкими пальцами, потом вдруг пододвинул к францисканцу.
— Выпей со мной, брат, — сказал он жалобным тоном. — Горе у меня…
— Какое?
— Да вам не понять! — Несмотря на свое состояние, пьяный как-то даже смутился. — Вы не знаете женщин…
— Отчего же? Мы знаем людей, — спокойно ответил францисканец.
— Всего три месяца не был дома, а у нее уже другой завелся! — вдруг выпалил Паскаль, мотая головой. — Вот такая история!
— Жизнь полна сюрпризов, — сказал монах. — И что же ты?
— Хотел зарезать обоих, да пожалел… Что-то руку мою будто отвело в сторону, сила какая-то…
— И ты не видишь в этом проявления Бога? — монах оживился. — Вот и ответ на твой первый вопрос, брат. Это он отвел руку от убийства, а тебя — от греха.
— Да?
Паскаль будто прозрел. Он вращал головой, озираясь на своих подельников, потом снова опускал лицо вниз, утыкаясь взглядом в стол и размышляя. Наконец, повернулся к монаху, сидевшему рядом.
— Что за важное дело у вас в Ла-Рошели, братья? Может быть, я смогу вам помочь?
— Может быть, и сможешь, — сказал францисканец. — Ты действительно капитан?
— К вашим услугам, сеньоры! — воскликнул моряк. — Да, я капитан, а это — моя команда. Не вся, конечно, некоторые остались на бузе. Мы скоро отходим.
— А куда?
— В Венецию, брат.
— Это как раз то, что нужно! — воскликнул францисканец.
— И тебя не интересует, чем заполнен трюм «Доры»?
— Мне это совершенно не нужно, — ответил монах. — Нас с братом интересует совсем другое: не найдется ли на твоей «Доре» местечка для одного небольшого сундука?
— То есть, если я правильно понимаю, вы хотите передать груз кому-то в Венеции?
— Именно так. Ты, Паскаль, очень догадлив.
— Гм, это несложно, — сказал капитан, оглядываясь на моряков, притихших и слушавших разговор. — Меня в свою очередь не интересует, что в сундуке. Я только должен знать, кому передать груз и каково наше вознаграждение.
— У нас нет секретов, — сказал монах. — В сундуке одежда и некоторая церковная утварь для наших братьев-францисканцев в Италии. За ним придет человек небольшого роста, с красным лицом. Он назовется сеньором Мазини. И за эту услугу мы с братом готовы заплатить двадцать тулузьенов.
— Двадцать тулузьенов?! — воскликнул капитан. — Да за такие деньги я бы сам отнес ваш сундук в Венецию на спине!
Команда Паскаля дружно и одобрительно рассмеялась удачной шутке капитана.
— Ну, это у тебя вряд ли бы получилось, — сказал монах. — Сундук довольно тяжелый…
— Ерунда! За хорошую монету я и не на такое способен! Беремся, ребята?
— Конечно, конечно, капитан! — раздались довольные голоса.
— Мы с братом рады, что так быстро нашли с вами общий язык, — сказал францисканец.
— Всегда готовы услужить хорошим людям! — ответил Паскаль.
— Только вот еще какая просьба, — тихо добавил монах. — У нас не один сундук, а три. И нужно отправить еще два в другие места. Как быть с этим?
— Нет ничего проще! — воскликнул капитан «Доры». — Вы назовите, куда именно, а мы сейчас узнаем, кто туда уходит в ближайшие дни.
— Один в Дувр, а другой — в Лиссабон, — сказал монах. — И за каждый платим так же.
Паскаль тут же поднялся и крикнул на всю харчевню, причем, голос его удивительным образом утратил первоначальную хрипоту:
— Эй, слушайте все! Тут есть дело! Кто сегодня или завтра уходит в Лиссабон и Дувр — подходите сюда!
С разных сторон посыпались вопросы. Хор голосов звучал хаотично, нестройно.
— Есть капитаны или на худой конец боцманы? — продолжал Паскаль. — Дело серьезное и срочное!
К столу, за которым сидели монахи и команда «Доры», потянулось несколько человек. С вопросами они обступили Паскаля со всех сторон.
— Вот братья францисканцы, — сказал он, — предлагают неплохой заработок.
— Пусть сами скажут, в чем дело.
— Ребята, дело самое простое, — сказал один из монахов, поднимаясь и откидывая на спину шаперон. На его мужественном лице отпечаталась железная воля, а темно-серые глаза сверкали в этот момент, как два клинка. — Есть сундуки с одеждой для наших братьев в Португалии и Англии. Кто возьмется отвезти и передать названным людям, получит по двадцать тулузьенов.
— Я иду в Англию, — сказал кто-то. — Моя «Ласточка» сейчас на погрузке, а отходим завтра.
— А я иду в Дувр сегодня! — перебил его другой. — Так что, дружище, ты остаёшься без приза!
— Если честно, нам с братом все равно, кому платить, — негромко заявил монах. — Главное, чтобы подарки доставили в целости и сохранности.
— Ну, за это уж не беспокойтесь. У нас не принято обманывать честных и щедрых людей. Спросите кого угодно.
— Нам не остаётся ничего иного, как верить вам.
— И я возьмусь! — заявил невысокий толстый человек с лоснящимся лицом. Он был в короткой тунике, распахнутой на животе, и шоссах, плотно обтягивающих ляжки. — Сегодня с вечерним бризом мой «Стрелец» как раз уходит в Португалию.
— Очень хорошо! — ответил монах. — Наш подарок особенно ждут именно в Лиссабоне!
* * *
Луна, показавшаяся земле едва ли наполовину, была похожа на обрубок золотой монеты — мантелета, на котором хорошо была видна только часть короля, изображенного в мантии. От звезд, лихорадочно мерцавших над головой, исходил какой-то болезненный свет — невеселый и зябкий, и в этом свете посреди душистой и прохладной майской ночи мелькали на каменистой дороге два всадника в длинных коттах — туниках с узкими рукавами. Один сидел прямо, другой — склонившись почти к самой гриве лошади.
Был тот предрассветный час, когда цветущие в полях медоносы с особой силой и остротой выбрасывают в воздух свой утонченный аромат, и эта симфония запахов, обволакивая землю, наполняет ночь божественной мелодией. Давно унялись сверчки вдоль дороги, уступив сцену иным исполнителям, ночные птицы перестали хлопотать крыльями и уселись в гнезда встречать утреннюю росу. А всадники, бодрствуя по очереди, неторопливо продолжали свой путь.
До Парижа оставалось ехать всего несколько лье. Впереди, у самого горизонта начало светлеть небо. Венсан де Брие, подведя лошадь ближе, окликнул брата. Северин встрепенулся, поднял голову и выпрямился в седле.
— Ну что, приснилось тебе что-нибудь?
— Дом, — коротко ответил Северин. — Наш дом, и мы в нем совсем молодые…
— Когда-нибудь мы вернемся в него, — мечтательно сказал Венсан. Потом добавил с грустью: — Может быть…
Они спешились, справили нужду у дороги. Затем отхлебнули по глотку воды из бурдюка.
— Теперь нужно пришпорить коней. — Северин посмотрел на небо. — Мы должны въехать в Париж до рассвета.
— Да, обогнем городскую стену и въедем в город через ворота Сен-Бернар, рядом с домом де Боже, — согласился Венсан. — Хотя… если за нами следили, то скрываться уже бессмысленно.
— Слежки я не заметил, — сказал Северин. — Правда, в харчевне у Эмильена-левши крутилось несколько подозрительных парней. Они не были похожи на матросов с какого-нибудь судна.
— Да, я тоже их приметил: один длинный и худой с орлиным носом, другой без мизинца на правой руке.
— Ты даже это заметил? — Северин искренне удивился наблюдательности брата. — А мне было важно держать разговор в нужном русле.
— Должен заметить, тебе это удалось. И старик нам подыграл так, как надо.
— Да, он еще на многое способен! — согласился Северин.
— Осталось надеяться, что они клюнут на нашу приманку и пойдут по ложному следу. А мы тем временем… Ну, поскакали?
Братья вскочили в седла и пришпорили коней. Но не успели проехать и половины лье, как впереди на дороге показались несколько всадников, едущих навстречу. В едва начавшем сереть утре можно было различить, что всадников было пятеро или даже шестеро.
— Ну вот, я же говорил, что теперь Филиппу понадобится моя голова, — сквозь зубы произнес Венсан.
— Погоди, брат. Это может быть не то, что ты думаешь.
— Я уже не думаю, брат, я чувствую!
Совсем скоро встречные приблизились настолько, что их легко можно было посчитать. Всадников действительно оказалось шестеро. Поджидая двух путников, они остановили коней и перекрыли дорогу, образовав поперек нее полукруг.
— Эй, сеньоры! — окликнул один из них. — Именем короля Франции, остановитесь и дайте ответ на некоторые вопросы.
— Кто вы такие и почему мы должны отвечать на ваши вопросы? — дерзко спросил Венсан де Брие.
— Я Поль Годар, сержант королевской стражи, сеньоры, — представился один из встречных. — У меня есть королевский указ о том, чтобы вас задержать.
— Кого это «вас»? — спросил Северин. — Возможно, вы ошибаетесь, принимая нас за кого-то другого.
— Нет, сеньоры, мы хорошо знаем, что вы — братья де Брие, бывшие тамплиеры, и едете в Париж из Ла-Рошели. Разве не так, сеньоры?
— Допустим, что так. И что дальше? — Венсан переглянулся с братом и тихо сказал: — Потянем время, пусть немного рассветет.
Северин кивнул в ответ.
— Покажите указ короля! — сказал он. — Я дворянин, а не простолюдин, и имею право знать, за что меня хотят задержать.
— И в чем обвиняют, — добавил Венсан.
— Сеньоры, я не имею полномочий говорить, в чем вас обвиняют, — ответил старший стражник. — Мне только приказано вас доставить в королевский дворец. И, клянусь богом, я исполню приказ, чего бы мне это не стоило! Нас шестеро, сеньоры, и я прошу вас подчиниться.
— Но нас двое! — твердо ответил Венсан. — И мы тамплиеры! А рыцари Ордена храма не привыкли отступать! К бою, Северин!
С этими словами Венсан выхватил из чехла, привязанного к седлу, свой меч и поднял его над головой. Северин в одно мгновение сделал то же самое.
— К бою, Венсан!
Не сговариваясь, а подчиняясь какой-то давно и прочно усвоенной науке, братья поставили коней так, чтобы они касались левыми боками, а правые руки рыцарей тем временем оставались открытыми для драки. Так, поворачивая коней одновременно и прикрывая друг другу спины, братья де Брие приняли бой. У каждого было по мечу в руке и по кинжалу за поясом. У стражников были копья, пригодные больше для показательных турниров, а не для настоящей схватки, и тесаки, которые пятеро из них даже не успели достать.
Лошади нападавших и державших круговую оборону учащенно перебирали ногами, поднимая с дороги клубы пыли. Они рвали поводья, мотая головами в такт движениям всадников, хрипели и чихали. Стражники, которым раньше никогда не доводилось иметь дело с настоящими рыцарями, действовали хаотично, несогласованно, порой только мешая друг другу. Они что-то кричали, голосами помогая своим неубедительным приемам и пытаясь самим себе придать храбрости в малознакомом деле. Это и предопределило исход столкновения. Уже через несколько минут всё было кончено — всадники королевской стражи без признаков жизни лежали на земле, их кони топтались поодаль.
Соскочив на землю, Северин де Брие приблизился к сержанту. Тот был ранен в плечо и стоял на одном колене, выронив свой нож и свободной рукой прикрывая рану. Сквозь его пальцы обильно сочилась алая кровь.
Рыцарь склонился над раненым.
— Кто послал тебя встретить нас на дороге? — строго спросил он.
— Его величество, король Франции, — простонал Поль Годар. — Не сам, конечно, а через начальника стражи. Не убивайте меня, прошу вас!
— Может быть, ты знаешь, для чего мы понадобились королю?
— Нет, сеньор, клянусь богом, это мне неизвестно! Не убивайте меня…
— Ты был нашим врагом, пока сидел в седле, — сказал подошедший к ним Венсан. — Но сейчас ты стоишь на земле, потому что упал с коня. А тамплиеры не питаются падалью.
— Я выполнял приказ…
— А я исполняю волю Всевышнего, учившего мирян милосердию, — ответил Северин. — Поэтому мы с братом сейчас перевяжем твою рану и поможем сесть на коня.
— Благодарю вас, сеньоры!..
— Поехали, брат, уже совсем рассвело, — сказал Венсан, когда помощь раненому была оказана. — Мне очень хочется сегодня же узнать у Филиппа лично, зачем я ему понадобился!
2
Был ранний утренний час воскресенья, когда южный город уже проснулся, зашелестел троллейбусами, загремел пустыми трамваями, окрасился в горячие цвета первых солнечных лучей, но когда горожане в большинстве своем еще спят. Благодатное время: дачный сезон еще не начался, можно никуда не торопиться в выходной день, можно проснуться и нежиться в постели. Впрочем, кому как удаётся…
Солнце слепило необычайной яркостью — оно будто соскучилось светить по-настоящему после пасмурной зимы. Соскучилось по небу, по облакам, по городу, раскинувшемуся рядом с устьем большой и спокойной реки. Прямые, будто начертанные под линейку, улицы были светлы и пронзительно пустынны, и от этого по утрам казались величавыми. Именно в такой час Инна назначила встречу: ей показалось, что это самое подходящее время. Ну не вечером же — как молодежь, ей богу! И не днем — когда можно наткнуться на знакомые глаза. Как-то стеснительно это… Когда она была на свидании в последний раз? И как это делается сейчас? Впрочем, зачем «как сейчас»? Можно и «как тогда». Просто вспомнить…
Волновалась — как школьница. Несколько раз меняла облик перед зеркалом: то так шарф повяжет, то этак, то так волосы заколет, то по-другому… Наконец, понравившись самой себе, отправилась. В плаще цвета морской волны, с золотыми «капельками» в ушах. Специально раньше пошла — чтобы место изучить. Рекогносцировку, так сказать, провести. Девчонки, как правило, опаздывать должны — это давно известно, но она-то вроде бы и не девчонка уже, и вообще, причем здесь правила… Пошла раньше, и всё. Решила: «Встану поодаль, присмотрюсь…»
Приблизилась неторопливо, прогулочным шагом, и увидела: у Главпочтамта, возле огромного тополя, бывшего, наверное, ровесником самого города, — там, где договаривались встретиться с Андреем, — стоит какой-то человек в светло-коричневой куртке и джинсах. Руки в карманах, но не сутулится. Высокий, худощавый, смотрит куда-то в сторону, лица не видно. Одиноко так стоит, сиротливо. И выглядит на пустынной улице — как оторванная пуговица на песке. Инна даже хихикнула своему сравнению, потом оглянулась по сторонам — больше никого и нигде.
«Он?! Значит — он. Кому же еще быть именно здесь и сейчас! Еще раньше меня пришел!» Замешкалась, с шага сбилась. Мелькнула мысль: сначала мимо пройти, потом вернуться. Отогнала ее. В самом деле, в шпионов играем, что ли…
И он повернулся к ней. На звук шагов, наверное, хотя каблучки у нее не стучат. Или просто почувствовал. Какой настороженный…
— О, здравствуйте! Как ваш «кореец»?
— Какой «кореец»?
— Самсунг. Я всех клиентов и все телевизоры помню.
Она посмотрела на него с мучительным выражением на лице, еще не веря в нелепое совпадение.
— Вы — Андрей?! — Вопрос упал в тишину улицы, как пробитый трамвайный билет, и предательские нотки разочарования прозвучали в нем. — Глыбов?
— Да, я. Простите… Инна…
— Почему вы извиняетесь? — спросила она, избегая его взгляда.
— Мне тогда показалось, когда я был у вас… и теперь тоже…
— Что?
— Что я вам… несколько неприятен… А тут… вот… это действительно я. Такое совпадение!
— Что вы! Почему вы решили, что неприятны мне? — спохватилась она. — Я просто была расстроена тем, что накануне праздника у меня телевизор…
— Я понимаю…
Они помолчали, настороженно присматриваясь друг к другу.
— Вот, значит, как, — сказал он, наконец, разводя руками. — Это просто удивительно!
— Более чем, — ответила Инна, принужденно улыбнувшись. — Я никак в себя не приду.
— Пойдемте куда-нибудь, — предложил Андрей. — Тут неподалеку есть неплохое кафе, наверное, уже открылось. Посидим… Там сейчас никого нет, тихо…
— Не хочу. Я люблю простор, воздух. Для мыслей нужна хорошая панорама. Пойдемте лучше на бульвар, там есть моя любимая скамья…
— Любимая скамья? Хорошо, ведите. Только… позвольте предложить вам руку…
Она молча просунула свою ладонь под локоть Андрея.
— Идемте, сеньор! — сказала с лукавой улыбкой. Оправилась от начального шока. Почти…
— Идемте, Эстель, — ответил он. Потом добавил, встрепенувшись: — А почему мы перешли на «вы»?
— Ой, сама не знаю! После того, что я вам… тебе наговорила в письмах… Прости…
— За что? Разве в письмах ты была неискренней?
— Я была искренней. — Смутилась. Опустила голову. — По-другому не умею…
— Тогда тебе не за что извиняться. Просто нужно время, чтобы преодолеть первую неловкость — и тебе, и мне…
— А ты… представлял меня другой?
— Не знаю. Наверное…
— А какой?
— Не знаю, другой…
— И теперь разочарован?
— Нет, что ты! Почему я должен быть разочарован? Я же не с девушкой пришел знакомиться, с которой собираюсь встречаться, а потом какие-то отношения строить… Это — другое. Я не могу быть разочарован тобой, потому что ты — особенная. Я это уже давно знаю…
— Ты тоже. Мы оба — особенные, наверное.
— Пожалуй. Теперь вот выясняется…
Они пересекли площадь перед Главпочтамтом, углубились в уютное пространство бульвара, нависавшего над высоким берегом реки. Стройными шеренгами вдоль аллеи стояли белокожие, изрезанные перочинными ножами тополя. Вокруг было светло и безлюдно, будто сам Господь оберегал место их встречи от всяческих посягательств.
— Вот моя скамья.
— Замечательное место. Я иногда бываю здесь с дочерью. Вернее, раньше бывал, когда мы ее еще не отпускали гулять одну.
— И сидишь на этом месте? Сидел?
— Не только на этом. Вообще — здесь.
— Сколько совпадений…
— Да, как-то так получается…
— А твоя жена? Она не спрашивала, куда ты сегодня собрался в такую рань?
— Она мне доверяет: ухожу — значит, нужно.
— И правильно делает.
«Я бы тоже доверяла…» — чуть не вырвалось.
Они присели. Вполоборота друг к другу. Скамья была уже теплая — солнце постаралось, прогрело четыре облезлых деревянных бруса. Опять помолчали, глядя вдаль — через реку, на противоположный берег. Там среди голых ветвей парка, устремленных в голубое весеннее небо, празднично блестел, раздавая во все стороны блики, золоченный купол часовни. И было что-то символическое в этом — была жизнь среди мертвых после зимы, еще не проснувшихся деревьев, было ощутимо присутствие Бога… В городе. В душе…
— У тебя такие стихи… — сказал Андрей, удерживая своей рукой робкую ладонь Инны — как тогда, во Сне, он с нежностью сжимал пальцы Эстель в ночном саду.
— Какие?
— Воздушные, проникновенные… Так никогда бы не написал мужчина. Так могла делать только Цветаева…
— О, это большой комплимент! Мне кажется, ты преувеличиваешь. Но все равно — спасибо…
Они снова помолчали. Разговор не получался цельным, он складывался из отдельных фраз, из осколков, он шел будто пунктиром, но паузы между словами не выглядели инородно, не мешали — они наполнялись волшебной мелодией, сопровождавшей прикосновение двух душ и слышной только им.
— Я вчера еще написала…
— Помнишь?
— Всегда запоминаю наизусть, они у меня короткие…
Инна собралась с мыслями, потом тихо произнесла:
Всё то, чем начинались дни, чем сдобно пахли воскресенья, чем новогодние огни сверкали (рассказать — ни-ни) из года в год от невезенья — всё превратится в пух и прах, всё станет крошечным и сирым, остынет на семи ветрах, и то, чем до сих пор был страх, — приснится с миром…*— Прекрасное стихотворение! Перед твоей пронзительной поэзией всё меркнет.
— Скажешь тоже! Ты мне льстишь…
— Поверь, я немного разбираюсь…
— Вот видишь, мне уже про сны пишется! — усмехнулась она.
— Да, с этим действительно нужно разобраться. Ты ведь пригласила меня что-то важное сказать…
— Да, конечно. И я скажу, только…
— Что?
— Давай еще раз, глядя друг другу в глаза… определим, чтО с нами происходит…
— Давай.
Он повернулся к ней. С нежностью изучил ее лицо. Заметил, как меняют цвет ее удивительные зрачки — только что были светло-зелеными, почти серыми и вдруг подернулись налетом голубизны. В небе сейчас много такого цвета. Инна тоже смотрела на Андрея, не отрывая взгляда — так смотрят только влюбленные люди, не дотрагиваясь пальцами, а лишь одними глазами разглаживая каждую морщинку на любимом лице… Она уже привыкла к нему, к тому, что это — он. И поняла, что ничего страшного, ничего неприятного в нем вовсе не было: ни теперь, ни раньше — никогда.
— У тебя карие глаза… — произнесла задумчиво. — А я всё думала: какие у него глаза? А они — красивые, с бархатом.
Он не ответил — только смущенно сжал губы.
А Инна вздохнула глубоко, будто изо всех сил старалась наполнить легкие этим удивительным весенним утренним воздухом. Задержала дыхание и при этом опустила веки. Как хорошо! Как же хорошо, господи! Просто сидеть и молчать… Рядом с ним…
— Я скажу? — осторожно спросил Андрей.
— Да…
— Я постоянно думаю об этом, но не всё тебе пишу, правда… Понимаешь, человеческий разум больше склонен к фантазии, чем к познанию, однако без познания того, что происходит вокруг, невозможно и фантазировать. Ты согласна? После того, что мне стало сниться, я уже перелистал с полдюжины книг о той эпохе — хотел познать, на чем основана наша общая фантазия.
— Ты так сказал — по-старинному — «полдюжины»…
— Не заметил…
— Ты все-таки склонен считать всё происходящее фантазией?
— Еще не убежден. Я знаю только одно: истина непостижима так же, как деяния Создателя, поскольку она есть продукт этих деяний. К ней позволено лишь приблизиться, да и то избранным. И чем ближе к истине подступает человек, тем больше понимает свое собственное ничтожество. И мы с тобой поймем, наверное… но позже… Вот смотри, кто-то же погружает нас в этот Сон. Кто-то же с завидным постоянством заставляет нас проходить этот сценарий. Нас будто приближают к этой истине, потому что мы — те самые избранные. Вот только нам не дано знать, чем должна закончиться эта пьеса…
— Ты думаешь, не дано?
— А разве не так? Мы просто подчиняемся чьей-то несгибаемой воле, мы — марионетки в руках опытного кукловода, вот и все.
— И этот кукловод — сам Господь?
— Скорее тот, кто перед Ним провинился…
— Тот, кто провинился, не стал бы погружать нас в подробности, — задумчиво сказала Инна. — Понимаешь? Нам дают роли, а в этих ролях есть слова и поступки. И скорее всего, мы должны совершить что-то такое, что задумано режиссером этого мира. Нас для этого и пригласили в спектакль… избрали осуществить чей-то глубокий и невероятный замысел…
— Ковчег? Что-то связано с Ковчегом! — произнес Андрей, поглощенный своей мыслью.
— Да, это именно то… Я тоже читала. Ковчег окружает смерть. Сколько войн и разрушений связано с ним! Сколько испытаний и горя! Наверное, он не должен снова оказаться в распоряжении человечества, он никогда не должен выйти на свет из того мрака, в котором хранился на протяжении двадцати с лишним веков. Вероятно, в этом и состоит наша с тобой задача…
Она смотрела на него умоляющим взглядом, в глубине души понимая, что от его согласия теперь зависит вся ее собственная жизнь. И его. И — всех…
— Да-да, что-то в этом есть… — задумчиво произнес Андрей. — В разговоре с братом…
— Что? Почему ты замолчал?
— Венсан скрыл от Северина свои истинные намерения, а тот, в свою очередь, не стал раскрывать местонахождение Ковчега… хотя, может быть, он действительно ничего не знает… Но я теперь по-другому думаю о де Брие…
— Правда? У вас был такой разговор? Вот видишь, здесь что-то кроется…
— Потом мы ездили с ним в Ла-Рошель, чтобы пустить наших врагов по ложным следам. А когда возвращались — на нас напали люди короля. Была небольшая стычка.
— Господи, ты остался невредим?
— Да, обошлось. Если бы я был один — мне не удалось бы справиться. Хорошо, что со мной был Северин.
Инна смотрела на Андрея с тревогой и состраданием. Она хорошо понимала, что далеко не всё, что происходит во Сне, открывается ей.
— Венсан неискренен — это точно, — вдруг добавил Андрей. — Им движет не любовь, о которой я думал раньше. Это — другое. Но я… ничего не могу сделать…
Он посмотрел на женщину как-то жалобно и тревожно. Она поняла его взгляд и то, что творится в душе Андрея.
— Я просто уверена, что в ближайшее время всё должно разрешиться. Ты узнаешь всю правду и о Ковчеге, и о Венсане… — сказала она твердым голосом. — И я узнаю, и все, кто с нами рядом…
— И тогда мы подумаем, что делать дальше?
— И тогда мы решим, что делать дальше, — ответила Инна и пристально посмотрела на Андрея. — Я уверена, у нас получится…
— Надо полагать, мы только что договорились о следующей встрече?
Она усмехнулась его словам, кивнула. Потом поднялась со скамьи, прищурилась от солнечного луча, пробившего сплетение ветвей и упавшего на лицо.
— Не буду тебя задерживать, — сказала с каким-то юношеским смущением. — А то вытащила из дома в выходной, оторвала от семьи…
— Пустяки, не стОит об этом. Ты живешь где-то неподалеку? Я провожу?
— Не нужно, я сама.
Господи! Как же ей хотелось поцеловать его на прощание — пусть даже не в губы, а так — потянуться к нему, встать на цыпочки, прижаться щекой к щеке. Сдержалась. Смогла.
Андрей довел ее до конца аллеи. Там Инна высвободила свою ладонь — они уже не касались пальцами, они оставались связанными друг с другом только взглядами.
— Я напишу… — сказал он. — Как только — так и напишу…
— Береги себя… и там, и здесь…
ГЛАВА 16
1
Они вошли в дом, когда набережная Турнель уже давно ожила и наполнилась голосами, а в зеркальную гладь Сены окунулся золотой обруч родившегося над горизонтом солнца. Женщины только проснулись и обе стояли на крыльце, выходившем во внутренний двор.
Тревога Ребекки и ее дочери нарастала с каждым днем. Братьев де Брие, уехавших неизвестно куда и оставивших женщин на попечение одного лишь Тибо, — не было уже больше недели. Никто не знал, где они и что с ними. Поначалу Ребекка думала, что верный оруженосец Венсана де Брие, выполняя приказ хозяина, просто не хочет им ничего говорить. Но Тибо действительно не знал о планах двух рыцарей и тоже заметно волновался.
Двенадцатого мая выдалось удивительно тихое и солнечное утро. Ни один даже самый робкий поток воздуха не дерзнул потревожить в этот ранний час молодые листья наливающегося жизнью сада.
Ребекка с Эстель вышли из дома и расчесывали волосы, стоя у входа в конюшню. В это время в тяжелом замке калитки завозился ключ, и через несколько мгновений во двор вошли путешественники. Оба имели вид несвежий и усталый, и это сразу бросалось в глаза. Заметив женщин, братья не стали входить в дом, а направились к ним.
— Ну, как вы тут без нас? — спросил Венсан, улыбаясь и по очереди глядя то на Ребекку, то на Эстель. Его голос был спокойным и обыденным, будто он только вчера виделся с женщинами.
— Кровь! — воскликнула Ребекка, глядя на Северина. — Сеньор, у вас кровь на камизе и шоссах!
— Да? — переспросил Северин, оглядывая себя. — Я не заметил.
— Не волнуйтесь, это кровь другого человека, — сказал Венсан. — Мы оба целы и невредимы.
— И зверски голодны! — добавил Северин.
— С вами что-то произошло? — Голос Эстель дрогнул. — Дядя Венсан…
— Пустяки, все уже позади, — ответил де Брие и с нежностью посмотрел на девушку.
Услышав голоса во дворе, из дома вышел и Тибо. Окинув опытным взглядом прибывших мужчин, он сразу сообразил, что те недавно попали в какую-то переделку.
— Я говорил, что нужно было меня взять с собой! — воскликнул он.
— Мы и сами прекрасно справились, — ответил Венсан. — Не так ли, брат?
— Это было несложно, — подтвердил Северин, потом обратился к оруженосцу: — Заведи коней, мы оставили их на улице. И покорми хорошенько.
Тибо метнулся выполнять приказание. По его движениям было видно, что он заметно повеселел и наконец-то занялся делом.
— На вас действительно напали?! — с тревогой в глазах спросила Эстель. — Наверное, это были королевские стражники?
— Ты поразительно догадлива! — воскликнул Венсан. — Но всё уже кончилось, мы вернулись без потерь и только с приобретениями. Не так ли, брат?
— Да, это правда, — снова кивнул Северин. — Так будет здесь кто-нибудь кормить нас?
В то же мгновение обе женщины, окрыленные своей радостью, которая теперь была у них общей, заторопились на кухню готовить завтрак.
И уже через час, уставшие от нескольких почти бессонных ночей, но теперь сытые и довольные собой, братья де Брие крепко спали каждый в своей комнате. Оставшиеся в кухне женщины говорили с Тибо о возвращении рыцарей.
— Ты и теперь не догадываешься, куда они могли ездить?
— Нет, Эстель, — честно ответил верный оруженосец. — Но судя по тому, в каком виде они вернулись, поездка явно не была увеселительной.
— Кажется, я догадываюсь, — тихо сказала Ребекка.
Эстель и Тибо повернулись к ней с вопросами в глазах.
— Они теперь вместе ищут то, что раньше искал один сеньор Венсан.
— И что же это? — спросила девушка. — Я много раз уже спрашивала у дяди, что он ищет, но ответа не получила до сих пор. Я не смею и предполагать…
— А сегодня ты спроси еще раз, — посоветовала Ребекка. — Сегодня он обязательно ответит тебе.
— Почему ты так думаешь?
— Наверное, пришло время.
* * *
Он проснулся только на закате. Полагая, что в доме Гишара де Боже ему ничто не угрожает, Венсан де Брие спал безмятежно, как ребенок, уверенный в том, что его сон надежно охраняется кем-то из близких. И действительно, весь долгий майский день в доме царила полная тишина: женщины вместе с Тибо передвигались чуть ли не на цыпочках и почти не разговаривали, давая возможность хорошо выспаться тем, от кого, по сути, зависела их собственная жизнь и судьба.
Северин де Брие, которого поездка в Ла-Рошель утомила не меньше, чем его брата, крепко спал просто от усталости, какую, надо признать, давно не испытывал.
Они встали вечером да и то только лишь потому, что не могли во сне сделать того, что обычно делает человек, бодрствуя. И после этого уже не ложились. И оба чувствовали себя отдохнувшими. По-настоящему отдохнувшими — за столько лет…
— Ну вот, мы сделали большое дело, брат! — воскликнул Венсан, войдя в комнату Северина. — Теперь Филипп будет искать Ковчег в Лиссабоне, а мы таким образом выиграем время. Хорошо же ты придумал!
— Он будет искать его в Лиссабоне только лишь тогда, когда поверит докладу своего шпиона, — ответил Северин. — Но Филипп же хитер. Он может подумать, что мы намеренно обратили внимание на Португалию, чтобы отвлечь от Венеции или Дувра.
— И что тогда?
— И тогда он вынужден будет послать своих людей и в эти славные города…
— … в которых о Ковчеге никто и ничего не слышал…
— Именно! — воскликнул Северин. — Мы заставим его поломать голову!
— Да, забавное приключение мы с тобой испытали! Но знаешь, брат, оно все же будет нести с собой осадок какой-то горечи.
— Почему же?
— Потому что я оказался прав: Венсан де Брие теперь Филиппу не нужен…
— Глупости, брат! По большому счету Венсан де Брие ему не нужен был никогда. Разве ты до сих пор не понял? Тебя просто использовали — как приманку, точнее, как ищейку на поводке. А поводок-то был в руках хозяина…
— Никогда Филипп не был мне хозяином! — воскликнул Венсан. — Это ты уж чересчур, брат!
— Ну, прости, может быть, я не так выразился…
— А знаешь, я все-таки пойду к нему! — Было видно, что в душе Венсана де Брие бушует ураган. — И посмотрю в глаза. И попрошу дать ответ…
— И тебя схватят прямо в королевском дворце, поместят в подземелье Жизора и будут держать до тех пор, пока ты сам им всё не расскажешь…
— Пусть только попробуют схватить! Я снесу голову любому, кто приблизится на расстояние вытянутой руки!
— Но ты не увернешься от стрелы, не выпутаешься из накинутой сети… Они найдут способ тебя обуздать. А я, к сожалению, не могу пойти с тобой, и Тибо не сможет помочь. Я не был прецептором Франции, как ты, и я не вхож в приемную короля. А твой верный оруженосец — вообще никто, его даже на королевский двор не пустят…
— Я пойду один!
— Не ходи, прошу тебя, Венсан! Ты нужен всем нам живым и невредимым: мне, Тибо, Эстель. Понимаешь?
Венсан де Брие задумался. Он долго сидел, обхватив голову руками, потом встал, расправил замлевшие мышцы и прошелся по комнате.
— Хорошо, я никуда не пойду, — спокойно сказал он. — Я веду поиски — значит, я веду сражение, и пока я его не проиграл, мне незачем являться в стан врага с просьбой о помиловании… Придет время, и король Франции будет просить о помиловании меня!
— Что ты имеешь в виду?
— Ты сам поймешь однажды.
Северин внимательно посмотрел на брата. Потом спросил, понизив голос:
— А скажи мне, Венсан, что ты вообще знаешь о Ковчеге?
— Я видел его только на картинках, которые мне когда-то показывал Жак де Моле. Довольно массивный сундук, отделанный золотом, с двумя шестами по бокам для переноса. Еще там на крышке расположены фигуры двух херувимов…
— «Сделай также крышку из чистого золота: длина ее два локтя с половиною, а ширина ее полтора локтя, — мечтательно произнес Северин. — И сделай из золота двух херувимов: чеканной работы сделай их на обоих концах крышки; сделай одного херувима с одного края, а другого херувима с другого края; и будут херувимы с распростертыми вверх крыльями, покрывая крыльями своими крышку, а лицами своими друг к другу. И положи крышку на ковчег сверху, в ковчег же положи откровение, которое Я дам тебе; там Я буду открываться тебе и говорить с тобою над крышкою, посреди двух херувимов, которые над ковчегом откровения, о всем, что ни буду заповедывать чрез тебя сынам Израилевым».
— Ты наизусть знаешь это место из книги Исход?
— Не только это. Не забывай, что я долго учился богословию.
— Я это помню, Северин. Ты мне лучше скажи, где теперь нам следует искать, куда направить стопы свои?
— Мой ответ, Венсан, не удовлетворит тебя: не знаю…
— Не может быть! Не может быть, чтобы мы с тобой не смогли этого сделать! Это наша миссия, это справедливая миссия, и она не может оставаться невыполненной. Во имя светлой памяти Великого магистра, я должен сделать это. Мы должны…
— Я приехал, чтобы помочь тебе в этом.
— Тогда скажи честно, как на исповеди: что ты вывозил из Ренн-ле-Шато в Англию восемь лет назад?
Северин встрепенулся, но быстро взял себя в руки.
— Тебе рассказал об этом Филип де Шамбро, комендант крепости Кампань-сюр-Од?
— Нет. Он не видел, что именно ты взял в пещере.
— Тогда кто?
— Это имеет значение, брат?
— Я понял: это старик Эмильен-левша! Он видел, как мой багаж грузили на корабль…
— Надеюсь, у тебя нет к старику претензий?
— Что ты, Венсан! Пусть живет еще сто лет!
— И все же, ты не дал ответ…
— А ты поверишь в то, что я скажу?
— Поверю, ты никогда не умел лгать, Северин. Всё будет написано на твоем лице.
— Тогда смотри мне в глаза, брат, и слушай: из Ренн-ле-Шато я вывез только небольшую часть драгоценностей и старинных предметов, список которых незадолго до этого мне дал Жак де Моле.
— И что же это было?
— Золотой семисвечник, украшенный драгоценными камнями, золотой стол, пурпурные завесы из Святая святых и две серебряных трубы, которые должны известить о приходе Иисуса Христа.
— И всё?
— Ну, еще несколько золотых и серебряных сосудов и немного другой ценной утвари. Видишь, брат, я ничего не скрываю от тебя.
— И Ковчега среди этих предметов не было?
— Не было!
— Хорошо, а что было дальше?
— В Англии весь свой багаж я передал прецептору Лондона, и что с этими предметами стало потом — мне не известно. Такой был план Жака де Моле, и я его выполнил.
— Хорошо, Северин, предположим, я тебе поверю. Но кто и когда мог вывезти из Франции Ковчег? Может быть, сам Великий магистр? Тогда где следует искать?
— Послушай, Венсан, а почему ты так уверенно говоришь, что Ковчег куда-то вывезен? А если предположить, что он преспокойно хранится в одной из многочисленных пещер, которых, кроме Ренн-ле-Шато, немало на территории Франции?
— Нет, Северин, нет… — вздохнул Венсан. — Я чувствую. Чувствую! И не могу этого объяснить… Ковчега нет на континенте, нет…
* * *
В ночном небе, молчаливом в своем бесконечном величии, иссиня черном, походившем на дорогой королевский бархат, вовсю кувыркались светлячки звезд. Будто резвясь, будто соревнуясь друг с другом, они то вспыхивали, то угасали — как человеческие мысли.
Венсан де Брие сидел на веранде второго этажа в плетеном ивовом кресле, погруженный в воспоминания. Уже давно затих вечерний Париж, еще чуть-чуть — и превратится он в глухой, спящий город. Лишь кое-где залает встревоженная собака, да уймется вскоре. Дом погрузится во мрак и покой.
Мысли рыцаря были далеко. Вдруг совершенно неожиданно в памяти его возникли картинки детства в родовом доме, беззаботное время игрищ и мечтаний о подвигах, время становления характера и личности. Беспрекословное подчинение отцу, его строгой и суровой науке, делавшей из юношей мужчин, равноправие с братом-близнецом, с которым до определенной поры у него всё было общее. Потом — неизбежное соперничество, когда почти ежедневно нужно было доказывать своё первенство такому же, как ты сам, отчаянному малому. Потом — любовь, сперва робкая и осторожная, потом до невозможности пламенная, познавшая прикосновения к божественным тайнам и горькое разочарование, но всё равно сметающая на своем пути все преграды и запреты… Нет, не все — кроме долга и чести.
Еще он пытался вспомнить тот момент, когда впервые услышал о реликвиях тамплиеров, когда загорелся идеей вступить в Орден и сполна ощутить его истинный дух, проверить на себе все его давно ставшие легендами испытания. Он пытался выудить из глубокой неподатливой памяти тот день и час, когда впервые узнал о Ковчеге завета, и до нестерпимого душевного трепета захотел когда-нибудь его увидеть, погладить деревянный каркас, заглянуть внутрь… И он не мог вспомнить этот момент, этот день, этого начала — казалось, что мысли о Ковчеге жили в нем всегда.
И еще думалось Венсану де Брие о том, что предыдущий день, принесший столько испытаний как физических, так и душевных, не подарил ощущения радости от находки, даже от малейшего приближения к ней. Он сидел в плетеном кресле, смотрел в сверкающее звездами небо и был твердо уверен, что нелегкий день закончился, канул безвозвратно, что уже ничего не может произойти — ни в этом мире, ни в его душе…
И вдруг его заставил вздрогнуть шорох за спиной.
— Это я, мессир, — сдавленным шепотом предупредил Тибо. — Мне нужно с вами поговорить…
Венсан де Брие облегченно вздохнул. Ему сейчас меньше всего хотелось с кем-либо разговаривать — с братом, с Эстель и Ребеккой. Тибо же можно было просто отправить строгим голосом — он не обидится, он поймет.
— Поговорить? О чем, мой верный друг? — Голос де Брие был усталым и негромким. — Уж не собираешься ли ты сообщить, что надумал покинуть меня и заняться каким-нибудь иным ремеслом?
— Нет, что вы, сеньор! Как я могу такое сказать вам? Просто у меня для вас есть важное сообщение.
Тибо сделал несколько шагов и встал перед своим хозяином.
— Вот как! Ты решил меня чем-то удивить?
— Не знаю, удивитесь ли вы, сеньор, — замялся Тибо. — Скорее, как я понимаю, это вас расстроит…
— Ну, довольно же расстройства на сегодня! — воскликнул де Брие. — Отправляйся спать, Тибо. Придет новый день, господь пошлет нам новые радости, и ты как-нибудь среди этих радостей расстроишь меня. Но не теперь, хорошо?
— Как скажете, мессир, — согласился Тибо. — Я просто долго ждал, когда уснет ваш брат, потому что должен сказать вам наедине…
— Вот как! — снова воскликнул рыцарь, оживившись. — Похоже, ты действительно решил меня удивить! Или расстроить… Что ж, говори.
— Простите меня великодушно, мессир, — сказал бывший оруженосец. — Накануне я стал невольным слушателем вашего разговора с братом… Я не хотел, я просто проходил мимо комнаты сеньора Северина, где вы с ним беседовали, и услышал…
Тибо замолчал. Он вдруг засомневался в том, правильно ли поступает. Венсан де Брие уловил это колебание.
— То, что ты подслушал разговор — не твоя вина, Тибо, — сказал он. — Это мы с братом просто излишне громко разговаривали. Так что же ты хотел сказать?
— Вы знаете, мессир, что я много лет служил вам верой и правдой, что я всегда и при любых обстоятельствах был предан вам и только вам…
— Да, это так, мой друг. И что же?
— Посылая меня в Англию, вы приказали мне так же, как и вам, служить вашему брату.
— Да, и, по словам Северина, ты исполнял свой долг наилучшим образом. И что дальше?
— Но я знаю вашего брата, можно сказать, всего несколько дней, тогда как с вами меня связывают многие годы преданной службы… И я не смог сегодня молчать, ваша милость… хотя давал обещание…
— Да что, в конце концов, произошло, Тибо?!
— Мессир, я хорошо знаю, где находится то, что вы ищете…
* * *
— Северин! — громко позвал Венсан де Брие, решительно входя в спальню брата. — Вставай, Северин! Я пришел за ответом.
Он поставил подсвечник с двумя свечами на подоконник, а сам порывисто сел на табурет, стоявший у окна. Свечи от резкого толчка едва не вывалились из чашек. Руки де Брие нервно двигались, не находя себе места. В тусклом свете слабого огня глаза рыцаря сверкали, как угли.
— Что случилось, брат? — Северин повернулся лицом к Венсану и опустил ноги на пол. — На нас опять напали королевские стражники?
— Лучше бы это было так! — воскликнул Венсан. — Лучше бы на нас напали люди короля, или сотня сарацин, или дикие звери. Мне было бы не страшно выйти и сразиться с ними. Но мне теперь страшно подумать, что мой брат — человек, в котором я с детства видел свое собственное отражение, — предал меня!
— Все-таки Тибо проболтался! Я чувствовал, что ему нельзя полностью доверять, но у меня не было иного выхода…
— Тибо — честный и преданный человек, — ответил Венсан. — Другого такого не сыскать на свете.
— Значит, тебе повезло со слугой, а мне — нет.
— А что значит: не было выхода? — не обращая внимания на слова Северина, спросил Венсан. — Я ведь написал тебе письмо не для того, чтобы ты, как заяц, убегал от меня, заметая следы. Я искал поддержки, я чувствовал, что именно ты — где-то совсем рядом с Ковчегом! И я был прав! Все-таки я был прав!
— Да, я был рядом с Ковчегом несколько лет, — приходя в себя от неожиданности, как можно спокойнее ответил Северин. — Можешь мне не поверить, но именно в этом заключалась моя миссия в Англии, однажды порученная лично Жаком де Моле. И я следовал его указаниям неукоснительно. До того самого дня, когда Тибо привез мне твое письмо.
— А что изменилось после этого письма? Великого магистра уже нет, Орден расформирован, рыцари утратили единую систему управления, многие казнены, а те, что остались живы — деморализованы. Тамплиеры — уже не та сила, что держала в руках полмира! Тамплиеры — это уже вообще не сила, Северин! Неужели ты этого не понимаешь? Теперь каждый за себя! Теперь тот, у кого есть отвага и смекалка, может решить не только судьбу Франции, но и всей Европы! И заметь, я говорю не о Филиппе!
— Я это понимаю, брат. Ты говоришь о себе.
— А если понимаешь, почему тогда ты предпринял эту отчаянную авантюру? Для чего? И против кого, Северин?
— Поверь, Венсан, я прятал Ковчег не от тебя. Я искренне полагал, что мировая святыня действительно находится под угрозой. Но потом я почувствовал… Тебя почувствовал, брат. Мы долгие годы были порознь, но никак не утратили духовную связь друг с другом. Понимаешь? Я читал между строк твои мысли, я понимал их и ужасался им! И теперь я убедился, что был прав, теперь я вижу, что ты — не менее опасен, чем король Филипп! Я ведь хорошо знаю, для чего ты ищешь Ковчег завета.
— Вот и славно! Мне нет необходимости что-либо объяснять! Тогда завтра же, брат, мы отправляемся в Англию, и ты сам покажешь мне…
Северин хотел что-то сказать в ответ, но в проеме двери появились две светлые женские фигуры в длинных, до щиколоток, камизах.
— Господи, сеньоры! Зачем вы опять куда-то уезжаете? — робко и умоляюще спросила Ребекка. — Мы постоянно так волнуемся за вас!
— Зачем вы явились? Что вам нужно? — грубо спросил Венсан, голос которого внезапно стал раздраженным. — Идите в свою комнату!
— Мы услышали ваши громкие голоса, дядя Венсан, — ответила Эстель, за спиной которой маячило лицо Тибо. — И мы испугались…
— Ничего плохого, просто мы с братом немного поспорили, — успокоил женщин Северин.
— Нет, я вижу, что сеньор Венсан очень взволнован, — сказала Ребекка. — И мы с Эстель, с вашего позволения, хотим узнать, что на самом деле происходит.
— Кто вы такие, чтобы вмешиваться в разговор двух дворян?! — вспылил Венсан. — Ваше место — на кухне.
— Вы хорошо знаете, сеньор, кто мы такие, — с достоинством ответила Ребекка.
Венсан де Брие насупился, смущенный словами смелой женщины, к которой он не имел права испытывать неприязнь. Нуждаясь в поддержке, он посмотрел на брата.
— Скажи им! Скажи им, Северин!
— Нет, ты сам скажи…
Венсан де Брие поднялся с табурета, сделал несколько нервных шагов, потом остановился перед женщинами, все еще стоявшими на пороге спальни.
— Ребекка, помнишь, я недавно говорил тебе… — начал он. — Так вот, я теперь знаю, где находится Ковчег завета!
— Где? — одновременно спросили обе женщины и затаили дыхание.
— Он находится в Англии, и Северин хорошо знает, куда его спрятал!
— Это правда, сеньор? — Ребекка повернулась к Северину. Тот сидел на кровати, опустив голову. — Тогда почему вы не привезли его?
— Потому что… — начал Северин и осекся, потом продолжил: — …потому что помыслы моего брата… неискренни перед тем, Кто дал миру каменные скрижали. Помыслы моего брата направлены на порабощение народов, на возвышение над всем остальным миром, а это противоречит тому, что начертано рукой Бога. И я, как истинный христианин, не могу позволить кому бы то ни было встать на этот порочный путь, даже если это будет мой родной брат!
— Ну не поднимем же мы мечи друг на друга?! — воскликнул Венсан, вставая на одно колено перед Северином. — Опомнись, брат! Мы стоим на пороге великих перемен. Владея Ковчегом, мы действительно подчиним себе сначала всю Европу, а потом и весь обозримый мир! И я ведь тоже истинный христианин. Ты разве забыл об этом? Я обещаю тебе и этим двум женщинам, с которыми нас связала судьба: мы построим на земле справедливое царство, где человек не будет угнетать другого человека, где все будут счастливы, где все будут любить друг друга!
Он снова встал в полный рост. Его голос наполнился металлическим звоном.
— Я не верю тебе, Венсан! Да ты и сам не веришь в то, что говоришь!
— Можно верить или нет, но зачем же препятствовать тому, что с очевидностью принесет пользу? Северин, подумай. Видит Бог, я не хочу разругаться с тобой вдрызг! Я не хочу потерять брата только из-за того, что он не разделяет моих взглядов.
— Послушай же и ты меня, брат! — Северин впервые за весь разговор повысил голос, и это сразу заставило Венсана умолкнуть. — Есть вещи, через которые тебе никогда не перешагнуть. Есть препятствия, которые тебе никогда не преодолеть. Поверь, я за эти годы хорошо изучил историю Ковчега, и вот что тебе скажу. Ты знаешь, например, почему он был вывезен из Иерусалима плотно обернутым в несколько слоев ткани? Ты знаешь, что за два века пребывания в Европе Ковчег никто и ни разу не разворачивал и не только не заглядывал внутрь, но и просто не смотрел на него? А почему, как ты думаешь, Венсан?
— Я догадываюсь. Но все равно скажи…
— Потому что эта святыня создана иудеями задолго до возникновения нового мира, и ни одному чужеродцу — пусть христианину, пусть мусульманину, пусть даже самому фанатичному ревнителю какой-либо веры — не позволительно смотреть на Ковчег в настоящем его виде, а тем более снимать с него крышку и совершать какие-то обряды. Любая подобная попытка в прошлом неминуемо приводила к гибели. Бог не церемонился с нарушителями и карал их самым жестоким образом. Так было со времен Моисея, так будет всегда! Я видел Ковчег, я перевозил его из одного подземелья в другое, но я не смел даже подумать о том, чтобы отвернуть хотя бы край ткани и заглянуть внутрь. Как никогда раньше, я чувствовал рядом присутствие смерти! От этого сундука в два с половиной локтя длиной, сделанного из дерева шиттим, веет ледяным холодом! Поверь, брат, это очень страшно! И даже допуская, что твои помыслы чисты, я не хочу, чтобы ты совершил роковую ошибку… и вместо славы приобрел вечный покой…
Наступила пауза — длинная, как лунная дорожка на речной глади Сены. Все затихли, осмысливая слова Северина де Брие. Стало слышно, как потрескивали, стремительно тая, свечи.
Вдруг Венсан поднял голову, будто осененный какою-то догадкой, и повернулся к Северину.
— Принимая во внимание то, что Бог создал человека по образу и подобию своему, — медленно и глухо сказал он, — следует полагать и то, что отношения с Богом человек истинно верующий должен строить исходя из равенства с Создателем. Однако же ни один народ на земле не может сравниться в этом плане с тем народом, которому Бог подарил свое особенное расположение и любовь, которому раз и навсегда доверил обладание Истиной. Ковчег Завета, как бы богато он не был украшен, как бы тщательно не оберегался и в чьи бы руки не попадал, — представляет собой для любого народа не более чем реликвию, обладающую мифической силой и ценную благодаря своему древнему происхождению. Истинное же значение Ковчега, истинное его могущество по-настоящему откроется лишь тому, кто был избран для этого самим Создателем, тому, в чьих жилах текут потоки Иордана.
Наступила зловещая тишина. Венсан де Брие медленно обвел взглядом присутствующих.
— Есть только один человек, которому под силу подобное испытание, — тихо сказал он и перевел взгляд на Ребекку.
Сердце женщины заколотилось с бешеной силой. Казалось, еще минута — и она упадет в обморок.
— Только она может стать посредником для нашего общения с Богом, — продолжил Венсан. — Только ей откроется то, что будет недоступно нам…
Ребекка покачнулась.
— Мама! — вырвалось у Эстель.
Она обняла женщину за плечи и так стояли они теперь — тесно прижавшись друг к другу.
— Если ты любишь ее, брат, — тихо сказал Северин, — если ты действительно любишь ее, как об этом говоришь… не подвергай Ребекку подобным испытаниям… Если вдруг с ней что-то случится… ты ведь не простишь себе, брат. А я не прощу тебе…
Венсан де Брие снова сел на табурет и обхватил голову руками. Тяжелые мысли роились теперь в ней. Как никогда раньше, он стоял перед выбором, и его изворотливый и быстрый ум впервые не находил правильного решения. От этого рыцарю было нестерпимо тяжело на душе. Он почувствовал, что в эти минуты теряет так четко обозначенный раньше смысл жизни. Теряет и не может этому противостоять…
Спокойное величие уверенного во всем человека соседствовало в нем теперь с непреодолимой усталостью, накопившейся за долгие годы напряженной жизни. И эта усталость превалировала над всеми остальными чувствами, сковывая их надежно и нерушимо.
— Давайте будем спать, — чужим голосом вдруг сказал он. — Придет новый день, придет и развязка…
Ни слова не сказав, женщины бесшумно удалились. Братья остались одни. Северин ждал, пока Венсан уйдет, но тот все никак не двигался с места. Казалось, он уснул в своей каменной позе.
Получить рану от руки врага на поле боя и при этом остаться в строю — великая и почетная миссия каждого воина. Получить рану от близкого человека, которому доверял, как самому себе, которого любил до самозабвения — великая трагедия, которой порой нет объяснения и которую не всякий способен перенести достойно.
Северин, как никто другой, понимал брата и смотрел на него с состраданием.
— Скажи, брат, — спросил вдруг Венсан, — а он тяжелый?..
2
Ветер дул не спеша, размеренно, будто хотел остаться незамеченным. Вечерело. В тусклом небе осторожно появлялись первые звезды — робко, будто подглядывая из-за кулис. Инна сидела на «своей» скамье и наблюдала за ними. Как огоньки сигарет — звезды подрагивали, то становясь на мгновение ярче, то будто угасая.
Была пятница. С прошлого воскресенья ничего не происходило. Ночи, предваренные тревожными ожиданиями, проходили спокойно, без снов. Им дали паузу — ей и Андрею? Их встречу подслушали и теперь где-то решают, как с ними поступить? Затишье перед бурей? И четыре дня длилось молчание. Невыносимое. Несносное. Тягостное.
Они не писали письма — ждали. Уже не нужно было ничего говорить, уже они и так понимали друг друга — даже по молчанию…
И все же накануне она не выдержала.
«Писем нет… и, вероятно, не будет долго — я просто начинаю готовить себя к худшему варианту развития событий… что-то сломалось, нарушилось, перестало существовать… я не хочу сходить с ума… и, надеюсь, не сойду… а просто уйду к себе, лягу лицом к стене и буду рассматривать узоры на обоях… или закрою глаза и буду представлять марсианские долины из пересохшей и потрескавшейся красной глины, как там сухо… и морозно… и одиноко… и от этого холода и одиночества вдруг заболит где-то в том месте, откуда пробивают себе дорогу слёзы… и из-под закрытых век потекут горькие ручейки… их будет послушно впитывать подушка — знакомое дело… а я поплачу и усну… и что там мне приснится?… может, ты… какой? Нет, лучше ничего не представлять, ни о чём не писать, слиться в капельку ртути, чтобы никто не понял, что — внутри: живая вроде, и ладно…»
Не отправила — не решилась. Боялась спугнуть тот настрой, который, как мучительно долгая нота, всё еще звучал, сохранялся — в душе, в жизни, в виртуальном мире…
И правильно сделала, что не отправила! Умница! Потому что с четверга на пятницу…
— Здравствуй! Извини, я немного опоздал…
Андрей подсел рядом, одну руку пряча от взгляда Инны за спиной.
— Я не заметила, что ты опоздал, замечталась… Здравствуй. А что это с тобой? С рукой что?
— Это тебе… — сказал Андрей, жестом отвечая на вопрос.
— Ой, подснежники! Спасибо.
Инна поднесла маленький букетик к лицу, зарыла нос в белых колокольчиках.
— К сожалению, они не пахнут, — сказал он.
— Еще как пахнут! — возразила она. — Лесом, весной. И еще — нежностью…
— Моя жена говорит: жизнью…
— Она у тебя философ. Сегодня ты ей что-то наврал?
— Ее нет, в командировке. Точнее, на курсах. Она в здравотделе работает, и там какие-то курсы…
— А дочери?
— Дочери я никогда не вру. Сказал, что мне нужно, и всё.
— Извини, что я спрашиваю, вторгаюсь…
— Пустяки. Нам нужно решить главное.
— Да, ты прав, остальное — потом, — согласилась она и поежилась.
— Тебе холодно?
— Как-то зябко. Я, наверное, опрометчиво легко оделась.
— И поэтому нам сегодня не избежать кафе…
— Пожалуй.
…Они заняли столик в углу, самый скромный и отдаленный. В полумраке сидело несколько человек — парами и в одиночку. Тихая инструментальная музыка, располагающая к откровениям, лилась откуда-то сверху. Ненавязчиво. Даже как-то в тему. Наскоро изучили меню, винную карту.
— Что будешь?
— Не знаю, я не разбираюсь, — скромно ответила Инна. — Вот «Шардоне» — знакомое название… Только немного.
— Меньше пятидесяти граммов не наливают. Рекомендую сто.
— Значит, сто, — согласилась она.
Андрей сделал заказ, и вскоре перед ними уже стояли два бокала вина и на блюдце лежала плитка черного шоколада. Подставка с салфетками, стаканчик с зубочистками и пепельница появились еще раньше.
— Я поломаю на клеточки? — спросил он.
Инна кивнула и с любопытством стала наблюдать, как Андрей разворачивает шелестящую фольгу, потом ломает шоколад, раскладывая неровные фрагменты по периметру блюдца.
«Эстет», — подумала она.
— Я вообще вино никогда не пью, — вдруг сказал он. — Предпочитаю водку, да и то изредка. Вино — это только ради тебя…
Он собирался подхватить свой бокал, продев его ножку между пальцев, но изящно, как у знатоков, не получилось — пузатый бокал качался, и выглядело это неловко и смешно. Тогда Андрей опустил его на стол и снова поднял — по-простому, зажав ножку в руке, привычно и уверенно. И заметил, как улыбается Инна — с теплотой и сочувствием.
— За что выпьем?
— За то, чтобы всё поскорее закончилось, — с задумчивой грустью ответила она, и Андрею показалось, что эту фразу она готовила давно.
— Если всё закончится, значит, мы больше…
— Давай не будем об этом. Пожалуйста…
— Хорошо, не будем. Тогда — за успех нашего дела?
Она кивнула и, осторожно пригубив бокал, сделала несколько мелких глотков.
— Какое замечательное вино!
— У тебя хороший вкус.
— Какой вкус? Это случайный выбор.
— Иногда случайный выбор является самым правильным, — сказал Андрей и как-то по-особенному посмотрел на Инну. Потом добавил: — Но наш выбор будет не случайным, хотя тоже должен оказаться правильным, самым правильным.
— Единственно правильным, — подчеркнула Инна.
— Да, согласен. Теперь, когда мы оба знаем всё… Теперь, когда до Ковчега осталось подать рукой…
— Ты всё еще сомневаешься? — спросила она, заметив его колебания.
— Наверное, уже нет. После этой ночи я понимаю, что миру действительно может грозить опасность. Тому миру, средневековому — а значит, через столетия может докатиться и до нас.
— Ты не должен ехать в Англию! Де Брие не должен… Откажись от своей затеи. Ради Ребекки, ради Эстель…
— Я не смогу этого сделать, Инна! Де Брие так долго шел к своему триумфу! Его мечта уже настолько реальна, настолько осязаема! И отступить в последний момент… даже если захочу я, мне не позволят…
— Но что же делать? Как предотвратить беду? Должен же отыскаться какой-то выход, иначе всё, что было до этого — напрасно. Если бы какая-то подсказка…
— А знаешь, — тихо сказал Андрей после паузы, — наш Сон — это как перекресток, на который одновременно съехались несколько автомобилей. И тут нужно всем вспомнить правила движения, чтобы точно знать, кто кого должен пропустить.
— Только мы не автомобили, — возразила Инна. — Мы — люди, нет, даже не люди — тени людей на этом перекрестке.
— Забавно то, что иногда тени делают историю, — усмехнулся Андрей.
Он допил вино, отодвинул от себя бокал, вынул из стаканчика деревянную зубочистку и стал вертеть ее пальцами. И вдруг произнес сквозь зубы:
— Де Брие нужно убрать с дороги.
Инна вздрогнула от его слов и пристально посмотрела в лицо Андрею. Оно светилось какою-то внутренней решимостью.
— Его нужно убить! — продолжал он тем же тоном. — И сделаешь это ты…
— Я?!
— Больше некому… Из всех персонажей только мы с тобой знаем, чтО происходит на самом деле. Кроме тебя некому…
— Но я… как я смогу, я — слабая женщина, а он! Я в своей жизни убивала только назойливых комаров… Я не смогу, мне не хватит духа!
— Сможешь. — В голосе Андрея появилась какая-то глубокая уверенность. Стальная уверенность. И несвойственный, почти приказной тон. — Ты сможешь, я знаю.
— Господи! За что? За что это мне?..
Сидящие за соседним столиком парень и девушка оглянулись на них.
— Инночка, успокойся, возьми себя в руки!
— Я не могу, я сейчас распла… Я ведь его люблю — там! А тебя — здесь! Нет, это невыносимо! Пойдем отсюда…
* * *
— Я что-то не то сказала?
— Почему? Всё то…
Они медленно шли по темной улице. Инна попросила Андрея проводить ее: после зимы в живых остались не все фонари. Ветер стих — и сразу стало как-то теплее. Или это вино мягко грело изнутри. Они держались за руки — так было спокойнее.
— Ой, я букетик там забыла!
— Вернемся?
— Нет, пусть кому-то достанется, пусть кто-то улыбнется…
— Пусть… — согласился он.
Несколько минут шли молча — в паузе между штрихами пунктира. Вдруг Инна остановилась, потянула Андрея за руку, повернула лицом к себе.
— Я не знаю, как там сложится… у них… и у нас… Но пока мы рядом, пока мы вместе… я хочу, чтобы ты рассказал мне…
— О чем?
— О той высокой цене, которую ты платишь за счастье творить. И еще о том испытании, которое проходит твоя любовь к жене…
— Тебе действительно это нужно? Я думал, ты не спросишь…
— А я спросила. Я должна это знать, Андрюша… всё про тебя знать…
— Хорошо, я попробую объяснить. Возможно, это прозвучит нелепо, невероятно или даже глупо. Но я однажды понял, что своим творчеством вступил в противоречие с мирозданием, которое поступает с «выскочками» предельно просто, но вполне эффективно. Сейчас объясню. Дело в том, что когда я написал свой первый роман — чуть ли не на следующий день заболел. Провалялся неделю в больнице и был выписан с неясной этиологией. Тебе понятно это слово?
— Ну, это как причина заболевания?
— Да, именно. Моё общее недомогание, низкое давление, вялость, упадок сил остались тогда непонятыми врачами. И всё бы как-то забылось — как случайный эпизод, если бы не повторилось снова. И знаешь, когда?
— Ты еще что-то написал?
— Второй роман! Потом, через год — третий.
— И опять?
— Чётко, как по расписанию! Это со мной так боролись — я понял…
— Так и перестал бы писать прозу. За стихи же тебя не наказывали? О чем хотя бы твои романы? Они изданы где-нибудь? Может быть, стоило сменить тему?
— Романы разные: исторические, фантастика. Они не изданы: говорят — неформат. Слово такое придумали, чтобы всё нормальное от коммерческой литературы отделить. Это уже другой разговор, Инна. Не в этом дело. Главное, что мои книги объединяет — кроме фамилии автора, конечно, — это то, что на вершину пирамиды поставлен Человек и его Любовь. Всё остальное — эпоха, сюжет, приключения — это антураж. И вот, скорее всего, отношение автора к Человеку — где-то не понравилось…
— Как я хочу всё это почитать!
— А перестать писать — значит сдаться, — продолжал он свою мысль. — Сдаться — значит позволить общему уровню культуры оставаться на весьма среднем значении и даже не пытаться приподнять его хотя бы на йоту. А я так не могу! В меня при рождении, нет, при зачатии заложена творческая программа, и я обязан ее выполнить, чего бы мне это ни стоило. Это висит надо мной не на земном, а на каком-то высшем, энергетическом уровне. — Андрей заглянул Инне в глаза: понимает ли она. — Что ты на меня так смотришь?
— Как?
— Как на Дон-Кихота.
— А ты и есть он самый…
— Ну вот, я предполагал, что ты не воспримешь этого… Инна, они думали, что сломают меня, но я выдержал все испытания и выкарабкался.
— Да кто «они»?
— Какая разница? Ты ведь без деталей понимаешь, о чем я говорю.
— Думаю, что понимаю…
— Тогда я скажу тебе главное.
— А это еще было не главное?!
— Нет. Слушай. Когда там, наверху, поняли, что, ломая мое здоровье, со мной не справятся, они нашли иной способ — куда более действенный и жестокий. Они ударили по самому больному моему месту — по ребенку.
— Как это!?
— Очень просто: в мою любимую девочку внезапно вселился невидимый и страшный недуг — сахарный диабет. Дай бог тебе никогда не знать, что это такое! А мы живем с этим уже четвертый год. Это не просто другая жизнь, это — другая планета! По мнению ученых, лет через шесть-восемь что-то появится для полного излечения от диабета, да и то, может быть… А пока — нигде в мире, нигде!.. Но моя девочка восприняла болезнь мужественно и стойко, она довольно быстро научилась распознавать свое состояние, хотя контролировать уровень глюкозы в крови — весьма непросто. Дома она, конечно, пользуется специальным мерителем, он «глюкометром» называется, но в школу его брать не хочет. У нее в рюкзачке всегда есть конфетка или печенюшка — на случай падения показателей до низких цифр. Это гораздо страшнее, чем повышение — бывают случаи впадания в кому, мы читали… И шприц с инсулином тоже всегда у нее в рюкзачке — на случай повышения. Уколы она давно сама себе делает, а иногда приходится и в школе. Заходит в туалет, закрывается в кабинке и делает… когда в бедро, когда в живот…
— В живот?!
— Да, Инна. Там есть определенные места для уколов инсулина. Вообще их на теле немало, но не во все делать удобно без посторонней помощи.
— Я понимаю…
— Так вот, — продолжал Андрей, — по закону мы оформили на дочь инвалидность. Об этом мало кто знает, мы не стали афишировать, чтобы не привлекать к себе внимания, чтобы дети не стали на нее коситься. Они ведь еще глупые были тогда, пятиклашки всего-то. Директор школы знает с самого начала и классная, а одноклассникам — не обязательно. Так мы решили. Конечно, когда-нибудь наш секрет раскроется, но они-то, ровесники ее, уже станут старше и воспримут адекватно. Наша девочка — умница! Она старается, она не хочет отличаться от других. Она и повзрослела раньше всех… из-за этого… У нее глаза изменились… В них — другое наполнение, понимаешь? Мы с ней всегда были очень дружны. Как-то так сложилось, что главные свои новости и проблемы она несла сначала мне, а потом уже маме. И до сих пор так. Раньше мы любили играть в «кто кого пересмотрит». Бывало, по несколько минут вглядывались друг в друга, даже старались мысли свои внушать. Потом разгадывали, смеялись… А сейчас иногда смотрю ей в глаза, а там такая глубина — не донырнуть…
— Господи, почему так!?
— Вот — цена моего творчества, Инна! И вот испытание моей любви к жене, которая вкладывает всю душу теперь в нашу дочь. Она ведь у меня медик, она лучше других знает, что такое эта болезнь… Она ведет дневники каждого дня, она изучает статистику, она пытается отыскать какие-то закономерности — наперекор всем книгам и справочникам, которые о закономерностях не говорят. Она специально встает ночью, чтобы сделать контрольный замер и не будить для этого дочь. Аккуратно прокалывает ей палец и меряет. Каждую ночь, Инна, четыре года — и каждую ночь. С самого начала болезни, когда дочери еще было двенадцать. Она хронически недосыпает, она находится в постоянном стрессе, понимаешь? Моя жена теперь — это тоже другой мир, богатый и цельный, как раньше, но — другой. Наполненный иным содержанием, доступным далеко не каждому. Мне — тоже лишь частично. И еще за это — за то, что она теперь знает гораздо больше меня и позволяет иногда прикоснуться к своим жизненно необходимым знаниям, — я люблю ее еще больше… И, как могу, поддерживаю. Я люблю ее беззаветно, не только как женщину, но еще и как воплощенного в человека ангела-хранителя для моей дочери. Для нашей дочери. И пусть иногда у жены не находится времени для меня, пусть иногда она уклоняется от моих ласк — я всё понимаю… что она устала, что ей практически некогда расслабиться, что она — на своей тревожной волне… И я тихо отхожу в сторону, чтобы не дать этой волне разбиться о скалу моих собственных интересов. И никогда — веришь, никогда! — не позволяю себе даже думать о ком-то другом…
— А твоя жена понимает, что всё это… как-то связано с твоим творчеством? Верит в эту связь?
— Наверное, понимает. Она умный и тонкий человек. Но она понимает и то, что одним только словом на эту тему — убьет меня… Она хочет, чтобы рядом с ней был я — такой же, как всегда… творческий человек. И она молчит, мы оба молчим. Это я только с тобой так разговорился…
— Спасибо тебе, Андрюша…
— Я вот что подумал: когда закончится наша история с Ковчегом — должно что-то поменяться. В лучшую сторону поменяться. Я верю. Появится просвет в жизни, появится солнце над головой, вернется счастье… оно ведь у нас прежде было… Те, кто навязал тебе и мне этот Сон, позволяют нам только то, что соответствует их планам. Они не ожидают, что мы способны еще и делать над собой сверхусилия. От сверхусилий человек чаще всего ломается или рвется, как гитарная струна. И поэтому от нас не ждут непредвиденных шагов… Мы — пешки среднего уровня, того — определенного мирозданием, и нам не дано прорваться в ферзи. Но мы — сможем! Потому что кто-то помогает нам держаться… Или что-то…
— Это любовь… Твоя и моя любовь… — Голос Инны дрожал. — Она сильнее всех недугов…
— Почему… почему ты плачешь?..
— Не знаю… Я только одно хочу сказать: я всё сделаю, чтобы в твоей жизни появился свет…
ГЛАВА 17
1
На зеленой лужайке возле дома было как-то по-особенному тихо. Теплое майское утро побуждало к проявлениям радости, но радости не было. Женщины вынесли для себя скамеечки и, оголив плечи и спины, устроились то ли загорать, то ли просто греться. Рядом с ними, расстелив на траве циновку, уселся Тибо, который от безделия давно не находил себе места.
Настроение у всех было подавленное, каждому хотелось его изменить, но никто не знал, как это сделать. Все прекрасно понимали, что не только настроение, но и вся дальнейшая жизнь зависели теперь от воли Венсана де Брие. А он еще спал, он не выходил из своей комнаты. И они с тревогой ждали.
Эстель и Ребекка после того, как накануне ночью отправились в спальню, почти не сомкнули глаз и проговорили до самого утра, и теперь, разомлев на солнце, сидели полусонные, готовые растянуться прямо на траве.
— Тибо, расскажи что-нибудь веселое, — попросила девушка, бодрясь. — Несмотря ни на что, жизнь продолжается, не так ли? Мы не знаем, какое решение примут сеньоры де Брие, когда проснутся, но не хоронить же нам себя раньше времени!
— Мы еще поживём! — со слабой надеждой в голосе воскликнул оруженосец. Потом, полагая, что это поможет, почесал затылок толстыми пальцами и спросил: — А что рассказать?
— А сам придумай! — ответила Эстель, зажмуриваясь от солнечных лучей. — Только чтобы мы с мамой не заснули, а то неудобно будет перед сеньорами…
Но не успели тяжелые раздумья омрачить лицо Тибо, не успел он открыть рот, как из дома на лужайку в одних шоссах вышел Северин де Брие. Потянувшись и поиграв мышцами оголенного торса, он направился к маленькой компании. Тибо тут же вскочил на ноги и, отвесив полагающийся поклон, торопливо сказал:
— Простите, ваша милость, но я не мог поступить иначе…
— Ты поступил так, как должен был поступить, — хмуро ответил рыцарь, остановившись возле Ребекки. — Жаль, что у меня никогда не было такого слуги.
— Благодарю, ваша милость. Я рассчитываю в будущем принести немало пользы не только моему хозяину, но и вам, сеньор!
— Жизнь покажет, нужна ли она будет мне, — ответил Северин де Брие и уселся на циновку, с которой только что вскочил Тибо.
Все затаились, ожидая, что скажет сеньор. А тому нечего было сказать, он тоже находился в ожидании, причем, не менее тревожном, чем слуги. Выдернув из земли травинку с жестким стеблем, Северин принялся трепать его зубами, ощущая на языке горьковатый сок растения.
— Расскажите нам что-нибудь, сеньор, — попросила Ребекка, оживившись. Казалось, сон, с которым она только что боролась, улетучился без следа. — Мы так мало знаем о вас…
— Гм, что вы хотите от меня услышать? — спросил Северин, повернувшись к ней.
— Расскажите, как стали тамплиером! — вдруг попросила Эстель, не отводя глаз. — Это, наверное, какой-то особый ритуал?
— Рыцарями храма становятся прежде всего в душе, дитя моё, — ответил Северин. — А обряд посвящения действительно представляет собой нечто особенное — то, что никогда невозможно позабыть.
— Мы готовы слушать сколько угодно! — заявила Ребекка. — Не так ли, Эстель?
— Что ж, — задумался Северин де Брие, — если угодно… Церемония моего посвящения проходила в Овернской часовне. Это был редкий случай, может быть, даже единственный…
— Почему?
— Меня принимали одновременно и в рыцари, и в Орден члены капитула во главе с самим Жаком де Моле!
— Это, наверное, очень почётно? — спросила Эстель.
— Еще больше ответственно, — ответил Северин, — поскольку накладывает на посвященного особые обязанности — быть достойным доверия самого Великого магистра!
— Расскажите же, как это было! — Эстель нетерпеливо поморщилась. — Пожалуйста…
Северин посмотрел на девушку, и сдержанная улыбка едва тронула его губы.
— Вначале Жак де Моле сказал, обращаясь к капитулу: «Возлюбленные братья! Мы согласились принять этого человека как брата. Если кто-то из вас знает что-нибудь такое, что является помехой для законного вступления этого человека в Орден, пусть скажет об этом сейчас, потому что лучше узнать это до, чем после его вступления в наши ряды». Он показывал на меня рукой и ждал замечаний со стороны рыцарей, потом произносил то же самое в адрес других кандидатов.
Северин де Брие замолчал. По его одухотворенному лицу было видно, что он с трепетом вспоминает события пятнадцатилетней давности, будто переживает их еще раз.
— Потом, — продолжил он после паузы, — меня спросили: «Брат, желаете ли вы принадлежать к Ордену?» При этом мне перечислили все тяготы и самоограничения, которые предстояло испытать в будущем. «Ради любви к Всевышнему я готов выдержать все испытания, до конца жизни храня преданность Ордену», — ответил я. После этого мне задали целый ряд вопросов, на которые ждали искренних ответов, и в конце спросили, не передумал ли я. Тогда я ответил, обращаясь к Жаку де Моле: «Сир, я предстаю перед Богом и перед вами во имя любви к Господу и Святой Деве, умоляя вас принять в лоно Ордена и сделать участником его благородных дел человека, который всю свою жизнь будет слугой и рабом вашим». — «Возлюбленный брат, — ответил мне Великий магистр, — вы мечтаете о великом, потому что вам известна только внешняя сторона Ордена, его оболочка. На самом деле наши прекрасные кони в богатом убранстве, наша изысканная еда и роскошная одежда — всего лишь видимость. Вы надеетесь, что вам будет хорошо и спокойно среди нас. Но вы не знаете суровых правил, которых все мы придерживаемся. Вам, который до сих пор был хозяином самому себе, нелегко будет стать слугой другому человеку. Вы никогда уже не сможете поступать по собственному разумению. Когда вы захотите остаться здесь, вас отправят на другой конец света. Вас могут послать против вашей воли в Антиохию или Армению, в Ломбардию или Англию, в любую другую страну, где есть наши владения. Когда вам захочется спать, вам прикажут бодрствовать, когда захотите прогуляться, придется отправляться в постель, когда вы почувствуете голод, то получите приказ оседлать коня. И поскольку всем нам будет невыносимо больно, если вы что-то скроете от нас, призываю вас во имя уважения к Святому Евангелию правдиво ответить на все вопросы, которые мы вам зададим. Потому что если вы солжёте, то станете клятвопреступником и подвергнетесь позорному изгнанию, упаси вас от этого Господь!»
Северин де Брие снова замолчал. Всем, кто его в эти минуты слушал, показалось, что он больше не хочет ничего рассказывать.
— Сеньор, — жалобно позвала Эстель, — а что было дальше?
— Дальше? — встрепенулся рыцарь. — Дальше я дал ряд всевозможных обещаний ради Господа и Святой Девы. И только после этого Великий магистр сказал: «Тогда от имени Господа и Святой Девы Марии, от имени Святого Петра и господина нашего папы римского, от имени всех братьев мы предоставляем все благодеяния, совершенные Орденом с самого начала и которые ему еще предстоит совершить, в ваше распоряжение. Вы же предоставьте нам все ваши благодеяния, как уже совершенные, так и те, которые вы еще совершите. Мы дадим вам хлеб, воду и бедные одежды нашего Ордена, а также работу и наказания в достаточном количестве». Потом Жак де Моле накинул мне на плечи белый плащ с красным крестом и сам тщательно застегнул его. Капеллан прочитал сто тридцать второй псалом и молитву Святому Духу, а все братья, присутствовавшие на церемонии, хором повторяли: «Патер». Великий магистр поцеловал меня в губы, и на этом обряд завершился.
— Господи, как это всё интересно! — воскликнула Эстель. — Сколько в этом таинства и величия! И дядю Венсана так же принимали в Орден?
— Этого я не знаю.
— А что было потом? — спросила Ребекка.
— Потом? — переспросил Северин и задумался. — Потом было потом… Сам не знаю, почему я согласился рассказать вам это…
— Ах, как бы я хотела хоть одним глазком взглянуть, как жили рыцари, как учились обращаться с оружием, как готовились к походам! — мечтательно произнесла Эстель. — Но ведь женщин к Ордену и близко не подпускали?
— Да, ты права, девочка, — ответил Северин. — Устав Ордена тамплиеров рассматривал женщин как соблазнительниц и искусительниц, которые могут ввести рыцарей в грех, подстрекать их нарушить обеты и тем самым подвергнуть свои души опасности. Ведь церковь полагает, что женщины нечисты посредством предательства Евы, которая развратила Адама и способствовала лишению человеческого рода благодати.
— А вы, сеньор, тоже так считаете? — не удержалась Ребекка.
— То, что считаю я, при мне и останется, — уклончиво ответил Северин.
— А что тогда есть благодать, сеньор? Чего лишен человеческий род? — задумчиво произнесла Эстель.
— Тебя на самом деле это интересует? — в свою очередь спросил Северин де Брие, грустно усмехнувшись.
— Да, — твердо ответила девушка.
— Что ж, Блаженный Августин говорил когда-то, что силой, которая во многом определяет спасение человека и его устремление к Богу, является божественная благодать. Благодать действует по отношению к человеку и производит изменения в его природе. Без благодати невозможно спасение человека. Свободное решение воли — лишь способность стремиться к чему-либо, но реализовать свои стремления в лучшую сторону человек может только с помощью благодати, то есть, как я уже говорил, устремления к Богу…
— Без Бога ничего не происходит вокруг, — вставил Тибо. — И наши поступки — это, скорее всего, испытания, которые Господь нам посылает, чтобы проверить, на что каждый из нас способен. Но ведь кто-то совершает добро, а кто-то зло. Так неужели Бог причастен к тому, чтобы на земле творилось это самое зло? Как вы думаете, сеньор?
— Тот же Блаженный Августин говорил, что зло — не сила, существующая сама по себе, а ослабленное добро, необходимая ступень к добру. Видимое несовершенство является частью мировой гармонии и свидетельствует о принципиальной благости всего сущего, потому что всякая природа, которая может стать лучше — хороша. Иными словами, без зла мы не знали бы, что такое добро.
— Они всегда соседствуют, — согласился Тибо. — Уж я-то знаю…
— И все-таки я бы хоть на чуть-чуть хотела прикоснуться к жизни тамплиеров… — Эстель с невыразимым теплом и надеждой посмотрела на рыцаря. — Размахивать мечом или скакать верхом я, как женщина, не смогла бы, а вот что-то другое… Сеньор, а научите меня стрелять из лука! Вот занятие, которое мне по силам!
— Да зачем тебе?
— Просто так!
— Просто так ничего не бывает, девочка, — сказал Северин. — Любая потребность имеет под собой умысел, явный или тайный, но имеет…
— Никакого умысла, сеньор! Прошу, научите… Мне кажется, что у меня получится…
— А что? — вдруг оживился Северин. — Тибо, принеси нам сюда лук и колчан со стрелами.
— Да у нее и духу не хватит натянуть тетиву! Сеньор, вы в самом деле собираетесь учить ее стрелять?
— А что в этом такого? Просто развлечемся немного, пока спит Венсан. Может быть, у нас больше не будет такой возможности…
— Стрелять из лука?
— Нет, развлечься.
* * *
Венсан де Брие уснул только под утро. Предательство брата ударило больно — но не наотмашь, а исподтишка, с той стороны, откуда его меньше всего ожидал честолюбивый рыцарь. Он понимал, что Северин, приведя в ночном разговоре достаточно веских аргументов, никогда не пойдет на уступки. И даже если он сам, граф Венсан де Брие, бывший прецептор Франции, с помощью верного Тибо попытается обойти брата, — непременно получит отпор со стороны Северина, твердо стоящего на своих убеждениях.
Оставался только один путь — заполучить брата в союзники. Но как — уговорами, обещаниями, шантажом? Глупо. С помощью Ребекки и Эстель — двух прекрасных женщин, каждая из которых испытывает к Северину де Брие определенные чувства? Опять глупо: набожный рыцарь никогда не поддастся даже самым льстивым женским уловкам. Тогда — как? Должен же быть какой-то путь…
С этими мыслями, утяжелявшими голову, но не склонявшими ее ко сну, Венсан де Брие промучался до самого утра. А когда желанный отдых наконец-то накрыл усталое тело с усталой душой своим невесомым покрывалом, рыцарю вдруг показалось, что кто-то стоит перед его кроватью и настойчиво призывает проснуться. С трудом разлепив неподъемные веки, де Брие попытался разглядеть смутную фигуру, возникшую перед ним — то ли во сне, то ли наяву.
— Сеньор, проснитесь! — знакомым молодым голосом позвала эта фигура. — Это я.
— Гишар?! Ты!
Венсан де Брие невероятным усилием воли прогнал от себя остатки сна и рывком сел на кровати. Голова кружилась, перед глазами мелькали темные круги. Он закрыл лицо руками и просидел так несколько минут. Потом опустил руки и поднял голову. Перед ним действительно стоял молодой граф Гишар де Боже.
— Вы уже проснулись, сеньор? — спросил он.
— Наверное…
— И вы уже слышите меня?
— Да, слышу. Когда ты приехал?
— Только что. Я стучал в дверь, но никого из слуг не оказалось дома, тогда я отпер своим ключом.
— Да, я распустил всех слуг, — подтвердил де Брие. — Если понадобится, наймешь новых.
— Сеньор, я не стал писать вам письмо, потому что понимал, что вы сами захотите увидеть… И я приехал сказать…
— Да? — переспросил де Брие. — А что сказать?
— То, что интересовало вас больше всего, сеньор.
— А-а, это, — протянул рыцарь вмиг изменившимся голосом, — я уже всё знаю…
— Что вы знаете, сеньор? — Гишар де Боже был искренне удивлен. — Вы же мне давали поручение…
— Да, конечно, мой друг, я всё помню.
— Тогда откуда вы узнали?
— От моего брата Северина, — ответил де Брие. — Он недавно приехал из Англии, и теперь мы все живем здесь, в твоем прекрасном доме.
— А кто это все? — удивился Гишар.
— О, у нас большая компания! — сдержанно улыбнулся де Брие. — Кроме меня и брата, здесь еще и Тибо — ты ведь помнишь его? — и еще две женщины, мать и дочь.
— Я знаю только Эстель, — сказал Гишар, — но откуда взялась другая женщина?
— Это давняя история, мой друг. Вскоре ты обо всем узнаешь.
— Вам тут удобно? Всем хватило места?
— Да, все довольны твоим домом, Гишар. Но если ты вернулся, чтобы снова жить в Париже, то мы в самое короткое время подыщем себе другое жильё. Впрочем, отправиться в Брие, в наше родовое гнездо — это тоже один из возможных вариантов. Не исключено, что мы так и поступим…
— Да нет же, я не собирался жить в Париже, сеньор! — ответил де Боже. — Мне хорошо и в Аржиньи. Там я будто окунулся в детство, и это так здорово! Я приехал только для того, чтобы рассказать вам… и привез тот документ, о котором вы мне говорили… Это «Список» Жака де Моле.
С этими словами Гишар достал из-за пазухи свиток пергамента, свернутый в трубку и перевязанный голубой лентой.
— Вот, возьмите.
— Давай, мой друг, — вяло сказал де Брие, протягивая руку. — Я очень благодарен тебе. Ты — настоящий рыцарь, Гишар! И настоящий друг!
— Мне лестно слышать именно от вас эти слова!
Венсан де Брие неторопливо развязал ленту и, развернув документ, принялся изучать его. Гишар тем временем скинул с себя дорожную тунику и прошел к окну, выходившему во двор. На лужайке перед домом резвились несколько человек. В одном из них молодой граф узнал Тибо, в другом, очень похожем на Венсана де Брие, невозможно было не узнать Северина.
— Вы никогда не говорили мне, что у вас есть брат-близнец, — сказал он.
— Потому что иногда я сам забывал об этом, — рассеянно ответил де Брие и вдруг напрягся.
Повернувшись к нему, Гишар де Боже заметил, как задрожали руки рыцаря, затем в какой-то нечеловеческой гримасе перекосилось его лицо — будто внезапно отыскалась неведомая сила, единственная в своем роде, что способна была поколебать неприступную крепость его характера.
— Что… что это такое?!..
Венсан де Брие поднял голову и посмотрел на Гишара. Тот по-прежнему стоял у окна, с волнением наблюдая за рыцарем.
— Это тот самый документ, сеньор… — с тревогой произнес он. — Но вы только что сказали, что уже знаете от брата…
— Это другое! Этого не знал никто! — воскликнул Венсан де Брие. Его голос был глухим и звонким одновременно, он гудел, как гудит в солнечный апрельский день окруженная пчелами цветущая черешня. — Этого не знал ни мой брат, ни я, ни прецепторы всех подвластных Ордену территорий! Этого не знал ни папа Климент, ни король Филипп! Этого не знал никто, кроме Великих магистров Ордена тамплиеров, начиная от Гуго де Пейна и кончая Жаком де Моле! Какой удар! Какая развязка! Ах, какая развязка!
— Но почему это так взволновало вас, сеньор?
Венсан де Брие тяжело, в упор посмотрел на молодого графа. Тот похолодел от этого взгляда.
— Почему, спрашиваешь ты… Потому что теперь всё рухнуло, всё покатилось в тартарары, потому что теперь моя жизнь не стОит и денье!
— Я не понимаю вас…
— Постой, Гишар, — встрепенулся де Брие, — я не сплю? Может быть, это просто дурной сон?
— Вы не спите, сеньор, и я действительно стою перед вами.
— Тогда возьми этот документ и вслух прочитай то место, которое меня интересует, — попросил де Брие.
— Хорошо, я сделаю это, — согласился де Боже. — Давайте.
Но внезапно Венсан вскочил с кровати. Настроение его в одно мгновение переменилось, как меняется свет дня, когда из-за тучи выходит солнце. Из глаз рыцаря, как из костра, теперь вырывались искры. Гишар отшатнулся от могучей фигуры, он не понимал, как следует реагировать на состояние де Брие.
— В сад! — воскликнул Венсан. — Пусть это прочитает Северин!
* * *
Он бежал по коридору, и только одна мысль сопровождала его в этом порыве — мысль о том, что всё, наконец, кончено! Кончены тревоги, преследования, мытарства, недомолвки, кончены бессонные ночи и напряженные дни, кончен обман и жестокость. Напрасны были все многолетние усилия, интриги, авантюры и превращения, напрасны были ожидания и надежды.
Но теперь… Теперь, когда кончено одно, может начаться другое — тихое и светлое, от чего однажды пришлось отказаться, от чего пришлось сбежать, подменив послушанием — чувства, а тенью — свет.
С этой мыслью Венсан де Брие выбежал на крыльцо дома — в одних нательных штанах, босиком, без рубашки — и совершенно не был похож в это мгновение на рыцаря тамплиера, на мужественного и бесстрашного воина, прошедшего не одно испытание и видевшего не одну смерть. Только шрамы на его теле синими штрихами выделялись и пульсировали — будто напоминая о прошедших днях.
Увидев на лужайке всех, к кому теперь так стремился, Венсан поднял руку с развернутым свитком, трепетавшим, как знамя. Глаза его сияли, глубокое разочарование сменилось в душе давно не испытанным воодушевлением. В это мгновение он понимал, как ждут его решения все, кто давно был ему близок и дорог. И он открыл рот, чтобы крикнуть, чтобы немедленно сообщить им…
И вдруг странный толчок ощутил прямо в сердце. И жаркий цветок пламени запылал в нем. И странная легкость внезапно появилась в ногах, и перестали отвлекать звуки, и перед глазами возникла пелена. Он опустил голову, чтобы узнать, что послужило причиной. И сквозь туманную эту пелену увидел темный прутик, торчавший из груди…
Он сделал по инерции еще несколько шагов, и колени его подкосились. Северин, подбежавший к нему первым, не дал брату рухнуть на землю. Он подхватил вмиг отяжелевшее тело Венсана и бережно уложил его на траву. Потом в отчаянии поднял голову, оглядел окружающих и заметил, как Эстель выронила лук.
Крик ужаса вырвался из горла девушки. Она поняла, чтО натворила мгновение назад.
Подбежали все остальные. Ребекка схватила дочь за руки и оттащила в сторону. Обе заплакали, обнявшись. Тибо быстро свернул циновку и подложил ее под голову раненому рыцарю.
— Держитесь, сеньор! — приговаривал он, глядя в помутневшие глаза де Брие. — Я вытащу стрелу, я умею это делать. Вот только сбегаю в дом за моим волшебным снадобьем, вы его знаете… Всё будет хорошо!
— Не надо… — прохрипел Венсан.
— Почему? — спросил Северин. — Беги скорее, Тибо!
— Так лучше… — снова прохрипел Венсан де Брие. — Так будет лучше… для всех…
— Ты уже бредишь, брат! — воскликнул Северин. — Какая нелепость!
— Я не брежу, брат. Возьми свиток, там написано…
— Потом! Я прочитаю потом!
— Да, прочитаешь… — простонал Венсан. Потом попытался повернуть голову. — Где Эстель?
— Она здесь, — ответила Ребекка.
Вдвоем с девушкой они приблизились к быстро слабевшему рыцарю. Тот смотрел на них немигающим взглядом, и было трудно понять по глазам де Брие, видит он женщин или уже нет.
— Ребекка! — позвал Венсан.
— Я здесь, сеньор, — отозвалась женщина дрожащим голосом и встала на колени рядом с раненым. — Я слушаю вас.
— Прошу тебя… — простонал он, — береги нашу дочь… Она ни в чем не виновата… Где она?
— Я здесь, сеньор, я возле вас, — сквозь слезы едва слышно произнесла девушка, тоже вставая рядом с раненым на колени.
— Дай руку…
Девушка протянула свою ладошку и ощутила пожатие горячей мужской руки, в которой оставалось еще столько силы, сколько не успела отобрать смерть.
— Я очень люблю тебя… — слабея, прошептал Венсан де Брие. — Помни об этом всег…
Голова рыцаря упала набок, глаза потухли и остекленели. И тут же вопль отчаяния вырвался у обеих женщин. Они склонились над телом Венсана де Брие. Их слезы капали на его оголенную грудь и смешивались со струйками алой крови, сочившейся из раны.
Вернулся из дома Тибо. С ним на лужайку выбежал Гишар де Боже.
— Кто вы, сеньор? — спросил Северин, поднимаясь с колен.
— Я хозяин этого дома. Что здесь произошло?
— Несчастный случай, — ответил Северин де Брие. — Нелепая случайность.
— Как ужасно! Господи, как же так?! — воскликнул Гишар, растерянно глядя на бездыханное тело. — А я думал, что везу его милости хорошее известие…
— Какое известие? — спросил Северин.
— А вот. — Гишар поднял с травы свиток, который выронил Венсан де Брие. — Сеньор торопился к вам, чтобы дать почитать этот документ. Господи, упокой его душу…
— Что это?
Северин взял из рук Гишара лист пергамента и начал его просматривать. В одном месте он остановился и уже вслух перечитал второй раз.
— «Что касается Ковчега завета, — произнес он, — то эту святыню не нашли, сколько ни искали, ни в Иерусалиме, ни в его окрестностях, ни где-нибудь еще в Иудее. Великим магистром Ордена храма Гуго де Пейном было принято решение, дабы навсегда покончить с ажиотажем вокруг этого вопроса, перевезти во Францию и надежно спрятать в одной из пещер на юге некий сундук, напоминавший бы по форме описанный в Библии и упомянутый выше Ковчег. Таким образом, началась эта мистификация, о которой было известно лишь Великим магистрам Ордена и передавалось в строжайшей тайне от одного к другому».
— Господи! — воскликнула Ребекка. — Сколько же смертей и несчастий было вокруг этого обмана!
— И сколько еще будет… — добавил Северин.
— А этот документ? — спросил Тибо. — Разве не стОит его обнародовать, чтобы прекратились всякие поиски?
— Тогда новая волна захватчиков и паломников ринется в Палестину, чтобы перевернуть там всю страну! — воскликнул Северин. — Так никогда не будет мира и покоя на земле!
— А здесь? — снова спросил Тибо. — Разве здесь будет покой? Король ведь продолжает искать…
— Пусть ищет, — ответил Северин де Брие. — Я уверен, что совсем скоро всё уляжется.
Он опустил голову, посмотрел на тело брата, лежавшее у его ног. Легкий ветерок, крадучись над самой травой, едва шевелил прядь волос, упавшую на посветлевший лоб мертвого рыцаря. Северину даже показалось, что на губах Венсана навсегда застыла улыбка — такая редкая при жизни.
— Венсана уже нет с нами, — произнес он тихо. — Это печально, это горестно сознавать, с этим трудно смириться, но это так. Пройдет какое-то время, люди короля потеряют след и перестанут искать то, чего на самом деле, как теперь стало ясно, никогда не было и нет…
— Выходит, сеньор, мы с вами таскали в Англии подделку? — спросил Тибо.
— Выходит, что так.
— И ничего не произойдет, если посмотреть на нее?
— Ничего. А я-то искренне думал, что мы прячем настоящую святыню! Я тоже был вовлечен в обман, в мистификацию. Впрочем, так думали все, кто с этим был связан. Вот так, тайное далеко не всегда становится явным. Но когда это случается, не всегда явное становится тем искомым, желанным и выстраданным, каким казалось раньше. Одна тайна порождает другую, одно заблуждение ведет к следующему, одно разочарование влечет за собой еще более глубокое. Величайшим терпением должен обладать тот, кому удастся преодолеть все преграды и кому, наконец, откроется Истина. Венсану не хватило на этом пути одного шага…
— Выходит, на этом обмане стоял весь Орден тамплиеров?! — воскликнул Гишар де Боже.
— Если бы это было не так, — задумчиво ответил Северин, — нас бы уничтожили еще раньше…
— Господи! Почему это случилось в моей жизни! — воскликнула Ребекка, стоя на коленях перед остывающим телом рыцаря.
— И в моей… — подвывая, добавила Эстель.
Она смотрела на спокойное теперь и гладкое лицо своего покровителя и всё еще не могла поверить в то, что гордый исполин, твердый и незыблемый, как скала, в одно роковое мгновение рухнул. Еще несколько минут назад она и думать не могла о том, что неприступная крепость может выбросить белый флаг, что суровое и благородное сердце воина-монаха может когда-нибудь остановиться. За короткое время она успела полюбить его всею душой и теперь остро понимала, что погубила свою любовь собственными руками.
— Тибо, — позвал Северин, — ты знаешь Париж лучше меня. Сходи куда нужно, чтобы нанять людей для похорон.
— Лучшего места, чем приход Сен-Жермен-л'Оксерруа, в Париже не найти, — ответил верный оруженосец. — Уверен, что для графа де Брие отыщется тихий уголок на кладбище Невинных. Только нужно заплатить немалые деньги…
— Я дам тебе столько, сколько необходимо для отдельной усыпальницы. Мой брат заслужил гораздо бОльшего, но обстоятельства заставляют нас совершить обряд со скромностью, присущей настоящему тамплиеру.
— Да, сеньор, я сделаю всё, как надо. Там же я приглашу и священника, — тихо сказал поникший оруженосец.
— Нет, — твердо ответил Северин, — нам не нужны лишние глаза и уши. Едва ли в этом городе найдется тот, кто будет достоин проводить в иной мир моего брата. Я сам совершу отпевание…
…Вечером в доме Гишара де Боже было тихо. За столом в кухне сидели все его временные обитатели — все, кроме того, о ком оставалось лишь вспоминать.
— Сеньор, что нам теперь делать? — спросил Тибо, с надеждой глядя на де Брие. — Например, я мог бы служить вам…
Северин посмотрел на него задумчиво, потом тихо произнес:
— Нужно жить дальше — всем нам. Русло реки свернуло с прежнего направления, и перед нами открываются новые пути. Теперь я, скорее всего, не задерживаясь ни на один день, отправлюсь в Брие. И кто пожелает поехать со мной, тот получит не только кров, но достаток и покой.
Он взглянул на женщин, те молчали, отвернувшись.
— Ваша милость, я готов служить вам до конца моих дней, — заверил Тибо.
— Полагаю, у меня будет возможность оценить твою преданность, — ответил Северин.
— Сеньор, — робко позвала Ребекка после паузы, и было видно, что страшное утро для нее все еще продолжается, — а почему сеньор Венсан сказал «береги нашу дочь»?
— Ты действительно хочешь это знать? — спросил Северин.
— Да.
— Тогда знай, что в ту ночь… ты понимаешь, о какой ночи я говорю… так вот, в ту ночь с тобой был Венсан, а не я… Меня удержала робость, тогда как он воспользовался тем, что я с ним поделился…
— Господи! — вырвалось у Ребекки. — Господи, прости этому человеку, как прощаю ему я…
— Выходит, я убила собственного отца?! — воскликнула Эстель, вскакивая с табурета.
Северин де Брие поднялся, выставил руки и не дал девушке убежать.
— Господь простит тебя, девочка, — тихо сказал он, прижимая голову Эстель к своей груди.
— Как мне жить с этим дальше? В моей душе померк свет и наступил мрак…
Северин отстранил девушку от себя и тихо сказал, глядя ей в глаза:
— Жизнь, моя девочка, — это бесконечный поединок света и тени, и никому не дано знать, где кончается свет и начинается тень, и никому не дано знать, что есть одно, а что — другое…
2
Утро без настроения — это даже не катастрофа. Это особое состояние души, когда любой шорох может стать раздражителем, — не то что случайный телефонный звонок или голос на лестничной площадке.
Инна проснулась, когда еще было темно. Она лежала на спине, а перед глазами видела не привычный сумрачный потолок в сеточке тюля, а огненно-кровавые языки пламени, жадно тянувшиеся к ней. И в этих отблесках неизвестного огня мелькали чьи-то скрюченные фигуры и бесконечные лица — незнакомые и какие-то жалкие. Казалось, каждое нуждалось в сочувствии… И звуки — какофония звуков сопровождала этот хоровод. Что-то визжало, что-то скрежетало, ныло, рыдало, канючило и хохотало вокруг.
Дрожащей рукой она потянулась к ночнику и успокоилась только тогда, когда конус желтого света выпал из-под колпака торшера. Кошмар исчез — улетучился в одно мгновение.
«Господи, что это было?!» — подумала она и вдруг с поразительной ясностью вспомнила свой последний сон. Лужайка перед парижским особняком, тугие плечи натянутого лука, кровь на груди умирающего Венсана де Брие и его грустные помутневшие глаза.
Инна вскочила, заметалась по комнате, потом тихо, обессилено села на кровать. Она совершенно не знала, что теперь делать…
Механически, как на автопилоте, умылась, привела себя в порядок, убрала постель. Завтракать не хотелось — заставила себя проглотить бутерброд с сыром и чай. Включила компьютер. Надежда на утреннее сообщение теплилась в ней. Но почтовый ящик был пуст.
«Ничего, еще целый день впереди, — подумала она, успокаивая себя. — У него ведь тоже заботы по утрам: завтрак там, уборка, рынок…» Придумала сюжет для Андрея, чтобы оправдать молчание.
Потом снова открыла почту и решительно написала: «Доброе утро, Андрюша! Я сделала всё, как мы договаривались. Сначала я думала, что умру от страха! Но ты не представляешь, как мне на самом деле было легко! Просто я знала — ради чего всё это делаю… Напиши мне…»
Письмо успешно отправилось — исчезло в пространстве, упало в бесконечность. Но не пропало бесследно: по каким-то замысловатым траекториям оно должно было непременно долететь к тому, кому было адресовано, и обозначиться в его почте в разделе «Входящие».
Она стала ждать. Нет ничего хуже в жизни, чем ждать. Тысячи, миллионы возражений против этой истины можно выслушать и принять от разных людей, тысячи и миллионы примеров иных испытаний. Но любой из этих людей, когда бы сам столкнулся с ожиданием, непременно бы сказал: да, именно это самое мучительное, что только может быть в жизни.
И пришел вечер — и ушел вечер. И наступила новая ночь — и прошла ночь. И только на следующее утро женщина поняла, что тает, что уменьшается в размерах, что ожидание — съедает ее, истончает, превращает в тень…
Она встряхнулась, умылась ледяной водой. Она знала, что таким способом можно быстро вернуть кровь к голове, можно отыскать равновесие.
«Так, сосредоточилась — и вспомнила: куда ты положила визитку? — говорила она себе, шаря по полочкам и ящичкам своего секретера. — Не могла же ты ее выбросить, нет такой привычки — сразу избавляться от хлама. Должно отлежаться, и только время покажет, что нужно выбросить, а что сохранить. Так, вот она!»
— Здравствуйте. Мне бы с телемастером поговорить…
— Извините, это невозможно, — ответил девичий голос, в котором звучал не вежливый отказ, а тревога и беспокойство.
И эти ноты в одно мгновение вошли в унисон с нотами собственной души.
— Почему? Что-то случилось?!
В трубке всхлипнуло, потом тот же девичий голос сказал:
— А почему вы решили, что что-то случилось?
«Да, тут я оплошала!» — подумала Инна.
— Мне показалось, что вы чем-то расстроены… — сказала она.
— А мне показался знакомым ваш голос, — сказала девушка.
— Правда? Но я звоню по этому телефону только второй раз в жизни, и в первый раз говорила с телемастером, а не с вами…
— Инна Васильевна, это вы?
— Господи! Кто это?
— Это Катя Коробейникова, мне папа всё рассказал про вас…
— Катенька, солнышко! Я не могу поверить! Андрей Глыбов — твой папа?
— Да, только это его литературный псевдоним.
— И он… рассказал тебе… про нас?..
— Да, Инна Васильевна. И я читала всю вашу переписку…
— Девочка моя, прости меня!
— За что?
— За то, что я вторглась в вашу жизнь…
— Нет, что вы! Напротив, это я должна благодарить вас.
— За что?
— За то, что вы вернули папу к жизни, к творчеству. И еще… Знаете, что он сказал мне в пятницу вечером? Он сказал, что с вашей помощью понял, как нужно любить близких людей…
— Я тронута, я сражена…
— А я сражена вашими письмами и стихами…
— Катенька, девочка! Об этом после поговорим… Что же с папой?
— Он в больнице, у него прединфарктное состояние.
— Господи! Когда это случилось?
— Вчера утром, когда проснулись, папа стал жаловаться на сердце, и мы вызвали «скорую». Мамы сейчас нет, она приедет только завтра. Но в больнице маму знают, там дежурят хорошие врачи… Она им звонила…
— Он в сознании?
— Да, к нему даже можно пройти. Папа в отдельном боксе.
— Катенька, я хочу его видеть.
— Я как раз сейчас собираюсь, пакет складываю. Если не возражаете, мы могли бы встретиться возле входа.
— Это в Областной кардиологии?
— Да.
— Я уже бегу!
* * *
— Папа, ты не спишь? А я не одна…
Андрей медленно повернул голову.
— Инна!
Их глаза встретились, и в прохладном боксе в то же мгновение стало теплее.
— Андрюшенька! — вырвалось у нее — непозволительно ласковое в присутствии дочери…
— Я подожду в коридоре, — сказала девочка и вышла.
— Господи, Андрюша! Какая у тебя замечательная дочь! Какая деликатная…
— Да, это так. Ты уже всё знаешь?
— Да, она мне рассказала…
Инна присела на край больничной койки. Андрей тут же поймал рукой ее дрожащие пальцы.
— Вот так. Помнишь, я говорил, что никогда не обманываю дочь?
— Помню. Ты правильно поступил.
— Прости…
— Глупости! Я о другом хочу — о том, чего Катя еще не знает… Это ведь я тебя… де Брие — прямо в сердце…
— Получается так. Ты — молодец!
— Если бы не это… если бы не твоё сердце… Господи, как всё связано! В это невозможно поверить! Мне теперь кажется, что мы совершили чудовищную ошибку!
— Нет, мы сделали всё правильно.
— У меня только одна надежда: всё-таки наша медицина — это не средневековье! Ты должен выкарабкаться!
— Так и будет! Главное, что мы сделали то, что хотели… наперекор всему… или нашими руками сделано то, что должно было сделаться…
— Но ведь Ковчега не было — ни в Англии, ни где-нибудь еще… Это потом выяснилось, когда…
— Это же прекрасно! — воскликнул Андрей и улыбнулся. — Я успел тогда прочитать «Список».
Он попытался сесть, Инна его отговорила. Они помолчали несколько минут, не отводя друг от друга своих глаз. И в эти минуты Инне показалось, что Андрей как-то переменился — внутренне.
— А знаешь, — вдруг сказал он, — я многое передумал за последние два дня. Теперь, когда всё закончилось… надеюсь, что закончилось…
Он не договорил, отвернулся от Инны. Она ждала, она понимала, что Андрею есть что сказать.
— Я больше не верю в эту мистику, это просто невозможно! — заявил он, снова поворачиваясь к ней. — Я просто не знаю, как назвать то, что происходило: какая-то шизофрения, наваждение, коллективный психоз…
— Нас ведь было всего двое, это еще не коллектив, — возразила она. — Впрочем, не исключено, что где-то живут еще и те, кто исполнял во Сне роли Тибо, Северина, Ребекки, Луи, Эмильена-левши, папы, наконец… Просто нам с тобой повезло больше других: мы встретились в этой жизни, мы могли позволить себе обсудить то, что происходит или происходило, даже что-то решать… Уже решили…
— Нет, Инна, это просто психоз, нас кто-то умело зомбировал… Странно — для чего? Тем более что Ковчега — нет.
— Почему нет? Он есть, но не там, где его искали…
— И все-таки это был бред…
— А как же вот это? — спросила она, снимая с шеи тонкую цепочку с маленьким кулоном в виде сердца. — Ты сам подарил его мне в пещере Ренн-ле-Шато. Помнишь?
Он посмотрел на золото в ладони Инны, потом встретился с ней взглядом.
— Откуда у тебя это?
— Сколько себя помню, ношу это сердечко…
— Тогда я уже решительно ничего не понимаю…
— Выздоравливай, Андрюша, — сказала она. — И будь счастлив. У тебя замечательная семья. Ты нужен им больше, чем мне…
Он молчал. Он понимал, что всё заканчивается.
— Я, наверное, напишу новый роман — обо всем, что с нами произошло, — вдруг тихо сказал он. — Несмотря на болезнь, несмотря ни на что! И назову его «Перекресток теней». И посвящу тебе…
— Ты посвятишь его своей жене, Андрюша. Она как никто этого заслуживает…
Коротким движением Инна смахнула слезу со щеки, потом принужденно улыбнулась, высвободила руку и поднялась. Она отошла к двери, оглянулась и постояла несколько мгновений, глядя в глаза Андрею.
— Прощай… — прошептала она и попыталась еще раз улыбнуться дрогнувшими губами.
Торопливо — мимо Катиных глаз, мимо медсестер и нянечек — засеменила она к выходу в самый конец длинного коридора. Андрей лежал с закрытыми глазами, и ему казалось, что он слышит долгое цоканье ее каблучков… и даже видит их — как пунктирную линию… ту самую…
… Через три недели, открыв электронную почту, он прочитал:
«Одно на два безумства малокровие — неотвратимый, пагубный недуг: прощаний непременное условие — болезненная бесприютность рук. Вокруг не мир — бесформенная льдина, ни капли жизни, ни души теперь. Лишь на снегу две ягоды рябины — красивейшая из кровопотерь…»*[1]ВМЕСТО ЭПИЛОГА
«…Итак, после того, как Иисус умер, произошло землетрясение, от которого образовалась трещина («камни расселись»), проходившая от отверстия для креста вниз до пещеры, где находился Ковчег Завета. Затем воин пронзил Христу рёбра, и из Него истекла кровь и вода. Она протекла по трещине и окропила крышку Ковчега Завета. Остаток пятницы и всю субботу Иисус покоился в гробу. На рассвете первого дня произошло второе землетрясение, при котором воскресли многие (Матф. 27:52,53), и которое закрыло ту трещину, что предотвратило Ковчег от загрязнения. Тайна произошедшего тогда события была запечатана на века, вплоть до 6 января 1982 года, когда американский археолог Рон Уайетт вошёл в пещеру с Ковчегом Завета…
…Результаты обследования найденного Роном образца крови доказывают, что это кровь Сына Бога. Каждая клетка этой крови содержит 24 хромосомы (23 — от земной матери, и одну — от Отца Небесного), в отличие от 46 хромосом обычного человека. Это доказывает, что человек, имевший эту кровь, не имел человеческого отца. Техника того, каким образом это могло произойти, ещё не изучена. Но главное не это, а то, что Он унаследовал через хромосомы своей матери всё, чем обладали его предки. Единственным отличием от них было то, что Он, неся в себе весь груз человеческих духовных и физических слабостей, проявил в своей жизни чудесную веру и преодолел этой верой каждое искушение и поэтому не согрешил…
…Задача христианина — обрести веру Христа. Именно ту и такую веру, которая ПОБЕЖДАЕТ каждое искушение и следующий за ним грех, в отличие от той и такой веры, которая только заявляет о себе на словах. Вера Христа — сила Божья, способная побеждать. Она — наша цель, и это реально достижимо. «Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его».
…Ковчег расположен в пещере за северной границей области старого города в Иерусалиме. Он защищён таким же образом, каким Бог его всегда защищал — Его ангелами. Ничего кроме этого не требуется…
…Нам, как немощным людям, следует в этом вопросе довериться силе и могуществу Бога, который не попустит надругаться над тем жертвенным свидетельством. Это было доказано несколькими евреями, которые захотели перенести Ковчег Завета в другое место. Пройдя десяток метров по тоннелю к пещере с Ковчегом Завета, они упали замертво. Бог не допустил к Ковчегу людей с нечистыми помыслами и не дал им удалить свидетельство пролитой за нас крови Христа….
В планах Бога — Ковчег Завета должен остаться на своём месте под отверстием для креста, с окроплённой кровью Сына Бога крышкой.
Люди, стремящиеся заработать себе славу на этих открытиях, вскоре будут разочарованы, так как их ожидания не найдут подтверждения. Путь этих открытий, как и путь Христа — через тернии ко кресту».
Инна закрыла страницу, выключила компьютер. Потом придвинула к себе стопку тетрадей и начала проверять сочинения своих любимых учеников на тему «Человек — это целый мир».
В тетради Кати Коробейниковой была записана только одна фраза: «Суровость жизни закаляет далеко не каждого, а только того, кто не ищет в ней оправдания своей слабости».
И она поняла, что написано это для нее…
Примечания
1
Все стихотворения, помеченные *, принадлежат Александре Герасимовой, г. Томск.
(обратно)










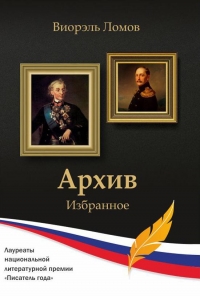
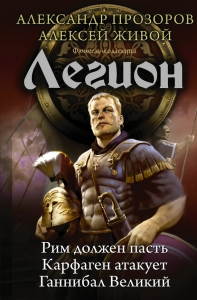

Комментарии к книге «Перекресток Теней (СИ)», Юрий Ефимович Гельман
Всего 0 комментариев