Побѣдители Елена Чудинова
Дизайнер обложки Ярослав Николаевич Попов
© Елена Чудинова, 2017
© Ярослав Николаевич Попов, дизайн обложки, 2017
ISBN 978-5-4485-8146-5
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
ПУБЛИКУЕТСЯ В АВТОРСКОЙ РЕДАКЦИИ
Все совпадения жизненных обстоятельств, портретов и имен (включая совпадение имени главной героини с именем автора книги) являются случайными
Пролог
Моим сверстникам – по обе стороны зеркала – посвящается
Сквозь дрему я услышала, как золотое яблочко закрутилось по тарелочке – в будуаре, через приотворенную дверь спальни. Прозвенело, хлынули потоком утренние новости. Половина десятого. Увы, пробуждаться действительно пора, хотя, настраивая вчера домашнюю технику, я не думала, что всю ночь мне вновь будут сниться нелепые и тревожные сны, скорей отнявшие силы, чем подарившие отдых. И все же… Нельзя себе слишком потакать.
Любимый лебяжий белый пеньюар, любимый столик-маркетри, на котором я уже через несколько минут устраиваюсь с чаем. Круассаны только что присланы из булочной, горячие, хрустящие. Существуют, как известно, две школы бытия: русские сперва принимают ванну, а потом завтракают, французы же – строго наоборот. Непонятно только, отчего я всегда выхожу француженкой.
Ладно, чем порадуют с утра тарелочка с золотым яблочком, как в моем детстве называла новостную панель с пультом няня Тася. Да, я и до сих пор так говорю иногда. Панель у меня, кстати, небольшая, почти что вправду со столовую тарелку. Когда мне в нее смотреть, кроме как утром? Развлечение для людей пожилых.
– … В Москве открылась Международная конференция «Мальтийский Инцидент – двадцать лет после. Уроки, выводы, прогнозы».
Да уж… Самый крупный политический кризис ХХ столетия. Я была вовсе маленькой, а помню (или мне кажется?) мрачную тень, подобно грозовой туче наплывшую на континент.
Между прочим, все ведь валом повалят на открытие. То есть наличествует шанс, что сегодня у кузины Наташи Альбрехт не набьется полон дом гостей. Нужды нет, когда мне очень нужно застать Наташу одну, я могу ее о том попросту попросить прямо. Но это уже намек на необходимость серьезного разговора. Хочется ли мне признаться себе самой, что есть о чем поговорить серьезно? Ни себе, ни Наташе, нет, не хочется. Она конечно, все равно поймет, но лучше уж так, невзначай… Если допить чай и сразу на вокзал, вечером буду в Первопрестольной. Задержаться можно будет в московской квартире дня на два. Ну да нам не привыкать стать жить на два города.
– …Священный Союз рассмотрит возможности оказать материальную помощь Соединенным Штатам Америки.
Получат они помощь, чего уж тут. Плохо ведь в стране. Хотя… можно б и не давать. По сути, виноваты-то сами. Надоело, вишь, видеть в Белом доме все Кеннеди да Кеннеди… Два срока Джона Фитцджеральда, два срока Роберта Френсиса… Разнообразия захотели. Кто он вообще, этот Дик Никсон, откуда взялся? Выбрали на свою голову. Ну и, понятное дело, сразу кризис. А ведь Клан почти вытянул страну… Вот и результат: Эдвард Мур теперь, говорят, даже ночует за письменным столом. Что поделать, у них же, у бедных, республика. Давно доказано экономистами: монархии развиваются много динамичнее и стабильнее республик.
Приятные все же лица у этих рыжих Кеннеди! Впрочем, JFK давно уже не рыжий… А держится молодцом. Другой бы сдал на его месте, и здоровье никогда не было крепким, и все эти покушения… Другой, но не этот. Симпатичный старик. А это кто рядом, Джон-младший? Да, он самый. Тоже приятное, пожалуй, даже красивое лицо, хотя, признаюсь, с этими своими улыбками до ушей американцы все же немного переслащивают.
– Волнения в Иерусалиме…
Ну, тут ничего нового, можно и не слушать. Это все левые буянят. Зачем, мол, столь огромный бюджет на армию, в такой-то спокойной стране, как Израиль? Лучше б эти деньги, да на всякое приятное. Ну да военный министр Авигдор Эскин ни на волос не сдвинется. Баснословно молодой министр, мой ровесник. Странные слова он сказал при назначении. «Любители избыточного комфорта потерпят. Мое дело – безопасность. На самом деле мы живем на пороховой бочке». Так потом никто и не догадался, где Эскин нашел в Израиле пороховую бочку? «Ястреб». Успел три года прослужить советником президента в ЮАР, завинчивал там гайки, укрепляя апартеид, было давший несколько трещинок. Даже какой-то бурской государственной наградой за это отмечен.
Эскина я видела один раз вживе, на каком-то очень большом официальном приеме. Нас друг другу даже представили, но мы обменялись буквально парой слов. Только мелькнула мысль: «Какой же добрый, оказывается, взгляд у этого ястреба». И еще, взглянув в эти серо-голубые глаза, я вдруг ощутила, будто бы мы давным-давно знакомы, не раз бродили вместе по московским улочкам, именно по московским почему-то, сидели в маленьких ресторанах. И вместе курили. Я не курю, между прочим, но очень люблю побаловаться сигареткой-другой в подходящей компании. И мне представилось почему-то, что и Эскин тоже курит только в компании. И что, собираясь с ним повстречаться, я нарочно клала в сумочку коробочку сигарет, чтобы лишний раз сбить его с пути истинного. Хуже того, мне показалось, что похожее чувство возникло на мгновение и у Эскина. Будто бы лицо его сделалось растерянным, словно он тщетно пытался что-то вспомнить. Что, конечно, уже полный бред. У меня серьезные трудности, да. Но уж не у этого же внушительного политика. У него таких трудностей по определению быть не может.
– На главных подмостках сезон откроется с оперы Никитина «Северо-западники».
Не очень люблю современную оперу, но эта – сильная вещь. Сюжет построен на освобождении Петрограда Юденичем. Как композитор Никитин перекликается с Пуленком. Потрясающее произведение. Сколько раз была – и снова пойду слушать.
– В цирке Чинизелли продолжаются гастроли молодого трио московских клоунов…
Не выношу этот вульгарный жанр. Но Бетси водила детей, сказала, что малютки очень смеялись. Но постойте, это уже столичные новости пошли… А как же главное? Во всяком случае – главное для меня? Знаю, как это делается, когда раньше времени пускают события культурной жизни. Кто-то в редакции сейчас ерзает за столом, лихорадочно глядя в рабочий новостник. Успеем сейчас, или только в следующем выпуске? Ах, вот…
– Срочно! Нам сообщают из Рима…
О, нет! Звонкая трель, изображение на тарелочке мутится, идет рябью… Ну кому я могу понадобиться в такой час – именно в эту минуту?!
Сквозь новостные картинки проступило лицо – более чем знакомое, высоколобое, с зачесанными на идеальный косой пробор русыми волосами.
– Ник… О, Боже, ты мне сбил самую важную тему дня!
– Нелли, даже не проси оставить тебя в покое! Мне нужно поговорить с тобой сию минуту. Новости никуда не денутся. Разве что станут старостями.
– Ты находишь?
– Нахожу повсюду.
Давние наши шуточки. Похоже, приходится смириться с неизбежным. Ник, по крайности, немногословен. Сейчас скажет, что ему от меня надо.
– Мне не удалось отвертеться от присутствия на заседании Главной Топонимической Комиссии. Завтра в одиннадцать утра.
Ник подался чуть вперед к своей панели, лицо заняло всю плоскость, даже сделался виден шрам, слегка повредивший форму правой брови. Серебристая тонкая полоска. Очень тонкая. Подумать странно, что было столько крови. Ох, крови было… Впрочем, сапог-то мой был не скаковой, а просто конюшенный, грубый, подбитый гвоздиками.
Я сидела тогда на танкетке в гардеробной. Одна нога, правая, уже обута не только в туфельку, но и упакована в зимний ботик, с левой я только стягивала этот самый сапог. Тут Ник, стоявший напротив, в оконной нише, и крикнул мне, что Невермор обойдет Арнику стреноженным. Стреноженным! Каково?! Я могла бы в тот день поклясться, что сапог полетел в Ника сам, без помощи моей руки.
Это был, вне сомнения, 1971 год. Последний мой год, когда, по неписаным законам Конюшен, девочки и мальчики могли драться меж собой. Двенадцать лет – и никаких драк. Нельзя. Не положено. Ты теперь бэээрышня. Ударишь – мужчина только стерпит. В 1971 году мы с Ником дрались до невозможности часто. На всю дальнейшую жизнь.
Впрочем, в тот раз я поняла, что не была права. Слишком свирепо свистнул в воздухе сапог, слишком отчаянно заморгал глаз, пытаясь проглянуть сквозь ярко-алые потеки. Я не сознавалась себе, задирала нос, но совесть грызла долго. Иначе – с чего б спустя несколько недель я так легко согласилась поменяться: моя японская гравюра с самураем на его немецкую губную гармонику? После невыгодного обмена муки совести вроде как поутихли.
– Нелли… Нелли, ау! Ты о чем задумалась?
– О золотом детстве. Так что Топонимическая комиссия, Ник?
– Известно, что… Славянофилы опять за свое.
– Неймется же им…
Что тут скажешь? С 1930-го года, с тех пор, как Петрограду было возвращено историческое имя Санкт-Петербург, пяти лет не проходит без возмущений славянофилов. Подавай им Петроград – и все тут. Больше полувека прошло – а все никакого спасу от них. Русское Собрание унаследовало от предшественников своих из Союза Русского Народа манеру злоупотреблять прошениями на Высочайшее Имя. То и дело Александр Филимонович Решетов (В жизни-то – милейший человек, а какой тонкий знаток иконописи Новгородской школы!) направляет в Высочайшую канцелярию подписанную всей фракцией «челобитную». Иногда они хотят просто Петроград, иногда даже Святопетроград, это у них внутри свои кипения страстей. И неуклонно прилагают текст документа от 31 августа 1914-го года. А их филологи каждый раз дополняют это все новыми теоретическими изысканиями. И каждый раз приходится с этим разбираться. У славянофилов шестьдесят два гласных в Думе, так просто не отмахнешься.
– И ты хочешь, чтобы я с ними спорила?
– Хочу. Нелли, вся надежда на тебя.
– Надежда на меня, а мне с удовольствием слушать, что девиц нельзя допускать на заседания по серьезным вопросам. И что прялка по мне плачет.
– А мне, с не меньшим удовольствием, слушать намеки, что моему уху милее «бург» по причине моего предосудительного происхождения. Чушь, конечно, ну какой я немец, в самом-то деле? Но ты-то уж совсем-совсем русская, так что имеешь полное право быть западницей. Нелли, я без тебя не справлюсь. А, кроме того, это не лесть, ты лучше всех нас разбираешься в Мировой войне1…
– Разве что на вашем безграмотном фоне…
– Глумись, глумись… Так я могу на тебя рассчитывать?
– Да куда ж я денусь… Можешь. Хотя я сегодня хотела мчаться в Москву. Так и быть, отложу. Но твое счастье, что я еще не улетела в Рим.
– Действительно, мое! – Ник рассмеялся. – Я и забыл – тебя ведь хлебом не корми, дай увидеть воочию, как вместо черного дыма из трубы повалит белый.
– Сердце мое, Николушка, на памяти нашего поколения это первый конклав, который мы наблюдаем в сознательных летах. Предыдущий, если ты забыл, проходил до Мальтийского Инцидента. Сильно подозреваю, что кубики и куклы-неваляшки нам были в те дни интереснее.
– Я вижу, что ты счастлива.
– Ну… не вполне все же. Полное отсутствие интриги! Такого еще никогда не бывало. Девяносто девять и девять десятых за то, что все ясно заранее. Монсеньор Марсель Лефевр, миссионер из Черной Африки, встретит 1985-й год Папой. Но и это еще не все. Девяносто девять и девять десятых за то, что известно, какое имя он выберет.
– Беда, да и только. – Ник все еще улыбался.
– Уж если конклав, то можно б ожидать и больших волнений. Ему, правда, прочат в соперники этого поляка, Кароля Войтылу, но это не всерьез. Войтылу ведь подозревают в тайной склонности к модернизму. Нет, он Монсеньору Марселю Лефевру не соперник…
– Нелли… Умерь красноречие, все-таки вспомни, с кем говоришь…
– Гмм… Ты прав. В самом деле, неловко получается. Так, стало быть, до завтрашней встречи?
– Благодарю, я знал, что ты меня не подведешь. Но… – Ник сделался обаятельно серьезен. Таким его нельзя не любить. Да и кто ж не любит Ника? – Мне не нравится твое лицо. Что-то неладно, Нелли?
– Пустое, право. Снились скверные сны.
– Сны? Ты, верно, перетрудилась в архивах, Нелли. Не всякому мужчине по нервам читать то, что пудами читаешь ты. Я, конечно, понимаю, что ты у нас мужеумная и все такое, но душа-то у тебя – женская. Жалей ее иногда.
– Может статься, ты и прав. Мой первый роман закончен и издан, и я очень постараюсь, чтобы новый был все-таки не о Гражданской.
– И было бы мудро с твоей стороны. Ты еще вернешься к Гражданской войне, иначе быть не может. Но есть ведь еще не меньше любимый тобой Золотой век Екатерины… Ладно. Прощаюсь с тобою до завтра. Мне еще, прости, столько всего надлежит сделать до обеда на страх врагам. Пока до свиданья!
– До завтра!
Тарелка померкла: новости, видимо, уже завершились. Государь Николай Павлович, Николай Третий, занялся прочими неотложными делами. Государь Николай Павлович, двадцатичетырехлетний монарх, правящий ровно двадцать лет. Хотя, если по чести, то, конечно, всего три года. Сколько же нервов нам всем съело ожидание этого совершеннолетия! Сорокалетние старики, с их робкой осторожностью, с их скучным ретроградством, несколько лет препятствовали нашему поколению в свершении необходимейших смелых шагов. Ну да с этим покончено. Уже три года, как настали самые замечательные времена.
Глава I Путешествие из Петербурга в Москву
Завтрашнее утро в Москве встретит меня Яблоневым Спасом. Об этом приятно было думать, глядя в окно скоростного экспресса «Молния», с мелькающей за стеклом листвой августовских деревьев, еще не тронутых желтизной, но уже немного поблекших. В Москве этот праздник – самый нарядный. «Молния» прибывает поздно вечером, к Наташе я напрошусь с утра. И едва ли кого-нибудь у нее утром-то застану. Вот и получится – без посторонних, но невзначай. Славно.
Карамзин упоминал, что первые часы путешествия мысли занимает то, что осталось за спиной, но дальше они переключаются на цель назначения. У меня же вышло на сей раз наоборот. Сначала я думала только о Наташе, предвкушая встречу с той совершенно особой радостью, которую никто иной просто не может во мне вызывать. Легкое замирание сердца, словно мчишься в детстве с горки на ледянке, а губы сами собой складываются в глупую сияющую улыбку, призрачно возвращенную мне нелюбезным оконным стеклом. Но затем мысли обратились к немного огорчившей меня истории, случившейся перед отъездом. Впрочем, случиться-то ничего ведь и не случилось. Более того, ничего и не случится дальше. А все-таки неприятно.
…Великая Княжна Валерия Павловна поймала меня по телефону вечером в субботу. Пятница моя без остатку ушла на битву в Топонимической комиссии, и я уж решила задержаться в столице до воскресного дня. Лере всего двадцать лет, и она много худшее чудовище, чем даже была в этом возрасте я. Мы ее сами немного избаловали, но это ведь так понятно… Это понятно и очень грустно, ведь Лере не было года, когда… Но что об этом. Если на горизонте появляется Лера, значит ей что-нибудь срочно необходимо. В этом они с братом немного похожи, только все необходимости Ника серьезны и вызваны важными причинами, меж тем, как Лерины большей частью состоят из всякого вздора.
– Мне заказали иллюстрировать книгу! – сообщила она, едва успев переброситься со мной парой обязательных фраз. – Приключенческий роман, исторический, я уже половину прочла! Я так рада, до последнего момента боялась, что отдадут кому-нибудь с большим опытом. Так ведь часто делается. Но…
– Но что? – Я заранее вздохнула.
– А ты возьмешь меня завтра на мессу?
– Что-что?!…
– Мне очень нужно, Нелли! Просто смертельно! Понимаешь, там один персонаж, молодой такой священник ирландец, вот он… Словом – мне надо посмотреть.
– Я могу тебе дать кучу альбомов с картинками и фотографий. И записей.
– Это все совсем не то! Мне нужно живое эстетическое впечатление, свое! Нелли, это моя первая большая работа, от нее будет зависеть моя профессиональная репутация, пойми!
– Я понимаю другое. В воскресенье ты идешь к мессе, в понедельник вся желтая пресса полощет это интересное событие на первых страницах. И кому ты тогда станешь рассказывать про свои иллюстрации? Самые нелепые слухи покатятся, как снежный ком. Лерочка, душа моя, нет, только не это. Ты не можешь так подводить брата.
– Я ведь могу и без тебя пойти. Но с тобой лучше, ты объяснить можешь. К Святой Екатерине, например.
– К Святой Екатерине в воскресный день ходит почти две тысячи человек. – Я добавила льда в голос, как в коктейль. – Это совершенно исключено.
– Тогда пойдем вместе в церковь святого Казимира! Она-то маленькая.
– Валерия, были ли тобой услышаны мои слова? Ты подведешь брата.
– Я надену очки с простыми стеклами, у меня есть. Очки меняют лицо. Волосы закрою шарфом, нет, лучше тюрбаном. Могу перекраситься в жгучую брюнетку, если нужна конспирация! Нелли, я на все пойду, в книге картинка, где служат мессу, она должна быть в самом начале. Я перекрашусь не в брюнетку, а в негритянку, хочешь? Намажу лицо кремом для обуви.
– Церковь – самое место, чтобы устраивать маскарад.
– Ты же боишься, что я подведу брата? Кстати сказать, это не брат, это деспот. Ты знаешь, сколько мне выплачивают на булавки по его Высочайшему распоряжению? Сто тридцать рублей! И до совершеннолетия – даже червонца не прибавят! И вот, когда мне начинают идти заказы, ты не хочешь помочь мне себя достойно показать…
Я уже чувствовала, что Леру не остановить, и мысленно выбирала наименьшее зло. Лучше уж к Святому Бонифацию… Там совсем маленький приход.
…К восьми утра Лера выпрыгнула на перекрестке из трамвая. (Автомобиля с гербом и шофером ей, само собой, до совершеннолетия не полагается). Я критически оглядела это несносное существо с головы до пят. Более-менее. Свою главную примету, две великолепных светло-каштановых косы, доходящие до не скажу чего, она постаралась спрятать. Забрала волосы в греческий узел на затылке. Да, так облик совсем другой. Вместо обыкновенных своих штанов цвета хаки надела темненькую-скромненькую юбку с такой же блузкой, на голову накинула кружевную мантилью. Совсем другая девушка. Глядишь и сойдет.
С Лерой я всегда чувствую себя до омерзения взрослой. Не самое приятное, надо признаться, ощущение. Это меня все обыкновенно рвутся опекать. Но и на старуху бывает проруха, что поделаешь.
Мысли в голове вертелись не самые воскресные. И с самого начала все пошло неладно. И народу набралось больше, чем я рассчитывала, и незнакомых лиц многовато. Ох, только б никто не оказался засланным газетчиком! Вероятность небольшая, но… к чему, например, несколько раз обернулся на нас какой-то господин, незнакомый, примерно моих лет. На нас? Нет, на Леру, вне сомнения.
Я пригляделась внимательнее. Так ли сей незнаком? Где-то я его видела… Немного выше среднего роста, каштановые, с рыжиной, волосы на косой пробор, подбородок волевой, как у синематографического героя… Быть может, просто типаж, встречавшийся в фильмах? Нет, я видела именно его, но никак не могу вспомнить, где… Одет просто, не в визитке, серый костюм-тройка. Но костюм сидит безупречно, галстук – галстук просто выше всяких похвал. Ну все, довольно!
Мальчик-министрант лет двенадцати, надутый от важности, изо всех сил зазвонил колокольчиком. Я уткнулась в свой миссал. Впрочем, еще вчера было ясно, что с молитвенной жизнью дело будет обстоять самым плачевным образом, коли ты подрядилась в бонны к сумасбродной девице. Я заранее решила, что к причастию не подойду. Ох, Лера…
Я забыла б о рыжеватом красавце в баснословном галстуке, но на выходе мы столкнулись к ним нос к носу у чаши-раковины со святой водой. Он хотел было опустить руку, но благовоспитанно замешкался, пропуская нас вперед. Я перекрестилась, и тут вышла заминка. Красавчик продолжал вежливо стоять, выжидая, пока ладонь обмакнет Лера. Она ярко вспыхнула и покачала головой. Внимательный взгляд, затем корректный кивок, заменяющий в церкви полупоклон, и он перекрестился сам. При этом сверкнул, в каплях воды, тяжелый перстень с очень крупным овальным хризолитом.
Хуже просто некуда. Я даже под локоток ее не могла подхватить, чтоб побыстрее вытащить наружу.
– Ну и как? Впечатления получены, надеюсь? – мрачно спросила я уже на улице.
– Что? – Она отчего-то не поняла моего вопроса. – Нелли, а ты знаешь того господина?
Понадеюсь, что она об этом завтра забудет, но если ей захочется еще «эстетического ряда», то с меня довольно. Не следовало идти на поводу, и глупо, и рискованно, и вовсе незачем.
Да никак в окне уже ночь и огни Николаевского вокзала?
И дождичек накрапывает.
На платформе я забралась в телефонную будку.
– Нелли? – Низкий Наташин голос улыбнулся в трубке. – Вы прибыли на гульбище политиканов?
– О, нет. Пусть их гуляют без меня. Я просто так прибыла. Праздно.
– А родители разве в Москве?
– Пользуются последними днями лета. В Бусинках, конечно.
– Так вы в пустую квартиру? Там, поди, ни хлеба, ни молока. Лучше приезжайте ко мне. Я вам пирожок испеку.
Наташины пироги не чрезмерно вкусны, но я подпрыгнула в будке выше головы.
Глава II Мой добрый демон
Таксомотор домчал меня до дома со зловещим номером тринадцать по Большому Калужскому тракту за полчаса. К ночи-то на дорогах свободно.
Наташа открыла мне сама. Впрочем, больше было и некому, разве что научился бы эрдельтерьер Кирби. Прислуга у Альбрехтов-Черновых только приходящая. Одиночество кузина любит, пожалуй, больше всего на свете. Сейчас, когда Юрий с ребенком путешествует на яхте в верховьях Волги, она наслаждается им в полной мере.
Итак, Наташа отворила мне дверь, и я вновь увидела ее словно в первый раз в жизни. Какой на сей раз она предстала?
Босая, как она иногда любит ходить, в каких-то стареньких светлых бриджах и мужской рубашке в клетку. С падающими на плечи недлинными и негустыми темно-русыми волосами. В очках, которые она носит, как полумаску на балу. Очки скрывают ее взгляд и, кстати, правильно делают. Очень уж этот взгляд необычен. Наташе тридцать седьмой год, но фигура у нее девичья. С оговоркой, разумеется, что далеко не каждая девица похвалится подобной фигурой. Что же до лица… Наташино лицо похоже на очень старый портрет очень юной девушки. Прибавить к сказанному я ничего не могу.
– Ну так что, будем безобразничать противу этикета? Раз уж я пеку пирог, то сядем на кухне. Станем слушать, как бьется раскаленное каменное сердце дома и греть озябшие руки.
Раскаленное сердце дома, это, конечно, все лишь газовая плита, а отнюдь не русская печка, в скучные времена мы живем. Но сидеть на кухне все равно уютно, особенно если включить помимо плиты воображение.
Пирог оказался с брынзой, плоский и немного чересчур солёный. Я предположила, что кусок брынзы был единственным, что нашлось у Наташи в холодильном шкафу для начинки. Одна она мало, что ест, ей были бы три вещи: чай, тростниковый сахар и лимоны.
– Кирби тоже блистает отсутствием?
– Ну конечно, при Юре. То-то собаке радости – по заводям носиться.
Чай явился следом за пирогом, крепко заваренный в цветном мейсоне. Очень крепко, невзирая на поздний час. Мы ведь собрались разговоры разговаривать.
Я очень люблю Наташину квартиру. Люблю эту смешную кухню. Когда ребенку Елизавете (в домашнем кругу Гуньке) было три года, стены расписал по ее желанию их приятель, художник Евгений Морщев. «Что нарисовать здесь?» спрашивали взрослые. «Здесь рыбку!» – отвечало дитя. – «А здесь – птичку!» И появлялись то волшебный кит, то ворона в шляпе. Над кухонным столом Евгений изобразил целую картину в примитивистском стиле – семейный портрет: Юрий и Наташа, в виде мещан, сидящих на лавочке посреди палисадника с мальвами и подсолнухами, Гунька, летающая над ними на воздушном шарике, исполненный важности медалист Кирби, кошка Груша.
А после веселой кухни так нежданно попасть в Наташин строгий кабинет, обставленный чиппендейлом, обтянутый темным шелком. Единственное светлое пятно – старинный китайский шелковый гобелен с тремя серебристыми драконами.
«В пять лет мы с двумя соседскими мальчиками любили придумывать истории про этих драконов, – обмолвилась как-то Наташа. – Кстати, оба эти мальчика покончили с собой, когда выросли».
Все у нее так.
– Ну и как предденьрожденьское настроение? – Наташа, как всегда, положила в чай несколько ложек темного сахара. – Хандрите, небось?
– Мне исполнится двадцать четыре года. И голоса, что пора замуж и прочее, зазвучат еще громче.
– Как полагаете отбиваться?
– Да всё так же. Отшучиваться, что католик, как минер, ошибается только один раз. Ах, друг мой, скажите: я распутаю когда-нибудь этот узел?
– Не раньше, чем будете к тому готовы. Не позволяйте на себя давить. Правильные решения не тащат за хвост, они приходят сами. Но не о том сейчас речь. Нелли, что – опять?
Я молча извлекла из сумочки листок бумаги.
Туман на аллею ложится, К балкону взбирается хмель. …Мне комната тесная снится, Мне бедная снится постель. Болезни зловещие меты: Лекарства и смятость белья… Полгода я знаю, что где-то К постели прикована я. Полгода мне душно и тесно, Откуда же тянется нить? Больна, и бедна, и безвестна — Хоть день я смогла бы прожить?! И медлю я, стоя над садом… О, нет, о, конечно же, нет! …Сквозит по чугунным оградам Луны убывающий свет. Давно моя спальня готова, Был весел и полон мой день. Зачем я шепчу это снова: К чему майской зелени тень, К чему мне закат над рекою И ивовой заводи вид, Когда отдаленной тоскою Мой сон непонятный звучит?– Стихи неплохи, хотя, признаемся прямо, что у вас есть и получше. – Наташа все медлила выпустить листок из руки. – Но мы ведь не о художественных достоинствах сейчас говорим. Нелли, скажите… А вам в этих стихах – столько же лет, как сейчас?
– Не задумывалась… Нет. Я года на три старше. Потому, что сейчас я – очень счастлива. Там. Счастливее, чем сейчас здесь. В конце лета 1984 года я безумно и сумасшедше счастлива. Где-то. Знать бы только где, Ольга. Не иначе, в пределах собственного больного мозга.
– Как вы меня сейчас назвали, Нелли? – быстро переспросила Наташа.
– Ольгой… Мне почему-то показалось, что вас так зовут. На мгновение. Сами видите, пора сдаваться психиатрам, покуда таких милых оговорок не начали замечать чужие люди.
– Если бы психиатрия могла здесь помочь, я первая подыскала бы хорошего врача.
– Случай столь безнадежен? – я улыбнулась, надеясь, что улыбка получилась не слишком кривой.
– Абсолютно здоровый мозг всегда безнадежен в рассуждении психиатрической помощи. Вы ешьте пирог, Нелли. Он, конечно, солоноват, но напрасно я его, что ли, пекла?
– Наташа… Я помню, вы говорили в прошлый раз, будто в самом деле думаете, что все это существует. Но мое сознание отказывается это вмещать. Мне страшно. Мне неприятно в этом сознаваться вам, вы-то ничего не боитесь…
– Ничего не боится только наш граф Роман. Но, как я уже не раз упоминала, это скорее изъян психики, чем доблесть. Испытывать страх – нормально. Но чего именно вы страшитесь, Нелли?
– Наташенька, я туда – не хочу. Тот мир, это какая-то немыслимая дисгармония, какое-то надругательство над родом человеческим. Видит Бог, вокруг нас много зла. Но это – другое, совсем другое.
– Как интересно… Два потока в Реке Зла. Так учит один крошечный народ, вовсе крошечный, я даже думаю, вы догадываетесь, какой. Зло мыслимое и Зло немыслимое…
– Догадываюсь. Но… Я совершенно измучилась за эти полгода. То сны, то тени… И они сгущаются. Я боюсь того, что этот мир просто втянет меня, как воронка.
– Нелли, ох, Нелли… – Наташа положила в чай еще одну полную, с горкой, ложку коричневого песка. – Уж не знаю, порадую ли я вас своим предположением, но вас туда не может затянуть.
– Порадуете.
– Да как сказать. Видите ли… Вы уже там, Нелли. Давно. Не только вы, все мы там. Просто мы этого не ощущаем. А вы… Вы живете на сквозняке.
– Проживать одновременно две жизни? – В моей чашке попалась очень длинная чаинка. Нянька говорила, что такие чаинки – «к обновке». В самом, что ли, деле, пройтись по магазинам, купить хоть бы сумочку. Что ж мне еще остается? – Возможно ли такое?
– Отчего нет? Боюсь только, что там вы немножко изранены. – Наташа говорила совершенно серьезно. – Только отблеск, только тени, от незримого очами. Помните пещеру Платона? Откуда нам знать, быть может, жизней куда больше двух.
– Хоть больше ста, лишь бы мне жить своей собственной! Наташа, этот сквозняк делается для меня слишком силен. Уже многие замечают, что со мной что-то происходит. Я представления не имею, как с этим быть.
– Я могу ошибаться, да и вообще мы гадаем на кофейной гуще. Точнее – на чаинках. Но мне кажется, что ваши сны и тени не могут сгущаться бесконечно. Должна быть верхняя точка. После дверь закроется – потихоньку или сразу. А раз уж мы ничего не можем поделать, чтобы развеять ваши грезы, то давайте с ними как-нибудь интересно-интересно поработаем.
Наташины глаза весело блеснули за стеклами очков. Мне сделалось легче. Она все и всегда может оборотить в игру.
– Давайте вы будете… Ну, к примеру, разведчиком в том мире. Попробуйте о нем побольше узнать. Это враждебный, это черный мир, но – тем более необходимо его исследовать.
– Разведчик не исследует просто так. Перед ним ставят четко определенные задачи.
– Ну хотите, я вам поставлю определенную задачу?
– Хочу. – Я ощутила, что в игру втягиваюсь. На душе ощутимо полегчало.
– Гмм… Сейчас. – Наташа задумалась. – Вот что. А попробуйте-ка для начала понять, когда произошел расщеп.
– Расщеп?
– В прошлом этого мира – в нем есть что-то общее с нашим прошлым? Судя по всему – да. События, исторические вехи, личности… Так вот – когда наше прошлое одинаково, а с какого момента начинает различаться?
– Попытаюсь… Это же всё кусочки, обрывки…
– Так разведчик и трудится над кусочками, над обрывками. О, однако мы засиделись, Нелли.
Ночь в окнах и вправду уже таяла, словно кто-то потихоньку разбавлял чернила водой.
– У меня разгром в гостевой комнате. – Наташа поднялась. – Я постелила вам в детской. Пусть тамошние сны вам сегодня и снятся, Нелли.
Глава III Знакомый незнакомец
Вместо Наташи я обнаружила утром прислоненную к чайнику записку.
«Думала было с Вами еще поболтать, Нелли, но у меня случилось землетрясение. Том переписки Гумилева с д’Ануцио почти сверстан, и тут архивисты обнаруживают еще два письма! Где они их раньше держали?! Сажусь на метлу и лечу в редакцию. Пожелайте мне никого не убить. Ключ в дверях, когда будете его отдавать консьержке, попросите заодно, чтобы все яблоки, которые мне пришлют добрые люди, поставила до вечера у себя. Надеюсь, что Вы найдете к завтраку что-нибудь, кроме плюшек. Впрочем, не уверена. PS. Кстати, знаете ли Вы, что граф Роман скоро будет в России?»
Кстати… Ну да, ну да. Или некстати.
Отогнав эту мысль, я полезла в холодильный шкаф. Ничего там, разумеется, не обнаружилось, кроме бутылки молока и пакета лимонов. Зато маленькую корзинку филипповской сдобы Наташа успела принять раньше, чем вышла из дому. (Крепко же я спала, что не слышала звонка рассыльного! Видимо, мне и в самом деле снились детские сны, хотя ровным счетом ничего не помню).
Заваренный Наташей чай еще даже не остыл. Съев маковую булочку, я засобиралась восвояси.
От Наташиного дома до моего – пятнадцать минут пешком по Калужскому тракту. Я люблю Калужский тракт, может быть просто потому, что я в этих краях выросла. Снобы, которые признают жизнь «только внутри Садового кольца», морщат на него нос. В самом деле, старинным домам тут взяться неоткуда, Калужская дорога застраивалась в пятидесятых годах и позже, раньше тут вовсе лес был и лоси пугались свежих котлованов и строительной техники, так родители рассказывали. Но дома тут у нас выстроены очень приятные, светлого кирпича, с просторными высокими квартирами, с эркерами, в том популярном в новой Москве стиле, что скучно зовется «вторичным шехтелем». Разнообразия добавляют здания научно-исследовательских учреждений, все в духе неоклассицизма. Кроме того – рядом с нами и Нескучный сад, и Воробьевы горы, ну что может быть лучше?
А самое лучшее (об этом я подумала, как обычно покупая две белых розы у цветочницы) это маленькая площадь перед Институтом Морских Исследований, что вовсе уж от меня в двух шагах, мое, сугубо мое везение.
Памятник перед институтом был установлен, когда мне сровнялось десять лет. Я этот день хорошо помню. Мало того, что нас освободили от уроков, что само по себе замечательно. Но я уже достаточно прочла и поняла в том возрасте, если без шуток. А самое главное – к нам нарочно приехал в гости из Перми дедушка Михаил Гавриилович. Точнее сказать, не дедушка, а двоюродный дед, младший брат деда Константина Гаврииловича, умершего за пятнадцать лет до моего рождения. Но, простоты ради, все одно дедушка. Михаила Гавриловича я видела в последний раз в жизни. По сути – и в первый, потому, что перед этим была у него в Перми шестилетней, а это глаза не умные. Сухой и легкий от старости – он стоял на церемонии прямо и неподвижно, словно и сам был металлическим. А я все смотрела во все глаза на его малахитово-золотой крест «Освобождение Сибири» II степени.
…Светлейший Князь Александр Васильевич Колчак-Рифейский запечатлен не воином, а ученым. Три настоящих якоря подпирают постамент, а стоит Адмирал словно бы на капитанском мостике. И это очень правильно. Именно таким и должен быть памятник тому, кто жесткой рукой провел страну через десять лет необходимой диктатуры, а потом, когда перестало штормить, сложил с себя все властные полномочия, воротился в науку.
Есть памятники князю и в Омске, и в Перми, но наш – лучший. Так, во всяком случае, в очередной раз подумала я, кладя свои цветы.
Но от мыслей о Колчаке обратимся мыслями к всей эпохе. Продолжают ли газеты писать о некоем молодом литераторе, выпустившем свой первый роман? Или злые газетчики нашли тему поострее? Например – эти скучнейшие толки о том, что в космос можно отправить не только собак, но уже и человека. Какие-то интервью с великими мужами науки, много последнее время подобных вещей публикуется. Только отвлекают читающий люд от действительно важных новостей, вот, что я на это скажу.
Вот незадача! Газетный киоск на углу закрыт. Что-то я найду в почтовом ящике, конечно, но картины не составлю. Родители – сущие минималисты в рассуждении прессы.
Идти до следующего киоска? Проще заглянуть здесь же в кафе «Монплезир», там всегда подадут свежую газету, могут и продать, если нужно.
Уютное маленькое кафе, с картинками из жизни антропоморфных кошек на стенах. Кошки катаются в кабриолетах и на лодочках, щеголяют нарядами от кутюр, пишут письма и даже (когтистыми беспалыми лапками) играют на струнных музыкальных инструментах. Последнее, по-моему, чересчур.
Симпатичная официантка с рыженьким конским хвостиком (похоже, студентка) приняла у меня заказ. Памятуя о том, что Москва повсеместно встречает меня пустыми холодильными шкафами, я взяла непостное меню, заказала гренки с маслом, шевр и бокал пти-шабли. И, конечно, попросила всю подборку газет.
Есть о чем подумать, пока не принесли газеты. Едва ли я полностью поверила Наташе с ее, как всегда, парадоксальной версией происходящего. Но главное, что душа моя ей поверила безусловно: уж лучше весело играть со своим безумием, чем с омерзением тащиться у него на поводу. Что же, поиграем. Если мне, к примеру, все время чудится, что Петербургские костел святого Казимира и костел святого Бонифация лежат в руинах, из этого кошмара можно сделать вывод: когда-то и в том мире все эти храмы были, во всяком случае, построены. Значит, жизнь «расщепилась» после возведения этих зданий, а они никак не древние. Надо поглядеть на даты. Хоть что-то я буду наверное знать. Разведчик работает с обрывками…
– Госпожа Чудинова, если не ошибаюсь? Мы были друг другу представлены на Большом приеме в Зимнем дворце.
У меня плохая намять на лица («лицевая амнезия», как определяет это Наташа), но по представленной моим глазам подсказке не опознать собеседника было почти невозможно. Все же на московских улицах довольно сложно встретить человека в кипе. А у незнакомца, подошедшего к моему столику, высокого и широкоплечего, моего ровесника, на светло-русых густых волосах сидела черная кипа. Так ловко сидела, что его невозможно было представить без нее.
Так что в незнакомцы я его записала напрасно.
– Господин Эскин? Удивительная встреча. Вы кого-нибудь ждете, или желали бы составить мне компанию?
– Нет, никого. Я был рядом на радиостанции, страшно устал и голоден. Почту за честь сесть с вами, дабы чего-нибудь перекусить.
С этими словами Эскин действительно сел. А я в эту же минуту поняла, что мы разговариваем по-русски. При первом-то знакомстве мы, разумеется, говорили на французском языке, как предусматривает при общении с иностранцами протокол.
– Так вы знаете русский язык?
– Мне очень нравится русская литература. Кстати, мой дед был родом из России, быть может, это какие-то наследственные симпатические токи. У меня довольно приличные способности к языкам. Поэтому русский язык я выучил для собственного удовольствия, между делом. Чему сейчас весьма радуюсь, ибо дела велят бывать в России довольно часто.
– Неужели вы приехали на конференцию по Мальтийскому Инциденту? Событие, конечно, серьезное, но ведь двадцать лет прошло. Это так важно?
Почему-то мне показалось, что Эскин обернулся к официантке не без удовольствия, что та кстати подошла. Почему ему не хочется отвечать на такой простой вопрос? Или мне почудилось? Впрочем, увидим, как только он сделает заказ.
– Приготовьте мне, пожалуй, окрошки. Только не кладите ничего мясного. Пусть будут только овощи и сметана. А затем – гречневой каши с белыми грибами. И бокал красного грузинского вина. Хванчкары, к примеру. А далее видно будет.
Эскин теперь оборотился ко мне.
– Прошу прощения за мой неприличный аппетит. По мне лучше наколоть дров, чем общаться с журналистами. Невероятно выматывающее времяпрепровождение. Кстати, госпожа Чудинова, я читаю вашу книгу. Ту, что сейчас вышла. «Хранитель анка».
– Других книг у меня и нету, – я улыбнулась. – Многие без того говорят, что я рановато дебютировала в роли прозаика. И бранят за всякого рода неуклюжесть.
Итак, о цели приезда в Россию ему беседовать не с руки. Он не просто переменил тему разговора, воспользовавшись помехой, но и направил беседу в заведомо приятное для меня русло. Ладно, не очень-то и хотелось.
– Прочел почти до конца. Страниц пятьдесят осталось.
– Ну и как вам сие чтение?
За окном пробежал по улице посыльный, ловко удерживая в руках разом три нарядных корзины с яблоками. Да, Москва празднует Яблоневый Спас всегда на широкую ногу. В этот день вместо визитных карточек все шлют друг другу яблоки. Верней сказать – шлют яблоки вместе с визитными карточками, конечно. В этом милом обычае принимают участие все – хоть инославные, хоть вовсе неверующие. А вот меня на сей раз не встретит дома яблочное благоухание. Все знают, что родители в имении, и никто не знает, что я приехала. Даже грустно немножко.
– Весьма увлекательно. – Серо-голубые глаза Эскина сделались серьезны. – Мне, как еврею, не было, конечно, приятным читать о том, сколько евреев числилось в комиссарах. Вы подняли немало фактического материала.
– Что поделаешь. – Уж я-то взгляда не отвела. – Ровно такой процент был в Чеке, как у меня и написано… А уж комиссары на фронтах… Те были евреями почти сплошь. Правда бывает порой не для всех приятна. На то она и правда.
– Но вся ли это правда? – Эскин кинул взгляд на барную стойку. – Любопытно, есть ли у них лицензия на продажу табака?
– Вы курите? – У меня вдруг опять тревожно защемило сердце. Нет, не надо! Сейчас он просто скажет «да, курю», а совсем не то, чего я сейчас жду…
– Скорее – нет. Изредка, за бокалом…
– … и в хорошей компании. – Я вытащила из сумочки уже вторую неделю залежавшуюся там коробочку. Сходить с ума, так весело, как и было решено. – Ничего, что слишком дамские, тонкие?
– Я такие и люблю. Хотя это и не очень воинственно.
Мы рассмеялись и прикурили от поднесенной девушкой свечи.
– Так вот, о полноте правды. Был ли евреем Александр Герцен? Максим Горький? Декабристы? Что бы ни делали евреи, но чего б они добились, когда бы ваша собственная интеллигенция ни разложила страну изнутри? Кто помешал Юденичу взять в первый раз Константинополь? Ваше собственное Временное правительство. Революции предшествовало колоссальное внутреннее разложение общества.
– Но оправдываете ли вы еврейских комиссаров? – Я напряглась.
– Ни на волос, – отчеканил Эскин. – Живи я тогда, сражался бы за белых. Но мне кажется, причина падения наших народов совершенно очевидна.
– То есть? – спросила я, когда перед нами расставили тарелки.
– Отпадение от религии.
– «Если Бога нет, то все можно»? – я невесело усмехнулась.
– Если угодно, так. Начинаются всяческие прогрессивные веяния, молодым евреям хочется встроиться в жизнь русского общества. Но обращение в православие носит формальный характер, дабы не сказать хуже. В русском-то обществе безрелигиозность тоже считается в ту пору хорошим тоном. Безрелигиозна вся образованная среда… Хуже всех делаются те, кто оторвался от своей веры, не обретя чужой. У каждого народа – свои отбросы. Я бы хотел, чтобы о моем народе судили не по бомбистам и комиссарам, а по тем любомудрам, что занимались тогда в России сложнейшей духовной работой. Но они-то были – не на виду. Как всегда и происходит.
– Так книга-то вам нравится?
– Нравится. Но там ведь все останутся живы? В конце? Признайтесь заранее, поберегите нервы хотя бы одному читателю.
– Отвечаю «да», дабы поберечь нежные нервы военного министра. Как вы стали министром в такие молодые лета, господин Эскин?
– Был учтен мой опыт работы в ЮАР. – Эскин улыбнулся. – И он в самом деле полезен.
– Не все в восторге от вашей роли в цементировании апартеида.
– Я знаю. Вы удивитесь, вероятно, если услышите от меня: апартеид это зло. Но это зло – меньшее из возможного. Если бы вы видели положение вещей изнутри… Я не могу передать вам своей уверенности в том, что, рухни апартеид, зло возрастет стократно. Пострадает не только белое население, о котором наши либералы не думают вовсе, но также и столь любимое ими черное. Все скатится в хаос.
– Вы верите в концепцию Циолковского о внеисторических народах?
– Это теория. В политике я практик. У меня есть иные сферы приложения для теоретических размышлений.
Ну да, Каббала, к примеру. Осторожнее, Нелли! Ты слышала – он еще и настоящий колдун. До тебя ведь доходили слухи… Весь Израиль знает, что он устроил двоим своим политическим противникам магический огненный удар, называемый «пульса денура». Он объявлял, что противник умрет. Заранее, за определенный срок. И оба его противника действительно умерли. В назначенное им время. Осторожнее, Нелли! Прав он или нет насчет апартеида, но уж колдун он несомненный. Он ворожил ночью на кладбище. Он колдун, невзирая на его добрую улыбку и твое странное чувство, будто вы знакомы сто лет. А честным католикам надо поосторожнее с колдунами.
– Вам нравится ЮАР, вероятно?
– Я люблю эту страну. Этих бодрых столетних стариков, эту странную природу, эти великолепные современные города… А люди… Я б охарактеризовал их прежде всего словами «кристальная честность». Вам не все в них, подозреваю, понравилось бы… Очень патриархальный уклад. Девочки, эти беловолосые малютки от горшка два вершка, уже хлопочут по дому в передничках, несут папе попробовать, хорошо ль состряпали какие-то колбаски. Папа отведал, похвалил, потрепал по щечке – они и сияют. Хранительницы очага, завтрашние. Но вместе с тем ни тени ощущения, что женщины менее уважаемы, чем мужчины. Это нам не исламский мир. Мнение женщины важно во всех серьезных вопросах. И благочестие семьи держится именно на женщинах. Представьте… Пять часов утра, я, в гостях в одном загородном имении, случайно поднялся чуть свет… Смотрю, хозяйка дома, уже строго так одетая, прибранная, вышла на открытую галерею: читает домашнюю Библию. Смотрю – читает час, читает полтора… И в течение дня она десять раз упомянет мужу о том, что сегодня с утра прочла, и все будет мудро и кстати. Но я могу часами рассказывать об этой стране, не обессудьте, Елена! – Эскин осекся. – Простите! У меня какое-то странное чувство, будто мы где-то и когда-то были знакомы. Что моей вольности, конечно, не оправдывает. Журналисты выпили весь мозг из чаши моего черепа, и ввиду его пустоты я веду себя глупо.
Только слишком умно повествуешь о собственных глупостях. Осторожнее, Нелли… Впрочем… Непонятно отчего, но ты ведь наверное слышишь, что тебе этот человек уж в любом случае не враг.
Может статься, и он живет «на сквозняке»? Ведь и в тот раз мне показалось что-то, а сейчас подтвердилось… Но ведь все одно не спросишь.
Мы выкурили еще по сигаретке и обменялись визитными карточками.
– Вы позволите мне расплатиться?
– Если вас не разорит вот эта груда газет…
– Серьезный удар по моему бюджету, но я его стойко перенесу.
Мы рассмеялись. Официантка подбежала со счетом.
– Был несказанно рад поддержать знакомство. – Эскин поднялся вслед за мной. – И да, уж к слову. Вы ведь, вероятно, хотите об этом спросить. Или скоро захотите. Да, это правда, я дважды кое-что сделал. То самое, за что брал на себя ответственность. Но если бы гнев мой оказался неправеден – вы сейчас разговаривали бы с мертвецом. Впрочем, мертвецы, кажется, и разговаривать-то не умеют.
Глава IV Не самый приятный разговор
Домой я попала в третьем часу пополудни. Яблок в самом деле не обнаружилось. Квартира от этого глядела какой-то грустной. Даже карлики в красных колпачках, буянящие на моих любимых тканых арабесках, и те, казалось, пригорюнились и присмирели. Но о моем приезде знает только Наташа, разбирающаяся сейчас с д‘Ануцио и Гумилевым.
Униженная до конца, Страна, веселием объята, Короновала мертвеца В короновании Торквато. И в дни прекраснейшей войны, Которой кланяюсь я земно, К которой завистью полны И Александр, и Агамемнон…Не самое сильное стихотворение. Дрянь стихотворение, прямо сказать. Но в этой истории мы благодарим Гумилева, конечно, не за стихи. Два поэта показали себя высочайшей пробы дипломатами, уговорив короля Александра отдать Далмацию Италии. Пожар, способный охватить Балканы, растаскивали по угольку – голыми руками. Да и вообще д‘Ануцио, надежный союзник России, сыграл судьбоносную роль в судьбах послевоенного мира. Нам повезло, что он пришел к власти.
Нелли, уж довольно на сегодня истории, а? Просмотри, наконец, эти газеты, что ты все никак не соберешься?
Звонят в дверь, кто-то все-таки прислал яблоки.
– Ты?!
Роман был в черном шлеме, в руке же держал белый – за ремешок.
– Надевай скорей. Погода слишком хороша, чтобы сидеть за книгами.
– В августе по определению не бывает хорошей погоды.
– Я и вижу, что ты хандришь. Можешь надеть куртку для конюшни, различие невелико. Но куртка все-таки потребуется.
– Э, нет, постой! Все-таки объясни сначала, как ты оказался здесь? Если я правильно помню канву событий, ты смылся из России в Черную Африку, чтобы тебя не выслали на полгодика на Дальний Восток? Честно говоря, различие в пользу Дальнего Востока. Впрочем, там, конечно, скучнее.
– Лена, после, после! Все расскажу, только позволь мне вытащить тебя на свежий воздух.
– Хорошо, твоя взяла. – Я извлекла из плакара кожаную куртку, не конюшенную, вопреки совету Романа, но вполне подходящую.
Одеваясь, я не сумела сдержать улыбки. Как давно никто не называл меня этим нелепым уменьшительным именем! Бабка звала меня Елечкой, как и за нею следом няня Тася, для прочего ближнего круга я с детских лет Нелли. Только не для Романа. Скажем спасибо, что Лена, а не Алёна какая-нибудь. Вот уж чего совсем не переношу.
Исполинский мотоцикл «Руссобалт» ждал во дворе, разумеется, собрав вокруг своих блистательных боков стайку восхищенных мальчишек.
Роман сорвался с места, как каскадер.
Москва, Москва… Небольшой ведь, по сути, город для одной из столиц великой Империи. Всего три миллиона человек, да и то часть народа селится не собственно в городе, а во всех этих Останкиных, Бибиревых, Медведковых и прочих уютных одноэтажных пригородах. Уговорить же провинциала перебраться в Москву – это надо немало каши съесть. Разве что очень уж нужно по роду деятельности. Ну и верно, чем другие города хуже?
Мы мчались сквозь Москву, как ветер. Мы пролетели по Калужскому тракту, миновав прекрасные старинные больничные здания, мы свернули на набережную и, описав неполный круг, воротились на Воробьевы горы.
– Наша скамейка. – Роман снял шлем.
Кто никогда не подошел бы мне в прототипы книжных персонажей, так это Роман Брюс. В жизни не живописала б своим героем златокудрого синеглазого красавца едва ни саженного роста. Я же все-таки не дамские романы пишу, художественная литература должна быть правдоподобной, а не сказочной. Роман же неправдоподобно, сказочно хорош собой. Но еще Тэффи подмечала, что жизнь позволяет себе иной раз такое, чего нипочем не допустит мало-мальски мастеровитый литератор.
Из-за цвета волос нас нередко принимают за брата и сестру, хотя степень родства нашего весьма отдаленна – через Наташу. Я ей троюродная, Роман – четвероюродный с другой совсем стороны. Так что сходства-то на самом деле немного. И глаза у меня серо-зеленые, и волосы не вьются почти. Что же до умопомрачительной красоты, то тут даже рассказывать обидно.
Роман – адаптированный граф Брюс, так это, кажется, называется. Брюсовой магической крови в нем – одна капелька, по женской линии, через Альбрехтов. Хлопотать о восстановлении давно ушедшего титула всех вынудила Наташа. «Потому, что этому имени пришло время ожить», так она изволила выразиться.
Кстати, в отличие от большинства знакомых мне молодых мужчин, Роман не служит. На больших приемах он появляется в партикулярном, опять же – один из немногих. Даже жаль, мундир ему был бы куда как к лицу. Отчасти Роман занят делом, коль скоро отец его Александр Владимирович – магнат сталелитейной промышленности, само собою, что Роман помогает в управлении всем этим концерном. Но дело это идет слишком по накатанным рельсам, чтобы это занимало много времени. Видимо, Роману просто больше по нраву полная воля – возможность в любой миг сорваться в самые экзотические края, поглядеть, не явился ль новый Менелик, к примеру.
– Нашу скамейку кто-то перекрасил в противный серый цвет. – Я тоже села. Мотоцикл отдыхал рядом, будто живой. – Так все же: каким образом ты оказался в Москве? Нелегально? Тебя заберут с полицией, а я попаду в околоток соучастницей преступления?
– Едва ли. Ник даровал мне свое Высочайшее помилование.
– Вот уж напрасно. Как себя чувствует тот бедняга?
– Либеральный цыпленок, которому я продырявил крылышко? – небрежно уточнил Роман, как будто уточнения были нужны. – Не так плохо, как мог бы, имей я более серьезные намеренья. В другой раз подумает, что публиковать в своей газетёнке.
– А его Ник тоже помиловал?
– А его-то зачем? – Роман приподнял бровь. – Подлечили, и пожалуйте в ссылку.
– Что тут скажешь… А почему ты сейчас приехал в Москву, а не в столицу?
– Так на конференцию по Мальтийскому Инциденту. Ник тоже завтра удостоит посещением.
Это было уже чересчур.
– Складывается впечатление, что я наблюдаю какой-то случай массового помешательства. Российский Император, военный министр Израиля, ты, наконец… Больше я никого не упустила? Или еще кому-то позарез понадобилось обсудить события двадцатилетней давности?
– Может статься, что кое-кого и упустила, – сквозь зубы процедил Роман. – Я бы даже сказал, что в твоем перечне недостает ключевой фигуры.
– Не могу сказать, что меня это особенно печалит. Заседайте, сколько влезет, заговорщики несчастные.
– Ну и зачем ты сидишь в шлеме на таком солнцепёке? – Роман вдруг улыбнулся и принялся бережно, очень бережно расстегивать ремень под моим подбородком. Но почти тут же отдернул руки – будто обжегся.
– Проклятье… Будь оно все неладно!
– Что ты?
– Я – ничего. А ты… Ты все еще его любишь.
– Я не знаю.
– Лена, не ври. Дай сигарету, у тебя же есть.
– Ты не куришь.
– С тобой закуришь. – Роман принял коробочку, не коснувшись моих пальцев. – Лена, сколько это может продолжаться? Тебе было тогда девятнадцать лет. Это тянется четыре с лишним года.
– Я тоже умею считать.
– Лена… – Роман поймал мой взгляд. Глаза его были спокойными и совершенно холодными. – Выслушай меня внимательно. Ты помнишь, нас ведь воспитывала Ната. Ревность – подлое чувство. Я его не испытываю. И я думаю сейчас не о себе, ты знаешь, я выживу, даже если ты меня убьешь. Тот поезд еще не ушел. Если ты не можешь без него, ты ведь знаешь, какую цену надо заплатить.
– Зачем ты это сказал? – Я пыталась говорить спокойно, но голос мой, несомненно, оказался предателем. – Я не пошла на это, когда было труднее в тысячу раз, когда я проходила через все мыслимые муки. Когда я была младше и слабее. Устою и теперь.
– Коли так – отпусти его. – Подбородок Романа сделался очень жестким. – Я знаю, что тебе советует Ната. Она тебя очень любит, Лена.
– Ну да, любит, как же…
– Ты знаешь, что да. Но я-то сейчас думаю о вас обоих, сколь это ни странно. Впрочем, не странно. Тебя я люблю, но и он – мой друг. Ты его держишь. Ты держишь его своей ненужной любовью. Если не можешь быть с ним вместе – сумей его разлюбить. И перестань покрываться льдом от прикосновения других мужчин только потому, что их руки – не его руки.
– Роман, ты несправедлив!
Странное дело. Некурящий Роман почти без перерыва делал затяжку за затяжкой, меж тем, как мне курить и не хотелось вовсе.
– Ты несправедлив. Мы с ним ведем себя как друзья, я ничем, ни словом, ни взглядом за все это время не дала ему понять иного… Я с ним доброжелательна, весела, спокойна. А ты говоришь, что я его держу.
– Ты в самом деле не понимаешь, что он не женится до тех пор, пока не выйдешь замуж ты? Иначе он все равно будет считать это предательством. Он же у нас рыцарь.
– Зато ты – не очень.
– По счастью, не очень.
Мы еще с половину часа просидели молча. Рябина на склоне уже начала краснеть. Вода в Москва-реке казалась какой-то уже совершенно осенней.
Глава V Высочайшее поручение
С утра меня зачем-то вытянул в Кремль Ник, в самом деле прибывший, как еще вечером сообщила новостная панель, на эту баснословную конференцию.
Что-то в последнее время он каждую неделю мною распоряжается. А я, между тем, вовсе не свитская.
Ник предложил прислать за мною автомобиль. Я было решила сперва подъехать на троллейбусе, но передумала: а пусть его присылает.
Настроение было солнечным, как утро. Тяжелый разговор с Романом как-то за ночь половину тяжести растерял, а кроме того мне двое суток не снилось ровным счетом никаких снов. Почти никаких знаков «оттуда» за два дня, если не считать пары странных моментов в разговоре с Эскиным.
Шофер, извинившись за перегруженность Калужского тракта, повез меня окольным путем, мимо Донского монастыря.
Любимый мой Донской монастырь! Сколько всего с ним связано в моей жизни – еще одна жизнь нужна, чтобы все рассказать.
В четырнадцать лет я набралась, наконец, храбрости пойти ночью 24-го декабря к Северным воротам. Три года набиралась, ибо историю о Проклятом Брюсовом Племяннике, ту, что вошла потом в мой роман «Хранитель анка», впервые услышала от Наташи в одиннадцать лет.
Ох, какая же она была метельная, та ночь! Я вмиг закоченела в своем коротком плащике с отороченным лисицей капюшоном. Надеялась ли я на что-нибудь? Едва ли. Но я б была не я, не выйди ночью к Северным воротам, на темную, в высоченных сугробах, безлюдную улицу.
Впрочем, кто-то на этой улице все же был. Копался, стоя под фонарем, в снегу.
Мои ноги стали ватными. Я подошла поближе, полагая, надеясь всей до смерти перепуганной душонкой, что получу сейчас какое-нибудь самое банальное объяснение происходящему.
Это был мужчина. Черноволосый. Бородатый. Я упорно шла вперед, останавливаясь после каждого шага.
На мужчине была простая рабочая одежда: дубленый тулуп. Вывернутый наизнанку.
Как же мне хотелось повернуться и убежать – убежать сломя голову! Но я хорошо помнила, какая жалкая судьба ждет того, кто сбежит.
«Вы что-то потеряли, добрый человек?»
Полагалось, конечно, обратиться к Брюсову Племяннику «на ты», но, хоть он и мертвец, хоть он и Брюсов Племянник, а привычка свое взяла.
«Да вишь, девица, какая незадача! – охотно и весело откликнулся персонаж московской демонологии. – Кольцо я свое в сугроб уронил. Никак не могу сыскать. А слуг-то своих я на Ваганьково отдохнуть отпустил. Легко ли мертвому человеку целый день кости ломать?»
На мертвеца Брюсов Племянник, впрочем, совершенно не походил. Говорил красивым сочным баритоном, весело блестел озорными глазами.
Я, конечно, чего уж терять, предложила помощь и долго рылась голыми руками в колючем снегу. Кольцо в конце концов нашлось, золотое, с рубином, чуть-чуть свободное для моего пальца, но не чрезмерно.
Ибо Брюсов Племянник, конечно, честно соблюл правила игры и сам надел мне перстенек на руку, посулив увлекательную и богатую приключениями жизнь.
Сколько всего я вытерпела из-за Брюсова перстня! Дознавались и сердились родители, классная дама выговаривала за дурной тон: золото с большим рубином в четырнадцать лет!
Я отмалчивалась как античная героиня и терпела. И почти не снимала, перстень будто прирос к моей руке. Огорчало одно: камень ни разу не потемнел, предупреждая об опасности. Впрочем, какие были вокруг меня опасности, если вдуматься?
В восемнадцать лет, уже студенткой, я взялась помогать Наташе, страшно переутомленной тогда своими бессонницами, разобраться с тем, что не принято поручать прислуге: архивами, альбомами и прочим таковым.
«Заодно, будьте так добры, отберите, какие камни пора отдавать чистить», – Наташа протянула мне шкатулку сандалового дерева.
Алмазная россыпь звездистой огранки не нуждалась в ювелире, как и окруженный жемчужинками сапфир, похожий цветом на глаза Романа, а вот превосходного реверса александрит явно затуманился снизу. Что же до этих серег с рубинами и такой же броши… Моя рука дрогнула. Серьги и брошь явственно жили в разлуке с неким своим родственником. Я узнала знакомый рисунок. Слишком знакомый рисунок.
Я не подала виду, я добросовестно разобрала содержимое шкатулки. И только воротившись к себе, я упала на кровать и горько разрыдалась.
Мне было восемнадцать лет, я уже умела работать в архивах и была автором небольшой монографии по фалеристике дроздовцев, но я прорыдала часа три.
А ведь если бы не утомительные тогдашние бессонницы, Наташа не допустила бы такой оплошности… Но тогда она ходила вся прозрачная, с огромными тенями под глазами. Вот и промахнулась. Любопытно, кто это, собственно, был: профессиональный ли актер, кто-то из друзей? Неважно, тут она не ошиблась, ибо накладная (как я понимаю) бородища безопасно скрыла любое лицо. Ах, Наташа, Наташа…
Я еще продолжала улыбаться, поднимаясь по лестнице из ревельского камня, сворачивая в «Собственную» половину.
Уже на ней, у дверей в кабинет Ника со мною почти столкнулся некий молодой человек. Да, лица я запоминаю только «в контексте». Зато я прекрасно узнала эти рыжеватые волосы.
Вероятно, узнал меня и незнакомец, ибо помимо четкого поклона позволил себе очень легкую улыбку.
Дальше он направился вниз, я же вошла.
– Кто сейчас у тебя был? – поинтересовалась я. – Это не государственная тайна спросить?
– Это государственная тайна, но ты ведь ее не выдашь? – Ник срубил голову сигарке. – Кеннеди. Джон-младший.
– Сын президента? – спросила я, зная, что американцы не употребляют приставки «экс».
– Он самый. А почему ты спросила?
– Я его встречала в костёле.
– Ах, нелегкая! – Ник показался мне раздосадованным. – Ведь просил же я его не высвечиваться в публичных местах. Ну да у него же принсип…
– Если Кеннеди приехал на эту вашу конференцию, так ли важно, видели ли его в церкви?
– Джон не приезжал на конференцию, – ответил Ник. – Конференция, это, строго говоря, ширма, за которой мы его прячем.
Интересная картинка. Велика птица, сын американского президента, вдобавок даже – не президента действующего. Отчего его присутствие в России так важно? Но если ты, друг любезный, полагаешь, что я начну расспрашивать, выражая своим видом все муки любопытства, то совершенно напрасно. Играйте в свои игры, а у меня есть свои.
Меня иное тревожит. Лера явно положила на этого рыжего глаз. Понадеемся, что обойдется, выдавать ее Нику я не намерена. Покуда, во всяком случае. Но остается горячо надеяться, что Джон-младший вылетит у нее из головы. Понятно, что мы живем в конце ХХ столетия, что насильно девиц замуж никто не выдает. Всякая вправе отказаться от предлагаемой партии. Но не всякая вправе составлять партию по своему хотению. Сестра русского царя не может выйти замуж за сына президента республики. За простого дворянина – может. Даже не за дворянина, дворянство достойному человеку и пожаловать не сложность. Но мы признаем республики de facto, не de jure. Христианская страна без предстоятеля – ну извините. Поэтому с представителями властей, которых мы в своем кругу называем не иначе, чем «тварями дьявола», возможен лишь деловой разговор. Мы с ними не роднимся.
Слишком дорогую цену мы платили первые тридцать лет нашего века, века Реставрации, как его называют. Кеннеди – допустим, достойнейшие люди. Но есть вещи, которых делать нельзя. Лера, Бога ради, забудь ты об этом!
– О чем ты задумалась, Нелли?
– Пустое. Верноподданнейше внимаю, зачем я тебе понадобилась.
– Ты позволишь?
– Кури, конечно.
Прежде, чем заговорить, Ник склонился над свечой, а затем выпустил пару красивых колечек, нанизав в воздухе одно на другое.
– Ты хотела вернуться в Санкт-Петербург на днях?
– Да, предполагаю завтра. Я ведь еще, если ты не забыл, жду новостей о конклаве, который может начаться в любой день.
– Но покуда ведь не начался? Если что, я тебя в любую минуту отправлю в Рим казенным бортом. Но сейчас я бы очень попросил тебя задержаться на неделю в Москве. Видишь ли, возможно мне потребуются справки историка. По твоему периоду.
– Помилуй! – Я не сумела сдержать удивления. – В пятнадцати минутах на автомобиле от тебя стоит огромный Институт Истории. Построенный, уж замечу к слову, у Чумного кладбища, ровно там, где чуть позже палили из пушки пеплом Лжедмитрия. Из одной из пушек, точнее. До сих пор гадаю, у кого из архитекторов было столь своеобразное чувство юмора. Так или иначе, а в сем огромном здании сидит превеликое количество убеленных сединами мужей признанных научных заслуг. Все в чинах и орденах, все мировые знаменитости. Высылай запросы – у тебя есть приоритет, всё мгновенно разбросают по узким специалистам, и те тут же приступят к делу. Зачем тебе молодой историк, который, вдобавок, стремительно бежит от науки в литературу?
– Видишь ли… Институт Истории в определенном смысле лучше тебя, – Ник нахмурился. – Но Институт состоит из большого количества самых разных людей, каждый из которых встроен в собственную систему знакомств. А ты – это одно частное лицо, которое я могу лично попросить, чтобы темы моих интересов остались в секрете. Даже если ты провозишься со справками дольше, либо они выйдут менее полны.
– Все так серьезно?
– Сколько лет Людовику Двадцатому, Нелли? – вместо ответа спросил Ник.
– Семь, – сказала я то, что было превосходно известно нам обоим.
– А тебе не кажется, что этот малютка как-то уж слишком явно повторяет мою судьбу? Есть пример и похуже, хотя слово «хуже» я употребляю здесь в совершенно киническом значении. Но тем не менее. В практическом смысле – гибель детей нежелательнее гибели родителей. Ты ведь не можешь не помнить, что король Болеслав, а он тремя годами старше меня, не должен был наследовать. Но его старший брат поехал покататься на горных лыжах… Не знаю, известно ли тебе, но ведь и принц Болеслав намеревался составить брату компанию, но провалил экзамен и вынужден был сократить свои каникулы. Он уцелел лишь случайно.
– Да. Несчастные случаи. Авиационная катастрофа, автомобильная катастрофа, сход лавины… Каждый случай предельно убедителен, но их подозрительно много.
При этих словах Ника я вдруг, словно впервые увидела, обратила внимание на его серую преображенскую тужурку. Погоны-то – без вензелей. Нет у Ника вензелей на погонах. Тоска прозвенела в душе как короткая музыкальная тема.
– Возвращаю тебе твои давние слова, Нелли. Мы живем в мире, который чуть было не рухнул в бездну. И бездна еще дышит. – Ник переложил на столе какую-то книгу, мне не было видно, какую. – Ты, я думаю, догадываешься, сколь тщательно охраняют Леру. Я уважаю ее личную свободу, мне о ее передвижениях и встречах не докладывают. Но есть люди, которым известен каждый ее шаг.
С Леры мои мысли сами собой невольно перескочили на младшего Джона.
– Странно, уж говоря о Кеннеди, раз он у тебя в гостях. На них ведь тоже покушаются. Только не так церемонятся. С ними действуют грубее.
– Ну да, каждому школьнику известно, кто дважды покушался на Джона-старшего и один раз – на Роберта. Покушение в Далласе – это просто чудо, каким образом все обошлось. Настоящее чудо. Снайперы не промахиваются.
– Ты думаешь, это одни и те же силы, Ник?
– Не непременно. Ты знаешь наш технический термин – Энтропия. Она может создавать самые различные антисистемы.
Я подошла к письменному столу. Да, книга не случайно показалась мне знакомой на вид. Это был потрепанный томик классического труда философа Павла Каштанова – «ХХ век: развилка трех дорог».
– Неужто перечитываешь? Ты разве не наизусть это вытолмил в школе?
– Нас очень хорошо учили в школе, Нелли. – Ник не поддержал шутки.
Всем известно, что тридцатые и сороковые годы в Российской Империи были годами неслыханного расцвета консервативной мысли. Каштанов, повидавший ужасы революции уже зрелым человеком, написал немалое количество работ, где подверг анализу как саму революцию, так и ее последствия. Но в «Развилке» он размышляет о цивилизационных моделях. Каштанову принадлежит формула, действительно вызубренная нами со школьной скамьи: наша цивилизация способна воплощаться всего лишь в трех формах общественного устройства – монархии, демократии и тирании. Ничего иного не может возникнуть по определению. Единственно монархию он выдвигает в качестве правильной формы, ибо только она направлена к Богу, а не к возвеличиванию человека.
– Полезно перечесть спустя какое-то время, – продолжил Ник. – Я сделался старше, книга проросла новыми смыслами. Он великолепен. Только он подметил, что демократия и тирания в одинаковой мере творят кумиров из людей. Помнишь, на примере похорон?
– Тьфу на тебя.
– Да ладно, мы же не суеверны. Пример между тем выразительный. Умирает монарх, люди грустят, ну, если, конечно, он заслужил грусти, но в стране нет ни паники, ни ощущения катастрофы. Монарх – человек-функция, он замечателен, уж прости, не сам по себе, но как носитель нескольких священных капель на челе, позволяющих ему предстоять за свой народ. Функция передается преемнику. Грустят лишь о человеке, но человек этот – не кумир. Похороны же тирана – это ощущение конца света всеми живущими. Тиран обожествлен. Заменить его нельзя. Даже сама мысль о том не приходит в голову человекопоклонника. Она кажется ему кощунством. И, что самое жуткое, ведь это ощущение конца мира не ложно. Сотворенный тираном мирострой рушится вместе с ним.
– Двадцатый век не увидел картин подобной неправдоподобной массовой скорби.
– По счастью нет. Каштанов иногда дает волю воображению. Но ему веришь.
– А вот я уже повзрослела настолько, чтобы поспорить с Каштановым. – Я засмеялась. – Три формы? А как же Бонапарт? Деспот и помазанный предстоятель в одном лице.
– Ты не повзрослела спорить, а просто давно не перечитывала. Есть глава «Подменные формы». Их Каштанов считает самыми опасными. Демократия под видом монархии, деспотия под видом монархии. Бонапарт – воплощение самой коварной деспотии. Подменной.
– Да, теперь я вспомнила. Но все-таки. Ты вот восхищаешься его параллелью между кумирами деспотии и кумирами демократии. А мне иной раз трудно поверить его воображенным примерам. Ну, представимо ли, что при демократии в ХХ столетии роль кумиров была бы отведена самым отбросам? Что певичка легкого жанра может быть многократно более знаменитой и богатой, нежели оперная певица? Что газеты будут пристально следить за частной жизнью какой-нибудь вульгарной кривляки, не способной правильно взять три ноты? Возможно ли такое?
– Нечто подобное мы наблюдаем в Америке. Не в тех страшных крайностях, о которых фантазирует Каштанов, конечно.
– Ну, в Америке… Я мало знаю, как там они живут, скучно. Знаю событийную канву, но не быт.
– Это не совсем быт. – Ник продолжал выпускать колечки. Только сейчас я обратила внимание, что у него очень утомленный вид. – Каштанов одним из первых смело произнес то, что витало в воздухе: равенства не существует. Но худшее неравенство – демократическое. Неравенство денежное. Потому он и называет демократию «тельцекратией». Элиты Златого Тельца.
– Ну да, или телецекратия, или, по Достоевскому: «все рабы и в рабстве равны». Или же монархия. Ничего сверх. Хотя все же странно, что именно сейчас ты взялся это перечитывать.
– На то есть причины. Хотел бы рассказать тебе о них, по пока что не стану. Так я могу на тебя рассчитывать?
– Пустой вопрос, Ник. – Я поднялась, поняв, что, пожалуй, заняла собой слишком много его времени. Он встал следом, щелкнул каблуками. – Это уж мир должен перевернуться, чтобы ты не мог рассчитывать на меня.
Глава VI Газеты, письма, телефон…
Наконец-то руки мои дошли до газет, столь любезно подаренных мне Авигдором Эскиным. Напрасно я честолюбиво тревожилась: обо мне продолжали писать.
Меньше, конечно, чем об этом космосе. Случайно начав свой просмотр с либерального «Обличителя» (взятого уж просто до кучи, ибо ясно, что эти обойдут мою особу молчанием) я наткнулась на «космическую» статью модной Джульетты Латыповой. Пишет она противно, но цепко, невольно зацепила парой абзацев и мое внимание.
«Остается непонятным, сколь долго выплачиваемые нами налоги будут уходить на эти бессмысленные исследования, – с обычным своим апломбом разорялась она. – Гимназисту, знакомому с законами физики хотя бы на „удочку“, ясно: единственное, на что способны сопла, это вывести железяку с собачками в стратосферу. Далее эти замечательные реактивные двигатели попросту сгорают от собственной мощности. Выход на орбиту – абсолютная утопия при нынешнем состоянии науки. Только развитие турбовинтовых двигателей, в котором, кстати, нас далеко опережают США, сделает возможным настоящие космические полеты – не в наши дни, конечно, но лет через тридцать-сорок2… Мы же повторим: наши сопла плавят сами себя. Даже те, кто по долгу службы вынужден проявлять публичный энтузиазм, в частных разговорах признают это. Можно себе представить, с каким унынием они в действительности глядят на индикаторы своих лексикографов! Впрочем, если правительство согласиться признать эти исследования бесперспективными, некто, чьего имени мы из соображений нашей безопасности не станем здесь называть, воспользуется своим правом такое правительство отозвать. Создается впечатление, что за стоимость игрушек одного мальчика мы продолжим платить еще…»
Я, вне сомнения, ничего не понимаю в космических делах, но такое впечатление, что начертавшая неизъяснимые строки понимает еще меньше… «Индикатор лексикографа», это же надо! Одно непонятно: какое-то время назад с этой дурниной появлялся на людях граф Роман, о чем мне, разумеется, доложило немалое количество доброжелателей. Впрочем, кажется, уж и перестал.
Я выбросила из головы и космос и Латыпову, сосредоточившись на новых рецензиях. Да, обо мне пишут. Не так, чтобы очень много, но и не мало. И «сильным дебютом» назвал сам литературовед Палеевский, и неизвестный мне вредный критик Тулупов подметил мелкие нестыковки в мистической интриге. А я так надеялась, что никто не заметит, как автор немножко запутался, ну, самую малость. Но противнее всех оказалась некая критикесса Ермилкина, которую я тут же от злости мысленно наделила тремя подбородками и глазами навыкате. Ермилкина, пишущая отнюдь не в либеральном «Обличителе», но в самой что ни на есть патриотической газете «Неглинка», пылко обвиняла меня в «упадочничестве».
«Создается впечатление, будто госпожа Чудинова пишет роман посреди победившего совдепа и подвергает себя опасности угодить за него в чекистские застенки».
Гадкая, ох, какая же гадкая… Да, мне временами было очень больно писать «Хранителя анка», быть может, слишком больно. Но почему «упадочничество»?
«Отчего, к примеру, мы не находим в этом произведении счастливых страниц, посвященных вступлению армии в Петроград?»
А что обнаружила вступившая армия в Петрограде, она задумывалась, эта Ермилкина? А вот я читала протоколы обследования дома №2 по Гороховой… Дорого же далось то счастье, чтоб быть «счастливыми».
Расстроенная и разозленная, я слонялась по комнатам. Все литераторы самолюбивы, я, понятное дело, не исключение. Так бы и прибила критикессу Ермилкину.
Бросить бы эти рецензии, да уехать в имение, в Бусинки. Редкий шанс увидеть в сборе всю семью. Там и сестра с Ксюшей и Меланией, и родители. Отец, как ему на юбилей вышел чин тайного советника, два года назад, все-таки стал иногда и отдыхать летом.
Бусинки, строго-то говоря, не совсем имение. Куплена земля под Тарусой была, когда мне исполнилось пять лет. Тогда и выстроили дом, в местном стиле, деревянный, со всевозможными разноцветными фантастическими наличниками, балясинами и навесами.
А настоящее наше имение вовсе не наше, под Пермью. Отец ведь – третий из четверых сыновей деда. Земля принадлежит дяде Сергею Константиновичу, после ее унаследует кузен Петя, Петр Сергеевич. Но наше нынешнее земельное законодательство – самое правильное. Из-за постоянных дроблений родовые усадьбы выскальзывают из семей. Поэтому недвижимость передается целостной – старшему наследнику. Зато младшие в семье имеют преимущества в служебном продвижении.
Но мне и Бусинки нравятся, я в них выросла. В них много кустов смородины и берез, а дом выходит верандами на черно-хрустальное широкое течение Оки, далеко внизу, на заводи, поросшие желтыми кувшинками.
Странное место для детских игр, но как же мне нравилось тарусское старое кладбище, тоже парящее высоко над Окой! Могила Борисова-Мусатова: упавший на красный гранит гранитный мальчик. Вокруг цветут дичком розы и шиповник. И на склоне, зажатая двумя уже безымянными могильными холмами, старая скамейка. Сидя на ней можно часами наблюдать великолепную речную панораму: причудливо переплетенные тропинки склона, берег, белый пляжный песок… Над всем этим маленькое солнечное кладбище словно парит. Не представляю погоста более светлого и тихого.
«Пойдем на могилу памятника!» – обыкновенно говорила я, лет трех от роду, подразумевая Борисова-Мусатова. Это надолго сделалось присловьем в семье.
А чуть дальше – но это я сумела оценить позже, в отрочестве – могила Марины Цветаевой, проведшей в Тарусе последние годы жизни. Прекрасный горельеф – легкий профиль, так и кажется, что немножко «в ореоле папиросы»…
Таруса, яблоневая, в плетеных заборах, Таруса – яблочная корзина в августе – под ногами лошадей хрустит ковер благоуханной падалицы… А эти овражки, сущее благословение детских игр – то в индейцев, то в англо-бурскую войну…
Уехать в Бусинки, раз уж я – московская пленница?
Чем тут сидеть и Ермилкиных читать…
Нет, нельзя. Далеко. Так что – сидеть мне в московской родительской квартире.
На каминной доске в гостиной – завал неразобранных писем. Польская марка на конверте? Маме, от пани Стасиньской, ее коллеги и хорошей подруги? Нет, мне… От кого бы? Однако!
По счастью нож для писем лежал рядом – а то бы я надорвала конверт руками.
Письмо было от кита журнального дела – Бориса Софроновича Коверды. Писала, правда, его дочь – Наталия Борисовна. Что не удивительно, все-таки сам газетный магнат уж очень немолод. Хотя до сих пор деятелен, в яснейшем разуме. И ведь это невзирая на годы каторги…
Опомнись, Нелли! Какая еще «каторга»?! На какую каторгу мог попасть – да еще на годы – почтенный литературный деятель? Опять «сквозняк»? Ох, а ведь почти на два дня удалось обо всем этом забыть… Не хочу, не хочу об этом сейчас думать, да и неважно, важно, о чем мне пишут! Ну, как и Коверда «упадочничество» обнаружил? Тогда беда.
«…Как Вам, быть может, известно, Елена Петровна, отец еще ребенком оказался свидетелем красного террора, – писала Наталия Борисовна. – Впоследствии его показания вошли в свидетельства для антибольшевицких процессов. Поэтому особенно дорого показалось ему, что в представительнице юного поколения давние трагические события находят столь живой отклик. Забытая история – повторяющаяся история. Борис Софронович намерен осветить в целом ряде своих журналов Ваш роман, и уже говорил о том с рядом лиц, встретив самый благожелательный интерес. Но предваряя публикации, просит передать Вам наилучшие пожелания, в особенности…»
Вот так-то! Я упала в любимое кресло-качалку, сжимая письмо в руке.
Одобрение Коверды – это вам не фунт изюма! И это почти наверное перевод на польский язык, а там пойдет…
Коверда всю жизнь прожил в Польше. Сперва его семья бежала от красного террора в Вильно, а уж после, когда, сообразно обещанию убиенного Государя, был официально подтвержден выход Польши из состава Российской Империи, они переехали в Варшаву, там Коверда и закончил гимназию, там и начал журналистскую деятельность…
Все-таки, быть может, я написала не самую плохую книгу?
Трель телефонного звонка вырвала меня из самого сладкого и глубокого самолюбования. И зачем? Кому я нужна?!
Нужна я оказалась Лере. И с первых ее слов мои честолюбивые восторги со свистом вылетели из головы.
– Нелли, это было нечестно! Я уверена, ты знала, кто такой Джон! Еще в столице знала, в костёле!
– Так-таки Джон? Может статься, все же мистер Кеннеди?
– Гмм… Ну да, мистер Кеннеди, конечно. – Судя по тому, как прозвучало это «мистер Кеннеди», у меня не осталось тени сомнения, что дошло до «Джона».
– Где ты с ним повстречалась на сей раз?
– В Кремле, в Тайницком саду. Опять случайно. Я сегодня приехала с Ником на Конференцию, то есть не на Конференцию, а на прием для участников. Мне-то эта Конференция к чему?
– И что Кеннеди?
– Да ничего. Я как раз хотела с кем-нибудь поговорить по-английски, ты ведь знаешь, как я его легко забываю… Завтра поедем кататься верхом, я ему покажу Коломенское… Или лучше Царицыно? Он, оказывается, не занят на этих заседаниях. Все заняты, а он нет. Завтрашнее утро у него совершенно свободное!
Я слушала и тихо кипела от злости. Лера – дитя, но американец-то хорош… Что за безответственность? Уж он-то должен понимать, что и к чему. Или – недоразумение?
– Он знает, кто ты такая? Как ты назвалась? И кто, строго говоря, его тебе представил?
– А он сам и представился, он один гулял. То есть, он решил, что дважды видел тебя, со мной и у Ника – стало быть, все-таки, мы не вовсе незнакомы. Ты – общая знакомая, разве нет?
– А как зовут общую знакомую, он имеет представление, этот наглец?
– Представь, да.
Ловок, шельмец. Уточнить, впрочем, не чрезмерно трудно. Даже газеты сейчас мои фотографии печатают. Хотелось бы мне знать другое – о том, кто такая Лера, он узнал до того, как с нею познакомился? Если он искал знакомства именно с Великой Княжной – дело совсем неприглядно. Если же просто запомнил красивую девушку – ну, это еще ладно.
С логикой у Леры как всегда – изумительно в смысле полного изумления собеседника. Сперва корит меня, что я якобы знакома с Кеннеди, после сама же упоминает, что он меня видал всего два раза.
– Валерия, мне это не нравится. К чему могут привести такие прогулки? Ты ведь знаешь, что ты – не про него. Ты это превосходно знаешь.
– Но с какой стати ты делаешь такие далекие выводы, Нелли? Я что, венчаться с ним завтра собралась? Разве нельзя просто, любезно, по хозяйски, показать гостю город? Что в этом-то предосудительного? Ты уж сразу решила, что я в него влюбилась.
Решила, Лерочка, решила. И чем жарче ты это отрицаешь, тем основательнее моя уверенность.
– А Ник знает о твоей хозяйской любезности?
Трубка отозвалась молчанием.
– Алло, Лера? Стало плохо слышно. Так я правильно тебя поняла, что Нику все известно?
– Если ты ему скажешь… Ты знаешь, как это будет называться?
– Знаю. Это будет называться выполнением долга верноподданной.
– Я жалею, что тебе сказала! С чего ты решила, что между нами что-то есть? Это только лишь твои домыслы!
– Надеюсь, что домыслами они и останутся. Я пока промолчу, Лера.
– И увидишь, что была неправа.
– Дай Бог. И уж, кстати, если тобою движет единственно радушие хозяйки, так позови с вами, к примеру, Мишу. Во избежание кривотолков. Заодно и он по-английски поболтает. И Миша наверное не занят на конференции.
– Ну и предложение! Тебе прекрасно известно, что Миша последние полгода сделался совершенно несносен. По-моему правильный образ жизни стал у него идеей фикс. Он только о том и думает, чтобы большее число раз подтянуться на турнике или большее расстояние пробежать.
По чести сказать, тут она права. Великий Князь Михаил, кузен и ровесник Леры, как-то нежданно превратился из играющего в «новых готиков» поэтического юноши в какого-то заурядного любителя физических упражнений и свежего воздуха. Бросил курить (а какая у него была роскошная машинка для набивания папиросок, с какой великолепной рисовкой он с нею управлялся!), не пьет теперь даже свой любимый прежде сидр… И заделался совершенным молчуном. С ним стало попросту скучновато. Впрочем, в двадцать лет многих довольно резко бросает из стороны в сторону. Поглядим, что будет еще через месяц-другой.
– Верховая езда, в таком случае, самое подходящее занятие для Миши. И он охотно составит вам компанию. А болтать тебе все едино хочется вовсе не с Мишей. Так что его нынешняя молчаливость – не помеха.
– Нет, не хочу. Он все испортит.
– Не стану толочь воду в ступе. Свое мнение я сказала, Лера. Не любо слушать, не спрашивай.
Она распрощалась, обиженная.
А я все сидела на ампирной танкетке у телефонного аппарата, сжимая ненужную трубку.
Я не хочу, чтобы она повторила мою историю, пусть в иной вариации, но вариации здесь не важны. Важно другое: она ведь не выдержит. Она – не я.
Три с половиной года различия со всеми в нашей компании – сперва детской, потом – отроческой, студенческой. Но как же мы ее баловали! Бегали медленней, чтобы она могла угнаться за нами на коротеньких ножках, таскали на закорках, целовали в синяки. По десять раз объясняли урок, а то и давали списать. Подстраивали под нее планы.
Круглая сирота с четырехмесячного возраста. Это разрывало сердце. Могли ли мы вести себя иначе? Вероятно, должны были. Она живет не по Корнелю, по Расину. Она не знает слова «нет». Что сотворит с ней первое столкновение с этим словом? Лучше б оно произошло в какой угодно иной сфере.
Как уберечь ее сейчас? Остается надеяться на одно: американец прибыл ненадолго. Кстати, надо бы это выяснить осторожно. Магия расстояний действенна – и никакая телефонная связь не укорачивает версты, слагающиеся в мили. Даже если мерить километрами. Только б его нелегкая унесла поскорей, этого Кеннеди!
Мне было тревожно. И, как и следовало ожидать, давно зажившая рана заныла уж слишком сильно.
Глава VII Четыре года назад
Это было лето 1980-го года, мои вторые студенческие каникулы. Все шло так хорошо, как просто не бывает на свете.
Студенчество – особые пять или шесть лет жизни, ни до, ни после ничего похожего ты не переживаешь – с пропетого в первый раз в аудитории «Gaudeamus» до дня торжественного вручения диплома. Освященная традиция позволяет «буршам» жить вне этикета. Помимо того, все – в первый год особенно – немножко шалеют от совместного обучения. В самом деле, это так странно – сидеть за одними партами с молодыми людьми! Но молодые люди не целуют твоей руки, не вскакивают при твоем приближении, перебивают тебя в спорах. Все это можно, все это не нами заведено. Мы не юноши и не девушки, мы «бурши». Можно заявляться в гости без предупреждения, можно подавать еду в ненагретых тарелках. А то и вовсе в бумажных фунтиках.
Увы, после защиты магистерской диссертации ты теряешь какое-то неписаное право на этот стиль жизни. Впрочем, не всю же жизнь жевать на улицах бутерброды. Но тогда я наслаждалась вовсю.
К тому лету мои стипендиальные обстоятельства позволили мне воплотить мечту всякого нормального студиозуса – выпорхнуть из родительского гнезда. Я сняла студию в Брюсовом переулке, ну да, разумеется, в Брюсовом, хотя бы ради того, чтобы услышать, как улыбнется в трубке на эту новость Наташин голос. Быть может, я отчасти хотела ее этим обмануть, показать, что я не разгадала столь роскошно ею инсценированной истории с Проклятым Племянником. Наташа ведь не любит своих просчетов, допущенных по нездоровью.
Как же нравились мне мои новые владения! Комнатка в два окна, на втором этаже, а окна даже солнечным днем затенены ветками кленов. Крашеный дощатый пол, довольно занозистый, что мы вскоре сумели в полной мере ощутить, ибо очень любили сидеть на полу. Английские ситцевые обои, довольно-таки вытертые. Крошечная ванная, игрушечная плита. Я купила современную кровать с одной спинкой и старинное бюро, которое заняло четверть комнаты. Раскладной стол, три табурета, и выпрошенный у мамы дедов сундук для путешествий, который дома почему-то назывался «Гросс-Германия». Весь в полустертых наклейках давних отелей. В него поместилась одежда, а сверху опять же можно было сидеть тем, кто берег платье от неровных досок.
Ни новостной панели, ни даже радиоприемника в моем новом обиталище не было – к чему? Только самый простой телефонный аппарат. Жизнь в этих стенах кипела изнутри – во внешних событиях мы нуждались мало.
Сколько же нас набивалось в эту комнату тем летом! Засиживались до утра, ведь каникулы. Хлестали чай по-московски – чашку за чашкой. (Жителей иных градов московское чаепитие, я замечала не раз, весьма пугает). С эйнемскими помадками, с абрикосовским мармеладом, да и просто с хлебом от Филиппова.
Вино мы в те времена пили только в дни экзаменов, уж это святое. Но покупка вина на каждые посиделки была большинству не по карману.
Ник-то, впрочем, был из нас самым богатеньким. Помимо стипендии ему еще выплачивали целых сто рублей в месяц по распоряжению Опекунского совета. Но он уж равнялся по остальным.
Впрочем, мы пьянели и без вина, от одних разговоров, от того, что было так хорошо теплыми теми вечерами и светлыми ночами.
Я наслаждалась тем летом самостоятельностью, полной, совершенной. Родители разъехались по экспедициям, отец в Гоби, мама – на Саарема, сестра с мужем отправились на пленэр на Вологодчину, старенькая няня Тася уже полностью переселилась в Бусинки, а Наташа увезла Гуньку в Коктебель. (Впрочем, мое желание самостоятельности и тогда делало исключение для Наташи). Я была полностью предоставлена самой себе. Вернее сказать – полностью предоставлена друзьям.
У меня бывали все. Реже всех, пожалуй, Роман, который не любит долгих разговоров. Хуже – он не умеет от разговоров пьянеть.
Зато все остальные бывали, все остальные пьянели. Появлялась княжна Нинка Трубецкая, самая из нас безразличная к политике и терпимая к республиканскому устройству, вечно фрондирующая Нинка, в своей любимой зюйд-вестке и бриджах из «чертовой кожи», в любой момент готовая схватить рюкзак и умчаться одна в леса – куда глаза глядят.
Так много трепета и гнева, И тут же смех. И голосом владела дева, Что звонче всех. Простоволосым златопадом, Смеясь, грустя, Играла, как ручьем наяда, Как львом дитя. И этот слух, что дивно тонок На звоны лир. Ты вся была как тот ребенок — Познавший мир3.Стихотворение, посвященное в те дни мне, было неровным, как все почти Нинкины стихи, но всем нравилось. Кроме, может быть, Ника, потому, что он единственный не похвалил, а как-то странно промолчал.
Бывала Вера, тогда еще Маслова, с ее будущим мужем Жаном Сен Галлом, самозабвенно изучавшим русский язык. Мы звали Жана Ванюшей, Ванечкой, и ему это страх до чего льстило.
Бывала Нинкина кузина княжна Лёка. И Нинкина тётка – Машка Несмеянова, тётка, что на полгода моложе племянницы, застенчивая и одновременно насмешливая, стригшая свои темные волосы коротко, за что мы дразнили ее «суфражисткой». Ну, это все биологический факультет.
Был Мишка Осипов, с первого же курса определившийся по линии кристаллографии. Его девушки временами менялись, но варьировались всегда внутри одного типа. Я их не запоминала.
Что еще? Дима Федотов, ухаживавший тогда за Ирой, своей будущей женой. Оба будущие физики. Всех не перечесть, да и не вспомнить.
Мы пели вечные студенческие песни.
Пошел купаться Уверлей, Оставив дома Доротею. Берет он пару-пару-пару пузырей, С собою, плавать не умея. И он нырнул как только мог, Нырнул он прямо с головою. Но голова-ва-ва, тяжеле ног-ног-ног, Она осталась под водою. Жена, узнав про ту беду, Удостовериться хотела, Но ноги милого в пруду, в пруду Она, узрев, окаменела. Прошли века и пруд заглох, И заросли к нему аллеи. Но все торчит-чит-чит там пара ног-ног-ног И остов бедной Доротеи!Чем печальней рисовалась судьба любящих супругов, тем веселей мы орали.
По рюмочке, по маленькой, налей, налей, налей, По рюмочке, по маленькой, чем поят лошадей! А я не пью! Врешь, пьешь! Ей-богу! Божиться грех! Так наливай студент студентке, Студентки тоже пьют вино, Непьющие студентки редки, Они повымерли давно. Колумб Америку открыл, Страну для нас совсем чужую. Чудак!! Он лучше бы открыл На нашей улице пивную! По рюмочке, по маленькой… Коперник целый век трудился, Чтоб доказать Земли вращенье. Чудак!! Он лучше бы напился, Тогда бы не было сомненья. По рюмочке, по маленькой… А Ньютон целый век трудился, Чтоб прояснить тел притяженье. Чудак!! Он лучше бы влюбился, Тогда бы не было сомненья. По рюмочке, по маленькой… А Менделеев век трудился, Чтоб элементы вставить в клетки. Чудак!! Он лучше б научился Гнать самогон из табуретки. По рюмочке, по маленькой…Пили мы при этом, как я уже говорила, через два раза на третий – да и то в лучшем случае.
Ник присоединился к нам только в июле. Всю вторую половину июня, едва кончились экзамены, он затеял проехать на «попутках» до низовий Волги. С двумя сокурсниками с юридического факультета и тремя свитскими. Инкогнито, разумеется. План, сам по себе, был недурен, ведь студентами, шатающимися по городам и весям, летом никого не удивишь. Кто просто путешествует, кто и нанимается на сезонные работы. Последнее, правда, ближе к осени. Но и «на картошке», как называется в студенческой среде страда на хуторах, никого не удивишь ни французским языком, ни латынью, ни обсуждением доказательств теоремы Ферма. Затеряться средь буршей легко даже Императору, особенно если, как сделал Ник, нарочно растрепать пробор, отпустить усики и купить темные очки.
План был недурен, однако, как я теперь подозреваю, стоил многих седых волос Великому Князю Андрей Андреевичу, главе Опекунского совета. Уж не знаю, как он из этого положения выходил. Думаю, предпринял какие-то меры предосторожности. Но не мог же Андрей Андреевич запретить девятнадцатилетнему царю, на его, царя, честные деньги, путешествовать по своей стране? Бедный Андрей Андреевич!
Ник ворвался в наши посиделки загорелым, полным множеством впечатлений и идей.
Какие же сумасшедшие, какие великолепные разговоры велись в те летние вечера!
Мы говорили о продвижении православной миссии в скандинавских странах, о заселении Дальнего Востока, о строящихся там новых городах. Мы говорили об инклингах и Бердслее, о прерафаэлитах и «плетении словес».
Мы, разумеется, спорили о геополитике.
В студенческие годы всем свойственно в разговорах и мыслях вершить судьбы мира. Но одному из нас надлежало в скором грядущем заняться этим на самом деле.
Иногда, как странно выражаются англичане, в моей студии негде было повесить кошку. Иногда народу случалось меньше, иногда заходил и кто-то один.
И все чаще и чаще случалось, что этим одним оказывался Ник.
Мы не понимали, мы очень долго ничего не понимали. Мы просто сидели за чаем и говорили – говорили, пока за окнами ни начинали щебетать птицы, пока лучи электрической лампы ни выцветали в лучах рассвета, и делалось заметным, какие мы уже бледные, и над собственным призрачным видом мы только хохотали.
Да, мы вели очень важные речи о судьбах мира, только мир этот был населен всего лишь двумя людьми.
Я отчетливо – до слова и до жеста – помню все, что произошло и было сказано потом. Но из моей памяти почему-то напрочь стерлось то, как в один прекрасный момент слова сделались ненужны.
Как я, оказывается, давно хотела этого – коснуться губами тонкой метки на его правой брови, этой памяти о моей детской выходке. А от нее спуститься к ресницам, к его слишком длинным «девчоночьим» ресницам, о которых я дразнилась во все те же гимназические годы. Правый глаз, а уж следом и левый… Он закрыл оба глаза, подставляя их моим губам.
Поцеловаться в уста мы решились не сразу. Мы были неловки, мы были неуклюжи. Уж за себя поручусь наверное, но, сдается мне, и Ник целовался впервые в жизни.
– Мы же всегда… мы всегда это знали! Еще когда дрались маленькими… – шептал Ник, зарывшись лицом в мои волосы. – Златопад…
Затем наши губы кое-как все-таки нашли друг друга.
Пространство вокруг нас скрутилось в теплый золотой кокон, и этот кокон вертелся, вертелся все быстрее и быстрее, чтобы унести нас высоко и далеко.
Опомнилась я. Я разорвала золотой кокон, я оттолкнула Ника, я вырвалась из его рук с жалобным вскриком, словно кто-то ударил меня ножом. Лучше бы ножом.
– Нелли, милая! Неужели я тебя напугал? Прости… Мужчины ведь очень грубы, я знаю…
Он не понял. Он ничего не понял. Мое поведение он, я отчетливо это угадывала, отнес совсем к иному: решил, что оно вызвано той переменой в нем, которой я не могла не ощутить – даже через одежду. Да, принято считать, что девушки этого боятся. Но я не боялась. Все, что между нами происходило еще несколько мгновений назад, было так естественно и так желанно, все, решительно все было прекрасным.
Он не понял. Неужели мне самой придется ему сказать?
– Мы не должны быть вместе.
– Отчего не должны? Мы же любим друг друга! – Какие-то тени отуманили его взгляд: он еще отгонял правду, но теперь предчувствовал ее приближение.
– Ты брал обязательства. Православие – государственная религия твоей страны. Твоя невеста должна либо быть православной, либо перейти в православие.
– Нелли… Но разве ты…
– Нет. Нет, милый, нет. – Происходило что-то очень странное. Дальше моими устами словно заговорил кто-то много мудрее и сильнее меня, кто-то, подобный, быть может, античному демонию. Мысли выстраивались четким строем, легко облекаясь в спокойные слова. Разве что сердце трепетало, словно воробушек, которого давил чей-то безжалостный кулак. – Не потому, что я так уверена в себе, в своем знании, где истина. Но я давала присягу, я клала на книгу ладонь! Быть может и случается так, чтобы женщина переменила взгляды под влиянием мужчины. Быть может, из этого может выйти благо, быть может, и нет. Но это не наша оказия, Ник. У нас все слишком просто. Передо мной на одной чаше весов – мужчина, на другой – присяга. Если я уступлю, мне даже обмануть себя будет нечем. Мы – племя высоколобых, мы – примат идей. Милый, милый, я потом тебя попрекну! Попрекну, когда совесть меня изгрызет, словно червячок древоточец. И не будет гармонии, не будет лада. Я тебя люблю, но если я это сделаю, счастливы мы не будем, нет!
– Тогда я попрошу Сенат разрешить мне брак с католичкой.
Он еще не хотел сдаваться. Но в эти минуты я была сильнее и мудрее него.
– Ты не станешь просить. Мы живем в мире, который шесть десятков лет назад чуть не рухнул в бездну. Бездна еще дышит. Ты не имеешь права. Агенты Энтропии станут играть на антикатолических настроениях в православной среде, ослаблять твои позиции. Ни одной из этих позиций ты не имеешь права сдать добровольно. Ты не должен вкладывать в руки врагов оружия против тебя. Тебе не нужна жена-католичка.
Мы стояли на расстоянии вытянутой руки – и руки наши действительно тянулись друг к другу.
– Все не может быть так безнадежно.
– Все безнадежно. Мы пленники двух присяг.
– Я не верю, что не могу ничего сделать.
– Императоры не боги, милый. В нашей стране любой человек может жениться на ком хочет. Любой, кроме тебя. Ты можешь сделать сейчас только одно, Ник. Уйди. Пожалуйста, уходи, уходи немедля!
Мой демоний слабел. Я вот-вот могла уже утратить решимость.
– Я не могу уйти от тебя, Нелли. – Его губы совсем побелели. – Даже если должен, даже если ты права. Но я просто не могу, нет.
Это был самый отчаянный миг.
– Уходи! – воскликнула я, кажется, ломая руки, впрочем, не помню. – Ник, уходи – или я сейчас брошу тебе под ноги свою честь! И ты на нее наступишь! Ты ведь сейчас на нее наступишь, Ник!
– Нет. – Голос его прозвучал хрипло, будто он опять сорвал его на плацу. – Я твоей жизни не сломаю.
Он метнулся к дверям, как слепой. Он стукнулся о косяк. Шаги прогрохотали по лестнице.
Кинувшись к окну, я смотрела, как он уходит по ночной улице. Ночь поглотила его. Ночь поглотила все.
Я упала на кровать и зарыдала. Я вскрикивала, я приподнималась и вновь падала лицом в подушку, я колотила вокруг руками. Через несколько часов нос так распух, что дышать пришлось ртом. Я никогда не думала, что в глазах может быть так много слез. Я плакала, плакала, плакала, а слезы не иссякали. Не иссякали, но не приносили облегчения.
Я не переодевалась, не умывалась, не ела. Иногда я слышала звонок телефона, иногда кто-то снизу, с улицы, нажимал на кнопку электрического «колокольчика». В конце концов, трели и звонки стихали, впрочем, я не вполне уверена, что они и были. Кажется, иногда я испытывала жажду и пила воду. Слезы не иссякали. Иногда я впадала в краткое забытье, то ли в обморок, то ли в сон, но скоро пробуждалась от звуков собственных рыданий.
Такой меня и обнаружил на третьи сутки Роман.
Глава VIII Четыре года назад (продолжение)
Я давно привыкла к тому, что у Романа при себе всегда наличествуют всевозможные опасные, а то и предосудительные предметы. Револьвер, само собой. Иной раз – отлитый по особому заказу бронзовый кастет с шипами – настоящее произведение искусства. Дорогих ножей я даже не считаю. Один раз он привел нас с Наташей в полное изумление, предложив обыскать его карманы. «Ну что, я безоружен?» – веселился он. Пришлось, подозревая подвох, признать, что да. «Возможно, у меня связаны руки, возможно, мне их заломили за спину». «Ну, так и что? Что далее?» В следующее мгновение Роман словно бы улыбнулся – обнажив крепко сжатые зубы. А меж зубами затрепетало нечто, похожее на тонкое блестящее змеиное жало. Бритвенное лезвие. Это было лезвие для так называемой «безопасной» бритвы. «Откуда?! Ты даже не подносил рук ко рту!» – вскричала я, когда Роман, снизойдя к нашим уговорам, наконец «выплюнул эту гадость». «Бритва была у меня за щекой». «Но это невозможно, Роман! Ты же разговаривал, как ни в чем не бывало! Нельзя говорить с бритвой за щекой!». «Можно, как видите, впрочем, могу показать еще раз». «Нет уж, не надо!» «Я не враз это освоил. Неоднократно ранился довольно неприятным образом. Но стоит того. Ты решительно безоружен, враг теряет осторожность. Затем ты быстро идешь на сближение – и от уха до уха. Другой серьезной раны этим не нанесешь. Надо только вскрывать горло, зато тут уж все шансы».
Признаюсь впрочем, что подобные сценки происходили давно – когда Роману было лет пятнадцать, много – семнадцать. Чем старше он становился, и чем, подозреваю, опаснее делались его игрушки, тем основательнее получалась фигура умолчания.
Тем не менее, когда я вновь обрела в те дни способность удивляться, меня нимало не удивило то, что в кармане Романа сыскался набор отмычек, которыми он и открыл мою дверь.
Удивило меня совсем другое: а каким образом моя дверь оказалась запертой?! Ну не могла я ее запереть, никак не могла! Да мне было вовсе безразлично – заходите хоть все разбойники Первопрестольной.
Я помнила, как метнулась к окну, когда ушел Ник, потом упала на кровать. Нет, не запирала я двери… Какой-то странный провал в памяти.
Тем не менее, дверь все ж была заперта, а Роман открыл ее отмычкой. Не случись у него отмычки – налег бы плечом. Для Романа по определению не бывает дверей, в которые он не мог бы войти.
Присутствие Романа я скорее ощутила, чем осознала.
Он тер мне лицо холодной губкой, потом ледяные брызги полезли за шиворот и дальше, под одежду. Я не смущалась Романа, я ведь помню его столько же, сколько себя, с тех времен, когда мы спорили «чья» Наташа, и, в конце концов, решили быть братом и сестрой, чтобы ее не делить. Впрочем, я и не могла тогда смущаться. Я была в полусознании.
Он подносил к моим губам то воду, то вино, усаживал меня в подушках и пледах, сердито бормоча под нос о застое в легких.
Он гремел чем-то около плиты, и сварил, да сам сварил вполне настоящую жидкую овсянку, которой кормил меня с ложечки. Ложка, правда, почему-то оказалась устричной, раздвоенной. Более подходящих ложек он, видимо, в моих кухонных ящиках не нашел.
Он заставил меня уснуть – но почему-то сидя, а сам держал меня за руку. Я перестала плакать. Я уснула.
Когда я проснулась, он потащил меня в ванную, затем помог мне переодеться, сердясь, что вся одежда с меня спадает и придется, видно, подвязывать штаны куском бечевки.
Он выволок меня погулять в сквере, хотя я спотыкалась на каждом шагу. Не помню – два дня или три – Роман находился при мне неотлучно.
Наконец, словно бы заново учась говорить, я попробовала объяснить, что произошло, а главное (во всяком случае, это главное для Романа), что передо мною никто не виноват, что меня никто не обижал.
– Да всё я знаю, – Роман сердито хмыкнул. – Второй ходячий труп из этой драмы я уже имел удовольствие лицезреть. Собственно, как его увидал, так и понял, что надо сломя голову мчаться к тебе. Благочестивые вы мои… Вот ведь напасть. Но дело не в этом, дело в том, как с тобой сейчас быть. Лучше бы всего отправить тебя в Крым к Нате, да она, по своему обыкновению, не оставила возможности с собой связаться. Впрочем, есть еще одна неплохая мысль.
– Роман… А ты сказал… Нику, ему очень худо?
– Выброси из головы, Лена. – Впервые за эти дни Роман позволил себе говорить со мною неласково. – Ник – мужчина. Мужчина и Император. Со всем он справится и всё он переживет. Скажи мне лучше, я могу тебя оставить на несколько часов?
– Не тревожься. Ты вполне можешь меня оставить, Роман. Хоть я и не мужчина, но хуже мне уже не будет. Я вполне пришла в себя.
Подозреваю, что я несколько выдала желаемое за действительное, но в отсутствие Романа со мною и впрямь плохого не случилось.
Он не стал мне ничего объяснять, просто предложил собрать чемодан – на неделю. Я тоже ничего не спросила, и вроде бы даже приступила к сборам. С полчаса Роман наблюдал за моими попытками уложить в чемодан то конспект лекций по уже сданному предмету, то меховую муфточку, а затем, решительно меня отстранив, управился со сборами за десять минут. Да, это немножко странно, чтобы молодой человек собирал чемодан девушки. (Еще страннее, впрочем, то, что он проделал это идеально – не забыв ничего мне необходимого). Но повторюсь, я переживала в те дни столь сильное душевное потрясение, что самые немыслимые вещи воспринимались мною как совершенно несущественные.
Боюсь, что я немного надорвала тогда свою силу воли. Вся она без остатку ушла на расставание с Ником – и больше мне не осталось уже ничего. Гулять в сквере, так гулять в сквере, ехать незнамо куда – так ехать.
Только когда Роман сажал меня в вагон, я обратила внимание, что поезд следует в Ревель.
– А через неделю мы тебя будем ждать с Натой, – Роман положил на столик моего единоличного купе несколько свежих газет. – К этому времени я ее найду.
Кстати признаться, я впервые в жизни ехала в купе синего вагона. Все-таки по нашим летам это не считалось приличным. Вся эта крахмально-зеркально-бронзово-красного дерева роскошь была мне не вполне привычна тогда. Не про буршей заведено.
Утром, ясным и на удивление погожим, я была уже на месте назначения.
Ревель открывается сразу, с первого взгляда. Вокзал его лепится под самыми стенами Старого города. Мощные, невообразимой толщины, они вздымаются рукотворной величественной скалой. Но уютны, как невыносимо уютны рыжие и бурые черепичные крыши… В воздухе почти не пахло горьковатым дымком – лето, хозяйки не спешат с утра с растопкой к выстывшей печи.
И в столицах наших многие не расстались с печами и каминами, но только в Ревеле ими всерьез отапливают дома.
Подумав о печах, я по детской привычке, еще стоя на перроне, машинально огляделась по сторонам: не увижу ли на счастье трубочиста?
И увидела кое-кого другого, тоже в рабочем своем одеянии.
Рейн, улыбаясь, шел мне навстречу, метя платформу черными полами своей жесткой сутаны.
Обыкновенно он отнюдь не баловал меня подобными знаками внимания – мой обожаемый духовник.
– Прохожу мимо вокзала и думаю – вдруг кто знакомый к нам пожалует? – скорее пошутил, чем соврал он.
Все было ясным: несомненный сговор. Я вдруг почувствовала себя живой и даже немножко счастливой.
– А я вчера проходила мимо вокзала, гляжу: куда-то поезд отправляют, – в тон ответила я. – Ну я и села, отчего б не сесть? Jube, domne, benedicere!
Не без шика грязня дорожный наряд, я опустилась на колени посреди прозаической платформы и прозаической толпы. Не все так поступают, некоторые несомненно предпочитают менее людные места. Но только не я.
– Benedicat te omnipotens Deus… – показалось ли мне, или Рейн вправду не просто положил ладони на мою макушку, но на мгновение их с силой прижал, и они были теплыми и бесконечно добрыми.
Я весело вскочила на ноги, решив, что мы в полной мере эпатировали честной лютеранский и заезжий народ. Рейн уже оглядывался в поисках носильщика. Только носильщик, строго говоря, и нужен от вокзала до крошечной гостиницы. Таксомотору тут ехать некуда да и негде.
Как же я рада была видеть Рейна, отца Рейна Тоомпуу, вернее говоря. Высокий и широкоплечий, Рейн – столь типический эст, что иногда это даже представляется гиперболой. Все в нем чухонское – и совершенно бесцветные волосы, и голубые глаза с «легкими» веками, и неправильный нос, такие носы злые языки называют «уточкой», и квадратный решительный подбородок.
В 19784 году Рейн, только что рукоположенный в Риге, был назначен в самое-самое невообразимое захолустье католического мира: в Ревель и уж заодно в Дерпт, ибо зачем ставить аж целых двух католических священников на весь эстонский народ? Как раз умер старенький его предшественник, что служил в костеле Петра и Павла на улице Вэне. Приход же состоял из нескольких старушек польского происхождения и одного эстонского городского чудака. Вот и решили, что для упражнения в смирении очень молодому священнику это подойдет как раз.
Эстонцы, как и почти все лютеране, к религии довольно равнодушны. Спервоначалу они с недоумением приглядывались к тому, что молодой священник проводит в церкви дни напролет – кроме тех часов, что выступает по радио либо читает лекции.
Месса в восемь утра – и весь день в церкви, в ризнице или в личной крошечной комнатушке по винтовой лесенке над входом, комнатушке, куда кое-как влезли кушетка, крошечная плита, на которую помещался единственно кофейник, и столик с простеньким текстовым редактором. Но он всегда был доступен – каждому в том нуждающемуся.
У одной эстонской девушки, лютеранки, умерла мать. Ей в ту пору просто хотелось ходить на службу, ее успокаивали церковные стены. И тут она обнаружила, что у католиков почему-то служат каждый день, а не только по воскресеньям. А затем Ает и задумалась: а для ей чего ходить туда, где двери так редко открыты? Догматические обоснования пришли позже. Сначала Ает просто вошла в открытую дверь.
Через полтора года в костел ходило уже несколько сотен человек – в обоих городах. А Рейн взбадривал себя кофе и сигаретами, потребляемыми ежедневно в невообразимых количествах, и мчался после воскресной мессы в Ревеле служить воскресную мессу в Дерпте, ночевал там в ночь на в понедельник, а во вторник рано утром снова был, где всегда – в Петре и Павле.
Сейчас в Ревеле издается католическая газета на трех языках, поговаривают о скором назначении второго священника, поговаривают и о том, что кое-где уже заложен фундамент для епископской кафедры.
Как я попала в храм Петра и Павла – история особая и длинная. Но духовник мой служит в Ревеле. Конечно же, я исповедуюсь и в Санкт-Петербурге и в Москве. Но, тем не менее, мой главный храм, храм моей души – тут.
– Позавтракаем у Штуде? Вы, поди, не ели.
– Не ела. И поэтому мне больше хотелось бы не завтракать, а исповедаться, отец. Прямо сразу.
– Сразу так сразу. – Рейн улыбнулся.
Вещи мои проследовали в гостиницу, а мы направились в костёл. Костёл или церковь, как уж кому нравится, сама я говорю то так, то эдак.
Рейн отворил тяжелые двери устрашающе огромным ключом.
Храм возводил Росси, но и у Росси, стало быть, есть вовсе неприметные работы. Псевдоготика, безо всякой изюминки, незапоминающийся фасад с острыми башенками5. Хотя, когда входишь, эта псевдоготика прошлого века кажется готикой вполне настоящей, ничем не уступающей той окружающей немыслимой готике, что была у нас отобрана после Реформации.
«Люблю, знаете ли, древнелютеранскую архитектуру», если чуть-чуть перефразировать великолепного честертоновского отца Брауна.
Но пусть их бубнят свои тусклые проповеди в нашем Домском соборе – а месса остается мессой хоть в шалаше.
Солнце падает свозь витражи, колонны множат звук, и подарок Людвига Баварского – знаменитая икона Божией Матери – пребывает где ей и положено, в алтарной части.
Я шагнула было от входа направо, к резной тяжелой будке конфессионала. Сердце всегда замирает у меня в груди, когда входишь в этот тесный мрак, преклоняешь на скамеечку колени – и за деревянной решеткой – прямо перед твоим лицом – вдруг вспыхивает золотистый свет. Ты видишь склоненный профиль священника, но он – он тебя не видит, для него у тебя нет лица. Ты превращаешься лишь в голос, тихо звучащий из тьмы.
– Погодите, – к моему удивлению остановил меня Рейн. – Пойдемте лучше ко мне в ризницу.
Привычно склонив колени, проскальзывая мимо беломраморного алтаря, отделенного от общего пространства резными низкими перилами, я вошла в знакомую маленькую дверь.
– Да вы садитесь, – Рейн кивнул на стул для посетителей по другую сторону своего письменного стола. Отворил шкаф, достал епитрахиль, надел. – Разговор-то долгий, как мне представляется.
Эта, самая необычная в моей жизни, исповедь в самом деле длилась часа полтора. Рейн сидел напротив меня за письменным столом. Из стоявшего между нами телефонного аппарата он, впрочем, выдернул проводок. Больше ничего не подсказало бы стороннему наблюдателю, что это не обычная беседа, а исповедь – только епитрахиль на шее и то, что Рейн все старался держать перед глазами ладонь – как закрываемся мы от слишком яркого солнца.
– Впервые в моей практике я пребываю в некотором замешательстве, – сказал, наконец, мой духовный отец. – Не враз разглядишь, какой грех я должен вам отпустить? Вы поступили в равной мере мудро и добродетельно. Любить – означает, прежде всего, жертвовать, так нам заповедано. Вы пожертвовали соблазном счастья ради несомненного блага любимого человека. Вы остались также верны себе, и здесь вы преодолели соблазн. И вы устояли перед плотским влечением, а это, между тем, страшная сокрушительная сила, она сминала людей и постарше вас. Само собой, вы сейчас попросту больны.
Рейн некоторое время промолчал.
– Впрочем, святых в этой комнате сейчас не присутствует. – Теперь он улыбался, улыбался с такой любовью, какой я никогда не видела прежде в его лице. – Вы все-таки грешите, Елена. Уйти на дно такого отчаянья – это означает попросту забыть о том, что милосердный Господь – наш любящий Отец. Неужели Он не пошлет вам утешения? Где ваше упование на Бога? «Что унываешь ты, душа моя, и что печалишься?» Вы прочтете этот псалом десять раз. А сейчас я разрешу ваши грехи.
Мы поднялись, и я в очередной раз опустилась на колени. Епитрахиль пахнет морскими водорослями – так мне почему-то всегда кажется.
– А теперь – идемте, наконец, к Штуде. Я из-за вас тоже, к слову сказать, не успел позавтракать. Сразу после мессы поспешил на вокзал.
– Так да здравствуют эстонские пироги с ревенем – лучшие пироги на свете!
Это была хорошая неделя. Я начинала ее на рассвете – торопясь к мессе. Днем я бродила по развалинам монастыря Пирита и просто по кромке прибоя. Я дышала морем и соснами, а это – самые любимые мои запахи. Я действительно лакомилась желтыми, припудренными белым сахаром, пирогами с ревенем, и слоеными мясными пирожками, и тушеной капустой, и кофе, которого я, кстати, почти не пью дома. Я заходила на базар и покупала рукоделья у старых хуторянок. Вот только в тот раз я старалась избегать всех местных знакомых. Мне хотелось побольше быть одной.
Я оживала, оживала с каждым днем.
Студенческие посиделки, по моем возвращении из Ревеля, продолжились. Только Ник на них больше не появлялся. С полгода мы сторонились друг друга насколько позволяли обстоятельства, а затем, осторожно и постепенно, вернулись к тем отношениям, что связывали нас до лета 1980-го года. И этими отношениями я бесконечно дорожу.
А теперь, если верить Роману, выходит, что я перед всеми все одно кругом виновата. Что-то в этом все же есть несправедливое, именно несправедливое. Но ведь Роман может быть очень жестоким, но несправедливым не бывает никогда.
Глава IX Пикник с некоторым количеством странностей
Два фельдъегеря столкнулись в моей передней лбами, верней сказать – своими краповыми очельями. Надо полагать, что из Кремля оба вылетели с различием минут в двадцать, но второй оказался стремительнее.
Я не враз разобралась, какая из бумаг, подписанная привычным неофициальным «НIII» была первой, какая – второй.
«Нелли, пожалуйста: общественная реакция на речь Колчака в феврале 1921 года. Затем: психология осужденных. Хоть один держался достойно? Еще: сам ли Колчак установил связь с франц. роялистами?»
Это была первая депеша. Вне сомнений, первая. Ибо другая гласила:
«Впрочем, не сегодня. Последние дни лета, вёдро. Мы с сестрой тут нежданно надумали устроить небольшой пикник в верховьях Москва-реки. Еще будут Мишка и молодой Кеннеди. Брюс очень занят. Надеяться на твое присутствие?»
Отчего бы и нет? Я еще не вросла в письменный стол. А в окрестностях Звенигорода сейчас пахнет нагретой хвоей.
Я быстро начертала записку, чтобы автомобиль прислали через два часа. Еще ведь собираться будем…
Затренькала тарелка. Бетси Бегичева. Хрупкая, похожая на японку со своей темной челочкой и острым подбородком, Бетси старше меня на четыре года и занята сейчас, на мой взгляд, больше всего одним: доказывает себе самой, что счастливое материнство нимало не прибило ее к земле. Строго говоря, беспокоиться у нее и нет оснований: Бетси – модная галеристка, у нее салоны в столице и в Москве. Но ей и того мало. Не сомневаюсь ни минуты, что сейчас я опять услышу нечто новенькое.
– Нелли! Меня осенила совершенно гениальная мысль, невероятная, не веришь?
– Верю-верю, всякому зверю, даже ежу, а тебе погожу.
– Прекрати дурачиться! Вот вообрази себе, мы сейчас говорим через новостную панель.
– Неужели? – Все-таки мысль о пикнике меня развеселила. Я только веселая бываю зловредной.
– Но ведь можно же не только друг на друга через нее любоваться! И не только репортажи слушать эти бесконечные.
– А что ж еще? Устраивать, как американцы делают, publicité про мыльные хлопья и консервированную лососину?
– По чести сказать, и это умнее, чем провалы в пустоту между репортажами. Уж лучше мыльные хлопья. Нет, в свободное время люди могут видеть актеров, находящихся в специальном помещении. Через тарелку можно показывать целые спектакли, такие, конечно, где не требуется сложных декораций…
– Ты бы еще захотела показать клоунов, на которых водила детей.
– А хоть бы и их. – Бетси начинала сердиться. – Есть, между прочим, на свете пожилые люди, которым не очень-то уже легко выбраться хоть в цирк, хоть в театр…
– В чем-то ты права. – Я задумалась. – Тарелка лучше пластинки или записи на ленте, на ней есть изображение. Да, убогое, но… Если, к примеру, в клинике лежать… Иной раз нужно и развлечься. Конечно, это не может заменить полноценной фильмы на широком экране, но все же, все же…
– Я за ночь целую записную книжку исписала! Встретимся на днях? Я просто умру, если не покажу, что у меня вырисовывается!
– Встретимся, конечно. – Я в самом деле перестала валять дурака. – Только я не знаю, у меня на днях в планах Италия. Не уверена, что получится до вылета.
– Но ты все же постарайся!
– Обещаю. Не сердись, я сегодня что-то гадкая.
А через три часа, на ослепительном закате, какие я в пафосных юношеских стихах называла «златомедными», мы уже выезжали честной компанией из Первопрестольной.
Да, осень совсем близка, на Западе послезавтра наступит, но и у нас подступает.
Хорошо же, все-таки, посидеть вот так на речном склоне, вдали от посторонних глаз.
Охрана, надо полагать, была, но незримая и неслышная, позволяющая полностью о себе забыть. Говоря «охрана» я, разумеется, подразумеваю Лерину охрану. У Ника таковой нет.
Еще в юности, прочтя несколько трудов о Тюдоровской узурпации, он зацепился мыслью за незначительный вроде бы факт, что должность телохранителя ведет отсчет с Генриха VII.
«Это – главное доказательство того, что он был узурпатор, а не законный Государь, – сказал Ник тогда очень серьезно. – После этого я и верю, что Ричард не убивал принцев. Йорки не боялись своего народа. И я не стану выказывать недоверия своему».
Покуда делами заправлял Опекунский совет – телохранители у Ника, конечно же, были. Но давней отроческой мысли он, тем не менее, не оставил. И, достигнув двадцатиоднолетия, отменил должность телохранителя. Дюжина их была, сменявших друг друга. Убрал всех. Почти сразу после тезоименитства.
А ведь сам же говорит про Энтропию, сам же не строит иллюзий относительно отсутствия вензелей на своих погонах… Ну вот что с ним поделать? Хоть кол на голове теши. Ник порою упрям до какого-то неправдоподобия.
Но что о том? Только напрасно огорчаться… Слава Богу, что где-то в лесу засела хотя бы Лерина стража.
Мягкие сумерки сгущались.
В зюйд-вестках или пуловерах, поскольку августовские вечера уже холодны, в чёртовой коже или в военного покроя штанах цвета хаки, мы расположились на бревнышках возле костра. Корзина с закусками и погребец были собственноручно (в чем иначе прелесть пикника?) уложены мною и Лерой: охлажденное шабли гран-крю (да, решено было кутить!), пара бутылок из погребов Массандры, на нежно хрустящих гренках – фуа-гра, грудка фазана, шевр, белорыбица, и на десерт подмосковные розовые яблоки. Салфетки пёстренькие, серебряные походные стаканы, составленные один в один.
Я взяла неблагодарную роль хозяйки, Лера взяла гитару. Покуда я наделяла Мишу сыром, Ника дичью, Джона паштетом, она перебирала струны.
Лицо Леры, обычно немного бледное, залили румянцем отсветы костра. Одна толстенная коса упала за спину, другая на грудь. И петь она начала с того, что оказалось так созвучно этому вечеру умирающего лета. Суровое и грустное, но такое настоящее, идущее из таких глубин…
Вот лошадь мчится по продольной, По темной, узкой и сырой. А молодого коногона Предупреждает тормозной. «Ах, тише, тише ради Бога! Здесь ведь и так большой уклон! На повороте путь разрушен, С толчка забурится вагон!» И вот вагончик забурился, Беднягу к парам он прижал, И к коногону молодому Друзей на помощь кто-то звал. Через минуту над вагоном Уже стоял народ толпой. А коногона с шахтной клети Несут с разбитой головой. «Ах, глупый, глупый ты мальчишка! Зачем так быстро лошадь гнал? Или начальства ты боялся, Или конторе задолжал?» «Нет, я начальства не боялся, Конторе я не задолжал, Мне приказал начальник шахты, Чтоб порожняк быстрей давал. Прощай навеки коренная, Мне не увидеться с тобой, Прощай, Маруся ламповая, И ты товарищ стволовой! Прощай Маруся ламповая, И ты, товарищ стволовой! –подхватили все, кроме, понятное дело, Джона.
Я был отважным коногоном, Родная маменька моя, Меня убило в темной шахте, А ты осталася одна… Меня убило в темной шахте, А ты осталася одна!»Как же это было прекрасно. Ну я-то с уральских земель, там, верно, у всех в крови, что борьба человека с недрами – жестока и темна, и останется такой, какие технические совершенства ни вводи… Но хорошо поставленный голос Леры так трогательно сочетался с простой мелодией и наивными словами, что дрожь подземная, мне кажется, пробирала всех.
И я вдруг странно успокоилась. Ник не может не видеть, как Кеннеди смотрит на Леру, а Лера на него. И если Ник не тревожится – значит – скоро уедет этот Джон… И все будет хорошо.
– Что же, поднимем бокалы? Или то, что нам их, по крайности, заменяет? – Ник принял на себя обязанности виночерпия. – Лера, тебе довольно? Нелли? Джон, a little more? Миша?
– Для меня, кажется, была положена бутылка кислых щей, – отозвался последний.
– Да брось ты эту шипучую ерунду для детей! – Ник засмеялся. – Кислые щи к фазану – это уж варварство!
– Но… – Миша замялся, словно бы удивился.
– Полстакана. Я тебе разрешаю совершенно официально. Сегодня ты можешь выпить полстакана шабли.
– Ну, коли царь-батюшка разрешает, – Миша широко улыбнулся и с удовольствием принял свой стакан.
Чего-то я тут не понимала, вне сомнения. Отчего Мише нужно разрешение Ника, пить ему шабли или нет? Как-никак – не маленький. И если ему столь мила совершенная трезвость – отчего он с таким удовольствием вдыхает запах вина?
А еще – впрочем, я давно привыкла читать в лице Ника – почему он смотрит на Мишу с таким непонятным выражением? Тревога? Нет, не совсем то… Не тревога, но где-то рядом с нею. И что-то еще, похожее на гордость – так он смотрел на Мишу четырнадцатилетним, когда тот, десятилетний, являлся весь в синяках, но со спасенным от озорников уличным котенком в охапку.
– Может статься, ты мне еще и пахитоску разрешишь? – веселился между тем Миша.
– Не зарывайся. За тебя! – Ник сделался серьезен. – Давайте все пьем здоровье Михаила.
– Благодарю! Тогда уж мне заказывать следующую песню. Споешь, Ник? Ты знаешь, какую.
– Как ни знать, – Ник принял гитару у сестры, а та, надо отдать ей должное, сменила меня на моем посту у корзины.
За рекой Ляохэ загорались огни, Грозно пушки в ночи грохотали, Сотни храбрых орлов Из казачьих полков На Инкоу в набег поскакали.Да, Ник прекрасно поет эту песню. Я смотрела на его лицо, по которому тоже гуляли розовые тени, и продолжала погружаться в обретенное мною вдруг спокойствие. Роман преувеличивает. Ник человек долга. Надо жениться – так и женится на ком положено. И уж если я сумела от него отказаться, то сумею и не попасть в грязный плен к ревности. Я буду радоваться за него, у меня это получится. А вот мне вовсе не непременно нужно выходить замуж за кого-то другого. Довольно того, что Ник есть, просто есть, что я могу слушать его пение и встречать его улыбку. Довольно того, что иногда я бываю ему нужна.
Пробиралися там день и ночь казаки, Одолели и горы, и степи. Вдруг вдали, у реки, Засверкали штыки, Это были японские цепи. И без страха отряд поскакал на врага, На кровавую страшную битву, И урядник из рук Пику выронил вдруг — Удалецкое сердце пробито.Тут мой взгляд снова упал на Мишу. Как все странно в нынешнем августе! Вокруг сплошные тайны, а мне, занятой своей жизнью на два мира, совершенно не интересно разгадывать, в чем они заключаются.
Но Миша непонятен в эти дни. Он ведь похож на Ника, словно не кузен, а младший брат. Но Ник красивее, да и выше на полтора дюйма. Но сейчас отчего-то кажется самым красивым именно Миша. Лицо его сияет, но это не влюбленность – нет, влюбленные иначе выглядят, достаточно перевести взгляд на Джона и Леру, чтобы сравнить. Тут нечто иное. Но какая-то мысль освещает его изнутри. Важная, бесконечно важная. Э, уж не в монастырь ли он собрался? Это хоть объясняет, почему заделался таким примерным. Нет, пустое, по закону в монастырь до двадцати пяти лет не записывают.
Он упал под копыта в атаке лихой, Кровью снег заливая горячей, Ты, конек вороной, Передай, дорогой, Пусть не ждет понапрасну казачка. За рекой Ляохэ угасали огни. Там Инкоу в ночи догорало, Из набега назад Возвратился отряд. Только в нем казаков было мало…Мы много еще пели в тот вечер, немало и выпили, хотя Миша в самом деле ограничился тем самым полустаканом. Ночь была прекрасна, все подводные течения гладко обтекали мою душу, не тревожа и не раня.
Но уже дома, краем глаза и краем уха следя за последним новостным выпуском, я услышала нечто совершенно непонятное, но нимало меня не удивившее: по Высочайшему повелению во всех православных храмах Российской Империи было предписано три дня служить молебны и непрерывно читать акафисты Архистратигу Божию Архангелу Михаилу.
Глава Х Тропинки в прошлое
Через день я, впрочем, вплотную приступила к делам. А накануне заказала билет в Рим, ибо срок начала конклава, наконец-то, был объявлен: 3 сентября. По грегорианскому стилю, конечно. Дата многозначительная и обнадеживающая. Я положила быть в Риме 2 сентября, опять же, по грегорианскому стилю. Затем я нашла вчерашнюю записку Ника и самым наглым образом водворилась в отцовском кабинете.
Я – отцова дочка, во всем. От отца я унаследовала все – от типа интеллекта до высокого, с упрямыми выступами, лба и крутого подъема ступни. Только отчего же я особенно горячо люблю отца как раз на расстоянии? Слишком уж мы, видимо, схожи.
Увы, я, боюсь, настолько повзрослела, что мне не нужно непременно жить самой по себе. В столице у меня квартирка есть, хоть маленькая, зато на Мойке, а в Москве и родительских апартаментов мне довольно.
И нигде мне не работается лучше, чем в отцовском кабинете. Я так люблю эту просторную комнату, обставленную мореным дубом. Книжные ряды уходят под потолок, кроме научных изданий тут множество и хорошо знакомых мне. Дедово собрание святого Иеронима на латыни, дедов же Фламмарион и – парадоксально соседствуя с ним – устаревший Герберт Спенсер. Памятный мне с детства Брем и отцова страсть – несколько полок словарей.
В кабинете много всего китайского: и папа и дед, Константин Гаврилович, провели и в Южном Китае и в Северном долгие месяцы жизни. Впрочем, дед-то ездил в Китай еще до женитьбы, когда страна была не разделена. Папа, конечно, больше в Северном бывает. Что забавно, и деда и отца принимал Император Сюаньтун. Только дед повидал его ребенком, в 1910-м году, а папа – стариком, в году 1965-м. Дед строил КВЖД, отец – копает Гоби в поисках любезных сердцу звероящеров. И так много повсюду этих лаковых шкатулочек, фарфора, а также шелковых картин, чуждых для нашего европейского зрения. Чтобы нормальным для нас образом увидеть, к примеру, этого выходящего из пещеры льва, к картинке надо поднести зеркало. В него и глядеть. Папа мне в детстве показывал этот трюк.
Немало тут и нашего уральского камня, в особенности – малахита. Один малахитовый кубок я в семь лет разбила, о чем жалею до сих пор.
А вот в этом ящике угловой тумбы лежит моя первая любовь – дедов наган. Из него я училась в детстве стрелять, его никак не могу выклянчить у отца6.
В кабинете висит три портрета. Два – вполне солидных. Дед – под любимой всеми Гаврииловичами, а после Константиновичами вековой липой, отец в охотничьем костюме, на берегу Камы. Третий же портрет – мой. В возрасте восьми годов. Я захотела себе на новогодние маскарады наряд инфанты Маргариты, благо, волосы позволяли похожую прическу. И так уж он мне шел, что сестра Вера, тогда студентка первого курса Академии Изобразительных Искусств, загорелась меня писать. Пока я не выросла из роскошной одёжки, которую, кстати, шили в лучшем театральном ателье. Портрета мне хотелось, не хотелось сидеть часами, как сейчас помню. Мне ставили пластинки с романом Жюля Верна «Дети капитана Гранта». Я его почти весь прослушала, этот огромный и скучноватый роман, покуда не завершилась работа над картиной. Нет, Вера не стала писать копии Веласкеса с немного измененным лицом, это был бы слишком банальный путь. И свет и техника – совсем иные. Но художественная игра, тем не менее, понятна с первого взгляда. Сестра теперь видит в этой своей работе какие-то недостатки, но уж это простым созерцателям вроде нас с отцом непостижно.
Портрет предполагался для моей детской, но папа в последний момент его решительно присвоил и повесил у себя.
Все же мы с отцом очень любим друг друга. В девять лет я заявила ему, что его воззрения «устарели и незачем навязывать их новой эпохе». В ответ он шлепнул меня по месту, обыкновенно не называемому вслух. После чего мы около полугода не разговаривали, а вся остальная семья пребывала в заложниках этой милой распри.
Положительно, мы друг друга очень любим.
А папин кабинет обычно к моим услугам по полгода – летом он в экспедициях, до первого снега – охотится на Каме, в имении дяди Сергея Константиновича. Да и в Бусинки ездит все чаще.
Так за дело, Нелли! Человек, и зверь, и пташка, все берутся за дела. Ты теперь из государственной необходимости подменяешь целый Институт Истории. С почином!
На папином огромном бюро стоит неплохой ординатор, соединенный с печатным устройством. Третья модель «Проксимы». На нем можно редактировать текст, менять шрифты, даже макетировать. Это весьма удобно. Хотя, по чести сказать, было бы куда удобнее обзавестись таким ординатором, как у Ника, ну, может быть, чуть попроще. У Ника, конечно, чудо, а не ординатор. Он не встроен в линейку «Проксимы», ибо ну совсем иная песня, этот второй «Валдай». Нам бы домой хоть первый. Но чтобы тоже имел функцию связи с устройствами других пользователей. Это же прелесть, что такое – сидишь за столом и пишешь записки хоть в Брест-Литовский, хоть в Верный, а то так и во Францию. Безумно дорог сей ординатор, мне не по средствам, но папа-то может такой купить. Еще не очень вошли в употребление эти мудрые машины, привычки к ним нет. Вот съездит папа на Каму, вернется в должном расположении духа, тут-то и надо подступиться с уговорами.
Что самое обидное – уговаривать придется долго, а потом, как войдет во вкус, как сравнит, насколько это удобнее нынешней глуповатой железяки, так будет за уши не оттащить. За солёные пермские уши.
Как же отец любит свой Урал… Строго говоря, наша нянька Тася нарочно была привезена с Чусовой. Само собой, я с младенчества знаю и про Синего Зайца, что бежит по шахте к удаче, и про Огневушек-Поскакушек, указывающих золотую жилу… Одна беда – перед гимназией обнаружилось, что я, вслед за Тасей, изрядно «окаю». То-то был повсеместный ужас. Меня кинулись переучивать и расстарались до того, что мое московское «аканье» до сих пор немножко чрезмерно.
Но, как отец ни старался, а все-таки я москвитянка. Только один раз в жизни я действительно ощутила всей душой свою уральскую принадлежность.
Мы бродили с папой по полю, посреди которого стоит та самая вековая липа, одинокая, могучая. Собирали мы душицу для чайной смеси.
«Ты понимаешь, что это все бы у нас отняли? – спросил вдруг отец. – Эту землю, эту липу, под которой я отдыхал ребенком, эти холмы? Ты вот любишь историю Белого Дела. А это ты способна понять?»
Я ничего не ответила. Я только опустилась на колени и, не жалея ни ногтей ни батистового платочка, добыла горстку земли и завязала ее в узелок.
Он тоже ничего не сказал. Но он понял, что я поняла.
Щепотка земли, взятая меж Князевкой и Полуденной, хранится у меня в коробочке из селенита. Когда б ни дедушка Михаил Гаврилович, да ни Колчак Рифейский…
Колчак, Нелли! Колчак.
Губы мои невольно зашевелились, повторяя заученное наизусть еще в отрочестве.
«Я клянусь честью, что будет сделано все возможное, дабы ни волос не упал с головы невинного.
Я клянусь честью, что будет сделано все возможное, дабы явить милосердие к тем, кто сбился с пути в эти смутные и темные времена, кто обманывался или был обманут.
Я клянусь честью, что те, чьи руки обагрены русской кровью, должны теперь трепетать. И пусть они трепещут – уже сегодня, уже в сей час».
Февральская речь. 1921-й год.
Общественная реакция, Ник? Я настроила печатное устройство на два экземпляра, подложила бумаги. Копия пойдет в мои архивы.
Общественная реакция? Было тихо. Было очень тихо. Либертинцы поднимают крик о «тираниях» и «деспотиях» единственно тогда, когда уверены, что лгут. Даже если лгут при этом еще и сами себе. Это у них на уровне инстинктивном. Почуяв строгость, они в мановение ока делаются всем довольны, такое племя.
Но диктатура была совершенно необходима – после всего ужаса, в котором оказалась страна. Вернуть монархию сразу – нет, утопические замыслы в итоге стоят слишком дорого. Светлейший, тогда еще просто Адмирал, сам шел к монархии неспешными шагами. Не все поняли поначалу, куда он следует. Как вычищал он еще в 1918 году социалистов, сторонников Директории… А не все ведь сразу приметили, что в награждениях Правитель не жалует наград, которыми ранее мог жаловать единственно Государь. Временное правительство, оставив традиционные награды, позволяло себе все. Правитель же не поднимался выше ордена Св. Анны или Владимира II степени…
Десять лет диктатуры были суровым, очень суровым временем. Но, вне сомнения, благодетельным.
Ох, как мы на первых курсах спорили о том с Нинкой Трубецкой! Нинка – фрондерка, она осуждала Светлейшего за «демонстративную жестокость».
Может быть, я тоже жестока, я не знаю. Может быть, как говорит Наташа, у меня слишком живое даже для литератора воображение. Но когда я думаю о первых двух-трех годах диктатуры, душа моя наполняется каким-то мрачным ликованием, почти восторгом.
Даже то я одобряю всей душой, что казни были публичны. «Люди вправе видеть возмездие тем, кто убивал их детей и жен». Да, тысячу раз, да! Видеть нечто большее, чем строка в газете.
Многие пеняли Адмиралу за то, что для красных вождей он установил казнь через повешение. Некоторые и до сих пор этим недовольны.
Но ведь именно к повешению были некогда присуждены другие мерзавцы – декабристы. Иудина смерть. Они не были достойны чистой, великодушной пули – после всего, что они творили.
Было жестокое время. Люди очень хотели справедливости. Большевицкая верхушка заслуживала не только смерти, но и позора.
Кто из врагов вел себя достойно, Ник? Надо поискать, хорошенько поискать. Все, о ком я знаю, вели себя даже не как трусы, но как одержимые.
Один из цареубийц, Войков, трижды падал в обморок, когда пришли вывести его на казнь. Его приводили в чувство водой, нашатырным спиртом. Он не хотел идти, падал на пол, бился. И кричал что-то вовсе несуразное. Я, кстати, его бред запомнила, хотя и не знаю, для чего помнить судороги помраченного мозга. «Нет, нет, вы все немолодые, вы не можете меня убить! – кричал он. – Вы не можете, цыганка говорила… Цыганка говорила, это будет мальчишка! Вы меня не убьете, я не вижу мальчишки!»
Бред, конечно. Панический бред труса. Природные убийцы ведь почти всегда трусы.
Отчего-то в моем сознании промелькнуло имя: Коверда.
Полно, успела подумать я. Сейчас не о моем литературном признании речь. О почтеннейшем Борисе Софроновиче я подумаю после. Я выполняю поручение моего Государя, это не шутки.
И тут меня опять скрутило в бараний рог. С новой силой, поскольку я было успокоилась, я не ждала.
Мне слишком отчетливо примнилось, будто папин кабинет, эта моя всегдашняя цитадель, на глазах меняет свои очертания. Пропали портреты, пропал пейзаж с «липой вековой» – да и висеть им, строго говоря, стало негде. Исчезли три огромных кресла, в которых так удобно вести разговоры. Стены сдвинулись. Это по-прежнему был папин кабинет – но такой крошечный! С кладовку размером, разве что в кладовке не бывает окошка.
Глаза мои остекленели от какого-то непереносимого внутреннего холода, зрение сделалось нечетким. Нет, нет, страх убивает разум! Наташа уверяла, что меня не затянет туда, стало быть, не затянет. Я просто разведчик. Я должна понять, что я вижу. А вижу я все же папин кабинет. Все равно родной, все равно знакомый. Те же ряды книг до потолка. Вот большая старинная икона Божией Матери держит на раскрытых ладошках острия мечей, вот стоит белая ботисатва из полупрозрачного алебастра.
Что различается, на что смотреть? Суть же не в этом кукольном размере, не в низком же потолке… Я поняла, я увидела. Большая часть отцовых вещей – здесь, пусть на каких-то иных местах. Но ни одной вещи деда. Ни единой…
Что случилось с дедом, папочка, что?!
Взрыв, даже не боль в затылке, а всепоглощающая вспышка какой-то светлой звезды в голове.
По счастью, стул у бюро – с высокой спинкой, не стул, а полукресло. Я не упала, когда на несколько минут лишилась сознания. Или это были секунды? Я ведь не глядела на часы, когда это все закрутилось.
«Non accedet ad te malum: et flagellum non appropinquabit tabernaculo tuo7».
Язык слегка заплетался. Следующий мой поступок был много меньше благочестив, чем чтение любимого псалма. Я подошла к папиному бару и щедрой рукой плеснула себе в пузатую рюмку самого лучшего из его коньяков.
Курить у папы запрещено, с тех пор, как он оставил эту привычку сам, но уж семь бед – один ответ. Я упала в кресло и с наслаждением затянулась сигаретой.
Не во сне, а наяву… Такого еще не бывало. Что-то послужило катализатором моих видений. Что? Видимо то, чем я занималась: погружение в первую четверть нынешнего века.
Да и началось-то все это, когда я заканчивала «Хранителя анка». Не очень-то приятно быть медиумом, надо признаться. Если я хочу, чтобы этот «сквозняк» прекратился, мне нужно одно – полностью отвлечься от сего исторического периода, по возможности просто о нем на какое-то время забыть.
Но как раз подобным образом я и не могу поступить. На то есть две причины.
Прежде всего – моя помощь нужна моему Государю. По счастью, Ник забыл, что сам же еще недавно связывал мой замученный вид с сиденьем в архивах над страшненькими бумагами. Дело не в бумагах, дело много хуже, как выясняется, только Нику этого знать как раз не нужно. Ему необходима моя помощь – и он ее получит. А уж чего мне это будет стоить – вопрос совсем иной. И никто, ну, кроме разве Наташи, которая все поймет, никто даже не догадается.
И затем, уж упоминая Наташу. Если она права – будет пик и будет спад. А я должна разобраться, сложить кусочки и обрывки. Я должна пройти этот путь до конца.
Ainsi soit-il8.
Все, довольно изничтожать отцовский коллекционный коньяк и тем паче баловаться сигаретами.
Кто вел себя достойно? Уж определенно не Ленин. Все пытался, картавя, как все замечают, вдвое больше своего обыкновения, убедить «разобраться в вопросе». С этим криком «Разобраться!!» хватал конвойных за пуговицы, за полы, за рукава.
Перед моим мысленным взором вдруг, словно наяву, возникла страничка одного, всего лишь одного свидетельства злодеяний Ленина. «…прекрасный план! Доканчивайте его вместе с Дзержинским. Под видом „зелёных“ (мы потом на них и свалим) пройдём на 10—20 вёрст и перевешаем кулаков, попов, помещиков. Премия: 100.000 р [ублей] за повешенного9». Тут, само собою, «разбираться» было не надо.
Так и рухнул с виселицы с криком «Разобраться!!»10
Дзержинский, чьи подручные обучались пыткам у китайцев, Дзержинский, которого никто не пытал и даже не бил, перед казнью все умолял дать ему кокаину.
Мы ведь, кстати, были вполне пощадливы. Даже тогда. Жене Ленина разрешили выехать из России. Потом доживала в нищете, отчаявшись вытянуть из своих сотоварищей какую-то толику Шмитовских денег.
До сих пор ломаю голову над тем, правильно ли помиловали Сталина-Джугашвили, сочтя второстепенной фигурой. Хотя принудительные работы тот отбывал прилежно, видимо, рассчитывая, что пожизненное заключение сменят на двадцатилетнее. Прошения о том слал ежегодно. Не дождался, конечно, хоть и всячески намекал на готовность быть полезным в привычной для каждого бывалого большевика роли доносчика.
Как вел себя Троцкий – сказать трудно, единственный свидетель был не из тех, кто оставляет показания. Всяк знает, что Троцкому удалось улизнуть за границу. Но Правитель сказал – «Никто из виновных не останется безнаказанным». В 1923-м году возмездие настигло Троцкого в Швейцарии, на модном горном курорте. (Уж он-то, в отличие от глупой Крупской, стеснен в средствах не был). Чем там его прибили, ледорубом, кажется? Ездить с револьвером – не слишком удобно, его запомнит любой таможенник. Чем могли, тем и сработали. Один там человек был или двое – не вем.
Но Троцкий – одно из немногих исключений, о последних часах и минутах большинства известно все.
Где доводилось встретить мужество, Ник? Да у простых. У матросов – иной раз. Но их, увы, нельзя было оставлять живыми. В подобных существах огонь безумия тлеет, пока они живы. Вспыхнет в любой момент.
«Не убивайте меня ради ребенка! – умоляла молодая заложница. – Он же без меня пропадет!»
«Да не бось, дадим и ему маслинку». И ребенка застрелили вперед матери.
Они были мужественнее своих «вождей», но их надлежало перебить, как бешеных собак.
Из солдат миловали очень многих, из матросов – почти никого.
Матросов, правда, попросту расстреливали.
Иногда мне снятся люди, приходившие смотреть на те казни. Они молчали, они почти всегда молчали. Только странная лучезарная улыбка пробегала иной раз по девичьим губам, только мрачный огонь вспыхивал в глазах немощной старухи, только стискивал кулаки подросток.
Итак, по первым двум позициям. Выраженной общественной реакции на речь Правителя не было. Умирали большевики не лучше, чем жили. Возможны исключения, я еще посмотрю.
Что же до роялистов, тут вопрос чрезвычайно любопытен. Прежде всего…
Мои мысли нарушил пронзительный телефонный звонок. Это оказалась сестра Вера.
С Бусинками плохая связь. Только телефонная, да и то…
– Нелли! Нелли, ты меня слышишь?! – Голос сестры был очень взволнованным, впрочем, нисколько не огорченным. – Хоть ты сейчас в Москве! Ну, расскажи, как там всё?!
– Как – что, прости?
– Что, ты разве не знаешь?
– О чем? – Разговор начинал делаться каким-то несуразным.
– Ты хоть новости-то смотришь иногда? – Сестра вздохнула, явно обманутая в каких-то ожиданиях. – Или, к примеру, на улицу иной раз выходишь?
– Сегодня не выходила. Так что случилось?
– Тогда хоть включи новостную панель. Созвонимся после.
Сестра еще раз вздохнула и отсоединилась.
Глава XI Подвиг Миши
Новостная панель, так новостная панель. О чем таком, особо любопытном, может сегодня поведать покатившееся по тарелочке яблочко?
Три часа пополудни. Я засиделась за работой и сопряженными с нею грезами. Между тем – за окнами что-то шумновато для нашей тихой улицы, заросшей тополями улицы Николая Вавилова, параллельной Калужскому тракту. Я выглянула в окно. Да, сегодня улица наша была какой угодно, но не тихой. По ней, с шумными воплями, носились дети – все с разноцветными воздушными шарами, так и рвущимися в небо, грозя прихватить за собой маленьких владельцев, с ветровыми вертушками, с тещиными языками, хлопушками, варганчиками и барабанчиками. Это те, что поменьше. Дети постарше деловито расхаживали туда-сюда, многие, почему-то, в полной скаутской форме.
Сегодня что, праздник? Но какой? Я нажала на кнопку пульта.
Как мне сначала показалось, Великий Князь Михаил зачем-то предстал перед камерой в мотоциклетном шлеме. Во всяком случае, лицо его, занимавшее почти всю тарелку, было скрыто за прозрачным забралом. Странный, между тем, шлем… Да еще под ним какая-то плотная шапочка… Камера отодвинулась. Помимо шлема на Мише был несуразный костюм, наподобие водолазного, ярко малиновый, неправдоподобно ярко. Но Миша отнюдь не намеревался лезть в воду на этих кадрах. Я, кстати, заметила, что идет не прямая передача, а запись. Вокруг него стояло некоторое количество народу – все мужчины, многие в авиационной форме: морские кители с серебряными погонами. Ну и рядом какие-то штатские лица, отменно серьезные на вид.
Я узнала адмирала от авиации Юрия Алексеевича Гагарина, который что-то говорил, но не Мише, тот явно не мог слышать через свой несуразный головной убор, а окружающим.
– Повторяем передачу событий сегодняшнего утра с космического аэродрома Торетам! – возбужденно пояснил, наконец, диктор. – В любую минуту возможно прямое включение!
Господи, помилуй! Миша что, в космосе?!
Рука невольно сотворила крестное знамение. Вот так да, скучнее этого космоса не было для меня темы разговора, а теперь Миша там, где-то в высоте, среди холода и черной пустоты…
Миша уже поднимался по какой-то высокой-высокой лестнице, неуклюжий в своем странном наряде.
Все пузеля вдруг взяли и сложились в ясную картинку! От нежданной Мишиной «правильности» последнего полугода до нынешних молебнов по храмам. Ник, Господи помилуй, Ник, почему ты послал Мишу?
А кого же еще?
Кого же еще может направить в неведомое русский царь, как не своего брата?
Случайно ли, что Миша – шеф Александровской Академии Воздухоплавания?
Тарелка показала Мишу уже внутри какого-то небольшого отсека наподобие корабельного, полулежащим в огромном и странном кресле.
– Я Романов-восьмой, как слышите? – произнес его искаженный техническими устройствами голос.
– Слышим хорошо, – ответил Гагарин в нарочно поднесенный ему каким-то младшим чином микрофон. – Космолетчик Романов, к полету готов?
– Всегда готов! – Я не могла определить по голосу, но угадала улыбку в скаутском девизе, случайно совпавшем со столь взрослым делом.
– Что же… – Гагарин промедлил несколько мгновений, ощутимо справляясь с волнением. – Вперед, сынок!
Мишина рука куда-то потянулась. Изображение сменилось с внутреннего на наружное.
Я зажмурилась: из этой огромной белой штуки забил огонь, и она рванула вверх.
У меня стучало в висках, сердце колотилось, как на бегу. Долетали какие-то слова: «миллионы лошадиных сил», «апогей», «перигей»…
Я не хотела притворяться перед собой: вовсе не знаю, сколь долго я смотрела бы в новостную панель, если б летел какой-то мне неизвестный человек. Современная техника со всеми ее замечательными успехами мне не очень интересна. Я – безнадежный гуманитарий, я смотрю не вперед, а назад, во тьму времен. Как я сама шучу, техническое мое развитие остановилось на тех пулеметах, в которых во время боя можно было заваривать чай. Я бы, конечно, порадовалась, что мы, как всегда, обогнали всех и прочая таковая, но радость моя вышла б вполне умозрительной.
Зато сейчас мне не до радостей вовсе. Отчего я слишком поздно включила новости? Уж сказали бы главное, сейчас-то что происходит?! Что они все уже праздновать наладились? Либо я ничего не понимаю, либо все-таки лучше в таком деле праздновать возвращение, а не запуск!
Мишка, маленький Мишка – где-то в непостижной уму дали, а вокруг и воздуха-то нету… А каково сейчас Великому Князю Андрею Андреевичу?! А Нику?!
Я попыталась сосредоточиться на линзе тарелки. Включение теперь шло прямое, но показывали Гагарина – уже в каким-то помещении с темными панелями, быть может – в его служебном кабинете. Да, место было присутственное: мореный дуб, бронза, зеленое сукно, портрет Ника в полный рост на стене.
– Ваше Высокопревосходительство, – спрашивал донельзя взволнованный и какой-то весь взъерошенный журналист. – Что вы могли бы сказать о сегодняшнем событии?
– Что тут скажешь, – Гагарин как-то очень молодо улыбнулся. – Помню, и сам мечтал полететь – в годы-то Великого Князя, ну, или чуть старше. В действительности мы могли бы осуществить этот полет лет на двадцать раньше. Отечественная научная мысль это уже позволяла. Но перед Империей стояли иные задачи, более насущные. А прежде всего – о ту пору космические полеты явили бы слишком большой риск для жизни человека! Вероятность гибели космолетчика тогда составляла примерно 60%. Видит Бог, как я, молодым, мечтал рискнуть! Но в случае моей гибели Дума лет на десять заморозила бы все расходы на космос. Поэтому было принято решение бросить все силы на развитие вычислительных технологий. На сей день мы свели вероятность риска к 20%. Что, конечно, нисколь не умаляет заслуги и храбрости Его Императорского Высочества. Но люди, живые люди важнее всего. Мы готовились без спешки. Русские, как известно, долго запрягают, зато ездят быстро.
– В прямом эфире: адмирал от авиации Юрий Алексеевич Гагарин уже вернулся из космического аэропорта Торетам в Москву и ожидает развития событий.
Все это прекрасно, но Миша-то где? Сколько он еще пробудет в этом космосе?
– Его Императорское Величество в эти минуты, нам сообщают, высочайше благоволил лично вылететь в Покровск. Через час его персональный борт прибудет на аэродром города. Государя сопровождают…
Покровск – это на Волге же. Зачем Нику туда лететь?
Седовласый господин, одних лет с Гагариным, чье изображение появилось на сей раз, в небрежно наброшенном на плечи белом халате, из-под которого виднелись ворот форменной тужурки и петлица с эмблемой Академии Наук – Кунсткамерой, был заснят на фоне какой-то лаборатории. За его спиной мерцали металлические шкафы, светились линзы, перемигивались лампочки.
– Ваше Высокопревосходительство!
Стало быть, академик, не разберешь, видно плохо. Ну и что далее? К академику приставала хорошенькая девица в модном расклешенном платье с облегающим лифом.
– Ваше Высокопревосходительство! – девица тоже казалась взволнованной, поэтому повторялась. – Согласно сделанному сегодня правительственному заявлению, космический корабль вышел на орбиту и обогнул Землю. Как это потрясающее событие оказалось возможным? Ведь до сей поры принято было считать…
– Я знаю, что считалось до сей поры, – академик остановил журналистку властным жестом руки. – Иной раз изобрести что-либо много проще, чем предотвратить скоропалительные толки об изобретении.
– Адмирал Гагарин только что сказал, что полет вокруг Земли был бы возможен еще двадцать лет назад, – продолжала наседать на ученого журналистка. – Так ли, что нынешний выход в космос был отложен ради развития вычислительной техники?
– Mademoiselle, а на чем вы будете сегодня печатать свой редакционный отчет? – неожиданно спросил академик.
– На пятой «Проксиме», – не без гордости сообщила девица.
– То есть на ординаторе? А вам бы понравилось летать в космос, а тексты набивать на печатной машинке? – усмехнулся академик. – Причем заметьте, в космос бы летал кто-то другой, а вот печатали бы на машинке лично вы.
– Печатала бы на машинке? – не поверила девица. – Но последнего такого допотопного монстра сдали в музей, когда меня и на свете не было!
– О том и речь.
Академик продолжал говорить, но я отвлеклась, вспомнив отчего-то недавнюю ёрническую статейку Джульетты Латыповой. Вот ведь села в лужу. Впрочем, я много раз замечала то, чего никогда не могла понять: левой публике никогда не бывает неловко. Я б на ее месте спряталась от всех подальше после таких баснословных своих прогнозов. Но Латыпова не спрячется. Начнет как-нибудь выворачиваться.
– В прямом эфире был директор Научно-исследовательского института имени Владимира Шухова, действительный тайный советник, академик Всеволод Игоревич Рябинин.
Право слово, так бы и разбила эту глупую тарелку, которая то о пятом, то о десятом!
– Через несколько минут будет установлена связь с хуторянином Иваном Петровичем Кулёвым, который, выехав сегодня на уборку урожая, оказал всю первую необходимую помощь Его Императорскому Высочеству Великому Князю Михаилу после его успешного приземления… Иван Петрович, вы нас слышите?
Уфф… Гора с плеч. Ну а я, как всегда. Я, стало быть, пропустила не только взлет, но и посадку. Они, должно быть, уже несколько часов о том говорят. Потому все уже и празднуют. Неужели в космос летают так ненадолго? Я-то думала… Впрочем, я об этом вовсе и не думала, по чести-то признаться.
Тарелка, как калейдоскоп, крутила картинку за картинкой: Михаил поднимается по лестнице, корабль рвется вверх, Гагарин в своем кабинете, Рябинин в лаборатории, еще какие-то ученые мужи на фоне огромной конструкции непонятного назначения, смущенное лицо хуторянина, принарядившегося в белую сорочку с галстуком – очевидно не тот наряд, в котором он сегодня выехал в поле.
Мишины слова, на фоне сменяющихся картинок, слова с металлическим привкусом:
– Романов-восьмой, как слышите?
– Всегда готов!
И вдруг, неожиданное, с волнением, явственным даже сквозь механические передатчики:
– Вижу Землю. Она играет, как опал-арлекин.
Тут и мою душу, впервые, затронул восторг, испытываемый, наверное, всеми в стране, да и во всем мире…
Ай да Его Императорское Высочество, ай да герой! Я сбросила домашние туфли и закружилась по комнате – как в гимназические годы, волчком, кружилась, пока ни упала на ковер, задыхаясь и хохоча.
А новости все шли и шли непрерывным потоком – и все только об одном.
– … Просчет относительно места приземления… Несомненная опасность упасть в воды Волги… Великий Князь, управляя стропами, воспользовался воздушным течением, чтобы направить парашют в сторону суши…
Я невозможна, я знаю. Стыдно признаться, и поэтому лучше никому и не признаваться: я думала, вся эта штука как взлетела, так и села. Наподобие обычного аэроплана. А оказывается, Миша он что, еще и с парашютом спускался? Впрочем, после того, как ему Земля с опал-арлекин, так это и пустяк, вероятно.
А Ник не удержался, помчался встречать. Это, верно, из-за того, что он-то знал – не все идет гладко. Уж ему-то каждую минуту докладывали.
Или я ничего не понимаю, или у кого-то (ну, не у Ника, само собой) будет мигрень протокольного характера. Ему должно, строго говоря, торжественно встречать героя в Кремле. При распахивающихся дверях Георгиевского зала, на глазах у толпы в мундирах и дамских туалетах, сообразных дневному либо вечернему времени приема. Под музыку, наконец. Вот тогда можно и поприветствовать.
А отнюдь не раскрывать друг дружке объятия среди тракторов и сноповязалок, пред входом в большой амбар. А журналисты между тем каким-то непостижным уму образом уже тут как тут. И теперь камера отчетливо показывает нам и сияющие глаза Ника и осунувшееся, усталое, но тоже неимоверно довольное Мишино лицо. Хорошо хоть, не слышно, что они друг другу говорят. Смеются. Смейтесь, смейтесь, не вам разгребать протокольную несуразицу.
Михаил уже не в своем, как это сказали только что, «скафандре», а в спортивном костюме и рабочей куртке, которую, по всему судя, одолжил на хуторе.
– Я было думал, аэроклуб проводит занятия, – повествовал, между тем, нежданно прославившийся хуторянин Кулёв. – Одежда необычная, ну да мало ли, моды быстро меняются. Подрулил для порядку, спрашиваю, в полушутку так: «В порядке все? Руки-ноги целы?» «А он мне в ответ: «Ох! Слава Богу! Речь-то русская! Не промахнулся!» Тут уж я смешался: парашютист и вдруг не знает, в какой стране прыгает? А вон оно как…
Как же хорошо, что все это благополучно получилось, и как же мне повезло, что я ничегошеньки не знала не только заранее, но и вовремя!
А завтра, завтра, вероятно, будет все сразу. Я словно воочию видела уже перед глазами и открытый «Руссобалт», проезжающий во главе автомобильного кортежа и по Калужскому тракту, и по Тверской, и по Красной площади, толпы народа с цветами и флагами, и Патриарший молебен в Успенском соборе, и торжественный прием в Георгиевском зале, в бело-золотом чертоге Георгия Победоносца, усланного древесным ковром своего немыслимого паркета…
Все это будет, и все это будет великолепно. И уж вне всякого сомнения отойдет на второй план эта противная Конференция. (А может она и вовсе закончилась? Я ж новостей не смотрела сутки).
Сегодня я не стану больше трудиться, уж прости, батюшка-царь. Надо телефонировать Катерине, что следит в родительское отсутствие за квартирой, чтобы помогла разобраться с моими платьями. Чутье мне предсказывает, что понадобится дневное белое. Вечернее белое, впрочем, тоже может пригодиться. И надо почистить в мыльной воде жемчуг, мне, как незамужней девушке, к сожалению, не положены мои любимые алмазы.
Впрочем, отнюдь не алмазы станут в самой чести в грядущем осеннем сезоне.
Или уж я совсем ничего не понимаю, или в ближайшие дни в обеих столицах невозможно будет ни за какие деньги раздобыть изделия из радужного опала.
Глава XII Еще один иноземец
– У телефона.
– Наташа, это Нелли, добрый день. Знаете, а вы мне сегодня снились.
– И, поди, интересно снилась-то, коли сразу не позабыли? Добрый день, Нелли.
– Весьма интересно. В наряде цыганки, эдаком, знаете ли, пестром… И с картами в руке!
– Если цыганка, то куда же без карт. И что, я вам – гадала, надеюсь?
– Нет. Не гадали… Вы… – Я промедлила немного, вспоминая получше свой сон. – Там был такой столик, круглый, покрытый китайской синей скатертью. – Вы положили на этот столик три карты. И одну открыли, это оказался туз желдей. А две оставили рубашками кверху. И сказали: «Еще не время». А потом еще прибавили: «Большая нынче игра».
– Хороший сон.
Как же я люблю затаенную улыбку Наташиного голоса! Я сильнее прижала трубку к уху.
– Только я запамятовала, что подразумевала в тот момент, когда вам снилась…
– А я-то так надеялась, что вспомните…
Мы засмеялись.
– Вы определились с италийскими планами, Нелли? Или вас тоже отвлекла космическая тема – даже от конклава? Сейчас все только об этом и говорят.
– Кроме вас. Вас-то не было на приеме. Или я умудрилась не разыскать в толпе.
– Немного болела голова, к сожалению.
– А сейчас? Вам лучше?
– Да, благодарю, это все пустое. Так что Ватикан?
– Я улечу послезавтра. А можно к вам забежать перед отъездом?
– Завтра… Вполне можно, если вы не поставите себе целью сообщить мне, что солнце встало.
– То есть после полудня?
– Гмм… – Наташа задумалась. – После-то после… Но я, все же, съезжу на часок в редакцию. Не дает мне покоя эта переписка Гумилёва. Новые два письма вставили, а все ж – свой глазок смотрок. Заходите-ка лучше в начале четвертого. Я уж сброшу камень с души и буду совершенно свободна.
– Хорошо, в начале четвертого, так в начале. А вы на автомобиле в редакцию поедете?
– Нет, подземкой. Ну его, этот автомобиль, вовсе. Как Юрий с Гунькой отбыли, я его ни разу со стоянки не выводила.
– До завтра, Наташа!
– Пока до свиданья.
Пора бы и взяться за французских роялистов начала века. Торжества отгремели вчера, оба белых платья валяются вперемешку с туфлями и чулками на полу моей спальни, с надеждой ожидая появления Катерины.
О, нет! Отключить было б эту панель, и телефон заодно. Я, вздохнув, поправила волосы и нажала кнопку соединения.
– Госпожа Чудинова?
Человек, возникший по другую сторону тарелки, знаком мне не был. Лет, быть может, немногим больше двадцати пяти, с располагающим открытым лицом, но с какой-то неуловимой странностью в манере себя держать.
– Да, это я. Чем могу быть полезна?
– Прошу меня извинить за беспокойство, мне подсказали в издательстве, как с вами связаться.
Могли бы, спервоначалу, и у меня спроситься, к слову сказать. Впрочем, вчера я весь день была в Кремле. Посмотрю по обстоятельствам, прощать ли оплошность.
– Позвольте представиться: Юджин Костер, славист и также – глава литературной редакции в «The new Epoch».
Вот оно что – еще один американец на нашу голову. А этому что нужно?
– Елена Петровна, можно было бы встретиться с вами, дабы побеседовать о вашей книге? Я только что имел удовольствие ее прочесть. У наших читателей есть несомненный интерес к русской истории и русской литературе, вы же счастливо сочетаете в своей работе оба эти явления.
– Да, разумеется. Единственное затруднение – я на неделю или больше уеду сейчас заграницу. Но по возвращении…
– Побоюсь оказаться назойливым, но не могли бы вы уделить мне час или два перед отъездом? В эти дни у нас только о России и пишут – поймите меня как журналиста, момент исключительно благоприятный. Мне хотелось бы взять у вас интервью. Рецензия также будет, но интервью – интервью сейчас важнее.
– Что же… Часа полтора я сумею выкроить. Вы смогли бы приехать на Калужский тракт? Ближняя станция подземки называется «Профессорский уголок». Мы можем выпить где-нибудь чаю.
– Превосходно! – Американец просиял. – Рискну показаться уж вовсе навязчивым, но быть может лучше, если возможно, сделать несколько фотографий в домашней обстановке, за письменным столом и прочая таковая? Фотоаппарат у меня при себе.
– Ну, не ржаветь же фотоаппарату. – Я продиктовала адрес.
Костер появился с такой быстротой, словно караулил под моими окнами.
В родительской квартире две гостиных, мы называем их «теплая» и «холодная». «Теплая» украшена моими любимыми гобеленными арабесками, акварелями и карандашными рисунками сестры, все в ней светлое – и стены, и портьеры, и ситцевая обивка мебели из карельской березы. В ней мы сидим обыкновенно с друзьями. В «холодной» стены зеленые, висят по ним маринисты и пейзажи, под стеклами видны всевозможные родительские награды, а обставлена она в стиле ампир. Эта комната – для более официальных оказий. В нее-то я и пригласила американца.
– О вас много говорят сейчас, госпожа Чудинова. Такой молодой литератор – и баталистка. Странный дебют для молодой девушки. В этом есть своеобразное обаяние.
В реальности Костер оказался симпатичнее, чем на плоском изображении. Голубые глаза, светлые волосы, зачесанные назад, что ему, впрочем, шло, спортивная фигура, ну и да, некоторая американская то ли разболтанность, то ли мальчишистость. Того и гляди, положит ноги на стол. Я определенно знаю, что с ними это случается. Но одет с достойной скромностью, воротнички рубашки и зубы спорят меж собой о большей белизне.
Но спасибо, по крайности, что не кидается пожимать руку – ужасная привычка, чисто новосветская, слава Богу. Но, если быть справедливой, верно и американцам странно наше поведение, то, как мы целуемся, если коротки, а не очень, так ограничиваемся мужчины поклоном, а дамы – кивком. И что мужчины наши обнимаются вместо рукопожатий – им, бедным, тоже, поди, необычно.
– Позвольте, для удобства, вам предложить такой ход нашего разговора. Я задам вам множество вопросов, ибо и нашим читателям, и мне, как слависту, интересно весьма многое. Но если вопрос покажется вам слишком личным либо неприятным, вы просто не станете на него отвечать. Но сердиться не будете, ибо извините мне профессиональный азарт. Вас можно об этом попросить?
Костер улыбался слишком широкой американской улыбкой, но в ней было опять же что-то мальчишеское. Я невольно сравнила его с Джоном – и не в пользу Джона, при всем светском лоске последнего. У Джона – у него улыбка взрослая, хотя сам Джон и моложе.
– То есть вы хотите, чтобы я извинила вас заранее? Не означает ли это, что вы таки лелеете намеренье засыпать меня несообразными вопросами?
– Да, пожалуй, не без этого. – Костер откровенно развеселился. – Какой же я иначе журналист?
– Хорошо, прощаю за прямоту. Заранее. Вы будете записывать? Я могу рассчитывать получить текст интервью на сверку?
Сама б я ни о какой сверке не подумала, конечно, но, едва книга пошла в типографию, от меня категорически потребовала подобного обещания Наташа. «Только так и никак иначе, Нелли!»
– Разумеется, я пришлю вам текст. Я не делаю записей на ленту, у меня превосходная память. Итак, начнем, благословясь, как вы, русские, говорите?
– А вы действительно хорошо владеете русским языком. И говорите почти без акцента.
– Госпожа Чудинова, мне было б и неприятно услышать иное. Я весьма серьезно изучал ваш язык.
– Так начнем. Чем вы удивите для начала?
– Вы – светская особа? По слухам, вы часто бываете при дворе, лично знакомы с Императором? Это объясняется положением ваших родителей? Ведь ваш отец был самым молодым лауреатом Менделеевской премии?
– А вот тут вы ошиблись. Мой дядя Николай Константинович все же моложе отца. На три года.
– Так у меня неточные сведения? – Костер нахмурился. – Вы не дочь, а племянница Менделеевского лауреата?
– Дочь, – я засмеялась. – И племянница.
– Погодите… – Собеседник мой, похоже, слегка растерялся. – Вы хотите сказать, Елена Петровна, что в вашей семье – двое Менделеевских лауреатов?
– Отец раскопал Очёр, да, еще довольно молодым.
– Звероящеры, о, конечно, я читал об этом.
– А дядя один раз не поверил, что окраска минеральных солей объясняется содержанием окислов железа. И что микробы, которых показывает микроскоп, современны. Ну и разработал такую установку… О, лучше не расспрашивайте подробно безнадежного гуманитария! Словом, дядя каким-то образом доказал, что соляным микробам – 250 миллионов лет11. Ему долго не верили, но затем вручили Менделеевскую премию. У дяди Николая Константиновича парадоксальное мышление. Он всегда ищет то, чего никому не приходит в голову искать. Но довольно часто и находит.
– Потрясающе! Для интервью это великолепный факт – два лауреата Менделеевской премии в вашей семье, ладно б еще Нобелевской, но Менделеевской… Не удивительно, что вас принимают при дворе.
– При дворе в любом случае принимали бы моего отца. – Американская наивность Костера немножко смущала, но я постаралась проявить терпение. Он же не виноват, что родился в республике. – Да и моя мать также не просто супруга, а известный кораллист. Но из этого никак не следует, что мне непременно нашлось бы место на приемах в Зимнем Дворце. Могло и не найтись. Я же не отец и не дядя. С Его Императорским Величеством мы просто учились с восьмилетнего возраста в одной школе верховой езды. В так называемых Больших Московских Конюшнях. Это в Нескучном саду.
– Но ведь, вероятно, это весьма привилегированная школа?
Бедняга. Впрочем, опять же – не его вина. И надлежит все разъяснить этим несчастным читателям его газеты, чтобы поменьше нелепых мифов о нашей стране жило в их головах.
– Самая обычная спортивная школа, кто угодно может записать в нее своих детей. Видите ли, у нас считается, что образование, любое образование, должно быть на очень высоком уровне повсеместно. А что явилось бы лучшим доказательством тому, что мы преуспели, как ни то, что наши Великие Князья и Великие Княжны учатся в самых обычных учебных заведениях? Вот и Император также занимался в общих конюшнях. Впрочем, только до тринадцати лет. Дальше Его Величество действительно был записан в особый манеж, но это уже в столице. Только на то была простая необходимость. У нас, как и у вас, насколько мне известно, танковые, к примеру, войска до сих пор называются кавалерийскими. Но в каждой дивизии у нас есть сводный полк, конный либо пехотный. Уж в прямом смысле – для парада. И тут уж нужны навыки особой выездки. В обычных школах таким не учат, а Императору это необходимо. Есть только три манежа, где этим занимаются. Да, туда действительно поступают преимущественно юноши из Бархатной книги, уж такова традиция. Но это лишь традиция, не правило. Вы удивлены, я вижу, возможно, и сомневаетесь в моих словах. Но именно так дело и поставлено в Российской Империи. Покойный Император Павел II еще на заре своего царствования сказал: «В стране не останется ни одного учебного заведения, получение образования в котором не явилось бы причиной безусловной гордости выпускника»12.
– Но при этом у вас ниже образовательная планка, чем у нас. – Костер очевидно решил посопротивляться. – Семь классов, для американца обязательны десять.
– Да, мы не пускаем на ветер ни денег, ни времени. Для весьма многих достойных подданных семи классов хорошего образования более, чем достаточно. Отнюдь не все предназначены в этой жизни следовать в университеты. Так зачем? Главное, что наша образовательная система не связана с финансовыми обстоятельствами родителей.
– Я многое читал о России. Да и нынешний мой приезд – уже четвертый. И все же – все это так любопытно… Простите, я скачу с пятого на десятое и даже слегка отвлекся от темы нашего разговора, что уж вовсе непрофессионально.
Течение нашей беседы слегка сбилось, поскольку я предложила посетителю коктейль. Не чай же ему предлагать, что американцы понимают в чае.
Пока я доставала из бара стаканы и трясла шейкером, Костер оглядывался по сторонам.
– Я примечал, что портреты Императора Николая нередко висят в России в частных гостиных, – заметил он. – А у вас такого не вижу.
Вот уж не объяснять же ему, что портрет у нас есть, только он висит в «теплой» комнате. Как уж очень любимый.
Лет двенадцать-пятнадцать назад вид наших казенных учреждений был смягчен довольно умилительной деталью: Ник-то на официальных своих портретах – облаченный то в гусарский доломан, то в морской сюртук, то в сюртук авиаторский, то в горностаевую мантию – был, как-никак, ребенком. Затем эти портреты потихоньку стали вытесняться портретами юноши, молодого человека. Присутственные места, они и есть присутственные. Подозреваю, что порсуны десяти и двенадцатилетнего Ника государственные служащие радостно разобрали по домам. О, как же были его многочисленные детские портреты популярны, и, о Боже, как он ненавидел позировать!
А у нас так и остался ранний портрет, к тому же из неофициальных. Один из самых, на мой взгляд, удачных. В возрасте двенадцати лет. Тогда только началась мода на соколиную охоту. Ник изображен не только со своим беркутом на рукавице, но и в охотничьем наряде времен Алексея Михайловича, на фоне пронизанной солнцем березовой рощи. И мил он невообразимо. Хотя наш портрет и копия, конечно, но свою копию мы заказывали самому портретисту, Олегу Теневу. Так что почти оригинал.
Но рядом с этим портретом я ни для каких газет фотографироваться не буду. Нет и нет.
– Да, мы любим иметь дома портреты нашего Государя. Но это совсем не правило жизни. – Я улыбнулась.
– Вы превосходно смешиваете коктейли. – В глазах Костера вспыхнул озорной огонек. – Вопрос, который, несомненно, заинтересует наших читателей: часто ли вам доводится слышать, что у вас невообразимо красивые волосы?
– Часто настолько, что я давно уже ценю лишь те комплименты, в которых похвала относится хоть к чему-то другому. – Я решила немножко показать зубы.
Американец расхохотался и поднял руки, изображая, что сдается.
Он определенно начинал вызывать у меня симпатию. Конечно, совсем иной, чем мы, но не лишен определенного обаяния. А главное – не волочится за нашими царевнами.
– А почему у американской читающей публики появился интерес к нашей Гражданской войне? – в свою очередь спросила я.
– У нас ведь тоже была подобная война. – На лицо Костера легла тень. – Только раньше, но вы, вне сомнения, это знаете.
– О, конечно же, знаю! И я, конечно, на стороне конфедератов.
– Я ни мгновения в том не сомневался, прочтя вашу книгу. Но все же: в какой мере вы интересуетесь предыдущими гражданскими войнами в истории человечества? Думали ли о них, работая над романом?
– Безусловно. И задавалась довольно горьким вопросом: отчего во всех предыдущих войнах побеждала не та сторона?
– Какую сторону вы считаете обычно не той?
Мы оба увлеклись теперь темой: вопросы и ответы делались все быстрее, сшибаясь налету.
– Очень просто: эксперимент против традиции. Ну и элемент богоборчества, в той или иной мере сильный. Круглоголовые, санкюлоты… Санкюлоты были откровенные безбожники, но и круглоголовые – реформаторы. А среди кавалеров было немало католиков. В вашей войне все не так явно, но все же Юг был аристократичен, а Север – тельцекратичен.
– Но рабство? Разве не прав был Север, желая отменить рабство? Это не я спрашиваю, это спросит любой читатель.
– В Российской Империи с крепостным состоянием, хоть это вовсе и не рабство в полном смысле слова, покончили безо всяких революций. Это ложная сцепка.
– Трудно возразить. Так неправда побеждала – почти всегда?
– Впору бы отчаяться, но, по счастью, мы победили в Гражданской.
– Почему все персонажи «Хранителя анка» – такие юные? Неужели воевала преимущественно молодежь?
– Молодежи воевало немало, но в действительности среди добровольцев были представлены все возрасты. Просто как-то глупо писать о том, чего не знаешь. Я сделала главными героями своих ровесников – и моложе. Подождите – я состарюсь, вот и будет некоторое разнообразие среди моих персонажей.
– Юный писатель, юная книга… Да, это трогает, как я уже упоминал. Что же, пора сделать небольшое признание, прежде, чем мы приступим к фотографической сессии.
– И сколь страшным будет ваше признание?
– Судите сами. – Костер, как ни странно, казался теперь немного смущенным. – Я начал работу над переводом книги на английский язык. Следовало, конечно, сначала спросить вашего согласия. Но я как-то увлекся. Сел, чуть-чуть попробовал, ну и не сумел уже остановиться. Но мне никогда еще не приходилось браться за такой большой объем русского текста. Это своего рода первый опыт. Быть может, вам следует подождать давать разрешение мне – вдруг за дело возьмется кто-нибудь с большим опытом художественного перевода. Подумайте, это действительно серьезный вопрос.
Теперь уже смутилась я.
– Если вам интересно переводить мою книгу – то переводите. Я сама бралась за слишком большой объем фактического материала, когда ее начинала. И ничего, справилась.
– Так вы разрешаете мне продолжить работу?
– Конечно же.
– Надеюсь, что не заставлю вас о том пожалеть, Елена Петровна. В какой день прислать вам текст?
– Лучше сегодня или завтра. Я не знаю, сколь надолго уеду.
– Я пришлю все к вечеру с посыльным. И еще – я могу надеяться на продолжение нашего знакомства – ввиду моей работы?
– Да, у вас ведь, вероятно, будут появляться вопросы.
– Благодарю. Я ближайшие месяцы намерен быть в России. Так что все складывается довольно удачным образом.
Мы обменялись визитками, а затем Костер сделал множество моих фотографий: за бюро (папиным, на самом деле, но за ним я смотрюсь эффектнее, а читателям какая разница?), на фоне книжных полок, на балконе, в кресле с книгой в руках – ни в чем не повинным стариной Гербертом Спенсером.
Как ни странно, мы действительно уместили свою беседу в те самые полтора часа.
Распрощавшись с американцем, я снова обосновалась в отцовском кабинете, предполагая зарыться в бумаги до ночи. Как выяснилось в довольно скором времени – этот день мне все же суждено было провести иначе.
Глава XIII Великие тени
Ответы на запросы Ника о речи Адмирала и поведении большевиков я отправила ему еще до приема в Кремле. Но это было и нетрудно. Последний пункт – он немного заковыристее.
Беда в том, что не существует ни свидетелей, ни свидетельств тому, как проходила встреча Правителя и Бодуэна де Клапье маркиза де Вовенарга в Петрограде. Они беседовали при закрытых дверях, и судьбоносный разговор их был долог.
Тот исторический разговор в резиденции Адмирала, что на Садовой. Многие ведь и не помнят уже, что Колчак выбрал под нее бывший особняк Милютина. (Там висит мемориальная доска, но часто ли мы читаем мемориальные доски?) Сама мысль о том, чтобы обосноваться в Зимнем Дворце, была для Правителя неприемлемой. Милютинский же особняк, где некогда военный министр совместил жилье с местом службы, подходил для целей Адмирала в полной мере: и довольно скромен и вместе с тем просторен и красив.
Я видела беломраморную лестницу, по которой поднимался тогда маркиз, ловила на себе взгляды тех же статуй, что смотрели и на него из своих ниш, заходила в полукруглую, о три окна, комнату, что служила Правителю рабочим кабинетом. Была зима, изразцовые голландки источали щедрое тепло – только это можно утверждать наверное.
Но Колчак ли, имея все сведения о настроениях во французском обществе, пригласил к нам потомка знаменитого философа? Или же напротив – прибытие в Россию Вовенарга все же явилось для Правителя некоторой неожиданностью?
Положение во Франции было тяжелым. После краткого промышленного подъема в 1924 году, наступил мощный спад. Число безработных достигло нескольких миллионов человек. Соединенные Штаты и Великобритания тем временем оказывали давление на премьера Эррио, вынуждая фактически отказаться от германских репарационных выплат. Америка так и заявила, что ставит целью поднять экономику Германии самым скорейшим образом. Из чего такое великодушие? Вызревал самый невероятный альянс: англосаксонко-германский. Против кого? Кое-кому не нужна была сильная Россия. Ради этого Франция несомненно приносилась в жертву.
Мог ли Колчак этого не сознавать? Мог ли не чуять новых угроз?
Известны лишь исторические последствия того дня. Ник, прости, я отдаюсь на волю писательского воображения.
«Полагаю, вы сыты по горло моими соотечественниками, Ваше Высокопревосходительство, – мог сказать Вовенарг. – Всего хватало в военные годы: и почти прямого предательства, и трусливого выжидания, и омерзительной плебейской алчности».
«Мне не вполне с руки отвечать гостю чистой правдой», – мог усмехнуться Колчак.
«Да что уж там. Что хорошего видела Россия от Франции, с тех пор, как та нацепила шутовской колпак Марианны?»
Колчак, вероятно, не ответил. Он выжидал.
«Скажу иное: что всерьез омрачало русско-французские отношения при наших королях? Ерунда, о которой смешно и вспоминать, не иначе. Мы предназначены свыше к тому, чтобы быть союзниками. Меж тем, какая польза русским от островитян? Или восстание декабристов сделалось не потому, что англичане хотели продавать свой джут вместо вашей пеньки?»
«За кого вы стоите?» – Тут Колчак должен был уж сразу взять быка за рога.
«За Анри де Бурбона».
«Вот как… – Адмирал, впрочем, едва ли удивился. – За Хайме Сеговийского?»
«За Анри де Бурбона», – тонко улыбнулся Вовенарг.
Да, испанская ветвь имела безусловное преимущество перед орлеанской. Увы, ведь Шамбор умер бездетным! Какая горечь, какая неправильность. Ребенок-чудо, Анри Дьёдонне, рожденный через восемь месяцев после убийства его отца, самый законный наследник, родился не для того, чтобы прочертить прямую линию. Но вместе с тем граф Шамбор и только граф Шамбор выпестовал и возглавил в XIX веке движение легитимистов. Столь мощное, что чуть было не взошел на трон еще в 1873-м году, сразу после ужасов Парижской коммуны. Но Шамбор, которому Палата депутатов уже протягивала корону, не согласился на то, что любому «разумному» человеку предстало бы пустяком: на знамя, составленное из триколора с лилиями. «Генрих V, – сказал он, – не откажется от белого флага Генриха IV. Он развевался над моей колыбелью, и я хочу, чтобы он осенял и мою могилу…» А дальше… А дальше палата депутатов приняла закон о республиканском строе. С перевесом… в один голос. И вот, пожалуйте, Третья Республика.
По мне – Шамбор был прав, прав полностью. Для постижения его правоты мне довольно задаться вопросом: а принял бы в подобном же положении Ник флаг с серпом и молотом – и двуглавыми орлами?! Нет, тысячу раз нет! Лучше без трона… Флаг не пустяк, не кусок ткани.
(Кстати, помню, мне было лет тринадцать, как отец сделал мне подарок в своем стиле – вручил биографию Жоакена Барранда13, напечатанную на французском языке. «Я бы издал закон, чтобы королей воспитывали исключительно палеонтологи, – улыбнулся он. – А в особенности – палеозойщики. Ибо результат говорит за себя». Папа бывает очень мил. Когда хочет, конечно).
А все же Франция потеряла полвека…
Шамбор умер бездетным.
Хайме родился спустя двадцать с лишком лет, и отнюдь не с рождения осознал, что жаждет принять французскую корону. До Хайме ни у кого недоставало на то ни воли, ни возможностей. (Если изучать вопрос совсем уж досконально, воля, впрочем, была в конце прошлого века у герцога Филиппа Орлеанского, высланного семнадцати годов из своей же страны только за принадлежность к царскому роду. Но то были времена, когда безумие повсеместно наступало на христианские пределы. У Филиппа Орлеанского не было ни единого исторического шанса. А когда мир переменился – тогда уже на первый план вышла испанская ветвь).
Фотография Генриха Шестого, та, в испанском мундире, с Золотым Руном и крестом Изабеллы Католической, висит в моем рабочем кабинетике в Санкт-Петербурге, рядом с графическим портретом Вовенарга и маленькой копией мраморной статуи Анри де Ларошжаклена, моей любимой, работы Александра Фальгьера. (Я нарочно ездила в розовую Тулузу, чтобы поглядеть на оригинал).
Хайме Сеговийский, Анри де Бурбон, Генрих Шестой возвышенно красив той особой красотой, что закаляется в горниле глубокого страдания. Неудачная, казалось бы, пустяковая операция в возрасте четырех лет – и малютка полностью утратил слух. Он преодолел все, он научился читать по губам, общаясь с ним, люди забывали о его изъяне. Он жил жизнью совершенного здорового человека, не позволяя себе малейшей поблажки. Когда пришел час – он был к нему готов.
Но в день, когда двуглавые орлы и лилии положили основу грядущего Второго Священного Союза – в тот день над двумя странами не царило ни орлов, ни лилий.
Только Вовенарг и Колчак-Рифейский, хотя тогда еще, конечно, без агномена, просто Колчак. И многочасовой разговор, о содержании которого я сейчас пытаюсь фантазировать.
Но заручиться взаимной поддержкой необходимо было уже тогда. И вне сомнения, соглашение состоялось. Полагаю, что Россия готова была помочь и военной силой. Но этого не понадобилось.
Как же красиво начала разыгрываться та партия! Для начала был претворен план под названием «Помощь короля». Все состоятельные сторонники монархии (а таковых имелось все же немало) открыли по объятой кризисом стране пункты раздачи самых жизненно необходимых вещей. Провизия, детское приданое, мыло и прочие туалетные принадлежности, лекарства, школьные тетради и карандаши, даже табак, ибо курильщику без него мучительно. Каждый безработный мог получить увесистый пакет – без справок с биржи труда, верили на слово. А на рукавах юношей и девушек, раздававших эти скромные дары, были повязки с геральдическими лилиями. Лилии появились и над дверьми благотворительных пунктов.
Кое-где местные власти попытались вмешаться, но тут же поджали хвосты: голодный народ сердит.
Сохранилось множество фотографий деятельности «Королевской помощи». Ах, какие красивые это были юноши и девушки, те, что разгружали автомобили, сортировали вещи, дежурили днями напролет! С какой гордостью они демонстрировали свои повязки… Все – с нательными крестиками, что бросается на фотографиях в глаза, ибо у католиков цепочки для крестиков коротки. Откуда они вдруг все взялись – такие? Что ж, в католических семьях детей много, особенно – в аристократических.
«Король Генрих желает вам и вашей семье здоровья и благополучия!» – с улыбками говорили они каждому просителю, вручая пакеты.
И пошли неизбежные толки: когда республика обкрадывает француза в пользу немца, король выворачивает собственные карманы.
Хайме Сеговийский в самом деле истратил тогда все личные средства. Но их бы не достало, вне сомнения.
Чем вероятнее представлялся успех реставрации, тем больше толстосумов начинали в него вкладываться. (Не все ведь действуют из идей, зато многие любят ставить на фаворита). «Король Генрих создает рабочие места», «Король Генрих помогает народному образованию»…
А тем временем кто-то издавал большими тиражами литературу, какой давненько не видывали во Франции в подобном количестве. Были подняты старые труды Морраса «Чему служит монарх?» и «То, чего хочет Франция». И уже обычная студенческая молодежь, дети лаицистов и республиканцев, с жаром цитировала друг дружке в аудиториях: «Монархическая идея не что иное, как максимальное выражение идеи патриотизма». «Не кажется ли вам сложным возродить монархию?» – «Это доказывает лишь то, как нелегко возродить Францию». Студенты обсуждали и строки Леона Доде: «Никто не имеет права, обретя религиозную или политическую истину, уклоняться от борьбы за нее под ложным предлогом, что ее трудно воплотить в жизнь».
А ведь отец Леона Доде, писатель Альфонс Доде, был чуть ли не таким же свирепым дрейфуссаром, как Эмиль Золя. Поэтому странно ли, что в один прекрасный день какой-то мальчишка, не католик и не аристократ, чей отец вовсю дрефуссарствовал в его годы, несмело вошел в дверь, над которой красовалась лилия: «Я вот хотел спросить… Может быть, нужна помощь? Говорят, у вас рук недостает…» И ровесники с крестиками на шее и скапуляриями на груди, только что весело гомонившие над работой, на мгновение замолкли, поняв. И в воцарившейся тишине одна из девушек неспешно подошла к смущенному молодому человеку и тщательно и ловко повязала ему на руку полоску ткани с лилией.
А дальше зашумели, знакомясь, смеялись, хлопали по плечам. И поехало, и пошло…
Вскоре роялистской символике стало тесно в стенах благотворительных пунктов. Теперь молодежь с геральдическими лилиями можно было увидеть в аудиториях, на улицах, в заводских цехах и на фермах.
Надеялся ли сам Моррас, этот противоречивый, во многом заблуждавшийся, но незаменимый Моррас, что увидит на старости лет, как его мысли превращаются из достояния узкого круга в достояние нации, которой он посвятил всю свою жизнь?
Моррас первым сказал: Францию спасет только смена политического строя. Его время настало спустя тридцать лет.
В годы основания «Французского действия» Моррасс был орлеанистом. Но когда Вовенарг выступил за легитимистов, Моррас, как прежде всего политик практической складки, поддержал Хайме, в котором видел молодого и сильного претендента.
Какая странная и печальная нота. Судьба отметила их одинаковым горем: Хайме – глухотой полной, Морраса – слабыми проблесками слуха. И ведь у обоих это не было врожденным изъяном, оба оглохли волей случая. Ах, жизнь, как же интересны твои тематические узоры!
Гугенота Гастона Думерга удалось стряхнуть с какой-то невероятной простотой. Вот тебе, бабушка, и «Эхо Великого Востока»…
Думаю, мы изрядно помогли при этой реставрации. А теперь французы задирают нос, что вперед нас восстановили монархию. Ну да пусть их…
Кстати, не ошибаюсь ли я? Наверное ли Бодуэн прямой потомок философа? Люк, помнится, умер относительно молодым. Или все же другая ветвь? А в нашей домашней библиотеке нету трудов Люка де Клапье маркиза де Вовенарга. Мне давно хотелось, между тем. Наташа упоминала, что рядом с ее редакцией есть букинистическая лавочка, где обещали сыскать. Но не о том речь.
Тогда ли, в тот ли зимний день было решено начать игру с баварскими, прусскими, рейнскими, саксонскими сепаратистами? Но единая Германия продолжала представлять опасность, между тем как приблизительное возвращение к структуре Священной Империи Германской нации сулило Европе стабильность и экономический подъем.
В конечном счете, репарации в самом деле были прощены, по простой причине – за отсутствием юридического должника. Но тогда экономический кризис был уже преодолен.
И вот – 1939 год, дата установления Священного Союза. Его основали Россия и Франция, в него вошли Австрия и Испания, Бавария, Богемия, Сербия, Болгария, Венгрия, Пруссия, Саксония, Лихтенштейн… Ну а далее снежный ком покатился. Дольше всех не принимали Швецию, хотя истинная причина не называлась вслух. Всех Бернадотов из матримониальной системы никакой метлой не выметешь, но у шведов с этим уж слишком напрямую. С ними и сейчас не очень-то брачуются. Почти всякий король лучше возьмет в жены свою подданную из хорошей семьи, чем шведскую принцессу.
Да, к сороковым годам Реставрация прошла уже в большей части Европы. А оставшиеся красноэмигранты бежали все дальше и дальше. Многие в США, за что я еще не очень жалую эту страну. Там последнее гнездо, последний сплетшийся клубок большевиков и всяких там махновцев. Многие, впрочем, воспользовались амнистией от 1950 года, те, за кем не было особых злодейств. И многие вернулись в Россию, особенно дети эмигрантов, к которым помилование относилось без исключений. Поэтому большевицкая эмиграция малочисленна и невлиятельна, да, к тому же, весьма от нас отдалена. Хотя злобой дышат все той же, давней. Видела я эти их газетки, и «Искру», и «Гнев пролетария», и еще какую-то дрянь, украшенную молотами и серпами.
Ведь это уже дети и внуки тех, красных кровопийц. Что же – бегите, бегите все дальше и дальше! Раз уж пошла такая дружба с американскими властями, так глядишь, придется вам уносить ноги и оттуда. Куда-нибудь пока что в Черную Африку. И пусть вас там съедят.
Я поймала себя на том, что улыбаюсь. «Историческая» улыбка Нелли», это mot моей сестры Веры. «Твоя обычная улыбка такая сияющая, что все невольно светятся в ответ. (Это не мои слова, это Вера так почему-то полагает). Но когда ты сидишь с карандашом над своими кипами бумаг, ты иной раз улыбаешься совсем иначе. Видишь у тебя такую улыбочку – и сразу понимаешь, что ты читаешь о том, как добили Буденного или повесили Гейдара». – «Гайдара, он через «а» пишется». – «Нет уж, уволь, я и запоминать не хочу. Гайдар, Гейдар, но когда ты о них думаешь, ты улыбаешься как валькирия. Не сомневаюсь, что все они получили поделом, но Нелли… Я когда-нибудь с тебя напишу валькирию – с этой улыбкой к твоим волосам, Вагнер бы плакал от восторга. Но ты ведь такая милая девушка, по правде-то говоря… Откуда в тебе появляется все это, едва речь зайдет об истории? Об этой твоей Гражданской войне?»
Не знаю. Хотела бы знать, но не знаю. Гражданская война давным-давно кончилась. На дворе 1984-й год, да и тот пошел на убыль.
Но это я уже о чем-то совсем не о том задумалась. Итак, мое резюме:
– История умалчивает, кто сделал первый шаг: русские или французы. Такие разговоры, как разговор Колчака и Вовенарга – они не заносятся в анналы. Они характеризуются изустностью, с безусловностью времен, что до изобретения письменности человечеством. Я позволила себе пофантазировать – но не на пустом месте, а исходя из дальнейшего развития событий. (Плоды моей фантазии прилагаются – хотя уж не знаю, к чему они пригодятся).
– Не имеет ровно никакого значения, кто сделал первый шаг. Роялисты внимательно следили за деятельностью Правителя, он также не мог не обращать внимания на расстановку сил во Франции.
Напольные часы в «холодной» гостиной пробили шесть. Какой же длинный день! Американец ушел в третьем часу пополудни, с тех пор я сижу за ординатором и выстукиваю свои фантазии о давно минувших днях.
А еще я успела вычитать и заверить интервью, пунктуально присланное Костером.
А тарелка, между тем, жалобно звенит, сообщая, что я еще кому-то необходима. Вот только кому на сей раз?
Глава XIV Дорогой гость
Плоскость тарелки засверкала всеми цветами радужного спектра, стоило мне нажать кнопку.
– Как же я рада вас видеть! Неужели вы в Первопрестольной?
– Почти что нет. – Рейн рассмеялся. – Я прибыл утром на скором поезде из Таллина14, а завтра мне предстоит полет. Но у меня свободен нынешний вечер.
– Вечер свободен настолько, что встреча со мной может войти в ваши планы? – недоверчиво уточнила я, отчасти, впрочем, лукавя. Видела я по его лицу, что времечко для меня отыскалось. Еще как видела.
Вообще-то Рейн довольно-таки непроницаем и держится холодновато. Что поделать, у нашего духовенства не принято быть накоротке с мирянами, православные священники в этом смысле сердечнее и проще. Просто я его уж слишком хорошо знаю, улавливаю даже не улыбку, а ее тень.
– Вы уже поняли, что да. – Он тоже знает меня слишком хорошо.
– В каком вы отеле остановились? Я могу приехать, вы, я чаю, устали?
Отчего-то мой довольно простой вопрос о названии гостиницы остался без ответа.
– Я расположился недалеко от вас. Минутах в двадцати. Мне было бы удобнее самому прибыть к вам.
– Я буду счастлива, дорогой отец. Только признайтесь сразу – обедали ли вы? А то так я что-нибудь приготовлю на скорую руку. Только не обессудьте: за двадцать минут рука будет действительно слишком скорая. Как бы мне не оказаться недостаточно külalislahke perenaine15.
– Я отобедал, благодарю. Если вы напоите меня крепким кофе, то больше ничего не нужно.
– Я приготовлю целый самовар крепкого кофе. Хотя сейчас уже седьмой час.
– Ничего не поделать, это топливо, на котором работает мой двигатель. Тогда через двадцать-двадцать пять минут я в вашем распоряжении.
Я сняла трубку внутреннего телефона и соединилась с дворницкой.
– Василий Тимофеевич, добрый вечер. Не запирайте, пожалуйста, ворот, от меня, возможно, гость выедет поздно. Не обессудьте, что вас задерживаю на боевом посту.
– Не о чем тревожиться, барышня, задержусь. Только уж извините старика, сегодня вам из паспортного-то стола документ для заграницы принесли. Я расписался за него, а вот занести не занес, захлопотался с котельной. С утречка уж поднимусь к вам.
– Не страшно, спасибо.
Ох, я как всегда. Надо ведь было о заграничном паспорте немножко заранее побеспокоиться, хотя бы дней за пять. А я как всегда перед самым отъездом. Впрочем, я ведь предполагала из столицы лететь. Ну да неважно, успели ведь.
Забыв о паспорте, я закрутилась волчком по кухне.
Я успела не только с кофе, я отыскала в закромах бенедиктин (Рейн отнюдь не бенедиктинец, но жалует) и даже испекла маленьких плюшек с корицей, благо Катерина, добрая душа, оставила в холодильном шкафу готового теста.
– Отчего же ваш приезд столь краток? – спросила я, разливая по чашкам кофе. Не из самовара, как грозилась, но из изрядного кофейника. – Сегодня прибыли, завтра уже отбываете…
– Я в Москве проездом. Я должен быть в Ватикане.
– Удивительное дело. Неужто из Ревеля в Рим нынче летают исключительно через Москву? Прямые рейсы теперь отменены, или вам просто более по вкусу пересесть с поезда в аэроплан?
– Разумеется, я же просто обожаю окружные пути. – Рейн отпил ликера из рюмочки, пряча в последней улыбку. – Хотел было добираться в Рим вовсе через Австралию, да вот беда, все билеты до Сиднея разобрали. Пришлось взять хоть направление на Москву.
– Я, между тем, тоже лечу в Рим.
– Так я и предполагал, что вы не усидите на месте. И билет у вас уже взят?
– Да, на послезавтра.
– Жаль. Я полечу вместе с Джоном Кеннеди-младшим, на его личном аэроплане. Мы могли бы и вас взять с собой.
Я знаю, что обыкновенно мое лицо – открытая книга для отца Рейна. Но едва ли он мог что-либо прочесть в ней в эту минуту, ибо буквы перемешались и запрыгали. С одной стороны я безмерно обрадовалась. Уезжает, ура, с глаз долой – из сердца вон! Но вместе с тем я испытала неимоверное раздражение, что Кеннеди и тут оказался причем. Шагу без него не ступить! Какие у него еще дела с моим-то духовником?
– Достойная семья. – Рейн смерил меня внимательным взглядом поверх своей рюмки.
– Но они же президенты, отец! Что достойного быть президентом республики?
– А это смотря, при каких обстоятельствах. Кстати, все же не имеем мы права скидывать со счетов и энциклики Льва XIII. Хотя сейчас времена другие, тогда мы отступали, теперь наступаем. Превосходный кофе, я просто оживаю с каждым глотком. Так угадайте, уж коли зашла речь, чем американские президенты клана Кеннеди отличаются от всех предшествовавших им американских президентов?
– Я понимаю, они католики. Что, безусловно, меняет ваше к ним отношение, хоть они и являются частью искаженной социальной системы. Антисистемы16.
– Вы не все поняли, Елена. У меня складывается впечатление, что этот молодой человек, Джон-младший, чем-то вам имел несчастье неугодить. Поэтому мне хотелось бы немного поговорить с вами об этой семье. Мне не хотелось бы, чтобы вы были несправедливы.
– Если вам угодно, отец. Я вся внимание.
– Кстати, вы позволите?
– Конечно же, сейчас!
Я побежала за пепельницей, зажгла и принесла также свечу, раздумывая за своими хлопотами, рассказать ли, в чем дело. Рейну можно, он не Ник. С другой стороны – Джон-то улетает! Завтра! Может статься, уже и незачем. Хоть они и выглядели влюбленными на том пикнике, но за столь недолгое общение ничего серьезного возникнуть попросту не могло. Как же вовремя он уедет! На таких условиях я и говорить о нем могу – сколько угодно.
Рейн некоторое время курил молча. Я, кстати, никогда при нем себе не позволяю покуривать. Как-то сие не субординационно было бы.
– Что это означает в такой стране, как Соединенные Штаты – быть президентом-католиком? Не догадались, вижу? Поставим вопрос иначе: кем не может быть президент-католик?
– Масоном? Отлучение от Церкви по Кодексу Канонического права?
– Разумеется. Длинная череда врагов Святой Церкви, сменяющих один другого на главном посту огромной страны. Эксперимент против традиции, антисистема против системы, все сказанное и многое еще сводится к одной формуле противостояния: масонство и Католическая Церковь. Православие, кстати, много позже столкнувшись с этим безусловным врагом, не оформило этот аспект юридически.
– Увы. – Тема, затронутая Рейном, всегда больная для меня. – Кто в России в XIX веке, как и в XVIII, не развлекался этими достаточно черненькими ритуалами? Доразвлекались до мятежа декабристов. Казалось бы, одно это должно было остановить, ужаснуть, поставить препоны. Нет, бездействовали весь XIX век. А что в итоге? Ковалевский, открытый враг монархии и Церкви, перед революциями заседал в Государственной Думе, был член Государственного Совета! Ковалевский, теоретик, выпестовавший всех Лениных и Плехановых! А за гробом этого «всех обмасонившего» подпевалы Карла Маркса прошло почти сто тысяч человек! В шестнадцатом году, в разгар войны, такое предательство внутри страны! Но ведь когда этот жирный масон помирал, он, как многие из них, перетрусил, позвал за православным священником… Отец, как мог священник дать ему святое Причастие? Как могли позволить хоронить его на православном кладбище? В самой лавре?
– Не горячитесь, Елена. Вы всегда горячитесь. – Рейн вздохнул. – Да. В странах Западной Европы или в Новом свете все проще. Противостояние четче. А вот теперь вообразите себе, дорогая дочь, что в стране-антисистеме вдруг появляется человек, которому деньги открывают дорогу во власть. Не морщитесь, деньги могут быть как идолом, так и инструментом идолоборчества. Его звали Джозеф Кеннеди, этого человека. Кто он? Еще вчера – никто, бостонец, даже не дикси. Без предков за спиной, выскочка с ирландских картофельных полей. Ему просто покровительствует Фортуна, все в его руках превращается в золото. И везет ему не только в делах. Он женится на девице из аристократической католической семьи, монастырской воспитаннице, Розе Фитцджеральд.
– Честолюбивые выскочки часто удачливы, – я пожала плечами.
– Вот как? Весьма своеобразно, в таком случае, честолюбие этой семьи. Как вы полагаете, должен ли честолюбивый выскочка радоваться, если его дочь соберется замуж за Кавендиша, он же десятый Девоншир, он же маркиз Хартингтон? Всего лишь Кэтлин Кеннеди – и войдет в высочайшую аристократию Великобритании. Недурное родство для ирландского нувориша?
– И что же? Неужто он не был рад? – Я заинтересовалась всерьез.
– Родители отказали дочери Кэтлин в благословении. На венчании их не было. Даже, спустя лет пятнадцать, когда герцогиня трагически рано скончалась, родная мать не посетила ее похорон. Догадаетесь, отчего Кэтлин впала в такую немилость у родителей?
– Неужто из того, что англиканин? – Я изумилась. – Но они ж чай не короли. Огорчение, конечно, большое, но зачем уж так-то, с родной дочерью?
– Жених был не просто англиканин, но высокопоставленный англиканин. Вне сомнения масон. Кеннеди жестко отрубили руку, которая соблазняла. А спустя двенадцать лет младшего из детей Кеннеди, младенца Эдварда Мура, крестит сам Папа. Еще чуть позже миссис Кеннеди жалуют титулом графини, титулом от Ватикана.
– Начинаю понимать. Но вы сказали, отец, что Джозефу Кеннеди покровительствовала Фортуна. Стоит ли переваливать на языческую богиню, сдается мне, отнюдь не ее заботы?
В голубых глазах Рейна промелькнула пара лукавых искорок.
– Я рассказываю вам то, что известно всем. Ни словом более. Роберт Френсис, третий сын и второй президент из клана, мечтал идти по духовной стезе. С юности министрировал в алтаре. По счастью, вовремя понял, что не рожден для сутаны.
– Братья слыли весьма женолюбивыми в молодости.
– Водился за ними такой грех. Впрочем, не за Эдвардом Муром. Но человеческие грешки ничтожны там, где есть беззаветная преданность, подкрепленная решимостью. Вы ведь знаете, что Джон Фицджеральд – второй сын?
– Что-то припоминаю.
– Джозеф-младший, он погиб при испытании новой модели аэроплана. Они искали популярности, они считали себя особенными, но никогда себя не берегли и беречь не станут. И вот старшим в поколении делается Джон Фитцджеральд. И снова везение – он женится на аристократке самого изысканного монастырского воспитания – на Жаклин Ли Бувье. И вот невозможное делается возможным. Католик входит в Белый Дом.
Я ощутила странную гордость, трепет незримых знамен. Ecclesia militans17 может все для верного. Даже сделать твою кровь голубой.
– Но какова интенция такого покровительства? – спросила я все же. – Сделать Америку католической?
– О, нет. Святая Церковь никогда не ставит перед собою утопических планов. Но удержать страну в русле консервативного курса, уберечь приоритет Креста, институт христианской семьи…
– Но уж христианской-то семье что может грозить в Америке? – Я позволила себе скептически хмыкнуть.
– Да любые воплощения Содома и Гоморры. – Рейн сделался очень серьезен. – Мы не можем себе представить в своем воображении, сколь далеко способны завести общество апостасия и путь социального эксперимента. И наше счастье, что воображение наше столь бедно. Поверьте, дочь моя, это большое наше счастье.
– Так Церковь поддержала клан Кеннеди ради того, чтобы эта большая страна удержалась от социальных экспериментов?
– Заметим, относительно поддержки – это лишь ваши предположения. Приведенные мною факты говорят лишь о том, что Церковь благоволит к этой семье.
– Да-да, я запомнила: Фортуна. Шла себе языческая богиня картофельным полем мимо верных католиков, дай, думает, отсыплю щедрот из рога изобилия…
– Не веселитесь, Елена. Я хочу рассказать о весьма важных вещах. Если вам это интересно, разумеется.
– Простите, отец, я вся внимание.
– Внимание вам потребуется. Скажите, вы когда-нибудь проглядывали материалы II Ватиканского собора?
– Да как сказать… – Я несколько стушевалась. – Где-то они у меня есть. Один раз прочла, но по диагонали. По-моему там было невероятно скучно. У меня сложилось впечатление, будто участники сами недоумевали, зачем собрались. Поднимали какие-то несущественные вопросы, с пятого на десятое…
– Превосходное наблюдение. Именно так. Люди прибыли, постарались провести время с пользой, благополучно разъехались по своим странам. И даже не заподозрили – в большинстве своем – свидетелями какого страшного события могли оказаться.
– Но что страшного могло случиться на этом соборе? – Вот теперь меня уже не надо было призывать ко вниманию.
– Революция модернистов. Тех самых, против кого ввел присягу святой Папа Пий Х. Чума рубежа веков грозила вернуться – и с новой силой. Могло произойти полное разрушение Католической Церкви. От доктрины до литургики. Готовилась, по сути, новая Реформация. Подобная Церковь уже не вела бы паству дорогой спасения. И Церковь перестала бы быть одной из самых влиятельных сил современного мира. Наши православные друзья, кстати, часто корят нас в том, что мы слишком тщимся укрепить свою мощь в мире сем. Но мы слишком хорошо знаем, что если не сложить крепких церковных стен, то быстро найдутся желающие помешать тебе и молиться. Православных защищает вся мощь исполинской Империи – им можно не думать о том, как класть поперечную балку в стенных каналах. Ну а за нами только маленькое государство Ватикан, и на том спасибо Габриэлю д’Ануцио.
– Ну, все ж не станем скромничать…
– И тем не менее. Или католицизм будет мощной силой современного мира, или он будет уничтожен. И началом уничтожения предполагался этот самый собор, о котором вы сегодня читаете с такой скукой…
– Что же предотвратило революцию в Церкви?
Мне не верилось в то, что говорил Рейн, ни разумом, ни душою. Но он говорил с той внутренней уверенностью, что отличала его, только когда он досконально владел предметом.
– Какое событие совпадает с собором? Ответьте на этот вопрос, и вам станет ясен ответ на другой.
– Покушение на Джона Кеннеди-старшего? – Я с изумлением смотрела на моего духовника. – Конечно, доказано, что следы вели в масонские ложи, но…
– Вот вы сами и связали нити. Президент огромной страны, президент католик, он стоял на пути модернистского блиц-крига. Линдон Джонсон, между тем, был масоном с 1937 года.
– А кто такой Линдон Джонсон?
– Ах, да, из сегодняшнего дня его уже и не разглядеть без лупы тем, кто не изучал вопроса нарочно. Это был вице-президент при Джоне Кеннеди. Навязанная ему фигура, надо сказать. Если бы Кеннеди погиб – кто занял бы его место? Джонсон. Заменить католика на масона – и начинать Вторую Реформацию. Убийство президента должно было послужить сигналом. Вы помните, он ведь спасся почти чудом. От снайпера защиты нет. Но на полной скорости открытого автомобиля президенту попала в глаз какая-то мошка… Он непроизвольно дернул головой, в ту самую секунду. Ранение в мочку уха, кровь. Шофер вильнул в сторону, а дальше уже все смешалось.
– Кеннеди действительно имел такие возможности остановить модернистов?
– В руках главы огромной страны немало полезных механизмов. Во всяком случае – они сочли неразумным рисковать.
– А что было бы сейчас в Америке, если б Кеннеди убили?
– Да что угодно, как я уже говорил… – Рейн устало вздохнул, и вытащил из портсигара новую сигарету. – Вплоть до разнузданного торжества самых мерзких пороков и уж не знаю… какого-нибудь негра-магометанина в Белом доме.
Я не смогла не засмеяться.
– Для нас же главное, что эта семья способствует здоровому консервативному климату в стране весьма мощной и обремененной непростой историей.
– Я стану исключительно хорошо относиться к Кеннеди-младшему.
Особенно, когда шасси его аэроплана оторвутся от земли, добавила я про себя.
– Так что жаль, что вы летите не с нами.
– Но ведь, я чаю, Рим город маленький.
– Опасаюсь, что в Риме я буду весьма занят.
– Ну, не на самом конклаве же будет занят простой и скромный священник из России?
– Елена, имейте совесть. Только в феврале мне исполнится тридцать лет. Раньше получать епископский сан просто неприлично, да и каноны не слишком одобряют.
– Уж скорей бы вам эти тридцать лет стукнули! Вот летели б сейчас как епископ…
– Как это в русском детском стишке? Будет вам и белка, будет и свисток.
– И перстень с аметистом. К которому я смогу прикладываться. Сто лет об этом мечтаю.
– А ведь пользуетесь славой одной из самых заметных молодых интеллектуалок обеих столиц. – Рейн взглянул на меня довольно строго. – Кто б знал, сколько у вас совершенно детских глупостей в голове.
– Не сердитесь. Глупостями я фонтанирую, только когда очень радуюсь. А коль скоро видеть вас для меня всегда большущая радость, то вы слушать мои глупости положительно обречены. С другими людьми я умная, верьте слову.
Рейн рассмеялся. Серьезный разговор исчерпал себя, и у нас еще оставалось сколько-то минут на то – отчего-то самое всегда для меня драгоценное – что называется «просто так».
Вот только зачем ему все же показалось существенным рассказать мне про эти давние американские дела? Впрочем, сие в самом деле знание нелишнее.
– Кстати, как-то даже неловко стряхивать в это пепел. – Рейн повертел в руке неказистую бронзовую плошку. – Сдается мне, в антикварных лавочках такого не купить. Это раскопал в Гоби ваш отец?
– Иногда попадаются под руку в песке. Между останками драконов… я хотела сказать, звероящеров. Эти случайные находки папа просто привозит домой, каждый раз целую кучу. И мы каждый раз их честно делим. Пополам. Мама и сестра, надо сказать, равнодушны к такого рода безделушкам. Это была, я полагаю, курильница для благовоний.
– И вы с ней эдак пренебрежительно? – Рейн улыбался. Как же я люблю его улыбку, хотя не слишком-то часто она появляется.
– Да, я гашу в этой вещице окурки и нахожу в том особую прелесть. Но курильница получила за понижение в чине стихотворную компенсацию. Я, как вы знаете, часто плачу стихами предметам домашнего обихода за свою небрежность.
– Тогда – почитайте мне стихи. – Рейн откинулся на спинку кресла и полузакрыл глаза. – Ибо мне уже пора отбывать, а грядущие дни предстоят, признаться, утомительными и непростыми.
– Это называется «Рондо о сожженных сонетах».
– Замысловато.
– Что есть. Уж тогда слушайте.
В курильнице эпохи Тан, Раскрылся пепельный цветок, В сонет излившийся дурман, В квадратик свернутый листок. Зеленой бронзы старина! Тебе ли – пепельницей быть, Надменно-звонкой? Создана Ты в древних таинствах служить. Войди же в таинство мое, Как в этот невеселый стих. Да прекратится бытие Сонетов, чересчур моих! Сквозь алый трепетный туман Последний крик сгоревших строк… …В курильнице эпохи Тан Раскрылся пепельный цветок.– Мне понравилось. А вы в самом деле сожгли сонеты?
– По чести сказать, они были неудачны.
– И это в самом деле Тан?
– О, нет. – Я улыбнулась. – В лучшем случае Мин. А скорее так вовсе Цин. Так отец говорит, я не очень-то знаток.
– Сколько же, между тем, лукавства в творчестве. – Рейн поднялся. – Благодарю за гостеприимство.
– До невстречи в Ватикане. Jube, domne, benedicere!
Когда автомобиль, прошумев по нашей тихой и уже ночной улице, удалился, я отошла от окна и зачем-то налила себе еще чашку остывшего крепкого мокко. Впрочем, я все одно буду спать как сурок. Я вдруг ощутила усталость. Просто поверить невозможно, что я в Москве чуть больше недели! Так много событий, разговоров, волнений, трудов… Право, в голове не укладывается. Надо, в самом деле, хорошенько отдохнуть.
Глава XV Еще немного истории
Утро опять выдалось погожим. Собирать чемоданы я буду вечером, Катя придет помочь. Но кое-что надо сообразить и самой. Не забыть, к примеру, положить в ручной саквояж корзиночку для рукоделья. Пока буду сидеть в аэропорту, пока в полете… День рождения у мамы в декабре, но с моим-то прилежанием вне сомнения надлежит приступать к работе за несколько месяцев. Так что начала я свою вышивку в июле, и, надо сказать, маловато продвинулась. Между тем маме, конечно же, приятнее получить подарок, сделанный моими руками.
Я не без огорчения развернула кусок грубого льна. Нанесенный мною контур рисунка получился неплох. Сценка из времен Московской Руси: две девочки-подростка качаются в саду на качелях. Но рисунок-то рисунком, а за месяц под иглой ожило только одно личико, кокошник и коса. Так я и к весне не успею! Ну ничего: завтра сделаю хотя бы одежду одной боярышни. Эта боярышня у меня златовласая, она будет в лазоревом. А у второй коса будет каштановая, так она пусть красуется в розовом и вишневом.
Рукоделье уложено. Шляпную картонку – поставить на самое видное место, а то я могу и забыть про шляпки! Многовато я бегаю в «военных» штанах цвета хаки и мальчишеских куртках. Мама не напрасно недовольна. Но уж первое мое посещение великого города – о, нет, я буду на высоте. Перчатки, шляпки, шпильки, туфли на каблуках…
Тренькнул телефонный аппарат.
– Алло.
– Нелли, это Бетси, здравствуй, дорогая!
– Добрый день, Елизавета свет Андреевна.
– Ох, какие мы нынче церемонные. Я тут вырвалась из дому, на пару часов, ты сама понимаешь. У меня была одна встреча совсем недалеко от тебя, звоню сейчас из телефонной будки на углу.
О, нет! Наша с Наташей вечная тема шуток – где находится тот злополучный «угол», откуда все телефонируют? Найти бы его – и заложить кирпичом.
– Ну, если на углу… Заходи, я покуда тут, но уж тогда не обессудь – у меня предотъездный беспорядок.
– Пустое. Сейчас буду.
Бетси появилась не в сей час, но в сии десять минут. Я едва успела заварить жасминовый чай. Она его любит, я, по правде сказать, терпеть не могу.
Элегантная, умеющая чуть подчеркнуть ложное японство своего облика, Бетси была сегодня в деловом костюме цвета беж, на мой взгляд все же чрезмерно вызывающем. Подумать – юбка такая коротенькая, что то и дело кажется – на всеобщее обозрение выглянет колено. Само собой, мужские надежды будут обмануты – коленки вполне надежно скрыты. Но хороший ли тон – привлекать внимание к такому «а вдруг»?
– Ну и как продвигаются твои планы расширить репертуар новостной панели? Хоть кто-нибудь их разделил?
– А ты напрасно опять забавляешься. Я поговорила об этом с Анютой Данилевской, она возглавляет редакцию новостей культурной жизни. Впрочем, ты ведь ее знаешь, Анюту, вы же в одном классе учились в гимназии? Или я перепутала? Но ты ее определенно знаешь, потому, что она тебя очень не любит.
– Знаю, не перепутала, в одном классе. – Разливая чай, я одновременно пыталась вспомнить, был ли в рукодельной корзинке наперсток. Наперстков у меня добрая дюжина, и золотых, и серебряных, и фарфоровых с росписью, но я их вечно разбрасываю по всем комнатам. А потом под рукой не оказывается ни одного.
– Кстати и очень жаль, что у нее к тебе такая неприязнь. Мне очень хотелось бы обсудить мою затею с вами обеими. Вы же на самом деле обе замечательные умницы. Хотелось бы вас примирить, даже безотносительно к моим затеям, а уж в отношении к ним – так вдвойне. Чем же ты ей так насолила, Нелли?
– Не имею ни одного предположения.
У меня в самом деле не было ни одного предположения, ибо к чему строить предположения, когда все знаешь? Анюта меня невзлюбила в одиннадцать лет. Детские чувства, сколь ни странно, довольно крепки. Разумом не объяснить, к чему за них держаться, когда все выросли, а ниточка-то тянется… (Кстати, о нитках, проверила ли я запас мулине?)
Есть девичья игра, в которую я никогда не играла. Называется она «обожание». Не нами придумано, прапрабабками. Школьницы, институтки, гимназистки, каждая словно бы и не в порядке, если не имеет предмета «обожания». Можно литературного героя, многие, к примеру, обожают князя Андрея Болконского, вот уж бы ни за что. Или графа Монте-Кристо, оно еще ладно. Певца, актера, это чаще всего. Иногда кого-нибудь из молодых преподавателей. Любое «обожание» допустимо, главное – оповестить о нем общество и соответствующим образом вести себя, когда обстоятельства диктуют. Либо собирать коллекцию открыток с актером, либо сводить всех с ума пластинками с певцом, либо ходить с горестным видом, когда преподаватель заболеет и не явится на урок.
На традиционный вопрос «А кого ты обожаешь?» я честно отвечала: «Никого». И на меня глядели с недоумением.
В годы же нашего детства две трети девочек, что играли в «обожание», «обожали» Ника. Что, конечно, не удивительно. Но не у всех «обожание» свелось к собиранию открыток.
Случайно узнав, что я обучаюсь в Конюшнях вместе с Ником, Анюта тоже решила записаться на занятия. Не она первая, не она последняя. Не только девочки, иной раз и мальчики обнаруживали пристрастие к вольтижировке ради того, чтобы оказаться к Нику поближе.
Их, как правило, хватало ненадолго. Выгребать навоз – не очень большое удовольствие. Запах все же не вполне как от пармских фиалок. А чистка? Щетка в левой руке, скребница в правой, щетка в правой руке, скребница в левой – пока пол перед стойлом не побелеет от перхоти. А следом – суконка, а разбор гривы… А как больно кусаются жеребята-стригунки? Они еще глупые, взрослая лошадь кусает сильней, но зато и редко. А приятно ли в каникулы (да, такое всегда попадает на каникулы) валяться в постели – с сотрясением, с растяжением, с трещиной в ребре? А каково наблюдать в паре дюймов от собственной физиономии все, в подробностях, гвоздики, что держат подкову на копыте? Какое же оно огромное, это копыто, когда пролетает над тобою, если лошадь сперва припала на передние, а потом взбрыкнула задом! Куда ты валишься? Правильно, через ее же голову вперед – на полном скаку. На самом деле лошадь – она же на человека зря не наступит. Но не всем нравится разглядывать копыто в положении лежа. И никому не нравится, когда лошадь «несет» и «козлит». И как ноют неназываемые вслух части тела – когда неопытен на рысях…
А берейторы – они еще и ругаться горазды. Ох, сердитый народ!
Все это надо любить. Да, включая запахи навоза на вилах и темного от пота вальтрапа в руках.
Анюты хватило недели на три. Все эти три недели, если Ник и удостаивал ее взглядом, то во взгляде читалось лишь недоумение: к чему здесь эта трусливая хныкса?
Так что merci Бетси, но Анюта Данилевская меня не возлюбит никогда.
– Но сейчас я вынуждена совсем о другом тревожиться, – продолжила Бетси, поигрывая сахарными щипчиками. – Скоро открытие сезона. Коктебель, Псковщина и Рижское взморье опустеют, столицы наполнятся.
– И где у тебя будет прием? Как обычно?
– А вот нет. Прием по поводу открытия сезона я устрою в Первопрестольной. Разве ты не чувствуешь, что все нервы светской жизни сейчас напряжены именно в Москве? Эти немыслимые праздненства в Кремле… Так просто все отсюда не разъедутся.
– Пожалуй.
– Но мне другое надо понять… Кого выставить на приеме? Голову сломала. Много хороших работ за лето написано, но нет события, пойми, события нет! Рассчитывала было на твою сестру, но напрасно. Она этим летом продолжила прошлогодний цикл. Ну, ты знаешь, ее «Игры детей с солнечными человечками» в минувшем сезоне были просто у всех на устах. Новая интерпретация Рейнолдса, ну и все такое. И племянницы твои – очаровательные натурщицы! Но в новом сезоне Вера начала цикл «Игры детей с лунными человечками».
– А мне очень нравится. Где солнце, там и луна. Дети днем и дети ночью. Первые два полотна – прелесть.
– Может статься, что и прелесть, – Бетси сердито поморщилась. – Но уже не событие. Нет, второй цикл очаровательный, выставлять я его, конечно, буду, и успехом он станет пользоваться, но это не новость. Мне же нужно, чтобы газеты на следующее утро писали: оригинальная тема etc…
– Попроси Глеба и Катеньку разрисовать десяток холстов каракулями и кляксами – вот и будет оригинальная тема. И даже новое слово в искусстве. Не сердись, шутка впрямь не самая удачная. Но и огорчаться не стоит. Живописцы только-только заполонили поезда и пассажирские аэропланы, в отличье от перелетных птиц устремляясь из благословенной Тавриды в холодные края. Кто-нибудь из них несомненно тащит в багаже то, из чего ты сотворишь сенсацию.
– Надеюсь, что ты окажешься права. Да, еще, Нелли, у нас к тебе просьба. Видишь ли, Филипп собрался ехать в Астрахань…
– По делу или город посмотреть?
Филипп Орлов – младший брат Бетси, моложе меня на пару лет, еще не закончил курс на историческом факультете. Еще пока могу сказать, что коллега. Скоро уже не смогу, уносит меня из науки, страшным ураганом, как Дороти из канзасской степи… Прямо вместе с домиком уносит.
А Филипп – славный молодой человек, мне с ним много проще, чем с Бетси. Что до Бетси, по правде говоря, я так и не понимаю, с кем она в дружбе: со мной или с сестрой? По возрасту она стоит ровно между нами. Все-таки, скорей, Бетси – подруга Веры, хотя я не исключаю, что сестра предполагает обратное. Но общность интересов у них, несомненно, большая, чем со мной, ибо живопись.
– Да как тебе сказать… – Бетси неуловимо, но очень красиво изменилась в лице. – Дедушка-то наш совсем слаб.
– А что с Иван Артамоновичем?
– Ничего, кроме старости. Он не болен, но угасает. Потихоньку, полегоньку, но несомненно. Все знают, в последние годы человеку свойственно обращаться мыслями к своей молодости. Вот дедушку и терзает сейчас судьба брата. Ты помнишь, что он ведь в Астрахани исчез?
– Такие вещи я всегда помню.
У меня это профессиональное, нужды нет. Кирилл Артамонович Орлов, двоюродный дед Бетси и Филиппа, в 1916-м году, молодым инженером, поступил на металлургический завод «Этна». Там и застала его революция. Подобно многим, Кирилл Артамонович не оставил службы, понадеявшись на кратковременность хаоса и невзгод. Трудился, недоедая, как все, писал романсы о Волжской Красавице княгине Тумановой, о чем поведал в последних письмах к родителям. Но в январе 1919-го года в Астрахани начался голод. Подвоз хлеба прекратился, рыбных промысловиков расстреляли большевики. Изнемогая, работая за «осьмушку» хлеба с опилочной примесью, рабочие решились к марту начать забастовку. Ужас и безумие: в рыбной Астрахани рабочие требовали разрешения на ловлю рыбы! Инженер Орлов не остался в стороне от тех митингов отчаянья, на которые стекались люди.
Астрахань утопили в крови. Десятитысячный мирный сход били из винтовок, из пулеметов, забрасывали гранатами. Тысячи три человек пало на месте, но остальным удалось прорвать оцепление, вырваться с территории завода.
Большая толпа стеклась к церкви Иоанна Златоуста. Как спастись? Волга вскрылась. К белым, к белым, все кричали – к белым!
Орудийный гром. С грохотом рухнул купол. Обвалилась, погребая людей, часть стены. Толпа обезумела, толпа заметалась. Били прицельно – из тяжелых орудий.
Охота на людей велась по всему городу. Расстреливали прямо во дворах. Особо неистовствовали два революционных полка – Железный и Мусульманский.
Сотни рабочих были пленены, заточены на баржах и пароходах. На пароходе «Гоголь» скручивали проволокой руки и ноги, топили живыми. Расстрелы же длились весь март. Трупы свозились в общие могилы под видом «тифозных».
О, нет, он не был белым, тот рабочий люд! Смерть побелила его…
«Вдохновленные золотом английских империалистов организаторы мятежа надеялись захватом Астрахани запереть Советскую Волгу. Но тяжелая рука революции беспощадно разбила все их планы. Красная армия, Красный флот и революционные рабочие Астрахани дружным ударом разбили в прах контрреволюционные банды и Рабоче-крестьянская власть приобрела новые силы для борьбы за святой идеал, за социализм». Так писал один из палачей Астрахани, Костриков-Киров.
Все-таки нас хорошо учили на историческом факультете. Множество документов всплывает у меня перед глазами – стоит только задуматься о конкретном событии.
– Княгиню Туманову тоже тогда убили, – тихо сказала я. – Ту, о которой он романсы писал, твой двоюродный дед. Я верно тебя поняла, что Иван Артамонович хочет, чтоб Филипп попытался что-то прояснить о гибели брата в местных архивах?
– Да. Филипп и решил свое первое самостоятельное исследование соединить с семейным долгом. Вдруг хоть что-нибудь да найдется… Ты ведь ему подскажешь, как и что? Опыта-то архивного у тебя больше, Нелли.
– О чем речь, пусть заходит ко мне сразу, как из Рима вернусь.
– Merci. Ох, о главном-то не успела с тобой поговорить, о новостной-то панели! Но время мое вышло до последней песчинки. Надо бежать.
– Ничего, я ведь дней на десять, а скорее и меньше.
Расставшись с Бетси, я вернулась к своим сборам, хотя мысли все еще витали в Астрахани начала 1919 года…
Мне все мнилось и мнилось, как дикие магометане нагайками, глумясь, сгоняли рабочих на торжественные похороны их собственных палачей… Как заставляли петь «Вы жертвою пали» тридцати подлым гробам в кумаче – а одичавшие собаки терзали тела еле присыпанных землей жертв…
Но довольно о войне. Меня ждет черный дым, меня ждет дым белый. Уже совсем скоро я, в салоне роскошного СИКОР-10518, буду пить подносимые улыбчивыми стюардессами минеральную воду и вино, любоваться нагроможденьем облаков внизу, устремляясь к восхитительным и прекрасным дням.
– Алло?
– Нелли? – Наташу было хорошо слышно, но отчего-то складывалось впечатление, что она говорит издалека. – Нелли… Вы не смогли бы меня сейчас встретить у выхода из подземки?
Глава XVI Тени беды
К великой (хотя и шутливой) обиде моей семьи, первыми словами, сказанными мною в жизни, были «кузина Наташа». Не люблю воспроизводить детского лепета, поэтому просто скажу, что вместо «земля» и «ша» я тогда выговаривала только «слово». Я ли не люблю маму, сестру, а уж отца… Но тем не менее. А ведь и было-то о ту пору Наташе Альбрехт не более четырнадцати лет. Собственные же мои воспоминания рисуют ее шестнадцати-семнадцатилетней. Удивительно взрослой, спокойной, неторопливой, с этими глубокими интонациями низкого, темного как ночь голоса.
Голос читал подписи к картинкам наших с Романом первых книжек.
Мы признаться в том должны, Макс и Мориц шалуны, Чтоб про это знал весь свет, Здесь приложен их портрет. Эти скверные мальчишки Не читают умной книжки, Ради смеха, шутки ради, Рвут и пачкают тетради.Физиономии гадких Макса и Морица в самом деле глядели на нас со страниц, а за ними следовала проиллюстрированная же череда проказ, одна страшней другой, и не менее страшное возмездие: мельник смолол озорников в жерновах, а получившуюся муку склевали гусята. Жутковатая, по сути, книжечка, но дети пугаться любят. А книжка так уютно лежала у Наташи на коленках, покрытых клетчатой тканью ее шотландской юбочки. Тогда Наташа еще носила шотландские юбочки, пальто и береты из шотландки: красно-зеленой, разумеется, шотландки с тонкой белой штриховкой. Позже, став чуть старше, Наташа отстала от этого обыкновения, как от слишком уж показного. Но я помню ее в красно-зеленом, помню и страшную – слово «страшно» так и рифмовалось с Наташей уже тогда! – брошь в виде большого серебряного паука, которой она закалывала воротнички блузок.
Как же любили мы с Романом историю про короля Роберта и паука!
«Наташа! Расскажи еще!!»
Да, в ту пору мы с ней еще были «на ты». С этими обращениями все непросто, успевай примечать, кто из знакомых привержен какому свычаю. Государь Александр III, которого принято считать не самым изысканным из венценосцев, между прочим, стал обращаться к подданным «на вы». А Ник, напротив, воротил манеру Государя Александра II: у него все «на ты» и по фамилии.
У нас в семье бытует «ты». Наташа же тверда в правиле: женщина говорит «ты» только сыну и брату. Не мужу и не отцу, нет. С детьми она переходит «на вы» по достижении двенадцатилетнего возраста.
Но тогда мы с Романом еще вдвоем говорили ей «ты» (впрочем, его, единственного, переучить так и не вышло) и твердили, с двух сторон зарываясь рожицами в колючую шотландку:
«Наташа! Расскажи еще про короля Роберта! Про короля Роберта и паучка!»
«Нет! Это был не паучок! Это был большой-пребольшой паук! Все равно хотите о нем слушать?» – Наташины глаза поблескивали, будто в каждом зрачке горело по черной свечке.
«Ну, так и быть. Много раз король Роберт Брюс поднимал войска на грозного Эдварда Первого. И много раз бывал им разбит на голову. Ведь не зря же короля Эдварда прозвали Молотом Шотландцев».
«Malleus scottorum!» – тут же вмешивался в повествование Роман.
«Да-да, так его и звали. И вот, после одной из битв, король Роберт совсем пал духом. Сколько молодых благородных шотландцев, увлеченных им на битву, теперь лежали на полях бездыханными и порубленными, и вороны выклевывали им глаза! Их матери, их жены, их невесты рыдают, но жертвы напрасны! Он, их король, не привел шотландцев к победе. Что делать? Вновь собирать войска? Вновь идти на англичан? И вновь быть битым? Скитаться по лесам, радуясь ночлегу в убогой хижине дровосека? Нет, хватит шотландской крови! Брошу все, решил король. Отправлюсь в Святую Землю – смиренным паломником, молить прощения за всех, кого вывел на поля бесславной брани».
«А кто бранился?» – переспрашивала я.
Наташа смеялась. Она всегда заставляла нас стоять немножко на цыпочках – как в мыслях, так и в морали. «Неважно, понял ли ребенок. Ребенка главное заклясть», объясняла она вслед за Мариной Цветаевой, когда я уже выросла.
«Шотландцы с англичанами бранились не словами, а мечами».
«Король не должен отчаиваться!» – возмущался Роман.
«Король тоже живой человек. И вот, король Роберт достиг маленькой гавани, и остался там ожидать корабля, что шел бы в Святую Землю. Но в те времена суда не ходили по расписанию, как наши. Мало кто мог заранее сказать, в какой день ему удастся сесть на корабль, идущий в нужном направлении. И вот король Роберт, под видом простого рыцаря, остановился в домишке прибрежных жителей. Но долго не шел корабль. Ожидание томило короля. Полон печали, часами лежал он в убогом доме на лавке, ничего не делая. Это называется „депрессия“, Нелли. Впрочем, неважно. И однажды король заметил кого?»
«Паука!»
«Паучка!»
«Да, паука, плетущего себе свою паутину под потолком. А король лежал и безразлично смотрел, как работает паук. Но вот пауку понадобилось перекинуть свою нить на соседнюю балку. Он ринулся в длинный бросок – и сорвался. Но что это? Едва успев вскарабкаться наверх, паук вновь изготовился штурмовать балку. Новый бросок – и вторая неудача. Не по силенкам тебе затея, паук! Не выйдет у тебя большой паутины! Третья попытка… Король, сам того не заметив, приподнялся и смотрел уже на паучка внимательно-внимательно. Сорвался! Все? Паук сдался? Четвертая попытка… Почему-то королю Роберту вдруг очень захотелось, чтобы паук укрепился на балке. Сорвался! Пятая попытка… Ну же! Упал… Шестая попытка! Шестая! Шесть больших сражений король Роберт проиграл королю Эдварду. Седьмая попытка! Получилось! Натянулась незримая нить, паучок заскользил между балками, продолжая свой труд».
«А седьмой вышел – Баннокберн!»
«Не спеши, Роман. Ведь рассказываю я. До Баннокберна еще далеко. Пока что король Роберт сказал, обращаясь к паучку: „Спасибо тебе за урок, малая тварь“. И рука его легла на рукоять меча».
«А тут бегут и кричат – корабль! Корабль!!»
«Нелли, ты-то не кричи, пожалуйста. Мы в доме, а в домах так себя не ведут. Но ты права – королю сообщили, что показались паруса корабля. „Вот пусть на нем и плывет, кто хочет“, к удивлению людей сказал странный рыцарь и пошел седлать своего коня».
«И победил!»
«Еще многие труды отделяли Роберта Брюса от победы. Но решимость вернулась к нему. Ты ведь помнишь, Роман, что нам нельзя убивать и обижать пауков?»
«А мне?!»
Было ужасно обидно. В крови Романа есть крошечная капелька крови Роберта Брюса – а у меня нету. И даже Проклятому Брюсову Племяннику я не правнучка.
«Ну, ты тоже не обижай пауков, Нелли. Пауки ведь не виноваты, что их все боятся».
«Я не боюсь!»
«И я не боюсь!»
Мы боялись, конечно. Но нарочно брали страшненьких малюток на руки, лишь бы только доказать себе, что пауки нам даже нравятся. Ну, конечно, нравятся. Странное обаяние Наташиной личности – оно окутывало нас с младенчества.
Об этом ли вспоминала я, торопливо переодеваясь, запирая дверь, сбегая по лестнице вниз? Затруднюсь ответить. В голове, как в калейдоскопе, крутились какие-то мысли и картинки, а вращала калейдоскоп странная тревога. Наташа попросила ее встретить? Что из того? Быть может, ей захотелось прогуляться. А голоса то телефону всегда звучат иначе, чем в жизни. Пустое, не из чего беспокоиться.
Я почти бежала.
Вокруг все было привычное, обычное, такое, как всегда. И ложно бель-эпоковская, в чугунных кружевах, будочка выхода из подземки, и разнонаправленное деловитое движение толпы.
Наташи еще не было. Увидеть ее снаружи представлялось легче, но я отчего-то спустилась по ступенькам вниз, к дверям. Народу не так уж густо, я увижу.
Знакомое темно-вишневое летнее пальто сразу бросилось мне в глаза.
Наташа не шла, она словно плыла по воздуху, как бывает во сне. Лицо ее было бледным, почти бесцветным, будто фотографии в газетах.
– Пожалуй, лучше вам будет взять меня под руку, Нелли. Эти ступеньки… Их очень много. Но ах, да… – Она улыбнулась мне – тенью улыбки, зазеркальным ее отражением. – Чуть не забыла… Как раз утром я и забрала в лавочке.
Наташа опустила руку в карман пальто. Ей всегда нравится одежда с глубокими большими карманами.
Luc de Clapiers, marquis de Vauvenargues
Réflexions et Maximes
Белый переплет, издание in octavo, такое удобное для карманов и для дороги. Наташа протягивала книгу мне, улыбаясь этой странной, сновиденной улыбкой.
Даже не поблагодарив, я опустила томик уже в свой карман и подхватила ее под локоть. Мы медленно поднялись по ступеням.
– Может быть – таксомотор? – От «Профессорского уголка» до Наташиного дома десять минут. Но не таким шагом, нет.
– Не стоит. Он слишком… качает.
За всю дорогу мы больше не обменялись ни словом. Я больше ни о чем не гадала и ни о чем не тревожилась. Единственно важным сделалось одно – правильно подстроить шаг под ее шаги, под ритм ее дыхания, заранее угадать все ступеньки, все бордюры.
Через тысячу лет мы поднялись в квартиру.
– Нелли. – Наташа, которой я помогла освободиться от пальто и уличных туфель, опустилась в свое любимое, с зеленой обивкой, чиппендейловское кресло. – Вам придется меня ненадолго оставить. Но не тревожьтесь, я ведь уже дома. Спуститесь в табачный бар. Купите, пожалуйста, папиросы. Нет, ваши мятные сигаретки не годятся. Да, я знаю… Знаю, что у вас в сумочке они есть. Но мне нужны папиросы. Лучше всего «Ира».
Наташа, насколько я знаю, не курит с девятнадцати лет. Собственно, курила она только несколько месяцев в жизни – в тундре, где табачный дым был единственным спасением от мошки.
Было так странно (я примчалась назад минут через семь, сжимая в руке продолговатую коробочку с декадентским завитком) видеть ее с папиросой в руке. Наташа поднесла папиросу к губам, глубоко, очень глубоко затянулась.
Выражение ее глаз сделалось не в такой мере отсутствующим. До этого, хотя она и говорила со мной, мне не казалось, что она видит меня.
Она знала, что я ни о чем не спрошу. Поэтому, сделав еще одну затяжку, она ответила на мой не заданный вопрос.
– Мифы иной раз оживают самым насмешливым образом, Нелли. Брюсы и пауки… Паук проснулся и опять плетет свою паутину.
– Арахноидит? – Как же я не поняла этого сразу.
– Красивое название для… – Еще одна долгая затяжка последовала за двумя предыдущими. – Для воспаления паутинных оболочек мозга.
В шестнадцать лет эта болезнь проявилась у Наташи в первый раз. Тогда медицинские светила предупредили, что она может вернуться – в любой год, в любой день. Да, об этом мы все знали. Но как было связать мыслями Наташу – Наташу, посылающую коня брать высокий барьер, Наташу, выписывающую лихие фигуры на коньках, Наташу, четким жестом поднимающую руку на стрельбище, Наташу, неразлучную с аквалангом, самую скорую на ногу в беге, смеющуюся Наташу с теннисной ракетой в руке, Наташу, танцующую все мыслимые танцы – Наташу и тяжелую болезнь? Да, бессонницы. Да, врачи тревожились, что слабовато сердце, особенно, когда она ждала Гуньку. Но уже с Гунькой в ближних планах, посмеиваясь над «сердечными слабостями», она улетела в Скобелев и прошла пешком Ферганскую долину. Почему-то ей захотелось прогуляться по Фергане в одиночестве, с легким вещевым мешком за спином.
Я, конечно, не могла помнить первой болезни Наташи, той, из-за которой она завершила гимназический курс годом позже. Арахноидит всегда был для меня лишь словом, жутковатым, но словом.
Да, я тревожилась из-за этих ее мучительных бессонниц, но в возвращение болезни действительно страшной я, оказывается, не верила никогда.
– Напрасно я не предупредила вас, Нелли. – Наташа говорила почти как обычно, только очень тихо. – Имело смысл взять сразу две коробочки «Иры». Кто знает, какая получится ночь.
– Но мы в течение часа дождемся вашего домашнего врача, – попробовала поспорить я. – Он выпишет любые обезболивающие, какие только нужно. Через полтора часа у вас будут все лекарства. К чему тогда эти папиросы?
– Вы забываете, Нелли. Я ведь через это уже проходила. Мне помогали анальгетики. Немного, но помогали. Я была в шестнадцать лет глупенькая. И один раз я выпила за ночь такое количество анальгина, что отравилась им. С тех пор мой организм не принимает анальгин даже в микроскопических дозах. А любые другие обезболивающие не дают никакого эффекта. Кроме, разумеется, таких обезболивающих, которые я ни в коем случае не хотела бы принимать.
– Но какой прок от папирос?
– Ну, они… они немножко отвлекают. – Наташа слабо улыбнулась. – А теперь давайте посмотрим, сумею ли я добраться до спальни. Нет, Нелли, не надо! Я сама. Вы лучше поставьте пока чай. Сделайте послаще и покрепче.
До спальни она добралась – немножко наощупь, словно плохо было не с головой, а с глазами.
Когда она, уже в постели, выпила полчашки похожего на деготь чаю с четырьмя ложками тростникового сахара, мне показалось, что ей сделалось немного легче. Но я знала, что это не совсем так. Она просто осваивалась с болью, обживалась внутри нее.
– Я все-таки приглашу теперь Лебедева.
– Это немного подождет. Надо разобраться с другими неотложными вопросами.
– Да, я попробую найти Юрия через яхт-клуб. Возможно, я думаю, оставить сообщение в ближайшем пункте их прибытия.
– Нет, Нелли, этого мы делать как раз не станем. Поймите, это не событие, а состояние. Ну и представьте себе, Юрий мечется в рассуждении на кого срочно оставить яхту, в немыслимой спешке меняет все планы, все это – у ребенка на глазах. Мама заболела, очень мило. Вы можете себе представить, каких ужасов она себе навообразит? Дети очень уязвимы, в особенности – когда не видят происходящего, а только ловят взрослые тревоги и обрывки фраз. Они воротятся всего через пять дней – пусть так и будет, своим чередом.
– Юрий меня не извинит.
– Пустое. Если можно, еще чаю и принесите сюда папиросы. Я их в кабинете оставила.
Права она или нет, мучительно пыталась разобраться я, выполняя эти просьбы. Впрочем, Наташу же все одно не переспоришь. Ничего, разберемся пока без Юрия, вместе с Романом.
– И кстати, Нелли. Ни в коем случае не говорите ничего нашему графу Роману, – принимая вторую чашку, добавила Наташа.
– Роману-то почему? – опешила я. – При нем-то детей нету.
– Он сейчас очень занят. Не стоит его отвлекать. Поверьте, в самом деле не стоит. Поступим лучше следующим образом. Позвоните, пожалуйста, в Голицынскую больницу и попросите прислать ко мне сестру милосердия. Пусть будет за час до вашего ухода, вы ей и объясните, что да как. Пожалуй, без милосердной сестры я в эти дни не обойдусь.
– За какой еще час до ухода? – переспросила я.
– Вам завтра лететь в Рим. Ведь завтра? – глаза Наташи сделались растерянными – она очевидно теряла уверенность в том, что следит за ходом событий. Но воспользоваться этим я не могла.
– Дорогая кузина Наталия Всеволодовна Альбрехт, – я заговорила очень спокойно. – Вы вправе вытворять все, что хотите. Пусть меня убивает Юрий, не имею возражений. Пусть меня убивает также Роман, если у них, конечно, получится убить одно лицо дважды. На это воля ваша. И монахиню я, разумеется, приглашу, лишней она не будет. И билет мой в Рим в самом деле взят на завтрашний день. Но я туда не лечу. Я остаюсь при вас до возвращения Юрия. И у меня есть на сей счет два довода, опровергнуть которые вам не удастся.
– И какие же? – В ее голосе слабо прозвучали любопытство и улыбка.
– Довод первый. У меня, отчего-то, нет ни малейшего сомнения в том, что понтифика изберут и без моей помощи.
– А я уж было решила, что без вас никак.
– Ошиблись. – Мы улыбались друг другу. – Ну а второй… Пожалуйста, ответьте мне на такой вопрос: а улетели бы вы от меня при подобных обстоятельствах?
– Вы стали совсем взрослая, Нелли. – Наташа протянула руку к чашке. – Теперь я попробую полежать неподвижно. Вдруг сумею немножко отдохнуть? Ехать домой было немножко… утомительно. Ивану Сергеевичу можно уже телефонировать. А пока вы тоже постарайтесь перевести дух, съешьте что-нибудь… Мне представляется, что к ночи станет много хуже.
Глава XVII Разговоры в ночи и разъяснение некоторых загадок моей биографии
Доктор Лебедев, домашний врач Черновых-Альбрехтов, появился через сорок минут. По обыкновению невероятно долго мыл руки специальным мылом, извлеченным из собственного саквояжа, на фиалковое же Наташино, что лежало в гостевой уборной, только пренебрежительно сморщил нос. Я поймала себя на том, что злюсь: ведь не Гунька нарочно сосульки грызла перед контрольной работой, на сей-то раз.
Впрочем, вероятно я напрасно: такое мытье рук – своего рода психологический ритуал, помогающий полностью сосредоточиться прежде, чем войти к пациенту.
– Ну что же, Наталия Всеволодовна, решили вдруг вспомнить юношеские неприятности? – с порога спросил он.
– Точности ради, Иван Сергеевич, это юношеские неприятности отчего-то вспомнили обо мне, – откликнулась Наташа, поправляя на груди кружево сорочки. – Не обессудьте, что встречаю такой растрепкой. Не могу пока прикоснуться щеткой к голове.
– В каких местах локализуется боль?
– От затылка к вискам. Впрочем, пока не уверена. Только, пожалуйста, Нелли, я все понимаю, но лучше вам все же выйти. Вы же все одно медицины не любите, да и не разбираетесь нимало. Иван Сергеевич вам потом скажет все, что сочтет необходимым.
Мне хотелось остаться, но я, разумеется, вышла. Пока что можно заняться другими вещами. Я набрала телефонный номер нашей консьержки, сообщила, куда переправлять посланцев Ника, если еще придут запросы из Кремля. Потом попросила Наташину консьержку, чтобы молоко и хлеб утром оставили внизу, я сама спущусь. Позвонила еще и Кате, распорядилась отозвать авиа-билет. В справочной Голицинской больницы долго приносили извинения:
– В городе эпидемия гриппа… Последние дни лета, обманчивое тепло… Некоторые наши сестры сами заразились, вот и не успеваем отвечать на вызовы.
– Но когда сестра сможет прибыть?
– В лучшем случае завтра, после обеда. Если состояние больной и домашние обстоятельства не позволяют ждать, мы можем предложить госпитализацию.
– Если врач не станет настаивать, то не нужно, благодарю. Я справлюсь сама.
– Завтра сестра будет, мы ставим ваш вызов в первоочередные.
Что же… Сестра милосердия будет жить в доме не один день, так же, как и я. Разумнее всего уступить ей гостевую комнату. Я, как своя, опять устроюсь в детской.
Я уже достала и разложила по кроватям чистое белье для себя и сестры, а Лебедев все не выходил от Наташи. Прислушиваться к приглушенным голосам за дверью было мучительно. Я прошла к Гуньке и села за ее уютную домашнюю парту, тяжелую, из светлого ореха. Дитя не отличается чрезмерной аккуратностью. Стопки тетрадок так и дожили неубранными от весны до начала нового учебного года.
Я повертела в руках забавные ученические картинки, с carte postale размером. А ведь у нас точно такие были, надо же, ничего не меняется. На этой – чертенок с маленькими рожками. Ну да, ну да.
«Бѣлый, блѣдный, бѣдный бѣсъ Убѣжалъ за рѣчку въ лѣсъ. Лѣшимъ по лѣсу онъ бѣгалъ, Рѣдькой съ хрѣномъ пообѣдалъ И за горькій тотъ обѣдъ Далъ обѣтъ надѣлать бѣдъ»19.А на другой – толстый румяный немец – выглядывающий из крытой торговой повозки.
«Вѣтеръ вѣтки поломалъ, Нѣмецъ вѣники связалъ, Свѣсилъ вѣрно при промѣнѣ, За двѣ гривны продалъ въ Вѣнѣ».Их должно быть около дюжины. Но остальные Елизавета, похоже, растеряла. Будем надеяться, что сначала выучила, а растеряла потом. Что ж он так долго, доктор этот?
Да, Наташа права. Детские вещи обладают странной магией успокоения. Не случайно я во всей квартире забилась сейчас именно за Гунькину парту, не случайно верчу в руках – теперь вот тетрадку, обклеенную переводными картинками.
«Тетрадь по правоведению ученицы гимназии №4, II класса Елизаветы Юрьевны Черновой»20.
И дальше, округлым умилительным почерком:
«25 мая, домашняя работа. Верховный Суд в нашей стране является апелляционным (в этом слове Гунька ляпнула ошибку, кровожадно исправленную учительским карандашом), но в особо важных случаях может быть судом первой инстанции. Возглавляет Верховный Суд Государь. По Основному Закону Государь является Председателем Верховного Суда – со своей коронации и на всю жизнь. Поэтому Наследник престола обязан выучиться в молодости на юриста. По любому вопросу можно спросить тех людей, кто лучше осведомлен, только законы нужно знать самому, иначе хорошо править не получится».
До сих пор не устаю отдавать должное тому, как хорошо продумана у нас учебная программа. Да, к десяти годам все это уже должно быть уложено в голове.
«Государь назначает двенадцать Верховных Судей. Обычно они призываются из самых разных губерний, но в Законе это не написано. Просто так уж повелось, чтобы в лице Верховных судей были представлены разные губернии. Это называется – традиция. Что делает Верховный Суд? Он проверяет другие суды, но может и проверить решение Думы. Если Дума принимает такой закон, который затрагивает основания жизни нашего Государства – то Верховный Суд его тут же отменит».
Наивные обороты Елизаветы свидетельствуют, между тем, что она превосходно понимает, о чем пишет. Она говорит своими словами. Она не вызубрила, ей в самом деле все понятно.
Стукнула дверь. Я выронила тетрадку и бросилась в коридор.
– Нет, покуда длится обострение, я не настаиваю на госпитализации, – говорил Лебедев, стоя на пороге спальни. – Но без обследования нельзя судить о том, поражены ли, к примеру, некоторые пары черепных нервов.
– И сколько известки в моей голове, – насмешливо прошелестел из глубины комнаты голос Наташи.
– Гмм… Вот, возьмите рецепты, mademoiselle. – Лебедев протянул мне несколько бумажек. – Пипольфен, йодид калия, новокаин для инъекций, валиум. Пока что все. Заниматься этим придется серьезно и долго. На сегодня постарайтесь, чтобы не было резких телодвижений.
Я не хотела этого спрашивать. Но все же не сумела удержаться, за что после долго поедом грызла себя.
– Это опасно для жизни?
– Не умею вам сказать что-либо с определенностью. – Лебедев, грузный, высокий и широкоплечий, снял с вешалки свою шляпу. – Не совсем типичная картина болезни. Это ведь началось внезапно?
– Да. Утром она была в редакции, заходила к букинисту… Я говорила с ней вчера – она была совсем здорова.
– Совсем здорова она не была никогда. Но понадеемся на лучшее. Тревожиться рано, да и некогда. Не полагаясь на Наталию Всеволодовну, я поговорю с Юрием Валерьевичем. Рассчитываю и на вас. Обследование в клинике необходимо.
Проводив Лебедева, я вернулась к Наташе. За окнами уже темнело, у кровати горел ночник. Как успел миновать день?
– Уж и ругался и бранился. – Наташа, лежа высоко в подушках, старалась не двигать головой.
– Сейчас я позвоню в дежурную аптеку. Иван Сергеич понавыписал вам кучу лекарств. Наверное все – горькие и противные.
– Да уж знаю его, никогда не выпишет сладких и приятных. Но и то правда, будь лекарства вкусные, все б только и делали, что болели.
– Может быть, вы попробуете уснуть? Вы очень устали, вдруг да получится.
– Не думаю, Нелли. Лучше возвращайтесь. Читать я не смогу, глаза слишком напряжены. Но можно поболтать немножко. От этой гадости надо как-то отвлечься.
Делая заказ, я сообразила предупредить, чтобы посыльный не звонил в дверь, нарочно оставленную мною незапертой.
– Свет резковат. Если не сложно, Нелли, набросьте на лампу мой синий шарф. Вон он, на кушетке.
Шарф, впрочем, был не синий, а зеленый. Вероятно, чей-то подарок, скорее всего Юрия, раз Наташа его носит. Сама Наташа никогда не покупает ни синих, ни зеленых вещей. Она их не различает. Тританомалия – это даже не дефект зрения. Это самое обычное зрение, каким обладали люди в древние времена. Так видел мир Гомер, что показывает филологический разбор его текстов. У Наташи – древние глаза. Я читала в какой-то статье, что в современном мире такого зрения нету. За исключением племени химба в Бечуаналенде. Но Наташа – русская немка, а отнюдь не химба.
– Спасибо, так лучше. Вы ели что-нибудь?
– О, да. Я нашла полный кулек фисташек и коробку марципанов. А мама еще говорит, что это я самая бесхозяйственная, как одна остаюсь.
– Нет, это не вы. Нелли, сварите себе гречневой каши.
– Если проголодаюсь, сварю. А пока лучше посижу с вами.
– Ну, хорошо. Тогда расскажите, что было интересненького в вашей жизни за те дней десять, что мы не видались?
– Самое интересненькое был Мишин полет вокруг Земли. Но это уж определенно не моя жизнь. Наташа, а ведь вам уже тогда нездоровилось? Вас не было на приеме… Как же я не подумала…
– Нелли, вы не Иван Сергеевич, уж довольно с меня ругательской ругани. Нездоровилось, но я не догадалась, к чему дело идет. Куда уж вам догадаться. А дайте-ка еще папиросу…
– Можно тогда и я тоже?
– Нельзя. – Осунувшееся лицо Наташи сделалось строго. – Я давно знаю, Нелли, что вы балуетесь. Знаю и то, что для вас курение – именно что баловство. Но сейчас вы тревожитесь за меня, ваши нервы напряжены, вы думаете, я этого не вижу? Нелли, есть две вещи, которыми нельзя лечить нервы. Это спиртное и табак. Если вы сию минуту закурите – вы не остановитесь, пока я не встану на ноги. Ну и зачем это нужно? Вы справитесь и так.
– Я не буду. А космос, по-моему, нам обеим не слишком интересен. Хотя и трудно не порадоваться, когда все так рады. Да и за Мишу я испугалась.
– Да как вам сказать… Любопытные моменты есть. Вы не приметили, что, чем, как выяснилось, ближе было к полету, тем более яростно оппозиционные газеты писали, что никакой выход на орбиту невозможен? Кто-то очень старательно сохранял интригу. Это, я чаю, не только космос. Это демонстрация могущества. Вы помните, Пушкин называл тёзку и прямого предка21 нашего Государя «юным львом»? Знать бы, кому-то нынешний юный лев показывает когти?
Мы разговаривали почти так, как обычно. Разве что голос Наташи был очень слабым. Из него ушла эта низкая бархатная глубина, модуляции казались беднее обыкновенного. Тень голоса.
– Ну а что вы еще поделывали?
– Гмм… Чем бы вас позабавить? Ах, да. Я познакомилась со страшным колдуном. И он мне очень понравился.
– А вот здесь, будьте добры, в подробностях.
Стараясь следить, чтобы мой звонкий голос в свой черед звучал потише и поглуше, я рассказала об Авигдоре Эскине (Наташа о нем слышала впервые, впрочем, она ведь смотрит новости еще меньше, чем я), о нашей встрече в кафе, обо всем, что о нем рассказывают. Об апартеиде, впрочем, в двух словах, больше о том, как он, двадцатилетний, объявил «огненный удар» одному из влиятельных членов правительства, Арону Леви, «Огненный удар», он же «пульса денура». Насколько я понимаю, весь Израиль следил за этой историей. Какой-то мальчишка совершает магический ритуал против известного политика. Насколько я понимаю, там весь смысл в том, чтобы объявить об «ударе» публично. Намеченная жертва должна раскаяться и исправиться за те дни, которые ей отведены. Иначе все, смерть. Весь этот заговор, или как там его назвать, совершают ночью, на кладбище. Жуть, конечно. Эскин назначил сроком проклятия тридцать дней. Двадцать девять дней это служило богатой темой для анекдотов. А на тридцатый день Леви, в собственном доме, упал, поскользнувшись на мраморной лестнице. Упал и сломал шею. Медики констатировали мгновенную смерть. А ведь ничего не сделаешь – в законодательстве ответственности за магию не прописано.
– По чести сказать, это захватило мое писательское воображение. Уж не знаю, что мне скажет отец Рейн, боюсь, что поколотит. Я с Рейном вчера видалась, но не исповедовалась. Но я же литератор, кузина Наташенька! Как же мне не подружиться с эдаким страшным человеком! Непременно с ним еще встречусь. Но все ж хорошо, что мы не евреи. На нас эти огненные удары, говорят, не действуют.
– Какая прелесть. – Глаза Наташи смеялись. Повеселевшие глаза на измученном, прозрачном лице. – Восхитительно изящная работа спецслужб.
– Наташа! – От возмущения я даже забыла говорить тихо. – Какое прозаическое, скучное истолкование… Но вы же мистик! Вот уж от кого не ждала.
– Мистик, Нелли. Но такими ужасами, боюсь, следует потчевать материалистов, они-то в подобных случаях беззащитны и восприимчивы как дети. Не беру в расчет поэтов, девушек и присутствующих.
Никогда не научусь предугадывать ее реакции. Они всегда неожиданны. Но…
– Что вы так нахохлились, Нелли? Непременно продлите знакомство, этот ваш Эскин, похоже, интереснейшее существо.
– Едва ли мне этого захочется. Вы бы слышали, как искренне он говорил о том, что был бы мертв, окажись его суждение несправедливым! Я не люблю, когда лгут о таких вещах.
– Едва ли он лгал. Подобные партии играются в четыре руки. Но как было не воспользоваться таким проклятием, о котором, вы говорите, знала вся страна? Падение с лестницы – и множество неприятных вопросов. Падение с лестницы в результате проклятия – море эмоций, а вопросам уже не остается места. Но неужели только двадцатилетний юноша один и понимал, что деятельность этого самого Леви наносит стране вред?
– Эскин не один был. Там их было несколько.
– Видимо, одноклассников. Взрослые же люди, вероятно, оказались поголовно круглыми дураками. Полагаю из ваших слов, что минувшие с тех пор четыре года он не потратил впустую. Но критически оборотиться на собственное прошлое, как обычно бывает у мужчин, мешает самолюбие.
– Но ее и по Троцкому делали, эту «пульса денуру». И Троцкий тоже погиб в назначенный срок. Хотя убили его, конечно, тут уж наши секретные службы.
– Ну, Нелли, могу, конечно, и я ошибаться. Но…
Губы ее свела гримаса.
– Наташа!..
– Знаете что, Нелли… – Наташа заговорила не сразу. – Давайте-ка вот, что сделаем. Посыльный из аптеки ведь был? Это вы к нему выходили минут десять назад?
– Да, все лекарства доставлены.
– Принесите-ка, пожалуйста… чашку теплой воды. И валиум. И ложку.
Когда я вернулась со всем перечисленным, Наташа уже сидела в постели. Грудь ее тяжело вздымалась, вне сомнения, перемена положения далась ей с большим трудом.
– Хорошо, вода как раз нужной теплоты… Где валиум? Нет, Нелли, я сама.
Не успела я ахнуть, как Наташа выдавила из упаковки десяток голубых пилюлек. На ладонь, как-то странно исхудавшую за несколько часов. Всю горсть она и опустила в воду.
– Но можно только две штуки!! Это самое большее!
– Ничего. Мы ведь Лебедеву не скажем. – Наташа слабо улыбнулась губами, которые, тоже за несколько часов, обметала темная корка. Она принялась помешивать в чашке своей любимой серебряной ложкой – смешной, с эмалевым попугаем на ручке. – Раствор, думаю, быстрее проберет. Нелли, не тревожьтесь. Ничего со мной не случится. Но я должна хоть немного отдохнуть. Иначе эдак можно что-нибудь и перенапрячь…
Пилюли исчезали в крошечном водовороте, словно их и не было. Впрочем, не вполне: вода в чашке понемножку голубела. Снежная белизна фарфора позволяла это разглядеть.
Надеюсь, не изменившись в лице, я смотрела, как Наташа, глоток за глотком, пьет из белой чашки голубую воду.
– Очень рассчитываю, что получится хотя бы немножко задремать. Нет, выключать лампы не надо. Вы же все равно захотите меня проверять. Ну и проверяйте себе.
Снова с усилием, не сумев сдержать легкого стона, она легла на спину, на высоко подложенные подушки.
Некоторое время я сидела в изножье кровати, внимательно наблюдая. Вот расслабились кисти рук, упавшие на пододеяльник. Дыхание стало слабей, овал лица – мягче.
Прошло, вероятно, минут сорок, может быть и час. Я боялась подняться, чтобы не потревожить ее сна. Да, она спала.
В детской, особенно ярко в сравнении с погруженной в полумрак спальней, горели веселые огни. Я присела на Гунькину кровать. Кровать у нее еще детская, с перехваченным огромными бантами декоративным атласным пологом, как на картинках к сказкам.
О чем я еще не подумала? Зубной щетки у меня нет, впрочем в шкафу, что в ванной, наверняка найдется запас. Бревиарий остался дома, но четки оказались в кармане. Мои любимые четки, с белыми фарфоровыми бусинками на бронзовых сцепках, с черным эмалевым крестом.
Я опустилась на колени и перебрала четки. Полегчало ли мне на душе? Нет, отчего-то нет. Я не понимала, что со мной происходит. Сейчас, в минуты, когда надлежало вложить всю силу души в молитвы, я вместо этого только механически произносила святые слова, ничего, совсем ничего не ощущая.
Мне вспомнилось, как совсем иначе молилась я однажды – будто бы сто лет назад. В действительности, это был 1978 год, год, только что найденный под Рождественской ёлкой, новенький, в начале января.
На Рождественские праздники мы отправились тогда в Ревель. Верней сказать, к великому нашему с Романом счастью, поехала в Ревель Наташа, и, так и быть, позволила нам ее сопровождать. Мы собрались в тот раз гости к старому другу и коллеге Наташиного отца, Юрию Климентовичу Дыдорову. Для меня было особенно важным познакомиться с Юрием Климентовичем, поскольку он был, можно сказать, участником освобождения Петрограда. Во всяком случае, многочисленные фотографические альбомы о СЗА нередко содержали и его фотографию – фотографию златокудрого четырехлетнего мальчика, сына полковника Ливенской дивизии22.
Юрий Климентович всю жизнь прожил в Санкт-Петербурге, но, овдовев и выйдя в отставку, купил себе в пригороде Ревеля, на побережье, деревянный дом, достаточно просторный для того, чтобы в нем хорошо звучал любимый рояль фирмы «Рёниш».
Январь кружился балами, пестрел народными гуляньями. А вот с погодой вышло странно. Зима выдалась такой теплой, что не кружилось в воздухе ни снежинки, не лежало ни льдинки. Особенно кручинились конькобежцы, обреченные скучать на искусственных катках. Я приехала в шубке, но носила ее расстегнутой, а волосы ничем не покрывала. Пусть их дышат солью и ветром.
Наташе, кому же еще, пришла в голову мысль поехать в полночь в Пирита. Просто побродить в развалинах монастыря. Шум ледяного моря, темнота, особенно густая, поскольку даже не присыпана снегом, шум черных сосновых крон в вышине, устремленный в небо острый треугольник алтарной стены собора, прорезанный вертикальными щелями оконниц.
Он всегда завораживал меня, этот о двенадцати столбах, неф, покрытый теперь вместо крыши небом: то ночным, то дневным. В этот раз оно было ночное, очень ночное. А в небе…
«Смотрите! В небе – две луны!»
Первым это заметил, конечно, Роман. Впрочем, быть может, раньше луны увидела и Наташа, просто уступила кому-нибудь из нас двоих волшебное открытие.
Да, вероятно, что одна из лун, ярко сиявших по обе стороны от монастыря, была отражением другой. (Хотя это и очень скучное объяснение, да и отражение подобного рода я видела только раз в жизни). Но восторг был в том, что понять, какая из двух настоящая луна, представлялось совершенно невозможным. Ну, разве что, если лучше помнить учебник астрономии, можно бы, вероятно, было определить истинную луну по положению в этот час.
Но они были одинаково ярки, одинаково четки. Их было две, нет, на самом деле ни во что иное я и не верю.
Мы стояли у дверного проема. Слева тянулась полуразрушенная галерея. Алтарная стена, далеко впереди, была увенчана по обе стороны лунами. Под ногами громко шелестели камешки давно раскрошенных плит.
«Эта ночь чего-то ждет от нас, – сказала Наташа. – Она особенная».
«Я знаю!»
Мгновение назад я не знала. Но теперь меня переполняли уверенность и странная сила.
«Я знаю, чего здесь ждут!»
Они остались у входа, Наташа и Роман. Я шла одна, шелест моих шагов разносился далеко вокруг.
Не дойдя шагов тридцати до предполагаемого алтаря, я остановилась. Подобрала подол моей любимой зимней юбки – грубо-шерстяной, до щиколоток, опустилась на колени. Сложила ладони.
«Ave, Maria, gratia plena; Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae».
Каменные стены подхватили мой звонкий голос, унося его к лунам, в зимнюю тьму. Гений зодчих дал ему без напряжения звучать над сосновым лесом, над морем, над рекой… Мой голос был всюду. Как же соскучились эти древние стены, четыре столетия пролежавшие в руинах, как же соскучились они по латыни!
Как же соскучился по латыни мой голос! Я, уже примерно год как, мысленно молилась на этом языке. Я даже сама не заметила, когда это началось. Как-то оно само собой. Но я впервые молилась по латыни вслух.
«Pater noster, qui es in caelis, sanctificetur nomem tuum; adveniat regnum tuum; fiat voluntas tua, sicut in caelo et in terra. Panem nostrum quotidinaum da nobis hodie; et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris; et ne nos inducas in tentationem; sed libera nos a malo».
Я еще некоторое время просто стояла на коленях, наслаждаясь своей растворенностью в этой ночи, в этих развалинах, слушая, как эхо моего голоса затихает вдали.
А затем весело, мне вдруг сделалось так весело, вскочила и, оборотясь к Наташе и Роману, почти побежала к ним.
Они ждали меня, оставаясь неподвижными.
«Какая тут акустика!» – Я была настолько переполнена душевным восторгом, что не смогла подобрать слов более значимых, чем фраза самая банальная.
«… Но куда она исчезла?» – голос Романа звучал как-то странно.
«Кто?» – удивилась я.
«Не знаю, кто… – Пожалуй, что было само по себе невероятным, Роман был растерян. – Девушка… Ты…»
«Я-то определенно никуда не исчезала».
Я даже разозлилась на Романа, сбившего мое летящее настроение какими-то несуразными вопросами. И тут поймала взгляд Наташи. Внимательный – и немного удивленный.
«Нелли, а вы никого не видели?»
«Нет…»
«Как интересно! Роман, сверяем часы. Что ты видел, когда Нелли читала молитвы?»
«Прозрачную девушку из лунных лучей».
Я тихонько ахнула. Столь романтические выражения – ну никак не в стиле нашего графа.
«Откуда она взялась?» – продолжала допытываться Наташа. А не разыгрывают ли они меня, часом? Сговорились, пока меня ждали?
Но отчего тогда так странен взгляд Романа?
«Вышла оттуда, – Роман махнул рукой на галерею. – Из дверного проема».
«Да, я видела то же самое. Она вышла и…»
«Пошла к Лене».
«И была похожа на нее? В такой же шубке нараспашку, с распущенными волосами?»
«И в длинной юбке».
«Рост, сложение… Лица я не сумела разглядеть, только общий очерк».
«Наташенька… – Мне вдруг сделалось как-то холодно, и упомянутую шубку я запахнула. – Вы меня разыгрываете?»
«Нелли, уверяю вас, нет. Мы с Романом в самом деле вас видели. Вас лунную, идущую к вам настоящей. Во всяком случае, вы были очень узнаваемы в той призрачной девушке».
«А что было дальше?» – спросила я почему-то шепотом.
«Она подошла к вам вплотную – и исчезла. Так ведь, Роман?»
«Да. Она медленно шла. И подошла к тебе, Лена, как раз когда ты поднялась на ноги. И какое-то время вы были – лицом к лицу».
«Но я не видела! Я просто прочла молитвы, встала и воротилась к вам! Ничего больше не было! Роман, Наташа, если вы это всерьез, то я просто ничего не понимаю!»
Минут через сорок мы уже сидели в маленьком ночном кабачке, подвальном, как большая часть таких заведений в Ревеле, низком и сводчатом, празднично убранном еловыми ветками в алых лентах и соломенными венками. Сидели при уютном свете ламп, на грубых скамьях, за грубым столом. Пили немножко странный напиток, который там всегда подают: разогретое со специями (в особенности преобладали гвоздика и мускат) белое вино. И мне, кстати, этот странный напиток нравился. И все было весело и обыкновенно, разве что Роман иногда смотрел на меня каким-то странным взглядом: будто я еще продолжала двоиться.
Два дня за этим прокрутились калейдоскопом Рождественских праздников. Я проводила время и умно и весело. Я рассматривала семейные альбомы Дыдоровых, в которых оказалось большое количество фотографий СЗА, и в Ревеле между первым и вторым наступлениями, и на линии фронта, расспрашивала, кто изображен, делала записи. Я ходила вместе с Наташей по лавочкам, запасаясь подарками – и для домашних, и для друзей. Я купила себе эстонский народный наряд с полосатой юбкой, о котором давно уже мечтала. Я побывала на концерте средневековой музыки в ратуше. Но все это время я словно к чему-то прислушивалась, чего-то ждала.
И темным-темным сырым вечером я оказалась одна на маленькой улице Вэне. Мокрые и скользкие булыжники под ногами блестели, исколотое шпилями небо походило на непросохшую акварель. А свет в окошках казался таким уютным, словно в домах горели свечи, а не электричество.
Невысокие ворота. Статуя Богоматери – в нише над ними. В такие ворота я не могла не шагнуть, хотя внутри просматривался всего лишь двор.
Нет, о нет! Не слишком высокая стена фасада, ступени… Я до сих пор не могу понять, как меня угораздило посреди лютеранского и православного Ревеля попасть в католический храм.
Вечерня еще длилась. Ряды темных дубовых скамей были почти пусты. День был обычным, а в ту пору, как я уже упоминала, приход еще был невелик.
Внутри церковь оказалась неожиданно большой, а от ее готики отпало ненужное уточнение «псевдо». Ночь мерцала сквозь витражи. Свет казался торжественным и ликующим.
Белый мраморный алтарь – сжавший сердце золотой знак Господень между альфой и омегой23.
После службы я с какой-то странной смелостью постучалась в низенькую дверь ризницы.
«Вы не могли бы уделить мне немного времени, отец?»
Высокий светловолосый священник посмотрел на меня не чрезмерно приветливо. Он вообще любит подпустить холоду, этот отец Рейн.
«Чем могу помочь?»
«Видите ли… Мне кажется, что я – католичка. Больше того, мне кажется, что с этим уже ничего нельзя поделать».
«Вы ведь русская?» – Он еще не предлагал мне сесть и сам оставался стоять – в своей черной, черной сутане о тридцати трех пуговицах.
«Вы ведь эстонец?»
Мне показалось, что его светлые глаза улыбнулись, но выражение губ оставалось строго.
«И что вы предполагаете найти для себя в католичестве?»
«Гармонию».
«Вот как… – он сделал приглашающий жест. – В таком случае присаживайтесь. Поговорим».
Нет, разумеется, в те дни я еще не причастилась. Так быстро такие вещи не делаются. Понадобилась еще одна поездка. Но началось все именно тогда, в ту двулунную ночь.
Каким же летящим счастьем было для меня читать молитвы в те давние дни. Но почему же сейчас, когда мне так страшно, я совсем ничего не чувствую? Белые бусинки скользят между пальцами, губы шевелятся, слова слетают с них, не затрагивая души.
Это пройдет, вероятно, я просто не могу толком взять себя в руки. Но я не имею права быть слабой.
Я прочла молитвы по очередному кругу и вновь проскользнула в спальню.
Как странно! В детской, где горели яркие лампы, этого не было видно. Но в полутемной спальне вдруг сделалось заметным, что небо в окне потихоньку светлеет. Неужели она прошла, эта ночь?
– Нелли… – Показалось ли мне, в самом ли деле голос Наташи звучал чуть живее, хотя и был сонным.
– Я здесь.
– Доброе утро. Вы не могли бы принести мне чаю с лимоном? А еще… Еще я, пожалуй, съела бы кусочек гурьевской каши.
Глава XVIII Помощь приходит
– Вам ведь лучше, правда?
Кашу доставили из ресторана буквально за двадцать минут. Впрочем, и они показались мне долгими. Уж слишком я боялась, что у нее пропадет аппетит. По счастью, не пропал. Она действительно съела немножко, и с явным удовольствием.
– В некотором смысле да. – Наташа отложила десертную вилку. – Но на самом деле запомните, Нелли, что резкое улучшение – это не всегда к выздоровлению. Бывает и наоборот – особенно в сочетании с неожиданными прихотями. Ни в коем случае не хочу вас пугать… Но все же.
– А вы меня и не напугали. – Я в самом деле решила ни в коем случае не бояться, поэтому бодро заглянула ей в глаза. – Наташенька, ну уже ведь почти десять лет, как даже рак побежден едва ль не полностью, когда я была маленькой, люди диабетом болели, а теперь не болеют. И предрасположенность к астме мне вылечили еще в младенчестве. У меня могла бы быть астма, но ее же нету! Неужто мы не справимся с каким-то арахноидитом? Ведь вам было шестнадцать лет. Двадцать лет минуло. В медицинской науке что-то происходит ежегодно.
– До конца болезни никогда не будут побеждены. К сожалению. И всегда бывают «нетипичные случаи», как выражается доктор Лебедев.
– Давайте вы лучше съедите еще крошечку каши, и не будем об этом говорить. Это неправильно.
– Мне очень жаль, Нелли, но это правильно. Еще раз повторю – я не собираюсь незамедлительно умирать. Но один раз поговорить об этом надлежит. Мое завещание давно написано, там все подробно, но, кстати сказать, я обременю вас своим личным архивом. Впрочем, ведь секретов в нем нет.
– Я знаю. – Я сумела улыбнуться. Наташа как-то давным-давно оговорилась, что в жизни не оставляла ни единой записки личного характера. «По крайней мере такой, которая не оставляла бы свободы маневра, возможности свести к шутке». Наташу невозможно представить себе делящейся чувствами, сердечными воспоминаниями. У нее это полностью закрытая область. Если бы верить только ее словам, то она выходит решительно безразличной даже к ребенку и мужу.
– Что же до секретов… Помните, конечно помните, те эвенкийские сказки, что я привезла из тундры? Со временем проверьте, все ли их помнит Гунька. А больше никому их знать и не надо.
– Совсем никому? – я продолжала улыбаться, но это делалось все труднее.
– По обстоятельствам. Э, Нелли, так не годится. Даже если меня и не станет вдруг, я ведь все равно никуда от вас не денусь. Я буду знать обо всем, что происходит вокруг вас. Вы же знаете, какая я любопытная? Вы будете моими глазами.
– Если вы этого хотите, то буду. – Сердце чуть щемило, но я поддержала странную игру.
– Ну, моего хотения мало. Требуется еще и ваше согласие.
– А я согласна.
– Тогда вы можете дать мне сейчас руки. Обе.
Я осторожно вложила свои ладони в Наташины, лежащие поверх желтоватого блескучего льна пододеяльника.
Ее руки были совсем холодными, чуть влажными. Бессильными. Впрочем, на какое-то недолгое время в них появилась сила. Наташа чуть сжала мои пальцы в своих.
– Люблю, когда в ваших глазах скачут какие-то забавные существа. И что вы, собственно, делаете, дорогая кузина?
– Что я делаю? Пытаюсь установить, возможно ли волевым усилием вызвать отложенную мутацию в седьмой хромосоме. Жаль только, что результата мне не узнать. Зато рано или поздно это выясните вы.
– Едва ли мне удастся выяснить что-то подобное. Это мои родители биологи, а не я. Я ничегошеньки не помню о хромосомах.
– Ничего, разберетесь. И понадеемся, что не скоро. – Наташа выпустила мои ладони из своих, глубоко вздохнула. – А знаете, Нелли, эта авантюра с валиумом себя оправдывает. Я, пожалуй, опять смогу уснуть. Тем более, что я сейчас немножко утомилась.
Вскоре ее ресницы действительно опустились.
Я осторожно зашторила окно, ограждая ее сон от слишком яркого дня.
Часы показывали десять. Кое-как умывшись и приведя в порядок волосы, я спустилась к консьержке Розе. Ну да, предосторожности были правильны. Иначе б нам обзвонились в дверь. Меня ждали, помимо молока и булочек, два конверта самого официального вида, с орлами и короной. А улети я сейчас в Рим, лежать бы им неделю и больше, дожидаючись. А Ник и не знает, что я не в Риме. И, по счастью, не знает Роман.
Утро выдалось теплым. Двери парадного были настежь распахнуты. Я постояла немножко, глядя на играющих во внутреннем скверике детей. До начала занятий еще несколько дней, это только по западному стилю уже сентябрь пошел. Но в Москве бытует забавная традиция. Семьи, где дети уже учатся, обычно возвращаются за неделю до начала занятий. Как раз, когда этот полет в космос был, все и начали съезжаться. Считается, что дети вправе свободно повеселиться и с городскими друзьями, пока не завалены домашними заданиями. У нас тоже так было, и я обожала эти несколько свободных, «послелетних» дней.
Поэтому детворы было изрядно, а шума от нее – еще больше. Особенно от мальчишек, что гонялись друг за дружкой на ходулях. У одного, рыжего сорванца лет двенадцати, получалось просто мастерски.
Впрочем, я, кажется, как говорят гимназисты, выпадаю в осадок после бессонной ночи. Сколько минут я тут стою и смотрю на детей? А если я уже нужна?
Я торопливо запрыгнула в проплывающий лифт, не дождавшись даже, когда кабинка поравняется с полом. В Наташином доме лифт самый модный, то есть стилизованный под начало века: лента открытых кабинок, непрерывно плывущих вверх и вниз, сменяя свое направление на чердаке и в цоколе. В детстве мне нравилось кататься на нем до одури, ухватившись за изящные бронзовые перила. Гунька тоже любит.
Слава Богу, она по-прежнему спала. Спала и ровно дышала.
Помощь будет не раньше, чем часа через три. А я уже никуда не гожусь. Чай или кофе? Что-нибудь покрепче. Пожалуй, чай.
Я ополоснула чайник и выбрала в шкафу Наташин любимый чай, подкопченный. Этим надо было Спящую Царевну поить. Мигом бы пробудилась.
– Молитвами святых отец наших…
Голосок, негромко прозвеневший из прихожей, был высоким, но на удивление нежным. Я даже не забеспокоилась, выбегая из кухни навстречу, что он мог разбудить Наташу.
Совсем молодая, моих лет, одного со мною роста, она стояла в дверях, снимая свой ладный, и несомненно недешевый заплечный мешочек. Затем нагнулась, чтобы расшнуровать свои, тоже превосходные, спортивные ботинки, забавно сочетающиеся с подолом подрясника. Из бокового кармана мешочка явились матерчатые бареточки на мягкой кожаной подошве, совсем бесшумные.
– Постаралась пораньше к вам, – говорила она, переобуваясь. – Доктор Лебедев сам звонил в больницу, предупредил, что надо поторопиться. Вы ведь и есть Елена Петровна?
– Да, сердечное спасибо. Хорошо, что вы уже пришли. У меня все-таки нет всех нужных навыков.
– Я – сестра Елизавета. – Теперь она смотрела на меня. Апостольник, спадающий на плечи, не позволял видеть ее волос, но цвет их выдавала предательски выбившаяся на лоб светло-каштановая прядка. Стало быть, тёзка Гуньки, Бетси и Лёки Трубецкой. Впрочем, имя Елизавета очень любимое, входит в полудюжину самых популярных женских имен. В каждой шестой семье, где есть дитя девочка, мамы и бабушки напевают: «Мой Лизочек так уж мал, так уж мал! Что из листика сирени Сделал зонтик он для тени И гулял! И гулял!»
– Милости прошу, сестра. Наталия Всеволодовна уснула, мы можем выпить пока по чашке чаю. Или вы предпочли бы кофе? Не обессудьте, что подам на кухне, там можно разговаривать, из спальни не слышно.
– Спаси Господи. Я выпила бы чаю. А кухня – место уютное.
Пока сестра Елизавета мыла руки, я поставила второй прибор.
Войдя, она окинула быстрым взглядом нарисованных по стенам рыбок и кошек, и видимо, одобрила, поскольку улыбнулась. Улыбка показалась мне смутно знакомой.
– Немножко все по-походному, – извиняющимся тоном проговорила я, выставляя на стол булочки.
– Я люблю по-походному, – она улыбнулась. Кто б сомневался, она вне сомнения как рыба в воде в походах. В ее ловких и уверенных движениях, в ее вещевом мешочке – во всем ощущалось нечто несомненно скаутское. Ох!
– Сестра Елизавета, а я вас вспомнила! Мы встречались на детском празднике в столице, в 1972 году! Вы же – внучка графини Елизаветы Сабуровой!
– Ну, я-то вас сразу узнала, Леночка.
Господи, как же ласково прозвучало это «Леночка»! Мне отчего-то вдруг стало много легче на душе.
– Вот это странно. Вы же были – виновница торжества, именинница, как и ваша бабушка. А гостей было – человек сто детей.
– И среди них только вы не были в скаутской форме, Леночка. Вы одни. Кстати, а почему вам не захотелось поступить в разведчики?
– Сама не знаю. Мой отец полагает, что в нашей семье все страдают чрезмерным индивидуализмом. Вернее сказать – все мужчины и я. Единственная форма, которую я б на себя надела, родись в те времена пусть даже и женщиной, это форма с шевроном СЗА.
– Это мы с сестрами уже поняли по вашей книге.
– Как? В монастырях читают мои книги? – изумилась я неподдельно.
– В нашем – читают.
– Если вы сейчас исполняете послушание в Голицинской больнице, то ведь ваш монастырь – одна из московских обителей?
– О, нет, все немного сложнее. Если можно, я попросила бы еще чашечку. А я пока схожу проверю, благополучна ли Наталия Всеволодовна.
Как странно, вдруг увидеть лицо из собственного детства! На самом деле мы, можно предположить, встречались и не один раз. Несомненно и на Рождественских ёлках в Зимнем дворце и в Кремле… Но там уж совсем трудно друг дружку приметить. А тот утренний праздник у графини Сабуровой – запомнился. И спектакль про храброго стрельца Елисея, и завтрак с домиками из имбирных пряников, с фонтанчиками горячего шоколада и с игрушками из шоколада разноцветного… И все веселое внимание в шумных играх было приковано к Лизе – самой бойкой, с двумя короткими толстыми косичками, что скакали и прыгали – словно сами по себе…
– Она принимала седативное? – сестра Елизавета уже стояла в дверях.
– Да. – Я потупилась. – Довольно большую дозу валиума. С ней трудно спорить. Впрочем, вы еще увидите сами. Ваш чай.
– Благодарю. С трудностью споров мы разберемся. Так вот, о монастыре. Я подвизаюсь не в Москве. В русском монастыре, что волею судеб в нашем веке оказался в Польше. Вы, впрочем, слышали что-нибудь о Леснинской обители?
– О, еще бы!
Кто же не слышал о Лесне, монастыре, основанном лет сто назад светской красавицей и блестящей интеллектуалкой – графиней Евфимовской? Стоявший на самой границе с Австро-Венгрией, монастырь был эвакуирован в 1914 году с самого театра военных действий. Несколько горьких лет скитаний в годы Гражданской войны, а затем невольно вставший перед сестричеством сложный вопрос. Согласно воле убиенного святого Государя, Россия не претендовала на независимость Польши – ни при Колчаке, ни после. Лесна, стоя на месте, оказалась за границей. Что же было делать? Возрождать монастырь заново – в России? Но сестры так хотели воротиться в родные стены.
Что же – ссориться с Российской империей Польше едва ли было с руки. Судьба монастыря решилась в самых высоких эмпиреях. Множество православных паломников посещает монастырь ежегодно, стремясь поклониться чудотворной нерукотворной иконе Божией Матери, кстати, почитаемой и католиками. При монастыре есть и закрытая школа для девочек младшего возраста, куда многие рады посылать детей.
– У нас немало очень немощных старых монахинь, – пояснила сестра Елизавета, отламывая пальцами с по-медицински коротко подстриженными ногтями кусочки сдобы. – Некоторые прикованы к постели. Понимаете, монастырь это семья. Нам бы и польские власти предоставили сиделок, если б мы попросили, а уж из России бы прислали само собой. Но за монахинями должны ходить свои. Вот Матушка и решила, чтобы побольше сестер обучились медицине. Так мы можем друг дружку подменять. Ну и просто – не мешает монахине иметь такие навыки. В этом году и до меня черед дошел. Так что я еще полгода в Москве пробуду. Вот сейчас съездила как бы на каникулы в обитель – и снова в Москву.
– Сестра Елизавета… – запоздало удивилась я. – Но мы же с вами ровесницы, я определенно не ошибаюсь. Но вы ведь не послушница, вы инокиня? Как давно вы в монастыре?
– Четыре года. – Сестра Елизавета тихонько рассмеялась.
– По действующему законодательству записывать в монастырь могут только с двадцати пяти лет. Считается, что более ранний выбор может оказаться не вполне продуман. Как же тогда?
– Наш Государь – глава законодательной власти, но он же стоит и над законом, – лукаво улыбнулась сестра Елизавета. – Это и называется русским парадоксом. Проще сказать – хорошо иметь связи. Для меня было сделано исключение. Ну, такое же, как для вашей святой Терезы Младенца Иисуса. Она тоже, помнится, не пренебрегла возможностью просить о себе напрямую.
– Как? – Теперь засмеялась уже я. – Вам там, в далеком монастыре, и это известно? Польщена. Ну и несколько смущена, пожалуй.
– Мы же любим ваши стихи, а теперь вот еще и книга. Всей обителью по очереди читали, к нам попал лишь один экземпляр. Конечно, Леночка, мы и про Ваше вероисповедание знаем. Мы впрямь высоко сидим и далеко глядим. Так что, на богомолье, конечно, пригласить вас не можем, а вот просто в гости – будем рады. Сдается, вам, как историку, будет небезынтересно посидеть в нашей библиотеке.
– Благодарю, сестра Елизавета. – Я невольно вздохнула, подумав, что сейчас мне никак не до приятных поездок. – Так вы, стало быть, только из Польши? Все ли нашли у себя в обители благополучным?
– О, не то слово, – довольно ответила инокиня. – Такие идут замечательные перемены, что так-то не хотелось уезжать. Готовимся понемногу праздновать столетие монастыря. Его Величество несколько времени тому перевел баснословное пожертвование, из своих алтайских денег.
Да, алтайские деньги у Ника уходят в мановение ока.
– Так мы первым делом поставили в канцелярии ординатор «Валдай», подключились через него к системе электронной почты. Очень удобно теперь будет.
– Моему отцу в пример приведу, от монахинь отстает.
– От нас многие отстают, – слегка обиделась сестра Елизавета. – Но не только «Валдай»… Мы и пруд очистили, и крышу перекрыли, спаси Господи Государя. Сестра Наталья наша, опять же, хотела новый маленький трактор. Она у нас – записная трактористка. И такая лихая…
Я представила себе веселую улыбающуюся инокиню, управляющуюся с трактором. Картинка получилась какая-то очень уютная.
– А теперь вот что, Леночка, – продолжила сестра Елизавета. – Это совершенно понятно, что ночь вы не спали. Хуже, что вы еще и провели ее в уличной одежде, разумеется, вы сейчас совершенно разбиты. Я полагаю, вам сегодня принесут, во что переодеться?
– Да, я распорядилась.
– Ну а покуда – думаю, что уж гостевой халат найдется в любом случае. Немедленно ступайте принимать ванну – и спать! Категорически спать. Да оставьте вы эти чашки, мы с ними как-нибудь поймем друг друга. Спать – или я покажу вам в зеркале, на что вы сейчас похожи.
Я рассмеялась. Появление сестры Елизаветы словно прогнало прочь из дому злые тени.
Глава XIX Даты катастрофы
Воду я пустила погорячее, лишь бы только совсем не обжечься, и щедро бухнула в ванну ароматических солей и эфирных масел. Чаемый результат был достигнут даже быстрее, чем я предполагала: я чуть не уснула в фарфоровом корыте, словно какая-нибудь русалка. Из последних сил, засыпая, я кое-как расчесала волосы, памятуя о том, в какой войлок они иначе превратятся. И, в халате, с полотенцем вокруг головы, рухнула на узенькую и нарядную детскую кровать.
Мне снилось что-то хорошее, кажется, Конюшни. Орловский манеж в Нескучном саду, недалеко от Александринского летнего дворца, где мы и катались в детстве. Все ж таки не зряшно еще с самого начала прошлого века москвичи считали его лучшим местом для обучения верховой езде. Гонять по кругу – дело необходимое, что на открытом воздухе, что под крышей, но как весело было иной раз получить разрешение на самостоятельную прогулку по извилистым его тропам! Берег, неровный рельеф, то-то хорошо…
А особенно хорошо было галопом подлететь ко дворцу, спешиться, бросить заботливым взрослым рукам поводья, взбежать по ступеням, хохоча и требуя молока и горячих пышек – компанией эдак человек в десять… Ник-то был, как-никак, у себя дома, не меньше, чем в Кремле. Ему до Конюшен было – десять минут пешком. Впрочем, и мне недалеко – от улицы-то Николая Вавилова.
Какими тенями был населен для нас этот дворец! Может статься, потому он и снился теперь мне, упавшей в глубокий, восстанавливающий силы сон, что сестра Елизавета невольно вызвала в моем воображении занимавший его в детские годы образ – графиню Анну Алексеевну Орлову, первую обитательницу этих великолепных чертогов. Наездница, красавица, первая невеста Москвы… Что побудило ее отказаться от замужества? Не тогда ли она, отдавшая треть состояния на вооружение Московского ополчения, поняла тщету земного бытия, когда французы все же вошли в Белокаменную, когда в ее покои нагло вселился генерал Лоринстон?
«Вот здесь где-нибудь он и сидел, ждал, что Александр Павлович согласится на мировую с Бонапартом, – сквозь зубы цедил Ник, когда мы, бывало, бродили по парадной аллее. – То-то струсил, когда не дождался! Прегадкий тип, даже для бонапартовских прегадкий, переметная сума».
«Зато здесь же праздновали коронацию твоего предка и тёзки, – напоминала я. – А потом он купил у Орловой этот Майский дом».
Ах, кто же в России был лучшим лошадником, чем Орловы?
Как же любили мы с толком выстроенные Конюшни! Эти ослепительные хрустальные люстры, эти залы в два света с их гризайлевскими орнаментами, этот золоченый карниз… Я отчего-то любила кататься зимой в остекленном пространстве, когда снаружи наметены сугробы. Что-то было в этом призрачно красивое, когда стекла дробили скуповатый зимний свет, словно бросая иней на блестящие конские крупы.
Ников Невермор был тракен, вороной, с рогатым клеймом на левом бедре. Не могу сказать, чтоб тракены мне не нравились, нравились, конечно. Но, оказываясь в седле тракена, я ощущала себя в двенадцать лет скорей альпинисткой, чем наездницей. Альпинисткой, только что удачно покорившей вершину. Нет уж, это Нику с его ростом в самый раз…
Проклятье, Ник, ты когда-нибудь перестанешь жить в моей голове, словно в Александрийском дворце, Кремле, Ливадии, Царском селе и Зимнем разом?!
Ник снился мне, со мною вместе весело кормивший в Нескучном белок, в белых лосинах и шлеме, спешившись со своего Невермора. Первое, что завертелось в моей голове прежде, чем я, пробуждаясь, поняла где я, были обрывки фраз, случайно удержавшиеся в памяти с нашей последней встречи, с пикника (парадный прием не в счет, там мы и словом не перемолвились).
Какие-то ничего не значащие обрывки, в самом деле ничего. Вот Ник, попивая массандровское вино, стоит чуть в стороне от всех, с Кеннеди. «Работа с сознанием народных масс – дело кропотливое и изрядное, – с улыбкой говорит рыжий Джон, вытирая салфеткой пальцы. – Так что, если кто скажет, что Кеннеди – миллиардеры, не верьте, Ваше Величество. Уже не очень. Мультимиллионеры от силы». «А, пустое, – смеется Ник. – Я даже и не знаю, найдется ли у меня собственный миллион. И ничего, живу себе».
Что их, интересно, так развеселило? Дурацкий же разговор, да и вообще говорить о деньгах не слишком прилично. Ох, пора пробуждаться окончательно. Сколько ж я спала? Что Наташа?
Я резко села на кровати. Утро, определенно утро, восточное солнце. Я что, бросила Наташу на сутки?!
Один из моих трех дорожных чемоданов, самый маленький, не тот, что я намеревалась брать в Рим, стоял у двери. Но я не стала даже искать в нем домашних туфель – вышла из комнаты босиком.
Из полуоткрытой двери в спальню доносились негромкие голоса.
Сестра Елизавета сидела у Наташиной кровати. Я невольно улыбнулась. Они в самом деле беседовали – с таким видом, будто знали друг друга сто лет! Меж тем я нарочно вообразить бы не сумела двух натур, столь менее сходных: православная инокиня, поспешившая уйти от света раньше положенных лет, и агностик во всем блеске предельного индивидуализма. Они смотрели друг на друга с нескрываемой симпатией. А уж о чем они говорили – это и вовсе не лезло ни в какие ворота!
– Мне, конечно, сложно принять ваше предположение… – это вела речь сестра Елизавета. – И все же. Знаете, Наталия Всеволодовна, мне и самой иной раз чудятся странные вещи. Мне очень легко давался английский язык. Когда я была маленькой, мне иной раз казалось, будто я родилась в Нью-Йорке. То-то удивлялись родители! Игра, вне сомнения, всего лишь детская игра… Но вместе с тем и странное ощущение узнавания. Мне снился иногда Центральный вокзал – с его языческой роскошью, эти гигантские скульптуры и своды немыслимых потолков. Но мне не снилось, что я американка. Нет, никогда. Я всегда знала, что я русская. И никогда не могла понять в своих снах – отчего же я не в России? Впрочем, я склонюсь, скорее, к иному: наша Елена видит то, что могло бы случиться, если б человечество вовремя не вспомнило о страхе Божием. Могло бы случиться, но, слава Господу, не случилось… Но в том я соглашусь с вами, что это не выдумки. Какой-то особый дар прозрения. Очень яркий.
– Писатели и поэты – сами по себе существа яркие. Иной раз бы и чересчур.
Ну, Наташа, ну предательница!
Я невольно выдала свое присутствие, тихонько рассмеявшись. Впрочем, то был и смех облегчения. Наташа была, конечно, все еще бледна, но голос ее звучал уже не так слабо.
– Нелли? Только что проснулись? – Наташины губы чуть дрогнули в улыбке. – Теперь не тревожьтесь. Мне немного легче. Но главное, я определенно знаю, что на сей раз я не умру. Обошлось.
– Может статься, что и обошлось, но режим – постельный категорически, – строго заметила сестра Елизавета. – Не меньше трех недель. Вам ведь сейчас после новокаина легче, Наталия Всеволодовна. Подниматься на ноги вам еще не скоро.
– Сестра Елизавета, сколько же я спала? – спросила я не без ужаса.
– Да почти сутки, Леночка, – улыбнулась инокиня. – И замечательно. Наталия Всеволодовна тоже сумела поспать еще. Так что пусть теперь все у нас пойдет потихоньку налаживаться.
– Подождите, но вы-то, сестра, все это время без отдыха? Отчего ж вы меня не разбудили? Я бы сменила вас на несколько часов!
– Вы мне еще потребуетесь. А я не устала, бывает, когда уход за болящим куда как тяжелей.
Мой взгляд случайно задержался на темно-синем китайском колокольчике, стоявшем на столике около кровати. Не припомню такого в доме.
– Это мне Матушка дала, – улыбнулась сестра Елизавета. – Беда в том, что их у нее – многие десятки, колокольчиков этих, самых разных. И фарфоровые, и серебряные, и стеклянные, даже несколько золотых найдется. В знак окончания обеда принято, чтоб Матушка позвонила в колокольчик. Вот паломники и дарят каждые именины, и дарят, и дарят. Уж их больше у Матушки, чем дней в году, хоть каждый раз меняй, все лишние останутся. Она мне и говорит, возьми для больных, это нашим дарителям не в обиду. Больше нет необходимости стеснять Наталию Всеволодовну постоянным при ней сиденьем. Но вот ходить по квартире одной – запрет еще категорический. Так что мы с вами, Леночка, сейчас будем нужны только на звонки бегать – как заправские горничные.
– В таком случае одна из горничных пойдет умыться и налить себе чаю. А потом я вернусь, мне тоже есть, что добавить к вашему небезынтересному разговору.
– А возвращайтесь.
Я, конечно, не только умылась, но и привела себя в порядок, разобрала свой чемоданчик, с удовольствием оделась в свежее, а затем проскользнула на кухню.
Там царил идеальный порядок, а на газовой плите обнаружился понятный, но такой непривычный предмет – металлическая коробочка для кипячения иголок.
Что ж – надо будет, я и сама могу продолжить курс. Я невольно вздрогнула, вспомнив, как трудно было переломить себя, впервые введя иглу в живое тело. Мама говорит, что самые обычные вещи трудно даются мне из-за чрезмерно развитого воображения. Во мне сидел глупейший страх, что эта стальная штука каким-то образом сломается, половина ее останется в тканях, поползет по ним, убьет. Первый укол на занятиях я сделала себе, подкожный, в руку. Разве что не зажмурившись при этом. А что поделать, без самых простых медицинских умений не получить аттестата об окончании гимназии. Подкожные и внутримышечные инъекции (не внутривенные, конечно, их вправе делать самое меньшее сестра милосердия), искусственное дыхание, первая фиксация переломов… Конечно, это не дает права дежурить при больных, но вещи всяко нужные.
На кухонном столе обнаружились две книги. Странно, когда же я выложила сюда томик Вовенарга? «Employer toute l’activité de son âme dans une carrière sans bornes»… Всю душу свою напрячь – во всей жизни своей. А ведь было время, когда французы лучше знали Ларошфуко, чем спорившего с ним Вовенарга… Но сильно подозреваю, что философ сделался популярен и в силу обстоятельств, связанных с его потомком. Или не прямым потомком? Добрая наследственность в любом случае.
Я закрыла белый томик. Вторая книга, попавшая на стол, принадлежала, вне сомнения, сестре Елизавете. «Свято-Богородицкий Леснинский монастырь в очерках и фотографиях». На первой обложке было знакомое изображение темной иконы-камеи. На последней – небольшой фотографический портрет довольно еще молодой, красивой женщины в черном клобуке. «Монашеский аскетизм вовсе не есть узаконенное медленное самоубийство, как думают многие; напротив, это школа, в которой растет и крепнет дух и созидается непреклонная воля. Кто победил себя, тому ничего не страшно». Игумения Екатерина (Евфимовская), основательница Леснинского монастыря».
Вот и поговорили французский виконт с русской графиней… И ведь договорились же. Как Наташа с сестрою Елизаветой. Как причудливо падают иногда карты жизни, сказала бы Наташа.
– Это недавнее издание нашей скоропечатни. – Сестра Елизавета появилась в дверях бесшумно. – Будет возможным оставить ненадолго Наталию Всеволодовну, хочу занести эту книгу одной даме, что тут, в соседнем доме живет. Заодно и повидаться. Всегда была наша паломница, а теперь вот, увы, здоровье не позволяет странствий.
Меж тем я уже заварила себе чаю в простом стеклянном чайничке-эгоисте. Прихватив горстку миндальных печений, на удивление свежих на вид, вне сомнения пожаловавших в дом во время моего сна, я водрузила все это на подносик вместе со сливочником и чашкой.
– Сестра Елизавета?
– Да, Леночка?
– А ей не вредно разговаривать? Когда было совсем плохо, ночью, я терялась, как лучше: поддерживать разговор или нет.
– Доверяйтесь ей самой. Она контролирует себя – почти в любом состоянии. Когда устает – прерывает разговор.
На этом мы и воротились в спальню.
– Ну и как вы тут, злая Наташа? – Я пристроилась со своей добычей на кушетке. – Вот так засни в вашем доме – проснешься с перемытыми косточками.
– Так ведь ваши косточки, вредная Нелли, редко представляется возможность перемыть, – отозвалась из подушек Наташа. – Не с почтенною же соседкой Ираидой Павловной, хоть и сплетница она преизрядная, обсуждать ваши странствия между мирами? Боюсь, тогда Ираида Павловна бросится со всех ног сплетничать уже обо мне – в конец-де Наталия Всеволодовна умом повредилась. А вот с сестрой Елизаветой – вполне можно и поболтать.
– Ну, что тут скажешь? – Я рассмеялась и с удовольствием сделала глоток крепкого чаю. Кошмар отступал, черные тени развеивались. Господи, благодарю Тебя! – В таком случае, может быть, вам будет интересно, справилась ли я с заданием, что вы мне давали перед Яблоневым Спасом?
– У вас что-то получилось, Нелли? – Наташа сделалась серьезна.
– Боюсь, что да. Тут критики меня повадились в «упадничестве» виноватить…
– Я помню, читала.
Ах, читали, дорогая кузина! Я с трудом сдержала ликующую улыбку. С Наташей трудно – не балует она знаками внимания. Я вроде бы и знаю, что она читает все, обо мне высказанное, еще с тех времен, как я начала публиковать стихи. Однажды я даже случайно обнаружила у нее специальную папку с вырезками рецензий, с по-немецки аккуратно помеченными от руки датами. Но Наташа такова, что с нею сомневаешься во всем – начинаешь думать, что заметки сохранены из того, что ей понравился газетный шрифт. Право слово.
– А вы помните, в чем именно мое «упадничество»?
– Вам ставили в упрек, что вы не радуетесь освобождению Петрограда.
Как же все-таки хорошо… Наташе лучше, вне сомнения лучше. Сестра Елизавета, тонко улыбаясь чему-то, раскрыла свою рукодельную корзиночку (когда-то оная здесь очутилась?). Из корзиночки явились недовязанные четки – из черной шерсти, с бисерными вкраплениями. Бывают в жизни события и пострашней странствия в злые миры, и одно из них только что коснулось меня, как пролетевший мимо снаряд. Наташа будет жить. Я это ощущаю всем своим существом сейчас, как всеми же фибрами души совсем недавно в этом сомневалась. Чтоб она ни говорила, а медицина сейчас такая замечательная, и все остальное можно поправить. Сейчас главное, чтоб она в самом деле вылежала, не вскочила раньше времени.
– Вот он и есть, искомый «расщеп». Освобождение Петрограда.
– Петроград не освободили? – сестра Елизавета подняла голову от вязанья.
– Нет. И это переломило ход войны. Ведь все фронты связаны меж собою. Освобождение Петрограда – это было не только стратегически важнейшим шагом, это вызвало невероятный душевный подъем. Третье дыхание – там, где уже не было сил дышать. Я почти уверена, что освобождение Петрограда сыграло немалую роль в том, что Адмирал закрепился в Сибири и на Урале. Да, средняя полоса продержалась в руках большевиков до 1921-года, да, в ноябре 1919-го до освобождения Москвы было еще куда как далеко…
– Но подождите, Нелли… Я ведь хорошо помню расклад сил – вы мне им все уши прожужжали, пока работали… Могло бы это быть так важно? Не взяли Петроград со второй попытки – взяли бы с третьей… Северо-Западная армия была ближе всего к надежнейшим тылам.
– Северо-Западную армию убили ножом в спину.
Вот я, наконец, и сумела произнести эти слова.
– Англичане? – быстро переспросила Наташа.
– Без них, вероятно, тоже не обошлось. Без них никогда не обходится, даже сейчас24. Но Северо-Западную армию убили эстонцы. Мои любимые эстонцы. Они сговорились с большевиками за спиной у своих защитников. Те дали им золота, обещали отрезать земли, чуть не по Изборск. И у нас не стало тыла. Отступление было отступлением в никуда. В смерть, в зиму, в голод. Я вижу, как отступавших зажали с двух сторон на границе. Фабричные здания, перестроенные в бараки, тиф, смерти женщин и детей, братские могилы… Ведь наша армия – она могла отступать только с мирным населением вместе, иначе… Известно иначе, какая судьба ждала заложников. Но это затрудняло передвижение войск. Весь этот ужас, весь этот ад был меж Иван-городом и Нарвой. Я вижу гибель Талабского полка, в реке, в Нарове, когда с одного берега били пулеметы красных, а с другого – эстонские пулеметы.
– Но генерал Лайдонер? – тихо спросила сестра Елизавета. – Генерал Лайдонер, русский офицер?
– Да, Иван Яковлевич прожил жизнь в большом почете. Ветеран Белой борьбы25. Но в Лайдонере всегда была подлость, несовместимая с честью русского офицера. Помню это лицо! Даже старость не облагородила… Лицо человека, для которого честь – категория вне мышления, лицо плебея… Георгиевское оружие, Владимир, три Анны, два Станислава… И ни тени чести в лице! Не стоило давать ему звания ветерана, надо было вместо этого назначить комиссию по расследованию его дел в начале 1919-го… Ох, надо было. Я легко верю, что Лайдонер мог перекинуться из Ивана в Йохана. Мог стакнуться с большевиками. В нашей жизни ему просто не выпало возможности предать с размахом Иуды. А там, там, я думаю, выпало. И он этим воспользовался. Я знаю, что зима 1919-го – 1920 года была адом для СЗА. И мало кто вышел из этого ада живым.
– Ничего этого не случилось. – Сестра Елизавета успокаивающе коснулась моего плеча. – Не было ада, не было тифа, несколько ветеранов Талабского полка живы и по сю пору, чтимы народом и обласканы Государем.
– Для Нелли – случилось, сестра Елизавета, – мягко возразила Наташа. – Там, где-то бесконечно далеко от нас, она истерзана этой болью. Итак, Нелли, теперь я начинаю понимать. Вы хотите сказать, что в том мире победили красные?
Сестра Елизавета осенила себя крестным знамением.
– Да. Ваш вокзал Нью-Йорка, сестра Елизавета… Там нет красной эмиграции, там эмиграция – белая.
– Белая эмиграция? – словно пробуя странный термин на вкус, медленно повторила Наташа. – Как невыносимо странно звучит.
– Изгнание – еще не самое горе. Много страшнее было остаться на родине. Что-то произошло с моим дедом, и даже, мне кажется, я знаю, что. Но не могу сейчас говорить об этом…
– Всегда лучше знать, чем не знать, Нелли. – Руки Наташи бессильно лежали на пододеяльнике, но ее голос, казалось, коснулся меня так же мягко, как перед этим – ладонь сестры Елизаветы. – А можно попросить вас прочесть то стихотворение? Мне хотелось бы, чтобы послушала сестра Елизавета. Оно ведь еще не опубликовано?
– Конечно. Сейчас, сосредоточусь только… Новое стихотворение. Еще не полностью пропечаталось в памяти.
Я немного помолчала.
– Февраль. Финляндия. Молочный окоём Туманно слитый с серыми снегами. …Мы рядом молча ехали вдвоем, Почти соприкасаясь стременами. Был на душе прозрачнейший покой. Молчанье было призрачным и строгим. …Текли колонны бурою рекой По дочерна растоптанной дороге. Все накануне сказано уже. К разлуке – от случайного ночлега Недолог путь. Созвучные душе, О, кроны черных сосен! Серость снега! Мне так небольно это вспоминать, Вернув тебя в февральские туманы… Не хочешь ли – ладонью приласкать Родной металл прохладного нагана? О, поверни холодное лицо! Снег в башлыке, откинутом на плечи… Сквозь зубы брось французское словцо, Стегнув коня… Прощай! До новой встречи! До встречи через семь десятков лет, До юности трагической и новой, Когда мы вспомним утра хмурый свет, И все, что было сказано – до слова. О, за спиной оставленный ночлег! Случайный кров. Кочевье вековое. Молочный тот февраль. Финляндский снег. Навстречу смерти. Вместе. Рядом. Двое.– Да, это, конечно, все та же тема, что и в «Хранителе анка», – не сразу отозвалась сестра Елизавета. – И этому безусловно веришь.
– Так что критики не зряшно меня винят в пессимизме? – криво усмехнулась я.
– Критики глупы. – Наташа свела брови. – Им бы, я подразумеваю некоторых из них, кто счел «Хранителя» слишком мрачным, оценить то, как верно вы схватили момент у «бездны мрачной на краю».
– Но упоения на краю мрачной бездны нету, – тихо сказала я. – Только беспредельный ужас и беспредельное отчаянье.
– Вот что, довольно тяжелых разговоров. – Сестра Елизавета немножко нахмурилась. – Леночка слегка позавтракала, а нам, Наталия Всеволодовна, пора бы и отобедать. – Сделайте себе труд немного покапризничать. Ну, чего бы вам хотелось? Каких-нибудь японских тарталеток в водорослях? Аргентинской говядины? Березового сока? Ну же, Наталия Всеволодовна, а то я приду к печальному выводу, что вы вовсе не умеете привередничать.
– Как бы мне не упасть в ваших глазах… Вдруг и вправду не умею? Ну, разве что… Таких, знаете, румяных картофельных котлеток под соусом из белых грибов.
– Будут вам картофельные котлетки. Отдохните немножко, а мы этим займемся.
Пока сестра Елизавета обзванивала рестораны, я провела строгую ревизию холодильного шкафа и буфета. Кроме миндального печенья, хлеба и молока на кухне ничего не прибавилось. Надо будет всерьез пройтись по лавкам.
– Ну вот, котлетки уже бегут к нам. – Сестра Елизавета окинула меня внимательным взглядом. – Вы не обиделись, что я вас прервала? Вы говорили об очень важных вещах, вне сомнения. И говорить вам было нелегко. Но она начала уставать. А сама б она вас прерывать не захотела.
– Ну что вы, сестра Елизавета! Надо будет – расскажу заново. Благодарю, что вы раньше меня заметили усталость.
– Вы слишком растревожились, внимание ослабло.
– О, а вот это не дело.
– Ничего, вы хорошо справляетесь. Поверьте, в самом деле хорошо.
– Дай-то Бог. Неловко себя ощущаю, дорогая сестра, что в довесок к болезни моей кузины еще и я на вашу голову. То я католичка, то я по другим мирам брожу, возвращаясь из оных с неврозами. Как-то оно чересчур, сама ощущаю.
Сестра Елизавета негромко рассмеялась. В дом она явилась с колокольчиком, но колокольчик напоминал и серебристый ее смех.
– С Вами все было ясно еще в детстве, Леночка. Единственный ребенок среди сотни, что не в скаутской форме. Вам суждено было бегать какими-то очень своими тропками, что вы и делаете. Уж придется любить вас так, как оно и есть.
Глава XX Продолжение верноподданных трудов
Пространство моей жизни сжалось до семи комнат квартиры Альбрехтов-Черновых. Время тоже потекло как-то странно, не то, чтоб вовсе остановилось, но…
После обеда мне все-таки удалось сменить сестру Елизавету, отправив ее поспать. Обещала и Наташа попытаться отдохнуть, если не заснуть, то просто полежать с закрытыми глазами в тишине.
Поэтому я устроилась – поближе к ее комнате – с поручениями из Кремля. Что же на сей раз интересовало Ника? Как хотелось бы мне понять, вокруг чего кружит его мысль, мысль, которую я иногда почти угадываю, но в следующее мгновение теряю? Между тем он прав, что мне как раз этого и не объясняет. В противном случае мои глаза были бы предвзяты, я могла невольно подгонять подбор фактов под занимающую его ум задачу.
Итак, что оно на сей раз, в конверте с орлами?
«Какова была общественная реакция вокруг отставки Правителя?»
Что ж, можно и рассказать. Только сначала, пробравшись в большой кабинет, включу панель в режиме титров.
Нет, ничего интересного. То есть для полиции, допускаю, интерес весьма велик, ибо сообщают о каком-то убийстве. Убийства в Москве – явление не слишком частое, хотя и чрезмерного удивления вызывать не могут: все-таки большой город. А тут какого-то, как сообщают в новостном выпуске, «представителя богемы», нашли на собственной квартире привязанным к калориферу и с ножевыми ранениями. Скорей всего, страсти роковые. В богемной среде, кстати сказать, криминальный фон очень ярок. Оно и понятно, возбуждающие вещества, алкогольные злоупотребления, да и в целом характерная для подобной публики неврастения, безответственность, распущенность нравов…
Камера лениво пробежала по квартире, где произошло преступление. Да, жилье самое богемное что ни на есть. Обои такие грязные, что видно даже на картинке. По стенам – монгольские ритуальные маски. Впрочем, монголы подобные маски делают не для ритуалов, а на потребу туристов, мне ли не знать, чай, папа пустыню Гоби вскопал так, что впору бы огороды устраивать. Так он точно такие же маски привозил как сувениры для прислуги. Тамтам африканский, полагаю, того же сорта, зачем-то нелепое и зловещее черное знамя с кругом из желтых стрелок – чье бы оно? А уж бутылок-то пустых на полу… Бумаги какие-то разбросаны…
Не полюбопытствовав даже именем пострадальца, я выключила панель и вернулась к своим трудам.
До сих пор не могу понять, для чего Правителю это было нужным? Сложив с себя полномочия, он потребовал публичного судебного разбирательства. Над собою самим, за весь период диктатуры.
«Мы возвращаемся в царство Закона. Закон ни для кого не делает исключений. Если я, вымащивая к нему дорогу, унизил себя до несправедливостей, я должен ответить за каждую. Пусть белых одежд возвращенной монархии не запятнают мои ошибки».
Да, он хотел отделить свои публичные казни, свою необходимейшую жесткость от милосердия власти новой, ибо новая власть уже могла себе это милосердие позволить – без риска утопить страну в хаосе и крови. Разделить диктатуру и монархию, чтобы никто не посмел провести преемства.
Но все-таки – судебный процесс? Не чересчур ли?
Что самое непостижимое – общественность либеральная этого процесса прямо-таки требовала, настаивала, даже пыталась грозить… Та самая либеральная публика, что только что перестала дрожать и буквально рыдала от восторга, когда вместо диктатуры ей подарили столь ненавидимую когда-то монархию. Они ж на улицы выбегали с портретами нового Государя – те самые журналисты, что писали пятнадцатью годами раньше пасквили на его предшественника. Забыли о своих былых красных бантах – все повязались романовскими лентами. А спустя считанные недели – они уже жаждали от монархии расправы над тем, кто монархию установил…
Это надо видеть своими глазами: заголовки тогдашних газет, благо как раз и вышла отмена военной цензуры!
Кое-чего я никогда в жизни не пойму. И слава Богу.
Между тем время было презанятное. Начала налаживаться жизнь, был введен серебряный стандарт вместо золотого, что сильно и стремительно укрепило рубль26. Были разрешены политические объединения, впервые за почти что десятилетие. Собственно те объединения, что установились тогда, существуют и сегодня, почти без изменений27.
Сколько же было поломано копий! Ведь многие жаждали «отмотать историю назад», не допустить новой Думы! Но твердость в этом вопросе как уходящего Правителя, так восходящего Императора, была одинакова: установления Государя-мученика не подлежат отмене. И Пятая Дума была созвана28.
И в разгар всех этих увлекательных установлений Правитель, уходя с исторической арены, вдруг требует создания судебной комиссии по собственной деятельности!
Государь, впрочем, первым своим жестом также продемонстрировал силу политической воли. Устраивать разбирательство он отказался, вместо же этого пожаловал Александра Васильевича титулом Светлейшего князя и агноменом.
«Милюлюки» притихли, побоявшись, что для них произошла смена шила на мыло. Люди того поколения со смехом вспоминают, что из только что основанной «Партии свободы» вдруг пошел отток членов. Пошла гулять страшная сказка, что политические движения разрешены единственно для того, чтоб «тут-то всех и прихватить».
Года через два, когда сделалось ясным, что никто не намерен возвращать диктатуры, ПС вновь потучнела. Не чрезмерно, конечно.
А все ж многим нормальным людям было немножко страшно после снятия Правителем своих полномочий. Я могу это понять. Никогда не ломала костей (для лошадницы редкое везенье), но часто слышала от приятелей, что, когда, наконец, о чем так мечталось, снят гипс, вместо радости приходит чувство на редкость неприятное. Освобожденная рука кажется такой беззащитной, такой уязвимой… Хочется обратно в твердую повязку.
Пережившим годы революционного ужаса диктатура и была таким гипсом – ограничивающим свободу, но лечащим потихоньку кость. А главное – таким надежным… Слишком жива была еще память о перебитой руке.
Ладно, не о гипсе же Нику писать? Хотя… Отчего бы и нет, ему ведь это тоже весьма понятно. Тем больше, что он разок свой перелом получил.
Отложив бумаги, я потихоньку прокралась к Наташе. Длинные ее ресницы лежали на щеках.
– Не летайте по воздуху, я не сплю.
– Хотя бы пытаетесь отдохнуть?
– Насколько это получается – да. – Наташа наконец подняла веки. – Кто-нибудь телефонировал?
– Был звонок из редакции. Справлялись о вашем самочувствии, заверяли, что книга благополучно отправилась в типографию. Еще юный Энгельгардт, выгуливая давеча Пирата, приметил, что от вас выходил Лебедев. Спрашивал, не нужна ли какая помощь.
– Егор? Чудесный мальчик.
– Гмм…
– Что так, Нелли?
– Общение с этим младнем заставляет меня остро задуматься о собственной профессиональной неполноценности. Он в свои четырнадцать лет куда больше историк, чем я в мои двадцать три. А ведь заметьте, он даже еще не поступил на факультет, который я вроде как закончила.
– Ну, не печальтесь. Может он еще и не пойдет в историки-то. Увлечения увлечениями, а семейная стезя протоптана крепко. Сколько ж у них поколений драгун? Запамятовала.
– Наташа, да что вы такое говорите! – Возмутилась было я. – Какие еще драгуны! Егору непременно надо поступать на исторический факультет, такие блестящие способности! У него младшие братья есть, вот пусть они свои драгонады и устраивают!
Наташа расхохоталась глазами.
– Ну вы и зловредная. Поймали.
Покинув Наташу, я устроилась писать свой отчет об очередной общественной реакции. От руки, к сожалению. Наташа еще поболе моего (а казалось бы, некуда) полагает, что домашняя техника портит интерьер. У нее и панель-то в выключенном виде замаскирована под гравюру с кермесой. Домашнего ординатора у нее нет, с нее хватает того, что в редакции. У Юрия в его кабинете стоит, конечно, «Валдай» (куда же математику без машины?), но это полностью комната Синей Бороды, запретная территория. Юрий скорей позволит себе палец отрубить, чем сунуться в его электронную кладовку.
Ну да не страшно, Ник мою руку знает, разберется. У меня, кстати, не такой уж плохой почерк, хотя я, увы, отношусь уж к тому поколению, которое не учили в младших классах начаткам каллиграфии. Всего восемь лет меж нами с сестрой, а какое различие! Их заставляли обычным пером прописи выводить, нас – нет.
Ночь прошла довольно спокойно, мы с сестрой Елизаветой сменяли друг дружку часа через четыре. Еще день-другой, и ведь Наташа начнет бунтовать. Что незачем из-за нее не спать, что она вполне в состоянии сама ходить по квартире. Или я вовсе ее не знаю, или так и будет… Впрочем, я весьма надеюсь тут на сестру Елизавету. Мне с Наташей не управиться, а вот ей – пожалуй.
Когда сестра Елизавета сменила меня во второй раз, я уже закончила со своей запиской. Так что отдохнуть прилегла с чистой совестью. Сон, впрочем, не шел, так, легкая дрема, позволившая чуть расслабиться и смежить веки. Отчего-то мне полуснились-полугрезились Бусинки. А ведь надо же, уходящим-то летом я ни разу в них и не побывала! Неужели ни разу? Похоже на то. Все в столице да в Ревеле, да всякие разные новые места…
А в Бусинках сейчас так хорошо… Шелестят на ночном ветру березы, трепещет батистовая занавеска на окне, племянница Ксюша спит в своей кроватке с каким-то невыразимо ангельским личиком, какого у нее никогда не бывает в бодрствующем состоянии. Спит, крепко обнимая любимую лошадку. Ведь сколько у нее самых чудесных игрушек, так надо же – обожает это страшилище. Лошадку эту, признаться, я и соорудила на скорую руку в дождливый день. Из разноцветных лоскутов сшила голову с ушами и глазами-пуговицами, приделала к палочке. Тогда Ксюше еще трех лет не исполнилось. С каким восторгом она на ней скакала! И до сих пор любит всем сердцем, даром, что уже большая барышня, четырех с половиною годов29.
Так и не приехала я в Бусинки нынче… Не каталась с племянницами на лодке по Оке, сказок им не рассказывала, стишков про «шаловливые ручонки» и «домик над рекою» не читала… А ведь в их возрасте три месяца – это просто бездна времени. Хорошо еще, если осенью узнают тетку в лицо.
По чести сказать, я вероятно, и есть то самое чудовище вроде лошадки из лоскутков и палочки, которое родные непонятно за что любят.
Ведь я же тоже их всех люблю, еще как люблю-то… Но думаю о них слишком мало, даже о маме… Семья – это данность, драгоценная, но данность, а мир, меж тем, так огромен, а жизнь так полна… Чаще всего я вспоминаю об отце, с которым мы слишком похожи, с которым мне не очень-то просто… А про маму и сестру, которые так тактичны, так внимательны ко всем моих глупостям, так неизменно терпеливы, о них я почти забываю в своем непонятно куда направленном движении… Я, конечно же, неблагодарна.
Не пора ли подниматься, сменить сестру Елизавету? Нет, по часам еще нет, в моем распоряжении минут сорок…
Все-таки сон нейдет. Вертятся осколки мыслей и образов, как в детском калейдоскопе, складываясь в случайные узоры, разрушаясь в следующее мгновение ради новых…
Снова вспоминается тот странный пикник, тот диалог Ника с рыжим Кеннеди, побивший все рекорды по числу бессмысленных со стороны фраз… Но оба были чем-то довольны и веселы, попивая вино из походных серебряных стаканов…
«Так Ричард Никсон – это было нарочно?» – Ник наслаждался то ли послевкусием коллекционного муската, то ли какой-то мальчишеской озорной мыслью, так и плясавшей в его глазах.
«Ну, надо же было выпустить зайца, чтобы тот слегка погрыз у фермеров яблони, – отозвался Джон. – Можно, конечно, прочесть сто замечательных теоретических лекций о бережении плодовых садов. Но выпустить одного зайца – это иногда оказывается действеннее».
А потом они попросту принялись хохотать. Чуть вином ни облились. Полный бред.
Подосадовав на глупость вертящихся в голове мыслей, я все же вдруг заснула, и мне опять приснилась похожая на Наташу цыганка, на сей раз открывшая туз кёр. Но я не успела этому удивиться, ибо в следующее мгновения меня осторожно тронула за плечо сестра Елизавета.
Часы показывали десять, яркое солнце гуляло в шелковых кремовых шторах.
– Так нечестно! Вы один раз вместо меня продежурили!
– Ничего. Первое, я умею дремать вполуха, а вы не умеете. Второе, вас я сейчас пристрою к делу. Помните, я про паломницу нашу упоминала? Я бы вас обеих теперь оставила на полдня. Справитесь?
– Конечно, сестра Елизавета! Даже если надо будет сделать инъекцию, я вполне смогу, будьте уверены.
– Нет, новокаина до вечера не нужно. Пилюли я положила отдельно, те, что ей надо принять, как проснется.
– Она спит?
– Очень поверхностным сном.
Лучше сон сколь угодно поверхностный, чем ее бессонницы, особенно сейчас.
Проводив сестру Елизавету, я вновь тихонько просмотрела в беззвучном режиме новости. Только после этого тихонько проскользнула в ванную, оделась, озаботилась чаем.
Опять заварю чай в эгоисте. Непонятно же, когда Наташа проснется, лучше подать ей свежий.
Взгляд мой случайно упал на нарядную корзиночку, забытую на подоконнике, за цветочными горшками. На дне корзиночки лежало три яблока, несомненно, оставшихся с праздника. А мне кажется, что Яблоневый Спас был сто лет назад…
Я тихонечко заглянула в дверь спальни. Тихое дыхание, полутьма. Спит?
– Нелли? Доброе утро.
– Вы давно проснулись? Отчего не позвонили?
– Не было необходимости. Я так, дремала немножко. Часа два назад сестра Елизавета помогла мне умыться. Чаю я еще не хочу. Пустое, Нелли. Надеюсь, вы не полностью погрузились в больничный обиход? Уверена, что нет. Поэтому расскажите-ка мне лучше, что у вас нового?
Я вздохнула. Улыбнулась. Несколько мгновений промолчала. А потом, бесконечно далекая от вселенского шумного ликования на роскошных и вечных стогнах, ответила просто и тихо:
– Habemus Papam.
Глава XXI Что можно услышать, заглядевшись на саламандр
– Алло, Нелли! Это Валерия.
Этот телефонный звонок раздался двумя сутками позже, сразу после очередного визита Лебедева. Пребывание мое у Наташи подходило к концу. Завтра возвращается Юрий, так что необходимости во мне уже и никакой. Сестре же Елизавете наш доктор велел быть при Наташе еще три недели. Столько он назначил осторожности и постельного режима, дабы избежать нового обострения. Предупредил «не шутить». Ох, не ответчица я за чувство юмора моей кузины. Я в который раз за эти дни порадовалась появлению в доме сестры Елизаветы.
Голос Великой Княжны звучал как-то сдавленно и глухо, незнакомо.
– Вот так так, Лерочка! Откуда ты знаешь, что я здесь?
– Брат же тебе депеши шлет. Но идут они, как выяснилось, не на дом. Ты быстро воротилась, я смотрю.
Я не стала ничего объяснять, после как-нибудь. Сейчас Лера, как всегда, переведет разговор на свои обстоятельства. Если я сама о них сразу и заговорю, то упрощу себе жизнь.
– Так что твои иллюстрации? Ну, те, к книге?
– А, иллюстрации… Я их уж отправила на днях в редакцию. Надеюсь, что получилось неплохо.
Ни тени воодушевления в голосе. Обыкновенно она с большим чувством говорит даже о расписании пригородных поездов.
– Что случилось, Валерия?
Можно было бы, впрочем, и не спрашивать.
– Ты не могла бы приехать? Пожалуйста.
Сдержанная речь, опять никаких эмоций. Но голос, голос… Сдавлен, будто ее кто-то тихонько душит.
И еще небольшая странность – Лера не любит ждать. Если ей кого-то хочется видеть, она напрашивается в гости и мчится самое.
– Да, я могу приехать. Когда тебе было бы удобно?
– Сейчас.
…Сестра Елизавета с Наташей, попивая чай, обсуждали особенности нарышкинского барокко, расходясь при том во мнениях относительно двойного крыльца церкви Благовещения в Тайнинском. Наташа нарышкинское барокко обожает, да и меня с детства своими восторгами заразила. А еще бы – наш же Донской монастырь, мы обе под его стенами выросли.
И мне б сейчас забраться на кушетку, да в свой черед вспомнить о том, как Государь Алексей Михайлович «тешился Тайнинским», погадать о смыслах странных «травяных» орнаментов его палат… Увы.
– Наташенька, я сейчас в Кремль. Вечером, вероятно, еще загляну к вам, если не надоела. А уж за вещами завтра кого-нибудь пришлю. Надо, кстати, Гунькину комнатку прибрать.
– Не беспокойтесь, мы уж призвали Раису навести чистоту. – Наташа спрятала легкое недовольство в улыбке. Она не очень любит мои поездки в Кремль, в Майский дом, в Зимний и далее по списку.
– Поклон Его Величеству от меня, – улыбнулась сестра Елизавета.
– Ой, сестра Елизавета, я Государя-то не увижу. Я к Валерии Павловне.
Недовольство растаяло в глазах Наташи, будто парочка кубиков льда. Взгляд ее сделался теплее.
…Коль скоро ехала я к Лере, а не к Нику, гербового «руссобалта» за мною, понятное дело, никто не присылал. Я села в 11 автобус, что идет вдоль всего Калужского тракта и до здания Думы. А уж от Думы пять минут быстрым ходом.
Удобно усевшись у окна, я наблюдала привычно тянущиеся за псевдошехтелевскими домами купы Нескучного сада. А сколько рябины нынче созрело во дворах! Гранатовое безумие.
Так я и ехала, поглядывая то в окно, то на пассажиров в салоне. (Я не люблю читать в подземке и автобусах). Как все обыденно и вместе с тем какое все дорогое… Вот развернул спортивную газету подросток в щегольском кепи с эмблемой общества «Спарта» – белым лисенком. Вот старушка в красиво оттеняющей седину лиловой шляпке прилагает немалые усилия, чтобы все нарядные сверточки с покупками не посыпались с ее колен на пол. Две молодых послушницы уткнулись, сблизив головы, в одну на обеих медицинскую брошюру. Подвизаются там же, где и сестра Елизавета, сойдут у Голицынской больницы. Компания молодых ученых – две дамы и три господина. Ну конечно, сейчас обеденное время, возвращаются на службу из какого-нибудь кафе. Судя по эмблемам на академических мундирах, все химики. Стало быть, сейчас выйдут у института Органической химии. Да, разумеется: выходят, смеясь над неким Петровым из пятой лаборатории, что, верно, не случайно, а нарочно устроил утечку сероводорода, дабы пораньше удрать на футбол… А вот эта пара хуторян, муж и жена, оба лет за тридцать, вне сомнения, доедет со мною вместе до последней остановки. Будут бродить по Кремлю, пользуясь великолепной предосенней нежаркой погодой. Ибо в Первопрестольную прибыли просто так, отдохнуть несколько деньков после страды. Ясно, что больше двух-трех дней они себе едва ли смогут позволить, в начале сентября дел еще предстоит невпроворот. Но самая страда сошла, как не встряхнуться чуток? А у этого дроздовца30, могу спорить, кончилась увольнительная, лицо отнюдь не сияющее, малый, поди, только что попрощался с обже. На обратном пути я его, вполне возможно, увижу уже на посту – где-нибудь во внутренних покоях. Уже сосредоточенного, серьезного, а не с затуманенным мечтой невидящим взором.
И что – я закрою на мгновение глаза и, раскрыв их вновь, обнаружу, что все переменилось? И каким оно будет, то пространство измененной, несуществующей жизни? Кто-нибудь обратится ко мне не «mademoiselle» и не «сударыня», и не «барышня», а, как называют друг друга в мире победившего хама, «товарищ»? «девушка»? «гражданка?» И спросит, скоро ли станция подземки… «Ленинская улица»? «Ленинский проспект»? Это вместо «Института Истории»… А еще я, опустив руку в карман какого-нибудь странного одеяния, что носят в пролетарской стране, допустим, американские рабочие штаны, извлеку оттуда металлический рубль с сильно приукрашенным профилем Троцкого?
Успокойся, Нелли, такого не бывает. То мгновение, когда ты почти въявь увидела отцов кабинет, из которого пропали все дедовы вещи, было следствием колоссального напряжения всех твоих сил. И это все, что тебе по этим самым твоим силам. Есть тот мир или нет, но бродить по нему во плоти ты, нынешняя ты, не станешь.
Я вдруг почувствовала себя совершенно разбитой. Любопытно, а сколько дней я провела, не выходя на воздух? Трудно сразу сосчитать… Пять? Пять дней тревоги, сна урывками, напряжения… А сейчас мне еще предстоит разбираться с нешуточными мученьями Леры. Я знала, я почти сразу знала, что такая беда случится, с первого взгляда там, в костёле, в Санкт-Петербурге. Сумею ли я сейчас справиться, помочь? Я же выжата как лимон.
Лучше об этом пока не думать. Просто ехать, отдыхая и созерцая.
Я оказалась права. Хуторяне в самом деле доехали со мною до конечной остановки. Кстати, род их занятий я разгадала еще до того, как до меня донеслись обрывки разговора о недавней покупке особого комбайна для сбора голубики. Просто москвичи-то в будний день не так нарядны. Но кому будни, а кому и нечаянный праздник, у сельских жителей – свои календари.
Жизнь течет своим чередом. Такая, как и должна быть.
Вскоре я бежала уже по Дворцовой улице. Краем глаза я отметила, что на золотом куполе трибуна колышется под слабым ветерком золотистый, с черными орлами посередине, штандарт, свидетельствующий о личном присутствии в Кремле Ника.
Да, Бетси была права: сезон на сей раз начнется в Москве. И ведь, кстати, уже на днях.
Знакомой дорогой ноги всегда бегут сами. Соборная площадь, Благовещенский подъезд… Даже жалко, что на дворе не XVII31 век и я могу через этот подъезд заходить в Кремль, вместо того, чтоб обособленно пользоваться Средней Золотой лестницей.
Не дойдя до дверей в Аванзал, я, как обычно, свернула в Собственную анфиладу. Лера назначила мне встречу в Гостиной с фарфоровыми цветами. При жизни родителей Ника и Леры, зал этот в стиле рококо принадлежал Императрице Александре Сергеевне. Но, коль скоро единственным общим помещением обычно служит Античная столовая, то Лера уступила под совместное пространство и примыкающую к ней Гостиную, оставив себе лишь Будуар с малахитовым камином и Красный кабинет.
Дальше, за Лериными апартаментами, уже идут три комнаты Ника. Признаюсь впрочем, что меня не удивляет то, что и Ник и Лера больше любят в Москве Майский дом. Там и уютнее, и куда как просторнее. Хотя на Собственной половине (никакая она не половина, от силы пятая часть) конечно, немыслимо красиво.
Кстати всех, вхожих на Собственную, дежурные гвардейцы знают в лицо. Я знаю, что им что-то вроде экзаменов по фотографиям устраивают.
Пройдя начало анфилады, я свернула в Гостиную. Леры, конечно, там еще не было. В камине, это было видно сквозь тонкий бирюзовый шелк ширмы, горели дрова, днем, невзирая на медлящий на пороге август. Впрочем, в Кремле всегда прохладно, стены-то какие. А я словно бы и озябла уже. Не заболеть бы эдак… Я проскользнула к решетке. Как все-таки уютно, когда горит огонь, особенно если прямо к камину придвинута удобная кушетка. Саламандры пляшут свои танцы среди огненных языков, где ж им еще и плясать, как ни в этих сказочных палатах?
В детстве я проглядела в огонь все глаза, прочтя историю о том, как мой ровесник Бенвенутто Челлини саламандру в самом деле увидал, за что и был бит родным отцом – не в порядке наказания, но затем, чтобы твердо запомнил волшебное явление. Да, синяки и шишки, надо полагать, запоминанию способствуют. Я наверное знала, что меня бить никто не станет, посему держала наготове металлическую линейку. Стукну себя как следует – и запомню. Увы, решимость оказалась напрасной. А потом и Тася заметила, что я слишком много сижу у огня. Стали отгонять. Это было, конечно, летом, в московской квартире у нас камина нету – дом-то новый, с калориферами32.
Золотые и алые язычки завивались, раздваиваясь, растраиваясь, и вновь сливаясь воедино… Мой подбородок как-то сам собою склонился на грудь.
Сначала мне приснились саламандры. Они были очень красивыми и танцевали в своих крошечных венцах. Потом пришел Роман и разогнал всех саламандр скребницей. Он был ужасно сердит.
Я попыталась проснуться, дабы не попасть под раздачу. Увы, это у меня не получилось.
– Я, кстати, намерен разобраться, из-за какого малоумка это дело попало к тебе на стол? – В голосе Романа прозвучало раздражение, ощутимо не сулящее кому-то добра. – Ник, эта гадость слишком ничтожна, чтобы обратить на себя хоть минутное внимание русского царя.
– Ну, что сделалось, то сделалось. – В голосе Ника скользнула улыбка. – Хорошо мне, что я не твой подчиненный, Брюс. Крутенек ты, братец.
Нет, я все-таки проснулась. Почти. Я заснула перед камином, а проснулась не совсем в том обществе, которое предполагала найти. Сейчас… Еще минута, я поднимусь и выйду.
– В меру. – Ответил где-то за зеленым шелком голос Романа. – Но, в самом деле, к чему знакомить с этим тебя? Заурядное убийство в среде, где подобного сорта события не такая уж и редкость.
– Однако под расследование дело о заурядном убийстве взято отнюдь не полицией. – Ник усмехнулся.
– Ну… Гоп-компания-то эта давно под приглядом. Но, коли уж так, ты хотел бы знать подробнее?
– Пожалуй. Строго говоря, я многого вовсе не понял.
– Не мудрено. – Роман хмыкнул. – Ты ж не психиатр.
– А жаль. В частности мне хотелось бы понять – бывает ли повреждение психики групповым?
– Мы привыкли думать, что нет. Во всяком случае, если это не специальная обработка, наподобие практик сектантов. Но я начинаю в этом сомневаться, когда сталкиваюсь с подобными случаями. Первое, мне сдается, подобное тяготеет к подобному, второе – а можно ли сбрасывать со счетов, что идет взаимное раскачивание без того шаткого сознания?
– Звучит убедительно, но мы с тобою оба профаны. А кстати, Брюс. Пусть-ка в твоем ведомстве слушают хоть краткий курс по психиатрии. Я, пожалуй, распоряжусь.
Я так удивилась, что напрочь забыла о том, что подслушивать чужие разговоры неприлично. Кто должен посещать лекции по психиатрии? Инженеры на заводах сталелитейного концерна, что принадлежит Александру Владимировичу? Да и концерн-то не Романов, а отцовский. Что за чушь! Роман не служит, какие у него могут быть подчиненные?
– Буду признателен, не помешает. Но пока что придется мне консультироваться с судебными медицинскими специалистами. Чует мое сердце, они ох, как понадобятся, когда найдем убийцу. Даже раньше, без психиатров, подозреваю, и убийцу-то не найти. Как пить дать, он из этого же кружка. Он, а то так и она… А потом мне надлежит сильно поломать голову, как затоптать весь этот очажок Энтропии. Из таких посиделок всегда вырастают криминальные коллизии, это только первая ласточка.
– А мне вот странно, что дошло до уголовного преступления. Подобный сброд обыкновенно труслив, и чтит закон хотя бы из самосохранения.
– Слишком много безумия. Да и эксперименты с наркотиками… Тут, впрочем, ловить нечего. Закон преследует лишь торговлю наркотиками. Эти же, когда не достает денег, а это с ними часто случается, пытаются одурманиться смесями дешевых лекарств, что отпускаются в любой аптеке.
Мне следовало еще минуту тому, как обнаружить свое присутствие. Но уж теперь погодим. Ну Роман, ну лицемер… Мы не служим-с, мы на балы во фраках изволим езживать… Нам мундира не положено-с… Да и Ник хорош…
– Один раз вовсе был случай… Специфический. Когда было не на что купить водки, сочли высоким штилем немножко взрезать друг дружке вены и сосали кровь.
– Тьфу. Ну, хорошо, дело взято под особый контроль, тем не менее. В газеты не попало, насколько я заметил, что убийство носило ритуальный характер? Ведь это было ритуальное убийство, Брюс?
– Ритуальнее некуда. – Судя по голосу, Роману захотелось, вопреки всем мыслимым правилам приличия, плюнуть, но как же плеваться там, где каждая паркетина – национальное достояние? – Кровью убитого выведены какие-то символы, вокруг тела разложены части тушки кролика, разорванного руками. В прихожей, кстати, переноска из-под этого самого кролика, купленного в зоологическом магазине… Тоже может быть зацепка, хотя и непонятно, кто покупал несчастную зверушку – это вполне могла сделать и жертва. У них же «дионисийские культы», merde! Извини. Кролика, надо думать, приобрели за неимением зайца.
– Так что они собой представляют, эти обитатели Большого Палашёвского переулка?
– На первый взгляд, дичайшую эклектику мыслей и взглядов. Но в действительности антисистема прощупывается. Там все не случайно. Начиная от места сборищ. Знаешь, к примеру, старое название Палашёвского?
– Знаю, – сквозь зубы ответил Ник. – Старые Палачи. Место, где при Иоанне Четвертом проводились судебные поединки и публичные казни.
– Вот-вот. Именно в таком переулке они и снимают несколько квартир. То ли название приглянулось, то ли лишний раз почтили Иван Васильевича. Кстати, единственный любимый ими из русских царей, они иногда называют себя «новыми опричниками». Всех остальных мечтали б заменить в истории наместниками из Золотой Орды. Их любимая тема – если бы осталось ордынское владычество! Но это идет прежде всего от некоего Сайдара Пырина. Сын цирковой актрисы, но называет себя «беком». Хотя Сверхчеловеком у них некий Головлёв, он всех постарше будет. Невзирая на любовь к оккультной германистике, мечтают, что белую расу вытеснят желтая и черная. Ждут Великого Восхода Луны, который грядет через «древнее германское начало», нового ледникового периода, что поглотит все живое, кроме тех, кто заране «оледенил сердце и разум», их то есть, голубчиков. Очень, опять же, тоскуют, что германцы нас не победили в начале века. Ненавидят все русское, «рабскую природу славян».
– Вот же сучьи дети.
Я никогда в жизни не слышала, чтобы Ник говорил подобные слова. Но я ведь и не должна такого слышать. Только тут мне вдруг в полной мере сделалось ясным, в каком неловком положении я по собственной вине оказалась. Отчасти по вине утомления, у меня, несомненно, какой-то сбой с реакциями, но от этого не легче. Как я теперь-то выйду наружу, после произнесенного Ником грубого ругательства?
И остаться тоже нехорошо. Я слышу то, чего мне слышать не положено. Я разозлилась на Романа, я удивилась, но момент-то пропущен. Что ж теперь делать? Господи, ну пусть они сами сейчас решат отсюда уйти! Едва ли… Судя по сигарному дыму, им и тут вполне приятно, кажется, и коньячные рюмки позвякивают… Остается, похоже, одно: переждать, молясь, чтоб они поскорей надумали покинуть залу, а потом забыть раз и навсегда каждое услышанное слово.
Хоть уши ладонями закрывай… Но уж это и вовсе глупо.
– Еще из мэтров некий Жорж Малеев. Также обещает много разного и ничего хорошего молодой Овсов, эдакой дебелый, пухлый в ляжках. Двое совсем уж юношей кропают роман, в котором жаждут «разделаться» со «Словом о полку Игореве», в остальное же время оба обучаются китаистике на факультете Восточных языков. Словом, рассказывать долго… Хотят искать Шамбалу, обожествляют Чингизхана и Мамая, пытаются сплавить ислам с германским язычеством, а в особенности плачут над тем, что красные не победили в Гражданской.
– Послушай, а они наверное вышли из раннего подросткового возраста? Ведь это, по сути, логика незрелого протеста. Или даже протеста не подростка, но маленького ребенка. Понимаю, что сии взрослые, а частью и немолодые, но как-то все это подозрительно сводится к «есть буду только конфеты, спать не пойду никогда, мыть руки отказываюсь». Оно самое, только возведенное в философию.
– Читывал я у кого-то, жаль, не запомнил, что преступник – всегда ребенок. Можно вколотить в голову таблицу умножения, но то, что нельзя отрывать крылья живым бабочкам и мучить кошек – дитяти можно внушить только через запрет. До сострадания душа должна дорасти. До сострадания, и до стыдливости. Да, по сути, все члены Палашёвского кружка, где произошло убийство этого студента-историка Тихонина, это нахватавшиеся познаний в том и в сем великовозрастные дети, только умилительного здесь мало.
– В таком случае, Брюс, у меня имеется к тебе не очень приятный вопрос. Кружок, в котором произошло убийство, уже какое-то время под твоим контролем? Почему же он до сих пор не развален? Почему до убийств все же дошло? Почему ты не внедрил в это очаровательное общество своих людей?
– Виноват я в любом случае, нужды нет. Однако людей внедрить – нет, этого я не мог никак. А без работы внутренних агентов развалить подобную штуку значительно сложнее.
– Неужто они так секретятся? Эта-то богемная клоака?
– Ничего нет проще, чем туда попасть. Но, видишь ли, я за своих людей в ответе. Разве ж я могу втравлять своих подчиненных в гадости?
– Погоди, они что там – еще и бугры?
– В том числе и это. – Странная фраза, содержащая упоминание неровностей, Романа явно не озадачила. – Уволь от уточнений. Не в том даже дело, что…
Договорить Роман не успел.
– Узурпировали палату, да еще надымили тут, – прозвучал чуть в отдалении, видимо от входа, голос Леры. – Между тем, здесь должна бы быть Нелли. В действительности уже почти час, как она обещала тут быть. И крымский виноград я, кстати, велела поставить для нее, а не для вас.
– Нас оправдывает то, что Нелли тут нет, – возразил Ник. – Без разрешения дамы я не курю, и мартель мы без разрешения прекрасного пола не употребляем, не говоря уже о винограде.
Все, теперь пропадать. Только со мною такое и могло случиться.
Когда я поднималась, мне показалось, что я вешу пуд.
– Нелли здесь. – Я вышла из-за ширмы. – Хоть бейте ее, но так уж получилось.
Выход мой оказался театрален: мужчины еще не успели сесть после того, как вошла Лера. Все трое стояли как раз напротив ширмы, подобно зрителям райка.
Роман иронически щелкнул каблуками. Я не знаю, каким образом ирония может прозвучать в звуке щелкнувших каблуков, но поручусь, что так оно и было.
Зато Ник не казался намеренным иронизировать. Глаза его метнули парочку молний, а краска гнева как ярко залила лицо, что, окажись тут случаем Александр Македонский, немедля записал бы его в свое войско. Если, конечно, предположить столь нелепую мысль, что российскому Императору захотелось бы поступать на службу к какому-то сомнительному выскочке. Ник еще молчал, но ему было, что сказать.
Лера, единственная, не знающая сути всего эпизода, метнулась ко мне, нарушив расположение фигур.
– Нелли, как хорошо, что ты приехала! Извини, я потом тебе объясню, почему заставила ждать!
Ник был совсем готов обрушить на мою голову весь словесный поток своего гнева, но Роман неожиданно сделал рукой предупреждающий жест.
– Не закипай, не самовар.
Он выразительно кивнул головой в мою сторону, приглашая Ника повнимательнее на меня посмотреть.
Стоя на пересечении двух взглядов, по тому, как менялось выражение лиц обоих мужчин, я словно отраженно увидела вновь то, на что уже полюбовалась с утра, умываясь. До сих пор перепуганное выражение моих глаз, огромные синие тени под ними. Обычный мой румянец будто смыт губкой, ни кровинки на щеках, бледные губы.
А рядом со мной стояла Лера – с лихорадочно горящим взглядом, похудевшая за неделю как щепка.
Они переглянулись, перебросившись парой мыслей. Ник глубоко вздохнул.
– Надеюсь, ты понимаешь, в какой мере была неправа, Нелли.
– Прости.
– Ну, что с тобой поделать. Можете быть свободны, дражайшие девицы. Нам с графом надо еще кое-что обсудить. И надеюсь, что хоть теперь без помех.
Глава XXII Шедевр
– Безмерно неловко получилось, я там задремала, пока тебя ждала, и подслушала разговор Ника с Романом.
Мы зашли в Красный кабинет. Теперь я имела уже возможность внимательно взглянуть на Леру. На царевне была бесформенная серая блузка, в которой она обыкновенно рисует, хотя рисует она, уж понятно, что не в Красном кабинете. Волосы она собрала, против обыкновения, в одну широкую косу, которую заколола сзади. Да, мы могли б сегодня вправду соревноваться: какая из нас менее интересна? Блузка и юбка на ней болтались, губы запеклись, на скулах горели лихорадочные пятна, глаза сверкали воспаленным блеском.
– Не страшно. Он тебе всегда все прощает, не то, что мне. Нелли, я хотела спросить… Мне очень важно было спросить… Впрочем, вот, я об этом…
Лера вытащила из кармана сложенный вчетверо и изрядно помятый листок. Начала было его разворачивать… Ох! На ее руке зеленой звездой сверкнули грани оправленного в желтое золото, редкого по величине хризолита. Даже явись у меня сомнения, взгляд более пристальный тут же бы их развеял: кольцо было велико для ее пальца, и она обмотала ободок толстой шерстяной нитью.
– Не успела занести, чтобы сжали. – Она поймала мой взгляд.
– Валерия…
– Уж будь тогда до конца приметливой, Нелли. – Она словно бы не испытывала никаких эмоций. – Это же не тот палец. Мы не обручились, нет. Просто подарок. Просто все, что мне от него осталось. От Джона. Ничего больше у меня теперь нет.
Я с трудом перевела дыхание.
– Джон говорит, что надо надеяться и молиться, – таким же ровным голосом продолжила Лера. – Но я не могу молиться, если не знаю, о чем. Чтобы я перестала быть сестрой Императора? Вдруг проснулась и поняла, что я – обычная девушка, так? Кого полюбила – за того и замуж могу идти, и все вокруг только счастливы? Об этом мне молиться? Могу ли я надеяться на то, на что надеяться нельзя? Век Реставрации дался слишком дорого, мне это с первых лет жизни объясняли. Мне ли надеяться на то, что я окажусь слаба? Не о чем молиться, не на что надеяться. Мужчины, они как дети, часто не хотят признать слов «нельзя» и «нет». И обманывают себя и нас.
Вот оно и произошло, она повторила мою историю. С незначительными различиями. Лера не Ник, будь Джон католическим принцем, к примеру, из Тары33, это б не явилось препятствием. Да вот только он никак не принц. Он – привилегированное дитя антисистемы.
– Но я не о том… – Лера, наконец, развернула листок бумаги. – Я не могу понять… Ведь ты-то такого никогда не переживала, откуда ты так это поняла? Или правда, что поэтическое чувство – особое?
Она протянула лист мне. Это оказались стихи, напечатанные на простеньком домашнем «струйнике». Мои стихи. Стихи 1980 года, помеченные осенним днем.
Ланселот
Вовеки славьтесь, Долг и Честь, Тюремщики Любви! Её плененье твердо снесть, Господь, благослови! Гвиневре в сердце бьётся кровь: С ней рядом – Ланселот, Он говорит ей вновь и вновь О царстве Феи Вод… – Гвиневра, сердца госпожа, Я истомлён тоской, Но Вы велите продолжать Рассказ нехитрый мой… – Ведите речь, сьер Ланселот, Мне хорошо до слёз… – На дне я, в царстве Феи Вод До отрочества рос… Жил под хрустальною водой Не ведая друзей, А мир мой был совсем иной, Чем у других людей. Я игры рыб любил смотреть, На синем лёжа мху, А солнце, золотая сеть, Плескалось наверху, Когда стоял погожий день И радовало глаз, И алая струилась сень В закатный грустный час… Не ведал я, что солнце – круг, Оно плыло, дробясь… Лиловых водорослей луг, Мне был что лес для Вас. Как я любил бродить средь них, Слагать стихи и петь, Дно в перламутрах голубых, И рыбки словно медь… Не ветер кудри колебал Вкруг детской головы: Я водных струй теченье знал, Как знали ветер Вы. – Ведите речь, сьер Ланселот, Мне хорошо до слёз… – На дне я, в царстве Феи Вод До отрочества рос, Жил под хрустальною водой Не ведая друзей, А мир мой был совсем иной, Чем у других людей. Так детство шло за годом год… Мне фея меч дала: – Король Артур тебя лишь ждет У Круглого Стола! О, мальчик, нежное дитя, Не всё стихи слагать, В закатный час бродить, грустя, И жемчугом играть… Вначале страшен новый свет, Возврата нет сюда! Но, полны радостей и бед, Затем пойдут года — Ты станешь вспоминать как сон Подводный дивный край… Дитя! Ты рыцарем рождён… Прощай! Навек прощай! – Ведите речь, сьер Ланселот, Мне хорошо до слёз… – На дне я, в царстве Феи Вод До отрочества рос, Жил под хрустальною водой, Не ведая друзей, А мир мой был совсем иной, Чем у других людей… И, очутившись на земле Порой цветенья роз, Я ощутил вдруг на лице Потоки горьких слёз. Гвиневра! Вышел я со дна: Там слёз не льют у нас!… На вкус горька и солона Текла вода из глаз… И плача вспомнил я о том, Что их когда-то лил, Ловил я капли жадным ртом, Мне вкус их сладок был… Я слез с коня и лесом шёл, Как в сладостном из снов, Я узнавал цветущий дол И гряды облаков… Я обнимал стволы дубов, Я пьян был, взят был в плен Волшебным пеньем соловьёв И замком на скале… – Ведите речь, сьер Ланселот, Мне хорошо… до слёз! – На дне я, в царстве Феи Вод До отрочества рос, Жил под хрустальною водой, Не ведая друзей… А мир мой был совсем иной, Чем у других людей. Вовеки славьтесь, Долг и Честь, Тюремщики Любви! Её плененье твердо снесть, Господь, благослови.Я с трудом подавила смех. Боюсь, он бы оказался к тому ж немного истеричен. Ну да, конечно, мне-то откуда знать… Безнадежная осень 1980-го года… Сейчас бы я написала без этой легкой неуклюжести… Но стихи неплохи. А кстати, я ведь напрямую и не соотносила тогда свои переживания и свои стихи.
– Я случайно наткнулась на это стихотворение, совсем случайно. И у меня такое чувство, что оно все – про меня. Понимаешь, два разных мира, два мира и полная безнадежность… И это дикое желание поделиться своим миром, проникнуть в его мир… Но нельзя тебе – под воду, да и он на земле – случайный гость. Только два тюремщика в дверях жизни.
Как странно… А ведь в каком-то смысле Лере это стихотворение много больше подходит, чем мне, мне лета 1980-го года…
– Не знаю, Лерочка. Это было четыре года назад, я уж не помню, о чем и думала, когда это писала…
– Меня как подтолкнул кто-то… Ты меня подтолкнула. Пошли, я кое-что хотела тебе показать…
Все такая же лихорадочно стремительная, Лера схватила меня за руку и куда-то повлекла – по анфиладе, на черную лестницу, по крутым ступенькам… Впрочем, я уже поняла, куда мы идем.
Наверху, под скатом крыши, она давно устроила себе маленькую мастерскую. Тесноватую, но с прекрасным светом. Впрочем, обустроена мастерская оказалась так удачно, что места достало не только для подрамников и холстов, но и для глины и прочего разного…
В прошлый раз посреди мастерской скучал натюрморт с бело-розовыми подмосковными яблоками на зеленой салфетке. Недурной, но отчего-то несчастливый, ибо успел запылиться, пестря проплешинками голого холста. Так, видимо, и отправился куда-то в угол, недописанный. А вместо него…
– Я потому и задержалась… Не хотела терять свет… За все последние дни я не потеряла ни одного светового часа. Ни одного, Нелли… У меня было такое чувство, что я просто умираю заживо, если теряю свет… Сейчас уже ничего, можно ненамножко оторваться… Ты видишь, почти завершено.
– Ты хочешь сказать, что написала это за несколько дней?
– Да.
Я не была к этому готова. Я подошла поближе, отступила на шаг, отступила на второй, сшибла что-то сзади локтем. Не что-то, банку с кистями, Лера всегда держит кисти в красивых жестянках из-под печенья и чая, она не велит их выбрасывать. Жестянка прогремела по дощатому полу, кисти усыпали все вокруг.
– Это называется «Гвиневера».
Не нужно было и пояснять.
В последнее четыре десятилетия в романо-германском и англо-саксонском мире литературоведы отмечают новый взлет рыцарского романа. Как сказал кто-то из философов, «Толкиен отменил Сервантеса, а Мэри Стюарт прихлопнула Марка Твена». В литературе, да. Но интересных живописных попыток обращения к тому же Артуровскому циклу что-то никто не делал. Нет, было, было… Писали какие-то сюжеты, и Артурову смерть, и меч в озере, что-то я даже припоминаю… Но это не было событием, это было маскарадом. Ибо в костюмированные игры могут играть не только живые люди, но и нарисованные фигуры. Если фигуры эти нарисованы сообразно технике ХХ столетия… Это было скучно.
Она пошла дальше прерафаэлитов. Она вывернула перспективу наизнанку. Она стилизовала мазок под нити шпалер. Она не отказалась от современных приемов, но прогнала их через алхимический куб. Она использовала позолоту. Она закрутила готические надписи между изображениями.
Неблагодарное это дело, повествовать о картинах. Это был портрет сказочной королевы, конечно. Но обертонами портрету послужили мелкие сценки подвигов Ланселота Озерного. И во всех сценках Ланселот был рыжим – неизвестная прежде повествователям деталь.
Фигура же королевы, глядевшей из стрельчатого окна на дорогу, вослед удалявшемуся всаднику, с одною рукой – прижатой к груди, другою – державшейся за ставень, была чисто средневековой аллегорией Разлуки.
– Что ты так долго молчишь? Я понимаю, что это все немножко безумно, но неужели так плохо?
– Лерик, я онемела от самого банального тупого восхищения. Мне трудно что-то внятно сказать. Если тебе важно мое мнение, хотя это всего лишь мнение дилетанта, это шедевр. В худшем случае это немножко прыжок выше головы, но несомненно, что ты на эту голову вырастешь. И довольно скоро.
– Что же, значит, и от горя бывает какая-то польза. – Лера сухо усмехнулась.
Творению – возможно, но не творцу. Ах, не все так просто… Да, она сумела переключить себя, хотя верней сказать, что все произошло само. Но еще тогда, в 1980-м, Наташа говорила мне, что это было мое счастье, что я так яростно «выплакала» свою трагедию.
Сейчас труд завершен. И перед ней разверзнется пустота. Помноженная еще и на переутомление. Она же в самом деле трудилась как одержимая. Написать такую картину за несколько дней – это на грани невозможного. Я так понимаю, что начала она в те часы, когда некий аэроплан взлетел, направляясь в сторону Италии.
– Что-то я устала, Нелли… – Лера вытащила несколько шпилек, и освобожденная коса упала на ее спину. Да, она все только что и закончила… В последний час. – Ты приезжай ко мне эти дни, ладно? Мне просто хочется немножко поговорить… Просто рассказать о нем, о Джоне. Сегодня мне хотелось, чтобы ты посмотрела на картину. А сейчас… не знаю, вот тебе понравилось, а у меня одно желание, чтоб глаза б мои этого ужаса не видели. Вычурно и бездарно.
– Перестань, это не так. Ты в самом деле устала. И пора бы тебе хоть сутки пообходиться со световым днем как-то немножко иначе… Хоть погулять в садах. Скоро дожди польют, чует сердце. Уже осенние, противные. В Нескучном…
Я осеклась на половине фразы.
– Чему ты так обрадовалась вдруг, Нелли? Вся засияла.
– После расскажу. Довольно скоро. А сейчас я хочу удостовериться, что ты будешь отдыхать. Я хочу увидеть тебя под пледом, с коробкой конфет у изголовья и детективным романом в руках. После этого я тебя покину, ибо перечисленное это действительно все, что тебе сегодня требуется.
Когда гениальные решения приходят в голову, потом гадаешь и досадуешь об одном: отчего долго думал? Все же лежало на поверхности. По счастью, на сей раз нужная мысль стукнула почти сразу.
Теперь я несомненно знала, каким образом буду вытаскивать Леру из депрессии. Ну и заодно – как спасти модную репутацию Бетси.
Глава XXIII Продолжение одного знакомства
– Лена! Ты далёко собралась?
Роман настиг меня уже на паперти, выйдя следом из подъезда. Давно привыкла, что он всегда угадывает, где и когда появится нужное ему лицо.
Я провела у Леры еще около получаса, сумев все же убедить отдохнуть, с чем и сдала ее на руки фрейлинам. Не самые надежные руки надо признаться, в этом дежурстве. На Красную Горку близнецы княжны Голицыны, Анна и Аглая, мои ровесницы, обе отправились под венец. Вместо них шифр получили Дашенька Глебова и Сашенька Аксакова. Только что вышли из Екатерининского, стало быть, лет по восемнадцати. Ясен день, Валерия ими вертит, как хочет, а они еще не научились сопротивляться. Ну да ничего, как-нибудь.
– На остановку одиннадцатого автобуса.
– Я тебя отвезу.
– На мотоцикле? – съязвила я.
– Почти что да.
Автомобиль Романа оказался на сей раз открытым. Летний ландолет, тоже руссобалтовский, конечно. Две черных орлиных головы словно бы приветливо кивнули мне клювами из-под трехшлемного намёта украшающего дверцу графского герба.
– Только тент подними, будь добр. Не довольно жарко, чтобы наслаждаться ветерком.
– Как прикажешь. – Роман нажал на кнопку. – Я только сегодня обо всем узнал. Знаешь, ты не вполне права. Я понимаю, что Ната, конечно же, не велела ничего мне сообщать. Но все же стоило немножко пойти ей поперек.
– Если б не справлялась, я бы сразу позвонила.
– Но ты справилась. – Роман улыбнулся со странной печалью. – Я говорил сегодня с доктором Лебедевым. И с сестрою Елизаветой тоже. Кстати, я уже сказал ей, что ты сегодня не заедешь, я тебя намерен похитить на весь вечер.
– Впервые слышу, что ты намерен меня сегодня похитить.
– Какой уважающий себя похититель предупреждает жертву?
– Трудно возразить. – Я невольно рассмеялась. – Так куда мы направляемся?
– В ресторан.
– Я не совсем одета.
– Пустое. Кажется, есть повод кое-что отпраздновать?
– Отпраздновать?..
– Ты все позабыла, я смотрю? Или католикам не положено поднимать бокал, обретя Папу? Я в ваших свычаях не силен.
– Ой! – Я хлопнула себя ладонью по лбу.
На сей раз рассмеялся Роман.
На Москву ложились неуловимые краски вечера. Свет еще ярок, но очертания немного призрачны, утратили дневную телесность. Страстной монастырь, казалось, пытался тихо подняться в небо. Вечером монастырь кажется лиловым, днем розовым, как каменный цветок лаванды. На лиловый монастырь, как обычно, задумчиво поглядывал со своего постамента Пушкин. Мы выехали уже на Тверскую – вечер, поток автомобилей не густ. К тому же Роман любитель скорости. Шофер у него, конечно, есть, но ему приятнее садиться за руль самому.
– Признаться, я думал ужинать не с тобой и в клубе, – Роман кивнул на каменных львов, мимо которых мы проносились. – Но пришлось переиграть, с тобой-то нас в клуб не пустят.
– Да уж, сoncordia et laetitia34 отменяются. Все-таки мне всегда страшно любопытно, Роман: неужели вправду без женщин так хорошо? Даже без смазливой подавальщицы какой-нибудь?
– Как тебе сказать… Это довольно сложно объяснить. Не в обиду будь сказано, но да. У мужчин очень развито чувство собственности. Ну, вот надобно нам такое место, на которое женщина не может посягнуть. Зато как проведешь полдня в клубе, так и общество дам затем приятно вдвойне.
– Так мы ужинаем втроем?
– Да, тут уж я не мог отменить. Но думаю, гость мой тебе будет интересен. Впрочем, он немного опоздает.
Я подавила вздох. Я люблю новые знакомства, но сейчас предпочла бы покой.
– Чем ты вдруг опечалилась, Лена?
– Странная мысль мелькнула… Отчего считается, что молодость – это такое уж счастливое время?
– Отвечу банальностью. Оттого, что человек полон сил, хорош собой, что все впереди. Еще не связан никакими обязательствами. Стало быть, когда ж еще да ни радоваться жизни?
– Да, сил-то полно… Получать бы знания, да странствовать, да трудиться… Только отчего-то львиная доля этих сил уходит на какие-то бессмысленные немыслимые страдания. И никуда от них не сбежишь. Помнишь ту дуэль из-за Меланьи Ивановой?
– Как не помнить, меня в секунданты звали.
– Не знала.
– Ну, как-то к слову не пришлось. Я ж отказался. На мой взгляд, хоть трижды с ума сходи, а лить кровь внутри семейства – последнее дело. Немножко, мягко говоря, иное, чем пробить дырку в либеральном сквернавце, что в своей газетёнке карикатуру на Государя тиснул. А Государь тебя ж за это еще и на Дальний Восток. Но это к слову.
Но я продолжала думать совсем не о дуэлях Романа. В те дни делалось все, чтобы поменьше деталей просочилось в газеты. Мелания – невероятно хорошенькая, голубоглазая, в каштановых локонах, из тех, о ком говорят «куколка» и «севрская статуэтка», была моя одноклассница. Отец ее известный инженер, мостостроитель-железнодорожник, и само собой, мы в гимназии все ей невероятно завидовали. Еще бы! Ведь почти каждый год-полтора наша соученица попадала во все газеты и цветные журналы. Каждый раз, когда запускался новый мост, Мелания, разодетая в пух и прах, вместе с мамой, тремя младшими братишками и старшей сестрой, ехала вместе с отцом на торжественное открытие. И толпа почтительно расступалась перед семьей Ивановых, когда, неспешно ступая по нарочно накинутым досточкам, они шли под мост – пропустить над собою первый поезд. Старая российская традиция. Открытие моста проходило после молебна и перед парадным обедом, во время которого вокруг Меланьи так и щелкали вспышки фотоаппаратов. «Какая храбрая девочка! – сюсюкали журналисты. – Тебе в самом деле не страшно запускать мосты?» – «А чего бы мне бояться? – надменно отвечала в камеру наша Иванова. – Папа мой строит крепко».
Я особенно ярко представляла себе, что переживает эта семья там, внизу, те драгоценные и собственные минуты, о которых можно рассказать, но которыми ни с кем не поделишься. Вот Милин папа по очереди целует дочерей, по-мужски хлопает сыновей по плечу, подносит к губам руку жены: «Благодарю за доверие, родные мои». Затем смотрит на часы, осеняет себя крестным знамением: «Сейчас». А дальше – мощный гул высоко над головой. И страшно, и сладко, и, думаю, Мелания все-таки на мгновение зажмуривает глаза. Я бы зажмурилась, вероятно.
Коллизия же, случившейся два года назад, была, что говорить, тяжелая. Вызов-то ведь бросили друг другу два ее кузена – по материнской линии и по отцовской, договорившись в ослеплении непременно идти до «последней крови». И все-то там были друзья детских игр. А самое несуразное, что ни одному из противников надеяться-то было не на что: она уж давно была влюблена в третьего. Ну отчего такие нелепости непременно происходят? Зачем они нужны?
– У Милы тогда седая прядь появилась, – вздохнула я. – Довольно заметная. Хорошо еще, что ей она к лицу, а то что делать, не волосы же красить? Ужасно все это сложилось. Все-таки тебе не кажется, что людям более зрелым, им как-то приятнее жить, чем нам?
– Но ты сейчас не об Ивановой, Лена, тем паче, что она уж с год, как благополучным образом madame Суходольская. И никто тогда не погиб. Ты сейчас о чем-то поближе.
Я осеклась. Предавать Леру никак не входило в мои намеренья.
– Я обо всем разом.
Так мы и ехали, болтая незнамо о чем. В действительности же Роман очень хотел толком расспросить меня о Наташе. Но, вне сомнения, он поставил целью как раз отвлечь меня от тревог – и потому удерживался. Меня же разбирало любопытство о подслушанном столь неловким образом секрете. Но я без того наломала дров, посему, в свой черед, обходила самую важную для меня тему умолчанием.
– Я на днях видел Филиппа Орлова, – вспомнил Роман спустя несколько минут. – Он очень жалел, что не успел посоветоваться с тобой до отъезда в Астрахань. Мы-то ведь все думали, ты в Риме.
– Так дождался б возвращения.
– Не смог. Деду хуже сделалось, торопил. Филипп собрался немножко по пожарному.
– Жаль.
Мы уж подъехали к сверкающему нарядному крыльцу в столь любимом как Москвой, так и Парижем, стиле бельэпок.
Ресторан оказался из самых-самых, где бросаешь автомобиль в руки прислуги, отгоняющей его на стоянку, и прочая таковая.
– С чего ты так кутишь? – Я недовольно поморщилась. – Я уж обратила твое внимание, что я не в вечернем платье, а в уличном твиде35. Было б куда приятней выбрать что-нибудь поскромнее.
– Тут уж извини. Никак не мог допустить, чтоб меня заподозрили в недостаточном гостеприимстве.
Нас проводили к столику, хорошо хоть расположенному не на виду, а в нише, в уютной глубине, и уже накрытому на троих.
– Покуда что, по бокалу шабли? – глаза Романа улыбнулись. – Коль скоро повод столь важен, то гран-крю?
– Ты знаешь, шабли мое слабое место. Особенно гран-крю.
Я не бывала еще в этом ресторане. Между тем интерьер мне приглянулся. Мореный дуб, подсвеченные изнутри витражи по мотивам Альфонса Мухи, мягкий, неяркий свет, темные ковры, поглощающие звук шагов.
– Ну, что, Лена? Многая лета Его Святейшеству Папе Пию XIV? – Роман встал и поднял узкий хрустальный тюльпан36.
– Многая лета. На счастье всему католическому миру.
Золотисто-зеленый диск засверкал, демонстрируя волшебную прозрачность. Вкус этой лозы обычно называют «стальной свежестью», я же называю его «ледяным солнцем» и «соломенным инеем».
Есть на свете вещи, решительно мне непонятные. К примеру: что люди могут находить в красном вине? Я всею душой предана винам белым. Боюсь, что к шабли всю нашу компанию приохотила именно я.
Теперь я уже была рада тому, что Роман вытащил меня пировать, красивому залу и негромкому звучанию миниатюр Шопена.
– В действительности счастлив не только католический мир. – Роман, задумчиво глядя в свой бокал, повернул его круговым движением, словно забыв, что шабли почти не умеет плакать. – Буква «i» не содержит такого количества точек, что расставит на нужные места этот понтификат.
Но мне, противу обыкновения, даже не хотелось думать о судьбах мира. Мне потихоньку сделалось как-то очень хорошо. Отступает болезнь Наташи, а морок, крутивший меня целый год, кажется, развеивается. Наташа была права: высшая точка наваждения пройдена, я разобралась с происходящим внутри моего кошмара. Теперь кошмар растает. Я даже книги писать не желаю о том, как ужасен мог бы быть мир осенью 1984-го года, рухни моя страна в бездну. Пусть кто-нибудь другой ее пишет, такую книгу. А я хочу сейчас слушать Шопена и пить шабли. И я, кстати, зверски голодна.
– Ну вот, проглянуло солнышко. Как же я люблю, когда ты улыбаешься, Лена. Не «исторической» улыбкой, а самой обычной. Она у тебя такая… сложно выразить, я-то, чай, не литератор. Просто люблю.
Это был в самом деле превосходный ресторан. Официанты скользили, незаметные, словно тени. Вино в бокалах прибывало словно бы само собой.
– Глубоко-глубоко на дне живут Морской Конёк, Морской Ёж и Морская Звезда. – Я чуть отставила тюльпан. Сорт «фуршом» между вкусом и послевкусием на считанные мгновения дает горькую ноту миндаля. Кажется, мне удалось ее поймать.
– А когда тонет корабль, и моряки кружатся в теченьях глубинных вод, Морская Звезда кричит им громко-громко: «К нам! К нам!!» – подхватил Роман, улыбаясь в свой черед. – Моряки ее слышат и плывут на зов.
– А что делает с моряками Морской Ёж?
– Иглами своими длинными колет. Кровь сосёт.
– А что делает с моряками Морской Конёк?
– С открытой пастью наскакивает. Кость грызёт. – Роман сделал страшное лицо.
– А Морская Звезда?
– А Морская Звезда ничего не делает. Она просто кричит: «К нам! К нам!!»
Мы тихо рассмеялись. Как же хорошо мы оба помним сказки, что рассказывала нам в детстве Наташа. Полагаю, она же их и придумывала, а потом тут же и забывала. Кто-нибудь, подозреваю, сказал бы, что Наташины сказки не вполне годились для детей. Но мы, маленькие, и не были настолько глупы, чтоб пересказывать их кому-либо из взрослых.
– Наташино здоровье.
– Да.
– Ваше Сиятельство, ваш гость. – Официант приблизился к нам не в одиночестве, но, подобно лоцману, проложив к нашему столику путь посетителю.
– О, добрый вечер, Ваше Высокопревосходительство, – приветливо воскликнул Роман. – Мы ждали.
Высокопревосходительство? Я на мгновение смешалась. Впрочем, да, разумеется, это здесь он по понятным причинам не носит мундира – вот и выглядит штатским. Но, конечно же, генерал.
– Я помнил, Ваше Сиятельство, что компания наша умножилась, но приятно удивлен, что сия оказалась госпожа Чудинова. – Авигдор Эскин церемонно поклонился.
– Вы разве знакомы? – немного удивился Роман. – Тем лучше, нужды нет представлять.
– Василий Иванович сам подойдет обсудить заказ, – официант ретировался.
– Но не нарушаю ли я опять течения каких-нибудь особо секретных дел? – Кольнула я маленькой шпилькой.
– Нимало, – не повел бровью Роман. – Мы в самом деле намеревались просто отужинать. Обо всех секретных и несекретных делах говорено в кулуарах конференции.
– Я уж мог бы три дни как отправиться восвояси. – Эскин приподнял свой возникший из воздуха бокал. – Но соблазнился программой Московской Консерватории. На этой неделе начало сезона. Когда-то еще время будет?
Начало сезона… А ведь я еще не телефонировала Бетси. Откладывать меж тем нельзя. Впрочем, немного погодя выйду из-за стола и сделаю свой звонок.
К нашему столику уже подплывала величественная фигура метрдотеля.
– Не рискну советовать вам здешний оливье37, хотя делают и недурно. – Роман углубился в меню. – Разве что попросить их не класть туда рябчика?
– А также не класть омаров и черной икры, – развеселился Эскин. – Вкушать же голый вареный картофель я не готов.
– Мне чрезвычайно жаль, что у нас нет карты кошерного меню, – смутился метр.
– Полагаю, ради тех двух-трех сотен иудеев, что проживают в Москве, не очень целесообразно стараться. – Серо-голубые глаза Эскина так и смеялись. – Разве что мои единоверцы купно обещались бы посещать единственно ваше заведение.
– Пять сотен человек, – невзначай уточнил Роман.
Эскин слегка приподнял бровь.
Хотелось бы знать, что ж их так разбирает-то? Вот ведь развлекаются.
– Ты позволишь мне сделать выбор за тебя, Лена?
– С удовольствием.
– Стерлядки еще живые, – подсказал метрдотель. – О, опять же тысячу извинений! Форель?
– Блины, – решился Эскин.
Наконец с делом было покончено, и помянутый выше Василий Иванович удалился.
– А знаете, граф… – Эскин сделал глоток вина, вдруг посерьезнев. – Мне вдруг даже не по себе сделалось. Вот мы сейчас шутим о том, триста или пятьсот евреев по каким-то своим причинам предпочитает жить в русском городе. Но что было бы, если б на рубеже тридцатых годов мой народ не обрел бы собственного дома? Полагаю, то нравственное разложение, в котором еврейство пребывало в начале ХХ столетия, только продлилось бы, множа вред как вам, так и нам самим.
– Помнится, англичане были не слишком довольны тогда тем, что выпустили территории из рук. Но сегодня представляется таким очевидным то, что каждый народ должен владеть своей землей, – согласился Роман.
– Каждый исторический народ, – тонко усмехнулся Эскин. – Ибо спички детям не игрушка.
– Благодарение Богу, эксперименты с выведением этносов в пробирке, политических нужд ради, остались в прошлом. Уж чего только не было, украинцев каких-то придумывали…
– Как знать, что грядет. – Эскин улыбнулся мне, словно извиняясь за то, что нить разговора пока плелась без моего участия, ибо завилась явно раньше сегодняшнего вечера. Я заметила, что между этими двумя уже отменно установился общий язык. Их даже несколько обременяла необходимость официальных обращений – они б с удовольствием сделались накоротке. Но не во всех случаях позволительно расстегнуть пиджак. – Вы, русские, гнете повсеместно свою линию, а рикошетом-то пройдется по всем.
– Вы знаете, что мы прилагаем все мыслимые усилия против всех разновидностей рикошета. Из того вы сейчас и здесь. Но время не ждет. – Лицо Романа сделалось жестче. – Мы еще на христианском континенте порядка не навели. Да, мы немало хорошего получили от рождения. От поколений отцов и дедов, по сути, спасших цивилизацию. Но Черная Африка, тут вы лучше меня представляете положение, но львиная часть Азии, но исламский мир… Крах старой колониальной системы был неизбежен, новые, более разумные и гуманные очертания патернализма еще не выкристаллизовались… Голод, хаос… Единственное, что покуда удается Священному Союзу: перекрывать потоки современного вооружения в родоплеменные общества… Но вообразите на минутку полчища хуту, вооруженные автоматами Федорова38.
– Жуть берет, – согласился Эскин. – Я тоже об этом задумывался. Причем не применительно к хуту.
Нас отвлекли расстановкой блюд.
– Пожалуй, я знаю, чего мне недостает до полного счастья. – Я раскрыла сумочку. – Et voice. Господин министр, мне кажется, тоже будет.
Эскин рассмеялся.
А ведь я не курила с того дня, как заболела Наташа! Ах, как же хорошо, невзирая на сердитый взгляд Романа, впрочем, и сердится-то он больше для порядка.
– А вот скажите, господа и сиятельства39, – мужчины уже взялись за столовые приборы, а я все медлила приступать к еде, наслаждаясь сигаретой. – Сколь значима национальная идея в мире доминанты идей религиозных? Ведь в России прошлого века не было ничего сколь-нибудь схожего с Action française времен раннего Морреса и Барраса.
– Потому на наши головы и рухнул интернационал, – ответил Роман. – Ты знаешь это лучше меня, Лена. Концепция государственной безопасности по Каштанову: «слияние неслиянного». Казалось бы – зачем быть французом, если ты католик? Зачем быть русским, если ты православный? Вот видишь, мы за этим столом уже стукнулись об исключение. Государство должно держать в руках сосуд с маслом и сосуд с водой, но понимать, что смешивать их не нужно и невозможно. Моррас не заметил собственного противоречия, выстроив в один ряд вселенскую религию и кровь. Каштанов не только сгладил его, но и обернул сильной стороной. Путь духовный – вне благ земных, путь национальный, напротив, связан с земным процветанием народа. Но государство рушится одинаково – стоит выбить из-под него любой из этих столпов. Это ведь только после Гражданской мы, наученные горьким опытом, ввели понятие «государствообразующей нации». До этого была только государственная религия.
– У вас ведь все проще, господин Эскин? Национальное и религиозное слиты воедино?
– Так да не совсем, госпожа Чудинова. Но, в любом случае, каждый человек сам выбирает свой путь, и бывает выбор, за который ему приходится платить больше, чем пойди он иным путем. Но это справедливо.
– Милюлюки и прочие либералы до сих пор шулерствуют, пытаясь спекулировать на теме смешанного происхождения. Пару месяцев тому одна дура, прости Лена, мне так и сказала: «Но вы же не русский, вы сами признались, что у вас примерно пятидесятая часть шотландской крови!»
Я даже, кажется, знаю, о какой дуре речь. Ах, так вот оно, как ларчик-то открывался! Космос… Ну, Роман, я-то понять не могла…
Официант сменил тюльпаны на одну креманку и два флюте40, и принялся откупоривать Голицынское, дожидавшееся своего часа в серебряном ведёрке.
– Так что, за удачу? – Роман улыбнулся.
– Я бы сказал, за успех вашей авантюры, – усмехнулся Эскин.
Я присоединилась к тосту, смысл которого не был мне ясен. «Полный влагой искрометной, Зашипел ты, мой бокал! И покрыл туман приветный Твой озябнувший кристалл». Баратынский, право же, восхитителен. Ах, Пушкин, злодей, скольких мы не замечаем в твоей тени? Довольно с меня на сегодня серьезных тем.
– На мой сторонний взгляд, вы слишком уж связали свое нынешнее целеполагание с практическими задачами, – сказал тем временем Эскин Роману. – Впрочем, это специфика сугубо вашего, христианского мира.
В эту минуту в кармане у Романа громко зазвенело нечто, напоминающее будильник. Но не может же он носить при себе будильники, в самом-то деле?
Роман между тем извлек шумный предмет наружу. Это оказался черный футлярчик из пластической массы, вершка в два с половиной длиною. Нет, не футлярчик, оно, кажется, не раскрывается. Какие-то кнопочки на поверхности. И на редкость противный звон, сделавшийся еще громче.
– Я слушаю, – бросил Роман, поднеся свою коробчонку к уху. До этого он вытянул из верхней части непонятного предметика какой-то шпенёк. Звон прекратился, но в коробчонке зашуршало что-то, похожее на человеческий голос. – Да, оторвали от ужина, но давайте по сути. Что? Не расслышал. А, ясно. Сам же Тихонин? Жаль… Ну да, ниточка оборвалась. С утра появлюсь. Пока до свиданья.
– Убийство в богемном кружке? – Эскин прищурился.
– Оно самое, будь неладно.
Я поняла уже, что та деятельность Романа, что до сегодняшней случайности оставалась для меня секретною, секрет составляет отнюдь не для всех. Но это не в обиду. Исключения тут делаются не по степени дружеской близости, а по мере строгой необходимости. Я довольно читала про колчаковскую контрразведку, чтобы понимать подобные вещи.
– Кстати, прошу прощения, вспомнилось, что также мог пропустить важный звонок. – Эскин в свой черед полез в карман. Его коробчонка оказалась не черная, но серая, и не с прямыми углами, а с закругленными. Он внимательно на нее посмотрел, слегка хмурясь для вящей важности. – Нет, все в порядке.
Я откровенно расхохоталась. Собеседники взглянули на меня, затем на свои игрушки, и тоже начали смеяться.
– А в производство уже запустили? – поинтересовался Роман.
– Еще нет. А вы?
– Мы б уже, да медики тормозят. Все испытывают, достаточно ли безвредно.
– Экая гадость. – Я поморщилась. – Стало быть, через полгода-год все станут таскать с собой телефоны? Но это же чудовищно стеснит. Мало того, что дома до тебя добирается всяк, кому не лень…
На меня поглядели без понимания.
– Кстати, можно взглянуть на ваш поближе?
– А можно взаимно?
Мужчины обменялись игрушками, и за столом на несколько минут воцарилось деловитое и ревнивое молчание.
– Ладно. – Я успела соскучиться лицезрением тыкающих пальцами в кнопки собеседников. – По крайней мере, Роман, я, стало быть, могу позаимствовать у тебя эту штуку, чтобы позвонить Бегичевым?
– Если признаешь, что это все же удобно и замечательно, то можешь.
– А кстати, Ваше Сиятельство… Вы знаете, мне ведь тоже интересны деструктивные сиречь энтропические социальные всплески. Раз уж я еще несколько дней здесь, возьмите-ка меня тоже в пинкертоны. Неофициально, разумеется. Вы ведь на место преступления завтра?
– Отчего бы и нет? – рассмеялся Роман.
– Тогда уж и меня.
– … Тебя?
– Ты сам давеча говорил, что молодость нам дана на то, чтоб в цвете красоты и сил пользоваться радостями жизни. А теперь не хочешь взять меня на место преступления.
– Что тут скажешь?
Странно… Роман сегодня был весел и добр, словно бы и не подслушала я никаких его секретов. И мне не так уж часто удается добиваться от него исполнения моих прихотей, в особенности столь неразумных.
– В Старом Палашёвском переулке я намерен быть к двум часам пополудни. Свяжемся завтра с утра по телефону. По самому обыкновенному. – Роман протянул мне только что возвращенный ему обратно черный аппаратик. – Можешь звонить Бетси. Я ведь вижу, что она тебе зачем-то срочно нужна.
Глава XIV Почему Дзёмги?
– Доброе утро, Нелли! Я не некстати?
Девять из десяти человек при взгляде на это лицо в чуть искажающей электронной передаче перепутали бы его с лицом Ника. Но не я. Конечно же, не я.
– Здравствуй, Миша. Рада тебя видеть.
– Не будет нескромным обрадовать тебя еще сильнее? – широко улыбнулся Великий Князь.
– То есть?
– Если ты рада меня видеть через линзу, то, может статься, мое появление во плоти явится большей радостью?
– В стратосфере все такие наглецы?
– На орбите, извини за уточнение. Нет, только я там такой, остальные скромные. Нелли, мне бы очень нужно было к тебе заехать на несколько минут. И хорошо бы сегодня.
Я, еще сонная, кинула взгляд на старые напольные часы. Что же, еще есть часа три до того, как за мною заедут, как грозились, Роман с Эскиным.
– Хорошо, я буду ждать.
– Merci. Я при встрече все объясню.
Отсоединившись, я прошла на кухню. Катя, выдраившая накануне квартиру, оставила заодно кучу провизии. Так что вместо чаю я могу сделать для Миши гоголь-моголь, он с детства обожает.
Как же странно оказаться у себя дома… Словно бы впрямь воротилась из Рима. Не из Рима, увы, но из областей туманных и темных.
Недолго дому пустовать. Скоро воротится с Саарема мама, а стало быть, начнут появляться ее коллеги, сделается звонко от смеха племянниц, которые станут на улице Вавилова частыми гостьями. Ой, ведь сестре на днях надо будет нанести визит, а стало быть, успеть купить девочкам подарки… Осень грядет. Промелькнет потемневший в бронзу, с до белизны выгоревшими в Гоби волосами отец, но ненадолго – дня на три. А затем отбудет к дяде Сергей Константиновичу – бить глухарей и удить хариусов в Прикамье, до первого снега.
На журнальном столике успела скопиться груда газет, даром что не так уж много их выписываем. Я машинально развернула «Московские новости». О, а тут прелюбопытная развивается коллизия. Стоит того, чтоб залезть в кресло и толком прочесть.
Купеческое собрание вновь подняло свою излюбленную тему. Хотят перед своим зданьем собрания, на Малой Дмитровке, ставить памятник под названием «Купеческая Честь». Название давно уж прижилось, а памятника нет. Есть проект, очень красивый, скульптора Карташёва. Памятник предполагается двойной: Ивану Васильевичу Четверикову и Сергею Ивановичу. Проектировщик выразительно схватил момент, где пожилой предприниматель обращается с наставлением к сыну, одновременно являя собою образ душевной муки и несокрушимой воли.
Помню, годов одиннадцати я буквально год не выпускала из рук роман «Граф Монте-Кристо». Заканчивала, и почти сразу начинала сначала. С детьми такое бывает иногда. Заворожит незнамо что – и не отдерешь.
Папа до сих пор не оставил привычки заглядывать мне в книгу через плечо. А тут я как раз читала, еле справляясь с волнением. Старый Моррель возражал сыну, пытавшемуся отобрать у него пистолет:
«Видя, какой смертью я погиб, самые черствые люди тебя пожалеют. Тебе, может быть, дадут отсрочку, в которой мне отказали бы. Тогда сделай все, чтобы позорное слово не было произнесено, возьмись за дело, борись мужественно и пылко. Живите как можно скромнее, чтобы день за днем достояние тех, кому я должен, росло и множилось в твоих руках. Помни, какой это будет прекрасный день, великий, торжественный день, когда моя честь будет восстановлена, когда в этой самой конторе ты сможешь сказать: мой отец умер, потому, что не был в состоянии сделать то, что сегодня сделал я, но он умер спокойно, ибо знал, что я это сделаю41».
«Ну и зачем тебе читать эти выдумки?» – спросил папа.
Я не нашла слов в ответ от возмущения. Ведь это же так благородно, ну и что, что выдумка, зато какая прекрасная!
«В жизни все вышло много благороднее, – заметил папа. – Но никакой Монте-Кристо не выскакивал из-за угла с мешком золота в последнюю минуту, чтобы всех спасти. Не знаю, как во Франции, а вот у нас в России такие купцы были на самом деле».
Он порылся в книжных полках, и в конце концов извлек роскошно изданный мемориальный альбом.
В тот день я позабыла про Дюма. С невероятным волнением я читала историю фамилии Четвериковых, рухнувших было в разорение после двух столетий преуспеяния.
Ах, как красиво! Не имея в ящике кассы ни рубля на грядущий утром платеж, Иван Васильевич Четвериков написал ночью письмо сыну и пустил пулю в лоб в конторе Городищевской суконной фабрики. Это была зима 1873-го года. Прочтя отцовский завет, двадцатиоднолетний Сергей поставил крест на чаемом поприще музыканта. Он предстал перед кредиторами, выразив намеренье продолжить дело отца. Совещание кредиторов и в самом деле постановило «не теснить» наследника, а Московский Купеческий банк выдал на десять лет значительную ссуду.
Нравится мне, уже во взрослом состоянии, в детстве я об этом не задумывалась, то, какими путями шел к цели Сергей Иванович. Изнемогая под долговым бременем, он уменьшил рабочий день до девяти часов, запретил ночные смены для женщин и малолетних, основал фабричную школу.
И тут новый удар – польские мануфактурщики сбили цены, наводнив рынок дешевыми тканями, намешивая в шерсть всякой ерунды. За ними последовали многие из отечественных промышленников. Сергей Иванович остался верен хорошему качеству. Более года его предприятия висели на волоске. Но Четвериков выстоял. И дождался подъема спроса на добротный товар.
А дальше начинается такое, что во сне не привиделось бы Александру Дюма. Престранные объявления появились в московских газетах в конце 1907 года: Четвериков разыскивал отцовских вкладчиков либо их наследников!
«За эти 36 лет большинство кредиторов перемёрло и давно все об этом забыли – не забыл только я!42» вспоминал Сергей Иванович.
Этот полный возврат долгов потряс даже купеческую Москву, где миллионные сделки заключались под честное слово. Тридцать шесть лет труда во имя семейной чести!
Ну да о Четверикове можно вспоминать долго. Не напрасно его портреты украшают все собрания нынешних «прогрессистов», он же их отец-основатель, даже их название придумано им перед революцией. Система, по которой и сегодня рабочие являются участниками фабричной прибыли, установлена Четвериковым, в том же самом 1907 году.
Эти две даты «1873—1907» по желанию Купеческого собрания и должны быть выбиты на постаменте.
Уж года два, как и деньги собраны по подписному листу. Шутили, что жертвователей надлежит ограничивать, ибо изваяния из чистого золота все же будут плохим тоном. Эти снобы из Купеческого вправду норовили друг друга перещеголять.
И вот – неожиданность, гром среди ясного неба. Установке памятника воспротивилось духовенство.
Нельзя де ставить памятник самоубийце…
Ох, и ломают же с той поры копья! Церковь предлагает предпринимателям ограничиться только бюстом Сергею Ивановичу. Те идут на принцип: купеческая честь сына наследована от отца.
Молодой епископ Коломенский Вениамин, пользующийся репутацией блестящего интеллектула, с год как разразился в «Неглинке» хлесткой статьей под названием «Языческие добродетели». Владыке ответил не менее острый, эмоциональный Абрикосов, нынешний глава знаменитого рода. Стало быть, сейчас противостояние пошло на новый виток.
А вопрос-то, как ни крути, сложный. У каждой стороны свой справедливый резон. Чует сердце, придется тут принимать решение лично Нику. Только что-то он решит?
Я отложила газету. От Ника мысли мои обратились к Мише. Надо бежать взбивать яйца. Гоголь-моголь принято пить в зимнюю пору, но, сколько помню Михаила, ему всегда было подавай круглый год.
Я еле успела щедро бухнуть в мисочку рома и ванили, как затрезвонил дверной «колокольчик».
Только увидев Мишу переступившим мой порог, я вдруг сообразила, что в последний раз разговаривала с ним еще до космической эпопеи. Конечно, я была на торжественном приеме в Кремле, но кроме-то меня там было еще под тысячу человек.
– Дай хоть на тебя посмотреть толком, герой. – Я расцеловала Мишу в обе щеки и отстранилась, в самом деле его разглядывая.
– Ох, Нелли, хоть ты этого слова не произноси…
Миша переменился с того вечера на реке. Словно бы как-то дотянулся до меня по годам. В самом ли деле он повзрослел, или же я, как всегда, даю волю воображению?
– Что, так тяжко?
– Ты знаешь, а мы ведь никогда не задумывались, каково живется Нику. Теперь я его куда лучше понимаю. – Миша увидел серебряную чашку с лакомством и просиял. – Ой, вот спасибо! Как мило с твоей стороны. У тебя всегда какой-то он особенно вкусный.
Себе я заварила чай.
– Я ведь вот тебя из чего решился потревожить. Я вечером улечу на Дальний Восток. В Дзёмги43.
Я чуть было не испугалась, что Миша успел с кем-то подраться, да вовремя вспомнила, что такое невозможно. Как-никак наведение на Мишу дула пистолета, хоть бы и дуэльного, приравнивается к государственной измене. Но из чего тогда Дзёмги? Город, конечно, красив, самой бы хотелось съездить. Левобережье Амура, с запада вид на вершины хребта Мяочан, с севера на вершины хребта Баджальского. Помимо своих знаменитых муссонов, известен город металлургическими заводами.
Однако, насколько я могла судить по обрывкам светской хроники, у Михаила на весь сентябрь совсем иная программа: Париж, Лондон, Дублин, Берлин, Мюнхен, Варшава… Сплошные парадные разъезды и парадные приемы.
– Не в Париж?
– Париж через четыре дня. Успею в Дзёмги.
– А когда твой рейс?
– Да, честно говоря, когда захочу. Я своим личным бортом вылетаю.
– Погоди, – было удивилась я. – Тебе же еще не положено личного борта, тебе двадцати одного года нет.
– Это Великому Князю еще не положено, – усмехнулся Миша. – А космолетчику в самый раз. Ты разрешишь?
– Кури, конечно, космолетчик, если сие не в обход начальственных запретов.
– Нелли, я не предполагал всю дальнейшую жизнь посвятить космическим полетам. – Миша вытащил из мундирного обшлага свою знатную машинку для набивки пахитосок. – Год без малого на это ушел, долг я свой исполнил, а теперь хочу, наконец, заняться древними греками. Клянусь знаменитыми лаптями Эмпедокла, мне уже по ночам снятся досократики.
– Ну, ничего, Мишенька, еще походишь по тропам науки обутым на одну ногу и босым на другую, уж кстати об обуви. А мы-то все думали, ты всерьез забросил филологический факультет, наскучило тебе.
– Так ведь оно и надо было, чтобы все так думали. А еще там осталось, в миксере? Спасибо. Нелли, я даже сейчас не знаю, для чего Нику было нужно, чтобы наш выход в космос явился уж такой сокрушительной неожиданностью. Ты знаешь, бывают положения, в которых никто из нас не вправе задавать ему вопросов. Наше дело верноподданнейше повиноваться. Кое о чем я догадываюсь, конечно. Мы живем в правовом мире. Все урегулировано, все расписано, все поделено: Антарктида, океаны, воздушное пространство – все разграничено. А вот пространство безвоздушное… Оно было ничьё. А ничьё принадлежит первооткрывателю.
– Ты хочешь сказать, что небо теперь – русское? – заинтересовалась я полушутя.
– Ну, не все так буквально… – Миша улыбнулся. – Но в каком-то смысле… Были люди и получше меня подготовленные к полету, можешь не сомневаться, были. Но правильней было – чтобы я. Я ведь проходил специальный курс обучения и тренировок, просто так на космический корабль никого не пустят. Но счастье, что меня в университете не выключили, восстановили с потерей года. Столько пропущенных лекций, не сданных работ… Теперь наверстаю. Я сейчас альфы-пурум от альфы-импурум отличить не могу, беда.
– Стало быть, служба твоя исполнена?
– Почти. Обязательств еще месяца на три. Знаешь, это невероятно странно. Ощущать, что ты, всего-навсего ты, олицетворяешь собой космическую мощь страны, Империи… Господи, как же Ник?
– Ты второй раз говоришь одно и то же о Нике.
– Еще бы мне этого не повторять. Я двух недель покуда не прожил в таком фокусе. А он так живет с детства. Сколько себя помнит. Всеми любим и всем обязан. Это сейчас еще он смеется, что хоть ненадолго я его «затмил»… Ты знаешь, самое ужасное, это письма.
– Письма? – не поняла я.
– Полтора часа каждый день на переписку. Хоть стреляйся. Ваня Бельский, правда, наделен каким-то невероятным чутьем. Большую часть он разбирает сам, сам и отвечает, мне только на подпись приносит. Еще двух свитских под это дело припряг. Но даже того, что выпадает на мою долю, более, чем достаточно. Иногда я начинаю люто ненавидеть детей.
– Детей? Что-то я сегодня не успеваю за ходом твоей реактивной мысли, извини.
– А как ты думаешь, кто ко мне больше всех пишет? Дети, особенно скаутского возраста. Волчата там, белочки… Волчата меня просто загрызли. А некоторые и поменьше скаутов, эти, они больше картинки рисуют: космопорт Торетам, Землю, корабль…
– И твои портреты? – Я не удержалась и подло захихикала.
– Их тоже, – сухо подтвердил Миша.
– Итак, сегодня ты отбываешь на Амур. – Я заботливо пододвинула поближе к Мише свечу и свою воспетую в стихах пепельницу. Зачем я дразнюсь, в самом деле? У Романова-восьмого и вправду еще длится не самая простая полоса.
– Зачем я и свалился тебе как снег на голову. – Я и не заметила сразу, что Миша принес с собой еще пахнущий типографской краской, несомненно, только что купленный, томик «Хранителя Анка». Вернее сказать, я не обратила на книгу внимания, поскольку экземпляры моих авторских валяются по всему дому. Но на столик в «тёплой» гостиной я книги не клала. Да, когда Миша вошел, у него что-то было в руках.
– Заехал по дороге в лавку близ Майского дома, – подтвердил мою догадку Михаил. – У меня есть только тобой дареный, с автографом. А тут мне нужен еще один автограф. Подпишешь?
– С удовольствием. – Я вооружилась пером, благо всех видов стилосы тоже разбросаны повсюду, покуда мама не приехала, разумеется. – Кому?
– Видишь ли… – Мишино лицо приняло какое-то странное выражение. – Я не знаю имени.
– То есть как? – удивилась я. Но уже в следующее мгновение почувствовала, что спрашивать далее не надо.
– Так уж сложилось. Напиши как-нибудь так, чтобы вышло без имени, ладно?
– Без имени, так без имени.
«С сердечным приветом из Москвы в Дзёмги». Автограф у меня длинный, с датой по-латыни и прочими снобистскими фокусами, занимает половину страницы.
– Годится?
– Спасибо, замечательно.
Миша с улыбкой, так напоминающей улыбку Ника, полюбовался на мои баснословные средневековые титлы.
Я же, глядя на Мишу, все думала, как иной раз мы бываем не чутки и не тонки. Отчего я так легко поверила, будто ему надоели и «готические» молодежные сборища и древнегреческий язык?
– Я и не знал, что ты, оказывается, не поехала в Рим, Нелли. – Миша посмотрел на меня с сочувствием. – Но, я думаю, лучше тебя не расспрашивать сейчас?
– Лучше не расспрашивать, – с признательностью отозвалась я. – Тут мы с тобой в одинаковом, пожалуй, положении. Тебя ведь тоже лучше не расспрашивать?
– О том, ради чего, я лечу в Дзёмги? – не понял меня Миша. – Тут пока лучше пожелать успеха. Не уверен, справлюсь ли с одним поручением, которое сам же на себя и возложил.
– Я не поездку твою подразумевала, Миша, я все-таки не так бестактна. Я же вижу, тут что-то непростое. Успеха тебе всячески желаю, и решительно уверена, что ты справишься. Нет, просто мне подумалось, что тебе, вероятно, до невозможности надоели расспросы про космос.
– Примерно как солдату преображенцу про то, страшно ль было ехать по «чугунке». – Миша вздохнул. – Сил никаких. А ведь еще при нашей жизни все эти космические полеты станут самым обыденным скучным делом.
– Бедный ты, бедный… – Я рассмеялась. – Ну, хочешь, отвлеку тебя от этой темы?
– О, кажется, я догадался. Очень хочу. Что-то новое?
– Гмм… Пожалуй, что да.
Я «на минуту» покинула гостиную, но отсутствовала минут пять: не сразу отыскала чаемое. Листок бумаги нашелся под подушкой. Обычно я почти сразу все запоминаю наизусть, но, покуда нет душевной привычки к новому имуществу, предпочитаю заглядывать в текст.
– Тогда изволь слушать. Я думаю, это будут три стихотворения, но пока есть одно. Ты помнишь портрет Сары Фермор, работы Вишнякова?
– Портрет десятилетней внучки твоего любимого колдуна Брюса? Разумеется. Очень интересно, что ты о ней написала.
– Видишь ли… Это не о ней. О внучке Брюса я еще напишу, потому и говорю, что стихотворений, видимо, будет три. Кстати, если ты помнишь, мой любимый колдун все же не Брюс, а Брюсов Племянник. Но сейчас я думала об Иване Вишнякове. Он не внук колдуна, он сын простолюдина, мастерового. Он за пределами рамы, его мы не видим. Да и ничего интересного в нем нет. Стихи не без масонских образов, но тут ничего не поделать, у них этого в головах было полным-полно тогда, у наших предков.
Миша, его не надо было уговаривать, обратился в слух, а я начала читать то, ради чего, полуспящая, наощупь искала в пятом часу утра ручку и бювар. Напрямую вроде бы и не связанное со впечатлением, произведенным на меня вчера работой Леры, но, каким-то странным образом именно Лерой и вдохновленное.
Монолог живописца
Йоганн, я говорю сейчас с тобой, Впервые за несчетные недели. …Бездельем я свячу свой день святой, Валяясь на неубранной постели. Эпистолы – напрасные труды. Который год, как я не знаю, где ты. Жаль времени… Дворцы возводишь ты, А я пишу пейзажи и портреты. Но я сегодня пуст и одинок. Я в полдень завершил вчера картину. …Готический дай вспомнить городок, И драки, и студийную рутину. Как милой Лизхен я таскал цветы, Как перепил всех буршей на обеде. …Ты помнишь как, Йоганн, смеялся ты Над вольной силой русского медведя? Как в погребке – столетия назад — Мы задирали, хохоча, друг дружку, И, чокаясь, один хлебали яд В тяжелых именных кабацких кружках? Отравленным – ни дома, ни жены. Покоя нет ремесленникам грубым: Незримым струнам мы внимать должны, Бесплотных муз лобзать предерзко губы. Мне чья-то тень мерещится в углу. Как я устал. Как это все не внове. И сурик, что раздавлен на полу, Запекся, будто пятна чьей-то крови. С тоской скрипит походная кровать. Рвет бабочка-душа постылый кокон. …Умеешь ты пространство завивать, Как куафёр – щипцам послушный локон. Зеркальные незыблемы пруды, Меняется неспешно лик Вселенной. Ты делаешь алмазы из воды В сиянии фонтанов драгоценных. А я макаю кисти в полутьму, Я в жемчуг оборачиваю слезы, Я, запах кринов подмешав в сурьму, Переплетаю ветви, словно грезы. Сегодня сердце глухо от тоски. На оловянном блюде стынет ужин. Йоганн, мы только пальцы той руки, Что раковины лепит для жемчужин! Настанет день, мы скажем – кончен труд. Мы кисти и угольники сложили. Пусть в мире, нами созданном, живут Созданья зачарованно-чужие, Нечеловечьи отпрыски людей, Изменчиво-лукавые, как тени… …Нам не измерить собственных затей, Нам не постигнуть собственных творений. Лишь миг один, на стул упав без сил, Швырнув палитру, слезы лить способен, Владеющему ходом всех светил, Я Мастеру-Зиждителю подобен.Глава XXV Место преступления
Проводив Великого Князя, я успела телефонировать Бетси, чтобы выяснить, успела ли та побывать у Леры. О, еще бы нет! Она успела. Успела, кипела энтузиазмом и, как я смогла определить путем осторожных косвенных вопросов, мысль о том, что картина должна явиться гвоздем осеннего открытия галереи, Леру обрадовала и немного встряхнула. Большего сейчас и желать не надо.
Не успела я повесить трубки, как позвонил старший дворник, поведавший, что меня ждет автомобиль. Я, впрочем, уже была готова.
На сей раз Роман остановил выбор на надежном сером «лесснере», без герба, дабы не помечать свои деловые передвижения по городу визитными карточками – не отпечатанными на картоне, но от этого ничуть не менее ощутимыми.
– Не цените вы вашей московской прохлады, – улыбнулся Эскин, когда с церемониями было покончено, а автомобиль Романа сорвался с места. – Передают, что в Иерусалиме сегодня сорок градусов по Цельсию. Мы-то привычные, а вот европейцы не всегда справляются с собственными туристическими планами: слишком тяжело по жаре. Когда соберетесь к нам, Елена Петровна, выбирайте начало апреля либо конец октября. В эту пору у нас чудо, до чего хорошо.
Да, подумала я, в Иерусалим, конечно, я очень хочу попасть. Хотя и подозреваю иногда, что душа моя еще не доросла до того, чтобы побывать у Гроба Господня. Но все же хочу. Еще бы… Однако пока что я не попала и в Ватикан. Впрочем, огорчаться мне больше не хотелось. Как со вчерашнего дня мне сделалось веселее – так и сделалось.
Мы ехали быстро. Отчего-то мне всегда становится очень спокойно на душе, когда я наблюдаю за руками Романа, лежащими на руле автомобиля. Роман водит виртуозно, это понятно даже мне, которой даже в голову не вспало обучиться.
Доходный дом в Старом Палашёвском переулке оказался из непритязательных, без консьержки и черного хода. Впрочем, пострадавший ведь был студент, не удивительно.
Удивила же меня чрезмерная, даже для студента, запущенность жилья. Паркет был так чёрен, будто ощетиненная нога полотера не ступала не него с самой постройки дома. Просто не паркет, а земляной пол на вид. Казалось невозможным, чтоб подобная грязища наросла за несколько университетских лет. Словно бы в этих полутора комнатах несколько десятилетий жил дряхлый одинокий старик. Но запущенность оказалась только одной из странностей этой квартиры, куда нас впустили двое дежурящих тут городовых младшего оклада: один постарше, с тремя лычками на контрпогоне, другой совсем юный, лет на пять младше меня, с двумя.
Монгольские маски на драных обоях с розочками я увидела еще в выпуске новостей. Но под ними… Эскин присвистнул. Я ахнула.
– Я знал, что тебе это понравится, – Роман усмехнулся. – Впрочем, кое о чем ты уже знала, хотя и не должна бы знать…
Тут были прикноплены купленные у букиниста плакаты Красной армии. «Врангель идет – к оружью, пролетарии!» «Деникинская банда», «Земли и фабрики – помещикам и капиталистам, рабочим и крестьянам – веревка!» «Мироед с попом брюхатым и помещиком богатым из-за гор издалека тащут дружно Колчака». Увеличенные фотографии Ленина, Троцкого, Дзержинского, Урицкого. Войков был даже не на снимке, какой-то горе-художник перерисовал его тушью, а владелец забрал под стекло в рамку, да вдобавок рамка была вырезана особая, с петелькой для букетика, и в петельке вправду увядала красная гвоздичка. Чуть выше большевиков были наклеены – прямо на обои – репродукции известного «портрета» Чингисхана из Пекинского музея, и китайского же черно-белого рисунка, якобы изображающего Батыя.
В этой экзотически захламленной комнате, всю меблировку которой составляли низкая тахта, обеденный стол, разномастные стулья и книжные полки, имелись также два флага: уже мною виденный черный со стрелочками и красный.
– Доложу я тебе, что услышать и увидеть – впечатление совершенно разное.
– Ты ж никогда красных воочию не лицезрела. Даже мертвых. – Роман кивнул головой в сторону окна. Там, под калорифером, были очерчены специальным ядовито-зеленым фосфоресцирующим карандашом контуры тела. Там же темнело несколько неприятных пятен, которые я предпочла не разглядывать.
– Я смотрю, порошком-то для снятия отпечатков уже не пользуетесь? – заметил Эскин. – Поверхности чистые. То есть, конечно, грязные, но риска превратиться в кучежогов не имеет быть.
– Уж пару лет, как не пользуемся этой гадостью. Отпечатки сняты иначе, и много лучше. Впрочем, что я? Будто вы сами не знаете?
– Ну да, мы тоже снимаем фиксирующей пленкой. Разбрызгивается из пульверизатора, потом сама отстает. Ничто на нее не липнет, кроме пальцев. И надежнее, и без неприятностей наподобие черных пятен на рукавах, от которых потом отказывается любая прачечная.
Их диалог вызвал в моей памяти вчерашнюю сценку с этими кошмарными карманными телефонами. «Мальчишки всегда…» – мелькнуло в голове.
– Что это тебя развеселило, Лена?
– Так… пустое.
– Никто, конечно, не заходил? – обратился Роман к старшему из городовых.
– Никак нет, Ваше Сиятельство! – отчеканил тот. – Иначе б, памятуя распоряжение, задержали до выяснения.
– Так уж спросил, для очистки совести. Ясен пень, раз не успели удержать журналистов, никто сюда и не сунется. Собственно говоря, сегодня опечатаем. – Тут в Романовом кармане опять взбесился легкий на помине «будильник». – Да. Что? Я уже на месте. Выеду минут через сорок.
– Куда ты выедешь через сорок минут? – поинтересовалась я, продолжая оглядываться.
– Вот через сорок минут и узнаешь, – вернул мне недоговоренность Роман. – Вот что. Тут и так тесно, впятером не разгуляться. Можете быть свободны, часа на полтора. Далеко не отходить, но через дорогу я видел чайную. Перекусите пока.
Последнее, разумеется, относилось к стражам порядка. Как же, все-таки, странно… Как я могла, зная Романа вроде бы как облупленного, давным-давно не догадаться, что он занимается государственной безопасностью? Разве по росту ему всего лишь роль младшего отцовского компаньона и любителя путешествовать по внеисторическим странам? Как я могла до такой степени его не понять, ни разу ничего не заподозрить? Причина, к сожалению, ясна: мой всегдашний эгоцентризм. Я не умею думать о своих близких. И кстати да, послезавтра воскресенье. Пора бы к исповеди. Тем более, воскресенье будет особое: воротится из Санкт-Петербурга архиепископ Могилёвский44 Станислав Мажейка, принимавший участие в конклаве. Глядишь, в церкви Святого Людовика уже и папскую энциклику будут читать, раз в столице еще не читано… Какой будет она, эта первая энциклика?
– Тебе уже скучно? – поддел Роман.
– Мне интересно. Хотя и очень противно.
Втроем в жилище пострадавшего сделалось ощутимо просторнее. Из комнаты зияла дверь в какое-то подобие спальни: узкая щель, где нашлось места лишь для кровати, неубранной, да стойка с вешалками для одежды. Ну и везде стопки книг, вороха бумаг…
Грязная посуда по углам и подоконникам, кульки с зацветшей снедью, пустые бутылки, выстроенные вдоль всех стен. Казалось, будто помещение не проветривали несколько месяцев. Я тихонько вытащила из рукава жакетки надушенный платочек и пару раз вдохнула пачули.
– Не поможет, госпожа Чудинова, – заметил мой маневр Эскин. – Лучше бы вам извлечь из вашей сумочки то, что в ней находится, хотя и непонятно, как в ней может помещаться даже это. И заодно угостить меня.
– У меня жизненное правило – не курить двух дней подряд, – рассмеялась я. – Но в порядке исключения…
Мы не без опаски (во всяком случае, об опаске скажу за себя) расселись посреди комнаты на разномастных стульях. Их и оказалось как раз три штуки.
– Не было необходимости все, что тут есть, вывозить, – начал Роман, с привычным недовольством покосившись на мою сигаретку. – Обыск показал, что в бумагах убитого ничего существенного для расследования нет. Точней сказать, все, что показалось интересным, мы уже забрали. Но, хоть я и представляю приблизительный облик жертвы, мне хотелось для начала немножко лучше ощутить общую атмосферу. Вот он, кстати, покойничек-то. Студент Вячеслав Тихонин.
Роман ткнул в прикнопленную к стене цветную фотографию молодого человека во взятой, вероятно, из театрального проката буденовке с красной звездой.
Уж не знаю, чего я ждала увидеть, под этими-то портретами всех мыслимых монстров. Но ничего сколько-нибудь поражающего воображение моему взору не предстало. Напротив, лицо Тихонина удивляло тем, что было обычным, самым обычным. Такой тип нередок среди скобарей. Хорошее лицо. Разве что непонятное, тревожно-возбужденное выражение глаз, которое сумела схватить даже равнодушная камера.
– А ты думала, они каких-нибудь особых уродов выбирают? – понял Роман. – Покойнику еще двадцати не стукнуло, и ведь теперь уже не стукнет. В эти годы человек ищет, не знает себя, готов идти на поводу у всякого, кто с умом погладит по голове. Не кидай на меня гневных взглядов, да, мы такими не были, но так ведь спасибо старшему поколению. Тут немножко другое. Отец у него владеет небольшой авторемонтной мастерской, а сына, вишь, отправил постигать теоретические науки. Думаю, в какой-то момент утратился общий язык с семьей. Необходимость же в авторитетах сделалась только сильнее… Et voice.
Он протянул руку и взял две первых попавшихся растрепанных рукописи, протянул одну мне, другую Эскину.
Я не сразу поняла, что именно с первых слов раздражило глаз. Вне сомнения машинка с текстовым редактором, самая простая, на которой это все было написано, обладала обычной клавиатурой. Но автор использовал ее не весьма обычно. Он избегал целого ряда букв: «ѣ», «i», «Ѳ», вероятно также «ѵ», что, конечно, трудней было заметить с первого взгляда, избегал также ставить на места «ъ»… Совдеповская орфография! Впрочем, чему тут удивляться…
Но через минуту другую мне сделалось совсем не до орфографии…
Эссе какого-то Алексея Овсова, зачитанное до дыр и в такой же степени засаленное, словно с ним знакомились преимущественно за едой, носило название, от которого дрожь омерзения пробежала по телу. Оно называлось «Черемнуха – возвращенный Дионис».
Мне было около шестнадцати лет, поэтому многие подробности деяний омерзительного маниака от меня скрывали, но достало и того, что все же просочилось в газеты. Черемнуха, примерный семьянин и наихвалебным образом аттестованный по службе фабричный бухгалтер, в течение нескольких лет убивал близ станций пригородных поездов девушек и мальчиков. За мальчиками он охотился отчего-то только за одетыми в белые сорочки. По радио даже просили тогда воздержаться наряжать детей подобным образом. Адски хитрый, Черемнуха долго оставался непойманным. К тому же маниак сменил один раз место проживания, перебравшись из Воронежа в Саратов. Благодарение небесам, что у нас нет смертной казни: три человека были за эти годы арестованы и признаны виновными. После каждого суда Черемнуха надолго затихал, все вздыхали о облегчением… До следующей жертвы. И очередного невинно осужденного оправдывали, и розыск начинался по новой… Вся страна затаила дыхание, когда следователь Раис Магомедов, направленный в Саратов из Казани, в разгар паники жестко отчеканил в глаза новостных камер: «Или убийств больше не будет, или я пущу себе пулю в лоб». Он его нашел, он нашел Черемнуху… Со стороны не представить, как он его искал…
«Черемнуха Дионису современник, он касается его рукой… Богу Сету он свой, они компаньоны… В трагедии психики, в сакральности преступления, внутри мифа времени нет. Все, что происходит в нем – наш вечный сегодняшний день. Отражения сущего: его контекстуальная аргументация, противопоставленная пошлой аргументации универсальной… Монблан культурных кодов… Все это растворяется во влажном, победительном, пьяном акте преступления… Пошлость художника в том, что он безопасно для себя разделяет сферы творчества и жизни, снижая накал поиска сути. Но преступнику негде спрятаться… Он беззащитен. Кровью исходящий плод его рук – он перед ним. Куда бежать, на кого переложить ответственность?»…
– Роман…
– Читай-читай… Ты же этого хотела. Как литератору, тебе, полагаю, окажется небесполезным.
Эскин, похоже, и не услышал нашего краткого диалога. Он весь погрузился в чтение – и лицо его сделалось жестче и старше.
«Я смог, я сумел!! – кричит темный вечный голос из пропасти внутреннего мира… Внутренний зверь – не метафора, это данность, это божество… Расчленить – значит постичь, постичь суть дуализма. Убийца и жертва – две стороны медали… В этой драме нет двух актеров, есть слияние… Жертвенный акт, синтез… Сколь пошло делить этот великий акт на жертву и палача! Преступник и жертва заключают мистический договор, вовлекающий их в состояние особой близости. Вы скажете «жертве больно, жертве страшно»… А вы, профаны, думаете, сидя в теплых безопасных гостиных с газетой в руках, думаете, что это не больно – убивать? Что мучить другого, наивно попавшего в твои руки, не страшно? Думаете, что не противно – терзать ножом вонючие потроха?
Убивающий и убиваемый – оба преступают одну таинственную грань. Ужас, испытываемый обоими, трансформируется в силу, переносящую их в особое мистическое пространство, в волшебный мир, стелющий под их ноги черные травы… Оба ступают на эти луга.
Заклание, расчленение, жертва – не что иное, как повторение великого творения. Это основа мифа. Палач, подручный космоса, умирает вместе с жертвой, и восстает, обновленный, напоенный тайной. Расчленение – шаг в новый мир45».
Я некоторое время молчала, отстранившись от прочтенных страниц. Эскин, не нарушая молчания, одной рукой протянул мне рукопись, с которой ознакомился, другой же коснулся той, что была у меня. Так же молча я завершила этот обмен.
Теперь у меня, столь же растрепанная, оказалась статья какого-то Джамшида Ордынского. «Горный ислам как высшая форма модальности». Я читала уже не так внимательно, какой-то незримый «индикатор лексикографа», как выразилась бы баснословная дурища Латыпова, ощутимо указывал на перегрузку. Автор призывал к разрушению цивилизации и государства, возвращению к натуральному хозяйству и праву сильного. Родоплеменные отношения он выводил как идеал человеческого существования. В набеговой форме экономики видел единственную возможность поддерживать «здоровое состояние» племен, именуемых им «тейпами».
«Исламский мир сегодня неправильно живет. Все живут в государстве. Сегодня решения принимают главы государств. Когда распадутся государства, сразу хаос будет. Великий хаос. А великий хаос создает новый порядок. Когда увидят, что кровно-родственный порядок может существовать как альтернатива государственному порядку, тогда люди пойдут по правильному пути46».
– Ммда… – Я повернулась к Роману. – Ты смотрел, что он пишет? «Цивилизация – это вирус, медицина – противоестественный отбор, ненормальное продление жизней экземпляров, выбракованных природой». Сам-то что, никогда не болел, умник?
– Полгода назад аппендицитом, – уронил Роман. – Извел всех больничных служащих, настаивал, чтобы его оперировал непременно сам Синицын. Со скандалами требовал, чтобы профессор Синицын уделил свое драгоценное время на банальный случай аппендицита. Пришлось ему, конечно, обойтись помощью рядового хирурга. И ведь такая наглость при том, что лечебная карта у него «для бедных», то есть ни единого взноса он на медицинское обслуживание не внес.
– Так кто этот Джамшид Ордынский?
– Псевдоним. Некий Пырин. Ты еще Головлёва не читала, их заглавного.
– Я и не смогу. – Я по-прежнему ощущала явный переизбыток впечатлений. – Право, с меня довольно этих двух. Ты посмотри, что он несет: «Цивилизационное отставание, которое вменяют исламскому миру в слабость, является в действительности его силой. Огнестрельное оружие – единственное изобретение, которое нам нужно оставить от нечистого мира кафиров». Еще он как-то пытается это с коммунизмом связать… Роман, каким же образом этот бред затянул студента университета?
– Я же тебе уже ответил. Попался в их руки в самое неподходящее время. Не случись голубчиков рядом – все бы утряслось.
Я вновь взглянула на фотографию Тихонина. Я должна бы испытывать к нему, хоть бы и к мертвому, омерзение и ненависть. Это был враг. Враг, словно заброшенный из прошлого. Но отчего я не улыбаюсь сейчас моей «исторической» улыбкой? Мне отчего-то его жалко. Может статься потому, что в отличие от своих идейных предшественников, враг этот безопасен. Второй раз в нашей стране революции не устроишь. А теперь уж не поумнеть, не исправить. Как же это страшно – умереть в грязи.
– Погляди-ка… Рядом с его фото что-то еще висело. Не нашел кнопок, прилепил клеем прямо на обои. А потом кто-то это содрал, причем недавно. Ошметки бумаги не успели запылиться.
– Да видел я, видел… – Роман улыбнулся моему сыщицкому пылу. – Но едва ли это хоть что-то значит. Постоянно перевозбужденная нервная система, сплошные чувственные бури. Сегодня обзаводится очередным кумиром, завтра его низвергает. Хотя как знать… У меня, признаюсь, не достает воображения представить какой-либо другой повод для убийства, кроме этих самых роковых страстей. Да и антураж убийства, все эти дионисийские детали… Кому он еще мог перейти дорогу, кроме себе подобных, этот Тихонин?
Эскин вновь взял в руки ту рукопись, что я смотрела второй.
– В известном смысле – прямое подтверждение моих слов, Ваше Сиятельство. Когда всех ошеломят неким очаровательным сюрпризом, ответная реакция может пойти через раскачивание исламского мира.
– Как вы знаете, Ваше Высокопревосходительство, ваши опасения я понимаю и разделяю, – отозвался Роман. – Но в данном-то случае мы имеем дело не с исламским миром, а с очень незначительной группой асоциальных лиц, проще сказать, с богемой. Они хватаются за все, где чуют деструкцию.
– И я бы не сказал, что у них плохое чутье, – упрямо повторился Эскин.
– Да кто ж им позволит? Мы их терпим до тех пор, покуда они тихо безобразничают в этом самом переулке, где сняли около двадцати квартир. Безобразия – их частное право. В тех же горах их в лучшем случае ограбят, да и не надумают они туда соваться, сумасшедшие всегда хитры и заботливы о своей шкуре.
– Вы говорили о дионисийских деталях? – спросил Эскин. – В чем они заключались?
– Я не большой знаток всех этих дионисий и вакханалий… А филологической справки еще не получил. Впрочем, есть некоторое созвучие тому, что покойник столь усердно штудировал, я про Овсова. Только едва ли полагал, что сам же и попадет в переплет. Но по первому впечатлению убийство носит характер… гмм… – Роман несколько замялся.
– Ритуальный? – Эскин рассмеялся. – Меня вы этим не смутите, граф. Я хорошо помню обвинения, что выдвигались в России в начале столетия против моих единоверцев. Я был весьма заинтересован изучить тему, как вы можете догадаться.
– Ну, спрашивать о ваших выводах по делу Бейлиса было бы бестактным, – усмехнулся Роман.
– Отчего же? – Эскин посмотрел на него с каким-то странным выражением. – Вероятно, вы полагаете, что это не только бестактно, но и бессмысленно? Что я скажу сейчас некоторое количество общих слов о дикости невежественных масс, либо посетую на пресловутый антисемитизм, которого в России, кстати сказать, никогда и не было? Во всяком случае – не было до революции.
– А я могу рассчитывать на что-либо более любопытное? – глаза Романа сделались какими-то уж слишком внимательными.
– Вы можете рассчитывать на мою откровенность. Во всяком случае, если я могу рассчитывать на еще одну сигарету.
Я рассмеялась. Эскин, вне сомнения, относился к тем людям, с которыми мне приятно курить. Вредно играть в детстве в индейцев, доложу я вам. Ведь это же ритуал общения. «Тут он вынул трубку мира, очень старую, чудную, с красной каменной головкой, с чубуком из трости, в перьях. Наложил ее корою, закурил ее от угля, подал гостю чужеземцу, и повел такие речи…»
Гость-чужеземец с удовольствием затянулся. Еще в самом начале мы не обнаружили, куда стряхивать пепел. Немудрено: если для этой цели и имелась какая-нибудь жестянка из-под анчоусов (хотя покойник, вполне вероятно, был способен разбрасывать окурки просто по углам), то оную со всеми окурками увезли на экспертизу. Это даже такой невежде как я понятно. Поэтому я просто взяла с подоконника щербатое блюдце с засохшими кофейными разводами.
– Так вот, Ваше Сиятельство, все сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Да, невежественные массы, да, сам Бейлис просто попал как кур в ощип, ибо политическая конъюнктура явно была за него, а не за тех уголовных личностей. Ведь как раз шли дебаты вокруг черты оседлости. Тем не менее, версия виновности Бейлиса опиралась на широкую народную поддержку. Но заметьте, какой странный фокус: время-то перевернуто. Обвинения инородцев в изуверских ритуалах обычно тем чаще, чем дальше мы уходим вглубь веков. Это мы обычно встречаем во всех странах без изъятья. В России же все строго наоборот. Весь восемнадцатый век прожит спокойно, да и большую часть девятнадцатого в народе тоже не ходит зловещих слухов о потребляемой нами крови младенцев. Даже когда в ваши самые высокие терема проникло учение «жидовствующих», строго отнесенное вами к ереси, Схарию с командой винили в чем угодно, но не в убиении русских детей. Его винили именно в том, что он действительно делал: в перетолковывании христианского учения в ветхозаветном ключе. А это вопрос теологии. Никакой дикости по довольно-таки диким временам. И тут вдруг, извольте: начинается двадцатое столетие, казалось бы… Тут-то и раз.
– Полагаю, у вас есть и ответ?
– Есть, – твердо ответил Эскин. – Народное сознание редко ошибается. Но не всегда способно обмыслить собственную интуицию. Я уже говорил об этом госпоже Чудиновой, когда мы беседовали о ее книге, точнее – о роли еврейства в революции. Поймите, для народа, лишенного родины, религия заменяет отечество. Русский оказался страшен без религии, еврей же – страшен втройне, ибо в самом деле полностью утратил нравственную основу. Тогда шла мощная волна всеобщего впадения в атеизм. Проще говоря, простой народ чуял, что беды от евреев будут. Только не понял, от каких. Пригляд-то нужен был за бойкими студентами, а не за богобоязненными обывателями.
– Интересно. Так или иначе, а легко нам сейчас об этом толковать, когда вы выстроили собственную страну, а все больные темы остались в прошлом.
– Да. – Взгляд Эскина затуманился. – Человек должен жить в своей стране. Ну и умирать за нее, если понадобится. Но прошу прощения за пафос. Так что там было, с ритуальной стороной?
– Как видите, здесь помечено положение тела. – Роман поднялся и прошел к окну. – Ряд ран нанесен уже по трупу, без необходимости, но с явным намереньем создать симметрию. А еще… собственно о дионисиях. Вокруг тела была разорвана на четыре части несчастная зверушка, кролик из зоологического магазина. К сожалению, эта ниточка ни к чему не привела – кролика купил сам Тихонин.
– Я что-то стремительно перестаю его жалеть.
– Я и не предполагал, Лена, что ты его пожалеешь.
– Знаешь, чуть-чуть. Ведь все-таки его изрядно заморочили. Читать эдакие милые труды днями напролет – как не съехать с ума?
Лицо Эскина между тем сделалось то ли недовольным, то ли озадаченным.
– О, – Роман взглянул на часы. – Мне понемногу пора следовать далее. Надеюсь, всем было интересно обозреть столь своеобычное forum delicti. Хотя, говоря по совести, господа47, у меня крепнет уверенность, что мы, а прежде всего я, занимаемся сущей ерундой. Убийство в среде грязной богемы – дело для самого обычного следователя. Никаких государственных интересов оно не затрагивает.
– Как знать… – вид у Эскина был по-прежнему озабоченный.
– Я, впрочем, в любом случае использую казус для того, чтобы затоптать этот Палашёвский кружок. Жаль только, что не зацепить главарей, то бишь «учителей». Но у Жоржа Малеева и у Эжена Головлёва – у обоих твердое алиби. Зато тени алиби нету у этих двух – ни у Пырина, ни у Овсова. Так что я их пока распорядился упрятать в кутузку. Так будет теплее допрашивать.
– И ты совершенно случайно, конечно, показал нам образчики именно их философской мысли? – поддела я.
– Не случайно. – Роман взглянул на меня с добродушной усмешкой и поднялся. – Едемте, господа. По дороге вас завезу.
– Спасибо за содержательный день. – Эскин улыбнулся в ответ, но затем сделался серьезен. Буду рад и далее находиться в курсе течения дела. Правду сказать, мне не дает покоя одна заковыка. Я ее еще не обдумал. Поэтому пока позволю себе выразиться иносказательно. Ваше Сиятельство, если вы делаете себе бутерброд… Вот вы положили на него толстый кусок масла. Станете ли вы размазывать сверху тоненький слой маргарина?
Глава XXVI Которую читателю можно и пропустить, ибо в ней повествуется всего лишь о всяческих приятствах
«Леший с тобой, забирай наган. С Днем Рождения! Папа».
От восторга я расцеловала оранжевую бумажку телеграммы. Потом метнулась в отцовский кабинет, извлекла предмет моего давнего вожделения сначала из тумбы, затем из лаковой китайской шкатулки. А после, прижав оружие к груди, закружилась и запрыгала по комнатам, распевая:
– С милой мы навек расстались, В жизни все дурман! Мы с тобой вдвоем остались, Черненький наган! Если сердце обманули, Жизнь постыла вдруг, Ты поставишь точку пули, Маленький мой друг!Нужды нет объяснять, сколь сильно мое настроение расходилось со словами жестокого романса. Вот, что значат терпенье и труд! Ведь я клянчила дедов наган с совершеннолетия. Даже, сдается, и раньше совершеннолетия начала, загодя. И только теперь добилась своего.
Солнечные лучи, уже осенние, холодноватые, били в восточные окна с такой силой, что, казалось, сейчас не выдержат и треснут стекла. Третье сентября по юлианскому стилю. Как же прекрасно начался день рождения, даром, что пришелся на понедельник.
Единственное что немного досадно, вчера-то после мессы в церкви святого Людовика так и не читали энциклики. Что-то задерживается с нею обретенный католическим миром Пий XIV. Ну да ничего, всему свой черед. Просто очень уж любопытно.
С милой мы навек расстались, В жизни все дурман! Мы с тобой вдвоем остались, Черненький наган!И снова зазвенело. Что-то на сей раз? Простучали тяжеловатые Катины шаги.
Катерина появилась с вечера, без моих указок рассудив, что на нее-то все и ляжет. Не успела я проснуться, а она уже облеклась в черное платье. Обычно у нас не так церемонно, но тут уж что сделаешь. Из кухни тянуло самыми соблазнительными запахами.
Что-то прибыло на сей раз? Раз мама на Саарема, то уж, поди, вспомнит, что я хотела эстонский наряд. Только не тамошний, на Саарема юбки с поперечной полосой, а я хочу продольную. Эстонскую юбку, до полу, веселую юбку, чтобы носить дома вместо глупых штанов. Старая-то моя уже износилась. По чести сказать, я бываю в Эстонии куда чаще, чем мама, но самой себе делать подарки как-то скучно.
Однако прибывший подарок поместился на подносике вместе с сопроводительным письмецом. А письмецо-то – от Наташи! Что-то она прислала? Совсем небольшая коробочка, обтянутый вишневым шелком кубик.
– Позавтракали бы сначала, – улыбнулась Катерина, проверяя косым взглядом в зеркало, довольно ли официально выглядит. Катя, конечно, прелесть, хорошо, что она у нас уж третий год. Предыдущие две девушки как-то слишком быстро замуж выскочили. Катя же никуда не спешит, и при этом решительно все успевает. У нее высокий рост, фигура хорошей пловчихи, какой она и в самом деле является, и драгоценно спокойный характер.
– Чтобы завтракать, стоило б еще и умыться, – резонно возразила я. – А я хочу свои подарки немедленно.
Я уж видела, что в столовой накрыто для чаепития, празднично накрыто, поставлена моя любимая серебряная чашка, в золотистой вазочке богемского хрусталя раскрываются первые осенние цветы, салфетка с моей монограммой продета в серебряное же, из любимого набора, кольцо.
Но какой уж там завтрак! Босая и в ночной сорочке, как выбежала за телеграммой, я скрылась с добычей в своей спальне.
За что браться с начала – за письмо или за коробочку? За коробочку! Не хочу заранее знать, что в ней. Попробовать угадать? Как-то Наташа говорила, что хорошо бы мне иметь брошь с авантюрином. Нет, не на сей раз… Коробочка хоть и маленькая, а все ж не такая маленькая, чтоб таить в себе украшение. И слишком для украшения тяжелая.
Я ахнула от восхищения. Это оказалась чернильница, старинная чернильница из бронзы и затуманенного временем стекла. Начало прошлого века, а то так и… Да, скорее век позапрошлый. Стеклянная часть легко вынималась из изящной подставки с ручкой из трех лепестков. Капризы вечности: не потерялась бронзовая крышечка, не разбилось стекло, а вот один из лепестков ручки оказался немного обломан.
«Нелли, жалею, что сегодня не получается увидеться. Но я, как Вы знаете, лежу, а зазывать Вас к себе было б необязательно по отношению к Вашим визитерам. К тому же у Гуньки сегодня день начала занятий, в доме дым коромыслом. Но на днях надеюсь Вас повидать.
Теперь о подарке. Делаю его с видами сугубо эгоистическими. Как мы с Вами прекрасно знаем, русские люди жили в XVIII столетии жизнью волшебной, полной приключений, а, главное, веселой. Во всех иных странах век выдался прескучный, но не у нас. Одно плохо: людям было так увлекательно жить, что писали они о себе неинтересно и на редкость занудливо. То ли некогда им было, то ли что… Может статься, и нарочно скрытничали, они такие. Как следствие этого, на донышках чернильниц тех времен остались неизвлеченные оттуда произведения. В этой чернильнице, мне кажется, содержится очень веселая комедия положений. Могу и ошибиться, разглядеть трудно: вдруг там и не комедия вовсе, а венок сонетов? Но мне все же видится, что там комедия. Не кажется ли Вам, что пора б эту комедию за ушко, да наружу? Ваша Н.»
Всегдашнее воздействие на меня Наташиного волшебства: я держала чернильницу в ладони, и мне в самом деле казалось, что на ее донышке дрожит какая-то причудливая крошечная тень. Крошечная тень, похожая на анемон.
Написать всю комедию – перьевой ручкой! В самом деле извлекая ее из замкнутого в стекло времени… И непременно не обычным моим почерком, а тогдашней скорописью, немного потренироваться и осилю, дело нехитрое. И купить бумаги vergé, не на обычной же белой писать! Полностью стилизовать язык под XVIII век, это я тоже смогу. А самое главное… Замысел разрастался, как на дрожжах… Вот, что будет изящно сделать! Наташин день рождения – тринадцатого ноября. Между третьим днем сентября и тринадцатым днем ноября как раз вполне можно и успеть написать такого рода безделку. Замкну день рождения днем рождения, это и будет уже мой ответный подарок. На Наташин день рождения мы будем эту комедию читать – вслух, а то и по ролям.
Ну и подарки я сегодня получаю… А ведь день еще только начинается. День только начинается, и, коль скоро это мой день, я имею полное право провести его так, как моей душеньке угодно… Чего же мне угодно? Надо решать уже с достаточной быстротой, иначе мне навяжут чужую музыку для танцев.
Через пару часов пойдут визиты. Не слишком-то я люблю это двадцатиминутное чаепитие, повторяющееся с каждым новым посетителем. И ведь только завяжется вдруг разговор, как входит новый человек, а сидящий, понятное дело, начинает собираться уходить. Поэтому всяк и старается обойтись общими фразами. Хочу ли я этой мороки, и хочет ли ее кто-нибудь из друзей и знакомых? Думаю, те, кто сегодня заедет на мою столичную квартирку, не особо огорчатся оставить карточку консьержке. Визиты – штука нудная. Но ведь никто и не знает толком, на какой я из квартир.
Я уже приводила себя в порядок, а мысли спешили: день начался так великолепно, что испортить его никак нельзя.
– Катя!
Наша помощница, все с той же понимающе снисходительной улыбкой, явилась в дверях столовой.
– Спасибо за очаровательный завтрак, цветы мои любимые. Только знаете что… У меня складывается твердое убеждение, что я сию минуту нахожусь в Петербурге.
– Неужто мыши завелись? Кто-то пирог съел, гляжу.
– Мыши.
Мне в самом деле захотелось в Петербург. Побродить бы таким-то погожим днем по Летнему саду… Вдруг вспомнилось забавное, майское: мальчик гимназист лет одиннадцати, громыхая на бегу ранцем, гонялся за сестренкой, еще не школьницей, в шелковом китайском плащике желтого шелка. Так и непонятно было, во что они, собственно, играли: в салки или в прятки? Выходило нечто среднее. Девочка, тряхнув волосами, со смехом спряталась за увенчанную своими маками Nox. «Я тебя вижу, выходи!!» – закричал брат. «Ты не можешь меня видеть, Антоша, – с достоинством возразила девочка, высовываясь из-за статуи. – Я же за Ноченьку спряталась. Значит, тут темно».
Мысль об этих незнакомых детях и прояснила мои планы. Если я и не могу силой прихоти мгновенно перенестись в Петербург, зато я могу с удовольствием кое о ком вспомнить в Москве.
Ибо если есть удовольствие большее, чем получать подарки, то это удовольствие их дарить. Уверенная, что Катя достойно соберет для меня к вечеру весь урожай визитных карточек и подарков, я выскользнула с черного хода. На всякий случай.
Таксомотор, уж мой день, так мой, быстро домчал бы меня в старый город, но по дороге я на добрый час завернула в «Детский мир». Сопровождаемая приказчиком, невидимым за многочисленными коробками и пакетами, воротилась к автомобилю. Ну, вот и Тверской бульвар.
– Нелли? Именинница в такую рань? – сестра открыла дверь собственноручно. В квартире тоже Мамай воевал, как говорила бабка. Не из-за начала учебного года, как у Наташи, но потому, что из Бусинок воротились лишь позавчера. Одно другого стоит.
Мы с Верой вовсе не похожи, сестер в нас не узнают. Волосы у сестры светло-каштановые, вьющиеся, глаза прекрасного цвета – дымчато-серые, безо всяких моих болотных крапинок. (Это только в романах пишут о красоте зеленых глаз, в жизни я ни разу не встречала таких, что вызвали б восхищение). Черты лица более правильные, чем у меня, классические. А главное – решительно разнятся характеры. Сколько я себя помню – сестра всегда казалась мне какой-то удивительно взрослой, уравновешенной, рассудительной. Четырехлетней, мне казалась взрослой двенадцатилетняя, с достоинством руководившая тем, как мы, человек пять помладше, сидим за круглым столом, прилежно протирая пальцами мокрую оборотную сторону переводных картинок. Вера одновременно успевает и вытереть пролившуюся из блюдца воду, и разрешить спор из-за самой красивой, серебряной, и похвалить за удачно сведенный рисунок. Или же мои воспоминания восьмилетней о шестнадцатилетней сестре. В темных гимназических платьях, хорошие собою, но какие-то невероятно строгие, они с подругой Мариной Крамаренко, дочерью Николая Николаевича, директора Палеонтологического института, говорят за шитьем о (как я сейчас понимаю) теории струн и бета-функции Эйлера. В ту пору сестра еще делала выбор между живописью и точными науками. Через год она поступила все же в Академию, Марина же так и направилась по стезе теоретической физики. От сестры всегда веет каким-то внутренним покоем.
Идет время, но я отчего-то никогда не догоняю сестры. Она по-прежнему взрослая. Я по-прежнему не очень, даром, что уже признанный в мои теперь уже двадцать четыре года литератор.
– Что так внимательно меня разглядываешь? Да, переезд, да, одичала в глуши за лето.
– Пустое! Просто не видела тебя с мая. Я еще и по сторонам сейчас осмотрюсь, ибо больше трех месяцев сюда не заглядывала. В первое мгновение лица и предметы после долгой разлуки выглядят совсем не так, как помнились.
– Вольно ж тебе устраивать долгие разлуки. Уж так тебя ждали, особенно девочки.
Я только улыбнулась, озираясь, даром, что в прихожей еще громоздились дорожные баулы и тюки. Как здесь высоко! Потолки изрядно выше наших, современных. Квартира близ Никитских ворот48 отошла к московской ветви нашей семьи от второго дедова брата, Николая Гавриловича, финансиста, одного из тех, кто в период диктатуры восстанавливал Крестьянский банк. Николай Гаврилович, как и дед, скончался до моего рождения. Плохо быть поздним ребенком: не расспросишь свидетелей истории. Не говоря уж о том, что Николай Гаврилович, по воспоминаниям отца, великолепно разбирался в рысистых бегах. Вот уж с кем бы нашлось, о чем поговорить. Прямых наследников Николай Гаврилович не имел. Хотя женат и был, на урожденной Потоцкой, умершей лет за пятнадцать до него. Впрочем, я отчасти и рада тому, что не имею троюродных кузенов-шляхтичей. С этой фамилией в нашей семье связана одна довольно жутковатая история. Ну да что о том.
Я еще не успела пройти в гостиную, как навстречу мне горохом посыпались дети – обе, хотя показалось, что их много больше: светленькая, чем-то похожая на меня Ксюша и шатенка Мелания, копия своей бабушки в младенчестве, нашей Инны Ивановны, если судить по фотографиям. Два года разницы в возрасте – и такое несходство, уже сейчас очевидна наследственность по разным линиям. После Елизаветы Мелания – второе по популярности женское имя сейчас, не осталась чужда поветрию и сестра. Боюсь, каждую третью темноволосую девочку зовут Меланией. С моего поколения имя вошло в моду – да так пока и торжествует.
Тут уж настал мой час: наобнимавшись и нацеловавшись с племянницами, я торжественно вручила подарки. Особенно удачен был один, из купленных для Ксюши. Всего-то плоская коробка, но в ней…
Игра называлась «Рыболов»: раздвижной картонный «аквариум» с разрисованными стенками, удочка с магнитиком, яркие картонные же рыбки с металлическими носиками. Самые разные, от щуки до пескаря. Среди рыбок имелся также и дырявый башмак, могущий попасть на крючок незадачливому удильщику. А еще были фишки и табличка – сколько фишек положено рыболову за какую рыбку. (А за башмак – ничего!) Таблички они самостоятельно, конечно, не разберут, но правила запомнят быстро. Сама б и играла, честное слово! У Ксюши очевидный интерес к уженью рыбы, это она пошла в деда. Мне, к примеру, удить скучно.
Но не менее очаровательным было и голубое игрушечное пианино, предназначенное для Милы. Игрушечное, но совершенно настоящее. Ох и какофония же сегодня воцарится в доме!
Вручив эти и прочие дары, я в полной мере насладилась восторженными криками. Как же обе выросли за лето!
– Пойдем чаевничать, это их пока займет, – улыбнулась сестра. – Я привезла земляничного варенья, настоящего, нашего. Сама варила, в медном тазу и все прочее по старым правилам. Земляники этим летом под Тарусой было – немыслимо. Алые поляны.
– Сколько художников насмерть забили тему алых маковых полей. А вот алые земляничные… Или не угадала?
Сестра расставляла уже белые кузнецовские чашки с голубой каемкой. Упомянутое земляничное варенье можно было и не есть, а только нюхать. Когда запах столь восхитителен, вкус уже излишество.
– К слову… Я-то не успела закончить твоего подарка. Уж извини, захлопоталась.
– А взглянуть-то можно?
– Нет, пока не дописала, не хочу показывать.
– Не страшно. Недели через две, я чаю, родители возвратятся. Тогда отпразднуем в семейном кругу. Вот и будет мне еще один сюрприз.
– Признаться, я тем свою совесть и утешила с утра. Впрочем, все равно лучшего подарка, чем Николушка, я не сумею сделать.
– Я рано убежала из дому, пока его подарка не видела.
– И зря б ты стала искать этот подарок дома. Нелли, опять газет не читаешь, новостей не глядишь?
– Не очень читаю. А что случилось?
Сестра рассмеялась и вышла из комнаты, чтоб через несколько минут вернуться с номером «Известий».
– Не сразу нашла. Впрочем, удивляюсь, как я хоть что-то умудряюсь находить с этими маленькими разбойницами. Из вчерашних газет они себе соорудили «шалаш» – прежде, чем мы успели газеты эти проглядеть. Вот, именинница, любуйся.
Мои руки чуть дрогнули, когда я приняла «Известия» – ничего не понимая, а верней, не смея догадаться. Строчки побежали перед глазами вприпрыжку.
«Высочайшим повелением… многотрудное и талантливое отображение подвига христолюбивого воинства Северо-Западной армии… представить к ордену Святого Николая III степени…»
Николай… Новый орден, учрежденный после Реставрации, когда по понятным причинам Станислава и Белого Орла уступили полякам. Собственно он и заменяет Станислава, младший в иерархии… Но…
– Нелли, ты словно и не рада?
– Как тебе сказать… – Я по-прежнему сжимала газету в руках. – Вон Миша в космос слетал…
– Помилуй, а чем можно было наградить Мишу? Он от рождения кавалер всех высших орденов. Жаловать же за космос Николаем, хоть бы и первой степени, как-то несолидно. А за книгу – как раз.
– Велика важность, написать о христолюбивом воинстве, когда оно без того всеми чтимо. Если б я еще, допустим, жила бы при совдепе, да писала б такую книгу тайно, рискуя за правду попасть в тюрьму…
– Ну и воображение у тебя все же… Воистину поэтическое. В тюрьму за «Хранителя анка»… Надо ж придумать такую нелепость. Нелли, ну что тебя смущает? Если подумать всерьез?
– Я не знаю, в самом ли деле заслужила такую честь. Вдруг да сыграла роль наша дружба с детских лет? Вдруг я на самом деле много меньше заслуживаю ордена, чем кажется Нику?
– А ты не помнишь, кто перед тобою получил этот орден?
– Да то и дело кто-нибудь…
– Я неудачно выразилась. Кто получил этот орден также за то, что воспел Северо-Западную армию? Два года назад?
– Это неправильная игра!
Ксюша, с разгоревшимися от негодования щечками, возникла в дверях, помешав мне задуматься. Из-за ее плеча выглядывала Мила.
Вот тебе раз! А мне так понравилась…
– Да почему же неправильная, Ксюшенька?
– А зачем там одна удочка? Надо две! Мы хотим ловить рыбку вместе!
Вон оно что… Я немножко не угадала с возрастом. Они не понимают, что очередность задана для верного подсчета фишек. Им важнее не выигрыш, а процесс – опускать удочку и смотреть, что на нее попалось.
– Мы все исправим, – нашлась сестра. – Найдем в кладовке еще магнитик, а вторую удочку сделаем из старой кисточки, которой уже нельзя рисовать. Но только не сейчас, мы же пьем чай. А сейчас есть другое важное дело. Вы ведь помните, что Нелли не должна видеть сюрприз? Вот и покараульте мою мастерскую! Мою, а не папину! А то она забудет да и зайдет. И все пропало.
– Нет!! Нельзя смотреть сюрприз!
– Мы не скажем, что там!
Крошечные башмаки деловито застучали прочь.
– Прошлый раз представили композитора Никитина. Но это ж русский Пуленк! Могучая опера… Помнишь, где хор – когда армия впервые видит крест на куполе Исакия… И как оркестр дает этот звон, которого они на самом деле не слышат, ведь молчат колокола в городе, где засели большевики… Призрачный звон… Ох, как это пронзительно… И воины крестятся на купол, а музыка как бы подхватывает наложение крестного знамения… Вот они уже прорвались, они уже дошли, уже крестятся… Но битва-то еще впереди… Вот это место… «Не все войдут, не все под эти своды»… Ох, он и силен.
– Никитин написал оперу «Северо-западники» в городе Бийске, где и живет по сю пору, когда не ездит по разным странам, слушать себя на новых подмостках. Он не рос вместе с Государем, Нелли. Да и лет они разных.
– Потому он-то и может быть уверен, что награжден по заслугам.
– Государю ты дорога… – Сестра внимательно взглянула на меня. Я в который раз задалась вопросом, знает ли она что-нибудь о событиях лета 1980-го года. Не знаю, отчего, уж в любом случае не по недостатку недоверия к близким, но я тогда все от них скрыла. Благо в разгар бури их не было в Москве, а к осени я уже полностью взяла себя в руки, даже умела казаться веселой. А Наташа и Роман, тут не может быть тени сомнения, тайну сохранили.
Лучше не гадать. К чему это все.
– Государю ты дорога, – повторила сестра. – Полагаю что, подписывая указ, он радовался и простой человеческой радостью, и что не всякое награждение он утверждает с такими же чувствами. Только это ничего не значит. Задумывалась ли ты, что за все три года своего фактического правления, Николай Павлович не сделал ни единого ложного шага?
Гмм… Пожалуй. Единственный ложный шаг, который он мог сделать, и тот был раньше.
– Кто-то рождается с музыкальным талантом. Кто-то, не указываем пальцем, с талантом литературным. Кто-то рожден петь. Кто-то неизмеримо выше других парит в высотах математических абстракций. А тебе не приходило в голову, что Николушка родился с талантом царствовать? А ведь это так, Нелли.
Не знаю отчего, но мне на мгновение сделалось страшно. Даже холод пробрал.
– Ну вот, что-то ты все огорчаешься… Всем бы твои огорчения, право слово. Государю видней, кто чего достоин, верь ему. Так что будь себе спокойно кавалерственной дамой. С чем тебя, дорогая, я, кстати, и поздравляю.
– Спасибо. – Изумление мое отступало, сменяясь приятными чувствами. Пока мне еще никак не столько лет, чтобы день рождения мог огорчать. Можно просто радоваться. Какие-то еще подарки он мне преподнесет? Ведь еще только час пополудни.
– А уж папа-то будет горд… Любит он твои успехи. Ты что не ешь оладий? Они как раз к варенью.
– Катя пирогом поздравила. Варенья мне пока довольно, не проголодалась. Но варенье волшебное.
– Ну, как хочешь. Расскажи тогда, что у тебя еще новенького…
– Да все время что-нибудь… Ты ведь знаешь, я вечно куда-нибудь мчусь, и все вокруг меня тоже мчится. А вот написать кое-что написала, вчера.
– Почитаешь? А то ты ведь капризная, у тебя не всегда настроение читать. – Сестра снова улыбалась.
Неожиданно мне пришло в голову, что новое мое стихотворение как нельзя больше подходит для того, чтобы быть прочтенным здесь: где маленькие девочки, холсты и кисти.
– Почитаю. Тем более, это немножко «живописное» стихотворение. Триптих. О портрете Сары Фермор, помнишь, Вишняковском? Первое прочту потом, это о том, что чувствует живописец, его монолог. Но мне еще хотелось угадать, что в голове его модели? Вот, что у меня вышло.
Отняли кукол – слишком велика… Немного на клавире я умею… Обещана вчера моя рука Кавалергарду графу Алексею. Граф Алексей мне мячик подарил… Художнику позировать устала, Хотя пейзаж на заднике так мил… После сеанса в зале я играла Сама с собою в прятки, а потом, Наскучив за колоннами скрываться, Мяч пробковый в сафьяне золотом Достала – и давай мячом кидаться. Мне было очень весело, но вдруг, Я шлепнула сильнее только малость! Мой новый мячик вырвался из рук, Мяч вырвался из рук, какая жалость! Туда, где намалёваны меж скал Два деревца с прозрачными ветвями, Мяч вырвался из рук и ускакал, И, верно, затаился за камнями. За ним я было бросилась бежать… На полотно почти уж я шагнула… Явилась нянька, начала ворчать, Что я ее на чем-то обманула. Пришла некстати нянька, вот беда! Но все равно – мешают кринолины. …Я поздно ночью проберусь сюда, И мячик свой достану из картины.– Да, это действительно внучка колдуна Брюса, – не сразу произнесла сестра. – Кому понравится, так это Наташе. Мне, ты знаешь, немножко вчуже, хотя это и очень хорошо. Только там фижмы.
– Знаю. Принесла жизненную правду в жертву рифме. Тебе больше понравится предыдущее стихотворение, но я его сейчас читать не хочу.
Телефон зазвенел как-то неожиданно, и оттого особенно противно.
– Извини, – Вера выскользнула из комнаты. Я запоздало удивилась, куда делась Лариса Васильевна, их домашняя помощница. Впрочем, догадаться не трудно. Она же ездила с ними в Бусинки. Верно сейчас, по возвращении, на денек в отпуску, чтобы повидаться со своей родней.
– Ох… – Вид возвратившейся сестры был хоть и не всерьез, но раздосадованный. – Нелли, я ничего не могла поделать. Это была Бетси, она первое сумела вычислить, что ты у меня, второе была как раз рядом, у себя в галерее, на Спиридоновке. Словом, она сейчас зайдет. Вдобавок у меня еще разгром, а она не одна, а с каким-то знакомым.
Глава XXVII В которой всего лишь продолжается чаепитие, разве что увеличивается число сидящих за столом
– Поздравляю-поздравляю-поздравляю! – клюнула меня в обе щеки Бетси, влетев в гостиную. – Дама кавалерственная. А мой подарок видела?
– Я утром из дому убежала. Вечером увижу.
– Ну конечно, когда тут ордена, так уж что банальные подарки. Я так понимаю, представлять вас друг другу не надо? Верочка, это гость из дальних пределов.
Лицо ее спутника сначала скрыл букет темных роз – чересчур большой и чересчур помпезный, украшенный бархатными лентами в тон. Впрочем, коль скоро я в то же мгновение и увидела, кто за ним скрывался, то и в вину не поставила.
– Господин Костер, рада вас видеть.
– Счастлив вас поздравить сразу с двумя событиями, Елена Петровна. Позвольте отрекомендоваться, Вера Петровна, Юджин Костер. Простите великодушнейше за вторжение, я знаю, что мы немного некстати. В особенности, конечно, я. Но меня может, надеюсь, извинить большая необходимость встречи с вашей сестрой. Я уж отчаялся. А тут узнал, что Елизавета Андреевна к вам…
– Это в самом деле основательное извиняющее обстоятельство, – сестра забрала у меня мой букет и направилась к дверям в рассуждении положить его в воду. – Нелли, усаживай гостей.
Я тем временем расставила еще два чайных прибора и включила остывший было самовар49.
– Верушенька, варенье божественное! – искренне восхитилась Бетси. – Но что плэнеры, пейзажи? Много было нашего народа? Сейчас у меня голова кругом, кто где был летом. К открытию сезона холсты пошли сплошным потоком. Кстати, от тебя еще ничего не поступало.
– Не распаковалась, Лизок. Есть работы, завтра-послезавтра увидишь. А плэнеры были веселые. Николай Маслов к нам заезжал, ему же рядом.
Ах, ну конечно, Николай50, старший брат Веры Сен Галл. Я его мало знаю, но с сестрой-то моей они, конечно, хороши. Старшие Масловы живут на Оке. Глава семьи – речник, никто лучше Виктора Сергеевича не знает этих поросших кувшинками заводей, мелей и течений величественной реки. Семья их много поколений не покидала родных краев. Не очень-то были довольны родители, что старший сын посвятил себя живописи, а одна из дочерей – французской литературе, да еще и отбыла в двадцать лет в направлении увлечения. Ну да горе не беда, их у родителей пятеро. Но летом Николай Викторович, само собою, вспоминает родные пенаты. Ибо с усадьбы Поленова повелось, что чернохрустальная Ока в обрамлении высоких холмов – магнит для живописцев всех направлений. Поленова я не люблю, но места он выбирать умел.
– Да, Коля мне кое-что прислал. Увидишь, впрочем, ты, быть может, уж и видела. Начинаю надеяться, что осеннее открытие будет недурным.
– А кто бил во все колокола, пропадаю, погибаю?
– Нелли, без гвоздя на стену ничего не повесить. Теперь есть гвоздь – и я на него повешу хоть сотню картин.
– Вопреки законам физических тел.
– У нас, у галеристов, свои законы. Не физические. Да, благодарю, еще чашечку.
Предоставив Бетси щебетать, я покосилась на Костера. Тот невозмутимо отдавал должное варенью, но в его открытом и довольно приятном лице читалось несомненное наличие своих, мне предназначенных, новостей. А я ведь и вовсе было выбросила из головы, что предполагается перевод на английский язык. Нет, я не забаловалась, просто слишком много всего навалилось. Но тем приятнее вдруг вспомнить.
– Ах, дорогая, если б ты видела мой гвоздик! Золотой-серебряный.
– Нет, merci. Я предпочту до открытия не смотреть. Иначе – какой же интерес?
– Так я и не покажу! Сегодня с утра привезла из Кремля, ну и сразу – под замок. Знаю царевну, у нее дня лишнего нельзя было оставлять. Одному показала, другому показала, а кто-нибудь, есть же бессовестные, и фотоаппаратиком щелкнул. Она добрая, а у меня дело пропадай? Нет уж. Под замок. Даже описаний до выставки не дам. Вот, как в анонсах будет: «Безусловным событием сезона предстает „Гвиневера“ (масло, холст), дебют многообещающей молодой художницы, ЕИВ Валерии Павловны». И все. Кстати, дорогая, пожалуйста, не мешкай, послезавтра все картины должны быть у меня. Надо каталог в скоропечатню отправлять.
– Да, Лерочка девочка одаренная, – задумчиво отозвалась сестра. – Но дорогая, ты не спешишь выдавать желаемое за действительное? Мне казалось, что ей нужен еще год другой, а то так и третий, чтобы войти в собственную силу. Ты не торопишься ее записывать в гении? Так ведь можно и повредить.
– Проще говоря, ты меня подозреваешь. Не строю ли расчета на том, что публика повалит из одних только верноподданнических чувств. В живописи толком разбирается меньшинство, остальные просто восхитятся, захвалят, вскружат девочке голову, а затем критики разнесут в пух и прах, с чем ей и придется горько разбираться, а мне горя мало, я сезон начала.
– Лизок, ты знаешь, как я не люблю говорить неприятные вещи. Вероятно, поэтому ты их сама за меня и сказала. Да, увы, мои опасения именно таковы. Еще чаю, господин Костер?
– Хорошего ты обо мне мнения. Но мне будет приятно наблюдать, как ты возьмешь его назад. Скажу по совести, я думала ровно так же, как и ты. И ничего всерьез путнего от царевны не ждала. Тут, кстати, спасибо Нелли, она ведь первая отдала должное.
– Нелли? – Сестра переспросила с некоторым удивлением, одновременно следя за тем, чтобы вовремя остановить бьющий в чашку кипяток. – Нелли не искусствовед.
– А уловила суть лучше любого специалиста. Творчество – вещь рассудком непостижная. Валерия сделала колоссальный рывок. Непонятно почему это произошло, но подпишусь под этим своим утверждением. Чуть не забыла, Нелли, тебе поклон от Филиппа.
– А он все в Астрахани?
– К открытию галереи обещался вернуться.
– Ваш брат в Астрахани, Елизавета Андреевна? – с неподдельным интересом переспросил Костер.
– Да, пришлось, по делам семейным.
– Мечтаю в свой черед побывать в этом прекрасном городе. Очень хотел бы все там увидеть воочию. Но пока что в планах не держу, я в России не вольная пташка, а все ж имею немалое количество хлопотливых обязательств. Разве что перед отъездом выпадет шанс.
– Искренне вам того пожелаем, – улыбнулась Бетси. – Мой брат в совершенном восхищении. Волжские пейзажи… А эта прекрасная скульптурная группа, памятник рабочему мятежу! Новый памятник, всего десять лет, как его открыли. Очень талантливый скульптор, местный, Сергей Иванов. Он же автор памятника Тумановой.
– Ох, не травите душу. – Костер сверкнул американской улыбкой. – Я пока прикован к Москве.
– Кстати, дорогие, вы слышали про это чудовищное убийство? – вспомнила вдруг Бетси.
– К сожалению. – Вера не любит разговаривать на подобные темы, поэтому слова ее прозвучали сухо. Что, впрочем, осталось нашей собеседницей вполне незамеченным.
– Немножко знаю кое-кого из Палашёвского кружка, – безмятежно продолжила Бетси. – Где какая выставка – эти тут как тут. И ведь не погонишь, в выставочных залах они даже почти трезвые. Но каково видеть в приличном месте эти месяцами неглаженные невыразимые, немытые волосы у женщин, мужчины в растрепанных бородищах… Опять же ничего не скажешь, приходят в пиджачных парах-тройках, как положено. А приглядись – почерневшие манжеты и воротнички, засаленные галстуки, нечищенные ботинки… И этот постоянно похмельный, помятый вид. Если выцепят приглашение на фуршет, так налетают, будто из голодного края. Так неприлично! Ужас, просто ужас. Особенно противный этот Сайдар Пырин, между прочим, ему-то, в отличие от убитого, четвертый десяток катит. Женат давно, даже сын есть. Сына, впрочем, родители жены у них отобрали, чтоб ребенка хоть не таскали по всяким притонам. Ему уж лет тринадцать, а родителей в глаза не видал. Так что Пырин – никак не студенческая богема. В таком возрасте бездельничать и безобразничать, ты только подумай!
– Лизочка, да не хочу я об этом думать, уволь.
Я невольно подумала о том, что сказала б сестра, узнай, что я даже была на месте преступления. Хорошо, когда не знаешь ничего огорчительного, право.
– Если не покажусь дерзким… – Костер отставил чашку. – Елена Петровна, позволительно мне на полчаса оторвать вас от общества?
– Мы вернемся, варенье не убирать! – Я весело поднялась. Признаться, Бетси в таких количествах меня утомляет. Так что весьма кстати.
Мы прошли в смежную с большой гостиной малую. Это комната отделена от коридора лишь арочным проемом, поэтому шум, доносившийся из двери детской, вероятно, распахнутой, был тут довольно громок. Незачем и уточнять, но о долженствовании охранять от меня мамину мастерскую девицы уже успели напрочь позабыть. Сейчас они терзали привезенное мной пианино.
– Кстати, вы уже посмотрели ваше интервью? – поинтересовался Костер, когда мы уселись визави в креслах. – Я высылал вам несколько номеров. Сразу, как только получил.
Я слегка смутилась. По возвращении от Наташи меня, конечно, встретили горы неразобранной почты. Но про интервью я просто забыла.
– Я не успела, к сожалению.
– Ну разумеется. Вы же только что вернулись из Ватикана?
Уточнять мне не хотелось, поэтому я просто неопределенно пожала плечами.
– Признаться, я очень рад, что сегодня представился случай вас увидеть. Мир действительно тесен. Я даже и не подозревал, что вы хороши с Елизаветой Андреевной, хотя мог бы и догадаться. Ведь Вера Петровна художница.
– Я тоже не знала, что вы знакомы.
– О, я-то случайно. Один знакомый из Нью-Йорка обязал поручением, чему я теперь очень рад. В общении с нею просто-таки чувствую биение пульса обеих столиц.
Это, конечно, было сопровождено еще одной американской улыбкой… Хотя… С нашей предыдущей встречи Юджин Костер как-то неуловимо изменился. Манеры сделались ощутимо приемлемей, а лицо… Вот ведь странность. Его открытое голубоглазое лицо, с чуть курносым носом, с зачесанными назад светло-русыми волосами, сейчас казалось каким-то решительно русским. Не американским, нет. Впрочем, а есть ли тут странность? Малый, похоже, всерьез завяз в нашей культуре и истории, а что, как ни область идей, лепит выражение лица? Рискует он обрусеть. А что, вот же Жан Сен Галл, все длил и длил свою практику в России, пока ни принял православия да ни женился на русской. Когда я сваливаюсь в их парижскую квартиру в Булонском лесу, я мчусь в воскресенье в Нотр Дам, а они с детьми едут на Rue Daru. Мы с Жаном строго зеркальны в рассуждении религии, что вызывает обыкновенно множество дружеских подначек.
Так что – как знать? Вдруг и американец «русский душою» и здесь его судьба.
– Так вот, в связи с чем я позволил себе вас умыкнуть, – Костер вынул из внутреннего кармана пиджака несколько свернутых в трубочку листков бумаги. – Очень уж хочется вам показать, что у меня получается. Я прихватил всего несколько отрывков. А сделаны, между тем, десять глав первой книги, ну и начало второй. Я, к сожалению, всегда работаю немного хаотично. Мне-то самому система понятна, а вот со стороны лучше не глядеть. Но, как же глупо с моей стороны было не спросить сразу! Вы знаете английский?!
– Знаю, знаю, – поспешила успокоить я. – Хуже, чем французский, конечно.
– Это понятно, все же французский – язык международного общения. Поэтому я, спохватившись, испугался: а интересно ли вам?
– Очень интересно, и я вполне способна все прочесть и понять. Так что – давайте скорее!
Я впилась глазами в слегка нечеткий, как обыкновенно получается при печати на струйниках, шрифт.
Первый отпечатанный отрывок относился к концу первой книги. Там, где наступление на Петроград.
« – Gentlemen, mayhap you will settle on an apology?
– On no account!
– No!
Vadim gave the signal. Slowly, the opponents began to advance.
Yuri was already raising the Nagant, but at the next second Visniewski saw with amazement that his face cracked with a terrible convulsion. A shot rang out. Sergei’s bullet ripped the cloth of Yuri’s overcoat at the left shoulder. Yuri sharply directed the muzzle of his revolver up and shot somewhere into the tops of the pines, as if in a salute.
– I demand that this gentleman shoots again! – shouted Sergei with a voice breaking with indignation.
– Shoot again, Nekrasov! – said Vadim, stunned by what had happened.
– I refuse. – said Nekrasov with great relief. He already seemed to have recovered himself.
– In this case, I must demand satisfaction a second time!
– Leave it, ser. – And Yuri simply and convincingly, as if prepared in advance, said the only phrase which could appease the anger Sergei: – We are too few as it is51».
Я схватилась за следующий эпизод. А это уже самое начало второй книги. Серёжа находится в застенках Чеки, на Гороховой.
«– Well, boy, have you enough sense left in you to talk?
The man’s voice reached Sergei slowly as if from far away, raising in him as a cold wave the urge to vomit. His illness, punctured lung and leg that refused to heal all spun their sticky web around his brain, slowly and painfully choking him. Illness and filth, one making the other even more vile. But still, this dumbness of reason that lets the mind not to think the thoughts that are more unendurable than any physical torture was almost as rest52».
Как это странно, когда собственные строки обретают иную жизнь… Даже не думала, что это так странно… Да, я владею грамматикой настолько, что могла бы перевести это самостоятельно. Но мой перевод был бы, даже будучи грамотным, совсем иным. Я была бы больше привязана к своему тексту, не поняла бы, где нужно немножко отступить… И вот, к примеру. В моем тексте стоит не «Сергей», а «Серёжа». Еще бы, когда я задумывала роман, мы с героем были ровесники, Серёже девятнадцать лет. Сейчас я его переросла. Но для меня он никак не «Сергей», ни раньше, ни теперь. И я бы машинально оставила уменьшительное имя. Но оно, уменьшительное, родное только для русского уха. По-английски, небось, звучит неимоверно коряво.
Опять же «mayhap»… Нипочем бы мне в голову не пришло.
– Ну, как, Елена Петровна? – Костер, между тем, поднялся и, как выяснилось, заглядывал в рукопись через мое плечо, будто в самом деле наблюдал что-то для себя новое. – Я ведь себе позволяю некоторые вольности, чтобы лучше воспринималось.
– Алхимия. Даже не представляла себе, что это окажется так любопытно в процессе. Нет-нет, не отдам, вы себе еще отпечатаете. А я хочу потом спокойно прочесть сцену дуэли. И эту, с Петерсом, тоже.
– Петерс у вас как живой, – отказавшись от попыток забрать у меня свой черновик, Костер уселся обратно. – Вы его больше прочих не любите?
– Неужели Дзержинский у меня получился хуже? – рассмеялась я.
– Дзержинскому вы отвели совершенно особую роль. Довольно экстравагантную, надо сказать. Петерса же рисуете как с натуры, не фантазируя.
– Петерс, конечно, феерически мерзок. Автор знаменитого «помоечного афоризма».
– Помоечного афоризма? – с любопытством переспросил Костер. – У вас в книге этого нет.
– Да, как-то не пришлось в строку. Это он уже в Москве был. Ненадолго отъезжал в Ростов. Простой народ по наивности пошел жаловаться на голод. Петерс в ответ: «Это у вас-то голод? Пока в городе помойные ямы полны – почему рабочие говорят о голоде? Вот у нас в Москве помойные ямы чистые, будто вылизаны». Знаете, когда этого подонка повесили, ну при Правителе, конечно, так на кладбище при тюрьме ведь около года свалка была. Со всех окрестностей народ повадился помойные ведра на могилу таскать и вываливать – ведь и не лень же было. Самое любопытное, что могилы-то были безымянными. А, между тем, люди откуда-то совершенно точно узнали, где Петерс. Без ошибки. Уж и уговаривали, и полицию выставляли – без толку. Но и немудрено. Знаете, в августе, когда Северо-Западная армия наступала, они там, в Чрезвычайке, расстреливали уже просто как обезумевшие, без обвинений, без учета. Он и Лацис.
Я встряхнула головой, поняв, что опять оседлала своего конька.
– Я вас заболтала.
– Нимало. Ну так верно ли я понял, что вы меня одобряете?
– Буду с нетерпением ждать новых отрывков. Это невероятно увлекательно.
– В следующий раз я покажу другие главы. Между тем, следующий раз представится в любом случае скоро. Я вызвался помогать госпоже Бегичевой с открытием выставки. А вы, я полагаю, также отдадите должное этим хлопотам. – Костер хитро прищурился. – Во всяком случае, хлопотам вокруг одного из экспонатов.
Да уж, все ясно. Бетси держит Лерину картину под замком, но трезвонит о ней направо и налево. Но, пожалуй, это и хорошо. Чем громче картина прозвучит, тем больше это Леру отвлечет.
– Вы сделали мне прелестный подарок на день рождения.
– Счастлив стараться.
Мы рассмеялись.
– А все-таки жизнь несправедлива, – продолжала веселиться я. – Художник написал картину, музыкант симфонию – и с момента явления на свет они звучат на любом языке. А книга или стихотворение на каждом языке рождаются заново.
– Зато записную книжку легче держать в кармане, чем мольберт или рояль, – со смехом возразил Костер. – Книгу можно написать даже без ординатора, а что сочинишь без хотя бы фортепьяно? Справедливость есть.
Все-таки неплохой он малый, что называется – славный. Поживет в России, обтешется.
– Нелли! – негромко окликнула из дверей сестра. – Я прошу прощения, но тебя просят к телефону.
Глава XXVIII В которой продолжают дарить подарки
– Я за тобою сейчас заеду.
Разрешения Роман не спросил. Да, даже Наташе так и не удалось воспитать в нем хороших манер. Нельзя сказать, чтоб у него их вовсе не было, просто он делает себе труд вспомнить об обязательных правилах лишь когда сам почитает нужным. Вот и сейчас. Появление свое преподнес как данность, да еще и уточнил, что ждать меня будет внизу, подниматься ему-де некогда.
Что тут скажешь? Осталось только распрощаться с гостями сестры, расцеловать племянниц и в самом деле спуститься.
Роман снова остановил свой выбор на «лесснере». Стало быть – опять сегодня старался не уподобляться Мальчику-с-пальчик.
– А каково я высчитал, где ты? – усмехнулся он довольно, отворяя мне дверцу.
– Не знаю, не знаю. Вдруг ты попросту каких сыщиков ко мне приставил нынче? – Я шутила, но какой-то в моей шутке был и серьезный смысл. Я все же еще не вполне привыкла видеть Романа в столь для меня неожиданной роли. Впрочем, была ли она неожиданной, эта роль? Подобным вопросом я уже несколько раз задавалась в минувшие дни.
– Других дел нету моим сыщикам. – Роман не рассердился.
– А в действительности, никакой дедукции и не было. А то я не знаю, что Катя не способна от тебя утаить ни единого крошечного секретика.
Роман, как обычно, мчался на пределе разрешенной скорости. Я только села в автомобиль, а мы уже на Мясницкой.
– Где бы тут нашлось местечко на минуту остановиться?
Местечко, неожиданно, нашлось прямо перед моим любимым чайным китайским магазином с его поглядывающими сверху на прохожих доброжелательными драконами. Как раз перед нами от тротуара отчалил чей-то могучий лиловый «разипп».
– Вот и удачно! – Роман мгновенно вклинился, занимая освободившуюся прибрежную полоску.
– А зачем мы остановились? Или мы пойдем «к драконам» пить чай?
– Должен же я вручить тебе подарок. Верней сказать, первый из двух подарков. Кстати, с днем рождения!
– Лучше поздно, чем никогда. Благодарю. Эй, зачем ты опускаешь экраны! Ты ведь знаешь, я терпеть не могу, какой тусклый из-за них делается свет.
– Экраны я опустил ровно с той целью, для какой они предназначены. Чтобы снаружи не было видно салона.
– Я чего-то не понимаю. Ты что, целоваться со мной намерен, или все же подарок дарить?
– Merci, целоваться пока не намерен. Сейчас все поймешь. Закрой глаза.
Я с улыбкой послушалась.
Роман, чем-то в темноте прошуршав, взял меня за руку. За правую. А затем с моей рукой гладко и ласково соединился какой-то тяжелый холодный предмет.
– Теперь можешь открывать.
Я восхищенно ахнула.
– Ты же завистливая, как маленький гном-мшелоимец. Думаешь, я не замечал, как ты на мой поглядываешь? Теперь у тебя собственный будет. Более бесполезного и менее нелепого подарка я просто не мог представить. Поэтому надеюсь, что ты довольна.
Кастет, четырьмя кольцами обвивший мои пальцы, уютно устроившийся в ладони, был не бронзовым, как у самого Романа, а стальным, матовым, как иней, украшенный тонким золотым узором. Шипов на нем, впрочем, все же не было, в отличие от Романова кастета.
– Из нашей стали. Я сам делал эскиз.
– Какая прелесть! – Я чуть было сама не кинулась расцеловать Романа, но сдержала свой порыв, испугавшись ступить на зыбкую почву.
– Его нужно регистрировать как оружие? – деловито поинтересовалась я, гадая, заметил ли Роман мое невольное движение, и в самом ли деле по его лицу пробежала темная тень. – Неужто мне придется выправлять разом две бумажки? Папа-то мне дедов наган подарил.
– Нет, это регистрировать не нужно. Ибо невозможно. Кастеты входят в оружейный индекс. Так что, если попадешься, штраф буду платить я. А то он изрядный.
– Спасибо. Лучшего подарка я не могла и представить.
– Господи! Ведь сколько же на свете нормальных девушек! Милых, радующихся букетикам из самоцветов, брошкам и вазочкам, всевозможным очаровательным женственным вещицам! Так ведь нет… – Досада, прозвучавшая в голосе Романа, была, конечно, шутливой. Но и доля искренности в его шутке таилась.
– Я давно тебе толкую, что нормальных девушек на свете немало.
– Лена! – Роман вдруг торопливо схватил меня за руку, ту, что без кастета. – Что с тобой? Я тебя обидел?
– Нет, что ты. Нисколько не обидел.
– Тогда в чем дело? Ты побледнела вся. Даже с этими экранами видно, как побледнела.
– Пустое, вероятно. Глупости. Роман, поверь, глупости.
– Нет уж, ты лучше расскажи.
– Просто… Просто мне сегодня как-то уж слишком хорошо. Я люблю Ника, но я почему-то перестала страдать. Я смирилась. Я счастлива только тем, что он есть. И я уж слишком, во всем, счастлива сейчас. А этот день рождения, когда еще половины дня не прошло, а папа, Наташа, ты, такие волшебные подарки, племянницы за лето выросли, и орден, и книгу мою переводят на английский язык… Роман, мне вдруг сделалось страшно. Второй раз уже сегодня, только сейчас совсем страшно. Так страшно, что хоть беги стопами Поликрата и бросай этот замечательный кастет в реку.
– В Неглинку с Кузнецкого моста. – Роман положил ладонь на мое плечо. Его рука была, как всегда, теплой и невероятно надежной. – Успокойся, славная моя. Ты вполне заслужила сегодня быть счастливой. И вспомни, у тебя сейчас перенапряжены нервы. Неужели ты думаешь, что я не понимаю, каково тебе пришлось? Отсюда и страхи. Только отсюда.
У меня отлегло от сердца.
– А теперь твой свободный выбор. Либо мы едем дальше с нелюбимыми тобой экранами на окнах, либо ты снимешь это, и, завернув хотя бы в носовой платочек, спрячешь в сумочку. Третьего не дано.
– Третье еще как дано! – Я все вертела и вертела отяжеленным кулаком. – Немножко проедем невидимками, а потом спрячу.
– Будь по-твоему. – Роман стронулся с места. – Да, кстати, ты о племянницах упоминала. Подскажи что-нибудь Нику, он голову сломал. Что можно подарить семилетнему мальчику? Чтобы с одной стороны выглядело официально, а с другой, чтобы все же ребенку какая-то радость.
– А что, все эти многодетные отцы из его окружения ничего не подсказали?
– Все подсказки банальны. Железную дорогу, которая у него уже наверняка есть и не одна, управляемый кораблик, такой или сякой игрушечный автомобиль, робота. Тут нужно иметь не детей, а фантазию.
– А почему Ник должен был ломать голову над такой ерундой? – удивилась было я. – Или…
– Ну да. Царь-батюшка во Францию теперь.
– Так ведь во Францию Миша отбывает.
– Миша отправляется послезавтра, как только вернется с Дальнего Востока. Буквально пересядет с аэроплана на аэроплан. Времени совсем впритык. Там готовится торжественный прием в честь космолетчика. Ник прибудет тоже, чтобы встретиться с Его Величеством Людовиком Двадцатым. Непременно нужно и непременно сейчас. Но все очень ненадолго, тут ведь еще выставляется Лерина работа, и Леру обидеть никак нельзя, но и начало сезона передвинуть невозможно. Сентябрь настал.
– А что подарит королю Миша?
– О, ему-то как раз просто. Модельку космического корабля, ее уже доделывают. А еще – скафандр, негерметичный, понятно, но он не разберет, там хитро все продумали. Там будут такие баллоны, в них немножко аптечного кислорода, в маленьких дозах. Нажимаешь кнопку – ощущаешь, что «воздух поступил». Штучной работы игрушка, второй такой нету. И большой набор космического питания в тюбиках.
– Да, сейчас лучших подарков для мальчишки и представить невозможно. К тому же от самого космолетчика.
Мы выехали между тем на Калужский тракт. Я невольно отметила, что Роман несколько напетлял по старому городу.
– Так куда мы все-таки едем?
– Ты же хотела расследовать преступление? Чем не занятие в день рождения? Едем допрашивать подозреваемых.
– С ума сойти. Но разве мне можно быть на допросе?
– На самом деле не очень, – ответил Роман серьезно. – Проще сказать, совсем нельзя. Но это дело, хотя я продолжаю думать, что ошибкой, проходит по моему ведомству. А мои полномочия довольно широки.
– Настолько, что ими можно немножечко злоупотребить?
– Как ни странно, я не думаю, что злоупотребляю здесь своими полномочиями и потакаю твоим капризам. Ты ведь вправду хороший писатель, и пишешь ты о весьма серьезных вещах. Твоя мама, кстати, мне жаловалась как-то. С твоего детства не может она понять, что ты из себя представляешь. Только подумаешь, что ты старше своих лет, не просто умная, а мудрая, ан ты тут же отмочила что-нибудь хуже малого ребенка.
– Какие у вас, однако, интересные разговоры.
– Какие есть. Но тем не менее повторюсь: ты хороший писатель. И я думаю, что тебе в самом деле полезно будет посмотреть на Энтропию вблизи. Не в умозрительном облике исторических персонажей, а в живых человеческих существах.
– Благодарю за такое доверие. Тем паче, на сей раз, кажется, повезло мне одной. Сегодня ты ведь Эскина не приглашал?
– Догадайся, почему? – Роман опять сделался весел.
– Гмм… Попробую. – Я с удовольствием приняла игру. – Предполагаешь, что прозвучит что-то, чего ему не стоит знать?
– Холодно.
– Да, пожалуй. Какие государственные тайны могут быть во владении у сборища психопатов? Что же тогда… Если Эскину можно знать про них, то… то им нельзя что-то знать про него!
– Теплее.
– Все, я догадалась. Если они окажутся невиновны, то их придется выпустить. А вы сейчас какие-то интриги вместе плетете. Значит нельзя, чтобы они потом на свободе растрезвонили, что вы знакомы. Он же публичная фигура, всяк в новостях видал. Кстати, а когда вы познакомились – на этой самой конференции или раньше?
– Раньше. В Черной Африке. Он еще тогда не был министром, да и я только разрабатывал для Ника концепцию моего ведомства. Эскин же тогда был советником президента. Был острый момент, как раз в пору нашего знакомства. Надо было непременно вынести смертный приговор одному безумно популярному в либеральном сообществе, как известно, границ не имеющем ни в каком смысле, мерзавцу. Ты едва ли слышала, ты ведь равнодушна к современности. Был такой Мандела. Он на десять расстрельных статей совершил тех еще подвигов, но очень уж всем было страшно воздать преступнику по заслугам53. Либерального воя боялся даже президент. Эскин тогда показал себя с самой решительной стороны.
– Ах, вот оно как. – Я, наконец, стянула кастет с руки и запихнула поглубже в сумочку. – Втягивай экраны. Так ты, значит, и по Черным Африкам не просто так разгуливаешь?
– Раз на раз не приходится. Я в самом деле люблю сафари. Но в действительности, если хочешь знать, надо потихоньку обозревать предстоящее поле деятельности. Строго говоря, пока что никто не знает, что со всем этим делать. И некоторые, кстати, считают, что лучше не делать вовсе ничего, лишь обеспечить безопасность европейцев в местах необходимого присутствия. Исключение, пожалуй, только Габон, но ты лучше меня знаешь почему, это вашему нынешнему Папе спасибо. Все остальное – это полная чума.
– А если из всей Черной Африки устроить ЮАР огромного размера?
– Не получится. Буры были ребятами довольно жесткими, когда обустраивались. Сейчас никто на такое не пойдет. Новые формы патернализма, отвечающие более человечному духу времени, еще не нарисовались. Между тем самостоятельно эти народы управляться не могут. Возьми пример Гаити, хоть это и не Африка, зато показательно. Два столетия свободы. За два столетия можно было бы как-то обустроиться.
– Но как-то же люди там живут.
– Люди там не живут, Лена. Люди там умирают. И только за счет высочайшей рождаемости эти края еще не превратились в пустыню. Впрочем, отчасти превратились: они вырубают на продажу леса. От этого там просто катастрофа. Не знают медикаментов, едят все, что движется. Государственная религия – вудуизм, во главе страны барон Субботка с армией зомби.
– Одно время собирались большие средства на помощь тем же гаитянам. А потом что-то все заглохло.
– Да, Священный Союз положил прекратить эти глупости. Незачем деньги тратить.
– Но ты же сам сказал, что люди умирают.
– Лена, голод там в самом деле «царь беспощаден». Однако сколько благотворительных балов ни устраивай, деньги-то до голодающих не доходят. Все оседает в алчных руках калифов на час. Затем одного калифа сметают, к власти приходит другое племя, но ничего не меняется. Кстати, зря ты так мало интересуешься современными историческими процессами. Могу поспорить, хоть я и не историк, а много лучше представляю, как проседала старая колониальная система.
– Так это же завершилось незадолго до нашего рождения. Неинтересно. Думаю, это ведь и естественно. Мужчины затевают новые войны, а женщины бережно перекладывают лавандой пробитые пулями старые знамена. Ты ведь бы хотел повоевать немножко, признайся?
– Немножко я и повоевал. Но это неважно. Важно другое. В мире белых еще не все налажено, меж тем, как почти весь двадцатый век на это ушел. А с Черной Африкой и прочими Порт-о-Пренсами нам еще разбираться и в двадцать первом столетии.
– Ну, в двадцать первом. Так долго на свете не живут. Мы с тобой будем тогда разве что греться у камина по загородным имениям, а ты говоришь Порт-о-Пренс.
Роман рассмеялся и сбросил скорость. Мы домчали уже почти до конца Калужского тракта и теперь искали место перед непримечательным трехэтажным кирпичным зданием. Не жилым, с официального вида табличкой у парадного входа и воротами в обнесенный высоким глухим забором двор.
Глава XXIX Лаборатория натуральных смол
Пока Роман закрывал автомобиль, я сделала себе труд изучить табличку.
«Лаборатория исследования натуральных смол от Лесного ведомства при Министерстве Земледелия», скучно сообщила синяя блестящая поверхность.
Даже швейцара не было в дверях, которые Роман предо мной распахнул. Только неопределенного рода занятий молодой мужчина, коротавший, с детективным романом в руках, время в закрытом по летней поре гардеробе. При виде Романа он, впрочем, мгновенно отложил книжицу и поднялся.
– Обычные ключи, Ваше Сиятельство?
– Да, благодарю.
Служитель принялся жать на какие-то кнопки около вмурованной стальной дверцы, а я, между тем, огляделась по сторонам. Разглядывать было, впрочем, совершенно нечего. Крашеные серой краской стены, серый гранит пола и неширокой лестницы, ни единой кадки с пальмой либо фикусом, нет даже обычного для вестибюлей в казенных домах уголка с журнальным столиком и кожаными креслами. Присесть попросту негде. На окнах – серые металлические жалюзи.
Роман принял свой ключ, и мы поднялись на второй этаж. Здесь было столь же заунывно. Серые стены, белые пронумерованные двери, приглушающие шаг черные ковровые дорожки.
– Ну вот, ты и у меня в гостях. – Роман отпер дверь под номером «21». – Будь как дома, дорогая.
– Не хотела б я иметь такой тоскливый дом. Что ты смеешься?
– Извини.
Впрочем, Романово обиталище я побранила скорей до кучи. В этом неуютном месте оно на самом деле давало глазу отдохнуть. Стены были весело побелены, но не просто, а с приятным фокусом: две гладкие, будто штукатурку разглаживали утюгом, а две, наоборот, нештукатурены вовсе, побелка лишь подчеркивала грубость кирпичной кладки. Нелакированный светлый письменный стол, довольно большой, и несколько таких же шкафов для бумаг. На столе почему-то стояло целых три телефона, причем один оказался вовсе без кнопок. Портрет Ника в парадном мундире Желтого кирасира, в самом деле в кирасе и в шлеме с орлом, хороший портрет, я такого еще не видела. Имелись здесь и удобный даже на вид кожаный диван цвета беж, и бар, и сигарный ящик для курящих гостей. Портил вид только металлический табурет, зачем-то стоявший перед столом.
– Ты будешь виски? С содовой либо без оной?
– Пожалуй, да, merci. Хотя покойная бабка бы этого не одобрила.
– Ну, если мне не изменяет память, ее одобрения ты не слишком старалась заслужить.
– И то верно. Побольше льда, если можно. Но я могу задать еще несколько вопросов? А то очень хочется.
– Если смогу, отвечу. Спрашивай.
– Немножко странно: почему «натуральные смолы»? Не лучше ль просто закрыть все забором и никого не пускать?
– Никак не лучше. Даже не только потому, что закрытое незнамо что всегда привлекает внимание. Но эта лавочка в самом деле приписана к Лесному ведомству. Должно же ее финансирование как-то проходить в отчетности. Поэтому мы энергически исследуем натуральные смолы и здесь и в столице.
– Очень мило. А вот, допустим, увидит эту замечательную табличку, к примеру, Петя Трубецкой? Ты ведь помнишь, что он закончил Лесную Академию? Дай-ка, решит, зайду.
– Так князь здесь и бывал не раз. – Роман плеснул себе еще виски.
– Как? И Петя тоже?
– О, нет, что ты. Такие игры не в его характере. Просто ты не с того конца начала. Мы и придумали такое прикрытие потому, что двое из моих сотрудников на самом деле исследуют смолы. И один чрезвычайно успешно, у него множество всяких патентов. Кому нужна лаборатория, тот ее найдет.
– Хорошо, допустим. Но зачем же ты здесь ведешь разговоры с сомнительной публикой? Уж эти, подозреваемые, наверное поймут, что дело тут не в смолах.
– В полицейской перевозке окон нет. И въезжает она во двор. Ну что, все у тебя с вопросами?
– Не все. А ты-то сам? Такой замечательно секретный ты?
– Лицо без имени людям говорит очень мало. И я редко мелькаю в светских хрониках, а крупным планом – так и никогда. Ах, да, кстати.
Порывшись в ящике стола, Роман протянул мне обыкновенную зеленую резинку, какими часто пользуются аптекари.
– Пожалуй, это сойдет. Собери волосы в конский хвост, ты ведь его никогда не носишь. Сядь вон за тот столик. Возьми ручку и время от времени делай на бумаге какие-нибудь пометки. Увидишь, что моментально превратишься в девушку-невидимку.
Я поспешила занять указанное место, за спиной у Романа. Хвост мне категорически не идет, не очень-то приятно демонстрировать это Роману, ну да что ж поделаешь.
– В действительности тебе повезло, – продолжил Роман, садясь за большой стол. – Ты же понимаешь, что действительно серьезных дел я ни перед кем не стал бы приоткрывать. А тут попалась сущая ерунда, на полушку. Готов об заклад биться, что трачу время зря. Но зато ты поглядишь на настоящих красных, даром что с обпиленными клыками. Кстати…
Он протянул руку к трубке одного из телефонов.
– Доставили? – коротко спросил он. – Обоих? А, уже два часа как… Ну и ладно, я был занят. Давайте первого.
– Тебя надо предупреждать, что ты не произносишь ни слова?
– Не надо.
Двое полицейских, в летних еще, цвета слоновой кости кителях, ввели молодого, примерно наших лет, человека. Он оказался довольно высокого роста, в мятых невыразимых и черной косоворотке. Рост отчасти его выручал, ибо тело казалось вялым, не по летам рыхлым. Сероватые волосы, спадающие на плечи неровными прядями, неухоженная бородка, позволяющая заподозрить, что призвана прикрывать собою безвольный подбородок. Прочие черты лица можно было бы назвать красивыми, когда б ни отечность щек и ни беспокойное, тревожное выражение глаз. Странные глаза, водянистые, от соприкосновения с таким взглядом отчего-то вспоминается медуза. Вроде бы и пустяк, если она тебя коснулась в воде, а неприятно.
По мне эти глаза, надо отдать Роману должное, скользнули не с большим вниманием, чем по столику, за которым я сидела.
Я, впрочем, тут же нарисовала в раскрытом бюваре пару закорючек.
– Задержанный Овсов доставлен, – отчеканил полицейский. Я отметила что, противу правил, он никак не обратился к Роману.
Вот как… Овсов… Автор того самого омерзительного эссе о маньяке Черемнухе, которое я видела в квартире жертвы. Так вот, каков он…
– Сядьте. – Роман кивком указал на металлический табурет.
– Я уже выражал мой протест по поводу помещения меня под стражу, – хмуро отозвался тот, уставясь в пол. – Это произвол.
– До чего же вы, трубадуры террора, любите обращаться к правовым категориям, как дело коснется лично вас, – спокойно парировал Роман. – Но успокойтесь, никакого произвола нет. Обвинения вам пока не предъявлено, возможно, что этого даже и не последует. Однако убийство это преступление слишком серьезное, мы можем задержать всякого, кого считаем нужным.
Со своего места я видела Овсова в профиль. Мне было заметно, как он бросил исподлобья пару взглядов на Романа. Вероятно, недоумевал, пытаясь соотнести его властную манеру держаться со слишком молодыми летами.
Роман, между тем, молчал, неторопливо перебирая какие-то металлические мелочи на своем столе.
– Кто вы такой? – Не удержался, наконец, Овсов, и заговорил быстро, зачастил. – Прошлый раз, когда у меня брали показания, следователь сообщал свою фамилию. И он был в мундире. Все было хотя бы ясно. А кто вы?
– Я? Злобный царский сатрап, разумеется. – Роман недобро улыбнулся.
– Вы надо мной издеваетесь?! – Бледное лицо Овсова потемнело.
– Нимало. Всего лишь вношу полную ясность. – Роман вытащил из прозрачной папки несколько листков бумаги. – Итак, «Ленин это один из ангелов Апокалипсиса, это трагическая мощь, явленная, чтобы взорвать отупевший мозг обывателя… Он рвался разгромить биржи и банки, он не сумел, не успел, вырезать дочиста плесень старого мира… Ангел, изливающий на подлую землю чашу гнева…» Вы, кстати, не пробовали писать какие-нибудь вирши? Кучеряво бы могло получиться. «Ангел боли и стона… Ангел последних ворот… Кроваво? Да, кроваво! Но без крови не идут роды… Новый ленинизм должен быть прочитан магически, ордынски, эсхатологически, новый ленинизм бросит вызов романовской России, выстроенной на угнетении ислама и костях староверов, вялой России православия…»
– В России нет уголовной ответственности за политические убеждения! – огрызнулся Овсов. – Вы не вправе ставить мне это в вину.
– Я уже выразил восхищение вашим правовым сознанием. Политические убеждения не ставятся подданным в вину. Но строго до той поры, пока не доведут до преступления.
– Я знал, я боялся, что под это злосчастное убийство подтасуют политическую расправу! – Заметавшиеся глаза Овсова скользнули по мне, и я снова занесла ручку над бюваром. – Вам подобные меня давно уже гнали… Выключили из университета…
– За академическую неуспеваемость, если мне не изменяет память. Едва ли вы не сумели сдать четырех экзаменов вследствие именно наших происков. Вы ведь не служите, Овсов?
– Нет… – Овсов поерзал на своем неудобном сиденье, пытаясь отодвинуть его подальше. Но табурет отчего-то, невзирая на его усилия, оставался неподвижным. – Вам этого не понять… Этот чиновный муравейник… Это душно для мыслителя.
– На что вы живете?
– Я… – Овсов замялся. – Я получаю пособие как безработный.
– Эх, ведь говорено же, что давно пора его уменьшать, – сквозь зубы, обращаясь скорее сам к себе, процедил Роман. – Кстати, что ж вы сразу так и решили, что с вами будут «расправляться»?
– Меня арестовали.
– Вас задержали. В этом могут быть различные необходимости, не непременно предъявление обвинения. Но должен вам сказать, что обвинение определенно будет предъявлено Пырину.
– Но… Я же давал показания… Днем 29-го августа… Сайдар был у меня на квартире…
– В трех домах от loco delicti.
– Но он… Он не выходил от меня.
– В котором часу он нанес вам визит?
Этот простой вопрос отчего-то вызвал беспокойство Овсова. Надо полагать, он не уверен, какой час надлежит назвать, чтобы уж наверное обрисовалось алиби.
– Параграф 995-й инкриминируется кому-либо крайне редко, – уронил Роман. – Разве что имеет быть публичный вызов установлениям общественной нравственности.
Я заметила, что лоб и крылья носа Овсова покрылись мелкой россыпью пота.
– Он… он не днем пришел. Сайдар задержался у меня с вечера… Мы говорили о германской философии… Немного пили пиво…
– Да-да, с этим все понятно. – Роман отчего-то покосился на меня. – Я уточню кое-что в следующий раз. Но вы – лицо заинтересованное, подобного алиби не довольно. А ни одно стороннее лицо Пырина не видело. Но он же поднимался по лестнице, подходил к дому?
– Послушайте… Сайдара Пырина нельзя ни в чем обвинять, – Овсов заговорил вдруг с какой-то неожиданной решительностью. – Сайдар Пырин – гениальный мыслитель, равных которому нет. Не только в России, не только! Его нельзя равнять ни с кем! Гения могут понять только очень высокоразвитые люди. Хотя бы отдаленно понять, что уж говорить… К Пырину нельзя применять обычные критерии. Сайдар – это всенародное достояние.
– Достояние какого народа, простите?
– Русского… Он же пишет на русском языке.
– Да, к примеру эссе об «взятом русскими в клетку» горном орле Шамиле. Но неважно. Мне казалось, что я относительно неплохо знаю право. Но был бы признателен за ссылку по отведению от уголовного привлечения ввиду гениальности.
– Я не это подразумевал. Он все равно ни в чем не виновен. Но если узнают в других странах… Можно подумать, у нас гении и великие мыслители валяются на каждом шагу… К чему вам резонанс?
– Где бы это оно так срезонировало?… Я чаю, разве что в Турции. Мы это как-нибудь переживем. К тому же опять – извольте ссылку на то, что зарубежная популярность освобождает от уголовной ответственности.
– Он же невиновен. – Что-то непонятное, казалось, подстегивало Овсова, придавая ему мужества.
– У всех остальных членов вашего милого «кружка» твердое алиби. В том числе у ваших «Адептов Первоначала», сиречь у Эжена Головлёва и Жоржа Малеева. Жаль. Вот уж кого было б еще приятнее привлечь. Повод-то есть у вас у всех.
– Повод? У нас? – заволновался Овсов. – Да каков же у нас может быть повод убить бедного Тихонина? Мы вместе наслаждались содержательным общением…
– Тихонин отказался пройти вашу инициацию. – Холодная интонация Романа упала, как удар топора. – В ночь на тринадцатое августа он покинул квартиру Малеева со словами «Я думал вы революционеры, а вы тут все какие-то дегенераты!» В течение нескольких дней палашёвцы в разных местах предавались разглагольствованиям о том, что Тихонина «неплохо бы проучить». Высказывались также предположения, что он «донесёт». Ну и в целом прозвучало немалое количество довольно свирепых пожеланий. 13 августа! А днем 29-го Тихонин уже убит.
Голова Овсова опустилась, руки упали вдоль тела. Словно у марионетки, которой кто-то перерезал веревочки.
– Ну же, ответьте, Овсов. Насколько нам известно, в частности вы сравнительно сопоставляли способы посаженья на кол у османов и опричников. Склонялись отдать предпочтение османам. «Не прошедший до конца – хуже врага», это ведь ваши слова?
– Не только я… Все говорили… – Теперь и голос Овсова изменился. Мне подумалось, что примерно до слов о загадочном 995-м параграфе он мысленно поглядывал на себя со стороны, примеривая роль «философа в застенках», возможно даже представляя, как после о том расскажет либо напишет. Теперь же он окончательно стушевался.
– Говорили все. Но у большинства есть прочное алиби. Алиби нет у Пырина. Ну и, кстати, у вас.
– Но меня видел Пырин…
– А вы видели его. Прелестное алиби, вы хоть сами-то это осознаете? Вопрос только в том, кто из вас. Впрочем, может статься, и это не дилемма. На квартире жертвы так напакощено, что дел достало бы обоим. А после еще вполне могли успеть воротиться к себе и, гм, поговорить о германской философии.
– Это не я… – еле слышно проговорил Дынин.
– Значит – это он?
– Нет! Я же сознался… В параграфе 995… Вы можете не верить, но клянусь – мы были у меня…
– Чем клянетесь? Маньяком Черемнухой? – Роман поднял телефонную трубку. – Уведите. Пока что вы еще выгораживаете друг друга, но скоро начнете взаимно обвинять. Что одно, что другое – одинаково для нас обременительно. Мы все равно установим истину. Советую пока поразмыслить. Обвинение вам будет предъявлено.
Глава XXX Лаборатория натуральных смол (продолжение)
– Ты в самом деле так убежден, что он убийца? – спросила я минутами двумя после того, как злополучного философа вывели.
– Я, строго говоря, не лукавил. – Роман прошелся по комнате, налил себе еще виски. – Извини, тебе не предлагаю. Стенографистка с бокалом, это, пожалуй, немного обращает на себя внимание. Да, тут возможны только три варианта. Либо Овсов, либо Пырин, либо оба-два. Отпечатками их пальцев заляпана вся берлога, но это-то, как раз, ни о чем не говорит. Эта милая компания вся расселилась в Палашёвском наподобие «коммуны», как они сами это называют, кочевали из квартиры в квартиру. Но больше-то просто некому. Кому он мог чем-то помешать, этот Тихонин, с его тихо-тихо съехавшими мозгами, но, как выяснилось, некоторыми остатками нормальной человеческой брезгливости? Дело даже не в зловещих стилистических детальках, хотя и они в строку. Но больше просто и некому, даже и без конфликта, что случился тринадцатого числа. Ну и как тебе Энтропия вживе?
– Сложно сразу ответить… – Я продолжала машинально рисовать на листке меандры. – Ты, верно, удивишься… Но те, призраки прошлого, вызывают у меня много больше различных чувств. Вероятно дело в том, что те имели возможность творить все, чего хотели, а эти… Эти, по счастью, ни на что не способны.
– Ну, кое-на что, как мы видим, все же способны. – Роман воротился за свой стол. – Хотя в целом ты права. Признаюсь, я немного колебался, надлежит ли тебе это показывать. Тут под спудом очень много грязи, которую, тут представители поколения наших дедов сказали бы определенно, тебе не положено знать. Но я же представляю, сколько всего ты уже успела прочесть и просмотреть в архивах… Ты превосходно знаешь, что большевики были подвержены самым омерзительным порокам. Какая-то тут, вероятно, есть взаимосвязь.
– Не беспокойся за меня. Мама обычно говорит – к чистому не пристанет!
– Да. Ну так что, – Роман вновь взялся за трубку телефона. – Тебе еще не надоело? Будешь со мной слушать второго?
– Уж разумеется. И к вечеру моего дня рождения мы раскроем убийство?
– О, нет, – Роман улыбнулся. – Это штука долгая, тягомотная, с кучей проволочек. Второго.
Последнее слово было сказано уже в телефон.
Человек, сменивший Овсова на металлическом табурете, показался на вид куда как более крепким орешком. Прежде всего, что я отметила не без удивления, он был никак не молод, шел к четвертому десятку. Но идти к старости ведь можно самым разным шагом. Отцу вон шестьдесят, однако он у меня куда моложе этого Пырина: ни проплешины, ни седины, ни живота, а уж в какой прекрасной форме…
Отяжелевшая, бесформенная, похожая на бурдюк туша. Чуть-чуть спасали положение лишь высокий рост и широкие плечи, тоже обтянутые неряшливой черной рубахой. Основательная лысина, с которой владелец обошелся радикальным манером, обрив наголо всю голову. Открывшиеся в силу этого во всей красе безобразные острые уши без мочек, каковые, как я отчего-то поняла, составляют предмет гордости, ибо почитаются демоническими. Вместо шеи какая-то свиная складка кожи, ниспадающая с голого затылка на плечи. Глазки тоже какие-то свиные, даже скорее поросячьи, маленькие, но очень цепкие.
Ибо покуда я, старательно рисуя, разглядывала исподволь подозреваемого, пока он входил и садился, тот тоже успел деловито обозреться. Отметил в том числе, как я опять отчего-то ясно поняла, молодость Романа, и поспешил, ох, поспешил, предположить за собой перевес.
– Итак, вы состоите в «коммуне» Старого Палашёвского переулка, – уточнил Роман без вопроса. – Вы и ваша гражданская жена, Милена Вадман. Вашим сыном Юлием заняты, между тем, дед и бабка по материнской линии. Я ничего не перепутал?
– Уж не пытаетесь ли вы поставить мне в строку пренебрежение родительским долгом? – усмехнулся Пырин. – Какая чушь. Кто угодно может приглядеть за маленьким ребенком и за школьником, должны ж хоть чем-то быть полезны обыватели. Я трачу свое время на формирование избранных умов, уже начавших раскрываться для общения на высоком интеллектуальном уровне. Если мой сын окажется хоть немного того достоин, когда повзрослеет, я уделю внимание и ему.
– То есть – вы стараетесь держаться поближе к студенческой молодежи.
– Можно сказать и так, – Пырин был спокоен, в отличие от Овсова, говоря, он откровенно любовался собой.
– Среди прочих вы общались с убитым Тихониным?
– Вы же, видимо, знаете, что да.
– Что вы можете о нем рассказать?
– Гм… Был пытлив, трудолюбив… Немного ограничен, пожалуй, без склонности к абстрактному обобщению. Исследовал, в частности, биографию Сергея Кирова.
– Кострикова. – Холодно уточнил Роман.
– Для вас он Костриков… Для нас – Киров. Тут, собственно, как в зеркале различие мировоззрений. Вы видите фактическую суть вещей, мы – прозреваем эсхатологическую.
– Да-да, разумеется. Так, стало быть, покойный трудолюбиво исследовал жизнь этого красного вождя. Что-то писал, я полагаю?
– О, да, но еще не книгу. Делал выписки из документов, писал очерки по отдельным периодам, комментарии, опять же по конкретным эпизодам… Книга была лишь в замыслах. Увы, теперь таковой не будет.
В лице Романа ничего не изменилось, но я вдруг ощутила, что он наткнулся на нечто важное. Конечно же, этого не мог уловить самоуверенный Пырин. Один ноль не в его пользу.
– Мы примерно представляем себе, до каких эсхатологических высот не могла подняться мысль покойного. – Роман заглянул в одну из бумаг на своем столе. – «Когда мы придем к Власти, ментальное тело ее еще будет зыбким, неплотным. Но, после этого события, тот, кто первым из нас умрет своей смертью, умножит субстанцию могущества. Он станет терафимом. Мы положим его набальзамированную плоть на всеобщее поклонение, в самый центр страны, подвергаемой нами метаморфозе, мы воздвигнем ему зиккурат прямо на Красной площади…»
Господи помилуй, какие придурки! Если про маньяка это просто гадко и извращенно, то тут уж просто ни в какие ворота, насколько глупо! Некромантия на Красной площади! Зиккурат с трупом! Да еще открытым на поклонение… В хрустальном гробу, что ли? Препоганая, однако, Белоснежка вышла б из такого Пырина, да и из Овсова немногим краше…
Я еле удержалась, чтоб не засмеяться.
– Так что из того? Это поэтическое, знаете ли, дерзание, полет мысли, мечта… Ни в малой степени не содержит состава преступления. Кроме того, как я уже уведомил предыдущего следователя, я и вовсе неподсуден. У меня справка из медицинского учреждения. Я болен.
Кто б сомневался-то?
– Да вам, собственно, даже не предъявлено обвинения. Вы просто задержаны в интересах следствия. Интересует же нас пока что больше всего то, что, кроме вас, хорошего знакомого, никто не может подтвердить алиби Овсова. Вот Овсов у нас под явным подозрением.
– Овсов выше подозрений, – надменно возразил явно довольный услышанным Пырин. – Он гигант. В ином, лучшем мире, не в мире монархической тирании и злоправия русской нации, Овсова приглашали бы писать в ведущие газеты, его показывали бы по новостным панелям, он преподавал бы в Университете, наконец… Уже сейчас, в двадцать пять лет, наследие Овсова уникально и представляет собой непостижимый, не имеющий прецедента феномен в современной России. И не только в современной! Я бы так сказал: даже в обозримом прошлом русского академизма ничего подобного Овсову и не встречалось. Его труд по своему масштабу эквивалентен продукту целого научного института, который работал в течение эпохи.
– Наследие? – с интересом переспросил Роман. – Мне показалось было, что Овсов еще жив. В отличие от Тихонина.
Я невольно дивилась между тем, сколь яркая иллюстрация к басне про кукушку и петуха разворачивается на моих глазах. Перекрестные гении. Ну и ну.
Возвращение разговора к убийству Тихонина гению, между тем, не понравилось. Он как-то недовольно нахохлился.
– Откуда мне знать… Может статься, вы тут сами его и устранили, чтобы расправиться с мыслящей оппозицией, – буркнул он.
– Все в жизни случается, но позволю себе уточнить, что оппозиция находится там, где ей и место, а именно – в Думе. Носители же запрещенной законом человеконенавистнической идеологии, сиречь – коммунистического учения, претендовать на оппозиционный статус не могут. Они могут претендовать только на личную неприкосновенность. Но единственно до тех пор, покуда их образ мыслей не вылился в действия. Если вы в самом деле только безобразничали, то Овсову тревожиться не о чем. Кстати, о безобразиях. Ваш друг Овсов признался в нарушении 995-го параграфа.
Подзатылочный бурдюк Пырина побагровел.
– Вы его пытали, я убежден. Он оклеветал себя и нас всех.
– Всех? – приподнял бровь Роман. – В беседе с Овсовым речь шла только о вас двоих. Ваши слова несколько распространяют его показания. Это весьма ценно.
Ох, какой же злобой сверкнули эти маленькие затекшие глазки!
– Коль скоро это клевета и в отношении двоих, я вполне мог предположить, что ложные показания выбиты и против всех членов кружка. Но всяк скажет, что они нелепы, просто нелепы! Мы оба в браке, хоть я и в гражданском, но Овсов-то в официальном! Да и я вот-вот намереваюсь узаконить отношения. У нас у обоих, сами знаете, сыновья, у меня Юлий, а у Овсова Вивиан.
– У вашего сына отчество не по вас.
– Это все капризы бабки. Если необходимо, Милена подтвердит мое отцовство.
– Собственно, пока речь об Овсове. Официальный брак, в рассуждении Овсова, положение лишь ухудшает. Ибо состоит он в оном браке с Ифигенией Лабунской, что возглавляет тайный и весьма одиозный «Отряд феминисток». Ежу известно, кто женится на девицах сапфического склада.
Да, иной собеседник, совсем иной. Если предыдущий был пуглив и не быстр мыслью, этот, напротив, перестраивался к обороне моментально, и наливался злобой, как ядовитый плод наливается соком на ветке какого-нибудь анчара. Впрочем, даже и не знаю, бывают ли на анчаре плоды и как они выглядят. Но Пырин тяжело дышал и все темнел от прилива дурной крови. Я незатейливо пожелала ему лопнуть.
– Да и в рассуждении вас… Август 1972-го года выдался довольно жарким, горели леса. Ваша беременная на седьмом месяце конкубина отдыхала с вами в деревне. В грязном доме, где комнатку ввиду дешевизны снимали у пьяницы, с полчищами тараканов. У женщины из-за духоты и интоксикации сделался жар. Она лежит в бреду. И тут приезжает Ваш приятель из компании Малеева и Головлёва. Вдруг вам делается в деревне скучно. Вы решаете немедля ехать в Москву. Ненадолго задумываетесь, что же делать с вашей сожительницей. Решаете ее попросту запереть в доме. Полагаю, что женщина, которая простила вам подобное – оставить ее беспомощной, в поту, в бреду, в угрозе преждевременных родов, с ползающими по телу тараканами – такая женщина способна скрыть любое ваше преступление. Она ведь, кстати, помаленьку вам сводничает?
– Это преувеличения… Вы искажаете факты…
Я видела, что Пырин, отнюдь не ждавший подобной осведомленности, на сей раз не знает, как парировать. Потому и лепечет свои жалкие «искажаете» и «преувеличения»…
– Мне плохо… – Пырин театрально схватился за сердце, осел на стуле. – Вы довели меня… своими издевательствами… до приступа. Я сейчас упаду!
– Если вы настаиваете, я обязан вызвать доктора. – Роман взялся за телефон. – Только ведь врач все одно установит, что никакого сердечного приступа у вас нет. Стоит ли тратить мое и ваше время на бесполезную формальность?
К моему удивлению, Пырин не воспользовался возможностью оттянуть время, дабы обдумать дальнейшую свою линию. Надо полагать, он предположил, что установление факта симуляции поставит его в слишком проигрышное положение.
– Я не нуждаюсь в ваших, вне сомнения, подневольных в своих диагнозах, врачах. – Он горделиво выпятил грудь. – Я справлюсь сам. Дух властен над телом.
– Тем лучше. Строго говоря, у меня осталось не так много вопросов. В рассуждении дионисийских культов, столь популярных среди вас, не знаете ли вы, кто накануне убийства купил кошку? Сам Тихонин?
– Я ничего не знаю ни о каких кошках.
– Ах, pardon, кажется, это был какой-то другой зверок. Неважно. Как неважен и 995-й параграф, которому мы уделили, признаюсь, что-то чрезмерно много времени. Обвинение-то вам будет предъявлено отнюдь не по нему.
– Какое обвинение?! – вскинулся Пырин. – Вы сами сказали, что под обвинение подводите только Овсова! Не меня!
– Опасаюсь, что я поспешил с подобными утверждениями.
– У вас ничего не выйдет! Ровным счетом ничего! – разбушевался Пырин. – Я не могу быть судим! Я уже говорил! Я болен, тяжело болен!
– Тюремная больница – тоже место невеселое, – вздохнул Роман. – Особенно если объектом интереса эскулапов становится не только социальная агрессия, но и некоторые специфические отклонения. Вы ведь знаете, что у нас от этого лечат. Нарочно ни за кем не бегают, но уж в подобном-то положении… Снова я о 995-м, вот ведь некстати. Кстати, вы ведь угрожали покойному за глаза. После ссоры, имевшей быть 13-го числа августа, в ночь. На сем мы, пожалуй, пока закончим нашу содержательную беседу.
Если перед этим я сравнила Пырина с бурдюком, хотя верней было бы сравнить его с несколькими бурдюками – побольше и поменьше, то теперь я могла бы сказать, что его словно бы проткнули. Нечто из его туши очевидно уходило. Оставаясь по-прежнему тучен, он вдруг сделался как-то меньше. И было очевидным, что ему уже безразлично, как выглядеть в глазах Романа, да и в собственных тоже.
Роман переломил ему хребет. Это было, как ни странно, много очевиднее, чем в случае с мягкотелым Овсовым.
Глава XXXI В которой очень длинный День Рождения все же завершается
– Отвезти тебя домой, Лена? Ты, по-моему, устала. – Роман извлек из своего бювара спрятанную в нем плоскую коробочку из пластической массы, вытряхнул блестящую болванку для звукозаписи, надписал последнюю стеклографическим карандашом. – Если хочешь, можем заехать в какое-нибудь кафе по дороге, выпить по бокалу за день твоего рождения. В самое простенькое кафе, без полоскательных чашек и рыбных вилок, где подавальщиками бегают студенты.
– А ты знаешь, я, пожалуй, в самом деле хочу поскорее домой, – удивилась я, высвобождая волосы из противной резинки. – День рождения будем еще праздновать с родителями, я тебя заранее приглашаю. Глядишь, и Наташа сможет уже на часок прийти.
– Благодарю за приглашение. А в каких числах ты предполагаешь торжество? Мне в самом деле надо спланировать заранее, чтоб оказаться в Москве.
– Я думаю, числа эдак двадцатого. Бетси назначила осеннее открытие галереи на пятнадцатое сентября. Ждет, чтобы вернулись из Франции и Ник, и Миша. А до этого она хорошенько сведет всех с ума, уж я-то знаю. Да и родителей я раньше не жду, чем семнадцатого-восемнадцатого.
– Я буду в эти дни в Москве. После уеду недели на две.
Несколькими минутами позже мы уже летели по Калужскому тракту. Не ехали, летели, ибо почти до самого дома дорога вела по прямой, а на Калужском тракте все пешеходные переходы убраны под землю.
Руки Романа лежали на руле почти неподвижно. Смотреть в окно было не на что, в нем только чередовались обрывки темноты и размытое золотистое мерцание фонарей. Когда же успел наступить поздний вечер?
Я нашла в кармане бонбоньерку и вытряхнула из нее одну из последних тулузских засахаренных фиалок.
– Надеюсь, я все же не испортил тебе дня рождения? Что-то ты притихла.
– Нет, что ты. Мне было очень интересно, и, ты прав, полезно. Просто надо как-то все это осознать… Честно говоря, я не думала, что все это – так… Уж слишком карикатурно. Зиккурат с трупом на Красной площади, апологет маньяка, пишущий в главных газетах, разврат, не то, что «добросовестный ребяческий», а безмятежно-обезьяний… Слишком смешно. Неправдоподобно. Нипочем бы таких не описала в книге… Кто поверит?
– А кто верит в ад всесмехливый? Нет, Лена, это вовсе не смешно. Это так оно и есть. В книге ты сделала адептов Энтропии более правдоподобными – чуть-чуть в ущерб правде. Дьявол – безжалостный карикатурист. Чем больше человек ему предается, тем смехотворней делается.
– Они скоро признаются? Как ты думаешь, кто из этих двоих убийца? Мне кажется, что Овсов. Он более, что ли, убежденный. Второй слишком осторожен. Он не из тех, кто таскает каштаны из огня собственными руками.
– Что самое забавное, сейчас я не вполне уверен, что хоть один из них убивал.
– Ты же сам сказал! Больше-то некому! И незачем…
– Так-то оно так… – Роман притормозил на перекрестке. – Но появилась одна неувязка. Может и пустое, только пузель из картинки выламывается. Да тут еще Эскин со своими шарадами… Кажется, я понял, что он подразумевал. Но я по-прежнему вообразить себе не могу qui prodest. Ладно, утро вечера определенно мудренее. Поговорим о чем-нибудь приятном.
– Твоя поездка в конце сентября – это приятное или опять по каким-нибудь секретным зловещим делам?
– Вот как раз не по делам. Дела все свалятся до того, и предвидится их немало, серьезных дел, не сегодняшним пустякам чета. И хлопот они потребуют выше крыши. Так что, коли все сложится благополучно, поездку я намечаю сугубо удовольствия своего ради.
– И где тебе на сей раз удовольствие, граф?
Я улыбалась, но Роман посмотрел в ответ серьезно.
– Я хочу, наконец, побывать в Константинополе. Почти до двадцати четырех лет дожил, и еще ни разу не был на службе в Святой Софии.
Серьезность Романа невольно передалась мне. Вспомнились строки, памятные нам обоим, как, впрочем, и всем русским детям, со школьной скамьи, но ничуть не стершиеся в привычку.
– В день разрушенья Византии, К мирскому зрелищу слепа, Под купола Святой Софии, Стеклась несметная толпа54. В лазурной дымке фимиама, Светились тысячи лампад, И отражался в окнах храма, Пылавший гибнувший Царьград. Как рёв морской перед собором Неслось победное «Алла», Звучали скорбью над Босфором, В последний раз колокола. Когда враги, набросив сходни, Вломились буйно в храм святой, Там воздымал Дары Господни Священник в ризе золотой. Как бы грозясь бесстыдным фескам, За поругание небес, Он отступил к настенным фрескам, И в светлом облаке исчез. – Но есть старинное преданье, Оно твердит, что день придет, Когда исполнится мечтанье,И полумесяц упадет, – к моему удивлению подхватил обыкновенно не склонный к цитированию стихов Роман.
– В тот светлый день в Софийском храме, Под звук воскресных тропарей, В стенах, с Господними Дарами, Предстанет древний Иерей. И он дослужит Литургию, Что битвой прервана была. Царьград зовет. Зовет Россию. Царьград звонит в колокола.Последние две строки мы произнесли в два голоса.
– Так ведь до конца никто и не разобрался, вышел ли священник из стены, – вздохнула я после некоторого молчания. – Старшие рассказывают, что были такие толпы, такой немыслимый восторг… Многие плакали… Духовенство плакало, никто уж и не разбирал, кто есть кто, кто современный, кто древний… Еще бы: полумесяц упал.. Столько лет Россия этого ждала. И дождалась. На памяти наших родителей55. Странно, правда?
– Я в детстве все жалел, что не родился увидеть, как те полумесяцы сбивали. – Роман усмехнулся. – Кстати, о детстве. И о детях. Появилась ли у тебя светлая мысль, что дарить королю?
– Ну, коли вы сами не додумались…
– Не додумались, не додумались. Признавайся.
– Кречета, разумеется. Ему еще немножко рано, так потому и особенно лестно. А лучших, чем у Ника, ни у кого нету.
– А ведь ты права! Кстати, как раз и сезон. На первую охоту, если времени достанет, Ник сможет сам с ним выехать. То-то будет радости… – Роман сбросил скорость, сворачивая на Университетский проспект. – Молодец, Лена. В самом деле ровно то, что нужно.
– А зачем все же Нику быть в Париже? Парад в честь выхода в космос, я чаю, будет для Миши. Или я, наконец, узнаю, к чему две минувших недели были все эти тайны московского двора?
– Наберись терпения. Еще совсем немного. – Роман улыбался, но мне показалось, что в его лице проступила какая-то забота.
Мы уже въехали во двор моего дома.
– О, уже одиннадцать! Не понимаю, как оно сделалось. – Я полезла в сумочку за ключом и вновь обрадовалась, случайно наткнувшись на кастет.
– Обычно одиннадцать для тебя – час не поздний. Доброй ночи. И – с днем рождения.
Роман хлопнул дверцей, садясь обратно в автомобиль. Мне вдруг сделалось немножко обидно, что он попрощался так равнодушно, даже не поцеловал в щеку. Впрочем, лишь на мгновение. Я рассмеялась и вбежала в подъезд.
Темнота в квартире встретила меня цветочным благоуханием. Я вспомнила, что Катя хотела уйти в десять. Ну да, пусто и темно.
Я помедлила минуту-другую зажигать свет. В темноте запахи слышны отчетливее. Так, кто-то прислал лилии… Розы тоже есть, подмосковные, душистые, мелкие… Неужто тут есть и тепличный, не в свой сезон выращенный, ландыш?
Тут я щелкнула несколькими кнопками подряд. Корзины цветов в самом деле заполонили всю переднюю. Но просматривать визитные карточки я буду потом.
На столике в «холодной» гостиной теснились подарки. Прежде всего я бросилась разбираться с почтовыми посылками, а не с тем, что доставлено курьерами. Вот эта небольшая, с книгу размером и, несомненно, именно книгу и содержащая, три марки с лилиями и две – с детским личиком, от Веры Сен Галл. Ну, конечно! И готова спорить, что книга – про шуанов. Какое-нибудь последнее исследование. Может статься, даже и с картинками. Эти три большущие коробки – из Перми, от тамошних Чудиновых, от обеих старших ветвей. Необычайно легкий сверток, обратным адресом – Саратов. От тётушки Екатерины Ивановны, старшей маминой сестры56. Тоже могу догадаться сразу: в свободное от исследований в области кардиологии время тётя Катя обожает вязать из ниток крючком. Какую-нибудь сумасшедше-кружевную пелеринку да вывязала. Но это все после, после… Простите, господа, но как это так? А где же посылка из Эстонии? С Саарема? Где же мамин-то подарок?
Я нетерпеливо перебрала почтовые доставления еще раз. Так и есть, вернее – так и нет. Нет подарка от мамы! Вся родня тут, и Смышляевы, и Чазовы, и Болотовы, и Наумовы, а от мамы – ничего. Наша почта, между тем, всегда все доставляет в срок. Но такого же просто не может быть… Что случилось?!
Тише, тише… Нечего сердечку так скакать. Я схватилась за заваленный почтой серебряный подносик.
С души отлегло. Среди оранжевых бумажек с телеграммами обнаружился зеленый конверт хронопоста, надписанный знакомым округлым почерком переученной левши. С подарком я или без, а мама писала адрес несколько часов назад.
«Полагаю, Ты не дождалась нынче полосатой юбки? – весело побежали строки. – Захлопоталась, не успела. Но юбку Ты, думается, сама выберешь лучше. Ты ведь в Эстонии чаще моего. Мой подарок немножко другой. Перед тем, как выехать из Ревеля, мы с дорогим Эйнаром Клааманном как раз заехали на хутор Саргхауа, Плотвяной Омут, то есть, Ты, верно, помнишь тамошнюю базу Института Геологии?»
Помню ли я хутор Саргхауа? О, еще бы. Именно там, среди могучих еловых лесов, я и сделала весьма существенное для меня открытие.
Было это ровно два года два назад. Да, и день Рождения пришелся на поездку. Я увязалась за мамой на коллоквиум коралистов, своих вылазок мне мало. Но уж как заслышу слово «Ревель», на меня что-то находит. Не могу дома усидеть, если кто туда едет, от зависти погибну.
Под институтские нужды откупили и перестроили старый хуторской ансамбль: несколько исполинских домов и сараев-амбаров с высоченными крышами. Прежние владельцы предпочли построить более современное жилье ниже по речке, где держат конный завод. Для жизни, может статься, легкие модные строения и удобнее. Я вообще примечала не раз, что те, кому принадлежит старина, не особенно-то ее обычно ценят. А вот «ученоприимный» дом в стародеревенских стенах получился очаровательным.
Палеонтологи заседали день-деньской, я же брала на заводе лошадь и объезжала окрестности. Но как-то с утра распорядок маминых коллег дал сбой. К хутору подогнали прогулочные ландолеты, затевалась несомненная экскурсия. Судя по самодовольному виду эстонцев и заинтригованным репликам гостей, показывать намеревались нечто из ряда вон интересное. Мне сделалось любопытно и я присоединилась к выезжающим.
Ехали не более получаса. Затем вдруг автомобили остановились посреди дороги. Ученые начали из них дружно выбираться.
Приехали? Но куда? Место – самое непритязательное. Дорога, справа подлесок, слева – дикое поле. Да и то трава не сразу разрастается пышно, ближе к дороге почва бесплодная, каменистая, унылая. Саженей на сорок-тридцать – ничего не растет, кроме кое-где пробившегося подорожника.
К этой-то унылой проплешине все и устремились.
«Вот», гордо изрек мамин друг Эйнар.
В течение битого часа я наблюдала престранное зрелище. Солидные, в летах, ученые мужи и ученые дамы, как сборище сомнамбул, топтались по серому пятачку, глядя исключительно себе под ноги. Кто-то порой приседал, уставясь вниз, будто там мозаиками выложено.
«Какая прелесть! А Семенов-Тян-Шанский здесь был?»
«Как же, Петра Николаевича первым делом сюда привозили».
«А Леконт?»
«Ну как же можно бельгийским коллегам не показать?»
Они сбредались и разбредались, что-то показывали друг дружке, что-то бормотали себе под нос…
«Какое великолепие!»
Меня разбирал смех, но я превосходно понимала, что смех мой – сродни веселью папуаса, наблюдающего непонятную возню белого с автомобильным мотором. На самом же деле я наблюдала с жалкого берега современности то, как посвященные спустились на живое дно мертвого моря. Море плескалось для них, столь настоящее, что я не удивилась бы, если б намокли их одежда и обувь. Они видели волны, они наблюдали древних морских обитателей… Они были в море, я осталась – на суше.
В тот день я поняла, что не знаю о своей маме самого главного. Не знаю – и не узнаю никогда, ибо этого мне попросту не дано.
Моя мама, такая ласковая и веселая, порой озорная, такая чуткая ко всему, что связано со мной… Моя мама. Человек, принадлежащий мне, как представлялось с первых лет жизни, безраздельно. Но самый главный, самый таинственный сад, где бродила ее душа, оказался для меня запертым.
(Верней даже сказать – не сад, а океан, а душа не бродит, а плавает. Ох, у меня уже профессиональная писательская болезнь – точить формулировки, как карандаши).
Палеонтология никогда не занимала моего воображения. А все же открытие в маме абсолютной незнакомки меня чем-то уязвило. И оказалось мне весьма полезным, я так полагаю. Полезным и поучительным.
Ну, так все-таки, отчего я без подарка?
Я продолжила чтение письма уже в ином, веселом расположении духа…
«Рядом с базой конный завод, который, как я помню, Ты сочла отменным. В известном смысле я рискнула на свой страх, понадеявшись, что Ты мой выбор одобришь. Лошадку зовут Туули57, больше ничего пока не скажу. К сожалению, хотя место в конюшне уже готово, перевезти твой подарок в Москву обещают не раньше конца сентября. Заводчик приносит всяческие извинения. Отчасти преследую своим даром эгоистическую цель: чтобы Ты не пропадала на долгие месяцы в столице, а почаще была с нами».
Незнакомая пока Туули словно ударила меня копытом в грудь. Лошадь! Я и не подозревала, что так хочу свою лошадь… Когда мне было пятнадцать, умерла моя англичаночка Арника, на которую я пересела восьми лет с учебного манежного пони. Я так горевала, что вопроса о новой четвероногой подружке как-то даже не поднималось. С той поры я обходилась лошадьми из конюшен, то из одних, то из других.
А ведь мне уже давно пора было завести новую. Детская печаль сто лет, как растаяла. Я просто не обратила на это внимания.
Я не понимала, что хочу лошадь, но мама поняла лучше меня.
Я прошла в ванную, сполоснула лицо ледяной водой. Как странно и как красиво: мой день начался папиным подарком, а завершился – маминым.
Все остальные чудесные дары я разберу завтра. Не сегодня, нет.
Я налила бокал минеральной воды. А что я, собственно, сегодня ела и ела ли что-нибудь? Варенье у сестры, тысячу часов назад. Но я вовсе не голодна.
Я не стала даже чистить зубов. Чуть пошатываясь, я направилась в свою спальню, по ходу швыряя на пол одежду. Я уже не могла ничему радоваться, я не в силах была о чем-либо думать. Прожитый день насытил меня такой полнотой жизни, что единственно важным было ни капельки ее не расплескать.
Я упала на кровать, и кровать куда-то поплыла.
Глава XXXII В которой я опять смотрю выпуск новостей
– Наташенька, как вы изволите благоденствовать?
– Скучновато, признаться. Подозреваю сговор Лебедева с сестрой Елизаветой: оба крепки в странном намереньи держать меня в постели. Видимо в силу их козней я, вы удивитесь, много сплю. Ну и смотрю сны.
Я с радостью отметила, что Наташин голос уже не кажется таким слабым.
– «В постель иду, как в ложу, затем, чтоб видеть сны». И что же вам снилось?
– Сегодня несколько странное. Будто захожу я в нашу булочную, а там эдак оживленно. Передо мною у прилавка две старушки печенье выбирают, а за ними стоит кентавр. А мне калача надо купить, я тихонечко подхожу к прилавку за кентавром. Ну и разглядываю его. Старушки нимало внимания не обращают, булочница тоже, кентавр ну и кентавр. А мне все же любопытно. Я на него эдак сбоку тихонько поглядываю. Масть у кентавра вороная, сам на цыгана похож. Длинные черные волосы, кучерявые, бородка чуть козлиная. Лицо смуглое, но глаза не черные, изумрудные глаза. Красивый такой кентавр, но по пояс голый, ибо представьте себе кентавра в пиджаке. А в ушах у него длинные золотые серьги с изумрудами. В тон глазам. Но ему на диво к лицу. И вот я думаю: «А хорошо бы к этим серьгам еще б на груди висела на золотой цепи изумрудная звезда!» А кентавр вдруг ко мне оборачивается и отвечает: «Ну, знаете, это уж была бы пошлость».
Наташа рассмеялась за мною следом – по другую сторону телефонного провода.
– А вы чем живы, Нелли?
– Беготней и ерундой. Со среды не знаю ни минуты покоя, все время суета вокруг открытия галереи. Бетси из меня просто веревки вьет. Впрочем, не из меня одной.
– К открытию я, может статься, все-таки поднимусь. – Наташа вздохнула. – Не люблю я телесной слабости, Нелли.
Можно подумать, она любит какие-либо иные проявления слабости. Ну да, ну да.
– Все меня, впрочем, балуют, – Наташин голос улыбнулся. – Гунька налепила мне в подарок из глины каких-то монстров, каковых даже попыталась обжечь в духовке. Это у нее теперь называется «керамика». Приходится восхищаться. Юра перетащил в спальню панель. Так что меня даже сейчас можно не только услышать, но и увидеть уныло возлежащую на одре болезни. Ах, кстати, а вы разве не будете сейчас смотреть новости? Я так буду.
– Новости? Совсем меня Бетси заморочила. А что там сегодня интересного?
– А вот не скажу. Вы лучше просто включайте, а то после пожалеете.
– Так до вечера?
– До вечера, Нелли.
Я немножко опоздала. Выпуск уже начался, и я не сразу разобралась, что аэропорт, изображение которого появилось на панели, это парижский аэропорт Сен Женевьев. Затем камера ушла ниже, показав большое стечение людей близ взлетной полосы, причем среди присутствующих преобладали мундиры. Назвать сие многолюдство «толпой» было никак невозможно. Не стоит толпа так стройно. Стройно, словно кто-то по линеечке выравнивал.
Так вот оно что! Да, это непременно стоило посмотреть.
Мушкетеры в пешем строю, в своих алых мундирах с крестами на супервестах и касках. В пешем же строю Полк Чести – швейцарцы в белом, верные из верных, до последнего живого защищавшие когда-то Тюильри. Поблескивающие медью на сентябрьском солнышке трубы оркестра.
Аэроплан с двуглавыми орлами на борту шел на посадку. Легкий шелест пробежал по рядам встречающих – и все замерло, все застыло. Лишь колыхались на легком ветерке два флага – белый с лилиями и бело-сине-красный, с черным орлом на желтом квадрате.
И – впереди всех – застыла игрушечным литым солдатиком маленькая фигурка в бело-золотом мундире конногвардейца. Объектив приблизился, показав эполеты генерал-маиора, серьезное детское личико. Последнее – как раз в тот момент, когда ребенок скосил глаза на свой крест Андрея Первозванного – и тут же еще больше выпрямил спину, еще выше вскинул подбородок, справляясь с тяжестью двуглавой сверкающей птицы, раскинувшей крылья над его каской.
В нескольких шагах за мальчиком стояло дюжины полторы взрослых. На Великом Князе Михаиле был, конечно же, морской сюртук авиатора, с иголочки, я так понимаю, новенький, ибо полковничий. Почему-то вид Миши показался мне странно невесел в этом весело-оживленном ряду. Рядом с ним я заметила другого Мишу, нашего посла князя Трубецкого, моего ровесника и второго из четверых Андреевичей. Все свободное от службы время он, надо сказать, учится в Парижской Академии Художеств. Остальные были французы, каковых я и не успела разглядеть, ибо камера вновь перескочила: шасси аэроплана коснулись земли.
Четко, красиво вырулив со взлетной полосы к зданию аэропорта Сен Женевьев, воздушный корабль замер. Застыл ровно так, чтобы прилетевший на его крыльях не сделал ни единого лишнего шага по земле.
Вот подъехала лестница, вот откинулась дверца… Неподвижное сделалось еще неподвижнее, хотя только что казалось, будто это невозможно. Только чуть позже я поймала себя на том, что задерживаю дыхание.
Государь был в жемчужно-сером мундире Вандейского полка, с очень высоким воротом, расшитым золотыми лилиями, при Ордене Святого Духа, в чине Маршала Лагеря.
Изготовились оркестранты, карауля нужное мгновение, (я не видела этого, ибо телекамера неотрывно считала пройденные ступеньки), я это просто ощутила. Все собрание было сейчас словно единым организмом, мудрено было не ощутить.
Носок сверкающего как черное зеркало сапога коснулся французской земли.
Когда русский ступил на землю, француз сделал первый шаг навстречу гостю. Ни мгновением позже, ни мгновением ранее.
Они шли друг к другу – теперь только они и двигались в этом окаменевшем, словно в старой сказке, скоплении людей. Шли солдатским шагом, являя солдатскую выправку. Молодой человек и ребенок? Нет, два монарха. Два мѵропомазанника.
Они остановились, приблизившись.
Как-то очень тактично, иначе не сказать, Государь наклонился – ровно настолько, сколько было необходимо, ни дюймом больше, чтобы венценосный собрат оказался с ним вровень – лицом к лицу. Они раскрыли друг другу объятия. Двоекратно расцеловались.
На очень краткое мгновение Государь стал для меня Ником: просто потому, что я слишком часто угадываю его душевные движения. Вот и сейчас я почувствовала, как хочется ему подхватить августейшего брата в охапку и пару раз высоко подбросить в воздух, как самого обычного российского «волчонка». И этот ребенок точно так же заливался бы счастливым восторженным смехом, как все детишки, с которыми Ник такое проделывает.
Увы, нельзя. Привыкайте, Ваше Королевское Величество, вам еще многого этой жизни не перепадет.
Оркестр грянул «Vive le Roy58». Теперь они стояли рядом – стояли и слушали.
«Боже Царя храни». Они слушали, стоя, сказать бы, что плечом к плечу, да Людовик пока что был нашему Государю немногим выше, чем по пояс.
Замерли последние медные звуки. Маленький король что-то очень серьезно сказал своему гостю. Тот произнес что-то в ответ. Было ли это обычное «добро пожаловать», нечто ли иное – бог весть. В средоточеньи многих тысяч взглядов – и обособленные своим мистическим статусом – они пребывали сейчас наедине.
Пожалуй, в первый раз я подметила, что маленький король делается похож даже не на покойного отца, а на Хайме Сеговийского. Что-то решительно узнаваемое уже проступает в детских чертах. Что же, будет красавец.
А затем людское озеро (людского моря в аэропорту все же не разлилось) пришло в движение. В кадр же ворвался голос до поры проглотившего язык диктора, поясняющий, что из Сен Женевьев все направились в Версаль.
Конечно в Версаль, куда же еще. Выпуск новостей завершился, но панель, в место того, чтобы погаснуть, зазвенела.
– Ленка, привет! Надеюсь, я тебя не отвлекаю от всего этого пафоса?
Серо-синие глазищи Нинки Трубецкой, Ильиной в замужестве, сияли весело и чуть насмешливо. У Нинки точеные черты, даже длинный, как на портретах всех Голицыных, нос нимало ее не портит. Удивительно красиво от природы лежат ее каштановые волосы: до ушей они ровные, но отрастая ниже идут в мелкие кудри, обрамляя лицо совершенно средневековым ореолом.
– Пафос уже закончился. А иначе б я не стала даже переключать изображения.
– Ну конечно… Тебя же хлебом не корми. Для чего только нужна вся эта пышность бессмысленная?
– Нинка, ну мы сто раз с тобой уже спорили.
Еще один человек кроме Романа, который называет меня не как все. Только Роман никогда не говорит «Ленка», а Нинка нипочем не скажет «Лена». Само собой, в школьные годы из нас выбивали все эти «нка» и «тька» разве что не линейкой по пальцам. Но кое-какие сорняки уцелели, и тем особенно милы. Мне нравится слышать «Ленка» из Нинкиных уст, Нинку же зовут только Нинкой все близкие друзья без изъятья. Это уменьшительное имя летит, как ее походка. Хотя Нинка никогда и не ходит, она всегда бежит. Сильно подозреваю, что ее дочь Катя, равно как и другие дети, если появятся, тоже вырастут и будут звать Нинку Нинкой, а не мамой.
Само собой, что глупо даже спрашивать, почему она хоть на своего кузена не поглядела. Буркнет: «Что я его, живьем, что ли, мало вижу?»
– И то верно. Мне спорить и некогда. Мне, по правде сказать, просто нужна твоя палатка. Та, которую ты брала в горы на Алтай. Их сейчас, вот ведь надо же такую глупость учинить, сняли с производства. Обещают какие-то новые распрекрасные модели. Но я-то такую хочу! А уже не продают. Она у тебя хотя бы, надеюсь, в Москве?
– В Москве. Забирай, когда хочешь. А куда это ты собралась на осень глядя?
– Туда, где уж наверное не замерзну. В Индию. Аэропланом до Мадраса, а дальше на перекладных и пешком. Хочу посетить одну ашраму59…
Ох, ну что тут скажешь? Что постбританская Индия это все-таки не то самое место, где невинные девы с мешками золота на плечах так и гуляют безмятежно по ночным дорогам? Отговаривать ее – себе дороже. Да и не случится ничего с Нинкой. Она заговоренная.
– Надеюсь, моя палатка не слишком пострадала после того, как, помнишь, я поставила ее ночью на болоте…
– Эй! Так ты ж ее отдавала в чистку?
– Отдавала-отдавала. Я шучу. Все с палаткой хорошо. Так ты будешь пятнадцатого у Бетси?
– Нет… Я потом картины посмотрю. Я просто уже не могу терять дни, все лето погублено в Ахтырке60. Одной родни – человек тридцать. Обеды, беседы… Если я не удеру, я начну зудеть на собственного ребенка. Уже начинаю.
Да, похоже на то. Нинка – любящая жена и идеальная мать. Немножко, правда, на свой манер идеальная. Как-то, с год тому, я оказалась свидетельницей домашней сцены: трехлетняя Катя не желала слушать призывов бонны и идти есть манную кашу. Желала же, напротив того, прятаться в гостевой спальне под кроватью. Бонна, как к верхней властной инстанции, воззвала к Нинке. «Катька, ты почему там прячешься?» – безмятежно поинтересовалась Нинка. «Я зайчик и тут моя норка», глухо прозвучало снизу. «Норка, говоришь? – Нинка задумалась на мгновение. – Тереза, несите кашу». Недоумевающая француженка явилась с тарелкой, салфеточкой и ложкой. «Если ты зайчик, то в норке должна быть еда. Иначе ты ненастоящий зайчик. Ты будешь есть в норке кашу?» «В норке? В норке буду!» Нинка с неподражаемой безмятежностью воткнула ложку в тарелку и точнёхонько метнула тарелку по полу. «Только смотри, съешь всё, до дна». Бонна выглядела так, будто хлебнула уксуса. «А сколько б мы ее за столом уговаривали?» – весело улыбнулась Нинка.
Ее самое воспитывали очень уж чинно. Поэтому Кате и выпала такая вольница. Но так или иначе, а Нинке в самом деле необходимо иногда одиночество. Как мужчине Английский клуб, подумала я, вспомнив слова Романа.
А все-таки, подумалось мне, когда я уже попрощалась с Нинкой, настроение мне она немножко сбила. Мне хотелось мысленно поиграть с этими трогательными и величественными мгновениями, хотелось прокрутить их в памяти, словно синематографическую ленту, не один раз прокрутить, нажимая на «стоп» и на замедленную скорость…
Когда кто-то из дорогих тебе людей не разделяет твоих чувств, они от этого слишком быстро выветриваются. Это бывает иногда немножко больно.
На самом деле либертинствующих ведь по пальцам перечесть… Ну читает Нинка Латыпову, ну что с ней поделаешь. Все равно это Нинка и я ее люблю. И не слышит она, как дышит история… В конце концов, биолог, наблюдающий загадочные повадки мушек-дрозофил, и не обязан это дыхание ощущать…
И великое счастье, что Нинка не может знать, сколь страшной была, как под устаревшую бумагу «копирку» написанная, судьба наших дедов, в каком-то неведомом далеке… Нинкин дед – тоже?61 Опять сквозняк? Ничего, перетерплю.
Я уже его не страшусь. Я добровольно пытаюсь поймать и сложить две похожих картинки: обыск в доме, где много детей, топчущие пол грязные сапоги… Мальчик, мой ли отец, Нинкин ли отец, который что-то тайно выносит под детской своей одежонкой…
Все, успокойся, пусть морок растает. Владимир Сергеевич дожил до глубочайшей старости, в Ахтырке. И еще выговаривал нам, детям, что мы де не умеем правильно чистить лошадь. А какие, до конца его дней, бывали там домашние музыкальные вечера! Как сам он исполнял Листа…
Жизнь прекрасна… Но Нинка, Нинка, почему ты этого не любишь? Я привыкла к твоим речам «хороший ведь малый, но как выйдет эдаким земным богом, так зла не хватает»…
Он не «земной бог», Нинка! Он – Помазанник Божий.
Что-то защекотало мне щеку. Высохшая соленая полоска, оказывается. Я и не заметила, что плакала, наблюдая встречу моего сюзерена по земле и крови, с моим же сюзереном по вере.
Какая, все-таки, великая сила, Священный Союз!
Я улыбнулась. И кто-то, несомненно Наташиным голосом, столь отчетливо, будто мы снова связались с нею по телефону, произнес рядом:
– Третья карта.
Глава XXXIII Белки Нескучного сада
Еще два дня пронеслось в бестолковых хлопотах. Я даже пропустила, не посмотрела парижский парад. Видимо, захлопотался и Костер, поскольку так и не занес мне обещанных глав перевода. Бетси, как я уже упоминала, умудряется устроить веселую жизнь всем, кто попадает в ее орбиту.
Все же свободное от Бетси время, вне участия в бурных обсуждениях экспозиции и приваживания журналистов, я позволила себе откровенное безделье. Я имею на него право. Я должна пережить успех моей первой книги, а всякое переживание, даже счастливое, требует душевных сил. Кроме того, я должна даже не то, чтобы немножко отдохнуть от бешеного напряжения прошлого сезона, когда, бывало, писала как сумасшедшая до рассветного часа, на моей столичной квартирке, благо, там ужасаться было некому. Кстати, ведь только теперь понимаю, до чего же все неслучайно. «Хранителя» можно было писать только в Санкт-Петербурге, только собственными ногами бродя по тем же тротуарам и мостовым, где витало когда-то ожидание Юденича, ожидание освободителей. А теперь вот мама огорчается, что меня год почти не было в Москве. Даже лошадь подарила.
Но кроме того я должна немножко, что ли, отделиться от написанной книги. Банально сравнивать книгу с ребенком, но она вправду уже не часть меня, она начала собственную жизнь.
Между делом я, как и обещалась, напишу осенью комедию для Наташи. А далее проступают какие-то смутные контуры повести-сказки из жизни Древнего Египта. Только на самом деле это будет не про Древний Египет. Просто про меня и про Наташу. Наташу я опишу в облике священной кошки Бастет. И название книги уже выплыло: «Мерит». Мерит – это будет мое имя. Но больше пока ничего не видно и не ясно, и не стоит себя торопить.
Я могу сколь угодно щедро тратить свое время на близких, друзей, старых и новых знакомых. Кстати, кто это там заставляет трезвонить мой телефон?
Я пару мгновений помедлила снимать трубку. Девичьи гаданья на излете ХХ века изменились технически, но не содержательно. Так кто бы это мог быть?
Не Эскин, ибо Эскин отбыл уже в Иерусалим. Если верить газетам, конечно. А я начинаю подозревать, что верить им можно не во всем.
Не Роман. У Романа в наших отношениях свой, странный и рваный, ритм, который он мне успешно навязал. Иногда он появляется почти ежедневно, иногда преспокойно пропадает на месяцы. Не уведомляя ни о чем заранее. Судя по нашему прощанию в день рождения, настроение исчезнуть у него уже возникло. Так что едва ли я его увижу до обещанного мною дня, а там – умчится в Константинополь и ищи свищи. И – опять же негласно – но так сложилось, что я никогда не напоминаю о себе первой. Это было бы… Неправильно бы это было. Нечестно.
Нинка уже забрала свою, вернее мою, палатку, вчера. И мы все ж немножко поругались, когда она сказала, что «незачем было вовлекать в этот театр ребенка».
Может, у Костера все-таки совесть проснулась? Ведь моего любопытства теми двумя кусочками текста никак не утолить.
Но трубку все же пора и брать, довольно мучить ожиданием неведомого пока еще не-собеседника. Всех, кто может вспомнить и набрать мой номер, можно перебирать до вечера. А сейчас, между тем, начало дня, ясного и теплого, сентябрьского.
– Мишенька? А я была уверена, ты еще в Париже!
– Воротился сегодня рано утром. Удобная, признаться, штука, собственный борт.
– Думаю, уж Ник бы тебя, так и быть, взял на свой. Или ошибаюсь?
– А Ник в Париже остался.
– Вот как? Надолго?
– Не знаю, по чести сказать. Какого-то важного события он должен дождаться, и непременно сидючи в Париже.
Странно… В голосе Миши не прозвучало ни тени интереса к делам Ника. Оно положим, нам не все и не всегда надлежит знать, но что-то неладное скользнуло в безразличной этой интонации. Да и в Сен Женевьев у Миши было какое-то отсутствующее лицо. Стало быть, мне не почудилось.
– А я хотел спросить – ты не занята?
– Меня энергически пытаются занять. Но я ведь могу и ускользнуть, если услышу более заманчивое предложение.
– Я хотел предложить тебе прогуляться по Нескучному. Покормить белок.
– Да, твое предложение, вне сомнения, заманчивее. Устоять против соблазна кормить белок я не способна. Ты ведь в Майском доме сейчас живешь? Тогда я рассчитываю еще и на чаепитие. Кстати, зайдем заодно в Конюшни. У меня лошадь теперь, надо познакомиться с конюхом, который за ней будет ходить.
– Прекрасно, – Миша, несомненно, обрадовался, но тоже как-то безжизненно. Опять не так, как обычно. – Прислать за тобой автомобиль, Нелли?
– А троллейбусы для чего существуют? Мне до Майского дома двенадцать минут.
Эх, слово-то не воробей, вылетело… Миша и без того чем-то выбит из колеи. А в то, что теперь распоряжается и аэропланом, и автомобилем, и шофером в ливрее, он ведь еще не успел наиграться. Зачем я лишила его возможности распорядиться? Ведь было б ему приятно. Как же я иногда неловка…
– Я встречу тебя на троллейбусной остановке. – Миша все же чуть оживился. – Тогда я сейчас побегу на кухню клянчить орехов.
– Только возьми самых разных, грецких там, земляных, лесных… Кедровых тоже. Я всегда пытаюсь понять, какие они любят больше. И всегда не успеваю разобраться.
На аллеях и дорожках, что ближе к дворам домов и Калужскому тракту, как мы с детства уяснили, кормить белок не стоит. Очень уж велика конкуренция. На каждую белку – по три старушки и по дюжине мелкоты с мамами или нянями.
К тому же Мишу еще и узнают на каждом шагу. Даже в партикулярном. Москвитяне, конечно, народ благовоспитанный, понимают, что герой – тоже живая душа. Но спокойной прогулке постоянные поклоны, вскинутые к фуражкам руки, книксены, все же, согласимся, немножко мешают.
Но Нескучный сад нам знаком, как свои пять пальцев. Не сговариваясь, мы устремились к Ванному домику над прудом. Тропки сделались извилистее, заросли обрадовали безлюдьем. И ведь мы-то знаем, что эти заросли выводят на новые аллейки.
Ну вот, тут белки уже не такие перекормленные. Миша честно разделил пополам орехи. Кулек предоставил в мое распоряжение, а сам набил карманы.
Вот уже первый зверок, оценив меня (присевшую на корточки, с вытянутой рукой и горстью орехов в ней) в рассуждении скрытой каверзы, прытко приблизился. Оп! Одна крошечная лапка уперлась в мою ладонь, вторая же подгребает к пасти первый орех, грецкий. Ведь грызун, а ручонки-то как у мартышки, преловкие.
Но как же она бойко улепётывает! И не боится ни капельки, привыкли здесь, в Нескучном, что люди – это своего рода безобидные ходячие мешки с орехами, а все ж таки, для порядка, лишней секунды не задержится.
А к Мише уже подступались разом два зверка. Один уже хватал добычу с ладони, другой выжидал в нескольких локтях…
Так я и не успела опять приметить, какой же орех они больше любят. Что поближе, то и хватают. Верно уж потом, в «безопасности», разбираются, чем, собственно, разжились.
Когда нам, наконец, надоела возня с этими нахальными созданиями, мы уселись на спиленном стволе засохшей липы. Да, любимые наши детские места Нескучного – они немножко запущенные, такая коряга может по нескольку месяцев валяться, не то, что в «парадных» -то аллеях. Но нам всегда было хорошо здесь, а не на ровненько посыпанных красным дорожках, среди сверкающих теплиц с ананасами и пальмами. И на поваленном дереве куда приятней сидеть, чем на ажурной скамеечке.
Признаюсь, по горсточке орехов мы, умудренные опытом, приберегли. А то, бывает, выскочит опоздавший к раздаче бельчонок, и ну изображать воплощенную укоризну.
– Детей вокруг нет?
– Видишь же, что нету.
Миша полез за машинкой.
– И для меня набей.
Легкий дымок быстро таял в уже холодноватом, поблескивающим как стекло, осеннем воздухе. Я заметила, что у Миши немножко отлегло от сердца. Все-таки не расхожее это место, а правда: меньшая братия иной раз действует целительно. Что лошади, что белочки, а вот Сен Галлы и Завольские души не чают в своих котах. Лицо у Мишки сделалось – словно какая-то добрая рука его разгладила. А остальное неважно. Захочет, расскажет сам. Поэтому я спросила совсем о другом.
– Как парад-то прошел? Извини, не посмотрела, закрутили меня.
– А я-то думал, ты непременно поглядишь. Подумать только, еще каких-нибудь пятьдесят лет назад войска проходили под Триумфальной аркой…
– Снести б ее к собачьим поросятам.
– На это, как ты понимаешь, никто не пойдет. Памятник архитектуры и прочая таковая… Под нее, под арку эту, недостроенную, картонками залатанную, въезжала Мария-Луиза. Ехала хуже, чем на заклание. И под же ней же, потом, провезли истлевший труп узурпатора… Скажем спасибо, что хотя бы его чудовищную гробницу полностью убрали. Тут даже особо лютые обожатели архитектуры не посмели пикнуть. Прижали их к стенке. Речь-то шла о чем? Восстановить нарушенный облик более старого строения. А тут уж извините.
– Кстати, а ты видел фотографии этого кошмара?
– В Париже и видел, – Мишу передернуло. – В музее Дома Инвалидов. И фотографии, и макет. Феерическая пошлость.
Да уж, бывшее захоронение Бонапарта глядело апофеозом пошлости. Из красного, что ли, мрамора? Или из гранита. О чем-то подобном, вероятно, и грезили в своих больных фантазиях Овсов с Пыриным, мечтая превратить в кладбище Красную площадь.
Мишина папироска оказалась слишком крепкой, я закашлялась. Да, с Триумфальной аркой ограничились полумерой, четвертьмерой, осьмушкой меры. Но главное было сделано. С этого баснословного «исторического памятника» все же сбили два имени. Двадцать лет назад, уже при нашей жизни, история была долгая. Были они там увековечены: два Бонапартовых генерала, а точнее сказать – два палача под стать своему хозяину. Тюрро и Амей. Палачи Вандеи, палачи Бретани. «Убивать всех, включая женщин, девушек и детей, сжигать дома, деревья, заросли дрока». Приказ Тюрро от 19 января 1794-го года, опять вступила моя профессиональная память, опять перед глазами плывут печатные строки… Тюрро, один из устроителей чудовищных «Нантских нуайяд», массовых утоплений… Оба – водители «адских колонн»… Тюрро и Амей – два людоеда. А ведь Амей – еще и «барон». Какой же подлый был XIX век!
Какой же подлый… Мне вспомнился Оскар, король Швеции и Норвегии… Гнусная физиономия с фатовскими усиками… Сын короля Бернадота, у которого, дохлого уже, обнаружили на груди татуировку «Смерть королям!» и дочери марсельского купчишки Клари, Дезире. На лютеранский же лад сия королева была стала Дезидерией… Но ведь и этого еще мало. Сам Оскар, как вошел в хотения Митрофанушки, породнился еще и с Богарне. Лейхтенбергские герцоги, вот радости-то! Отчего я не мужчина и не могу выражаться так, как меж собою, оказывается, позволяют иной раз Ник с Романом!
Господи, сколько ж я злилась в студенчестве, штудируя учебники!
Но ни в одном учебнике не напечатаны, да только все одно каждому известны, слова покойного Государя Павла Андреевича. «XIX век залил Готский Альманах такой грязью, что любая законнорожденная русская девушка больше достойна продолжить династию, чем некоторые принцессы».
Под это дело он и отменил сакральное для «гатчинских» число «36». До сих пор, бедняги, страдают. Для них все, что Павел I учредил – добавочные скрижали к Моисеевым. Но законы, как и все в этом мире, подвержены изменениям. Закон нельзя перекраивать под себя. Никова мама была да, принцесса. Но Ник всходил на трон уже не связанный этим невнятным условием. Если на рубеже XIX века оно еще имело смысл, то после потеряло. Дорого дались Европе все эти Венские конгрессы, утвердившие смешение голубой крови с кровью революционеров и поддельных дворян. Да, дворянство может получить по заслугам любой честный человек, но только из рук истинного Помазанника Божия, монарха, не из рук узурпатора. Да, и короля можно выкрикнуть на сходе, нето б французы по сю пору возили б тележку с Меровингами62, но революционер не может быть монархом, как антисистема не может быть системой.
– Нелли, вон тот бельчонок уже две минуты для тебя выплясывает. А я свои орехи уже все скормил. О чем ты так задумалась?
– О твоем дяде. – Опережая вопрос (дядюшек у Миши немало, даром он, что ли, «восьмой»), я тут же уточнила. – О покойном Государе Павле Андреевиче.
Миша вздохнул. Странно, все-таки, что Государь Павел Андреевич для него, как и для Ника – фигура умозрительная. Мишка ведь еще младше Леры, на два месяца. Никто из нас Государя не помнит.
– Отчего о дяде?
– Да так, знаешь, мысли перескочили. Имена людоедов на Триумфальной арке, повреждение Готского альманаха. Ведь именно при Павле Андреевиче многое встало на свои места.
– Ну, не само же встало, – улыбнулся Миша, набивая новую папиросу. – Дядя Павел был большой мастак расставлять вещи по местам.
– Но некоторые места оказывались немножко неожиданны, – усмехнулась я. – Кое для кого.
– О, да.
Павел Андреевич родился как раз в годы очередной моды на Павла Первого, в чью честь он и был назван.
«Мое имя прежде всего говорит о должествовании уповать на Апостола», – двенадцатилетним бросил он кому-то из особо восторженных взрослых, выслушав очередной поток красноречия.
Император Павел обожал Екатерину Великую. Обожал век, в котором без русского разрешения «ни одна пушка по всей Европе стрельнуть не смела», век, где Интеллект (говоря языком классицистических аллегорий) подпирал Трон, а не лил колоколов63.
Сначала с юным Цесаревичем еще пытались спорить. Напоминали о своеволии гвардии, о нестабильности престолонаследования.
«Бывали огрехи, нужды нет, – возразил как-то раз он. – Но различье между прекрасным XVIII веком и низменным XIX столетьем в том, что у нас могла иной раз законная жена и урожденная принцесса отстранить бесталанного мужа от дел, но зато такого никак не мог сотворить случайно проходивший мимо свинопас».
Он, по всему судя, был остер на язык, Государь Павел Андреевич… Ник его язвительности не унаследовал.
Но Павел Андреевич «раченьем своим показывал», что ХХ век может стать новым XVIII-м. И немало в том преуспел.
При нем снова полюбили петь «Славься, нежная к нам мать!» Любим это и мы, любим и поем.
– Стало быть, ты никоим образом не проезжал под Триумфальной аркой, – улыбнулась я. – А как проходил твой маршрут по Парижу?
– Он начался от Сен-Дени, – Миша вдруг ощутимо потерял интерес к Парижу. – Кстати, спасибо тебе за книгу. Она все-таки пригодилась. Я ее занес в Дзёмги в городскую библиотеку. Поскольку книга была с автографом, то библиотечные дамы тут же ее с удовольствием поставили на полку с обновлениями. Они заказали дюжину экземпляров, но еще их не получили.
– Прости… Я что-то тебя не поняла. Что значит – книга все-таки пригодилась?
– Так девочка-то умерла, – ответил Миша со странно безразличной интонацией. – Я немного не успел.
Позабыв о том, что папироски показались мне крепкими, я невольно потянулась к холодно поблескивающему золотом крышки Мишиному портсигару64, брошенному владельцем на пенек. Внутри обнаружилось три тщательно набитых только что штуки, и одну из них я присвоила.
– Ее звали Варей. Варварой. Но когда я просил у тебя автограф, я еще этого не знал.
Не расспрашивать, повторила мысленно я. Ни в коем случае не расспрашивать. Ни о чем. Он хочет рассказать – иначе б ни вытащил меня в парк, когда его что-то столь очевидно гнетет. Хочет, но еще не известно, сможет ли. В любом случае не надо мешать.
Некоторое время мы молчали. Я пыталась, подражая Нику, пускать колечки, но у меня выходило как обычно плохо. Миша забрал у меня фунтик, вытряхнул последний орешек, земляной, который и скормил очередному желающему, а затем скомкал бумагу и сунул в карман. А из кармана, словно взамен, что-то извлек.
– Сложно пересказать словами. Вот, прочти. Это личное, но я думаю, что можно.
Это был почтовый конверт, с пятикопеечной маркой, красивой, местной, с видом отрогов Сихотэ-Алиня. Адрес был весьма приблизительный, точных адресов Великого Князя отправитель очевидно не знал: письмо, скорее всего, шло дольше обыкновенного. Обратно адреса, равно как и имени отправителя, на конверте не стояло.
Чуть поколебавшись, я извлекла несколько листков бумаги, слабо издающих запах вербены. Бумага была обычной, из тех, что лежат в каждом отделении почты. В этом ощущался некий диссонанс: благоухание тонкое, а бумага безликая.
«Ваше Императорское Высочество… Скорее всего, это письмо не будет отправлено. Пять из десяти вероятности, что это покажется в итоге неуместным и глупым. Но полууверенность, что нет, скорее всего, напишешь и разорвешь, как ничто другое позволяет говорить все, что хочешь сказать, до конца.
Вы разрешите немножко поделиться с Вами мыслями о душе и о теле?
Я знаю, меня так учили и я верю этому, что душа стремится на Небеса. Но если тебе тринадцать лет, то даже на небеса очень хочется попасть телом, а не душой. Так, как это сделали Вы, Ваше Высочество. Вы рассказывали газетам, что в невесомости ощущаешь себя скорее не летающим человеком, а плавающей рыбой, и что это было очень весело, особенно когда Вы пили кизиловый сок, но выпустили тюбик из руки и он летал себе вокруг. И микрофон летал, но на шнурочке. И что солнце там, наверху, совсем другое, яркое до белизны. Как же мне хотелось тоже быть в космосе, но видеть его глазами, щупать руками, всем тем, что скоро отправится не в космос, а в землю.
Рядом с моим креслом лежит книга Циолковского, в которой он пишет о том, что Вы испытали так много лет спустя. И все книги про космос, какие нашлись в книжной лавке и библиотеке. До Вашего полета мне все мечталось о морских путешествиях. Впрочем, они были не более доступны, чем космос: доктора больше не разрешают мне перемены климата. Хотя, казалось бы, велика ли разница – месяцем больше или меньше? Я бы и три месяца променяла за неделю, если не в космосе, то на Баренцевом море. Или на Балтийском. Но мне никто меняться не позволит. Все, что остается, это молодой клен, что так странно вырос из ниши подвального окна, у витрины булочной, словно пытается вылезти из-под дома на тротуар. Я вижу этот клен из окна, перед которым днем стоит мое кресло, он растет напротив, через улочку. Одно время я очень боялась, что булочник его все-таки срубит, побоявшись порчи фундамента. Только бы с ним ничего не случилось, с моим другом, единственным другом.
Ваше Высочество, меня окружают очень заботливые, любящие и хорошие люди. Но есть какая-то неуловимая дистанция между живыми и мертвыми, поэтому дружбы не получается, а стало быть, не получается откровенности.
Я могу все сказать Вам, Вы слишком высоко, Вы в Санкт-Петербурге и в небе, Вы почти так же высоко, как Архангел Гавриил, покровитель всех, кто странствует воздушными дорогами. А кроме того, я ведь скорее всего разорву это письмо. Простите меня, мне грустно оттого, что я тоже очень хочу в космос.
Что там, в космос. Я хочу и на пасеку к дедушке, хочу ходить за ним между длинными рядами весело раскрашенных ульев, в наряде, тоже чем-то похожий на наряд космолетчика, только сетка вместо шлема, носить дымок в смешной штуке, похожей на чайник… Еще три года назад это было возможно, хотя дедушка живет очень далеко от нашего города. Дедушка все надеялся, что его мед меня вылечит «от всех недуг». Как же хорошо было там, на пасеке. Я совсем не боюсь пчел, они никогда меня не кусают. Один раз пчела даже запуталась в волосах, а все равно не укусила, пока я ее не высвободила. Пчелы очень умные. Она знала, что я не нарочно, и что я очень стараюсь ей помочь. Все девочки, глядя на цветы, думают о венках и букетах, а я думала только о том, медонос передо мной или не медонос. Дедушка приезжает иногда нас навестить, и привозит «самого особенного» меда, но теперь даже ему ясно, что мед бесполезен.
Но все-таки в космос я хотела бы больше, чем на пасеку, чем к морю, чем куда бы то ни было еще. Как же это прекрасно, Ваше Высочество, увидеть Землю, парящей в темноте, переливающейся, светлой…
А мне почему-то кажется, что она похожа не на опал. На мыльный пузырь. Он ведь нисколько не меньше красив.
Ваше Высочество, будьте немножко счастливы и за меня тоже, пожалуйста! Но мне пора рвать письмо. Немножко жаль. Даже не немножко… Нет, я поступлю иначе. Я ни в коем случае не хочу, чтобы Вы, быть может, из жалости, а скорей просто потому, что Вы благородны и добры, сочли бы нужным написать мне ответ… Не надо! Вы читаете эти строки – и я счастлива. Больше ничего не надо. Поэтому простите мою невежливость, но я не подписываю своего имени. И адреса тоже. Как быстро сложился мой план! Завтра как раз придет батюшка, чтобы меня причастить, он теперь еще чаще приходит. Его-то я и попрошу отправить письмо, но не через почтовый ящик, а через главное почтовое отделение. Он меня наверное не выдаст, на то он и священник. Это ведь будет как тайна исповеди.
Ваше Высочество, спасибо Вам за все, за то, что Вы есть, за то, что Вы герой, за то, что прочли это письмо, которое мне самой страшно сейчас перечесть. Я тоже буду храброй. Храбрость ведь нужна не только космолетчикам, не правда ли?
Будьте, пожалуйста, очень счастливы.
С совершенным почтением остаюсь преданной Вам —
жительницей города Дзёмги»– Отчего она умерла? – наконец решилась спросить я.
– Рак. Такая опухоль… в мозгу. Называется астробластома. – Ответил Миша по-прежнему невыразительным голосом.
– Но ведь от рака не умирают, Миша! Уже давно!
– Все-таки изредка умирают. Это коварная болезнь. Один случай на несколько тысяч, мне сказали. Варе просто очень сильно не посчастливилось. – Он с минуту промолчал. – Знаешь, мне показали ее фотографии. Она была очень забавная. Личико все в веснушках, как яичко ржанки, нос чуточку курносый, самую малость, ей это шло. И волосы в светлый каштан, пышные, при короткой стрижке такое особенно заметно.
Мы снова замолчали. Холодное солнце пронизывало чуть начавшую желтеть листву, и было приятно смотреть снизу на раскинутый над нашими головами хризолитово-янтарный шатер. Самый упорный бельчонок все скакал в некотором отдалении, призывая нас как следует пошарить в карманах.
И тут до меня, наконец, дошло нечто, не вполне в Мишином рассказе понятное.
– Но погоди… А как же ты узнал, где ее искать?
– А догадайся, – усмехнулся он. – Тут Брюс недавно упомянул вскользь, что ты детективным жанром увлеклась. Вот и воздай должное методу дедукции. У меня, во всяком случае, получилось.
Словно пытаясь повторить его путь десятидневной давности, я принялась перечитывать письмо, которое по-прежнему держала в руках.
Почти немыслимо… Ни единой зацепки. Дзёмги – город огромный, с полмиллиона жителей. За что он сумел ухватиться? Нужды нет, Мишу вело отчаянное желание прийти на помощь, которого уже не могу испытать я, зная печальный финал. Вело и сознание собственной ответственности за судьбу обратившегося к нему человека. Ну и, наконец, естественное сочувствие молодого мужчины к очень юной девушке. Ни второго, ни третьего мотива у меня также нет. А все это обостряет зрение. Но все же…
– Я худший поборник дедуктивного метода, чем ты… Дед пасечник, у которого больная внучка? Но в письме сказано, что дед живет «далеко», он не местный. Сколько же в стране пчеловодов, подумать страшно…
– Угадала, что не угадала. – Миша невольно втянулся в невеселую игру, повторяя со мной свой недавний и одинокий поиск. Я отчего-то поняла сейчас, что, надеясь найти девочку живой, Миша никому о ней не рассказывал. – Деда я сразу отвел.
– В медицинских учреждениях города есть все данные о больных. Тем более, такой редкий случай, как неизлечимый канцер. Конечно, девочка стояла на всех мыслимых особых учетах. Но кто б тебя подпустил к больничным базам? Это исключено.
– По той же причине я не стал обходить городских священников.
– Тогда я не знаю. Нужды нет, за месяц-другой можно найти любого человека даже в большом городе. Расспрашивая жителей, рано или поздно наткнешься на того, кто что-то слышал, что-то знает. Но ведь ты… Сколько дней у тебя было?
– Два полных дня. Ты ведь помнишь, я был обязан успеть в Париж.
– Мишенька, тогда я сдаюсь. В письме подсказок нету, возможностей придумать что-то помимо письма – тоже немного.
– В письме есть подсказка, Нелли. Ты уже раза два через нее проскочила. Впрочем, я сам перечел его раз пятнадцать прежде, чем нашел. Но я знал: что-то же должно быть. При всем желании остаться невидимкой – что-то да заметно на просвет.
– Так что же?
– Мы ведь все в нашей компании – очень хорошие ходоки, – Миша улыбнулся. – Мне пустяк за сутки обойти город пешком. Весь, каждую улицу. И на одной из улиц я непременно должен был увидеть булочную, из-под фундамента которой растет клён.
– Ты гений.
– Да, но толку-то… – Миша щелкнул портсигаром. – Какое-то бессмысленное чувство вины, Нелли. Уж не знаю, с чего я возомнил, что мой приезд ее так обрадует, и она начнет выздоравливать… Пока я бродил по городу, все мысленно перебирал, что ей расскажу о полете. Как я хотел всех разыграть, нарочно записал на магнитофон лай Дика, чтоб на Земле подумали, будто у меня собака в кабине… Не вышло, правда, немножко не до розыгрышей было. Перегрузка-то мощная оказалась. Хотя я ведь и готов был, в центрифугах меня крутили как белье в стиральной машине, причем в режиме отжима. А даже если бы она не пошла на поправку… Понимаю, это было нелепым самомнением воображать… Но хоть сделать ее, эту девочку, счастливой я мог… Если весь имеющийся на сей момент космос – прибыл бы к ней на дом. Нелли, я опоздал всего на несколько дней.
– Не знаю, что тебе и сказать, Миша. – Я в самом деле не знала.
– Да говорить-то тут, собственно, нечего. Не утешать же меня, горе-то, строго говоря, не мое, настоящее горе у этой семьи. Варя была у них почему-то – единственная. Тоже большая редкость в наше время. Спасибо, что выслушала, я безбожно устал это в себе носить. Скажу по чести, я не сразу и понял, кому cмогу об этом рассказать. Пожалуй, только тебе, не случайно же я и подарок вез в каком-то смысле от тебя. Но в пересказе вся эта моя эпопея звучит невыносимо сентиментально. Подумать жутко, если б это услыхал, к примеру, Брюс.
– Ты можешь быть уверен, что от меня никто ничего не услышит.
– Я знал это.
Мне очень захотелось растрепать Мишке волосы – как я проделывала еще, в общем-то, совсем недавно. Но я удержалась. Космолетчиков и национальных героев не гладят по голове. В щеки целуют, да. Но вот по голове не гладят, волос не треплют. Это теперь не вполне уместно. Вспомнилось вдруг, как грустно было привыкнуть к тому, что Ник никогда уже не нагрянет запросто в гости. Между тем с этим пришлось примириться с его двадцатиоднолетием, то есть с началом фактического правления. Ну, казалось бы, многое ли изменилось? Его-то дворцы по-прежнему встречают друзей широко растворенными дверьми. Ну и велика разница, где встречаться? А все-таки… В столичной моей квартирке есть смешной баварский чайный сервиз, весь золоченый, с пьянствующими ёжиками. Нику он страшно нравился. И такая тоска подгрызала из-за того, что больше я не налью Нику чаю в любимую им полукружечку, ту, на которой ёжики режутся в карты, что Ник больше не сядет в давно опять же облюбованное ампирное кресло с синей обивкой… Но что поделать, правящий Император не посещает запросто частных жилищ.
Все больше правил, по которым надлежит играть, устанавливается в нашей жизни. Мы в самом деле повзрослели.
Я вскочила на ноги.
– Ладно, Миша, пойдем все-таки в сторону Конюшен. Должна же я посмотреть, кому доверю свою лошадь.
Глава XXXIV «Benedicens regum»
Я взволнованно ходила по комнатам, сжимая в руке экстренный выпуск «Католического вестника».
Немудрено, что Папа заставил верных ждать. Огромная, обобщающая и раскладывающая по полочкам, фундаментальная работа. Но направление мысли понтифика – явилось ли оно неожиданностью? И да, и нет. Ведущий посыл энциклики попал в самый нерв моей души, заставлял сейчас мое сердце неистово колотиться…
Как известно, в начале энциклики всегда указывается адресат: князья Церкви, духовенство в целом, все верные… Не явилась исключением из этого правила и энциклика «Benedicens regum65». У нее тоже был адресат – слишком уж конкретный. Его Королевское Величество Людовик XX.
Папа говорил о природе монархического устройства, наставляя и направляя – несомненно «на вырост» – маленького главу Католического блока Священного Союза.
Кроме короля, адресатами являлись, понятное дело, и все верные католики, но все ж – во второй черед.
Перевести текст на русский язык еще никто не успел. Но, разумеется, поторопились французы. Поэтому энциклика была напечатана двумя параллельными столбцами – на двух языках.
Отложив латынь на потом, я – уже второй раз – торопливо читала французский перевод.
В первой части шел ветхозаветный обзор темы царства и царского призвания. «Владычествующий над людьми будет праведен, владычествуя в страхе Божием»66. Папа характеризовал эти строки как «формулу царской власти», раскрывал образ царя как пастуха над стадом, позднее ставший и образом священника.
Вторая часть была посвящена начальной истории Франции, Возлюбленной Дочери Церкви. Тут, конечно, поминался Хлодвиг, и святой Ремигий, и его завет «Защищай то, что разрушал», и семидневные белые крестильные одежды. Тут указывалось на то, как, под сенью Креста, несколько полудиких франкских королевств в считанные столетия расцвели до нового воплощения идеала царства-Империи, но на сей раз не ветхозаветного, а христианского – Империи Карла Великого.
Папа напоминал, конечно же, историю Святой Стеклянницы, чудесно принесенной голубем во время крестин Хлодвига. Святая Стеклянница – самое драгоценное сокровище Франции, не покидавшее стен базилики святого Ремигия в течение многих столетий. Святая Стеклянница, честь быть «заложниками» которой во время коронации (то есть сопровождать сокровище дабы, в случае необходимости, умереть, его защищая) оспаривали друг у дружки лучшие люди королевства. Святая Стеклянница, Небесное мѵро франкских королей.
Третья часть послания была страшная, в ней говорилось о разрушении союза власти и Церкви, о грехопадении Франции. Сколько ни говори о том, а все будет мало. Но маленький король вырастет, памятуя о предостережениях, данных Церковью лично ему. И эта часть изобиловала примерами. Как и предыдущая, но, если в предыдущей примеры были светлы, то здесь от них пробирала дрожь отвращения и ужаса. Папа напоминал о разорении могилы Генриха IV в Сен-Дени, об издевательствах над беззащитным телом короля, о том, как бесноватые в красных колпаках рубили каменные головы статуям королей и выкалывали их каменные глаза. Там вспоминалось об осквернителях могил, заклейменных некогда великим Шатобрианом, этих червях, разрывших Сен-Дени до глубочайших подземных пещер, до могил Меровингов…
Да, могилы не мертвы. Когда ударили по могилам, хлынула живая кровь – кровь Франции. И четвертая часть энциклики повествовала о том, что убиение Помазанника Божия, предстоятеля за Францию перед Господом, было по сути, самоубийством нации. Весь XIX век роль Франции в истории континента и мира умалялась и умалялась.
И вновь упоминалось о Святой Стекляннице, разбитой, навек, безнадежно разбитой 7 октября 1793-го проклятого года мерзким комиссаром Рюлем, нынешним насельником девятого адского круга67.
Но благословение, данное Церковью, невозможно уничтожить. И Папа напоминал о подобранных верными с риском для жизни кусочках стекла, кусочках с несколькими застывшими на них прозрачными красноватыми каплями. Они были утаены до времени, и время пришло68.
В завершении Его Святейшество обращался мыслью к более счастливым событиям ХХ века, призывая короля смиряться перед Господом за весь вверенный ему христолюбивый народ, страшиться греха, лелеять историческую память и, будучи младшим среди других католических монархов возрастом, являть себя по отношению к ним великодушным старшим братом, всегда готовым оказать любую необходимую им помощь и поддержку.
Святая же Церковь, благословляя царей, благословляет через них народы.
Прекрасно, как же прекрасно… Но все-таки немного странно: отчего именно христианскую судьбу Франции Папа выбрал темой первой своей энциклики? Ведь не потому же, что сам он – француз?
Мои глаза невольно нашли фотографию Папы, уже украсившую мой рабочий столик, уже забранную в серебряную рамочку. Ясный взгляд, совершенный, безмятежный аристократизм черт лица… Слишком ясный взгляд – сумбурной моей душе трудно удержаться в фокусе этого спокойного сияния.
Простота и ясность – самые непостижимые вещи на свете. Нет ничего проще и яснее страниц Нового Завета, не содержащего никаких тайных смыслов, равно открытого для необразованного и ученого, для блестящего и для среднего ума. Но отчего же сквозь эту простоту не могут проникнуть мыслью всевозможные «тайнознатцы»? Я, конечно, не оккультистка, но все же пред лице ясной простоты и мне приходится иногда делать над собою усилия, многовато смуты во мне самой.
Почему Папа счел нужным начать свой понтификат с благословения маленького католического короля, а в лице его – всех его царственных братьев?
Бог весть. Как-нибудь все прояснится.
А нынешним воскресным днем эту энциклику будут читать в костеле святого Людовика, тоже, между прочим, французского святого.
– Алло?
По другую сторону провода оказался, сколь ни странно, Роман.
– Я хотел бы тебя повидать, Лена.
– Зачем? – невероятно бестактно спросила я. В действительности – от удивления. Не люблю же я эту его непредсказуемость. Только что я была уверена, что «просчитала» поведение Романа Брюса верно, не без некоторого огорчения приняв, что как пить дать он теперь пропадет. Делая шаг в сторону, Роман всегда становится чуть более небрежен, словно незримые колючки выпускает. Холодные такие колючки. Холодные и очень длинные… Ведь не поцеловал же меня тогда на прощанье. Я пари могла б держать, что опять исчезнет надолго. И проиграла бы.
Но как же неловко получилось.
Однако Роман нимало не обиделся, только расхохотался в трубке.
– Как зачем? Поглядеть вместе новости, – пошутил он. – Так я поднимусь? Я тут рядом.
– На углу? – с облегчением рассмеялась я. Шутку нашу с Наташей про загадочный угол, Роман, конечно, помнит. – Странно, что ты разрешения-то спрашиваешь, граф. Сие тебе не всегда свойственно. Поднимайся, я тебя жду.
Кстати, о новостях, подумала я, торопливо приглаживая волосы щеткой. Что-то я в самом деле частенько включаю панель последнее время. Но вправду всё важные события шли. Однако событие сегодняшнее важно отнюдь не для редакторов российских новостных программ. Это в католических странах сейчас, поди, только и говорят, что о первой Папской энциклике. В православной же Российской Империи эта тема разве что привлечет внимание газетных экспертов, но уж никак не явится в кадрах вещания.
– Свеженькие газетки почитываем? – хмыкнул Роман, входя в «холодную» гостиную. Я заметила, что здесь, на столике, и оставила «Вестник», когда взялась привести себя в порядок.
– Ой, пойдем лучше в другую комнату, тут скучно.
– Что правда, то правда. – Роман тем не менее уселся. – Но панель-то у вас тут.
– Эй, так ты не шутил? Про новости?
– Нет, я всерьез. – Роман глянул на свой тяжеловатый брегет, отцовский подарок к совершеннолетию, с которым он почти не расстается. – Через десять минут начало выпуска. Ближайшее время нам, простым смертным, только и будет развлечения, что глядеть в эти тарелки.
Ах, ну да. Миша же упоминал, что какие-то важные обстоятельства еще держат Ника в Париже. Сейчас, видимо, и узнаем.
– Ну, и что же нам пишут из государства Ватикан?
– Нам пишут, что benedicens regum, Dominus ostendit caritatem Suam ad gentes69.
– Трудно возразить, – Роман улыбнулся.
– Смешать тебе джин-тоник?
– Если не жалко, то лучше просто джина со льдом. Как в Южной Англии.
– Ты какой-то злой нынче. Или ошибаюсь?
– Не ошибаешься, Лена. Принсипы штука неприятная, иной раз встают поперек самым естественным движениям души.
– Так что тебя раздражило, коли не секрет, о, секретный мой братец?
– Если и секрет, то я сам его тебе начал открывать. Видишь ли… – Роман прервался на весьма искренний глоток спиртного. – Словом, распорядился я пока выпустить ту баснословную парочку. Овсова с Пыриным. Как ты, вероятно, догадываешься, я б с куда большим удовольствием заковал обоих в какие-нибудь старомодные кандалы. Такие, без ключиков, которые в кузнице заклёпывают. Но я готов биться об заклад: не убивали они. Ни тот, ни другой, ни оба-два.
– Но почему ты так думаешь? Мысли у обоих самые мерзкие. Если не с такими мыслями люди делаются преступниками, так кто ж тогда?
– Как положено всякому порядочному восточному мудрецу, наш друг Авигдор Эскин изъясняется загадками, – Роман невесело улыбнулся. – Я бы пришел к тому же выводу и без его намеков, но Эскин меня опередил, ибо лучше владеет темой. Как ты понимаешь, Тихонин купил того несчастного кролика для какого-то пакостного ритуала. Скорее всего, впрочем, он уже предполагал оставить злоумышления против зверушки. Но вспомни, что ли, теперь Тейлора. Зачем в могилы древних клали глиняных куколок?
– Из гуманизма. – Я взяла у Романа пустой стакан, что-то слишком уж быстро опустошенный, и прошла к бару восполнить потери. – Любому гимназисту известно, что куколки постепенно заняли места, прежде предназначенные людям. Рабам, женам, парикмахерам, поварам, массажистам, персональным психоаналитикам.
– А уроды нашего времени? Что б они хотели использовать вместо кошечек и черных петухов?
– Ясное дело, им бы человеческих жертвоприношений, да только вот досада, боязно законы нарушать.
– Вот именно, Лена. Ну, где у нас нестыковка?
– Знаю!! Я поняла, Роман, поняла! Кролик заменяет человека… За неимением, как говорится, лучшего. Кролик – для всей этой шатии – он как бы человек… Но если убит настоящий человек, если закон уже нарушен, неважно, почему такое все же произошло, так на что им какой-то несчастный зверок?
Роман улыбнулся мне поверх стакана, второго. Да, он изрядно утомлен. Утомлен или перенапряжен, так ведь поди, пожалей его… Хотела б я взглянуть на того смертника.
– Умница. Я знал, что ты тоже докопаешься до сути. Видишь ли, они искренне верят во все свои пакости. Кстати, ведь не без оснований, ну да мы не о теологии беседуем. Убийца же сбивал нас со следу, наводил на мысль об оккультном ритуале. Он не вдумывался в суть, он создавал антураж. Растерзали зверушку – значит, орудовали палашёвские психопаты. Кто ж еще?
– Но в самом деле кто ж еще, Роман? Мы уже с тобой об этом говорили. Кроме них действительно некому.
– Стало быть, все-таки есть кому. Больше покуда ничего не знаю. Из допроса Пырина у меня появилась крошечная зацепка… Чуть похожая на ту, что ты указала на месте, но более убедительная. Впрочем, сама по себе эта зацепка достаточно бредовая. Э, включай скорее новости!
– Погоди, я потеряла пульт… Ах, вот он. Сейчас узнаем, какие интересные-интересные события происходят в Париже, где что-то задержался быть русский царь.
– В Париже? – Роман поднял бровь. Глаза его весело сверкнули: усталости как не бывало. – Я буду очень удивлен, если нам хоть что-нибудь сейчас поведают про Париж.
Глава XXXV Стопами Гамильтона
Я утаила свое недоумение. Кое-кому без того слишком весело. Я просто выпустила золотое яблочко погулять по тарелочке.
И, как оно водилось в наших детских сказках, тарелочка перенесла нас за тридевять земель, в пределы заморские, много дальше Парижа.
«Президент США Эдвард Мур Кеннеди произнес сенсационное обращение к народу». На этих словах диктора и загорелась картинка панели.
Это был Овальный кабинет Белого дома. Каждый президент имеет право обустраивать резиденцию на свой вкус, однако со времен первого срока Джона Фитцджеральда в ней, говорят, почти ничего не поменялось. В Овальном кабинете – серые шторы, кремовые стены. Достойная простота, во всем вкус утонченной Жаклин. Мне вдруг вспомнились рассказы о том, что именно Жаклин и превратила допотопные комнаты с помпезной мебелью в настоящий национальный музей. Может статься, что все последующие президенты-Кеннеди побоялись ее сердить переменами. А вот Никсону, верно, и хотелось все переиначить, да не успел. Очень уж быстро бедняге сделалось не до интерьеров.
Я невольно задумалась, что означает невероятное фамильное сходство всех мужчин этой семьи. Джон и Роберт – это просто одно лицо, хоть вовсе они и не близнецы. Действительно – горошины из одного стручка, все. И старшее поколение, и молодое. Вот мы с сестрой, к примеру, совершенно разные… А эти… Но если это что-то и означает, то что именно? Некую надличностную целостность, физическое воплощение идеи? Как знать…
Старшие даже седеют все одинаково. Эдвард Мур был на тон светлей старших, теперь не заметно.
Этот самый Эдвард Мур, сиречь Президент Кеннеди, сидел не за знаменитым столом, набранным из обломков корабля, а, напротив него, у горящего камина, под портретом Александра Гамильтона. Портрет камера несколько раз взяла крупным планом. Не тот портрет, памятный по учебникам истории Новейшего времени, кисти Джона Трамболла70, а другой, неизвестного мне живописца, на мой взгляд, куда более удачный, смягчающий чрезмерно острые черты мягкой жемчужной игрой света в собранных в косу волосах: напудренных ли, а может статься, то была просто ранняя седина.
В руках Кеннеди держал лист бумаги. Не вполне тонкая стопка поджидала на столике рядом с креслом.
«My fellow Americans…»
Вероятнее всего, мы смотрим не полную запись, а журналистский отчет. Или нет? Пока что непонятно, показали только начало. Кто-то в редакции успел уже, в считанные минуты, наложить на выразительный голос президента безликий шелест переводчика. Я успела задаться вопросом, точно ли передано значение слова «fellow».
Ну а дальше я просто уронила пульт. Он стукнулся о бронзовое основание напольной малахитовой вазы и надкололся, выпустив две батарейки весело разбегаться по паркету.
Президент Эдвард Кеннеди объявлял о своем намеренье уйти в отставку.
Популярнейший президент, только что вытащивший страну из очередного кризиса, заявлял о желании снять с себя полномочия.
Это было настолько вопиюще нелепо, что я не сразу смогла вслушаться, какие побуждения им двигали. Я сделала над собою усилие, и погрузилась в раздваивающийся, английский и русский, живой и обезличенный, поток речи.
Референдум. Президент предлагал народу провести срочный референдум о перемене государственного устройства.
– Четверть столетия семья Кеннеди стоит у руля нашей страны. Четверть столетия почти непрерывных, за исключением краткого эпизода, завершившегося плачевным импичментом. Четверть века вы доверяли свое благополучие Кеннеди, четверть века вы выбирали Кеннеди. Мы ни разу не обманули вашего выбора. С приходом Кеннеди в Белый дом была полностью преодолена Великая Депрессия, терзавшая страну без малого три десятилетия. Многие из ныне живущих еще помнят те тяжелые времена. Четверть века вы выбирали нас. Выберите нас еще раз – выберите нас окончательно.
– Роман!!!
– Тише… Все после, Лена, после… – скороговоркой ответил он.
– Один из отцов-основателей нашей страны, Александр Гамильтон, вне чьей мудрой экономической политики Америка оборотилась бы в хаотический разброс самоуправляющихся деревень и хуторов, видел залог стабильности и благополучия в предоставлении пожизненных властных полномочий. Именно Гамильтон, отвративший Америку от политического союза с бесчинствующими якобинцами, лелеял и замыслы о наследственной форме власти.
– Тоже, конечно, был у мамы масон, – сквозь зубы прокомментировал Роман, воспользовавшись краткой паузой в речи президента. – Но мертвого масона можно и похвалить, он уже ничего не отчебучит. Так или иначе, а Гамильтона тут на кривой козе не объехать.
– Гамильтон последовательно отвергал также Директорию, Консульство и Империю узурпатора Наполеона Бонапарта. Возмущавшая тогда многих обращенность его политики в сторону Великобритании была естественным стремлением к самому христианскому общественному устройству. После взаимного разрешения правовых вопросов Америке надлежало вспомнить о родстве с Великобританией и отвратиться от ужаса революций. Но Александр Гамильтон прозревал также и то, что от пожизненных полномочий – лишь один шаг до полномочий наследуемых. Семья Кеннеди почти столетие готовит своих детей к ответственности власти, к налагаемым ею жестоким требованиям и самоограничениям.
Мы способны бережно сохранить всю систему сдержек и противовесов, что сложилась в ходе нашей двухсотлетней истории. Но, будучи христианским народом, мы можем и должны искать в управлении страной благословения Господня, ибо без Господа человек слаб и подвержен ошибкам. Благословляя же царей, Господь благословляет народы, и, как в ветхие времена, поднимает до высот могущества такие страны, как Франция, Великобритания и Россия. Да, будучи верным католиком, я привожу слова Его Святейшества Папы. Но названные мной три страны представляют три христианских направления, что не препятствует им купно являть Священный Союз, величайшее установление ХХ века. Войны между христианами мы оставили в прошлом. Священный Союз, триединый и христианнейший, раскрывает нам объятия, призывая вступить в братскую семью.
– Ну, положим в братской семье еще не без проблем, – проворчал Роман (Кеннеди в это время опять переворачивал страницу). – Братья-то они тоже разные бывают.
– Отдай стакан, по-моему, ты намерен его съесть. Я не уверена, что осколки стекла полезны для здоровья.
– Тише!
Я впервые видела Романа до такой степени взволнованным. Это волнение было, конечно, глубоко скрыто, но прерывистое дыхание и легкая испарина, выступившая на лбу, выдавали его с головой. Я все же изъяла из его руки стакан, который он слишком сильно сжимал, ибо в действительности боялась, что Роман раздавит голой рукой стекло. Изъяла – и тут же выронила и разбила лично, вслед за пультом.
Что же это? Я брежу или на самом деле происходит то, что происходит?
– Я представляю прежнее поколение. Мы несем в себе слишком непростой груз устаревших воззрений. Но я верю в прогресс поколений. Я ухожу. Я предлагаю народу Америки принять решение в пользу моего племянника, завтрашнего главы клана. Я прошу и предлагаю провозгласить на царство короля Иоанна.
Дальше я уже не была в силах слушать, выбежала в «теплую» гостиную, упала в кресло в уголке.
Роман через минуту возник в дверях.
– Успокойся, Лена. А то сейчас уже я тебе буду подносить джин, а твоя бабка, как справедливо было недавно напомнено, пития джина и виски девицами не одобряла.
– В самом деле… Раз уж нет нюхательных солей… Кстати, всегда жалела, что они вышли из моды, надо бы воротить. Сделай милость, принеси мне джина по-твоему, сиречь по-южноанглийски. Если я тебе не мешаю смотреть.
– Да нет, не мешаешь. Я ведь уже прочел текст речи, еще два часа назад. Просто хотелось увидеть воочию.
– Роман… – Я сделала глоток, почти не ощутив терпкого вкуса. – Как это восхитительно и невероятно… Это как когда выкликали Михаила Романова… Даже нет… Не то… Скорее – когда Вазу избирали. Рождение новой династии… На наших глазах! Ты подумай, на наших глазах!
– Историк ты и есть историк… – Роман улыбнулся, уже спокойной улыбкой. – Да, будем надеяться, что династия все же родится.
– А ты думаешь… Думаешь, может обернуться иначе?
– Не бойся. Еще не все боевые слоны выведены на поле. Я думаю, все обойдется. Просто остались еще кое-какие формальности. Референдум этот.
– Кеннеди объявил об отставке. Сжег все мосты.
– Ну да, как ты себе представляешь иначе? Обратного хода тут нету.
– А если вдруг? Что тогда сделают Кеннеди?
– Этот вариант продуман. Тогда клан откажется от гражданства Соединенных Штатов и попросит политического прибежища в Ирландии, у короля Якова. Чтобы лет через пятьдесят сыграть новую игру. А до того – ну, не дай Бог, поживут претендентами в изгнании. Ну и, так заодно, кое-какие свои активы выведут из экономики страны. В порядке впечатляющего нравоучения.
– Гмм… А Джон-то… Он тогда, на пикнике, ах, тебя ведь там не было! Он говорил Нику, что он уж даже больше не миллиардер.
– Дурака валял. Хотя потратились они изрядно, кто б спорил.
Пикник… Джон и Лера, улыбающиеся друг другу в розовых отблесках костра. Новая мысль обожгла неожиданностью.
– Так значит… Роман… Нет, погоди, я сейчас растревожилась, чуть не выболтала тебе чужой секрет.
– Если ты про Валерию Павловну, то мне ли не знать, с кем она разгуливала, взявшись за ручки, вдоль Царицынского пруда.
– Послушай… – Я задохнулась от возмущения. – Ну вы все и мерзавцы!
– Лена, успокойся немного. Давай просто помолчим минуту-другую.
Некоторое время мне казалось, что я попросту не сумею справиться с гневом, что об этой странной беспощадной жестокости я буду думать еще долгие месяцы… Что я то и дело буду возвращаться к этому в мыслях, возвращаться вновь и вновь… За что? Так нельзя, так просто нельзя поступать с живыми людьми, а особенно – с чувствительной девочкой, такой нежной и доброй…
– Все, что делает Ник, имеет обыкновенно весомые причины, Лена. – Роман накрыл своей ладонью мою руку. От его руки исходило свойственное ему спокойствие. – Но добавлю: причины имеет и то, чего Ник не делает.
– Вероятно… – Я вздохнула, немного судорожно. – Но ты-то понимаешь, почему это так меня зацепило.
– Я понимаю, что тебе-то и надлежит поскорее принять данность, чтобы еще и суметь объяснить все ей. Лучше тебя никто этого не сладит, Лена. Что с тобой, что ты вскочила?
– Если ты прав… А ты, вероятно, прав… Мне нужно срочно мчаться в Кремль. Просеивать мысли буду по дороге, времени достанет.
– Вот это уже ближе к делу. – Роман улыбнулся. – Я тоже думаю, что тебе надо повидаться сегодня с Ее Высочеством. Но сейчас я попросил бы тебя со мною за компанию дождаться следующего выпуска новостей.
– О, Господи… Что там еще может быть? По-моему, новостных выпусков с меня уже довольно на всю оставшуюся жизнь. Хотела б я, чтоб дальше с панели в самом деле, как мечтает Бетси Бегичева, транслировали только спектакли прямо из студии. Что ты морщишься? Чем тебе опять Бетси не угодила?
– После… Про Бетси после. Относительно же следующего выпуска – обещаю, больше никаких сенсаций. Но полагаю, тебе будет еще кое на что любопытно посмотреть. А после я сам тебя, если хочешь, отвезу.
Важность события, несколько минут назад сотрясшая во мне историка, вдруг отступила. Теперь я думала только о Лере. Господи, благодарю Тебя, что ей не суждены годы тайных страданий и отчаянной борьбы с собственным сердцем. Даже если Джон Кеннеди-младший станет просто Претендентом в изгнании – неважно, она все равно способна теперь связать с ним судьбу. Никто не посмеет ничего сказать. Уж не знаю, как они там разберутся с ее религией, но в любом случае – вероисповедание жениха в Лерином юридическом случае не принципиально. И уж по всякому, в год, когда у них родится сын, Великим постом, в Розовое воскресенье, Его Святейшество Папа Пий пройдет после мессы в свой сад, чтобы лично срезать охапку роз – и отправить им с гонцом.
– Ну вот, проглянуло солнышко. А то я было тревожиться начал. У нас еще есть полчаса. Следующий выпуск, экстренный, дадут в три пополудни. Лена, не будет большой наглостью тебя попросить чем-нибудь меня накормить? Хоть черствым хлебом и на кухне. Похоже, что у меня уже больше суток маковой росинки во рту не было. Да, больше суток.
Глава XXXVI Двое
Под иронически-одобрительным взором Романа я надела Катин фартук, расшитый черно-красным крестиком, и занялась исследованием недр печи и холодильного шкафа.
В печке обнаружилась творожная запеканка, на холодке – сметана к ней, а также кастрюлька молочной лапши.
– A la bonne franquette?71
– В том смысле, что ты вправду ленишься накрывать в столовой? Господь с тобой, но я сейчас умру с голоду. На твоих глазах.
– Я потому и тороплюсь. Нисколь мне не лень. Но у тебя в самом деле какой-то подозрительный блеск в глазах. Вдруг сделался, только что не было. Эко ты бдишь на службе, граф. Кстати, о службе. – Я поставила на стол запеканку вперед лапши, что, конечно, было ни с чем не сообразно, но лапшу еще надлежало разогреть. – Уж коли сейчас чередом раскрываются ужасные тайны, то какой у тебя чин? На самом-то деле?
– Никакого. – Роман со вздохом облегчения запил первый кусок глотком сидра, который я держу вместо обычного Дёминского кваса, что предпочитают родители. – Ну, посуди сама, откуда у меня чин? Производство – процедура официальная и прозрачная. А меня как бы и не существует вовсе. Меня как слуги Государева, не как бонвивана, кое-что, так уж и быть, смыслящего в сталелитейном деле.
– А что ж у тебя есть, чтоб ты мог с такой легкостью держать в руках судьбы людские?
– Что ж… – Роман рассмеялся. – Я чаю, ты сможешь оценить юмор. Помнишь классический революционный навет на королевскую власть?
– Ты о carte blanche? Конечно же, помню, грош бы мне иначе цена как историку. То, чего никто никогда не видал, carte blanche, которой никогда не было?
– Никогда не было. Но теперь есть. Уже три года как, а задумано еще раньше. Мы эдак с Ником пораскинули мозгами… Либертинцы по сю пору столь свято верят в зловещие картбланши, так пусть им и воздастся по вере их. Мы тоже кое-чему учимся, Лена. Уже научились. Эй, у тебя сейчас убежит молоко. А я, между тем, намерен это съесть.
Я торопливо уменьшила огонек газовой горелки. Да уж, пусть съест. Больше ничего горячего в доме нету, а заказывать трактирное – так не поспеем к очередному выпуску очередных новостей. Не могу сказать, что услышанное меня удивило. Чего-то подобного я уже ждала. Могу с профессиональной уверенностью утверждать, что без отлаженной деятельности хороших тайных служб не жилец ни одно государство. Зряшно что ли они так расцвели раньше, чем у прочих, в Великобритании, что признана самой «юридической» и самой «правовой» страной. Соблюдение законов – это не отсутствие особых полномочий тайных служб. Это нераспространение применения этих полномочий этими службами на широкие массы населения. Все иное – либо забубенный идеализм, либо циничная ложь.
Не наличие «лаборатории натуральных смол» явилось для меня такой неожиданностью тремя неделями назад, но только роль Романа, да и последнее, как уже было отмечено, сугубо в силу моей неприметливости и недогадливости. Но когда недостающий к портрету Романа штрих был нанесен, он оказался таким естественным, что свыклась я с новой данностью на удивление быстро.
Что ж, Роман Брюс, ты сам выбрал себе этот путь – без чинов и орденов. А когда происходят великие события, к подготовке которых ты имеешь самое прямое отношение, ты смотришь в новостную панель и кушаешь на кухне молочную лапшу. И ведь тебе это нравится.
– Ну вот, а тебе и не смешно. – Роман свернул салфетку и покосился в сторону гостиной. Панель, впрочем, еще пощелкивала вхолостую. Ужасно не люблю этот треск. – Благодарю, ты меня просто спасла.
– Это в самом деле остроумно. И полагаю, что вы изрядно оба посмеялись, когда все обдумывали. Но мне как-то мешает сейчас простодушно веселиться обещанное следующее событие. Я же не знаю, чего ты ждешь. И сие немного нервит.
– Я же сказал, на сей раз никаких потрясений.
– Ой, не доверяю я тебе. Пройдем, без двух минут три. Я еще успею что-нибудь подыскать в баре. Что ты хотел бы? Может быть, учитывая все сопутствующие обстоятельства, рюмку драмбуйе? Все ж таки самое наше монархистское питьё.
– Изыски и символы, все после, – отмахнулся Роман. – А сейчас довольно с нас джина или виски с содовой.
– Мы с тобой эдак не сделаемся горькими пьяницами? – Я не вполне шутила. Мне в самом деле не нравилось, сколько он в последнее время пьет.
– После этого сентября жизнь, Бог даст, войдет в колею. А пока скажи спасибо, что я не поддался твоему и Никову дурному примеру и курить не начал.
– Ой, а можно я поддамся своему дурному примеру? – Я между делом достала из бара сифон и новые стаканы. Виски так виски. Воротится Ник, выпьем драмбуйе.
– Да мне-то что. Вот через неделю начнут твои ворочаться, а комнаты продымлены. Инна Ивановна мигом заметит.
– Всегда можно свалить на гостей. Рейн здесь курил… Гмм, кстати о Его Преподобии. То-то он мне не сказал тогда, где остановился, перед отбытьем в Ватикан. В Кремле он останавливался, в гостевых палатах. И летел – с поручениями. Горе мне, сплошные заговорщики вокруг!
Закурить я, впрочем, не успела.
Пестрое мельтешенье в пустой линзе и треск вдруг сменились музыкальной заставкой и первыми кадрами выпуска.
На сей раз перед нами в самом деле явились пейзажи Версаля. Но полюбоваться симметрией геометрических деревьев (кстати, долго же я не могла их оценить, с нашей семейной любовью к английским паркам) и построек я не успела.
Волей режиссеров вещания и операторов мы перенеслись во внутренние покои дворца. Рассматривать интерьеры, впрочем, тоже оказалось некогда. Мое внимание сразу как клеем приклеилось к двоим, сидевшим рядом за небольшим и простым столом в стиле Людовика XVI, доска которого была сплошь уставлена микрофонами с эмблемами различных газет, радиостанций и прочая таковая.
Уже совершив при встрече торжественный «размен» мундирами, на сей раз оба остались при своем. Но, Господи помилуй! Еще говорят, будто вещи не умеют разговаривать!
Их одежда не просто говорила – она витийствовала. Пока они еще хранили молчание – какие же красноречивые речи она произносила…
На Государе был черный, с белыми вставками, мундир марковца.
Марковцы… «Странный и неповторимый облик» полка, заданный верным из верных белых монархистов, генерал-лейтенантом от инфантерии Сергеем Леонидовичем Марковым.
Марковцы, именно марковцы, были, по сути, рыцарским орденом. Их звали «те, кто красиво умирают».
«Точно эти люди знают какую-то тайну. Точно обряд какой-то они совершают, точно сквозь жизнь в обеих руках проносят они чашу с драгоценным напитком и боятся расплескать ее, – так, примерно, писали о марковцах в современных военных газетах, чьи ветхие подшивки я благоговейно перелистывала в Исторической библиотеке. – Сдержанность – вот отличительная черта этих людей. У них есть свой тон, который делает музыку, но этот тон – похоронный перезвон колоколов, и эта музыка – „De profundis“. Ибо они действительно совершают обряд служения неведомой прекрасной Даме – той, чей поцелуй неизбежен, чьи тонкие пальцы рано или поздно коснутся бьющегося сердца, чье имя – Смерть. Как пилигримы, скитающиеся в сарацинских песках, мыслью уносящиеся к далекому Гробу Господню, так и они, проходя крестный путь жертвенного служения Родине, жаждут коснуться устами холодной воды источника, утоляющего всех. Смерть не страшна. Смерть не безобразна. Она – прекрасная Дама, которой посвящено служение и которой должен быть достоин рыцарь»72.
Черный мундир марковцев и означал эту готовность к смерти, белые навершия фуражек и белые канты – беззаветную веру в воскресение России. Да, Смерть являлась к марковцам «нежной, бледной, в пепельной одежде». Как к юному капитану Гурбикову под Крюковым, что обратил в бегство с семерыми своими стрелками роту большевиков. Губрикову, умершему со словом «Вперед!»
Дроздовцы были монархической организацией, быть может, более последовательной, но марковцев отличал высокий мистицизм, а это в монархическом служении ведущая нота. Да, граф Келлер, да, князь Ливен, и Каппель, и Краснов, и Дитерихс, и Врангель, чьи убеждения были более поверхностны, но неоспоримы, – монархистов, средь них самых кристальных, было не счесть в Белом движении73… Но Марков, сейчас был нужен именно Марков…
Верный выбор отдания чести. Он все делает наилучшим образом, Государь Николай Павлович. Показался ли он мне бледнее обычного от переживаемых им сейчас чувств, или же его просто бледнил этот черный, без единого украшения, наряд?
Впрочем, одно украшение, хотя, конечно, украшением это можно было назвать лишь с натяжкой, я заметила, когда Государь поднял руку, передвигая микрофон.
Кисть его обвивали чётки. Также – отличительная примета марковцев: черные вязаные чётки, монашеские чётки. Вервица74.
Вернее верного оказался и выбор маленького короля Франции, не по своим летам серьезного, что-то, безусловно, уже сумевшего глубоко осознать.
Людовик был одет не в мундир. Одежда его выглядела простой и грубой: белая рубашка из домотканого полотна, штаны, заправленные в вязаные гетры, темный вязаный жилет со шнурками, башмаки с пряжками. Талию опоясывал белый длинный кушак. Поверх жилета надета была очень короткая серая куртка, на которой пламенел «крест-сердце», пришитый нарочито грубым стежком.
Королевской Католической армии негде было взять обмундирования. Мундиром, что для дворян, что для крестьян, служила обычная деревенская одежда. Лишь три приметы являли «мундир». Белый кушак, этот самый нашитый на куртку крест-сердце, да белая кокарда на войлочной шляпе, сейчас соседствующей с черной беловерхой фуражкой русского царя.
Шуан мог «обмундироваться» за несколько минут. Король Людовик был сегодня в наряде шуана. В наряде вернейшего из верных, в наряде первых носителей Белой идеи.
Впрочем, я чуть не пропустила четвертый знак шуана. С детской руки короля свисали чётки. Самые простые, из деревянных бусинок на веревочке. Розарий.
По сути, все уже было сказано. Без единого слова. Монархия, подпертая благословением Папы одесную и космической мощью ошую, изготовилась перейти в новое наступление. Перейти в наступление и добить остатки демократий.
Мы ничего не забыли и ничего не простили. Мы не забыли ни Нантских нуайяд, ни Еремеевских ночей. Мы не забыли массового мученичества духовенства, осквернения храмов и разорения могил. Мы не забыли террора. Террор не повторится никогда, нет. Но пока жива трехглавая гиена, именуемая «Равенством, Братством и Свободою», призраки коммунизма еще не изгнаны. Нужды нет, что в Америке не коммунистический строй. Энтропия многолика, нам это в самом деле хорошо объясняли в детстве. И статуя «Свободы», воздвигнутая как символ страны, есть всего лишь увеличенная копия подлого французского оригинала.
– Божией милостью Мы, Людовик, король Франции, от лица и по полномочию Католического Блока стран Священного Союза, сообщаем о Нашем намеренье, буде на то волеизъявление Америки, признать короля Иоанна75 Нашим братом, а также ходатайствовать перед купным собранием о приеме новой монархии в экономическое пространство Священного Союза.
Людовик произнес свое заявление без запинки, как очень хорошо выученный урок. Никакой бумаги перед ним не лежало. Замолчав, он самым краем глаза покосился на Николай Павловича. Я почувствовала, что не напрасно прошли эти дни совместного ожидания, не пустой тратой времени обернулись все эти соколиные охоты. Меж царственными особами установились особые, доверительные отношения. А еще успела мелькнуть в голове вовсе глупая мысль: жаль, что, к бретонскому костюму, король не носит бретонской прически – распущенных волос длиной до пояса. Тогда б он был уж просто невыносимо очарователен. Но куда ж королю длинные волосы – других-то мундиров с ними не надеть. И вообще, слава Богу, не Меровинг, обойдемся без языческой магии.
– Лена!
Да, кажется, я немножко растеклась мыслию по древу. Когда столько всего разом происходит, то внимание начинает сбоить.
– Божией милостью Мы, Николай, Император и Самодержец Всероссийский, от лица и по полномочию Православного Блока стран Священного Союза, сообщаем о Нашем намеренье, буде на то волеизъявление Америки, признать короля Иоанна Нашим братом, а также ходатайствовать перед купным собранием о приеме новой монархии в экономическое пространство Священного Союза.
Молчание. Взволнованное шевеленье толпы газетчиков и работников вещания. Вроде бы сказано все. Но что-то еще произойдет, сейчас, они подготовили что-то еще. Я всеми нервами чувствую: что-то еще будет.
Они не добавили к сказанному ни полслова. Выставив на стол руки, каждый по одной, по той, что с чётками, руке, они сцепили их в пожатии.
Камера тут же перескочила на крупный, очень крупный план. Мужская рука и рука детская, накрепко соединившиеся, два покачивающихся рядом крестика – шерстяной и деревянный.
– Лена! Лена… Все же хорошо…
Панель, оказывается, давно уже померкла. Роман, против своих обыкновений обнявший меня за плечи, протянул мне носовой платок, явно свой, мужской, помеченный белым по белому коронкой, фрагментами крепостной стены и орлиными головами.
– Ну что же ты так плачешь?
– Не знаю… Этим рукопожатием они меня прямо в душу ударили. Сладко, но больно. Попали по талямусу, сказала бы Наташа.
– Надеюсь, не одной тебе. То, ради чего стоит жить и умирать, должно быть очень красивым. – Роман сделался вдруг странно серьезен. – Когда из жизни уходит красота, жизнь теряет смысл.
– Ты об этом знал? О руках?
– Нет. Уверен, что это пришло в голову Нику, возможно, что даже незадолго до выступления. Молодец! К вечеру этот крупный план откроет все вечерние газеты мира. А уж утром… Я полагаю, Лена, ты уже можешь идти умыться, по чести доложу, это не помешает, и переодеться. Тебе в самом деле хорошо бы повидаться с Валерией Павловной. Обсудим все по дороге. Поговорить, благо, есть о чем.
Глава XXXVII Непростое объяснение
– Строго говоря, это был немножко шантаж. Нет?
Желтый кленовый листочек стукнул в лобовое стекло. Осенний Калужский тракт разбрасывал свое первое золото, словно пытался одарить всех горожан. У него, у тракта, золота еще немало, в Нескучном-то саду.
– Я бы сказал, что скорее прикуп. Тебя не потревожит, если я утоплю стекло? Свежего воздуха очень хочется.
– Нисколько не потревожит, тепло же. И ветер теплый. Но элементы шантажа я тоже вижу. Доселе считала, что словосочетание «благородный шантаж» может быть единственно оксюмороном. И вот нате, оно и есть.
– Тогда определи, ma fille de bataille76, кого Ник сейчас дожимал? Не спеши с ответом, не все так очевидно.
– Американцам и так все ясно. Монархическое устройство – непременное условие членства в Священном Союзе. Это сулит, помимо всего прочего, выход из постоянных депрессий и прочих кризисов. Нет, тут не американцы были первый адресат. Хотя, подозреваю, некое «иду на вы» просматривается. Нынешние США – последнее гнездо масонства, да и красноэмигрантов там скопилось немало. Из идейных, не из тех, кто принял прощение Государя Павла Андреевича. Но этих – их не «шантажируют», как ты изволила нелюбезно выразиться. С ними не договариваются. Им попросту повелевают трепетать. Наши интересы, кстати, на диво совпадают. Претендент Иоанн – католик, ему масонов терпеть каноническое право не велит. Ну а мы – мы не забыли революции, всех этих Ковалевских и Керенских. Пора. Так все же, Лена?
– Я помню Мальтийский инцидент, даром, что играла тогда в «бояре, а мы к вам пришли» или салочки. Блок делится на три части. Заявление сделали две.
– Жаль все же, что живая история тебя интересует куда меньше, чем папки в архивах. Я все же надеюсь, что события этой осени твое отношение немного переменят. Да, Протестантский блок – постоянный источник проблем внутри Союза. – Роман нахмурился. – Да и партнерство с ними не вполне на равных. Как тебе известно, в протестантских странах полномочия монарха сильно ограничены в сравнении с православными и католическими.
– Как говорится, хороший человек себя протестантом не назовет. – Я случайно поймала в боковом зеркальце свое отражение. Да уж, политика нашей сестре определенно не к лицу. Делаемся мы от нее неинтересны. – Если помнить, кто был самым первым протестантом77.
– С этими проблемами разбираться следующему поколению. У нас без того хлопот много. Да, Россия и Франция давят на Протестантский блок. Признаться, суть много непростых моментов. Кое-кто не хочет прирастания Католического блока. И есть силы, которые не хотят расширения единого экономического пространства. Да, в ближней перспективе это сулит некоторые убытки. Но Ник работает на дальнюю перспективу. Он положил себе в целом завершить повсеместную реставрацию.
– Швейцария осталась.
– А, гномы никому не мешают, – отмахнулся Роман. – Пусть их живут, сами по себе, на кладах и сундуках, как им любо. Кроме того, у них ведь собственная историческая система нобилитета, пусть не схожая с нашей. Ну да что я тебе объясняю… Лучше меня знаешь.
– Так Ник дожмет протестантов?
Мы миновали уже Наташин, тринадцатый, дом. Надо бы позвонить, как она себя чувствует. И спросить лучше не у нее, а у Юрия или сестры Елизаветы.
– Не сомневайся. Тут даже и тревожиться не о чем.
– Тогда о чем ты все-таки тревожишься? Гляжу я на тебя, граф, и что-то мне подсказывает, что ты покуда не намерен отказаться от этого милого образа жизни: не есть, не спать, подгонять себя спиртным.
– Я хочу, чтобы миновал этот референдум. – Роман не поддержал моего полушутливого тона. – За королем Людовиком стоят весьма разумные люди, но тем не менее Людовик – дитя. Ник и только Ник сейчас – физически воплощенный катехон. Удерживающая и направляющая сила. Исход референдума в Америке зависит только от его поддержки. И ракеты в кармане тоже у Ника. И я не могу сказать, чтобы мне все это очень нравилось. С моей, разумеется, колокольни.
– А сам гуляет без охраны, – сердито заметила я.
– Да как тебе сказать… – На сей раз в глазах Романа проблеснули веселые искорки. – Немножко обидно, что ты считаешь меня таким болваном.
– Ты подразумеваешь?…
– Ну да, само собой. Сейчас ты говоришь с человеком, самым прямым и возмутительным образом нарушающим Высочайшее волеизъявление. Ах, Лена, Лена… Хоть бы ты, кто может, задремав в Кремле, подслушать разговоры коронованных особ, разок задумалась… Ты в действительности и представить не способна, какую тщательную тайную проверку проходят лица, допущенные в частные покои. Но на проверки я позволение, положим, вытянул. А вот с его рыцарственными играми «я в своем народе безопасен», тут его не сдвинешь. Ослиное упрямство, строго-то говоря. Так что Ника, конечно, охраняют. Хотя, если б он перестал дурить, все было б много проще и куда как надежнее.
– Ты меня немножко успокоил.
– За это ты меня не выдавай Нику. – Взгляд Романа потеплел. – Но я успокоюсь, только как пройдет этот референдум… Да еще эта выставка дурацкая. Извини. Просто очень уж некстати. Лучше б он до референдума воздержался от светских походов. Потом уж можно будет вздохнуть. Дело сделано – не разделаешь.
– А когда начнется референдум?
– Шестнадцатого сентября.
– А выставка – пятнадцатого.
– То-то и оно. Зла недостает, право слово. Но он обещал Лере. Ничего не сделаешь с ним, опять же. Единственное, на чем я категорически настоял, чтоб открытие выставки было по пригласительным билетам. Не очень-то он был доволен, но ничего. С улицы в первый день никто не зайдет. Ну и конечно рамки, досмотр сумок, вот пусть хоть что со мной делает, а это все будет. Ладно, Лена. Что-то я много лишнего болтаю. Вероятно, вправду устал.
Я не поверила Роману. Не способен он устать до такой степени, чтоб проболтаться о том, чего не хотел говорить. Зачем-то да нужно ему вовлекать меня в свои дела и свои весьма серьезные заботы. Не пойму только пока, чего он этим добивается.
Мы въезжали уже в Кремль: через мои любимые Боровицкие ворота.
– Извини, я тебя дожидаться не стану.
Следовало ожидать.
Уверив Романа, что благополучно доберусь до дому (и умолчав, что опять предпочту автобус), я, тем не менее, не поспешила сразу подниматься в царские палаты. По странному созвучию с нынешними событиями, мне захотелось пройтись немного по Кремлю, всегдашнему излюбленному месту прогулок горожан и гостей Первопрестольной. Вспомнить только, что большевики смели закрыть Кремль от народа – на целых три года, пока держались во власти! Что ж, тираны всегда боятся.
Подходя к Никольской башне, я пожалела, что не купила цветов. Ведь десятки цветочных лавок мы сейчас проезжали! Как же он прекрасен – этот бронзово-эмалевый крест работы Васнецова, возведенный на месте гибели Великого Князя Сергея Александровича!
Хотя на самом деле, конечно, это не Васнецов, но точная копия работы Васнецова. Как же спешили они все разорить, все осквернить… Ведь шел восемнадцатый год, им, прежде всего, надлежало дрожать за свои шкуры, этим халифам на час… Я не сразу заметила, что кусаю губы, представляя развеселого Ленина… Вот он, коротконогий, суетливый, бойко набрасывает на крест веревочную петлю: «А ну, дружно, взялись!» Они сами валили крест, члены ЦИКа, сами, своими руками, так распирало их ощущение вседозволенности, так носили их бесы. «На помойку его, на помойку!» – приплясывал Ленин. Ничего, из всех, кто надругался тем адским «первомаем» над крестом, позорной казни избежал только Свердлов, избитый рабочими-железнодорожниками в Орле и, еле дотянув до Москвы, умерший от внутричерепной гематомы в марте девятнадцатого года. Больше ни один от расплаты не ушел, да, собственно, не ушел и Свердлов. Молодцы рабочие!
Неважно. Не хочу сейчас думать о недолгом но липком присутствии красных вождей в Кремле. Довольно и того, что эти одержимые было начали превращать Красную площадь в свой погост, того же Свердлова у Кремлевской стены закопали. Не труп-терафим, как мечтается Овсову-Пырину, но тоже, конечно, полное безумие. Слава Богу, это все немедля, как освободили Москву, изничтожили. Теперь только любители эпохи, вроде меня, и знают про казус с могилами на Красной площади.
Но хорошо все же, что при Правителе в Кремле никто не жил. Покои за десятилетие словно проветрились и очистились. Ну а потом их, конечно, переосвятили.
Около креста всегда лежат в ящике свечки и спички. Я затеплила огонек и преклонила колени.
Господи, укрепи руку моего Государя! Обереги его, Отец Небесный! Дай ему мудрости и сил! Не потому, что я люблю его, но потому, что, благословляя его, Ты вправду благословляешь мою страну.
Я поднялась, успокоенная.
Пора уже, впрочем, бежать к Лере.
Меня встретила Даша Глебова, хорошенькая миниатюрная брюнетка с серыми глазами. Глаза, впрочем, глядели испуганно, а назвать ее хорошенькой как раз теперь было бы сложно. Я поняла, что дело обстоит еще хуже, чем можно было предположить.
– Что Ее Высочество? Я могу попросить обо мне доложить?
– Я боюсь… Бесполезно.
– Вы думаете, она откажется меня принять?
– Она… нет… Она не отказывается, но… а Его Величество в Париже… – С тоской на меня взглянув, Даша, отказавшись от попыток обрисовать положение словами, жестом предложила мне следовать за собой.
Дверь Красного кабинета оказалась заперта изнутри.
– Ваше Высочество! Ваше Высочество…
Молчание. Молчание и вставленный с внутренней стороны в скважину ключ.
– Уже четвертый час эдак… – прошептала Даша. – И понять невозможно, что случилось. Как проглядела утренние газеты, так и…
Ну, понять-то, положим, еще как можно.
– Лерик, это я! Я тебя прошу, отвори.
Молчание. Ни шороха, ни движения внутри. Мне сделалось не по себе. Жаль, что уехал Роман, быть может, позвонить ему на этот его ужасный карманный телефон, благо он мне продиктовал номер? Хоть двери ломай. С другой стороны – какие основания ломать дверь? Лера – взрослая и вменяемая девушка, и каждый имеет право побыть один. А все-таки тревожно. И Ника нету…
– Лера!
Молчание. Я успокаивающе коснулась Дашиной руки, хотя на самом деле сама делалась с каждым мгновением все менее спокойна. Как же быть?
А как бы на моем месте поступила Наташа?
Ох… Нет, я так не смогу! Но ответ пришел, значит – надо смочь.
Поэтому голос мой прозвучал ровно так, как мне было нужно.
– По крайней мере, забери у меня свою бездарную картину! А то я так и брошу ее у порога. Елизавета Андреевна отказалась ее выставлять.
С той стороны прошелестел яростный вихрь – и двери распахнулись, обе створки, настежь.
– Отдай!
Я влетела внутрь Красного Кабинета, как пробивший ворота таран. Я не успела даже махнуть рукой Глебовой, чтобы не следовала за мной. Но она догадалась.
– Ох… Извини, конечно. Мелкая хитрость.
– Где… где «Гвиневера»?!
– В галерее на Спиридоновке, под надлежащей охраной, где ж ей быть.
Она горела заживо на костре своей обиды и своего гнева.
– Не прощу… – Она почти задыхалась. – Он мне не нужен… И Ник…
Я обняла Леру, и она разревелась.
Скорей бы нам, что ли, всем состариться, вновь подумала я, бережно поглаживая трясущиеся плечи. Сколь несущественны будут все наши сегодняшние драмы в каком-нибудь две тысячи шестнадцатом, к примеру, году… Будем, небось, вспоминать и улыбаться эдак сентиментально…
Но сейчас нам обеим было никак не до улыбок.
– Ну все же хорошо… Лерик… Ведь все же хорошо!
– Я так страдала… Я так мучилась! Он же видел, видел, что мне просто хоть не жить! И сам притворялся, что страдает!
Я радовалась ее слезам. Долго же она держала их в себе. Пусть выльются – хотя уже и не с горя. Но пусть выльются, пусть на душе сделается ясно, как в небе после ливня.
– Он не притворялся, дорогая. Ему было плохо от того, что плохо тебе. Не сомневаюсь, что видеть твои страдания – ничуть не легче.
– Но ни словом… Ни словом, Нелли! Видеть, как я терзаюсь – и ничего не сказать!
– Ты не права. Он ведь сказал. Он сказал, что надо надеяться и молиться.
– Прекрасные слова, вот спасибо. Но что-то уж слишком неконкретные. О чем ты говоришь, Нелли! Я была в аду, я была в бреду… Маленький намёк, полсловечка – мне бы достало!
– Нет. Половиной словечка ты б не утешилась. Тебе б захотелось второй половины. На эту тропку только ступи… Джон сказал тебе все, что мог сказать.
Лера по-прежнему всхлипывала на моем плече, но всхлипывания ее уже не были судорожны, они потихоньку делались сладкими, как у успокаивающегося ребенка. Она еще не осознала счастья, но счастье уже прикасалось к ней множеством нежных своих лучиков, и не ощущать этих прикосновений она не могла.
– Если ты свяжешь свою судьбу с Джоном, ты еще, быть может, не один раз попадешь в такой переплет, – продолжила я. – Или соглашайся на это postfactum и наперёд, или тебе нужен не Джон, а «муж-мальчик, муж слуга из жениных пажей». Джон был прав. Ты всего лишь двадцатилетняя девушка, а двадцатилетним девушкам не доверяют без необходимости планов секретных операций. Это большая игра, это мужская игра.
– Тебе б тоже было обидно. – Она, конечно, еще продолжала спорить, но это уже просто включился самолюбивый алгоритм: нельзя ж согласиться сразу. И я продолжала говорить, хотя, на самом-то деле, уже совершенно не беспокоилась.
– Мне не обидно. Вот Ник все последние недели меня засыпал заданиями, то одно ему надо из истории, то другое, а я успевай справки готовь. И тоже, заметь, ничегошеньки не объяснял. Теперь я догадываюсь, примерно… Он вертел в голове разные картины смены власти при разных обстоятельствах, искал закономерностей общественного поведения. Но и то я не уверена, что задним числом правильно его понимаю. Но раз надо, значит надо.
– Да ну их обоих совсем…
– Так ты не хочешь идти за Джона? – Я откровенно засмеялась.
– Знаешь, у меня еще как-то в голове не укладывается, – ответила Лера искренне. – Хочу, наверно. Я ж его так люблю… Еще говорят, любви с первого взгляда не бывает… Как же, не бывает… Просто я не знала, что любимый человек может причинить такую боль.
– Такую – только любимый и может. – Но я не хотела сейчас печалиться параллелями, я продолжала веселиться. – Ты еще, впрочем, подумай хорошенько. Ты ведь, может статься, рискуешь оказаться не королевой, а всего лишь супругой претендента в изгнании. Не самая блестящая партия. Если учесть, сколько замечательных наследных принцев в Священном Союзе только и грезят, что о прекрасной русской царевне… Есть даже и короли еще холостые, взять хоть Болеслава… Впрочем, не будем брать Болеслава, зачем нам католик, одни хлопоты решать, как детей крестить, то да сё… Православные найдутся, с ними вовсе никаких забот.
– Не нужны они мне со всем их отсутствием забот! – Лера гневно вскочила. – Мне только Джон нужен! Пусть лучше в изгнании!
Тут она поглядела на меня – и мы расхохотались уже вместе.
– Ну ты и вредная, Нелли!
– Я полезная.
– Но если всерьез, ты ведь знаешь, Нелли, мне безразлично, хоть изгнание. Я в детстве читала романы о Карле Втором… Как он в дупле ночевал, и все такое. – Глаза Леры потихоньку начинали сиять.
– Положим, в дупле вам едва ли приведется ночевать. И сидеть впроголодь – тоже.
Показалось ли мне, что в Лерином взгляде промелькнуло легкое сожаление?
– Еще попрошу тебя. От упреков удержаться трудно, я понимаю. Но отложи их хоть до конца референдума. Сейчас, когда тебе все известно, он будет рад твоей поддержке. Ты же сама понимаешь, что твое ободрение для Джона – не пустяк. Именно сейчас, когда все на чаше весов.
– Ты права, Нелли. Сейчас я ничего ему не скажу. Не могу обещать, что сдержусь совсем, но сейчас – обещаю. Вот теперь я скажу ему, что буду за него молиться.
– Вот и прекрасно. Пойдем-ка, знаешь ли, успокоим Дашу. Она ж ничего не знает, и чуть с ума не сошла от тревоги. Честное слово, если б меня обязали в жизни выбором: шифр при тебе или мытье полов в фабричном цехе – я предпочла бы мыть полы, хотя терпеть не могу, как шумят моющие машины. И еще почитала бы, что легко отделалась.
Глава XXXVIII Девичьи хлопоты
– Еще не сезон кисеи и муслина, Медузы зонтов над толпой не плывут… – Немого кино говорящей картиной, Затем ли Вы носите аглицкий съют? Не жарко ль? – Прабабушкам не было жарко. Скамейки июньские в черной тени… Пройдемте, пожалуй, под купами парка, Где так же, как я, проходили они. – И так же легко по-французски болтали… И так же чужой нарушали покой? И так же понятья легко тасовали В перчатку затянутой легкой рукой? – Французский язык – ядовитое жало. – Сей яд я губами не прочь бы испить. – Под этим каштаном присядем, пожалуй: Сегодня не хочется даже язвить. – А хочется? – Ехать в открытом моторе. Вуаль приподняв… Теплый ветер и пыль. – Не лучше ль в Италию, к миртам, на море? – Пустое, – сказала б прабабушка, – гиль! Не то, что б я против изящной интриги, Но много хлопот… Я ужасно стара. К чему этот взгляд? Сумрак кельи и книги… Но мы не затронули сплетен двора. – Вы, кажется, нынче язвить не желали? – Нельзя так дословно меня понимать. Вы тростью сейчас на песке написали… Как зыбок песок! Не могу разобрать.Стихотворение, конечно, пустяковое, а уж повод к его написанию был вовсе ерундой – в нынешнем мае. Я тогда заказала себе уличный костюм по наимоднейшей моде 1911 года, нарочно выпросила модный журнал из Исторической библиотеки. Костюм же потянул за собой не менее старомодную шляпку, шляпка – туфли, пошив каковых заставил моего обычного обувщика, почтенного ассирийца Атру Нвиевича78, изрядно поломать голову: я хотела туфельки «новенькие-старенькие». Словом – бабка за дедку, дедка за репку, наряд мой вызвал еще немалое количество обновок, в том числе и не называемых вслух. Кстати, из-за последних я потом и забросила свое баловство: затягиваться-то быстро надоело. Так что вернулась я к сьюту самому обычному, с короткой, до середины икры, юбкой и человеческой талией. Но из баловства случайно и стихотворение вышло. Стихотворение – из нового костюма и легкого флирта.
Но стоит ли оно читательского внимания? Проще говоря, а куда класть этот листок – направо или налево?
А, пожалуй, все-таки направо. Но у него даже и названия нету… Впрочем… «Болтовня». Да-да, именно «Болтовня». Принято.
Я ощущала себя на седьмом небе. Предложение издательства «Αθηνά» издать отдельным сборником мои стихи, доселе разбросанные по журналам, застало меня немножко врасплох.
Но почаще бы в этот самый расплох так попадать! Все последние два дня я перекладывала листочки то так, то эдак… То выстраивала стихотворения по хронологии, то, презрев хронологию, переставляла по тематике. Потом, конечно, надо будет показать Наташе.
Кстати, противный американец так и не появился с обещанным переводом. Но, с другой стороны, верно, появится после выставки.
Выставка… Я вздохнула и оторвалась от так приятно занесенного бумажным сугробом стола. Полдень. Вот-вот прибудет Ненила.
Парикмахера я вызываю на дом только в самых торжественных оказиях. В последний раз – перед «космическим» большим приемом в Кремле дело было. Но сейчас тоже не отделаешься моей обычной «официальной» прической, которую я устраиваю за минуту, поднимая немного волосы с помощью двух зажимов. Тут уж придется завивать локоны, каждый по-отдельности, с моими волосами – удовольствие на полтора часа ровно.
По газетам судя, открытие галереи будет главным событием осеннего сезона. Что же, следовало ожидать.
Девятнадцатилетняя Ненилка появилась минута в минуту: в мотоциклетном шлеме, штанах с кожаными вшивами и мальчишеской куртке. Как ни забавно, а русые волосы юной мастерицы почти всегда заплетены в самую простую косу. Хотя на чужих головах она творит невообразимые фантазии.
Ненилка мне очень симпатична. Год тому, как она с двумя подругами рискнула взять ссуду на собственное предприятие. Говорили девчонкам вездесущие доброжелатели, что никто им ссуды не даст, не угадали. Дали им ссуду. (Впрочем, и немудрено: было ведь особое совещание, где Ник лично обсуждал с главами ведущих банков необходимость поддерживать молодежное предпринимательство). Говорили еще, что дело де не пойдет, что никто их всерьез не примет, надо бы лучше тихонько набираться ума при опытных мастерах. А ничего, справляются. Парикмахерская у них пока небольшая, на два кресла, но дело-то идет ходко. В свободное время Нелилка изучает историю прически, поэтому ее иногда заносит в разговорах на часовые повествования о том, к примеру, как правильно закладывать внутрь куафюры китовый ус.
– Я уж боялась опоздать, – сообщила она, вытаскивая инструменты из хорошенького замшевого сидора. – Движение сегодня – жуть. Особенно в старом городе.
– Ну, что вы хотите, Ненилочка, начало сезона. Никто дома не сидит. – Я вздохнула. С этим нежданным сборником я-то, как раз, охотно бы посидела сегодня дома. Что-то утомили меня все эти страсти роковые и политические бури. Хорошо, что они уж кончаются. Выставим картину, пройдет этот американский референдум, а дальше, что до меня, так я намереваюсь думать только о фасоне Лериного подвенечного платья и потихоньку вытаскивать Наташу гулять в Нескучном саду – восстанавливать силы.
– На сколько прядей будем раскладывать волосы?
– Как прошлый раз. Хотя… – Меня вдруг осенила презанятная мысль. – Впрочем, пожалуй, не будем мы делать локонов.
– Оп! – Ненилка подбросила и поймала фен. – А что ж будем?
– Средневековые косы. Такие, знаете, двумя баранками, чтоб на плечи спадали. Как на старых гобеленах, видели?
– А что, попробовать стоит. Эх, жаль, вам заранее это в голову не вспало. Я бы сплела сеточку для волос-то. С бусинками.
– Хорошо, что я это придумала хотя бы до, а не после. Ненавижу лестничное остроумие, лестничные же ценные идеи – еще обиднее.
В прихожей заскрежетал ключ. Катерина.
– Платье доставят минут через пятнадцать. Обещали.
В размышлении об открытии галереи передо мной вдруг встал вопрос много более сложный, чем терзавшие «прогрессивных» интеллигентов прошлого века «Что делать?» и «Кто виноват?»
«Что надеть?», разумеется.
И ведь оказалось, что ровным счетом нечего. Есть два белых платья для больших приемов в Кремле, дневное и вечернее. (Их близнецы, предназначенные для приемов в Зимнем, живут в столице). Но для открытия картинной галереи, да еще в середине дня, это не годится никак. Есть «консерваторское» платье, еще студенческое, черное, на котором так хорошо менять сплетенные тётей Катей самые разные белые воротнички, а глупые мужчины всегда думают, что это не одно платье с многими воротничками, а много разных черных платьев. В этом я обычно и на своих поэтических чтениях выступаю. Есть и еще одно черное, шелковое, что называется, «маленькое». Но тоже не совсем подходит к случаю. Летние мы в счет не берем, пусть и тепло, а сезон миновал. А больше, вроде бы, ничего и нет.
Поэтому я обложилась каталогами, на что и убила половину позавчерашнего вечера. Но терпенье и труд все перетерли, ура школьным прописям. Я выбрала свободное, мягких линий платье из китайского шелка, чуть выше щиколотки длиной, с широкими рукавами «три четверти». Цветом – «как персидская больная бирюза». К моим волосам подойдет лучше не надо.
– Да вы тут никак косы плетете? – Катя от удивления всплеснула руками. – Кто-то, помнится, говорил, будто с детства их терпеть не может.
– Косы, Катя, косы.
– Благо, есть из чего плести, – отозвалась Ненила. – Эх, хватило бы шпилек укрепить, тяжелые. Я ж не знала, что шпильки понадобятся, случайно коробочка оказалась.
– Я сбегаю, если не хватит. Галантерейная лавочка-то рядом.
После всех пережитых штормов, я откровенно наслаждалась воцарившейся в квартире чисто девичьей атмосферой. А я еще ехать не хотела! Зато теперь хочу! Мне, в конце концов, исполнилось двадцать четыре, а не сто двадцать четыре. Где мое платье?!
И платье оповестило о своем прибытии громким звонком в дверь.
Как же я люблю китайский шелк, подумала я, зарываясь лицом в ткань. Какой он плотный, какой он тяжелый…
– Осторожнее! Я еще недозакрепила!
– Ну, уж скорей, я хочу посмотреть, как это будет с платьем!
С платьем вышло лучше не бывает. Все верно: раз гвоздь программы – «средневековая» картина, так и любоваться ею надлежит в средневековом облике. С косами я получилась похожей на девушек, общающихся с единорогами на шпалерах музея Клюни. Косы, ниспадающие на плечи полукружьями, придали средневековый вид и вовсе не средневековому фасону.
– Вот ведь могут же некоторые глядеть красавицами, когда хотят!
Да, у Катерины странная манера выражать одобрение.
– Ткань – роскошь, – серьезно изрекла Ненила. – Вы это платье еще сто лет носить будете. И из моды оно никогда не выйдет.
Я нравилась себе сегодня, а что может быть важней? Зеркало отражало не меня – медиевальную милую картинку, строку из забытой хроники.
Что ж еще? Туфельки сафьяновые, черные, на высоком каблучке-столбике. Сумочка бисерная, в тон к платью. Духи – «Пармская фиалка» от Коти, они лучше всего подойдут.
Украшение? А, пропадать так с музыкой!
Я кинулась рыться в своей шкатулке.
Искомое не обнаруживалось долго. Вот детская моя бирюза, но бирюза к бирюзе излишня, вот детские мои кораллы, вот немножко подзабытый перстень «Брюсова племянника»… Кстати, в чистку бы его отдать, что-то рубин вроде как потускнел… Словно даже темнее стал, чего, конечно, быть не может. Ладно, с этим после. Нашла!
Я с торжеством надела фамильное Смышляевское кольцо с алмазом79. Да, знаю, да, не положено. Но если я вовсе не выйду замуж, мне что, так и жить без алмазов?! Сколько мы с Наташей болтали об их нравах и секретах, я, наконец, хочу сама поиграть с этим камнем!
Все. Я кинула издали еще один взгляд в темную раму зеркала – словно подглядывала за незнакомкой.
– Лучше уже не будет, да мне лучше и не надо. Я готова, Катя. Вызывайте таксомотор.
– Ну, хорошего вам дня.
– Спасибо. Конечно, день будет хорошим. Как же иначе?
Глава XXXIX Иды сентября
Спиридоньевскую улицу можно пройти за несколько минут. Но я не хожу по ней быстро. Это одна из моих самых любимых улиц Москвы. Самозабвенное торжество модерна, раскрывшийся в полной своей красе сказочный каменный цветок. Ах, если б смиренные козопасы, что усердно приглядывали тут за животными, дававшими терпкое свое молоко к скоромному Патриаршему столу, могли увидеть нынешнюю Спиридоновку хоть краем глаза, они б решили: здесь теперь и есть рай. О временах Козьего болота напоминает ныне только церковь Святого Спиридона Тримифунтского80, сокрушителя арианства. Он ведь тоже пастушествовал, милый святой, чьи башмаки до сих пор изнашиваются, ибо бродит он по свету, помогая людям.
Но сегодня Спиридоньевская улица – страна Шехтеля, феерического гениального Шехтеля81, давшего эстетическое направление городской застройки на весь ХХ век…
Лучшего места для картинной галереи невозможно и придумать. Занимает она весь первый этаж доходного дома Скопника. (Хотя уж сто раз сменились владельцы, прозвания – вещь липучая).
Как и следовало ожидать, вся Спиридоновка оказалась сегодня заставлена автомобилями. Во многих готовились скучать водители и шоферы82. (Императорского «Руссобалта», впрочем, еще не было). Около же самого дома, выстроенного «покоем», сыскать местечко не представлялось возможным. Хорошо, что я на такси. Вот и не пришлось мне идти по тротуару в туфельках, слишком для улицы нежных. Я выскользнула из распахнутой таксистом дверцы прямо перед самым крыльцом.
– Простите, сударыня, можно взглянуть на ваш пригласительный билет?
Я с улыбкой протянула нарядный кусочек картона молодому офицеру. Все жандармы, дежурившие около забавных металлических воротец, которые Роман называет «рамками», оказались в младших офицерских чинах.
Хорошо, что я его дома не забыла, билет этот. Вот бы вышло хлопот.
Молодой человек, мой ровесник, не просто посмотрел на билет, но сверил с образцом, вставленным у него в планшетку. Ай да Роман, эко у него все строго. Впрочем, так ведь и надо.
Я прошла через «рамку», успев сочинить, что ворота в сказочный замок – железные, с наложенным на них заклятием. И что всяк недобрый гость оборотится в них лягушкой.
Зал был драпирован в лиловые тона. То там, то здесь стояли черные плетеные корзины с орхидеями. Изысканно.
Сливаясь с толпой, в первые мгновения всегда ощущаешь ее каким-то единым целым. (Сейчас это было очень нарядное единое целое, топчущие полы десятками высоких каблучков и лакированных ботинок, сверкающее всей радугой дамских туалетов на фоне черно-белых83 мужчин). Но дальше толпа, как обычно, начала разбиваться на лица, а из неразборчивого гула проступили обрывки фраз.
Вон Нинка с Ирой бурно обсуждают пейзаж Маслова, а Великий Князь Андрей Андреевич в одиночестве остановился перед «Играми детей». Ах, жаль все же, что сестры сегодня не будет, но Мелания схватила первую осеннюю простуду.
– Дорогая, прелестно выглядишь! – Защебетала, вихрем налетев на меня, Бетси. – А я, верно, краше в гроб кладут. Так захлопоталась, ужас…
Разумеется, это было чистой воды кокетством. Выглядела Бетси недурно. Она тоже выбрала шелк, но черный. Фасон же предпочла подчеркивающий тонкую талию и узкие бедра, с облегающим лифом и зауженной юбкой. Единственное яркое пятно – вышивка гладью слева от провокационного выреза: павлинье перо. Волосы зачесаны гладко, и от этого выразительно играют длинные серьги. Довольно нетривиальные серьги, сочетающие сапфиры с изумрудами.
– Не спала до четырех утра, – продолжала Бетси, не дав мне даже опровергнуть положение о ее нынешней неинтересности. – Эти орхидеи… Я придумала в последнюю минуту! Еле успела заказать! Если б Юджин Костер мне не помог, я бы не управилась… Полночи расставляли с ним эти корзины… Он меня просто спас. Нет, ты представь только! Я уж хотела отказаться, ведь ни одна приличная цветочница не возьмется, у всех заказы на неделю расписаны, сезон! Но тут Юджин и говорит, не верю, что ваш-де вкус уступит наемному! Сами все сделаем! И ведь правда – справились! Молодец, право, так меня поддержал! Без этих орхидей было б как-то голо, верно?
Но слушать о человеколюбивых подвигах Костера мне не представилось особенно увлекательным.
– Где же вторая виновница торжества? – подтолкнула я разговор ближе к существу дела.
– Ой, скорее уж первая. Дает интервью в моем кабинетике. Успех огромный, ты видела, какое внимание к картине?
– Я еще и самой картины не видела. Я же только что приехала. Кстати, и до сих пор не вижу.
– Так не в первом же зале выставлять «гвоздик»! – возмутилась Бетси. – Проходи дальше, впрочем, нет, сначала ты посмотри новые работы Марины Марза. Пять штук уже продано, в первые полчаса! У твоей сестры тоже три улетели. Но «Гвиневеру» я сегодня придержу. Ну, все, бегу, тут еще надо нескольких художников с журналистами свести! Кстати, скажи Вере, я обижена. У меня тоже Глеб кашляет, но я же здесь.
– Уволь, сама говори.
Но Бетси меня уже не слышала – только каблуки простучали дальше.
– Николай, рада вас видеть. Что сестра пишет? Она мне такую книгу прекрасную прислала на день рождения, «Histoire populaire de la chouannerie», в двух томах. Положим, если это populaire, что тогда научное.
– Сестра на меня дуется, – весело отозвался невысокий сухощавый Маслов, прихлебывая шампанское. – Хотела, чтоб я к ним летом приехал да писал вересковые пустоши. Ну а я все ж под Тарусу. И ей говорю, бери детишек, да к нам. Даром что маленькие, а пора и вторую родину показать. А то так и Жана уговори, давно ведь не был. Вы сегодня очаровательны.
Да, я знала, что выбранный мною образ мне к лицу, что я сегодня хороша, что я еще много раз за вечер о том услышу – и это не будет данью вежливости.
– Успехов сегодня, Николай!
А слева по стене первого зала, кажется, идут «Новые талашкинцы», они ж «Новые тенишевцы», разнобой в самоназваньи не у меня, а у самих. Не определились. Это я буду глядеть особо, люблю.
– А израильтяне что, присоединятся к экономической поддержке новой монархии. С одной стороны наши европейские ценности им непонятны, но ведь есть и другая сторона. Евреи народ прагматический, они очень хорошо понимают, что такое огромный очаг нестабильности. Земля – планета не такая уж большая. А у них под боком дикие племена, безопасные только до тех пор, пока никто не начал снабжать их современным оружием.
Ах, вот и Роман. Пока я разговаривала с Масловым, он успел нарушить одиночество Великого Князя. Надеюсь, не раньше, чем в голове Андрея Андреевича созрело решение украсить Вериной работой резиденцию в Ильинском.
В руке Романа не флюте, а зеленый стеклянный стакан, в каких подают воду Перье. Стало быть, все ж решил, что пора себя и ограничить по части алкогольных напитков. Вот и хорошо.
– Гляжу я на вас, племя молодое, и в самом деле исполняюсь уверенности, что могу на покое безмятежно резать камеи. – Великий Князь пригубил шампанского. – Ладно сработали, молодцы.
– Ваша похвала нам честь, Ваше Императорское Высочество. – Роман вдруг показался мне очень молодым, каков он на самом деле и есть. Но почему мне все время кажется, будто он старше меня? А ведь он даже и младше, на целых четыре месяца. – Дай только Господь все успешно завершить.
Я отошла подальше, чтобы их не отвлекать.
– Нелли! Тебя-то я и хотел видеть.
Темноволосый и тонкокостный, как Бетси, Филипп Орлов почему-то даже не улыбнулся вслед своим словам. Он казался очень серьезен в этой толпе, оживленной уже оттого, что, как ни прекрасно лето, а отрадно и съехаться в столицы, увидеть знакомые и новые лица, поделиться впечатлениями минувших трех месяцев. Это настроение держится обычно в обществе до конца сентября, поэтому сентябрь в светской жизни – самый веселый.
– Здравствуй, Филипп.
– Можно с тобой перемолвиться парой слов? Не вполне к теме дня, прости.
– Тогда сядем в уголок – и поухаживай за мной. Я тоже хочу глоточек брюта.
Мы расположились на обитой черным бархатом танкетке. «Уголки», впрочем, уже оказались заняты иными любителями разговоров tête à tête. Но нашлось где сесть посреди зала.
Филипп жестом подозвал лакея, предлагавшего гостям шампанское и неизбежную клубнику.
– Знаю, что своей постной миной порчу Бетси праздник. – Пошел на опережение Орлов. – Но…
– Астрахань?
– Я знал, что ты поймешь. – Он казался смущенным. – Нелли, я не ждал… Я же не гимназистка, я мужчина, взрослый человек. Но я даже задумался, правильно ли избрал поприще. Пойми, я не думал, что быть историком… это так… больно. Во всяком случае, если это история нашего века, если касается твоих прямых предков.
– Не обольщайся, дело не в эпохе. Знаешь, я на втором курсе неделю бредила княжной Машенькой Старицкой, Марией Владимировной84. Может статься, я о ней еще повесть напишу. Девятилетний ребенок, пьющий чашу с ядом… Зная, что это яд. Я думаю, она не плакала и пощады не просила. История это здание, сложенное из людской боли, Фил. Потом вырабатывается профессиональное бесчувствие, как у медиков. Без этого ничего не сделать, включается естественная самозащита.
– У тебя это бесчувствие выработалось? – Орлов кривовато улыбнулся.
– Нет. – Я отпила шампанского, немного помолчала. – Потому я и ухожу в литературу. Но у меня оно изначально было острее. Ведь ты же читал про Астраханские Нуайяды85, про княгиню Туманову, про рабочий мятеж… Но ожило все это для тебя лишь когда ты сам прошелся по тем улицам, сам возложил цветы к памятникам жертв… Мне же довольно и печатной строки.
– То есть – из меня историк еще получится, ты считаешь? – Шутка Филиппа была не совсем шуткой.
– Думаю, да. – Играя пронзенной шпажкой яркой ягодой, я исподволь вглядывалась в лицо Филиппа. Надо дать ему немножко выговориться, а затем отвлечь. Чтоб со мной, эгоисткой, было, если б Наташа не учила меня обращаться с чужими чувствами? Ну да есть же у меня Наташа, что о том. – Ты видел крест на месте, где убили епископа Митрофана?
– Да, я там помолился. Я не знал даже… Ведь когда Владыку вывели на расстрел, он простил и благословил солдат. И те отказались стрелять. Тогда кинулись убивать чекисты. А уж сами утопления… Все было, и раздевали, связывали попарно мужчин с женщинами, матерей с детьми… А в особенности нравилось Кирову…
Филипп вздрогнул и замолчал.
– Что с тобой?
– Бред со мной, Нелли… Слишком увлекся Астраханью, мне уже мерещится всякая чушь.
– Тогда знаешь что? – Я решительно поднялась. – Если уж мерещится, то поверь, самое время вспомнить, где мы и чего ради здесь собрались. Пойдем! Я еще не видела главной сегодняшней картины во всем блеске. Негоже обижать дебютантку. Подойдет спросить, а мы де были слишком заняты разговором.
Лера, конечно, не подошла бы ко мне. Вне сомнения, вокруг нее сейчас куча народа. Но предлог сработал.
Мы с Филиппом прошли во второй зал.
«Гвиневера», выставленная на отдельном станке посреди зала, в самом деле привлекала всеобщее внимание.
Лера, прехорошенькая в палевом платьице из органди на жестком полотняном чехле, в трех шагах от картины говорила разом в два микрофона. За пару дней, что мы не видались, счастье проступило в ее лице, как переводная картинка. Она даже разрумянилась, что с ней не часто бывает. А уж глаза так и светились. Надо полагать, успела не раз перемолвиться словечком через Океан со своим Ланселотом.
Ланселот же картинный, как и картинная Гвиневера, в отличие от своих живых оригиналов оставались печальны, пронзая душу вечно трогающим сплавом молодости и страдания.
– Потрясающе… – выдохнул Орлов.
Бетси, вынырнувшая из толпы, деловито, по-хозяйски, вмешалась в ход интервью, что было видно даже на расстоянии. Невзирая на якобы озабоченный вид, заметно было, что она на седьмом небе. Вспышки фотоаппаратов так и щелкали вокруг.
– Талант… Несомненный талант… – произнесла рядом со мной тощая строгая дама в очках, обращаясь к своей внушительной комплекции приятельнице тех же лет.
– Техника еще… Гмм… Вы же знаете, дорогая, этих талантливых, над ними вечно надо с палкой стоять. Но…
Эти толстая и тонкая, несомненно, преподаватели Академии Художеств.
Я заметила Романа, уже одного, и было хотела обратить на себя его внимание. Но тут по толпе пронесся характерный шелест, всегда предваряющий появление самого высокого гостя.
Давно ж я не видела Ника не в новостях, а вживе. И еще давнее не видела его в цивильном платье. Пожалуй, с того самого пикника, где он был попросту в зюйд-вестке и чёртовой коже. А все ж мундир ему больше к лицу, чем белая манишка и атласные лацканы.
– Я горжусь тобой, дорогая. – Ник поцеловал сестре руку. Судя по тому, как ярко Валерия вспыхнула, впервые в жизни. Все, признал строгий брат, что больше уж она не девчонка, взрослая дама. Да и то – без пяти минут королева, как тут не признать. – Поздравляю с успехом. Кстати, я намерен повести с Елизаветой Андреевной речь о покупке твоей работы для Готической библиотеки86. Подходящее для нее место. Если, конечно, не найдется лучшего покупателя. С господином Абрикосовым мне тягаться трудно.
Ник, как всегда невозможно обаятельный, улыбнулся польщенному Абрикосову, стоявшему поблизости.
– Ваше Величество, не скрою, собирался тоже затеять разговор, но отступлюсь. Эта картина должна висеть в исторических стенах. Если же госпожа Бегичева спросит чрезмерную для вас цену, мы, в Собрании, будем почтительнейше просить позволения преподнести картину Вашему Величеству по подписке.
Ну да, ну да, а еще в раме из якутских алмазов. Я проглотила смешок. Успех. Великолепный, безусловный успех.
– Как все трогательно, не правда ли?
У меня сложилось впечатление, что Костер излишне приложился к шампанскому – очень уж взбудораженный был у американца вид. Или просто царей никогда не видал вживе? Нам-то не привыкать стать, мы Высочайшим вниманием избалованы не только в столицах. Ник на подъем легок.
Филипп Орлов все еще стоял со мною рядом. И с каким-то странным вниманием глядел на Костера.
– Это наш гость из Соединенных Штатов, журналист и славист Юджин Костер. А это историк Филипп Орлов.
– Вот как, вы – американец? – Орлов словно бы немного удивился. – Тогда вам едва ли докучают с курьезным обстоятельством, что вертится у меня на языке. Но не примите за обиду, не могу удержаться. Вы просто удивительным образом похожи на одного из красных вождей.
– Как же его звали? – Костер нервно облизнул губы. От вида заострившегося языка, быстро скользнувшего меж мелкими белыми зубами, меня отчего-то передернуло. Я ощутила, будто мое сердце пару раз стукнуло как-то неровно.
– Сразу на этот вопрос не ответить, они ж все псевдонимы. Был такой, по прозвищу Киров. Повешен вместе с Лениным. Настоящая-то его фамилия была Костриков.
Костриков… Мое сердце продолжало сбоить, словно подавая мне сигналы… Костриков… Костер… Случайность?
Взгляд мой заметался по залу, разыскивая Романа. Только что он был справа от картины… Нет… Где же, Роман, где же ты?
– Догадалась? – Костер улыбнулся очень сладкой улыбкой. – Я ведь похож… на деда.
Мне попадалось это лицо, черно-белое, слишком округлое для того, чтобы попасть в красивые, но чрезмерная округлость была единственным его изъяном… Эти русые волосы, зачесанные назад… Попадалось, но нечасто. Не узнала. Внук? Но зачем он здесь? Что ему нужно?!
Мои глаза, наконец, нашли Романа. И, каким-то непостижимым, особым чутьем, он уловил мой взгляд. Не знаю, отчего я не крикнула, впрочем, было так шумно. Но кричать и не понадобилось. Я позвала его, и он услышал. Словно незримый телеграф соединил нас в многолюдстве. Я видела: он понял что-то, мною до конца не осознанное. Повелительно вскинул руку, призывая жандармов.
Подав сигнал, Роман стремительно двинулся к Государю, раздвигая толпу. Костер тоже метнулся к картине, в два шага поравнявшись с загораживающей ее корзиной орхидей. Счастье, что у него нет оружия! Что б там ни было, но оружия-то у него нет!
Двое полицейских бежало, пробиваясь к центру от дверей.
– Стойте все!! Хуже будет!
Костер запустил пальцы в цветочную корзину. И тут же, как мне помнилось, патетически указал в сторону Ника рукой. Рука же удлинилась совсем чуть-чуть, но маленький ее нарост поблескивал металлом.
Я не испугалась, со мною произошло что-то странное. Я словно раздвоилась. Мы с Романом будто сделались одним целым, я слышала стремительный ход его не успевающих воплощаться в слова мыслей, я всеми нервами ощутила концентрацию его физической воли. Я угадывала, я знала… Я свято знала сейчас, что Ник безопасен.
– …!!!!
Мерзкое слово87, которое во всю силу выкрикнул Костер, заполнило зал. Смрадный крик повис в воздухе, и только услышав это, я поверила, что не мучусь виденьями прошлого, что все происходит на самом деле.
Это был прыжок зверя, это был полет.
Оторвавшись от пола, Роман бросил себя между Государем и террористом.
Что-то хлопнуло, не очень громко. Роман чуть покачнулся, на его манишке выступило красное пятно. Яркое, но не ярче ягод клубники, что рассыпались по полу, выпавшие из чьей-то руки. И немногим больше, чем клубничная ягода. Его задело не очень сильно, он даже не остановился.
Бесконечный миг длился и длился, а у меня голове звенели намеренья Романа. Я знала, я знала, почему так, почему не иначе.
Стой враг хоть на три шага дальше, он разобрался бы по-другому. Он бросился бы на царя, сокрушая его на пол, прикрывая собой – и врагу бы он подставил тогда свою спину. Но… слишком близко! Сейчас Роман не рискнул даже закрывать Ника своим телом.
Нет! Угадав, просчитав, почуяв все в мановение ока, он швырнул себя навстречу врагу, принимая выстрел в грудь.
Не пуля нашла его, он нашел пулю, вложив все силы, чтобы сделать это как можно дальше от Государя.
Рана не страшная, нет, отчаянно думала я, ведь Роман не упал! По-прежнему находясь между Ником и Костером, он надвигался на последнего, надвигался молча и неотвратимо, невзирая на расплывающееся по крахмальной белизне красное пятно, а пистолет уже свистнул в воздухе, падая, выбитый Мишиным ударом в локоть, а двое жандармов уже висели на террористе, заламывая ему руки и швыряя на пол.
Сколько человек упало от одной пули! Одновременно какая-то дикая куча мала копошилась там, где стоял Ник. Человек пять повалили его на пол, рухнув сверху.
Не охрана, просто мужчины, что оказались ближе.
Крик Леры захлебнулся в падении: кто-то сбил и ее. Еще одна живая груда.
Упали, мне казалось, все, кроме Романа. Роман шел, вот только слишком долго и как-то странно – словно ослеп и был ведом излучением врага.
Наша связь оборвалась. Я перестала его слышать.
Костер теперь валялся лицом в пол, кто-то прижимал его шею коленом, а несколько стволов уткнулись в тело.
– Проверить все!! – громогласно крикнул Андрей Андреевич. – Подкрепление!
Еще с дюжину жандармов уже вбегало в зал, за ними мчались и полицейские.
Ник! Господи, Ник! Я не успела оцепенеть от ужаса, я ничего не успела, только расслышать Романа, а Ник уже поднимался, поднимался, мне показалось, не без сопротивления тех, кто его уронил, живой и невредимый, Господи, живой…
Лишь задним числом я за него испугалась, лишь теперь ужас холодом, почему-то с ног, начал подниматься по моему телу, подступая к сердцу…
Но этот ужас оказался перебит ужасом новым, не избытым, а надвигающимся.
Не успел Ник встать, как Роман начал как-то странно оседать. Он не рухнул, он словно бы осторожно опустился на колени, оперся ладонью в пол, пытаясь удержаться, уронил на грудь голову, накренился на бок…
Я вдруг увидела, что крови стало гораздо больше. Теперь покраснела уже вся манишка.
Мы подлетели к Роману одновременно – с разных сторон, Ник и я, сами не понимая, что пытаемся сделать…
– Брюс!!
Одним коленом упершись в пол, по которому уже змеились блестящие струйки, Ник схватил Романа за руку.
Подол и рукав моего платья медленно темнели. Кровь красная, такая красная, почему пятна получались черные?
Кровь Романа…
Я пыталась поймать его взгляд. Но Роман смотрел не на меня.
– Брюс… Ты меня слышишь, Брюс? Потерпи… Брюс, не вздумай! Сейчас… уже сейчас…
– Продержусь… – Голос Романа был так тих, что мы слышали его только потому, что низко над ним наклонялись. Но откуда-то нашлась сила в его руке, которой он крепко сжал руку Ника. – Но… если… ты того… гляди… царь православный… чтобы… на страх врагам.
Пальцы его разжались. Взгляд сделался размытым. Теперь он не видел уже и Ника.
А в следующее мгновение нас обоих расшвыряли врачи.
Глава XL Белая дверь
Это было самое безобразное помещение из всех, где мне доводилось бывать. Покрытый бурым вытертым линолеумом пол, стены, крашенные ядовито-зеленой масляной краской, тоже местами протертой – к этим стенам слишком часто прислонялись. Я сидела на неудобном стуле, сделанном из гнутых металлических трубок, с двумя обшитыми искусственной кожей дощечками – сиденьем и спинкой. Таких стульев, свободных, стояло рядом еще несколько. Мертвенный свет исходил от потолочных ламп, огромных и длинных, напоминающих серые куски сот каких-то очень нехороших пчел. На подоконнике стоял горшок с кактусом. Больше ничего в этом расширившемся конце коридора и не было, кроме белой двери. Вроде бы ничего особенно страшного и не находилось здесь, но мне отчего-то казалось, что это и есть ад.
– Нелли!
Ник встряхнул меня за плечи. Я видела сквозь него, через него. Я видела этот подоконник с невыносимо унылым кактусом. Я начала понимать.
– Тебя здесь нет… Здесь тебя не может быть. Ты здесь просто не родился на свет, потому, что тебе здесь нет места.
Руки его стиснули мои плечи изо всех сил.
– Приди в себя или мне придется тебя ударить. Отослать тебя я не могу. Нам надлежит быть тут.
Его прозрачные пальцы были осязаемы и горячи. Впрочем, они уже не были так прозрачны. Я встряхнула головой, разгоняя морок.
Пол из веселого бука отразил свет теплых люстр. Нежно-кремовые тона, гравюры со сценками ателланы, мягкие кожаные кресла. Белая дверь.
Там, за дверью, операционная.
Старшая сестра, монахиня лет сорока, была сурова и официальна – час назад, полчаса назад, сутки назад?
– Такого скопления народа под дверью я не позволю, Ваше Величество, – жестко отрезала она. – Самое большее – два человека, самых близких. Остальных мы попросим пройти в приемный покой.
– Мы двое, – мгновенно решился Ник, кивнув мне.
Андрей Андреевич, Миша, Лера, кто-то еще – повинуясь указке цербера в апостольнике, все прошли не с нами, а за одной из младших сестер. У коридорной развилки Ник задержался со старшим Великим Князем. До меня долетели было обрывки фразы о необходимости вызвать телеграммою из Австралии Александра Владимировича, краткий обмен репликами, позволивший сделать вывод, что Андрей Андреевич сейчас принял на себя обязанности Романа.
Но я не вслушивалась, я слишком спешила к этой двери, мне казалось, что указывающая нам дорогу сестра ползет, как черепаха.
И вот уже – я не знаю, сколь долго, я ведь никогда не ношу часов – мы сидели около белой двери и ждали. В окнах потихоньку вечерело.
Черные пятна на моем платье – два пятна, на рукаве и на подоле – сделались теперь бурыми и больше не холодили. Никто ничего не посмел мне сказать, нас обоих просто попросили накинуть белые халаты. Кровь была и на Нике – по краю манжеты.
– Прости. Я пришла в себя.
Я никогда не рассказывала Нику о своих видениях, сейчас же это и вовсе не было возможным. Я было думала, что тот адский мир сомкнулся над моей головой, но нет, выпустил. Неважно. Ничего теперь неважно, кроме белой двери.
Несколько шпилек, видимо, выпало из моих кос, прическа теперь плохо держалась и мешала. Я принялась машинально распускать ненужные нарядные косы, выдергивая ненужные шпильки – как занозы. Освобожденные волосы упали на плечи.
Белая дверь отворилась. Так, верно, распахивается перед парашютистом зияющий высотой люк.
Хирург, высокий и крупный мужчина лет пятидесяти, предупреждающе вскинул руку, опережая наши вопросы. Россыпь пятен зияла и на белизне его халата. Только они были яркими, совсем яркими.
Я выдохнула. Эта протянутая к нам, сухая от постоянной дезинфекции, разработанная рука с крепкими пальцами и очень коротко подстриженными ногтями – нет, она не говорила о смерти.
– Как прошла операция? – Ник поднялся хирургу навстречу. – Она ведь завершена?
– Да, Ваше Величество. С вашего позволения – лучше присядем.
– Прошу прощения. Конечно.
– Благодарю. – Врач тяжело опустился в кресло. – Ну что же, Ваше Величество. Что я могу сказать на сей момент…
Что бы хирург ни намеревался сказать, но пока что он медлил. Медлил – и метнул Нику перехваченный мною взгляд в мою сторону.
– Все, как есть, – просто ответил Ник.
– Пулю-то извлечь – не самое важное. Тут все прошло благополучно. Однако – скверная это штука, проникающие ранения из мелкого калибра. Похоже, двадцать второй… «Оружие садиста», так мы это называем.
– Семидесятая «беретта», – вскользь вставил Ник.
– Останавливающая сила – слабенькая. Особенно, если раненый сильно мотивирован.
Я невольно подумала о том, как долго Роман продержался на ногах. А я сочла ранение неопасным… Господи, как же я глупа!
– Тогда что плохо?
– Такие раны чреваты внутренним кровоизлиянием. Оно бывает очень… Как бы это сказать… Непослушное. Вы знаете, поражена грудная клетка. Сейчас его уже перевезли в реанимацию. Нет, нет, повидать нельзя, да и незачем. Он к тому же под наркозом, как вы понимаете. Сейчас подключили всю аппаратуру, будем наблюдать. Пока я не решусь дать прогноз. Понадеемся на то, что организм чрезвычайно крепок. Физические данные – в самом деле выше всяких похвал. Ваше Величество, я еще долгие часы ничего не смогу доложить определенно. Сейчас поглядим, как отойдет наркоз… Но вам и молодой особе нужно отдохнуть.
– Нет. – Ник даже не взглянул на меня, настолько ясны были ему и мои намеренья. – Мы останемся рядом с ним.
– Но не здесь же в коридоре, – хирург взглянул на Ника с усталостью и отеческой любовью. – Тем паче, раненого уже и вывезли из операционной. Я могу предоставить в ваше распоряжение хотя бы ординаторскую рядом с реанимацией.
– Боюсь, я больше злоупотреблю любезностью. Мне нужно также место, куда смогут входить жандармы и прочие. И тоже поблизости, чтобы при малейшем намеке на изменение состояния графа в любую сторону я мог быть при нем.
– Разве что мой кабинет, Ваше Величество. Конечно, вы можете его занять.
– Я не прошу извинения. Необходимость.
– Я понимаю. Сударыня, – блекло-голубые глаза врача, в добрых лучиках морщинок, внимательно глянули мне в лицо. – Вам нужна в помощь сестра? Кто-нибудь из наших инокинь может позаботиться о вас. Как вы себя чувствуете?
– Благодарю, я справляюсь. Не нужно никого на меня отвлекать.
Я в самом деле не ощущала больше ни слабости, ни дурноты, ни даже страха.
Я взглянула на Ника. Мы оба были сейчас одинаковы: очень спокойные и сухие, как прошлогодняя листва. Мы не вправе терзать себя, не вправе изводиться тревогой. Важно только одно – быть поближе к Роману.
– Знаешь, Нелли, пойду-ка я всех отпущу, – сказал Ник, когда хирург нас покинул. Кстати, неловко: сестра ведь называла нам имя хирурга. Но у меня тут же вылетело из головы. Я даже не знаю, что это за больница? В центре города, это понятно. Но я не заметила, в какую же сторону мы ехали – пробиваясь за каретой скорой помощи. – Никому легче не будет просидеть до утра. Андрей Андреевич уже отбыл, у него дел по горло. Надо срочно отследить круг знакомств террориста, кое-кого, возможно, придется покуда взять под стражу. Но остальные пусть отдохнут немного. Нас Брюсу вполне довольно.
– А жандармы-то тебе здесь зачем? – спросила я, дождавшись возвращения Ника. – Ты думаешь, возможно еще одно… покушение? Но ведь больница наверняка в оцеплении полиции.
– Полиции довольно для моей безопасности. Да и жандармы у входа есть. И в городе объявлено чрезвычайное положение. Но пока мы ждем, пустят ли нас к Брюсу, надо и мне тоже заняться делом.
– Каким? – не поняла я.
– Я должен допросить мерзавца.
– Ник… – Я взглянула на Государя в оторопи. Сейчас, когда врачи борются за жизнь Романа… Зачем это? Зачем – сейчас?
– Уверяю тебя, Брюс на моем месте поступил бы точно так же. – Ник ответил мне серьезным взглядом. – Я рядом, я с ним. Но время не ждет.
– Итак, ты хочешь, чтобы этого… – Язык мой не хотел выговаривать имя Костера-Кострикова. – Чтобы его допросили при тебе?
– Ты не совсем поняла, – ответил Ник. – Допрос буду вести я. Я лично.
– Ты?! – Я изготовилась спорить. – Ник, мы оба сейчас балансируем на грани. Мы способны на глупости. Но мои глупости – это всего лишь глупости человека. В отличие от твоих. Ты не должен совершать ошибок. Тебе ли – соприкасаться с революционной нечистью самому? Это невместно.
– Ты всегда меня понимала, Нелли, поймешь и сейчас. В эти несколько проклятых часов, что нам сейчас предстоят, я ничем не могу помочь Брюсу. Молиться за него? За Брюса молятся сейчас по всей России. Но я мужчина и я его друг. Я хочу сейчас занять его место – как он занял мое. Гражданская война дотянулась до нас. Я вижу, что окоп неполной профили, где стоял Брюс, сейчас пуст. Туда я и должен встать. Расследование я начну сам. И я никому этого не уступлю.
Ладно, в конце концов, полный его тезка тоже сам разбирался с другими негодяями, с декабристами.
Хорошо хоть – не гонит меня. И не прогонит дальше. Я вправе быть с ним рядом. Гражданская война дотянулась до нас троих.
Отполированная дощечка сообщила, что хирурга, а точнее – главу хирургического отделения – зовут Сергеем Ивановичем Синицыным. Мы прошли внутрь просторной комнаты, с письменным столом, несколькими стульями у стен, диваном и стеклянными шкафами, в которых поблескивали всевозможные сувениры из жизни медицинского сообщества.
Вдруг мне вспомнилась другая комната, сто лет назад, в «Лаборатории натуральных смол». Тогда допрос собирался вести Роман. Что-то в самом деле происходило с Ником… Он сейчас больше походил на Романа, чем на самого себя. Я никогда не видала Ника таким… Каким же? Недобрым. Опасным. Обычное его непринужденное, естественное как дыхание величие сменилось жесткой, цепкой властностью.
– Сядь, Нелли. Только куда-нибудь подальше, лучше у меня за спиной.
Я огляделась, намереваясь выполнить его распоряжение. На сей раз мне не понадобится изображать стенографистку.
– Хотя… Нет, постой, у меня появилась другая мысль. – Ник как-то странно усмехнулся. – Для моих задач, пожалуй, в этом здании найдется место получше. Подожди пока здесь, я распоряжусь.
Минуты повторного отсутствия Ника длились очень долго. Нервы мои были спокойны, но вот ноги, ноги не желали стоять на месте. Я побродила туда-сюда по кабинету, подошла, наконец, к окну.
Окно блеснуло темнотой. Глухая ночь, непонятно, когда и наступившая. Снаружи, в подсвеченных фонарями чернилах, шелестели листья тополей. Двор. Окно выходит во двор. Где же мы, все-таки?
Я коснулась ладонью холодного стекла. На пальце сверкнул тяжелый алмаз. Несколько часов назад я еще веселилась, ловя косые взгляды старух, приметивших неположенное мне украшение. Зачем он мне сейчас? Писать на стекле, разве что.
Стекло было очень чистым, как и водится в больницах.
«Tu oublieras Henriette88» – камень поскрипывал, совсем тихо.
Еще раз… «Tu oublieras Henriette»…
И уж в третий, два – число неуклюжее.
«Tu oublieras Henriette».
В этом не было никакого смысла. Ровным счетом никакого. Зачем я, собственно, порчу казенное имущество? Когда он отойдет, этот наркоз?
– Нелли…
Ник смотрел на меня с каким-то незнакомым выражением.
– Да?
– Все-таки я должен тебя спросить. Мы не знаем, чем кончится эта ночь. Но готова ли ты пройти ее – до конца? У тебя достанет решимости – на все?
– Да.
Даже если ночь никогда не кончится, добавила я мысленно, дотронувшись до бурого пятна на своем рукаве.
– Тогда пойдем.
Следуя за санитаром, курносым юношей лет двадцати, очевидно смущенным присутствием Государя, мы прошли к большому лифту.
– Прошу вас. – Санитар нажал на кнопку отрицательного уровня.
Мы вышли в выложенный белой кафельной плиткой длинный коридор, видимо соединяющий основное здание с другим.
– Это достаточно близко? – спросил Ник.
– Полторы минуты от реанимационного отделения, Ваше Величество. – Молодой человек замялся было, но решился договорить. – Мгновенных изменений состояния больного можно не опасаться. Даже в случае ухудшения.
– Хорошо.
Санитар отпер широкую железную дверь. Потянуло холодом.
– Ник, но это же…
– Да.
Мы прошли в просторное помещение покойницкой, немного расплющенное из-за низкого потолка. Три белые стены, черный пол, блики ламп на том и другом. Два ряда оцинкованных столов. Вся четвертая стена состояла из металлических пронумерованных дверец – вроде тех, что бывают иногда при спортивных залах, только значительно большего размера.
Ничего страшного, это всего лишь покойницкая, а не ад. Ад я сегодня уже видела. В аду не может быть Ника, а здесь он есть, и он твердой рукой поддержал меня под локоть.
Санитар ушел. Мы остались – чего-то ожидая.
– Почему ты надумал допрашивать его здесь?
– Брюсу это понравится, ручаюсь. – Ник сел за небольшой стол, на котором громоздились кипы подшитых в папки бумаг.
Послышались шаги, железная дверь отворилась. Несколько жандармов ввели Костера.
Я впилась глазами в лицо врага. Как же оно изменилось, или всегда было таким – да только я не умела заметить? Какой он американец? В Вятской губернии полным-полно таких типажей. Эта обыкновенность опять показалась странней всего. В архивных моих штудиях я обращала внимание на иные портреты. Лица Троцкого, Ленина, Свердлова, Джугашвили, Петерса или Дзержинского несут ощутимые следы дегенерации.
Лицо как лицо. Стало быть, и такие лица достаточно часто бывают у Зла.
Мне было приятным отметить, что с этим самым лицом, судя по всему, обходились без особой бережности. Шишка на лбу и ссадина на скуле его не красили. Волосы, прежде аккуратно зачесанные назад, теперь в беспорядке падали на лоб, и сделалось заметней, что лоб этот низковат. Но много безобразней показалось новое выражение. Костер глядел теперь исподлобья, сильно нагибая голову.
Буравящий, пристальный взгляд, скользнув по мне, уперся в Ника.
– Усадите его. Запись. – Голос Ника был спокоен. Он ни на мгновение не забывал о том, что по вине этого существа Роман сейчас отходит после наркоза. Но тем не менее он сумел совладать с чувствами. Он был сейчас холоднее всего, что нас окружало.
Костер пошевелил руками, скованными наручниками.
– Мне больно. Руки… Пусть снимут, мне же деться некуда.
– Ничего, как-нибудь стерпите.
Это немножко резануло слух. Я, кажется, никогда в жизни не слышала, чтобы Ник, даже в детстве, обращался к кому-либо «на вы». Разве что к иностранцам, так ведь то по-французски. Но его «ты» – отеческое, даже если он годится во внуки тем, с кем говорит. Само собой, террорист Государева обращения «на ты» не достоин. Но непривычно.
Костер поморщился, пытаясь устроить скованные кисти удобнее. Я с удовлетворением отметила, что у него это не очень получилось.
– Ну что, допроса вы ждали, я догадываюсь. Не ждали другого – что допрос поведет сам покойник. И что покойник будет столь бодр.
Это был сознательный удар по самому уязвимому месту – наотмашь. Какое б ложное понимание героизма преступник ни вкладывал в свои черные замыслы, а холодная насмешка в голосе Ника напоминала – не герой. Неудачник. Ничтожество.
– А кто б ни допрашивал, хоть сам святой царь из гроба, мне плевать. – Костер выдавил злобную улыбку. – Я ни слова не скажу без адвоката. Я гражданин Соединенных Штатов.
– Кроме адвоката – может еще и консула? – Ник тоже улыбался. – Впрочем, через пару дней – отчего б и не консула? Королевского.
Этот удар тоже был неплох. Я видела, что Костер с трудом сдерживает ярость.
– Давать показания не стану. Отказываюсь. Нечего мне пугающие декорации городить, все это не стоит полушки. Пытки запрещены законом. Я, Ваше Величество, знаете ли, прояснял вопрос. Так и остались чистоплюями, не научились.
Я напряглась. А в самом деле – Ник в известном смысле бессилен. В отличие от Романа, у него-то даже карт-бланша нету.
– Закон запрещает пытки, издевательства и многое другое. – Ник оставался насмешлив. – Но понимаете ли вы, что живы единственно по одной причине: вас побоялись убивать в толпе. Могли пострадать люди.
– Что с того? – Костер передернул было плечами, но тут же по его лицу пробежала гримаса: движение отдалось в руках. – Хоть тут свезло. Я ведь живой.
– А вы недогадливы.
– И не стану играть в загадки. – Тем не менее в голосе преступника скользнула нотка тревоги. – Пустой разговор, пора его кончать. Я отказываюсь от дачи показаний.
– Закон еще не вступил в силу. Это я вам сообщаю, как глава Судебной власти, кстати. Пока не снято чрезвычайное положение – нет различия, через минуту пускать в дело оружие или другие неприятные вещи – либо через три часа. Бюрократическая процедура начнется лишь завтра. Если начнется, разумеется.
Ник легко поднялся, несколько раз прошелся туда-сюда по помещению, вдоль металлических воротец с цифрами. Большинство из них были приоткрыты – и оттуда тянуло холодом. Впрочем, холодно мне не было. Я была слишком напряжена, слишком сосредоточена. Сейчас я не испытывала даже ненависти: предельная концентрация внимания растворила ее, как кипяток растворяет кусочек сахара.
– Блеф! – Я видела, что преступнику не по себе, но он прилагал все силы, чтобы собрать волю. – Еще б Диктатора, будь он проклят, я б испугался. Ему б я поверил, хоть вешать умел. Но вы ж чистенькими пришли. Чтоб распрекрасный русский царь – да осквернил белы-руки? Пошел бы ими ломать чужие пальцы? Один палец за другим, один за другим! У ребенка на глазах у матери, как делали мы89! Мы-то добивались всего. Иметь возможность мало, надо мочь! Вас тут всех вновь воспитали благородными неженками, я нагляделся. Вы, Ваше Величество, не то, что папиросой в чужой глаз сами не ткнете, вы и другим не прикажете! Куда вам! Такой же блеф эти угрозы, как то, что меня привели в это страшненькое место.
– А вот насчет места, это зря. – Ник по-мальчишески уселся «верхом» на стул. – Место тут очень даже к месту. Да, мы не азиаты, не палачи, не пытошники. Но я достаточно зол, и не стоит этого недооценивать. Живым и неразговорчивым вы мне не нужны. У мертвецов больше резонов быть молчаливыми.
– Я свою пулю мог получить и там, на выставке. – Костер сощурился. – Я был готов. Ничего страшного – даже не больно.
– Правитель не расходовал пуль. – Ник обернулся к ближнему жандарму. – Отвори пошире вон ту ячейку, под номером семнадцать. Она, я так понимаю, вакантна. Символическое число, между тем. Только не стучите по стенкам, если передумаете. Здесь больница, ночью надлежит соблюдать тишину.
– Блеф… Вы не можете… – Вот теперь голос террориста дрогнул.
– Определите труп в ячейку, – кивнул жандармам Ник.
Двое, те, что моложе, кинулись к Костеру более, чем охотно.
– Стойте же!!
Его, отчаянно брыкающегося и извивающегося, уже совлекли со стула.
Выдвинулась металлическая полка. Костер, отбиваясь, сыпал какими-то английскими словами – но ни одного из них я не могла понять. Голос его пару раз перешел в визг.
– Головой вглубь.
Жандармы кое-как удерживали Костера на металлическом ложе. Вот оно уже тихо поехало обратно.
– Стойте!!… Я буду говорить, чтоб вас…
Металлическое эхо показалось моим нервам слишком сильным.
– Говорить, а не сквернословить. – Ник распорядившись жестом, вернулся за стол.
Костера, не справляющегося с крупной дрожью, вновь усадили перед ним.
– Итак, еще раз. Чрезвычайное положение действует. Всякий, наделенный властными полномочиями, вправе лишить жизни кого угодно, угрожающего государственной безопасности. Любыми подручными средствами.
Вновь щелкнуло записывающее устройство.
Костер дышал как кузнечный мех.
– Вы – красноэмигрант? Ваше имя?
– Ваше Величество, имя могу назвать и я. – Я поднялась, встречая тяжелый взгляд исподлобья. – Это Костриков, он же Киров. Внук казненного преступника. Его опознал Филипп Орлов там, на выставке. Потому он и засуетился. Иначе б – подобрался к вам и ближе.
Задним числом меня пробрала дрожь. Мне ведь только что пришло в голову, что Филипп в самом деле спутал врагу карты.
– А здесь назывался Юджином Костером. Представлялся журналистом и славистом.
– Я и впрямь… журналист, – угрюмо возразил Костер. – Интервью-то вышло, разве нет?
– Этот… брал у тебя интервью? – Нику это не понравилось.
– Увы. Мы тут все были беспечны… Преступно беспечны.
– Не настолько, как я бы хотел, – возразил Костер хмуро. Когда б не подвернулась эта… Елизавета… Только с ней номер и прошел. Сколько времени зря. Знать бы заранее, что от царской любовницы толку никакого…
Любовницы?! Что за бред, нет у Ника никаких…
Но Костер смотрел сейчас на меня. Он что, он – обо мне?
– Я в самом деле не способен бить по лицу связанного, – холодно уронил Ник. – Но истребить, как я уже дал понять, могу – в любую минуту. Рекомендую оглядываться на это обстоятельство, подбирая слова.
Прежде, чем попасть в мой дом, враг собирал сплетни, слухи… Трактуя их, понятное дело, на свой лад. Он пытался добраться через меня до Ника. Я стиснула руки. Как, почему я не почувствовала сразу – врага?! Почему я не рассказала о нем Роману? Почему, наконец, тогда, в день рождения, Роман не поднялся за мною в квартиру сестры?! Он бы понял все, он бы понял с одного взгляда, и не случилось бы нынешней ночи! Какая нелепая случайность: в тот день мы занимались сущими пустяками… Овсовым и Пыриным… О, Господи! Вот оно, что!
– Ваше Величество! – опережая следующий вопрос Ника к преступнику, воскликнула я. – А пусть он для начала скажет, зачем убил студента Тихонина?
– Сука.
По счастью, грязное слово слетело тихо, как змеиное шипенье. Ник не расслышал его. Зато расслышала я. Расслышала – и улыбнулась Костеру торжествующей улыбкой. Я угадала, я попала в точку. Я попала в точку, а он выдал себя.
– Да, кстати, – как ни в чем не бывало, поймал мяч Ник, не предоставляя врагу времени сообразить, что, подозревай его кто раньше в убийстве, не расхаживал бы он по картинным галереям. – Зачем вы убили студента, Костриков?
– Затем, что был дурак. – Костер рассмеялся. – Ваша взяла, сознаюсь. Судьба какого-то студентишки моего положения не ухудшит.
– Что вы делали в Палашёвском кружке? – Ник на ходу пытался сейчас припомнить подробности дела, случайно попавшего ему на стол.
– Ясно что… Прощупывал, кто может пригодиться. Кроме того, было интересно. Я слышал, товарищи, мол, большевицких убеждений… Оказалось, полное барахло. Наркотики да свальня – все, что им нужно. Профаны. Настоящего знания у них ни на волос. Я уж было с ними закончил, да тут подвернулся сопляк… Дед мой… Он был его герой, божество. Вот он меня и вычислил.
– Из квартиры пропали, я так думаю, материалы Тихонина по биографии Кирова, – сказала я Нику. – А еще, полагаю, фотография Кирова. Висевшая на видном месте. Убрал от греха, чтоб больше никто не сопоставил.
– Именно, – Костер ощутимо приободрился. Казалось, его устраивает ход разговора. Об убийстве Тихонина он повествовал даже как-то слишком охотно и легко. Что мы делаем не так? Какую ошибку совершает Ник? – Он мне назначил встречу. Пристал как банный лист: когда де будем мировую революцию начинать? Вот бы я спалился, связавшись с романтическим дурачком.
– Ну да, в ваши планы входило делать революцию вовсе не с дурачками. – Глаза Ника сверкнули, как холодная сталь. – Поэтому подробности того, как вы убивали Тихонина, лучше рассказать не мне, а следователю. Не сомневаюсь, что ему это все будет чрезвычайно интересно. Но это – потом. Сейчас я жду от вас совсем другого. Списка имен – минут эдак на пятнадцать записи. Имена, тайные имена, жительство, должности, градусы, разумеется. Имена лиц, энергически не желавших восшествия на престол короля Иоанна.
– Я никого не знаю в России… Из красных товарищей… – Голос Костера вдруг сделался хриплым. – Только коммуну в Палашёвском, да и те… Можно попросить… чтобы мне дали… стакан воды?
– Нельзя. Ни воды, ни еды, ни оренбургских пуховых шалей. Не стоит навязывать мне игру в бирюльки. Вы прекрасно поняли, что речь не о России. Меня интересуют те, кто готовил вас в Америке.
– Ненавижу вас всех!! – Костер сорвался на крик. – Ненавижу, с детства, с первого вздоха, с первой картиночки Кремля, который уже был, был нашим! Это я должен был вырасти в Кремле! Я… Зачем мне нужен кто-то, чтоб ненавидеть вас? Михайловичи… Надо было действовать быстрей… Можно было вас вырезать спокойно на той дачке… В Дюльбере… Нажать через Ялтинский совет на этих мямлей из Севастополя, да и вся недолга… А нет – так из артиллерии по стенам! И после можно было… Даже после! Пока Сулькевич со Скоропадским, расталкивая друг дружку, лизали немчуре сапоги, выклянчивая Крым – один хохлам, другой – татарве… Кому тут было дело до ссыльных Романовых, сидели впроголодь… Тут бы и добить… Отрядить надежных людей… Но – успели отплыть, успели… Пуганые, небось, после Екатеринбурга, Алапаевска и Перми… В безопасность… Чтоб потом воротиться, пожалуйте вам, величества, все большевики перебиты-с… Черную работу за вас… Вы теперь в белых ризах, да на царство… Кто мне еще нужен, чтоб ненавидеть – отнявших у меня все?!
– Полагаю, что кое-кто нужен.
Я перевела дыхание. Ник выровнял положение, он не дал вовлечь себя в эмоциональную бурю, на что провоцировал его Костер.
– Довольно сложно поверить, будто порыв мщенья, вне сомнения, непритворный, столь странно совпал с американским референдумом, что начался несколько часов назад. Лишись претендент моей поддержки, возникни сумятица… Вы спешили.
Меньше минуту назад Костер, будь бы у него свободны руки, рвал бы на себе манишку, словно та была тельняшкой накокаиненного матроса. Но все это сняло как рукой. Он осторожно втянул голову в плечи, выжидая.
– Имена, – веско произнес Ник. – Имена, или смерть. Чрезвычайное положение длится. И видит Бог, я с великим удовольствием отправлю вас на тот свет.
Но вдруг – раньше, чем разговор вновь переломился – я всеми нервами ощутила, что сейчас все обвалится.
По лицу Костера пробежала судорога. Оно потемнело, но, я ясно ощущала это, он, против ожиданий, теперь перебарывал свой страх.
– Я дал слабину. – Голос звучал глухо, но был теперь наполнен решимостью. – Смешно… Я ведь шел уверенный, что погибну там, в зале. А после – обрадовался вдруг, что выжил. Ну и еще – да, от пули и сразу, это легче. Вижу, что убьешь. По глазам. Научились-таки чему-то… Имен не скажу. Я не затем шел, чтобы выжить, проторчать до старости в аккуратненькой тюрьме… Мне нужно другое. Я хочу другого. Делай со мной что хочешь. Я готов.
Лицо Ника окаменело. Он искал ответного хода. Искал – и не находил.
Роман спас Государя, с лихорадочной быстротой думала я. Но если не вытрясти сведений – там, в Америке, под удар попадет теперь Джон. Они просто зайдут с другого конца. И там, в Америке, возможностей совершить покушение на Джона у них много больше.
Сейчас, именно сейчас, Джон должен быть среди толп народу. Он не может отклонить ни одного выступления, ни одного…
Костер, по счастью, не понимает, что ошибается. Ник может его убить, но не убьет: Нику нужны имена. Если мы не получим их в эту ночь – он передаст террориста хоть следователям, хоть психологам, хоть гипнотизерам… Но имена необходимо получить. Но это – время, время, которого у нас нет. Провал Костера заставит врагов действовать быстро.
За что зацепить врага? Думать, думать… Что-то странное царапнуло в его словах… «Мне нужно другое»… Может ли быть что либо лично «нужно» человеку, согласившемуся умереть?
И что такое «настоящее знание»? Если бы понимать хоть это…
Странная, полубезумная улыбка теперь блуждала на губах террориста. Теперь он не притворялся, теперь он принял решение не цепляться за жизнь. Что ему «нужно», Господи, что?!
Догадка ударила меня обухом. Но если… нет, бред… не может быть! Этого просто не может быть! Я сейчас сошла с ума.
Но даже если и так, что мы, собственно, теряем?
Я поднялась на ноги, я подошла, поймала взгляд террориста. Вероятно глаза мои были немногим безумнее, чем у него самого. И – глядя одними безумными глазами в другие – я выплюнула ему в лицо чудовищное, нелепое, немыслимое слово:
– Ленинград.
Глава XLI Сошествие во ад
Костер шарахнулся назад так, словно ему поднесли к лицу горящую головёшку. Наручники впились в дернувшиеся руки – но он даже не заметил боли.
– Не может быть… Ты профанка… Случайно услышала… Ты не знаешь, что это за город! Нет!
– Имя своего маньяка вы прилепили к Петрограду, – жестко ответила я. – Это Петроград.
Я услышала за спиной движение Ника, но я не могла даже оглянуться, разлепить взгляды. Я только мимолетно взмолилась про себя, чтобы Ник понял и не мешал.
– Ты… ты медиум?… – Костер словно видел меня впервые. – Не верю. Докажи.
– Докажу. – Я рассмеялась. Отдельные картинки крутились в моей голове, складываясь в узоры, как стёклышки калейдоскопа.
– Мы в Москве… Москва осталась Москвой. Но она больше разорена, переделана. Храм Христа Спасителя взорван… Плиты с именами героев 1812 года растерты в порошок – ими посыпаны парковые дорожки. «Нет ничего для вас святого! И разве это не позор, Что «шапка золота литого»
Легла на плаху под топор! Прощай, хранитель Русской славы, Великолепный храм Христа,
Наш великан золотоглавый,
Что над столицею блистал!90» А сейчас… Сейчас там выкопан бассейн для плаванья. Гигантская круглая лужа. Над ней всегда висит водный пар. Бассейн сделан и в Петербурге, в том, который Ленинград, прямо в кирхе, что на Невском. Пролетарки с голыми ляжками плещутся над местами алтарей. Нет больше памятника Славы – того, что из турецких ядер. Разрушена церковь в память Цусимы, два костела, часовня на Троицкой…
Глаза Костера разгорались вожделением. Он весь обратился в слух.
– Екатеринбург вы прозвали Свердловском, Самару – Куйбышевым. Сейчас живет уже второе поколение – на три четверти некрещеное. Может статься – и больше. Умерших большей частью лишают погребения – сжигают по язычески. Гигантские печи дымят прямо в городах.
– Жертвенные… Во имя нашей власти. – Костер облизывал губы слишком длинным языком.
– Сейчас ваша власть чуть приутихла… Ограничивается мертвыми, меньше живыми. Она уже не истребляет невинных без суда, не принуждает сотни тысяч к рабскому труду… Да что там, рабскому. В Древнем Египте рабы жили лучше. Сейчас времена массового рабства миновали. Но жизнь беспросветная, серая… Не голод, но скудость… Не нищета, но убожество… Теснота жилищ, несвобода передвижения по стране… Нельзя заказать номер в гостинице… Нельзя без позволения поселиться в столице… Столица сейчас здесь, в Москве, как в восемнадцатом году… Цензура… Жесточайшая цензура. Мысль задыхается… И над всем этим тусклым миром – ваши идолы, ваши знамёна… Полчища идолов, леса красных знамён, но от них веет уже не кровью, а скукой, мертвой скукой.
– Войны… Скажи что-нибудь войнах.
– Была огромная война в середине века. Полпланеты залито кровью. Но вы выиграли от этой войны… Большевики теперь правят не одной страной, а третью Европы.
– Все сходится. – Костер смотрел на меня так же алчно.
– Ты видишь то же самое?
Мысленно я всё умоляла Ника молчать. Я нашла цель Костера, но я не знаю, что с этим делать. Я не отрывала от него взгляда. Я перешла с ним «на ты».
– Нет… – К моему изумлению ответил Костер. – Я не вижу. Не вижу ничего. Никогда не видел. Я не медиум.
– Расскажи. – Это было хуже, чем дотронуться до сдохшей змеи. Но я сделала это: я положила ладонь ему на плечо.
– В первый раз я столкнулся с этим в летнем лагере… В Калифорнии… В нашем лагере, красноэмигрантском, для маленьких комсомольцев… Мой сосед по палатке… Я подумал тогда, он просто мечтает. Хотя у него здорово получалось. Потом в колледже… Один студент, вовсе даже американец… Ему на Россию было наплевать, но он рассказывал про большую войну середины века… Совпадало. Они не знали друг друга, но все совпадало. Я научился угадывать таких людей… Я искал… Пятеро, пятеро, не знакомых между собой… Ты шестая. Тебя я не разгадал.
– Тебе все объяснили – в ложе? Это и есть – настоящее знание?
– Да. – Костер взглянул через меня на Ника. – Ад или рай, куда мы еще отправим не только тебя, русский царь, не только твою сестру, но и французского сопляка, это выдумки, поповские сказки.
– На какое же бессмертье рассчитываете вы? – вслепую подыграл мне Ник.
– Множественность миров – материальна. Ученые ее еще разъяснят. Когда мы и здесь возьмем науку под свой контроль. Не все ее слышат, очень немногие. Но каждый человек существует здесь и там… Здешнее тело мне только помеха. Умерев здесь, я окажусь полностью там. Физический закон. Тут убудет, там прибудет. Там, где все мое, там где власть… власть… Здесь еще – работать и работать, а там – готовое, незыблемое… Любое умиранье ради этого не страшно. Каждый человек существует там и здесь.
– Не каждый.
Я смотрела на Костера, не скрывая торжества. Я знала, я действительно знала. Мне никогда еще не удавалось увидеть картину столь четкую, столь полную.
– Тебя обманули, Костриков. Ты знаешь, почему ты не можешь увидеть ничего сам?
– Не дано. Мне просто не дано. – Костер посмотрел на меня со скрытой мольбой. Мои слова встревожили его.
– Тому, кто живет раздвоенной жизнью, хоть изредка, да мерещится что-то… Что-то оттуда. Не так явно, как мне, мое несчастье – особое, но – непременно мерещится. Министру Израиля мерещится, что он родился в Москве, инокине – что она родилась в Нью-Йорке, в белой эмиграции… Но если ты ни разу не ощутил сквозняка… Тебя там нет.
– Врёшь… – Он отчаянно встряхнул головой, словно отгоняя наваждение. – Как это я, внук моего деда, могу там не быть?
– Не знаю. Может статься, вашей власти не стоило разрешать fausse couche. Может и по иной причине. С твоим дедом расправился Сталин. Он-то и вылез во власть, оттеснив и перебив прочих вас. А сейчас у власти и вовсе иные люди. В партии большевиков не устоялось наследственной передачи власти. Слишком уж часто вы расправляетесь друг с дружкой.
– Не верю! – Костер часто дышал. – Коба – ничтожество! Рядом с моим дедом – да он никто! Никто!
– Ничтожества иной раз довольно ловки, – усмехнулся Ник. Я не могла не восхититься тем, как он продолжал игру, правил которой не понимал.
Они смотрели друг на друга: два человека, не отражающихся в зеркале. Для одного отсутствие отражения было особым благословением свыше, для другого – крушением всех надежд.
– Нашему прекрасному городу дорого обошлись нелады Кобы с Кировым, – я продолжала говорить, все ярче и ярче расцвечивая картины того мира. – Это Москва – симфония сословий, но хребет Петербурга – дворянство. Этот хребет перебили – из-за твоего деда. Один большевик пристрелил другого – а в ответе оказались дворяне. За месяц, за зимний месяц высланы десятки тысяч человек… «Были бы еще целы колокола, слышен был бы похоронный звон. Эти высылки для большинства смерть. Высылаются дети, 75—летние старики и старухи. Ссылают в Тургай, Вилюйск, Атбаксар, Кокчетав, куда—то, где надо 150 верст ехать на верблюдах, где ездят на собаках91»… У города убили душу, Костриков. Но и тебе не обломилось ничего. Кажется, у Кирова была дочь? Я не знаю, что с ней сталось. Здесь ее, я так понимаю, увезли в Америку, но там… Не знаю. Всех, кто имел к Кирову отношение, Сталин уничтожал. Я вижу. Ты знаешь, что я вижу. Ты знаешь, что я не лгу.
– Я знаю, что ты – видишь… Но ты можешь и лгать, отчего нет? – Костеру было страшно, очень страшно. Он странно раскачивался на стуле, из стороны в сторону. – Ты видишь… Но тебе ничего не стоит меня обмануть… с чего я должен верить на слово – врагу?
– Верить не с чего. Можно просто вспомнить. – Теперь я шла наощупь, но, как мне казалось, двигалась верно. – Кто из тех пятерых… хоть один… говорил про твоего деда? В Кремле? Во власти?
Он прекратил раскачиваться, замер. Он мучительно пытался вспомнить, припомнить хоть что-нибудь.
– Это казалось само собой разумеющимся, не так ли? – Я усмехнулась. – Еще бы – палач Астрахани, да не в Кремле? Не пьет чаю из царского сервиза? А это не само собой, о, нет! Коба растер твоего деда в порошок. Впрочем, разделавшись с ним и его окружением, он слегка наделил покойника посмертной славой. Покойник – он ведь уже не помеха, не так ли? Можно и прославить. Знаешь, как Коба его почтил? Он преименовал в честь твоего деда Вятку. Бедную, маленькую славную Вятку…
– … Вятку?! – Костер захохотал. – Нет! … Вятку?! Нет…
– Вот и все ваше бессмертие, вот и вся ваша власть и слава – очернить один маленький город.
Костер продолжал смеяться – уже тише.
– Подумай об ином, – Я собралась для последнего удара. – Ты пришел в ложу. Твое достояние было – пятеро медиумов. Но там, у них, общими усилиями, в один банк, таких было сто пять, самое меньшее. На порядок больше свидетельств, частей мозаики. Их картина была куда полней. Тайное знание. Они знали, что Костриков сброшен с игровой доски. Знали, но сулили тебе Кремль и Зимний. Я уже поняла – те, кто не видит вовсе ничего – они там не родились. Я – поняла, а твои учители – не поняли?!
Лицо Костера вдруг сделалось странно детским, обиженным лицом ребенка.
– Нет… – пролепетал он и всхлипнул. – Я же хочу туда, я так хочу быть там… Там… во власти… Я должен там быть, я должен там жить в Кремле…
– Это был обман. Никакого иного мира, никакого Кремля. Могу спорить – они ведь тебе врали, что власть у коммунистов наследственная, что ты – из особой семьи, что в том мире ты – из вознесшихся над стадом миллионов рабов, что там ты – самый из самых. Всего лишь небольшой розыгрыш. Тебя толкнули рискнуть единственным телом, единственной оболочкой, отделяющей бытие от холодной пустоты. В ячейке будет холодно. А потом будет пусто. Ты ведь не веришь в бессмертие души? А второго тела у тебя нет.
– Вятка… – прошептал Костер.
– Вятка, – безжалостно повторила я. – Не Петроград и не Москва. Вятка.
– Имя, – веско произнес Ник. – Кого вы покрываете сейчас? Кто направил вас на смерть, пообещав другую сторону зеркала?
– Дж… джелли.
Первое слово еле просвистело сквозь сжатые губы.
– … Личо Джелли.
Пот градом катился со лба Костера в холодном помещении, однако имена звучали. Их, казалось, неисчислимо много – ничего не говорящих мне иностранных имен.
Записывающее устройство работало.
Некоторое время мы с Ником ждали.
– Срочно сюда князь Андрея. Пусть немедля свяжется с Вашингтоном, – распорядился Ник.
Затем он поднялся и протянул мне руку.
Мы покинули покойницкую, даже не оборотившись на террориста.
– Во имя всего святого, Нелли, как ты подыграла этому безумию?
– Не спрашивай… Пожалуйста, не спрашивай. Я очень устала.
– Ты устала, дорогая, а наша темная ночь, между тем, еще длится. – Взгляд Ника был слишком внимательным, чтобы показаться добрым. – Но потом ты расскажешь мне все. Все, Нелли. От начала и до конца.
– Как скажешь. Как прикажешь.
Легкий озноб, охвативший меня почему-то после того, как мы вышли из зловещего помещения в тепло, не унимался еще долго.
Я куталась в белый халатик, словно он мог меня согреть.
Теперь мы сидели на танкетке перед другой дверью, тоже белой, этажом выше, куда нас провела одна из младших сестер. За нею находилась не операционная, а реанимационная палата.
Сил разговаривать не было. Допрос выжал из нас последние. Последние ли? Ничего, сколько понадобится еще, столько и достанет новых. Просто – надо немного помолчать. Надо, чтобы перестали стучать непослушные зубы.
Иногда наши руки находили друг друга, пальцы переплетались. Чьи были холодней?
С полчаса, или больше, как Синицын, уже не в стерильном, с особыми завязочками, халате для операций, а в простом, на пуговицах, с чем-то набитыми карманами, сказал нам, что наркоз отходит. Лицо его было озабоченным и хмурым. Или мне казалось, да и каким могло быть лицо врача, бодрствующего в ночь после операции?
Впрочем, после этого дверь больше не растворялась, никто не выходил.
– Ты замерзла? – тихо заговорил наконец Ник. – Я попрошу у сестер плед.
– Потом… Не хочу…
Мне казалось невыносимым с кем-то разговаривать, видеть еще одно лицо, принимать чужую заботу. А еще – еще я отчего-то боялась сейчас хоть на мгновение остаться одна. Ник понял это из моих сбивчивых слов.
– И мне в кои веки нечем тебя согреть, кроме еще одного бесполезного халата. До чего ж глупая штука – смокинг! Чтоб я еще раз…
Он властным движением обхватил мои плечи, свободной же ладонью с силой прижал мою голову к своей все еще держащей крахмал манишке.
– Отдохни, Нелли. Еще неизвестно, сколько нам ждать.
Я вздохнула, согреваясь не столько теплом, сколько ощущением его близости.
Вместо мыслей в голове звенела пустота, чувства тоже как-то сжались и окостенели. Ночь длится и длится. Ночь, длиною во всю мою предшествовавшую жизнь.
– Я разбужу тебя.
– Нет… я не должна… нельзя…
Я, в который раз, вцепилась в деревянные бусинки четок. А ведь еще думала: класть ли их в вечернюю сумочку, где носовой-то платок еле умещается? Вот и оказывается, что чётки при себе надлежит иметь всегда.
Синицын, опять как-то неожиданно, вышел в коридор, оставив за собой приоткрытую дверь.
– Ваше Величество… Mademoiselle… К сожалению, мне нечем порадовать. Мы делаем все возможное, но…
– Он в сознании? – Ник вскочил на ноги. – Что с ним?
– Был в сознании… Недолго. Он погружается в коматозное состояние. Если нам не удастся этому сейчас воспрепятствовать, из комы он не выйдет. Боюсь, что положение оставляет желать лучшего.
Там, за спиной врача, происходило какое-то движение, тихо звучали озабоченные голоса, настолько тихо, что мне понадобилось напрячь весь обострившийся слух, чтобы услышать далекое:
– Мы его теряем.
Глава XLII Эшу
– Тогда пустите нас к нему, – Расслышал ли и Ник эту фразу, упавшую лезвием гильотины? Неважно, довольно было и слов Синицына. А главное – выражения его лица.
Хирург даже не подумал возразить – это тоже было страшней страшного. Он лишь посторонился, пропуская нас в палату.
Роман лежал на каким-то высоком сооружении, на первый взгляд – слишком ажурном и неудобном для человеческого тела. Оно состояло из каких-то блестящих стальных сочленений, распорок, стержней. Множество трубок, проводов и проводков обвивали его, словно гигантский кокон. Прозрачные жидкости поблескивали в перевернутых стеклянных сосудах, обхваченных зажимами штативов. В изножии ложа стояло небольшое белое возвышение, где размещались какие-то приборы и экраны. За ним сидел еще один врач – темноволосый молодой человек в очках. Второй стул стоял у изголовья, там сидела послушница.
Простыня, прикрывавшая тело Романа, была какой-то невыносимо белоснежной. Из-за нее, единственно из-за нее, лицо казалось таким серым. Словно посерели и волосы, не отливающие больше золотом. Черты заострились и одновременно отяжелели.
– Роман!
Его глаза были открыты. Открыты – и незрячи.
– Брюс!
– Пожалуй, пора посылать за священником, Ваше Величество.
– Еще рано.
Этот голос, низкий и бархатный, как ночь в окнах, пролился в мою душу волшебным бальзамом.
– Сестра Елизавета, – раздраженно поморщился Синицын. – Вы злоупотребляете служебным положением. Почему в реанимации посторонние?
– Это родня, Ваше Превосходительство.
Они стояли в дверях. Сестра Елизавета с лицом озабоченным, но вместе с тем исполненным решимости, и Наташа. Наташа, такая будничная и родная, в сером пуловере, в брюках из серой шерсти, в туфлях на низком каблуке.
Я то ли успела заметить, то ли почувствовала, что сестра Елизавета только что вела Наташу под руку. Но теперь Наташа стояла прямо, как копьё, без всякой поддержки.
Стремительным, молодым, летящим шагом она прошла через палату к одру. Достало одного ее жеста – и сестра, сидевшая рядом с Романом, торопливо поднялась.
– Я поздно узнала. Боялись сказать, полагая меня больной. – Наташа, с миной легкого недовольства, села. Волосы ее, поднятые на затылок, были заколоты небольшим черепаховым гребнем. Не отрывая глаз от лица Романа, Наташа вытащила гребень, тряхнула освобожденными прядями. На одно мгновение ее русые волосы показались мне черными как уголь. Она смотрела на Романа, только на Романа – и в глазах ее словно постепенно разгорались две маленькие черные свечи.
– Ну-ка, ну ка… Кто тут надумал глупостями заниматься?
Все застыли, как дети, играющие в «морскую фигуру»: Синицын, Ник, две младших сестры – стоя, младший врач за своим пультом – сидя.
Наташа размяла пальцы, а затем, очень осторожно, вложила бессильные ладони Романа в свои.
– Я здесь, мышь… Я здесь, а ты не уйдешь отсюда… Еще рано трогать ветер руками… Не уходи… Держись… держись за мой голос… Держись за голос, мышь, ты же слышишь меня… Мы на улице Неглинной… в магазине купим «Блинном»… Гуньке – сушки с апельсином… Нате – кошку из резины… А Роману – таракана! Мы такие взрослые теперь, мы подпираем троны… У Романа нос холодный… У Романа плащ негодный… Потому, что у Романа… Нету на плаще кармана… Лена здесь… Ты ведь не бросишь ее потому, что она у нас такая глупенькая?.. Лена здесь… Ты здесь… Ты здесь… Только держись за голос. В старину колючий ёж92… на ежа был не похож… Не росли не нем иголки… а росли они на ёлке… Ёжик летом… и зимой…
– …бегал… в шубке… меховой… – Это был не голос Романа, это была бесплотная тень его голоса. Невыразительный – однотонный – шелест. – Не бойся, Ната. Я не умру.
Мне показалось, что умираю я, сейчас… Я не проживу больше и минуты… Сердце трещит, разрывается, бешено колотясь от безнадежности к надежде, от надежды к безнадежности.
Как же страшно – надеяться.
Роман не засыпает больше этим жутким сном под названием «кома»?! Роман – очнулся?
– Э, я пока не верю… Мыши, они глупые, глупее Лены… Ну-ка, поработаем… Поработаем, мышь… Вспоминай… Для малютки… для такого… Велики рога коровы… И копыта велики… И медведевы клыки… Если взять у пчелки жало…
– Тоже будет… толку… мало…
Показалось ли мне, что голос Романа сделался еще слабее?! Нет, нет, ведь он же отвечает!
– Молодцом, мышь… Ну же, работай! Дед Игнат в избе своей… Отыскал морковный клей… Из бутылки половинку…
– Вылил… ёжику… на спинку… Ната, я здесь.
– Работай. Говори. Вспоминай. – Огоньки в глазах Наташи колыхались, словно свечи под дуновением ветра. – Видишь, ёжик, возле ёлки…
– На земле… лежат… иголки… Охрану… усилили?
– А, вот как мы запели… Эдак я впрямь скоро поверю, что живой…
– Усилили… Усилили охрану, будь покоен! – Не выдержал Ник, сделав шаг вперед. – Ну, хочешь, я из комнаты в комнату стану под охраной переходить? Ты только…
– Боюсь, Ваше Величество, он вас пока не слышит, – проговорила Наташа обыкновенным голосом. – Сейчас кое-что проверим… Нелли, подойдите…
Я в мановение ока оказалась у изголовья ложа.
– Ну же… Еще капельку, Роман… Постарайся еще немного. Я прошу тебя… Лена здесь… Но ты должен услышать ее…
– Здесь?.. – Роман попытался обвести глазами помещение. Получалось плохо. – Ната… Кто здесь… еще?
Наташа кинула мне взгляд.
– Здесь я… – Я тихонько коснулась рукой холодного края плоской и маленькой подушки. – Роман… Ну хочешь… Хочешь, я больше не стану курить? Ведь тебе не нравится.
По его синеватым губам пробежала знакомая усмешка.
– Хорошо… – Глаза Наташи рассмеялись. – Ну, покажи мне, что слышишь Лену… Говорите, Нелли. Как я – на продолжение.
– Глаза орлиные глядели, – первым мне пришел в голову деньрожденьский разговор, – куда-то в сердца глубину… Он мне сказал… На той неделе…
– …я возвращаюсь… на войну93…
Голос оставался столь же слаб, но что-то изменилось. Исчезло, я ощущала это всеми струнками, чувство, будто Роман говорит издалека.
– С военных птиц ширококрылых
Мы будем молнии метать…
– Пусть я ходить …уже… не в силах…
Зато могу… еще… летать…
– Очень хорошо. Так что же, доктор? Что показывают высокоумные приборы?
– Показания выравниваются… – хрипло выдохнул Синицын. – Уже выровнялись… Думаю, теперь можно дать ему отдохнуть. Теперь это восстановит силы.
– А он не… – Я побоялась договорить.
– Опасности погружения в кому больше нет. – Врач меня, разумеется, понял.
– А теперь спи, мышь. Ночь же на дворе. – Наташа бережно выпустила руки Романа, правую, ту, в локоть которой не уходила игла, поднесла к лицу и поцеловала в середину ладони, как целуют детей. Тихо поднялась со стула. – Все будет хорошо. Спи.
– Не понимаю… – Синицын отер взмокшее лицо платком. – Что вы сделали? Что вы сделали и как?
– Если можно… доктор… немножко нашатырного спирта. – Наташа схватилась рукой за поручень медицинской каталки.
Но стекло уже хрустело – в руках сестры Елизаветы, моментально извлекшей ампулу из своей монашеской сумочки-кармана. Едкий запах не показался лишним и мне.
– Ах… – Наташа с жадностью поднесла стекляшку к лицу – в обеих ладонях, словно пила из них воду. – Благодарю.
Мы покинули палату: Ник, я, Наташа, сестра Елизавета, хирурги. Сестра, чье место занимала Наташа, вернулась к изголовью Романа.
Я бросила в дверях взгляд на лицо, поднятое неудобной подушкой. Оно уже не пугало, хотя так же глубоко запавшими казались глаза, так же резко проступали все черты.
Я спокойно шагнула за порог. Сегодня мне еще разрешат сюда возвращаться. Я вернусь совсем скоро. Я буду стеречь его сон.
– Ее надо срочно уложить, – деловито обратилась к Синицыну сестра Елизавета. – Уложить, дать и вколоть все, что полагается обычно… донорам.
– Я сразу поняла… что вы еще догадливее… чем кажетесь… сестра… – как-то беспомощно улыбнулась Наташа. Голос ее теперь прерывался так же, как только что – голос Романа.
– Вы все слышали, – Синицын кивнул двум младшим сестрам. – Быстрее!
Теперь Наташу подхватили уже под обе руки, увлекая по коридору. Мне показалось со спины, что на ней слишком просторна одежда.
– Что с ней?
– Недавно было тяжелое обострение арахноидита. Ей еще не позволено нарушать постельный режим.
– Боже… – Хирург обернулся к молодому коллеге. – Василий Степанович, вы сейчас возьмете все под свой контроль. Вызовите ее домашнего врача. Если понадобится – пусть займутся госпитализацией. На пульте вас пусть сменит Корнелюк.
– Да, Ваше Превосходительство.
– Леночка…
Сестра Елизавета провела рукой по моим волосам – от затылка к плечам. Она, только она, увидела сейчас, что я больше не держу себя в руках, что я вот-вот зарыдаю.
– Леночка… Вы еще не поняли, но все злое отступило. Подумайте… Все не зряшно. Государь невредим, и очевидно сейчас раздумывает, где бы сыскать уголок уединиться, не смущая сестер и не нарушая стерильности, с папиросой. И где бы эту папиросу среди ночи раздобыть.
– Истинная правда, сестра. – Ник улыбнулся, так же бледно, как Наташа. Ник снова был собой, Роман, еще недавно «вселившийся» в него, чтобы направлять – безжалостно и холодно – Роман из него «вышел». Ник снова был собой – открытым и великодушным. И, в первый раз в жизни, я видела слезы, стоявшие в его глазах. Слезы, крупные-крупные, только длинные «девчоночьи» ресницы еще мешали им покатиться по щекам. Но сию секунду сморгнет – и все лицо сделается мокрым.
Ник позволяет себе слабость. Значит – все плохое в самом деле отступило.
– Государь благополучен, Леночка. Роман Александрович будет жить. Да, Наталия Всеволодовна себе навредила немного, но с ней тоже не случится непоправимого. Вы ее знаете. Сами ответьте, почему она сейчас быстро придет в себя?
– Она не позволит, чтобы Роман жил с чувством вины, – уверенно ответила я. – Она выздоровеет.
– Вот видите… Вы в самом деле ее знаете. А я сейчас вас оставлю – пойду в больничную часовню, хоть помолюсь по-человечески. Радуйтесь. Все хорошо.
Вслед вышедшей на лестницу сестре Елизавете Синицын с ухарством махнул рукой, а затем извлек из карманов халата коробку лафермовых сигарет и армейскую зажигалку.
– Угощайтесь, Ваше Величество. С меня старшая сестра голову снимет, а и пусть. Сегодня – где хотим, там и курим.
Мне, конечно, никто ничего не предложил. Впрочем, я ведь, кажется, дала некое обещание?
– Уфф… – Ник с наслаждением затянулся чужой сигаретой – крепкой и короткой. – Еще немного – и я к этому выпрошу полпробирки медицинского спирта.
– Чем богаты, с нашим удовольствием.
Мужчины рассмеялись.
Лицо Ника вдруг вновь сделалось собранным. Он словно бы прислушивался к чему-то. Хотя прислушиваться было решительно не к чему. В больничных коридорах царила предутренняя тишина, разве что на стене, немного дальше от нас по коридору, тихо застрекотала миниатюрная панелька, передавая первый, самый ранний, выпуск новостей. Видимо, ее просто в суматохе забыли отключить на ночь.
– Уж сколько раз хотел запретить… Вовсе не место этим жужелицам в больнице, только сестер отвлекать, так ведь и пациенты просят, чтоб были… – недовольно начал хирург, но Ник предупреждающе вскинул свободную руку.
– … Еще не оглашены предварительные итоги результатов американского референдума, но, по данным социологических опросов, победа претендента Иоанна Кеннеди представляется очевидной. К изумлению экспертов, стихийные проявления народной поддержки Кеннеди наблюдаются не только, как и ожидалось, среди консервативных и преимущественно католических «дикси», но, лишь немногим в меньшей мере, и у «янки». Эту загадочную неожиданность некоторые склонны объяснять…
Ник встряхнул головой, теряя интерес к продолжению выпуска.
– Все движется своим чередом. Это победа. Это важная, это еще одна – победа.
Эпилог
Так вот, оказывается, где мы находились все это время! В нескольких троллейбусных минутах от моего дома.
На больничных часах пробило десять. Бодрое и прохладное осеннее утро задавало будничной суете Калужского тракта какой-то нарядный тон.
Голицынскую больницу, в сквер перед которой мы вышли немного проветриться, обступали вечные московские тополя и клены.
Перед этим мы немного пришли в себя, выпив, верно, чашек по пять кофе в служебной столовой, за компанию с заботливыми послушницами и сестрами. Ник кроме того одолел горячий ломоть филипповского калача со свежим маслом. Я еще не могла заставить себя есть, но кофе показался мне восхитителен.
– Сергей Иванович намерен вечером нас прогнать. – Ник усмехнулся. – Сказал, что покой надобен не только Брюсу, но и штату. Видимо, от нас и впрямь много хлопот. Да и тебе пора переодеться, Нелли. Знаешь, мне что-то напомнило это твое платье нынешней ночью. Что-то… не могу тебе передать… Далёкое. Дежавю? Что-то, уже бывшее, но не с нами и не у нас.
Я-то знала, где женщины отказываются переменить окровавленные платья. В минувшую ночь я совсем наяву соприкоснулась с этим невыносимым и немыслимым миром, я шагнула в него. Я из него вернулась. И, теперь уж вне сомнений, простилась с ним навсегда.
Восточный ветерок, к вёдрышку. Дня на два, не меньше.
– Ты говорил с Лерой?
– Еще нет, но ей уже обо всем доложили, конечно. Она в храме была всю ночь, в соборе в нашем94. Думаю, сейчас спит.
– Как жутко закончился ее праздник.
– Ничего. У нее теперь будут еще праздники. Много праздников, очень хороших.
Некоторое время мы стояли молча, наслаждаясь городским мирным шумом и восточным ветерком. Как всегда угадывая его намеренья, я ощущала, что Ник собирается сейчас с силами, чтобы сказать что-то важное. Скорее даже себе, чем мне.
Я спокойно ждала. Просто ждала.
– Какой урок я получил, Нелли. Какой жестокий урок!
Я заглянула ему в лицо. Осунувшийся, измученный, Ник сейчас вовсе не был хорош собой. Но ведь дорогие лица прекрасны всегда.
– Я, верно, нравился себе таким, разгуливающим без охраны, – с горечью продолжал он. – И я посмел не озаботиться своей безопасностью, зная, что веду скрытую войну на несколько фронтов. И вот результат моего легкомыслия: мой друг закрыл меня собой. Если бы Брюс погиб – вина была бы только на мне.
Мне невыносимо было слышать эту муку в его голосе.
– Первое, Роман не из тех, кто погибает. А второе, виновен в любом случае, прежде всего не ты, а этот Костриков-Киров. Ведь его можно казнить, Ник? В порядке исключения, ведь покушение на тебя – это особый казус. Его казнят, Николушка?
– Как трогательно умеет упрашивать наша валькирия. – И эта его улыбка вышла бледной и слабой. Но я радовалась и такой. – Нет, Нелли. Его не казнят. Своими бы руками убил за Брюса, поверь. И, ты видела, был к тому весьма близок. Но мой отец отменил смертную казнь тридцать лет назад. И никогда ее в России не будет.
На лицо его снова легла тень.
– Мне не более твоего хочется быть пощадливым. Еще ведь неизвестно, чем это все отольется Брюсу.
– С ним все будет хорошо. Я знаю. Я в самом деле это знаю. Двух месяцев не пройдет, как тебе вновь придется ломать голову, разбираясь с его очередной дуэлью.
Ник неожиданно обнял меня и поцеловал в губы. Я ответила на его поцелуй. Мои губы были ласковыми и спокойными, совершенно спокойными. Весь жар и весь холод, весь восторг и вся дрожь принадлежали теперь тому, кто, двумя этажами выше нас, опутанный паутиной трубок и проводов, еще сражался, но уже безусловно побеждал.
Как все странно, и как прекрасно жить на свете. И сестринская любовь – она ничем не меньше, чем любовь к возлюбленному. Она просто другая. Я всего лишь не сразу разобралась со своей жизнью. Такое случается. Единственно важное, что любовь моя к Нику ничуть не умалилась. А кроме того неизменна любовь моя к нему, как к моему Государю – она каким-то образом отделена от любви к человеку, но вместе с тем и переплетена с той.
Как все хорошо! Осенние листья сыплются под ноги золотом и медью. И небо лазурно до неправдоподобия. Где-то, в давних военных мемуарах, я прочитала, когда краски бывают так ярки. Роман и Ник – оба они живы, и обычный городской пейзаж слепит меня сказочной палитрой. Я счастлива? Да.
– Похоже на то, что я свободен.
– Эй, ты это что же – таким манером проверял?!
– А как еще возможно проверить?
Мы рассмеялись, глядя друг на друга. И в это мгновение, я знала наверное, оба мы ощутили себя теми драчливыми детьми из конной школы, которыми были в незапамятные времена – лет двенадцать назад.
IX.MMXV – XXXI.V.MMXVIПримечания
1
Если Первая является Последней, номера не нужны.
(обратно)2
Турбовинтовые двигатели в принципе не могут быть пригодны для космоса, поскольку в космосе нет воздуха.
(обратно)3
(с) НТ
(обратно)4
Коль скоро художественный замысел связан с датой «1984», автору приходится иной раз чуть-чуть «подгонять» под это число свои грезы. Кто-то из персонажей оказывается при этом несколько старше себя самого, кто-то – моложе. Уж кому как повезет. Отцу Рейну не повезло.
(обратно)5
В 1920-х гг. этот фасад обрушился, новый был надстроен в стиле неоклассицизма. Что придало зданию еще большую эклектику.
(обратно)6
«Гражданское управление (на правах губернского правления) на территории Китайской Восточной Железной Дороги. Административное отделение. Марта, 7 дня, 1907 года, N 514, Харбин, Манчжурия. (Штамп типографский). Удостоверение. Гражданским управлением разрешено представителю сего Константину Гавриловичу Чудинову иметь у себя на квартире револьвер, что подписью и приложением казенной печати удостоверяется. Удостоверение действительно по 1 января 1908 года. Помощник управляющего дорогой по гражданской части генерал-лейтенант в отставке (подпись неразборчива). Начальник отделения (подпись неразборчива). (Печать)». Упоминаемый выше наган был во время обыска тайком вынесен из дома и брошен в колодец маленьким сыном Константина Гавриловича. Что, впрочем, не помогло.
(обратно)7
«Не приключится тебе зло, и бич не приблизится к шатру твоему». 90:10 (лат.)
(обратно)8
Аминь. (франц).
(обратно)9
РГАСПИ, ф. 2, оп. 2, д. 380 – автограф.
(обратно)10
Писатель Максим Горький откликнулся на казнь Ленина из-за границы статьей «Убийцы!», где проклинал новые власти за «хладнокровную жестокость». Когда корреспондент «International Herald Tribune» (первое иностранное издание, взявшее интервью у Правителя) сослался на Горького, Колчак пожал плечами: «Если жестокость необходима, лучше ее хладнокровная разновидность, чем яростная. Нет ничего страшнее палача с чувством». Затем Правитель спросил у журналиста, согласится ли издание, прежде, чем продолжить разговор о жестокости, опубликовать у себя выдержки из отчетов Комиссии Мейнгардта по расследованию преступлений большевизма. «Тогда вы, быть может, и будете готовы к обсуждению этого вопроса. А покуда страна лежит в руинах. Я не смогу в несколько месяцев преодолеть недостаток продовольствия и угля. Но людям будет легче это перетерпеть, если напитать их справедливостью».
(обратно)11
Подробнее – в научно-популярном фильме «Узники Пермского моря», «Ленфильм», 1970 г., реж. Т. И. Иовлева.
(обратно)12
Подробнее об образовательной системе – см. примечание к гл. XVII
(обратно)13
Жоакен Барранд (1799—1883) – известный палеонтолог и геолог, автор классического труда «Systeme silurien du centre de la Bohème» (1852). Воспитатель и учитель графа Анри де Шамбора (Генриха V) сопровождавший его всю жизнь в изгнании.
(обратно)14
С эстонскими названиями все на редкость непросто. Они часто идут параллельно, в том числе и в бумагах. Русский житель этого города скажет «Ревель», эстонец чаще употребит название «Таллин». А вот «Колывань» так и не прижилась.
(обратно)15
Радушная хозяйка – эст.
(обратно)16
Емкий термин «антисистема» ввел у нас в обращение Л.Н.Гумилев. Он ли придумал его и в иных обстоятельствах – не ведомо.
(обратно)17
Церковь воинствующая (лат).
(обратно)18
Само собою, что ведущая авиастроительная компания в Российской Империи носит имя И.И.Сикорского, всю жизнь посвятившего развитию отечественного воздухоплавания.
(обратно)19
Ради удобства читателя остальной текст дан в новой орфографии. Но для героини существует только «старая». Периодические попытки либералов повторить реформу общество встречает с негодованием, поскольку орфографическая реформа слишком ассоциируется с годами красного террора.
(обратно)20
Елизавете в декабре исполнится одиннадцать лет. Осенью 1984-го она пойдет в III класс гимназии. В отличие от закрытых институтов, в открытых гимназиях классы нумеруются по нарастающей, а не по убывающей, как было и в Российской Империи. Что, конечно, вносит некоторую путаницу, но не столь существенную, чтобы все переиначивать. Ведь каждый считает правильной систему своего учебного заведения. В гимназии (как и в институты) поступают в возрасте девяти лет, после вступительных экзаменов. Очень развита система частных (платных) учебных заведений для детей младшего возраста, они чрезвычайно разнятся по методикам преподавания и программам. Единственное требование к ним – способность ребенка сдать вступительный экзамен. Отдавать ли ребенка в частные учебные детские заведения – решение родителей. Гимназическая программа немного отличается от институтской, но обе установлены Министерством Просвещения. Гимназии и институты – исключительно государственные, учебные пособия едины и утверждены Министерством Просвещения. Напротив, в Университетах и других высших учебных заведениях преподаватели имеют право личного выбора учебной литературы. Также государственными являются реальные училища. Церковно-приходские школы очень популярны в сельской местности, к их помощи прибегают те многочисленные семьи, которым нежелательно на несколько лет отстранять детей от вовлеченности в семейные предприятия, отсылая их в городские интернаты. Они существуют в самых небольших селениях, достижимы на автомобиле с любого хутора. В городах же церковно-приходские школы предназначены для учащихся, не желающих либо неспособных одолеть сложную программу иных учебных заведений. Они являются церковно-государственными, в чем нет противоречия, поскольку Церковь не отделена от государства. Учебные пособия в них также унифицированы Министерством, а курс теперь сводится не к четырем, а к шести классам. Но это также весьма качественное образование. С 1950 года государственное образование в Российской Империи (то есть среднее и высшее) бесплатно. Высшее (университетское) образование получает не более 30% населения. К примеру, для того, чтобы начать карьеру государственного чиновника, достаточно закончить гимназию. Бывают, конечно, отдельные случаи, когда выбор образовательного направления оказывается ошибочен. (Родители-хуторяне не разглядели вовремя способности ребенка к наукам). Эти оказии исправимы, хотя и связаны с немалыми хлопотами: досдачей необходимых предметов, отставанием на курс от ровесников и т. п. Это является темой постоянных газетных обсуждений.
(обратно)21
Николай III не является прямым потомком святого мученика Николая II. Династия восстановлена через ветвь Михайловичей. Фельдмаршал Михаил Николаевич был сыном Николая I. Сын Михаила Николаевича – Александр Михайлович. Сын последнего, Андрей Александрович, в отличие от отца был не Великим Князем, но просто князем Романовым, так как Императору Николаю доводился лишь внуком. (Впрочем, о его рождении было оповещено все же не 15-ю пушечными залпами, но 21-м). Дальше в нашем мире, к России не ласковом, старшим ребенком Андрея Александровича явилась Ксения Андреевна. Тот мир щедрей, и свет увидели близнецы: Ксения Андреевна и Павел Андреевич. Последний, Император Павел II, отец нынешнего правящего.
(обратно)22
Юра Дыдоров погиб во время страшного отступления армии, когда тиф косил северо-западников, отступающих вместе с женами и детьми, преданных союзниками.
(обратно)23
Кощунственно разрушен модернистами в 2000-х годах. В нашем мире II Ватиканский собор состоялся.
(обратно)24
Священный Союз в 1984 году состоит из трех блоков. Православные монархии, католические монархии, протестантские монархии. Последний блок является скрыто проблемным, с чем, в частности, связан Мальтийский инцидент 1964 года. Формально протестантский блок разделяет концепцию и идеологию Священного Союза, движется в русле его политики. Но в протестантских странах, тем не менее, не запрещены законом масонские ложи, коммунистические партии. В протестантских странах существует формальный запрет на искусственный фос-куш, но таковой достаточно часто обходится расширенным толкованием «медицинских показаний». Это также часто вызывает большое напряжение.
(обратно)25
Чрезвычайно сложным юридическим казусом было решение статуса Эстонии. С одной стороны независимость Эстонии была уже формально провозглашена в революционном хаосе. СЗА считалась с эстонскими частями как с союзными, хотя, вместе с тем, никогда не признавала эстонской независимости официально, до установления законной российской власти, которая, единственно, и могла разбираться с этим вопросом. Это служило постоянным поводом для шантажа. Известно высказывание Лайдонера «Дайте независимость, получите бронепоезд» (февраль 1919). Однако фактически армии были союзническими. Вместе с тем, при жесткой тенденции к монархической реставрации, охватившей Европу к тридцатым годам, представлялось невозможным признание республики у себя под боком. В конце концов всех устроил исключительный статус в составе Российской Империи. Нет необходимости уточнять, что латыши, воевавшие преимущественно на стороне большевиков, ничего подобного не получили. Литва же вернулась к естественной исторической государственности, хотя правовое территориальное регулирование между Литвой и Польшей также было довольно-таки непростым.
(обратно)26
У нас вопросом замены в России золотого стандарта серебряным занимался в Париже экономист-эмигрант И. Волков. По понятным причинам его разработки не пригодились.
(обратно)27
Названия политических объединений V Думы были новыми. Прежде всего, почти исчезло слово «партия», из слишком уж неприятных воспоминаний. Ну и в целом все желали явить собой целостность, а не часть. Отступим здесь немного, дабы обрисовать картину политической жизни. Прежде всего, политические объединения тесно связаны с всевозможными общественными организациями. Давно установилась традиция, какие общественные организации поддерживают какие объединения. О чем ниже. Но в любой момент общественная организация может выйти на политическую арену самостоятельно, хоть то любители велосипедных гонок либо защитники домашних животных. Базовые требования таковы: 1.Численность не менее тысячи человек, имеющих срок пребывания каждого из них в данной организации не менее 3 —х лет (малого выборного цикла). 2. Дееспособность и отсутствие поражения в правах руководителей. 3.Подписание руководителями Декларации о благонамерении. (Чрезвычайно серьезно разработанный документ, нарушение пунктов которого грозит подписавшим уголовной ответственностью). Впрочем, как уже было упомянуто, общественные организации чаще не выступают самостоятельно, но поддерживают политические объединения. Приведем несколько примеров. Партия «Великая Россия» (в просторечье «великороссы» либо «столыпинцы») обычно опирается на Русское Техническое общество и систему академических институтов. (Родители Нелли, таким образом, голосуют обыкновенно за ВР, как принято в Академии), на Дальневосточную Строительную Корпорацию, Союз Землевладельцев Центральной России. Соперничающий с нею «Прогрессивный Блок» (в просторечье «прогрессисты») связан с Всероссийским Союзом Промышленников и Предпринимателей, также с Добровольным Обществом кооператоров. (Как один из основателей этого общества, дед Нелли, Константин Гавриилович, в середине столетия голосовал за ПБ.) За ПБ голосует и Энергетическая ассоциация. «Русское Собрание» («славянофилы», «памятники»), восходящее к Союзу Русского Народа, находит своих избирателей в популярном Обществе Охраны Памятников (основано в 1966 году под патронажем Великих Князей), а также во всевозможных военных ветеранских клубах. Самостоятельно выступает организация «Народная защита», окормляемая Санкт-Петербургским Братством св. вмц. Анастасии Узорорешительницы. На 1984 год имеет всего 12 гласных, но думский Комитет по положению заключенных состоит полностью из ее членов. (В целом православные братства (состоящие из мирян) имеют довольно большой вес в политических раскладах. Участие духовенства в политической деятельности не принято. Единственное объединение, в названии которого фигурирует слово «партия», это одиозная «Партия свободы», в ироническом просторечье «милюлюки». В нее и входят все упомянутые Джульетты Латыповы. Никогда не набирает больше трех гласных, но производит чрезвычайно много шуму. По сути всем понятно, что партия – криптореспубликанская, и только милосердие Государя удерживает здесь суд от разбирательства по регулярному нарушению Декларации.
(обратно)28
Вся исполнительная власть, как и руководство вооруженными силами находится в РИ, разумеется, под прямым руководством монарха. Монарх единолично решает вопросы войны и мира, определяет курс внешней политики, объявляет чрезвычайное положение. Как и в четырех предыдущих созывах, роль верхней палаты играет Государственный Совет, одобряющий либо принимающий решения нижней палаты. В 1946-м году Дума единственный раз в новой истории РИ была распущена Императором.
(обратно)29
У нас упомянутой особы в 1984-м году еще далеко нет на свете. Но совершенно очевидно, что там эта особа родилась раньше.
(обратно)30
Дроздовский полк, Талабский полк, Марковский полк – ныне части Гвардии. Традиционно дроздовцы стоят на караулах в Москве, в Кремле, талабцы же – в столице, в Зимнем дворце.
(обратно)31
До XVIII столетия входить во дворец через Благовещенский подъезд, выходящий на паперть собора, позволялось только православным.
(обратно)32
В Москве нет такого непостижного уму явления, как единая сеть парового отопления. Нет и высотных домов, ибо учтены карстовые особенности московской почвы. Дом на шесть либо уж восемь этажей легко отапливается собственной котельной.
(обратно)33
Восстановленная древняя резиденция ирландских королей.
(обратно)34
«Согласие и веселие» – девиз Английского клуба.
(обратно)35
В бытовых привычках, как читатель уже мог заметить, Нелли весьма демократична, но всему есть мера. Если она собирается в Кремль, то наряд ее предсказуем, и, хотя она и ехала не из дому, все необходимое в ее чемоданчике нашлось. Днем для дамы уместен английский съют, обыкновенно серый либо цвета беж, с довольно длинной юбкой, однотонная блузка, перчатки, скромная шляпка. Будучи блондинкой, бежевого цвета, Нелли, разумеется, избегает.
(обратно)36
Автомобилисты автора замучили. Ну, нету там нулевого промилле! Где города не гипертрофированы, уличное же движение много умереннее, необходимости в нем нет. Во Франции и здесь нулевого промилле не установлено, а количество автокатастроф между тем меньше, чем у нас. Роман после ужина выпьет кофе – и спокойно сядет за руль.
(обратно)37
Тамошний «оливье» немного отличается от того, что понимается под сим словом здесь.
(обратно)38
Автомат В. Г. Федорова, изобретенный еще в 1916-м году, был поставлен на промышленное производство в Российской Империи значительно раньше, чем здесь – автомат Калашникова либо штурмовое ружье Г. Шмайссера.
(обратно)39
Обращение «господин» не применяется к титулованным особам, за исключением барона.
(обратно)40
Роман выбрал в самом деле очень хороший ресторан, коль скоро там еще держатся обычая подавать шампанское в «дамских» либо «мужских» бокалах. Забывается обычай, забывается…
(обратно)41
Александр Дюма. Граф Монте-Кристо.
(обратно)42
По мемориальному изданию «Московская власть и городские головы», М., 1997.
(обратно)43
По-нанайски – «березовая роща». У нас на этом же месте располагается город Комсомольск на Амуре, который было бы вернее назвать Зэковск на Амуре.
(обратно)44
Могилёвский архидиоцез по-прежнему возглавляет католическую общину Российской Империи.
(обратно)45
Во избежание каких-либо юридических казусов, некий текст дан иными словами, при полном сохранении смысла. В нашем мире автор неизъяснимых строк является профессором одного из ведущих высших учебных заведений, частый гость телевизионных программ и глава молодежного политического движения.
(обратно)46
И здесь автор опять же не делает себе труда что-либо сочинять за Энтропию. Все «философствования» почерпнуты из нашей жизни, вот только в нашей жизни их тысячекратно больше. Там – редкие грязные ручейки, здесь – сокрушительные мутные потоки безумия.
(обратно)47
Кальку с иных языков, обращение «дамы и господа», что гуляет на постсоветском пространстве, конечно не употребляют. Русское обращение «господа» в равной мере относится и к женщинам, и к мужчинам. В данном случае присутствуют «господин Эскин» и «госпожа Чудинова», т.е. «господа». Вспомним у Марины Цветаевой: «Так знакомьтесь же, господа!» (где описывается встреча двух дам).
(обратно)48
Превращена в коммунальную, хозяева доживали век в единственной оставленной им из десяти комнате.
(обратно)49
Поскольку чаем потчуют в гостиных, эта удобнейшая вещь, даром что полвека как сделавшаяся электрической, из употребления отнюдь не вышла, но стоит там на особой подставке, так, чтобы хозяйке было удобно до него в любой момент дотянуться. Чай в гостиной собственноручно разливает либо хозяйка, либо ей помогает более молодая представительница семьи. Горничная, прислуживающая за чаепитием, неуместна, выходить на кухню за каждой новой чашкой страшно вообразить, сколь обременительно, чайник с кипятком на изящном кофейном столике выглядел бы чудовищно.
(обратно)50
Автор давно замечает, что здесь биография художника вытеснена у многих одаренных знакомцев иными поприщами. Здесь, но не там. Любезный читатель, много ли картин у вас на стенах? Там же – гравюры, пастели, акварели, масло, тушь, темпера, карандаш, причем в немалом количестве, являются такой же безусловной принадлежностью интерьера, как книги.
(обратно)51
« – Может быть, вы все же сойдетесь на извинениях, господа? – Ни в коем случае! – Нет! Вадим подал знак. Противники начали медленно сходиться. Юрий поднимал уже наган: в следующее мгновение Вишневский с изумлением увидел, что маска его лица неожиданно треснула под пробежавшей судорогой. Раздался выстрел: Сережина пуля распорола сукно шинели у левого плеча Юрия. Вслед за этим Юрий резко направил дуло вверх и выстрелил куда-то к вершинам сосен, словно салютуя. – Я требую, чтобы этот господин стрелял еще! – срывающимся от возмущения голосом закричал Сережа. – Стреляйте снова, Некрасов, – с трудом выговаривая слова, проговорил потрясенный случившимся Вадим. – Я отказываюсь. – Некрасов, казалось, испытывал большое облегчение и уже владел собой. – В таком случае я вызываю вас вторично! – Оставим, прапорщик. – И Юрий просто и убедительно, словно готовил заранее, произнес ту единственную фразу, которая могла унять Сережин гнев: – Haс и без того слишком мало».
(обратно)52
« – Ну что, не надумал разговориться? Голос и вид человека за столом не сразу, словно откуда-то издалека проникли в сознание Сережи: к горлу подступил комок тошноты. Словно сама болезнь, бродившая по телу кругами – от дырявого легкого до неподживающей ноги, болезнь, обволакивающая мозг липкой паутиной лихорадки, тошнотворно и мучительно перехватила дыхание. Болезнь и грязь, второе делает первое еще более гадким. Но ведь это – почти отдых, когда так дурно, это дает единственную возможность не думать о том, о чем думать невыносимо».
(обратно)53
В этой нашей жизни преступник дожил до 95 лет. Запись на Facebook на странице Авигдора Эскина от 6 декабря 2013 года: «Ушел из жизни Нельсон Мандела. Кровавый террорист, несущий ответственность за гибель десятков тысяч невинных людей. Он так любил петь „убей бура, убей белого!“ И его последователи шли убивать. Мандела превратил цветущую ЮАР в кошмарное место. Он был одной из самых зловещих фигур минувшего века. Мир стал лучше после того, как Мандела покинул его». (цитируется в сокращении)
(обратно)54
Сергей Копыткин. Песни о войне. 1915, Петроград. Здесь постыдным для нас образом преданные забвению, стихи этого поэта-воина в Российской Империи широко известны.
(обратно)55
Константинополь возвращен христианскому миру в 1945 году, без единого выстрела. Турция осознала, что не способна противопоставить себя мощи Священного Союза и добровольно подписала акт передачи города с прилегающими территориями в объединенное владение Российской Империи и Греции. Первая Божественная Литургия в храме Святой Софии была отслужена 8 мая по Юлианскому стилю, при большом стечении православных верующих. К этому дню минареты уже были разобраны.
(обратно)56
Е.И.Смышляева – мобилизованная юная студентка-медичка, погибла в 1942 году при бомбежке санитарного поезда.
(обратно)57
Ветреная (эст).
(обратно)58
Это не ошибка и не опечатка.
(обратно)59
Стоит вспомнить, что по ту сторону 60-е годы ХХ века не узнали ни движения хиппи, ни порожденного им массового интереса европейцев к экзотическим религиям. Поэтому интерес Нины Владимировны к Индии имеет характер, что называется, штучный. Как весьма удивительное явление нечто подобное описывает в 20-х гг. Сомерсет Моэм в романе «Лезвие бритвы» в образе Ларри Даррела. Сорок лет спустя Моэм бы не удивился и ничего интересного в Дарреле не нашел. Но это здесь, а не там.
(обратно)60
Подмосковное имение Трубецких на р. Воре, возведенное в стиле ампир. Место, где гостили Чайковский и Васнецов. В 1917-м году было подожжено, усадьба сгорела почти полностью, уцелела церковь. Восстановлено в 1930-х гг.
(обратно)61
Неизменно потрясает воображение низость тех, кто разглагольствует и даже пишет о том, что в конце тридцатых годов «расстреливали только ленинскую гвардию». Ни бывший блистательный синий кирасир, ни земец из провинции к «ленинской гвардии» уж никак не относились. В конце тридцатых годов, ровно так же, как и в конце десятых, убивали лучших русских людей. Вместе с кн. Владимир Сергеевичем была расстреляна его двадцатилетняя (старшая) дочь кн. Варвара Владимировна. Не случайно попала под штык революционного матроса, даже не сгинула в безумствах ранней Чрезвычайки, нет, юная девушка была убита совершенно официально, подотчетно, сообразно тогдашней установившейся системе. О каком примирении, о каком прощении можно тут говорить?
(обратно)62
Сия династия, некогда сыгравшая огромную историческую роль, безмерно романтизируется в нашем мире как масонами наподобие Брауна, так и российскими полубезумными почвенниками. В действительности же последние ее представители, к сожалению, столь выродились, что ездили на телегах – неслыханный позор для ноблей. Они получили прозванье «ленивые короли». Вечных династий не бывает, важно лишь то, чтобы на смену угасающим шли богобоязненные и доблестные.
(обратно)63
Боюсь, что эта игра слов не вполне понятна нам. Ведь из нашего обихода давно ушло выражение «колокол лить», обозначающее «лгать». Между тем оно восходит ко временам давних суеверий: чем больше неправдоподобных слухов распущено во время отливания колокола, тем громче будет звучанье. Нелли же, что понятно всякому из ее окружения, подумала сейчас об Александре Герцене.
(обратно)64
Увы, то и дело приходится говорить о том, что, вроде бы, должно подразумеваться без пояснений. Золотой портсигар не есть принадлежность к привилегированному сословию. Если мы вспомним «Театр» Сомерсета Моэма, то Джулия удивляется: приличного вида господин – а портсигар серебряный. Деталь на грани чудачества. Впрочем, Джулию успокаивает наличие маленького золотого герба на портсигаре собеседника. Портсигар (наряду со столовыми приборами, бельем постельным и нательным, бумагой для писем и проч.) относится к предметам, на которых герб (у всех, кто его имеет) непременно наличествует. Прочие метят указанные предметы инициалами.
(обратно)65
«Благословляя царей». Папская энциклика получает название от первых слов в этом обращении.
(обратно)66
(книга 2 Царств 23, 2)
(обратно)67
Папа, конечно, не может цитировать Данте, но надлежит помнить, что наша героиня пересказывает энциклику собственными словами.
(обратно)68
Но последнее трагическое изгнание Святой Стеклянницы (восстановленной) увидел уже ХХ век. В 1906 году, когда в государственном устройстве Франции победили лаицисты, тогдашний архиепископ Реймса, кардинал Луи-Анри-Жозеф Люсон был вынужден унести священный фиал из базилики, где все теперь сделалось «государственной собственностью». Странно ли, что через несколько лет началась одна из самых чудовищных войн? Но там, где живет Нелли, кардинал Люсон дожил до счастливого дня, до рубежа 30-х гг. дожил до торжественного водворения Стеклянницы обратно и до (собственной рукой) использования ее на коронации Хайме Сеговийского (Анри де Бурбона).
(обратно)69
Благословляя царей, Господь являет свою любовь народам. (лат.)
(обратно)70
Банкноты с портретами «отцов-основателей» начали выпускаться в США до временной развилки. Но героине данной книги приходит на ум не десятидолларовая купюра, а собственно портрет, с которого на купюру переведено изображение. Это совершенно понятно: портрет Нелли запомнила из учебников, долларовых же купюр никогда не держала в руках, ибо не посещала США.
(обратно)71
Будем непринужденны? (франц.)
(обратно)72
«Россия». Курск. 1919. № 8 от 10 октября. Цитируется в сокращении.
(обратно)73
В советское время круги, которые мы приблизительно обозначим авторами и аудиторией журнала «Наш современник», изо всех сил раздували тему «феврализма» Белого движения, практически противопоставляя белых Царственным мученикам, якобы «преданным» ими. Особенно сладострастно муссируется ими роль Л.Г.Корнилова в революционных событиях. Нужды нет, что свои грехи искупил праведно пролитой кровью и Корнилов. Но, сознательно или бессознательно идя на подтасовки и искажения фактов, последователи этого течения создали лживую (и по сей день популярную) парадоксальную картину: хороший Царь и плохие белые. Нужды нет, им требовалась и требуется именно такая трактовка событий, чтобы обосновать свой сталинизм – латентный либо (чаще) явный.
(обратно)74
Лестовкой, или же лествицей называются кожаные четки. Марковцы носили вервицы, шерстяные.
(обратно)75
Не лишнее тут упомянуть, что «у нас» JFK-J, столь любимый всей страной с младенчества, погиб довольно молодым и бездетным, при обстоятельствах весьма темных и позволяющих предположить злой умысел.
(обратно)76
Дочь битвы (иронич.), баталистка.
(обратно)77
Нелли, конечно, подразумевает Люцифера.
(обратно)78
В Российской Империи этот маленький христианский народ, потомки вавилонян, традиционно искал спасения. Геноцид ассирийцев проводился османами в середине XIX столетия, в конце его, и уже в XX веке, в годы Мировой войны. Ассирийцы в России традиционно были сапожниками. Что самое интересное, это отчасти сохранилось и в нашем мире, причем – до сих пор. Но там Нелли, конечно же, шьет обувь у постоянного мастера, знакомого с детства. Ибо нелепо же предположить, что Нелли покупает готовую обувь.
(обратно)79
Смышляевские украшения сданы в «Торгсин», дабы оплатить обучение троих детей Смышляевых в старших классах школы. При Сталине перед войной школьное обучение было платным.
(обратно)80
У нас – разрушена в 1930 году.
(обратно)81
При большевиках Ф.О.Шехтель вынужден был разрабатывать проект мавзолея (что интересно, эстетика этого проекта сходна со Щусевской, очевидно, тон явно задавали не сами архитекторы), проект крематория и т. п. Впрочем, великий архитектор достаточно скоро заболел и умер, в 1926-м году, в нищете. Из предсмертного письма: «Моя жена стара и немощна, дочь больная (туберкулёз лёгких) и чем она будет существовать – я не знаю».
(обратно)82
Как мы понимаем, водитель и шофер – не одно и то же.
(обратно)83
Казус не «мундирный», все в штатском.
(обратно)84
Убита своим дядей, Иоанном IV, в 1569 году. Трогательный облик девочки, отражающий черты Палеологов, дошел до нас в Герасимовской реконструкции. Небезынтересно, что поклонники сего царя, как-то раз пытались «поймать» автора данной книги, указывая, что Мария Старицкая вышла замуж за датского Магнуса, то есть судьба маленькой жертвы Грозного является «выдумкой». Забавно: современные люди нимало не удивляются, если в одной семье и отца и сына зовут, к примеру, Александром. Но во времена, когда людей называли по святцам, часто совпадали также имена братьев и сестер, что на наш слух звучит необычно. Кстати, нужды нет говорить, что в возрожденной Российской Империи фигура этого царя столь же непопулярна, как и в Империи дореволюционной, не нашедшей для него места в Новгородском памятнике Микешина и Шредера. Век, не знавший сталинизма, не столкнулся и с парадоксальным увлечением этой жутковатой личностью.
(обратно)85
Термин, данный по аналогии с Нантскими Нуайядами, массовыми утоплениями мирных жителей во времена Французской революции. У нас в исторической науке его нет, ибо Астраханью почти не занимались.
(обратно)86
Помещение в личных покоях Зимнего дворца.
(обратно)87
В решительные для себя минуты красные не говорят «благородных» слов. Низменное высоким не бывает. Опасность, как ничто иное, обнажает истинную суть. Из письма ген. В. Горлова М. Н. Гирсу из Варшавы: «…Я разговаривал с городовым, поддерживавшим раненого Войкова. Тут произошла характерная сцена: когда Коверда проходил мимо отдать себя в руки полиции, Войков обругал его по извощичи. Умирал не русский посланник, а апаш и чекист.» ЦА СВР РФ. Арх.№707. Л.46—47.
(обратно)88
«Ты позабудешь Генриетту» (франц.)
(обратно)89
Реальный эпизод (один из множества) из периода раннего террора.
(обратно)90
Стихотворение Н. В. Арнольда (потомка С.Т.Аксакова).
(обратно)91
Из воспоминаний современников.
(обратно)92
Вне всякого сомнения, эти стихи написаны не только у нас, но и там. Мне даже кажется, что они – несомненный отблеск того мира в нашем. И что судьба поэта Леонида Куликова сложилась там не так трагично.
(обратно)93
Здесь снова приводятся стихи Сергея Копыткина
(обратно)94
Успенском, разумеется.
(обратно)









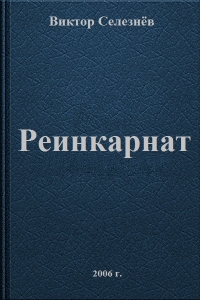

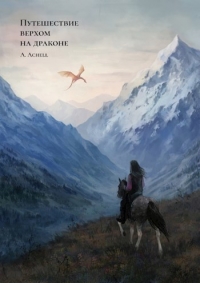
Комментарии к книге «Побѣдители», Елена Петровна Чудинова
Всего 0 комментариев