Наталия Новаш И всё, что будет после…
Пролог
Ежиха двигалась на свет звезды. Когда-то она поднимала голову вверх и отыскивала в высоте звезду, но это было очень давно – не было леса, и не было этих деревьев, и ветки не заслоняли небо… Ей помнилась лишь вода – тёплое море внизу и горячий песок над ним. Море высохло, став болотом. Потом наступили льды, и не передать, сколько длилась эта тягостная зима, но ежиха пережила и её. Ледник ушёл, сравняв гору и оставив после себя холм и озеро под холмом. По другую сторону вытянутого в длину холма, на месте болота, тоже синело теперь чистое ледяное озеро, и вся её жизнь прошла на этом холме между двумя озерами. Сколько было у неё ежат!.. Но ни один из них не стал таким, как она. Почему? – спрашивала она звезду. Больше некого было спросить. Звезда молчала. И сейчас, не поднимая головы, ежиха знала: звезда там, впереди, и, нюхом чуя свой путь, карабкалась вверх по склону – разрывая лапами коричневые пласты слежавшихся прошлогодних листьев и прелую землю, приминая брюхом жёсткие сердцевидные листья печёночницы (отцветших ранней весной голубых подснежников), – они выпрямлялись из-под неё и вставали, как ни в чём не бывало, гибкие и зелёные, – она ползла, и память, накатывая волнами, вставала перед нею, как яркая, живая картина.
Она ползла вверх всё быстрей, продираясь сквозь дрок и высокий, душистый, полный спелых ягод черничник. Она бодрствовала уже давно – с тех пор, как там, в левой части неба, над кронами серебристых бальзамических тополей, показалась луна – огромный приплюснутый желтый глаз невиданного светляка – и, быстро всходя над «бальсаном», начинала свой путь по небу: вправо и вверх, туда, где над озером, над корявой сосной сияла Большая Озёрная Звезда. И теперь, поднимая голову ввысь, ежиха встречала в ветвях звезду. Ежиха знала, что её путь так же определён, как путь луны – он вёл её вправо и вверх в гору, к сияющему маяку. И каждую ночь, упорно взбираясь по склону и неизменно отыскивая свет звезды, она ещё не помнила и не понимала, куда и зачем ведёт её этот свет… Но, поднявшись на самый верх и увидев внизу рассечённое лунной дорожкой озеро, она уже очень хорошо знала, куда и зачем привёл её этот путь.
Остановившись передохнуть и вырвавшись из собственной полосы шума, только мгновение слышала она тишину ночи. И вслушиваясь в ближний треск цикад – всё явственней начинала ощущать, как шумит весь лес. Множество ежей справа и слева от неё, разрывая лапами сухую листву, стремились в гору – такая же полоса шума за каждым из них с упорством работающей, сопящей жизни тянулась к вершине… Их путь был так же определён, как путь луны.
Ежиха была на самом верху, на песчаной сухой дороге. Шум множества ползущих ежей оставался у нее за спиной, в ночном, полном жизнью лесу, а впереди внизу, у подножья холма блестело озеро, рассеченное серебряной дорожкой луны. И справа весь склон холма – безлесый пологий берег, поросший здесь, наверху, и у самой воды раскидистыми деревьями и погруженный сейчас в темноту ночи, – вспыхивал огнями костров.
Звёзды мерцали над людскими кострами, и луна, проделав уже половину ночного пути по небу, стояла теперь в зените: прямо перед ежихой и над кострами людей, клонясь к одинокой Большой Звезде, что сияла над озером, над корявой сосной, чью верхушку искалечило молниями в грозу. И с тех пор дерево, как исполинский краб, опускало на берег могучие ветки-руки, словно пыталось найти опору, чтобы не упасть.
В этот час все ежи расползались к кострам, которые, один за другим, начинали гаснуть. Но ежиха не торопилась. Она была самой старой и очень умной ежихой и знала, что вот этот – самый большой костер, горевший сейчас там внизу под огромной ивой, – ее костер, он погаснет самым последним, когда все ежи в страхе перед рассветом расползутся по своим норам.
Она давно уже не боялась рассвета и не боялась людей, много раз попадавшая в их руки. Люди, жившие у этих костров, никогда не были злыми. Казалось, они ловили её только затем, чтобы наколоть кусок яблока на иголки или сунуть под нос блюдечко с молоком. Но никогда, даже привыкнув к людям, она не брала угощение из их рук, как не взяла его в тот первый раз, смертельно задрожав от страха… Она долго сторонилась людей. Но однажды… это тоже было очень давно…
– Нельзя, паночку! Пани злуваться буде… – голос звучал так мягко и очень близко. И точно издалека – словно большое дерево встревожено склонилось над маленьким. И когда детские пальцы подхватили её под брюшко, она не успела сжаться и услышала этот другой – звонкий голос – совсем близко. И руки в белоснежных манжетах прижали её к груди, ткнули носом в приятную белизну, в ворох пахнущих чем-то приятным кружев…
Потом её часто гладили ребячьи пальцы. Но это были другие дети в жёстких льняных рубашках, пахнувшие приятно, но по-другому. И теперь она уже прятала морду в иголки, сворачивалась калачиком – после того, как большой человек с солдатской сумкой научил её бояться…
В тот день она по привычке ждала в кустах у дороги. Шаги послышались, как обычно, но это были не маленький паныч с няней, и ветер нес ей другие запахи. Хлебом, дымом и табаком пахло от двух бродяг.
Люди остановились. Удивленно фыркая, она ткнулась в обутую в лапоть ногу того, кто нёс за спиной ранец и старые солдатские сапоги. Это был солдат, возвращавшийся с войны, которому очень надоело воевать.
– Жывёлина… – сказал его спутник – босой, в серой льняной рубахе – и снял с головы свою жёлтую соломенную шляпу. – Глянь, яка!
Босой пошевелил пальцами – ежиха не испугалась. Он наклонился и, тронув ежиху за нос, с улыбкой взглянул на нахмурившегося солдата.
Ежиха уже сидела в шляпе.
– Не балуй! – строго сказал солдат, но спутник успел сунуть руку в мешок, перекинутый через плечо. Запахло хлебом и молоком.
– Отпусти, брат! Лепш хлеба не нюхать, да неволи не знать…
Второй уже отломил горбушку:
– Глядзи, не баицца!
– А ты бойся! У-ухх! – крикнул вдруг солдат. – Человека, брат, бояться надо, если жить хочешь! – и он громко заколотил сапогами о кожаный ранец, а потом приподнял за иголки сжавшийся в миг комочек и бросил в придорожный папоротник.
Она помнила урок солдата. И давно уже, не ведая страха к чему бы то ни было, но, помня о других ежах и не желая поэтому приучать людей, никогда не брала лакомстава из их рук, хоть и очень порой хотелось сделать приятное людским детям. Те так искренне огорчались: почему она не пьёт молока? А она удивлялась тоже: «Как не поймут? Какое же молоко – если страх, если смерть, если неволя?»
Сама она не боялась людей, ибо знала их мысли. Любила подслушивать в темноте их длинные разговоры. А потом… Как случилось, что стала вдруг понимать их язык? Людской язык, которому так и не смогла обучить других. Сколько было у неё ежат – и все они вырастали, становясь взрослыми ежами – чужими и непонимающими, как трава и деревья. А она по-прежнему оставалась одна. Она и люди со своими кострами – люди, которые уходили и приходили теперь каждое лето. Как тысячи лет назад…
И целую вечность ещё до того, как в первый раз пришли люди, она была совершенно одна. С тех пор, как мир стал таким, как есть – с озерами и холмами. С тех пор, как ЭТО случилось.
ЭТО было для нее как видение. Начало начал. Первое воспоминание, с которого стала помнить себя. Сверкающий, льющийся живыми струями фонтан золотого света. Как вспышка молнии, расцвел он в тонком луче звезды – и брызги падали золотыми яблоками с гибких веток – струились и впитывались землёю, травою, лесом. Нет! Не было тогда леса, и она не знала, что такое яблоки. Только гладкая, как бесконечное озеро, равнина болота, в котором она жила… И была ли она ежихой, такой, как сейчас, уже не помнит… Да и жила она далеко отсюда – лишь видела издалека, как возник этот мир: озеро и гора, и долго ползла, привлеченная чудным светом.
Свет был началом начал. В тот час, в утреннем свете зари звезда сияла ещё, готовая вот-вот погаснуть. И тут – в тонкой струне, пронзившей вдруг левый глаз – до боли, до тошноты – вспыхнула новая, другая звёздочка, выросшая в одно мгновение – словно там, где стояла теперь меченная молниями сосна, упала сияющая золотая шишка – и тонкая золотая нить соединяла её со звездой.
Золотая шишка зависла в воздухе, раскрыла свои чешуйки – и оттуда посыпались сверкающие семена – ослепляющий фонтан золотого света…
Фонтан иссяк, струи света впитались в землю, – и все пропало, исчезла и паутинка, соединявшая со звездой.
Но с той поры стали зажигаться костры. И однажды пришли люди.
Она любила смотреть на людские костры, напоминавшие это начало начал. А потом не стало этих маленьких огоньков. Были долгие ночи тьмы среди льдов и мрака, затем – ночи тьмы под мерцанием летних звёзд, где лишь слабо мигали в ответ робкие светлячки, пока, наконец, возник новый – сияющий и прекрасный источник света. Он стоял здесь, под ивой, и по вечерам из настежь открытых окон, озаренных пламенем свечей, слышались голоса, лилась музыка, и люди, входившие в этот дом, были одеты не в узенькие цветные повязки, едва прикрывавшие тело, а в длинные свободные платья, похожие на туман, который стелется над озером вечерами.
Потом окна уже не светились по вечерам. Малыш в белой рубашке, который брал когда-то ежиху на руки, стал большим. Как высокое дерево вырастает из маленького ростка. Он стал приходить сюда по утрам, вместе с детьми в серой льняной одежде, и, когда вечером звенел звонок, много маленьких русоголовых мальчиков выскакивало из-за своих парт. Он выходил на крыльцо последним и долго смотрел на озеро, а потом, повернувшись влево – на «бальсан», на серебрящиеся бальзамические тополя меж крыш усадьбы. Теперь оттуда доносилась музыка по вечерам, и выезжали запряжённые лошадьми кареты…
Два раза стреляли на этом берегу. Кровь и огонь. Огонь и кровь в зареве, грохоте и гуле пожара. Ежиха мысленно видела и горящий, объятый пламенем дом, и взлетающий в небо флигель над черепичными крышами – оглушительный взрыв, обгоревшие тополя «бальсана»… И те далекие людские костры, и давние времена, когда не было здесь ничего кроме лесного озера с горящей над ним звездой, и бесконечно далекое время, когда не было самого озера, – а только звезда над бесконечным болотом, сияющая из бесконечной дали.
Предутренняя тишина вывела ежиху из воспоминаний. Луна, описав по дуге правую часть неба, оставила позади звезду над корявой сосной и завершила свой путь, исчезнув на горизонте – за шапками приозерных холмов, за спящей где-то деревней. Костер под ивой стал маленьким огоньком, остальные – потухли, лишь искрами вспыхивали тлеющие головешки.
Ежиха свернулась калачиком и покатилась с горы, сбивая с папоротника и дрока тяжёлую, основательно выпавшую за ночь росу. На лугу она остановилась, высунула голову и лапы и медленно поползла дальше. Она не спешила, промывала иголки росой, прочёсывала траву, отряхивая обильную ледяную влагу. Потом долго сидела на песке у воды и пила, околдованная чёрным зеркалом озера. Звезда над корявой сосной загорелась ярко, ослепляя холодным светом. Костер под ивой совсем догорал, лишь рассыпанные уголья мерцали россыпью красных звезд.
Быстро перебирая лапами, ежиха поползла назад к костру. Подъём не был крутым, но чтобы не плутать в траве, не съеденной у машин и палаток коровьим стадом, она нашла протоптанную людьми тропинку…
У костра ещё оставались трое. Решив не шуршать ветками с сухой с хвоей, что лежали здесь для растопки костра, ежиха дожидалась за кучей хвороста.
Наконец, приземистый человек в брезентовой плащ-палатке встал с соснового чурбака. Он зевнул, почесал лысину и поднёс к глазам свои новенькие электронные часы, блеснувшие в алых отблесках догоравших углей. В тот же миг другой – высокий худущий старик в теплом, грубо связанном свитере – тоже встал с раскладного стула, на который, для мягкости были положены четыре номера газеты «Правда». Он выключил свой нещадно трещавший приемник, который только что бережно держал на коленях, прижимая к нему по очереди то одно, то другое ухо, – взял «Океан» под мышку, а газеты со стулом прихватил в другую руку. Тогда некрепкого сложения человек с иронически вскинутым подбородком, в не застёгнутой на груди рубашке в клетку с короткими рукавами, и похожий чем-то на Штирлица из «Семнадцати мгновений весны», только, с виду поинтеллигентней да поумней, поднялся со своего шезлонга. Сверкнув очками, он пожелал всем спокойной ночи и привычно спустился к озеру с полиэтиленовым ведёрком. Когда он вернулся назад и залил зашипевшие в темноте угли, у костра уже не было никого, только ежиха, пофыркивая, выискивала отбросы да старенькая не выключенная «Спидола» шумела и потрескивала у бревна.
Человек выкатил на траву несгоревшие головни, облил ещё раз, оставил здесь же ведро. Потом он сложил шезлонг и, прихватив в свободную руку «Спидолу», вдруг поймавшую вражий голос, направился к своей палатке.
Пока человек устраивался на холодной раскладушке под ватным стёганым одеялом, женщина-диктор с «Голоса Америки» окончательно пропала в треске глушилок. Пришлось настраиваться на радиостанцию «Свобода».
У костра поблёскивала оставленная до утра невымытая посуда – сложенные горой эмалированные миски, матово белеющие тарелки из пластмассы и даже чьи-то новенькие, «общепитовские», – топорно-железные из подозрительной нержавейки, с которых так плохо смывался жир. Ежиха обнюхала валявшиеся в траве шампуры и поползла к углям. Они дымились, пропитанные бараньим жиром, накапавшим с шашлыков, и были ещё горячие. Она ткнулась носом в несгоревший масляный фильтр, чихнула, понюхала обглоданную рыбью голову, нашла в золе пропеченную картошку и выкатила лапой в траву, как делал только что человек. Откатив оставшуюся картошку, ежиха обогнула бревно, у которого раньше трещал приёмник, а теперь стояла только ржавая жестянка с бензином для растопки костра, и не спеша направилась к грязной посуде. Решив не трогать тарелки, чтобы не нашуметь, почуяла запах съестного и всё-таки загремела сковородками, в которых были оставлены для неё картошка и жареные грибы… И тогда Шурочка проснулась в своей палатке.
Ежиха почувствовала это и замерла. Прислушалась и быстро поползла от костра, убедившись, что не ошиблась. Она изо всех сил ткнулась носом в брезент, вновь отползла и, втянув голову, так врезалась боком в палатку, что та содрогнулась на своих шатких алюминиевых палках. А потом для верности – громко зафыркала и засопела – чтобы это разбуженное среди ночи человеческое дитя – раньше времени повзрослевшее и не похожее на других – узнало её и не беспокоилось: «Можно спать дальше! Это она! Всего лишь она – ежиха, нечаянно загремела сковородками… а не коты, не вороватые собаки из Шабанов!»
Глава 1. У озера
Ежиха загремела сковородками, и Шурочка проснулась в своей палатке: приподнялась на надувном матрасе и, высунув руку из уютного тепла спальника, вспомнила почему-то звонок в школе и кормушку с синицами за окном своего класса.
Она дёрнула за шнурок, и шторка над комариной сеткой приподнялась.
Яркая звезда светила над озером. Та самая, о которой обычно спорили: звезда или планета? «Планета!» – решили сегодня вечером у костра. – «Слишком яркая для звезды!..» – сказал профессор.
Нащупав фонарик в брезентовом кармашке под комариной сеткой, Шурочка расстегнула спальник и села на надувном матрасе. Острый холодный луч звезды ослепил её сквозь ресницы. Озерная звезда светила через комариную сетку. Ну, конечно, звезда! Так низко висела она над озером – в том же самом месте: чуть вправо от большой сосны – и тонко тянула свой луч туда, где недавно горела ушедшая на запад луна, горела, как круглое окно в чёрном небе, изливавшее сияющий звёздный свет… Словно в это окно пролилось всё то, что виделось сейчас во сне и ещё стояло перед глазами! Чистые струи речки и камешки на мелком дне, яркое небо над соснами и жаворонок, промелькнувший в нем чёрной точкой… Шурочка сладко зевнула и поудобней улеглась в спальном мешке, вспоминая приснившееся.
* * *
Всадница на белой лошади остановилась перед мостом. Решив пропустить ехавшую навстречу телегу, пани Зося подставила лицо весеннему солнцу.
Солнце золотило струганное дерево у копыт. Мост был новенький, из сосновых бревен, не успевших ещё потемнеть от непогоды, под ними звонко шумела по камням быстрая речка. За речушкой раскинулся сосняк. Небо над соснами было таким светлым и голубым, какое бывает только в мае. А по другую сторону дороги, где далеко за лесом ещё ярче, чем лес, зеленели озимые, небо под солнцем было без единой тучки и казалось сплошным золотым сиянием, и там, над полем, то и дело мелькали чёрные точки жаворонков.
– Дзень добры, паненка!
– День добры! – приветливо прокричала в ответ пани Зося.
Навстречу загромыхала телега, запряжённая рыжей лошадью. В мешке на соломе повизгивал поросенок. Пани Ванда – сухонькая пожилая женщина в белой косынке поскорей стегнула лошадку, торопясь разминуться с первой из встречных телег, которая сейчас подъезжала к мосту позади всадницы.
Женщина взмахнула кнутом. И, зря… За спиной пани Зоси какой-то мужик с лихим криком тоже стегнул свою лошадь, и та понеслась по брёвнам навстречу Ванде.
Это был Фома… Ясней ясного – старается показать, что мост широкий и есть тут, где разминуться двум телегам. Он его строил. Не один, конечно… Какой-то никому неведомый чех из Молодечно нанял здешних мужичков, в том числе Фому, и мост был готов за одну неделю. Крепкий мост, хороший. А теперь, по заказу отца пришлый чех строит мост в Маньковичах у старой мельницы.
Фома за это на них в обиде. Сам подряжался взяться – поработал на чеха, научился уму-разуму, сказал: «Эх, панове, я, что ль не смогу построить?» Да только отец не согласился, доверился новому подрядчику.
– Дзень добры, пани! Дзень добры! Э-э-х! …Па-ашшёлл!
Конь у Фомы был на загляденье: чёрный красавец – вороной рысак чистых кровей, где только Фома взял такого? Точь-в-точь, как у поручика Козловского, даже белая звёздочка посреди лба. Серж признался, что купил Огонька прошлым летом недорого у цыган. А Фома, как увидел жеребца, – не прогнать с конюшни, так и жил целую неделю, пока гости не разъехались по домам. То глядит, глаз не сводит, то конюху помогает, и раз упросил Сержа отпустить Огонька с ним в ночное. А потом сам купил где-то такого же рысака, уж невесть за какие деньги и у кого. Наверняка, у тех же цыган. Цыгане могли украсть двух жеребят, а те оказались близнецы. Родятся ли близнецы у коней? Пани Зося не знала…
Она, задумавшись, провожала глазами худенькую фигурку Ванды, всё замахивавшуюся кнутом, и ответила на приветствие уже в спину Фоме, который, встав во весь рост, промчался, как чёрт, только драный чёрный треух разметался ветром, открыв одно ухо и едва не слетев с головы в речку… Да только Фома прихватил шапку рукой, успел схватить на лету… а девушка успела заметить… Невероятно! На соломе в телеге среди разного хлама – целых три кошика яиц – одно в одно, аккуратно переложенные свежим сеном.
Виданное ли дело? Фома вёз продавать три полные корзины яиц, а у него только одна курица. Прошлым летом ястребы всех несушек перетаскали. Да ещё подлые хорьки не оставили осенью ни одного цыплёнка. Уж как ей плакались его дочки. Откуда ж столько яиц? Копил их, что ли Фома всю зиму, держал семью впроголодь, а теперь, скряга такой, вёз на базар, чтобы всучить, протухшие, чьей-нибудь кухарке!?
Нет, Фома был для неё загадкой. Маленький и тщедушный… А люди его боялись: считали колдуном.
Пани Зося покачала головой. Потом оглянулась вслед громыхавшей уже позади встречной телеге.
Телега тряслась по бревнам налегке: Ванда ехала уже с базара, а навстречу тянулась вереница тяжело груженых мешками, крынками и всяческой поклажей возов, но первой на мост въехала обогнавшая всех карета.
Пани Зося пропустила и её. Солнце уплывало в маленькую тучку, погружая мост и дорогу в тень.
За мостом карета остановилась. Дверь стремительно распахнулась, и какой-то франт в модном сером сюртуке выскочил на дорогу. Он поднял руку и принялся радостно размахивать ею над головой, потом крикнул что-то и побежал к мосту:
– Пани Зося! Господи, это вы!
«Надо же! Все меня узнают… Что за день!» – не успела подумать всадница, как солнце вдруг осветило золотистые волосы спешащего навстречу человека, и она, наконец, его узнала.
– Римас!
Римантас Декснис, бывший учитель Петеньки, бросился ей навстречу, и всадница на белой лошади поскакала по мосту.
* * *
Снаружи что-то звякнуло и загремело, и Шурочка, включив фонарик, окончательно проснулась. Она вздрогнула от нехорошей догадки – её разбудили резкие металлические звуки.
«Кошки! Неужели забыли рыбу?…»
Она выключила фонарь и положила назад в кармашек. Луна, ещё не ушедшая за холмы, светила ярко.
«Или снова пришли собаки и рыщут там по кастрюлям?» – ей представился ночной холод снаружи, где предстояло сейчас воевать с кошками.
«А, может быть, это ежиха гремит у костра посудой?»
Что-то стукнулось в брезентовый бок палатки – справа, со стороны костра… Алюминиевый каркас вздрогнул, знакомое фырканье и сопенье послышалось под самым ухом, и Шурочка вспомнила, что рыбу она почистила и убрала в багажник, где все продукты, а единственная возможная добыча собак – кастрюля с бульоном из бараньих костей – стоит под рулем в машине.
Она сунула фонарик на место, положила голову на подушку и всё-таки стала припоминать: что ещё из съестного могли не убрать эти взрослые после вчерашней пьянки? Бабушка уехала в город с Климовичами – дня на два, собрать урожай на даче, и приходилось заботиться ей. Все оставшиеся мужчины устроили по случаю совместный ужин, как в прежние времена – с ухою, раками и шашлыками. И всё было опять, как раньше, когда ещё был жив Граф и его оранжевая палатка стояла в осинках, на пустующей теперь площадке, за деревцем раскидистого боярышника. Это было ещё до Монголии, до буддистского монастыря, Шурочка ещё не училась в школе, но запомнила эти шумные вечера у костра с приезжавшими на старой «волге» ростовчанами, с кипевшей в котле ухой и шашлычным духом на всю округу…Теплые долгие вечера… и голос со старенькой знакомой кассеты. Он вырывался из старенького магнитофона, работавшего от чьего-нибудь аккумулятора на капоте чьей-нибудь машины. Голос этот, бравший за душу своей болью и правдой, хрипел, убеждал – и болью плыл над холмами, над озером и над лесом, и слышен был на другом берегу в деревне, когда Шурочка, забытая взрослыми в разгар пирушки, отправлялась за молоком, которое, как обычно, нужно было забрать у хозяйки. И казалось: голос этот звучит уже над всем миром и рождается где-то в чёрном небе: над «бальсаном» – над серебрящимися тополями, над палатками и погружёнными в сумерки Шабанами, где коровы уже разбрелись по дворам, где орёт недоенная Буренка Фани, ещё не вернувшейся домой с фермы, и пьяненький хозяйкин муж кричит на собак, волоча в сарай мешок с ворованным комбикормом, и слышно, как тарахтит его брошенный под забором трактор, и будет тарахтеть всю ночь…
Шурочка застегнула змейку на спальнике, устроилась поуютней и начала вспоминать всё привидевшееся сейчас во сне – что пролилось сквозь брезент палатки вместе с лунным светом. Она снова закрыла глаза…
* * *
…И лошадь, скакавшая через мост, остановилась. Пани Зося ослепительно улыбнулась, её волосы подхватило ветром – они загорелись на солнце, словно волна сияющей золотой пряжи.
– Да вы ли это, Римас?
– Зосите!
«Вот они нити судьбы! Богиня!» – подумал он. – «Ах, что за встреча!»
– Да вы ли и в самом деле… – воскликнула она, живо соскакивая на дорогу. – Проезжаете поворот в усадьбу и едете дальше, даже не заглянув к нам?! Что же вы не свернули?
– Да у меня там больной, Зосите… – последовал отчаянный кивок в сторону роскошной кареты – чуда заграничной техники, на рессорах, запряжённой тремя лошадьми. – Сперва к доктору! – совсем растерялся светловолосый молодой человек в дорогой серой паре, бывшей в моде в столицах в нынешнем сезоне. Весь он был, однако, несколько помятый – совсем не в форме и как будто не выспавшийся, что, впрочем, вполне простительно в дороге.
– И каким франтом! – оглядела его пани Зося. – А карета! Вы, верно, разбогатели, Римас?!
– Да бросьте, Зосите! И карета, право же, не моя!
– Но не заехать!..
– Да если бы не больной! И потом, как-то, знаете…Я всю дорогу думал… Я ведь видел вашего папеньку с Петей…
– В Москве?
– А с ними… – смешался молодой человек, но девушка не дала ему договорить.
– И как они?!
– Всё в порядке.
– Да здоровы ли?
Молодой человек кивнул:
– Но зачем было ехать туда с Петей? – в голосе его было отчаянье.
– Вы же знаете! Петеньку надо определять в университет.
– Помилуйте! Отчего ж в Москве? Вашего брата надо учить у нас! В Вильне!
– Ах, Римас! Мы совсем… совсем бедные. Можно сказать – нищие! Папа залез в долги. Хорошо, Михаил Федотыч помогает…
– Я всегда говорил: Редько вас обкрадывает. Он – вор!
– Но что теперь делать, Римас? Не может же папенька его прогнать!.. Отец Потапа так верно служил деду. А у Редько – семья.
– Но зачем же, зачем в Москве!?.. – страдал молодой человек. – Послать… туда!.. Петю!
Лошадь наклонилась к обочине, опустив голову в траву, и хозяйка отпустила уздечку.
– Нам не на что его учить в Вильне. А у папы в Москве сестра, вы же знаете. Генеральша. Теперь вдова, богатая. У неё нет детей… Она возьмёт на себя все Петенькины расходы…
– Да, она теперь, слава богу, вдова! Вот и перебралась бы назад в Вильню или в Варшаву!
– Не так просто теперь… в конце жизни…
– Вот, Зосите, так всегда! Они забирают всё! Наш язык! Наших красавиц. Наши земли! И теперь Петя будет слуга царю!
– Римас… А сами-то что вы делали в Москве? – лукаво улыбнулась девушка.
– Как всегда! – он горько усмехнулся и развёл руками. – Надеялся продать свои картины. Увы! Не разбогател… Разве что! – он отряхнул сюртук и презрительно оглядел себя, – Да и… с голоду б, верно, помер, если б не… благодетели! Знаете, кто приютил меня? Мотюша!
– Ваш Марк? Теперь он помогает вам?
– Я жил у него…
– Да неужели?
– Семья перебралась в Москву.
– Ну и ну!
– Да, Зосите! Теперь их дела поправились. Вся родня сложилась и купила отцу Марка… купца первой гильдии.
– Сертификат?
– Да. Теперь он – коммивояжёром в фирме «Мюр и Мюрелиз»… Прекрасная большая квартира в Гнездниковском, и Марк сейчас учится музыке в консерватории.
– Да это же рядом с Петей! Будет ему хоть одна родная душа в Москве! Как я рада за Марка!
– Чего это стоило, Зосите! И чего ещё будет стоить…
– А кто же ваш второй благодетель? Вы сказали во множественном числе…
Молодые люди посмотрели в сторону кареты.
– Не угадали бы никогда! Индийская знаменитость.
– Какой-нибудь раджа!? Или магараджа? Судя по карете и лошадям…
– Выше берите!
– Так кто же тогда!?
– Знаменитый Вишидананда!
– Кто-кто?
– Да разве вы не слышали? Ах, Зосите! Это же Учитель! Мудрец. Нынешний гвоздь сезона. Звезда салонов и кумир светских дам…
Девушка покачала головой.
– Не слышали… – вздохнул художник. – Так скоро познакомитесь, надеюсь! – И в его речи послышались какие-то особенные чуть ревнивые интонации, показавшиеся пани Зосе весьма неуместными в эту минуту.
– Он знает язык?
– Великолепно. Это разносторонний талант…
– Так что же мы болтаем, Римас? Вы сказали – его нужно к доктору.
Её собеседник помрачнел.
– Да. – Он кивнул вдаль, где далеко в конце дороги за лесом, виднелись потемневшие купола православной церкви. – Больница действует? Не закрыли?
Пани Зося кивнула.
– И есть врач?
– Наш старый доктор. Хотя, говорят, в монастыре появился какой-то святой старец и лечит…
– Вы же не верите ни в каких целителей!
– Про него говорят удивительные вещи. Он будто бы из дворян и учился медицине. А теперь схимник. Народ валит к нему толпой.
– Я вас не узнаю…
– Видите?
Пани Зося обернулась, показывая рукой на другую сторону дороги, где навстречу к мосту приближалась вереница нищих.
– Верит тёмный народ. Но вы…
– Я сама себя не узнаю. Серж мне рассказал то, чему сам был свидетель. Будто бы у солдата из их полка в здешней больнице отняли руку после несчастного случая. Из-за начавшегося «антонова огня». Это факт. И тот монах отрастил ему руку.
– Но это же чепуха!
– Серж видел этого солдата с «новой» рукой. Кожа нежная. Без морщинок и без мозолей, как у младенца. Правда, солдат куда-то сразу же пропал, побоялся бедняга, что снова возьмут в солдаты, и сбежал.
– И вы верите?
– Я верю Сержу. Но почему бы и нет? Это вовсе не мистика. Выращивали же алхимики гомункулусов в своих колбах! Или могли выращивать! Не смейтесь! Я сейчас много читаю, приходится преподавать в нашей школе, мы не можем содержать много учителей… Только для химии и агрономической науки выписали приват-доцента из Варшавы… Так вот, есть новое веяние – гидропоника. Это когда растение выращивают не в почве, а в специальном питательном растворе. Пока выращивают из зерна, но пишут, что в будущем будут выращивать из клетки! Чем вам не гомункулус в пробирке?
– Так этот ваш… схимник или монах – современный алхимик?
– Говорят, он окончил Оксфордский университет!
– И ходит в рясе? – Молодой человек покосился на купола. – Православие не поощряет науку.
– Я знаю… Везите, конечно, в больницу. А можно… на него взглянуть? Он спит?
Молодой человек с улыбкой на неё посмотрел – он был выше девушки и глядел на неё задумчивым странным взглядом:
– Зосите, мы приедем… Если позволите. Нам ведь негде переночевать.
– А можете и остаться! Ведь через месяц… Помните?…
Из кареты раздался резкий сухой кашель. Одна из лошадей заржала.
Молодые люди бросились к карете. Римантас быстро остановил лошадь, потом распахнул дверцу, и девушка удивлённо застыла у него за спиной. Она ожидала увидеть спящего седого старика в какой-нибудь экзотической одежде вроде сари.
Но это был не старик. На сидении в полутьме кареты, прислонясь к стенке, полулежал молодой атлет. Глаза были закрыты, в длинных чёрных ресницах было что-то юношеское, почти детское. Возможно, он был даже моложе пани Зоси, и только вьющиеся, до плеч, волосы цвета воронова крыла да смуглая кожа выдавали индуса. Он был одет по-европейски в тёмный сюртук и белую рубашку с плотным отложным воротничком, и, видимо, испытывая то жар, то озноб, тяжело дышал и раскрывался, укрытый пледом и несколькими одеялами.
Пани Зося спустила с груди одеяла. Больной переменил позу и стал дышать спокойно.
– Любимый ученик Рамакришны… – так же, чуть-чуть ревниво проговорил Римас.
Молодой полубог спал. Его черты завораживали, но на точёном, чуть измождённом лице проступала лёгкая тень страдания. Чистый лоб покрывали обильные капли пота. «Красота лишает человеческое лицо черт какой-либо национальности, – подумала пани Зося. – Красота – всеобща, это вселенский дар…»
– У него сахарная болезнь… – поспешно сказал спутник. – Да к тому же лёгкая простуда… Столичные доктора считают, что недуг обострился из-за нашей пищи. Когда ешь только рис и корни растений, можешь и вовсе не знать, что опасно болен…
– К тому же солнце… – кивнула пани Зося. – Я читала, что в жарких странах можно меньше есть… Я сама могу есть летом только ягоды и молоко…
– Да… – почему-то вздохнул молодой человек. – В его годы – и уже пророк. Свами! Великий учитель… А богат, как не знаю кто, сам из очень влиятельной семьи. Тайно сбежал от всех – учеников и родственников, захотел увидеть Европу. Прочитает лекцию в Вильне, а потом – в Париж и в Америку.
– В Америку?! – удивилась пани Зося. – Почему же? Я думала, он решил изучить нас…
– Что нас изучать? Мы – прошлое, Зосите!.. Прошлое человечества. А будущее его – Америка. Это факт!
– И у нас есть будущее.
– Да какое? И у кого, скажите мне, это будущее здесь есть? Всё – в прошлом… Наш Статут…
– Статут Великого Княжества Литовского?
– …Положили в основу американской Конституции! Наш Костюшка помог Америке обрести свободу, потому что её народ этого желал! Желал страстно. А у нас? Зосите! Нам, у себя, он не смог помочь… Наш народ убили, лишили силы сопротивляться. Он умер ещё тогда, при Иване Грозном, когда тысячи евреев и поляков в Полоцке пустили под лёд, а шляхту и простой люд угнали в Сибирь… Два миллиона! И в семнадцатом веке, при «тишайшем» Алексее Михайловиче – он позверствовал не меньше Грозного! При Богдане Хмельницком и позже, при Екатерине, когда разграбили наш последний Иезуитский университет. Книги увозили в Москву, туда же – наш язык!.. Наших ремесленников и мастеров, а шляхту и трудолюбивых крестьян снова гнали в Сибирь… Опять два миллиона! Вон когда её, матушку, стали заселять нашим людом… Вот когда его здесь… уничтожили навсегда! «Добро и зло приемлет равнодушно…» – это про него, про наш народ. Он от всего устал… Он уже не способен ни с чем бороться. Ему всё равно…
Пани Зося не отвечала, но, чувствовалось, была не согласна.
– Да, Зосите! Мы – всего лишь колония! Колония Российской империи и будем ею всегда!
– Серж бы с вами не согласился. Он считает, это всё равно…
– Что?
– Чья власть. Важно, что ты сам сделаешь в своём поместье. Помните – наш Бжастовский?
– Да… Освободил крестьян, заменил панщину налогом! Провозгласил республику и президентскую власть. Все граждане его республики объявлялись равными и бесплатно наделялись землёй. А ведь это были его бывшие вассалы, жившие на принадлежавшей ему земле!.. Он отдал им эту землю. Создал новое государство! Как принято при демократии, всё решалось большинством голосов!
– Знаю, Римас…
– В демократической республике была бесплатная медицина и бесплатное образование – школы, больницы, президент печатал деньги и имел войско для охраны границ!
– И всё это было в пределах его собственного поместья!
– Да, Зосите, во время Великого Княжества Литовского такое было возможно, Великий сойм утвердил Конституцию нового государства, оно просуществовало почти полвека в его пределах, пережив и наполеоновскую войну. Но чем всё кончилось? Россия сделала нас колонией. По указанию Петербурга крамольную республику ликвидировали и свободных граждан перевели в крепостных! Иван Грозный знал, что делал ещё тогда, насаждая свою православную веру. Ведь калёным железом же насаждал её у нас! – Римантас сжал кулак и с горечью покачал головой. – А мы ещё хотели мира! Наши князья и польские короли сами строили православные церкви… Зачем? Православие – религия рабов. Она учит не спорить с богом и не спорить с царём! Потому ни Костюшко, ни Калиновский…
– Да, не смогли победить. Да, Римас… Но их восстания принесли больше вреда, чем пользы! Сколько жертв! Скольких потом повесил Суворов, уже подавив Костюшку. А Калиновский! Все лучшие наши люди помогали ему, а потом их мучили и убивали на допросах, отбирали поместья, не отдавали даже наследникам.
– Земли переходили в казну, раздавались русским князьям.
– Правда… были и среди тех… Да хоть Потёмкин! Налаженное хозяйство, школы, больницы, хорошие дома для крестьян…
– Он один, Зосите! Один из всех русских помещиков! Да и к тому же – насмотрелся здесь у нас…
– А что у нас, Римас? Что было в Залесье, пока за него не взялся автор полонеза?
– Да, разруха. Но что было у другого дяди этого проходимца – в поместьях Михала Казимира? Вот где было налаженное хозяйство! Вот где школы…
– И даже для музыкантов! Свой оркестр. И театр… Я согласна.
– Один построенный им канал чего стоит!
– Он тоже жил при Екатерине. Важна личность.
– Теперь вы попали в точку! Но личность губится православием. А его нам навязывает Россия. Все, кто были личностями в этой стране, стали ими вопреки ему. «Вопреки», Зосите, понимаете! И прокляты были попами гласно или негласно, как Лев Толстой! Наше католичество, я уж молчу про протестантизм, – полезней для человека. Оно призывает творить, трудиться, превзойти себя – и этим радовать бога, а не поклоны бить. В католичестве мы – «дети божьи». В православии все – его «рабы». Есть разница? Православие не призывает творить, это у него – бесовство! Только бы рабски подчиняться и не грешить! Но и этого не получается, если человек сам себе не хозяин. Да вы не представляете, какая дикость в русских деревнях, какие тёмные, дикие мужики, хуже наших. А Империя навязывает нам православие, и будет навязывать, пока мы её колония.
Пани Зося смотрела через плечо на толпу нищих.
– Уж не знаю, что лучше. Римас…
Люди шли с палками, в грязных лохмотьях. Они шли по дороге гуськом – старики, дети… Согбённые, какие-то пришибленные, семенящие женщины с крестами, в платках…
– Всё едино…
– А вы посмотрите, Зосите, чей результат лучше, к чему привело православие Россию, – и к чему пришла католическая Европа! И, простите, опять умолчу про иудеев и протестантов! Цель религии, её призвание – указывать человеку путь. И куда пришли те и другие? Тысяча лет православия была у России, и что оно ей дало? Всё, что в ней прогрессивного – рождено католической цивилизацией и перенималось с немалым трудом, через сопротивление церкви.
– А перенято, благодаря староверам, кстати! Так Михаил Федотыч говорит.
– Правильно! Он сам – старовер! А староверчество – русский протестантизм! Всё купечество, вся экономика Империи – благодаря презираемым «немцам да евреям» да ещё этому лучу в тёмном царстве! Опять же – официозному православию вопреки, Зосите! А Империя будет его навязывать и навязывать нам… Всегда! Так и будем плестись у всех европейских народов в хвосте… Последняя наша надежда была на Наполеона! И на нём кончилась, он подвёл нас и обманул!
– Да! Ведь пообещал не идти дальше Смоленска! Мой дед помнил, он долго прожил. Рассказывал мне в детстве, с каким восторгом встречали Наполеона в Вильне!
– И бог его, супостата, наказал! Зачем ему понадобилась Россия!? Дьявол дёрнул его туда идти! Остановился бы здесь, спас нас от поганой Москвы, и была бы у нас, наконец, Европа, как и должно быть по высшей исторической справедливости. Как было прежде, тысячу лет назад! Россия бы не посмела отвоевать нас у Наполеона! Да за что нам такая неудалая судьба? Вечные войны…
Пани Зося согласно закивала головой:
– Дед нам рассказывал… И отец часто повторял его слова…
Вдруг оба замерли, услышав отдалённый женский визг.
Пани Зося схватила Римаса за руку, прислушиваясь. Откуда-то с другой стороны дороги раздавался и нарастал истошный вопль. Вопль был женский, полный ужаса и страха.
– А-а-а-а!.. Анэль-ка ма-я-я! А-анэ-э-э-лька-а!.. – дико заголосила женщина.
К ней присоединялись всё новые женские вопли.
– Что-то случилось! – вырвалось у пани Зоси.
Римантас торопливо захлопнул дверцу, и они бросились за угол кареты, которая загораживала сейчас вид на происшедшее.
Но и с дороги они толком ничего не рассмотрели, только толпу у телеги с лошадью, которая стояла в отдалении, в глубине лесочка под высокой раскидистой сосной.
Люди, остановившие лошадей у ручья и на полянках ближе к дороге, чтобы отдохнуть после базара, тоже бросали еду, разложенную на скатертях, поднимались с травы и спешили к небольшой толпе.
Пани Зося вскочила на лошадь, Римантас бросился по брусчатке следом. На другой стороне дороги у обочины, напротив их кареты, стояла, между прочим, точно такая же, а может быть, и получше. На таких же рессорах и тоже запряжённая лихой тройкой. Окошко было задёрнуто занавесочкой, кучера было не видать.
Песчаный съезд вёл в молодой лесок, где средь сосновых полянок и стоящих тут и там распряжённых телег петляли две хорошо заметные колеи. Лошади паслись на траве – тут же, где на полотенцах были разложены крашеные яйца, хлеб с нарезанными ломтями окорока и сала. Чей-то белый худющий конь жадно жевал, схватив со скатерти кусок хлеба. Всё было наскоро брошено, а хозяйки голосили там, у стоявшей в отдалении телеги.
Пани Зося соскочила на землю, но за спинами плотно стоявших людей ничего не смогла увидеть. Она почувствовала какой-то запах, приторный и тошнотворно-сладковатый, и вдруг вспомнила, как случайно оказалась на подворье Фомы, когда забивали кабана… Вдруг увидела ручеёк крови у носка своей туфельки. Её затошнило.
Все женщины стояли, почему-то отвернувшись от телеги, кто голосил, кто закрывал заплаканные лица платками. Оцепеневшие одетые по-праздничному мужчины застыли в молчании, сняв с себя картузы.
– Что случилось? – закричал Римантас, пытаясь пройти к телеге.
Когда люди посторонились, пани Зося потеряла дар речи, ещё не вполне осознав, что же она видит, там – на соломе. Сперва – только юбку… Она заметила только юбку и ноги девочки, и какое-то кровавое месиво вместо груди и выше, из-под которого в соломе выглядывала коса.
Наклонясь, пани Зося ахнула. Это были рёбра – на месте лица и шеи, и она не сразу сообразила, что каким-то чудовищным образом взрезали всю грудную клетку, от шеи до живота и, как крышку коробки, откинули вверх на голову девочки…
– Зося, вам лучше уйти… – Римас взял её за руку, но девушка покачала головой.
С ужасом всматривалась пани Зося в это страшное зрелище… И она, преподававшая основы анатомии ученикам сельскохозяйственной школы, никак не могла сообразить, чего же тут не хватает… и, наконец, с ещё большим ужасом поняла, что между лёгкими, где угадывались зиявшие обрезанные сосуды.… не было сердца… Всё в телеге и под ней – солома, пожитки и белый мох-ягель на земле под колёсами – алело от свежей крови.
– Матка Боска! – заголосила опять застывшая у телеги женщина. – На хвилиночку отошла за водой да ручья… И вот!
– А вон он, панове! Вон! – закричал замухрышка-мужичок в заношенном пиджачке из «чёртовой кожи», указывая пальцем вдаль, и все головы повернулись туда, где текла в низинке речка, или ручеёк.
Там в камышах склонилась к воде какая-то чёрная фигура.
– Забойца!!! Убивец – он! Вот!..
Люди не могли сойти с места и даже не пытались что-то предпринять. То ли от ужаса, то ли от пережитого шока они только молча смотрели на незнакомого, что-то делавшего там, в ручье, человека. Тот был похож на монашка и стоял, наклонившись над водой. Но пани Зося, не растерялась – мигом вскочив на лошадь, она помчалась к чёрной фигуре. Та заметалась, оглядываясь, и, наконец, незнакомец побежал, бросившись прямо вброд через ручей.
По дороге загрохотала по булыжникам карета. В тишине только пение жаворонков и мерный стук копыт сопровождали странную погоню. Римантас едва поспевал за лошадью.
Когда карета переехала мост, человек в чёрном уже перебежал ручей и, прижимая что-то к груди, как заяц, петлял между редкими соснами, направляясь через большую поляну к темневшему вдалеке лесу.
А пани Зося вдруг замерла, доскакав до ручья, словно совсем забыв о погоне.
– Римас, смотрите! Там!..
Он увидел алое облако в воде, а когда течением отнесло последние волны крови, только ахнул. Потом без сил прислонился к лошади, крепко сжав горячую руку девушки.
Там, в воде, на самом глубоком месте, прибившись у двух камней и потому не тронутое течением, ещё билось человеческое сердце. Оно пропускало через себя воду и пульсировало, но делало это всё слабей и слабей, наконец, остановилось.
– Римас! Как это может быть? Господи! Это колдовство…
– Смотрите! Зося! – молодой человек показывал на карету, которая было остановилась сразу же за мостом, а потом, вдруг набрав скорость, опередила чёрного человека. Из кареты выскочил на ходу тоже кто-то странно одетый, то ли в серой монашеской рясе, то ли в лохмотьях нищего. Он был с седой бородой и с посохом, но бежал быстро, почти как юноша.
Беглец и преследователь выбежали на поляну, и серый почти догнал чёрного, но тот уже добежал до молодого сосняка, а потом неожиданно нырнул в заросли. Преследователь как-то странно вдруг раскрутил свою палку и метнул её далеко вперед над верхушками молодых сосен, а потом тоже скрылся в них следом за беглецом.
Послышался сдавленный крик, затем всё стихло, но никто из леса не появлялся.
Молодые люди стояли у воды, держась за руки и глядя на другой берег. В небе пели жаворонки. Позади слышался приглушённый плач женщин. Бедная мать, как безумная, опять звала свою Анэльку… Кто-то из стариков сказал: «Ах, панове! Трымайце яе! Не пущайте!» «Езжай за соцким! Худчей!» «И доктора!» – слышались другие голоса. «Чаго уж!..» – вторил им кто-то и говорил: «Н-ну!..»
Заржала лошадь. Послышалось, как грохочет тронувшаяся с места телега.
– Даруй, пан наш Бог, злачынце!.. – тихо запричитал чей-то звонкий – старушечий голосок. – Калека была… Матери только в тягость…
Карета всё так и стояла за мостом. И вдруг Римантас заметил вдали над лесом взмывшую в небо искру. Золотая точка делалась ярче и разгоралась, увлекая из-за верхушек сосен какой-то куль или вроде как чёрный перевёрнутый вверх ногами парашют.
Парашютик болтался, словно лёгкий шёлковый лоскуток или пойманная на крючок рыбка, делаясь всё меньше и медленно уносясь ввысь, а искра видна была хорошо, пока вместе с тёмным крохотным треугольником окончательно не скрылась в облаках.
Глава 2. Происшествие «за бугром»
– Стащили! Стащили, бездельники!.. Воры длинноволосые! – это было первое, что услышала Шурочка, когда проснулась.
– Украли, сволочи! – раздалось совсем громко, и после этого лишь смутные, едва различимые голоса стали доноситься из-за бугра.
Бугор, или, как его называли, «гора», а точней, насыпь явно искусственного происхождения, оставшаяся с войны четырнадцатого года и протянувшаяся через всю поляну – от дота у верхней дороги и вниз, до самой кромки озера, разделяла собой два лагеря. Она укромно отделяла «неприятельский лагерь» – расставленную в соснах палатку заядлого рыбака Олега Николаевича Живулькина – от большой поляны: лагеря Василия Исаича и профессора. «Гора» глушила все звуки, и поэтому мирно просыпавшимся обитателям профессорского лагеря на поляне ну никак было не понять, что случилось там, «за бугром», кричи Олег Николаич хоть на весь лес.
Была еще ранняя рань, солнце ещё не вышло из-за «бальсана», от озера в тени старых ив так и веяло холодком. На траве, однако ж, у самой воды уже валялось жёлтое полотенце профессора, и его поджарая фигура в плавках уже маячила на берегу. Не дрогнув ни единым мускулом, в скованной ледяным холодом позе, – стоически, как на ходулях, входил Сан Саныч в остывшее с ночи озеро, чтобы совершить своё ежеутреннее омовение, когда ветер вдруг донёс голоса из-за бугра.
Сан Саныч повернул голову туда, где разыгрывалась бурная сцена в столь ранний час, и Шурочка, выглянув из палатки, увидела его удивленный профиль со смешно оттопыренным подбородком.
– Украли, сволочи! – услышал Сан Саныч во второй раз. – А чтоб вас всех, негодяи!
С берега открывался одинаково хороший вид на оба лагеря. И на лагерь отдыхающих на поляне прямо перед Сан Санычем, где, как правило, из года в год возле стареньких «москвичей» да обшарпанных «жигулят» стояли одинаковые скособоченные палатки из брезента советского производства, в основном бутылочных, грязно-бурых оттенков. С озера открывался такой же хороший вид и на сосенки справа за бугром, где сейчас сверкал на солнце новенький васильковый «жигуль» последней модели рядом с импортной цветистой палаткой, которая торчала, точно волдырь православного храма подле нищих халуп, или ещё точнее – как роскошный шатёр некого иноземного завоевателя.
Профессор сделал шаг назад, с явным, кажется, облегчением покинув ледяную купель, наклонился к полотенцу за очками, водрузил их на нос и снова повернул голову к неприятельскому лагерю.
За бугром на лужайке у роскошной тёмно-синей палатки с жёлтым предбанником – шестиместной, польской, купленной по случаю уже в начале сезона через знакомую продавщицу Машеньку – стоял в одних плавках и шлёпанцах на босу ногу убитый горем Олег Николаич. Стоял он в той позе, когда вот-вот начнут рвать на себе волосы и одежду, взывая к всевышним силам, и выглядело это скорее комичным, ибо рвать на себе было, собственно, нечего. Да и волос на лысеющем черепе Олега Николаича оставалось совсем немного. И взывать было не к кому.
Только минутой позже в палатке почувствовалось движение, и из предбанника показался ещё не вполне проснувшийся сын Олега Николаевича студент Вадик, решивший, как видно, выяснить, что стряслось.
– Стащили-таки, негодяи! С-с-сукины дети! – обрушился на него отец.
– Что украли-то? – зевнул Вадик, ещё не разлепив век, хотя стоял уже, откидывая полог палатки и щурясь от яркого солнца.
– Э-эх… – махнул на него рукой Олег Николаевич. – Знал ведь, что украдут!
– Раз знал, надо было убрать, – резонно заметил Вадик и, смекнув, однако, уже, в чем дело, кисло глянул на примятую траву за палаткой, где стояла привязанная к стволу сосны надувная лодка. На траве между палаткой и бортом лодки действительно было пусто.
– А ты-то куда смотрел? – вдруг опомнился и сам Олег Николаевич, до которого внезапно дошло, что сын его с невестой Леночкой ещё засветло покинули вчера ужинавшую у профессорского костра весёлую компанию и весь оставшийся вечер провели в палатке, даже не услышав воров.
– А что я тебе, сторожить их должен? – ответил Вадик и флегматично взглянул на собственную физиономию в зеркале, подвешенном на сучок сосны. Круглое зеркальце для бритья отражало курносый нос, сонные глазки и зевающий добродушный рот. Физиономия, надо сказать, изрядно припухла после вчерашних пересоленных шашлыков и пива с раками.
«И в кого он такой уродился? – вспылил внутренне Олег Николаевич, бывший лётчик-истребитель, а теперь, хоть и полковник на пенсии, – лаборант в академии наук, мастер на все руки и незаменимейший человек. – В кого, спрашивается? Ну, в кого?…»
При взгляде на Вадика нельзя было сказать, что и не в отца. Вся приземистая фигура сына, и оттопыренные, как-то странно торчащие уши, и вечно удивленное лицо с широко раскрытыми глазами навыкате, и сами эти карие влюбчивые глаза – были точь-в-точь отцовские! Но характер!.. «Уж эти женщины!» – в сердцах припомнил рассерженный Олег Николаич свою супругу, в которой, может быть, и кстати была некоторая флегматичность… Но в сыне!.. Он с досадою пнул ногой туго надутый резиновый бок лодки с той стороны, где лежали снасти, и вдруг замер в ужасе, увидев её пустое дно. Но не вскрикнул, а, осенённый еще одной нехорошей догадкой, помчался к озеру, обшаривая затравленным взглядом опустевшую – не зря ёкнуло сердце – совсем опустевшую, без единого «кружка», гладь воды. Он даже не услышал, как сзади него в палатке раздался гвалт и лямонт и сквозь крики жены «Носочек надень, Васенька! Погоди! А сапожки!?» прорвалось безумное «Ж-жы-жы-жжы! Я истребитель!», и карапуз в черной цигейковой шубе, теряя на бегу единственный носок, пулей обогнал отца, споткнулся, шлёпнулся на траву и, перевернувшись через себя, как какой-то чёрный колобок, покатился к озеру.
Это был младший сынок Олега Николаича, трёхлетний Вася. Природа с рожденья наградила его странным модным недугом под названием СПП, или, как объясняла всем жена Живулькина, сама участковый врач-педиатр, – синдромом патологической подвижности, видимо в виде компенсации за флегму старшего сына. Жена разрешала ребенку гулять в шубе и делала четыре раза в день уколы пенициллина, но лечила так не синдром патологической активности, с этим она поделать что-либо была бессильна. Отважная Марья Кирилловна пыталась одолеть в полевых условиях двустороннюю пневмонию, которую мальчик подхватил в детском саду перед самым отъездом. Это был страшный удар для Живулькина, страстного любителя-рыболова. Ведь начался долгожданный отпуск! Потому, не желая пропустить ни дня вожделенной свободы, он сказал жене: «Ты – врач, Маша. Это твоя профессия. Будешь лечить Васеньку в палатке. Какая разница – где? А станет хуже – свезем в Мядельскую больницу, к твоей институтской подруге Верке…». И в первый же день отпуска вывез из города всех, кого не мог оставить без строгой отцовской опеки: сына Вадика с невестой Леночкой и жену с больным воспалением легких трехлетним сынком Васюткой.
Правду сказать, собирался Олег Николаич вовсе не сюда, а на Чудское озеро, где была настоящая рыбалка, но из-за болезни сына пришлось по случаю навестить начальство и застрять на озере Воронец, где рыбалки не было никакой, зато Мядель под боком.
Душе заядлого рыбака ну никак было не понять, что делает тут эта, как сказал бы простой народ, «сраная», простите, интеллигенция. Но Олег Николаич никогда вот этак, даже в душе или по злобе, Сан Саныча не называл. Уважал, даже очень, потому как не только тот занимался наукой, но ещё и лекции студентам читал, а, главное, – человек был хороший, редкостный человек и золотая голова. Ну, а что господь наградил этакой женой и детками, так и сам Олег Николаич был точно в таком же положении… Потому и застрял на этом гребаном озере – Маша его в первый раз, считай, проявила характер: пока Васеньке рентген не повторим, никуда отсюда не двинемся, и точка. Или вернусь, говорит, домой с ребенком. А ты едь на свое Чудское… И уехала бы вчера с Климовичами, дура набитая. Пришлось остаться.
И вот что вышло! У-у-у! – потряс Олег Николаич волосатой, воздетой к небу рукой, грозя подлому богу, в которого, признаться, он никогда не верил! – У-у-у! Третий день пошел! Три дня, как придурки, просидели у пустого корыта. Ни одной стоящей поклевки. Только мелочь. И раков нет – вся трава повымерзла, есть нечего… Только пялимся друг на друга из-за горы! И что здесь, однако, делали эти хреновы академики, все равно ему было не понять. Ну, купаются, загорают, ядрена мать… их душу. Ездят в лес на машинах за ягодами и грибами, ходить им лень! Жарят по вечерам шашлыки, для чего отовариваются по воскресеньям тощей бараниной на Поставском базаре, а за всеми остальными продуктами отправляются в ближайший литовский городок на границе или в Вильнюс катят, если не лениво. По старой брусчатке напрямик – оно и недалеко, вдвое ближе, чем до Минска. Там и хлеб, и всякие молочные продукты с сырами, да разные литовские сладости закупают на всю компанию. Знал бы, что хлеб в Шабанах только местным по спискам продают, привез бы им хлеба… Так ведь не знал!
И опять упрекнул себя Олег Николаич, что поехал сюда по совету Маши, что не проявил характер и не рванул сразу же на Чудское…. Подумал так – и чуть не грохнулся носом вниз, заскользив на мокрой траве, почти совсем спустившись к берегу.
– Сапожки надень, Васюточка, роса холодная! – запоздало донёсся за спиной голос жены, которая спешила к берегу с резиновыми сапожками в руках.
Васюточка уже шлёпал по воде голыми ногами.
– Шубу вымочишь! – в ужасе закричала Маша. – Смотри, в воду не упади!
Довольный умной подсказкой, мальчик тут же шлёпнулся в воду и поплыл, а точнее, принялся изо всех сил лупить руками по воде, обдавая брызгами растерявшегося профессора.
Но Марья Кирилловна не растерялась.
– Вадик, Вадик! – бросилась она к палатке. – Скорей разжигай костер!
– Опять шубу сушить? – флегматично отозвался старший сын. – Сейчас…
Отважный маленький купальщик затих и опасно удалялся от берега. Медленно намокавшая шуба еще держала его на воде, но долго ли так продержит, сказать было трудно. Но вовсе не это зрелище заботило прибежавшего, наконец, на берег Олега Николаича. Словно не видя своего удаляющегося сына, взглядом зомби, как загипнотизированный, оглядывал Живулькин опустевшую… совсем опустевшую гладь воды… Нет, сердце ёкало совсем не зря.
– Бездельники! И «кружки» сняли! – огласил он берег безумным криком и с тоской остановил взгляд на единственном, как бы в насмешку оставленном похитителями поплавке, что колебался у самого берега на волнах, поднятых выходившем из воды профессором. Тот держал отважного маленького купальщика на руках. С шубы ручьём текла вода.
– Что украли? – встревожено спросил Сан Саныч, передавая ребенка убитому горем отцу. – Семь лет здесь стоим, представьте – семь лет! И ничего еще не пропало.
– Маша! Бери сына! – взревел Олег Николаич, опуская мальчика на землю. – Удочки мои немецкие, два якоря и все снасти… «Кружки» – и те поснимали.
Васютка вдруг открыл рот и залился горьким плачем – то ли от холода, то ли от того, что вынули из воды, а может быть, из сочувствия обворованному отцу. Маша подхватила на руки сына.
– Удочки мои немецкие! – горестно повторил Олег Николаевич. – За семьдесят покупал…
– Ах, удочки!? – заметно обрадовался Сан Саныч и даже облегченно вздохнул. Стряхнул с себя воду и поднял с травы свое желтое махровое полотенце. – Да вы их, верно, забыли где-нибудь? Поставили и забыли… – Он принялся с удовольствием растираться и бросил взгляд на свою палатку, на ореховый куст, куда сразу же сгружал удочки, как только приезжал. – Мои вон стоят, и никто их никогда не брал.
– Да ваши-то – лом! Ваши-то – барахло, дрова! Ваши-то кому нужны? – и Живулькин в сердцах отвернулся от не смыслившего ничего профессора. Интеллигенция! Что они понимают? И что за напасти такие мешали его планам? То Васька вдруг заболел, то воры обчистили. Дьявольщина какая-то!
– Бамбуковые мои, немецкие! Семьдесят рублей отдал! – взвыл он горестно и безнадежно. И взгляд его снова упал на белый пластмассовый поплавок, одиноко покачивавшийся на воде. – К дьяволу! Не прощу. Сейчас же в милицию еду! Хулиганье!..
– Что вы – в милицию?! – вдруг ужасно испугался профессор. – В милицию никак нельзя! Всех нас отсюда выгонят, «кирпичи» поставят. Дети, видно у вас украли. Дети! Зачем милиция?
– И вправду, пап, – скривился Вадик, лениво приблизившийся к отцу. – Из-за каких-то удочек… звать к нам сюда милиционеров! Дети это, конечно дети! Кто же ещё? Пасли здесь вчера коров… Бензина на-а-а-лей… – добавил, сладко зевнув, Вадик. – Бутылка куда-то запропастилась. Не найти-и-и…
Бутылка с бензином для растопки костра всегда лежала на траве за палаткой. Это знали все. На случай, если хозяин уйдет на рыбалку, а надо сушить шубу.
– Бутылка? За палаткой ищи!
– Да нет её там. Говорю тебе! Не нашёл!
– Бездельники! И бензин спёрли! – еще громче взревел Олег Николаич. – И бутылку прихватили заодно! Воры длинноволосые! Погрозил он кому-то невидимому кулаком. – Хулиганье! Как же, пасли, пасли!.. Один все в книжку глядит! Кудрявый. На ходу идет и читает… А второй – с кнутом. И, как девка, с длинными волосами, блондин патлатый, уселся здесь, возле моей палатки и на снасти смотрит. И на удочки – за палатку…
– Вот видите! – опять просиял профессор. – Ребята из Шабанов. Деревенские… Олег Николаич!..
– В багажнике возьми канистру! – крикнул тот жене. – И разожги сама! Пока этот допрется! – чертыхнулся он в спину удаляющемуся Вадику. – А коровы их только гадят! – продолжал Живулькин, обращаясь к профессору. – У машины и прямо на костер! Лепешки за ними собирай! Вчера после них ведерко набрал резиновое, за дорогу снес. Паразиты ленивые!
– Да нет, они хорошие ребята… доверительно понизил голос профессор. – Вы Шурочке только скажите, они с ней дружат… Не знали просто, что с нами вы, наш. Думали: чужой, если за «горой» стоите. Так бы не тронули ничего…
– Ага! Чужого, значит, можно обворовать?
– Пошутили… Завтра же принесут и прощения у вас попросят.
«Как миленькие, попросят! И без вашей помощи… – возмутился почему-то вдруг Олег Николаевич. – Тоже мне, интеллигенция! Сраные соглашатели!» А вслух сказал:
– Завтра же принесут… эти ваши чёртовы пастухи! Как прижучит их всех милиция! И прощения еще попросят за то, что коров своих под палаткой пасут!
– Милиция нас всех отсюда попросит! Нас с вами! Не смотрите, что на съезде к озеру «кирпича» нет. Не поставили потому только, что дорога – через деревню… и что местные скот свой пасут. Да лесник хороший, не прогнал. Стихи пишет, прямо Якуб Колас, племянник Мядельского ксендза… А Вереньковский председатель давно хочет здесь поле перепахать…
«И пусть пашет! В шею вас всех… – подумал в кротком Олеге Николаевиче обиженный на весь свет рыбак-любитель. – Поделом! – и про себя окончательно решил: Тотчас же еду! Завтракать не буду даже… Кого их там после обеда отыщешь? Суббота завтра!» – и, сощурившись, посмотрел на солнце, обещавшее жаркий день.
– Не ездили бы… – угадал его мысли Сан Саныч.
– И вправду, папа… – попробовал урезонить Вадик, спускавшийся по тропинке с полотенцем через плечо, мылом и зубной щёткой в руках. – Не звал бы ты сюда милиционеров…
– Да я самого дьявола позову! Вывести на чистую воду наглецов!..
И тут кто-то хихикнул и словно потер руки, довольно сказав: «Ага!»
Вадик с Сан Санычем в недоумении посмотрели друг на друга, а потом на Живулькина. Но тот не раскрывал рта, зло поджав губы, а руки его были подняты вверх и, сжатые в кулаки, угрожающе сотрясали воздух.
Вадик покачал головой.
– Ты завтра на своё Чудское укатишь, а людям ведь здесь стоять!
– Да кто их отсюдова прогонять станет? – раскричался истерически Олег Николаич, самому себе, однако, не веря, и демагогическом тоном продолжал. – Как это так – прогонят!? Право на отдых и конституция…
Но подошедший Вадик взял его за руку и сказал:
– А так. Как нас с тобой, папа, с Нарочи когда-то прогнали… А потом с Мяделя и со Швакшт в прошлом году… Не помнишь разве?
– Ну, конечно же, – грустно улыбнулся Сан Саныч. – Ваш сын совершенно прав. Отыщем мы ваши удочки. Пошлем Шурочку…
– К дьяволу вашу Шурочку!
И тут кто-то захихикал во второй раз. На этот раз услыхал и Живулькин и понял это по-своему. Он оглядел заросли у воды – конечно, там никого не могло быть. Лицо Живулькина побагровело.
– Ещё смеетесь! Мать ва… – заорал было он, но тут же осёкся, увидав вдали толстенького рыжего мальчика в спортивном костюме. Тот медленным шагом спускался к озеру от своей палатки, сонно протирая глаза. Все знали, что один глаз у него был карий, другой – зелёный.
– Ты встал, Додик? – удивился профессор, потому что его дети просыпались здесь, как правило, лишь к обеду. – А Фима спит?
– Никто не спит. Разве можно спать? – сказал он, сонно протирая глаза. – Так кричите… Украли что-нибудь? Да, пап?… У кого?.. И куда вы посылаете Сашку? – добавил он как-то с ревностью, не дождавшись ни от кого ответа.
Олег Николаевич неопределённо хмыкнул. Остальные молчали.
Ещё раз бросив свой взгляд на белый замерший на воде кружок, Живулькин вспомнил свои новенькие «телевизоры» и нейлоновый бреденёк, с которыми теперь придется распрощаться навеки. Не будешь же наговаривать на себя в милиции, требуя назад уворованные браконьерские снасти. Он вновь погрозил кому-то невидимому кулаком и решительно пошел к машине.
Глава 3. Начальство из Постав
Не прошло и часа, не успела Шурочка поджарить к завтраку рыбу, как синий «жигуль» Живулькина лихо вывернул к озеру с поставской дороги и сходу взял на подъёмчик, где все буксовали. Живулькин был ас вождения, и подъёмчик этот к своей палатке брал одним духом.
Машина мастерски была поставлена на своё место у входа в дот, и, синхронно хлопнув передними дверцами, из машины выскочили двое. Это был Олег Николаевич собственной персоной и какой-то худощавый молодой человек приятной наружности: темноволосый, с усиками, в форменной серо-сиреневой рубашке и каких-то совсем обыкновенных тёмненьких брючках.
– Как-то не похож на участкового… – решила Шурочка, отвернувшись от сковородки, где, попискивая в постном масле, румянились аппетитные окуньки. Она приподнялась на цыпочках, чтобы лучше видеть, хотя отсюда, с деревянной скамеечки, которую сбили, чтобы Шурочка дотягивалась до стола, рассчитанного на гигантский рост Марьи Ивановны и Василия Исаича, было видно как на ладони всё, что делалось «за горой». Да и сама кухня, а, собственно, всего лишь этот сбитый из досок стол для примусов со скамеечкой под полиэтиленовым тентом от дождя, располагалась в наиболее высоком месте поляны, почти под верхней дорогой, у густых зарослей боярышника и ежевики. И палатка Василия Исаича и Марьи Ивановны, стоявшая рядом с «кухней», тоже занимала самое высокое место на поляне: всю ровную площадку под огромной ивой. Здесь, похоже, давным-давно когда-то, лет сто или двести назад, стояло здание, потому что Фима с Додиком, которым поручено было выкопать общественный погреб в тенистом месте за палаткой, где до самой земли опускались ветки ивы, покопали немного и наткнулись на кирпичную кладку. Прав был профессор, любивший повторять: «На развалинах здесь стоим… На развалинах цивилизации, как вандалы…» Пришлось выкопать «погреб» у стола в зарослях ежевики, это было даже удобней для бабушки: всё под руками. Шумная и расторопная Марья Александровна из года в год готовила на всю компанию, ей это было не в тягость…в отличие от некоторых других, когда бабушка уезжала… Шурочка подвернула примус и вытянулась на цыпочках, стараясь не упустить чего-нибудь из разыгрывавшейся за бугром сцены. Пока что на территории Живулькина было тихо. Молодой человек в сиреневой рубашке молча стоял, выбравшись из машины. Неужели всё-таки милиционер?…
Но Георгий Сергеевич Лихачёв, привезённый Живулькиным из Постав, был следователь. Молодой специалист, бог весть какими судьбами окончивший Витебский университет и отрабатывавший по распределению положенный трёхгодичный срок в городском посёлке Поставы, с нетерпением ожидая скорого возвращения в родной город Одессу.
Выйдя из машины Живулькина, свой первый шаг по траве Георгий Сергеевич сделал нетвердо – окружающая реальность продолжала вращаться относительно некоего центра в его сознании – как у всякого после езды по лесным дорогам с бывшим летчиком-истребителем. Уж показал Олег Николаевич класс езды! В целях экономии времени гнал сейчас через бор по глухим дорожкам, где не дай бог встретиться мотоциклисту!
Какое-то мгновение Георгий Сергеевич приходил в себя. Каким-то еще не понимающим взглядом посмотрел на странный, тянущийся к озеру бугор за жёлто-синим шатром, на озеро там внизу, соблазнительно поблескивавшее в солнечных бликах. Кинул взгляд за бугор: на лагерь и на палатки и, как свойственно всякому молодому человеку после хотя и недолгого, но утомительного сидения в машине – потянулся сладко и с удовольствием. Потягивался он недолго и, сделав несколько энергичных движений, как свойственно всякому вдвойне энергичному человеку, каким и был по натуре Жора, – сразу же пришел в форму. И вдруг он посмотрел себе под ноги на траву… и увидел, чёрт побери, какая она тут сочная и зелёная. Никогда не бывает такой на выжженной солнцем южной земле! И вдруг ему вспомнилось – где-то читал… Что лев – самое сильное и энергичное из животных – бо́льшую часть своей жизни проводит в сонном и лениво-расслабленном состоянии. Захотелось лечь на этот высшей марки английский газон, какого не сыщешь ни в каком парке, а если и сыщешь, то будешь лишь, как дурак, смотреть на траву под табличкой «Посеяно – не ходить». А газон этот существует здесь сам по себе, и все эти люди запросто ходят по нему босиком, ставят свои палатки, выпускают масло из своих машин и просто лежат, как лежал там, на берегу, какой-то затюканный с виду интеллигент в плавках и тёмных очках… Но лежать Жоре хотелось не так, как делал это сейчас нервный испуганный человек – как-то настороженно дергая головой, то и дело снимая очки и глядя не в яркую обложку своего журнала, а почему-то на него, Жору, и всё ворочаясь на слишком туго надутом резиновом матрасе. Нет! Жоре хотелось не на надувной матрас, а в траву – с невысохшими росинками на розовых головках клевера, хотелось лечь в эту траву с жёлтыми, белыми… полыхающими в ней цветами, в которых жужжали пчёлы… Лечь и послать к чёртовой бабушке эти немецкие удочки и всех деревенских воришек!
Но потерпевший меж тем накрывал стол к завтраку, и это обязывало. Накрывал белоснежной скатертью раскладной столик под сосной. Хлопал дверцами, вытаскивал из багажника банки с яркими импортными этикетками, сверточки и заначки. Ряд вспотевших пивных бутылок выстроился на втором раскладном столике в тени сосны. Два оранжевых полосатых шезлонга принесены были откуда-то хлопотливым хозяином… И Жора вдруг посмотрел на него совсем другими глазами. Не такие уж дураки эти отставные лётчики-рыболовы и нервные профессора, так беспокоящиеся за своё здесь пребывание (о чем тонко ему намекнули, и подмигнули, и многозначительно пообещали…), пребывание – зависевшее с этой минуты не столько от председателя в Вереньках, сколько от него, Жоры!.. Даже вспыхнувшая было идея погреть здесь руки – уже не грела… И, о чудо! Самая голубая мечта – предполагаемая дача в Аркадии и ожидаемые от нее доходы – больше не привлекали! Сидевшая в мозгу картинка – своё персиковое дерево и дыни на растрескавшейся, жаждущей воды земле – казалась бледной и жалкой, деревце – каким-то хилым, а дыньки – маленькими и бурыми, с завявшими листьями в лебеде. Не казалось это всё голубой мечтой…
И вдруг еще что-то произошло в сознании Жоры Лихачева. Он так и застыл, глядя на озеро. То ли солнечный блик, отразившейся от воды, то ли некий луч с высоты ослепил его на секунду – яркий свет вдруг проник через зрение в особый загадочный уголок мозга и что-то там совершил… Ему вдруг представилось удивительное видение – золотой, сияющий в небе фонтан золотого света. Бивший вот тут когда-то – словно сейчас. Золотые брызги падают на траву и впитываются этой землёй, этой зеленью, этим миром. Что за дьявольщина!? Но, чёрт! Лайнер ли, вдруг блеснувший там, в высоте, произвел этот эффект – что-то острое паутинкою вдруг скользнуло в левый глаз и вспыхнуло… Действительно вспыхнуло, как электрический разряд! «Вот, вот… это и есть жизнь, – подумал Жора. – Хоть месяц в году, хоть раз в жизни – на такой вот траве, у озера, глядя на этот лес…»
Но не только это вспыхнуло в мозгу у Жоры. Нашло какое-то озарение – он увидел вдруг невероятные события и всю будущую свою жизнь как в каком-то калейдоскопе. Как вернется к себе в Одессу, обзаведется семьей и на деньги тещи купит себе «запорожец» и отечественную палатку седьмой модели. Найдет работу, чтобы отпуск летом, и будет мечтать о том, чтобы на весь месяц приезжать сюда, на это озеро… Но не сбудется это ни тогда, ни еще через год и два, а только в неведомые времена… Он переживет кучу жён и тёщ! Что за ерунда? «Вечный жид! Вечный жид!» – что-то ёкнуло в голове, как вражий голос в радиоприемнике, и раздался гнусавый смех… Жора тряханул головой, и увидал, наконец, это далекое будущее. Неимоверно далекое. И непонятно, в какой реальности. Как всё-таки приедет сюда, потому что ему будет разрешено… Хоть будет это не скоро, через уйму лет, но всё сбудется – как в каком-то обратно прокрученном кинофильме промелькнуло в памяти Жоры, именно в памяти, будто он всё это пережил. Вон там, на краю лагеря под березой будет стоять его палатка рядом с профессорским «опелем»… Даже нет, он такой модели не знал. И будут всё знакомые лица, потому что им будет разрешено… И даже будто бы наоборот… И какое-то оцепление, войска, охрана. А почему это будет особым районом и заповедником, того Жора сейчас не знал и понять не мог… Только был уверен, что всё сбудется и всю его долгую жизнь какая-то сила будет тянуть сюда, как притягивает на этот кусочек земли всех, кто хотя бы миг побывал здесь. Нет, притягивать не всех. Таких, как Жора, но не таких, как этот лётчик-истребитель. Почему? Он не знал, в чём разница, только понимал: не всех пустят. Многие будут званы, да немногие призваны… И всё потому… Необратимый спонтаногенез… Дупликация. Сверхразум. Что-то ещё стучалось из глубины памяти, увиденное словно в перевернутый, всё уменьшающий глаз бинокля… И – что за сила, скрытая в этом сиянии, глубоко в земле – там, под этой травой – что за таинственная и неуловимая? До конца жизни не поймет Жора этой загадки… но будут те, кто поймут. Только не очень скоро. И в сознании его возник круг, перечеркнутый двумя линиями – косой крестик. Буква «Х» шалашиком над точкой в самом центре окружности…
«Мать, честная! Галлюцинации!» Никогда не было их у Жоры… Самое время выпить, – подумал бы на месте Жоры кто-то другой, но сам Жора так никогда не думал… Он вечно страдал и мучился, если пить приходилось.
А между тем раскладной столик переставлен был в тень сосны – передвинувшуюся согласно движению солнца в небе. Так надолго застыл в раздумьях привезённый из города сотрудник милиции. «Уснул он там, стоя, что ли?» – подумала тем временем Шурочка, глядя из-за бугра. Радивый же хозяин не рискнул вывести гостя из нашедшей вдруг на того задумчивости, он принял это за добрый знак. «Осматривает место происшествия!» – решил Олег Николаич.
На крахмальной скатерти появился копчёный угорь и нарезанный ломтями окорок с прожилками белоснежного сала, приобретенные у хозяйки Фани; ещё не засохший минский хлеб; крестьянское самодельное масло, раздобытое в Шабанах; срочно сваренная Машей бульба и даже та самая сковородка с золотистыми хрустящими окунями, выхваченная с пылу-жару из-под носа у Шурочки – девочка и глазом моргнуть не успела. Олег Николаич только мрачно взглянул на неё из-под кустистых бровей: «Мол, так надо». Наконец, на столе появился дымящийся котелок с ароматной ухой из щуки и двойняшка распитой вчера вечером у костра «Зубровки». Мы, впрочем, не можем с уверенностью сказать, что было в самой посуде. Может быть, квас, который Олег Николаевич всюду возил с собой и сам делал из концентрата, а может быть, молоко из-под Фаниной Буренки или ещё что-нибудь, раздобытое по случаю в деревне… Жора радостно встрепенулся, потянул носом, и гость с хозяином сели завтракать. Хотя время, по меркам Жоры, шло к обеду…
Как раз к этому времени Шурочка с Василием Исаичем кончили свой немудреный завтрак, ограничившись кофе с чаем и бутербродами. Сан Саныч вообще не покидал наблюдательный пункт на берегу, всё равно позже предстояло кормить Фиму с Додиком – его оболтусы-сыновья захотели ещё поспать.
О чём шла речь за трапезой под сосной, Шурочка могла только догадываться, поглядывая за бугор на цыпочках со своего поста: заранее варила на примусе борщ к обеду. На втором «шмеле», тоже поставленном на высокий, сколоченный из досок стол, вскипало вечно скисавшее раньше времени молоко. Кофе по-варшавски – таков был заведенный раз навсегда закон в лагере Василия Исаича и профессора. Что бы ни пили у неприятеля «за бугром», здесь же и в первый, и во второй завтрак, помимо чая, предпочитали этот напиток.
Меж тем «за бугром» разливалось что-то из упомянутой выше посуды с нарисованным на этикетке зубром, мелькал половник над котелком с ухой, и по тому, как всё шире и шире разводил руки Олег Николаевич в известном жесте всех хвастающих рыболовов-любителей, Шурочка поняла, что речь идёт о размерах добываемой щуки.
Потом был во всеуслышание призван Вадик. Олег Николаич в позе убитого горем Тараса Бульбы отвернулся от сына и стал бить себя в грудь. И по тому, как встречен был приблизившийся Вадик укоряющими кивками, полными отеческой печали, и по тому, как ему обличающим жестом ткнули пальцем в грудь, после чего Вадик пожал плечами и ушёл к Леночке в палатку, Шурочка поняла, что речь шла о приключениях на Чудском озере в прошлом году и повторен был вчерашний рассказ о не проявленном Вадиком героизме в ту самую роковую грозу, когда кончился бензин в моторке, а ветер с берега дул целые сутки. И обличен был Вадик в нежелании своём жертвовать жизнью в волнах Чудского озера, а далее, видимо, был повторён также знакомый уже рассказ о непередаваемом героизме самого бывшего лётчика-истребителя, что подтверждалось бурной жестикуляцией, передававшей отчаянную борьбу с водной стихией.
В этот момент молоко под носом у Шурочки начало убегать, и она, прикрутив «шмеля», поспешила с кастрюлькой в руках к заждавшимся её мужчинам.
Уныло выглядевший Сан Саныч, решив, что трапеза «за бугром» грозит затянуться на часы, решил-таки наконец позавтракать. Встали и его дети. Толстенький Додик, сидя за столом, лениво протирал глаза и мученически дожевывал бутерброд. С осени ему предстояло штурмовать седьмой класс средней школы. Студент-второкурсник Фима, недовольный исчезновением шезлонгов, так же, как брат, сидел на сосновом чурбаке, но его худая долговязая фигура никак не могла приспособиться к низкому и твердому сидению, и поэтому в его лице помимо вечной снисходительной меланхолии отражалось раздражение. Он нервно пощипывал наметившийся пушок над верхней губой и постукивал ложечкой о стакан в ожидании кофе.
– А где рыба? – спросил Фима, когда Шурочка разлила молоко по кружкам. – Опять сожрали коты? Зря мы только чистили её вчера…
Шурочка закрыла банку с растворимым кофе и ничего не ответила. Она знала, что Фима терпеть не может сыр с тмином, но больше ничего на бутерброды нет: пора было ехать за продуктами в Литву. Она посмотрела на дедушку, который всё ещё копался в моторе своей старой заслуженной «победы».
– Новой наловим, – сказал Сан Саныч. – Надо было угостить местную власть.
Василий Исаич захлопнул капот и молча подсел к столу. Он тоже, как и профессор, подумал о том, что надо бы послать «за бугор» непочатую бутылку коньяку, что лежала у него в багажнике, да как-то это всё неудобно…
Как раз в этот миг Жора Лихачев встал из-за стола и, поблагодарив хозяина, почувствовал, что если сядет сейчас в услужливо раскрывшиеся перед ним «жигули», то встать уже будет очень трудно… и будет ему тогда не до удочек и деревенских воришек. Поэтому он вежливо отказался от заманчивого предложения хозяина сесть в машину и сказал, что пройдется в деревню пешком, благо Шабаны были недалеко.
Все головы завтракавших по ту сторону бугра повернулись в направлении следователя, который бодро шагал вдоль озера по тропинке. Тот почувствовал это и даже вспотел. «Как сквозь строй! Чёрт бы их всех побрал!» – вздохнул Жора.
«Стойкий парень, – отметил про себя Сан Саныч. – Неизвестно ещё, к чему это приведет».
«Выпивали! – с усмешечкой подумал Фима, заметив приметную красноту лица, что всегда в таких случаях выдавала Жору Лихачева. – И, однако!.. – почувствовал Фима некоторое разочарование, ибо шаткости в походке следователя заметно не было. – Кто их там разберёт!»
А Додик, введенный Шурочкой уже в курс дела, радостно ухмыльнулся и, сверкнув карим и зелёным глазом, внутренне ликовал: «Ура, ребята! Вон куда мент попёрся!» Ликование же было вызвано тем, что направился следователь не назад Поставской дорогой в сторону бесчисленных дотов как наиболее логичного места хранения ценных приобретений, что, конечно же, ребята из Шабанов должны были понимать, а пошёл он совсем в противоположную сторону, то есть прямиком в деревню, где никакой дурак ворованные удочки держать не будет.
Подобная мысль пришла между тем и самому Олегу Николаевичу. Пообщавшись за завтраком со следователем, он с сожалением сделал вывод: «Хоть и не промах парень, а молод ещё!» Не доверял молодости Олег Николаевич. Яркий тому пример в виде Вадика был всегда у него перед глазами. А потому, разочарованно посмотрев, в какую сторону пойдёт молодой специалист, Олег Николаевич только плюнул с досадой. Ни хрена не найдёт его удочек этот следователь! Не там ищет! И, смекнув, что один детектив – хорошо, а два – лучше, решил провести свой собственный параллельный поиск в одном из окрестных дотов четырнадцатого года, где не далее как вчера в полдень, возвращаясь с хутора от стариков, засек предполагаемых злоумышленников.
А дело было так. Выходя из хаты бабы Зоси с двумя пустыми бутылками из-под «Зубровки», с крыльца еще увидал Олег Николаевич, как в конце сада, в хозяйских поречках, мелькнули две знакомые теперь фигуры шабановских пастушков, которые вечером «уведут» его снасти. А так как настроение у отставного летчика-истребителя было хреновое – не разжился он у стариков тем, чем предполагал разжиться и что раздобудет лишь к вечеру у хозяйки Фани, то решил хоть внушение сделать воришкам, отвести душу, морально на них, как говорится, повлиять. Кому ещё воспитывать растущее поколение? А потому не свернул он с крыльца за угол хаты ровненько к себе на озеро, а, стрельнув глазами, как вороватый кот, двинулся напрямик через сад и вломился в смородиновые кусты. Но, увы! Не было в поречках воришек, не интересовала их хозяйская смородина! А то, что увидел он дальше, где сад кончался, – скрытое в одичавшей черёмухе, было входом в хозяйский погреб. Но сунул и туда свой нос любопытный Олег Николаевич, и понял вдруг, что это не погреб вовсе, а ещё один вход в старый фрицевский дот, что бетон – немецкий, качественный, что построено на века: простоял сто лет и ещё столько же простоит! А, заглянув внутрь, понял, что никакой это и не дот, а вход в какое-то подземелье. Спустившись на пять ступенек в кромешной темноте и не отважившись ступить дальше без фонаря, он услышал детские голоса и эхо удаляющихся шагов – гулкое шлепанье по воде… Мерно, капля за каплей, капало где-то рядом… Нет, не страх объял бывшего летчика-истребителя, когда вдруг пискнуло… и что-то посыпалось за воротник… Просто решил Олег Николаевич, что придет сюда как-нибудь с фонариком в рыбацких резиновых сапогах. Над головой хлюпнуло, и за воротник уже потекло… И тотчас же выскочил Живулькин на свет божий….
Вот что вспомнил Олег Николаевич, когда следователь Лихачёв зашагал через поляну в направлении Шабанов. Вот почему, громко проклиная Вадика, битый час обшаривал всю палатку, каждый угол в машине и траву у костра в поисках электрического фонаря, который, как отлично помнил Олег Николаевич, видел ещё вчера и сам сунул куда-то, а куда – забыл. Ну, куда мог деться распроклятый фонарь? Новенький, допотопной модели, купленный в «уцененке» за тридцать шесть копеек! Как было не купить? Но эта чёртова черная жестянка с лампочкой внутри имела злосчастное свойство зажигаться сама собой и попадать под руки, когда не надо, а также деваться неизвестно куда, как только в фонаре возникала надобность.
Найдя наконец фонарик в багажнике, в брезентовом мешке с картошкой, Олег Николаич понял, что Вадик был ни при чём. Поэтому, испытывая укоры совести, он не стал говорить сыну о намеченном предприятии, забыл даже выключить опробованный фонарик. Вспомнил только, что капало с потолка и надо бы прихватить плащ с капюшоном… А напрасно обруганный, обвинённый в пропаже электрического фонарика Вадик, удалившийся загорать на бугор, вдруг забыл нанесённые ему обиды и, привстав на надувном матрасе, не в силах крикнуть от изумления, растроганно провожал взглядом удаляющуюся фигуру отца… Олег Николаевич в брезентовой списанной плащ-палатке и рыбацких своих резиновых сапогах до пояса, с зажатым в руке горящим фонариком и с каким-то решительным целеустремленным видом шагал по поставскому большаку, поднимая пыль под палящим солнцем.
Знал бы Вадик, как удивится бабка на хуторе, выглянув из окна хаты и увидев Олега Николаича в таком обличье, воровато высматривающего из её поречек. Он и впрямь то и дело оглядывался вокруг – не заметят ли его старики, не обвинят ли в интересе к хозяйской смородине?
Но бабке было не жаль ягод. Дочки уже наварили варенья на всю зиму. Испугал её нелюдский крик, раздавшийся вдруг из склепа. Не знала она, что кричит Олег Николаич от радости, осветивши фонариком последнюю не затопленную водой ступеньку, на которой, прислоненные к цементной стенке, стояли его родимые – бамбуковые немецкие удочки, купленные в прошлом году, если честно сказать, за шестьдесят три рубля. Семь рублей он дал сверху.
Удивит, несказанно удивит Олег Николаевич всех обитателей лагеря своей находкой. Но то, что принесет из деревни не далее, как через час молодой следователь Жора Лихачев, – не просто удивит ещё больше, а положит начало всей этой истории и даже можно сказать, – новой эре в истории человечества, о чём по-разному будет рассказываться во всех учебниках.
Глава 4. Расследование в Шабанах
В тот самый миг, когда свет электрического фонарика выхватил из темноты склепа прислоненные к стенке удочки, Георгий Сергеевич Лихачев делал свои последние исторические шаги на подступах к Шабанам. Позади него остались тихая синь озера, простор неба и залитые солнцем холмы с шумящими на ветру соснами. Он пересек вымокшее на дождях поле колхозной картошки, хилой и погибающей от излишней влаги, и спустился в низинку, поросшую хмызняком. В конце тропинки в просветах между ветками ольхи виднелись разъезженные колеи деревенской улицы. Но прежде чем вывести на дорогу, тропа пересекала ручей, топкие берега которого, перемолоченные копытами коров, являли собой разбухшее от воды торфяное месиво. Но, к счастью, в этой топкой жиже неведомыми благодетелями были разбросаны случайные предметы. Жора с опаской ступил на сплющенное цинковое ведро, потом – на кирпич, на выкрашенную синей краской доску, а оттуда, перепрыгнув через ручей, – на кочку, укрепленную корнями ольхи. Здесь было посуше и уже рукой подать до шабановской дороги, по другую сторону которой за изгородью из проволоки бушевала чья-то картошка. А выше зеленых борозд, на вершинах холмов, что тянулись грядой вдоль дороги, в синем просторе шумели сосны.
Жора выбрался из ольшаника на дорогу, которая оказалась сухой и песчаной, и вдруг повеяло таким простором, таким здоровым и свежим запахом разогретой на солнце хвои и картофельной ботвы вместе, что он опять, черт возьми, подумал: «А не дурак был тот, кто здесь жил и этакой узкой лентою вдоль дороги отмерил себе огородище такой длины, что крыша высокого дома виднелась вон как далеко из-за старых кленов!»
Если б был Жора местным жителем или хотя бы поинтересовался у сторожилов, то узнал бы, что огород этот весьма хитро себе отмерил еще «за польским часом» смекалистый мужик Фома по прозвищу «скупой» и растил там, как сам любил говорить, «и бульбу, и дроуцы», ибо «кожнае лета бурэла» за огородом самая большая сосна, о чем, беспомощно разводя руками, докладывал он пану… Что ни год к осени краснело своей сухой хвоей самое высокое дерево в два обхвата, и дров скупому Фоме хватало до весны. Как ни старался ясновельможный пан Червинский выяснить истинные причины столь регулярного усыхания сосен в огороде Фомы, как ни подсылал своего лесника – ни насечек на основании ствола, ни подруба корней, ни еще какой-нибудь порчи при всем желании обнаружить не удавалось. Даже почву брал на анализ выписанный лесничим из Варшавы консультант… Засыхало дерево словно по желанию самого Фомы… И никому-то не приходило в голову заняться подсчетом сосен на его участке. Сколько ни рубил он по исполинской сосне в год, количество самых больших деревьев оставалось одним и тем же. И сколько ни ломал голову над этой загадкой Фома, махнул, наконец, рукой, решив, что без дьявола не обошлось: не зря говорят, отец его знался с чёртом… и каждую осень, как прежде батька, собирал Фома на своём огороде урожай картошки и урожай дров. Прозвище «скупой» тоже перешло к нему от отца, как и само имя Фома, да и похож стал на того к старости, как две капли воды. Так говорили здешние старухи и поскорее крестились, вспоминая Фому-отца. Все считали, что был колдун. Но прославился старший Фома не этим. Мало ли ведьмаков по здешним лесам? И даже не скупостью своей чрезмерной был он знаменит, такой скупостью, что вся хата, и хлев, и специально выстроенное высокое гумно были завалены бог весть откуда бравшимся старым хламом: какими-то подержанными вещами, тулупами и кусками овчин, изъеденными молью треухами, старыми сапогами, почему-то всегда без пары. А пол был заставлен лавками, сундуками и разными этажерочками, деревянными колёсами от телег да полозьями для саней. Всё это барахло извлекалось с чердаков и подвалов и «у неделю» вывозилось на базар, где продавалось, с чего, говорят, и имел Фома кое-что за душой… И бог весть, откуда все бралось?! «Бог дал!» – отвечал Фома встречным мужикам, возвращаясь из леса с кошиком боровиков где-нибудь в середине мая, когда и грибов-то в глаза ещё не видали, и держа по обыкновению под мышкой какой-нибудь старый сапог или новенькую шапку-ушанку чёрного барашка. «Бог дал, бог дал…» – смиренно кивал Фома удивленным односельчанам, как-нибудь июльским вечером возвращаясь с паствы: замахиваясь на коров своей пугой и привычно неся до хаты какой-нибудь ладненький, найденный где-то барашковый кожушок. И вскоре никто уже не удивлялся, что бог дал Фоме талант находить. Идет он, бывало, с кем-нибудь по дороге, не на свата смотрит или там соседа, и не ворон в небе считает, а под ноги себе глядит. И находит, чёрт его дери! То трешницу, а то грошик или золотой. Бредет с ним, бывалоча, какой-нибудь небарака с панской лесопилки, несет в кармане бережно завернутый в тряпицу заработок за целый день работы, и вытащит, решит похвастать: «Вось, зарабиу сёння, гляди, пятак»!», а Фома согнется – из-под ног у себя такой же пятак поднимет! А когда потеряла паненка в лесу дорогую серёжку с бриллиантом, о том сказано было Фоме и показано место. И нашел серёжку Фома! Принес пану, за что, по-видимому, и махнул рукой пан Червинский на ежегодное усыхание сосен в огороде Фомы. Правда, говорят, что вторую, точь-в-точь такую же серёжку продал Фома тайно поручику Козловскому, ухаживавшему за пани Зосей, а ещё одну купил у него купец Ферапонтов. И когда оказалось у паненки три одинаковых серёжки вместе с непотерянной четвертой, то бишь, две одинаковые пары серёг, речь зашла об искусной подделке, вышел скандал, и обоим женихам дали от ворот поворот. А потом вдруг заварилось такое!.. Никто даже и не заметил, как нашел себе Фома сына, да и не удивился этому уже никто. Ну, привёл откуда-то трехлетнее дитятко, родила какая-то бродячая божья странница и отдала Фоме. Бог дал! Чего не бывает?! Было чему удивляться и без Фомы: все только и говорили тогда об этой истории из-за наследства, которая вдруг заварилась и кончилась сама собой, потому что внезапно исчезла, пропала вдруг неизвестно куда сама наследница прекрасная пани Зося. Только, говорят, никуда она не пропала, а убежала в Америку со своим вторым любовником, каким-то молодым профессором-иностранцем, приезжавшим из-за границы читать лекции в самом Вильне, о чем даже в Поставах были расклеены афиши. А кто говорил, что был он вовсе и никакой не профессор, а индийский маг и факир, потому что видели их как-то раз потом с пани Зосей – и было это уже, когда в маёнтке хозяйничала пани Эльжбета, а кости русского князя лежали в золотом гробу в каплице над Долгим озером, и всё потому, что истинная наследница – старая княгиня, тетка пани Зоси – после пропажи любимой племянницы выжила из ума… Так вот, говорят злые языки, что видели красавицу Зосю вдвоем с любовником-индусом после как-то – уже поздней осенью: пани Зося была в роскошной дорогой шубке, а загорелый спутник ее босиком шагал по свежевыпавшему снегу в одном каком-то исподнем балахоне из кисеи. Другой раз будто бы видели пани Зосю одну в бальсане на могилке её первого любовника – того художника, что стараниями русского князя сошел, говорят, с ума в виленской тюрьме, когда заварилась вся эта история из-за наследства… А кто говорит, что была это пани Эльжбета, которая приходилась хоть и дальней родственницей пани Зосе, и была не такой раскрасавицей, но тоже любила виленского художника, бывшего Петинькиного учителя… Да! Была это точно пани Эльжбета, потому как, чего скрывать, была к тому времени пани Зося давно уже в Америке, куда увёз её вместе с младшим братом Петенькой сразу же после смерти их отца никакой не индиец, а законный муж – то ли сказочно богатый банкир, то ли некая скандальная по тем временам американская знаменитость. Всем он как снег на голову свалился! А виленский-то художник, вышел потом из тюрьмы, когда русского князя хватил удар, но вскорости умер от чахотки в Варшаве, где пани Эльжбета родила Софочку, которая тоже не дожила до трех лет, и сама бедная мать скончалась от такого горя. Их обеих похоронили в Маньковичах, в семейном склепе. Но было это уже накануне четырнадцатого года, потом пришли немцы и выкинули кости русского князя из золотого гроба прямо в Доуже, а на месте каплицы построили один из самых больших фрицевских дотов. С тех пор и почти до самой войны с фашистами хозяином всего маентка, как и имения в Маньковичах, был младший кузен пани Эльжбеты, тоже из обедневших Червинских…
Любил, ох любил об этом рассказывать покойный сосед Фомы, бывший портной Адам Казимирович, известный в округе как дед-балабол. Всю свою жизнь, сколько помнили его туристы, отдыхавшие на Воронце, ходил Адам Казимирович в своих офицерских, еще старой армии, штопаных-перештопаных штанах с заплатками на коленях, сделанными профессиональной рукой. И однажды на удивленное замечание Шурочкиной бабушки, что, мол, как же хорошо зашито, отвечал Казимирович с потаенной грустью, что шивал он и не такое. Была у него в Америке своя швейная мастерская, и дела шли хорошо! Останься Адам Казимирович в Соединенных Штатах, был бы теперь Ротшильдом или Макдональдсом в портновском деле. Ах, зачем, зачем не остался?! Но не за этим отправился за море Адам Казимирович, не хотел он делаться тамошним миллионером. Была у него мечта: заработать деньги и купить свой хутор, стать хозяином здесь, на родине – очень хотел иметь свою землю. И заработал, хорошо вдруг пошли дела, изобрел какую-то особенную швейную машинку и стал бы точно миллионером, останься ещё на год-другой… но всё получилось как задумал – с золотом вернулся назад и купил землю, и хутор завел на Светлом озере… Да только техникой для хозяйства обзавестись не успел, прикупил было скот и нанял работников – да тут пришли немцы в четырнадцатом году! Отобрали у него всё золото да «жывёлину» – всё, что заработал в Америке, и остался он на пустой земле, и опять всё надо было начинать по-новому без гроша. И начал Адам Казимирович с нуля во второй раз, был ещё молодой. Сам работал с утра до ночи, света божьего не видал – дела пошли на лад. Да только лишь он снова разбогател, встал, как говорится, на свои ноги, – и опять война! Теперь уже с немецкими фашистами. Ограбили его и эти немцы, и снова он – голь перекатная, хорошо – жив остался. Но прогнали и немецких фашистов. Вот тогда-то пришли советские большевики, и теперь уже, после победы, не стало никакой жизни. Отобрали у него землю, хутор взяли и отняли ни за что ни про что – и согнали их всех, таких же, как он, – жить колхозом в деревню Шабаны, где прежде селились одни только пришлые безземельные батраки, а пан Червинский выделял им у хаты землю для огорода.
Нет, в третий раз заново жизнь было не начать, начинать теперь было бесполезно. Да и старость пришла, долгую бог послал ему старость. Спал по дотам, в шалаше летом прятался, собирал ягоды и грибы, зимой тайно, втихую портняжил, шил кому-нибудь шубу или штаны, но в колхоз не вступил, не поддался – так и не простил большевикам отнятый хутор, не простил Адам Казимирович коммунистам, что отобрали у него его землю на Светлом озере… Как он теперь проклинал судьбу, что в Америке не остался! Купил бы себе землю там и стал фермером где-нибудь в Техасе… И никто бы у него его землю не отобрал! Все уши прожужжал он приезжавшим на озеро туристам своими байками, за что и кормили и поили его отдыхающие и очень его жалели. Никак не могли понять, отчего этот старикашечка, не получающий никакой пенсии и живущий тем, что продает собранную им самим землянику на поставском базаре, отчего предпочитает порой ночевать рядом с их палатками в каком-нибудь доте, наваливши на пол еловых лапок, но боится идти в заколоченную ныне хату, где коварные соседи и родичи «хотят у него всё отобрать»! Невдомек было городским отдыхающим, что ж такое отобрать можно у столь жалкого старика. Всё выяснилось, однако, не далее как прошлой весной, когда скончался Адам Казимирович в доме для престарелых, определенный-таки туда немалыми трудами Вереньковского председателя, и когда в профессионально сделанных заплатках на коленях царских офицерских штанов были найдены аккуратно зашитые золотые монеты.
Ох, и пожалели же многие – очень многие, кто не поверил в своё время старому Казимировичу, кого водил дед-балабол к старому кедру – а водил он туда всякого нового, свежего человека и трясущейся рукой старчески тыкая своей палкой в фундамент каплицы, шептал: «Здесь надо копать. Здесь… Только я знаю…»
Но охотников делить пополам обещанный клад скупого Фомы не находилось. Да и как было верить, когда истории о мифическом кладе, о тайном закапывании его здесь в одну из темных грозовых ночей четырнадцатого года, предшествовала та самая знаменитая байка о вознесении скупого Фомы на небо! Вредил, ох вредил сам себе Адам Казимирович! Ну, кто в наше просвещённое время поверит, что можно просто так вознестись на небо?
Вот, собственно, и подошли мы в нашем рассказе к тому, чем знаменит был скупой Фома, а точнее, Фома-сын, и чего, к сожалению, не знал наш поставский следователь Георгий Сергеевич Лихачев. А известен Фома был тем, что улетел к богу на небо за своим золотом.
«Бог дал, бог и взял!» – торжествовал покойный Адам Казимирович, подходя к кульминационному месту своего рассказа, не подозревая даже, какой тайный – второй смысл – имеется в его словах, и злорадненько поглаживал бородёнку. А рассказ заключался в следующем.
В последние годы своей жизни, за несколько лет до войны с фашистами, когда в имении вновь начали наводить свой немецкий порядок наследники мужа старой княгини – барона Беренгауза, Фома стал не только скуп, но и подозрителен. Глядя на опять выраставшие, как грибы, красильни, оборудованные машинами прядильные цеха, электрические мельницы и маслобойни, напоминавшие ему то легендарное время, о котором наслышан был от отца, прожившего, говорят, больше, чем двести лет, стал Фома очень уж опасаться за какую-то свою тайну и за золото, не закопанное в четырнадцатом году. А потому, говорят, сложил все свои монеты в столбик и зашил в черный чулок, а чулок тот всегда держал у себя за пазухой в шапке-ушанке чёрного барашка.
«Ну что, золото при тебе?» – хлопнет, бывало, дружески по груди кум или сват – и точно, чует: есть что-то твёрдое за пазухой у Фомы.
Очень злился Фома на подобные шутки и сторонился людей. Вот однажды, когда Фома храпел на печи, решил его меньший внук посмотреть на дедово золото. Размотал бабкину хустку, которой поверх телогрейки закутан был Фома зимой и летом, и, расстегнув все пуговицы, сунул руку деду за пазуху. Нащупал там шапку, а в шапке и впрямь столбик монет в чулке, да и вытянул весь чулок. Тут дед проснулся и только хотел отобрать у внука свое добро, как чулок этот, словно живой, изо всех сил стал вырываться из рук у мальца да и вырвался, наконец, сиганув с печи. На глазах у оторопевшего внука прыгнул с печки на пол Фома вслед за чулком и ухватил в самый последний момент у двери, когда тот в щель норовил пролезть. И потащило старика из хаты! В сени, потом на порог… А с порога, как есть, под крышу и вверх… Заголосили невестки с дочками, что на лавке у крыльца стирали. Руки в мыльной пене заломили – и кричат так, что в вёске услышали. Высыпали люди из хат. Держится за чулок Фома, не выпускает, а тот выше в небо из рук рвется. Вся деревня видела, как превратился Фома в маленькую чёрную точку за облаками… А золото, говорят, ярче солнца сверкало сквозь черный чулок. Нелюдское это было золото…
«Бог дал, бог и взял!» – удовлетворенно заканчивал свой рассказ Адам Казимирович, после чего желающих откапывать вторую половину «нелюдского» золота не находилось.
Но не знал всего этого Жора Лихачев… А многое, очень многое мог бы узнать молодой поставский следователь, интересуйся он хоть немного историей родного края… Ну, пусть, не родного, но той земли, где волей судьбы приходилось ему отрабатывать свой трудовой долг. Жора же только успел наспех выяснить, что на всю округу… (А округу эту, к слову сказать, неизвестно было никому, как и назвать-то, потому что сходились тут как на зло своими границами аж три соседние области. И хоть «округа» эта богата была, как раз, своими историческими событиями, обозначалась она на карте лишь изогнутой линией в виде буквы «Т», разделявшей три вышеупомянутые области. А что такое линия? Ряд точек, нечто в высшей степени абстрактное и неконкретное… Даже разрешение на порубку сосен, которые по-прежнему продолжали периодически усыхать на радость потомкам Фомы и приезжим туристам, не надо было спрашивать ни у какого председателя – ни у вереньковского, ни у лотвянского, ни у начальства из Манькович – потому что никто не знал, чья же это земля – Т-образная граница на карте… Та песчаная гряда холмов со старыми соснами за огородом Фомы, переходившая в высокий берег, где селились туристы…) Так вот, успел-таки выяснить молодой следователь, выезжая на место происшествия с потерпевшим, что на всю округу числилась лишь одна подозрительная личность – мелкий вор и тунеядец, единственный нарушитель спокойствия местного участкового – некий Константин Дубовец, специализировавшийся исключительно на крадении съестного. То есть, воровал он у соседних бабок, по свидетельствам потерпевших, копчёные окорока, подсыхавшие на заборе, крынки с молоком, банки с компотами и вареньями из погреба и прочую снедь, за что периодически попадался и отбывал срок, так как работать в колхозе не хотел, а есть-пить, как говорится, каждому надо. С виду же он был парень «кровь с молоком», а – с чего, спрашивается, как не с ворованного по соседству? Где, однако, добывал Константик, как любовно называли его сами потерпевшие, всё остальное, что требуется человеку в жизни, хоть и по самому минимуму запросов, – никто доказать не мог, ибо уличить Дубовца ни в каких других покражах, окромя варенья и окороков, начальству не удавалось. Да и обвинения, опять-таки, к слову сказать, не тянули: хиленькие они были, кволые – основывающиеся на неуверенных показаниях пострадавших и молчании самого Константика. «Откуда у тебя смородинное варенье? – спросит, бывало, со всею строгостью участковый. – Не из погреба ли соседки Яди?» Признает Константик, что из погреба, кивнет виновато головой и молчит, а что ему ещё ответить? Не сам же он это варенье варил…. А бабке-то и не вспомнить зимой, пять у неё на полке стояло или шесть пол-литровок этого самого черносмородинного варенья. Больше, кажись, сварено было летась из вишни да алычи…. Поэтому не сказать, чтоб доставлял он много хлопот участковому инспектору. Не возражал обвиняемый, когда его уличали, не возражал. Да и как было возражать? Идет, бывало, бабка к автобусу мимо Константиковой хаты, яиц в город дочери к Пасхе отвезти. Глядь – окорок на заборе сохнет! Её окорок! В еёной собственной пожелтевшей марлечке, раздобытой у фельдшерки в лотвянском ФАПе. Тот, зашитой чёрной махристой ниткой с треснувшей катушки. Из-за проклятущих узелков всё на свете прокляла, пока зашивала…. Забудет бабка про Пасху с яйцами – и спешит на другой автобус, не в Кабыльники, а в Латву – не к дочке уже, а к участковому что есть духу! И завертится очередная история!.. И найдет уж, бывало, бабка та окорок свой за печкой, куда сама подвесила на Коляды. По запаху найдет, протухший… И соберется уж каяться участковому, что напраслину на сиротку навела… Да пока соберется, пройдет по деревне новость: сидит Константик. Продал кому-то в Мяделе на базаре колхозное порося… И не отправится к участковому потерпевшая: «Всё равно ж у кого-то украл… а хоть бы и порося!» Только совесть одна ей не даст покоя, и помолится за сиротку, за мать покойницу – царство ей небесное, небарака, всю жизнь «на колхоз рабила», а без пенсии померла! Не дожила, бедная… И греха, может в этом нет, что у сыночка-сиротки телевизор в хате, али окорок на заборе? Может, ойтец-то наш, пан бог, по справедливости наконец судить начал!? И отправится в фэст да костелу, свечку купит: скоро, скоро уж конец свету… Да ещё подумает: а и то… у царкву, что ль, к православным пойтить – другую свечку поставить – за здравие дитятки обговоренного, сиротки бедного, сына божьего Константика?..
Потому-то и не мог понять участковый, почему это бабки, у которых ворует Константик, так любовно относятся к обвиняемому? Не было у него любовного отношения к тунеядцу. Откуда в хате у Дубовца и телевизор, и магнитофон, и газовая плита? Кто и как доставлял хотя бы те же баллоны с газом – оставалось величайшей загадкой. Было достоверно известно, что ни один местный шофер – ни «левый», ни из «мингаза» – никогда их ему не возил, а придет участковый воспитательную работу провести, поговорить о жизни – встретит радушный прием: выйдет Константик в сени, спичкою у конфорки чиркнет, чайничек вскипятит. И чайком угостит всегда хорошим… вроде как индийским, привозным. Не грузинским из Вереньковского сельмага. А к чаю всегда – какой-нибудь шоколад. Друг, говорит, из города угостил… В погребе у бабки Яди таким, ясное дело, не разживёшься. Ну ладно, вздохнет участковый. Друг, так друг. На следующий же вопрос участкового «А откуда у тебя газ в баллоне?» Дубовец неизменно отвечал, почёсывая затылок:
– А чёрт его знает, как это происходит, я и сам не знаю. От матери ещё остался. Не кончился вот ещё… Много ли мне одному надо?
И ответ этот, поражавший искренней задумчивостью, слышал не один участковый, навещавший за десять лет деревню Идалина, что мирно лежит на берегу Идалинского пруда через шоссейку от Шабанов. В ответ же на вопрос, откудова магнитофон и приёмник с чёрно-белым телеком, Дубовец говорил, что сам собрал из деталей в школьном кружке «умелые руки». Однако же, когда позапрошлым летом появился у него в хате цветной японский телевизор, подозреваемый рассказал историю про подарок минского друга. И впрямь, школьный друг Константика жил теперь в Минске, женившись на дочке директора «Столичного» гастронома, что возле ЦУМА в районе Комаровского рынка, а такой зять, сами понимаете, вполне мог бы подарить что-нибудь и покруче какого-то телевизора… Да и свидетели отыскались… Видели дачники-соседи, как выгружали из «Жигулей» с прицепом две большие картонки с какими-то иероглифами: одну тяжёлую, а одну пустую, а на следующий день рано утром, загрузивши обратно две тяжеленные коробки, увезли. На вопрос, почему было две коробки, а не одна, и зачем было коробки увозить, Константик уверенно отвечал, что во второй коробке была старенькая одежда, подаренная тёщей друга, а чтоб отблагодарить за подарки, нагружены были в коробки яблоки из собственного сада… И махал участковый рукой: «А, дьявол с ним…» – ибо даже у участкового вызывал Константик необъяснимую симпатию, а предпоследний участковый был к тому ж и порядочный человек… Не чета последнему, который засадил-таки Константика за этот треклятый телевизор. Больно завидовал, подлец. Формулировочку, правда, пришлось несколько изменить: «за тунеядство и аморальный образ жизни».
Но не знал, разумеется, всех этих подробностей молодой поставский следователь, шагая по дороге вдоль залитых солнцем рядков цветущей картошки.
«Не мог… Не мог он вчера там быть…» – думал Жора о местном воре, подразумевая под «там» место происшествия. Только вчера кончался срок пребывания Дубовца в лечебно-профилактическом учреждении за пределами Белоруссии, и только со дня на день ждали его в родной деревне. Все ж остальные жители окрестных хуторов и деревень были честными колхозниками, и заподозрить во вчерашней краже было просто некого кроме каких-нибудь сорванцов. Правда, был у Дубовца всё тот же единственный друг Мишка Кривой, младше пятью годами, но и того, кроме школьной дружбы с подозреваемым и совместного посещения кружка «умелые руки», заподозрить было совершенно не в чем. А в последнее время Кривицкий, как была его настоящая фамилия, и вовсе взялся за ум и кроме женитьбы поступил, говорят, в радиотехнический на вечерний факультет, работая днем где-то на непыльной работе при науке, а со слов старушки-матери и старших братьев, получал как будто бы даже деньги за какие-то рационализаторские изобретения… Сказать по правде, и приемник, и магнитофон могли быть сделаны Михасем Кривицким и подарены старшему другу, но старый пенсионер, бывший преподаватель математики идалинской школы, всегда сочувствовавший Косте Дубовцу и сокрушавшийся судьбой способного ученика, твердо свидетельствовал и подтверждал, что и приёмник и магнитофон были собраны из деталей, подаренных шефами с завода «Горизонт», приезжавшими каждый год копать в колхозе картошку. А собраны были они собственноручно Дубовцом, помогавшим ему проводить занятия в кружке, а частенько и заменявшим его самого во время болезни… ибо многое повидал в жизни руководитель кружка «умелые руки». Откуда, однако, в хате у Дубовца японский телевизор, оставалось и для него неразрешимой загадкой. Увы! За эту-то загадку и отбывал свой последний срок тот, кого местные потерпевшие любовно называли Константиком и, утирая слезу, говорили: «Сиротка… Да попроси он у нас, разве ж бы мы не дали? Мать-покойницу жалко, царство ей небесное!» Но Дубовец не просил. На вопрос, однако, «может быть, не он украл?», – ибо улик окромя факта пропавших яиц или загулявшей курицы не обнаруживалось никаких – бабки дружно кричали; «Он, он! Он – вор!», ибо нигде не работавший Дубовец продолжал есть, пить и по-прежнему существовать в деревне Идалина. «А посадите-ка его в тюрьму! Мать-покойницу позорит только!» – расходились вдруг пуще бабки, в которых неожиданно просыпалась злость и даже ненависть к ближнему-тунеядцу. Бывало, уж из лесу выйдет заблудившаяся курица, или узнает бабка, что внучка втихую яйца дачникам продавала, – да лежат уж жалобы на Дубовца… Жалобы эти накапливались, и приходилось участковому принимать меры… Зато как же радовались эти иудины дочки, когда у Константика кончался срок. «Слава богу!» «Нех бэнде! Нех бэнде пахвалёны…» «Нех бэнде пахвалены Езус Христус! Вышел наш Константик!» – только и слышалось через заборы из огородов.
«Не мог… Не мог он вчера вернуться!» – думал между тем Жора, не желая ступать на вроде бы лёгкий путь.
«Жорочка, не спеши! – говорила в таких случаях его родная мама, хорошо знавшая горячий характер сына. – Главное: не спеши! Прежде всегда подумай…» Дед же, коренной одессит, всегда твердил: «Что главное в жизни, молодой человек? Главное – не упустить момент!» И у Жоры выработался свой характер, основывавшийся на правиле: «Всегда подумай, и момента не упусти!» Поэтому и отбросил он версию Дубовца, шагая вдоль длинного картофельного огорода. Оставалась только версия пастушков-подростков, о семьях которых он тоже успел выяснить всё перед отъездом. Было-то их тут на деревню две семьи! «Думай, думай…» – твердил себе Жора, оставляя позади картофельные сотки и старый сад с выглядывавшим из яблонь гумном. Вот и заросшая сиренью хатка: на крыше – аистово гнездо в автомобильной покрышке, а вместо калитки – зияющий проход в заборе… А когда у самого дома дорогу ему перебежала полосатая кошка и, воровато оглядываясь с хищно зажатым в зубах любопытным предметом, шмыгнула в придорожные кусты на другой стороне улицы, Жора тотчас сказал себе: «Не упустить!..» Ибо то, что держала в зубах кошка, было ни чем иным, как утиной головой – при чем не какой-нибудь там, а изящной головкой самой настоящей дикой утки, обрезанной по самые шейные позвонки. Основываясь на этом неожиданном факте, Георгий Сергеевич Лихачев и решил строить своё расследование.
– Тра-та-та! – прошили его как нельзя кстати очередью из самодельного автомата.
Деревянное дуло выглядывало из продырявленной картонной коробки, валявшейся посреди дороги между домом и огородом, что вела на просторный двор. Коробка была большая. «Made in Japan», «Открывать здесь» – было написано сбоку, и рядом был нарисован китайский термос. Коробка приподнялась и побежала от Жоры на тоненьких ножках с грязными коленками.
Отбежав на безопасное расстояние, маленький замурзанный Лёник скинул с себя коробку и предстал перед следователем во всей красе, с автоматом наперевес и сверкая голым животом из-под задравшейся майки.
– Тра-та-та та-та! – ещё раз прошили автоматной очередью незваного гостя.
– Добра стреляешь! – похвалил Жора. – Батька на охоту берёт?
– Не-е… – обиженно протянул белобрысый Лёник и шмыгнул носом, вспоминая какую-то свою обиду.
– А сам-то ходит?
Мальчик кивнул. Насупившись, опустил автомат.
– Да тут… и леса-то, как погляжу, приличного у вас нет… – решил схитрить Жора.
– Лепш гляди! – насмешливо осадил ребенок. – За вёску, вунь, хадить трэба. На Чэцьверць… – и показал автоматом куда-то за свою хату.
Из-за зелёных раскидистых кленов виднелась ещё одна крыша. Деревья и впрямь скрывали синевшую вдалеке полоску леса.
– Да, разве, приносит что твой батька?
– Трёх качак заучора прынес. Падбиу болей… Але Рэкс, паскуда, не усих падабрау…
– Значит, и ружье у твоего батьки есть?
– Ё-о… – протянул Лёник. – Нех бэнде ён… паскуда… – Не разобрал дальше Жора, лишь смутно догадываясь, что опять было сказано что-то нехорошее про Рекса.
«Так держать!» – похвалил себя мысленно Жора, а вслух сказал:
– Что утки! Я, бывало, на кабанов ходил… – и, вздохнув, поглядел на крышу, где шумно вдруг замахал крыльями и затрещал в гнезде длинноногий аист.
– И утки добра, – сказал на это ребёнок. – Кабанов батька тольки в зиму бье… Кабаняты ящэ малые…
Аист ещё сильнее затарахтел в покрышке.
И опять похвалил себя мысленно Жора и хотел было задать следующий вопрос, но в глазах Лёника мелькнул испуг и начала формироваться какая-то запоздалая мысль… Малыш с подозрением исподлобья взглянул на Жору.
– Ну-ка, дай поглядеть! – поскорее заинтересовался тот автоматом, не давая сформироваться этой мысли, и снял с плеча у Лёника самодельное оружие на ремешке.
– Нет!.. С таким на танк не пойдешь! – с деланным сожалением заключил Жора и, резко замахнувшись правой рукой, сделал вид, будто бросает гранату… Ибо хорошо знал, что у каждого пацана в здешних местах есть, как минимум, припасённая где-то лимонка, доставшаяся по наследству от деда. Потом оглянулся и хитро подмигнул малому. – А?..
– Ё-оо! – засиял Лёник. – Айда покажу! – и, обрадовавшись, что догадался, лихо махнул автоматом, приглашая гостя за собой во двор.
Верный Рекс, лежавший под окном хаты, приподнял голову и зарычал. Лёник цыкнул на собаку по-хозяйски. Пёс умолк, лениво вытянулся на траве, виновато завилял хвостом. Выводок чёрных котят у порога, завидев Жору, бросился врассыпную. И пока он, едва поспевая за малышом, шагал вверх между хатой и огородом, поднимаясь к хлеву, что стоял в конце большого, выклеванного курами двора, на пути их то и дело попадалось и путалось под ногами несметное количество собак и кошек всех возрастов. Котята сигали в одну сторону и, выпустив цепкие коготки, ловко взбирались по стенке хаты, исчезали под крышей. Кошки бросались в другую сторону и шмыгали через плетень. Собаки, дремавшие у плетня в тени яблонь, вскидывали со сна морды и принимались рычать, пока Лёник не цыкал на них сердито, после чего они вновь устраивались в мирных позах.
«И впрямь хозяин на кабана ходит!» – подумал Жора, насчитав ещё трех собак. Кошек же было не сосчитать… а котят – пропасть, как звезд в небе.
«И чем они их всех тут кормят, однако?…» – подумал было поставский следователь, но тут на него, грозно забренчав цепью, так рявкнула пятая огромнейшая овчарка, что все подозрения мигом улетучились из головы. Жора обомлел от страха.
– Лежать, Шарик! – знакомо уже, по-хозяйски прикрикнул Лёник, и двухметровый Шарик-волкодав нехотя отступил, взрывая лапами землю злобно и оскорблённо.
– В будку, халера! – повысил голос хозяин, доводя дело до логического конца. Шарик повиновался – с трудом залезая в будку, доверху засыпанную сеном, добрый стог которого был навален в конце двора. Путь к дверям хлева был свободен.
«Хлев», построенный ещё «за польским часом» самим Фомой из добротных сосновых бревен, высился, как дворец, на самой вершине холма. Домишко же, в котором ютилось сейчас лёниково семейство, и стоял пониже, в пыли у самой дороги, и сам был ветхим – серый и покосившийся, как все Шабановские хаты, построенные при панах для батраков и позже, при коммунистах – для колхозников, делавших первый шаг к светлому будущему путем уничтожения хуторов. Окна в халупке были совсем маленькие, слепые. Рамы, однако, были выкрашены ещё недавно ядовито-синей краской, как почему-то и по всей деревне. Крышу тоже, кажется, успели подновить – местами на ней белел новенький шифер. Крыша же «хлева» так искусно была покрыта дранкой, что, по крайней мере, в ближайший десяток лет не нуждалась, по-видимому, ни в каком ремонте.
Двери «хлева», плотно закрытые и хорошо пригнанные, были на каких-то хитрых пружинах, хотя и ржавых, и тотчас захлопнулись за вошедшими. В нос Жоре ударил коровий запах навоза и теплого молока… Это, действительно был хлев. В стойле, однако, было пусто, только кабан повизгивал и похрюкивал за перегородкой. Свернув за Лёником в какую-то дверь направо, Жора неожиданно оказался в другой части хлева, похожей больше на захламленную мастерскую с полками вдоль стен, полными всякого барахла! Помещение было столь просторно, что теперешние хозяева приспособили его под сеновал, и сено, видимо, забрасывали вилами со двора через большое окно, закрывавшееся в свое время изнутри хорошо пригнанными деревянными ставнями, снабженными, опять-таки, какой-то хитрой пружинной системой для автоматического захлопывания. В настоящее время ставни были приоткрыты. Сломанные ржавые пружины торчали во все стороны, и в щель просачивался пыльный свет. Под стеной валялись лопаты и два тяжеленных лома, какими колют лед.
Жора увидел за окном двор и стог сена. Стекла не было. Видимо, его вынули вместе с рамой, а точней, раму, которая оказалась здесь же, прислоненная к стене, выставили целиком, чтобы забросать со двора сено, добрая половина которого уже навалена была в углу до самого потолка.
– Вот халера! – сказал Лёник, взглянув на кучу, потом принялся яростно разгребать её обеими руками у основания, прямо-таки вьюном ввинчиваясь в сено. И пока малый пытался, видимо, отыскать в стогу нечто, похороненное там, как с облегчением можно было предположить, до следующих сенозаготовок, Георгий Сергеевич решил приоткрыть ставни и начать, наконец, собственные поиски.
«Так держать!» – сказал он себе, разглядев в противоположном углу висевший на гвозде старый кожух. На другом гвозде, чуть повыше, угадывалась полоска ремешка. Дело было сделано на пятьдесят процентов. И ставни не надо было открывать. Жора знал, что там, на стене, за вытертой порыжевшей овчиной он найдет то, что ищет. Оставалось только убедиться в том лично, а для этого добраться до противоположной стенки через весь этот хлам: груды запыленного тряпья, заржавевшие тракторные запчасти, наваленные в ужасающем беспорядке старые ведра и сапоги. Обойдя банки с красками и олифой, тоже ржавые, Жора оглянулся на пацана, продолжавшего разгребать стог, и только успел пожелать в мыслях, чтобы не отыскалась сейчас эта чертова граната, с которой не известно что теперь делать, как нога предательски поскользнулась на чем-то склизком… и поехала как по маслу… Будь посветлей, Жора бы разглядел, что то была кучка свежего куриного помёта. Но света было всё-таки недостаточно. Да и было не до того. Жора только услышал, как загремел опрокинутый им чугун, зазвенели бьющиеся бутылки с олифой, и успел подумать, что вот-вот угодит носом в зловещего вида борону на куче каких-то досок… Но что-то спасительно задержало вдруг скользившую Жорину ногу. Он почти удержал равновесие и уже не носом, а только левым локтем угодил в развалившиеся тотчас доски. Жора чихнул и, посмотрев на подошву своего ботинка ещё неведомой здесь никому фирмы «Адидас», тотчас вытер её о то, что, брошенное на пол в мешке, так удачно задержало его падение.
Предмет не сдвинулся с места.
Ощупав предмет носком и ещё раз вытерев об него хорошенько обе ноги, Жора предположил, что это, по-видимому, какая-то очень тяжелая болванка или гаечный ключ от трактора. В конце концов, сложив доски и осторожно переступив через ведро с белилами, он снял с гвоздя овчинный тулуп. Под тулупом на истёршемся ремешке начищенным дулом вверх висело именно то, что и нужно было сейчас молодому поставскому следователю. Он снова прикрыл тулупом так удачно найденное ружьё. Решив, что больше тут делать нечего, следователь как-то воровато оглянулся, бросив взгляд в приоткрытое окошко, и совсем не зря! Из ольшаника на другой стороне дороги, за которым проглядывали стены колхозной фермы, показалась женщина в белом платке, державшая в руке ведёрко. Она вышла на луг и быстро приближалась к дороге.
– Эй, Лёня! – поманил Жора к окну. – Кто это там идет?
– Як черти куды схавали! – отозвался малец, стряхивая с себя сено. – Не найти халеру!
– Давай-ка скорей! – поманил рукой Жора.
Мальчик мигом оказался рядом, без труда преодолев все препятствия. «Привык, видно!» – вздохнул следователь, не без зависти разглядывая хилого белобрысого Лёника. Солома предательски украшала неровно остриженные вихры, не отличаясь по цвету от волос.
– Ой!.. Мати! – вскрикнул он, выглянув из окна. – Айда отсюда! Може, знойдем ящэ кали…
«А лучше вообще не «знойдем!» – с надеждой подумал Жора.
Они с Лёником мирно сидели на лавке у крыльца, когда послышались торопливые шаги, и тотчас же из-за угла хаты выскочила маленькая юркая женщина в повязанной по-деревенски косынке. На хозяйке был неопределенного цвета передник поверх выцветшего цветастого платья и чёрные резиновые боты на босу ногу.
– А кыш-ш! Малым не дадуть паесць! – закричала она на котов, наливая из своего ведра чего-то в миску прыгавшим с крыши котятам.
Кабан, заслышав голос хозяйки, так завизжал и принялся стучать в перегородку, будто намеревался разнести хлев изнутри.
– Дам, дам и табе! – гортанно закричала хозяйка с ненавистью в голосе. – Стихни! – схватила стоявшее у порога ведро с размокшими хлебными корками, плеснула молока и туда и, успев поздороваться с незнакомым человеком, с вёдрами в двух руках, исчезла в хате.
– Хозяин на сене! – крикнула из сеней, сыпанув в корки пару пригоршней темноватой муки из большого полиэтиленового мешка и, низко наклонившись над ведром, стала быстро размешивать всё одной рукой. Взгляд её через открытую дверь упал на Жору сосредоточенно рассматривавшего стог посреди двора.
– А дзе Тадик, халера? – закричала она, тоже посмотрев на стог… Чаму сена не закидау?
Не знал Георгий Сергеевич, что ещё сегодня от всей души поблагодарит Тадика за нерадивость и за то, что не закинул он это сено в хлев, ибо стог этот спасёт Жоре жизнь.
– Он-то мне и нужен, – официально проговорил следователь. – Сын ваш Тадеуш, что пас на озере вчера коров…
– Нема чаго яму там было рабить, – враждебно сказала женщина, выпрямившись над ведром и только сейчас присматриваясь к форменной рубашке следователя. – На ферме раблю дояркой, и корова моя с колхозными. Не пасьвим мы в Шабанах…
Не знала она, что созвонился Георгий Сергеевич с этими самыми Шабанами и знал, что работает мать кудрявого Тадика на ферме, и нету у них коровы, а есть телушка. И, да, пасётся эта телушка с колхозным стадом… но не даёт ещё молока. Но не ведала о такой осведомленности усталая задерганная жизнью женщина, иначе б не прошествовала со своим ведром в хлев мимо следователя, не удостоив его ни единым взглядом… А в ведре было больше белого, чем разбухших корок.
Жора молча последовал за хозяйкой, решив поговорить наедине.
Некоторое время из хлева доносилось лишь удовлетворенное чавканье кабана. Интеллигентного голоса Жоры было почти не слышно.
– Нема чаго его кликать! – крикнула в ответ хозяйка. – Батьке дапамагае! Сено грабить!..
Вновь послышалось воркование Жоры.
– А чтоб вас халера! – выскочила из хлева хозяйка. – Якия удачки? Не крау ён нияких удачак! Шукайте, дзе хатите! – раскрыла она двери в хату. – Няма у нас вашых вудачак! Николи ён ничога не крау!
Надо ли здесь говорить о том, что не стал Жора искать в хате, хотя и подошел к хозяйке, которая, стоя на крыльце, спокойно ждала обыска, и стоит ли подробно рассказывать, как быстро закончил он так удачно начатое расследование, направившись обратно в хлев.
– Беги да батьки… – сказала Лёнику мать, обречённо глядя в спину следователя.
Потом было найдено висевшее на гвозде за старым тулупом незарегистрированное ружьё и предьявлено оторопевшей хозяйке, и предложено было хозяину явиться завтра в милицию заплатить штраф и разобраться с незаконным хранениием незарегистрированного оружия. Потом полунамеками было сказано ещё несколько фраз – об удоях на ферме, о телушке, об отдыхающих на озере заслуженных и уважаемых людях и о том, что украденные удочки должны быть найдены непременно сегодня. Иначе начнется никому не нужное, неприятное расследование.
Кабан за перегородкой затих. Женщина молча теребила передник – красной, обветренной, со вздувшимися венами рукой, и Жоре стало неловко и совестно перед нею – со стыдом отвел взгляд от её руки. Но женщина уже вытерла передником глаза и вышла во двор.
– Та-адик!! – так громко закричала она, со злостью посмотрев в сад, на крышу торчащего из яблонь гумна, что Тадик, спавший на сеновале, проснулся и тотчас же, заспанный и удивлённый, прибежал к матери.
– Ах, ты, Иуда… – всадила она сильную не по-женски руку в его каштановые вихры и с силою потащила к следователю, стоявшему у дверей хлева.
Похожий на мать, кареглазый и коренастый Тадик, потупясь, застенчиво, как девица, старательно отвечал на задаваемые ему вопросы, явно страдая и желая изо всех сил успокоить тихо плакавшую рядом женщину…
Жора слушал вполуха и с волнением смотрел на Тадика, в его глаза – такой это был красивый мальчик, прямо-таки, голливудский актер. И совсем не похож на брата! Мечта любой матери – иметь такого сына. Сбылась в данном случае материнская мечта, и ещё как сбылась! Лёник тоже взирал на брата – худосочный, бледный до синевы – то увлечённо ковыряя в носу, то засовывая соплю в рот. Он совсем не походил на мечту. Наверное, родился, когда бедной женщине стало уже всё безразлично от непосильной работы. Но каков старший! С удивлением рассматривая его лицо, улыбку и какое-то особенное сияние выразительных лучистых глаз, Жора вздохнул, вспомнив вдруг, что какая-то Шурочка с ним дружит! Неудивительно! Какая стать… А взгляд! А тёмные вьющиеся волосы, золотом отливающие на солнце!.. Да они просто как на картинке обрамляли по-настоящему благородные черты… и такая, такая красота! «Какая же это всё-таки сила – красота», – подумал Жора и с ужасом вдруг одёрнул себя: «Что это я, словно голубой? Да неужели, чёрт возьми?…Нет!»
Нет, конечно же, дело было не в этом, хоть Жора был не женат и местные девушки его как-то не привлекали. Зацепило Жору это удивительное лицо. Какое-то итальянское, из эпохи Возрождения, прямо-таки со старинного портрета ихних мастеров – Рембранта там или Леонардо, хрен их разберет, Жора этим вовсе не увлекался, только почувствовал – веяло здесь настоящим итальянским возрождением. И ясно стало теперь, что Лёник – типичный продукт вырожденческой «брежневской» эпохи. А тут! Тут – корни, старый чернозём. Тадеуш Костюшко какой-нибудь или этакий Радзивилл Сапега!! Польские это были корни или еще глубже из Европы – черт их знает, какие они тут были. Да ведь и всегда здесь была Европа. Была, пока русские не затоптали. Топтали, топтали все славянские братья подряд – от Ивана Грозного до Суворова с коммунистами – и получилась деревня Шабаны. А ведь, начнешь читать – любая занюханная дыра, вроде Сморгони, имела Магдебургское право. Да почитай хоть ихнего Завальню, сказки про глубокую древность: стояли повсюду костёлы, замки и города, пока не пришёл с востока разбойник по имени Княже и всё разрушил! И ведь стоят же в Поставах и до сих пор дома четырнадцатого века – старинные, такие ж, как в Вильнюсе или Риге, не отличишь, и по прочности будут не хуже тех, что нынче строят, так ведь – четырнадцатый же век! Что в той Москве от четырнадцатого века осталось? Да ничего! Что они умели тогда, кроме как воевать? Эх! Да что там говорить? А речь какая была у Тадика! Какой язык! Голос!.. С одной стороны застенчиво, душевно он страдал за мать, отвечая на Жорины вопросы тихим голосом, и это отражалось в его интонации, глубине. А с другой стороны: разговор совсем не как у матери, чистейший русский язык, книжный, даже не как у всякого городского мальчишки… И вскорости Жора понял, с досадою ощутил, что в чём-то он допустил ошибку или просто пошёл не по тому следу… ибо была у Жоры интуиция, которая всегда теперь поддерживала и выручала по службе. Научился, ох научился Георгий Сергеевич, в отличие от других ценить и тщательно скрывать этот дар… В данном случае интуиция говорила: не врёт Тадик. Не крал он никаких удочек, и нечего тут больше делать. И понял Жора, что непростительно теряет время. Но опять-таки, и скрывал что-то сейчас этот красивый деревенский мальчик – что-то своё… Оттого и нервничал, и дрожал, не отрывая потупленного, из-под ресниц, взгляда от босых своих ног. Но не интересовали следователя ребячьи тайны. Он опять почувствовал ту неловкость перед усталой женщиной, огрубевшей от бесконечной работы… Ту неловкость, что всегда загонялась им в самую глубину души при общении с жителями этого края, так по-детски не умевшими никогда постоять за свои интересы, в отличие от его собственных земляков, которым просто так палец в рот не клади. И пристыженный почему-то Жора хотел было попрощаться и мирно уйти со двора, но почувствовавшая это женщина встала у него на пути:
– Не-не панове! Знойде ён гэтыя вудачки! Адшукае вам… А инакш, ниякой яму не буде вучобы, не убачыць ен ниякого гораду…
Снова ухватила она за шиворот собиравшегося было улизнуть сына и, твердя, что не видать ему учёбы в техникуме, как своих ушей, если не отыщет он этих удочек, кто бы их не украл, потащила через двор силой, разгоняя оторопевших собак.
– Дачакаецца! – повторяла она. – Вось як бывае, кали ноччу чытають книжки, а днём спять и ничого не робять… Да каб вучэбники чытау! – горько закончила на высокой ноте и, повернувшись к следователю, чуть не наступила на Рекса, при этом выпустив воротник сына, но тут же снова схватила его – за локоть и повела к калитке.
Рекс увязался за всеми следом.
– Ведаю, хто той злодей! Да Манюся пойдем, да Фаньки!
Дом бригадирки Фани, открытый всем ветрам, потому что вокруг, в отличие от усадьбы скупого Фомы, не было посажено ни единого деревца, стоял по соседству, на самом высоком месте холма. За ним лежало болото с редкими дубами в ольховом хмызняке, а дальше начиналась деревня – как говорили обитатели холма: «вёска».
Окно хаты было открыто, на подоконнике стоял портативный магнитофон, извергавший на всю округу дикие звуки современной музыки.
Залаяли собаки, унюхав, видимо, чужаков, и наружу выглянул белокурый длинноволосый юнец в майке «под фирму» с нарисованной на ней такой же патлатой девицей и какой-то иноземной надписью на груди.
Юнец скрылся, и на минуту, пока все поднимались к крыльцу, магнитофон умолк. Затем зазвучала более тихая музыка. Жора уловил мелодичные аккорды «The Yellow Submarine» в кастрюльном исполнении, но о чём говорила мгновенно ворвавшаяся в хату мать Тадика, всё равно нельзя было разобрать, ибо окошко, под которым им велено было ожидать, тотчас захлопнулось. Только какой-то приглушенный звон, грохот да знакомые гортанные звуки низкого голоса разъярённой женщины доносились во двор.
Минут через пять длинноволосый Манюсь был выведен за шиворот из дому и с глазами, опущенными долу, поставлен перед следователем.
– Ну!.. – сдерживая гнев, напомнила тадикова мать.
– Пойдем… – как-то странно посмотрел на своего товарища длинноволосый Манюсь и, поведя головой, многозначительно указал глазами в сторону тадикова дома. – Пусть ищут…
– Ты что? – в ужасе прошептал Тадик. – С ума сошел?
– Нехай… – успокаивающе кивнул друг. – Хай шукають…
Тадик вдруг изменился в лице и в слепой ярости вот-вот набросился бы на Манюся с кулаками, но мать схватила его за грудки.
– Да, ты!.. – задыхаясь, выдавил из себя Тадик, пока мать не закрыла ему ладонью рот.
– Да жизни она не даст, – еле слышно оправдывался Манюсь. – Подумаешь…
– Веди-веди! – набросилась теперь уже на несчастного Манюся сама бедная женщина чуть ли не с кулаками и, подталкивая, погнала впереди себя.
Все двинулись знакомым путем обратно и под неистовый лай Рекса, пытавшегося перекрыть хор здешних собак, спустились через двор с горки. Мать Тадика задала такой темп, что Жора с трудом нагонял ее, да при этом едва мог отдышаться. Когда пошли по дороге, Манюсь отстал.
– Не вздумай… – пытался сказать еле-еле поспевавший за всеми Тадик. – Слышишь?!
Жора услышал звонкий шлепок по чему-то мягкому.
– Не бойсь… – так же загадочно отвечал Манюсь, отворачиваясь от друга только после следующей оплеухи. – Не стямлють…
На Тадике не было лица, и Жора, лихорадочно думая – что же он упустил? – не заметил, как оказался у знакомых уже ворот хлева.
– Там… – показав глазами на дверь, промямлил Манюсь.
Тадика бил озноб. С дикой какой-то, сумасшедшей мыслью, которую не в силах был высказать, сжигал он глазами друга.
– Хай сами, – успокаивая, сказал Манюсь. – Шукайте… – и сосредоточившись на чём-то в себе, закрыл глаза.
Жора нерешительно застыл у ворот, и только когда всё ещё по-прежнему разъярённая тадикова мать ворвалась в двери, следом за ней переступил порог. Две фразы, услышанные им в кромешней тьме сквозь захлопнувшиеся двери хлева, наполнили сердце Жоры каким-то нездешним леденящим ужасом, не позволив двинуться с места.
– Он хоть знает, какие удочки? – встревожено прошептал Тадик. – О чем они говорят?
– Я знаю… – чуть слышно ответил Манюсь. – Видау… За палаткой лежали…
Потом что-то лязгнуло. Раздался странный звук, и словно тяжелый мешок упал на землю. Приглушенные стоны и хрипы, смутно мерещившиеся Жоре в темноте хлева, где рядом по-прежнему хрюкал и повизгивал черный боров, длились минуты три, а сам он всё не решался нащупать ту дверь в стене, за которой скрылась хозяйка. Наконец, он услышал её обрадованный хриплый голос где-то справа:
– А вунь яны куды захавали!.. Супастаты!
Жора отворил дверь. Ржавая борона была сброшена на пол, куча досок, которую он недавно сверзнул, – раскидана была опять, а из-под них выглядывало что-то оранжевое и большое. Скорей всего… Но Жора не успел додумать. Хозяйка радостно повернула к нему свое веснушчатое лицо и протягивала что-то длинное, в чехольчике – складные удочки из превосходного бамбука.
– Каб их халера! – обрадовано, по-детски смотрела она на Жору. – Прастите вы гэтых хлопцав! Хай в техникум паступаюць…
– Да-да… Конечно… – растерянно ответил Жора, принимая удочки из её рук. – А это… Ружьё… как-нибудь зайдите зарегистрировать… – и он чувствовал почему-то, что никто тут не виноват и наказывать вообще никого не надо. И оттого, что что-то он не усёк и чего-то не понял, – впервые в жизни повергло его в непонятное критическое состояние, за которым, как правило, для человека начинается новая полоса жизни.
Нечто новое ждало его и за порогом хлева. Два друга, сцепившись, катались по выщипанному курами двору и не на шутку – всерьёз пытались вырвать друг другу всклокоченные волосы.
– Ах, вы! – крикнула на них хозяйка и засмеялась, оглядываясь на Жору. – Сами себя, дурненькия, пакарали…
Майка «под фирму» была разодрана до пупа. На лице у Тадика багровел уже вздувшийся под глазом след дружеского кулака, и всё это напоминало съемки звезды-киноактера в роли беспризорника. Сам он, растерянно отводя взгляд от Жоры, уже подходил к матери с виноватым видом.
– Да батьки пойдешь, – строго сказала она. – Мне на ферму пара. Сена потым гэта закинешь. Увечар.
Тадик опустил голову, прикрывая ладонью глаз.
– Заходьте… – обратилась она и к Жоре, показавшемуся ей почему-то обиженным городским мальчиком. И бог весть почему добавила:
– За яблыками приходьте. Надта сёлета многа.
А Жора, осторожно прикрыв калитку, которая, как оказалось, крепилась проволокой к плетню, со странным чувством подумал, что никогда в жизни не позволила бы ему гордость вот так завершить расследование среди своих собственных земляков. Чёрт знает что! Разучишься тут работать…
Но не это тревожило его по дороге обратно, когда шёл он вдоль длинного картофельного поля с удочками в руке. Что-то другое зудело из подсознания. Что-то было ещё, что скрывали эти деревенские ребята, и о чём было ему не догадаться…
«Сено потым закинешь!» – слышался ему голос хозяйки сквозь медленный скрип калитки. «Сено…»
«Упустил…» – говорила ему интуиция. Что-то главное он упустил. Но что?
За озером тарахтел трактор. Слышно было, как по дороге за лесом несётся мотоциклист. Он вспомнил тяжёлую ржавую борону на пыльных досках, и как больно стукнулся об неё локтем… Тяжёлую! Вдруг до него дошло. Каким же тяжёлым должно было быть то, что лежало в мешке на полу и к счастью вдруг задержало скользившую Жорину ногу!
«Кот в мешке!»
Чёрт знает что! Жора знал, что вернуться надо, пока не поздно. Он чувствовал – всё равно вернётся, такой уж у него был характер. Не мог, как с первых дней школы, поступить несвойственно этому характеру – оставить непонятой формулу по физике или не дорешать трудную задачу до конца. Не мог упустить момент!
Надежно запрятав удочки в заросшем травой окопе, Жора зашагал обратно.
На подворье стояла мёртвая тишина. Солнце жарило немилосердно. Собак как будто ветром сдуло. О них-то Жора не вспомнил, но всё было ему на руку.
Открыв двери хлева, он вошел в захламленную мастерскую и растворил ставни. Припёр их к стене пудовыми железяками, не без труда подняв два тяжеленных лома.
В окошко сразу же хлынул яркий свет. Сердце у Жоры так и ёкнуло… Там, где лежало что-то в мешке, валялась овчина – чёрная, новенькая, с длинным ворсом.
Приподняв мех, Жора увидел знакомый уже мешок и попробовал поднять с полу. Но не тут-то было! Мешок был завязан тесьмой, и этот конец приподнялся, но то, что лежало в мешке, по форме напоминавшее болванку или гантель размером с продолговатый электрический фонарик китайского производства, имело такую массу, что факт существования этой массы опровергал все почерпнутые Жорой сведения не только из курса физики средней школы, но из университетского курса этой сложной науки. «Гантель» словно приросла к полу.
Проще было развязать мешок, хоть узлы дались ему не без труда. И, о чудо! Как только он сунул туда руку, другая рука запросто подняла мешок вместе с находкой. То, что извлёк Жора на свет божий из шапки-ушанки, было завёрнуто в чёрную шёлковую тряпицу, а, отбросив материю, Жора с удивлением уставился на сделавшуюся вдруг попросту невесомой какую-то штуковину, завязанную в чёрный шерстяной чулок. И то, что было в чулке, сияло непонятным образом через ткань, как короны принцесс на детских рисунках. Пришлось развязать вторую тесёмку.
Глаза зажмурились от яркого света… И не передать, что пережил Жора в одно мгновение! Мир словно тысячу раз взорвался на куски и собрался вновь. И главное – сам он как будто разлетелся на атомы и слипся из них опять! Никогда не чувствовал он в себе такой силы, такой энергии и неимоверного подъема духа, как после этого невероятного превращения…
В руках у Жоры сияло ослепительное нечеловеческих рук творение из красивого серебристо-золотого металла. И самое удивительное, что сразу же привело Жору в некое, подобное ступору, неосмысленное состояние – эта удивительная штуковина вдруг дернулась у Жоры в руках и, обретя ускорение, потянула его вместе с собой к окну.
Мёртвой хваткой зажал Жора неизвестный предмет. Интуиция вдруг сработала, и он понял: главное – свет. Тряпка, валявшаяся под ногами, попалась ему на глаза, и он потянулся к чёрной тряпке изо всех сил! Но до ткани не дотянулся и вдруг… повис в воздухе. Ноги оторвало от пола. Так, под углом к нему градусов в сорок пять, ногами вперед, прижимающего к себе «нечто» – и вытянуло Жору через окно.
«Мама!.. Лечу!» – подумал он с ужасом, увидев под собой стог сена.
Интуиция сработала во второй раз и спасла Жору. Он вовремя сообразил, что кончит почти как скупой Фома, только свидетелей при этом не будет. Прощаясь со своей жизнью, увидел он с высоты двор, хлев и стог сена посреди двора и, сказав себе «Будь что будет!» – в первый раз не послушавшись дедова совета, выпустил из руки неизвестный предмет. Перевернувшись почему-то через голову дважды, головой вниз полетел в солому.
Но что значит желание «не упустить»! Не почувствовав боли в хрустнувшей правой руке, которую, приземляясь, интуитивно выставил вперед, Жора сел на соломе и заворожено уставился в небеса. Сверкавшая золотая точка, излучая удивительно яркий свет, неслась точно вверх над его головой – как дым от костра в безветренный ясный день. Но вдруг она замерла – всего на миг и, внезапно изменив направление, полетела к солнцу, уже клонившемуся над деревней.
И тут Жора потерял сознание от боли.
Глава 5. Путь в Идалину
Случись такое на Дерибасовской, то есть, попросту говоря, сломай Жора руку как-нибудь в жаркий полдень, поскользнувшись на тротуаре под окнами шумящего вентиляторами и дразнящего запахами ресторана или даже у безлюдного в этот час гастронома, Жоре бы и шагу не дали ступить. Тотчас сбежались бы сердобольные общительные южанки в разноцветных ситцевых сарафанах, какие-то дамочки с зонтиками, умаявшиеся встревоженные официантки и праздные накрахмаленные продавщицы из мясного отдела… И лежал бы Жора на мостовой в их щебечущем окружении, как раненый античный герой, дожидаясь санитаров и «скорой помощи»… Здесь же ни единой сочувствующей собаки не было во дворе. Ни зрителей, ни «скорой помощи», и лежал он, один, как перст, бесславно погребенный в стоге сена… Вечером придет Тадик, возьмёт вилы, чтоб закидать это сено в сарай, да как размахнётся!.. Нет-нет-нет!
Сколько он здесь пролежал, сказать было трудно. Он потерял счёт времени.
Жора в ужасе попробовал встать… Но, ой, мама! Стало ещё хуже!
Рука тотчас же превратилась в совсем чужую бесчувственную колоду, а при малейшей попытке движения в ней просыпалась адская боль. Даже пальцами было пошевелить нельзя. Где там пошевелить! Вон-вон под кожей торчит… Нет, к счастью, только лишь выпирает из-под багровой кожи обломок кости! Нешуточный, кажется, перелом. Но в данной сложившейся ситуации все это было как бы между прочим. Да, болела рука, болела! Ох, как болела… И, бросив взгляд на брошенный у крыльца самодельный лёников автомат, с блаженным несбыточным вожделением он подумал… подумал лишь об одном: «Повесить бы этот автомат через плечо, положить бы на деревяшечку эту колоду, чтобы не висела она мертвой свинцовой плетью, выворачивая дикой болью плечо и стреляя огненными искрами до мозгов при каждом шаге». И с нахлынувшей волной тошноты как-то по-идиотски подумалось, что все автоматы вообще удобны только для шинок – руку сломанную вот так опереть, и все они вместе взятые – шинки для тупых мозгов, в шинках нуждающихся, а потому вместо дельных действий и мыслей производящих эти самые шинки для своей хромой, колченогой и в свою очередь нуждающейся в них системы… Тьфу, чёрт! Что только не лезет в голову!.. Ох, как болит! И поплыло, поплыло все перед глазами у Жоры… Но, пересилив боль, он только проводил взглядом валявшуюся у крыльца игрушку и, поддерживая левой рукой горевший огнём локоть, двинулся через двор.
Шагая вдоль длинной глухой стены, глядя в сад сквозь дырки плетня, то и дело переступая через шмыгавших под ногами кошек, Жора думал лишь об одном главном факте, перед которым только что поставила его жизнь. И пускай само это «невероятное» – Жора упустил, тем не менее, факт оставался фактом, Жора это понимал прекрасно. Он не был сомневающимся интеллектуалом от природы, не страдал рефлексией и привык доверять своей психике, поэтому всякий факт принимал как данность. А этот чрезвычайный факт, как всё удивительное, редко встречающееся в обычной жизни, – тем более, принял как данность, которую упустить нельзя. Да и время-то, само время вокруг было другое! Не «уэллсовское», и даже не «булгаковское» уже время! Подготовила, подготовила-таки хоть и плохонькая наша фантастика мозги рядового нашего обывателя – даже их подготовила к встрече с этим самым «непредвиденным»! Невероятным… И трагедия этого времени была уже не в том, что человеческие мозги не подготовлены были для будущего или для чуда – трагедия была в том, что чудо-то это, как и будущее, обещанное уже литературой отнюдь не фантастической, не наступало… Не было чуда, и будущего тоже не было. Все жили в каком-то затянувшемся настоящем. И перемен, ожидавшихся так давно, увы, не предвиделось ни в каком обозримом отрезке времени…
В хмызняк с заболоченным ручейком Жора не повернул, представив, как снова придется прыгать по вёдрам и кирпичам, а так и пошел себе прямиком по сухонькой шабановской дороге, совершенно верно предположив, что и эта дорога, как все дороги в здешних краях, приведет его к озеру: и не ошибся. Удочки лежали там же, в окопе, и ярко синела внизу вода сквозь тёмную зелень ольхи, и сосны знакомо шумели над головой, когда Жора здоровой рукой кое-как извлёк из кустов свою находку. Пристроив её не без труда под мышкой, он вышел на дорогу и услышал вдали мотор приближающегося мотоцикла. Жора посмотрел направо.
Сперва над подъёмом дороги выросла голова – одна только голова в шлеме, потом – плечи в погонах… и весь трёхколёсный мотоцикл. Участковый Редько на своем допотопном заляпанном свежей грязью «Урале» спустился с холма и по знаку Жоры остановился, но мотора не заглушил.
– Не у Паставы я, тава-а-рыш-ш следаватель!.. – проорал Редько на вопрос Жоры, стараясь перекрыть голосиной чихающий перебоями от разбавленного бензина рёв двигателя. – Не у Паставы я, в Идалину!
– А чего ж ты… так?.. – посмотрел Жора в сторону, противоположную той, куда ехал Редько, и, сделав движение головой, что, мол, надо там обогнуть озеро, потому что на карте, которую он изучил перед отъездом, выходило, что дорога из Шабанов, минуя реку, пересекает шоссе и прямиком ведет в Идалину. А если обогнуть озеро с другой стороны, как собирался Редько, то дашь вон какого крюка и не минёшь брода.
– А чорт яго!.. Праз Пятроущчыну не праехаць! – показал Редько запачканные грязью руки. – Засеу аж ля самай вёски и адкапвауся гадзину!
«Не вредно! Не вредно тебе лопатой помахать!» – с усмешкой подумал Жора, оглядывая тучную фигуру участкового и вёрткие заплывшие жиром глазки.
– Як вымерли усе! Ни души! – жаловался Редько. – Каб трактар яки папался! Дык не! Никога! У калхозе рабить не хочуть!
«А сам-то!» – опять усмехнулся Жора, усаживаясь в коляску, потому что вспомнил, как этой весной старая Ванда, мать Редько, жившая где-то поблизости, засыпала начальника милиции письмами, в которых просила починить ей прохудившуюся крышу, потому что сын её, работающий в милиции, с тех пор, как она, старуха, по немощи своей не держит корову и поросёнка, перестал к ней ездить и совсем забыл… И крышу починить некому. Сам же участковый Редько, как и всё местное начальство, включая и председателя, проживал в Поставах, и на участок свой, как те – на службу на личных машинах, выезжал на своём «Урале». Оставалось только рядовым колхозникам переселиться в райцентр и дружно приезжать на поля рейсовыми поставскими автобусами. А впрочем, переселяться-то, собственно, было некому. Полеводческая бригада колхоза на все три деревни насчитывала шесть человек. Что в силах они были сделать на необъятных просторах родных полей? Естественно, что вся основная работа падала на плечи столичных шефов с завода «Горизонт», многие из которых были здесь, как свои, примелькавшись и проводя не меньшую часть года благодаря вновь приобретенной второй профессии механизаторов и трактористов.
Пытаясь поудобней пристроить удочки, Жора замер. Он вдруг обнаружил, что рука не болит. Даже вид её был уже не столь пугающий. Он блаженно расслабился и, подпрыгивая в грохотавшей по ухабам коляске, с удовольствием даже выслушивал длиннейшее причитание участкового о том, что, вот, он – дурак, зря поехал лесной дорогой! Теперь на шоссе не выедешь: через Петровщину пути нет – грязь, трактора разъездили. А через брод рискованно – ещё засядешь. Речка вышла из берегов. Дожди…
Говорил всё это Редько в надежде, что начальство прикажет, раз уж так, поворачивать назад в Поставы той же лесной дорогой. Но указа не поступало. Нечего было Жоре делать сейчас в Поставах, был у него на сегодня отгул. Хотя отгул – это так, для маскировки. Чего уж там скрывать – разжалобил чем-то начальника минский рыболов-истребитель! Потому и вызвало Жору начальство с утра пораньше, и дало отгул, но велело за выходные попутно разобраться и с удочками в неформальной обстановке.
«Ну и неформальная получилась обстановочка! – думал Жора, пропуская мимо ушей причитания Редько. – Чистой воды неформалка, дальше некуда! Хоть стой – хоть падай, хоть режьте меня на куски, не знаю, что и сказать…» – А потому указа от следователя не поступало… Тем более, что имелось у Жоры в Идалине и еще одно, более важное дело, порученное начальством… И ехал Редько к броду – другого-то ничего не оставалось. Но ехать ужас как не хотелось, и надо было срочно что-то соображать. А поэтому он снова завёл пластинку о том, что вот, мол, в Маньковичах мост провалился – тот, что у старой мельницы, да и далеко это – через Маньковичи. Какой крюк! Уж лучше вправду – назад в город лесной дорогой. Его, Жору, по пути «завезти», а там уж он – по шоссе, один, и без всяких мытарств – в свою Идалину… Бензин казённый…
Бензин-то был государственный, дармовой. Но экономил его почему-то Редько, потому и ездил сюда через лес короткой дорогой… и причитал сейчас, чтобы только не завернуть к броду.
Не дослушав, Жора сообразил, что едут они уже по горе, разделявшей собой два озера, и справа внизу мелькают через кусты знакомые палатки отдыхающих.
– Постой минутку, да не глуши! – вовремя крикнул он участковому, почти на ходу выпрыгивая из коляски.
Олег Николаевич, с нетерпением и злорадством поджидая неопытного следователя, как на грех, отлучился в лесок «по своим делам». Всего на минутку, но как это всегда бывает – в самый неподходящий момент! А загоравший на матрасе Вадик, завидев следователя, поднялся к нему навстречу. Вадик не сразу понял, что принес следователь, и, только приняв удочки из рук в руки, обмер с открытым ртом. Завертелось, завертелось всё в глазах у Вадика – лишь одна сумасшедшая мысль – «сплю я или не сплю?» – сосредоточила на себе, и как это всегда бывает, обеззвучила то, что сказал следователь. «…Сам доберусь…» – долетел до него конец фразы, когда слух и зрение вернулись-таки в оправившийся от шока мозг, и сквозь пылавшие перед глазами круги он увидел Жору, показывавшего рукой за дот, в сторону лесной дороги, откуда в течение всего разговора доносился звук работавшего мотоцикла.
Так и замер Вадик с удочками в руке…
А Жора был несказанно рад тому, что так счастливо избежал объяснений. Всё, как и договаривались с хозяином: удочки отыскал, и никаких претензий. Благодарности до сих пор вызывали у Жоры неприятное чувство неловкости.
Один Редько был не рад судьбе. Не рад он был нечаянному попутчику. Как черти того принесли, и чем ближе подъезжали к броду, тем больше кислого недовольства появлялось на его лице, тем сильней подбрасывало Жору в коляске.
– Ну вот… – пробурчал он, останавливаясь на перекрестке. – Брод направо… Мотор чихнул и заглох.
Всё это означало, что недогадливое начальство может переиграть, и что не поздно ещё повернуть налево. В Поставы…
– И мне в Идалину. – Спокойно произнес Жора.
– Дождь будет… – почесал шею Редько.
Жора оглянулся на тучу, которую действительно несло с запада. С Вильно-Ковно, как сказали бы отдыхающие, изучившие местный климат. А если так, пощады не жди! Туча с этого направления стороною не обойдёт, не минет. Балтика шутить не любит. Скорей-скорей подбирать разбросанные вещички да накрывать полиэтиленчиком наколотые дрова!
У Жоры не было с собой ни зонтика, ни плаща, но он подумал обо всём этом как-то на удивление равнодушно, только спросил Редько:
– Что у вас в Идалине?
– К Дубовцу я! – крикнул тот, уже заводя мотор. – А вы? – добавил как-то поспешно, вдруг застигнутый нехорошей мыслью.
Ёкнуло что-то внутри у Жоры. Следователь оцепенел, но виду не подал и только небрежно кивнул, как бы соглашаясь и, сморщившись вдруг от дикого рева двигателя, сделал вид, что не хочется ему кричать в этом шуме.
Теперь оцепенел Редько. Даже краска вмиг отлила от синюшно-багровых щек, и так подбросило Жору на очередном ухабе, что недолго было и вылететь из коляски.
«Украл снова, сволочь! – решил сгоряча Редько. – Вернуться ещё не успел – и нá тебе! Опять кража! И начальство знает…» – и не на шутку обеспокоился участковый, ибо давненько не навещал свой участок: косил сено тёще…
Известно, – косили, потом ворошили. Потом угостила. Потом отлёживался, до сих пор голова болит, и только вчера получил сведения, что горит по ночам у Константика свет в окошке и околачиваются возле хаты какие-то неизвестные подозрительные лица.
У речки глядел на воду сморщенный старый дедок с плетёным кошиком в руке. На дне желтело несколько старых лисиц.
– Как грибы, отец? – крикнул Жора. – Может, перевести?
– А, хай их халера! – махнул дед рукой. – За польским часам и грибы были, и мост быу. Добры мост… А тяпер? Ничога никому не трэба…
– Да раньше вроде… Был тут а вас какой-то мостик! – припомнил Жора. И точно был! Ладный, новенький, из желтых струганных бревен с аккуратными, даже красивыми перилами. – Ещё прошлым летом!
– Солдаты той мост рабили. Вучэння были… И пакинуть нам той мост хотели… Але ж трэба было платиць. Не згодзиуся председатель.
– Не откупил?
– А навошта яму? Ци ж ён тут ходиць? В «волге» яму па шассейке лепей…
«Да… – вздохнул Жора. – Жил бы здесь, так и мост бы построил…»
– Давайте всё-таки перевезем! – выпрыгнул он из коляски и вдруг почувствовал, что рука совсем не болит.
– А-а, сынок… – махнул рукой дед. – Дзякуй. Па кладке я доберусь. Праклали добрыя люди…
Кладка, к которой направился между тем дед, была, прямо скажем, рассчитана не на его годы. Свалил кто-то столетнюю большую ольху с одного высокого берега на другой, перильце соорудил – вот и вся кладка, похожая снизу, откуда смотрел Жора, на тот подвесной мост, которые встречаешь в горах. И сама речка казалась горной – быстрая, прозрачная, неглубокая, шумела она по камням меж обрывистых берегов, где смыкались кронами высокие деревья, все обвитые плетями хмеля.
Редько же, не занятый наблюдениями над природой, с нетерпением ждал, когда Жора вскочит назад в коляску, ибо готов был уже штурмовать реку. Хорошо знал Редько народную поговорку «не зная броду, не суйся в воду» и брод знал. Примеривал уже глазом, как круче развернуть мотоцикл, чтобы взять чем можно быстрей влево и пересечь русло реки у камня, где она узкая, вытекая из леса, и ещё бурлит, и кажется всего опасней. Но путь этот оказывался как раз самым надёжным. Знал Редько: твердое галечное дно не даст завязнуть, и если не сдадут нервы и пойдешь на самой маленькой скорости – не плеснёт волна и не зальёт свечи. Не заглохнет мотор, а вытянет – и после резкого поворота вправо посередине – только скорости не прибавлять – выедешь на другой берег, только не трусь! А сунешься напрямик – в самом тихом широком месте, где река разлилась и дно песчаное, и кажется – глубины-то никакой нет – так и сядешь в яму. Разъездили трактора и танки! И ухнешь по самый руль или по самые окна в воду, как все эти городские на новеньких «жигулях». Тащи тогда свою машину сам или жди трактора – вытянет за бутылку.
И лихо выехал с песка Редько – не залило свечи. До самого камня не залило! Дело известное. Не впервой! А жизнь и дурака научит. Да только шевельнулась где-то внутри злость – злость на Жору, на непрошенное начальство, и подумалось: не засесть бы сейчас! А известное дело: чего боишься, того не миновать; что хочешь – то и получай! И не выдержал скорость Редько, дал газу… И сдох мотор – на самой середине речки.
Пришлось вылезать и Жоре. Брюки снимать как-то не захотелось, хорошо ещё не в яме сели, яму они объехали – вода была по колено. Только сейчас заметил Редько, что что-то у Жоры с рукой: толкал он одной лишь левой, придерживая правую на весу.
– Перелом, – сухо ответил Жора.
«Черти тебя несут! Руку сломал, а надо ему в Идалину, к чертям собачьим!» – рвал и метал Редько. И не знал, не знал участковый, как близко он был от истины и как далёк от неё!
Но выехали они на дорогу, покатил мотоцикл по прямой, как стрела, гравийке – насыпанному среди болот тракту ещё при панах. Обогнали они деда с кошиком и через две минуты были бы с Жорою на шоссе, промчись Редько по этим колдобинам как положено, с ветерком – и не подбрасывало бы, не трясло. Да нудил Редько: пилил по ухабам с черепашьей скоростью, всё раздумывая, как бы избавиться от «халеры» – и подскакивали они оба на каждой яме неухоженной разбитой дороги.
«Запустили! – ругался Жора. – Хоть грейдером бы прошли! Ведь совсем разобьют. В конец! Благо военные во время учений гравием подсыпали, а то была бы здесь, как в Петровщине – непролазная грязь!» И уйдя в злые мысли о том, что всё у нас так – чёрт знает как и чёрт его знает почему, не заметил даже новых хитростей участкового, опять попытавшегося избавиться от попутчика. То оглядывался Редько на тучу, которая ползла сзади, и хмуро качал головой; то долго стоял на перекрестке, пропуская мимо себя весь редкий грузовой транспорт, который только виден был на горизонте. И когда ни справа, ни слева в пределах видимости не оставалось ни единого движущегося объекта, он решил действовать напрямик, указав Жоре на кучку мужиков и баб, собравшихся у автобусной остановки:
– Автобуса ожидають. Мядельски скора буде… Можа вам с вашай рукой таксама б…
Жора глянул на автобусную остановку, задуманную под старину в виде сказочного теремка, но только и смог подумать, увидев обвалившуюся со стен плитку и битый кирпич, что она, эта остановка, построенная только осенью, уже разваливается, как всё почему-то, что строится в этих краях, и уже имеет вид той старины, под которую создавалось…
Редько же, услышав молчание в ответ на столь недвусмысленный свой намёк, расценил это как зловещий признак и в страхе решил, что худшие его опасения оправдались: что встреча подстроена и нечто страшное случилось там в Идалине… может, даже убийство, а его – под предлогом всего этого, о чем он не знает, срочно хотят отослать на пенсию…
«Но что? Что случилось в этой чёртовой Идалине, и кто там ошивается возле хаты?» Все мысли Редько сосредоточились на одном: как выведать всё это у следователя, не выдав чем-нибудь своё незнание. Так, в непосильных, вышибших пот попытках придумать что-нибудь, но ничего всё же не придумав, переехал Редько через шоссе.
Но то, что открылось им сразу же за асфальтом, – грязная, блестевшая лужами и жирной глиной проселочная дорога – бог весть как по ней ездили люди – определенно вселяло надежды. Тотчас же дельные мысли и соображения зашевелились в голове Редько.
– Да поехали же! – поторопил Жора, потому что с минуту уже участковый медлил, не решаясь съехать с шоссе и обдумывая про себя, как бы это сказать, что уж три дня подряд приезжает сюда, да дорога вот… не даёт нести службу.
Первая лужа на спуске не была так страшна, как казалась. Видел Жора, что она проезжая, не глубже, чем речка, которую только что миновали, и дно – твердое, не разбитое – за лужею на подъёме отчетливо были видны два свежих следа: проехали на легковушке.
– По серёдке давай, не бойся, – дал совет Жора, но Редько и тут всё испортил, загипнотизированный видом лужи. Возьми он ее на скорости и лихо промчи слёту по всем остальным ухабинам, – были бы они на полпути к Идалине. Но мышление большинства людей не способно к гибкости. Раз в брод потиху – научил его брод, научил – то и тут так же… Не видел, ох, не чувствовал сейчас Редько, как всё это надо делать! Как скрытым зрением чуял всё это Жора. Да известно ещё, не грех повторить: чего ждёшь и боишься – то и получи! Осторожно проехал Редько – и заглох, не вытянул на подъёме мотор.
– Дай-ка я! – потерял терпение Жора и сел на место Редько: освобожденный от тяжести мотоцикл ожил и с усилием, но взял подъём. Только сейчас он увидел обе свои руки, крепко держащиеся за руль…
– Стой! – закричал сзади панически причитающий Редько. – А что, если дождь? А назад как?
Открывшаяся впереди картина под названием «сельское бездорожье» могла впечатлить не одного только участкового, но и самого Жору, повидавшего-таки на своем веку украинские черноземы, где не дай бог съехать в сторону после дождя. Никуда с дороги!
Но там хоть дороги есть. Асфальтированные. А тут? Это летом! А осенью… В марте как здесь люди живут? И пешком, видимо, не пройдешь!
Надо сказать, что Жора несколько ошибался. Пешком и сейчас было пройти не просто. Особенно на том вот низком участке. Свернуть некуда, с обеих сторон болото. Между рядами скошенной осоки блестела вода. Но два следа – отпечатки колес – тянулись и дальше вниз, не давая терять надежду…
Жора прибавил газу.
– Засядем! – завопил подбежавший Редько. – Стой! – Он всей тяжестью навалился на мотоцикл, обхватил руками коляску. – Не вытягне нас никто! Заночуем.
«Чёрт с тобой! – решил Жора и плюнул, заглушил мотор. – Как баба!»
– Три дня… не поверите, Георгий Сергеич! Три дня сюды приезжаю! Праклятая Идалина! Заучора во тут засеу! Да ночы адкапвауся… Не праедем…
Никаких следов откапывания «во тут», естественно, заметно не было. Клонившееся на запад солнце блестело в луже и порядком ещё припекало в спину. «Жарко!» – подумал Жора и смахнул со лба пот. И вдруг осознал, что провел по лбу правой рукой, и только что этой рукой держал руль, и вовсе-то она не болела….
Чёрт знает что! Забыл он про неё, вот, что… совсем забыл!
– Ведь ежели засядем, гибель!.. – наседал Редько, всё ещё не понимавший, что начальство уже отступилось. – Нема буксира! Не то чтоб поллитрой их не заманишь, ёсть у меня поллитра! Да в вёске одни старухи! Ни одного шофёра… Поуезжали. Не хочуть в колхозе рабить… Не хочут…
До смерти ненавистной сделалась вдруг для Жоры сытая рожа спутника. Он силою поборол желание встать и уйти пешком. Только сказал, помешкав:
– Ладно, поворачивай! Высадишь меня на шоссе…
– Да мы, вас, Георгий Сергеевич!.. В целости до общежития довезем, быстрее, чем на автобусе!
– В Кобыльнике у меня дело, – сухо прервал Жора, и Редько так масляно улыбнулся и понимающе закивал: мол, знаем-знаем, какие дела в санатории у молодых одиноких следователей в конце рабочего дня, да еще в субботу.
«Ух, рожа… – мысленно не сдержался Жора, оглядев подрагивавший, как желе, профиль. – И едет же, вот, как надо! И лужу на скорости проскочил, и подъём взял – мотор у него не заглох! Где-то я эту сытую рожу видел!..» И сам себе усмехнувшись, ответил: «Вся сволочь на одно лицо. Как братья друг на друга похожи…» И только лишь когда скрылся за серой горой дороги милицейский мотоцикл с цепкой бычьей фигурой, припомнил Жора как что-то давнее-предавнее сегодняшнее утро и встречу у главного в кабинете. Вылитый Потапенко! Точно! Ей-ей, как братья! Два сапога пара – вереньковский участковый и вереньковский председатель! И отчего это так у нас получается, что как рослый да статный, да с весом под сто килограмм, – так начальник?! На нем бы пахать, да пахать, а он командует какой-нибудь высохшей от работы дояркой, на руки которой и взглянуть совестно, если сравнить со своими – и все требует и требует от неё повышения показателей. Всё призывает и призывает её трудиться, трудиться… Так и несет до персональной пенсии свою трудовую вахту! А народ тут от работы ещё не отученный, его понукать не надо – панами выученный, жилистый да низкорослый… И откуда таких мордатых в начальники ему набирают?
– Не горячись, следопыт… Самим им когда-нибудь ОБХСС займется, – успокоил Семен Семёныч, как только широкая спина Потапенки с достоинством переместилась за дверь. – Не ради него прошу… Парня жалко. Говорят, голова у него хорошая, а учиться – поздно. Что ему здесь делать?! Сопьётся. Ещё раз в колонию попадет… и конец. А тут – как манна небесная! Три миллиона! Даже по американским меркам, деньги неплохие. Только поздно, жаль, дядюшка-то скончался, мог бы и раньше племянника поддержать… Хотя, сам понимаешь, как бы ему это удалось?
Жора только кивнул.
– А так… – продолжал главный, – может и человеком стать, ещё не поздно. Лишь бы ихние адвокаты помогли уехать… Н-да. Только, вот не пойму, как Потапенко-то разузнал про наследство! Новость эту пока только мы знаем… а, вот разнюхал, сукин сын!
«Выискался хозяин… Только б лапу в чужой карман запустить! – не мог примириться Жора, хоть и наследник, и председатель были ему чужие оба: об одном он впервые слышал, второй же при редких встречах вызывал лишь брезгливое удивление, как выпрыгнувшая из-под ног жаба – и как вырастают такие из маленьких головастиков? И выбрался же такой с утра пораньше к начальству. Интересуется… А нельзя ли как-нибудь половину наследства в счет колхоза переписать? На что этому Дубовцу целых три мильёна? Клуб, вот, для молодёжи построить надо бы – а средств нет! Пусть поделится с родным колхозом. Только, вот, одна загвоздочка получается: наследник – не член колхоза… Возможно ли как-нибудь со стороны милиции на Дубовца повлиять?… Срочно принять… в члены?»
Жора встал и со злостью прихлопнул дверь, глянув прежде, нет ли Потапенки в коридоре…
– Ну, как тебе нравится? – понял Жору начальник. – Не переживай! Тамошние адвокаты… не дадут парня в обиду. Пошлют… этого Потапенку, знаешь куда?.. Это тебе – не свой колхоз грабить!
Жора только иронически усмехнулся. Гул реактивного самолёта и солнце, лившееся в форточку за занавеской, предвещали хороший день.
– Но дело может оказаться серьёзным! Удочки – верный предлог, чтобы всё разузнать. Куда пропал Дубовец? Парню уже пора быть дома. Пути из колонии – от силы дня два. А родственник? Это заинтересованное лицо. Второй наследник. Что это ещё за фрукт? Не было у Дубовца родни. А выискался же, вот, откуда-то именно сейчас! Поэтому не исключай ничего… Даже убийства…
«Три миллиона – не шутка!» – согласился Жора.
Он вспомнил тот след легковушки на грязном подъёме, слишком широкий след – не «волга» и не «жигуль»… и понял вдруг, что сам здесь совершенно один, без оружия, на безлюдной дороге…
Он стоял на асфальте, в самой высокой точке лесной незнакомой местности, раскинувшейся до самого горизонта и видимой отсюда так далеко, что даже мотоцикл Редько, исчезавший сейчас за серым горбом дороги, за последней, взвившейся у горизонта лентой шоссе, – казался маленьким черным жуком и исчезал без всякого звука…
«Зачем я должен туда идти?» – сам себе удивился Жора, сам себя об этом спросил и как бы в ответ пошевелил правой рукой, но ничего, абсолютно ничегошеньки не почувствовал. Это было чёрт знает что. Это была самая настоящая чертовщина…
Здесь, на новеньком участке шоссе, где разогревшийся за день асфальт не остыл, сочился гудроном, а воздух над ним вибрировал маревом миража – не было ни души, и стояла ненормальная тишина. «Мядельский» успел увезти пассажиров с автобусной остановки. Так тихо было – ни ветерка, даже туча замерла над дорогой. А там, под тучей, над далёкими Шабанами и Долгим озером, выплескиваясь из надвигавшейся черноты, садилось солнце. Оно просвечивало за спиной у Жоры сквозь лес на холме и туда, куда смотрел Жора, – в противоположную сторону, где была незнакомая Идалина, в это зловеще-чистое небо – посылало свой кровавый сполох. Словно к буре или после грозы! Как у Дали! – вспомнил Жора… Длинные косые тени стволов и камней, сам валун на пустоши у поворота – казались вытянутыми в красноватом свете. Свет был каким-то слепящим, резким. И во всем этом было что-то сюрреалистическое и чертовски какое-то сверхреальное!.. Даже в том, что это новенькое шоссе было сейчас таким безлюдным: ни машины, ни лошади, ни прохожего. Всё виделось каким-то новым. И эта гладенькая гудроновая лента с песчаной обочиной – среди дикой природы – пустошей и болот, среди каких-то заросших лесом холмов. О, нет! Жора знал теперь, что это вовсе не лес! Силуэты надгробий, разрушившихся столбов ограды… Вросшие в мох и траву плиты – видел он каким-то зрением прошлого в заросшем малинником буреломе, среди увитых хмелем осин и елей, с редкими шапками сосен на вершинах холмов и доживающими свой век, расколотыми молниями дубами. Как видел когда-то – казалось, очень давно – сияющий столб света на берегу… Но откуда он знал, что это не лес, а кладбище? Сказал кто-то? Запомнилось мимоходом, и как это бывает, – всплыло сейчас из памяти? Нет, он видел всё внутренним зрением, и память, угодливо создавая образы перед внутренним взором, черпала их сейчас не из его собственных тайников… Могилы, могилы… Немецкое кладбище 14-го года. А там, на холме, где расколотый чёрный дуб, – безымянные могилы наполеоновских войск. Только кости светятся под землей. А над ними – другие кости и тщательно, по-немецки вырубленные кресты на плитах. Заплывающие мхом буквы: «MUSKETIEAR HANS K… 14…»
Он почувствовал диссонанс – связь времён и какой-то вдруг диссонанс – между этой нагревшейся за день асфальтовой лентой шоссе и песчаной дорогой в лес на застывшем вдали холме. Между собой и всем этим миром, всей той природой, которая, как была вечной, древней, чужой, так и осталась такой теперь – там, где она ещё оставалась: неубитая, не искалеченная, не прирученная. Как вот здесь, на этих холмах с чужими могилами, с лесом-кладбищем, который люди потому только и не тронули в давние времена, не вырубили, не распахали.
Он почувствовал себя…не просто маленьким и чужим, а скорей временным, чужеродным – он представил себя насекомым, однодневкою-комаром, переступающим по этой земле на своих комариных лапках и своим комариным умом не способным даже вместить одну только мысль о том, какая бездна памяти должна быть у природы! Какую бездну всего перевидала эта земля, смотря своими камнями и лесом, каждым кристалликом своих песчинок на весь этот мир, освещаемый солнцем тысячи и миллионы лет! И сколько всего должен хранить в себе этот валун у идалинского поворота – огромный валун, который много тысячелетий уже лежит там, где оставил его ледник, у перекрестка дорог, и смотрит на все, что вокруг него происходит. Вдруг что-то случилось с Жорой – вспыхнуло что-то в Жориной голове и понеслось – то ли солнце ударило алым лучом в сверкнувшую красным грань камня и ослепило на миг… Он глянул на длинную тень валуна, на отблеск последних лучей в граните – и тысячи отражений миров картинками понеслись перед ним, словно в калейдоскопе… Всё вспомнил он и всё увидел. И Великого Казимира, и отряды Костюшки, и солдат Екатерины, и Наполеона, трясущегося в карете… Так вот почему он терпеть не мог Итальянскую улицу и всю старую часть Одессы, и ту часть старого Ленинграда, где жила бабушка, когда ездил к ней на каникулы первоклассником… Тот особенный холодок ощущения: словно камешком по стеклу. Б-рр-р… Теперь-то он это понял. Это пришло оттуда – от гранитных набережных, фундаментов домов и высеченных из камня кариатид – из самого раннего детства, из первых воспоминаний: здесь, в этих старинных стенах под лепными высокими потолками он не один. Ему всегда было душно, тесно там, где жили множества поколений людей – жили и умирали, и оставили по себе память. Он всех их мог себе навообразить, бог дал ему богатое воображение. Казалось, души их витают здесь, носятся в этом воздухе, в старых кварталах и узких улочках, среди церквей, в отблесках и золоте куполов. И все эти дворики и подворотни, эти «рюмочные» и «распивочные» в каменных полуподвалах – помнят тех, кого знал Достоевский: и дерево на бульваре, где сидела Сонечка Мармеладова, и гранит набережной у Невы, где ступал Пушкин, – смотрят в нас памятью чьих-то душ. Вот почему он всегда любил свой простой пустоватый дом, в котором родился – дом, построенный дедом на окраине в чистом поле, которое, как вся степь, обрывалось в море. Но дом стоял от обрыва далеко, его беленые мелом стены под черепичной крышей были увиты молодым виноградником и всегда залиты солнцем. До Жоры здесь никто не рождался и не умирал. И здесь, у крыльца, строгая рубанком доски, неожиданно приобретенные для забора, дед сказал ему в первый раз:
– Главное в жизни, молодой человек, не упустить момент!
«Зачем я туда иду?» – повторил он опять засевшую в голове фразу и понял, что, сколько ни рассуждай, всё равно – пойдёт, нету пути назад. Ответ – там! И для тех, кто переступил в сознании пугавшую когда-то черту, нет дороги обратно, в прежнюю комариную жизнь.
Чувство диссонанса прошло. Но и с природой он не чувствовал ещё на равных, оставшись с ней один на один. Он не был ещё включен, не был принят, оставаясь чужим, оставаясь пришлым… Но вспыхнувший интерес, ощущение энергии и вспыхнувших новых сил толкало его вперед. Туда, в Идалину, хоть к чёртовой бабушке, назло всем и вся. Да и назад уже не хотелось, в нём снова проснулось прежнее «не упустить!»
Он узнал в себе что-то «новое», и от этого «старое», чем был до сих пор – избыток сил, энергии, любопытство – стряхнуло всю мистику, вернуло озорство и юмор. Вперёд, в Идалину! Назло этой всей природе, что хотела его напугать, заморочить голову. Да, да – он об этом знал, он чувствовал – его не пускают, не хотят пускать и запугивают. Напрасно! Он верил уже – впереди успех! Природа не терпит завоевателей, ибо не хочет быть побежденной, но любит, как женщина, достойных и равных.
Он бегом перебежал шоссе и двинулся через грязь по знакомой дороге, не обращая внимания на лужи.
Единственное, чего жаль было Жоре, это новеньких адидасовских ботинок. Ну да шут с ними! Чёрт дернул его надеть их в эту поездку! Обещано было, правда, доставить на «Жигулях» туда и обратно, и не воспользовался он этим только по собственному желанию, упустив из виду, какие тут дороги. Теперь же вопрос об обратном пути не стоял в принципе, по крайней мере, сегодня. И что-то подсказывало сейчас Жоре, что теперь у него совсем не будет обратных путей: на этой «тропинке», в которую свернул сегодня. Движение здесь одностороннее, только в одну сторону – как на дороге времени есть только один вид движения: вперед.
А если весь путь таков, что прежде всего меняется сам по нему идущий, то и назад бы вернуться мог только кто-то другой. И в сторону нет сворота – потому что, куда ж сворачивать? Для выбравшего этот путь всё вокруг стало одной дорогой. Всё теперь вокруг едино, и куда ни ступи – один путь.
Вот, как сейчас, к примеру, не стояла перед Жорой дилемма: идти ли по щиколотку в раскисшей глине прямиком по дороге – или с дороги свернуть в болото, где мирно блестела вода меж рядами скошенной осоки? Какая разница? Это был тот отрезок дороги, та низина, которую они увидели с бугра, когда Редько, грудью навалившись на мотоцикл, вынудил Жору сдаться.
Далее дорога снова шла на подъём, и след легковушки героически тянулся вверх, хотя видно было, что тут откапывались, кое-где настилали сено и ветки ольхи, наконец, даже лапник откуда-то приволокли! И выложили им две зелёные колеи, что значительно облегчило Жоре путь до самой развилки, где след легковой машины повернул налево, к большому богатому раками Чернятскому озеру, весьма популярному среди автотуристов-добытчиков. Правда, это был уже другой след, не тот, «широкий», а хорошо знакомый и различимый отпечаток «жигулёвской» резины. Вторая же дорога, еще не езженная после дождя, но давно уже до непроходимости разбитая тракторами, поднималась на холм через ржаное поле. И, взойдя на вершину, Жора почувствовал такую лёгкость, словно и впрямь очутился совсем в другом мире. Опять вдруг повеяло таким простором, таким родным запахом разогретых на солнце сосен – они качались там над двумя хатками на самом краю ржи, первыми домами деревни, – и так всё было легко и воздушно в открывавшемся вокруг просторе – точно где-нибудь на полонине! Так и казалось, что там, за хатой, откроется вид на ущелье, а прислушайся – и шумит где-то внизу горная речка!
Он подставил лицо волне тёплого воздуха, застоявшегося на прогретом солнцем холме, и чувство, что он где-то в горах, не покидало, и в самом деле слышался где-то шум течения по камням…
За хатами на горизонте высилась вторая гора, заросшая старым лесом и оттого казавшаяся ещё выше, и между той зелёной вершиной и этой солнечной полониной, где стоял сейчас Жора, угадывалось пустое пространство, и в самом деле – ущелье.
Не видел еще Жора такой деревни, где вместо заборов росли бы вокруг домов подстриженные кустарники. Вернее… не подстриженные, но из-за многолетнего за ними ухода сохранявшие еще форму зелёной изгороди. И дороги такой – деревенской улицы, обсаженной жимолостью и снежником, как аллея в парке, видеть не приходилось.
– Паны сажали!.. – говорили удивленным путникам, вроде Жоры, местные жители, когда ещё обитали в здешних краях.
В настоящее же время, культурная деревня была необитаема. Сейчас здесь никто не жил. Первая хата, к которой подошёл Жора, вид имела заброшенный, и окна в ней были заколочены досками. В хате напротив и вовсе вынуты были рамы. Чёрные проемы в стенах затеняла разросшаяся сирень. Вместо следующего дома по эту сторону улицы виднелось старое пепелище – обугленный бревенчатый остов, заросший чернобыльником и крапивой.
На дороге, где недавно разворачивались трактора, Жора увидел тот же широкий след неизвестного ему легкового автомобиля.
И вспомнил Жора, что никто-то ему не встретился на длинной этой дороге – ни пацан на велосипеде, ни какая-нибудь бабка с палкой и гостинцем в сумке для поставских внуков, ковыляющая на автобус – никто с ним не поздоровался, не заговорил… И ни одна-то городская дочка, расфуфыренная по всей моде, не сошла с Мядельского автобуса, не обогнала его энергичной походкой и не маячила впереди. Нет, никто не спешил разжиться продуктами с батьковских хозяйств. А дело шло к выходным! Ни козы, пасущейся на лугу, ни привязанной где-нибудь в кустах лошади не встретилось по дороге – поле было распахано под самые окна, и рожь стояла под стенами мёртвых хат.
«Не спутал ли я дорогу? Идалина ли это… И где, у кого спросить?» – подумал Жора, подойдя к пепелищу и разглядывая такую яркую зелёную крапиву, бушевавшую среди чёрных бревен… и вдруг настороженно, подозрительно принюхался. Но дым, который донесло ветерком, был, конечно же, настоящий. Из свежего, так сказать, источника. И сам источник оказался недалеко. На другой стороне улицы, за сарайчиком, дымила труба над соседней хатой. Дым из трубы различался с трудом, он вился едва заметной струйкой, и всё же – это было жильё! Живут! Есть, у кого спросить! – сразу воспрянул Жора и, пройдя чуть вперёд, тотчас же перешёл улицу, поросшую травой-муравой, нехоженую-неезженую – видать, деревня была тупиком, и тракторам нечего было делать дальше поля.
Кончился чей-то ничейный сад у сарайчика за парковыми кустами. Вот уже и плетень, который, кажись, повалится, дунь на него только ветер, но плетень, за которым живут – и куст пионовый под окном подвязан, и само окно – в голубой раме, занавесочка за стеклом.
Он несмело вошёл во дворик – тоже нетоптаный, в зелени спорыша и гусиной лапки – ни кур, ни уток хозяева не держали. Деревянная лавка, как водится, стояла у стены под окошком, затянутым от мух марлей. Но дверь с ржавою щеколдой была приоткрыта, и туча мух, чёрным роем облепившая намоченные в чугуне корки, жужжа, устремилась в хату, как только Жора ступил на еле дышащее крыльцо. И сразу вдруг растерявшись, увидел он на земляном полу наколотые полешки и яркое пламя в печке. Оранжевые и чёрные языки метались в дыму – щепки только что разгорелись, и Жора чихнул, глаза защипало. Он почувствовал себя неловко и отпрянул, как всякий сунувший нос, куда не просят.
– Воры! Вор-р-ры! – закричали тотчас же противным голосом где-то над головой. Застучало в крышу, и тот же голос оказался вдруг за спиной – защёлкал, заклокотал, послышались хлопки больших крыльев – и кто-то дьявольскими когтями вцепился в Жорины плечи.
Он замер на крыльце, не смея повернуть голову.
– А-кыш! Халера… – услышал он уже другой – старушечий хриплый голос, и сморщенная, но сильная рука поставила на порог кош с брикетом. Когда женщина выпрямилась, придерживаясь за поясницу, Жора увидел, что одета она была, как все старухи в здешних краях, в какое-то темное выгоревшее платье из ситца, но под завязанной назад косынкой угадывалась обёрнутая несколько раз вокруг головы коса. Он увидел золотые серьги в ушах, чёрные молодые глаза и точёное лицо старой цыганки.
Она тоже внимательно его оглядела и, видимо, угадав южную родную кровь, кивнула ему насмешливо и по-свойски:
– Пужливый ты, а ещё милиционер!
Жора опешил. Ему было не до шуток – кто-то по-прежнему цепко держал за плечи.
На старуху напал приступ кашля.
– Да видела я тебя в форме! Дачка у меня в Поставах… – откашлявшись, засмеялась цыганка. – Ко мне! – крикнула она сердито и хлопнула два раза в ладоши.
Жору наконец отпустили. Большие крылья взметнулись над головой, и какая-то чёрная птица – то ли ворон, то ли сорока, но, точно, не попугай, опустилась на плечо цыганки.
– Караулит!.. – закашлялась та опять, как заядлый курильщик, и погладила свою птицу.
Жора невольно сделал движение головой, окинув взглядом двор, словно отыскивая нуждающиеся в охране ценности, и старуха снова засмеялась:
– Что, думаешь, нечего у меня караулить?.. Пайдзём, паглядишь! Такое ёсть, чаго ни у кога няма. – Она резко повернулась и с птицей на плече энергично зашагала мимо сарая, призывая за собой Жору.
Глядя под ноги, чтобы не наступить на грядки с луком и бураками, он вдыхал сильный укропный дух, перебивавший все садовые ароматы, и впервые за целый день как-то пришёл в себя – вспомнил свою Одессу, жаркий юг и дыни на тёткиной даче.
– Стой! Осторожно… – сказала цыганка, и Жора, внезапно почувствовав ударивший в ноздри запах спелых яблок, глянул себе под ноги и пошатнулся, потому что неожиданно увидел себя в райском саду, который вдруг ушёл из-под ног вместе с опрокинувшейся землёй…
Цыганка поддержала его за локоть. Он стоял над кручей. Под ногами почти вертикально вниз уходил крутой откос – склон зелёного холма, усаженный яблонями, ветки которых ломились от спелых яблок, и где-то далеко внизу шумела по камням быстрая речка.
Если десять минут назад Жора засомневался, попал ли он в Идалину, то сейчас он задал себе вопрос: а не снится ли ему это всё во сне, и не попал ли вовсе в какой-то другой мир? Откуда здесь спелые яблоки в такое время?
Конечно, это был южный склон – защищённый от ветра, и выкошен был не в первый раз – отросшая вновь трава пахла после жаркого дня как где-нибудь в горах у горной реки. Кое-какие деревья, приземистые и низкорослые, согнулись под тяжестью совершенно зрелых плодов. Жора видел белый налив, лопавшийся от сока, спелые жёлтые груши, красные бока малиновки. По тёмно-зелёной лоснящейся восковой кожице он узнал крымский сорт, которому ещё зреть и зреть и которого прежде в здешних краях не видел.
Сразу вспомнилась летняя ночь в горах, шум горной речки внизу и такой же вот сад в тумане. Их мальчишеская пионерлагерская компания залегла в зарослях ежевики и готовилась совершить налёт… Но редкий глухой лай собак вдали, вой шакалов где-то совсем рядом и свет в шалаше сторожа так и не позволили им решиться…
Изумлённый Жора повернул голову и заметил, что хозяйка стоит у него за спиной под красной от яблок малиновкой и с довольной, чуть заметной ухмылкой наблюдает его реакцию. Видно было, что восхищение новых людей для неё привычно, и она очень гордится своим садом. Она сорвала самое крупное яблоко, треснувшее от спелости, и протянула Жоре.
– Спасибо… – промямлил он, как потерявший маму ребёнок, которого чужие люди в утешение угощают конфетой. – Вы не скажете, куда я… попал? Это… Идалина? – Он вдруг вспомнил, зачем зашёл в этот двор.
– Идалина это, – подтвердила цыганка. – Больше такого сада нигде нема.
– Вы правы, – спохватился Жора, что забыл сказать комплимент. – Сад так сад!
– И купцы наезжают… Купцов хватает! Со своими ящиками на машинах – из Вильни едуть, каб яблыки маи замест южных в городе продать. Пенсия-то у меня двадцать рублей…
«Сколько? – не поверил Жора. За свои адидасовские ботинки он заплатил втрое и радовался, что купил по дешёвке.
– А так и живу… – махнула она рукой. – Кабанчика ещё для дачки держала. Теперь – не… Гэты – паследни. Силы нема. А ну их…
Она снова закашлялась, в груди у неё засвистело.
Жора подумал, что раньше бы непременно сказали, что у неё чахотка.
– Опухоль у меня признали… Операцию, казали, поздно. Дочка сразу – дом продавать. А я говорю – не… Помирать, так здесь. Да кто тут его купит, дом. – Она с усмешкой кивнула туда, на деревню. – Вон, они все стоят, непроданные…
И Жора вспомнил мёртвые пустые дома. Забитые… слепые окна.
– Печка моя прогорит. Пойдём…
Жора нерешительно покрутил в руке яблоко и двинулся за хозяйкой следом.
– Да ты ешь! – Обернулась она, смеясь. – Лет десять после того живу… Врачи ошиблись. Мы с тобой не от рака помрем…
Стыдно стало, Жора почувствовал, что краснеет, как это яблоко. И вдруг вспомнил: «Рука… Что же это она хотела…?»
У крыльца старуха пропустила его вперёд:
– Праходь!
Птица по-прежнему сидела у неё на плече.
Жора поднял корзину с брикетом и поставил к печке на земляной пол, который видел впервые в жизни.
Маленькое оконце в противоположной стенке давало немного света.
– Кури! – разрешила хозяйка.
Он предложил и ей. Та не отказалась, прикурила от уголька.
– Иностранцами интересуешься?
Жора не успел ответить. Птица вспорхнула на печку. Он закашлялся от удушья и едкой пыли – брикет, брошенный цыганкой в щепки, начал дымить.
Разное было в её взгляде. Хитрость досужей сплетницы, по-деревенски болтающей языком, и загадочное знание цыганки.
Наконец, она покачала головой:
– Эко тебя послали… Одного да пешком. Много ли наработаешь? У них ведь машина… Ай, какая машина! Заглядение! Фюи-ить – и нема! Ищи ветра в поле.
Старуха внимательно посмотрела на Жору.
– Или там ничего не знают?
«Там всегда ничего не знают, когда не хотят знать!» – Полдня назад с раздражением и досадой он почувствовал бы себя мальчишкой в действительно дурацком положении.
Сейчас его больше занимал земляной пол.
Он не знал, что люди могут ещё так жить. Стол да лавка, да чугунки на печке, что служит плитой и кроватью и обогревает две половины дома. А эта печечка у самой двери, что топила цыганка, видно, летняя, чтобы не трогать ту громадину. Видел он такие печки. Они – в каждой хате. Там, за перегородкой, куда ведёт тяжелая дверь из дубовых досок, закрывающаяся на железную щеколду, наверное, зала – светлая половина для праздников и гостей или спальня для всей семьи. Может, там и пол деревянный. Зимой, наверное, и сама хозяйка там спит, потому что тут, у самой двери на улицу, отделённой летней печуркой, под лоскутным одеялом на железной кровати ночевать можно только летом.
– Дивишься, як я живу? – засмеялась цыганка. – В наших краях не гэтак, правда… Спачатку и я дивилась. Але потом привыкла…
Жора молча курил. Отвечать на вопросы и спрашивать он ещё не мог, надо было придти в себя. Стыдно было посмотреть ей в глаза.
– А про птицу мою чего не спросишь? – сама она перевела разговор на другое.
– Я думал, только попугаи разговаривают. А что ворону научить можно, если честно, не верил…
– Э-э-э… Болтать можа всяки выучиться. Даже гэты, вон, – нежывы, болбочет… – она ткнула своим высохшим острым пальцем в белую пластмассовую коробочку репродуктора, неуместную на бревенчатой стенке. – Тольки редка я слухаю. Можа, кали, пагоду… Бывае, что и правильны их прагноз…
– А как же зимой… – не мог подобрать нужных слов Жора. Волком, что ли, тут выть зимой? – Снега много? Заносит?
– Начальникам дабирацца нелёгка! – засмеялась она с хрипотцой. А нам – одна халера! Что в лето болото месить, что снег… Разве только на лыжах! А шассейку тракторы чистят – автобус ходит.
– А… не скучно?
– У племянника – телевизор японский, знаешь, видно. Вот и хажу глядець.
– Так Дубовец, значит, вам племянник?..
– Стары мой и батька его, покойники, – браты родные были…
– Выходит, и вы – наследница? – голова его заработала профессионально. Если что-то случится с Константиком…
– Якая табе наследница! – отмахнулась цыганка. – Па матке ему наследство. Матчын старейшы брат, дядька родны, за польским часам ещё в Америку тую за грошами укатил. Разам яны с Адамом, что в прошлым годе памёр, открыли сабе майстроуню – швейную мастерскую. Был гэты Адам добры портной – золотые руки. Други – в памочниках. Оба разбогатели. На гэтыя грошы, кажуть, Константиков дядька новое дело завел, миллионерам зрабился. Вось откуда наследство. А дурны Адам долю свою забрал и сюды вернулся. Да не пашанцавала яму. Чатырнадцаты год, вайна. Только в Паставах обосновался, немцы пришли, грошы все отобрали. На тое ж золото, что засталося, землю успел купить, завёл хозяйство. А тут снова война! Потом Саветы! Землю всю отобрали – зноу нищий! Это уже я помню, на моей памяти. В колхоз Адам, конечно, не захотел, ремесло свое тоже бросил. Байки туристам рассказывал, ягоды продавал на базаре. Так и жил человек, пока в приюте не помер… А дядька Константиков умней оказался. Только не слышали о нем ничего, пока тоже смерть не пришла, да наследство тое осталось.
«А телевизор-то, – подумал Жора, – откуда?» – и остановив взгляд на убогом настенном приемнике, тут же с неловкостью опустив глаза.
– Нет, – почувствовала она его сомнение. – Ведала б я. Константик мне был, как сын. С детства его глядела. Хворала матка, на колхоз рабила. Что моё дитя…
– А как же…
– Не крау ён николи в жизни. Правду кажу, каб знал.
– Откуда же тогда всё?
– А гэта, детка, не ведаю… – он прочел насмешку в лучащихся цыганских глазах. – Не вам гэта по зубам и не мне… Можа, толька этой нечистой силе… и по зубам. Яны, можа, разберутся?
– Иностранцы?
Цыганка засмеялась:
– Ха! Тут, як говорится, – не нашего полёту птицы! Якие они иностранцы?… Хоть с гэткими я не зналася, але ж думаю… те – тоже люди…
«А эти… – хотел спросить Жора. – Не люди?» Кто же они такие?»
– Учёней ты за меня, только в этом деле учёность твоя не поможет… Матка твоя из яких?
Жора почувствовал, что краснеет. Не хотел он ни перед кем отчитываться. Знал только, что жена деда – та бабушка, которая умерла и которую он никогда не видел, тоже была цыганка.
Старуха удовлетворённо кивнула. Потом ловко – ухватом поставила в угли чугунок.
– Поэтому не скажу тебе, как хотела, «иди обратно». Пришёл, значит, надо тебе зачем-то. Твое дело – зачем… – хитро сверкнули её глаза. – Один совет: страх в этом деле не помощник. И не думай, что что-нибудь тебе кажется. Всё оно так и есть…
Она отошла от печки, пропуская его к двери. Птица снова села ей на плечо.
«Может, выдать себя за её зятя? – подумал Жора. – За родственника… Нет. Сложно. Значит, и я – наследник?..»
– Сказать им что? Про тебя?
Он почувствовал благодарность.
– Скажите, что я… знакомый…
– Можно и так сказать. Отчего же нет? Разве ж ты мне не знакомый? Только не скрывай, что милиционер.
«Они и так знают! Всё знают… – читал он в её глазах недосказанное. – И не думай, что что-нибудь тебе кажется…»
Он замер перед порогом, словно ожидая чего-то.
– Тот, что высокий, – продолжала цыганка, – за Стася себя выдаёт, двоюродного брата Константика… Мне ли его не знать?! Тоже племянник был. Тоже его растила, пока с маткаю год праз пять после войны в Польшу к родне уехали. Как же, похож, и родинка на щеке! Да николи б такому не вырасти из того Стася! Вот что тебе скажу… И потом, наши-то, его погодки – все уж, как старики, без зубов… А этот – король-королем!
«Уж точно, должно быть, за сорок лет…» – прикинул Жора.
– Ну а второй-то – шут! Это шофёр который, – уточнила цыганка, – сразу видать – бесовское отродье!
Она в сердцах звякнула щеколдой.
Глава 6. Идалинская вечеря
Вечер был уже на дворе, а может, ночь. Ночи тут белые, как на севере – лето ещё совсем не на исходе. Звёзд было в небе – одна или две. Изредка накрапывал дождик.
Старуха пошла впереди. Дверь свою закрывать не стала.
Они минули несколько хат, в которых жили – огороды были засажены. Ни в одном окне не было света.
Деревня кончилась, и там, за деревней, справа в низине, у самого подножья холма, откуда вдруг потянуло сыростью, говорившей о близости озера или пруда, в ясном ещё почему-то небе, куда севшее уже давно солнце всё ещё посылало свои последние отблески, – вырисовывались причудливые силуэты деревьев. Таких старых и таких древних – той неизвестной породы, которую видишь лишь на старинных полотнах, пейзажах Брейгеля или Рейсдаля, и всегда гадаешь – какие же это деревья? Что за вымерший неизвестный вид? С такой перистой живописной кроной и раскидистыми ветвями?
«Ну, вот, хоть узнаю, что за деревья в древности рисовали…» – успокаивал себя Жора, спускаясь вслед за цыганкой вниз по тропе, и, когда увидел огромные купины старых ив на берегу пруда, сваленный в бурю тополь с сухой вершиной и высокий, просто гигантский клён, наклонившийся над остатками каменной мельницы, сразу понял: просто древних таких деревьев, кроме как на картинах, прежде ещё не видел. А деревья-то были самые обыкновенные… Редко кто из них рассчитывал на долгий век, всё это были инвалиды, искалеченные войнами, молниями и ветрами – век свой они отжили и чудом пришли сюда из прошлых веков.
– Паны сажали! – бросила, обернувшись, цыганка и вздохнула.
Вздохнула она с сожалением. «Могикане!» – кивнул ей в ответ Жора и попытался представить, как будет выглядеть этот берег, когда и эти деревья погибнут от старости. Грустью повеяло от этого запустения. Вспомнился старик у речки. «Ничога никому не трэба…» Никто уже не посадит здесь молодую иву. Ещё больше застоится вода, пруд совсем зарастёт, и развалится мельница на том берегу. И уйдет ощущение старины…
И он понял, почему ТАКИЕ деревья на старинных картинах… Все древние деревья – один вид, и любое дерево выглядит так, когда оно очень старое – как все столетние старики на одно лицо… Мы просто деревьев таких не видим, не доживают они сегодня до таких лет, не доходит до нас эта память о той культуре, которая была до нас и чувствуется в старинных парках. Как в живописи возрождения едва угадывается дыхание ещё более древней величественной цивилизации, которая была прежде. Какая-нибудь мадонна Филиппо Липпи… Одна лишь наколка на её голове с газовой прозрачной вуалью говорит о предшествовавшей космической эре, потому что в складках вуали угадываются траектории планет. И в каждой детали – в линиях и силуэтах одежды, в ландшафте, открывающемся из окна, застроенном изящными зданиями сложнейшей архитектуры, – предел духовности и совершенства, черты предшествовавшего величия: приметы прошлого, более загадочного, чем будущее.
Вдруг что-то изменилось в воздухе над парком. Низина справа стала похожа на театральную декорацию – на воде заиграли блики, мельница за прудом выглядела зловеще, силуэты деревьев сделались резкими, засеребрились листья на тополях. Жора поднял голову и обалдел – впереди над холмом из-за рваных туч выкатилась луна. Яркая, полная, глядела она на Жору своим бледно-жёлтым ликом с серыми пятнами морей. Жора не мог оторвать глаз от луны, пока она не ушла целиком в облако.
Хата Константика была уже совсем близко. Как на ладони – на самом верху холма под большим деревом увидел Жора слева от себя эту хату. Луна была теперь над крышей. Из трубы шёл дым. Слева и справа над хатой чернели в темноте две высоченные ели.
Они поднялись вверх по тропе через одичавший сад, полный запахов, как на юге в теплую ночь. Чертополох, репейник, мак-самосевка да тощий укроп цвели на заброшенных сотках, где прежде был огород. Знакомо пощёлкивали цикады. Остался позади брошенный погребок с настежь открытой дверью и проломанной крышей. За погребом чернел сарай с лестницей на сеновал. Жора запомнил это на всякий случай. Всё казалось таким ветхим – подуй ветер, и унесёт! Крыша вот-вот рухнет…
Двор зарос высокой полынью, только подсолнухи почему-то выросли у плетня, посеянные неизвестно кем. Хата под старым деревом выглядела необычной: окна как-то слишком высоки, да и крыльцо под навесом. А лучше сказать, не крыльцо, а лесенка с одним перилом. Она лепилась к стене, как в горной сакле, ведя к двери почти на второй этаж…. Окно, ближайшее к крыльцу, светилось.
На высоком крыльце стоял человек и до чего же не вписывался в обстановку! А был он, как есть из тех, что с первого взгляда чем-то к себе располагают. Был он строен и высок, с усами и с бородой, но не поймёшь, какой национальности, возраста неопределенного, но чувствовалась в нем какая-то раскованность, раскрепощённость – какая-то прущая изнутри внутренняя свобода. И сразу видно, не наш это был человек, одним словом – иностранец! Не смеялся он вроде – а взгляд его был сияющий, и уверенность была, и достоинство чувствовалось в этом взгляде. Одет только был совсем по-нашему – в джинсовый костюм нараспашку и тёмно-фиолетовый свитер под горлышко в тон костюму, что, впрочем, очень ему шло и не мешало сохранить доставшийся от природы вид элегантного, очень стройного джентельмена. Из-за яркой одежды весь он казался «фиолетовым», даже виделся Жоре над иностранцем какой-то светящийся фиолетовый ореол.
Жора вдруг оробел и всерьёз подумал, как объяснить свой визит. Другом, что ли, Константика представиться для начала?..
Мысли его прервал какой-то неопределенный звук – то ли скрип, то ли вскрик, раздавшийся позади.… и от распахнутого настежь сарая, где поблёскивали, отражая свет из окна, роскошная фара и шикарный никелированный буфер заграничной машины, бежал уже навстречу Жоре, раскрыв объятия, маленький человек в огромной кепке со смешным козырьком, так похожий на известного даже детям клоуна.
– Какие люди, какие люди идут… Ба!
Бежавший повернулся к крыльцу, укоризненно погрозил пальцем джинсовому иностранцу, крича:
– Ну что же ты? Ну… Скажи же ему, скажи: друг! Друг… Друг моего брата! – и только успел протянуть страшно вымазанные в каком-то мазуте руки навстречу в ужасе застывшему Жоре, и только успел вскричать «Пепка! Чеслав Пепка, личный шофёр и переводчик. Прошу любить и жаловать!», как вдруг пошел сильный дождь, забарабанил по крыше и по траве и вмиг вымочил на всех одежду, но зато наилучшим образом решил все дипломатические проблемы. И Жора, избавленный от их решения, и кривляющийся шофёр, которого все упорно почему-то называли «Збышек», и даже начавшая улыбаться цыганка закончили неловкую немую сцену дружным бегством под крышу. Ибо каждому не оставалось ничего другого, как спасаться от дождя.
На крыльце под навесом всем хватило места отряхнуться (иностранец тактично ретировался за дверь), и как-то вдруг завязалась та естественная беседа, когда, слово за слово – и всё становится на своё место. Даже фиолетовый иностранец заученно улыбался и кивал всем через порог. И всё было бы благообразно и как у людей, кабы не Збышек Пепка, этот наглый шофёр в клоунской кепке: они с цыганкой явно успели заиметь зуб друг на друга… Как ни старался он казаться душою общества, а всё у него выходило как-то пакостно, всё-то он подзуживал и юлил, и что-то в его словах да было как не у нашего человека… Цыганка засобиралась домой. Шумный летний дождь кончился так же неожиданно, как и пошёл – последние потоки воды текли с соломенной кровли.
– Ах, домик! Ах, экземплярчик!.. – кривлялся Пепка, а с крыши все лило и лило. Он подставил голову под капель, и в его выбеленных перекисью и завитых химической завивкою волосах застревали соломинки и сухие листья, которые снесло дождём. – Во всей Европе такого, небось, не сыщешь. Хоть сейчас его под колпак в музей!
Цыганка плюнула и, нащупав ногой ступеньку, стала искать в темноте перила.
– А сарай! – шут вытянул руку за перила и указал в темноту, где за перекосившейся, съехавшей с петель дверью сверкала иностранная фара. – К сожалению, господа… Музеем ему не стать! Не в этом, увы, сарае скуёт свою великую империю Бил Гейтс!
Цыганка, ещё раз плюнув, припустила вниз и споткнулась, нога заскользила по мокрым доскам. Ворона стойко держалась на плече.
– Нет-нет, мы вас не отпустим! – вскричал вдруг иностранец в джинсовом костюме – и получилось у него на чистейшем русском языке без всякого акцента.
Второй проворно обошёл остолбеневшего Жору, прыгнул задом через две ступеньки вниз и преградил путь цыганке.
– Дорогая тётушка! Пожалуйте на телевизор! – приложился он к ручке родственницы своего шефа. – Непременно просим!
– Пожа-луйте на телеви-зор-рр! – подхватила ворона и вдруг разошлась. – Не отпус-с-стим! Др-р-руг! Дррруг моего бр-р-р-рата! Непррременно на телевизоррр!
– Печка у меня прогорит! – отмахнулась цыганка. – Промокла вся, и вечерю надо сварить.
– А вы – к нам! К нам на вечерю! – проворковал шофёр иностранного племянника. – У нас уже всё готово. Ничего не надо варить! И печка у нас горит.
– Нет, дякуй! Кабанчика покормить трэба.
Фиолетовый иностранец достал из джинсов фонарик и осветил вход в сарай, где стояла роскошная голубая машина незнакомой марки, покрашенная перламутровой флюоресцирующей краской.
– Ну… так мы вас на машине подвезём… Мигом! – вскричал Пепка.
– Отстань! И сама дойду, не маленькая.
«Фиолетовый» осветил ступеньки, по которым стала спускаться старуха.
– Чесь, у нас всё готово, – шепнул он, передавая шофёру фонарь.
– Так мы за вами подъедем! – закивал Пепка, повернулся ко всем спиной и галантно подхватил под руку цыганку, навострившись её провожать. – И Борисовича уже позвали! Ай-яй-яй! Как же Борисович-то без вас?
Цыганка отпихнула его руку.
– Я приду! – оглянулась она, на прощанье кивнув всем. – После программы «Время» аткрыттё олимпиады будут повторять… Приду глядеть!
– О, непременно… – задумчиво повторил иностранец. – Олимпиада…
– Да знаете ли вы, – заорав, перебил вдруг Пепка и ткнул в джинсовую куртку пальцем, – что если бы не олимпиада, он бы, вот, не приехал? Но, к счастью – олимпиада! Сам наш хозяин олимпиаду решил посетить и сейчас в Москве… А он, вот, – смылся! И меня с собой! Ему ещё отвечать придётся! У-у-у! – он гневно скорчил рожу и пригрозил кому-то, потом снова принял растроганный вид. – Но как же было не смыться!? Надо ж было ему… к родственникам. Посетить! Вернуться… в родные местины… через столько лет…
Пепка картинно пустил слезу, утёр грязным кулаком глаза и вдруг обернулся и, раскрыв объятия, бросился теперь к Жоре.
– А, знаете ли, дядюшка…. Дядюшка его, царство ему небесное, Константику три миллиона оставил! Мильён – вот, ему, и три миллиона – Константику!..
Жоре пришлось вытерпеть объятия иностранца, мокрая рубашка прилипла к телу, после чего он стал дрожать. Всё это время «джинсовый» стоял рядом и молча наблюдал сцену.
– Греться, греться, сушиться! – тут же сказал он, указывая Пепке взглядом проводить цыганку, а Жору, приглашая на порог.
– Дровишек нам, да посуше! – вскричал ни к селу, ни к городу Пепка, исчезая в темноте.
– Дррровишек… Да посушшше! – откликнулась ужу вдалеке ворона.
Тяжелая дверь из крашеных дубовых досок, со щеколдой, как в цыганкиной хате, скрипнула совсем знакомо.
Узкое мрачное помещение освещалось оконцем в бревенчатой голой стенке, но пол был не земляной, а какой-то то ли каменный, то ли цементный. Печки тут не было, но справа под окном стояла газовая плита и рядом в углу – большой красный баллон с облупившейся краской на боках.
Иностранец открыл ещё одну дверь налево, и, переступив через порог, они оказались в самой хате с деревянным некрашеным полом. Жарко натопленной, просторной, разделенной на две половины большой русской печью у правой стены и перегородкой, дверь в которой была открыта настежь, и через эту открытую дверь всё можно было разглядеть во второй половине, освещённой электрической лампочкой под потолком: телевизор на ножках в правом дальнем углу, стол, покрытый льняной вышитой скатеркой – в левом. На столе – фикус, а над фикусом – образа. Комната была оклеена выцветшими обоями. Ближе к печке виднелась через открытую дверь большая железная кровать. Между нею и телевизором – допотопный одёжный шкаф с покоробившейся фанерой и маленьким разбитым оконцем вверху, похожий на тот, что в детстве когда-то был и у Жоры в доме, а теперь стоял в гараже с дедовым инструментом.
Пока Жора осматривался вокруг в тусклом свете догорающих в печке дров, иностранец молча стоял рядом с ним у порога. Кроме печки, в этой, бревенчатой, половине, был ветхий кухонный шкафчик, а у левой стенки с окном – стол из досок и две такой же длины лавки. Чтобы не упираться в перегородку, стол был поставлен наискосок и не закрывал большой самодельный табурет под образами в угу. Две табуретки поменьше стояли в ближнем к Жоре торце стола у порога. Сзади хлопнула дверь. Запахло бензином, и маленький человек в кепке, вбежав, картинно – по-военному – застыл перед иностранцем, готовый услужить.
– Свету нам, свету! – сказал «главный» хорошо поставленным голосом.
Пепка мигом очутился у печки и бросил в угли грязную промасленную тряпку, которую держал в руках – и так полыхнуло, так ярко осветило комнату, будто бухнули в печь доброе ведро солярки.
– Чеслав Пепка! Шофер и бывший земляк! – шаркнул он, отдавая под козырёк, с шутовской миной. – Имею честь представиться…
– Брось, Збышек… Ты уже представлялся.
– Прошу вас называть меня тем именем, которое мне больше нравится! Какая же это демократия? В загнивающей Римской империи, и то, если изволите помнить, каждый совершеннолетний сам себе выбирал имя… Шеф!
– Но мы же договорились… – поморщился тот. – Сегодня ты будешь Збышек.
– Простите… Я передумал. Всё-таки, буду Чесь. От слова «честность», знаете ли… Должен же кто-то здесь говорить правду!
– Мне-то всё равно, сам знаешь, – равнодушно ответил «фиолетовый». – А вот гость наш и паспорт может у тебя спросить.
– Паспорт? Неужто паспорт? – вскричал шофёр и перешёл на шёпот. – А куда ж это мы попали? Может, скажешь, у них ещё паспорта есть? – как будто всерьёз не поверил Пепка.
– Плохо, мой друг, историю изучали…
– Сам знаешь, какая у них история, – по натуральному оскорбился шофёр. – Сплошная липа… по десять раз переписанная, сами они не знали, что было, а чего не было. Запомни тут – отменили уже паспорта, али ещё не ввели…
– Минус не в вашу пользу, сэр! Не из того фольклорного периода слово употребили. Плохая, молодой человек, работа!
– И вы, что-то, шеф, заговариваетесь! – едко вставил шофёр. – Тоже не то несёте. Это вам не Бретания-с, а СССР, ранне-солженицевский период, а если точно – год смерти Барда, – загибал он пальцы один за другим, с такой ехидной улыбкой, будто сводя счёты, и вдруг рявкнул: – Честь имею представиться, в-ваше благородие! – да такую скорчил зверскую рожу, что даже и представить нельзя, как это она так скорчилась, и сразу вспомнились Жоре слова цыганки: «второй-то, сразу видать, – бесовское отродье…».
«Из огня да в полымя!» – подумал Жора, машинально пощупав свой пострадавший локоть.
– Позвольте. Позвольте… – прошептал удивлённо иностранец и, приблизившись, с величайшей осторожностью, как какую-то драгоценность, обхватил обеими руками правую Жорину руку… – Мы тоже, кажется, не представились… То есть вам-то нас рекомендовали, а мы о вас… только теперь узнали.
– А спросите-ка у него паспорт! Пусть только не покажет! – подхватил Пепка и погрозил кулаком, ещё, видимо, не понимая, в чём дело, просто так – в тон шефу.
– Да разве не узнаёшь, Чесь?
Подбежавший Пепка вдруг открыл рот, изумлённо выпучил глаза и тоже принялся жать и похлопывать ломаную руку Жоры, нахально уставясь ему в лицо.
– И точно, шеф! Как есть – он! Та карточка, видать, из паспорта этих лет!
– Да что же ты… не соображаешь?! Свершилось! Он уже навеки останется в этих летах!..
– Ах, да! – хлопнул себя по лбу Пепка. – И то правда! Милый ты наш! Может, отпечаточки пальцев на память?..
– Чесь! – сконфузился иностранец. – Автографы тогда дарили…
– Ах, верно! Как тут не перепутаешь! Вынут, вынут карточку из архивов! И через тыщу лет каждый школьник лицезрить будет, не станет уже паспортов…
– Да сам он ещё доживет… Не помнишь разве? – опять укоризненно поправил «фиолетовый».
– Радость ты наша! – раскрыл объятия Пепка.
– Доживёт-доживёт, только трудно ему до того придётся!
– И сейчас бы жил, если б не… Вспомнил, шеф! Как же! Беда-то какая! Ай-яй-яй! Царство ему небесное! – Пепка набожно перекрестился. – А так бы щас с нами был. Правда? Взяли б мы его с нами сюда?
– Отчего же нет…
– Вот бы с собою за ручку и поздоровкался… А вы-то, шеф не забыли? – неожиданно всполошился Пепка. – У меня на завтра – отгул. Помните?! Ведь обещали! Пойду схожу к отдыхающим… Украдкой взгляну на родные палатки… – Пепка пустил слезу, принялся утирать глаза. – Хоть из кустов погляжу, ладно?…
– Вместе завтра пойдём… – оборвал шеф.
Говоря всю эту дребедень, они с восхищением продолжали охать и ахать, не выпуская больную жорину руку, продолжали её в восторге сжимать и тискать, и с силой пытаясь вырвать друг у друга, только Жоре казалось, что эту сцену они намеренно – специально для него разыграли. Зачем-то… И только после, потом вспомнит об этом Жора, и поймет зачем, и будет благодарить…
Рука Жоры меж тем была зажата, словно в тисках. Её мяли, трогали, ощупывали.
– Ну как, ручка-то не болит? – осведомился вежливо иностранец. – Зажило?
– Да, как новенькая! – вставил Пепка.
– Чесь!..
– Хорошая какая рука! Ну, прямо-таки, своя – родимая… – не прекращал издеваться нахал.
– Перестань!
– Что-то слы-шится род-но-о-е… – фальшиво прогнусавил шофёр.
Жора застонал от боли.
– Не нравится? Ну тогда… – Пепка затянул ещё более отвратным голосом. – Со-нька, Со-о-онь-ка, зо-лотая руч-ка…
– Да ты поёшь на мотив «Катюши»!
– Правильно! – кивнул наглец шефу и завопил громче. – По-о-плы-ы-ли… туманы над ре-кой! А хотите «Подмосковные вечера»?
Руку Жоры нещадно сжали и тянули в разные стороны. До локтя она была словно не его…
– А мы ему её и не отдадим! Правда? – осклабился гнусный тип. – Раз он её сам украл?!
– Да?
– Украл! Украл!..
– Отрезать! – вскричал «фиолетовый». – Долой преступную руку! Рука крадущего да будет отсечена! – страшно закричал он и топнул ногой.
И там, где он топнул, на грязных, давно не скрёбанных досках пола появилось что-то, накрытое чёрной овчиной. Узким носком начищенной до блеска туфли иностранец откинул овчину, и ярко блеснувший металл ослепил так, что Жора закрыл глаза.
Когда он их открыл, на полу лежала уже не знакомая «болванка», а большой мясницкий нож. Жора почувствовал острую боль в затылке. Всё потемнело, и он провалился в нёсшуюся навстречу бездну.
Чёрный туннель вдруг кончился, сознание возвращалось.
– Угораздило ж его об порог!
– Под голову, под голову подложи! – услышал он голоса, и понял, что лежит на полу. Над ним хлопотали оба склонившиеся хозяина. Что-то мерзкое шлёпнулось на лицо. Пахнуло плесенью. Со лба за шиворот потекла вонючая ледяная влага. Он приподнял мокрое полотенце, освободив один глаз.
– Ну, кажется, всё в порядке, – констатировал иностранный наследник. – Была ли у вас в семье падучая, молодой человек?
Жора покачал головой, насколько это было возможно, со страхом глядя на иностранца…
– Значит, сахарный диабет, – подтвердил тот профессорским тоном. – Я думаю, вы давно не ели…
– Что со мною?
– Обыкновенный обморок. Вы бредили…
Жора с трудом провел пальцами по лицу, чуть сдвинул тряпку, освободив второй глаз.
– Звали зачем-то самого дьявола и очень просили не отрезать у вас его руку… И ещё клялись, что никогда больше не будете брать чужое…
Жора попытался отвернуться и не смог. Просто отвёл глаза в сторону. У порога валялось выкатившееся из кармана яблоко. Не было ни ножа, ни овчины. Он с усилием пошевелил рукой, пытаясь поймать взгляд «фиолетового»:
– Так мне её не отрежут?
– Зачем же дьяволу отрезать свою собственную руку, даже если она… и сделалась по ошибке чьей-то собственностью? Ему это даже на руку… Ха-ха-ха… Как там у вас? Своя рука…
– Свою шею не мылит! – издевательски закончил Пепка, подхватывая Жору под спину сбоку.
Шеф помог с другой стороны. Жору подняли, взяли под руки, подвели к печке.
– Кресло нам! – крикнул наследник.
Откуда-то взялось и кресло. Принесли плед, расстелили, пострадавшего усадили с комфортом.
– Прежде всего – сушиться! – сказал «фиолетовый». Его собственная одежда от дождя совершенно не пострадала.
Хлопотавший у стола Пепка тоже не спешил к огню, а уж он-то должен был порядком вымокнуть под таким ливнем. Его клетчатая рубашка, куцая курточка из похожей на тряпку, какой-то задрипанной сероватой ткани и такие же брюки с лямками и карманами от пупа до колена были совершенно сухие.
«Этот парень смещает акценты, – подумал Жора. – И в одежде и в лексиконе. Пока ещё этого не носили. Надо запомнить и приглядеться к будущей моде…»
– После водицы положено к огоньку! – заметил меж тем наблюдавший за Жорой хозяин.
Тотчас же подскочил Пепка, и, взявшись за кресло с двух сторон, они подвинули Жору ближе к печке. Пламя пылало жарко, но и не обжигало, словно дрова горели где-то в глубине её устья.
– А вы разденьтесь! Этак долго будете сохнуть!
Жора заколебался, глядя на «фиолетового». Снимать ли рубашку? Он и так чувствовал себя неловко – этаким мокрым кроликом перед этими непромокаемыми иностранцами, или кем там они были ещё… Представил себя рядом с ними голым и помотал головой, решив, что высохнет он и так…
– Ну, тогда согреться и изнутри!
Иностранец поднёс Жоре стопку и цыганкино яблоко.
Пепка картинно всплеснул руками, при этом выронив полотенце Жоре на колени. Он присел, в притворном ужасе вытаращив глаза, и с большим интересом уставился Жоре в рот. В лице его всё смеялось, огонь от печки играл в глазах – они горели один зелёным, другой – коричнево-медовым светом. «Фиолетовый», тоже склонился, галантно протягивая рюмку. Всё притягивало в его облике, в насмешливом и лукавом взгляде – та энергия и внутренняя свобода, то необъяснимое превосходство, неведомое нашим людям, – манили и уязвляли Жору, как каждого советского человека задевает что-то необъяснимое в иностранцах.
– Разве можно отказываться? Продукты здешние, натуральные!
– Ой, смотрите! – поддразнил Пепка и подмигнул карим глазом. – Рука у вас наша, и душа будет наша! Окрестим мы вас тут по-нашему! – и он хитро прищурил свой левый зелёный глаз.
А Жоре вдруг показалось, что и в самом деле сам сатана протягивает ему яблоко и вонючую самогонку.
Как только он осушил стопку, огонь, пролившийся вмиг по жилам, обдал его изнутри адским жаром. Рубашка высохла моментально, то ли просто время пришло ей высохнуть у огня.
– Ну, вот мы и сухие! – вскричал хозяин. – А теперь – вечерять! К столу! К столу! – И, вежливо придерживая за плечо, он повёл Жору туда, где Пепка с полотенцем через плечо хлопотал у стола, расставляя миски:
– Четыре, пять… Шесть?..
Посреди стола лежала теперь тканая вручную из льняной пряжи небеленая скатерка с вышитыми на ней крестом красными петухами.
Жору усадили спиной к печке.
– Сколько нас будет, шеф?
– Достаточно!.. – «фиолетовый» кивком головы остановил проворную руку Пепки, уже ставившего на стол гнутое алюминиевое страшилище, которое-то и миской странно было назвать. – Эту можешь убрать…
– Всё понял, шеф! – кивнул Пепка, присоединяя погнутую уродину к двум таким же, которые прижимал к груди, и тотчас отнёс не понадобившуюся посуду на кухонный шкафчик в тёмном углу у печки. – Не нужны нам эти татары незваные… Там пускай на сене и спят. Лапу сосут… А паёк-то с собой – слабо было взять… слабо?
– А вот и к нам!
В окно постучали.
– Это я! – донёсся хриплый цыганкин голос. – К вам на вечерю.
– На вечер-р-рю! Карр! – радостно подхватил утробно-скрипучий голосок.
– Поччтальён Печ-ч-чкин! – передразнил Пепка. – Это я… Почтальон Печкин…
– Опять… – поморщился иностранец.
– Разве опять? – как школьник, растерялся шофёр. – Неизвестно… Это ещё проверить надо, – и искоса взглянув на Жору, закончил голосом Папанова. – Н-ну погоди! Так?
Хлопнула входная дверь. Цыганка с чёрной хозяйственной сумкой в руках и вороною на плече приветливо всем кивнула.
– Усе мультики разам глядим, – обратилась она к рявкнувшему по-папановски и погладила свою птицу. – А гэты з их – самы добры.
– Вот видите, шеф, я был прав! – гордо засиял Пепка. – Время вовсе не перепутал!
Засмеявшись, цыганка подошла к столу и выложила из сумки душистые краснобокие яблоки, большую головку молодого чеснока, пучок зелёного лука, кусочек староватого сала в марлечке да бутылку от постного масла, заткнутую тряпочкой вместо пробки. Звякнул об стол огромный потемневший ключ.
– Константик мне ключ пакинуу… Каб телевизор глядела. Сперва хотел да мяне его занести, але я сказала – не! Гэтага мне не трэба, каб и мяне яще засадили… – она близоруко осмотрела дно своей опустевшей сумки и выложила на стол ещё одно последнее яблоко. – Чым багаты… – сказала, разведя руками. – А ключ – хай тяперяка у вас…
Со двора раздались ещё чьи-то шаги. Тяжело затопали по крыльцу. В дверь постучали.
Пепка бросился встречать гостей.
Коренастый сутулящийся старик лет под семьдесят, но выглядящий очень бодро, опустившийся, но, видно, из образованных, по-хрущёвски обритый наголо, собрался боком переступить порог, да и застыл, держа в руке потрёпанную соломенную шляпу с маленькими полями. Лет двадцать назад такие, может, ещё и носили – у деда подобная была, но на Жориной памяти в магазинах они уже не продавались. Заношенный до невозможности, заштопанный на локтях пиджак синего твида с широкими бортами и плечиками сшит был чуть ли не по послевоенной моде. И если вся прочая одежда гостя, включая стоптанные «лучевские» ботинки, говорила о том, что жизнь трепала её не на шутку и дотерпела до самого уже предела, то внешность этого крепкого, по-борцовски сутулящегося, но не согнутого старика также свидетельствовала о том, что жизнь его поломала и очень даже крепко ломала, но не сломила… И очень даже била со всех сторон, но он только сбился в комок, как ком масла из неснятого молока – и стал весь круглый, крепкий, кряжистый. «Как кулак!» – вспомнил Жора вертевшееся на языке слово и вдруг представил его боксёром-профессионалом на пенсии, но причём таким, что всю жизнь не нападал, а только, собравшись в кулак, напрягал мускулы, чтобы отражать сыпавшиеся на него удары.
Старик остановился в дверях. Согнув плечи, он наклонился и, нахмурившись, смотрел себе под ноги, при этом и вовсе сделался похожим на кулак.
– Что это у вас тут?
На пороге возле его ботинка лежала чёрная шапка-ушанка, которую давеча подложили Жоре под голову.
Пепка вмиг подскочил и, подобрав шапку, швырнул на печь:
– А, пусть и лежит, там, где лежала!
– Праходь, Борисович, – сказала цыганка. – Разам будем вечерять! Усе мы Канстантика добра ведали…
– Да что ты его хоронишь? – строго исподлобья посмотрел на неё гость и протянул руку сперва стоящему перед ним наследнику, потом Пепке. На сей раз со стороны нахала обошлось без паясничания и всяких театральных объятий.
– Прусаков… Дмитрий Борисович, здешний учитель, – представился скупо гость. – Не из местных, правда…
– А хто тутака тяпер из местных? – засмеялась цыганка. – Ай, Барисавич! Адне мы с тобой, нетутэйшия, удваих скора на всю вёску будем!
– Опять ты… – с упрёком прервал Борисович. – Вот вернётся Константик!
– Ой, не вернецца ён, не вернецца!.. – простонала цыганка. – Нешта мне на дурное думаецца… – и вздохнув, она обратилась к Жоре, рядом с которым усадили гостя – на большой грубо сколоченный табурет в торце стола. – Настауник гэта Константикау. Любиу яго вельми, дапамагау. Але ж, чым тут, халера, паможешь…
– Способный он! Такой способный! А физику лучше меня знал!
Жора заметил, как цыганка отвернулась к окну и в глазах у неё блеснули слёзы.
– Что ж тут, халера, зробишь… – кивнула она сама себе, сглотнув комок в горле.
Борисович ухватился за лацканы пиджака и упёрся спиной в перегородку, набычившись и словно бы проверяя, выдержит ли та… Потом неодобрительно покачал головой и исподлобья устремил на соседку взгляд в упор.
– И руки у него золотые, радиотехникой увлекался. На вас чем-то похож… – он поднял голову и внимательно посмотрел на главного иностранца.
«Фиолетовый» бросил на цыганку выжидающий взгляд.
– Браты двоюродныя, – нехотя пояснила она и отвела глаза. – Ты яго не мог ведать. Мати забрала у Польшчу неде пасля вайны. А вы ж, с Ядяй… мабудь, у пятидесятым?
– В пятьдесят четвёртом…
– Ну да. Як выпустили – так и пажанились. Двадцать гадоу адсидеу! – покачала головой цыганка. – Ай, божачки, двадцать лет!
– Восемнадцать… – уточнил сосед.
– Жиццё!..
«А за что?» – хотел было спросить Жора, но вовремя прикусил язык и только вопросительно посмотрел на упрямый, обритый по-хрущёвски затылок соседа, достававшего из кармана помятый конверт.
– Вот, – сообщил тот цыганке, разворачивая исписанный крупным почерком листок. – Пишет Иван Антонович, что не приедет…
– Ай-ай-ай, – покачала головой цыганка. – Сёлета першы год…
– Болеет.
– Барисавича друг по лагерю, – пояснила цыганка. – Рыбачит у нас, як лета, на озере кожны год. З самой Масквы еде…
– Вот кто ровно двадцать лет на Колыме!
– И за что?! – энергично всплеснула руками цыганка, видимо помянули больную тему. – Деревья, кажуць, сажау там, где яны не растуть… Неде на Украине. Полосы гэтые лесозащитные для задержки снега. А яго за гэта – враг народа! Урожай губит! Площади посевные изводит! И туды яго – на лесапавал…
– Н-нда… – вздохнул иностранец.
– Ну, а как тут у вас урожайчики? – как-то мерзко, не вовремя влез Пепка, явно желая поменять тему, но цыганка только пуще разгорячилась:
– Можа, не верите мне?
Все молчали.
– Дык гэта Антонович сам рассказвау, гэтак усё и было! Прауда!.. Але ж ты… – обратилась она к нахмурившемуся учителю. – Ты ж николи мне не казау, кольки я ни прошу – за что тебя посадили?
– Ах, за что? – каким-то странным тоном переспросил учитель, взглянув, было на цыганку грозно и осуждающе, как давеча, когда она «хоронила» Константика, но тут что-то в нём вдруг прорвало, он стукнул кулаком по столу:
– Пора же, наконец, понять, что в те годы сажали людей – ни за что! И если ты хочешь знать…
– Не… – сделала та протестующий жест рукой, словно защищаясь. – Не-не! Лепей ты мне не гавары… Антонавич, кали кажа, можна слухать! Табе жа я не хачу верыть! Як начнёшь пра свой лагерь и кольки тады людей пастраляли – жыть тады не хачу. Лепей ужо не жыть, чым усё ведать… Нешта ж усё так было?
– Ты! – вздохнул тяжело Борисович. – Ты мне боишься верить! А что будут знать они? – Он горько кивнул на Жору, который вдруг покраснел и чувствовал, что краснеет. – Кому поверят?
Жора очень даже верил Борисовичу. Его дед ненавидел большевиков и ненавидел советскую власть. Покрыл её матом, даже в присутствии мамы, когда узнал, куда распределили внука после университета. «Во, мать их душу… коммунисты! Учился на инженера, а стал милиционером!» Сам Жора вначале не переживал, когда его направили по комсомольской путёвке в криминалистический отдел на должность следователя. Стал жалеть потом, когда с ужасом стал понимать, что забывает всё, чему учился на химико-технологическом факультете… Пока ещё ему не понадобилась ни химия, ни криминалистика, народ здесь был мирный, и сама жизнь не создавала почвы для криминала. Самым большим преступником он считал Вереньковского председателя, который в наглую обворовывал свой колхоз… делясь, как не без оснований предполагал Жора, с местным партийным начальством. А против них весь криминалистический отдел был бессилен!
– «…Они же, схвативши его, били и отослали ни с чем…» – с горечью процитировал иностранец.
– Ого! – удивилась цыганка. – Вот оно, святое писанне!
– «…опять послал к ним другого слугу; и тому камнями разбили голову и отпустили его с бесчестьем».
– А дальше? Дальш кажи! Неяк там, помню, и па-другому.
«Фиолетовый» согласно кивнул:
– «Имея же и ещё одного сына, любезного ему, напоследок послал и его к ним, говоря: постыдятся сына моего! Но виноградари сказали друг другу: это наследник; пойдём, убьём его, и наследство будет наше. И, схвативши его, убили и выбросили вон из виноградника».
– Вот тебе и по-другому! – усмехнулся Борисович.
Но цыганка покачала головой:
– Не… Чакайте!
Выйдя из-за стола, она направилась в другую половину дома и тут же вернулась с потрёпанной маленькой книжечкой в руках. Открыла и вопросительно посмотрела на иностранца.
Тот кивнул:
– От Марка. Двенадцатая глава.
Пепка и тут сунул свой нос, оттеснив цыганку:
– Так вы и по-польски читаете, мамаша?
– А як жа? И Канстантика ксёндз крестил.
– А если неправильно переведёте?
– Сгинь!
– А зрение-то у вас хорошее…
Найдя нужное место, цыганка обрадовано прочла:
– «И старались схватить яго, ды забоялись народа; ибо поняли, что аб их сказал притчу; и, оставивши яго, адышли…»
– Этак вы с одного на другое перескакиваете! – обиженно вставил Пепка. – Это, знаете ли, подтасовка фактов! А порок-то всё равно не наказан!
– Это виноградари-то? Дальш слухай: «Что зробит хазяин виноградника? Придёт и предаст смерти виноградарей и отдаст виноградник другим».
– А другие виноградари окажутся похитрей! И чтоб народа не побояться, спаивать его начнут… продуктом собственного производства. Чтоб народ поглупел и со всем стал соглашаться! Да такой продуктик придумают, такое зелье изобретут, что почище этого вот ещё окажется… – Пепка ткнул пальцем в страницу. – Отдай! – нацелился он на цыганкину книжку. – Отдай мне этот дурман для народа!
Цыганка не отдавала:
– Не твоя книга!
– А, вот, моя! Я, может, имею право! Я, может, из рода Давидова!
– Отдай жа, нечысть!..
– Ах вот как? А если я сам потомок твоего Иисуса Христа?!
Пепка ухватил евангелие за один конец, старуха обеими руками держала за другой и не отпускала. Так они и тянули книгу в разные стороны…
– Пусти, нячыстая сила!
– Там один обман!
– Мая книга!
– Нет! Закину твой дурман на печку! Там ему только место…
– Халера… – цыганка со злостью растопырила пальцы, чтобы вцепиться в Пепкины патлы и оттолкнуть, но из-за этого хватка другой руки ослабла.
Победа оказалась на стороне Пепки, он вырвал книжку и уже замахнулся ею, трепеща страницами, чтоб зашвырнуть на печку.
Пришлось вмешаться старшему.
Иностранный племянник галантно вернул старухе её собственность и молча протянул Пепке большую дорожную сумку, по всему видать, иностранного производства, взглядом указав на стол.
– Фулиган… – приходила в себя разволновавшаяся цыганка, одной рукой поправляя выбившиеся из-под платка космы, другой – прижимая к груди евангелие.
– Сами вы, мамаша, хулиганка. Не знаете ещё, что защищаете… – Пепка уселся за стол между ней и Жорой, положив на колени сумку.
– Известно что… – прикрыла она книжечку другой рукой.
– Настрадаетесь ещё от вашего дурмана… Наплачетесь, да поздно будет.
– Она не доживёт, Чесь.
– Ваша правда, шеф…
– Но вот молодой человек – другое дело!
– От веры ещё никто не страдал, – вторила своё цыганка.
– Ну да! Вот перед вами – будущая главная жертва! – наглец указал на Жору.
– А он-то чаму можа пострадать?
– Да…в основном… из-за своего характера.
– Это як жа ж?
– А щас проверим! – Пепка повернулся к Жоре и ткнул пальцем в грудь. – Вы, молодой человек, член КПСС?
– Нет! – растерялся Жора.
– Да неужели?… – вкрадчиво вопросил наглец. – И почему, позвольте спросить? Разве ещё не предлагали?
– Ну… – отвёл взгляд Жора. – Предлагали.
– И как же, отговорились? – ехидно издевался подлец.
– Не готов ещё… возраст комсомольский не вышел.
– Ах, значится, не готовы? Видите, мамаша, какой у него характер? Видите!! Не готов он стать членом КПСС. А ведь скоро насядут так, что придётся…
Борисович усмехнулся. Пепка бросил на него быстрый взгляд.
– Смеётесь? После будете, да ещё как. Когда у них, шеф, случится перестройка?
– Через двадцать лет.
– И что, думаете, «перестроят»? Да ничего! Были все начальники партийные, а сделаются православными. Со свечками, как один, по праздникам в телевизоре стоять будут. Флаги носили, теперь – со свечками! На демонстрации полагалось ходить, теперь – в церковь! Зато воровать будет раздолье! Ещё пуще, чем прежде, станут воровать. Поворовал – помолился. Поворовал – помолился, отмыл грехи… Ну, а простой человек вроде нас с вами и сказать побоится, что не православный, вот так-то, мамаша!
Старуха застыла, поджав губы и молча уставившись на Пепку.
– А если кто атеист? – скорчил жалостливую рожу подлец.
– А я, дык вось, каталичка…
– Уй!.. – Пепка закрылся сумкой и в притворном страхе отшатнулся, как от удара, но при этом не рассчитал – потерял равновесие и полетел с лавки на пол – и грохнулся бы, не зацепись ботинком за край стола.
– Посади нячыстую силу за стол, яна и капыты свае на стол! – отскочила цыганка так, что её табурет отлетел к стенке.
– И в самом деле, к столу пора! – заторопил вежливо иностранец. – Садитесь, тётушка! Чем бог… как говорится, послал…
Бог послал Пепке немало, или же сам Чеслав Пепка, чёрт его побери, был богом, если успел так ловко вывалить на стол этакую гору продуктов! И сейчас ещё продолжал вынимать из объёмистой синей сумки: полголовки ноздрястого сыра – Жора узнал литовский «Нямунас», клинковые сырки с тмином, пачки масла с иностранными буквами на золотой обёртке, кусок окорока, связки не сморщившихся сосисок в целлофане, и, наконец, свеженькую, ароматную, пахнущую натуральным хлебом буханку «Ругялиса».
– Матка Боска! – всплеснула руками цыганка. – Нияк у Вильни были?
– Как видите! Братские республики посетили, продуктиками подзапаслись… – хлопотал Пека, заканчивая раскладывать на столе деликатесы, и принялся усаживать недавнюю противницу – сдвинув её табуретку на самый край стола у раскрытой двери. – Удобно вам, так, мамаша? Чтоб телевизор видеть…Тот, легок на помине, как раз заорал программу новостей.
Цыганка вздрогнула и с помощью обходительного шофёра уселась на угол вполоборота к столу. Она попыталась вытянуть шею и так, и этак, заглядывая на экран через дверь в дальнюю половину. Всё было нехорошо.
– Нет! Неудобно вам, тётушка! Сейчас мы его сюда… – Пепка перепрыгнул через порог и мигом оказался в другом конце хаты… Схватил работающий телевизор под мышку, потом прижал к животу и, пятясь, засеменил мелкими шажками, с трудом удерживая тяжесть в обеих руках и то и дело оглядываясь через плечо. Голос диктора орал что-то про членов политбюро.
– Осторожней жа – парог! – закричала цыганка.
Пепка, хоть и оглядывался, и впрямь чуть не грохнулся, налетев на порог задом, но всё кончилось хорошо. Ловко опустил громадину на ножки, прислонив в углу к беленой мелом перегородке, правда, заслонил при этом свет от печки. Но темней не стало, цветной экран телевизора, оказывается, освещал хату даже ярче. И тут Жоре стало нехорошо.
«Мать честная! Как же он работает?»
Жора почувствовал, что готов потерять сознание во второй раз… Пока Пепка нёс телевизор, он всё посматривал на порог, гадая, хватит ли телевизионного шнура, и откуда такой у Константика классный удлинитель. Когда ж перед Жорой на фоне печки замелькали кислые лица членов политбюро – все сплошь в чёрных шапках и пальто – а потом голос диктора принялся надрываться по поводу встречи гостей со всего земного шара, шнур на полу так и не появился… Не был он перекинут через порог.
– Матка Боска! – сказала цыганка. – Са усяго свету!
– Ах, бедные! – съязвил Пепка. – Лица на них нет! То-то перетрудятся слуги народа. Столько гостей встречать!
Тут Жора перекричал орущий телевизор:
– Послушайте! Да как же он работает?
– Тихо, рыбонька. Не свались! – поддержал сзади Пепка. – Тётушку зашибёте! С лавки можно и кувырком! Как я!
– Да скажите!..
– Не волнуйте тётушку! – шикнул на него шофёр и вперил свой наглый взгляд в Жору. – Ш-ш… Нету здесь электричества, нету. Съели? Коммунисты не подводили электричество к хуторам. Так боролись за светлое будущее колхозников.
Жора сделал попытку посмотреть в окно, но там была темнота.
– Столбы не подведены. Можете выбежать посмотреть. Что дальше?
– Но как же… он здесь работал? У Константика ведь он … тоже…?
– Работал, молодой человек. Что дальше?
– Да, но… ведь людям же он как-нибудь объяснял?
Пепка придвинулся совсем вплотную:
– Каким людям?
– Ну, участковому, тётушке…
– Допустим… объяснял…. На японских батарейках телевизор работает. Что дальше?
Жора с надеждой посмотрел на Борисовича.
– И старика не волнуйте, – Пепка по-прежнему глядел в упор рыжим и зелёным глазом и вдруг зашептал быстрой скороговоркой. – Свыкся он уже. Обвык. Думаете, легко ему было такое перенести? Всё ж-таки – учитель физики. А пришлось. Константик просто сказал: «Знать этого вам не нужно. Лучше всего не знать, Дмитрий Борисович…» И лагерный человек поверил. Тёртый кулак!
«Калач…» – машинально поправил следователь.
– Знает: лишняя информация – всегда опасна. Недаром восемнадцать лет на Колыме…
– А вы? – обратился между тем главный иностранец к сидевшему под образами учителю, указывая на пустой табурет в противоположном торце стола рядом с цыганкой – единственное место, откуда ещё удобно было смотреть телевизор. – Сюда, пожалуйста, чтоб видно было!
– Сами смотрите! – отмахнулся Борисович, оставшись на своём месте и даже принципиально повернувшись спиной к экрану. – Я его не гляжу…
– Ну, тогда ты садись, Чесь! – распорядился иностранец. – Комментировать нам будешь!
Но устроились по-другому. И Пепка оказался на табуретке между цыганкой и старым учителем, который всё-таки пересел со своего конца стола поближе ко всем. Жору тоже переместили к стене на лавку, рядом с Борисовичем, чтобы не заслонял цыганке экран. Он оказался один спиной к окошку. Хозяин сел во главе стола на место учителя под иконой.
Жора оглядел яблоки рядом с зелёным луком, втянул воздух носом. Особо дразнили копчёности – аппетитный окорок и охотничьи колбаски, пропахшие можжевельником.
– Ай-ай-ай… – восхищалась цыганка обилием застольных явств. – А колбаса кооперативная?
– Варёная – по два десять, из магазина, в Вильнюсе лежит свободно. А за копчёную восемь рублей платили.
– Краковская? – Цыганка недоверчиво поцокала языком. – Як у Паставах! Нешта хуже у Литве зрабилась…
Жора проглотил слюну, так аппетитно запахло чесноком от колбасы. Он не согласен был, что в Литве стало хуже, и наивно спросил:
– Почему это там всё есть, а у нас – пусто?
– Подлая политика колонизаторов! – Оскалился Пепка и скорчил одну из своих клоунских рож. «Филетовый» пояснил:
– Вы же «братья»! Москва опасается так уж всё отбирать у прибалтов – запад рядом, вдруг с голоду забузят? А вы…
– Не пикните!
– Братья-славяне.
– Ага! Вы же – бра-а-тья! – передразнил Пепка. – Хотя, ну какие они там братья, шеф? «Белорусы», как вас обозвали теперь, то есть поляки да литвины – бывшие балты. Индоевропейский народ. Положим, с примесью восточных славян. А за Смоленском – кто? Там только финны да татары всегда жили! Татаро-угорский народ!
– Везде в мире антропологи это знают.
– Но надо ж было так в головы-то вложить? Чтобы в «братьев» поверили!? Вот она, советская пропаганда!
– Довольно, Чесь! Лучше займись продуктами.
Пепка пожал плечами и извлёк из сумки ещё одну палку колбасы, потом – что-то длинное жёлтое в целлофане и превосходную ветчину.
– Палендвица – кооперативная. Зато сосиски – пальчики оближешь, что ни есть самые государсвенные: по госцене, два с полтиной за килограмм.
– И сочные – как когда-то в детстве.
– Ага!
– Где мы их отхватили, Чесь?
– В Таллиннском гастрономе. Навалом, никто не берёт. Говорят, и сухую колбасу выбрасывают…
– Дык там жа алимпияда! Горад, кажуть, итальянскай краскай пакрасили.
– Верно, тётушка! Шик-блеск, красота.
– Город – словно с иголочки, весь как новенький, – согласился шеф.
– Пусичка! Так бы и съел! – прищёлкнул пальцами и чмокнул губами Пепка. – Ну прямо, как этот клинковый сырок из Каунаса!
Ворона, вспорхнувшая откуда-то с печки, села на плечо цыганки.
– И ты хочешь? – засмеялась та, отломив кусочек маленького высушенного сырка. – На! – поднесла ладонь вороне. – Сыр яки добрый! – попробовала сама. – И мы калисти таки рабили…
– Ни в коем случае! – в ужасе остановил Пепка старухину руку. – Он солёный и не по вашим зубам! Вам лично этот рекомендую. – Ловкие руки Пепки резали толстыми мягкими ломтями жёлтую сырную массу, завёрнутую в целлофан в форме рулета. Запах свежего сыра разбудил в Жоре аппетит. – Сметанный колбасный…
– Ёсть и у нас таки… – разочарованно отказалась цыганка. – Дякуй…
– А вы попробуйте! Не такой! Этот же во рту тает…
– Правда, смачны… – пожевала она. – Умеют…
– Откуда, Чесь?
– Из Паневежиса. Магазин «Сыры» на площади, возле театра. А какой же там вид спорта?.. Не помню… Да там, вроде…
– Правильно: никакого! В Литве, Чесь, молочные продукты всегда хорошие!
– Продукты-то в Литве хорошие, а вот писателей хороших нет, – заметил учитель. – Мне так Антонович говорил. Он большой любитель чтения. Всегда со своими книжками сюда приезжает… Так у литовцев один только Григорий Канович и есть – замечательный современный автор. Я его читал… Прямо Шолом Алейхем!
– А больше у литовцев писателей нет? – с иронией спросил шофёр. – А у белорусов кого нет, шеф?
– Композиторов. Предпринимателей с головой… И вообще не хватает культуры.
– Нет, шеф, неверно вы говорите! Вот представьте: если б Рязанская губерния от России отделилась да завопила: ай-яй-яй, нет у нас, русских, что-то писателей хороших! Как бы вы к этому отнеслись?
– Ах, конечно же, Чесь! Всё верно! – подхватил «фиолетовый». – Ты абсолютно прав! Писателей нет у литовцев, композиторов – у белорусов. С чего бы это, и впрямь? А у поляков вроде бы всё есть… Так кажется на первый взгляд, но все они – один народ. Что здесь было изначально, с тех пор, как пошла культура?
– Великое Княжество Литовское! И жили в этих краях его граждане литвины, а если бы не разделили их на три части, были бы у литовцев сейчас Скорина и Наполеон Орда, Быков и Короткевич, Домейко и Борщевский, а у белорусов – Чюрлёнис и Чеслав Немен, Канович и Ян Потоцкий, Шопен и Пендерецкий… Кто ещё?
– Мой любимый писатель Лем! – сказал Борисович. – Он в Лемберге родился – во Львове.
– А ещё Марк Шагал, Кандинский, Бакст, – подсказал Жора. – Соломон Белов… Айзек Азимов… – Он вспомнил, что мама очень ценила Шагала, больше, чем Малевича…
– Правильно, юноша! И даже Саймак – корнями из-под Смоленска, хоть и чех.
– Всё это наша бывшая земля, – сказал «шофёр».
– Всё это – одна культура. В этом суть. Один и тот же культурный ареал. Была бы здесь и сейчас свободная страна, они бы, может, и не уехали никуда! Ни Сутин, ни Цадкин, ни Шагал, ни Вейцман… Бар Лазар жил здесь, зато его хасиды – где нашли пристанище?!
– Дык гэта же усё яуреи! – удивилась цыганка.
– Так здесь не только евреи, тётушка, – ещё и поляки жили, и аукшайты, и много кто жил всегда, и все они были граждане Великого Княжества Литовского. Кого Иван Грозный больше всех уничтожил в Полоцке, когда в первый раз город штурмом взял, разгромил и сжёг?
– Тьму-тьмущую поляков и евреев под лёд пустил! Хорошая какая смерть, шеф, правда? Дешёвая, без затрат. Н-на поляков и евреев рассчита-а-айсь! И к речке гуськом! Дыру во льду проломал – и по кумполу их, по кумполу – и туда их, туда, в воду! Поляк-еврей, поляк-еврей!..
– Чесь!
– Да?.. А остальных, – не горожане которые, – в Сибирь! Шляхту там всякую и крестьян безродных. Вон когда её, матушку, заселять нашим людом стали! Сдохнет по пути половина – а не жаль! Католики проклятые…
– Прекрати!
– А что, неправда? Умный был Иван Грозный – голова! На висилицы тратиться не надо, и пули впрок сэкономишь. Или не было тогда пуль?
– Были, Чесь…
– А что уж там говорить про дорогущую гильотину? На тридцать тыщ евреев и поляков никаких гильотин не наберешься!
– Чесь, не кощунствуй!
– Я правду говорю, шеф…
– Всё равно.
– А что, правду скрывать – лучше, чем кощунствовать? Или кощунствовать хуже, чем врать?
– Кого ты имеешь в виду?
– Это врёт-то кто? Да вся их история.
– История, Чесь, не может врать. Она уж какая есть… Врут историки.
– Понятное дело: историю пишут победители, кто победил – того и правда! А ещё хуже, когда от своей истории отказываются. Как белорусы. Так ведь, шеф?
– Да, Чесь, ты тут, к сожалению прав. Белорусы отказались от своей истории целиком.
– Зато литовцы всю её себе присвоили. Бессовестные! Будто она только ихняя, а не наша… Правда, шеф? Наглецы какие!..
– Не наглецы, а молодцы. Хоть они-то не отказались!
– И то верно. Холуи эти белорусы – одно слово. Только и орут: «Ах, наши русские братья! Ах славяне!» А те их – под лёд, под лёд, гады… и так всегда…
– Матка Боска! – всплеснула руками цыганка и ударила себя в грудь. – Вот мы с Борисовичам – русские. И каму мы што плахое зрабили? Разве ж мы – «гады»? Какие ж мы вам… эти… савяни?! Или хто?.. – Она оглянулась на Борисовича.
Тот только молча усмехнулся.
– Когда говорят про ненависть к русским, тётушка, имеют в виду, конечно, власть. А на Руси власть во все времена была поганой…
– Да всегда только гнобила да поганила свой народ. Хоть под микроскопом всю историю изучи! Что про другие-то говорить!
– Кто разделил народ Великого Княжества Литовского на три части? А ведь это была одна культура. Один культурный ареал.
– На Польшу-то, Белоруссию и Литву? Сталин! – подал голос Борисович. – Отдал литовцам Вильню и придумал белоруссизацию. Правда, потом испугался и стал белорусов тоже в лагеря сажать. Ядя моя сидела… так мы и познакомились.
– Но это было гораздо позже, шеф…
– Правильно. А когда уничтожили Великое Княжество Литовское, наша земля вместе с теперешней Литвой никак не называлась, и уж белорусами никто себя не называл. Литвины были – литвины!.. Польше больше повезло, там чётко определились.
– И отделились!
– Правильно, Чесь! Когда всё здесь Российская империя окончательно захватила, она и придумала новые названия в традициях Орды: земля, что на западе – белая, на юге – чёрная… А потом, в семнадцатом веке, чтобы как-нибудь обозначить на карте Балтийскую Русь, так её и окрестили, сделали кальку с литовского – «Балтос Русис», то есть Русь Балтийская – Белая, ибо «балтос» значит «белый». Была ещё красная, чёрная – где Городня. А потом Белоруссию придумал Сталин, тут вы не ошиблись… и, действительно, испугался, что дал «белорусам» много воли. И, как все русские власти до него, принялся исправлять ошибку.
– И зноу руския! – возмутилась цыганка. – Ну, чым жа мы винаваты?!
– Ну, а кто истреблял наших предков на этой земле из века в век? Истязал и мучил католиков, насаждая православие? Сколько раз жгли Полоцк? Ничего там уже не осталось – одна только много раз перестроенная София.
– Правильно, шеф, верно! Московия нас гнобила! Что тут скажешь?
– В Европе тогда все друг с другом воевали, – подал голос Борисович. – Кто был слабей – того и били…
– Вот пусть и разбираются там, в Европе, если кто на кого особенно как обижен. Нас-то Московия захватила навсегда!
– Ты главного не сказал, Чесь. В Европе все воевавшие между собой страны принадлежали практически к одной религии и одной культуре. Никто эту общую культуру не хотел уничтожить и католичество православием не заменял!
– Верно! Жгли наши костёлы и строили вместо них свои православные церкви! Или просто – «отдавали православным»… Разрушали города и культуру, ремесленников угоняли к себе. В Орду Московскую!
– И делали это те, кто потом себя русскими назовут…
– Именно, шеф! А, помните, что учудят здесь у нас их верные русско-подданнические холуи? В Полоцке захотят центр мирового туризма соорудить! Ну, прямо новые Васюки. Хоть бы классику иногда читали…
– Да разве чиновники её читают?
– Вы правы, шеф, стыдоба! Ну что там, спрашивается, сегодня смотреть туристам кроме одного-единственного собора?! Спасибо русским братьям скажите! Ничего от Полоцка не оставили!
– Даже после Екатерины не успокоились. Надо было ещё и последний оплот культуры в Полоцке разграбить – Иезуитский университет.
– Книги и те вывезли русские братья вместе со всеми ценностями. Правда, шеф? Почему же нельзя об этом помнить?
– Да лишь во время Ливонских войн Иван Грозный уничтожил два миллиона наших предков.
– Так, между делом, по пути в Европу. А Петр Первый, шеф? Тоже хорош! Могилёв-то, скажите, зачем ему понадобилось сжигать? Вроде бы прогрессивный царь. Лютеранство собирался вводить. Попов к ногтю прижал. А вот сам, поди ж ты – понабрался от них… Эх! Православный менталитет! Открыли горожане ворота, в город его впустили – поверили русскому царю. Ан, нет! Уходя, всё ж поджёг и разграбил, гад! Всё по-русски! И об этом – молчок! Так в истории и осталось: Петр Первый – прогрессивный русский император! Ай-яй-яй! Окошко в Европу прорубил! Ну и рубил бы у себя в Финском заливе, а не у нас! Правда, шеф?
– Правда…
– За то его и наказала судьба…
– А мог бы много хорошего на Руси сделать…
– Ваша правда. В другой бы стране жили теперь, шеф! Ну, а Суворов – «великий» полководец? Вот уж кто палач нашего народа так палач! Самый жестокий и кровавый! Как лютовал! Как зверствовал, подавляя восстание Костюшки! И подавил уж, повесил всех, кого можно, – а зверствовал. Ан, нет – герой, и в героях ходит, подлец.
– Следи за языком, Чесь!
– Даже героев нам своих навязали. А ведь для нас они – московские палачи. Так-то, мамаша!
– Знать не знала…
– А узнать лучше поздно, чем никогда!
– И потом, вы, тётушка… какая ж вы теперь, скажите, русская?
– Матка Боска! Як якая? У паспарте записано – русская! – возмутилась цыганка.
– Вот и правильно, так и нужно, – одобрительно кивнул «фиолетовый», глядя на Жору, а Чесь, схватившись за живот, покатывался со смеху. – Пришёл в чужую страну – живи на здоровье! Перенимай её культуру, её веру… Или верь, пожалуйста, во что хочешь у себя дома. Но не насаждай это калёным железом для всех прочих, как делали это русские завоеватели – от Ивана Грозного до Богдана Хмельницкого и Екатерины…
– И, правда, шеф, не везло России с политиками. Как ни «политик» – подлец. Начиная с Бакунина да разных там «разночинцев»! Ну, с чего было, спрашивается, убивать Александра второго, а потом прогрессивнейшего Александра третьего травить?! Ведь только-только, бедняги, стали вводить в России капитализм! На мировой уровень вывели страну… Ан, нет – завелись всякие Чернышевские…
– Чесь!
– Пардон, шеф, сукины дети. И гикнули всё к чертям…
– Это верно.
– Запродали за бабки мировому капитализму! А уж потом на немецкие денежки – добили вконец большевички!
– Неважно Чесь, на чьи деньги делались революции! Делали их выходцы из России! Все, кто был недоволен!
– Вот-вот… Вот до чего довёл православный менталитет!
– И сама церковь, Чесь! Не трогали бы католиков и иудеев, да атеистов бы не боялись – не получили б пожар «мировой революции»!
– Уж какие страшные были революции в Англии да во Франции, да разве с родненькими «робеспьерами» сравнишь?
– Да Чесь, нам с политиками не повезло.
– Нам то что, шеф? Не повезло России! Ну, все у неё были, все: и учёные там разные – Менделеевы с Циолковскими, и писатели – Пушкин да Достоевский, да Рахманиновы, да Стравинские, а как править по-человечески в кои-то веки захотелось – варяги только и выручили один раз…
– А вот тут вы не правы, господа! – с самодовольством пробасил Борисович. – Совсем не правы!
Пепка выпучил на него глаза.
– Нам Иван Антонович рассказал: и Пушкин с Достоевским тоже отсюда родом, их корни здесь. Достоево – всем известно, а предок Александра Сергеевича, некий Симеон Пушка из Мозыря – как отправился служить в Московию, чтобы денег заработать, так там и остался. Даже род Толстых отсюда, и Циолковский имел польских предков. Многими великими разжилась Россия за наш счёт, многими… Да только вспоминать об этом не хочет. И мы почему-то стыдимся…
– Н-ну… к этому мы вернёмся…
– Это мы вам объясним, – встрял Пепка и сник под строгим взглядом шефа. – Если будете хорошо… себя… вести… Так, шеф?
– А часы у вас ёсть? – спросила цыганка.
– Пол-одиннадцатого, – посмотрел на свои учитель.
– Нешта няма алимпияды! Можа, по другой праграме?
– Да её по всем будут повторять, – сказал Жора.
– Как знать, как знать! – Пепка бросился переключать программы. – Ещё рано. По другой сейчас про Америку передача…
На экране появилась голубая заставка с чёрными буквами:
В СТРАНЕ КОНТРАСТОВ.
– Во-во! А па першай зараз – я праграму раницай слухала – «Па радной стране» коньчыцца, и адкрыццё будут павтарять. Пераключы…
Экран вдруг заревел. Строгая заставка сменилась решительным лицом комментатора во весь экран и страстными призывами к чему-то во всю громкость – выше границы воспринимаемости смысла текста.
– Звук потише! – закрыл ладонями свою бритую голову учитель.
Пепка уменьшил звук до неслышимости и вернулся на своё место молча доедать бутерброд, коих за время общего разговора тихой сапой успел наделать на всех и разложил посреди стола на вышитой льняной скатёрке.
– Можа, люди слухать хатели!?
– Они уже наслушались! – парировал упрёк Борисович. – И, думаю, насмотрелись! Наездились по родной стране…
– Д-да! Наездились, насмотрелись! – поддержал хозяин. – Столько за день контрастов! Эстония и Печоры, Псков и Вилейка!
– И усё гэта за адин день?
– А что эта у нас бутылка просто так стоит? – вспомнил Пепка. – Я и стаканы достал.
Откуда-то взялись стаканы. Хозяин молча налил всем из цыганкиной бутылки. Жора осторожно понюхал, взяв свой стакан, но так, чтобы никто не заметил. Его худшие предположения оправдались.
– Я не пью, – покачал головой учитель.
– С такой закуской, Барисавич! – уговорила цыганка. – Ты паéшь…
– Помидорчиком закусите, – посоветовал Пепка. – В Риге без очереди болгарские помидоры. И чесночку…
– Вы и впрямь объехали всю Прибалтику! – осмелел после самогонки Жора.
– Всю, всю! Чесь – свидетель. Да, знаете ли, немножко сперва заблудились… Машина у нас такая – зверь!
– Видел, – завистливо кивнул Жора.
– Так вот – зверь-машина! Машина, говорю, зверь… То за окном – улицы, московская публика, очереди кругом… Оглянуться не успел – сосны! Море, смотришь, синеет. Дюны, песок. Едем себе по Эстонии – двухэтажные особняки, газоны, цветы, клематисы всюду вьются – одним словом, Европа у вас тут. Вдруг – шах-бах! Выехали на плохую дорогу. Пьяный валяется. Колдобина на колдобине. Домишки кончились, а с двух сторон – не поля, а пастбища зеленеют. Правда, пастбища какие-то подозрительные – в сорняках все, а коров на пастбищах – нет как нет. Только что траву жевали – а тут, хоть бы одна! Границу, что ль, думаем, не заметили? И куда ж это нас занесло? Смотрим, за лесом – церковь сверкает: вся белоснежная, купола – золотые. А за церковью – монастырь, как игрушечка, ещё краше! Вот уж точно, и без олимпиады итальянскую краску нашли – всё голубое, розовое, на синих куполах звёзды золочёные, кресты золотые!.. Лес проехали. Брусчаткою протряслись – то ли город, то ли село, ни вывески, ни указателя. Дома деревянные покосились, на площади – лужа, снова пьяный валяется, куры, как у себя дома, ходят.
Я говорю, друг Пепка, не перепутали ли мы с тобой временные характеристики? Пространство вроде бы то… А, вот, времечко! Чёрт его разберет… Потом, смотрим, всё правильно – дом двухэтажный, оштукатуренный, на облупленной стенке вывеска: «Универмаг». В открытую дверь хоть бы кто зашёл, а со двора две очереди столпились. Одна, говорят, за французскими колготками, а вторая ещё ни за чем – хлеб скоро привезти должны.
И поняли мы, что из Эстонии в Россию свернули. Город, спрашиваем, как называется? Что-то вроде «пещер» услышали мы на ихнем говоре. Название подходящее. Поняли, переспросив, что Печоры. А в Белоруссию, говорят, – вон по той гравийке, откуда автолавка с хлебом вывернула и пыль столбом… Очередь зашевелилась, а мы – по местам и назад в Эстонию – на асфальт. В Риге продуктиками подзапаслись, и сюда уже – через Паневежис, по магистрали. Знаем мы российские гравийки…
– Что хлеба купили, добра, – кивнула цыганка. – У нас с хлебам, як у Расии.
– Мы и с вами поделиться можем. Есть у нас там, Чесь, в багажнике?
– Дякуй! В Михали па ауторакам авталаука приезжае, нам усим по две буханки у руки дають. А вам – не, не прадали б… Отдыхающие, неяк, прасили, с возера. Где там… Не ведаю, куды яны за хлебом ездють…
– А что ж так? – посочувствовал иностранец.
– А каб хлебом, кажуть, скот не кармили… Дык чым жа яго, халера, кармить?
– А туристам-то почему нельзя?
Цыганка пожала плечами.
– Скажите пожалуйста! Какие пошли туристы! Государственным хлебом в палатках, тайно, скотину кормят! И кого они? Бычков или, может, кабанчика?
Цыганка вылупила глаза.
– Чесь хочет сказать – отчего туристам-то не продают? – выручил иностранец и вышел из-за стола.
Жора отвёл взгляд от ухмыляющегося Пепки и уставился в телевизор. Гигантские, во весь экран, комбайны прямо-таки наваливаясь на зрителя, подминали под себя жёлтую полоску пшеницы.
Иностранец покрутил настройку.
– «…Первыми закончили уборочную хлеборобы ярославской области…»
– Да когда она в это время заканчивалась? – хмуро вздохнул Борисович.
– Рапартують! – засмеялась цыганка.
«Коммунисты… их мать! – добавил бы обязательно дед!» – вспомнил Жора. Ему почему-то стало весело и хорошо. Самогонка действовала как-то очень быстро. «Больше не стану пить!» – решил следователь.
– А в ваших краях как урожайчики? – расплылся в улыбке Пепка. Лёгок на помине – уже стоял с бутылкой напротив Жоры. – Выпьем за урожай?
Борисович раздосадовано махнул рукой и было отвернулся от всех, но пересилил себя и всё-таки пробурчал:
– Убирают. В нашем колхозе хоть рожь вовремя уберут. Спасибо нашим дорожкам…
Цыганка, посмеиваясь, разъяснила:
– Ён кажа: райкомауския на сваих машинах па грязи нашай не даязжають…
– Не научат, когда уборочную начинать. Теперь уж до снега не доберутся…
– Жыта зялёным не прымусять касить…
– Как это? – удивился Жора. – Живя здесь два года, он до сих пор этого не понимал, хоть что-то такое слышал… А теперь не хотел верить.
Учитель и цыганка как-то вдруг замолчали, посмотрев друг на друга. Потом старуха вздохнула:
– Сарочынским надта не пашанцавала – ихние поля усе – ля шассейки! Дык председатель у их – малайчына! Бывала, старого Франека пазаве… «Скаси, – кажа, – паласу вдоль дароги и стой… Матор не глуши. Чорт з им, з бензинам!..» Хлеб спасём!.. Приедуть гэтыя – иде уборка…
– И наверх рапортуют, – кивнул Борисович. – А тем – выше рапортовать надо!
– А нынче разумней стали: жыта каля дарог не сеють. Только лён да бульбу…
– А как же в Вереньках – рожь вдоль шоссе? – вспомнил Жора.
– Ат… Той председатель сее…
Жора представил лоснящегося от самодовольства Потапенку. Недаром ему противна всегда была эта сытая рожа!
– Что яму? Передавы!
– Раньше всех рапартует…
– А правда… что по району, – запнулся Жора, потому что знал эти цифры, но никогда в них не верил, – правда, что по району в целом половина посеянного остаётся в полях под снегом?
– Бураки, бульба… – прикрыла глаза цыганка.
– И половина всех зерновых!.. Вы это тоже учтите! Пропадает зря! Убирается, не достигнув восковой спелости! – учитель вытер платком побагровевшую лысину и посмотрел на Жору. – Кто, спрашивается, за это ответит?
– А ци ж нема ответчиков? – хохотнула цыганка. – Вунь, за красивые ответы – тольки грошы и палучають!
– Да что ж мы – в стране дураков живём? – вдруг вопросил Жора, уронив голову на стол, потому что в ней зашумело, и почувствовал, что может заплакать, так проняла его эта чёртова самогонка. – Что же это такое… одни дураки кругом? А мы… Мы – что?
– Вот-вот! – подхватил Пепка. – Умных всех перебили! Кого Иван Грозный, кто сам в лагерях… Одни дураки и остались…
– Нет! – заявил Борисович. – Я вам вот что скажу: самым страшным в годы репрессий были не лагеря. Самым страшным была коллективизация. Она убила народ. В лагерях можно было выжить. Настоящая интеллигенция, с духовным багажом, со стержнем внутри – всё это вынести могла. То, что внутри – не отберёшь! И многие выживали! – он ударил себя в грудь. – Но если у человека в деревне… У простого крестьянина – отбирали всё – землю, корову, зерно, его дом… созданные трудом и потом. Если от голода после этого умирали дети… то кроме ненависти к большевикам не оставалось ничего. Вот и народа не осталось. И страны…
– А, туда ей и дорога! Ура! Китайцы в Пуховичах!
– Ты что, Чесь? – удивился «фиолетовый».
– Да, так, вспомнил… Когда я учился в седьмом классе, шеф, был у нас один двоечник. Ну, провидец прямо, пророк какой-то. Не знаю, что с ним потом стало… Так вот. Ходит он во время урока по классу. Учительница спрашивает: «Вовочка, почему ты не пишешь сочинение?» А он: «Светлана Ивановна! Зачем писать? Китайцы в Пуховичах!»
– Не надо «в Пуховичах»… – скривился «фиолетовый». – А Хабаровск, Чита, Новосибирск… Это уже, кажется, не за горами. Не ошибаюсь?
– Не ошибаетесь, шеф. Вскорости после «перестройки» – в том же веке, что шаманизм… Потом – Камчатка, Сибирь.
– Конечно, Россию заселят китайцы! – подхватил Борисович. – Придёт здоровый народ. Свой уничтожили, споили… Сломили уже давно. И за это – кому ответить?
– А каму рабить? – по-своему поняла цыганка и вздохнула. – Не хочуть в калхозе рабить, не идуть…
– В колхозе? – наивно переспросил иностранец. – А где у вас тут колхозы? Всю округу с Пепкой исколесили – ни одного, простите, КОЛ-ХОЗА – ни одного коллективного хозяйства не видели.
– Хозяйства? – захихикал Пепка. – Да где у них тут хозяйство?.. Сплошная безхозяйственность! Едет трактор с мощностью танка, везёт двести килограмм сена…
– Ни один хозяин, простите, не выдержит. Разорится…
– Хозяина нет, хозяина… – вздохнул Борисович.
– Вы правы! Одни герои с патриотами – и ни одного хозяина! – посочувствовал иностранец. – А в сельской жизни столько всяческих неудобств, столько тягот и каторжного труда, что все они могли бы скомпенсироваться лишь одним – частной собственностью на землю.
– Как и было у них тут, шеф, верно? Польша ж здесь до тридцать девятого была – маёнтки, собственное хозяйство, хутора! И русские только перед войной пришли, потому и народ трудолюбивый, не забыл свои хутора, не отвык работать…
– Да, Чесь! Человек должен жить и знать, что умрёт на своей земле, что никто его с этой земли не прогонит и хутор трактором не снесёт.
Все недоверчиво уставились на иностранца. Цыганка перекрестилась. Чесь тоже был, кажется, удивлён:
– Это как, шеф?
– А так! Что в колхоз на тракторе дом твой никто не перевезёт…
– И в «агрогородке» жить не заставит?…
«Фиолетовый» строго на шофёра посмотрел… Ворона, что-то почувствовав, перелетела с подоконника на плечо хозяйке и, воинственно растопырив крылья, выпятила раскрытый клюв.
– На! На и табе… – старуха взяла кусок хлеба, отломила корочку от ароматного ломтя, дала вороне. На разломе видны были грубо помолотые и даже целые зёрнышки. Сама с удовольствием пожевала мякиш.
Жора видел такой хлеб впервые.
– Хлеб яки добры… Калисти сами таки пекли.
– Литовский «Ругялис», рекомендую! – захлопотал Пепка, доливая всем по второй. – Натуральный, свежайший, утром в Каунасе купленный…
Все потянулись за хлебом. Пепка только успевал нарезать. Жора тоже попробовал, но вкуса не понял. Учитель одобрительно кивнул:
– Молодцы, литовцы! И хлеб печь не разучились, и от истории не отреклись. И славянским «братьям» не поддались… И язык на русский не променяли – сохранили литовский, свой…
– Э-э-э, нет, батенька! – ухмыльнулся «фиолетовый» иностранец. – На сей раз вы пальцем в небо попали. Не знал, видно, этого ваш Иван Антонович. Литовцы взяли язык аукшайте, хотя могли бы принять и балтское наречие жемайтов, и сохранить язык, на котором велось делопроизводство в Великом Княжестве Литовском – русский язык! Так что, тётушка, раз уж вы в Белоруссии католичкой заделались, – вот он ваш истинный язык – русский! Он наш по праву, а не тот «полешуцкий новодел», который стали навязывать всем при Сталине. Так что зря настоящий-то свой язык белорусы «русским братьям» отдали и себя лишили при этом собственного языка!
– И точно, шеф! Неизвестно, ведь, на каком языке эти «русские» тогда говорили! Татары московские! Правда, ведь? Может на тюркском каком… А может, на финском, чёрт их разберет…
– Истинная правда, Чесь, никто не знает. Ни одного исторического свидетельства о том, на каком языке до двенадцатого века говорил простой народ в Московии и на территории, называемой теперь Россией.
– Ну да? – удивился Жора. – До того как пришли завоевать Полоцк?
– Это просто не обсуждают. Ни одного письменного свидетельства. А, как говорится, «нет документа – нет истории»!
– Одни «славянские фэнтези» партийных историков! Правда, шеф?
– Берестяные грамоты на русском языке, до двенадцатого века, находили только в Новгороде и Пскове. Но уж никак не в Московии, никак не в Киеве!
– Да «мать городов русских» даже денег своих не чеканила! Та ещё культурная столица!..
– Верно, Чесь!
– Да не может быть! – удивился учитель. – Вероятно, только поначалу?..
– Пока существовала Киевская Русь, Киев своих денег не имел, это точно, их чеканили в Полоцке и Новгороде. Говорили на тюркском. В лучшем случае было двуязычие: тюркский и старославянский…
– Ну вот! – подхватил учитель. – Летописи-то на церковно-славянском были!
– И на этом основании вы считаете, что неграмотный люд в Рязани или Твери, Суздале и Ростове в одиннадцатом веке говорил на языке Кирилла и Мефодия? Я уж не говорю про Казань, извиняюсь, в те поры – город Булгар! Тогда будем утверждать, что в шестнадцатом веке «белорусы» говорили на латинском. Ведь на нём сочиняли Гусовский и Сымон Будный, и Франциск Скорина, да и многие почитаемые ныне классики считали родным языком латинский. А на латинице вплоть до самой революции писали даже те, кто придумал «родную мову», навязав всем свой полешуцкий диалект…
– Только уже на «кириллице», как Сталин захотел? Да и зачем им язык, шеф? Литовцы-то хоть своим литовским, как стеной, от Москвы отгородились! И правильно сделали, молодцы! А эти, белорусские холуи?! Они же всё в братья-славяне лезут! И так под Россию подстелятся, и этак – а язык свой, туда же, хотят иметь? А зачем, спрашивается? Помните, чем они кончат, шеф? Всё своё «старшему братику» отдадут. Задаром.
«Фиолетовый» мрачно кивнул:
– И трубу… И землю под трубой… И столицу распродадут по кускам… Ну, народ, положим, не спросят.
– Такой народ можно и не спросить! Он всё стерпит.
– Чесь!
– Угу!.. Всё отдадут. Всё! Только язык, Сталиным подаренный, себе оставят.
– Ну, Сталин, конечно, в языках не разбирался… Просто те, что были тогда у власти, придали собственному диалекту статус государственного языка.
– А кто всё это организовал, по чьему велению?
– Да… Спасибо, наш «старший брат»!
– Спасибо, кремлёвские вожди!
– Кинули кость народу…
– Спасибо вам за подарочек! Да он нас так от всего мира отгородит, что Сервантеса будем с русского якобы переводить! И своего – ни-ни… гениального по-русски! Не напишем… Зато «сваемовным» графоманам – кайф! Никто не поймёт, чего они там, наши любимые «классики», на своём языке валяют!
– Ай, ну вас, – сказала цыганка. – Хлеба там больш нема? Нада ж… выпить да закусить.
Пепка выхватил из синей сумки новенькую буханку и принялся резать хлеб, помидоры и колбасу. Все набросились на деликатесы. Закусывали с удовольствием. Пить никто не собирался.
– Добра пекут… Ай, яки хлеб… – хвалила цыганка. – Внучка з гораду раз привезла, минский. Дык яго есци нельзя. Чаго яны туды мешають?… На други день – тольки свинням.
– Ни хлебом единым… Ни хлебом единым, – разливал Пепка. – Выпьем-ка за хозяина! – и первым поднял свой стакан. То же сделал и его шеф.
– За хазяина гэтай хаты! – повторила цыганка. – За Канстантика!
– За способнейшего ученика!
– Хай ён скарее вернецца!..
– Пускай вернётся…
– А то хто ж нам у зимку хлеба… ды керасинчику прынесеть?..
Жора поднял свой стакан и, не нюхая, выпил до дна. Нет! Он чего-то не понимал… Можно сказать, ничего. Совсем даже ничего не понимал! Ну, кто такой этот Константик? Вор… Вот приедет завтра – и что с ним делать?
И тут, наконец, подействовала самогонка. Да так подействовала, так всё поплыло и закружилось перед глазами, что после этой, второй рюмки, а по сути, третей, Жора уже не мог сказать, было ли всё, случившееся потом, на самом деле или привиделось ему во сне.
Высокая фиолетовая фигура поднялась во весь рост, заслонив перед Жорой свет – свет от экрана и от иконки за бликовавшим телеотблесками стеклом. Только женская голова в ореоле склонилась над почти заслонённым головою «фиолетового» младенцем.
– Не вернётся он никогда! – громко сказал иностранец. – Опасно дразнить таланты! – И голос отдался в Жориной пустой голове, как зычный голос попа в пустой церкви, а перед взором Жоры была уже не эта хата, а какая-то страшная, с голыми стенами, вроде как больничная палата. Ряды коек с такими же грязно-серыми одеялами, а на одной – человек под капельницей без шеи… то есть с шеей, но с таким распухшим, или оплывшим до плеч… и белым, как у покойника, лицом, накрытый этим серым убогим одеялом по самые плечи… что казалось: нет у него шеи…. От кровати отходил врач, странно махнув рукой, наклонялась седая медсестра, санитар вёз каталку… Врач что-то говорил…
– Да, шеф… не вернётся он… никогда.
– А мы як жа? Как же мы без него зимовать будем?
«Ещё чего – зимовать! – то ли подумал, то ли невнятно пробормотал Жора. – Миллионер! В Америку теперь смотается! Будет он с вами здесь лапу зимой сосать!»
– И в Америку не поедет! – в упор посмотрел иностранец.
– Уб-били, может?… Чтоб миллион ещё получит-ть…
– Мало вы за него даёте!
– Так ч-ч-че-го ж он тогда… в ин-н-нститут-то не поступил? Не учился, к-как человек? – не мог сообразить Жора, у которого уже совсем не слушался от хмеля язык. – Ес-сли такой с-с-спо-с-собный?
– А паспарта прэдсядатель не дау!
– Как это так… не дал? – чуть отрезвев, не поверил Жора.
– Ой, детка… – вздохнула тяжко цыганка. – Время-то другое было. А без паспорта – куда уедешь? И мати ещё больная… Не кинешь… Адно – в калхоз…
– Так он же… и не в колхоз-зе? – не терял логики Жора. – Пот-тапенка ваш с с-сутра – з-зачем п-пприходил?.. У-уз-з-знать… Н-нельзя ли с-срочно принять б-бо-большинством голосов в ч-члены и н-на-следство н-на всех п-поровну…п-поделить?!. Н-нет ли такого з-з-закона?..
– Ого!
– Не дивись, Барисавич! – махнула рукой цыганка. – Таки ён! Таки, гэты сукин сын!
– Н-ну… вот… – с раздражением стукнул по столу Жора. – Я же и говорю!.. Он ж-же… и н-не в… кал-хо-з-з-зе!?.. Константик? Т-т-так?
– Так он же и не рабом родился! – отчётливо проговорил иностранец.
– Талантом он по ошибочке оказался! Да таким, что, слава богу, тысячу лет второго у вас не будет! Сидите в своём корыте у вашего телевизора. Хлебайте свою самогонку! Хи-хи-хи…
Жора ошалело уставился на Пепку, а потом на главного иностранца. Тот бросил на шофёра строгий взгляд и тут же наигранно заулыбался:
– Чесь хочет сказать, что Константик вам уже не опасен. Такого масштаба таланты…
– Такой массы… – ехидненько вставил Чесь.
– Они либо переворачивают плоскость своего времени на сто восемьдесят градусов…
– Утягивая с собой и нас… Фюить – и… там! – Пепка скосил глаза на потолок.
– Обваливая, Чесь! Правильно! Затягивая за собой реальность в новую эру существования…
– Как Бил Гейтс, к примеру…
– Либо сами… вываливаются из неё – прямо-таки буквально вываливаются из своего времени, оставляя жизнь без каких-либо перемен.
– Погиб талант, пропал… – вздохнул, закрывши глаза, учитель.
– Мы ему про Фому, а он – про Ерёму! – грохнул об стол кулаком Пепка. – Талант-то нисколечко не погиб! Просто вам он здесь – на хрен нужен!
– Сами удивляемся, как этого не случилось! Таланту необходимы трудности и препятствия, но не стена, об которую сразу же разбивают лоб! Чем больше препятствий на пути к финишу и чем выше барьеры – тем больше сил и умения у того, кто все их преодолел! Но если сразу же после старта поставить непреодолимую стену, об неё можно либо разбиться, либо отступить – и гений попросту не возникнет как таковой, не сумеет развиться, сделавшись тем, кем мог стать бы после преодоления всех барьеров.
– Опасно губить таланты! – зловеще подмигнул Пепка, разливая по третьей. – Правильно говорю?
– Правильно, – откликнулся иностранец и, взглянув на ничего не понимавшего Жору, пожал плечами: – «…и сказал ему в ответ: что Я делаю, теперь ты не знаешь, а уразумеешь после…»
Никто не осмелился спрашивать и возражать.
– Опасно губить таланты и играть с судьбой! Заигрывать с ними, ставя у этой стенки. Нельзя таланты дразнить: пусть тысяча разобьётся, но есть шанс, что один придумает способ, как убрать стену!
– Матка Боска! – несмело перекрестилась цыганка.
– Вижу, тётушка вижу! – вдруг вцепился в неё глазами Пепка. – В католицизм-то вы перекинулись, как положено. Целиком. А веру свою всю променяли?
– Якая у цыган вера… А як у кастёле з маим венчалась, с тех пор – каталичка…
– А гадать ещё… не забыли? – погрозил пальцем Пепка. – И колдовать, небось, тоже… умеете?
– Ай, божа! – отмахнулась она от нахала обеими руками. – Ды каб умела, ци ж гэткага б сабе мужа накалдавала? Можа б пана якога… Не у халупе сваёй жила б!
– Всё правильно, матушка, наколдовали-с! – лукаво оскалился и погрозил пальцем нахал. – Пан ваш – в каких нынче пенатах?
– Пан ваш в озере давно лежит, на дне, куда немцы его из гроба выкинули, а гроб забрали. Каплицу его взорвали, на месте её окопы вырыли, там сейчас сено косят.
– А пани, спрашиваем мы, где? Вот! И могилки её никто не знает! А ты – с нами сидишь, самогонку пьёшь! – Пепка хлопнул старую цыганку по плечу. – И коса ещё – вон какая! О-го-го!
Цыганка смущённо поправила косынку.
– И сад – ничего себе! – вспомнил Жора. – С таким садом…
– Да и гадать-то не разучилась! – хитро подмигнул Пепка. – Погадай мне, матушка, погадай!
– Ды не умею… – отвернулась она от наглеца.
– А я вот – и то умею! По лицам могу гадать! – приставал тот. – Может, слышали? Физиономистика – называется! Покажите мне человека – и я сразу скажу, кто он такой. Ну, вот ты, хотя бы! – нацелил он пальцем в Жору. – Хочешь, всё про тебя скажу? И про мать-художницу, и про отца-режиссёра!.. Всё!
И Жора вдруг вспомнил свою Одессу и квартирку над рестораном, где они с мамой жили, когда он учился в школе… Мама преподавала в школе рисование и французский язык, а потом, хоть давно разошлась с отцом, уехала в Ленинград, когда Жора, окончив десять классов, отправился учиться в Витебск, к овдовевшей маминой сестре… «Цыганская кровь…» – грустно покачал головой дед.
– Одного только не пойму! – вскричал Пепка. – Как в милицию-то ты попал, дружок?
Как-то вдруг сам собой усилился в телевизоре звук. В кадре выцветились трибуны, мелькнул олимпийский огонь. Заиграли фанфары. Блеснули медные трубы.
Девушка и юноша с чистыми лицами гордо несли по стадиону факел на вытянутых руках.
– Молодо-зелено! – вздохнул иностранец, глянув искоса на экран. – Наивная молодёжь! Ещё не знают, что они несут и куда…
– А вот почему несут – знают! – влез, пакостно захохотав, Пепка. – То есть – почему именно они несут!
– Да… – грустно покачал головой иностранец. – Уж она-то, по крайней мере, должна знать! И что ты в её лице прочитал? Что твоя физиономистика говорит?
– А ничего! Рано ещё. Биография в чертах не отложилась… А вот этак через десяток лет! Будьте уверены! Ха-ха-ха!..
– Тишэй вы! – шикнула на них цыганка. – Гэта уже – алимпияда! – И уселась за столом поудобнее, приготовившись смотреть.
Молодые с факелом гордо продолжали свой путь.
– А чего это, правда, они несут? – и не думал униматься Пепка. – Огня в стране нету, что ли? Значит, и его мало?
– Да тиха вы!
На экране появилась чья-то старческая сытая физиономия.
– Продолжим наши физиономические исследования! Ну, хоть, он, к примеру… – глумливо пробасил Пепка. – Гляньте-ка на него, шеф!
Иностранец, сидевший спиной к телевизору, повернулся, разглядывая склеротически дрожащего старца с густыми устрашающими бровями.
– А этот каким спортом занимается? – спросил он невинно.
Все в молчании уставились на иностранца.
– Вампир-р-ризмом! – зловеще хохотнул Пепка. – Ишь, прищёлкивает, как упырь!
– Упыррь! У-п-пыррь! – радостно подхватила ворона, словно только того и ждала.
– Да… ра-гие… Да-ра-гие та…варыщы… – с усилием, причмокивая и прищёлкивая, произнесла голова, то и дело подсматривая в бумажку.
– И правда похож… – вырвалось у цыганки, и она, тотчас оглянувшись, в страхе перекрестилась.
– Что за чучело? – спросил Пепка.
«Челюсть, что ли, не могут сделать? – как всегда, уже по привычке при виде этого зрелища поморщился Жора. – Показывают на всю страну…»
– Хорош! – паясничая, поддразнил ворону Пепка, выйдя из-за стола. – Хорош-ш спортсмен!
– Хоррошш! Хоррошш! – повторила ворона и, взмахнув крыльями, взлетела на печку.
– Да кто это, наконец? – как будто по-прежнему не догадываясь, удивился иностранец.
– Наш любимы, дараги… – хохотнула цыганка и, осмелев, взяла за плечо Борисовича, который упрямо повернувшись к печке, смотрел, как Пепка заигрывает с вороной. – Ай, пагляди… Чаго ужо нам с табой… Хать пасмяемся…
– Раз… Раз… Разре-шите мне…
Борисович молча, сурово смотрел на экран.
Вороне что-то не понравилось, и она слетела на балку под потолком. Пепка подошёл к телевизору.
– Ну, пока он там без нашего разрешения чего-нибудь скажет, – заорал Пепка, крутнув ручку настройки, – мы по третьей выпьем!
– …открыть нашу олимпиаду… – едва слышно закончила голова.
– Звук пасильней зраби!
– Так он её ещё и открывает? Значит, вправду спортсмен?
– Усе яны у нас – спарцмэмы… – засмеялась цыганка.
Иностранец озабоченно всматривался в экран.
– Ну как ваша физиономистика? – набрался храбрости Жора.
– А разве что-нибудь непонятно? Всё на лице написано. Так и хочется вспомнить вашу классику! Как там выразился Остап Бендер?.. Ишь, как глаза под бровями прячет!
«Застенчивый ворюга!» – почему-то вдруг вспомнил Жора, посмотрев на цыганку.
– Вор на воре сидит и вором погоняет! – Верно, тётушка?
– Ну, можа, не треба гэтак… – заступилась та.
– Вы мне не верите? – оскорбился Пепка, приняв очень важный вид. – Сейчас всмотрюсь повнимательней… – И он приблизился к телевизору, делая пассы над нахмуренными бровями.
– Гляди! Як красива… – всплеснула руками цыганка.
Камера показала красочные трибуны и поле стадиона, заполненное спортсменами в разноцветных костюмах.
– А дочка у него, между прочим, ворованными брильянтами спекулирует!
– Чепуха гэта… – отмахнулась цыганка, умильно глядя на радужную картинку. – Гэткая красата! – Маленькие фигурки на главной трибуне синхронно махали флажками разного цвета, и всё на экране переливалось, словно в калейдоскопе. Ворона перелетела на плечо хозяйки.
Появилось изображение умильно-добродушного мишки.
– Нет! – произнёс иностранец сурово. – Ворованные бриллианты – это не чепуха.
– И счёт в иностранном банке для честного коммуниста – тоже не хухры-мухры!
– Дар-рагия… товарыщы!.. – провещал экран, показывая крупным планом мощную челюсть.
Дальше Жора не слышал… Он в ужасе смотрел на ворону. Та защёлкала, сорвалась с цыганкиного плеча и устремилась к телевизору.
– Вор-ррованные бррильянты! – прокричала птица, заглушив дикторский голос, и села на телевизор сверху. Камера поехала ниже. Ворона наклонив голову, прокричала: «Упырь! Упырь!.. Дарррагие таварищи!», потом вспорхнула и начала виться у экрана, шумно хлопая крыльями да так и норовя клюнуть какую-нибудь из блестящих медалей.
– Кыш! – закричала цыганка. – Телевизор клюнет! Телевизор спасай!
Пепка угодливо сорвался с места и сломя голову бросился ловить ворону. Птица, широко разводя крылья, в испуге заметалась по всему дому.
Поднялся переполох. Иностранец пытался угомонить шофёра, хозяйка защищала свою питомицу. Раз пять пронёсся за нею Пепка из одной половины в другую. Наконец, ворона вылетела обратно в дверь и села на полочку у печной трубы под самым потолком. Пепка подпрыгнул, легко оторвав пятки от пола, и, как маленький реактивный снаряд, спикировал за вороной, которая вдруг сорвалась с места и упорхнула на печную лежанку, где валялся старый драный тулуп. Какой-то миг Жора слышал крики бившейся на печи птицы, видел, как Пепка пытался прихлопнуть её ушанкой, и тупо глядел на свесившиеся оттуда ноги в таких же, как у него, адидасовских кроссовках, только на пятках мигали лампочки, как на ёлке. «Кажется, перебрал!» – подумал он, ущипнув себя за колено.
– По третьей! По третьей! – кричал Пепка, одной рукой прижимая к груди вырывавшуюся ворону, другой – поднимая чарку. – Ведь мы же ещё по третьей не выпили!
– И этого достаточно! – проворчал учитель.
– Лепш гляньте, якая красата! – восхищалась цыганка, не отрывая глаз от экрана. – Ай-ай!
– Да что же тут хорошего? – искренне удивился иностранец. Он развернулся на табуретке, сидя нога за ногу и скрестив на груди руки. – Согнали людей… Нарядили в какие-то… Даже не знаю во что… И сколько ещё репетировали…
– А, может, они не хотели? – поддакнул Пепка. – А, может, они хотели на Фиджи или провести отпуск в Альпах…
– Какие Альпы! – поморщился иностранец. – В Альпы они не ездят…
– Да, вроде, ездили, шеф…
– Это уже потом, после перестройки.
– И простой учитель тоже? – Пепка кивнул на Борисовича. – Мог поехать в Альпы?
– Упаси бог! Хорошо, если ему на прожиточный минимум хватало…
– А кто ж ездил-то?
– Ну, это… смотря кто… В основном, чиновники, те, кто при кормушке, и разные там олигархи. А простому учителю да врачу, если взяток не брал, – какая же заграница? Им бы у телевизора посидеть…
Камера показала людей на трибунах, ритмично поднимающих и опускающих синие и красные флажки.
– Вот и эти… – вытер глаз Пепка. – Они б, может, тоже хотели посидеть… А их согнали на стадион и заставляют махать руками.
– И в самом деле! Почему бы им, собственно, не съездить в Швейцарию? – вдруг возмутился главный. – Они что, трудятся хуже других трудящихся во всём мире?
– Работают-то не меньше, да зарабатывают, сами знаете, шеф… с гулькин нос…
– Мы с тобой, Чесь, в Альпах были?
– Были!
– А где Збышек Пепка провёл последнее рождество в тысяча девятьсот семьдесят девятом году?
– У двоюродной сестры в Бразилии. Повидаться ездил…
– А кто наши с тобой прототипы? Всю жизнь, что ли, миллионерами были? Нет!
Какие-то смутные ощущения зашевелились в голове у Жоры… Рука подняла стакан, в нос ударила вонючая самогонка. Он силился что-то сообразить и, чуть отхлебнув, поставил стопку на стол:
– Т-т-так вы же?.. Вр-р-роде…
– Нет!.. Так мы по третьей никогда не выпьем! – обидчиво протянул Пепка. – Нас отвлекают, шеф… – На экране показалось лицо с бровями. – А он, как думаешь, заливает?
– Что́ ему!..
– Пьёт, пьёт, подлец!.. По лицу видно. Но сам-то – пей, сколько влезет, не жалко. А народ спаивать зачем? – погрозил пальцем паршивец. – Народ-то чем провинился?
– А как это у них там в басне? «…Да только тем, что хочется мне кушать»!.
– Вот-вот, шеф! Кушать хочется, а на всех – не хватает. Только тем, кто при «державе» – и перепадёт! У-уу! – погрозил Пепка кулаком бровастому на экране. – Так вот тебе для чего держава-то нужна!
– Народ, положим, голодал всегда… – начал глубокомысленно «фиолетовый».
– Естественно, народ всё стерпит! Но спаивать его зачем? Губить-то?!.
– А что он может ему предложить?
– Ну, Альпы, допустим, нет. Уровень дохода не тот. И почему он у них такой низкий?!. Ну, а вот высокую духовную культуру?
– Да что он понимает в культуре? Глянь-ка на его профиль!
Экран показал его во всей красе.
– Щёки из-за ушей торчат! – прыснул Пепка.
– Ай, срам! – засмущалась цыганка. – Навошта? Як мне, дык, яго жалка…
– Ах, вам его жаль, мамаша? А вот, вас ему, поверьте, нисколько! В хате он вашей никогда не жил и земляного пола, думаю, в глаза не видел даже в царское дорежимное время…
– И вообще, почему у них такой непроизводительный труд? Отчего кругом такая бедность?
– Страна наша багатая! – гордо сказала цыганка.
– Позвольте, мамаша, с вами не согласиться. Видел я ваш земляной пол. И вижу… как живёт ваш гениальный племянник.
– А чым ён кепска жыве? Телевизар, вунь, яки добры…
– Ну, это, допустим, следует отдать должное японской инженерной мысли и его собственным гениальным способностям.
– Выпьем за гениев-одиночек! Как прорывается трава сквозь асфальт…
– Да чем он т-такой г-гениальный? – не выдержал, наконец, Жора. – Вы его в т-третий раз т-так уже называете, а он н-на учёте в милиции состоит…
– Все мы, молодой человек, где-нибудь состоим. Кто в милиции…
– Или там в ЦРУ…
– Либо в другой похожей на эту организации, а кто у господа бога на службе. Вот, вы, к примеру, тоже не представились…
– Документики не показали!
– Да что там спорить! – прервал болтовню учитель. – Бедность! А что вы хотите? Тысячелетнее рабство сто лет как кончилось.
– Вы имеете в виду крепостное право?
– Именно так, если назвать всё своими именами. Давно ли освободились?
– Так ведь, и не освободились, если сказать по совести. Просто слова другие придумали: «счастливый коммунистический труд»! «Ударное строительство социализма»…
– Смеётесь?! Не знаете вы, молодой человек, что такое рабство! С чужих слов…
– Ну, ну… – принялся успокаивать Пепка. – Радости-то, что вы не с чужих знаете… Злиться надо не на меня. Знать надо, на кого злиться…
Заиграли фанфары. Полилась радостно-бравурная музыка.
Теперь поле стадиона меняло краски.
Людская толпа невидимо колыхалась, качественный телевизор изумительно передавал оттенки. Цветное зрелище было потрясающим.
Симпатичный мишка умилительно улетал в облака.
– Ба! Это-то и есть плагиат? – вскричал Пепка и, подбросив вверх головной убор, зааплодировал. – Браво! Браво! Вот случай, когда их история не соврала!
– Она и не собиралась врать, Чесь. Только это будет уже не их история…
Зрители прощально махали с трибун. Цыганка пустила слезу.
Фиолетовый иностранец, который оставался единственным, кто сидел спиной к телевизору, тоже повернулся и посмотрел, куда смотрели все.
– Мы никогда не поймём друг друга… – сказал он до того тихо и вновь отвернувшись от экрана, что слышать мог только Жора, сидевший напротив глаза в глаза, а, может, и вовсе ничего сказано не было…
Но, сказано, видимо, было, потому как Пепка вставил и тут свои «пять копеек»:
– Вы правы, шеф! Ой, как верно! Отнять столько времени у людей! Репетиции, тренировки!.. Хрен с ними, с Альпами… А вот ежели б всё это время… да моральному совершенствованию посвятить!
– Мы по-разному смотрим на вещи, – продолжал иностранец, и опять показалось Жоре, что слышит его он один, – и до того по-разному, что вам этого не понять. Самое страшное преступление для правителей – не делать народ умнее…
– И чего только не делать, чтобы не делать! Ну, надо же… – зевнул паршивец, скептически глядя на экран. – Сколько же они руками махать-то будут?… Впрочем, как у них там?.. Махать… – не строить?.. Работа – не волк, в лес не убежит… Да ни один трудолюбивый народ в Европе такую поговорку не поймёт! Русский менталитет… Эх! А вам подавай – «умнее»! Культуру вам подавай. Чего захотели! Да после перестройки последнюю отберут… Нет, на стадионы уже гонять не станут. Разве что – послушать попсу. Так очень умно! Народ, который слушает «не попсу», а Барда… – разве будет терпеть, что с ним творят? – Он ещё раз вяло зевнул и, демонстративно отодвинув манжет серой робы, посмотрел на свою руку, где у каждого нормального человека есть часы, но у него их, видимо, отродясь не было. – Мне-то что? Пусть машут… У меня и своих забот по горло…
Пепка пожал плечами и отвернулся, но его шеф выглядел таким грустным, что Жоре сделалось не по себе.
– Только вас, Командор, жалко… Просто сердце сейчас разорвётся, как жаль… Возьмите таблетку…
Иностранец отвёл протянутую Пепкину руку с неизвестно откуда взявшейся белой пилюлей на ладони и сказал вдруг изменившимся, каким-то хриплым, но до боли знакомым голосом:
– Чьё-то сердце сейчас разорвётся…
– Да… Если есть среди них хоть один с честным сердцем, оно не выдержит… Командор! – вскричал Пепка, взглянув на часы, которых, готов был поклясться Жора, не было ещё минуту назад. – Неужели?
– Оно уже разорвалось…
– Это Бард? Мы опоздали? Нет! Оно ещё бьётся здесь… Я слышу.
– Нет, это второе почувствовало потерю, едва родившись…
– Но первое? Оно было там?
– Мы ошиблись… Он умер, Чесь!
– Он не мог умереть сейчас… Нет-нет!
– Скорая не приехала.
– Ах, какие же подлецы его окружали!
– Рассудит история…
– История в таких случаях молчит!
Не услышал Жора, что дальше сказал «фиолетовый», маячивший перед ним в каком-то лиловом облаке. Разобравший вдруг Жору хмель уносил его на упругих покачивающихся волнах, то увлекая во тьму, то снова выбрасывая на поверхность, и Жора видел стол, отодвинутый ближе к двери телевизор, горящие угли в печке и двух непонятных людей, шептавшихся у огня, говоривших о чём-то важном, чего он по-прежнему не понимал, а потому, не дождавшись конца этого бредового диалога, осушил залпом стоявший перед ним стакан… Огненная волна обожгла всё внутри и начала заполнять мир снаружи… накрывая комнату и людей, а потом, схлынув, обнажала то спину цыганки, вглядывавшейся в телевизор, то сгорбившегося над столом Борисовича, тот угрюмо смотрел в пространство перед собой. Наконец, Жора не смог больше сопротивляться – отодвинулся от окна, прислонился к стенке, и сон окончательно овладел им.
Сон, приснившийся Жоре, был странен.
Он увидел себя в иной реальности, узнаваемой по жёлтому свету без солнца и безмолвию мерцавших образов, – в реальности, которую рождает мозг.
Он увидел себя в хате Константика за столом, только стол и комната были такими длинными, что Жора не мог видеть их конца. Рядом с Жорою, под иконами на месте наследника-иностранца сидел серый незнакомец. Другим концом стол простирался в бесконечность… и два ряда сидевших друг против друга людей казались Жоре такими же бесконечными. Сам он сидел на своём месте, спиной к стене, только на стуле, а не на лавке, и между ним и серой расплывающейся фигурой за левым концом стола были ещё две женщины. И все люди, знакомые и незнакомые, были освещены жёлтым, будто электрическим светом – вглядевшись, Жора узнал всех виденных сегодня обитателей лесного лагеря, перемешанных с какими-то неизвестными личностями. Тут были даже дети…
Почему-то он знал, что все эти люди собраны здесь специально, и никто не смеет уйти, выдвинуться назад из-за стола со своим стулом…
Жора подался вперёд – и не смог, нельзя было наклониться. Откинулся было назад – мешала спинка стула, но даже шея, и та не могла согнуться, затылок чувствовал сопротивление. И двигаться можно было только в одной плоскости, параллельной столу: вправо-влево. В плоскости же, перпендикулярной столу, любые движения давались с неимоверным трудом – даже вытянуть руку или наклониться вперед было невозможно, точно какое-то силовое поле или невидимая преграда превращали сидящих в узников этого стола.
И Жора опять-таки знал, что все эти люди испытывают давление…
Неожиданно звук резко отодвинутого стула раздался в гуле едва различимых голосов, и белокурая девушка справа от Жоры, отодвинувшаяся на своём стуле, бессильно обмякла, уронив руки, как плети, голова её опустилась на грудь. Сосед её резко вскочил, рванувшись к женщине, но невидимая сила скрутила его и уничтожила их обоих. Два отодвинутых к стене стула были свободны.
С неимоверным трудом Жора повернул голову сначала вправо, потом влево и понял, какая сила требовалась тем двоим… Серый расплывчатый незнакомец во главе стола выглядел теперь иначе. Пульсирующий, светящийся двумя цветами силуэт человека, с которого содрали кожу – это было переплетение сетей сосудов: красных, вероятно, артериальных, и синих – венозных. Красно-синяя голова и красные прозрачные руки…
Жора знал, что видит его таким один он, как и суть всего известна здесь только лишь ему одному… И тому, «расплывчатому», чья эволюция намного опередила человеческую, и цель его появления здесь – задержать эту человеческую эволюцию, эволюцию тех, которые готовы были почему-то совершить скачок, измениться, преждевременно перешагнуть черту… И этого нельзя было допустить! Всё это читал Жора в мыслях «серого», превратившегося в светящийся силуэт. И самое главное – «серый» знал, что Жора знает…
Незнакомец как будто бы жалел Жору и всеми силами желал того, чтобы Жора сохранил тайну, не высказал свою осведомлённость, своё знание. Иначе… Иначе с Жорою пришлось бы сделать то же, что с теми двумя, исчезнувшими… И «серый» этого не хотел.
Жора видел странного человека то серым, то светящимся-разноцветным и с горечью ощущал, что отныне вся его жизнь – в молчании. Но как примириться с этим? Что выбрать? Молчание или неизвестность? Что будет, если он вдруг… Он не мог сделать выбор…
В этот миг два новых человека, поднявшиеся откуда-то с дальнего конца стола, подошли к Жоре и уселись на свободные стулья. Один из них был Редько, вальяжно помахивавший какой-то бумажкой в руке, а второй… Вторым был школьный друг Пашка – совсем такой, как тогда, после игры в футбол, когда они выиграли у десятиклассников – длинный и тощий, в спортивной майке и синем обвисшем трико, но со счастливым лицом, с прилипшими ко лбу волосами… И совсем не такой, аккуратно причёсанный, каким запомнился навсегда в гробу – новый чёрный костюм, белая рубашка с галстуком… Пашка, которого придавило плитой на стройке.
Редько небрежным жестом, как протягивают колоду карт, положил на стол перед Жорой свою бумажку, похожую чем-то на театральную программку… Это был билет куда-то… на второе число. То ли место было второе… И пока Жора близоруко рассматривал издалека этот билет, раздумывая, брать его или нет, но так и не взяв, двое пришедших встали и, слегка обнявшись, ушли обратно по узкому проходу между стульями и стеной, небрежно задевая сидевших.
И тут Жора увидел девочку, вдруг очутившуюся на столе и бежавшую по столу танцующей детской походкой… Он замер, силясь понять, как проделала она всё это секунды назад прямо у него на глазах…
Ребенок сидел напротив, справа, через несколько человек… Жора сразу заметил знакомое лицо, почти уже что-то припоминая, где он его видел, но выпустил из внимания, отвлечённый всем остальным… И вдруг эта девочка, как может только ребёнок, встала без всяких усилий – слегка подпрыгнула, а потом… Нет, даже и не подпрыгнув, легко подняла колено, поставила ногу на стул – очутилась на стуле. Согнув ногу ещё раз, пружиняще подскочила в воздух и, приземлившись уже на стол, помчалась, подпрыгивая и танцуя, как по дороге. Она бежала уже мимо Жоры к двухцветному незнакомцу… Она двигалась вроде бы и в незапрещённом направлении, но лихо обрела свободу, не выйдя из-за стола… Не выйдя, а попросту, оказавшись на нём – обманув всех, словно так и нужно.
Девочка подняла руку над головой, и что-то в руке сверкнуло так ярко, точно сияли волосы и сама ладонь.
Жора зажмурился, а когда снова открыл глаза, увидел хату Константика в полумраке, красноватые угли в печке, неубранный стол и спину цыганки, перебравшийся к телевизору со своей табуреткой. Борисовича не было – старый учитель ушёл.
Оба иностранца, не заметившие, что Жора очнулся, сидели под иконами в конце стола и, беседуя вполголоса, укладывали что-то в свою дорожную сумку. И когда Жора рассмотрел, что же такое они укладывают, и услышал, о чём таком говорят, он побольней ущипнул себя за колено, чтобы проснуться.
Он ущипнул себя ещё раз… Но иностранец в ярко-васильковом свитере, обтягивающем его фигуру до подбородка, по-прежнему сидел за столом, не сменив своей властной, почти неподвижной позы, с сосредоточенным спокойным лицом… А Пепка клал что-то в синюю дорожную сумку.
«Ибо он тот, о котором сказал пророк Исайя…» – откуда-то вспыхнуло в голове у Жоры, и он вдруг увидел, что цыганка на всех на них смотрит, отвернувшись на миг от своего телевизора. Только на миг сверкнули её глаза, и старуха снова повернулась спиной, но фраза выстроилась до конца: «…ибо он тот, о котором сказал пророк Исаия: глас вопиющего в пустыне: «приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези его и тогда взывайте к нему…» Навязчиво завертелась перед глазами цифра три. И опять ущипнул себя Жора за колено, потряс головой, и опять уставился на иностранца.
– Номер пять, – повторил тот знакомо уже во второй раз – монотонно и с некоторым нетерпением. Левая рука его лежала на саквояже, очутившемся на коленях, вместо синей дорожной сумки, стоявшей теперь на полу. Это был черный, плотно защёлкивающийся саквояж… Правая же рука «фиолетового» иностранца распростёрта была на столе ладонью вверх, и он посматривал на эту протянутую ладонь, точно что-нибудь должно было там появиться. Жора вспомнил пилюлю на ладони Пепки. – Номер пять… – продолжал иностранец. – Под крыльцом хутора у бальсана…
– Там мина, – тихо сказал Пепка. – Ничего не выйдет.
– Поподробней… – потребовал иностранец.
Пепка закрыл глаза и вдумчиво начал перечислять, словно отвечал урок на память:
– Крыльцо деревянное… Культурный слой двадцать пять сантиметров. Хутор построен на фундаменте панского особняка, который был взорван и сгорел в четырнадцатом году… Снаружи, вплотную к южной плите фундамента – три не взорвавшиеся мины. Объект торцом задевает взрыватели двух из них. Опасность взрыва… Пока взрыватели не проржавеют и не сгниют, объект трогать нельзя…
– Дальше! – Иностранец кивнул и, сделав жест, словно перелистывает страницу, проговорил. – Номер шесть…
– На ладони его появилась маленькая шаровая молния, и когда глаза привыкли, Жора рассмотрел сквозь сияние знакомый предмет – серебристую гантель из неизвестного ему металла.
– Откуда?
– Развалины старой каплицы, – отозвался Пепка. – Шесть, семь, восемь… – оттуда же. Наследство скупого Фомы. Определяется след ещё двух. Были перемещены без уничтожения…
Пока шофёр говорил, «фиолетывый» открыл саквояж и по очереди опустил в него три сияющие штуковины.
– Номер девять…
– Шабаны. Сарай Казимировича…
Ещё один сверкающий удлинённый предмет перекочевал в саквояж с ладони «фиолетового» иностранца.
– Номер десять!.. Шабаны. Хлев Беловых… Ну!
Пепка растерянно взглянул на хозяина.
Ладонь по-прежнему оставалась пуста.
– Где объект? Утром точно определялся…
Пепка скорчил страшную рожу:
– У-у-у, сорванцы! – взорвался он вдруг и, дьявольски сверкнув глазами, погрозил кому-то невидимому кулаком. – Бездельники!
– Дети тут не при чём… – поморщился иностранец. – Они знали, как обращаться с предметом. Уточни последствия…
– Объект исчез! – докладывал Пепка, закрыв глаза. – Фиксируется эффект присутствия… Следы тянутся…
И вдруг оба они одновременно посмотрели на Жору.
– Так вот кто тут наследил…
– Вот кто! – заорал коротышка, соскочив с лавки. – Вот кто его уничтожил! – Он картинно протянул руки с растопыренными пальцами, словно собираясь вцепиться Жоре в глотку или выцарапать глаза, и двинулся к нему навстречу по узкому проходу между лавкою и столом. – Ну, не говорил ли я, что за такие художества руки обломать мало?
– Он больше не будет… – заступился «фиолетовый», останавливая жестом Пепку. – Возможности такой не представится…
– Да уж точно! Больше такого случая ему не будет!
Пепка хмыкнул, и они снова занялись своим делом, забыв о Жоре, точно его не было здесь совсем.
– Итак, номер десять пропустим, – продолжал «фиолетовый». – Самостоятельное уничтожение.
– Эх! – вздохнул всё-таки Пепка. – Опоздали!
Иностранец выразил согласие грустным кивком головы.
– Выпустил его из рук этот болван! Упустил!! У-у-у! Я б ему!..
Жора почувствовал, что цыганка опять на них смотрит, и долго уже глядит так – глаза её были расширены от суеверного ужаса… «…се облако светлое осенило их; и се, глас из облака глаголющий…» Он с усилием потряс головой, неосознанно сопротивляясь навязчивым странным фразам, и в растерянности подумал: что же он упустил? Что?..
Иностранцы опять одновременно на него посмотрели.
– Так что… это было?
– Что? А пусть знает! – закричал Пепка. – Пусть помучается, болван! Пусть узнает – что! Всю планету… свою или какую-нибудь другую… мог одеть-обуть, накормить! Высадить такого где-нибудь одного, без… С динозаврами за компанию!.. На завтрак птеродактилям…
«Фиолетовый» остановил занесённую для удара руку Пепки.
– …вот тогда бы знал! – не унимался тот. – Тогда бы запел! Дать бы ему сейчас по шее! Или по морде?! Как лучше, шеф?
– Не надо. Совесть его и так замучит…
– А есть ли она у него?
– Удивительно, но сохранилась.
– Тогда простим.
– Номер одиннадцать…
На ладони «фиолетового» опять появилась сверкающая «болванка» в облачном ореоле.
– Опять Шабаны. Заколоченная хата на краю деревни, где большой дуб…
– Пад дубам, гэта партны жыу… – донёсся хриплый цыганкин голос. Она уже обрела уверенность и сидела у выключенного телевизора, раскуривая папироску. – Казимиравич, царства яму нябесная… У Юзэфкинай хате жыу, – цыганка перекрестилась. – Кали свая сгарэла… Тольки сарай застауся… – В голосе уже звучала свойственная ей ирония.
Иностранец с уважением посмотрел на женщину:
– Наследство своё оставил, на тот свет не взял… В погребе зарыл, в кастрюле.
Очередной странный предмет исчез в саквояже, затвор щелкнул. Зелёная эмалированная кастрюля без одной ручки стояла на краю стола.
«Второе-то – наследство… – механически отметил Жора. – Первое закопал в сарае…»
Это же, видимо, заметила и цыганка. Прокашлявшись, она сказала:
– И чаму гэта стольки яму багаття? Стольки золата… При жизни, царства яму нябеснае, нешта не замечала, каб с деньгой быу. Или быу ён за всех умнейшый?
– «Или думаете, что те восемнадцать человек, на которых упала башня Силоамская и побила их, виновнее были всех живущих в Иерусалиме?» – в тон ей ответил иностранец и пожал плечами.
На ладони его появлялись, как близнецы, сияющие в полутьме гантели. Ритмично щёлкал замок чёрного саквояжа, шофёр продолжал комментировать. «Главный немецкий дот… Вход у хутора в подземелье… Мельница… Старый мост…» – только и слышал Жора, продолжая сидеть с раскрытым ртом.
– Всё? – спросил, наконец, Пепка, поднимаясь из-за стола.
«Фиолетовый» сидел в прежней позе.
– Поищи ещё.
Пепка сел и, закрыв глаза, медленно шевелил губами.
– Есть!.. – произнёс он чуть слышно, но таким зловещим шёпотом и так удивлённо, что волосы на голове у Жоры зашевелились. Что-то произошло! Что-то было не так. – Есть… Но не поддаётся.
– Попробуй ещё раз! – настойчиво сказал «фиолетовый».
– Не может… этого быть… – в растерянности прошептал Пепка, и на Жору вдруг напала какая-то лихая удаль, какой-то пьяный дурацкий смех разбирал его изнутри. И было с чего, было! «Попались!» – подумал он, мысленно хохоча, и радостно закричал:
– Чего это не может быть?
– А того, – вдруг тихо ответил ему иностранец, открывая свой саквояж и вынув оттуда сверкающую штуковину, – того, что кто-то из вас может взять это так, как я.
Жора умолк, в страхе на него уставившись.
– …И того, что ваша эволюция почему-то зашла всё-таки так далеко… Настолько, что двое из вас… смогли управлять этим.
«Да что же здесь невозможного?» – подумал бы Жора ещё вчера и даже сегодня утром. Но помнил свой полёт в Шабанах…
– А?.. «Что же тут невозможного, в самом деле?» – пакостно передразнил Пепка точь-в-точь Жориным голосом. – «Почему, спрашивается, невозможно?» А вот не спросит же ведь, «почему»?! Сидит и не удивляется, стервец! У-у-у! – ткнул он Жоре в грудь пальцем. – Потому что знает… Руку ему всё-таки отрубить бы!..
– Разумеется, – равнодушно констатировал иностранец, – при загнивающем капиталистическом строе это было бы невозможно… При рабовладельческом строе тоже…
– А он у них тут какой? – хихикнул Пепка. – Другой что ли?
– По-другому он у них называется, Чесь!
– И делов-то… – пожал плечами шут.
– Па-дрругому! – радостно подхватила ворона. – Па-дррругому, даррагия тавррищи! Ворррованные брильянты!
– Пасодють вас, ой пасодють! – перекрестившись, запричитала цыганка.
– Не бойтесь, мамаша, мы нездешние! – отрапортовал Пепка – Нам не страшно! Видели, какая у нас машина? Фю-иь – и нету! А, вот, некоторым другим… – он замолк, посмотрев на Жору. – Нет! Взгляните-ка на него! – вдруг вскричал совершенно взбешённым голосом. – Не верит он нам с вами, шеф! Не верит… Оскорбился, видите ли! Докажите-ка вы ему!
– Чем характеризуется рабовладельческий строй? – невозмутимо произнёс иностранец, словно читал учебник. – Низким уровнем производительности труда…
– Низким уровнем жизни рабов… – с готовностью подхватил Пепка. – В школе ещё учили…
– И очень малой продолжительностью их жизни по сравнению с другими эпохами… Раб не свободен в выборе своего труда…
– Вот-вот, шеф, да и в «перестройку» у них не изменится ни черта, всем скажут: «Смирна-а! У нас теперь – рыночный капитализм!» Кто хочет денюжки заработать, идите на рынок торговать! И учителя, и профессора пошлют продавать бананы… если, мол, от голоду не желательно помереть… Все ж теперь у нас могут достойно заработать! На достойную, как им скажут, жизнь!
– Так чем же это не рабство? Да это всё равно, что на галерах…
– Ну, вы скажете, шеф…
– Да чем же это не рабский труд, если профессора вынуждают отказаться от своего призвания? В загнивающем Риме – рабы были, но и Эзопы среди них Эзопами оставались, а тут – все дружным шагом на базар!
– Как же, как же, шеф! «Перестройка» у нас – «демократия» и «свобода»! Ура!
Иностранец кивнул:
– Раб не свободен в выборе своего труда – не заинтересован в его результате, не может иметь цель в жизни…
– И поэтому живёт недолго…
– Что же мы имеем вокруг? – с видом экзаменатора заключил главный, взглянув на Жору. – Пора принимать решение…
– Татаро-монгольское иго… затормозило… – вяло промямлил Жора.
– Иго? – вскипел «фиолетовый». – Какое иго?… Вы спали, наверно, молодой человек, когда мы об этом говорили?!
– Да иго у вас началось лет за триста до прихода Батыя! Русское у вас было иго, а точней, татаро-московское – другого не было! Ещё до Ивана Грозного началось! А потом пошло – Хмельницкий, Петр Первый, Екатерина Вторая, Суворов…
– Дальше продолжать? – «фиолетовый» жестом остановил Пепку и с укором посмотрел на Жору.
– Дальше он сам знает, шеф. Но и эти достаточно полютовали! А ваши хреновы «белорусы» всех их в «герои» записали! Всех!
– И где в мире такое было? – посочувствовал «фиолетовый».
– Погодите, шеф, и не то будет! Помните? Они ещё «линию Сталина» придумают! Минск по кусочкам будут продавать!
– Это ты о чём, Чесь?
– Ну как же! После «перестройки», забыли? «А ты был на линии Сталина?» Тогда ж, в период «нью-белараша-васюков»!
– Акстись… – пробормотала цыганка. – Нешта вы нелюдская гаварыте…
– А вы что скажете, молодой человек? Отчего же вы так от Европы-то поотстали?
– Ну… Так крепостное право… помешало… Вековая отсталость и перегибы… – Он пытался вспомнить ещё что-то про коллективизацию из курса политэкономии, но с горечью и стыдом понимал, то ни одна из фраз не подходит.
– Безнадёжен! – равнодушно махнул рукой «фиолетовый».
– Нет, шеф, он нам не верит! – вздохнул Пепка. – Не верит он нам с вами, шеф!.. Вот они – результаты рукомахания! Очень правильно один из них сказал: страной дураков легче управлять, зато у неё нет будущего!
– Не наше дело разбираться в причинах. Наше дело – принимать решение…
– Ох-хо-хо… – вздохнул Пепка. – И зачем мне всё это надо?
– Какой у них средний уровень жизни мужчин? – спросил главный иностранец.
– Почему мужчин? – перебил Жора, и Пепка, изготовившись отвечать, обиженно на него глянул:
– Ну, знаете ли… Что же тут объяснять? Мы о смысле жизни сейчас говорим, молодой человек. Женщины и при царе Горохе, и при любом «светлом будущем» – без него прожить могут! Потому как при любой власти им детей приходится рожать. А вот мужчине цель в жизни, что ни говорите, нужна… Мужчины долго живут лишь тогда, когда имеют цель в жизни…
– Которой никогда не бывает у раба.
– Довольного своим рабством, – уточнил «фиолетовый», кивнув шофёру. – Цель в жизни можно иметь только тогда, когда есть свобода выбора… своей деятельности, а другим словом – труда. Когда он не рабский, а свободный, не из-под палки, и не десять начальников над тобой, и ни орда чиновников лицензию требуют каждый год, и каждому – плати… а когда человек сам за себя отвечает… Так на каком они месте в мире?
«Ну… На третьем?.. – с сомнением подумал Жора. – Нет… Всё ж, наверное, на четвёртом?»
– На сто тридцать третьем, – без всяких эмоций сообщил Пепка. – А точней, если отбросить статистические выкрутасы – на третьем с конца… не считая папуасов.
– Н-нда… – удовлетворённо кивнул головой хозяин. – Так мы вас не убедили, молодой человек?
«И не убедите!» – подумал Жора, насупившись и глянул со злостью на чёрный запертый саквояж:
– Зачем же отбирать то, что может всех накормить и одеть? Тогда и рабы будут не нужны!
– Э не-е-ет! – погрозил пальцем Пепка и противненько ухмыльнулся. – Тогда-то только они и будут! Штука эта не только ботинки штамповать умеет, не только телевизоры на халявку выдавать! – Он тотчас же открыл саквояж и вытащил на свет божий сверкающую штуковину. – Вот как она штампует! Чего бы вы хотели, мамаша? Чего вам в хозяйстве недостаёт?
– Усё у нас ёсть, дякуй!
– Ну, может быть, чего-нибудь вы хотите? Деликатеса какого-нибудь заморского?
На вышитой скатерти появилась ярко раскрашенная жестянка с ананасным компотом. Рядом лежала палка сухой колбасы.
– Не… – Отмахнулась цыганка. – Гэткага я не ем! Да и зубов нема…
Жора разочарованно наблюдал, как колбаса и компот исчезли неизвестно куда точно так же, как появились, и цыганка с сожалением покачала головой, глядя на пустой стол:
– Але ж хлеба было б недрэнна… буханки дьзве… Каб увауторак мне не исти у ауталауку… Ноги уже не йдуть…
– А господи!.. – вскричал Пепка. – Это сколько угодно! Вот вам, пожалуйста!
Две поджаристые буханки чёрного хлеба «кирпичиком» лежали на столе перед старухой. Жора ощутил свежий запах хлеба.
Старуха молча положила руку на хлеб.
– Гарачий… – другой рукой осторожно смахнула слезу. – Дякуй…
– Пожалуйста… – продолжал хлопотать Пепка. – Для вас, тётушка, ничего не жалко…
– И каждый день, – вмешался вдруг иностранный наследник, – каждый день утром две буханки будут вас дожидаться здесь.
На столе появился ключ, принесённый цыганкой.
– Шесть километров в один конец – слишком много для старого человека.
– Шеф… – растроганно произнёс Пепка. – Спасибо…
Иностранец внимательно посмотрел на Жору:
– А вот молодой человек почему-то сердится. Напрасно, юноша, напрасно. Лучше сделать одно доброе дело для одного единственного человека, чем впустую болтать о призрачном добре для всех.
– Ну… да, – сразу же подхватила цыганка, энергично кивнув, но стала смущаться и принялась теребить косынку. – Каб вы гэтую штуку… магли … для усих…
– Напрасно вы так, мамаша, мучаетесь… «Каб для усих» – такого ещё в вашей истории не случалось! Ну, кому, спрашивается, эту штуку доверить? Ему? – Пепка насмешливо ткнул Жоре в грудь. – Так ещё неизвестно, чего бы он наштамповал…
«И верно… Ведь она не только ботинки… – почему-то припомнил Жора. – Не только ботинки заграничной фирмы «Адидас», с лампочками… и без лампочек, штамповать умеет, но и бомбы атомные в любом количестве – наверняка! И новенькие концлагеря на неограниченное количество мест в газовых камерах. Мало ли… Мало ли чего захочет хозяин. Всё, что угодно…»
– Всё, что угодно, захотеть можно…Чего душенька пожелает! Вот только кто бы смог это по-справедливости пожелать, «каб было для усех»? Кому бы вы, матушка, поручили?
– Ну… Гэным! – ткнула она пальцем в экран.
– Это этому-то, что медалей навешал? – так и хохотнул Пепка. – Никогда в жизни! Вам бы, думаете, чего досталось!? Да не поверю! Под каждой сосной танк бы тогда стоял, а вы, как жили со своим земляным полом, так бы с ним и остались!
– Да у них шеф, через тридцать лет… Помните? Нефть в мире так подорожает, что они там, в Москве, от нефтедолларов пухнуть будут, а народ как жил без электричества в какой-нибудь подмосковной деревне… Что уж там про залитую «нефте-гептилом» Сибирь…
– А откуда вы знаете? – перебил Жора. – Вы что же, пришли из будущего?
– Из будущего!.. Из прошлого! – передразнил Пепка. – Начитались всякой ерунды. Да знаете ли вы, что ваше будущее висит на волоске – то ли будет оно, то ли нет…
– Но вы же… только что вот сказали о том, как в России… через тридцать лет…
– Сейчас мы о вашем личном будущем говорим… – помрачнел «фиолетовый» иностранец. – Лично о вашем, юноша, и вашей… так сказать, «родной сторонке»… Что вам до России? Ваше-то, знаете ли, будущее – очень и очень неоднозначно! А для нас, если хотите знать… – он указал на шефа.
– Как и для всего сущего на земле… – вставил тот.
– …нет ни будущего, ни прошлого.
– Есть одно только, вечно длящееся «сейчас»…
– Но вы же тут говорили о том, что… через много лет будет! Значит, оно для вас уже произошло!
– А мы, молодой человек, смотрим со стороны… Объяснить ему, шеф, или не надо?
– Сейчас не стоит… Хотя, можешь в общих чертах, Чесь. Так, чтобы тётушка поняла.
– Ах, в общих! Ну… если в общих, тогда… Что же он думает, шеф, что мы, как на лестнице в метро? Она – вверх, а мы по ней – тюп-тюп-тюп… в обратную сторону? Так пусть сам попробует. Как у него получится?
– Да шею себе сломает! Плюхнется носом вниз…
– А я и не собираюсь! Я же не путешествую во времени!
– Ах, во времени? Слышите, шеф? Во времени! Пусть он нам объяснит, что такое время! А мы послушаем… Умные какие слова, а!? Ну-ка! Что это такое?
– А вам бы только издеваться! Во времени… – судорожно вспоминал Жора, представляя свои наспех скатанные к очередному семинару конспекты, – существует материя во вселенной… всё, что в ней есть… протоны и электроны.
– А не приходилось ли вам слышать, юноша, и такую гипотезу, что во Вселенной есть только один-единственный, размытый по этой Вселенной электрон? Ну и как он будет в этом вашем «времени» существовать?
Жора потряс головой.
– Не представляете? – вмешался «фиолетовый». – А представьте море. Бегут по нему волны. Какая из них – первая, какая – вторая? Третья?
– Какая, как вы говорите, «существует сейчас»? Какая – «в будущем» – «будет», а какая уже для нас «произошла»? А? – уточнил Пепка, издеваясь над каждым словом.
Старуха схватилась за голову руками:
– Нешта усё смешалось… и не понять… И куды яны, волны, потом деюцца? Я, як малая была, помню, стаю на беразе ды усё гадаю…
– А чего тут не понимать? – вспыхнул Жора. – Вот я стою на берегу…
– В шторм, – ухмыльнулся Пепка.
– В шторм. Вот по мне бьёт волна. Первая, вторая, третья…
– Замечательно, молодой человек, – ухмыльнулся «фиолетовый», – сразу видно, что у моря жили и не раз смотрели, как они к вам подкатывают на берегу. Очень хорошо. А теперь посмотрите на это же море из космоса. Вон оно там, внизу, перед вами. И бегут по нему волны. Посчитайте их теперь: один, два, три…
– Где первая, где вторая? – хохотнул Пепка.
Да и цыганка заулыбалась во весь рот.
– И, на дива ж выходить, – ниде яны не деюцца!
– Верно, тётушка! Разве можно определить, куда исчезают волны? Нет. Это волновой процесс…
– И куда девается человек, когда умирает… – Это чуть слышно прошептал Пепка… каким-то другим незнакомым голосом… А Жора задумался: иностранцы были в чём-то правы. Он и в детстве тоже об этом размышлял… куда исчезают волны, когда разбиваются о песок, и можно ли отличить одну из них от другой… А когда наступает штиль, верно ли, что они исчезают навсегда? А в ушах опять зазвучал тихий голос Пепки: «А мою маму убил Сталин – он заставил её голодать в блокадном Ленинграде… Она выжила, но потом уже не смогла долго жить с нами. Все вокруг жили, а она умерла. Поэтому я повторяю: мою маму убил Сталин. Он – мой личный враг и убийца. И это – моя правда. И не говорите мне про “линию Сталина”. Но это уже – совсем другая сторона дела…»
– На всякое дело и всякое явление природы можно посмотреть с разных сторон, – в этом суть! – сказал иностранец. – И если взглянуть на каждый момент нашей жизни извне – он вечен, по крайней мере, так это для самих нас – в нашей памяти: пока мы живы, он существует постоянно. Он повторяется из мига в миг, – если мы вспоминаем – бессчётное число раз, как волны в море, неотделимые друг от друга, и поэтому наша жизнь длится вечно – она, можно сказать, существует всегда – потому что на самом деле есть только один, существующий во вселенной электрон.
– И мы – в нём? А как же тогда посмотреть на нашу жизнь извне?
– Замечательно, юноша, у вас есть голова на плечах! – иностранец положил руку на саквояж. – Перейдем к самой сути. Здесь – известные вам предметы. Они упали на Землю миллионы лет назад. Они пронзили её насквозь, как пули головку сыра, как некий метеоритный дождь пронзает межзвёздную пустоту… И могли бы, не заметив попавшейся на их пути планеты, лететь дальше в бесконечность… Но случилось чудо – они почему-то застряли в ней… или просто посеялись, как семена.
– Может быть, им тут понравилось, – хихикнул Пепка.
– Благодаря этой случайности наш мир сделался другим, или, сказать иначе – реальность вокруг…
– Местами…
– Коренным образом изменилась. И теперь мы можем посмотреть на себя со стороны!
– Ничего не понимаю! – сказал Жора.
– Потерпите, сейчас поймёте, молодой человек… – «фиолетовый» открыл саквояж и достал из него сияющую штуковину. Светящаяся «гантелька» действительно напомнила Жоре теперь какой-то бешено вращающийся, ослепительный и продолговатый по форме электрон, каким он представлял его себе на лекциях по физике.
– Матка Боска! – перекрестилась цыганка.
«Се облако светлое…» – пронеслось в голове у Жоры, и он отчаянно затряс головой.
– Можно назвать это, как хотите… Но вряд ли людям когда-нибудь откроется истинная суть… Скорее всего, мы никогда не узнаем, что это такое. В древней Индии их называли «золотыми пальцами Будды», «рогом изобилия»… Алхимики – волшебными жезлами, золотом Сатаны, философским камнем. Эти вещи были известны людям. В разные времена они влияли на жизнь людей и на развитие цивилизаций.
– А Казимирович-то… у погребе, у дзюравай каструле, что ж – не золото… гэта самое закапау?
– Это самое, тётушка, это самое!
– А казали ж – золата скупога Фамы схавау! Ци, можа, брешуть, злыя языки?…
– Не брешут, тётушка, не брешут! Назови – хоть груздем! Фома, кстати, использовал его по-простому, как невежественные индийские шудры, вайшьи или брахманы… Как рог изобилия, одним словом…
– Гвозди, короче, телевизором забивал… – не удержавшись, хохотнул Пепка и посмотрел на свои часы.
– И в самом деле, уже поздно… Мы тоже используем эти предметы не по назначению… Но суть в том, что они сами себя использовали. Да ещё как! Слушайте внимательно, молодой человек… Люди веками заставляли их …
– Этакие Емели на печи, – встрял Пепка скороговоркой, глотая окончания и слова, – по моему хотению, да моему велению – русский менталитет! Ничего не делая – хочу это, да желаю то… Кому корыто, кому хоромы с царевной, а кому столбовое дворянство для сварливой бабы, лишь бы поедом не пилила!
– Вот именно, Чесь, хоть и неправильно ты сказал…
– Извиняюсь. Вы, шеф, – ближе к телу! – Пепка ещё раз демонстративно посмотрел на часы. – Заканчивайте про скатерти-самобранки… и про то, как мы их нещадно эксплуатировали…
– Вот именно! А они взяли и вдруг сами сотворили невероятное, превзошли все наши желания – создали для нас другой мир! Безопасный и справедливый! Совершенно отличный от всего, что нам известно, существующий по своим законам! Иными словами – прекрасный новый мир. И в нём, как ни странно, человеку очень хорошо!
– Хорошему человеку хорошо-о-о! – вставил, широко зевнув, шофёр.
– Верно!
– Шеф! Скорей бы домой – снова зевнул Пепка. – Надоели мне вы с вашими выжившими из ума Казимировачами и непризнанными гениями-одиночками…
– А главное… Чесь, ещё минуту! Из этого созданного ими мира можно взглянуть на Землю со стороны…
– Раз – и прыгнуть на ваш дурацкий, безумный… несущийся в будущее эскалатор. Верно, шеф? И при этом ещё и носа в кровь не расшибить!
– Ведь и мы существуем в нём по иным законам…
– А они… гэныя… – цыганка с опаской ткнула пальцем в телевизор, – пра вас не ведають? Гэта ваша… «золота» – не заберуть? – она подозрительно посмотрела на саквояж. – Нешта нейкия тут пад вечар… шастали па кустам…
– Никогда! – положил руку на портфель иностранец. – Этим они не смогут управлять никогда.
– А как же портной… и этот… Фома который… Да как же ваш Дубовец?! – Жора бросил вопросительный взгляд на цыганку.
– Никогда в истории этим не могли управлять подонки… Случалось, они подчиняли себе гения. Ваш Константик к подонкам не относился… И дел с ними не имел.
– А тот, второй? Неизвестный! Который тоже, как вы… может… Вдруг им всё-таки оказался подлец?
– Это-то нам и осталось выяснить. Верно? – «фиолетовый» посмотрел на Пепку. – Других дел у нас, кажется, не осталось. И если он без греха, мы оставим его в живых.
– А если это… не так? – стал разглядывать иностранца Жора, вдруг увидев его совсем в другом свете.
– В ином случае мы потушим спичку… – ответил тот. – Пожарники… Мы – только пожарники и должны потушить огонь, вспыхнувший в пороховом складе. – Не глядя на Жору, закончил он и пожал плечами.
– Спичку, вспыхнувшую, где не положено, следует погасить! – рявкнул Пепка. – И чем раньше, тем лучше! Ваше-б-л-г-рр-одие! А потом – в Америку!
– У Амерыку? – удивилась цыганка. – Наследства, нияк, паедете палучать!?
– Наследство, тётушка! Ой, какое наследство! – похлопал Пепка по саквояжу.
– Ага… – засмеялась беззубым ртом цыганка. – И адтуль, мабуть, сатанинская золата заберёте?
– Именно, тётушка! Именно! Как вы догадливы! – обрадовался иностранец. – Вот для этого мы и в Америку… И причина у нас самая уважительная – наследство дядюшкино получить!
– Хорошую причину нашли! – хмыкнул Жора, не спуская глаз с саквояжа.
– Да нам, знаете ли, ваши доллары – по барабану! Мы их можем вам бочку наштамповать!
– А как же! – будто не слышал Пепку иностранец. – Без причины нельзя! Нами, знаете ли, не только ГПУ или ваша советская разведка… интересуется… Интерпол, ЦРУ… тоже без внимания не оставляют.
– Вот-вот!.. И эти лезут не в своё дело шеф! Доиграются тоже, придурки!
– Прекрати, Чесь… Людей надо жалеть. К людям надо относиться по-доброму! Не забывай, Даллес – на твоей совести…
– Сам виноват, дурак! Тоже – совал свой нос, куда не просят. Пришельцы ему, видите ли, повсюду мерещились! Доигрался…
– Не все, к сожалению, обладают таким интеллектом, как ваш гениальный племянник, – обратился «фиолетовый» к старой женщине и отвесил ей глубокий поклон. – Многие, столкнувшись с невероятным, сходят с ума.
– А чем же он такой гениальный? – спросил Жора. Он тысячу раз хотел задать этот вопрос, и ещё про какого-то там Билгейца, а теперь просто не выдержал и даже вскочил с лавки.
Вскочил и Пепка и, кажется, рассердился всерьёз, сжав кулаки, но тотчас же остыл, чему-то про себя улыбнулся и, просто играючи схватив с полу саквояж, замахнулся им на Жору уже шутливо:
– А ты цветной телевизор в мыслях вообрази… И передай этому, вот, устройству! Да вы ему, шеф, про нанотехнологии расскажите!..
«Фиолетовый» покачал головой.
– До них здесь пока ещё далеко, но в принципе… это завершающий этап нанотехнологий – сборка любого вещества из атомов.
– Да что там, вещества, шеф! Любого предмета, любой вещи! Что хошь, эта штука тебе изобразит! Мысли твои заветные прочитает и на блюдечке с голубой каёмочкой поднесёт, как скатерть – самобранка! – Пепка опять схватился обеими руками за саквояж.
– В сущности, это реализатор мысли! – пояснил «фиолетовый».
– Смотря какой мысли, шеф! Одно дело сапог дырявый себе представить, да ещё, когда держишь его в руках, с дырки глаз не спуская, так с дыркою и получишь… и совсем другое – во всех деталях чудо японской техники вообразить! Так тому чуду ещё электричество требуется, а у Константика – он и без электричества работает!
«Приехали! – опупел Жора и с усилием помотал головой. – Точно, как я и думал! – заморгал он глазами, обращаясь к «фиолетовому». – Так что же это такое творится?… Или я тут набухался, как дурак?..»
– И если бы только это! Если бы только создатель копий – этаких двойников любых предметов по мысленному образу заказчика. Потому и назвали: «копер». Так нет, господа! Нет! Это ещё не всё. Эта штука – стимулирует любой процесс.
– Как это? – удивился Жора.
– А так! Если рядом окажется человек – превзойдёт сам себя, либо вечным станет, либо гениальным. Это – у кого к чему склонность! Если дождь соберётся – такой польёт!.. А если дело к засухе или почву народы истощили вконец – гибнуть им в пустыне!
– Да? – хмыкнул Жора. – Тут пока ещё не Сахара…
– И ни дно марскоя! – усмехнулась цыганка. – Нешта тут не зусим так…
– Разумеется, не совсем… Во-первых, результат сказывается не сразу, это не годы и не сотни лет. Во-вторых – всё подобное в прошлом уже было. И потопы случались, и ледник здесь полютовал… И дно моря сменялось пустыней не один раз… Покопайте – ракушки в поле. Откуда? Страшней другие процессы, которые идут быстрее. Поэтому мы у вас и оказались.
– Каб гэта усё адсюль забрать? – кивнула цыганка на саквояж.
Ответа не последовало. В хате сделалось тихо и совсем темно. Красные угли в печке едва-едва тлели.
– Ага… – покачала головой старая женщина. – Панимаю… Дрэнна у нас тяпер. И кали не забрать усё гэта – хужэй зробицца. А куды уж – хужэй? – она посмотрела на Пепку.
Пепка кивнул, отводя взгляд.
– Иншага не пайму. Чаму з Америки забирать? Там, кажуть, жызнь – не як наша. Дядька Канстантикау, вунь, мильёнщыкам зрабиуся. Тамака, кажуть, хто робить – добра жыве! Чаму ж забирать оттуда?
На Жору нашло тихое злое бешенство. Он совсем ничего не понимал – ни того, что происходит вокруг, ни того, как вообще это может происходить с ним, и почему вообще может происходить… Не понимал убогой, какой-то издевательской над нормальным языком речи цыганки. Он и половины не улавливал из того, что она несла. Он был просто взбешён. Нет, это было невыносимо! И то, что эта неграмотная старуха что-то там поняла, а может быть – поняла всё, остававшееся тёмным лесом для него, Жоры, превратило его в какого-то разъярённого, бешеного быка. Он вскочил и, чуть, было, не зацепившись ногой за лавку, бросился к саквояжу, попробовал его схватить, но тот – точно прирос к полу.
Жора просто остервенел:
– Но это же не принадлежит вам! – закричал он, в бешенстве дёргая за ручку. – Это не ваше! Так по какому праву?..
– Нельзя оставить… – с сожалением покачал головой «фиолетовый». – Да поймите… Время у вас такое. А эта штука усиливает любой процесс. Не только засуху или потепление, но и процессы в обществе – увлечение общества наукой, к примеру…
– Или самоодурманивание опиумом для народа…
– Правильно, Чесь… Что в обществе преобладает, что в нём приветствуется – наука, скажем, с литературой, разумное начало – или, наоборот, религия, мистика, лженаука, – иными словами, в каком направлении дует ветер – в таком и двинется наша жизнь… А направление определяется личностями, которые рождаются в ту или иную эпоху.
– Большинством, юноша, большинством… – развёл руками Пепка.
– Личностями, которые будут задавать в обществе тон…
– А стимулятор, который лежит в портфеле, будет стимулировать процесс…
– Ну и что? – перебил Жора этого клоуна и испепелил взглядом «фиолетового». – И что из этого?
– А то, что Потапенок у вас сейчас больше, чем Константиков!
– И если портфельчик оставить… О-го-го! – Пепка хитро потёр руки.
– Процесс так усилится, что Потапенки задавят Константиков, серость задушит всё талантливое, дураки одолеют гениев. Попы победят здравый смысл, и вы окажетесь…
– В стране дураков-сс… – угодливо подсказал Пепка.
– Похуже, Чесь! В ней они и сейчас живут, только не замечают.
– Это ещё цветочки…
– А что ещё предстоит!
– Матка Боска! – Всплеснула руками цыганка. – Бомбу на нас кинут, ци что?
– Хуже, тётушка.
– Предстоит в стране подлецов пожить! – прыснул Пепка.
– Скоро ваши Потапенки захотят воровать в открытую! Миллионерами настоящими сделаться, как в Америке!
– И Америка нам поможет! – сделал под козырёк Пепка.
– Сдуру поможет, Чесь, на свою голову… Думая, что уничтожит язву и уберёт проказу с лица Земли… Да только лишь сковырнёт прыщ! Увы! Нарыв под ним будет гнить и гнить… разве смогут ваши Потапенки построить капитализм? Психология у них не та.
– А… чаму ж так? – удивилась старуха. – Дядька канстантикав – и той смог! Капиталистам зрабился – о-го-го! Хать неграматны быу… А те? Вучоныя… Инстытуты розныя паканчали…
«Фиолетовый» пробормотал: «Гены…» и хотел ещё что-то сказать, но Пепка и тут влез, поскорей замахав руками:
– Лучше я скажу, шеф, дайте я! – подскочил он к цыганке. – Дядя вашего Константика был католик! Вот! Католики-то и сделали капитализм, в отличие от православных! Тем ещё в феодолизме-то жить и жить! А эти ваши начальнички партийные – кто? Вылитые продукты православия!..
– Дык они ж – не верующия! – изумилась цыганка.
– Коммунисты они, матушка!.. Ленинцы-большевики! А коммунизм – это оно, православие-то и есть! В чистом виде, только продвинутое вперёд, как им кажется, – новые разные слова попридумывали для понту. Вся психология у них православная – слушаться боженьку или членов политбюро да поклоны бить… А от себя чего сделать, самим – ни-ни!.. Какой там капитализм!
– Да и не в этом дело, Чесь… – «Фиолетовый» даже поморщился, выслушав пепкино объяснение. – Не в этом, тётушка, самая главная беда. Беда в том, что православие испортило весь русский народ. Не туда его привело.
– Верней, шеф, никуда не привело…
– Дык и у нас жа праваславные ёсть… – возразила цыганка.
– А у нас, тётушка, и православие было другое! Униатское. А потом… Московия всех под себя подмяла. Хотела наша-то церковь в двадцать втором году от Московской отъединиться, автокефалию объявить…
– Так всех большевики расстреляли! – встрял Пепка. – Подчистую! Тех, кто хотел… А теперешние… в основном… если поп – значит, членом КГБ состоит, только такие, матушка, и остались…
Старуха только пожала плечами.
– Тысяча лет прошло, даже больше, а правильно воспитать народ православие не сумело. Какая у них в России беда? Сами признали: «Воры да дураки»… Или дурак – или вор! Всяк на воре сидит да вором погоняет… Никаких этических норм так и не удалось привить этому несчастному народу! Ни честности, ни деловых качеств…
– Потому и коррупция их заест! Не подготовили в капитализм попы! Не сумели, шеф! Кишка тонка оказалась! Правда?
– Да, Чесь, именно так.
– А может, и не хотели, шеф? Сами решили править одурманенным народом… Так, может, их за это расстрелять? – сделал зверскую рожу Пепка.
«Фиолетовый» отмахнулся:
– Ну тебя… Просто России не повезло. Не выполнило православие свою функцию. Неэффективная… оказалась религия. Поэтому не сумеют они построить капитализм. Чёрт-то что вместо него построят! Политиков честных и порядочных не найдётся…
– Как же! Скинут политбюро! Реформы придумают и провозгласят… ой, какие провозгласят реформы!
– Да только лишь для того – чтобы безнаказанно разворовать страну. А предположить, что эксперимент приведёт к «экономическому геноциду»…
– Где там!..
– И весь мир ужаснётся такому эксперименту… Впрочем, на этой стране он ставился уже не раз. Сперва сделали революцию, и все в мире в ужасе шарахнулись, отшатнулись: боже упаси – коммунизм! Потом поняли: упаси бог жить по законам монетаризма! Европе-то чужой опыт пойдёт на пользу! А самим просчитать, к чему приведут страну рекомендации экспериментаторов с Уолл-стрит?… Что будет в собственной стране?!
– Думаете, слабо будет просчитать? Не сумеют? Нет, шеф! Просто не захотят. Зачем? Хочется ж хапнуть в свой карман? А вы, совки, – там своими ваучерами утритесь! Ха-ха-ха!
– Так ведь – своя же страна, Чесь! – искренне изумился иностранец.
– А у них только карман – свой!
– Не! – вылупила глаза цыганка. – Ну, не можа таго быть, каб камунисты!.. – покачала она головой. – Не паверю, не…
Жора вспомнил унылых вождей на трибуне, – чёрную массу лиц и тел в одинаковых шапках и пальто.
– Вот вам и «не», мамаша… Коммунисты-то ваши и прихапают себе всю страну. А таким, как вы, из всей этой прихватизации только ваучер дадут – попу подтереть…
– Чесь! – строго посмотрел «фиолетовый». – Но ты прав – все дети членов политбюро…
– «Владельцы заводов, квартир, пароходов…»…
– И все комсомольские вожаки станут депутатами, олигархами…
– Будут обладать капиталом.
– Ну, шеф, по правде говоря… двум-трём умным товарищам всё же удастся сколотить капитал благодаря своему уму и таланту…
– Вот их-то запишут в воры да вышлют из страны.
– Им от этого хуже не сделается!
– Хуже сделается стране, ты прав! Не останется умных голов, чтобы спасти Россию…
– А кого-то не побрезгуют посадить, из особенно опасных конкурентов…
«Фиолетовый» молча кивнул головой.
– Про вас мы и не говорим, мамаша, – подмигнул Чесь. – Вам тут и ваучера не дадут… Колония! Как были северо-западным краем…
– Нешта вы больно умно говорите… – усмехнулась с хитрым видом цыганка. Жора был уверен, что та всё понимает.
«Фиолетовый» посмотрел на неё с сочувствием:
– К сожалению, тётушка, вы доживёте до «перестройки». Кому-то станет полегче жить, а кто-то и свободы чуть-чуть получит, но для вас не изменится ничего. Перебирайтесь в хату племянника. Тут вам будет и хлеб и кров. Мы постараемся, чтобы крыша не рухнула ещё много лет, а в сарае будет неиссякаемый запас дров.
Цыганка кивнула:
– Керасинчику бы яще…
«Фиолетовый» повернул голову, устремив взгляд на дверь. Жора заметил: все уставились на порог, даже Пепка.
Там, на полу стояла старая оцинкованная канистра – то ли в серых таких потёках, то ли в естественных разводах, как бы нарисованных под мрамор – точь-в-точь, как в хате цыганки, только пузатей вдвое. Жора ощутил запах керосина.
– И керосин в ней не будет иссякать никогда!
Цыганка вытерла рукавом глаза.
– Да хто ж меня сюды пустить?.. А-а!.. – и от внезапной догадки, которая давно уже ей приходила, но в которую только сейчас поверила, цыганка потеряла дар речи. Лицо старой женщины помертвело, она схватилась за сердце. – Канстантик! Детка… Дык, мусить, ён… Что жа гэта?.. – Она подняла полные слёз глаза и обратила их на «фиолетового».
– Не вернётся уже Константик! – строго произнёс тот.
Оба иностранца в молчании встали из-за стола, и оба смотрели на цыганку.
– Сегодня в тюремном инфекционном изоляторе…
– Уже вчера, шеф…
– Скончался от эпидемического паротита… ваш племянник.
У Жоры помутилось в глазах. Эпидемический паротит… Это же свинка, детская болезнь! Он ею болел в первом классе! Врач объяснил маме, что лучше переболеть сейчас… Дед в шутку махнул рукой: «Жив будет, не помрёт!» Жора проглотил комок… И вдруг – снова очутился в той палате… Запах карболки резко ударил в нос. Он увидел каталку со съехавшей простынёй, зелёную клеёнку в пятнах… санитара в белом халате. Санитар повернулся к врачу, который что-то говорил, но Жора смотрел не на санитара и врача, а туда…где лежал больной… В ту же минуту силуэт на железной кровати подёрнулся мутной пленкой… Из головы без шеи стало расти странное грушевидное облачко, похожее на туман. Мгновение оно росло и поднималось на фоне серой стены – и вдруг, как джин из бутылки, из него появился человек с приятным, смеющимся лицом. Он секунду стоял на спинке кровати и исчез. Санитар повернулся, с досадой рассматривая лежавшего на кровати больного. «В морг!» – сказал уходивший следом за сестрой врач.
«Фиолетовый» тем временем что-то говорил…
– Месяц назад, после внезапного кровотечения из лёгких врач тюремной больницы диагностировал у заключённого открытую форму туберкулёза…
– Злокачественного течения, – с горечью добавил Пепка.
– И матка на туберкулёз хварэла… – перекрестилась цыганка.
– Константик оставил завещание… – Оба посмотрели на стол.
На скатерке появился лист бумаги с какими-то подписями и печатями.
– Всё свое имущество он оставляет вам, тётушка… Хату и телевизор. Так что вы – наследница по закону…
– И теперь вас не имеют права выгонять!
Белый листок на столе исчез.
– Мы отправили завещание обратно. Его найдут в вещах… покойного и перешлют в правление колхоза. Про дядюшкино наследство Константик, естественно, ничего не знал. Вы теперь – его единственная наследница.
– А махните-ка, вы в Америку, мамаша! Хоть поживёте, как человек, на старости лет!
– Далась вам эта Америка! – вспыхнул Жора. – Я понял, что только здесь как будто… эти ваши… ваши «коперы» приземлились…
– А они только здесь, как вы выразились, и «приземлились»… В Америку их после перевезли.
Жора «вылупился» на «фиолетового»;
– В Америку?.. Перевезли?!
Немного сконфузясь и пребывая в некотором замешательстве, иностранец перевёл взгляд на цыганку:
– Вы, тётушка, слышали про пани Зосю?
– Не… Не слыхала… – покачала та головой.
– Ах, как коротка память! – «Фиолетовый» кивнул сочувственно и вздохнул. – Пани Зося была раскрасавица! А будущий её муж – исключительный человек, великий сыщик, работавший в те годы на Пинкертона. Отец пани Зоси выписал его из Америки расследовать несколько загадочных убийств, которые здесь произошли. Он их и расследовал, мастер был разгадывать загадки…
Пепка сверкнул глазами и, глядя на Жору, не сдержался – сжал кулаки:
– А поскольку был следователь – не чета вам, то и главную загадку разгадал! И не упустил! Не упустил… У-у-у!..
– Остынь, Чесь… В отличии от вас, молодой человек, он, действительно, главного дела не провалил… Хотя, как и вам, поручали ему, вроде, совсем другое, пустяк… Что, значит – хватка. Аналитический ум!
– Умение видеть суть, шеф! А этот! Удочки он, видите ли, «нашёл»! Да и не нашёл бы, чёртов обормот! Детям пусть спасибо скажет. Не место ему в милиции! Нет, не место!
– А он и уйдёт из неё, Чесь. Уедет к себе в Одессу, будет химию в школе преподавать. И отпуск у него будет летом! – «Фиолетовый» глянул на Жору и подмигнул. – Только дороги ему сюда – не будет! Запомните это, молодой человек!
Жора, ничего не понимая, только заморгал глазами.
– Ну да вернёмся к мужу пани Зоси. Он сразу понял, в чём суть. Убийства были связаны с предметами наших изысканий… И осуществились с их помощью – кровавые, зверские нечеловеческие убийства. Самому Джеку Потрошителю, прошумевшему в те же годы по Европе, далеко было до такого ювелирного анатомического мастерства…
– Ага! – закричал Жора. – Значит, мог этими вашими штуками управлять подонок!
– В том-то и дело, что поначалу это был не подонок и не подлец! Был это святой старец, известный в здешних краях монах-схимник – праведник-чудотворец, слывший почти святым… Он врачевал болезни. Только, бедняга, тронулся рассудком.
– Да… все они – сумасшедшие, шеф… эти святые! Разве нет?
– Помолчи, Чесь. После третьего, самого зверского убийства, «копер» перестал подчиняться монаху, вышел из подчинения и, как вы догадываетесь, исчез…. Это случилось на глазах наблюдавшего за всем детектива. И убийство, и исчезновение объекта произошло у него под самым носом. С этого момента муж пани Зоси начал подозревать истину…
Цыганка украдкой перекрестилась.
– Он позаимствовал из запасов скупого Фомы ровно восемь «коперов»…
– Почему восемь? Тайник, мабудь, ягоный атыскау? – одновременно вскрикнули Жора со старой цыганкой.
– Тайников у Фомы было много, но детективу стал известен только один… Самый крупный, что под корчом в болоте. Муж пани Зоси позаимствовал из него ровно восемь объектов, по числу крупнейших американских городов, увёз их туда и закопал.
– В разных концах страны…
– Навошта?
– Увы, он прекрасно понимал, что Российскую империю ждёт неотвратимый крах, и, ежели усугубить тот ад, в который катится эта страна – родится чудовище…
– Да просто монстр, которому погубить человеческую цивилизацию – раз плюнуть!
– Америка же в те годы была на подъёме, и прогрессивные силы в обществе начинали побеждать. Наука и общественная мораль брали верх над религией, которая занимала положенное ей место.
– Не узурпировала духовность, – бормотал сам себе под нос Пепка. – Не кричала на всех углах… Как там, а? Мы, попы – духовный пуп Земли! А спроси…
– Чесь, да ладно тебе!
– А спроси, что такое духовность, шеф, – фиг ответят! И музыка у них – бесовство! И картин не положено рисовать! И наукой заниматься… Толстой с Достоевским – тоже фу!.. – Пепка презрительно сморщил нос. – А водочкой торговать, это как? А табачком? Да ещё и налоги за это не платить… То-то они после «перестройки» захотят власти…
– Да мы про Америку тогдашнюю говорим…
– А кто бы спорил… Конечно, туда и надо было везти!
– Ведь это на самом деле была страна, где действовали законы, где здоровое и разумное закреплялось и имело шанс победить в отчаянной борьбе с невежеством, мистикой и криминалом.
– Рузвельт и Вашингтон – это вам не усатый грабитель с Вовкой!
– Муж пани Зоси решил, что именно эта страна заслуживает….
– А что же вы делаете сейчас? – перебил Жора, вскочивши с лавки и даже с возмущением погрозив поднятой в порыве чувств рукой.
– Вот патриот-то, а?…
– Вы ж и оттуда… собираетесь увозить!..
– Всё правильно. Увозить придётся и из Америки… – кивнул «фиолетовый».
– А всё из-за вашей этой поганой… даже не знаю, как назвать! – Пепка вскочил и с ненавистью посмотрел на Жору. Потом плюнул. – Ни кожи, ни рожи, как говорят в народе – одно слово. Да ни народа у неё не станет, ни элиты!
– Народа точно не станет, останется население! А элита будет, Чесь, да ещё какая! Сильная, наглая, успешная! На что только не способная пойти, чтобы держать в своих руках финансовые потоки и решать свои собственные проблемы за счёт общества!
– А на общество ей будет наплевать!
– Конечно! И плевать научится хитро – провозглашая глобальные общественные программы.
– И вообще, всякие там политтехнологии разовьются…
– Именно Чесь! Поставят у руля красивых мальчиков с честными лицами и научат их говорить красивые слова!
– Хор-маль-чи-ков-и-Бун-чиков! – фальшиво пропел Пепка.
«Фиолетовый» дал ему щелбана в лоб.
– А народ станет за них голосовать!
– Население, не народ…
– Ну а як жа велики русски народ? – покачала головой цыганка. – Не… не…
– Ни гражданского общества у неё не будет, ни народа. Одну только мафию вместо настоящей-то элиты отрастит…. да такую наест, что щупальца по всему миру расползутся, и в Америку прорастут…
– И Америку вашу эта мафия развратит! Достанется и глупым умникам с Уолл-стрит… сами ещё наплачутся, хоть и эти – Тарасы-Бульбы… безмозглые! Да кто кого убьёт – неизвестно… Скорей – друг друга.
– Согласен! Америку только жалко, Чесь… – хорошая страна… Правильно говорят: ни в каких войнах победителей не бывает. Победили змея-горыныча в холодной войне, отрубили голову, да рану хорошенько не прижгли, наоборот, «лекарство», видите ли, предложили – у него ещё десять выросло, и таких, что на весь мир ядовитым пламенем дохнут!
– На весь свет ваша распутная «барышня» в сарафане свой заразный сифилис разнесёт!
– Какой сифилис? – пробормотал Жора.
– Известно какой, – ещё тише пробубнил себе под нос Пепка. – Дураки, воры и… ещё много чего ещё, о чём мы тут с вами и говорим…
– Весь мир заболеет, в жаре метаться станет! Потому мы и явились сюда – пожар заранее притушить! Потому и чемоданчик увозим, чтоб жар не усилился, чтобы не помер больной, а хотя бы чуть подольше протянул! Авось, смутное времечко и пройдёт!
– И дело не только в России, Чесь!
– Да, шеф. Время у них такое.
– Впереди у вас – опасный поворот. Землю ждут мрачные времена – мир погрузится в темноту, и человечество вернётся в средневековье.
– Как это? – удивился Жора. По истории у него была пятёрка, историю он любил. Не ту, большевистскую… Настоящую – древнюю историю. – Зачем туда возвращаться? У нас, слава богу, двадцатый век.
– Один ваш умник сказал: у каждого века есть своё средневековье.
– Ежи Лец, Чесь… Человечество развивается по спирали. И в его истории случаются периоды регресса, когда мысль приходит в упадок и всё истинное заменяется ложным. В скором времени человечество, к сожалению, совершит обратный виток во тьму – в мистику, мракобесие, шаманизм.
– Шаманизм! Сказанули! – воскликнул Жора.
– Он будет в вашей стране. Когда Россия станет погибать, то вещать на трибуны поставят благообразных мальчиков с честными лицами, и они будут камлать над страной, произнося правильные слова…
– А народ будет слушать, верить… И храмы строить… строить. А элита будет жировать! Пир во время чумы! Рим в период упадка…
– И чаму ж гэта таки упадак? – покачала головой цыганка. – Ёсть он, ёсть…
– И ещё сильней будет.
– Дык у чым прычина?
– Гибнет общество… гибнет личность…
– Да развратили большевики народ, шеф!..
«Фиолетовый» покачал головой и неожиданно заговорил чьим-то другим голосом:
– «…а причины такого упадка – в изменении психологии общества, в изменении духовного интереса личности – в ослаблении той воли, – он повысил голос, – что поддерживает научное мышление и научное искание, как поддерживает она всё в жизни человечества!»
– И что ж тую волю губить?
– Да любая религия, приземляющая человека, будь то православие или коммунизм.
– Точно, шеф.
– Не одно православие поднимет голову.
– И начнут погружать наши головы в темноту! Под лёд! Под лёд…
– Чесь!
– Ну вот! Опять нельзя сказать правду! Вот к чему приведёт ваша дорога к храму…
– Ну а чым гэта плоха – храмы? – подала голос цыганка.
– А тем, тётушка, что религия сделала своё дело тысячу лет назад и теперь уже не способна лечить в человечестве те болезни, которые она кое-как лечила в прошлом. Их она в принципе не способна вылечить сейчас! Шаман она, к сожалению, а не онколог! Больному же обществу нужен настоящий специалист!
Цыганка встала и принялась шарить в своей сумке.
– И что гэта за балезни такия? – усмехнулась она, закуривая папироску. – Пьянства, мабуть, ды никатин?
– Правильно, тётушка!
– А начальства!? Ха-а!.. У гэных, пэуна, … хвароб и не перечэсть!
– А все они проистекают из одного – люди теряют душу…
– И душу, и разум, шеф!
– Теряют из-за того, что общество утрачивает культуру. Вот-вот святое искусство умрёт! Уйдёт от нас истинная культура, если где ещё и была! Так у вас, и в Америке, и в Европе. А свято место, как говорят, пусто не бывает. Вот и рвутся его занять религия и «попса». Религия рвет в свою сторону – обуздать дух! Запугать богом. Заменить страхом истинную, осознанную человеком мораль – звёздный всплеск вечного и истинного закона, существующего в его душе, отличающего от зверей! Разве это не глупо в наше время? А «попса» норовит прикинуться литературой, музыкой – во всём заменить искусство!
– Пьесы чеховские станут кромсать бездари-режиссёры – коль на большее не способны… да из опер выкидывать, видите ли, «затянуты» куски! А что умное и прекрасное для их куриных мозгов не затянуто? Ан – нет, всех – под себя, как коммуняки, одной гребёнкой! Всем вечное – разжевать и в рот положить! И больше, чем положено, не глотать! А вы говорите – «не увозить»! – кивнул Пепка на саквояж. – Да серость тут всех с потрохами сожрёт!
– Кто победит в жестокой драке!?
– Религия или «попса»? Да, шеф? – кивнул шофёр.
– Кто бы ни победил, их путь – назад, в средневековье, туда, где костры и концлагеря! Душу человечества ни та, ни другая не спасут!
– Чаму?
– Не смогут, тётушка! Да если б они могли – кто же против? Но они только больного в гроб загонят – без правильного лечения оставят, вот и всё!
– И Хрыстос, выходить, не спасе?
– Не спасёт, тётушка! Не спасёт! Люди уже не дети, их не заставишь поверить в сказку.
– А какую идею загубили! Эх, попы… – Пепка стукнул кулаком об стол.
– Верят только самые доверчивые, добрые…
– С ограниченным интеллектом, шеф…
– Не надо так, Чесь… Беда в том, что многие бы хотели поверить, да разум, как говорится, не даёт. Религия – уже не панацея. И мир наш уже не тот. А самые большие преступники – это люди с выдающимся интеллектом, он у них сильнее эмоций, и уж эти-то отлично понимают, что «боженька» придуман людьми. Их не заставишь верить в карающего бога. Разве что притворятся…
– Или крыша поедет… Всякое, шеф, бывает… Правда?
– Матка Боска! Да что же тады рабить?
– А будьте, как ваш Антонович!..
– Как Константик.
– Побольше читать, не слушаться дураков и не поддаваться подлецам. Вот и всё!
– Вот и всё, шеф, правильно. А теперь – тушить спичку! Вперёд!
– Сядь, Чесь… Ещё одно дело! – «фиолетовый» словно бы привстал с лавки и сделал чуть заметный жест – как если бы захотел положить руку на плечо шофёра.
На столе перед Пепкой появился чистый лист бумаги. Правда, истрёпанный и желтоватый, словно провалявшийся много лет в какой-нибудь папке, забытой в старом шкафу.
– Составь-ка смету на установку столбов и проведение электричества к хутору Дубовца…
На видавшем виды листке возникал печатный текст, сами собой откуда-то брались печати, ставились подписи, сделанные разным почерком и разными чернилами.
«Фиолетовый» наклонился, всё внимательно прочитал.
– Так. Пометь тысяча девятьсот семьдесят третьим годом. Отправь в бухгалтерию в правление колхоза. Пусть лежит в каком-нибудь ящике, на самом дне. Надо будет – найдут… – И листок исчез.
– Вот так тётушка, теперь у вас будет свет.
В углу появился холодильник.
– И телевизор заменим. Поставим настоящий японский…
Старая женщина покачала головой, потом вдруг замерла, закрыв ладонью глаза, её лицо скривилось, словно от боли, губы стали дрожать, и она не смогла удержать хлынувших потоком слёз.
– Не трэба мне гэтага ничего, не трэба… Детка! Ён жа сам не дажыл… Чаму? Каму тяпер гэта усё? Навошта??
Сил не было видеть сморщенное горем лицо. Жора поскорей отвернулся и смотрел на двух иностранцев и в угол печки, где стоял телевизор, потом исчез и появился другой, такой же, только с вилкой в конце шнура, и шнур этот шмякнулся на пол с громким стуком… «Нет-нет… Непорядок, Чесь, здесь розетки быть не должно! – донеслось от печки. – Лучше в другое место…» И Жора увидел, что телевизора уже у печки нету, что он стоит в той, второй половине, в том самом углу, где и был поначалу… Жора встал, заморгал глазами и услышал, как шеф ещё что-то тихо выговаривает Пепке… А у стены рядом с ним… Не было сил смотреть на плачущую цыганку.
– Тётушка! – громко позвал «фиолетовый». – Перестаньте плакать, я вам сейчас скажу правду. Открою один секрет… Мы хотели, но не смогли спасти самого великого человека…
– Вашего Барда…
– Но Константика мы возьмём с собой.
– Правда? – цыганка вдруг подняла мокрое, осветившееся улыбкой лицо. Но улыбка вдруг сникла. – Нет, не верю!
– Но вы же истинно верующий человек. Вы верите в этот мир! В ваш живой и прекрасный, созданный великим творцом. Верите, что он вечен и в нём не умирает душа. Поверьте и в наш, существующий по иным законам…
– И Константику там будет хорошо – ему будет там, чем заняться, поверьте, тётушка! – закивал Пепка.
– Ты как всегда прав, Чесь! Да! Это сама судьба!
– И Барду, шеф, возможно, было бы не о чем петь в раю…
– Как и Мастеру… глупо было предлагать вечность. В ней оба чахнут…
– Чтобы создавать своё собственное, неповторимое, им нужна материнская плацента.
– Для творца, который создаёт вечное, вечность сама по себе и не так уж важна, шеф, – согласно кивнул Пепка. – А вот если исследуешь мир, везде найдётся, чем занять свой ум…
– И всегда, Чесь!
– Лишь бы не мешали.
– Ад или рай, тётушка, тоже созданы по своим законам, которые можно изучать.
– Правильно. И там ему не станут мешать, тётушка, уж поверьте! Такие головы нам нужны… А вы тут живите и радуйтесь за него, и не плачьте!
– У Константика всё будет хорошо.
– А нам, шеф, пора… тушить спичку. – Пепка вдруг вытянулся, по-клоунски отдал честь и рявкнул: – Спичку, вспыхнувшую, где не положено, следует потушить! И чем раньше, тем лучшей!..
– Разумеется, не забывай… если она не послужит лучом света в тёмном царстве.
– Ну… это когда ещё будет…
Наследник кивнул:
– Да. У них тут, как мы сейчас сказали, ожидается средневековье.
– Это ещё бабушка надвое сказала – то ли ожидается, то ли нет…
– Вот именно! – «фиолетовый» повернулся к Жоре. – Поэтому… нам осталось сделать подарок вам…
– И вам пора подарочек преподнести! А как же? Маленький сувенир на память… – ехидно залебезил Пепка.
На столе рядом с буханками хлеба появилась тонкая синяя книжечка в прозрачной полиэтиленовой обложке.
«Фиолетовый» сделал галантный жест рукой:
– Это вам…
– Спасибо.
Жора взял со стола «подарок», открыл и, опешив, уставился на свою фотографию. Фотография была цветной. Это был его собственный паспорт.
– Не понимаю… Я вроде не потерял…
– А вы и не потеряли. Внимательнее, внимательнее читайте!
Чего там было читать? Паспорт как паспорт… Наверное, заграничный… Выданный…
И тут у Жоры полезли глаза на лоб.
– Зачем? Ничего не понимаю…
– А вы подумайте! Лет через пятьдесят пригодится… ежели вашему миру повезёт…
– Мы ж сказали: его будущее, знаете ли, тоже… подвешено на волоске…
«Ежели повезёт – пригодится…» – отдалось у Жоры в мозгу, и кровь запульсировала в висках… Паспорт, выданный на его имя, в 2010 году, двадцать шестого июля. Год рождения – 1980… Выдан отделом внутренних дел Центрального района… города… Нет! Это было уж совсем странно! Даже более непонятно, чем ошибка в дате рождения. В городе этом он никогда не был и знал, что чёрт его туда не занесёт… Да он и не представлял толком, где находится этот город. Какое-то захолустье на Волге. И всё-таки, что-то ему это название говорило!
– Чушь!
– А в этом-то вся и суть!
– А вы ему поясните, шеф!
– Это, знаете ль, знак судьбы… Этакое предзнаменование! Если город сохранит к тому времени…
– К дате выдачи паспорта…
– …своё истинное название и не будет переименован… Или во всяком случае, будет переименован временно, но потом, через… некое число лет ему возвратят первоначальное название…
– Так что паспорт будет действителен, – вставил Пепка.
– …то это значит: у вашего общества есть шанс выжить! В противном случае… Либо вы попросту не доживёте до того срока, когда паспорт наш пригодится, либо доживёте, но…
– Действителен он не будет, так как город переименуют…
– И назад название не вернут.
– Не станет такого города! – кончил Пепка.
– Вот тогда-то вы всё поймёте! Только знайте, при том раскладе, если старое название перестанет существовать и паспорт ваш станет липой … Это будет перед концом… ваша реальность тоже очень скоро прекратит существование…
– Так что – запасайте сахар и сухари!
– Сухари не помогут, Чесь. Речь идёт о глобальной катастрофе, с которой человечество сможет справиться только сообща. В случае недействительности паспорта мир пойдёт по тому пути, который приведёт человечество к расколу…
– Вот куда приведёт дорога к храму!
– И путь в разнополярный мир… Всё это не позволит вам противостоять судьбе…
– Потому-то и ошибочка ни на что уже не повлияет… Хи-хи-хи…
– Но тут и ещё ошибка! – ткнул Жора пальцем во вторую дату.
– А это и не ошибка вовсе. – Пепка радостно захохотал. – Это, собственно, и есть подарок! Ну, можно ему объяснить, шеф? Ну, пожалуйста! Ведь он же умрёт от неизвестности! Натура такая!
– Год рождения – не ошибка, – серьёзно произнёс «фиолетовый», – в нём-то на самом деле и заключается наш подарок.
– Говорите, шеф, говорите…
– Вы, не ведая ни о чём… по нашему недосмотру… испытали на себе влияние… Так сказать, изменили собственную природу…
– Да не разболтает он, шеф, не бойтесь!
– …подверглись воздействию поля «копера» – знаете, о чём речь? Ваша зажившая рука должна была вам подсказать. Собственно, не только рука, весь ваш организм уже перестроен. Вы, одним словом, больше не человек. Совершенно другая физиология.
– Вечный жид! Вечный жид! – поддразнил Пепка.
– Человек нового мира. Собственно, вам понятно?…
– Поймёт лет через пятьдесят, когда посмотрит на себя в зеркало…
– И на своих школьных товарищей.
– Да что там говорить! Лет через тридцать уже наш подарочек пригодится!
– Проблема доктора Фауста… через полвека после встречи с Мефистофелем… – пожал плечами наследник. – Только в случае с вами – наша вина.
– Значит я, – вспыхнул Жора, – мог бы попасть в ваш мир?
– Мог бы, мог бы, да только фигушки! – Пепка показал кукиш. – Вы туда в жизнь не попадёте!
– Без нашей помощи не получится.
– А мы вас туда не пустим! Наш мир, знаете ли, не резиновый. Вы из себя ничего не представляете… Не возьмём мы вас в коммунизм!.. Так раньше говорили, шеф?
– Да не всё ещё и потеряно. Хотите к нам? Измените свою натуру по второй оси – станьте гениальным.
– Сотворите что-нибудь этакое! – щёлкнул пальцами Пепка. – Что спасёт или перевернёт ваш мир…
– Да! Напишите вечный роман. Сделайте открытие, сочините гениальную оперу на все века, как Моцарт…
– Или же Реквием, не хуже Верди.
– Измените свою натуру по второй оси… В крайнем случае, что попроще – выведите человечество на нужный путь.
– В однополярный мир, как станут говорить потом… Тогда и сами сможете скакануть…
– А Константик?..
– Всё-всё, больше никаких вопросов. Заткните ему рот, шеф! Вон тряпка на полу валяется… От хлороформа ещё не высохла.
– Извините, молодой человек, но мы…
– Только пожарники! – рявкнул Пепка. – Наше дело – тушить пожар!
– Там, где не вовремя загорелось… – задумчиво подтвердил наследник.
– Пожар! Пожар-р-р! – прокричала ворона, устремившись с плеча цыганки на подоконник.
Жора глянул в окно. Там и в самом деле занимался рассвет. На фоне алого зарева сверкнула молния – ярко, через всё небо.
Первый дождевой шквал, шумно ударив в стену, застучал по стеклу, и раскатистый удар грома заглушил крик птицы.
Глава 7. По следам
Жора проснулся от грохота вертолёта на цыганкином сеновале.
Казалось, только что удар грома заглушил крик вороны, и вот тебе опять вставай… Поэтому пришлось с трудом разлеплять глаза.
Над ним была крыша пыльного чердака, на гвоздях сушились берёзовые веники и качались высохшие пучки каких-то трав. Пахло мятой, берёзовым листом и свежим сеном. Свет проникал в окно напротив с прислонённой снаружи лестницей.
Рядом у изголовья стояли адидасовские ботинки, и на них – тонкая блестящая книжечка. Сам он лежал в трусах и майке под засаленным стёганным одеялом на брошенной прямо в сено домотканой подстилке с вышитым цветным орнаментом. Одежду его цыганка снесла посушить на печку.
Грохот над головой усиливался.
Накинув на себя одеяло, Жора высунулся наружу и увидел мокрую лестницу, лужи внизу и сверкающие в каплях дождя деревья сада. Было ещё очень рано. Солнце взошло – почти две трети тусклого багряного диска выкатилось над лесом на другом берегу реки, и оттуда же, сквозь туман, вращая лопастями пропеллера, летела железная стрекоза грязно-зелёного цвета.
Жора проводил глазами вертолёт со звездой на боку, летевший совсем низко, так что видна была голова лётчика, вернулся на своё место и, заложив руки за голову, уставился в потолок.
Вспомнилось ночное ненастье, дождь и грязь под ногами. Сумка с двумя буханками казалась такой тяжёлой. Он помнил цыганку, шлёпавшую рядом по лужам, и странное чувство, что кто-то есть впереди и они вот-вот наступят тому на пятки… Но всё это было не то, не то… Что-то надо было ему вспомнить… Гораздо более важное, сказанное в самом конце, когда разошлась гроза… А они стояли уже на крыльце, собравшись всё-таки уходить… Надо было вспомнить что-то, для чего следовало ему, Жоре, тотчас же поспешить обратно – в лагерь, где стоял профессор с компанией и куда утром должен был отправиться фиолетовый иностранец… который, конечно же на самом деле – такой же иностранец, как Жора персидский шах или папа Римский… То есть… в каком-то смысле – «иностранец» он в гораздо большей степени, чем все прочие иностранцы. Но главное – совсем не это! Здесь, под каким-то хутором – и, чёрт его знает, под каким, столько их всех, заброшенных, по всей округе – и под одним из них лежит мина, не взорвавшаяся с войны, а под миной – эта самая загадочная штуковина, что «усиливает процесс», и достать её никак нельзя, не зацепив мину… А хутор этот, как сказал «фиолетовый», собираются снести… И если мина взорвётся, то, леший его знает, что произойдёт! Даже ЭТИ… сами не знают… Нечто странное и непредсказуемое вообще, потому что, как объяснял «фиолетовый», штука эта, помимо дупликативных свойств, обладает способностью стимулировать любой процесс, который приобретает тенденцию доминировать там, где эта штука лежит – в сфере влияния «копера»… Если разум – сверхразум! Если взрыв – то так ухнет, что планета вся разлетится к чертям собачьим… Ну, если не вся, то, по крайней мере, треть или половина… И никто ничего не сможет сделать – и танки им не помогут, и вертолёты со звездой бессильны… Потому что «копер» под миной достать нельзя. Остаётся только – ждать. Пока проржавеет взрыватель, пока мина придёт в негодность… И будет он там лежать до конца света, по крайней мере, пока хутор стоит и фундамент под ним не рухнет. И беда даже не в этом «копере» под номером шесть. Есть ещё тот, одиннадцатый… И находится у кого-то, кто может им управлять, от кого он не улетит, как вырвался из Жориных рук. И этот-то, неизвестный – с одной стороны, опасен. Всесилен. Могущество в его руках. Он может нести всем гибель, как тот сумасшедший святой! Кого хочешь – убить, распотрошить – велением одной только мысли, и концы в воду! Возможно всё – любая неслыханная катастрофа. А, с другой стороны, на него охотятся – его убьют, и на Жоре повиснет тогда убийство… Да-да! Если тот покажется «фиолетовому» опасным, не достаточно умным, непредсказуемым – ему конец! И его прикончат, ибо два «копера», находящиеся на расстоянии, создают поле, и в пределах этого поля, как между полюсами магнита, процессы усиливаются многократно – изменяются свойства пространства… Так он понял из вчерашнего разговора.
Жора вздохнул… Вот они и изменялись почти целый век, эти процессы – у нас, здесь, делали революции: стреляли, сажали в тюрьмы, строили ГУЛАГи – налаживали экономику с помощью бесплатного лагерного труда – ту самую, что разрушили сами же большевики и так и не доведут до уровня тринадцатого года… А ещё – писали друг на друга доносы, расстреливали тысячи невинных людей… в то время как на другом конце земли, наши же люди, сумевшие от этого ужаса убежать, – создавали Голивуды и новые государства, снимали кино, писали книги, воплощали свои открытия: строили вертолёты, разрабатывали телевидение… Там всё это легко получалось… Зато у нас – получалось другое, и этому надо положить конец. Потушить спичку – «фиолетовый» в этом прав. Хорошо, если «копер», например, у профессора. А если всё-таки – у Константика? И никакой он не гений, а обыкновенный вор и тунеядец, и ничего эти двое иностранных шутов не понимают – им бы только «хиханьки» да дай порассуждать! А вдруг их любимый Константик – сбежал из колонии и теперь с этим «копером» натворит у нас неведомо чего?… Скрывается где-то здесь, а завтра укатит в Америку за наследством… на другой конец Земли. Тогда поле ещё больше усилится и тогда – вся планета окажется «между двумя полюсами». Ещё больше изменятся все законы, и вся реальность станет совсем другой! Трудно даже вообразить! Этого и боится «фиолетовый», он этого не допустит ни в коем случае… А вдруг… Нет, он не простофиля! И конечно всё будет так: он убьёт хозяина «копера».
Убийство! Куда ни плюнь, всё получается из рук вон плохо! Ведь убийство придётся раскрывать ему, Жоре! И от этой мысли, в общем-то – дикой, ужасной мысли, Жора вдруг отрезвел и в конец проснулся.
Не его дело все эти удочки и «фиолетовые» иностранцы! И даже законы Вселенной – не его дело. Ещё вчера он был на работе. Утром пришёл Потапенко. Потом этот – обворованный отдыхающий… бывший истребитель… И Сёмёнович вызвал его, Жору на ковёр, и послал разобраться в ситуации: узнать, не объявился ли Константик, местный вор и тунеядец… Получивший вдруг заграничное наследство… И с него, Жоры – спросят. И он не сможет сказать, что на одной чаше весов – труп, на другой – эволюция всего мира… да ещё свернувшая со своей дороги. Такое объяснение не пройдёт! Такое даже Семёновичу не объяснишь! Даже пробовать объяснять – глупо…
Нет, его дело – предотвратить убийство! И точка!
Жора снова был в своей колее. Он почувствовал себя при деле, интуицией ощутил остроту момента, и момент было упустить нельзя!
Над крышей в обратном направлении прогрохотал вертолёт. Держась обеими руками за мокрую лестницу, Жора запрокинул голову, что было очень неудобно, и всё-таки проводил его взглядом до самого леса, пока шум пропеллера не затих совсем.
Спустившись по шаткой лестнице во двор, Жора с осторожностью выглянул из-за угла хаты.
Вдоль плетня за цыганкиным огородом шагал по улице довольно странный турист с военной выправкой и подстриженным под бокс затылком. Воровато посматривая по сторонам, он выглядел как-то неестественно и чувствовал себя неловко в новенькой, впервые надетой штормовке, рукава которой были коротки, с таким же новеньким пустым рюкзаком за плечами и в ранее не надёванных белых кедах, заляпанных свежей грязью.
«Турист» замер у плетня и внимательно осматривал огород, не замечая Жору. А Жора с улыбкой наблюдал в «туристе» нехарактерную для такого рода субъектов растерянность и двухдневную щетину на привыкшем ничего не выражать лице.
Бдительная ворона взлетела с крыши, метнулась навстречу незваному чужаку, и, захлопав крыльями, стала кружить над его головой, крича:
– Вор-р-ры! Вор-р-ры!
«Турист» сделал неуверенную попытку отмахнуться и робко спрятал голову в капюшон, видимо подыскивая в памяти инструкции, как реагировать на говорящих ворон. Жора увидел в его сверкнувших из капюшона глазах ужас.
Обнаглевшая птица вцепилась когтями в тощенький рюкзачок и, норовя клюнуть беднягу в темечко, закричала:
– Вор-ррованные бррильянты… дор-рогия тавар-ррышши! Пожарр! Пожарр!
«Не приснилось! – почему-то с довольной ухмылкой подумал Жора. – Всё было, чёрт побери!..Было!»
Нет, не из сна была эта оставшаяся в памяти информация… не из сна! На что оставалось ещё надеяться минуту назад… Увы.
Наряженный под туриста ошалело вытянул шею, завертел головой, как бы ища защиты, и, посмотрев во двор, наткнулся взглядом на выглядывавшего из-за стены Жору. Тот инстинктивно чуть было не отдал честь, но вспомнив, что он в трусах и в майке, прыснул со смеху.
Лжетурист взвился, точно его ужалили в одно место, и так припустил по грязи, что добившаяся своего ворона спокойно вспорхнула с рюкзака и уселась на плетень почистить пёрышки.
Жора и этого проводил взглядом до поворота, пока голова в капюшоне не скрылась за углом последней деревенской хаты… Поскорей натянул тёплую после печки одежду, выпил предложенного молока с хлебом и, душевно распрощавшись с хозяйкой, зашагал по следу, без труда различая на мокрой после дождя тропинке отпечатки кед сорок второго размера. Потом решил опередить «товарища» – свернул вправо и не ошибся, выбравшись напрямик через чей-то заброшенный сад к ржаному полю, откуда прекрасно был виден и хутор Константика, и старый парк в низине, и даже остатки мельницы живописно смотрелись чуть правей заигравшей на солнце поверхности воды.
Спрятавшись в кусте калины у зарастающего пруда, Жора пронаблюдал, как человек в штормовке отделился от крайней хаты; двинулся вдоль линии электропередачи и сквозь высокую рожь пробрался к вершине холма; потом по-пластунски прополз через заросшие бурьяном сотки Константикова огорода; с минуту, оглядываясь по сторонам, постоял во дворе и осторожно юркнул в настежь распахнутые двери сарая. На дверях хаты висел замок. И только сейчас, увидев во всех деталях залитый солнцем хутор, Жора понял, что заброшенная усадьба со всех сторон окружена полем и кроме тропинки через парк в низине, нет никакой дороги во ржи… и только покосившие столбы, которых не было ещё вчера, словно двуногие марсиане, шагают через золотое море от хаты Константика к крайней хате деревни…
Жора отхохотался так, что заболели мышцы живота. Потом чиркнул спичкой и сел на ствол поваленной ивы перекурить… Со спокойной душой можно было отправляться в обратный путь.
На краю деревни, под соснами у заколоченной хаты, стоял «газик» с номером из двух букв и тремя нулями. Четвёртую цифру нельзя было рассмотреть, всё было заляпано свежей грязью до самых окон. В кабине, носом уткнувшись в руль, храпел шофёр. Свежеиспечённый близнец-турист в знакомой штормовке и новеньких чистых кедах сидел на крыльце и нервно курил, теребя на коленях рюкзак.
– Не подбросите до шоссе… коллеги? – спросил Жора «туриста», слегка раздражаясь от зависти и от растущей досады на собственное начальство.
В ответ Жоре не ответили ничего. Шофёр проснулся и тут же отвёл глаза. «Турист» как-то странно, но с нескрываемой неприязнью взглянул на Жору, быстро-быстро замахав рукой, «мол: иди-иди!», и тотчас занялся своим рюкзаком, сделав вид, что вообще не услыхал вопроса.
«Ладно!» – подумал Жора и больше вопросов не задавал.
След «газона» тянулся по свежей грязи до конца спуска с горы, а ниже, где кончалось поле и начиналось болото, вся дорога была устелена лапником, точно здесь потрудилась целая рота.
Спустившись, как по ковру, Жора увидел место, где сидел «газон».
– На всю ночь работки хватило! – присвистнул он, изучая впечатляющие результаты ночных бдений. «Спасибо нашим дорожкам!» – вспомнились слова Борисовича. Вода была спущена в рожь по аккуратно вырытой канаве, а то место, где засела машина, скопали до твёрдого слоя почвы.
«Эх! Взяли б ещё людей – вынести б на руках могли! – с завистью вздохнул Жора. – И на «вечерю» б успели… А так… только к утру управились, придурки…»
В том, что ночь была проведена в трудах праведных, сомневаться не приходилось, так как от места откапывания до шоссе следов от колёс не наблюдалось – их смыл ночной дождь, что повторился на рассвете. Зато новые следы откапывания и осушительных работ встречалось довольно часто. Они явно пошли на пользу дороге.
«Газик» с тремя пассажирами обогнал Жору у самого подхода к шоссе. Сзади, стрекоча пропеллером, нагонял вертолёт.
Перейдя асфальт, Жора не пошёл по обочине с указателем на деревню, ибо знал: дорога через поля сильно петляла, а двинулся напрямик – через лес и старое немецкое кладбище – путём, которого прежде не знал, и не ошибся. Через полчаса внизу перед ним лежало озеро – он был на высоком берегу, противоположном тому, где стояли лагерем городские туристы. Видел, как на ладони, их разноцветные палатки и отражавшие свет машины – солнце играло в лобовых стёклах.
Всякому бросалась в глаза самая большая и яркая палатка Живулькина – синий шатёр с жёлтым предбанником, и левее, рядом с земляным валом у входа в дот – выцветшая от старости – профессора и оранжевая палатка Шурочки, самая маленькая из всех. Далее под старой ивой раскинулся общий лагерь – общественная кухня под тентом, костёр, стол с шезлонгами на траве – и ещё три палатки остальных обитателей. В значительном отдалении под берёзой стояла и ещё одна – новенькая роскошная из ярко-жёлтого импортного брезента.
«Бинокль бы… – подумал Жора. – Сосчитал всех по головам – и ходить не надо…»
Бинокль тоже можно было одолжить у «коллег». Вон он лежал на чьём-то брошенном – совсем знакомом рюкзаке (уже третий! – отметил Жора) рядом с валявшейся у воды одеждой. А трое в одинаковых семейных трусах из новенького чёрного сатина, поёживаясь, входили в воду…
«Понаслали работничков… – презрительно хмыкнул Жора. – А толку?..»
Бинокль он решил у них не просить.
Правый высокий берег был покрыт лесом, из него у самой воды выбегала утоптанная дорожка, и Жоре пришлось обогнуть пол-озера этой тенистой дорогой, вычисляя по пути методом исключения наиболее вероятную «жертву» ночных «пожарников». Он по-прежнему склонялся к мысли, что это был загоравший вчера на надувном матрасе профессор. И уже через двадцать минут Жора стоял перед знакомым зрелищем – у залитой ранним солнцем и благоухавшей всевозможными запахами поляны. Здесь дорога кончалась, выводя на открытое пространство из-под высоченных орешников. Тут и остановился следователь, решив изучить обстановку.
Слева сквозь ветки блестело озеро, справа взбирался вверх по крутому склону сумрачный старый лес с редкими дубами среди берёз и ёлок, с запахом белых грибов и слежавшейся прошлогодней листвы… Здесь остро пахло мокрыми листьями после дождя и сырой землёй, но Жора пытался поймать те запахи, что нёс ветерок с поляны… И дух разогретой на солнце хвои уловили Жорины ноздри, и тонкий аромат кофе, и близость ягод, спелых и сладких, и раздразнивший слюну запах жареной рыбы – аппетитнейших окуньков, попискивавших в постном масле… Их ворочала сейчас Шурочка, дотягиваясь на цыпочках до сковородки, установленной на коптящем «шмеле», что стоял у неё под рукой на сбитом из старых досок самодельном столе под полиэтиленовым тентом в лагере Василия Исаича и профессора. Жора видел весь лагерь, как на ладони и Шурочку – на высшей точке холма у зарослей, закрывавших обзор верхней дороги.
«Шмель» гудел и изрыгал сильное пламя, необходимое для жарки рыбы… Рядом на газовой двухкомфорочной плитке, на задуваемом ветерком синем огоньке вскипал чайник и грелось в кастрюльке молоко… И Фима с Додиком загорали тут же в шезлонгах, дожидаясь завтрака. А впереди, совсем рядом с Жорой, поджарый профессор в плавках бросал на траву жёлтое махровое полотенце, входя стоически в ледяную воду, и Жора слышал, как плещет вода о мостки, отражая солнечный свет сквозь ветки упавшей на берег ивы.
И тут щёлкнуло что-то в мозгу у Жоры: жив! Слава богу! И память, точно устройство во внутреннем объективе, выдало вчерашний снимок.
Всё было, как сутки назад, словно не было этих сумасшедших суток, словно всё это было сном…
Растрёпанный сонный Вадик с ведром в руке сбегал с горки и, спустившись к озеру, поздоровался.
Вид у Вадика был скучающе-флегматичный. Вчерашнее происшествие с удочками только на миг вывело его из равновесия. В конце концов, удочки – серийного производства… И если что-то случается в жизни, значит, это реальность, и нечего тут особенно удивляться…
Вышедший из воды профессор попрыгал на одной ноге и, ещё не видя Вадика с Жорой, протянул руку к лежавшему у надувного матраса полотенцу. И это жёлтое махровое полотенце, так ловко смахивая живые капли с бронзово-загорелой кожи, радовало сердце Жоры и говорило: «Вот он! Жив и здоров!»
Сан Саныч несколько растерялся, услышав вежливое приветствие Жоры, не без удивления рассмотрев и самого вчерашнего следователя. После нескольких фраз о погоде и о рыбалке (последнее не нашло отклика у профессора), Жора всё-таки осведомился, всё ли у них в порядке, на что профессор что сказать не нашёлся и с улыбкою промолчал, не сумев скрыть тревоги, а Вадик не к месту брякнул, что всё вроде бы и в порядке, да Шурочка с утра пораньше всех напугала, навела панику…
«Какая паника? Чем напугала?» – профессионально вцепился Жора, на что профессор попробовал пошутить: «Шурочка у нас – чудачка…» – и снисходительно заулыбался, развёл руками – взял, взял уже себя в руки! И понял Жора: «Не вытащишь из него ни слова!» И приняв этот факт как данность, мёртвой хваткой вцепился в Вадика.
– Утром дедушку разбудила, – без сопротивления зевнул Вадик, – разбудила и говорит: «Заводите машину! На почту срочно – звонить!» Мы-то уж знаем – что… – Раздался долгий и очень заразительный зевок.
– А что? – громко перебил Жора.
– Ясновидящая она у нас, – ещё раз зевнул Вадик.
– В шутку так её называем! – попробовал вмешаться профессор, но Жора тотчас его оттёр, пожирая глазами Вадика.
– В шутку… разумеется… Но факты есть факты… – потёр Вадик рукой с ведром, видимо, нывшую поясницу. – Связи с домом у них тут нет, – кивнул он на профессорский лагерь под ивой, – а Шурочка всегда знает… сами понимаете, если кто из родственников заболеет… или кто, не дай бог, умер…
– Умер!? – вскинулся как-то вдруг Жора, слушавший до сих пор вполуха.
– Ну так вот… Дедушку разбудила… А он, чтобы не везти на почту, сказал, что бензина мало и к нам пришёл – знал, что отец с утра на базар собирался… И отца попросил всё-таки позвонить – мало ли что ещё… Она ведь может сам факт знать… да не знает, кто. Но мы-то по радио уже слышали и подумали – слава богу, не догадывается, а то, не дай бог, ехать решит… Хорошо, что не мы сказали, а тот…
– Кто!? – перебил Жора. – Кто сказал?
– Да тот молодой человек в синем свитере, – охотно перехватил инициативу Сан Саныч. – В синем свитере таком и в джинсах… Кто-то, видимо, поблизости остановился. Долго они на берегу беседовали. Не слышно было, о чём говорят… А потом к Долгому ушли…
– И имя его громко называли… оба… – добавил Вадик.
– А второй молодой человек за ними ушёл…
– Как он выглядел? Первый который!
– С усами, знаете ли, с бородой… Интеллигентное такое лицо. На Христа похож… как вся эта современная молодёжь…
– В васильковом облегающем свитере и старых джинсах? – уточнил Жора.
– Да, знаете ли, как все… Он ей, конечно, и рассказал… Суровая пришла, молчит. Рыбу жарить сразу и стала. Ни слова не говорит. Ну, мы рады… Хоть на похороны не решила ехать. Там уж, говорят, столпотворение… Хоть ночью только и умер…
– Да кто умер-то? Кто умер?! – вскричал Жора, раздражённый всеобщей бестолковостью.
– Как? Разве вы не знаете? Утром «голоса» передали… «Свобода» и «Голос Америки»… Умер в Москве Высоцкий!
Жора даже сплюнул с досады. «Чёрт знает что! Сумасшедший дом… Родственник он им, что ли?» – и вдруг почувствовал себя дурак-дураком, оттого что зря потерял время.
– Кумир он нашей Шурочки… – объясняюще вставил Вадик. – Чего она в нём нашла, не пойму…
– Он всей молодёжи кумир, – тихо сказал Сан Саныч. – Молодёжь, она, знаете ли, чует… Кто ещё правду осмеливался сказать? Не на ухо, как мы… И не на кухне… Пойдёмте завтракать! – предложил он неожиданно Жоре, и Жора почему-то не отказался: вежливо сказал «спасибо» и кивнул головой.
– Идти уже? – крикнул Сан Саныч, поворачиваясь лицом к лагерю.
– Через пять минут! – крикнул в ответ ангельский детский голос. – Молоко не вскипело! – и девочка, стоявшая на скамеечке у плиты, приветственно помахала рукой.
– Ну тогда… советую окунуться, – сказал профессор, – вода замечательная!
– Мы лучше позагораем! – поёжился Вадик и подставил грудь солнцу.
– Что ж… если не хотите… тогда… Не поленитесь – такие ягоды! – он кивнул в сторону большой ольхи в конце пляжика, где на невысоких кустах краснела малина. – Все проходят и не замечают! Ленятся сорвать…
Малина была крупная и сладкая, как на тёткиной даче. Никогда не видел Жора такой в лесу. Он с удовольствием отправлял ягоды в рот. Не отставал и Вадик, поставив пустое ведро на землю.
Жора углубился в кусты, где в тени были ещё более урожайные заросли.
– Вадик! – раздалось издалека. – Неси воду!
– Сейчас-сейчас! – откликнулся тот на голос Леночки и, подхватив ведро, вошёл в озеро.
Жора выбрался из кустов, чтобы попрощаться, и застыл, бросив взгляд на дорогу, по которой не далее как вчера сам он примерно в это же время резво шагал в Шабаны.
С холма вниз по дороге спускались двое.
Лиц было не различить, но Жора прекрасно их узнал. Один – выше ростом, весь в синем – стройный и звонкий. А второй – пониже и покоренастей – в сером… И в хорошо знакомой кепке с козырьком.
«Фиолетовый» издалека казался совсем юным. Пепка, наоборот, выглядел старше своих лет.
Жора решил углубиться в кусты, где продолжал уже без всякого удовольствия есть малину, в надежде, что останется незамеченным. Однако он ошибся.
– Вижу, аппетит – неплохой, – тихо произнёс «фиолетовый», поравнявшись со следователем… – Сохраняйте навыки, молодой человек! Как можно дольше!
– Ничего! Лет через двадцать пройдёт! – вставил Пепка. – Сможете обходиться без еды.
– Но есть всё равно придётся! Чтобы не пугать близких, – уточнил «фиолетовый».
– Вампиром вы, однако, не станете. Не волнуйтесь! Кровь сосать не придётся!
«Какого чёрта – вампиром?!» – рассвирепел Жора, бросаясь напролом за Пепкой, но только зацепился рубашкой за кусты.
Иностранцы остановились на берегу и посмотрели туда, где у воды загорал человек в плавках. Профессор лежал на надувном матрасе, прикрыв голову газетой. Матрас утопал в густой зеленой траве. Фиолетовый окинул взглядом лагерь.
– Почему только две машины? Где остальные?
– Поехали собирать урожай… на даче… – сказал Пепка.
– Ах, вот даже как… – кивнул иностранец и посмотрел на загорающего профессора. Перевёл взгляд на поляну, где стояли столики с шезлонгами и Шурочка суетилась у газовой плитки.
Кто-то с полотенцем через плечо шёл умываться к озеру. Пели птички. Из приёмника доносился весёлый джаз. Всё было как-то радостно и по-домашнему.
– Нет, этих, кажется, не испортил квартирный вопрос… – сказал «фиолетовый». – Есть дачи. Есть хорошие государственные квартиры…
– Пусть скажут «спасибо» холодной войне!
– Это как? – не врубился Жора, снимая с порванной форменной рубашки паутину.
– Учёные… – махнул рукой на поляну Пепка. – Лаборанты, академики и профессора. Всё ясно?
Жора покачал головой.
– Ну, как вы не понимаете, молодой человек? Коммунисты ещё активно борются с Америкой, им нужна наука. Так, шеф?
Голова под «Двенадцатой полосой» «Литературки» хмыкнула.
«Фиолетовый», соглашаясь, кивнул.
– Ничего! Через двадцать лет это кончится: коммунякам станет наплевать.
– Не понял… – смутился Жора.
– А чего тут не понимать? Не надо будет сражаться с Америкой в холодной войне, и коммунизм им станет по барабану. Зачем на науку тратиться? Для чего? Захотят решать свои собственные проблемы: пополнять заграничные счета. Обеспечивать навсегда детей и внуков…
– Учить их в «оксфордах» всяких разных…
– В Москве будет сто миллиардеров и нищее население вокруг.
– Миллиардеров? – шевельнулся на матрасе загорающий. – Как вы сказали?
– Долларовых миллиардеров, – повторил «фиолетовый». – Долларовых! Сто человек. А то и больше. Но это будут очень странные «капиталисты»… Ума им не занимать! На страну им будет по большому счёту наплевать. На вас – тоже. Они и Сталина вам кинут, как кость… Хотите – его любите. Мечтайте о твёрдой руке, сколько влезет! Хотите – ненавидьте! Разоблачайте, пока не надоест!
– Накидывайтесь друг на друга! Спорьте!
– Спускайте пар в какой-нибудь одной, оставленной для этого газете среди полных гламура СМИ…
– Да в той же «Литературке», шеф!
– Вот-вот! Спускайте пары! И не лезьте в наши проблемы! Для вас в столице – храм, а у нас – «труба» и свой бизнес.
– Н-ну… для сохранившейся думающей интеллигенции оставят журнал «Знание-сила»…
– Труба-а-а? – перебив, пробормотал Жора.
– Вот именно. В центре страны – этот самый жирующий на нефтегазе пуп с «кремлём» и «главным храмом», а вокруг – разорённая территория… Залитая нефтью и гептилом Сибирь, на которую уже, облизываясь, смотрит Китай… А этим… – «фиолетовый» посмотрел на накрытую «Литературной газетой» голову загоравшего. – «Труба» в полном смысле слова!
– Они станут не нужны… – кивнул Пепка, отворачиваясь от профессора.
Лежавший на матрасе вздохнул. «Шестнадцатая полоса» с «Клубом 12 стульев» съехала на траву.
– Весьма реалистическая картина… Что же дальше, молодой человек?
Пепка почему-то сник.
– Через двадцать лет, – сурово сказал «фиолетовый» иностранец, ткнув в бок сконфуженного и непривычно понурившегося Пепку, – вам дадут нищенскую пенсию и прогонят в шею… Не хватит и на бензин, чтобы сюда доехать. А во главе академии будет бывший сантехник.
– А к-к-ак же, п-простите… наука?…
– Наука? Ишь, чего захотели! Сказали же, что властям она будет не нужна.
– Правда, потом – ещё через десять лет, шеф, помните?! Нанотехнологий захотят!.. Как во всём мире… Это после того, как всю науку, блин, похерят гады и «замочат в сортире»… Так их «нововсесоюзный» пахан будет народу в телевизор популярно говорить…
– Да, Чесь! Да! Во всех газетах про парки нанотехнологий писать станут!
– «Васюки»!
– Но всего-то лишь скверик вокруг общежития и разобьют!
– И крестик на могилке похороненной ими науки поставят. До только хрен им после всего этого – нанотехнологии! Хрен им в задницу чёрта лысого после похорон!
– Н-ну, Чесь!.. Ну! – похлопал его по плечу главный иностранец. – Не хандри… Жаль, правда… – добавил он, понимающе глядя на Жору, и выразительно покачал головой, – нанотехнологии-то у них под ногами валялись…
«И вы их!.. Вы их!..» – хотел закричать следователь, но только сжал кулаки и прожёг ненавидящим взглядом «фиолетового».
Тот и Жору успокаивающе похлопал по плечу. Потом с сочувствием посмотрел на профессора:
– Так что наслаждайтесь жизнью, пока дают.
– Ага… А, что, позвольте, будет… здесь вообще – на этой… территории?..
– Вот-вот, – снова влез взявший себя в руки шофёр и нагло захохотал. – Курица – не птица, Польша – не заграница. А здесь!.. где тоже было Великое Княжество Литовское… Да Катька пополам разделила… чтобы уже рыпаться не смогли…
– Чтобы уже не встали с колен, Чесь… – сурово покачал головой иностранец.
– Даже не Польша, и не Литва, и не знаешь, как назвать. Да?
– В семнадцатом веке придумали Белую Русь, потом, много лет спустя, – Белоруссию… Потом отменили…
– Потом снова разрешат…
– Чесь!
– А потом… Ну да ладно, шеф! – Пепка махнул рукой.
– На этой территории, как вы выразились, – ядовито подчеркнул «фиолетовый», – некая неопределённость. Всё будет зависеть от того, будет ли у вас здесь гражданское общество… Скорей всего, как в России – нет…
– И вместе с ней гикнетесь ко все чертям, если не поумнеете!
– И ждёт вас одна судьба…
– До поры – до времени, шеф! Не каркайте!
– Идите завтракать… Всё готово! – позвал детский голос.
– Прошу с нами… Есть хороший индийский чай… – профессор откинул газету и посмотрел на троих умным взглядом из-под очков. – И кофе…
– Знаем-знаем! Из магазина «Чай и кофе» на Кировском проспекте… – закивал Пепка. – Всё оттуда же, как всегда…
– Из последней командировки… – начал было профессор.
– А там сейчас, знаете ли, олимпиада. И еще больше очереди, когда товар выбрасывают…
– Чесь… – строго шепнул старший, затем поблагодарил профессора за приглашение и вежливо отказался, сославшись на дела.
– У нас, знаете ли, машина на Долгом, – пояснил Пепка, кивнув за палатки отдыхающих, – стоит там под большим дубом. А на том берегу, – кивнул он в противоположном направлении, откуда они пришли, – милиция всех шмонает.
– Документы проверяют, – смягчил «фиолетовый». – А нам не хотелось бы… Знаете ли… лишний раз встречаться…
– Да-да, – всполошился понимающе и профессор. – Это, знаете ли, беда… Хорошо, если собирают курортный сбор, мы уже заплатили… Но если…
Иностранцы вежливо, но без промедлений распрощались, а Пепка, оглянувшись ещё раз, помахал рукой.
Жора направился за учёным. Вид у следователя был задумчивый. А профессор, на ходу придерживая скреплённые проволокой очки, поспешно накидывал на себя рубашку из застиранной фланели в чёрную и серую клетку, с почему-то обрезанными чуть пониже локтя рукавами.
Следователь шёл молча следом по вытоптанной в траве тропинке, устремив взгляд в землю, и оглянулся. Позади него Леночка с радостным визгом входила в воду.
Глава 8. Завтрак на траве
Когда Жора поднял глаза, он увидел накрытый к завтраку стол, два пустых полосатых шезлонга и спину Шурочки, стоявшей в одном купальнике над кастрюлей с убегающим молоком. Загорелая до черноты, сосредоточенная и как-то по-царственному изящная, словно египетская статуэтка, она застыла с полотенцем в руке в ождании ответственного момента.
У её ног рядом со сбитым из досок столом для примуса стояло ещё одно раскладное кресло. А на сидении из полосатого брезента лежала книжка и рядом – красное яблоко из цыганкиного сада. «Феномен человека» – прочитал он на потрёпанной обложке.
От неприятного чувства, что тебе насмешливо смотрят в спину, Жора механически оглянулся и увидел два нахальных глаза, причём один из них был рыжий, а другой – зелёный, а хозяин их – малый лет десяти, какой-то надутый и важный, с ухмылкой изучал Жору сзади, неся в руках два раскладных стула.
– И как вы это всё себе объясняете? – злорадно спросил малец, внутренне чему-то ликуя.
– Да он, может, ничего и не знает, – сказал профессор.
«Опять сплошные загадки, – смолчал Жора. – А выяснится – и яйца выеденного не стоят!»
– Удочки-то без вас нашлись, – продолжал малец, приставляя стулья к столу, – Живулькина чуть инфаркт не схватил от второго комплекта! Он вам сюрприз поднести хотел, а оказалось – вы ему сто очей вперёд, нос утёрли! Удочки-то откуда взяли?
– Осторожно, горячая! – сказала Шурочка, и две ловкие детские руки поставили на стол завёрнутую в полотенце кастрюлю.
Следователю подали шезлонг, усадили. Жора автоматически переложил себе на колени то, что лежало в кресле – цыганкино красное яблоко, почему-то косо крест-накрест проткнутое двумя вязальными спицами, и заложенную травинкой книжку. Подвинулся ближе к столу и не отрывал от профессора своего вопрошающего взгляда, в котором, впрочем, светилась догадка.
– Нет, молодой человек, я этому факту объяснения не нахожу. Можно, конечно, свалить всё на совпадение, но я таких совпадений не понимаю. Как сказал философ, не принимай вещи настолько сами собой разумеющимися…
– Садимся! Молоко остынет, – поторопила Шурочка, сдвигая тарелки, чтобы кое-как примостить на углу сковородку с рыбой.
Фима, в таком же адидасовском спортивном костюме, как у брата, подошёл к столу, держа в руке плавки и полотенце. Сел в кресло, зевнул и лениво потянулся.
– Рано мы что-то сегодня завтракаем… Пойду мокну́сь.
«Рано? – искренне удивился Жора, посмотрев на часы. Было уже почти двенадцать. – Ну и живут!» – Он в это время привык обедать, а сегодня почти не завтракал – и почувствовал, как разыгрывается аппетит.
– Ещё и девяти нет, – прищурившись, взглянул на солнце профессор. – Это истинное астрономическое время. А на ваших часах, увы…
– Вот-вот! – а азартом подхватил Фима, даже выбежав назад из палатки, с плавками в руке, куда только что заскочил переодеться. – Я только в прошлое воскресенье понял, отчего жизнь так тяжела! Помните – солнечные часы в Шауляе, там, на стене костёла? Были мы в это же время, в двенадцать, а глянул я на часы – девяти нет! Экскурсовод так и говорит: «Не удивляйтесь! Посмотрите, как нам сдвинули время! На час разницу ещё когда-то давно ввели, ещё час – теперешнее летнее время, и больше часа – разница с московским временем!» Это что ж выходит? Если я встаю в семь, значит, это только четыре! Я только теперь понял, отчего жизнь…
– Так тяжела, – смеясь, перебил профессор.
– Да нет… Почему за десять лет школы не привык по утрам вставать. И ещё год института…
– И почему белорусский народ такой, – раздался чуть слышный вздох за спиной у Жоры. – Со всем смирившийся и ко всему привыкший…
– А я вот до сих пор не могу привыкнуть, – понимающе глядя на Фиму, вздохнул профессор. – К астрономическому времени тысячелетняя привычка в поколениях… Ты полотенце уронил.
Но Фима уже бежал в палатку.
– С рыбы начните! – сказала Шурочка. – А для костей – салфетки. – Она протянула Жоре пачку бумажных салфеток. На тарелке у него оказались три зажаристых окуня и порция молодой картошки с укропом. Но Жора так и застыл, не касаясь еды и глядя на стол с зажатой вилкой в руке. Да ещё Додик, сидевший напротив, насмешливо ухмыльнулся, сверкнув рыжим и карим глазом. То, что было там на столе, напомнило Жоре вчерашний вечер. «Кто же они такие, чёрт побери… Тоже… «эти»?»
– «Ругялис»? – осведомился он неуверенно, беря с опаской свежайший ломоть знакомого хлеба.
– «Ругялис», – кивнул профессор, – рекомендую.
– А сыр?
– Литовский, из Паневежиса… Эй! Кофе тебе греть не будем! – крикнул Сан Саныч появившемуся в одних плавках Фиме. – В Литву ездили… За продуктами… – повернулся он опять к Жоре. – Молодцы литовцы!
– Националисты… – обиженно подал голос Висилий Исаич, подсаживаясь со своим стулом.
«В таком начальника всегда узнаешь, – про себя усмехнулся Жора. – Кашу ест, а за собой следит – чтоб с важностью получалось…»
– Националисты ваши литовцы! Какое к нам, русским, отношение!.. – и даже отставил тарелку, расплеснув профессорский кофе, хорошо Сан Саныч придержал кружку рукой.
Додик захохотал.
Шурочка усмехнулась и строго посмотрела на старика.
Профессор не скрыл улыбки:
– Сердится Василий Исаич… Понятно… Идём мы на днях с ним в Каунасе по Лайсвис-аллее, как волки голодные, с утра ничего не ели. Люди под зонтиками, прямо на улице, сосиски едят, кофе пьют. Мы подходим – услышат русскую речь – нет сосисок! Дальше идём, и опять то же самое: кофе есть, а сосиски кончились… Рассердился тут Василий Исаич…
– Ну а как же? Какое к нам отношение?
– А ты не пробовал понять, почему? – сурово спросила Шурочка, кладя деду в чашку ложку растворимого кофе. Дед только крякнул.
– Вам сколько? – спросила она Жору.
– Одну… две… – растерянно пробормотал тот.
– Три кладите, – дал совет профессор. – С молоком не почувствуется.
Шурочка положила ему три ложки и принялась разливать молоко.
– Ты такое отношение заслужил! Чтобы тебе литовских сосисок не дали… – заключила она сурово, наполняя до краёв чашку. – Разве трудно этого не понять?
Нет, Василий Исаич этого не понимал. Так и читалось это в его лице – растерянном и обиженном и всё-таки – самодовольном! Так и угадывалось по тому оскорблённому выражению, с которым он замолчал и размешивал сейчас сахар в деревянной китайской чашке персональной серебряной ложечкой.
– Я не про себя. Я про Россию! Она всю Прибалтику содержит, строит им заводы, сколько денег вбухивает туда! А они ненавидят русского человека!
Профессор улыбался невесело – Шурочку он поддерживал, но сугубо молча. Додик Шурочку одобрял, но как-то поёжился с внутренним холодком: «Не доведись когда-нибудь иметь такую внучку…» А Жора, конечно же, не понимал ничего, ибо не знал, кем был Шурочкин дед, а был тот с молодости строителем и комсомольским работником, руководителем «великих строек»… а Шурочка была отнюдь не обыкновенным ребёнком. Это-то, правду сказать, Жора заметил сразу. «С виду – как шестиклассница… А такая!»
Шурочка тем временем совсем по-детски задумалась, теребя рукой лямку цветастенького купальника. А потом положила обе руки на стол и как-то странно именно на Жору посмотрела:
– Я вдруг только сейчас поняла, знаете… Почему православные… верующие не могут любить бога! Не способны на самом деле испытывать к нему никакой любви, и всё это насчёт их любви – выдумки! А, ведь, считается, они его должны любить?
– Разумеется, – кивнул профессор, к которому, она, собственно, и обращалась сейчас с вопросом.
– Понятно! – кивнула сама себе Шурочка. – Он вроде как создал их всех.… И создал для них их мир. – Она снова перевела взгляд на Жору. – Вы не подумайте, я не про сидящих тут говорю. Тут здесь у нас никто в бога не верит. Разум, как говорится, не даёт. Я про верующих – про тех, кто думает искренне, что бог есть. Вот они-то бога своего не любят! Врут! Не могут, просто не могут его любить.
– Ну, Сашка… – пожал плечами Додик. – Думаю, ты не права. С чего бы им…
– А с того… – «Вспомни маму!», хотела она сказать, но не сказала, только горько, тяжело вздохнула. – Как можно ему простить такой мир, где есть смерть? Смириться можно, но не простить. Как может мать простить ему смерть ребёнка? Как может она принимать такой «созданный богом» мир? Где есть столько несправедливости? Где люди часто – придурки и подлецы? И отсюда – подлости, войны, концлагеря. Где столько генетических болезней из-за ошибок в генах и хромосомах? И дети, ни в чём не виноватые, страдают! А из-за чего? Или точнее – из-за кого? Если допустить, конечно, что ОН есть и ОН – творец. Да ещё – творец всемогущий! Да мы преступника судим за преступление, халатных работников, виновных в чьей-нибудь смерти, сажаем в тюрьму и судим, а он произвёл такую страшную халтуру! Это в лучшем случае… ещё мягко говоря. А в худшем – всё это его творение – наш мир – преступно, полно ошибок! Так почему мы не судим его за преступное творение? Да как… просто плохого работника – за халтуру?! Понимаете? С природы ведь глупо спрашивать! Так что даже и лучше, что его нет…
– Для верующих он – бог-создатель… – начал дед.
– Если бы я была мужчиной и если бы бог существовал, я вызвала бы его на дуэль, за то, что он создал столько горя…
– Да верующим не позволено его судить!
– А почему это, спрашивается, не позволено? Если нам говорят, что он создавал человека «по образу и подобию своему», то разве мы не вправе спросить, почему же он человека таким не создал? Не сделал его бессмертным и совершенным – по подобию своему? Что же он сделал его совсем другим – подверженным грехам и порокам, и нередко – слабым и беспринципным, а в крайнем проявлении – агрессивным, порочным преступником, не способным поддаться ни светскому, ни даже религиозному воспитанию? И почему человечество тысячи лет не задавало этого вопроса? Или, может быть, для того эта библия и писалась, чтобы зомбировать человеку мозги и чтобы человек боялся такой вопрос задать?
– А какое он право имел задавать? – удивился дед. – По библии, бог создал для людей всё и наделил их всем…
– Да не любим мы тех, кто просто нас наделил, хоть бы и всем на свете, если они любви не заслуживают! И вовсе не тех, мы любим, кто нам что-то сделал… Ведь, хоть озолоти, любить не заставишь! Я про непритворную любовь говорю. А любим мы тех как раз, кому сами сделали что-то хорошее. Тех и любим, кому что-то сделали… Любовь – если всё на свете сделать для кого-то хотим! И есть ещё один вариант любви – когда кто-нибудь сам по себе любовь внушает. Тому мы всё хотим сделать и всё бы сделали, даже если ему этого и не надо. Вот что такое любовь – или делаем, или всё на свете готовы сделать, даже непонятно почему. Но это только тому, кто способен внушить любовь. Кто сам по себе такой! Вот как Высоцкий. Вся страна его любила, он именно такой был, что все его любили… Сделать ничего для него не могли, это да, зато любили. А бог… Люди ему не сделали ничего хорошего. Что они ему сделали? Ничего. В православии нельзя соревноваться с богом, даже музыку сочинять нельзя. И они…люди с ним не знакомы. Он – абстракция. Как можно его любить, скажите?
– Ты к чему это? – подозрительно спросил дед.
– А к тому… Ты уже сам понял. Если Россия «вбухивает» в свои колонии деньги, этим она любовь к себе не купит!
– Ерунда! Она их от фашистов освободила.
– Да? А если освободила, зачем оставили там свои войска? Почему такой вопрос никому в голову не приходит?
«Вот уж… устами младенца…» – смешался Жора.
– И советскую власть навязала… – не удержался профессор.
– И коммунистов! И концлагеря, и людей согнала с земли, и расстреливала, как белорусов, отняла у них тоже их хутора, как здесь! Только тут народ совсем убили. Ещё при Иване Грозном. Он и не рыпается уже, он привык, потерял надежду. А литовцев ещё не добили окончательно, не совсем превратили в зомби. Разве плохо, что они ненавидят своих врагов?!
Профессор так и пытался перехватить взгляд Шурочки, но та на него не смотрела, обращаясь исключительно к Жоре. Додик схватился за голову… Он сидел, обречённо устремив взгляд в стол, только иногда, хлопая себя по лбу, качал головой и беззвучно шевелил губами.
– Вся Прибалтика ненавидит Россию – и Эстония, и Латвия, и Литва. Это все знают. И мы должны ненавидеть! Я тоже её терпеть не могу!..
– Почему? – удивился Жора. – Вам-то её… за что?.. – не нашёлся он и, чувствуя себя совсем неловко, замолчал.
– Как за что? Вы не были здесь в деревне? Не видели, как живут люди? Россия отняла у них землю, их образ жизни. Превратила в колхозных рабов… Мы – два века её колония!.. И я её ненавижу!
Кто-то, кажется Додик, чуть слышно сдавленно простонал.
– Но и раньше здесь бедно жили, – возразил Жора.
– Да! И раньше были батраки. Но Советская власть сделала батраками всех, без шанса выбиться в люди, купить землю и стать самому себе хозяином…
– И люди тут ещё помнят, как было у них при Польше! – не удержался профессор. – Россия присоединила их только в тридцать девятом году, И не хотят теперешнего…
– И я не хочу сидеть на пионерских собраниях, строить из себя дуру и говорить всякую чепуху…
– Подумаешь… – пожал плечами Додик. – Я на пионерских собраниях читаю книжки.
– А я не хочу читать их в душном классе после шестого урока!.. Я не хочу видеть, как все в классе на час превращается в идиотов…
Наконец Шурочка замолчала, обратив взор к озеру, потом, что-то там углядев, взяла за ручки кастрюлю с остатками молока, и Жора опупело уставился в тарелку, со страхом посматривая на других, но, к счастью, вспомнил, что можно заняться едой, и стал есть с удивительным аппетитом.
Сзади стали чиркать спичкой и зашумела газовая плита. А с берега уже мчался мокрый дрожащий Фима.
Додик так и вскочил с шезлонга. Схватив упавшее на траву полотенце, он помчался к брату. А Жора ел и поглядывал в их сторону, ухватывая обрывки разговора, пока Фима усиленно растирался полотенцем, Додик же, по-прежнему хватаясь за голову, что-то возбуждённо шептал. До Жоры долетали даже некоторые слова. «Ой, что она опять несёт… Слушай… При незнакомом менте… Ты лучше сейчас с ней не связывайся… Понял? И папа тоже хорош… молчит. Дал бы ей ложкой по голове…»
Жора почему-то покраснел. Но тут Шурочка села напротив, и он покраснел ещё больше. Она стала есть рыбу. Он смотрел ей в рот. На изгиб шеи, на очаровательный подбородок. Смотрел на точёный египетский нос и трепетные ресницы. На простенький цветастый купальник, на её освещённые солнцем плечи, которые словно испускали сияние, и на руки какой-то особенной красоты… «Нет, всё-таки – семиклассница!» – подумал Жора, разглядывая слишком сосредоточенное лицо. И доведись Жоре вдруг сейчас прочитать её мысли, то в ужасе отшатнулся бы он, шокированный их ледяной нечеловеческой справедливостью… И в растерянности был бы он поражён той болью, с которой думала сейчас Шурочка про своего деда: «Как?.. Как он не понимает? Ведь знал же, должен был знать – на чьих костях делались эти «великие стройки»?! Мог ли он такого не знать? А, зная, руководить, строить – подчиняться убийцам и подлецам! Нет! Каждый должен получить своё – то, что он заслужил, и если этого не случилось – должно случиться! Должна быть в мире высшая справедливость, наказывающая подлецов. Каждый должен получить наказание – покаяться и признать! И если до сих пор этого нет – будет! И он у меня поймёт… Иначе в этом обществе никогда не будет прогресса… Ничего… Вообще ничего не будет. И если человечество хочет выжить – примет мою мораль, оно неизбежно придёт к этому. Я подожду… время ещё есть…»
Но не мог Жора знать мыслей Шурочки. Хотя, правду сказать, и без этих мыслей следователю хватило новой и неожиданной информации. Даже в жар бросило. Он только по-прежнему пытался ни на кого не смотреть – как бы не слышал, что говорила Шурочка, просто отвлёкся, глядя в свою тарелку, выбирая кости из рыбы, – и, когда Шурочка обратила на него взгляд, принялся вдруг изо всех сил мешать кофе в кружке, всё еще не приходя в себя.
– Сахар! – услышал следователь нежный детский голос. – Вы сахар не положили!.. – Шурочка протягивала ему сахарницу с рафинадом. Жора послушно побросал куски и размешал свой кофе, тот действительно оказался совсем некрепким – уж слишком жирное, непривычное для горожанина было молоко. Из палатки выскочил Фима, уже одетый, но дрожащий и синий, и Шурочка бросилась за кастрюлькой – наливать горячее молоко. Подождала, пока он выпьет, потом сказала: «Сбегай, согрейся – принеси воды. Термос надо залить, если в лес поедем…» И Фима схватил ведёрко и побежал к озеру, а Жора, как зачарованный, смотрел через стол на опущенные ресницы, на сосредоточенное лицо с милыми детскими губами – в нём была какая-то тонкая красота. И всё оно, несмотря на короткую стрижку, казалось каким-то… словно из прошлого, из не нашего – того века, где были лица с картин Вермейера и Клода Моне, где жили Блок и жена Пушкина, и были Мастер и Маргарита…
Синий «жигуль» Живулькина лихо протрубил внизу, сверкнув на солнце, и, развернувшись, взлетел на подъём. Взвизгнули тормоза.
– Приехал… – подал голос Сан Саныч, сидевший, как и все взрослые, с подавленно-виноватым видом, глядя в стол, словно проштрафившийся ученик. Только у Сан Саныча вид был какой-то даже более вымученный, чем у всех прочих, точно у него ещё болели зубы. – Спасибо, – сказал он, принимая из рук Шурочки бутерброд.
– А вам с чем? – спросила она Жору.
Жора пожал плечами.
Шурочка намазала ему с сыром и с колбасой и принялась намазывать деду, только не на булку, а на хлеб.
– И без масла! – воскликнул Василий Исаич.
«Склероза боится! – без сочувствия подумал Жора. – До ста лет жить хочет. Все они, такие, хотят…»
Шурочка отложила намазанный кусок и стала делать бутерброд без масла, и, проникни Жора в её мысли сейчас, он бы опять – и ещё сильнее удивился. На самом-то деле Шурочка своего деда любила и многое ему простила, но случилось это только в прошлом году, после похорон Тамары Давыдовны, жены профессора. Тогда вдруг узнала Шурочка много нового про своего деда, чего не ведала прежде – что был он не только пособником коммунистов, но и – настоящий герой, не хуже тех ковбоев, что крадут красавиц в голливудских боевиках, только украл он бабушку… Из охраняемого вагона, из-под носа у немцев, когда её – молодую и красивую – везли фашисты в поезде умирать в гетто. Как громом поразило Шурочку это известие, и ещё больнее ударило то, что не случись тогда всего этого ужаса, этой смерти – этих страшных поминок и похорон – то жила бы и дальше она в полном неведении, не узнав всего ни про бабушку, ни про деда, ни про самого профессора. То есть, знала она, конечно, что была бабушка его школьной подружкой, и проучились они вместе в одном классе до самого конца школы, до того самого сорок первого года… Только учились они не с первого, а со второго класса, потому что когда привели Сан Саныча в первый класс, делать ему там было нечего, всё он уже умел – и писать, и считать, к слову сказать, мама была учительницей и как-то всему незаметно раньше времени научила. И потому определили его сразу во второй класс, где и была заводилой и круглой отличницей вплоть до самого выпускного её бабушка, живая и обворожительная, как огонь… Ну, а потом – все знают, что было потом: война. И весь класс сразу пошёл на фронт, и все погибли… за исключением профессора, был он на год младше, и это его спасло. На фронт он пошёл уже из эвакуации, после первого курса института, и стал радистом, и всю войну проездил в машине с радиостанцией под пулями и осколками, и весь был нашпигован ими и до сих пор – многие не удалось удалить после войны. Но вот – выжил, и, главное счастье – ни в кого не пришлось стрелять… И напарник попался близкий по духу – тоже радовался, что стрелять не надо, и тоже после войны, став математиком, защитил диссертации и и, как сам Сан Саныч, стал читать лекции студентам, только в Московском университете. Оба выжили. Как говорится, бог спас. А вот жену – питерскую красавицу, которую привёз Сан Саныч, возвратившись из аспирантуры, убила-таки война, дотянулась через столько лет… Потому что детство её прошло в блокадном Ленинграде… И хоть достались ей, как самой царице Тамаре, – и красота, и ум, и таланты, не было только одного – здоровья. Потому и ездить сюда, в этот палаточный рай, надолго было ей противопоказано. Выбивал профессор на лето единственную путёвку в профкоме и посылал жену в санаторий. А сам с сыновьями проводил месяц здесь… Но всё равно неизбежное случилось. Впервые, наверное, Шурочка столкнулась со смертью и поняла, какой это ужас и страх. Самое страшное в жизни – смерть… Самое страшное из всего на свете! И сидела она на этих страшных поминках после похорон, сидела совсем одна – потерявшаяся в переполненной институтской столовой среди знакомых и незнакомых людей и слушала, совсем не слыша, как плачущий голос профессора говорит речь о своей жене, сидела и, словно в отключке, думала, что же теперь будет? Что будет с мальчиками и их папой, и как они будут жить… И вдруг фраза, сказанная профессором вывела её из забытья. Так и резанула Шурочку эта фраза… Вроде не было в ней ничего особенного… Только не поняла Шурочка, о чём говорит дрожащий голос. И тогда она стала вслушиваться и сопоставлять… И вспоминать эту странную резанувшую фразу… «И так полюбила мою Томочку моя Соня… – сказал профессор, – так с ней подружилась! И взяла её в свою школу, в свой замечательный коллектив…» Что это ещё за Соня? – удивилась Шурочка, потому как знала, что маму Додика взяла работать в свою школу её собственная бабушка, когда ещё была там директором, всеми уважаемой Марией Александровной, и да, был у них в школе дружный замечательный коллектив… а какая там ещё Соня – она не знала… «Что за Соня?» – спросила она громко вслух. «Да бабушка твоя… бабушка!.. Кто же ещё!?» – укоризненно цыкнула и толкнула в бок какая-то незнакомая женщина в кокетливой шляпке и модном пальто из джерси, а вечером устроила Шурочка своим родным допрос с пристрастием. И узнала Шурочка, что настоящее имя бабушки – Соня! «И тебя Соней назвать хотела, да твой папа не согласился: «Чтобы в школе ещё дразнили? Никаких «сонь»!» Но ты для меня всегда – Соня…» – всплакнула бабушка, вспоминая былые дни, когда сделалась одна Машей, другая – Сашей. А стала она Машей тогда, когда дедушка украл её тёмной ночью из того страшного, охраняемого немцами вагона, посадил на коня, как заправский ковбой, и привёз на хутор, где прожила она всю войну, став Машей. И ни один из немцев, иногда заявлявшихся в хату, так ничего и не заподозрил: удалось раздобыть поддельные документы… А надо ж было так сложиться судьбе, чтобы Василий Исаич, бывший в тот год выпускником столичного ВУЗа – молодой инженер-маркшейдер, специалист по картографии… прибыл на практику из Москвы в город Минск. И надо ж было ему прибыть обязательно двадцатого июня и за несколько дней до войны насмерть влюбиться в соседскую красавицу Соню, как раз окончившую десятый класс… Вот так и случилось, что стала Соня ему преданной верной женой, какой бывает только еврейская жена, и такой же матерью его детям. И много обид и слёз, много упрёков от собственных соплеменников пришлось вынести за свою измену… Так что ж – ей надо было умирать в гетто?! И ездила потом Маша за своим мужем по тем самым «великим» стройкам, пока не осели в Москве, а потом на родине, в Минске с внучкой, оставив Московскую квартиру детям… И всё это проносилось почему-то сейчас в голове у Шурочки, пока намазывала она маслом кусок хлеба своему деду, а Жора смотрел на неё и чувствовал, что что-то странное происходит с ним первый раз в жизни…
– Настоящий хлеб… настоящий! – жуя, похвалил Сан Саныч, весь бледный и по-прежнему словно потерянный, – где мы его купили, в Каунасе?
– В Паневежисе, папа, – сказал Додик. – У тебя уже склероз!
– Правильно. Там ещё на углу был книжный магазин… И роман Окуджавы – тоже там… Климовичи отхватили, – вспомнил он, принимая из рук Шурочки бутерброд. – А знаете, на самом деле к белорусам литовцы хорошо относятся. Как узнают, что из Белоруссии… – он вдруг осёкся под недовольным взглядом соседа. – Зимой… – улыбнулся он, вновь что-то припомнив, – возвращался я из Вильнюса с конференции…
«Не знает: то ли одному потрафить, то ли другую заговорить…» – сочувствуя, подумал Жора, тайком наблюдавший за Шурочкой и вполуха слушавший торопливую речь профессора.
– …и разговорились мы с одним молодым человеком. Ехали в купе вместе. Шофёр, знаете ли, простой парень, а о своей культуре знает столько, что нашим специалистам… стыдно было бы рядом с ним! Так вот, когда я ему рассказал, что белорусы… коренные – отказываются от своего языка, да и не знают его, он не поверил…
– Выходит, такой там язык… – презрительно поморщился Василий Исаич. А Жора, конечно же, помнивший вчерашние разговоры, не стал проявлять свою осведомлённость, а мог бы сейчас блеснуть! Сказать, к примеру, что те и другие отказались на самом деле от своего истинного языка, уступив его, как образно выразился Пепка, распроклятым татарам московским… Нет, Жора скромно решил промолчать. Только спросил, вдруг невесть почему вспомнив, как зашвырнул глумливый шофёр цыганкино евангелие на печку:
– Но скажите… Скорина ваш… с латинского библию перевёл. А на каком языке он её издал?
– Вот! – с энтузиазмом подхватил профессор. – Я тоже задавался этим вопросом. Коль вспыхивал раз от разу в президиуме вопрос… – он осёкся и пояснил, взглянув на Жору, – соседи-филологи, знаете, то и дело порываются перевести библию на белорусский язык, но как-то всегда их энтузиазм затухает… Понимаете? – он заговорщически подмигнул. – Вот и думаешь: так на каком же таком РОДНОМ языке Скорина библию-то издал?! Да всё руки не доходили уточнить. Не моя сфера…
«В Великом Княжестве Литовском…» – вспомнил Жора.
– Да вы ещё Гоголя переведите! – вспыхнул старик, совершенно упустив суть вопроса, но под взглядом Шурочки сник и только что-то обиженно пробормотал. – Значит, язык такой… Такой язык! – повторил он упрямо с совершенно кислой миной.
– Ну что вы… Я хорошо помню, у нас в семье… родители и по-польски, и по-белорусски говорили… А потом, конечно… как дядю взяли – в тридцать седьмом погиб… Расстреляли! Военный устав на белорусский язык перевёл… Н-да… так при детях уже – ни слова. Сестра девочек воспитывала, и они… да и эти… – Он кивнул на Додика, – белорусского совсем не знают!
– Только бабушка со стариком-цыганом по-белорусски говорит, когда тот весной приезжает сажать картошку…
Профессор невесело улыбнулся и кивнул сыну.
Не только язык с детства был в их семье «табу». Другим таким «табу», до сих пор вызывавшим страх, и «табу», уже не понятным для его мальчиков и жены, была земля… Земля и ужас, что её используют не по назначению, что соседи могут донести…. Хотя время было уже другое! Но страх этот существовал, и был понятен только самому профессору, потому что знаком был с детства. А знаком, потому что сидел этот страх в крови у матери – старой, ещё дореволюционной учительницы, которая отказалась посеять под яблонями траву, как хотела Томочка: «Так стало бы в саду красиво с травой… Зачем же сажать картошку, которую никто не ест?…» Томочка была очень удивлена, но картошку, которая вырастала под яблонями размером с вишню, всё равно сажали каждой весной, потом выкапывали каждую осень и складывали эти «горошины» в погреб, чтобы посадить в апреле! А всё для того, чтобы соседи видели: в саду – не трава, не какие-то там газоны, а картофельные борозды! И для этого каждый год в одно из погожих апрельских воскресений приезжал старый цыган со своим конём, перепахивал плугом старый сад, а бабушка шла рядом с ним с плетёной корзиной и бросала в борозды свой «семенной» картофель…. А потом, когда картошка была посажена и работника усаживали за стол, где появлялась бутылка с вином, а на плите дожаривалась глазунья со шкварками, вот тогда-то и начиналась долгая беседа на белорусском языке… Каждый год слушал профессор историю жизни мужественного старика-цыгана, которого как только ни заставляли стать колхозником и отказаться от своего коня – продать, отдать добровольно, сдать за деньги на мясо, даже отбирали много раз силой в колхоз – но цыган упорно из года в год приезжал с собственным конём – то покупал нового, то убегал из деревни вместе со старым и жил в лесу, скрывался в городе, но – появлялся во дворе каждой весной… И это было добрым знаком! Жив! Не поддался! Не уступил!.. Вот тогда и слышали члены семьи белорусскую речь… А с того давнего рокового тридцать седьмого года – боялись почище огня. Откуда же детям было её знать?
– В семье повешенного, как говорится, не вспоминают о верёвке!..
Какой-то дикий, пронзительный вопль донёсся «из-за горы». Профессор вздрогнул и тотчас же замолчал. Вопль был явно человеческий. Вышедший из воды Фима замер на берегу с ведром, глядя на Живулькинский лагерь. Но дальше всё было тихо, и мирно сидевшие за столом с облегчением отвели взгляд от берега и от Фимы, заспешившего к ним с ведёрком.
– А помните, – опять заговорил профессор, представив, видимо, что-то приятное и улыбнувшись, – вечером, когда купались под Зарасаем, – обратился он к закивавшим ребятам, – встретили мы такую даму… милую, интеллигентную… Она спросила, откуда мы, и тоже разговорилась… Видимо, местная учительница – за молоком шла. Вот, говорит, чудные тут места, и лес, и грибы… Потом ТЕ годы вспомнила… литовских учёных…
«Нет у литовцев писателей!..» – вспомнилось почему-то Жоре.
Шурочка остановила на нём свой взгляд:
– Уничтожили их тогда, как и у нас… Большевики!
– Н-да… И, вот, интересно, говорит, их президент, скромнейший человек был, имел в Паланге маленький домик и всюду пешком ходил… А тут какой-то сукин сын пол-озера загородил… И шут его знает, кто он такой!
Тот же знакомый пронзительный вопль раздался снова. А потом, казалось, поближе – истерический сумасшедший хохот. С подвываниями и даже всхлипываниями – теперь уже точно можно было узнать голос Живулькина.
Следователь уронил бутерброд и вздрогнул.
Голоса, крики, шум мигом огласили соседний лагерь – что-то там определённо произошло. Жора увидел, как бросивший ведро Фима кинулся со всех ног к палатке Живулькина.
– Что там такое? – поморщился Василий Исаич. – Сбегали бы… – глянул он на ребят. Но никто не двинулся с места.
Слышимость тут была хорошая. Звуки разносило в безветрии далеко.
Жора вслушивался, и вдруг глуповатый хохот Вадика раздался в тишине. Послышался женский визжащий смех, и, наконец, все узнали безудержное, до колик в животе, хохотание Фимы. Потом голоса смолкли…
Но Фима уже мчался из-за горы. Видно было, что он действительно перепуган, однако всё ещё не может побороть смех.
– Спасите Живулькина! Там его сейчас инфаркт хватит!..
Что же выяснилось из спутанных объяснений растерянного второкурсника Фимы, которые приходилось, тупо раскрыв рты, ловить перепуганным слушателям в промежутках, когда рассказчик не вдыхал жадно воздух после сумасшедшего бега и не боролся с последними донимавшими его судоргами смеха? А выяснилось вот что… Когда Живулькин воротился с базара, он прежде всего достал из багажника что-то, приобретённое в магазине винно-водочных изделий, и решил заначить в укромном месте, а именно у себя за раскладушкой. Но прежде чем припрятать, он пощупал под одеялом на раскладушке и убедился, что два экземпляра вновь обретённых удочек благополучно дожидались его возвращения, и готов был уже сунуть бутылку на пол к стенке палатки, но тут до него дошло, что это – кровать Вадика, а его собственная – с другой стороны. Он влез под свою и только готов был подальше закатить бутылку, как увидел вдруг на брезентовом полу, в неверном сочившемся снаружи свете… свои кровные… Те самые удочки, которые, как он сейчас вспомнил, – и вспомнил только в эту секунду – сам сюда перепрятал в тот злополучный день! Как увидел, что длинноволосый пастух пялится на его снасти, так и унёс родимые от греха подальше!
И тогда дикий крик, услышанный в лагере Василия Исаича и профессора, вырвался из его груди в первый раз. Выпрямившись на трясущихся своих ногах, он тотчас понял, что никто его удочек у него не крал! Украли только «кружки» и сетку, да «телевизор», которые и привезли в тот же вечер с повинной на мотоцикле всем лёниковым семейством под лай собак, хоть и стянул их сын бригадирки – длинноволосый Манюсь… Привезли – и просили не сообщать, уладить всё по-хорошему…
Рухнул Живулькин тогда на кровать, и с ужасом понеслись мысли у него в голове… А когда первый испуг прошёл, то почувствовал он, что лежит на чём-то твёрдом. И жуткое, бешеное подозрение заставило его встать и пошарить под одеялом… И когда трясущимися руками вытащил он из-под этого одеяла, и потом из-под одеяла у Вадика четыре экземпляра – его родимых – одинаковых немецких удочек, то вырвался из его живота тот второй крик, за которым последовал взрыв безумного истерического смеха…
Когда Жора вместе со всеми примчался к месту происшествия, на лицо потерпевшего вернулся кое-какой румянец.
– Выпей… – протягивал Вадик слегка трясущеюся рукой полстакана воды с двадцатью каплями валерьянки.
Олег Николаич, которого усадили на стул, понюхал содержимое стакана и, не донеся до рта, выплеснул как-то зло себе за спину.
– У-у!.. – не договорил потерпевший и потряс стаканом. – Где эт-та?.. – сделал он какой-то сложный и всеобъемлющий жест рукой. – Под раскладушкой!
У ног Живулькина лежали пять экземпляров бамбуковых заграничных удочек в одинаковых чехольчиках.
Вадик мигом воротился из палатки, открыл поллитровку и налил половину стакана.
– Ещё… – слабым голосом попросил пострадавший и, дождавшись, пока дольют, осушил до дна.
Через минуту глаза его осовели, веки тяжело опустились, и Жоре захотелось перекреститься.
Живулькина уложили в палатке, укрыв двумя одеялами. Услышав сонное дыхание спящего, все молчаливо вышли. Им приходилось воспринимать реальность на трезвую голову.
На траве сидел Додик, изучая удочки. Приметив Жору, малец хитро спросил:
– И что вы собираетесь делать?
– А ничего. В Поставы назад поеду.
– А какую занимаете должность? – почувствовал Жора пытливый взгляд. – Работаете-то вы кем?
– Следователем.
– Чего ж вы сюда приехали? Удочки-то разыскивать – разве ваша работа?
– По дружбе, – нахально ответил Жора нахальному пацану. – Шеф попросил. Товарищем он оказался вашему Живулькину.
– И протокол не будете составлять?…
– Не буду. Удочки меня просили найти – нашёл. Остальное – ваша забота. Адью!
– Пойдёмте допивать кофе! Теперь он у всех холодный… – посмотрел профессор на Фиму. – Беру свои слова назад… – И Сан Саныч легонько подтолкнул вперёд Додика и стоявшего в нерешительности Жору.
– Ах, чуть не забыл! – догнал их уже на дороге Вадик. – Папа всё-таки дозвонился до вашей бабушки. Хорошо ещё, сказать успел, как приехал, и вам велел передать. Она просила вас за ней съездить. У Климовичей какие-то дела в городе, они вернутся только в конце недели…
Шурочка решила согреть оставшееся молоко. Профессор разжёг «шмеля». Они вдвоём хлопотали вдали от всех.
– Чего на похороны не поехала? – лениво зевнув, спросил Фима, ставя на землю ведро с водой.
– Крылов приедет, – не повернув головы от кастрюли, ответила ему Шурочка.
– Ха-ха-ха! Это номер! Нужны нам такие философы, которые пьют из консервных банок! Вот вдвоём бы и собрались…
– Он приедет с Соней!
– Уже? И как же – с палаткой? Или сразу в «апартаменты»?
– С хутором ничего не вышло, – покачала головой Шурочка. – Расположатся где-нибудь здесь…
– А ты, – не отставал Фима, – новую компанию подыскала?
Жора насторожился. Речь шла, кажется, об иностранце, надо было не упустить ни слова. Сам он не мог решиться спросить про утренний разговор с «фиолетовым» – не знал, как к ней обратиться, на «вы» – глупо, ребёнок, с виду как семиклассница, а на «ты» – не мог…
– Подслушивать нехорошо – сказала Шурочка.
– Вас подслушаешь! – хмыкнул Фима. – Твой красавчик засёк меня, как профессионал. Третий глаз у него на затылке, что ли? Или зрение инфракрасное…
Жора решил вмешаться. Лучшего случая ждать не стоило, да и вряд ли приходилось рассчитывать на другой случай. Информацию из неё не вытянешь, это ясно. А вот предупредить – самое время.
– Вы говорите об иностранце, – сказал Жора. – Считаю своим долгом сообщить, что он – подданный США, двоюродный брат Константика…
– Такого знаем, – кивнул Фима.
– Лично знакомы?
– Естественно! – захохотал Додик. – «Оба-я-тельный молодой человек…» – передразнил он слегка кокетливым голосом светской дамы.
– Сейчас объясним, – с улыбкой кивнул профессор.
– Так вот. Он и Константин Дубовец – наследники. Дядя в Америке оставил им по миллиону долларов.
– Крас-с-сота! – захлопал в ладоши Додик. – Ой, какой класс! По мильёну! Так Константик теперь миллионер!
Шурочка кончила доливать в кружки горячее молоко и унесла кастрюльку. Жора вопросительно взглянул на Сан Саныча. Тот кивнул, дожёвывая бутерброд.
– Так вот, однажды… Кажется, в прошлом году. Или раньше… Все были на рыбалке… кроме меня, ребят и Сашиной бабушки. Подходят к костру двое… лет сорока…
Что-то заставило Жору повернуть голову.
Шурочка с кастрюлькой в руках молча смотрела на Сан Саныча. Тот, наконец, встретился с ней взглядом, глотнул кофе и поперхнулся.
– Так вот… – продолжал он, прокашлявшись после того, как его заботливо похлопали по спине, и голос его звучал уже как-то без энтузиазма. – Симпатичные молодые люди… Побеседовали. А Константик… Тот особенно нашей Марии Александровне понравился. Она потом изумлялась: «Ай-ай-ай! Бандит, а такой обаятельный, такой обаятельный!» Вот и всё…
Шурочка поставила кастрюлю под стол к грязной посуде и спокойно занялась хозяйственными делами.
Додик хмыкнул.
– Да, собственно, вот и всё… – отвёл взгляд профессор, и Жора отлично понял, что сказали ему не всё. Только вот, почему?
И сколько бы ни гадал Жора, остался бы в неведении. Таков наш совковый подлый характер – слова лишнего не сказать приучена наша интеллигенция! А жаль – не услышал он самого главного – зачем приходил к их костру Константик с Мишей Кривицким. И если б занимал Жора другую должность (при всех его прежних человеческих качествах, понравившихся, кстати, лагерным отдыхающим) услышал бы он любопытные вещи.
А случилось вот что… Подошли к костру два странных человека, с виду вроде как из местных, одетые грязно, в заношенные телогрейки и старые сапоги дедовской довоенной кирзы, но взгляд их светился осмысленностью и нездешним лукавством – трезвые были эти два человека… и о чём-то с ребятами разговорились. Сан Саныч издали наблюдал – с машиной возился, заезженной старой клячей, карбюратор перебирал – к чёрту продать пора! Весёлый, тот, что пониже ростом и чуть постарше, достал из кармана горсть каких-то монет и по кругу пустил. Додик от восхищения прямо взвизгнул – и к незнакомцу:
– Подарите!
Тот громко захохотал.
Подошёл и Сан Саныч, взвесил на ладони новенькую монету, тяжёлую, размером с пятак, с царским профилем и орлом, и видит – золото! Мать честная! За всю жизнь столько его в руках не держал. Поскорее вернул всю горсть хозяину…
Весёлый небрежно монеты назад, в карман, засыпал и говорит:
– Покупайте!
Рассмотрела и Марь Алексанна подслеповатыми глазами, руками всплеснула:
– Да у нас таких денег нет! – и скорей, скорей возвращает. На «беспечного» «молодого человека» из-под очков взглянула, за сердце схватилась и тотчас его жалеть: да как вам, говорит, не страшно? Столько золота с собой носить? Тут такой Константик, говорят, есть – вор и бандит! Не раз уж в тюрьме сидел! Он ваше золото, «молодой человек», отнимет, а вас убьёт!
Тут как оба опять захохочут! А «весёлый» за живот держится, так смеётся!
– А я его, – говорит, – не боюсь! Вот что у меня есть! – и достаёт из сапога пистолет, Марь Алексанне протягивает.
Та чуть в обморок не упала. Бедную женщину поддержали. «Весёлый» пистолет спрятал, но она всё равно ночь не спала – за «молодых людей» беспокоилась. Утром к бабке на хутор пошла, шёпотом рассказала… Та в страхе перекрестилась: «А… людцы мае! То ж сам Канстантик быу!» И поведала растерявшейся Марье Александровне, что всем в округе он золото купить предлагает, да все боятся: назад отберёт! Так и ходит со своими монетами. Под страхой, говорит, нашёл. Батьковские. Какое! Столько золота… Зарезал кого-то и отобрал…
В страхе воротилась домой Шурочкина бабушка, рассказала новости и всё не верит – симпатичный молодой человек! Глаза весёлые, умные!
– Все они, бандиты, такие… А что ж ты думала? – заметил важно Василий Исаич и достал из кармана гребешок причесать ухоженную шевелюру.
Марья Александровна снисходительно на него посмотрела и с тех пор изменила отношение ко всем здешним бандитам: верх взяла трезвая еврейская голова, отмела досужие сплетни. И засыпала по вечерам Сашина бабушка спокойно, не боясь мифического Константика, которым пугали местные.
Всё это, разумеется, не было рассказано Жоре, но каждый из сидевших сейчас за столом вспомнил события более чем годичной давности и почувствовал себя неловко. Укоры совести ощутил и профессор. Тишина сделалась напряжённой.
– Так зачем он всё-таки приходил? – не рассчитывая на ответ, просто так спросил Жора. А профессор решил, что на этот вопрос как раз можно ответить… и именно потому, что до сего дня оставалось это загадкою для него самого.
– Знаете, до сих пор не пойму… Пришли они с одной просьбой, – замялся профессор. – Но так и ушли, кажется, передумав… Или времени у них не было дожидаться…
Додик захохотал:
– Машина им была нужна!
– Да…знаете ли, там что-то перевезти… – поспешил договорить профессор, благоразумно не объяснив, что перевезти, по словам пришедших, нужно было канистру свежего самогона из Идалины в какое-то другое место…
– И машина им была нужна не абы какая! – уточнил Додик.
– На моей почему-то не захотели, я предлагал… Шурочкиного папу с рыбалки ждали. Он своего красного «жигулёнка» только-только из-за границы привёз. Новенькая была совсем! Игрушка!
– Ясно… Угнать хотели, – вставил Шурочкин дед. – Завезли б куда… и тайком убили в лесу.
– Ну, что вы… – профессор сдержал улыбку. – Никто бы никого не убил… Но факт остаётся фактом: зачем-то им понадобилась именно новая машина!
– С шиком хотели проехать! – сказал Фима.
Додик покачал головой, а Жора, чуть покраснев, отвёл взгляд. Он один точно знал, почему и зачем нужна была Константику новая машина. Можно было понять и неожиданную перемену решения: автомобиль с заводскими знаками на моторе – всё-таки не колхозное порося…
Пора было распрощаться и поблагодарить хозяев. Жора взглянул на Шурочку и стал подниматься из-за стола…
– Спасибо… – начал он и вдруг окончательно растерялся. Она стояла, задумавшись, отводя взгляд – глаза были грустные, как у лани. В них мелькнула догадка и понимание, глаза их встретились… Механически он нашёл какие-то вежливые слова… слушал, как язык произносит чужие фразы, а сам думал: «Знает… Обо всём знает!»
Фима тронул его за локоть в самом конце подъёма к верхней дороге.
– Я понял… вас интересует тот тип?
Жора молча кивнул, застыв у глинистой колеи перед зелёной лужей – поверхность её, затянутая ряской, пошла кругами – высунулась голова лягушки с вытаращенными, как шары, глазами. «Точно подслушивает! – подумал следователь. – Только неясно, где у неё уши…»
– Чего вы смеётесь? – обиженно прошептал Фима. – Он ей свидание назначил, если хотите знать…
– Где? И когда? – тотчас воскликнул Жора.
– Тише вы! Там ведь слышно.
Жора посмотрел вниз. С горы хорошо было видно озеро, а за кустами, кажется, совсем рядом, пестрели яркие пятна палаток. Послышался смех профессора и хохот Додика.
Оба прислушались. Слышно было, как говорит Василий Исаич – с важностью, наставительно, старческим скрипучим голосом:
– Одно я всё-таки не пойму, одно меня удивляет: откуда удочки появились – целых пять штук?
– Удочки тебя удивляют? – донёсся до них детский голос. – А больше ничего удивительного не нашёл?
– Я, собственно… – прошамкал в ответ Василий Исаич. – Хм… Что ты хочешь сказать?
– А то я хочу сказать, – накинулась на него Шурочка, – что всё ведь… Всё!.. Что утворили за свою жизнь такие, как ты, – «удивительнее» в тысячу раз! Никогда это в голову не приходило?
Слева вдали раздался рёв мотоцикла, и скоро какой-то юный смельчак – без шлема, в одних трусах и на босу ногу – промчался мимо них по лужам.
Жора наклонился, чтобы стряхнуть ряску с испачканных в конец брюк. Но и ботинки имели ещё тот видок!.. «Наплевать!» – подумал он.
– Её кадры… – пробормотал Фима, кивнув вслед скрывшемуся из вида мотоциклисту, и Жора опять услыхал голоса внизу.
– А вот и не всё равно, чья власть! – с жаром возражала Шурочка. – В колониях, как ты знаешь, она всегда больше зверствует, чем в метрополии. И власть в колониях всегда более холуйская! Боится она только за себя! Свои холуи хотят вдвойне выслужиться перед хозяевами, чтобы сохранить свою – более второсортную, но власть! Душат любую мысль, всего боятся. Где наша литература? Что?
Старик что-то неуверенно произнёс.
– В России был «серебряный век». У нас не было ничего. Там были и после революции – Зощенко, Каверин, Булгаков. Смогли появиться даже там! У нас не было никого! Не было! А всё, что выдавалось здесь за литературу и выдаётся сейчас – убожество, не опасное для холуёв! Назови мне хоть одного действительно писателя! Хоть один талант! Власть, которая была у нас, не могла этого допустить!
Дед что-то, прокашлявшись, возразил.
– Ага! А с чего это улицы в нашем Минске называются фамилиями убийц? Убийц и разных там холуёв, душивших свою культуру? Все эти Пулиховы, Мясниковы да Притыцкие с Червяковыми, Пономаренками и Гикалами – ведь настоящие же убийцы, а их имена улицам присваивают – и никто не возразит! Ещё б в честь Цанавы назвали! Странно, как не догадались!..
Профессор что-то негромко сказал, и Шурочка с возмущением подхватила:
– Вот-вот! Ту самую, где убийство Михоэлса инсценировали! А их собственные – убийцы из Москвы – нам зачем?! Все эти Урицкие, Дзержинские да Свердловы, я уж про Ленина и не говорю… А Калинин чем так угодил белорусскому народу?… И улица, и переулок, и площадь с памятником…
– Не-нор-мальная… – ошарашенно прошептал Фима. – Слышал? Слышал ведь? Ненормальная! И так всегда: самой умной себя считает, а ночью-то… Ночью ведь на другой конец Долгого к этому иностранцу попрётся…
– Куда-куда?
– К иностранцу… – Кивнул Фима на тёмный лес за дорогой, и солнце, вдруг вплывшее в тучу, перестало светить сквозь ветки. На дороге под шапками старых сосен и высоких дубов стало сразу сумрачно и тревожно. – Там озеро внизу под горой, ещё одно. На другом его берегу, ровно в десять… на каком-то чёртовом хуторе – в заколоченной хате окнами на воду… будет он её ждать.
– А далеко это?
Фима пожал плечами и взглянул этак снисходительно, свысока, – мол, очень это нас интересует! Жора даже забеспокоился, что лишается компаньона. А нужен ему был сейчас компаньон, нужен!
– Так как же туда добраться?
– На лодке! Ни разу, впрочем, не доплывали мы, никогда! Озеро чертовски длинное – как река! Однажды для интереса сам я решил, один. Сорок пять минут вёслами отмахал… и назад повернул… Изгибается без конца, повороты всё, повороты. А потом решили по берегу на другой конец добраться, лесом два часа пропилили, в болоте завязли, вымокли и пошли обратно…
– Но как же она дойдёт?
– А я почём знаю? По воздуху прилетит! – фыркнул Фима. – Да-а… – добавил он уже обиженно, видя Жорино удивление. – Вы эту ведьму ещё не знаете! А ведьма ведь, ведьма! И поплыть может, вплавь добраться. И по берегу, через лес… Всех приучила – в полночь себе, когда хочет, купается, ночами может по лесам шляться, и никто ей ничего не скажет…
«Ребёнок ещё… – с недоверием подумал Жора. – Совсем ребёнок!»
– А если что с ней случится? Кстати, забыл сказать! Ведь этот-то, в свитере-то, когда меня в кустах усёк, Сашка спрашивала его, как добраться! Как раз спрашивала, а он вдруг оглянулся, мне подмигнул, пижон, а потом наклонился к ней, к самому уху, и уже в ухо ей что-то шепчет и в пол-оборота ко мне подмигивает и посмеивается, собака… хоть, клянусь, что не мог видеть меня тогда за ёлками, ну никак не мог! И в сторону машины кивает, у берега под горой на Долгом машина его стояла – машинка-класс! Чудо, игрушка… На ней-то, может, вдвоём покатят! Но это что… – всполошился теперь уже сам Фима, видя ленивое позёвывание компаньона. – Главное, что и час, и место знаем!..
«Задачка!.. – почесал тем временем за ухом Жора. – А махнуть сейчас, к чёртовой матери, домой в общагу! Вымыться, сходить в баню и выспаться по-человечески…»
– Главное, что вдвоём, – не отставал, как видно тоже «дрогнувший», компаньон. – Что по очереди грести будем…
– Где встречаемся? – спросил Жора сухо, по-деловому взглянув на часы и мучительно борясь со сном. Была уже половина первого, и голова трещала после бессонной ночи.
– Там внизу, – махнул Фима куда-то в тёмную гущу леса. – От лужи идёт тропинка…
И Жора, обогнув несколькими шагами лужу, где лежала, быть может, сейчас на дне убитая мотоциклом лягушка, увидел тропку, протоптанную в траве. Она круто спускалась вниз через высокий папоротник.
– Жду вас в лодке ровно в восемь часов.
Глава 9. На другом берегу
К месту встречи Жора пришёл заранее – в половине восьмого, в кармане был только фонарик. От усталости его валило с ног – мутило после рейсового автобуса, и донимала изжога от съеденного в столовке борща. День прошёл жутко и бестолково. Голова была ватная из-за бессонной ночи, да ещё чуть ли не с утра парило, собиралась гроза: то и дело на горизонте сгущались тучи, и даже пару раз громыхало, но облегчения до сих пор не предвиделось, только серой дымкой затянуло небо, стало совершенно нечем дышать, и всё зловеще затихло, как перед неминуемым уже теперь ненастьем.
Он решил обогнуть лагерь верхней дорогой со стороны Шабанов, оставляя слева внизу пустые, словно вымершие от жары хаты, и с самой вершины гряды, где душно пахло смолой и словно застыли в мареве разогретые за день сосны, он увидел берег и синеющую гладь озера за кромкой прибрежной ольхи, и там, на самой его середине – стриженную голову Шурочки. Вода не шелохнулась, виден и слышен был каждый всплеск, Шурочка преспокойно плавала в своё удовольствие, никуда, по-видимому, не спеша и в ближайшее время не собираясь. Вдали слева виднелись палатки. На поляне под ивой, сидя в полосатом шезлонге, клевал носом над книгой Василий Исаич. Когда Жора приблизился к лагерю, поднявшись вверх, на тенистую часть дороги под большими осинами, он пошёл быстрей, и кощеева сгорбленная фигура выглядела всё более зловеще, то появляясь внизу на фоне весёленького пейзажа, то исчезая за смыкавшимися деревьями. Юркий профессор в белой майке и чёрных спортивных штанах то энергично поддомкрачивал свой «москвич», то выглядывал уже из-под машины, нашаривая рукой отвёртку в густой траве, где разбросан был инструмент и лежала «запаска» рядом с отвинченным колесом.
Дойдя до затянутой салатовой ряской лужи, Жора тотчас приметил в папоротнике начало тропы и, свернув в густую чащу орешника, оказался на крутом спуске. Тропа нырнула в окоп, и ещё в один… Жоре пришлось то спускаться, то выбираться вверх. «Всё изрыто! Сколько же здесь порыли в четырнадцатом году! Кто рыл? Немцы или царские солдаты? А ведь, права Шурочка: ни одной книги и про эту первую войну! Что тут было? Ни один «письменник» не написал… Только и дуют в одну дуду про подвиг белорусских партизан, Матросова да Зои Космодемьянской!»
Сырой, тёмный – не белорусский лес – поразил Жору. Такой лес видел он на Кавказе, где так же вот увивает деревья до самых верхушек хмель, где так же стелется под ногами лианами какой-то вечнозелёный плющ – и земля уходит из под ног вниз, и терпко ударяет в нос пряный мускусный запах. Не знал, не знал, конечно, Георгий Сергеич, что вьётся у него по ногами и сладко пахнет мускусом никакой не плющ, а ядовитый северный копытень, цветами которого лечат от пьянства местные бабки-шептухи даже самых неизлечимых, безнадёжных уже алкоголиков… Не знал он, разумеется, ничего этого, иначе не стал бы рвать странные листья и нюхать, и растирать между пальцами, даже пробуя языком горький сок, которым в давние времена натирались здешние ведьмы, отправляясь на шабаши. Но плюнул вдруг Георгий Сергеич и выбросил горький измятый стебель, закрывая руками нос… Такой резкой вонью ударило вдруг навстречу! Гнилой прошлогодней редькой, зиму пролежавшей в погребе до весны, запахло невыносимо противно… и какой-то тухлятиной – падалью, точно где-то под деревом корова сдохла… Но тотчас понял Георгий Сергеевич, в чём дело, и, пройдя ещё три шага, спугнул целый рой иссиня-зелёных мух – жирных, гудящих, обсидевших какой-то неведомый бледный гриб, похожий на мозг крошечного человечка, с которого взяли и сняли череп… С виду гриб, впрочем, напоминал гигантский строчок-сморчок, только белый, и его похожие на червей извилины, как в жирном грецком орехе, – тоже белые, желеобразные, были покрыты какой-то зелёной пастой… Нет, не паста это была, а нечто зловонное, напомнившее ему ту кучку куриного помёта в сарае, на которой и поскользнулся Жора в тот злополучный миг… и мух уже было на грибе черным-черно, облепили его в одно мгновение, стоило следователю замереть от подступившей вдруг к горлу рвоты…
Пришлось спасаться от замутившего до тошноты зловония. А зря! Было бы от чего бежать! Но не знал, не знал Георгий Сергеич, что в отличие от горьких листьев гриб совсем безобиден, не опасен и не ядовит! Полезный, лечебный, можно сказать гриб. И называется совсем не страшно: весёлка обыкновенная. Эх, не ведомо человеку, не знает он, где соломки и когда подстелить… Не жевал бы, не брал бы Жора в рот этих горьких листьев! Да что теперь говорить…
Обходя гриб с взвившимися опять мухами, он сошёл с тропы и бросился напрямик вниз по крутому склону через хлещущий по лицу орешник. Он бежал по мху, перескакивая через окопы, скользил по гниющей прошлогодней листве и зеленеющим зарослям печёночницы – по шуршащим листьям, восковым сердцевидным листочкам северных голубых подснежников, отцветших давным-давно весной, и душа его словно рвалась куда-то, улетала сейчас в другой, скрывавшийся за этим нашим, совсем непохожий мир… Было, чувство, как на качелях, когда душа устремляется в небеса…
Он упал. Встал и побежал снова… Он прорвался через густой, цеплявшийся за ноги, полный ягод черничник и в просвете прибрежного камыша увидел лодку. Кромка чистой воды с серой галькой на дне очерчивали низкий берег под ивами, а дальше весь вид на озеро заслоняла неподвижная стена камыша… И в этом единственном просвете виднелась лодка с сидящим в ней человеком.
Да, Фима уже, нервничая, сидел на вёслах. Рядом на дне надувной резиновой лодки стояла авоська с термосом, валялись небрежно сложенная плащ-палатка и прозрачный дождевик для Жоры.
– Давайте в лодку, – подгребая поближе к берегу, сказал Фима. – Хорошо, что пришли пораньше… Обязательно будет гроза – придётся пережидать на берегу, потеряем время…
Жора с сомнением бросил взгляд на сгущавшиеся впереди тучи, на серую, уходящую к самому горизонту гладь воды – озеро было в самом деле, как речка… «Все кругом сумасшедшие… – подумал он. – И я не лучше. Двум взрослым людям… плыть в надувной лодке чёрт-те куда! На ночь глядя… в грозу!» – а вслух только сказал – устало и вдруг почувствовав себя дураком:
– Стоит ли?.. Она там… плавает и, кажется, никуда не собирается…
– Ха!! – едко проговорил Фима с грустной ухмылкой, и снова берясь за вёсла. – Вам хорошо… Вы всё ещё думаете, что все люди одинаковые… Ну, что ж! Скоро увидите!..
Двумя взмахами вёсел он подогнал лодку к берегу, так что мыс её уткнулся в песок и следователь мог запрыгнуть.
Жора уже знал, что не все люди одинаковые, но Фиме отвечать не стал.
– Прыгайте! Я гарантирую, что она будет там раньше нас!
Разбежавшись, Жора оттолкнул лодку, упёрся коленями и руками в туго надутый борт и в следующее мгновение попробовал осторожно опустить сначала одну, а потом другую ногу в неверное, заколебавшееся под ним дно лодки и неловко застыл на корточках.
Брезент под ним ходил ходуном.
– На подушку садитесь!
Жора плюхнулся на резиновую надувную подушку всем своим весом и подпрыгнул на ней, как на батуте, но в следующее мгновение сидел уже устойчиво и удобно. Лодка выбралась из камыша, и ритмичными взмахами вёсел её понесло вперёд.
– Вот вам термос и бутерброды! Выпейте и придите в себя… – услышал вдруг погрузившийся в забытьё Жора и только сейчас почувствовал, как вымотался за этот день.
– А когда… мы должны вернуться? – спросил он, отвинчивая крышку термоса. – Чтобы ваши не волновались?
– Да хоть когда! Нас с Сашкой оставляют в лагере одних. А все… – Фима отпустил весло, помогая Жоре вытащить из авоськи мешочек с бутербродами. – Заменят сейчас колесо и на нашей машине в город за Сашкиной бабушкой поедут… Живулькин же здесь… не страшно! – добавил он вдруг с улыбкой, прочитав вполне понятное удивление в глазах следователя.
«Ну, да, не страшно! Живулькин лежит там в полном отрубе, а кругом – лес и какие-то иностранцы. Одни студенты да женщины с детьми… Смелый народ…» – почему-то подумал Жора, но сразу же перестал волноваться, посмотрев на спокойно улыбающегося Фиму. Вдруг сам успокоился и почему-то представил мысленно приятный образ – школьницу в цветастом купальнике, похожую на египетскую статуэтку…
– Там с сыром и с колбасой… Сашка мне столько всегда наделает на рыбалку! Приходится съедать с трудом! Я ведь сказал ей, что на рыбалку еду…
«Сашка!» – потряс головой следователь, но яркий пленительный образ не исчез. Шурочка не выходила у него из головы. «Какое-то наваждение!» – подумал Жора.
– Вы их все ешьте! Потом не до них будет! Сейчас дождь пойдёт! – добавил Фима, посмотрев на небо. – А я не могу… – вздохнул он. – Сашка меня так накормила…
И опять Жора как-то с лёгкой тревогой подумал, что странный образ ребёнка не выходит из головы. Он навязчиво стоял перед глазами – приятный и какой-то совсем живой. Словно Шурочка была рядом…
– А перед грозой так и тянет в сон… – зевнул Фима.
Кофе пришёлся кстати – горячий, крепкий, да разве что слишком сладкий, Жора очень сладкого не любил – и через минуту он с удовольствием ощутил, как быстро и легко скользит по воде лодка, как сразу вдруг прояснилось в голове, как расслабилось отдохнувшее, набравшееся сил тело, готовое опять к прыжку. В нём снова проснулся азарт охотника, он почувствовал себя следопытом, и… защитником, готовым идти по следу, и интуиция говорила, что след – верный, что идут они сейчас не зря. «Верняк! – думал он про себя – и какое-то сладостное неведомое прежде ему чувство наполнило всё тело. – Верняк! Взять хотя бы вчерашний сон!.. Девочка на столе!»
И тут Жора вздрогнул, вздрогнул и содрогнулся – сон был в руку и совсем о другом! Господи! Не дай больше такого сна… Нет, не дай!
А дело-то было вот в чём! Когда Жора приехал двухчасовым в Кобыльник – забитым до отказа людьми санаторным автобусом (на поездку домой, в общежитие, времени не хватало) – он сходил в столовку, искупался на санаторном пляже, а потом сразу же отправился на почту на всякий случай позвонить шефу… Тот был дома. На удивление, пропустил рыбалку… И то, что с трудом расслышал Жора в трещащую, дребезжащую и то и дело прерывающую знакомый голос трубку междугороднего автомата, заставило сердце ёкнуть… И ёкнуть дважды! Завтра – похороны Редько. Вчера, на двенадцатом километре, в девятом часу вечера… и, по прикидкам Жоры, сразу после того, как они расстались у поворота в Идалину, Редько врезал на полной скорости в мчавшегося навстречу грузовика. Случилось всё на развилке у поворота в город. До больницы не довезли, хотя, травм, на удивление не было никаких! Кровоизлияние в мозг – разорвалась старая, не дававшая о себе знать гематома… А согласно другой новости, полученной из надёжных, совершенно достоверных источников, интуристы – американский родственничек Константика и шофёр – не покидали столицу: почти сутки не выходили из номера в гостинице «Москва» после изрядно затянувшегося банкета. Но эта, вторая, новость совсем не занимала Жору, всё было ему тут понятно, а вот Редько! С какими мыслями он тогда провожал скрывшийся за тёмной лентой шоссе мотоцикл!
«Выходит, я накликал ему смерть? Нет! Такого никто не может, даже если очень бы захотел! Никто над смертью не властен! Ни один человек…» – твердил себе Жора, но вспомнилась почему-то наглая ухмылка Пепки и спокойные слова «фиолетового»: «А собственно, он уже и не человек! Совершенно другая физиология…» И на душе у следователя стало паршиво-препаршиво…
Дымка, что затянула небо после полудня, на глазах превращалась в серые облака. Туча, зависшая над левым берегом, была пока неподвижна, ветра не было – казалось, туча застыла над дремавшими Шабанами. Но вот позади остались последние деревенские хаты, покосившиеся коровники, одинокая банька на отшибе, чья-то привязанная в камыше лодка. Вдоль берега потянулись два еле дышащих, побеленных кое-как сарая, похожие на бараки, – колхозная ферма… Озеро повернуло… Туча разбухла и потемнела, и поползла навстречу…
Озеро сузилось. Теперь уже правый берег, гораздо более крутой и высокий, чем левый, заросший дремучим лесом, высился над их одинокой лодкой и над свинцовой водой. Они плыли, словно в каньоне. Там где-то, в самом верху, застыли старые липы над развалинами усадьбы, над камнями старой каплицы, в которой когда-то похоронили того самого пана, чьи кости выкинули из гроба немцы в четырнадцатом году, чтобы взять себе золотой гроб… Вот прямо так шуганули их в озеро с крутого обрыва…
Да! Не знал и не ведал Жора, что там, под ним, на дне лежат чьи-то кости, обглоданные сомами… Но чувствовал какую-то жуть всеми фибрами души, и мерещилось ему, что на глубине, в иле, ворочаются отъевшиеся мертвечиной рыбины, жирные, как поросята, живущие с тех самых времён первой войны и ждущие, ждущие, чем бы поживиться… Фантазии! Всё это были, конечно, его фантазии. Он только интуитивно вдруг ощутил, как тогда, на шоссе, под косыми лучами солнца, прощаясь с Редько – ощутил неприрученный дух природы, которая вольна была и сейчас раскрыть серую пасть воды и запросто проглотить их лодку вместе с ними. И опять померещились ему могилы, заброшенные могилы под деревьями, там, где смотрели живыми тенями глазницы леса. И вспомнился ему гоголевский Днепр и не менее фантастический – Днепр реальный, по которому плыл он однажды из Киева в город Канев – с дубравами на берегах-утёсах и мыслями о поднимающихся из могил гоголевских мертвецах…
Мертвецкого вида птица, похожая на птеродактиля, с резким криком вылетела из чащи и, спланировав над головой у Жоры, села на ветку сухого дерева, свесившегося к воде. Не знал Жора, что это была всего лишь «Ardea cineria vulgaris» – серая цапля обыкновенная… Не знал, иначе б не ёкнуло сердце и не вздумал бы он попросить вёсла у порядком уже уставшего спутника, чтобы отвлечься от суеверных мыслей и немножко погрести самому. Но грести пришлось далеко не немножко, путь был долог, озеро поворачивало то и дело – и влево и вправо, и конца не было этим кручёным поворотам. Через двадцать минут ладони у Жоры горели… Да! Пришлось очень даже не легко, хорошо, спасли разговоры. Обоих потянуло поговорить: мрачный «каньон» и Фиму, как видно, настроил на мистический лад, напомнил о старине – почему-то теперь оба вспомнили Ленинград. И оказалось: бабушки у обоих жили в этом городе, и совсем близко от Витебского вокзала. Странно как выходило – и у Фимы была ленинградская бабушка, и у Жоры! Выходило ещё, что они в какой-то степени земляки! И того, и другого в детстве – напомнил, видно, напомнил нависший стеною берег – обоих водили гулять в какой-то маленький парк, то ли скверик – зелёный оазис в глухих петербургских стенах – он и зажат-то был стенами соседних домов, и назывался-то как-то странно: что-то вроде Таврического сада, но хоть Жора с Фимою понимали: «не мог он так называться» – вылетело у обоих из головы его название, а крутилось всё: «таврический садик». Так что оба могли гулять под одними деревьями и не знать, что встретятся через много лет – Жора-то был, как выяснилось, всего пятью годами старше!
А Шурочка по-прежнему не выходила из головы. И Жоре было от этого хорошо.
«Сколько же ей лет? – хотел было спросить у Фимы, но не решался. – Двенадцать, не больше…»
Озеро повернуло на запад. Туча начала приближаться, в лицо подул резкий ветер, заморосил дождь. Пришлось накинуть дождевики.
Мокрые пальцы начали замерзать – онемели они уже давно. Грести стало совсем трудно из-за встречного ветра.
Первые молнии чиркнули впереди, чёрный край тучи был уже почти над ними, и Жора повернул к мысу.
– В лесу переждём! – прокричал он Фиме и что было силы налёг на вёсла.
На берегу полило как из ведра. Пришлось пережидать под лодкой на сухом пятачке, где у ёлки было относительное затишье и почти не капало. Но пока переждали они в темноте, прижимаясь к стволу, всю эту чудовищную грозу с молниями и громом, с ревущей и низвергавшейся в озеро под вой ветра стеной воды, часы показывали начало десятого.
Они выбрались из укрытия.
Уже не лило как из ведра, посветлело, и ветер стих, но зарядил упорный, с пузырями на лужах, дождь, который в здешних краях может идти и час, и другой, и сутки, и неделю подряд без перерыва на обед и ужин. В таких случаях Шурочкина бабушка готовила, держа зонтик над примусом, а все прочие обитатели лагеря Василия Исаича и профессора не без радости доставали припрятанные в палатках книги и, устраиваясь в шезлонгах под натянутыми полиэтиленовыми тентами, вздыхали с некоторым облегчением: «Ну, вот! Наконец-то есть время и отдохнуть…» Жора с Фимой никакого облегчения не испытали: было двадцать минут десятого, когда они сели в лодку, и неизвестно, сколько ещё оставалось плыть! Жора, как бешеный, схватил вёсла. Фонарик в кармане мешал грести, пришлось положить его в карман рубашки. Срезая углы, насколько это возможно, усилием рекордсмена преодолел три следующих изгиба. Оба берега стали теперь болотистыми и пологими, с обеих сторон тянулась заросшая низким кустарником и залитая водой низина, но дальше – на горизонте опять виднелась возвышенность… До этих холмов Жоре было не доплыть – из лопнувших волдырей на обеих ладонях сочилась сукровица.
Вёсла взял Фима. Холмы оказались безлесыми и распаханными, на них жили. Проплыли мимо несколько хат со спускавшимися к берегу огородами и баньками у самой воды.
На другом берегу оставался позади «заможный» хутор, построенный на немецкий лад – с усадьбою и сараем из дикого камня, под красными, не тронутыми временем черепичными крышами, с аллеей старинных деревьев и рухнувшей ветряной мельницей. Полоса закатного неба выглянула из туч и слабо осветила черепицу.
На часах было без четверти десять, когда за следующим поворотом открылся лес. Он темнел с обеих сторон, но на левом берегу тянулся до самого горизонта, а справа, совсем уже близко, загибаясь вперёд, кончался, и там, у очередной заводи, где должен был быть либо конец озера, либо следующий его изгиб, – под круглыми шапками старых ив темнела хата. За хатой высился то ли курган, то ли гора с лысой пологой вершиной, преграждая окончательно путь воде: в лучшем случае речка или ручей могли вытекать оттуда!
«Приехали! – подумал Жора. – Вот она, как на ладони, – заводь в тёмной кайме камыша, и перерыва в этой кайме нет!»
Но сколько минули они таких заводей и таких камышей! Подплыл – а за поворотом начало следующего изгиба!
Так могло оказаться и здесь, но было уже десять без десяти – у Жоры были кровавые мозоли на ладонях, а у Фимы не было сил! Он напряг их, как только мог, и через пять минут лодка пристала к берегу.
Это был берег! И у берега оказался причал – три крепких ещё, хорошо просмоленных, полузатопленных бревна. Хата стояла у самой воды. Забросили её год или два назад, не больше, и целая ещё крыша из потемневшей соломы, и бревенчатые, не покосившиеся ещё стены, и забитые досками окна с уцелевшими рамами, а главное, – уединённость места – давали надежду, что год или два хутор здесь простоит. Из-под досок кое-где пламенели от заката стёкла. Большой замок на дверях, как водится в здешних местах, мог висеть лишь для вида. Так это или нет, выяснить не пришлось – одно из окон зияло. Как видно, его намеренно не забивали досками, чтобы все любопытствующие вандалы не крушили дом, а беспрепятственно при желании могли попасть внутрь.
– Постой-ка здесь у окна! – сказал Жора спутнику, когда они, обогнув дом по осыпавшемуся под ногами бережку, вернулись назад к зиявшему в стене проёму (за хатой оказался двор, превратившийся давно в луг, а за лугом – сад, тоже заросший травой по пояс, и в конце его темнел сарай, к которому подступал лес). – Обожди минуту, а я посмотрю внутри… – Он опёрся руками на низенький некрашеный подоконник и, подтянувшись, без всякого труда перепрыгнул на пыльный, некрашеный же пол хаты.
Доски были ещё совершенно целы, особенно же хорош был крепкий, целиком сохранившийся потолок из дубовых балок, которые добрые хозяева натирают воском, знал Жора в здешних краях такие потолки… Даже запах воска почудился ему почему-то… Но чудовищная разруха, грязь, запах пыли и паутина – следы безобразного запустения – заставили вдруг возмутиться бессовестным иностранцем. «Мерзавец! – подумал он неожиданно для себя. – Назначить свидание этой девочке… здесь! Здесь!» На замусоренном полу, по углам, затянутым паутиной, среди хлама, который берётся неизвестно откуда, когда хозяева переезжают, а видно было, что отсюда уехали и многое увезли, – чего только не валялось на грязном полу! Разбросанные игральные карты и поздравительные открытки, которые хранят долгие годы! Обрывки газет и разорванные детские книжки… У печки Жора приметил резиновый разноцветный мячик, чёрную закопченную кочергу, щипцы для углей и огромную электрическую батарею – не видел Жора в жизни своей таких батарей и почему-то подумал – читал: были они, кажется, и в Вавилоне! Но вспомнил: «А электричества-то тут нет! И как они только тут жили, в такой глуши!» Но жили, видимо, совсем неплохо и не бедно, отнюдь, потому как то, что осталось из невывезенной мебели (а вывезли всё, кроме старинного сундука и кровати), выглядело даже роскошно, если бы не было таким удручающе ветхим. Огромных размеров дубовый сундук хорошей работы и с искусной резьбой, окованный каким-то цветным металлом, но не золотом же, конечно, – в конце концов, в полутьме было не разглядеть – наверное, был довольно ценным… Сундук был выволочен на середину хаты, тяжёлая крышка – откинута. Видимо, такие, как Жора, хорошенько тут поработали: на дне было пусто, лишь рассыпанные семена – то ли семечки дыни, то ли – огурцов, с трудом рассмотрел Жора на тёмных досках и хотел несколько взять на память… А вдруг это – старинный сорт, сохранявшийся поколениями хозяев? И сеяли его если не в Великом Княжестве Литовском, то уж точно – «за польским часом»? Семечки валялись и на полу… Он тронул одно, другое – воздушные, пустые скорлупки! Он дунул на них – они полетели – все вылущенные, ни одного целого семечка: старательно потрудились мыши!.. Ничто, ничто не сохранится от прошлого… Не выживет, не возродится! Всё прах, всё тлен, всё мерзость и запустение… Всё вывезли и разорили вандалы, оставив лишь старый хлам, как те засаленные онучи! Кровать стояла напротив печки, и свет из запыленного окна падал на груду скомканных одеял… Здесь мог кто-то жить недавно – какой-нибудь нищий бродяга. И даже сейчас… Лежать. Подняться минуту назад…
И глядя на это засаленное тряпьё, брошенное здесь, на этой дубовой кровати в стиле какого-нибудь Людовика, он снова вдруг возмутился наглостью иностранца. Каков подлец! И заново пришла мысль об убийстве… Как просто здесь спрятать труп! Задушил – и концы в воду, никакая собака не найдёт! В самом буквальном смысле! Чего проще? Выбросить труп за окошко на корм сомам!
Пискнуло что-то в углу и зашуршало…И представился хитрый оскал старухи, розовая беззубая челюсть, сморщенное лицо – трясущийся подбородок той, что только что подняла свои кости с замызганных мерзких онуч – и смотрит, смотрит сюда, высовываясь из-за печки и пряча за спиной косу…
В окне полыхнула молния, осветила пол и кровать, и угол за печкой, где было пусто.
Он поднял у себя из-под ног пожелтевшую поздравительную открытку и поднёс к свету.
«Дорогая бабушка!» – было выведено детским почерком без клякс и помарок. Бабушку поздравляли с Новым, 1968-м годом…
Громыхнуло над крышей, за окном как-то сразу вдруг потемнело, но он сумел ещё разобрать обратный адрес – Швенчёненляй… и фамилию бабушки – Литвинович, и буквы окончательно слились в темноте. Дождь забарабанил по крыше над окном. Началась гроза, и вдруг сквозь гудящий рокот и шум набиравшего силу ливня снаружи раздался душераздирающий крик Фимы.
– Летят! Летят!.. – заорал он, уже появляясь в проёме окна – словно летучая мышь в своей огромной распахнутой плащ-палатке. Неуклюже перекинул худые ноги через подоконник, плюхнулся на пол хаты, тотчас поднялся, машинально отряхнув джинсы, и в поисках чего-то заметался из угла в угол. – Спрятаться! Куда бы спрятаться? – повторял он испуганно и нечленораздельно.
Как выяснилось из путаных объяснений Фимы, то, что увидел он вдалеке над озером, показалось ему сперва не чем иным, как двумя летающими тарелками. Когда светящиеся шары, сойдясь над озером, взяли курс на восток, очутились над лесом и вновь понеслись навстречу Фиме, он подумал, что это парашютисты. А когда те совсем приблизились и повисли над верхушками сосен, Фима, наконец, рассмотрел, что это всего-навсего два воздушных шара, причём шары были жёлтые и ярко освещённые изнутри, а в корзинах торчало по человеку. Шары пошли на снижение, слегка обогнув хату, словно собрались уже приземлиться там, между ней и сараем на заросшем высокой травой дворе, но, повернув обратно, повисли, и тут, наконец, Фима узнал красную куртку Сашки и фиолетовый свитер второго – в другой корзине… Вдруг неожиданно, метрах в трёх-четырёх над лесом, уже хорошо различимые, и корзины и люди начали исчезать… опускаться за невидимую преграду – словно бы заезжать за невидимую черту, ниже которой всё делалось совершенно невидимым, точно проваливалось в какой-то иной мир. Сперва отрезало низы корзин, потом он увидел Сашку и бородатого только по грудь, как даму с валетом на обычных картах, а ниже груди было небо… и каждый зачем-то тянул одну руку вверх к золотому шару… А через мгновение он видел лишь эти две протянутые руки и два парашютных купола, сиявшие до боли в глазах… И, наконец, – две жёлтые полусферы, всё уменьшаясь и утончаясь, – стали исчезать над чертой, как солнце, садясь, тает за горизонтом… А когда оставались лишь два узенькие полумесяца, Фима бросился в дом, чтобы спрятаться, наконец, поскорее… Только прятаться – от кого? – не мог понять Жора, и на настойчивые вопросы наконец отвечали, что бояться следует какого-то ненормального планериста… Жору схватили за руку так сильно, что, охваченный заразительной, как зевота, паникой, и он сам заметался по хате.
– Туда-туда! – показал он под потолок, останавливая Фиму у печки и чуть было не налетев на ту самую огромную батарею размером с портативный магнитофон. С налёту Фима споткнулся о кочергу и стал падать на спину. Пришлось его, отчаянно мотнувшего головой, подхватить за плечи.
– Ах нет, нет! Н-е-е-т!.. – закричал Фима, и Георгий Сергеич тоже посмотрел выше – туда, куда с содроганием указывал пальцем спутник, – на высвеченные вспышкой молнии мерзкие скомканные тулупы из драной овчины, вывернутые шерстью наружу. Они валялись на печке и были подвешены к стене… словно висельники, и Жора тоже решил, что на печь он ни за что не полезет.
Оба метнулись дальше, за печку и через дверной проём попали, как видно, в сени, в совершенную темноту, где пахло плесенью и над головой ощущалась гулкая, казалось, в небо уходившая высота.
Когда глаза привыкли, следователь понял, что и в самом деле потолка не было, а лишь высокий купол двускатной крыши, – видно, хата стояла к озеру торцом – и сквозь щели сверху сочился свет. И вдруг подался под ногами пол, чуть-чуть заходили под каблуком заскрипевшие доски, и гулко отозвалась на стук скрывавшаяся пустота.
– Погреб! – прошептал Жора. – Под нами – погреб! Ищи кольцо! – Он сел на пол и принялся шарить ладонью по пыльным, шершавым доскам, и когда отыскал железное литое кольцо и приподнял крышку, – затхлостью дохнула на него тёплая чернота погреба, и почувствовался холодок в спине.
Первым он пропустил Фиму, и лестница благополучно выдержала. Георгий Сергеевич держал крышку, пока спутник спустился. Над собой – приходилось держать самому. Ощущая рукой её пудовую тяжесть, он взялся левой за верхнюю планку лестницы и почувствовал, как старое дерево затрещало… и тогда, резко пригнув голову, вжав её в плечи, отпустил обе руки и попробовал как можно скорей опуститься подальше вниз, но под грохот хлопнувшей сверху крышки погреба ощутил, как проламывается ступенька, нога его летит в пустоту, а сам он летит на Фиму.
– А-а-ааа! – раздался в ушах вопль товарища, треск ломавшихся под ними досок пола, на который они угодили всей своей тяжестью, и тот не выдержал.
Он пробовал оттолкнуть от дыры спину спутника в мокрой, выскальзывавшей плащ-палатке, хватаясь другой рукой за надлом доски, но та, трухлявая до невозможности, обламывалась, как лёд в полынье.
«Ловушка» была с двойным дном! Жора чувствовал, что летит!.. Только, куда? В бездну, в такой глубины колодец, на дно которого живыми не приземлишься… Боль. Удар. Адское пульсирующее солнце пронзило тело. Чёрная воющая дыра затягивала в себя Жору, вместе с солнцем падавшего в эту тьму. Мир сделался чёрным, время остановилось, и он увидел себя летящим по этому чёрному и бесконечному, ведущему вниз туннелю…
Когда Жора пришёл в себя, он не смог ещё открыть глаз, но понял, что лежит на земле. Земля, а точней, песок под его ладонью, был сырой и холодный. «Может быть, это могила? Может, я заживо похоронен? Может, это уже…тот свет?» – мелькнуло в голове всё сразу. Но разбитая ладонь горела. Он смог ею пошевелить. Другая рука и грудь оказались придавлены какой-то тяжестью. Жора вытянул свободную руку и нащупал сантиметрах в тридцати от себя каменную кладку стены. Попробовал сбросить то, что давило грудь, и ощутил под пальцами мягкое, скользкое и живое… Не сумев побороть отвращения, он содрогнулся, и тогда кто-то жалобно застонал ему прямо в ухо. Это был стон Фимы! Ну, конечно, же, это была его рука, завёрнутая в мокрую прорезиненную плащ-палатку, а на груди лежала Фимина голова, и сам он был жив!
Удалось наконец открыть глаза, но можно было этого не делать! Вокруг была полная, непроницаемая темнота. Однако, не абсолютное безмолвие…
Пораскинув мозгами, Георгий Сергеевич заключил, что всё ещё не так уж плохо, что оба они угодили в какое-то подземелье, находящееся под полом погреба. Ветхие доски не выдержали и проломились, а при падении Фима угодил на него, что явилось для Фимы спасительным обстоятельством! Для самого же Жоры спасительным обстоятельством оказалось то, что, как выяснилось прошлой ночью, человеком он уже не был и законы человеческой физиологии на него не распространялись… При иных обстоятельствах падение закончилось бы совсем иначе, на дне погреба были похоронены бы два трупа, а статистика насчитала бы ещё двоих без вести пропавших: на доске «Их разыскивает милиция» появились бы два новеньких портрета. Жора даже мысленно усмехнулся и попробовал перевернуть Фиму. И вот радость! И собственные кости были целы, и у того, к счастью, не оказалось серьёзных ушибов! Удалось усадить, прислонив его к стенке, где можно было стать в полный рост, а сам Жора отправился на разведку по узкому подземному ходу, в который они, собственно, так неожиданно и угодили. Следователь даже решил не зажигать имевшийся в кармане фонарик.
Двигаться можно было только ползком, и только в одну сторону. Вспомнив, что погреб был примерно посреди сеней, и прикинув, как и куда они должны были упасть, Жора решил, что ход должен вывести его не к озеру, а во двор с другой стороны дома, то есть на восток.
Скоро впереди забрезжил свет. Жора увидел вверху, метрах в двух над своей головой вертикальную щель неплотно прикрытой двери.
К двери вели различимые в полутьме ступеньки. Когда он толкнул открывшуюся наружу дверь и та скрипнула и распахнулась, красный вечерний свет заставил его зажмуриться. Сердце забилось, он сделал глубокий вдох, он вдохнул чем-то резким пахнущий воздух и замер с открытым ртом… Сперва он подумал, что провёл в беспамятстве целые сутки, и это вечер следующего дня, потому что в розово-алом небе не было сейчас ни облачка и от дождя тем более не осталось никакого следа… А потом… потом решил, что это, может быть, летаргия? И что прошло десять или двадцать лет! Не было заросшего сада и сухих яблонь, и старой груши с мёртвыми сучьями, которую они заметили сразу, обследовав двор с другой стороны дома. И не было некошеной травы по пояс… Трава была подстрижена очень коротко. Это был ухоженный роскошный парк, и на зелёной лужайке с живописно рассаженными деревьями – на всём этом огромном газоне, раскинувшемся до самого леса – пестрели поляны цветов. Они пестрели яркими разноцветными пятнами, словно мазки на абстрактной картине – не клумбы, не грядки, а неправильной – вольной формы цветочные острова. И там, за этими островами, у старых сосен стоял дом из дикого камня, увитый плющом и плетьми виноградника… и за домом на острые верхушки ёлок далёкого леса ложилось огромное красное вечернее солнце. И тут-то наконец Жора понял, что это всё-таки сон, потому что даже через тысячу лет солнце, садящееся на востоке, может быть только сном! Но ему хотелось смотреть и смотреть этот сон и не просыпаться…
Вдруг сзади раздался грохот и страшный треск, и Жора невольно оглянулся на эти звуки. И вновь замер – сзади была полная темнота. Он снова шагнул за дверь и тут понял, что выходит из погреба – это была не хата! Дом был дальше, а тут – просто выход из подземного погребка под маленькой деревянной крышей, а там, на берегу, вблизи дома, помяв живописные кусты с белыми шапками цветов, разбился планер, видимо, потерпел крушение, и голова Пепки вынырнула из-под обломков. Потом появился он сам – на корточках, в рваном комбинезоне цвета грязи. Рукав рубашки висел клочьями…
Пепка встал во весь рост, отряхнул грязь с колен и замер, прислушиваясь к чему-то. Жоре тоже послышался какой-то далёкий гул, топот – словно бежало стадо.
Также прислушиваясь, Пепка повернулся к Жоре спиной и испуганно, как показалось следователю, глядел на озеро, вид у него стал какой-то жалкий и виноватый. А там, на другом берегу, творилось что-то совсем непонятное. Тучами летели птицы; как потревоженный пчелиный рой, вспархивали всё новые с ближайших деревьев, а через бор шагал лохматый невиданный великан – с головою выше сосен, и сосны качались, как камышинки, распугивая птиц и зверей. На луг из леса выбежали два оленя. Они метнулись к озеру, у воды остановились и тотчас же понеслись вдоль берега, огибая лес. И сразу же за оленями повалили из лесу звери: рыжие лисицы и зайцы, юркие белочки-легкохвостки, дикие кабаны с выводком поросят… Вышел из леса и великан, переваливаясь на ходульных ногах и делаясь меньше ростом с каждым шагом, он нёс в руках две какие-то палки, сбитые планочками друг с дружкой. Озеро он перешёл запросто, на середине оно было ему по пояс, и палки он нёс под мышкой, как ракетки от бадминтона, но приблизившись совсем к берегу, ростом стал с малого карлика, вода была ему по шейку, и то, что держал он обеими руками над водой, оказалось обыкновенной лестницей – даже огромной для такого коротышки.
Туча стрекоз вылетела из камышей, откуда-то поднялись бабочки и мотыльки, в воздухе загудели облака москитов. Пепка шарахнулся от насекомых, закрываясь ладонью. Карлик прошествовал с лестницей мимо шофёра. Тот бросился за ним, и оба скрылись из поля зрения Жоры за углом хаты.
Жора припустил к берегу, добежал до зелёного островка каких-то высоких, наполовину загубленных планером кустов с белыми шапками соцветий, кажется, это были гортензии, и, спрятавшись за уцелевшими стеблями, принялся наблюдать дальше.
Карлик, пыхтя, едва впёр лестницу в дверь хаты и сам вслед за ней скрылся в доме. Пепка не отставал от него ни на шаг, а потом громко, слишком громко, как показалось Жоре, хлопнул дверью: так, что даже эхо откликнулось со всех сторон. Жора тоже вздрогнул и оглянулся… И увидал: за следующим островком каких-то великолепных белых цветов виднелись на валунах двое. Цветы были потрясающе красивые, как на картине, и людей, что сидели на камнях, по вечернему освещало солнце. Это была Шурочка с «фиолетовым» иностранцем…
Придя в себя, Жора припустил к «островку», даже не думая, зачем это делает, и бросился в гущу лилий. Скорей, им владела страсть – страсть и ревность. Он принялся раздвигать стебли, с треском ломая их, а потом… стал яростно пробираться вперёд, как великан сквозь сосны, – теперь уже потому что запах стал одуряющим, его затошнило, и скорее, скорей надо было выбраться отсюда – пока жив, пока не потерял сознание…
Он перевёл дух, лишь когда голова Шурочки показалась в цветах у самого плеча иностранца и впереди открылось зелёное пространство и лес вдали. Он вдохнул свежий воздух… И там, над лесом, где виден был самый краешек солнца, за острыми верхушками ёлок появилась ещё одна – ярко-рыжая великанская голова!
– Лесун! Лесун! – захлопала в ладони Шурочка. – Ведь это же лесовик?!
Иностранец молча кивнул, всматриваясь в великана. Тот шагал через лес – головою выше деревьев – и ростом не уменьшался.
– Непорядок чует! – сказал озабоченно иностранец и оглянулся.
Шурочка тоже повернула голову, и двое они одновременно встретились глазами с Жорой. Иностранец только вежливо усмехнулся, без всякого, впрочем, удивления, и вздохнул.
– Ну вот… – обратился он к спутнице, помогая ей подняться с камня. – Даже здесь не дадут поговорить! Пойдём…
Шурочка неохотно поднялась с тёплого, залитого солнцем валуна, взъерошила волосы, стряхивая с них воду, и Жора долго смотрел им вслед… Смотрел, как они идут по траве к дому из дикого камня, увитому виноградником, как две знакомые фигуры делаются всё меньше и меньше и не оглядываются, занятые разговором, и как они входят в дом…
Солнце совсем зашло, и какая-то тень нависла над Жорой. Это был долговязый великан – наклонив голову, со своего десятиметрового роста он смотрел на Жору и протягивал к Жоре руку, грозя почему-то пальцем.
«Непорядок… – вдруг вспомнил Жора и бросился наутёк. – Непорядка быть не должно, – зачем-то добавил он, проламываясь сквозь заросли, и ему стало жалко лилий. – Экий же я вандал!»
Выскочив на поляну, он увидел бегущего навстречу Пепку. Тот издали махал руками и орал, указывая Жоре на дверь земляного погребка, такого же, как на хуторе у Константика:
– Туда! Туда! Лестницу вам поставили – и адью! Этот ваш второй оклемался… Скорей! – закричал он громче, видя настигающего их великана. – Экий же вы в самом деле… Не жалко цветы ломать? Я хоть не по своей воле…
Но Жора уже не слышал, что там ещё кричал Пепка.
Дверь погреба поддалась и тут же за ним закрылась – она распахивалась в обе стороны, как в метро…
Когда он добрался до Фимы, с тем было почти всё в порядке – только что пришёл в себя.
– Давай-давай, – поторопил Жора. – Я там лестницу заменил…
– А эти?.. – спросонок припомнил Фима, пытаясь при помощи следователя приподняться на локтях.
– Да чёрт их знает, куда они подевались! И вовсе они меня не интересуют теперь! Были здесь! И она. С ней всё в порядке… Да куда нам до них! Пошли! Назад бы теперь доплыть…
Чего стоило Жоре, подталкивая Фиму сзади и почти неся его на себе, бережно переместить по лестнице, вывести в непроглядную ночь и усадить в лодку! И чего стоило ему – одному, в дождь, без отдыха в темноте выдержать обратный путь! Правда, ветер дул в спину и гнал что есть силы лодку на попутных волнах. Так что, может быть, обошлось на сей раз и без недавно приобретённых нечеловеческих способностей, как знать! Но, тем не менее, к часу ночи они были в лагере у спящих палаток.
Дождь громко барабанил по брезенту и по полиэтилену.
Они шли от навеса к навесу, слышимости не было никакой – хоть кричи, хоть стучи, хоть зарежь кого у соседа под боком.
Оба двинулись к палатке Шурочки.
– Нет… – прошептал Жора, осветив фонариком аккуратно сложенный спальник. Под ложечкой нехорошо сжалось – не от страха же?..
– Доберётся!.. – Фима даже не заглянул внутрь, и Жору покоробило от этого равнодушия, может быть, показного, он тотчас же передумал здесь ночевать, как договорились. Двенадцать километров лесной дороги – два часа быстрым ходом. А может, он просто себя уговаривал. Надеялся: встретит её по дороге…
– Вот увидите, никуда не денется!.. Да куда вам в ночь по дождю! Две палатки свободные! Не заблудится!
И в этом Жора засомневался сейчас. И в этом, и вообще – в людях. Чего они все стоят? «А впрочем, – подумал он, глядя на Фиму, неуклюжего, съёженного, в дурацкой накидке, которого стало почему-то жаль. – Каждый получает своё. Да… получит каждый, чего заслужил…» И ещё подумал: «Кажется, он в неё не влюблён! Нет…»
– Как миленькая, к утру вернётся!
«Должна, – неуверенно подумал Жора. – Иначе… Иначе, как же я буду жить?» И понял: жить без неё не сможет…Он должен видеть её всегда, каждый день, каждую минуту… И иначе – уже не сможет жить!
Не мог он жить и как Фима с Додиком – не получая ответов на поставленные вопросы, не отвечая на них! Не мог, а главное, не хотел… и он чувствовал, что когда-нибудь… когда-нибудь она не вернётся. Однажды обязательно так случится – подсказывало ему что-то внутри, сердце подсказывало – но только не на этот раз! Пусть ещё не сейчас, он должен получить ответ, он её дождётся!..
С внезапным решением Жоры не ночевать, а идти тотчас в Поставы Фима смирился быстро, с таким же флегматичным равнодушием, как и с отсутствием Шурочки, он ведь едва стоял на ногах.
Единственная проблема заключалась в том, как вернуть плащ, и Жора пообещал сделать это непременно на днях, хотя знал, что вернёт завтра. Хоронить Редько по желанию матери собирались здесь, в Шабанах, на деревенском кладбище.
Глава 10. О пользе посещения буддийских монастырей, или «ненормальный ребёнок»
В том, что «не все люди одинаковые» и что Шурочка была явно не обычным ребёнком, Жора убедился, но почему это было так, разумеется, знать не мог. В темноте, поднимаясь вверх по разбитой лесной дороге, под вновь заморосившим дождём, он решил выспросить всё у неё самой – взобраться на самый холм и там, на козырьке дота над Долгим озером, откуда открывался обзор на всю округу, дождаться и расспросить. Разумеется, она могла и не отвечать на его вопросы, но это уже был вопрос совсем другого порядка, а вот не спросить и просто так уйти восвояси, Жора никак не мог…
Без сомнения, Шурочка была необыкновенным ребёнком. И даже выродком из рода человеческого, как в минуты гнева называла её в сердцах даже бабушка, потому что до смерти больно, когда родной ребёнок, для которого делаешь всё, что можешь, судит тебя, как сам господь бог… Да и сама, сама Мария Александровна была строга к себе, а вот какими такими судьбами вышло, что стала она женой партийного москвича, оставалось для неё загадкой, а точней, насмешкой судьбы. Из преданности, не в силах покинуть мужа, ездила она по «великим стройкам», а когда неоседлая жизнь кончилась и стали жить в Москве, не в силах была бросить теперь уже своих школьных детей – с молодости учительствуя, не представляла, как можно бросить свой первый класс, не доведя до четвёртого, и не позволяла себе заболеть даже на день. Поэтому, глядя на московских Шурочкиных учителей, которые пребывали на больничных листах чуть ли не каждый месяц и считали это в порядке вещей, начинала сама соглашаться, что мир катится куда-то не туда и хорошим это кончиться просто не может. Поэтому и проводила сейчас оставшуюся часть жизни в тихом домике у Червенского рынка, в доме, который строил её дед, скромный железнодорожный служащий, на ссуду акционерного общества ещё до революции. И куда прибыли по её настоянию вместе с мужем, когда Василий Исаич вышел на пенсию. Оставили московскую квартиру детям и переехали в Минск на Надежденскую в ветхий домик, – на эту захолустную улицу, куда прежде наведывались только в отпуск. И стала она, отнюдь ещё не пенсионерка, учительствовать в своей родной школе, где, веря в старые идеалы, сохранила до пенсии свою наивную веру, что в жизни всё так, как казалось в молодости…
Судьбу своей матери повторила и дочь, выбравшая строительную профессию отца. Уже была назначена свадьба, оставалась только последняя институтская практика в какой-то мощной строительной организации. И вот тут-то, внезапно бросив всё, она вышла замуж за своего руководителя… И стали ездить они по большим стройкам, только теперь уже по заграничным. По случайности, дочкин избранник тоже оказался из Белоруссии, откуда-то из-под Бобруйска. И случилось так, что и Василий Исаич, и новоиспечённый муж дочери, привыкшие разъезжать по стране и рыбаки-любители по натуре, с охотой приняли отдых с палатками на озёрах, к которому приохотили Марию Александровну её друзья… Так вот и получилось, что медовый месяц Шурочкины родители провели здесь! Потому-то и уродилась Шурочка этаким существом, что первые секунды жизни этого существа протекли именно в этом месте и ни в каком другом – где привиделся Жоре, словно во сне наяву, фонтан золотого света… И было это место истинной родиной Шурочки, хоть родилась она потом на диву переношенным ребёнком – чудом родилась и «в сорочке» – совсем в другом месте Земли: в далёком Алжире, куда уехали её родители зарабатывать деньги. И первым далёким воспоминанием было тёплое море, в котором ловились угри, высокие сосны, такие же, как в Крыму, и рыжики на иголках, особенно жирные и коренастые вблизи мусорных свалок… Потом был год учёбы в Московской школе, каникулы на лесном озере, а к началу второго класса родители завербовались в Монголию, где и произошло главное событие в жизни Шурочки, после чего бабушка поставила ультиматум: «Всех денег не заработаешь! Или возвращайтесь сами, или отдавайте мне ребёнка!» Случилось же вот что… На зимних каникулах учеников Шурочкиного класса повезли на экскурсию в дальний степной район. Фотографировались у юрт, катались на верблюде, а когда школьники парами вышли из очередного буддистского монастыря, похожего больше на деревянную пагоду с двумя разевающими пасти чудовищами у входа, Шурочки не досчитались. Не досчитались и во второй раз, обшарив весь монастырь вместе с перепуганными и искренне расстроенными служителями-монахами, которые только почтительно разводили руками и шептали успокаивающие молитвы. Через три дня отца Шурочки вызвали в посольство, куда явился какой-то представитель института Шамбалы, очень похожий на европейца, и в изысканных английских фразах выразил своё сочувствие, убедительнейше прося не тревожиться и заверив, что всё в скором времени выяснится и всё будет хорошо. Но через месяц и через два пропажа, которую скрыли от бабушки, не обнаруживалась, и только через семьдесят пять дней неизвестные тибетские ламы, преодолев семидесятидневный переход через каменистую пустыню, принесли девочку в каком-то чудовищном балдахине и почтительнейше вручили родителям. Длиннобородый красавец в красно-жёлтых одеждах и с удивительно спокойным лицом передал Шурочку из рук в руки, словно особу царского сана, величественно попрощавшись с ней на каком-то тарабарском языке и игнорируя родителей, словно тех и не существовало. После чего ребёнок молчал, продолжая учиться в школе, как и прежде, на пятёрки по письменным предметам, что отмело возникшие было сомнения в психическом здоровье. На все прочие вопросы кроме тех, что касались семидесятипятидневного отсутствия, девочка начала отвечать, и решено было отправить-таки ребёнка к бабушке, которая, узнав обо всём, и поставила ультиматум. Но, по боку московскую школу! Благо, на пенсию вышел Василий Исаич! Проявила Мария Александровна свой характер, не пожелала больше жить в Кузьминках в столичной квартире и привезла Шурочку на Надежденскую, в свою старую школу, классы и коридоры которой, пережившие на своём веку самые длинные из каникул сроком во всю войну, казалось, навеки впитали запах немецких конюшен. Но стены эти, давно нуждавшиеся в капитальном ремонте, содержали нечто неоценимое – дух старых учителей, той когорты интеллигентов, что сохранялись здесь единицами, как могикане, и облагораживали даже вновь приходящих, передавая им этот свой дух. И эти, уже приближавшиеся к пенсии, ещё достались на долю Шурочки каким-то чудом. И это-то спасло ребёнка! Неразговорчивая отличница, даже слегка пугавшая своими знаниями собственных наставников и в жизни не потратившая минуты свободного времени на приготовление уроков, делая их только на переменах, отказалась вдруг посещать классный час, ни слова не говоря, уходила с политинформаций. Всполошившаяся бабушка раздобыла справки и принялась убеждать молоденькую историчку, что слабый больной ребёнок не может высиживать в школе по восемь с лишним часов. Когда же, однако, выяснилось, что слабый больной ребёнок уходит с политинформаций и пионерских собраний на заседание кружка философии в десятый класс, убеждать историчку сделалось очень трудно. К тому же «новенькая», гнавшаяся за почасовой нагрузкой преподавательница, не входившая в когорту старых интеллигентов, взъелась на руководителя философского кружка и написала на него анонимку, в которой спрашивала, как может физик вести занятия по философии и какой такой философии обучает детей выгнанный из академии кандидат наук, не имеющий опыта педагогической работы с детьми и порочащий святое звание учителя аморальным поведением в семье. Последнее было написано наугад и попало не в точку, ибо не было у обвиняемого семьи и никто его ниоткуда не выгонял, и как-то вдруг оказался в наличии второй диплом – теперь уже кандидата философских наук, что некоторым образом объясняло принадлежность к философии… Физика в обиду не дали, историчка осталась с носом и с лютой ненавистью к Шурочке. Всё утихло благодаря тому, что кончилась последняя четверть, но что в будущем ждало ещё этого ребёнка, оставалось нелёгким вопросом и всерьёз беспокоило уже заглядывавшую вперёд бабушку.
Всего этого не знал, разумеется, Георгий Сергеевич, как не знал главного в этой истории, но узнать надеялся… Потому и шагал сейчас под проливным дождём, поднимаясь по разбитой дороге к доту. Надо было пойти по другой – верхней – мимо хутора, она была получше, но следователю было всё равно. Он давно уже не обращал внимания, что ноги вымокли по колено, и только сейчас, заскользив по глине и чувствуя, как проваливается по щиколотку, представил, что будет с его адидасовскими кроссовками.
Чёрная стена придорожных зарослей расступилась – там, впереди слева и далеко внизу открылись просторы над Долгогим озером, но Жора его не увидел, хоть ночи здесь северные, светлые до середины августа. Глаза различили лишь серое дымчатое пространство за чернотой кустов. А там, где они расступались, совсем близко, над обрывом, вырисовывался прямоугольник дота, и на самом его краю, на линии, что граничила с серой бездной, стояла Шурочка, окружённая светлым облаком. Чёткий её силуэт был словно бы заключён в прозрачное светящееся яйцо – но воздух внутри него прочерчивали дождевые струи. И когда Шурочка повернулась, Жора понял, что светится то, что она держала в руках, прижимая к груди. Но когда Шурочка спустилась к дороге и на мгновение остановилась, не решаясь ступить в грязь, а потом опустила правую руку с продолговатым серебристым предметом, яйцевидный ореол не сместился, и стало ясно, что светится всё-таки она сама. Шурочка вытянула вперёд сияющую гантельку, из которой вырвался яркий луч, и посветила, как фонарём, выхватив из темноты искалеченную какой-то тяжёлой техникой дорогу – одна колея обвалилась, мутный поток воды низвергался сверху и размывал вторую, по которой шёл Жора. Он понял, что надо сойти левей на траву, где стояла Шурочка. А та вдруг присела на корточки, упёрлась ступнями в знакомый Жоре предмет, а торцы его обхватила руками и, поднявшись несколько над землёй, в таком скрюченном положении стала удаляться от Жоры. Потом она всё-таки выпрямилась, вытащила из-под пяток сверкающую болванку, которая повисла в воздухе, и села на неё, свесив ноги. Может быть, так было удобней, может быть, она ещё не освоилась, как обращаться с копером. Так или иначе, её светящийся силуэт парил над дорогой – она медленно поднималась на вершину холма, словно взлетая на невидимых качелях, подвешенных над землёй слишком низко, – и из-за этого ей пришлось скорчиться и неловко пригнуть под себя ноги.
И так могло показаться со стороны, но суть была в том, что копер сделался для неё мал… Да, мал! А каким огромным показался ей в первый раз, когда нашла его в чугуне, накрытом чёрной овчиной. Правда, был он всего лишь как самая маленькая из тяжеленных папиных гантелей! А было Шурочке тогда три года, как раз исполнилось – и пошёл четвёртый. Алжирская жизнь кончилась, предстояла новая командировка: родители вернулись в Минск, в отпуск, и сразу поехали сюда, на озеро. Палатка стояла на том же месте, у входа в дот. Ах, как ей хотелось в этот дот забраться! Словно какая-то сила манила туда, в темноту, в пещеру с покатой бетонной крышей, заваленную разным мусором и жестянками, где на еловых лапках в глубине, в углу, спал иногда по ночам старый дед-балабол. А однажды в жару её уложили спать днём, и родители пошли плавать, и Шурочка знала, что плавать они будут долго… В доте она могла стоять в полный рост, и только у дальней стены пришлось наклонить голову и стать на коленки уже там, где лежали ветки. За ветками был лаз в стене. Папа бы тут не пролез ни за что, и не сумел бы ни один взрослый. А вот худенький старичок, спавший здесь по ночам, мог. И она смогла. Представила себя лисичкой и поползла… Долго двигалась на коленках, опираясь на руки, и увидела вдали свет. Свет был в пещере, выложенной кирпичом – с кирпичным потолком и полом, и она не смогла достать рукою до потолка. Но то была не пещера, а перекрёсток подземных ходов. Один вёл прямо, другой направо, и ещё один шёл налево… А перед ней на полу светилась чёрная голова – голова какого-то зверя без глаз и рта… Сплошной чёрный мех, который она решилась наконец погладить… И поняла, что это всего-навсего огромный закопчённый чугун, накрытый чёрной овечьей шкурой! И то, что лежало внутри, светилось через овчину! То и была её «золотая гантелька» – волшебная палочка, спутник жизни, умеющий исполнять желания и угадывать мысли, потому что как только она подумала, что эта штука похожа на папину гантель, гантель тут же сразу и появилась! Лежала себе у её ноги! Но гантель была Шурочке не нужна. Вот если бы вместо гантели здесь лежал сейчас мишка – новый плюшевый медвежонок, подаренный в день рождения! И которого мама не разрешила брать в лес! И сразу в чугуне – не у ноги на грязной земле – что-то затмило свет. Правильно. Ни к чему было класть новую игрушку на землю. Шурочка так и оставила медвежонка в чугуне, ведь мама его брать не разрешила. А вот любимого «Винни-Пуха», предпочтённого из всех книг, купленных за границей, просто забыли – забыли взять! Поэтому Шурочка с чистой душой решила, что нету тут маминого запрета, и весь путь обратно проползла в обнимку с любимой книжкой. Правда, в тот же вечер мама бросила находку в костёр. Мало того, что книга была вся вываляна в грязи, это была какая-то дьявольская насмешка над человеческой книгой! Цветная обложка в ней и все до одной картинки были на своих местах, а вот текст под ними!.. Он тоже был расположен по-прежнему – но только на первый взгляд, потому что все строчки – все куски текста в книге состояли из одного повторяющегося бесконечно слова: «MILNE, MILNE, MILNE…». С тех пор Шурочка свои «находки» больше никогда никому не показывала. И никто никогда не видел, как, сидя на «золотой гантельке», она парит над верхушками сосен в ночной темноте и смотрит с высоты на палатки, тихонько смеясь и слегка подрыгивая ногами… Вот, как сейчас, когда она поднималась на вершину холма, словно взлетая на невидимых качелях.
Но всего этого, разумеется, не знал Жора… За дотом колючие кусты боярышника снова подступили к дороге, и волей-неволей пришлось сойти в грязь. Он шёл через поток воды. С колеи можно было грохнуться, поскользнувшись, все звуки заглушал дождь. И если бы Шурочка оглянулась, она конечно бы увидела Жору, но, к счастью, ей и в голову не приходило, что кто-то за ней следит. На вершине горы светящийся силуэт «на качелях» поплыл вправо, и Жора понял, что Шурочка повернула на дорогу к хутору. Он решил броситься наперерез – перешёл на правую сторону и стал взбираться по склону вверх, хватаясь за мокрую некошеную траву, она была выше пояса. Через несколько секунд он был наверху, на краю верхней дороги, и Шурочка проплыла мимо него и исчезла в лесном туннеле. Дорога здесь была получше, не искалечили военные грузовики. Деревья защищали от дождя и ветра, но скоро лес расступился и ушёл вправо. Слева он кончился, там уходил в низину едва различимый сад, а дальше Жора увидел хутор, вернее – его высокую крышу, лепившуюся одной своей стороной к склону холма, точь-в-точь, как крыша какой-нибудь альпийской хижины. С этого хутора много лет кормились обитатели озёрного лагеря, и только теперь, когда хозяева постарели и не вели хозяйство, приходилось ездить за продуктами в Литву.
Слева от Жоры мок на дожде сад, справа – темнели сосны. Шурочка остановилась у хутора и долго стояла, преспокойно чувствуя себя под дождём, словно ждала кого-то. Жора вошёл в лес и, скрываясь среди деревьев, подкрался к ней совсем близко. Он услышал какие-то непонятные звуки – точно она подзывала кошку или собаку.
Она наклонилась и гладила кого-то, фыркавшего у самых ног.
Жора видел лишь тёмное пятно на дороге, потом кто-то, круглый, как колобок, пополз в лес прямо на Жору, пришлось ретироваться в кусты.
Шурочка воспользовалась копером, как фонарём. Луч осветил прогалину в сосновом лесу, усыпанный иголками мох, старые сбитые сыроежки. Ежиха ползла по слежавшейся мокрой хвое, разрывая наст, и, наверное, сучья под ней трещали, но дождь по-прежнему заглушал все звуки. Ежиха ползла в движущемся круге света туда, куда вёл её световой луч. Шурочка направляла его и шла следом. Обе они не замечали дождя. Ежиха остановилась на краю окопа. На дне его чернела чья-то нора. Большая, как будто лисья. Ежиха опустила вниз морду, упёрлась лапами, и из-под них посыпался сверху сырой песок.
– Постой-ка! – сказала Шурочка. Она наклонилась, взяла свернувшийся вдруг клубок в руки и прыгнула с ним на дно окопа.
Чтобы что-нибудь видеть, Жора вынужден был подойти совсем близко и присесть за кустом можжевельника, как раз за спиной у Шурочки. Та опустила ежиху возле норы. Зверь зафыркал, втягивая носом воздух.
– Там кто-нибудь живёт? – шёпотом спросила Шурочка.
Сколько Жора не напрягал слух, ничего, кроме шума дождя, не услышал.
– Нора глубокая?
И опять, разумеется, никакого ответа он не услышал.
– Хорошо… – прошептала Шурочка. – Хорошо! – и положила копер у чёрной дыры в песке. – Возьми это и спрячь так, чтобы никто не сумел найти. Это очень опасно. Люди не должны узнать…
Ежиха подползла к коперу с дальнего от дыры конца, обхватила лапами сияющий торец и, толкая впереди себя серебристый цилиндр, исчезла в норке. Сразу стало темно.
«Какая же тёмная ночь!» – подумал Жора.
Прошло минут пять или целые полчаса, Жора не знал, время, казалось, тянется бесконечно.
Он посмотрел на небо – не стало ли видно ли звёзд? Звёзд не было, не видно было луны. Дождь по-прежнему лил и лил… Вдруг в окопе сделалось совсем светло. Шурочка стояла, как прежде, склонившись над норой. В руке у неё горел китайский фонарик, он был продолговатый и серебристый, и напоминал копер. Жора видел теперь весь тонкий изящный силуэт в профиль: фигурка казалась лёгкой, совсем воздушной в облепившей грудь майке и тонких брюках, они тоже прилипли к телу под дождём. Жора видел египетскую богиню с фресок на усыпальницах фараонов – тонкое, удлинённое и застывшее в грациозном движении тело… Волосы, подрезанные на висках, по-египетски разделила на пряди сбегавшая с них вода… Волосы мокрые, как у Джоконды, только совсем короткие… Нет! Это была не Джоконда, скорей – юная Клеопатра, когда Клеопатре было двенадцать лет: туника облепила тело, всё в нём обвораживало и привлекало. Вдруг лицо оживилось, озарилось улыбкой. Шурочка опустилась на землю, направив вниз фонарик. Луч его освещал ежиху, показавшуюся в норе.
Она положила фонарь на землю, а в правой руке её появилось блюдце. Осторожно, словно боясь расплескать в нём что-то, поднесла блюдце поближе к носу зверька.
Луч фонарика осветил белое. Молоко!
– Пей! – повторяла Шурочка всякий раз, когда блюдце пустело и ежиха поднимала голову. Вдруг блюдце стало расти, превратилось в тарелку, и молоко вылилось через край.
Забыв обо всём, словно завороженный, Жора давно уже вылез из-за куста и под гипнозом зрелища застыл на краю окопа.
Шурочка по-прежнему его не видела, но капли дождя звучно барабанили по дождевику, и, уловив какую-то перемену, она обернулась и машинально направила свет фонарика на этот звук.
Жора зажмурился, прикрыл глаза ладонью, а когда открыл, увидел ненависть в лице ребёнка.
– Опять! Это опять вы!.. Подсматриваете, следите!
Жоре нечего было ответить. Он молчал. Никогда ещё не видел он в чужом взгляде такую нескрываемую неприязнь.
– Вы всё видели? Видели всё?! Говорите!
Жора кивнул.
– И всё поняли? Ну конечно… Это же вы «поработали» в Шабанах! Благодаря вам… – Шурочка не договорила, с презрением посмотрев на Жору. – Из-за вас исчез тот… Но не надейтесь, что ЭТОТ достанется вам… Он тоже для вас потерян! Только я могла бы его достать! А теперь… я прикажу ежихе – и она унесёт его в глубину по подземному ходу. Тут кругом подземные ходы…
– Успокойтесь… – с сочувствием сказал Жора.
Ему стало совестно и обидно, он вдруг невесело усмехнулся:
– «Я не намерен более брать чужое»…
– Чужое! – подтвердила Шурочка. – Совершенно верно! – в её голосе звучал гнев, и Жора уловил вдруг новый смысл: «Чужое. Чуждое. Чужеродное – нечеловеческое, нездешнее…»
Ежиха выползла из норы. Шурочка, как показалось Жоре, приготовилась что-то сказать.
– Не надо! – попросил он. – Оставьте. Ведь я же знаю… Это ведь – ТОТ хутор? ТОТ, – добавил он едва слышно, – где… мина? Иначе бы вы спрятали в другом месте. Не здесь…
Ребёнок молча кивнул – серьёзно и настороженно. Ожидая, что скажут ещё.
– Не надо переносить… Пространство сделается аномальным. Увеличится радиус. И чем дальше – тем опасней! Я обещаю…
– Что вы мне можете обещать? Разве такие, как вы, за себя отвечают? А если вас станут пытать…
– Пытать?
– Конечно! Представьте, об этом узнает Кремль! Им что, не захочется иметь такую штуку?! Бомбы, танки… – в любом количестве. Любое оружие – без малейших затрат! Умеючи можно ядерную подводную лодку в один миг соорудить. Да ваши начальники-холуи разобьются перед Кремлём в лепёшку. И если Вас станут пытать, приставят к вашему виску автомат, пригрозят новыми пытками, тюрьмой, расстрелом! Что тогда? Никто так не дорожит свободой, как тот, кто её не видел, и никто не трясётся над жизнью, как те, у кого нет ни малейшего представления о настоящей жизни!
– А вы всем этим не дорожите?
– А я знаю, что всё это такое. И каким должно быть! И ещё лучше – наперёд знаю, что всего этого в вашем мире у меня никогда не будет! Так чем мне, спрашивается, дорожить?
– А чем вам плохо живётся? – растерялся Жора.
– Опять двадцать пять! – возмутилась Шурочка. – Я же только что объяснила.
Жора вспомнил всё подслушанное у лужи, и ему сделалось не по себе.
Словно что-то чужое, холодное, опередившее его на несколько поколений, сидело рядом. Будущее, для которого такие, как Жора, были пустым местом. И были… заслуженно, потому что позволили сделать из себя пустое место. А вот этот ребёнок не допустил! И Жора почувствовал себя ничтожеством, дураком – чувствовал… и не хотел быть для неё таким. Захотелось ей доказать!..
Он повернул голову, глянул туда, в окоп… и ему сделалось её жалко – этого, в самом деле, почти ребёнка, которому положено быть в кровати, в тепле, в уюте… А она сидит там на дне окопа, на сыром песке, под дождём, ночью, без зонтика… И не надо ей ни тёплого дома, ни уютной постели, и вообще ничего не надо! Да её можно калёным железом пытать! В рудники посылать… Потому что таким, кому ничего не надо – ничего не страшно!
И всё равно сжалось сердце… от жалости сжалось сердце, жалко было сейчас сидящую на земле девочку, в промокшей до нитки, лёгкой какой-то майке, с прилипшими к плечам волосами, они вроде стали длиннее, как у Джоконды, и Жора вспомнил, что у Джоконды они тоже как будто мокрые… – и стало за неё так больно, потому что в душе у неё – такая рана, которую не заполнить ничем… Потому что там – память о мире, от которого пришлось отказаться ради этого – жестокого и враждебного к ней мира.
– Послушайте! – неуверенно сказал Жора. – Поверьте! Никто никогда не узнает обо всём этом. И если… даже будут пытать, обещаю вам: не скажу ни слова.
– Это я обещаю вам, что не скажу ни слова! Это меня будут пытать, меня! И, может быть, это будете делать вы! Жечь меня раскалённым железом, дверью зажимать пальцы, лампой светить в глаза на допросе… и с улыбкой составлять протокол. Но знайте: вы от меня ничего не добьётесь! Потому что для меня эта жизнь не имеет значения! В ней каждый второй – глупый или жестокий. И пусть даже из десяти один… Один дурак и один подлец, а остальные восемь с этой глупостью и жестокостью соглашаются и жизнь эту принимают, в этой глупости и жестокости живут и радуются… и дорожат. А я, вот, не дорожу! А мне, вот, не нравится такая жизнь!
И на Жору вдруг нашло безумие. Она – не девочка, она не ребёнок. Ей всё-таки двенадцать лет!
Он понял Фиму, этого лентяя, готового тащиться через всё озеро чёрт-те куда. Все ненормальные, все безумцы!..
Он забыл обо всём. Он видел лишь её профиль, от которого щемит в груди, её волосы, её губы и изгиб шеи. Какая же она красивая! Красивей он никого не видел…. Эта ведьма, этот бесёнок, вот кто ему нужен! Он тоже не лыком шит, он не пустое место! И он её подчинит, он докажет ей! Подчинить такую…
Его первым движением было прыгнуть сейчас в окоп, схватить её за руки, прижать к себе, почувствовать её гибкую шею, покрыть её поцелуями… – и охнуть она не успеет, и опомниться! И сказать: «Так чем ты не дорожишь?» И пусть она тогда заплачет, пусть почувствует себя беспомощной в его руках – пусть оставит свой дерзкий тон! «Так что для тебя не имеет значения?»
И охваченный нахлынувшим вдруг безумием, он прыгнул вниз, он был уже рядом с ней – всё было, как в мыслях, но наяву – живое гибкое тело прильнуло к его груди; она в изумлении не сопротивлялась, из руки выпал фонарь и отлетел к стенке окопа, в темноте он ощущал тот пленительный изгиб шеи, о котором мечтал, и ему казалось, что он нашёл долгожданное, к чему стремился всю жизнь, но вспыхнувший вдруг огонь сменился радостной невероятной нежностью. Он встал на колени, покрыл поцелуями её мокрую руку от плеча до кончиков маленьких пальцев и почувствовал себя псом, который должен умереть у её ног. «Милая! – подумал он про себя. – Прости меня…», а вслух прошептал:
– Не бойся! Я – твой раб, твой слуга, я защищу тебя от всех дураков, и никто никогда не узнает твоей тайны… – он положил голову на её ладонь и почувствовал, что его гладят по голове. – И если ты пожелаешь уйти туда, возьми меня как своего верного пса. И поверь… я никогда не стану тебя пытать, я этого не смогу. Потому что теперь… я – один. Я уже не с ними… Может быть, я не нужен вам… – он проглотил горький неглотающийся комок. – Но уже никогда – никогда не смогу быть… как все.
И всплыли в памяти слова «фиолетового» иностранца: «Измените себя по другой оси…», и как Пепка издевательски заорал, скорчив рожу: «А вот не возьмём! Не возьмём мы вас… в коммунизм! Ничего вы из себя не представляете!»
Он почувствовал её мокрые прохладные пальцы на своих щеках, она подняла его голову в своих ладонях и поцеловала в лоб. Он увидел её прекрасные сияющие глаза совсем близко.
– Скажи! Скажи мне, – умоляюще попросил Жора, вспомнив главное, и Шурочка не дала ему договорить.
– Я знаю, о чём ты хочешь спросить. Для этого ты и шёл за мной, и следил… Прости, я не сразу всё поняла! Успокойся. Это не сон и не бред. Это мир. Он реален, как мы с тобой, и всё лучшее, созданное нами здесь, попадёт туда. Я знаю это теперь и могу умереть спокойно.
– Зачем тебе умирать?
– Надо, – сказала она. – Таких надо пристреливать. В нашем мире надо пристреливать «не-лошадей»… Знаешь, как им тяжело живётся?
– Не лошадей? Какие лошади? Я ничего не понимаю!
– Люди – неодинаковы, даже обычные люди. Одни могут поднять штангу. Другие – с детства еле волочат ноги, как я, им не хватает сил, поэтому одни живут очень долго, другие умирают в тридцать три, но те, вторые, могли выживать и в прежние времена, найти своё место в жизни, если кто-то становился алхимиком или кабинетным учёным. Или переписывал рукописи в монастыре. Силы рождает и ощущение цели в жизни, и интерес исследователя. Но если бы тех, вторых, заставляли после уроков сидеть на пионерских собраниях… – она хохотнула.
– То что?
– Они не дожили бы до своих научных занятий! А у нас от всех требуют одинаково. Медицина всех признаёт равными, если не отыскала какую-нибудь совсем простую, известную ей болезнь. И тех и других заставляют делать бессмысленное и тупое. Одним это – хоть бы что, а другим – губительно для здоровья. Поэтому не-лошадей следует пристрелить… – Она подняла с земли свой фонарик и включила его, направив луч на ежиху, которая, казалось, внимательно прислушивалась к разговору. Потом посветила на молоко.
– Я опять ничего не понимаю! Объясни! – он вспылил, потому что и в самом деле не понимал. Он чувствовал – возвращается прежняя обыденная реальность.
– Это потому… что не женщина… – покачала головой Шурочка. – Ты – не женщина, и тебе не понять, как тяжело ей, если она не лошадь…
«Так вот оно что… – наконец-то дошло до Жоры. – Как там «фиолетовый» говорил? “Или вечным станешь, или гениальным”. Получается: или – или? Я – вечный, а она – нет?»
– Вот завтра приедет Соня, и ты поймёшь… – она очень серьёзно на него посмотрела и положила голову ему на плечо.
«Это сегодня… уже сегодня приедет какая-то твоя Соня, – с нежностью подумал он. – А вчера… Мы были с тобой в том, другом мире, который так на тебя похож». Он впитывал запах её волос, он обнимал её одной рукой и ощущал под своей ладонью всю её, маленькую и нежную, прильнувшую к его груди, и чувствовал, как разгорается тот огонь, который не должен гореть ещё много лет… пока она не вырастет, не станет взрослой. Он попробовал переключить свои мысли и чуть не расхохотался. Мог ли когда-нибудь себе представить, что влюбится в какого-то ребёнка, ночью, в лесном окопе, да ещё под дождём! Как он забыл о дожде!
– Постой, а где твоя куртка?
Она, кажется, его не слышала.
– Я думаю, это удачно, что так получилось… Ты сразу понравился мне в первый раз. Я решила: кажется, не конченый человек!
– Я спрашиваю, где твоя куртка? – опять рассмеялся он и представил её на солнце у воздушного шара рядом с «фиолетовым» иностранцем: правой рукой ерошит мокрые волосы, стряхивая с них воду, а другой, на ходу, сбрасывает с себя куртку. Куртка валяется на траве – красное огненное пятно, как и то, второе, над верхушками ёлок.
– Забыла! Я оставила её там…
– Будет повод вернуться! А что ты ответишь Фиме? Он, ведь, спуску не даст.
Шурочка покачала головой, задумалась и тяжело вздохнула. Где-то близко, видно, на хуторе, закричал петух. Она подумала ещё немного, светя фонарём на Жорины выпачканные кроссовки, и ещё раз тяжело вздохнув, направила луч фонаря на куст можжевельника.
Жора захлопал глазами…
Там, под кустом, лежала знакомая куртка и пара новеньких резиновых сапог, кажется, его размера…
Размер был, точно, его и в каждом лежало по шерстяному, совершенно сухому носку.
– Лиха беда начало! – присвистнул Жора, подмигнув Шурочке.
– С этакого начала и начинаются все концы! – возразила она угрюмо. – И не надейся на продолжение. В последний раз!.. Считай, что это сувенир на память.
«Я буду его хранить всю жизнь… Я поставлю его под стекло на полку и стану целовать перед сном!» – восторженно повторял Жора через час с небольшим, лихо меряя сапогами последние лужи, и только различив впереди силуэт поставской бензоколонки, понял, как он устал.
Шурочка восторга не ощущала, но усталости тоже не было, она долго ещё смотрела сквозь комариную сетку, где только начинали звенеть вылетавшие из лесу комары. Луна в прояснившемся небе была ещё круглая и огромная, но уже чуть размытая чернотой с правого бока, где тускло темнел, словно кем-то обломанный, круглый кратер. И глядя на этот безжизненный лунный глаз, она увидела мир, более гибельный и суровый, где не было жизни, и жизнь никогда не могла возникнуть в этом уголке Вселенной…
Глава 11. Свято место пусто не бывает. Крылов и Соня
На рассвете снял свой лагерь Олег Николаич. Наскоро покидав в прицеп вещи, едва скрутив невысушенную палатку, он сорвался в такую рань вроде бы по привычке – пока спят постовые милиционеры, ибо прицеп был незарегистрированный, самодельный. Но на самом деле Живулькина гнал страх. Скорей, скорей… Лишь бы куда, но подальше от этого проклятого места! Попрощался Живулькин только с одним профессором, который тоже вернулся из города ни свет ни заря и по той самой причине – сам не любил встреч с милицией. Шурочкину бабушку они не привезли – перепутал-таки Живулькин, просила она приехать за ней во вторник, потому как во вторник нужно было ещё получить пенсию. Василий Исаич с Додиком отправились досыпать, но Сан Саныч не любил спать по утрам, потому и успел проститься с Живулькиным. На прощанье тот подарил профессору новенький экземпляр злополучных удочек. Вообще-то, он мечтал бы избавиться от них от всех, но проявить широту натуры и оставить в кустах или просто так раздарить (да и кому бы, спрашивается?) не позволяла въевшаяся в печёнки скупость умеющего жить человека.
Обескураженный подарком профессор долго сидел в шезлонге, рассматривая в мутном свете утра предмет, повергший его аналитический ум в немалое замешательство. Удочки вместе с чехольчиком производили впечатление настолько новенькой вещи, насколько новой может казаться вещь, которой действительно не пользовались ни разу. И, тем не менее, леска чуть выше крючка с нацепленной на него мормышкой была порвана и завязана на узелок. Одно бамбуковое колено было обмотано импортной изолентой, которую сам он когда-то привёз из Японии и, помнится, подарил Живулькину. А на чехольчике он приметил коричневое пятно той самой масляной краски, которой только что перед отпуском выкрасили лабораторию, и десять банок которой с трудом раздобыл сам Живулькин, когда сделалось ясно, что без этого ремонт грозит растянуться до осени, а начальство и не думает шевелиться.
В глубокой задумчивости просидел профессор, пока окончательно не рассвело, и, стараясь не разбудить Додика, ушёл читать в палатку. Но ему не читалось. Он решил проехаться в молодой соснячок – посмотреть, не пошли ли первые боровики. Сел в машину, не заводя мотор, съехал к берегу накатом и тихонечко покатил к Шабанам. Однако его попытки никого не разбудить свёл на нет какой-то псих на мотоцикле, вырвавшийся из приозёрных кустов, как чёртик из бутылки, и забибикавший изо всех сил вслед тихо ехавшему Сан Санычу.
Как только звук мотоцикла стих вдали, к костру подбежала Шурочка в розовой пижаме и что-то бросила туда в золу, тщательно присыпав сверху мусором и углями.
Не успела она нырнуть под полиэтилен и застегнуть молнию на комариной сетке, у костра появился Фима, вытащил из углей что-то, завёрнутое в газету и поспешно унёс в палатку.
После этого до десяти часов лагерь спал.
Первой проснулась Шурочка, искупалась и принялась готовить завтрак. Когда Фима, с трудом разлепив веки, выбрался на свет божий, залитый к всеобщей радости, ярким утренним солнцем, он увидел загорелую спину Шурочки, склонившейся над столом. Она усердно резала свеклу для холодника. Волосы, подстриженные над самой шеей, прямые и мокрые после купания, неровно свешивались, открывая не слишком загорелое ушко. Изучив не без злорадства причёску Шурочки, которая стала короче не больше чем на какие-нибудь полсантиметра, он готов был уже отпустить несколько едких колкостей по поводу своей находки, но взгляд его рассеянно скользнул по берегу.
На берегу у самой воды сидели Тадик и Мечик из Шабанов, и рядом с ними изнывал от ожидания волкодав Шарик. Он то и дело оглядывался, смотрел братьям в глаза, подвывая и силясь понять, чего же они ждут.
Фиме было ясно, кого они ждут и зачем. Он вспомнил, что не далее как вчера, возвратясь из деревни с дневным молоком, Шурочка объявила, что вечернего на этот раз не будет, и что завтра с утра она отправляется за боровиками в очень хороший лес. Кто вызвался проводить, становилось ясно.
– Н-нда… – иронически протянул Фима и многозначительно, как ему показалось, засвистел себе под нос.
– Рыбу я вам поджарила, – ответила на это Шурочка, – а молоко скисло. Гроза… Придётся пить чай. Бутерброды сами сделаете.
«Конечно, скисло… – невольно подумал он. – Когда это не скисало за день?» И хотел было намекнуть, что за вечерним-то не ходили, но Шурочка уже застегнула рубашку и, забросив свеклу в кипевшую на «шмеле» воду, попросила:
– Выключи, пожалуйста, через десять минут. К обеду приедет бабушка. Да и я вернусь.
Фима тоже не знал, что бабушка не приедет, поэтому он только молча кивнул и больше ничего не сказал.
К обеду бабушка, разумеется, не приехала. Зато «за горой», в лагере неприятеля, как принято было выражаться, появились две неизвестные личности с рюкзаками. Пришельцев встречали здесь без особой радости, тотчас пробуждался звериный инстинкт территориальности – и не было ко вновь приходящим добрых чувств: лишний раз постирают в озере, посуду помоют, вывалят на песчаное дно недоеденные макароны, загадят берег… Эти, однако, палатку ставить не стали, банного дня не затеяли и тарелки на пляж мыть не побежали. Прислонили к сосне вместительные рюкзаки и долго сидели рядом, глядя на озеро. Один из них был мужчина, похожий чем-то на давешнего иностранца: такой же усатый и бородатый и с виду интеллигентный молодой человек. Потому и принял его Василий Исаич сперва за того… Но только сперва. Была у иностранца этакая улыбка – сияющая и ослепительная, была у него этакая раскованность и свобода в каждом движении; и сам он весь лучился, сиял и сверкал! Этот же был какой-то уж слишком спокойный, озабоченный и серьёзный. Но чувствовалось, что это не от спокойствия, а от нервов, от такой жизни, что если не станешь йогом, то станешь психом. Спутница же его и вовсе была замученная, бледная и худая, точно её вчера вытащили из какого-то подземелья. Словом, это были никакие не иностранцы, а самые что ни наесть обыкновенные советские граждане. Были они чем-то удручены, расстроены, и здороваться Василий Исаич не пошёл. Отложил до вечера.
Нездоровый вид спутницы заметил и Фима, который тотчас же понял, что прибыл долгожданный Крылов – любимый Сашкин учитель физики и руководитель философского кружка – тот самый, что «пьёт из консервных банок». Сию остроту, которой, кстати, очень гордился, вывел Фима из того факта, что вышеупомянутый кружок, встречая гонение со стороны школьной администрации в дни зимних и летних каникул, перемещался на квартиру, но не к Крылову, а к Шурочке, потому что, видите ли, заседания происходили за чаепитиями, а у философа не хватало чашек на всю компанию. В буфете же у Марии Александровны чашек хватало на всех, а потому и заседала эта шумная компания каждый четверг в домике на Надежденской. И хоть выделена была самая большая комната, заседающим было тесно, и приходилось пить чай по-восточному, сидя в позах лотоса на вытершемся коврике на полу, у жарко натопленной печки, если это было зимой, чем немало шокировали Василия Исаича громко спорившие кружковцы, при чём спорившие… бог знает и чёрт знает о чём! Только слишком спокойный и внушающий почтительное уважение голос руководителя несколько успокаивал старика. Не только Шурочка, но и Мария Александровна была без ума от Крылова.
А потому, спрятавшись в придорожных кустах у тропинки, что сбегала с верхней дороги, и наставив бинокль на неприятельский лагерь, Фима жаждал как можно скорей рассмотреть ту, от которой был без ума Крылов, и ради кого, судя по слухам, решил бросить работу, школу и философский кружок, чтобы купить бабкин хутор и, бросив город и городскую квартиру, переселиться в эту чёртову глухомань на полном серьёзе, что в наше время, по мнению Фимы, мог сделать только самый настоящий идиот.
Не успел Фима как следует навести на резкость, и только лишь попытался поймать в объектив лицо блондинки, как кто-то замогильным голосом окликнул его с дороги.
Фима вздрогнул и покраснел, застигнутый за таким, с его точки зрения, не совсем джентльменским делом. Он обернулся на голос и едва не выпустил из руки бинокль…
Там, за кустами орешника в лесной тени стоял наверху, на дороге, вчерашний следователь или его тень, одетая во всё чёрное, с лицом неестественно белым на фоне чёрных стволов и с такой судорогой страдания и муки на бледном лице, что казалось – вот-вот искривятся губы и последует что-то страшное. Что-то мерзкое… то ли предсмертный хрип, то ли ещё что-то… Следователь пошатнулся, он нетвёрдо стоял на ногах, кажется, подуй ветер – и упадёт, шагнул к тропинке, незряче как-то посмотрел в сторону Фимы, протянул вперёд сетку с каким-то свёртком и сделал несколько шагов вниз по склону… Потом споткнулся, уронил сетку и начал падать, как труп, на подбежавшего в этот миг Фиму. Тот ощутил запах ладана, воска… могильный какой-то запах, и только когда омерзительно пахнуло перегаром, понял, что следователь пьян в стельку.
– О господи… слава богу… – с облегчением бормотал Фима, усаживая следователя на землю. – Я думал, ты с того света…
– С похорон… – мучительно прошептал Жора. – Там плащ… – Губы в судороге искривились, и его вырвало выпитой самогонкой. – Воды… – произнёс он, переваливаясь на спину и чувствуя некоторое облегчение.
– Сейчас, сейчас… Полежи… Легче станет! – в панике хлопотал его спаситель, подкладывая под голову упавший свёрток, и пока бегал в лагерь за крепким чаем и нашатырём, Жора с горечью ругал себя за мягкосердечие.
Собственно, и пострадал Георгий Сергеевич только за свою доброту. И выпил совсем немного – всего две стопки. Да стопки были с добрые полстакана!
С самого утра, когда привезли тело на грузовой машине, которую тоже пришлось организовывать Жоре, и потом, когда стояли на ногах в душной хате и слушали певчих до самого, назначенного на двенадцать, выноса гроба, Жора ничего не ел. Под ложечкой сосало. Но прошло двенадцать, и час, и всё не выносили, чего-то ждали. И когда выяснилось, что ждут ксендза, у которого ещё служба в костёле и похороны в Занарочи, все Жорины сотрудники как-то потихоньку исчезли. И машина уехала… Оглядевшись вокруг и увидев только чёрные платки старух, Жора понял, что остался один на религиозном мероприятии. «Ну и чёрт с вами!..» – подумал он. Увидел за окном мужиков и, успокоившись, опустился на лавку среди плачущих женщин. Те вставали и уходили. Приходили другие, а Жора всё слушал голоса трёх старух, что с чувством читали из своих молитвенников и хором пели какие-то псалмы и гимны… звонкие старушечьи голоса.
Потом за забором остановился белый «жигуль», или «москвич», кто-то вышел, хлопнула дверца. Старухи зашевелились, шепоток прошёл по толпе: «на могилки…», «уже едет». Возле гроба запричитали. И Жора понял, что ксёндз приедет только на могилки, в хату придти не решился, может быть потому, что Редько – всё-таки милиционер… «Ай, божа…» – слышал Жора вокруг, скорей, скорей надо было выносить, слава богу, кладбище было за домом, совсем близко. Кроме Жоры оказалось пять мужиков, трое были уже седые, с синюшными лицами и одышкой, и один совсем паренёк, и Жора чуть не упал замертво, когда они опустили Редько у вырытой в траве могилы под тремя берёзами. «Повезло… – с завистью думал Жора, любуясь лесом, миром, качающимися в небе ветками берёз и птицами, которые не знали, что поют на кладбище. – Кому ещё сейчас так повезёт…» И опять пели, и опять читали молитвы: теперь уже ксёндз со служкой, в два голоса, и один ксёндз – в шапочке и белой кружевной накидке поверх роскошной тёмно-зелёной мантии, тоже вышитой и расшитой. Жора стоял за спиной ксендза, накрахмаленная накидка удивительной белизны развевалась на лёгком ветру, и Жора видел, что она порвана с одного бока, но те, у могилы, к кому обращался ксёндз, не могли видеть. И опять звенели два тонких старушечьих голоса и один хриплый. Три старухи, как школьницы с книжечками в руках, вытянулись над лежащим в гробу Редько и внимательно смотрели в свои молитвенники. Но пели они хорошо. Белорусские песни Жора понимал, а что поют и читают по-польски, не разбирал ни слова. Рядом с ним, опустив голову в чёрной кружевной шали, плакала строгая с виду десятиклассница.
– О чём они поют, понимаешь? – осмелился он спросить, когда снова зазвучала чужая речь.
– Просят, чтобы дядьку Редько приняли на том свете…
«Знают… – с грустью подумал Жора, – что долго надо просить… А за меня, вот, и не попросит никто…» И никогда ему этого не хотелось, и в голову не могло придти: не верил Жора в другую жизнь за гробом. И в бога не верил. Да и как мог верить, если не верили дед и мама, а ленинградская бабушка говорила, что религия – что-то, вроде театра… Знал Жора, что нет никакой загробной жизни, вернее, разделял мнение отца: никто не знает и не может знать! Узнаем, когда умрём, а наука ответить пока бессильна. А всё, что видел Жора вокруг, говорило – нет и не может быть никакого того света. Врёт религия. Теперь он знал: религия бывает разная. Эта – гораздо полезней для человека. Он всегда испытывал отвращение к попам. Ксёндз показался ему совсем другим: культурным, интеллигентным. Читалось всё это в его умном, благородном, полном сочувствия лице очень старого человека. И уже потом, – когда все отпричитали, отпели, откричала мать и сёстры с чувством невыразимой вины отплакали на груди покойника, и быстро-быстро забросали лопатами землю и поставили крест из сосны, – пробираясь среди заросших могил вслед за старухами, похожими на чёрных птичек, размягчённый, расчувствовавшийся, он думал, ступая по вылезшей на дорожки, заполнившей всё – не по времени, запоздало цветущей кладбищенской землянике: «Зачем? Зачем отняли у них даже это?! Не дав ничего взамен! И жизнь стала ещё… Стала ещё страшней! Ещё ужасней в своей безысходности: только поесть, только поспать и только работать под громкий лозунг! А работа не творческая – на свинарнике, и двести голов на твоём попечении: двести орущих изголодавшихся поросят, которых надо кормить! А комбикорм не везут! И приходится зло кричать, уже не женским, не своим голосом, чтобы силос, наконец, везли! И ты орёшь на шофёра почище председателя на собрании. А дома орёт твоя брошенная свинья, которую нечем кормить, и приходится этот комбикорм воровать…»
На краю кладбища, у ряда ухоженных современных могил с портретами стриженых пареньков, образовалась пробка. Старухи по очереди сбегали вниз по крутому откосу, легонько и не по возрасту быстро оказывались на дороге и виновато кланялись двум стоящим на обочине у старенького «москвича», словно бы извиняясь за свою шалость. Служка, уже в костюме, оглядываясь по сторонам, помогал переодеваться старенькому ксендзу. Жора глядел на птичьи лица старушек, а фотографии стриженых пареньков глядели на него с одинаковых памятников… «Афганистан, – вспомнилось сразу. – Афганистан!»
Когда Жора тоже спустился на дорогу, служка и ксёндз, уже современно одетые, сидели в машине, и их запомнившиеся навсегда лица были более интеллигентные, чем у тех, кто читал Жоре лекции в университете.
«Ну и пусть… Пусть, опиум! Пусть ездит на “москвиче”! – с горечью думал Жора вслед удаляющейся машине – Зато эти люди хоть на кладбище попоют свои песни и хотя бы на похоронах почувствуют, что не умерла у них душа… А кому от ТОГО польза?» – и всплыла, вылезла откуда-то из дальней дали сытая и самоуверенная морда председателя… и уже никогда, никогда не появилось бы рядом с ним и не показалось бы теперь похожим успокоившееся лицо Редько с закрытыми навеки глазами.
«О, Езус Кристус! – взмолился Жора стоявшими ещё в ушах старушечьими словами. – Спаси нас всех, может, мы ещё не погибли?! И не умерла в нас душа, которая ещё может плакать?»
«Нет! Не отняли у них всё ещё до конца! Не убили…» – рассеянно думал Жора за поминальным столом, за который, кажется, сели все – столами была уставлена вся хата… А растерянность была от того, что не видел Жора таких поминок. Он не чувствовал, как тянется время – оно не тянулось, оно лилось как одно растянувшееся мгновение в поющих старушечьих голосах. Прошло уже больше, чем полчаса, но никто не притрагивался к еде, и Жора видел, что так у них тут всегда. Читали по-прежнему, три старухи, но пели, присоединяясь, все – старые и молодые. И, вслушиваясь в чужой язык песен, он подумал, что не все из них похоронные. Одна была, он мог поклясться, на мотив белорусской: «Кали в маей хатачце парадок иде…»
«Когда ж им ещё попеть…» – готов был он оправдать этих людей и, стараясь понять, посмотрел на сидящую рядом десятиклассницу в старинной шали. Десятиклассница горько плакала под весёлый мотив.
– Не плачь! – попробовал успокоить он. – Ну зачем так плакать?
От глаз отняли чёрные кружева. Заплаканные глаза посмотрели на него по-детски:
– Дядька Роман был такой добрый, когда я была маленькая…
И Жоре окончательно стало стыдно за самого себя.
Плачь! Плачь, девочка, обо всех нас! О том, что когда-то мы были добрыми… Когда-то! Кто сделал нас злыми? Почему мы такими стали? Да! «Фиолетовый» тысячу раз прав: самое главное преступление для правителей – не делать народ умнее, и что только ни делать, чтобы не делать! Заставлять его пить, воровать. «Махать руками»…. Брать и давать взятки. Главное – власть боится, чтобы люди не стали умней её. Тогда они не потерпят такую власть! Оглуплять – вот цель коммунистов! Оглуплять и делать нас злыми… Злыми на самих себя! На мать, на дочь, на отца…
А, может и стоит умереть вовремя, пока не стал окончательным подлецом? Пока тебя… «там» примут? – подумал ещё Жора и пожалел, что не придётся выпить. Он как-то неумышленно оказался на краю стола, где сидели дети, и вначале обрадовался, что не нальют. Но когда подошла немолодая уже сестра Редько, та самая, что смотрела на ферме двести голов, наполнила его тарелку, а потом принесла с другого стола бутылку водки, открыла и очень попросила выпить, Жора не стал отказываться, хотя чувствовал… чувствовал, что будет плохо. Второй раз выпить его не просили, только подкладывали побольше всего в тарелку, но Жора сам налил себе полную стопку из ближайшей бутылки. Пусть будет плохо! Пусть будет ещё… ещё хуже!.. Если бы он знал позавчера… два дня назад, что так обернётся! Что это грузное большое тело, к которому испытывал неприязнь, будет сегодня нести на себе на кладбище. Если бы он только знал, что тот, на кого злится, будет лежать в гробу! Да… злился он тогда на Редько, пожалевшего мотоцикл, не желавшего ехать в грязь, в эту чёртову Идалину! И подумал тогда: «Пошёл ты к чёрту! Чёрт тебя побери с твоим мотоциклом!» И ещё мысленно тогда сказал: «Чтоб видеть тебя в последний раз!» И теперь он сидит под этой крышей, которую сын не хотел чинить своей матери, ест свеженину и горько и искренне плачет по этому блудному сыну! Господи! Отчего мы такие стали? Кто виноват в этом? Будь он проклят! Да почему ж мы когда-то всё-таки были добрые? Почему? Или, в самом деле, лучше вовремя умереть? И тут Жора вспомнил свой сон – тот бесконечный стол, за которым сидел ночью со знакомыми и не знакомыми ему людьми. И увидел, как добродушный, улыбающийся Редько в обнимку с покойником Пашкой подходят к нему по узенькому проходу и предлагают билет куда-то на второе число… Или место было второе? Или вторая очередь… А, может, отказываться было не нужно? Не нужно… Не нужно… А что, если вдруг?.. Вдруг это он накликал бедняге смерть? Может ли быть такое? Мог ли он вдруг нагадать смерть несчастному Редько?
И Жора ответил сам себе: нет! Такого не может быть. Человек не властен над смертью. Жизнь и смерть – законы природы. Кто может их менять? Кто?! И вспомнил вдруг, как сказал «фиолетовый»: «Собственно, вы уже не человек. Совсем другая физиология»… Что если…
«Нет! – закричал мысленно Жора. – Я не хочу! Не хочу, если так… Не хочу, не хочу жить!»
Он почувствовал резкую боль в груди, жаром обдало вдруг с головы до ног. А потом он услышал взволнованный женский голос:
– Не нужно, не нужно нашатыря! Теперь он придёт в себя…
Следователь открыл глаза. Над ним склонилось измученное лицо женщины. Измученное и красивое… какой-то болезненной красотой. Он не видел в жизни похожих лиц. Только читал у Достоевского. Такое лицо могло быть у Настасьи Филипповны, которая слишком много страдала… как там сказано? Эта бледность и косточки впалых щёк! Нет, легче, кажется, умереть, чем видеть у женщин такие лица! Он снова закрыл глаза, и снова закружились в калейдоскопе похороны и поминки, и строгая десятиклассница в кружевной шали…
– Дайте, дайте сюда нашатырный спирт! – услышал где-то очень далеко Жора, но уже не почувствовал ни разъедающе-едкого запаха, ни чьих-то губ, приникших к его губам, ни резкой боли, которую причиняли чьи-то руки, разминавшие его грудь…
Он стал дышать, и открыл глаза и увидел обтянутую белой майкой грудь – грудь богини… плечи греческой Афродиты, и нежную шею с золотой цепочкой, и он подумал, что может быть, уже в раю – и сознание снова ушло от него куда-то… И тогда чьи-то уста вновь приникли к его губам… Он снова увидел нежный изгиб шеи и золотой медальон, выпавший из выреза на груди. Луч сверкнул на лепестке лотоса, в чистых алмазах – и ослепил Жору. Он смотрел на мерцающую жемчужину в центре золотого цветка, и ему стало казаться, что к нему стала возвращаться жизнь…
Когда Жора окончательно пришёл в себя, он увидел вокруг себя хлопотавшую Шурочку, Додика, подкладывавшего под голову подушку и накрывавшего его спальным мешком. Красивое лицо женщины по-прежнему склонялось над ним. Рядом на траве сидел Крылов и держал Жору за запястье, видимо, считал пульс. Внизу, у подножья тропинки, растерянно стоял Фима с термосом и чашкой в руке.
– Дайте, дайте ему горячего чая! – бросив взгляд на Фиму, сказала женщина с длинными светлыми волосами. И золотая цепочка сверкнула у неё на шее…
– Она сделала тебе искусственное дыхание, – забормотал Фима, дрожащими руками поднося чашку. – Она спасла тебя…
– Вы врач? – слабым голосом спросил Жора, обращаясь к женщине.
– Нет! Нет! – как-то резко запротестовала она с истерическими нотками в голосе. – Я не врач!
– Дайте-ка, я вас приподниму! – перебил бородатый мужчина, похожий на вчерашнего иностранца, и, перестав считать пульс, принялся устраивать Жору в сидячем положении.
Жора пил чай и, прислонившись спиной к сосне, слушал взволнованный рассказ своего вчерашнего спутника о том, как все вместе его спасали. Когда Фима, оставив Жору, лежащего на земле, побежал за водой и нашатырным спиртом, а потом, как ему казалось, очень быстро вернулся, он нашёл Жору лежащим без чувств и тотчас бросился в лагерь Крыловых. Он издали увидел их с Шурочкой, вернувшейся из лесу – все трое, понурив головы, сидели в сосенках, разговаривая о чём-то.
– Спасите! Там человек умирает! – закричал он им с «горы» каким-то чужим голосом…
И Жора смеялся, и был благодарен всем этим, уже знакомым людям: он знал лучше кого бы то ни было, что они действительно его спасли.
Его заботливо уложили на раскладушке под старой ивой. И когда он закрыл глаза и, расслабившись, почувствовал приятное тепло во всём теле, окружающие потихоньку начали расходиться по своим делам. И только Додик, сидевший в шезлонге с какой-то книжкой, обёрнутой в пожелтевшую газету, сочувственно посмотрел на Жору и, сверкнув рыжим и зелёным глазом, спросил:
– Вам не скучно? Почитать вслух?
Жора кивнул, больше из вежливости, и, засыпая, помнил, как длинные фразы, произносимые детским серьёзным голосом, точно незнакомые птицы, пролетали мимо его сознания…
– «…Усовершенствовав свой организм и развив волю, человек-воли может влиять на свой организм, то есть на своё жизненное начало и на жизненный принцип Природы… Процесс такого воздействия требует развитой воли мага и знания механизмов Природы, рассматриваемой как иерархия разумных сил, подчинённых незыблемым законам, чем магия и отличается от Физики или Химии, трактующих силы, с которыми они имеют дело, как проявления неразумные…»
– Что за муть ты читаешь? – иронически спросил Фима, проходя мимо с пустым ведром и заглядывая издали в книгу.
– Можете не слушать, если не интересно… И не мешайте! – пародийным кокетливым фальцетом пропищал Додик и продолжал своим обычным голосом: «…мы вправе спросить…»
– Какие, к чёрту, разумные силы?!
– «Мы вправе спросить… У ТАКИХ, КАК ТЫ, – подчеркнул Додик, – разве не должен закон эволюции прилагаться к физическим силам так же, как он прилагается ко всей остальной Природе, и осмелимся ли мы назначать какие бы то ни было границы превращениям энергии в любой её форме?»
Теперь с интересом слушая и борясь со сном, но, кажется, окончательно засыпая, Жора почему-то запомнил последнее, что прочитал Додик:
– «Практическая магия представляет искусство воздействовать динамизированной человеческой волей на эволюцию ЖИВЫХ СИЛ ПРИРОДЫ в смысле её ускорения…»
Потом он окончательно погрузился в сон и увидел во сне это озеро и этот берег, но всё было совершенно иначе.
Давно наступил вечер. В том месте, где лежал сейчас Жора, на раскладушке, стоял этакий господский особнячок с колоннами, небольшой, но со вкусом. Окна были ярко освещены, из этих больших, настежь раскрытых окон, с лёгкими занавесками на ветерке, лились звуки мазурки. И полная золотая луна висела над крышей дома.
Две тени, едва различимые в лунном свете, отделились от колонн у крыльца и скрылись на берегу.
Жора вздрогнул, потряс головой и отогнал видение. Но он не проснулся, он всё ещё продолжал видеть сон, только другой, и глазами совершенно другого человека – высокого, широкоплечего атлета… Жоре казалось, что это он сам, в трущем шею воротничке и чёрном фраке, опирается на дверной косяк и смотрит в зеркало… на самого себя. Из зеркала смотрел на него индус – индиец или цыган, с чёрными кудрями до плеч, статный красавец. В других зеркалах отражались и стоявшие сзади люди – молодой гвардеец в военной форме, какой-то толстяк с очень умными для такого добродушного лица глазами, одетый в элегантный европейский костюм, но, кажется, это просто купец или фабрикант – на таких ему довелось насмотреться в Петербурге… Опирался на тросточку какой-то лощёный щёголь в смешных клетчатых панталонах – карикатурно одетый, с тонкими подкрученными вверх усиками и напомаженными волосами. «Точь-в-точь персонаж из “Павлинки” – типичный шляхтич» – вдруг всплыло уже в собственном, Жорином, сознании, и он в недоумении опять посмотрел в зеркало прямо перед собой, и увидел одетого в парадный фрак черноволосого атлета со жгучими цыганскими глазами. Он вздрогнул и посмотрел назад…
Он оглянулся и стал глядеть на всех – все смотрели куда-то мимо него, куда только что смотрел он сам, но смотрели как-то растерянно, удивлённо. А он вдруг почувствовал боль в груди и стремительно зашагал из зеркальной залы через ярко освещённую веранду. Шагнул на крыльцо и замер… Он запомнит этот миг навсегда…
Стеклянные двери распахнуты в тихую летнюю ночь под луной. Сияющий жёлтый шар отражается в озере за чёрной стеной деревьев, и тонкая женская тень в светлом платье мелькает между колонн… Она вот-вот потеряется в темноте.
Странная сила, сильнее которой только любовь к Родине, влекла его за этой тенью. И он знал: он не поедет сейчас в Америку. Теперь его путь – обратно, на его родину. Он вернётся домой, и только Индия его излечит, даст ему новые силы для дела, которому посвятил жизнь.
Он застыл, он глядит на берег, на мерцающую в чёрном зеркале лунную дорожку, и провожает глазами две тени, что медленно удаляются от колонн.
Глава 12. Именины пани Зоси
Солнце разбудило его так же рано, как прошлым утром – окна выходили на восток. Солнце было таким же ослепляюще ярким и совсем чужим – северным холодным солнцем. И, так же как вчера утром, в доме стояла тишина, хотя он знал: в соседних комнатах спят не разъехавшиеся после именин гости, ночью отбыл в свой маёнтак только один живший по соседству шляхтич.
Вчера они все в этот час так же спали – уставшие, приехавшие накануне вечером на именины к хозяйке. Но каждый из них спал с надеждой в сердце.
Сегодня, он знал, все проснулись совсем с другим чувством.
Надежды не было и в его собственном сердце. Ему не хотелось сейчас вскочить, как сутки назад, – вскочить и броситься поскорей из дома – окунуться в это сверкающее утро, попасть в объятия этой цветущей, такой новой для него природы. Он увидел её впервые месяц назад. Тогда она только просыпалась. А вчера…
Нарен закрыл глаза и принялся заново переживать в памяти вчерашний день.
* * *
Из распахнутого окна комнаты с верхнего этажа усадьбы виднелись дали лугов и перелесков. Такой же вид открывался и с дороги, но она поднималась всё дальше вверх, и Нарен стремительно зашагал вперёд к лесу.
Позади, за садом, осталась усадьба в окружении серебристых бальзамических тополей, а слева – парк и лужайки с сиренью. Потом с двух сторон подступил к дороге молодой сосняк – светлый, ухоженный, с тяжёлой от росы хвоей в серебряных проблесках солнца, но скоро лесная дорога поднялась на вершину холма и упёрлась в другую, обсаженную живой изгородью. За кустами боярышника угадывался обрыв и открывался такой простор, что Нарену вспомнились слова Римаса: «Здесь наша северная Швейцария…»
Вспомнились родные горы – предгорья гор, ибо всюду с обрыва он видел холмы, поросшие лесом, луга на далёких склонах и синеющие в крутых берегах изгибы озера.
Ноги сами понесли его вниз по дороге. Ему хотелось бежать и вдыхать вольный воздух этих просторов. Они открывались справа – по-весеннему зелёные луга, поля, горки и перелески. А слева вдруг кончилась живая изгородь. Открытый склон холма был обсажен липами. Липы начинали зацветать, тонкий медовый дух висел над дорогой, посреди поляны стояла каплица под огромной Вейморовой сосной… Ноги несли его дальше, вновь начался подъём, и дорога влилась в старый лиственный лес.
Высокий лес кончился, и Нарен увидал впереди перекрёсток. За перекрёстком лес был другим – сосны и ели окружали песчаную дорогу. Место показалось знакомым. «Дорога на Вильню… По ней шёл Наполеон!» – рассказывал ему Римас, когда вчера в сумерках подъехали к перекрёстку, и тогда они повернули вправо.
Нарен пошёл прямо, по незнакомой дороге, она по-прежнему спускалась вниз.
Хвойный лес по левую сторону дороги стал редеть, сделался светлым, солнечным, сосны и ели стояли далеко друг от друга, и за ними просматривалось изумрудно-зелёное пространство.
Нарен увидел тропинку и пошёл по ней через лес. Скоро сухая хвоя под ногами сменилась зелёным мхом, но тропка угадывалась и среди кочек.
По кочкам росли только кустики голубики да редкие карликовые сосенки, а мох делался более влажным и глубоким, на нём, точно в мягком бархате, зелёными бусинами лежала клюква. Конечно, это было болото, а в центре его Нарен увидел круглое, словно блюдце, озерцо.
Под ногами стало неприятно чавкать, но Нарен решил добраться до озера, да и болото не было обширным – там, сразу за озерком, к открытому изумрудному пространству подступала тёмная стена сосен.
Из лесу показался тонкий девичий силуэт в светлом платье. Девушка двигалась через болото, быстро приближаясь к Нарену. Он смутился, узнав паненку, хозяйку поместья, но скрыться здесь было негде, да и поздно было бежать на глазах у девушки обратно в лес.
Он подошёл к озеру и стал смотреть на воду. Вода была чистая и прозрачная, но из-за торфяного дна озеро казалось чёрным сверкающим камнем или бездонным зеркалом с маленькими белыми лотосами у берегов.
– Не стойте на этой кочке! – воскликнула пани Зося. – Она обвалится! Вы тяжёлый! – И после того, как они обменялись приветствиями, принялась весело объяснять: – Я с этой кочки прыгаю в воду и выбираюсь на берег – это мои мостки. Здесь больше такой нету, и в другом месте трудно выбраться из воды – озеро очень топкое, а берега – сами видите…
На ней было белое простое платье, которое очень шло к её великолепной фигуре. Глаза – сияющие, как у индийских женщин, и волосы – тоже роскошные, только светлые, точно вспыхнувшая на солнце золотая пряжа. Но прекрасней всего была улыбка…
В руках он увидел сетку, а в сетке – книжки, одна лежала вперёд обложкой, и за ней пробкой вниз торчала пустая бутылка из-под мадеры: название на этикетке тоже легко было прочитать.
Пани Зося проследила за его взглядом и весело рассмеялась, поглядывая то на бутылку, то на краснеющего Нарена:
– Хороша барышня! Расхаживает с бутылками по лесу! Ха-ха-ха!
Молодой человек тоже начал смеяться, так заразительны были её искренность и веселье, и вдруг почувствовал, как почва под ним заходила ходуном. Он поскорее соскочил с кочки и оказался так близко к девушке, что ещё больше смутился и неловко застыл в растерянности.
Пани Зося перепрыгнула на его место. На солнце её глаза оказались совсем другими – они были то серые, то сиренево-голубые, словно фиалки. Отсмеявшись, девушка подняла вверх сетку:
– Да я просто носила в бутылке молоко, – объяснила с улыбкой, вытаскивая её из сетки. На стенках расплылись по стеклу белые потёки. Пани Зося перевернула бутылку вверх пробкой, и обложка второй книги оказалась перед глазами.
Можно было прочесть даже годы под заголовком и фамилией Достоевского.
– Вы читаете «Дневники писателя»? – удивился Нарен и опять покраснел: кажется, он сейчас мог обидеть хозяйку.
Девушка засмеялась:
– Бутылки… А теперь – Достоевский!.. Чтение не для барышень?
– Да нет… Я подумал… В глуши… здесь. Однако вы бываете и в Москве, в столице. Можете там покупать книги…
– Да, мы кажемся очень дикими, – посерьёзнела девушка и умолкла. – Только зачем в Москве? Можно в Вильне. И вовсе нет нужды ездить… – Она похлопала рукой по книгам. – Это из приложения к журналу «Нива»… Сейчас приходят бесплатные собрания сочинений – Гоголь, Кнут Гамсун, Чехов… А вообще книги выписывал ещё мой прадед. Даже во времена Великого княжества Литовского их развозили по хуторам…
– Ах, простите! Я просто – дурак! Так, кажется, я назвал слово?
Девушка одарила его очаровательной укоризненной улыбкой, потом подняла голову и внимательно посмотрела на солнце.
– Не обижайтесь! Вам не трудно было бы отвернуться? – спросила она, теперь уже дружески улыбаясь. – Это мой ритуал. Я всегда здесь ныряю в воду. Обязательно, по утрам. Вода здесь тёплая, как молоко… Только не уходите! Я очень хотела вас спросить…
Нарен отвернулся, а девушка, шурша платьем, продолжала торопливо объяснять:
– Сейчас все проснутся, я и так задержалась у своей кормилицы. Надо идти к гостям, а там не удастся поговорить… Лучше побеседуем по дороге… Можете повернуться…
Он услышал за спиной громкий всплеск и весёлый смех девушки. Почва заходила ходуном – Нарен непроизвольно оглянулся, хоть и не собирался поворачиваться вообще… Ходил ходуном весь берег, кочки тряслись, как зелёное виноградное желе.
Ему стало немножко не по себе. Но взгляд упал на воду. Вода не была чёрной. Она была такой прозрачной, словно её не было, а на фоне черного дна… плыла мраморная Венера – скульптура, оживлённая движением, и поэтому ещё более прекрасная, чем в музее, и смотреть на неё было дозволено, как дозволено смотреть на всё божественное, созданное небесами и человеком, – как смотрим мы на произведения искусства – статуи античных богов и богинь… Так уговаривал себя Нарен, не желая отвести взгляд. Да и девушка ему разрешила! Нет, она, верно, не представляла, насколько прозрачная здесь вода… Конечно, не представляла!..
Пани Зося оглянулась. Волосы заструились, как водоросли, расчёсывамые течением. Она легла на спину, и он увидел выплеснувшуюся из воды грудь, а потом… Вода была такой прозрачной, что Нарен ослеп…
«Русалка! – подумал он. – А вокруг цветы…»
Она прекрасно смотрелась посреди озера в ожерелье водяных лилий. Такая же ослепительная, как их молочно-белые лепестки.
– Это лотосы? – спросил Нарен.
– Мы их называем «кувшинки». Хотите, я вам сорву?
Пани Зося подплыла к ближайшей лилии и, оторвав её на длинной ножке, запустила в воздух, как стрелу. На мгновение он увидел в воздухе руку и грудь Венеры и вновь был не в силах отвести взгляд. Бросок был очень сильный, и лилия упала точно у ног Нарена. Индиец поднял цветок и понюхал, потом с благодарностью поклонился. Тонкий, едва заметный аромат что-то напоминал…
– Ну вот, – засмеялась пани Зося, – я, как Царевна-лягушка, послала вам стрелу. Вы её подобрали – теперь вы мой! Есть у нас такая сказка…
Впрочем, она сказала это вслух – как бы, для себя, надеясь, что он и не поймёт. Он, вероятно, и не понял, только спросил:
– А почему кувшинки – только у берегов, и нету посередине?
– О, там слишком глубоко! И поэтому есть легенда… Я вам её расскажу. Это озеро утопленниц. – Она уже не лежала на воде, Нарен видел только её лицо – обращённое к нему лицо и волосы – золотой «солнечный» ореол в воде. – Говорят, здесь топились бедные девушки, которых обесчестил пан, или просто от несчастной любви. Тонули они, естественно, на глубине… И считалось, что перед смертью каждая утопленница обязательно срывала кувшинку, потому что в последний момент в ней просыпался страх и желание жить – уже погружаясь на дно, она пыталась за что-нибудь ухватиться и отрывала стебель… Да было поздно!
– Поучительная легенда.
– Нельзя ухватиться за соломинку…
– Нельзя лишать себя жизни!
– Вы так думаете? Между прочим, теперешние девушки не топятся. Говорят, число кувшинок не меняется много лет. Я, правда, не сравнивала, но, считается, если оно уменьшится на одну – значит, кто-нибудь утонул.
– Зачем же вы сорвали?
– Я же не суеверная.
– Совсем-совсем?
– Я не верю в суеверия и не верю в бога.
– Странно слышать это от девушки. Может ли женщина…
– Я тоже об этом думала. Всё зависит от семьи. Не верил мой отец, и дед не верил… А женщины в нашем роду не выживали. Но ведь и вы тоже… Конфуцианство и даосизм – религии, где нет бога. А точней, это просто философские системы… И Римас мне говорил, что в буддизме тоже его нет, вернее – множество почитаемых святых. Ведь Будда был человеком?
– Да, Будда – человек, который не просто стал богом, он стал законами…
– И в этом разница! Различие наших религий. Православие не может допустить этакого кощунства: человек – бог! Поэтому я православия не признаю, и вообще не верю.
– Не верите ни во что?
– Ну, может быть, только в силу… Какую-то силу природы, сотворившую этот мир. Но ни в коем случае не разумную…
– И вы… сердцем не чувствуете?.. – Нарен был глубоко потрясён.
– Давайте поговорим по дороге! Для меня это слишком… слишком больно, – добавила она почти шёпотом и быстро крикнула: – Отвернитесь!
Нарен отвернулся, понюхал цветок, а потом услышал всплеск и громкий крик девушки. Он непроизвольно повернул голову. Весь берег опять ходил ходуном. Но хуже всего было то, что пани Зося в окружении чёрных брызг падала навзничь в воду… Она ещё хваталась за кочку, которая медленно, на глазах Нарена отрывалась от берега. Часть кочки держали какие-то корни, но груда земли уже обваливалась в воду, а в руках девушки оставалась только охапка мха…
Наконец, пани Зося плюхнулась спиной на поверхность озера – теперь уже чёрного от взбаламученного на дне торфа.
– Не бойтесь, я хорошо плаваю! – успела крикнуть она и погрузилась в торфяную жижу с головой.
Она вынырнула на середине озера, всё ещё перепачканная, как негр, и с грязными волосами. Потом выплыла на чистую воду, легла на спину на воде и стала тщательно выполаскивать волосы двумя руками, то выныривая, то погружаясь с головой.
«Русалка!» – опять подумал Нарен.
Послышался всплеск… И что-то опять упало в воду.
Куски земли у злополучной кочки продолжал обваливаться с берега, но торфяное болото под ногами перестало колебаться.
– Уходите оттуда! – крикнула пани Зося. – Туда, к сухой коряге! И станьте в зарослях голубики!
– Но как вам теперь выбраться?
– Попробую у коряги. Раз я там заходила. Там лежат два камня, только, кажется, – глубоко…
Нарен подошёл к воде, посмотрел на дно. Там действительно лежали два небольших валуна, и вовсе не глубоко, а у самого берега.
Верно, уровень воды упал? Да и за сухой ствол дерева, что свешивался над водой, можно было ухватиться, хотя… Его страшили болота, и даже в голову не пришло отвернуться от обнажённой нимфы, он боялся за её жизнь.
Девушка подплыла и, не замутив воды, встала на камни.
– Словно специально положили! – сказала она, поглядев себе под ноги, и с облегчением вздохнула. Вода доходила только до колен. Она ухватилась за торчащее из зелёного мха основание коряги, и трухлявое деревце закачалось.
– Вам придётся подать мне руку. Лучше не рисковать!
Стараясь не смотреть на девушку, Нарен протянул руку и почувствовал маленькую ладонь, такую же прохладную, как цветок.
Другой рукой пани Зося ухватилась за основание ствола, но он внезапно поддался и вырвался из мха вместе с сухими корнями… Всё деревце свалилось в воду. С берега уже знакомо стала обваливаться земля… В образовавшуюся под корчом пещерку тут же хлынула тёмная, перемешанная с торфом вода… Но оба успели заметь, как подо мхом что-то сверкнуло… Яркий золотой луч вырвался из глубины и полетел к солнцу…
Луч ослепил Нарена и острой иглой пронзил его память… Цветок выпал у него из рук. Он увидел всю свою жизнь – прошлую и будущую до самой смерти и саму смерть – увидел в одно мгновение и понял, что сейчас – самая прекрасная минута его жизни… И ему хотелось, чтобы она длилась вечно, но он знал: этого не будет. И ещё он понял, что не поедет теперь в Америку…
Тем временем пани Зося, тоже приметившая загадочное сияние, запустила руку в образовавшуюся под корчом пещерку, которую тотчас начало засыпать комьями обваливавшейся земли. Пальцы нащупали какую-то тряпку… Девушке стало любопытно. Вдруг клад? Она вытащила мокрую чёрную материю и неловко отшвырнула её на берег, прямо под ноги молодому человеку.
– Простите, я вас забрызгала!
Однако индиец её не слышал. Он застыл в каком-то тихом трансе, отвернувшись и глядя в сторону. Девушка усмехнулась, решив, что это он от смущения, и продолжала шарить рукой в пространстве, которое всё быстрей заполнялось илом.
Пальцы нашли что-то гладкое и тяжёлое, и ей едва хватило силы вытащить это из воды. А потом вдруг сверкающая золотая штуковина сама потянула за собой пани Зосю… Она почувствовала, что летит – поднимается из воды, и, глядя на свою вытянутую вперёд руку со странным золотым цилиндром, устремившимся прямо к солнцу, совсем не поняла, что происходит.
Индиец стремительно наклонился, потом быстро изо всей силы ухватился за цилиндр, а другой рукой накинул на него мокрую чёрную тряпку, обдав пани Зосю брызгами болотной жижи.
Девушка поморщилась, но с облегчением поняла, что полёт прекратился. Она почувствовала, как плавно опускается в воздухе и как её ступни погружаются в мягкий мох.
Индиец тоже с облегчением вздохнул.
Пани Зося стояла рядом, и вдруг, опомнившись, но по-прежнему ничего не понимая, оттолкнула его руку с тряпкой, обдав его и себя каплями чёрных брызг. Она стояла – вся в торфе, нагая и обворожительно-прекрасная, с прилипшими к плечам волосами…
– Спасибо! Отвернитесь! – сказала она и насмешливо, и в то же время с досадой, быстро вырвала свою руку и, опустившись на колени, принялась вытирать мхом попавшие на тело брызги.
Выпустив её ладонь и не в силах отвернуться, Нарен сразу же закрыл глаза и теперь просто стоял, зажмурясь, и молча произносил молитву, держа в руке нечто, накрытое грязной тряпкой. Он снова видел перед собой смерть и всю будущую жизнь до самой смерти, и понял, почему не в силах будет поехать в Америку… и знал, что эта минута – самая прекрасная! Он видел всё это своим внутренним взором, но ощущал рядом только ЕЁ… и понял, что они будут любить друг друга, разделённые расстоянием, до самой смерти.
Пани Зося отскочила к своему платью, а он стоял с закрытыми глазами, как слепой…
А третий человек наблюдал за ними из-за ёлки на краю болота. Это был старик в лохмотьях, с седой бородой и обликом нищего бродяги. Он приметил юношу ещё с дороги и шёл за ним, словно тень, скрываясь за стволами деревьев. Он видел всю странную сцену у маленького озерка, а сейчас ему слышно было каждое слово.
– Что это? Вы прячете его обратно? – воскликнула девушка. – Это золото?
– Ценнее золота. – Индиец, лежа на животе, подползал к берегу. Он держал в вытянутой левой руке нечто, обёрнутое тряпицей, и принялся заталкивать этот предмет в глубину торфа, под мох… В правой согнутой у груди руке, как только он кончил ею отталкиваться и перестал ползти, что-то сверкнуло. Яркие лучики вспыхнули и загорелись на солнце. Нарен вздрогнул, сжал в кулаке неведомое маленькое сокровище, а завёрнутый в тряпку предмет в левой руке принялся ещё глубже опускать в мох. Наконец, его рука погрузилась по локоть в землю…
Девушка поправила платье и быстрым движением завязала поясок. Потом она подскочила к берегу и, присев на корточки, закрыла от наблюдателя вытянутую руку лежавшего на мху мужчины.
– Но скажите, что это?
Юноша произнёс тихо несколько фраз.
– И вы не желаете быть вором? Кладёте на место… Это честно. Хотя, я не понимаю! При чём здесь какой-то палец?
Молодой человек рассмеялся. Осторожно опустил в карман то, что сжимал в кулаке, быстро поднялся на ноги и, отряхивая грязь с одежды, принялся объяснять:
– «Рог изобилия» – более древнее и распространённое название, оно отражает только суть. «Золотые пальцы Будды» редко связывают с «рогом изобилия», но это одно и то же…
– На палец и в самом деле похоже…
Молодые люди прошли мимо ёлки, за которой прятался нищий, выбрались на дорогу. Старик посмотрел им вслед, а потом, как-то очень резво перескакивая через кочки, помчался к озеру. Там он отыскал развороченный в одном месте мох, потыкал туда палкой, а потом стал смотреть на свою ладонь. Когда в ней что-то блеснуло, он одобрительно кивнул и быстро спрятал несколько золотых монет среди лохмотьев.
Нищий быстро настиг молодых людей и стал двигаться по обочине за ними следом. Он оставался в пределах слышимости и старался не попадаться на глаза. Впрочем, он мог не бояться, что его заметят. Молодые люди не замечали ничего вокруг кроме друг друга.
Сзади загрохотала телега. Мужик вёз сено. Лошадь шла медленно и лениво. Нищий углубился в лес и догнал молодых людей только за перекрёстком, где лошадь свернула влево.
– Но это же парадокс! – восклицала девушка. – И неразрешимый! Вы говорите: «рогом» не может управлять вор, человек бесчестный! А вы – не вор! – не желаете употребить его для доброго дела! Взять, чтобы накормить голодных! Можете, а не хотите!? Откуда тогда известно про его изобилие? Кто пробовал им пользоваться?
– Только легенды… Я видел «рог изобилия» на рисунках. На стенах храмов. Им пользовались лишь боги и бодхисаттвы, когда приходили на Землю, чтобы помочь людям…
– И что там на этих рисунках? – перебила девушка.
– О, всё, что угодно! Из «рога изобилия» появляется много разных плодов, обилие яств, хлеб, рыба. Прекрасные девушки! Всяческие предметы роскоши и одежда…
– Вот и везите его в Индию! Накормите… всех, если можете этим пользоваться! Ведь можете?
– Могу… – прошептал Нарен и остановился.
Пани Зося тоже замерла возле него посреди дороги.
– Я узнал это только сейчас, что могу! – взволнованно заговорил Нарен. – Это случилось вдруг само собой! Помимо воли… Я держал тогда в руке «Рог изобилия» и пытался спрятать его подо мхом в прежнем месте. Я смотрел в воду, а перед глазами были кувшинки. И вы… Я думал про ваш день рождения.… Мне так хотелось вам что-нибудь подарить – такое же замечательное, как цветы и Вы сами… Достойное Вас! Я вдруг вспомнил: у моей бабушки был золотой лотос – драгоценное украшение. Сколько раз я держал его в детстве в руках, любуясь тонкой работой. И неожиданно… я почувствовал в руке вот это… – Нарен опустил руку в карман и протянул девушке сверкавшую на солнце брошку.
Но это была не брошка, а медальон – золотой лотос размером с ромашку, со слегка загнутыми внутрь золотыми лепестками. Изнутри они казались покрытыми капельками росы: это были чистейшей воды алмазы, обработанные не как обычно, а в форме капель. В центре радужно переливалась крупная жемчужина в обрамлении жёлтого венчика из тончайших золотых тычинок.
– Возьмите! – сказал Нарен.
Медальон был с цепочкой – кажется, золотой, тяжёлой.
– Но это же очень дорогая вещь…
– Очень, – прошептал Вишидананда. – Но вы достойны этого подарка. Великий Брахма, думаю, не рассердится на меня за это… В сердце моём не было корысти, и «рог изобилия» не был использован ради алчности…
Девушка вдруг схватила за руку молодого человека и потащила его назад по дороге.
– Вы глупец! Вы наивный глупец! При чём тут алчность!? Вы не должны были бросить его в болоте… Везите в Индию! Вы должны, вы просто обязаны это сделать! И выкиньте из головы вашу глупость! Принесите пользу наконец своему народу! Реальную, а не одни нравоучения и морали! Накормите его! Почему вы думаете, народу нужны ваши проповеди? Ему нужен хлеб!
– Прежде всего Индии нужна свобода! Её народ должен стать свободным. И моя цель – добиться этой свободы!
– Мы тоже – колония! – вспыхнула пани Зося. – Но, прежде бы я накормила всех!..
– Нет, поверьте! Золотой палец Будды не только способен дать людям хлеб, или превратить в золото всё, к чему прикоснётся. Он воплощает чаянья и приумножает Дух! Но там, где нет места Духу, откуда его изгнали, где в обществе нет духовности, а есть рабство и нет свободы, он приумножит обратное – бездуховность… Опасность, поверьте, в этом!
– Мы слышим – дух, дух! А что это? – вырвалось у пани Зоси.
Вишидананда остановился, с удивлением посмотрел на девушку.
– Да! Что вы под этим понимаете? – её глаза сверкали. – Наши попы, которых, честно говоря, я не очень-то уважаю, тоже твердят про свою духовность, жизнь в духе. Только в чём их духовная жизнь, скажите? В том, что твердят молитвы и благодарят творца? – она посмотрела в глаза спутнику. – Что-нибудь хорошее они делают?
Тот по-прежнему силился понять и молча слушал.
– Так скажите же, разве приверженцы любой религии, даже я, атеистка, видя рассвет, не чувствуют в сердце прекрасное и не преклоняются перед высшим?.. Перед природой, перед красотой? А у наших попов всякая светская живопись – бесовство! Почему, спрашивается, почему? Почему только икона?! А Рафаэль, Леонардо, Рембрандт? Чем хуже наши художники пейзажисты?! Да и театр, и музыка для попов – бесовство. Но в чём же тогда духовность, как мы эту духовность выразим, и как мы придём к понимаю красоты, любви к ближнему? Почему дозволяется только петь хором? Чем хуже оргáн, чем провинилась скрипка? Сколько всенощных создано – и их отвергала церковь, их запрещают исполнять в православных храмах! Да в любой религии благо – это любовь к ближнему и добро! В любой! Почему же их узурпирует православие? Конечно нельзя убить, и украсть, причинить зло другому! И нельзя – потому что это бесчеловечно, а вовсе не из-за того, что так, якобы, приказал нам бог, и бог тебя за всякое неповиновение накажет… А от чего он, спрашивается, нас спасёт? И, получается, что он – спаситель, потому что его руки гвоздями прибили к дереву? Какая жестокая религия! А ведь так её преподносят попы!! Это глупо. Да и понятие божьей кары за грех и сам такой бог, которого нужно бояться – безнравственно, это не что иное, как торг! Это всё для неразвитого ума, для дикарей! Так в каменном веке должны были преподносить религию, не сегодня. А, знаете?.. Попы называют верующих рабами! Рабы божьи! Их заставляют чуть ли не бить головою в пол, часами стоять на службах. Где здесь любовь к человеку и где уважение к нему? Сесть-то им – верующим… в церкви-то, почему нельзя?
– Не то всё, не то… – прошептал индиец. – Не о том вы сейчас говорите! Ах, какие всё это догмы!.. То есть, вы… всё говорите правильно! Суть всех религий, истинная и благотворная – в тех двух словах, что вы сейчас сказали! Вы их точно произнесли: любовь к ближнему! Я… я бы мог вам объяснить, и что такое Дух! Сила, вездесущая душа Вселенной! Я мог бы и повторить вечный спор науки с религией: что первично – душа или тело? Рассуждать про такое понятие, как «Атман» – вселенская вездесущая душа и духовность! И я мог бы рассуждать о том, она ли первична, она ли рождает и собирает из атомов наше тело, которое потом порождает Дух и становится Буддой… Или первична материя? Протоплазма? И из неё развивается человек, как моллюск, в итоге достигая совершенства? И пусть, он – моллюск, развившийся из протоплазмы, но в моллюске уже заключён Будда! И все мы едины в том, что называем Атман – в этой душе Вселенной, и все мы есть эта вездесущая душа, и главная суть – в ней, вот в этом… единстве вечного. Поэтому мы должны любить друг друга! Мы – одно целое! Можно рассуждать о том, как понимает Атман индийская философия, в чём ГЛАВНОЕ всего сущего… Но весь ужас в другом – в том, что эти простые истины, которые и являются на самом деле главными в жизни людей, низведены до догм и используются совсем иначе и для другого! Они используются для власти! Я был в ваших храмах! Их служители хотят ухватить религиозный приём, метод… для собственных низких целей, для управления и одурманивания толпы… Главное же при этом теряется… А мой учитель считал…
– Рамакришна? – спросила девушка.
– Рамакришна Парамахамса!.. И он говорил всему современному миру: «Не заботьтесь о вероучениях, не заботьтесь о догматах, о ваших сектах и церквах! Всё это ничтожно в сравнении с сущностью жизни человека! Сущность – это Дух, и чем более развит в человеке этот Дух, тем могущественнее человек в делании и достижении добра, блага… Никакую религию не осуждайте, так как во всяком вероучении есть доброе… и религия – это не храм, не секта, это жизнь в Духе – осуществление такой жизни, когда человек делает добро! Только те, кто поднялся в этот мир духа, могут это понять, могут сообщить духовную жизнь другим и стать великими учителям человечества… Только они – силы Света… Прежде всего осуществляйте истину в своей личной жизни!..»
– Истина, истина! – воскликнула, перебив, пани Зося. – Всё это тоже пустые слова, и их произносят так часто, а в обществе произносящие эту истину живут по звериным законам: одни отнимают у других всё, захватывают то, что принадлежит другим… Вот истина!
– Это не истина. Это признак современного общества, его черта. Мой учитель говорил мне: «Истина не преклоняется перед обществом, это общество должно преклониться перед Истиной – преклониться или умереть… Нет! Не истина должна приспосабливаться к нашей жизни!»… И он сказал: «Если такие высокие истины, как та, которая заключена в заповеди о любви к ближнему, не могут быть осуществлены обществом, лучше пусть это общество погибнет! Лучше пусть люди разойдутся по лесам…»
– Но религия христианства говорит, что бог создал всё! А значит – он сотворил и такое несправедливое общество. Да… ОН создал ещё много чего дурного! Людские пороки, болезни! Так что же он не творил добро сам? Почему же он сотворил человека таким порочным? Вот пусть бы он сделал его разумным существом, праведником по натуре, который бы истину эту принимал, жил в мире с нею, любил бы ближнего, и делал только добро? Молчите? Нет, – человек создан был по другим законам! По другим принципам творил этот жестокий бог. Я не знаю, кто – Брахма или Всевышний… И слава богу, что его нет!
– Постойте! Мы говорим о разном! Я только что вам сказал! В Индии…
– А я говорю о нас. И не прав был ваш Рамакришна – как можно такую религию не осуждать? Я имею ввиду нашу… Она рождает протест – бунт против бога, против всего великого и действительно божественного в природе! Возникает противоположный эффект! Такой бог всё хорошее заставляет возненавидеть! И я бы вызвала его на дуэль, ей-богу!.. Клянусь вам! – добавила искренне пани Зося. – Вызвала бы, если б он был, а я бы была мужчиной…
Нарен только молча смотрел на неё и не мог произнести ни слова. Он смотрел на девушку со странным чувством – с растерянностью, с ужасом, с удивлением. И было в его взгляде что-то такое, из-за чего старику, подглядывавшему из леса, вдруг показалось: этот юноша постиг истину и ужаснулся.
– Я скажу даже больше!.. – с жаром продолжала девушка. – Религия – главное зло! В ней – самая большая ошибка! Она – причина деградации человека, религией развратили человечество, как портят неправильным воспитанием ребёнка, взывая не к разуму и сочувствию – не к его лучшим чувствам, а применяя политику пряника и кнута! Она разрушила и мораль! Потому что ложь развращает! И истины, которые слишком часто произносятся не верящими в них людьми в целях нравоучения, достигают как раз противоположного эффекта!
– Вы созданы по-другому… – пробормотал Вишидананда. – Ваш разум слишком раскрепощён…
– Нет, вы хотели сказать другое! И это написано сейчас в вашем взгляде и на вашем лице! Вам хотелось сказать: вы созданы по-другому, вы – порочные существа!
– Всё сотворил великий Брахма! Всех людей сотворил равными…
– Нет! Я всё равно в это не верю! Знаете, мой дед говорил: тот, кто видел войну, не может уже верить в бога, а если верит – это ненормально. Это противоестественно! Мой дел много прожил, он помнит войну с Наполеоном, он в ней не участвовал, был слишком молод, но он видел её ужасы, кровавое пушечное мясо и как человека разрывает на куски, и он повторял: увидав такое, нельзя допустить, что бог есть! И я не верю.
– Неверие – свойство вашего народа? – задумчиво спросил Вишидананда.
– О, нет! Народ всегда верил. Он тёмный, и его всегда делали таким. Светлые головы вроде моего деда появлялись редко, и им всегда эти головы рубили. Я наизусть помню, что писал один из них… В семнадцатом веке! Послушайте! «Простой народ в угнетённости своей обманут более расчётливыми людьми выдуманной верой в бога, и эту его угнетённость они так сохраняют, что если вдруг мудрецы захотят его от этой угнетённости освободить, открывая истину, то мудрецов этих при помощи самого же народа и подавляют!»
– И кто же был ваш мудрец?
– Был такой Казимир Лыщинский. Он написал трактат «О несуществовании бога»…
– Никогда о нём не слыхал.
– «Религия установлена людьми неверующими, чтобы воздать им почести! – писал он. – Вера в бога введена безбожниками! Страх божий внушён не имеющими страха для того, чтобы их боялись! Вера, которую считают священной – человеческая выдумка!..»
– Всё это верно, увы… Но где доказательство, что вера – выдумка?!
– А ведь и противоположных доказательств нет. Он пытался найти свои – считал, что если бы бог был в нас, то все бы тогда поверили и согласились – и не возражали против книг Моисея и Евангелия, и не было бы создателей множества сект и последователей христианства – магометан! Что говорить о вашем многобожии и всяческих разновидностях буддизма? Но вы хотя бы терпимы. А Лыщинскому просто отрубили голову, а тело потом сожгли на костре!
– Ваша церковь будет каяться… потом… – чуть слышно прошептал Вишидананда.
– Будет, – кивнула девушка. – Но голову ему отрубили… И это-то есть христианская любовь и милосердие священников?! А ведь он к ним мирно обращался. Написали бы и отцы церкви ему в ответ – так нет же! Костёр с гильотиной – их ответы. Так разве же он был не прав? Так и хочется сказать его словами: «О, богословы, именно вы гасите свет разума, похищаете солнце у мира и свергаете с небес вашего бога тем, что приписываете богу невозможное…» Вот именно, невозможное! Тогда и просчёты ему припишите, и ошибки! Поэтому я и повторю: это к лучшему, что бога нет. Иначе такого бога можно возненавидеть, а с природы не спросишь за ошибки. И я бы никогда не простила ему свою маму…
– Маму?
– Да. Она умерла молодой, почти такой же, как я…
– Поэтому вы не любите бога?
– Я просто в него не верю. Так лучше. Разве с природы спросишь? А богу я бы этого не простила…
Нарен увидал слёзы в глазах у девушки, взял у неё из рук сетку и, чтобы как-то отвлечь, спросил:
– Ваша кормилица читала «Дневники писателя»?
Теперь они опять повернули в сторону усадьбы. Пани Зося украдкой вытерла глаза.
– Она не слишком образованная женщина, чтобы их читать. Книги вернул мне через неё другой человек…
– Римас сказал, что ваша кормилица – колдунья… Да и вы… недалёко от неё ушли… Или я понял… неверно?
– Что вы имеете в виду?
– Мне сказали… ваш дед был женат на ведьме!
– Это Римас вам наговорил? – засмеялась девушка. – Женат был не дед. Это было слишком давно. Есть такая семейная легенда… Во времена Великого Княжества Литовского, ещё при великом князе Казимире один наш предок должен был взять себе в жёны… по всяким политическим соображениям дочку какого-то Московского князя… Принять православие… чтобы наладить отношения с Московией. Но он этого так и не смог сделать. – Девушка вздохнула. – Женился на простолюдинке. Говорят, была удивительная красавица… и колдунья… Выдумки всё, конечно!
– А с тех пор это «всё» передаётся по наследству?
– Не думала, что вы способны шутить… К сожалению, передаётся другое! Рассказывают, что князья московские послали проклятие… Они прокляли всех женщин в нашем роду вплоть до десятого колена – чтобы те умирали в родах, а на десятой род должен был прерваться.
Нарен посмотрел на девушку с тревогой. Она только засмеялась:
– Я ещё не десятая, но уже скоро. Красавица-колдунья тоже оказалась не так проста: много столетий девочки в семье не рождались. А потом!.. Но это всё суеверия! Я в эту чепуху не верю! – вспыхнула пани Зося. – Просто начались несчастья. Женщины в моём роду умирали при первых родах. Только мама …умерла, когда родился Петя. Я её хорошо помню… А потом маму мне заменила кормилица. Сейчас она пожилая женщина. Да и мне сегодня – двадцать семь… Она живёт вместе с нами, но лето любит проводить одна в старой избушке в лесу. Ягоды собирает, сушит грибы и травы. А я вот… ношу ей кое-что с кухни…
– И молоко?
– Да. Она пьёт его с травами… как англичане. Ну, а сегодня, конечно, – гости… Напекли пирогов с утра. Отнесла ей пирожных и жареного цыплёнка. Надо спешить, Нарен! – заволновалась девушка. – Мне неудобно, гости… уже проснулись.
– И каждый из них вас любит и хочет заполучить для себя?
– Но это же невозможно, – улыбнулась девушка.
– Почему?
– Невозможно, наверное… – она продолжала улыбаться.
– Разве можно получить солнце?! Да? Оно для всех! В этом, наверное, суть искусства – оно даёт нам всем красоту. Красоту – для всех, и для всех – ощущение любви.
– Вы – философ!
– А я думаю, вы намеренно оттягиваете свой выбор. Зная, что в вашем роду женщины умирают в родах…
– Вы ещё и врач!
– Мой учитель не был врачом, но к нему шли и излечивались…
– Вы правы! И я сегодня свой выбор сделаю, тянуть не стоит! Сделаю ради них, ведь каждый из них надеется и ждёт… напрасно.
– И кто же из них ваш избранник?… – Нарен представил мысленно всех гостей, они были такие разные…
– Да всё равно! Кто угодно!
– Нет, я хотел сказать… кого вы любите – одного?
– Я их всех люблю! Господи, вы удивлены?! Но это правда! Разве бы я позволила им приехать? Я была влюблена в каждого из них в своё время и знаю всех долгие годы, кого-то с детства, кого-то встретила совсем недавно…И продолжаю любить.
Нарен только качал головой и не мог оторвать от неё взгляда… Вдруг он подумал: «Она права… Как ей быть? Здесь ошибка в планах Творца, он не так устроил наш мир… Если… все они её любят и достойны этой любви, а она выберет одного – справедливо ли это по отношению к другим?»
– И вы… всех действительно любите?
Пани Зося невесело рассмеялась:
– Вы по-прежнему мне не верите? А как же заповедь о всеобщей любви к людям?
«Но это… совсем другое!» – хотел сказать Вишидананда, но слова не смогли вырваться из груди, потому что он понял: «Нет, не другое…Это он хотел сказать ей сейчас ложь!» И он вспомнил суровую местность в Тибете, где трудно выжить, и где совсем недавно в нелёгкий момент его странствий его спасла, приютив у себя, одна семья. Семь братьев имели одну жену, и каждый из них удивлялся иным порядкам, им казалось безнравственным и эгоистичным желание иметь жену только для себя!
– О всеобщей любви говорил не только ваш учитель, Нарен! Это, пожалуй, лучшее, что есть у Достоевского, и в христианстве оно тоже есть! Я в детстве часто задумывалась, как можно любить всех людей? Всех… Признайтесь, что понять это нелегко. Весьма непросто! Но в отношении детей – тут, пожалуй, легче, потому что детей можно любить всех. Только, знаете… – Она несколько секунд молчала. – У меня бывает такое мучительное чувство, оно именно мучительно, как болезнь… Вдруг, глядя на крестьянских детей, испытываешь острую жалость к какому-нибудь мальчишке, который играет вместе с другими, гоняет мяч, как все, или сидит за партой – до того острое чувство, что его трудно перенести! А в последнее время оно появляется всё чаще. Дети, деревенские дети вызывают острую жалость, как будто их ждёт какая-то страшная судьба.
– Ваш брат вызывает такое чувство?
– Нет… Я просто люблю Петю! Вы думаете… это предвидение? Можно ли будущее предвидеть?! Как обернётся у каждого судьба?
«Можно ли будущее изменить!? – вздрогнул Нарен. Вот что было для него сейчас важно. – Можно ли, если уже знаешь!» Он знал всё, что будет с ним после, он увидел это в одно мгновение, тогда, стоя рядом с ней на кочке…. Только, вдруг, это было наваждением? Поэтому он сказал:
– Зося, я тоже вас люблю! Я думаю, вам нужно поехать со мной в Америку. Я еду туда, чтобы рассказать миру про страдания моей родины, ей нужна свобода. Я думаю, надо поехать вам. Там развивается правильное общество, и люди там свободны от предрассудков, там медицина, там наука. Там женщины не умирают в родах. Им делают операции и переливают кровь.
– Я думаю, – ответила она просто, – я тоже вас люблю! Быть может, я смогла бы стать спутницей в вашем путешествии, думаю, такая спутница вам бы подошла. Но вам не нужна спутница, обременённая семьёй! А я не смогу бросить папу и брата! Они без меня пропадут, Нарен! Я хочу поблагодарить вас за подарок! – Она смотрела на него своими сияющими глазами, и они говорили больше, чем слова; прекрасней мгновения он не помнил. – Как вас благодарить?
Нарен проглотил комок в горле и покачал головой – он вдруг снова увидел всё, что с ним будет… Поэтому он сказал:
– Просто пожелайте мне…
– Чего?
– Индия… Индии… нужна свобода!
– Может быть, вы её и добьётесь!.. Что бы там ни говорили, а миром движет любовь.
Девушка быстро подошла к молодому человеку, тот трепетно склонился к её лицу, и она его поцеловала.
Поцелуй длился долго, и старик в лохмотьях, который смотрел из леса, вдруг поднял руку, стиснутую в кулак, и с досадой рубанул по воздуху, словно саблей. Он дёрнул себя за бороду, и борода полетела в траву. Он сорвал с головы седой парик, потом выплюнул что-то изо рта – и оказалось, что он молод и красив. Ему было не более сорока, или гораздо меньше того. Он был строен, черноволос, с тонкими усиками под гримом и лёгкой сединой на висках.
Когда молодые люди, пройдя мимо придорожной каплицы, скрылись из виду, незнакомец вышел на середину дороги и, глядя на перекрёсток, замахал рукой.
Послышался стук колёс, и карета, ждавшая не перекрёстке, быстро поехала ему навстречу.
– Одежду! – бросил кучеру незнакомец, срывая с себя лохмотья, и невысокий коренастый слуга с хитрым взглядом раскосых глаз подал брюки, потом – пиджак, сшитый по столичной моде.
Прежде чем сложить в мешок весь свой гримировочный антураж, молодой человек вытащил из бесформенных лохмотьев золотой брегет на цепочке и две новенькие золотые монеты.
* * *
Нарендранат Вишидананда опустил голову на подушку и вздохнул. Солнце уже не светило в окно. Оно ушло вверх, за верхушки деревьев.
Он представил вчерашний поцелуй девушки, их возвращение в усадьбу и переполнявшее его чувство счастья… Такие, как пани Зося, дарят всем это чувство, они вызывают его в душе – и поэтому благословенны, и прекрасны, как музыка, их явление на земле сравнимо с величайшими шедеврами искусства – они дарят всем ощущение любви, и в нём больше блаженства, чем в религии… Внезапно он закрыл глаза. Дальше вспоминать не хотелось. Хотелось поскорей встать, собрать вещи и сесть в дорожную карету, чтобы в смене дорожных пейзажей обрела забвение его память, но память навязчиво оживляла самую мучительную картину и последний миг счастья.
Он вечен, этот прекрасный миг… Солнце светит на белые мраморные ступени. Пани Зося неспешно поднимается по широкой мраморной лестнице…
Нарен шёл рядом, и душа была на пороге Нирваны, его заполняло чувство счастья – ощущение любви… И вдруг там, у крыльца остановилась карета. Девушка оглянулась, из кареты выскочил незнакомец, и они посмотрели друг на друга… Их взгляды встретились… Нарен перехватил её сияющий взгляд – он увидел эти прекрасные фиалковые глаза – и двери Нирваны захлопнулись навсегда, радость ушла из сердца. Так отхлынет вдруг ласковая волна во время отлива…
А ведь ничто не предвещало такого завершения прогулки! Они вместе шли по дороге, в лесу весело пели птички. Солнце ласково золотило ветки цветущих лип и волосы девушки, ярко вспыхивала роса в траве, и сверкали алмазы в лепестках золотого медальона на шее красавицы. А вокруг были вольные склоны холмов – зелёные дали лугов и перелесков… Позади остались каплица и озеро за кустами, всё было, как в сказке.
У дома их уже встречали… Гости несколько волновались, но ни у кого не было повода горевать, все были веселы и смеялись. Всё случилось, когда стали заходить в дом.
К крыльцу подкатили сразу две кареты. Из одной вышли отец пани Зоси с её братом. Они вернулись из Вильни, где был окончательно выбран для Пети университет. В другой карете приехал столичный следователь…
И радость ушла из сердца, хоть внешне всё шло своим чередом: был завтрак, счастливые улыбки хозяйки и шумные поздравления с днём рождения. Гости преподнесли подарки. При этом, правда, вышел конфуз… Сути Нарен не понял, только догадывался, что девушка потеряла серёжку, видимо, в шутку пообещав, что выйдет замуж за того счастливца, которому посчастливится её найти. «Счастливцами» оказались сразу двое – московский купец, друг и покровитель семьи, и местный шляхтич. Да ещё пронырливый мужичонка по имени Фома, из пришлых батраков, нашёл точно такую же в озере, где паненка купалась. Двое «счастливцев» вынуждены были признаться, что приобрели «находки» у Фомы, и тогда молодой гвардеец, которого звали Серж, с виду просто мальчишка, тотчас предположил, что Фома заказал поддельные у цыган, чей табор уж который год стоял неподалёку и где Фома купил точно такого жеребца, какого Серж приглядел себе прошлым летом. А ведь цыганы, как всем известно, торгуют не только лошадьми, но и краденым, и потому связаны с ювелирами…
И красавица, посмеявшись, что вдруг оказалось целых три «жениха», пообещала огласить свой выбор вечером.
Вечером намечался праздничный ужин во флигеле на живописном озёрном берегу, но прежде должен быть состояться обед, а перед обедом – сразу же после завтрака и недолгой отлучки в карете следователя и его слуги – все желающие вместе с виновницей торжества отправились на прогулку по окрестностям. Поехали на лошадях. Только трое кроме Нарена остались провести время в саду, где спасал от зноя лабиринт тёмных аллей, а в тенистых уголках были расставлены столики с прохладительными напитками. Грузный и мучившийся от жары московский житель, немолодой отец пани Зоси и столичный следователь удалились в глубину парка, оставив индийского гостя читать книжку на тенистой скамейке.
Их прогулка длилась недолго. Очень скоро Нарену послышались голоса с соседней аллеи. Слова раздавались отчётливо, но из-за зелёной стены густых тёмных елей он не видел людей. Люди не видели и его. Потом заскрипели стулья. Все трое усаживались неподалёку за столик, отделённый от его скамейки только зарослями сирени.
Временами ветер доносил звон стекла, громкие возгласы двух удивлённых слушателей. Отчёт следователя звучал сухо и деловито. Поначалу это был только отчёт о деле с чередой зверских убийств, для расследования которых и был нанят столичный знаменитый детектив.
Нарен не мог заставить себя уйти, хоть знал, что поступает нечестно. Он понимал с трудом, напрягая всё своё внимание, и голос рассказчика заставлял его содрогаться. О такой жестокости ему слышать не приходилось. Там, где он странствовал, случались убийства и грабежи, но на его родине не слыхали о бессмысленном и безжалостном кромсании стариков и детей – их зверски резали на куски, вырезали сердце и внутренние органы. «Мы – порочные существа… Этот бог творил по иным законам…» – вспоминались ему слова девушки. Неужели она права, и эти светлокожие светловолосые люди были созданы совсем иначе? Нарен устал слушать анатомические подробности. Он застыл, бессмысленно глядя в книгу. Только тогда, когда речь пошла про убийцу, стал прислушиваться с интересом. Убийца, поиски которого заняли более месяца, был найден сегодня, вернее, был обнаружен его обезображенный труп на дне одного из крупных здешних озёр. Труп представлял собой сине-багровый мешок с окоченевшим месивом свернувшейся крови и переломанных костей, как будто человек падал с невероятной высоты. Труп лежал неглубоко в воде, где били подземные ледяные ключи, и не подвергся быстрому разложению. Можно было предположить, что человек потерпел аварию на воздушном шаре, остатки которого пока не найдены, и, упав на высокий берег, скатился в воду. Личность обвинявшегося в убийствах была установлена по некоторым документам и именному медальону, которые были на трупе, а труп был достоверно опознан свидетелями. Привязанная к поясу котомка, наполненная золотыми монетами, в силу изрядного веса помешала телу всплыть. Бывший военный врач, дворянин, получивший образование в Оксфорде, а ныне монах-схимник – был достопримечательностью здешнего монастыря. Однако, как выяснилось, временами он жил по соседству в усадьбе своего старого друга. Там была обнаружена целая лаборатория для естественнонаучных опытов и медицинских экспериментов. Нарену опять захотелось заткнуть уши – начались новые анатомические подробности. Воистину, это было кунсткамера безумца! Заспиртованные человеческие органы и части тела, найденные в стеклянных сосудах, принадлежали жертвам убийцы… В некоторых ёмкостях помещались два или три совершенно одинаковых сердца! А в одном чане со спиртом плавали две похожие как две капли воды человеческие головы. Однако, как подчеркнул следователь, в здешних местах не было известно о случаях исчезновения близнецов… Двойники! Нарен вскочил со скамейки, издав возглас удивления. Двойники!.. В уме родилась чудовищная догадка… Но мог ли убийца управлять перстом Будды?
Задумавшись, Нарен не заметил, как разговор перешёл в иное русло. Теперь следователь принимал поздравления… Поздравления отвергнутого соперника и несколько удивлённого отца… Пани Зося согласилась выйти замуж за детектива, и все сейчас обсуждали скорейший отъезд семьи Америку, где столичный детектив – всемирная знаменитость, как оказалось, временно работал на Пинкертона.
У Нарена вновь, как в тот самый миг, перехватило дыхание. Довольно воспоминаний! Не выходило из головы лишь то, что счастливый избранник тоже решил увезти девушку в эту страну, при чём вместе с её семьёй, и прежде всего объявил, что берёт на себя все семейные долги – хочет сегодня же возвратить их целиком. Соперник принялся было возражать, как-то потерянно твердя, что в том нет никакой необходимости, однако следователь был твёрд и предложил закончить дела сию же минуту, перейдя в дом. Возражать начал было и отец пани Зоси. Отъезд в Америку его, кажется, ошеломил. И тут детектив привёл доводы самого Нарена об отъезде в Америку ради спасения жизни пани Зоси, словно этот загадочный человек целиком подслушал его утренний разговор с девушкой на дороге… Когда будущий зять сказал отцу невесты, что знает про семейный недуг, из-за которого женщины в их семье умирают в родах, а в Америке делают операции и спасают женщинам жизнь, отец перестал спорить. Не спорил и друг семьи. Начали обсуждать детали отъезда, поиск нового честного управляющего, который бы нанял новых учителей и смог следить за работой школы, поддерживая порядок в имении…
Дальше Нарен не слушал, сознание отключилось – на него надвигалась чёрная непроницаемая стена… Он ещё помнил, как трое поднялись со своих мест и двинулись к мраморной лестнице, там стояла карета следователя и его коренастый слуга вытаскивал мешок с чем-то тяжёлым… Нарен встал со скамейки и, как во сне, двинулся по аллее… Он увидел в дальнем конце парка золотоволосую всадницу на чёрном коне и потерял сознание.
Лёгкий обморок не был замечен никем.
Придя в себя, Нарендранат Вишидананда встал с травы и собрался присоединиться к гостям, направлявшимся на праздничный обед.
Глава 13. Последний вечер перед понедельником
Открыв глаза, Жора увидел накрытый поодаль стол, а точней, раскладной столик с расставленными на нём мисками и грудой ножей и вилок на полотенце. Столик стоял в тени под ивой у сложенного уже костра, – оставалось только зажечь, – а вечернее солнце сквозь ветки сосен светило на спину Шурочке в устроенной под тентом кухне. Склонясь над примусом, она готовила, очевидно, ужин, ибо солнце уже порядочно сместилось к западу – туда, где за лесом, за верхушками сосен и далёких осин дремали сонные Шабаны.
Что-то в этом ребёнке было не так, как вчера…Но такою – именно такой он запомнил её с первого дня, только казалось: стала она выше ростом… Не тянулась на цыпочках, а чуть склоняла голову над примусом, помешивая ложкой в кастрюльке. Но что-то определённо отличало её от вчерашней юной Джоконды, вскружившей голову Жоре в ночном окопе. Только в чём – в чём было это различие? Он привстал, оглядел её с головы до ног и к ужасу своему понял, что ростом она как раз стала ниже и больше чего-то детского опять появилось во всей фигурке – просто стояла на кирпичах, положенных на траве вплотную друг к дружке… И тотчас же вспомнил он фонтан золотого света, привидевшийся ему на этой поляне в тот первый день, и будущую свою жизнь, стремительно промелькнувшую как в каком-то калейдоскопе, и понял со страхом, что не было Шурочки в этой будущей его жизни…
Из кустов у дота показалась фигура в выгоревшей штормовке. Профессор с полной корзиной каких-то мелких грибов устало спускался с горки.
«Сейчас у них будет ужин!» – подумал Жора, а так как сам он не в силах был ещё даже думать о еде, решил притвориться спящим – закрыл глаза и в самом деле погрузился в сон, а когда их открыл, рядом сидел Фима, теребил за плечо и протягивал миску с каким-то варевом.
Из миски аппетитно запахло пряностями, грибами, луком и ещё чем-то…
– Кулеш с опятами, – ответил Фима на Жорин удивлённый взгляд. – Вкусно… Сашка нам просто картошку варила, а папа принёс опят…
Жора согласился, что вкусно, облизывая последнюю ложку, и понял, что окончательно пришёл в себя, потому что съел бы сейчас ещё столько…
– Дзень добры! – послышался за спиной хриплый цыганкин голос, и сама она с чёрной сумкой в руке тяжело поднималась к ним от берега по тропинке. – Яблыков вам прынесла!
«Опадков набрала! – подумал Жора, заглянув в сумку, которую та поставила у раскладушки, а сама, сев на траву спиной к Жоре, стала раскуривать папироску. – А ведь сколько яблок! Какие яблоки! – вспомнил он ветки, ломившиеся от красной «малиновки» и золотистого «белого налива». – Вот она, крестьянская жадность!»
– Кепския нейкия… Але ж падають, дык и жалка…
– Сколько мы вам должны? – поблагодарив, спросил Сан Саныч, подходя с кошельком и пустой цыганкиной сумкой.
– А не!.. – отмахнулась цыганка. – Ештя на здаровья! Апад!.. Але ж, думаю, у вас и гэтакага няма. Не трэба грошей…
– А, знаете, я к вам в сад лазал! – вызывающе вдруг сказал Додик и, чуть помедлив, серьёзно добавил: – Ведь вы – колдунья?
– Гэта на яблыню маю глядеть? – не отвечая, поинтересовалась старуха.
Додик кивнул.
– Ребята казали? Шабановския, гэтыя?.. Тадик з Мечыкам? Яны?
– Ага.
– Ну и як, падымала? – с интересом посмотрела на него цыганка.
– Ещё как! Только мы подходим… ветки от яблок ломятся. До самой земли… Мы только руки протянем, а она как… поднимет их все!..
Профессор метнул в Додика строгий взгляд.
– Ды не! – успокоила его цыганка. – Вы яго не ругайте! Не за яблыками яны лазають. Тут у ва всих яблык сваих хватает! На яблыню маю ходят глядеть. И сама не ведаю, чаму так! Только к ней падыйдешь, яна ветки свае – уверх! И ни воднага яблыка не сарвешь! Разумная нейкая яблыня!.. А кали ж были?.. – добавила она серьёзно и посмотрела Додику прямо в глаза.
– Три дня назад.
Цыганка медленно покачала головой и задумалась.
– Ага, – кивнула она. – Тады падымала… Але ж, нешта зрабилась. Другие сутки не падымае… Падойдешь – ничога! Не ведаю, что рабить.
– Может, созрели? – понимающе спросил Додик.
– Не! – покачала головой цыганка и сразу же пояснила, глянув на остальных. – Як созреють зусим, перестае падымать – заусёды гэтак. Але сёння магла б вам нарвать зялёных… Потым думаю: не, неяк жалка… хай ящэ пависять, дазрэють. Такия будуть! Сок аж светицца… ай, добрыя!
Странный дёргающийся силуэт возник на фоне воды. Старуха тоже повернула голову и посмотрела на берег, куда молча глядели все.
Жора смотрел с суеверным каким-то страхом. Остальные привыкли к ежедневному зрелищу и знали, что по этому старику можно сверять часы. Худющий, с чёрной повязкой на глазах и палкой в руке, он двигался трясущейся походкой слепого, ощупывая концом палки каждый камешек впереди и шаря ею под каждым кустом.
– Слепы дед с Чарняцкага хутара, – сочувствующе сказала цыганка. – Сустрэла сёння… Кажа мне: «Ведаешь!? Десять лет ля возера бутэльки збираю… але ж учора – ни воднай а не знайшоу!» Робицца нешта у свете…
– А нас, собственно, другое всегда удивляло, – засмеялся профессор. – Откуда эти бутылки берутся? Мы не пьём… и бывает, по неделям поставские не приезжают, в плохую погоду, когда грязь непролазная…
– А ведь каждый вечер по сетке несёт! – сказал Додик.
– Робицца нешта… – гнула своё цыганка. – Нешта робицца!
Жора икнул. Наверное, от еды всухомятку… и от неловкости заёрзал на раскладушке.
– И ты здесь! – кивнула, оглянувшись, цыганка. – Забалеу?
– Немножко… После поминок.
– А-а… – вздохнула она и, отвернувшись от Жоры, покачала головой. – Пахавала старая Рэдиха сына… Але чаго ж они тебя нашай-та угащали?
– Они меня водкой, – восстановил справедливость Жора. – Это я сам себе налил… сдуру…
– Ну, прощайте, – кряхтя, поднялась цыганка. – Ноги уже не йдуть…
Профессор опять засуетился со своим кошельком, предлагая деньги.
– Не-не! – ответила она окончательно и добавила, повернувшись к Жоре. – «Наследник» – то не обмануу… За хлебам сейчас иду. – Показала ему пустую сумку. – Что же я з вас-то буду брать…
– …Что я тебе покажу… – таинственным шёпотом сказал Фима, когда Жора допил принесённый ему чай и отдал блюдце с недоеденным земляничным вареньем. – Идём, пока Сашки нету… Встать сможешь?
Встать Жора смог, смог дойти до палатки и нырнуть туда следом за хозяином. Тот откинул полог, чтобы было светлей, достал из-под надувного матраса газетный свёрток и развернул.
«Ну и что?» – хотел было сказать Жора, но его товарищ злорадно и ещё более загадочно прошептал:
– Сашкины! Узнаёшь?
Остриженные кудри вчерашней ночной Джоконды лежали перед Жорой – те самые, что вчера ночью мокрыми прядями были разбросаны по плечам…Он вспомнил склонённую над примусом Шурочку и ровную линию её волос, открывавших шею.
– Утром обрезала и в костёр бросила.
– Они же у неё не вьются!
– Завьются! Мелким бесом закрутятся, если захочет… Вон, за ночь какие отрастить сумела… чтобы тому иностранцу понравиться!
«Иностранцу», – расстроенно подумал Жора и вдруг внутренне возликовал. Он вспомнил её, встающую с валуна среди белых лилий, и как она идёт по траве, рядом с тем, в васильковом свитере, и как на ходу ерошит одной рукой волосы, стряхивая с них воду… Они были мокрые и короткие – и, как обычно, открывали шею до половины… Он представил её на доте над Долгим озером и её – несущуюся в лесной туннель на невидимых качелях… Всё это была обычная, теперешняя Шурочка. А там, в окопе, – совсем другая…
– Где же она сама? – спросил Жора, когда они выбрались из палатки.
– За молоком пошла, – кивнул Фима туда, где алело солнце над верхушками сосен, над дремавшими Шабанами.
А Шурочка в этот миг подходила к тому самому, знакомому Жоре дому, стоявшему, как перст, на вершине холма, и не было вокруг него ни деревца и ни кустика. Она открыла калитку в изгороди, сбитую кое-как из ольховых палок, и шла уже к дому через сотки, раздвигая картофельную ботву. Собаки рванулись навстречу, но узнали её и затихли. Ни травинки не было во всём дворе – начисто склевали куры, и все до единого корешки вырыли своими рылами свиньи и кабаны. Глина была изрыта, в ребристых, высохших после дождя отпечатках куриных, индюших, кошачьих, собачьих, козьих и поросячьих лап и копыт. В хлеву мычала корова, ревели голодные кабаны. Два новеньких сарайчика, построенные за это лето, и банька, оборудованная для индюков, окаймляли двор, примыкая к хате. И знала Шурочка, что там, за хлевом, тянутся кое-как сколоченные загончики и пристройки, где стоят уже выкормленные кабаны и бычки, которых надо сдать под осень, чтобы было чем платить за квартиру дочке, целых семьдесят рублей в месяц, и на что жить ещё целых четыре года «у тым гораде» без стипендии, «бо якая жа там стипендия, кали двое малых детей», и «якая же там вучоба», коль «весь гэты институт только на тое и здался, каб стать, як усе» – выбиться в люди и жить, чтобы всё было, как у людей, и всё было»… И ради этого стоял у дома незаглушенный трактор и пьяненький хозяйкин муж тащил до хаты мешок колхозного комбикорма. И сама хозяйка в грязном, порванном под мышками платье, с глазами, мутными от бесконечной усталости и самогонки, стояла босиком там, за хлевом, и грубо кричала на глупых коз, не желавших бежать в загон.
Из хаты донёсся какой-то грохот и шум.
Дощатая выкрашенная синей краской дверь распахнулась, и босенький рахитичный малыш выбежал на косолапых ножках. Следом выскочила растрёпанная студентка-мать, слишком дородная и полнотелая в свои восемнадцать лет, и, запахивая халат, бросилась босиком по глине ловить вырвавшееся дитя…
«А сильно же у них желание рожать подобных себе, несмотря ни на что, на такую жизнь… – с сочувствием подумала Шурочка. – В этой стране у меня никогда не будет детей!»
Малыш неуклюже шлёпнулся, заревел, и мать подхватила его на руки.
«А, может, надеются, что жизнь будет другой? А какую они хотят? А вот взять бы сейчас копер – пройтись по деревне и дать им всё! Новенький двухэтажный дом, с гаражом и газоном, как во всём мире; построить первоклассную ферму, в городе – квартиру дочке, и няньку дать ей, и кучу денег – всё, что они хотят и ради чего выбиваются из последних сил! Из-за чего у них нет ни минуты задуматься – а какая же должна быть жизнь? И может ли она в принципе быть иной, кроме той, которая им дана?»
Хозяйкина дочка, приехавшая вчера из города и стоявшая на крыльце с малышом на руках, заметила Шурочку и приветливо ей кивнула:
– Праходьте, праходьте в хату!
В сенях за дощатой дверью роем жужжали мухи, в углу валялось ведро, на шкафчике стоял пыльный сломанный керогаз, в другом углу, на железной кровати с ворохом засаленных одеял валялись чьи-то кирзовые сапоги.
Дочке было не до Шурочки, она спешила унести ребёнка в чистую половину – за дверь с железною щеколдой, завешенную захватанной марлей. Дверь хлопнула, и Шурочка воротилась во двор.
Она неприкаянно потопталась у порога и прислонилась к столу, сбитому из старых досок под окном хаты.
На столе стоял телефон (хозяйка была бригадиркой на ферме), за телефоном валялась выгоревшая и облезшая шапка-ушанка непонятно какого меха, рядом – два ржавых чугуна с прилипшими остатками каши, банка из-под белил с присохшей кистью. Шурочка отодвинула немытые трёхлитровки из-под молока и поставила свой бидон. Чёрный котёнок потёрся о её ноги, выгнул спину и юрко шмыгнул в сени через порог. Шурочка прикрыла дверь. И тотчас дверь распахнулась. Отшвырнув ногой взвизгнувшего котёнка, выбежала дочка с ведром руке.
– Сейчас подою! – сказала она.
Призывно заревела в хлеву корова, в доме зашёлся криком малыш.
– Я подожду! – успокоила её Шурочка. Та поставила ведро на землю, вернулась в хату.
Ждать было тягостно и привычно. Она смотрела на этот безжизненный, без единой травинки двор, на сломанный деревянный стол, наспех сколоченный из новеньких сосновых досок, почему-то валявшийся посреди двора. Такой стол был когда-то у них на Надежденской – со сбитыми крест-накрест досками вместо ножек. Летом, в жаркие дни на нём обедали в тени яблонь… пока часть сада не отхватила стройка, и там, где стоял стол и сад, вырыли котлован и построили блочный многоэтажный дом.
«А сегодня во сне я увидела, как расцвели тюльпаны, там, в саду у малинника… – вспомнила она и представила знакомые кусты роз, которые тоже выпустили бутоны нынче ночью – там, где только мёртвый бетон… Где всё это? Неужели пропало? Нет. Пепка сказал, что Вселенная – один-единственный, размытый в бесконечности электрон. И всё, что существовало когда-либо, существует вечно и всегда».
«Этого я не понимаю… Думаю, всё не так, и для того, чтобы всё вокруг вечно существовало, – сохранённое разумом в ноосфере – в книгах, искусстве, звуковых записях или ещё как-то – для того и понадобился человек, его память и творческие способности…»
Чёрный котёнок снова потёрся мордочкой о её ногу.
«А Крылов говорит, наши мысли – это модели для рождающихся миров. Миры в параллельных пространствах почкуются, точно гидры, вырастая из щупальцев наших мыслей. У мироздания достаточно сил, чтобы рождать их. Миры, создаваемые нашим сознанием, – чертежи Вселенной, её наброски. Мы – её инженеры. А сама она – неутомимый чернорабочий…»
Шурочка наклонилась и взяла на руки карабкавшегося по ноге котёнка, и тот, больно впиваясь острыми коготками, взобрался ей на плечо.
«Я думаю, и Крылов не прав. Но даже если всё не так, какая разница… Моя собственная модель мира существует! А где он – в самой реальности или просто в моём сознании – не имеет значения! Для Вселенной это, думаю, в сущности безразлично… Он там, мой сад! Он где-то существует… во мне. Мы все сменяем друг друга, предлагая Вселенной свои модели, мы приходим сюда, как слепые котята, сперва не зная зачем, но… чтобы, может быть, попытать счастья – у кого получится, у кого нет. Чья модель лучше? Чья мысль, предложенная Вселенной, достойна творения? И сама она, как равнодушный бог, взирает на этот театр! А есть ли у неё гнев, и знает ли она, что такое карающая справедливость? Почему она равнодушна к тем, кто сам создаёт реальные человеческие миры, где тысячи, миллионы их составляющих индивидуумов становятся похожими друг на друга в своей убогости, серости и бесталанности, и обречены на это, уже рождаясь? Где нет творчества… Где все «модели» одинаковы и пусты… Где нельзя попытать счастья… чтобы что-нибудь изменить! Ты жестока, Вселенная! Почему ты их не караешь? Почему ты так безразлична? Или кара твоя – в твоём равнодушии – ты просто ждёшь! Выжидаешь, пока сами они изживут себя, как любая, бесцельно и безгранично размножающаяся колония бактерий находит свой конец в своём неограниченном размножении. И только там, где вспыхнул творческий разум, ты сеешь в помощь ему семена сверхразума?.. Сеешь сама или с помощью «старших детей» – каких-нибудь развитых древних цивилизаций? Какая разница. А может быть, они посеяны изначально, на каждой планете, где может возникнуть разум? И лежат где-нибудь глубоко в земле эти дремлющие семена, как зерно пшеницы в перепаханном чернозёме ждёт дождя? Так и эти сверкающе штуковины, до поры до времени скрытые от человечества, ждут своего часа – когда же разбудит их чья-то мысль, отдаст приказ и попросит помощи – когда же возникнет разум, способный их пробудить и подчинить себе?»
– Дауно чакаешь? – спросила раскрасневшаяся хозяйка, дохнув на Шурочку перегаром. – Овцы дурныя! Не йдуть в загон! Усих к осени пасдаю!
– Я думала, это козы…
– И козы йо… Разам стаять… Вунь, за хлевам… Ах, ты, халера! – замахнулась она на взявшуюся невесть откуда заблудившуюся козу. Та выбежала из-за дома и застыла посреди двора, глядя на свою хозяйку и продолжая жевать.
Козочка была красивая, чёрно-белая, с рожками и бородкой и покорными человеческими глазами.
– Паш-ш-ла! Пашшла! – слышался уже из-за хлева голос хозяйки, погнавшей туда козу. – И на чёрта вы мне здались!..
И долго с пьяной злостью кричала она на мужа, а тот покорно, трясущимися руками рубил в деревянном корыте траву свиньям.
– Во як с баранами без казла! – плюнула с досады хозяйка и, подбежав к дому, схватила стоявшее у порога пустое ведро.
– Так был же у вас козёл…
– Быу… Але дурань мой закалоу. Сена вазили – прэдсядатель машину дау. Сваяки памагали. Мясам трэба было усим дать… Ды й стол накрыли, во тут ва дваре… – Она кивнула на валявшийся ножками вверх стол из новеньких сосновых досок и, обогнув его, уже в дверях сарая зло покачала головой. – Хай бы барана забиу, дык не… Пьяны быу, дурань, угараздила ж перапутать!.. – доносилось уже из хлева, и Шурочка вспомнила красавца-козла, с прямо-таки мефистофельским профилем – бежит, тряся бородой, впереди стада, и все овцы за ним – в загон. В стаде баранов – козёл предводитель…
– Стой, зар-раза!.. – кричала на корову хозяйка. – Ды сто-о-ой жа!!
Корова брыкалась – она никак не могла привыкнуть к пьяной хозяйке. С хозяином было ещё хуже, и только когда доила дочка, стояла смирно.
За изгородью, по дороге, мягко прошуршав колёсами по песку, промчалась чёрная «волга». Сзади на почтительном расстоянии поспешал «газик» с солдатиком за рулём – начальство ехало на рыбалку.
«Так вот почему дорога ухожена! – невесело усмехнулась Шурочка. – Они тут на другой берег ездят… Бездарно, как всё бездарно! И всё едино. Одни пьют вонючую самогонку в убогой хате, другие – «пшеничную» под шашлык. Одни заливают обиду, боль и усталость. Озлобление и ещё не осознанное недовольство, когда другие… Что заливают другие? Совесть? А есть ли она у них? Чёрта с два, просто пьют в своё удовольствие, вот и всё. А какие-то умники в это время ставят вопрос: изобилие или культура? Да с какой стати? Пусть ещё коэффициент корреляции посчитают… Зависимость выведут!.. Между вспышками на солнце и выигрышем в спортлото! Когда это изобилие мешало культуре, и где, когда, в какую эпоху было оно для неё условием необходимым и достаточным? Вот вам, пожалуйста, убогая нищета и никакой культуры, вот вам – на другом берегу – всё, как при светлом будущем – и полнейшая бездуховность! Зачем же логику заменять передёргиванием? Не сделаешь гением идиота ни в каком справедливом обществе и ни в каком университете. А вот гения превратить в идиота проще пареной репы. Как минимум один совершенный способ имел в своём распоряжении каждый народ! Уж очень напрактиковалось человечество на этом поприще во все эпохи! Недаром верна поговорка, что не все сумасшедшие – гении, да все гении – сумасшедшие. Это точно! Что уж там о негениях-то говорить! А вот как маленькому-то, простому самому человеку в этом человечестве устоять – тому самому, без чинов и званий, но чтоб не умерла в нём душа, и чтоб по мыслям и чувствам своим был человек и человеком этим себя ощущать желал. Желал! И не изобилием его надо пугать! Но и не к изобилию тупому и звать, не изобилие было мечтой, а золотой век! Более широкое это понятие – понятие времени, а время характеризуется слишком многим…»
– И зноу, халера, перавернула – ведро нагой паддала! – ругалась подбежавшая с ведром хозяйка. В одной руке она держала до половины наполненное молоком ведро, в другой – цедилку. – И зноу табе не далью…
Шурочка поставилана крыльцо свой бидон.
Белая густая струя полилась через марлю. Пены не было.
«Опять разбавила… Где она держит воду, в сарае, что ли… – краснея, подумала Шурочка, не осуждая хозяйку. – С неё ли требовать честности? Не с неё…Только лучше бы уж не долила. Ведь теперь скиснет за ночь… Опять надо будет кипятить»… И больно, больно было смотреть на пьяное, хитрое лицо женщины, привыкшей… вынужденной обманывать и ловчить.
– Хватила! Як раз да верху! – довольно засмеялась та, видя полный бидон. – У ращчёте! – продолжала она улыбаться. – Можа… трэба ящэ чаго? Можа, яек трэба?..
И Шурочка удивилась, ибо знала, что в этом хозяйстве яиц ранее не продавали – все они поедались индюшатами…
– Конечно, не откажусь! – вспомнила она про Крыловых. – С удовольствием!
Из курятника были принесены в переднике восемь яиц. Шурочка протянула деньги, приготовленные за десяток.
– Дзякуй… А гэтые два, пабитые, сверху клади… – засуетилась хозяйка, помогая уложить в полиэтиленовый мешок. – Во… А бидон у руке панесешь… А, кажуть, милициянер гэты, ваш знаёмы? Что нешта тут усё шукау?.. Канстантика, можа, ищет? Ци, ящэ чаго?
– Не знаю… – смутилась Шурочка.
– Ну, прыходьте, прыходьте., – закивала женщина, заканчивая разговор. – Заутра раней можыте… Дачка падое… – она приветливо улыбнулась, а Шурочка почему-то вспомнила лицо Константика, его улыбку… Совсем другую улыбку на таком же обветренном, загорелом лице. И самого Константика два года тому назад – как сиделу них у костра в тот вечер – в стареньких сапогах и заштопанной на локтях рубашке, с пистолетом в руке и весело, от души смеялся бабушкиным словам… Сумел же, вот, сохранить тайну! От всех ушёл… но, главное – сохранил!.. А так хочется отмочить что-нибудь этакое, назло им всем – чтоб вздрогнули рачьи мозги, чтоб глаза из орбит полезли, чтоб утром у председателя отвисла челюсть! Вот пройдусь с копером по Шабанам – и пусть она у него отвиснет, его челюсть, пусть похудеет от непонимания килограмм на пять: как увидит вместо Фаниной развалюхи двухэтажный коттедж, а вместо хлева её покосившегося – ферму с сотнею поросят – с автоматикой и чистотой и техникой по последнему слову… Эх! Чёрт бы их всех побрал! Не отвиснет у председателя челюсть, потому что есть… те! Не похудеет «кормилец» от умственной перегрузки, не плюнет Фаня на его колхоз – не достоит моя ферма до утра, как в сказочке – и до первых петухов ей не продержаться! Пепка бы ещё понял… а второй – нет. За шкирку меня вместе с копером, до этих самых, до первых… и прощай! Потому только и отпустил, что прекрасно знает – ничего я этого не отколю! Сама знаю: главное, чтобы не узнала власть! Подлой власти в руки такое давать нельзя! Весь мир станет у неё колхозом, будет жить в нищете и ходить гуськом! Все станут петь хором с ружьями наперевес, а под каждой сосной – танки будут стоять да ракеты… Им только дай волю… Поэтому не видать Фане коттеджа! И ничего мне такого не отколоть! А зря! Хорошо ему, умнику, рассуждать, уж слишком он… дьявольски хладнокровный, людей щёлкает, как орехи… Хоть, с другой стороны, и прав: душа в нас, как ядро в орехе, – орех или целый, или гнилой. Или есть человек – или нету его… А в ком нет души – тот обречён: тот зомби, тот примет любую пакость, любую власть и против подлости не пойдёт, – одна видимость человека, гнилое у такого ореха ядро. Да только просто этим умникам на нас со стороны смотреть! А если все вокруг – с этой самою гнилой сердцевиной? И гниль эта – как болезнь, ширится и ползёт… И если ты среди них живёшь, а они ходят, и думают, и ещё надеются, и не знают… что обречены! Что слишком хладнокровные умники считают их обречёнными и давно махнули на них рукой… А просто ли… махнуть тебе, если ты среди них живёшь, и других не знаешь, и пьёшь их молоко…
Шурочка отошла на обочину, стараясь не расплескать и не разбить ценный груз. Сзади ещё раз посигналили. Она прижалась к покосившемуся забору.
Газик с солдатиком объехал её, аккуратно притормозив.
«Отослали! Или забыли чего… За водкой ещё послали… А ему что? Служба идёт! Лучше, чем в казарме сидеть… Рад, небось, что ещё здесь служит…» И вспомнилось ей кладбище за деревней, шесть свежих «афганских» могил, появившихся в этот год у самой дороги на крутом обрыве – одинаковые современные памятники из цемента на фоне старых почерневших крестов, – отмеченные цифрой шесть… Там, под кустами орешника, где всё заплела кладбищенская земляника, там и сегодня, Жора сказал, кого-то похоронили. Только, кажется, какого-то старика… здешнего участкового. А мать Манюся нагнала самогонки и запросила больше обычного, потому как вчера по хатам шастал милиционер… «Так вот почему она… Вот отчего суетилась Фаня! Вот благодаря кому будет у нас завтра яичница!» – невольно усмехнулась Шурочка, со странным, двойственным чувством вспомнив Жору. Никогда она никого не боялась, с детства не ведомо ей было чувство страха – и когда читались по вечерам страшные сказки, и когда родители какой-нибудь из соседских подружек провожали вечером по тёмной улице, и, выведя из своего дома, говорили: «Беги! Мы постоим, пока дойдёшь до калитки, не бойся…» А она шла в совершеннейшей темноте, даже не замедляя шага, так как знала каждую выбоину на асфальте, и каждый раз удивлялась – чего же она должна бояться, если нет тут никаких бандитов, и отчего другим в темноте страшно? И вообще, что же это за чувство – страх? А теперь поняла – одна половина двойственности была страхом. Тот внутренний холодок, та скрытая неосознанная тревога, которая говорила: «Опасайся, опасайся этого человека! Воля его сильнее, чем у тебя! Беги от него, беги. Избегай…» До сих пор она была уверена, что не знала ещё никого, кто в принципе мог бы на неё повлиять. То есть именно повлиять против её воли. Конечно, с раннего детства она очень хорошо научилась делать вид, что соглашается с тем, что ей говорят и чему учат, к примеру, в школе на уроках истории и пионерских собраниях, – раз и навсегда решив, что без этого никак нельзя. Но с ещё более раннего детства, с того момента, как стала помнить себя, положила себе за правило – ни йоты не уступить и не поддаться ни на секунду – не впустить в себя то, чего не желает, и ни на йоту не стать такой, какой не желает быть! Ни щёлочки не оставить, не дать просочиться тому, что не соответствует её внутреннему желанию быть такою, как она хочет. А откуда это желание, она не знала – но ЭТО-то, отбирающее, впитывающее, как вакуум, всё, что считает нужным, сидящее в глубине – и есть ОНА САМА. И сила этого отбирающего и впитывающего – есть воля. А возможность впитывать мир по своим законам и по своему усмотрению – есть свобода. Ничто не угрожало до этого её свободе – только любовь к близким. И не было рядом более сильной воли, или пусть даже – более слабой, но заинтересованной в изменении её принципов, её позиций. Сейчас же часть «двойственности», которая была страхом, говорила: «Беги! Этот – из “наполеонов”, этот будет колоть людей, как орехи! И для этого ему нужна будешь ты!..» И то, сидящее в глубине, отбиравшее и желавшее быть свободным, кричало: «Не медли! Он сам ещё себя не знает. Ты разбудишь в нём зверя, ты сделаешь его “наполеоном”, потому что он уже раб! “Наполеоны” получаются из рабов, пожелавших власти. Никогда не пожелает её свободный! И никогда не будет свободы там, где есть власть! Беги!..» Вторая половина «двойственности» не была страхом, и вторая половина души бежать не желала – она встретила, наконец, равного, почти равного себе, не считая ТЕХ… Но ТЕ были, разумеется, другие – обладающие сверхразумом – без скидок и от рождения. К ним себя Шурочка не причисляла, она относила себя к людям обыкновенным, но сделавшим уже шаг вперёд на пути человеческой эволюции. Только Жора кроме неё сделал здесь этот шаг. Оба они стояли как бы между двумя берегами, и оба хранили тайну – они уже не были людьми, и не принадлежали ещё к другим – стояли между первыми и вторыми. И отныне это взвешенное состояние было единственно возможным и разумным, но Шурочка чувствовала уже сейчас – «наполеонов» это положение не устраивает… не устроит! Не может устраивать! И в этом-то была беда!
– Да! – прокаркала ворона над головой. – Да! – Шурочка и не заметила, как вышла к приозёрным холмам. – Кар-рр! Украли, сволочи! – кричала птица.
Шурочка узнала ворону старой цыганки с кольцом на лапке. Птица сидела на разлапистой большой сосне, расколотый ствол которой всегда отливал красным в закате солнца. Сейчас оно село, но ворона, видимо, не желала улетать, пригревшись на тёплом стволе. Может, ждала хозяйку.
– Ишь, далеко летаешь! – пригрозила Шурочка.
– Ишш, доррогия тавар-р-рищы… ворованные бр-ррильянты!
– Крамола! – расхохоталась Шурочка.
– Хха-хха-хха! – не дала спуску птица и, оставив за собой последнее слово, взмахнула хвостом, а потом, захлопав крыльями, полетела над озером чёрным маленьким бомбардировщиком.
«Ворона, и та – поумнела! Поздно вы, «дорогие товарищи», собрали свой саквояж! Побросали в него «вещички» – лишь бы с глаз долой, и думаете, на этом всё? Поздно! Слишком долго они лежали в этой земле! Посеян, посеян уже сверхразум! Никуда не денешься, не вырвешь корни – оплели они уже всё вокруг. Ворона, разумная Ежиха, Зосите со своими способностями, доставшимися от прабабки… и даже разумная Яблоня в саду старой цыганки!.. А Константик! Думаю, что он припрятал копер, и не один, где-нибудь далеко отсюда, там, где сидел… Так что незачем было сюда возвращаться… Что вырастет из брошенных в землю семян? Может быть, сверхразум на нашей Земле станет теперь развиваться быстрей, чем органическая жизнь, – быстрей, чем разумная жизнь, порождённая естественной эволюцией? Ведь сами же вы сказали, что это перестраховка – перестраховка природы, вторая линия эволюции, и растормаживается она только там, где природа на грани гибели, где разум гибнет… И сейчас, сегодня уже на земле существуют две высшие формы жизни: сегодняшнее земное разумное человечество и зачатки эволюции космического сверхразума – Зосите, разумная Ежиха, Хутор, Яблоня… да сами Жезлы – те, сокрытые под крыльцом и в норе – семена сверхразума. Конкуренты они или сотрудники? Что будет, когда они осознают друг друга? И что будет после этого? Будет ли это война или просто совсем другой – новый мир?
Дорога вышла к развилке, озеро синело справа за кромкой ольхи, и Шурочка решила обогнуть его по берегу нижней дорогой и, когда поднялась на холм, увидела впереди поляну с палатками и машинами под большой ивой и костёр на поляне. Все сидели уже кружком, пламени заметно не было, но дым поднимался вверх ровным белым столбом. И она увидела тонкую издали, совсем мальчишескую фигуру Жоры, он сидел к ней спиной и казался таким же потерянным среди этих людей, как она сама. И что только насочиняла ей её фантазия? Какой он «наполеон», его ли бояться ей? Растерянный, одинокий, вынужденный всю жизнь теперь скрываться от всех – скрывать себя и свою тайну.
Жора и в самом деле был растерян… Однако! Эти люди не очень его стесняются, можно сказать, совсем не принимают в расчёт… Слушают при нём «голоса» – «Голос Америки» и «Свободу», ругают власти… Могут позволить себе говорить… такое!.. при нём! Конечно, он и сам так думает, чёрт побери! Кто думает сейчас иначе? И всё-таки… он же предпочитает молчать?!
И всё же, было что-то в самом костре, в самой магии этого чувства, заставлявшего смотреть и смотреть на огонь: он настраивал на особый лад, развязывал языки, заставлял потягиваться, впитывать жар и тепло и, глядя, глядя в угли, протягивать руки к пламени. Жора слушал, о чём говорили Крылов с профессором, ему было интересно, он блаженствовал, представляя себе образ Шурочки, ему всё было интересно вокруг – и как тот высокий худющий старик молчит, когда кто-то спорит, как, насупившись, слушает свой приёмник… И у остальных приёмники настроены на одну и ту же волну, но каждый слушает свой, поднося к уху, стараясь что-нибудь различить сквозь треск помех; и когда слышимость вдруг налаживается, одна и та же фраза звучит со сдвигом из трёх источников, со стереоэффектом, и тогда кто-нибудь смеётся или усмехается… И Жора блаженствовал, хотя был растерян, но главное, главное было впереди… «Когда придёт Саша, пойдём к нам», – сказал Крылов, там тоже был разложен костёр и запасены дрова, и ждал чай… «Я не отстану от них, – думал Жора. – Крылов – физик, он должен знать или просто догадываться, в чём суть этого копирующего устройства… Должна же она рассказать им всё… должна! Я обязательно всё узнаю именно там…»
Но пришла Шурочка, и разведён был примус, и поставили кипятить молоко. И пока молоко вскипало, стало совсем темно.
Под первыми звёздами, появившимися в летнем небе, шли они в «неприятельский лагерь», где недавно ещё стоял Живулькин. Крылов нёс поленья, Фима – складные стулья. Из-за горы поднимался дым, там тоже горел костёр и ждала Соня. Жора взял из рук у Шурочки корзинку, которую та собрала для чая, и старался не споткнуться и ничего не разбить.
– Мы её сейчас прижучим!.. – шепнул Фима, похлопав себя по карману. – Всё здесь… Пусть-ка нам объяснит!
Но пришли в лагерь, где горел костёр и ждала женщина с таким лицом, что хочется сразу сказать – чёрт побери!.. Откуда она взялась?! В наше время не бывает таких… И подбросили дров в огонь, и пили чай, и было вроде бы всё, потому что, когда сидишь у костра, можно просто смотреть в огонь, и ничего не надо. И Соня измерила ему давление и сказала, что уже получше, и сердце работает без перебоев, а утром он может идти хоть пешком в Поставы… Всё было хорошо, но не было главного, чего ждал Жора, и чего, кажется, ждал Фима, – не было разговора. Когда же они начнут о главном? Когда? Жора полностью ушёл в свои мысли, не слушая, о чём все спорили, и только вздрогнул, когда беседовавший с Крыловым Фима вдруг повернулся к Шурочке и сказал, протянув ей свёрток:
– А как ты нам объяснишь вот это?
– Это? – рассеянно протянула она, развернув газету, и поднесла к огню, чтобы рассмотреть получше прищуренными близорукими глазами. – А так! – улыбнулась она, и свёрток упал в огонь. – Тотчас вспыхнуло и загудело пламя. Запахло палёной шерстью, яркие трескучие искры полетели вверх.
Дипломатичный Крылов перевёл разговор на другое. Фима сник и, когда Соня попрощалась со всеми и пошла спать в палатку, шепнул Жоре:
– Пойду я… Твой спальник слева. Только сетку не забудь застегнуть на змейку. Комаров полно…
Как только Фима, пожелав всем спокойной ночи, отправился восвояси, Шурочка повернулась к Жоре и негромко сказала:
– Ты тоже иди, если хочешь. Я сама доберусь…
«Ну уж нет! – всё вскипело и вознегодовало в Жоре, и вспыхнула злость на этих людей. – Успели когда-то договориться! Всё знают! А меня не считают нужным ни во что посвятить. Как будто я ничто и никто. Ну, что ж, посмотрим, кто будет вам всем диктовать! Кто есть кто…» Он видел рядом нежную шею и детский профиль, и её глаза, смотревшие на него ожидающе, желая, что он ответит: «Да, я пойду…» Ну, нет! Он еле сдержал себя, чтобы не схватить за руку, до боли сжать её маленькую ладонь, как тогда в окопе – пусть почувствует его силу и пусть заплачет! Чтобы отныне знала!.. Но он только как можно спокойней сказал:
– Прогуляемся? Поговорить надо…
– Ну, пошли. Они уже спать ложатся…
– Алеся! – позвала из палатки Соня.
И Жора понял, что эта женщина – его враг! Вот кто – враг номер один, он почувствовал это сразу. И зачем они вообще его позвали?..
Некоторое время в палатке было тихо. Потом донёся шёпот Шурочки – успокаивающий тихий шёпот, точно она старалась убедить в чём-то…
«Действовать, надо действовать… – понял Жора. – Но как? Было бы ей хоть шестнадцать лет, я бы нашёл способ… А тут… Не украдёшь… не усыновишь же ребёнка!..»
Ещё огромная, но уже ущербная с одного бока луна выкатилась из-за леса, когда они поднялись на верхнюю дорогу. Стояла прекрасная ночь. Блестело внизу за кустами озеро, рассечённое серебряной дорожкой луны. Стрекотал кузнечик. Грязь под ногами высохла. Шурочка шла, не глядя под ноги, не боясь провалиться в лужу…
А Жора шёл, ничего не замечая вокруг, погружённый в непонятное блаженство. Нет, теперь понятное – он был влюблён. Ему было бесконечно хорошо, и он хотел, чтобы это продолжалось вечно. Он хотел видеть её каждый день, слышать её чудесный голосок, смотреть в глаза… Он ощущал её каждой клеткой своего тела, она шла рядом – не такая уж маленькая, чуть выше его плеча… А это идея! Изменить её рост, внешность – навсегда! Так, чтобы не узнали родные, сделать её немного старше… и паспорт! Сделать обоим другие паспорта! У неё ведь копер… Для её способностей, при его знаниях – любой паспорт не штука! Что угодно не штука! Всё возможно! Все люди – ничтожества! Как она сказала? – один дурак и один подлец, а остальные восемь со всем этим соглашаются, и власть над ними не стоит выеденного яйца! И власть эту берёт тот, кто хочет! Да, это так. Только во все времена хотели этого подлецы… и в этом-то была беда. Но он хочет… не ради власти над ними, а ради свободы от них – вот разница! Два паспорта – и уехать! Лучше, конечно, иностранные паспорта. В Москве сейчас олимпиада – какое счастье! Там полно иностранцев… Затеряться среди них, смешаться, выдать себя за них – и прощайте! Земля не маленькая… Только б не помешали! Выбрать себе другие имена…
«Алеся…» – вспомнилось почему-то. Шурочка чуть отстала. Он шёл так быстро, увлечённый своими планами, что забыл про неё. Он оглянулся, застыл на на мгновение – подождал, а потом – приноровился к её шагу и осторожно, с неожиданной вдруг возникшей нежностью, обнял её за плечи, это получилось само собой. Она была тоненькая и тёплая, в лёгкой майке и шортах… Не кусают же её комары!
– Почему они оставили тебе копер?
– Чтобы я вернулась…
– Да? Я попал туда без него… – Он опешил. Это действительно было так, у него это получилось… Но почему? Ведь он ничего не совершил. Не изменил себя, не стал Моцартом, не написал гениальный роман… Разве что… Разве что он чувствовал сейчас силу сделать всё… он просто был влюблён.
– Они считают, я рано или поздно вернусь, потому что всё здесь обречено. Мы все…
– И ты вернёшься? – перебил Жора, лишь это его сейчас интересовало.
– Нет.
– Ты уверена?
– Понимаешь… У всех у нас изменена психика – кто дурак, кто подлец… а я… просто не хочу такой жизни. Даже там… Ни в каком виде – ничего уже не хочу. Я могу умереть спокойно – этот кусочек мира, дорогой мне, он существует и сохранится… там, в другом месте… Если здесь всё… перестанет существовать!
– Ну, хватит! – перебил Жора. Эти бредни его не интересовали. Его интересовала сейчас конкретно она сама, как орудие, как механизм – только через неё можно управлять копером и сделать как можно скорей другие паспорта…
И он подумал про Пепку и «фиолетового»: «Да, их подарок пригодился уже сейчас… Он навёл на мысль». Но если уж всё удастся, если будет так, как он хочет – зачем тогда будет нужен их бредовый паспорт… выданный на его имя – через тридцать лет?»
– Почему ты им не сказала… Крылову и этой…Соне – про коперы, про «иностранцев»… и вообще про всё?
– Они и так знают.
– Да? И когда же ты успела всё рассказать? Пока я… в обмороке лежал?
«Ведь это не больше пяти минут!» – сообразил он.
– Или потом, когда я уснул на раскладушке?
– Зосе знает… Она рассказала Мише…
– Господи! Миша – это Крылов? А… Зо-се?
– Соня. Отец её был литовец. Мать родилась в Америке…
– Да мне-то какое дело? Отец, мать!..
– Напрасно. Это ты совсем зря… Все мы здесь случайные люди, и только Соня фактически тут хозяйка. Ей принадлежит здесь всё. Прабабка её была наследницей этого поместья. Но она уехала…
– В Америку? – теряя терпение, вздохнул Жора.
– Да… Потом бабка её как-то сдуру вместе с мамой, которой тогда было десять лет, приехали сюда погостить, здесь была Польша, перед самым тридцать девятым годом, и с приходом большевиков они угодили в Сибирь… Хватали всех без разбору. Соня родилась уже там, на станции Зима. В это место ссылали всех… отсюда и из окрестностей Молодечно. Там её мать познакомилась с отцом. Отец умер до их освобождения, но Соня с мамой всё-таки перебрались на его родину в Вильнюс… Скоро умерла и мать. Родственники, детдом…Потом институтские общежития… В общем, у Сони такая жизнь, что действительно не захочешь видеть людей. А тем более их лечить!
– Так она всё-таки врач?!
– Да, но не захотела иметь дел с фашистской медициной.
– Какой?
– Не догадываешься? Советская – она и есть фашистская. Соня была гинекологом. А их заставляли убивать детей, таких, как я.
– Что ты несёшь? – совершенно очумел Жора. – Что ты такое говоришь?
– Правду. Когда Соня узнала, что я – именно такой ребёнок, которых им велено уничтожать во чреве матери, она ушла из медицины…
– Я тебе не верю…
– Не верь. Может, таких и надо уничтожать сразу. Но мы не знаем, какими бы стали все другие, которые не родились… Мне повезло, что мама с папой были тогда в Алжире.
– Объясни.
– Очень просто. Бабушка тоже это знает. Она мне рассказывала, что сразу повела маму к гинекологу – одной своей старой, очень опытной знакомой. Та сказала, что у мамы предлежание плаценты. Это когда ребёнок расположен ниже обычного, и сосуды повреждаются при родах. Женщина умирает от кровотечения, если не сделать операцию. Слышал, наверное, – кесарево сечение?
– Это делали ещё в древнем Риме?
– Вот именно.
Жора облегчённо вздохнул:
– Ну, так в чём проблема?
– А в том… В Риме умели, и делают везде в мире, как самую обычную операцию, но не в Стране Советов… Советская Власть решила, что это слишком накладно – делать всем таким женщинам операции!
– Да ты что?!
– Вот именно – что… Потому знакомая врачиха бабушке сказала, что если моя мама хочет сохранить ребёнка, она не должна ходить в поликлинику и оформлять декретный отпуск.
– Это ещё почему?
– Неужели не догадываешься? Там бы её осмотрел врач. А всем им велено в таких случаях делать осмотр… с зеркалами или чем-то там ещё – очень травмирующий осмотр, чтобы вызвать выкидыш! Это называлось «спасение жизни женщины-работницы» за счёт жизни ребёнка! Дети-то у неё ещё родятся. А сама бы она умерла при родах от кровотечения! Жизнь женщины-работницы для коммунистов важней, чем какой-то убитый младенец! Меня спасло то, что родители неожиданно уехали за границу – папу послали в Алжир читать лекции в одном колледже – по линии ЮНЕСКО. Вот мама и оказалась среди нормальных врачей. Ей сделали кесарево сечение – я и родилась на свет.
– Я понимаю Соню. Но почему все другие с этим не спорят?
– Они же не ненормальные.
– Поэтому твоя Соня и убежала в деревню?
– И от людей тоже…
– От людей?
Шурочка тяжело вздохнула.
– Ты не понимаешь! И всё это оттого, что ты не знаешь, как тяжело с ними, если видишь насквозь… Зосе умеет видеть…
Глаза её смотрели на него снизу вверх, и он почему-то поверил, что тяжело… и ей, и той, со странным именем, и ещё вспомнил, как кто-то сказал, что счастлив тот, кто в детстве своём был ребёнком. Она – не ребёнок, она ещё не была ребёнком, и, может быть, из таких получаются потом взрослые дети? Нет, из таких не получается ничего. Они нежизнеспособны. Они не для жизни… по крайней мере, здесь… Здесь, в этой стране, с её мыслями делать нечего. И вдруг он ощутил острую жалость, и, несмотря ни на что, она ему нравилась, такая, как есть. Если уж выбирать компаньона, с кем-нибудь разделять тайну… всю жизнь, то это – неплохой вариант… Надо просто её сломать, выбить дурь, чтобы попросту… сохранить для себя. И для этого – быть жестоким… но не теперь. Теперь надо спешить, поскорей сделать новые паспорта, изменить её внешность и увезти отсюда… в Америку, куда угодно – где есть место тем, кто не похож на других, где каждый может иметь свои собственные, а не вбитые в голову мысли… А сейчас её надо успокоить…
– И что она умеет видеть… твоя Зосе? – спросил он как можно мягче, стараясь, чтобы слова прозвучали без переполнявшей его сейчас злости, хоть слушать про странную Соню было ему совсем не интересно.
– Людей.
– Это и я умею.
– Но она видит их, как себя, изнутри – все их мысли, знает их ощущения, чувствует даже боль. Представляешь, как это невыносимо, если их много, если их двадцать или тридцать в день приходит к тебе, и они такие… как есть.
– Какие «такие»?
Она взглянула на него искренне удивлённо.
«Ты что, не знаешь, какие сейчас люди?» – прочитал он в её взгляде.
– А ещё начальство… Оно требует, чтобы этим несчастным не давали больничные листы… снижали заболеваемость! Конечно, их нельзя винить – ни тех, ни других… Они не виноваты, что делаются такими…Она их и не винит. Просто единственный выход – уйти и не иметь с ними дела.
– Ты тоже так думаешь? Как твоя Соня?
– Нет, конечно! У меня же этих способностей нет! Я просто сказала тебе для того, чтоб ты знал, откуда ей всё известно. Она может прекрасно знать, о чём мы сейчас говорим…
– Что? Она сейчас слышит? Этого ещё не хватало!
– Нет-нет! Не волнуйся! Просто если, допустим, завтра я буду рядом с ней… и если я захочу… разрешу ей это, она как бы станет мной, обретёт мою память… и в один момент – это происходит мгновенно – узнает обо мне всё! Всё, что помню и о чём думаю, будет знать Соня. Произойдёт обмен, – она робко взглянула на него снизу вверх. – Не сердись, если этого не захочу, она ничего не узнает!
– Вот что! – сказал он и крепко схватил её за руку, которую она попыталась вырвать. – Стой! Отныне никакой Сони!
– Почему я должна тебя слушать?
– Потому что ты ничего не понимаешь! – «Как ты тут собираешься жить, что делать со своими принципами?» – хотел он сказать, но не сказал.
– Пусти!
– Отныне ты не должна иметь с ней дела и ни в коем случае не позволять ей чувствовать твои мысли. Завтра же утром ты должна сказать всем, что собираешься в лес – на целый день. Скажи, что пойдёшь в поход, на новое грибное место… Что угодно скажи! Мы должны обсудить с тобой всё без лишних глаз. Ты должна научиться держать свои мысли в тайне.
– Отпусти меня! Мне же больно…
Он ослабил хватку.
Она вырвалась, побежала, но он догнал в два счёта, подставил ножку. Но не дал упасть – подхватил на руки и опустил в траву, бережно прижав к себе.
– И не вздумай кричать! Отвечай… Она знает, что ты управляешь копером?
– Нет… Кажется, я об этом не вспоминала. Только представила наш полёт туда… и тот мир, и тебя с этими шутами гороховыми…. Как ты смешно удирал от Пепки и великана…
– А скажи…
– Ничего я тебе не скажу! Отпусти, – сказала она со слезами в голосе. – Во-первых, тут крапива… А потом, ты играешь нечестно, ты применяешь силу. Я не желаю с тобой говорить здесь! Там….
– В окопе?
– Да. Ты прекрасно знаешь, что там мы будем на равных. Я смогла бы тебя одним пальцем забросить на верхушку сосны.
– Значит, копер придаёт силы?
– Только там я буду с тобой говорить. Он исполнит любое моё желание.
– Так пойдём туда… – Он старался, чтобы не дрогнул голос, он старался выглядеть равнодушным, не выдать своего ликования, не крикнуть, не запеть от восторга – ведь и его желания исполняет копер! Удача! Это была удача, он выиграл в этой игре – это было то, чего он хотел, к чему стремился: заставить её пойти туда! Какая же она наивная простота!
– Вставай, – сказал он как можно спокойней, и осторожно стряхивая с неё соринки. – Тут действительно крапива! Прости… я этого не хотел. – «Теперь главное – доиграть!..» Бешено билось сердце. «Чтобы не догадалась…Только бы не догадалась ни о чём!»
Он не помнил, как они дошли до развилки, поднялись на холм и справа внизу показался хутор. Сквозь чёрные перистые облака проглядывала луна – ещё полная, серебрившая лес холодным светом, он видел сверху и нежные плечи и тонкий изгиб рук – казалось, всё это тоже испускает сияние в темноте. Только другое, своё – тёплое и живое, кружащее голову, как вино.
Жора был невероятно счастлив, никогда ему не было так легко, а сердце, казалось, вырвется из груди… Он боялся произнести хоть слово, боялся, что волнение его выдаст.
Свернули в лес. В лунном свете был виден мох и сбитые сыроежки. Вот он – куст можжевельника на краю окопа.
– Сядем? – предложил Жора, прыгнув первым в окоп и подавая руку.
Она легко соскочила вниз за ним следом.
На размытом дождём песке появилось небрежно брошенное одеяло.
– Ого! Теперь можно и посидеть. – Он расстелил его, это оказался клетчатый шерстяной плед. Сухой и тёплый.
– Тебе хорошо, – засмеялась она, оправдываясь, – а я в шортах…
– Ну садись… садись поближе, – сказал он, чувствуя неописуемое блаженство, но придвигаясь к ней и обнимая за плечи так, чтобы не выдать себя ничем. – Теперь ты меня не боишься?
– Теперь… ты у меня при желании полетишь вон туда… – она слегка повернула голову в сторону хутора, – … прямо на крышу хаты! Шлёпнешься там… и ещё, чего доброго, проломаешь. Она ведь соломенная… И старики, бедняги, умрут в последний день от инфаркта…
«А ты у меня станешь такой, как я хочу…» – подумал он, задыхаясь от нежности, а вслух спросил о Крыловых:
– Значит всё-таки удалось купить? Переезжают?
– Нет! Председатель не разрешил продать хутор. Крылов смог бы работать тут только в школе, а от этого председателю никакой пользы. Требует, чтобы вступали в колхоз.
– Так как же?
– А так… Старики завтра утром переезжают. В любом случае. Зиму прожить им одним уже не хватит сил. Сказали: «Живите так! Кто вас тронет? Считайте, что хутор вам сдаём…»
Она прижалась к нему, дрожащая и холодная. Наконец-то замёрзла! Жора был на седьмом небе от счастья. Он обнял её незаметно другой рукой и прижал к себе и, стараясь сдержать дыхание, прошептал:
– Не бойся…
– А я тебя не боюсь… потому что ты ещё не стал злым. И всё-таки… не подлец…
«Ладно-ладно… – это он проглотил. – Теперь главное, чтобы не догадалась или опомнилась как можно позже, когда уже ничего нельзя будет изменить… И, главное, не торопиться… Говорить, говорить – о чём угодно! Хоть что-нибудь говорить!..»
Он незаметно вытянул руку, которой обнимал её за плечи, и, поймав край пледа, заботливо укрыл до самой шеи. Другой конец натянул на себя и не удержался от смеха:
– Теперь можно заночевать!
Она насторожилась и отодвинулась.
«О чём бы, о чём бы её спросить?»
– Скажи! – начал он поскорее. – Вот ты сказала… Все мы – случайные люди здесь… И только Соня…
– Соня – понятно! Её предки веками владели этой землёй, и не просто владели – заботились о земле вместе с хозяевами хуторов и арендаторами, строили школы, больницы… и не только! Вот что я вспомнила – Пепка ещё сказал, что кроме Сони два человека здесь – не чужие этой земле! Про одного я так и не догадалась…
– А второй?
– Профессор! Его дед, оказывается, строил мост в Маньковичах!
– Мост ужасный! Все брёвна сгнили, на машине просто страшно ехать!
– Конечно, ведь строили-то его сто лет назад, по заказу Сониного прапрадеда. Строил пришлый подрядчик-чех, и все мосты в округе, что сохранились – его работа, только с тех пор никому не приходит в голову построить новые…
– И сам он пришёл из Чехии?
– Искал работу, строил мосты… Да так тут и остался. Понравилось. Построил домишко в Молодечно, обзавёлся семьёй, а сын его кончил до революции физико-математический факультет и стал жить в Минске…
– Постой! – мысли Жоры перескочили к главному. – Твой Крылов – физик, кажется, тоже – он тебе что-нибудь говорил?.. Как действуют эти серебряные штуковины и что это на самом деле такое?
– Откуда же мне знать? Думаю, этого никто не знает!
– Но этот же… в васильковом свитере… Лженаследник!.. Что-то ведь тебе объяснял? Неужели ты не спросила?
– Спросила… и объяснил, конечно. Могу тебе рассказать… Но, думаю, это примитивная версия. Ведь он со мной говорил, как с ребёнком.
«А как ещё с тобой говорить?… Как ещё говорить!» – он сдерживал себя изо всех сил, так хотелось её сейчас обнять, навсегда заключить в своих объятиях, но он заставил себя думать о главном.
Шурочка вдруг глубоко вздохнула и доверчиво прижалась к нему, положив голову на плечо. Жора незаметно освободил руку и прочертил над её головой чёрточку на песке – на сырой стенке окопа.
Она тоже высунула руку из-под пледа. В её руке появилось яблоко. Спелое краснобокое яблоко из цыганкиного сада.
Такое, он видел, – лежало вчера в шезлонге.
– Представь, что это Земля… – В другой руке у Шурочки появилась спица. Самая обыкновенная, которой вяжут.
Он тоже видел вчера такую… Шурочка поднесла эту спицу к яблоку и проткнула его насквозь, так что спица прошла через самую сердцевину.
– Представь, что Землю пронзает поток частиц… в точке входа, допустим, тут…
Но он не услышал, что Шурочка сказала дальше, слова её пробудили странные ассоциации, он вспомнил греческую мифологию – Землю-Гею и Урана – Небо… Как странно! С неба упало на Землю и сейчас… нечто такое… породившее что-то совершенно новое… А тогда, в прошлом, было то же самое… «С полной утробой тяжко стонала Земля-великанша… Дети, рождённые Геей-Землёй и Небом-Ураном были ужасны…»
Да, как ужасны казались ему все эти гиганты! Эти Эринии и циклопы, как он их с ужасом представлял в детстве, когда ленинградская бабушка в старой петербургской квартире с высоченным, украшенным лепниной потолком, на старинном, пережившем все времена диване, который мог помнить Достоевского, читала ему «Теогонию» Гесиода в вересаевском переводе. Все эти ужасы запомнились навсегда, а сейчас он их вспомнил… Как ужасны казались тогда эти рождённые Геей дети… А ведь мы – тоже получились ужасными! Мы родились после этих огромных детей, и тоже оказались не менее отвратительными! Мы тоже губим сейчас своего отца и мать-землю… И вот теперь Гея рождает новых детей – совсем других, не похожих на вторых и первых… Как первые не похожи были на вторых. Так и на нас не похожи третьи!
– Да? Что ты сказала? – очнулся и вздрогнул Жора.
– Я говорю, вот тут, где вошла спица, – она пальцем коснулась места на яблоке, – в точке входа находимся мы – Белоруссия, Западная Европа… Выйдет поток частиц где-то здесь… – она перевернула яблоко. – Здесь вышла спица – Австралия, а точней – район острова Явы… Противоположная сторона Земли….
Он обнял её непроизвольно и снова почувствовал только её саму и блаженство, которое в этот миг его переполняло. «А ведь, может быть, это мы – её новые дети!? Дети Геи-Земли… Не просто эти сверкающие болванки, а мы сами, сидящие сейчас здесь, в её чреве – в этом вырытом в земле окопе… Да, именно эти неживые загадочные предметы, меняя нас, возможно, рождают в это самое мгновение на Земле новое поколение её детей – и это есть мы: я и она, или те, кто у нас родятся!»
– Ты не слушаешь! – прошептала Шурочка.
Жора взглянул на неё любящими преданными глазами.
– Как я могу тебя не слушать!
Она взяла яблоко в левую руку. В правой появилась теперь ещё одна спица.
– Смотри! Вообрази, пожалуйста, ещё один поток частиц – перпендикулярный первому. – Она проткнула яблоко второй спицей, так что обе они при пересечении образовали крест – равносторонний египетский крестик… – И с первым потоком он встретится в одной точке – в центре Земли.
«Древний символ, не имеющий отношения к христианству…» – подумал Жора. Об этом он тоже знал от бабушки.
– Точка входа – цивилизация Перу в Америке. Точка выхода – Индия, район Тибета. Теперь ты хорошо представляешь себе четыре цивилизации глубокой древности, которые появились в местах первичного попадания странных частиц. Но это были не те культуры, остатки которых открыты археологами теперь. Мы нашли вторичные, основанные людьми уже после великого переселения народов, те, что возникли на обжитых развалинах этих погибших древних цивилизаций. А переселение шло из Африки, она словно бы послужила для своеобразного контроля. Африка была лишена воздействия поля коперов и потому, может быть, и осталась первобытной землёй…
«Прекрасно, прекрасно!» – с восхищением думал Жора, почти не слушая… В лунном свете он видел пленительный изгиб шеи, где вился, словно живой, и сползал на край пледа тёмный шёлковый завиток.
Жора медленно высунул руку из-под пледа и к радости своей ощутил с другой стороны у неё на шее такие же мягкие шелковистые волосы, отросшие почти до плеч. – «Достаточно, вполне достаточно… – подумал он с лёгкой тревогой. – А то заметит!» – И снова сосредоточился, теперь уже на её лице…
– Ты знаешь, – начал он, проглотив комок в горле, потому что это было уже не её лицо, а лицо вчерашней юной Джоконды. Нет, не той, с картины… Такой она станет… может быть, через двадцать лет, а может быть… через час! Как он захочет! И подлость вся была в том, что она ещё ничего не знает.
Он глянул сверху на её затылок и метки на песке не увидел. Осторожно отодвинулся от неё и обнял за плечи, привлекая к себе.
Метка была ниже сантиметра на два-три, но этого достаточно, главное, что она изменилась.
– Ты знаешь! – сказал он опять, ощутив нежность и вину перед ней. – В тот первый день, на поляне… мысленно, словно вспомнив, я увидел ослепительную картину. Это было похоже на фонтан золотого света, который пронзил меня, воздух и траву под сосной, точно множество золотых искр хлынули с неба…
– Наверное, это было именно так… Порою я вижу здесь картины прошлого, словно блуждающие во времени…
– Это было видение. И я знал, что это случилось в далёком прошлом. Но самое странное, что одновременно я увидел будущее – всю свою жизнь, которая промелькнула передо мной, как в каком-то фильме, с удивительной скоростью… И самое страшное…
– Что? – вздрогнула она. – Ты видел конец? Конец этого мира? Это будет при нас?
– Нет, я не видел конца… Это было хуже – я не видел тебя! Тебя не было в моей жизни!
– Ну и что же тут странного? – удивилась она, отодвинувшись от него.
– Как что? Я не хочу, чтобы было так! Не хочу… – он крепко прижал её к груди, он имел на это право теперь, потому что это была не та… Другая! И она принадлежала ему – он сам её сотворил! И она была ему послушна, волосы её были мягкими, губы её были покорными, не чужими. Он потерял власть над собой, он не помнил, как долго длилось это растянувшееся мгновение…
Она высвободилась, отодвинулась от него, пытаясь вырвать собственную руку, которую он всё ещё держал в своей:
– Отпусти! – Она в ужасе смотрела на свои пальцы – длинные, тонкие и изящные. – Это не моя рука!.. – Она машинально поправила волосы и со страхом смотрела на длинные, тёмные пряди волос, рассыпавшиеся ниже плеч. – Что ты со мною сделал? Какое ты имеешь право? – Она заплакала, и он снова нашёл её губы, не дал ей плакать.
– Ты правильно всё предвидел! Я знать тебя не желаю! Права была Соня, сто раз права… Ты всё-таки «наполеон», ты опасен! Ты жаждешь власти над кем-то… Ты можешь подчинить меня, но именно-то поэтому никогда не подчинишь то, что желаешь!
– Почему? – он понял, о чём идёт речь. – Почему ты так думаешь? Я не просто желаю власти, я тебя люблю. Ты нужна мне для управления копером…
– И для того, чтобы я превращалась в ту, которую ты любишь?
– Да, но всё это… для того… Я люблю тебя такою, какая ты на самом деле есть, но хочу изменить тебя. Чтобы сохранить твою жизнь! Ты не знаешь, что может ждать тебя здесь! Что будет с тобой, если всё откроется и дураки этому поверят! Они ведь ещё к тому же – и подлецы! Ты не знаешь, какие есть подлецы, что жаждут власти! Или просто хотят её сохранить, холуйствуя перед другой, что посильнее! Я хочу быть свободным от них – и всё! И не больше того, пойми! Мне надо спрятать от них тебя, увезти в другую страну! С… паспортом, изменив внешность, чтобы никто об этом не догадался…
Она неожиданно успокоилась и сказала:
– Прости, ты, конечно, прав! Если ты управляешь копером, даже через меня, всё равно управляешь ты. Копер не запрограммирован на подлеца, это абсолютно точно! Он запрограммирован на определённую личность… в идеале возникающую из гения при условии свободного его развития. До сих пор на Земле не было таких условий, ибо не было общества без всякой власти над личностью, а всякая власть калечит…
«Уродует… – согласился Жора. – И тем сильней, чем больше в ней деспотии».
– И не было такой личности, потому что не было ещё свободы!
Жора кивнул… «Ох, как любили смешивать это слово с грязью! Дошло до того, что “свобода” звучала, чуть ли не как «преступление»! А потом и вовсе чёрное назвали белым, придумали, что свобода, видите ли, – осознанная необходимость! Что нет её, и не может быть, что свободы нельзя достигнуть! Может быть, её достигнуть нельзя, как недостижим предел, но к ней стремится душа, как нарастающий числовой ряд стремится к бесконечности – к своему пределу. И запрещать душе стремиться к свободе – преступление! Свобода есть бесконечность, она бесконечна, как бесконечна мечта. А сказать, что бесконечности нет – не только ошибка, но ещё одно преступление! Так всегда говорили те, кто жаждал свободы лишь для себя!»
– Власть калечила и рабов, и царей – толпу и тех, кто стоял над ней…
– А как ты представляешь себе мир без власти?
– Ты видел этот мир сам. Помнишь лесовика, который принёс вам лестницу? Это единственная власть в том мире – спасти при опасности диких зверей в лесу, потушить пожар, защитить людей. И когда-нибудь, если Земля переживёт это смутное время, население её уменьшится естественным путём. Его ведь и не нужно много, чтобы сохранить культуру… А для этого-то оно и существует!
– Много надо только пушечного мяса, всё верно. Но как же преступники? Как быть с ними?
– Они просто туда не попадут…
– А здесь… останутся навсегда?
– Вспомни древний Китай! Как там свято исполнялись законы и как жестоко казнили преступников за убийства. Им отрубали головы, четвертовали, но гены проявлялись снова, даже при том, что убийца знал о чудовищном возмездии… Значит, это всё-таки гены, а убийства совершают их носители или те, у кого эти гены растормаживаются, и в Китае жестокое наказание убийц преследовало две цели: культурную – устрашить всех остальных, и эволюционную – уменьшить количество носителей этих генов в популяции, ведь казнили преступников часто вместе с сыновьями…
– Это тоже фашизм.
– Девиз многих императорских династий служил утешением страдавшим от собственной жестокости судьям и исполнителям бесчеловечных приговоров, и этим девизом были слова: «Возмездие превыше человеческой жизни».
– Ты о каком времени говоришь?
– На месте Москвы ещё предстояло тысячу лет жить «диким» финнам – вот о каком! А Императорский девиз «Возмездие превыше человеческой жизни» уже помогал судьям и исполнителям приговоров переносить жестокость, с которой уничтожали убийцу. А что касается фашизма… Да, ты прав, но, возможно поэтому, именно у Китая есть шансы дожить до будущего, в котором не будет ни преступности, ни преступной власти, власть всегда в той или иной степени преступна… Но у всех остальных народов, где нету именно этой разновидности фашизма, но полно других, – нет и шансов достичь такого будущего хоть когда-нибудь… Что ты на меня так смотришь?
Луна освещала её посуровевшее лицо. Это была не Джоконда. Нет… Это была Немезида. Она усмехнулась, потом лицо осветила улыбка, и Жора увидел снова знакомые детские черты.
– И, может быть, хоть потомки китайцев станут жить в мире, похожем на тот, что ты видел – среди прекрасной природы на Земле, которая станет единой и единственной Поднебесной, где люди обретут свободу, и им не нужна будет власть – не нужны будут «наполеоны»…
– Почему ты так меня назвала? – оборвал Жора. – Моя ленинградская бабушка, между прочим, очень даже уважала Наполеона.
– И на этой земле в нём тоже мечтали видеть освободителя! Прапрадед Сони с детства запомнил, как люди встречали Наполеона в Вильне – с цветами, с радостью и надеждой, как героя, способного освободить их от России… Но эта надежда была последней. Больше народ не надеялся ни на что и ни на кого! Потому не поверил Костюшке… и другим… он только покорно сносил насилие – насилие русских царей, насилие империи, и ещё более страшное насилие большевиков… И поэтому теперешний – белорусский народ такой покорный. Он стал покорным ещё тогда, когда все здесь называли себя литвинами. Народ понял – всё равно, как ему называться. Назови хоть груздем! И уже не спорил, когда хитрая Екатерина придумала для него слово «белорусы»…Он понял главное: «наполеоны» не принесут свободы, они слишком стремятся к власти, и это – замкнутый круг, борьба бесполезна! И это народ убило!.. Но так было во все времена, у всех, исчезавших с лица земли народов… Из тех, кто пытался завоевать свободу, применяя насилие, получались «наполеоны», стремившиеся к власти над толпой. Из тех, кто насилие отвергал, выходили философы, юродивые и отшельники. Они от этой толпы бежали. Но и те, и другие обречены, как обречены мы все. И у тех, и других деформирована, искажена личность… Мы будем долго и мучительно умирать… но мы умрём, чтобы освободить место новому! Потому что… есть альтернатива – человек должен быть свободным…
– Почему ты решила, что мы будем… долго и мучительно умирать?
– Потому что мы – мёртвое общество и умирающий народ. Все народы умирают по Гумилёву – тысячелетиями, но общество может стать «мёртвым» очень быстро. Достаточно одного-двух поколений, чтобы сделать его таким – чтобы люди лишились памяти, забыли всё – и свою историю, и культуру, и даже как они назывались – как называли сами себя и как трудились на своих хуторах, на своей земле! Они забыли, как можно сопротивляться своим убийцам, а для этого объединяться и всем вместе отстаивать свои права… Их от этого отучили. И сделали это меньше, чем за десять лет сталинские большевики. В двадцатые-тридцатые годы они уничтожили здесь полтора миллиона…По точным подсчётам – миллион четыреста. Но можно ли подсчитать точно? Каждую ночь в Белоруссии расстреливали по триста-четыреста человек. Вокруг Минска, вокруг каждого белорусского городка – забытые уже теперь человеческие кладбища – ямы, в которые по ночам зарывали трупы.
– Что ты такое говоришь?
– Правду. Это был настоящий геноцид и даже больше! Это был геноцид культурный! Уничтожали – намеренно и целенаправленно истребили почти всю интеллигенцию, почти всех писателей, учёных, лучших учителей и самых трудолюбивых, не принимавших колхозы крестьян – их расстреливали целыми семьями или семьями высылали в Сибирь, где все они почти сразу же умирали. Этот бедный народ лишили культуры, лишили будущего. Организаторы – судьи и исполнители приговоров приезжали из Москвы на несколько дней. Несколько минут длился так называемый суд, ночью расстреливали по спискам и, завершив работу, московские палачи уезжали. Потом приезжали новые… И эти, вновь приезжающие, опять велели местной холуйской власти составлять списки…
– Врагов народа?
– Разумеется, врагов советской власти. И найти этих врагов было очень просто. Старшие московские товарищи давали умный совет, кого вносить в списки, кого из соседей и сослуживцев, товарищей по творческим союзам туда вписать. Критерий был ясный и простой. Одно понятное всем определение – думающий!
«Всё правильно! – содрогнулся Жора. – Какой же думающий согласится с тем, что творилось?»
– «Вносите в списки всех думающих людей!» – советовали московские товарищи. Вот так.
– Но откуда ты это знаешь?
– Крылов рассказывал. На кружке. Это история, которую от нас скрывают. Скрывают, разумеется, победители и их преданные холуи – те, кто её сейчас пишет и кому при Сталине было вольготно: недаром они радостно твердят, что при Сталине был порядок!.. Все эти Притыцкие и Мясниковы, Свердловы и Пономаренки, чьими фамилиями названы наши минские улицы. Спасибо вам, дорогие российские братья, – за то, что так успешно уничтожили наш народ! И что после этого от народа осталось?! Кто мы? Дети и внуки тех, кто не был расстрелян, а, следовательно, не вошедших в списки для расстрела – тех, кто, как получается, эти списки составлять помогал, писал доносы? Разве мы после этого – народ?!
– Но не все же, не все… – в отчаянии шептал Жора. – Кто помнит теперь это время?
– Крылову рассказывал его дед… Крылов мучается и сам, как я. Его деда тоже не расстреляли. Он – из тех, кто выжил. А когда Миша спросил его «почему?», тот ответил: «Им тоже нужны были врачи. Я лечил их всех…» Он лечил Цанаву и тех, приезжавших их Москвы… Они гуляли у него на даче, устраивали умопомрачительные попойки, а потом им требовались врачи, и дед Крылова приводил их в чувство! Приводил в чувство тех, тех… которые приезжали сюда, чтобы убивать «думающих»…
– Но как можно было тогда всё это терпеть?
– Тогда? – в её голосе были горькие нотки. – Мы терпим по-прежнему и теперь. Даже у нас в школе. Весь класс тупо сидит на пионерских собраниях, где в головы всем вбивают всякую дурь.
– Сравнила…
– Это очень действует. Даже двоечники и хулиганы покорно сидят на собраниях, одна я ухожу на кружок в десятый класс…
– Там ведь тоже свои… комсомольские собрания.
– Да. Крылов выбирает дни, когда их нет. Но уж в комсомол-то я ни за что не вступлю! В пионеры нас принимали всем классом… чтобы мы сделались, как бараны, покорным тупым стадом… А в комсомол – никогда!
– А куда ты денешься?
– Обойдусь.
– Тебя в институт не примут.
– Ну и пусть!
– И что же ты будешь делать?
Она как-то горестно хохотнула:
– Умирать!.. Я поэтому и говорю: мы ВСЕ будем долго и мучительно умирать… потому что мы – уже мёртвые! Мы не можем даже мечтать, что можно не вступить в комсомол и остаться свободным! Мы будем долго и мучительно умирать, потому что у нас нет мечты!
Коснувшись волосами его плеча, она покачала головой:
– Но это не мои слова… Достоевский к концу жизни увидел особый смысл в том, что все народы – все великие народы мечтали о золотом веке. Они не только не могли жить без этой мечты, – они не могли без неё умереть! А ведь золотой век – это свобода! Мы же все разуверились – разучились даже мечтать о ней! И мы ВСЕ будем мучительно умирать, потому что у нас нет мечты…
– Можно иметь мечты… совсем другие…
– Но если у человека нет этой, он превращается в зомби. Он примет любую власть и любой фашизм и будет считать, что счастлив, если ему предоставят комфортабельный многоквартирный концлагерь с телевизором. И вы все – такие! Вас такими сделали коммунисты! Вы к этому уже привыкли, вас не изменит уже ничто, и я не хочу жить с вами!.. У вас нет будущего, все вы обречены!
– Все народы в конце концов… завершали свою историю. Но это длится веками! Обречённая Византия – вон сколько лет дожидалась своего конца! Это ждёт и Россию… – Жора задумался, вспомнив ехидные слова Пепки. – Но разве ТЕ… не говорили с тобой о будущем? У меня создалось впечатление, что они ещё сами не знают, что нас ждёт.
– Правильно. Они говорили: всё станет когда-нибудь возможно – всё, что не противоречит фундаментальным законам природы – и телепатия, и телекинез, и можно будет даже попасть когда-нибудь в будущее. Но одно останется невозможным – будущее нельзя будет предсказать. Законы физики говорят, что предсказать будущее невозможно…
– Но я же видел…видел его! – мучительно простонал Жора. – И я его не хочу…
– Не исключено, что можно знать будущее для себя. Но МОЁ будущее ты знать не можешь!
– А эти двое? Да ведь они…сами пришли из будущего… Разве они не знают, что с нами станет?
– Нет! – Шурочка покачала головой. – Они пришли из другого будущего. С другой лестницы – эскалатора метро, которая движется вверх среди тысяч других или даже миллионов себе подобных, и поэтому они не знают, что будет с теми, кто движется на других лестницах…
– Правильно, да… Так они говорили! Они не знали, будет ли будущее у Земли, и даже не знали, что станет с нами именно здесь… не в России! Как будто мы имеем шанс… они допускают, что будущее МОЖЕТ БЫТЬ…
– И у НАС тоже, – уточнила она. – А вообще-то оно, конечно, будет. Ведь будущее – единственное, что нельзя уничтожить сегодня. Оно в любом случае произойдёт, только вопрос – увидим ли его мы?
– Знаешь… Они мне подарили одну вещь и сказали, что если какие-то условия… перемены – осуществятся, вещь пригодится мне. И в этом случае у нас – и у человечества… будет шанс выжить…
Она кивнула.
– Но вот что меня занимает. Я видел будущее для себя, которого не хочу. Однако, по их словам, это – лишь вариант. Версия, которую изменить можно… и я хочу её изменить! Я не хочу, чтобы когда-то в будущем тебя не было в моей жизни. Чтобы ты имела другого мужа, другую семью…
– У меня совсем этого не будет! Никогда! Я не стану этого делать вообще!
– Но всё это неизбежно! И дети…
– У меня никогда не будет детей в этой стране!
– В этой или в другой…
– Ни в какой! – фыркнула она и, откинув плед, попыталась вырваться, но он её удержал, нежно прижав к себе.
– Отпусти! У меня – дурная наследственность! Ты что, не знаешь… кем был мой дед?
– А кем он был? – удивился Жора.
– Всякой сволочи подчинялся, как и дед Крылова! Всю жизнь молчал и терпел, значит, сам был не лучше! Не знал, разве, на чьих костях строились эти «великие» стройки? Не мог не знать!
– Ты просто глупый ребёнок!
– Молчи! Это были коммунистические стройки, где тысячами гибли «зэки» – такие люди, как мы, кто чем-то отличался от коммунистов… а сам он был членом КПСС!
– Вырастешь… – перебил Жора.
– И станешь такой же тупой, как все?! А ты знаешь, что пациенты психбольниц с лёгкой степенью дебильности, достигнув тридцати лет и начав вести жизнь взрослого человека, уже ничем не отличаются от окружающих? Становятся такими, как все!
– То есть мы – становимся, как они?!
– Вот именно! И я в таком случае не желаю расти! Тем более, ещё растить таких же – таких, как вы!.. – она ударилась в слёзы и опять порывалась встать.
«Самое лучшее сейчас – влепить пощёчину!» – лихорадочно думал Жора, но, не способный никак на это, сказал резко:
– Хватит! Завтра поговорим!
– Нет, верните мне, пожалуйста, прежний облик! – потребовала она с иронией – насмешливым и категоричным тоном, решительно встав с земли.
«Ну, уж нет!» – жёстко подумал он, поднимая плед, и как можно мягче сказал:
– Кто тебя увидит ночью?
Она снова заплакала.
– Пожалуйста… Я не хочу быть взрослой. Я не смогу…
– Послушай… – он не знал, что делать, задыхаясь от жалости и любви к ней. – Ну как-нибудь!.. потерпи. Потерпи до утра. Уже поздно, а завтра мы всё обсудим… Я устал. – «Она тоже, конечно, устала!» – подумал он и укрыл её пледом, обнял за плечи и почувствовал, что она, согревшись, перестала дрожать и что опять всё в его власти… – Утро вечера мудренее!
– Хорошо! – прошептала она согласно, когда Жора её, наконец, отпустил, с трудом убедив себя, что всё ещё будет после, на всё ещё будет время и всё… будет потом!
– На рассвете жду тебя здесь, завтра! Только, пожалуйста, не проспи!
Он сам был заинтересован в том, чтобы не проспать, придти первым.
«А не остаться ли тут ночевать? Вдруг она придёт ночью?» – но он догадывался, что это вызовет у неё подозрение, и потому собственноручно довёл до палатки.
Эпилог
В окоп он пришёл заранее.
Птицы только начинали петь. Хвоя была мокрая и тяжёлая от росы, не шевелился ни один лист, из-за застывших кустов виднелась дорога и хутор за ней.
Жора поднял валявшийся в окопе плед и положил на мох у высокого можжевельника.
Когда солнце начало золотить солому на крыше и под ветром засеребрились тополя «бальсана», к хутору подъехала телега. Он слышал, как скрипят деревянные колёса. Потом он увидел, как женщина в цветной косынке пошла к крыльцу. Из хаты выбрались старики, с сумками и узелками. Вещи вывезли ещё вчера на грузовой машине. Женщина развернула телегу поближе к крыльцу и усадила на солому деда с бабой. Лошадь щипала траву, все долго сидели и чего-то ждали, поглядывая на лес и дорогу, которая вела к озеру. Наконец оттуда показались Крыловы с тяжёлыми рюкзаками. Вещи они оставили у крыльца и пошли к телеге. Все прощались, бабка утирала слёзы концом косынки и оглядывалась на хату. Когда скрип телеги затих вдали, настала долгая тишина, и Жору сморил тяжёлый сон.
В этот миг Шурочка открыла глаза.
Три сна приснились ей на рассвете, и все три кончились одинаково в один и тот же момент. Она часто видела по несколько снов сразу, словно воспринимая их разными участками мозга, погружёнными каждый в свою реальность.
«Наверное, это значит, что я сегодня-то и умру!» – вспомнила она концовки снов и попробовала их воспроизвести в памяти один за другим…
Она помнила себя внутри огромного, освещённого жёлтым светом здания-колодца с круглыми замкнутыми коридорами вдоль стен и пустотой внутри, где извивалась только лестница-серпантин, как в милиции или военкомате. Наверное, такой изнутри была Вавилонская башня! – думала она, убегая от каких-то людей в военной форме. Она спускалась всё ниже, с этажа на этаж, пробегая мимо закрытых дверей по этим циклическим коридорам. Наконец, некуда было бежать – это подвал, пол разобран, внизу – земля. Она стоит на высокой балке фундамента, и выхода нет – только прыгать! И там, на чёрной земле, стоит под балками человек в какой-то серой хламиде со шпагой на поясе и протягивает к ней руки. Он кажется ей очень знакомым! Она узнала его – это Воланд! Да, так представляла себе лицо того – с больным коленом, сидевшего у камина в грязной ночной рубашке, когда читала «Мастера и Маргариту». Того, кто спасительно протягивал сейчас руки, и подхватывал на лету – и поймал её в свои объятия, не дав упасть…
Во втором, бесконечно замедленном и ярком счастливом сне они вместе шли на свободе вдоль забора, за которым был чудный сад и яблони, как в саду цыганки, склоняли к ним свои ветки. И когда яблоня с красными плодами перегнулась через забор, Шурочка вдруг сорвала краснобокое яблоко и подала Сатане. И он тоже поднял вверх руку – и другая яблоня склонила ветки – и, сорвав жёлтое великолепное яблоко, подал Шурочке. И она подумала, что это сорванное Сатаной яблоко, само бы упало – такое сочное и переспелое – оно не полежит, его надо есть сразу…
А в третьем сне она видела себя в очереди, с подносом, в огромном, шумном, заполненном людьми зале общепитовской столовой. Она пристраивается в конце, и какие-то двое мешают ей, задирают её и кричат: «Выдь! Выдь из очереди! Брось поднос!» В одном из них она узнаёт Пепку… и знает, что это кто-то другой. Знакомый!.. Но тут к ним подходит тот человек в серой хламиде, взглядом отгоняет Пепку, а она сторонится… поднос падает у неё из рук!
И все три конца – как падает этот поднос и она выходит из очереди; как подаёт яблоко Сатане и как сама она, падая, попадает к нему в объятия, – совмещаются одновременно.
Далёкий шум трактора разбудил Жору. Звук его услыхала и Шурочка, вдруг поняв, что опаздывает, попусту теряет время.
Когда она поднялась верхней дорогой к доту, звук мотора слышался совсем близко, и она поскорее свернула направо вверх, в молодой сосняк.
Наблюдая из-за кустов, Жора увидел остановившийся вдалеке трактор и красноносого мужика, который вылез с трудом из кабины и, хромая, зашагал к хутору.
«Мотор заглушил… С чего бы это? – удивился Жора. – Не принято у них тут глушить…»
Но не знал, и не мог знать Жора, что трактор, который выделили вчера бабкиному зятю – такому пьянице и гультаю, что даже при полном отсутствии работников председатель не соглашался брать его трактористом – что трактор этот заводился, на удивление, без проблем, но зато у него не работали тормоза…
И знал – знал ведь вчера об этом сам бабкин зять! Да только какого дьявола было с ними возиться, «з гэтыми праклятыми тормозами», если ещё не факт – дал бы ему председатель работу, даже и разломай он сейчас к чертовой матери тёщин хутор!
«Ёсть вторая группа – и не лезь!» – вспоминал он всегдашние председателевы отговорки, шагая сейчас до жёнкиных стариков. Группу же он «зарабиу» не просто по пьянке, а, можно сказать, прославился на всю округу. Горел! Пожарники едва спасли!
«Ну, выпил добра! Чаго не бывает? – любил он рассказывать всем и каждому свою историю. – Выпил добра и спать лёг… и як жа сигарету не затушыу?! Жонка на ферме была. Одеяло трохи стала гарэть – запаху не пачул… И тольки кали сгарел матрац ды зажала нагу у пружынах – тады заарал ад боли! Падскочыл – а нагу не дастаць, застрала, халера! Сгарел бы, як святы мученик, каб не тыя пажарники. И то – обгорел! Год па бальницах, группу дали… Дык нешта з той группы пражывешь?»
«И дров не даёт, собака! – подумал он ещё про председателя, поднимаясь на крыльцо. – Во, – кажа, – хутар табе на дровы, тёщын. Ламай! Не трэба нам гэтыя, гарадския…»
Жора видел, как минут через пять красный, разгорячённый бабкин зять выбежал, ругаясь из хаты – орал что-то, размахивая руками, и даже, раз оглянувшись, крикнул заплетающимся языком:
– А мать… вашу… Выметайтеся! Мая хата! Што хачу, то раблю…
Трактор, однако, долго не заводился.
Крыловы с вещами вышли из дома и сели поодаль у старенького плетня, наблюдая, что будет дальше. Дом заслонял их от леса, они видели только дорогу, ведущую из бальсана, стоящий на дороге трактор и сидевшего в кабине тракториста.
Ежиха, которую никто не видел, тихо сидела под крыльцом и сквозь щели в досках смотрела на всё – видела ноги Крыловых, сидевших на рюкзаках, их нехитрый скарб, приближавшуюся от озера Шурочку и своим особым – внутренним зрением – видела смотревшего из леса Жору…
Мотор, наконец, отчаянно зачихал и кое-как заработал.
– Никога у хате? – высунувшись из кабины, заорал бабкин зять. – Беражыся! Ламать буду!
«Что он делает, идиот?! Что он делает? Там же мина! И второй копер…» – догадался только теперь Жора.
«Мина!» – одновременно подумала Шурочка, вышедшая на дорогу, когда завёвшийся наконец трактор ехал уже прямо на неё…
Бабкин зять на дорогу не смотрел и пока ещё не видел Шурочку. Он глядел вдаль, на хату, на бревенчатую серую стену с голубыми наличниками окошек, примериваясь, как бы не промахнуться и врезать в стену так, чтобы кончить всё одним махом.
«Дурак! Рамы добрыя… Ай! Забыу вынуть!..» – но трактор было уже не остановить… Он вдруг заметил Шурочку и, не в силах понять, почему эта дура стоит у него на дороге, окончательно растерялся. Свернуть было ещё не поздно, но он почему-то жал на тормоз. Жал – жал по привычке, не помня, что делать это с этим трактором бесполезно…
– Дура! Уйди с дороги! У мяне тармазоу нема! – крикнул он что есть силы, продолжая нажимать на тормоз, но Шурочка не могла слышать. Не слышали и Соня с ежихой – мотор заглушал все звуки. Они только с удивлением наблюдали, и с лёгкой тревогой думали – «отчего он не сворачивает с дороги? Пора!», – прекрасно зная, что человек не может задавить ребёнка.
– Да у меня тормозов нема, дура! – заорал он в ярости ещё громче, со злостью размахивая кулаком, но Шурочка его по-прежнему не могла слышать и только видела сквозь стекло кабины искажённое, страшное от слепого ужаса лицо тракториста.
И видя это лицо, она вспомнила сон и подумала: «Меня настигли! Эти лица меня нагнали… и надо прыгать. Я отдаю тебе, дьявол, свою душу, и пусть она вечно горит в огне – я продаю тебе её за дорогую цену! Измени это лицо, измени этот мир, сделай его другим – чтобы не было у людей таких лиц!»
Соня сорвалась с рюкзака, прижав руки к груди, и крепко стиснула в них цепочку. Она поняла мысли тракториста, ей стало понятно, что кричит пьяный водитель, но она по-прежнему не понимала намерений Шурочки, ведь она знала: этот ребёнок мог бы сейчас с помощью копера одним усилием воли сбросить трактор в кювет – в канаву справа, а точней, в тот изрытый окопами котлован от взорванной в четырнадцатом году бабушкиной усадьбы, где за столько лет разрослись рассеявшиеся сами собой бальзамические тополя, образовав эту серебрящуюся на ветру рощу, которую старая баба Зося почему-то называет… «бальсан»…
Шурочка подняла руку, не собираясь уходить с дороги, и показывала жестом водителю, чтобы свернул в сторону.
Соня не знала, что делать. В отчаянии сжимая цепочку, она взмахнула руками и метнулась вперёд… Цепочка разорвалась, что-то маленькое и тяжёлое упало в траву. Яркий луч засверкал в росе – в лепестках золотого лотоса…
Ежиха тоже не понимала, чего хочет это повзрослевшее раньше времени человеческое дитя. Она пыталась понять, изо всех сил старалась прочитать мысли, полные отчаяния и боли… Живя в новой норе возле сияющей золотой шишки, которую доверил ей этот человеческий ребёнок, ежиха многому научилась. Она поняла: золотая шишка умеет исполнять желания – может сотворить блюдечко с молоком и блюдце с водой… Ежиха теперь уже больше не подчинялась инстинкту – и не ползла каждую ночь к озеру вслед за звездой, чтобы напиться. Теперь она больше думала и больше размышляла… и ей казалось, что ежата, что родятся у неё в этот год, будут умными…
Когда жуткий рёв трактора был уже под самым ухом, Шурочка успела подумать, что будет сейчас очень больно и ещё не поздно бежать – но бежать не стоит…
Пусть этой боли боятся те, кому не больно жить…
А ежиха в конце концов проникла под слой сумбура и прочла эти мысли – мысли глупого человеческого ребёнка, бросавшегося сейчас под колёса… от отчаянья, и мысли той, взрослой женщины, которая тоже, наконец, поняла эти детские мысли и кинулась на дорогу, чтобы оттолкнуть Шурочку в сторону, но было поздно… Ежиха успела подслушать последнюю мысль умирающей женщины и невольно с ней согласилась… Да! На всякого мудреца довольно простоты! На всякого… И когда гусеницы смели со своего пути маленькое и большое тело, ежиха всё-таки поняла, для чего бросилось сейчас под трактор это человеческое дитя – поняла, вдруг узнав про мину и про то… что лежит под крыльцом, – и тотчас же повернула эти гусеницы в сторону, в заросли тополей, как хотела Шурочка…
Шурочку отбросило смертельным ударом, а Соню сравняло с землёй, превратив в кровавое месиво на дороге. Трактор, отброшенный вправо, дернулся, подмял серебристую молодую поросль в окопе и, перевернувшись через себя, по инерции свернул в котлован, а потом, грохоча и подпрыгивая, словно брошенная с размаху детская игрушка, покатил дальше в рожь… – с такой отчаянной силой швырнула его ежиха!
А Жора бежал… и видел, как та, вторая, светловолосая женщина, которая делала ему искусственное дыхание, вдруг срывается с рюкзака и бежит, бросается к Шурочке, хватает её за плечи, но их обеих подминает под себя трактор – и тут же какая-то сила отшвыривает трактор с дороги…
Жора не помнил, как пережил этот ужас, он до сих пор боялся крови… Он не помнил, как нёс её туда, к окопу и, проклиная этих двоих – этих двух идиотов, этих форменных недотёп, которые могли её отпустить, оставить ей копер, – и сам тоже, как последний дурак, просил, молил и мысленно кричал, обращаясь к тому, в фиолетовом свитере, чтобы они услышали… и хоть что-то, хоть что-то сделали… Он ждал, что вот-вот случится чудо – и, неся её на руках, он вдруг не почувствует больше тяжести – и чьи-то другие руки примут её у него и перенесут в тот мир, – другой, прекрасный, которого она достойна… Но чуда не произошло… Он прибежал к окопу, опустил её, бездыханную, на плед возле можжевельника и принялся снова молить судьбу, копер, тех двух дураков… чтобы что-то случилось… Но глаза его застилали слёзы, он не смог бы увидеть то, о чём просил… Он упал головой на мох, прижался щекой к ещё тёплой руке и с отчаяньем проклял бога, в которого не верил никогда…
Он стоял над ней на коленях, один в своём горе, и тупо смотрел на хутор, на осиротевшего у плетня Крылова, на стоявшие рядом туго набитые рюкзаки… и не мог заставить себя посмотреть на дорогу! Он смотрел на солнце, на серебрившиеся тополя «бальсана», на поле, что колосилось за хутором, и на свалившийся на бок трактор, застрявший там, далеко во ржи… и только сейчас понял, почему всё, что будет после, будет именно так…





![Новые миры [СИ]](https://www.4italka.su/images/articles/632040/primary-medium.jpg)



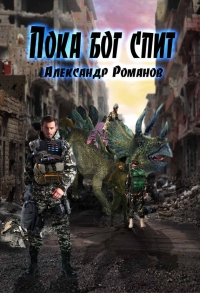




Комментарии к книге «И всё, что будет после…», Наталия Владимировна Новаш
Всего 0 комментариев