Юрий Шушкевич Вексель Судьбы Книга первая
Роман о будущем
В октябре 2014 года пилотным тиражом вышел в свет роман координатора Ассоциации футурологов России Юрия Шушкевича «Вексель судьбы».
В основе сюжета романа — судьба двух разведчиков-диверсантов НКВД СССР, которые в результате хронопортации переносятся из 1942 в 2012 год.
В нашем сегодняшнем мире им удаётся быстро «акклиматизироваться» и стать участниками многочисленных событий, связанных с розысками исчезнувшего за рубежом крупного царского вклада. Однако вместо капиталов, лёгших в основу мировой финансовой системы и с известных пор правящих миром, героям романа удаётся обрести сокровища иного рода.
Роман интересен многочисленными историческими коллизиями и футурологическими прогнозами, которые, будучи преломлёнными в сознании людей первой половины XX века, зачастую раскрываются с неожиданной стороны.
Ты посылал на меня многие и лютые беды, но и опять оживлял меня и из бездн земли опять выводил меня.
Псалтирь 70:20Глава первая Весенние сны
«Господи! Как долго я спал! Неужели я заснул против своей воли? И почему мне так трудно открыть глаза? Солнце слепит невыносимо».
Веки, словно отекшие свинцовой тяжестью, закрылись, и от прошедшей по лицу судороги захрустел песок на зубах. Усилием воли через мгновенье глаза были вновь разомкнуты, и яркий пульсирующий солнечный свет, как бритва, врезался в мозг, разрывая скопившуюся плотную сонную мглу на багрово-черные капли, которые, симметрично кружась и раздвигаясь, уступили место сначала торжественно-лиловому свечению, сменившемуся полупрозрачной лазоревой пеленой и затем — внезапно явившейся чёткой картине весеннего леса с нежно-салатной листвой берёз и устремившимися ввысь золотыми стволами сосен.
По всему телу в следующий же миг пронеслась лёгкая судорога, подобная слабому электрическому разряду. В ногах обнаружилась каменная тяжесть, из-за которой было невозможно ни согнуть колено, ни повернуться со спины на живот. Зато плечи, руки и шея оказались подвижными и живыми — ладони чётко чувствовали врезавшуюся в кожу острую хвою и жилы присыпанных прошлогодним опадом корней, а пальцы легко и послушно проникали в податливую мягкость нагретого солнцем дёрна. Можно было приподняться на руках и, запрокинув голову, видеть рассеченные сосновыми кронами квадраты и треугольники светло-голубого неба, манящего теплом и жизнью.
В лесу было достаточно тихо. Изредка раздавались и тотчас же замолкали птичьи крики, да глухой дробью где-то вдалеке стучали колеса поезда. Почему-то не было слышно ни приземного жужжания насекомых, ни высокого шума листвы. Тишина оказывалась необычной и даже пугающей, и одной из первых мыслей было: «Я сплю?» Ведь сновидения лишь обозначают звуки, но не содержат их. Следующая мысль, пронзившая мозг и даже на мгновение затмившая зрение яркой вспышкой, вопрошала: «А жив ли я?» В ответ на неё какая-то непонятная сила тотчас же подняла и расправила грудь, и в лёгкие с шумом ворвался свежий влажный воздух, напитанный прелым духом земли и острыми запахами недавно распустившихся юных листьев. «Ух!.. Похоже, жив».
Однако в минуту, когда по ещё мгновение назад бесчувственной пояснице стало распространяться бодрящее покалывание, свидетельствующее о том, что тело продолжает оживать, и спустя какое-то короткое время, когда ноги станут слушаться, он сумеет подняться, — неожиданный и страшный удар, направленный кем-то прямо в лицо, пресёк и обрубил благостное течение мысли. В глаза хлынула мгла, имевшая запах и вкус тёплой крови. Повинуясь инстинкту самозащиты, руки выстрелили вперёд, ухватившись одна за колено, другая — за щиколотку нападавшего, прикрытую толстым шнурованным верхом ботинка, уже изготовившегося к следующему удару. Возникшая из ниоткуда внутренняя сила, которой наполнились ещё слегка ватные руки, с резкостью прижала неприятельское колено к земле — что, по-видимому, стало для нападавшего неожиданностью, поскольку он, теряя равновесие, с шумом и громкой руганью завалился на траву.
В этот момент надлежало бы суметь перевернуться на бок и, решительно оттолкнувшись от поверхности, со всей тяжестью и свирепостью навалиться на агрессора, оглушить его ударом в район виска, затем постараться обездвижить, заломив, до хруста в сухожилиях, его преступную руку. Не забыв при этом лишить его возможности кричать — закрыв для этого локтем рот или, если удастся на несколько мгновений освободить руки, то забить туда в качестве кляпа пучок сухой травы с корневым комом, оторванный от ближайшей кочки. И лишь только потом, заглянув негодяю глаза и разобравшись, что же это за гусь, решить, как действовать дальше — оглушить, связать или же сразу отправить к праотцам.
Однако чёткий и понятный план поединка, десятки раз отработанный на боевых занятиях и сотни раз прокрученный в голове со всеми мыслимыми и немыслимыми вариациями, в этот раз увы, никак не мог быть выполнен. Поясничные мышцы едва слушались слабых импульсов воли, а ноги продолжали пребывать в бесчувственном оцепенении. Несколько драгоценных секунд было упущено, и неприятель, шумно поднявшись с земли, нанес высоким шнурованным ботинком ещё один удар, после чего опустился на одно колено, буквально вдавив им в землю локоть распластанной руки, вцепился в шею и начал душить, что-то негодующе приговаривая себе под нос. Добраться до шеи негодяя или сдернуть с себя его грузное туловище каким-либо болевым приёмом с одной действующей рукой не представлялось возможным. Исход поединка, начавшегося столь внезапно и необъяснимо, столь же внезапно окрасился мраком близкого смертного финала. Чернота накатывалась волнами, иногда на несколько секунд отступая, когда удавалось разомкнуть веки, и тогда кровь, посылаемая бешено колотящимся сердцем, распахивала зрачок для приёма последних порций света, уже более не передающего деталей и несущего лишь прощальный образ проваливающегося в никуда мира.
Руки душителя сжимались всё сильней, и в какой-то момент свет окончательно померк. В живом сознании ещё продолжали клокотать ярость и гнев, снедаемые бессилием, сердце бешено стучало, но вместо света, который хотя бы редкими прощальными вспышками мог бы проливаться из распахнутых глаз в затухающий от удушья мозг, всё пространство сверху начинала заполнять чёрная пелена.
Затем что-то тихо просвистело в воздухе, раздался короткий глухой удар, и спустя несколько мгновений вражеские пальцы, впившиеся в горло, задрожали и начали слабеть. Ещё через миг они необыкновенно легко и даже нежно соскользнули с шеи, следуя за отдаляющимся туловищем высокого и крепко сложенного человека в берцовых шнурованных ботинках и дорогой выделки чёрной кожаной куртке, одетой поверх майки необыкновенно яркого цвета. Тело неизвестного противника, отдалившись, вначале приподнялось над местом схватки — но затем, не сумев удержаться на ногах, судорожно втягивая голову в плечи, рухнуло замертво на тёплую весеннюю траву.
Чёрная пелена, ещё мгновение назад грозившаяся затмить белый свет, легко и быстро взмыла вверх, приняв очертание широкоплечего человека в колхозной телогрейке и картузе:
— Вставайте, товарищ младший лейтенант! Еле успел прикончить гада!
Только теперь, услышав знакомую речь и жадно заглатывая пьянящий воздух избавленья, младший лейтенант госбезопасности Гурилёв окончательно понял, что он — живой. Пережитое потрясение вдохнуло силы в ещё совсем недавно обездвиженное и ватное тело. Не без усилий, цепляясь за ствол молодой берёзы, он смог подняться на ноги и отереть с лица свежую, не успевшую запечься кровь.
— Спасибо, Петрович! Чем это ты его?
— Как чем? Лопаточкой, ясное дело. Ради тебя не пожалел бы патрона, да вот стрелялку не найду…
С этим словами человек в телогрейке резко пнул мертвеца носком сапога. Зарубленный в пылу борьбы тип начал окоченевать на удивление быстро. Он лежал, уткнувшись в траву лицом, и на его темени был виден глубокий диагональный след от удара сапёрной лопаткой, заливаемый стынущей тёмной кровью.
— Немец?
— Да нет, на немца не похож. Может — полицай. А может — диверсант. Сейчас выясним.
С этими словами Петрович, присев на корточки, стал обыскивать карманы убитого. Однако документов ни в кожаной куртке, ни в штанах не оказалось, удалось лишь извлечь два ключа с замысловатым профилем, прикрепленные к брелку в виде обнаженной женщины фиолетового цвета с неприлично расставленными ногами. Также был обнаружен странного вида заграничный карманный фонарик, светивший неярким голубым светом.
Убитый определённо не был немцем. Широкое скуластое лицо с приплюснутым толстым носом и золотой нательный крест православного канона, нанизанный на внушительных размеров золотую цепь, определённо выдавали в нём соотечественника. Или диверсанта, завербованного из украинских националистов, с которыми с осени сорок первого приходилось сталкиваться необыкновенно часто. Но что в таком случае забыл фашистский диверсант в самом что ни на есть фашистском тылу?
Грузное тело несостоявшегося душителя столкнули в неглубокую канаву поблизости и забросали ветками и сухой листвой. Если здесь имелась хотя бы какая-то ясность — например, в том, что этот тип отдал концы, а его карманы пусты, — то по остальным моментам, наполнявшим суть столь беспокойно начавшегося весеннего утра, ясности, к сожалению, не было никакой.
Во-первых, было непонятно, что случилось накануне с двумя кадровыми разведчиками, направленными на спецзадание и после утомительного двухдневного перехода через болота решившими заночевать на первом сухом участке. Отчего они проснулись не в пять часов, с первыми лучами, а лишь поздним утром, когда солнце уже вовсю поднялось над верхушками деревьев? Куда подевалось оружие — практически новый, пахнущий заводской смазкой автомат ППШ и трофейный тридцать восьмой шмайсер? Куда пропал надёжнейший вальтер, находившийся во внутреннем кармане телогрейки Гурилёва? Где холщовая альпинистская сумка, в которой были консервы, карта, а также лежал запечатанный почтовым сургучом спецконверт? И отчего от гражданской одежды, которая была на бойцах, исходит странный и ранее не замечавшийся за ней спёртый запах плесени и глубокого тлена, как если бы она не одну неделю пролежала, запертая в сундуке, на полу мокрого и душного блиндажа?
Отойдя шагов пятьдесят от места пробуждения и не менее странного поединка, едва не закончившегося гибелью одного из них, товарищи какое-то молча приводили себя в порядок — отрясали верхнюю одежду от листвы и хвои, обнаруживая и извлекая хвойные иглы и тонкие сухие ветки из складок и карманов. Водой из небольшой лесной лужицы Гурилёв промыл рассечённую губу и даже умудрился, используя её поверхность в качестве зеркала, расправить и причесать растрепанные и слипшиеся от грязи волосы.
— На мине, что ли, вчера контузило? — первым прервал затянувшееся молчание сержант, расположившись на пригорке и привычно запустив руку в карман за коробкой папирос. Однако карман был пуст, в остальных карманах также не было ни спичек, ни аккуратно сложенного листа из ученической тетради, на котором особыми знаками было обозначено место оставленного некоторое время назад схрона с рацией и запасом консервов. — Тогда кто ж это нас так бережно разоружил?
— Пока не знаю, Петрович. На мине или нет, но контузило нас с тобой определённо. Кто-то из местных подглядел и забрал оружие…
Здесь младший лейтенант на миг замолчал, и было заметно, как по его лицу пробежала гримаса глубокой и искренней обиды.
— Потом — он продолжил, — отчего-то заявился этот полицай и бросился меня душить. Но тогда странно, почему он пришёл с пустыми руками, даже ножа не прихватил… По всему выходит, что полицай наткнулся на меня случайно, иначе бы стал ждать, пока ты лопатку расчехлишь.
— Рад стараться. Лопата, как известно, последний и самый серьёзный аргумент бойца. С ней красноармеец непобедим.
— Не радуйся, с них станется…
— С кого — с них?
— С наших здешних советских граждан. У меня такое чувство, что во всех деревнях остались только одни полицаи. Неужели остальных поубивали?
— Кого поубивали, кто к партизанам ушёл… Так должно быть, наверное?
— В штабе говорили, что в месте проведения нашего спецзадания сейчас нет партизанских соединений. Так что давай, Петрович, исходить из худших предположений. Если хочешь знать моё мнение — из гражданских я готов доверять в этих местах здесь только бабам, детворе да тем из наших, кто из окружения выходит…
— Не возражаю, товарищ младший лейтенант. А вы про хиви слышали?
— Про каких хиви?
— Хиви — это у нас теперь так называется добровольный помощник вермахта. Становящийся модным вариант трудоустройства взятых в плен предателей и антисоветски настроенных мужиков. Служба будет попроще, чем в полиции, головой думать не надо. А паёк — как у немецких рядовых.
Младший лейтенант, видимо, вспомнил, что уже тоже слышал про добровольных помощников из местного населения, поэтому уточнил:
— Hilfs Williger[1]? Ну, тогда я трижды прав. Верить здесь готов только женщинам и детям. А просто мужикам в фуфайках — веры нет.
— А я ведь тоже никогда не понимал тех, кто сначала людям доверят, а потом проверяет, — согласился Петрович. — Всё должно быть наоборот. Не выращен ещё у нас новый совершенный человек, о котором писал Максим Горький и говорил товарищ Сталин. Что, не согласны со мной?
— Здесь — согласен, а в целом — нет. Новые, порядочные люди в стране у нас есть, и их немало. Если б не война, было бы их куда больше. Хотя что творится именно здесь — понять не могу. В голове как-то не укладывается… Первый встретившийся — и уже враг…
— Да уж поди — нас такому не учили! Проснулся, а вместо доброго утра — тебя уж душат! — воспламенился Петрович. — За неделю встретили первого живого человека — и что? С какого испугу он на тебя насел? Неужели ты на немца похож? Или на партизана, которых здесь нет? А навалился он на тебя, товарищ младший лейтенант госбезопасности, не оттого, что ты выполнял спецзадание, а он при этом — полицай при исполнении, и не оттого, что тебя, одетого под тракториста, он, стихийный партизан, за фашиста принял. Мы с тобой, как известно, профессионалы маскировки, и поэтому в этом лесу — мы никто, просто люди на четырёх ногах и с двумя головами. Документы остались в штабе, при себе никаких знаков отличия. Правда, в твоей умной голове, лейтенант, заложены большие знания и будущие пути к человеческому счастью, которые ты, попомни мои слова, подаришь миру, когда закончится война. Так вот, этому гаду было плевать, и на предстоящее всемирное счастье в твоей светлой голове, и на то, что эту голову, между прочим, может носить самый что ни на есть простой, честный и скромный калининский колхозник. Ты просто оказался на его пути — а шёл он, может быть, рыбу поудить или с чужой женой поразвлечься, и этот его гнусный мелочный интерес оказался превыше всего. В мирное время он поостерегся бы, а теперь — воля и разгуляй, война всё спишет. Так что пока наши с тобой новые и совершенные люди, лейтенант, дерутся и погибают на фронтах, здесь со дна поднялась самая мутная и грязная пена. Поднялась — и начала все права под себя выстраивать. Но оно, может быть, и к лучшему, после войны мы остатки всей этой пены соберём и навсегда уничтожим.
— Так ты полагаешь — это был не полицай? Не доброволец? Простой мужик?
— Уверен на все сто. Полицай или хиви не сунулся бы в лес без оружия и, тем более не стал бы выряжаться шутом. И крест из золота припрятал бы, где понадежней. В военное-то время! В Ржеве, говорят, на рынке сегодня торговля — только на золотишко… Да и не из мужиков он.
— Тогда какие твои предположения?
— Обычный внутренний контрик. Какой-нибудь счетовод из райцентра или москвич, драпанувший от мобилизации на оккупированную врагом территорию. В эти места, извини, от Москвы на дачном поезде будет три часа езды. А из Зубцова до сих пор, говорят, на Каретный и Маросейку дозвониться можно. В мирной жизни — тип в меру скрытный, трусливый и услужливый. А в условиях безвластия, вызванного войной, — сукин сын, высоко поднявший свою гнусную головёнку. Пока фашисты далеко и тоже, между прочим, воют и погибают — считает себя вместо них уберменшем, имеющим право нас с тобой убивать. А для встречи с немцами, думаю, у него где-нибудь припрятан в вонючем сарае раненный политрук, которого он лично перед фрицами застрелит. Так что не грусти, лейтенант, не все мужики в полицаи записались, могут встретиться и хуже. И наша с тобой утренняя разминка — не облава, про нас здесь пока не ведают и точно ещё не ищут. Хотя райончик этот надо бы поскорей нам покинуть… Посему предлагаю спокойно и организованно продолжить выполнение задания. Чувствуешь-то себя как? Я же видел — не мог с травы подняться, лежал, как парализованный…
— Спасибо, всё прошло. Сперва ног почему-то не чувствовал, теперь порядок.
— Ну и добро. Тогда какие будет указания?
— Сначала бы сориентироваться.
— Это несложно. Идти нам пока прямо на север, потому солнце не должно выходить из-за левого плеча. Ты поезд-то слыхал?
— Да. Где-то справа от нас проходил. Километрах в трёх-пяти.
— Значит, наши линию пока не подорвали. И вряд ли подорвут. Эту железку от Вязьмы до Ржева, лейтенант, немцы стерегут пуще света белого. Хана без неё группе «Центр» и лично фельдмаршалу Клюге. Поэтому давай-ка подумаем, как нам на ихнее оцепление справа не нарваться. Чёрт!..
Петрович пробежался ладонями по переду своей телогрейки, запустил пальцы под пояс, ощупал карманы штанов в поисках карты и компаса. Но ни карты, ни компаса не обнаруживалось.
— Ладно, — процедил он сквозь зубы. — В какую сторону закручивает леший заблудившихся в лесу?
— Женщин вправо, мужчин — влево, так нас учили. А это как раз то, что требуется: шуруя налево, мы будем удаляться от железки. Ну а чтоб прямо идти, ещё рекомендуют сапоги переобуть.
— Можно и без переобуваний. Мы и так, лейтенант, в нашей с тобой жизни шагаем прямо и бесповоротно. Иногда, мне кажется, что я — даже чрезмерно прямо. Оттого в свои тридцать три — я всё ещё сержант.
— Сержант госбезопасности, Петрович. Для обычных войск ты — полнокровный лейтенант.
— Ну, утешил! А ведь ты-то для армии — лейтенант старший, без двух минут капитан! В свои-то двадцать шесть! Хотя я, Лёша, с твоей головой да с твоими иностранными языками дал бы тебе сразу старшего майора и держал бы в самом что ни на есть глубоком тылу. Вёл бы ты там радиоигры, допрашивал пленных немецких генералов, потчуя коньячком… Зачем тебя дёрнули в эту мясорубку? Нашли бы мы и без тебя товарища Рейхана живым или мёртвым, забрали бы его бумаги, делов-то… Прилетел бы за бумагами У-2, отвёз в Москву или Куйбышев — и ты бы их там и разбирал спокойно. А если что с тобой здесь случиться? Где они второго такого спеца найдут?
— Что-то ты часто, Петрович, стал меня перехваливать. А если У-2 не прилетит? Поэтому задание у меня персональное, ты же знаешь, — разобрать бумаги на месте и передать смысл по рации. Хотя вот, если свою рацию не найдём, придётся нам с тобой аж до штаба фронта топать. Ведь радировать в открытую или шифрами штаба полка строжайше запрещено.
— Штаб фронта у нас ведь в Кувшинове? Красивейшие, Алексей, там места!.. Так что съездим, отдохнём, по пути в Осташкове рыбы наловим… Меня такой вариант вполне устраивает. А тебя из Кувшиново и в Москву отрядить могут. Гляди! — сержант вдруг остановился, присел на корточки и провёл ладонью по верхушкам молодых травяных побегов. — Вроде бы тропа человеческая.
Действительно, впереди угадывалась неширокая дорожка, образуемая едва примятой травой и несколькими опавшими ветками, развёрнутыми чьим-то шагами. Тропа уклонялась в сторону от железной дороги, что соответствовало нужному направлению движения. И хотя разведчики предпочитают не пользоваться лесными тропами и просеками, опасаясь внезапно оказаться в местах, где могут быть замечены, в данном случае, не сговариваясь, они уверенно и спокойно ступили на неё — было очевидно, что тропа явно неисхоженная, к тому же начавшийся натощак переход стал распалять чувство голода, так что требовалось что-то предпринимать.
Возможно, напрасно они покинули место пробуждения и неожиданного поединка столь скоро, не осмотрев по-хорошему близлежащие кусты и мхи в надежде найти оружие и сумку с едой. Однако оставаться там и вправду было опасно, и поэтому теперь приходилось продолжать путь без единого сухаря в кармане и имея на вооружении лишь неожиданно успевшую побывать в деле сапёрную лопатку. Еду и оружие предстояло найти и взять хитростью или силой — вполне привычная ситуация для разведчиков, всегда действующих вопреки обстоятельствам.
* * *
Во вражеском тылу действовали младший лейтенант госбезопасности Алексей Николаевич Гурилёв и сержант госбезопасности Василий Петрович Здравый, проходившие службу в главной кузнице советских подрывников и диверсантов — Отдельной мотострелковой бригаде особого назначения НКВД СССР[2]. В начале апреля 1942 года они оба были прикомандированы к штабу «чекистской» 262-й стрелковой дивизии 39-й армии, где и познакомились.
До войны Здравый служил в спецотделе НКВД, занимаясь взрывотехникой и радиосвязью. Поговаривали, что за успех в одной из закрытых операций он был награждён и лично представлен Судоплатовым к внеочередному спецзванию — хотя сам Петрович всё это отрицал, и его ни разу не видели не то что с медалью, но даже с обычным чекистским значком. В противоположность ему Гурилёв, сын заместителя Молотова, был человеком сугубо гражданским, историком и аспирантом ИФЛИ[3].
В июле сорок первого Алексей был мобилизован и направлен на курсы при Особой группе, где прошёл подготовку на радиста-диверсанта для работы в тылу противника. За неожиданный успех в учебной радиоигре, к которой, благодаря его импровизации, подключился настоящий немецкий шпион, позднее пойманный и обезвреженный, Гурилёв был выпущен сразу в офицерском звании. Дважды минувшей зимой, увешанный сумками с гражданской одеждой, немецкой формой, оружием и радиостанцией, он вылетал для парашютирования в тыл противника, однако оба раза самолёт, покружив в ночном ледяном и снежном небе, возвращался на подмосковный аэродром. После второго такого возвращения Алексея посетила мысль, что полёты организовывались исключительно для поддержания боевого духа, и что командование бережёт и совершенно не собирается посылать на практически верную смерть его и его товарищей — филологов, математиков, сыновей наркомов и высокопоставленных деятелей Коминтерна.
По этой причине командировку в действующую армию Алексей воспринял как долгожданный подарок судьбы, вложив в неё весь скопившийся пыл борьбы и страстное желание приобщиться к яркой славе тех, кому и только кому, по всеобщему тогдашнему убеждению, должна была принадлежать новая послевоенная жизнь. Мысль о том, что до славы и мирной жизни можно и не добраться, совершенно не пугала, равно как совершенно не страшила разлука с домом и всем привычным старым довоенным укладом: полгода пребывания в казарме воздвигли между прошлым и настоящим непреодолимую стену, и возвращаться за неё даже самыми короткими и безобидными воспоминаниями в тот момент абсолютно не хотелось.
И хотя казармы его спецбатальона располагались совсем рядом с городом — в подмосковном Люблино — после октября 41-го он не предпринял ни одной попытки ни навестить в увольнение остававшихся в столице родителей, ни даже позвонить домой. Он ясно и отчётливо понимал, что малейшее прикосновение к прошлому легко пробьёт неустранимую брешь в защитной оболочке, скреплённой осознанием неотвратимости военной судьбы и вынужденным равнодушием к будущему себя самого и близких. И если в эту пробоину хлынут воспоминания и мысли о невозможном — он сразу же перестанет быть тем рассудительным, немногословным и скупым на эмоции офицером, которым, находясь в абсолютном согласии со своими разумом и волей, он должен оставаться всё время, пока идёт война.
Впрочем, кто знает: если бы была жива его фиалкоокая Елена — то всё могло быть по-другому, со звонками, письмами и даже, быть может, редкими и счастливыми увольнениями в город… Их свела случайным образом незнакомая девчушка, однажды поздним вечером окликнувшая Алексея на трамвайной остановке на Большой Никитской: подруги задержались на концерте в консерватории, и одна из них, робея, извиняясь и постоянно теребя короткую смоляную косичку, попросила сопроводить Елену домой на Андроновку, где, по её словам, накануне ночью хулиганы зарезали школьницу. Разумеется, Алексей не смог отказать, и пока трамвай 28-го маршрута неторопливо полз через затихающую Москву на далёкую лефортовскую окраину, Алексей сделал своей новой знакомой предложение: впредь обеспечивать её безопасность после театральных мероприятий, для чего даже пообещал в следующий раз прихватить из дома отцовский наградной наган. Позднее он осознал, сколь убедительным и грозным, сделав подобное предложение, он должен был смотреться со стороны. Действительно, когда после трамвая минут тридцать они шли неосвещёнными дворами от Авиамоторной к Золоторожской, то в нескольких местах к ним пытались приблизиться какие-то мрачные типы — однако всякий раз предпочитали отстать и исчезали во мгле.
Минувший год Алексей с Еленой встречались едва ли не каждую неделю, пользуясь всеми доступными в предвоенной Москве для такого рода встреч возможностями: многочисленными спектаклями, концертами и футбольными матчами на стадионе «Динамо». Затем всякий раз, без четверти пять, до рассвета, он покидал крохотную комнатёнку в двухэтажном деревянном бараке, где Елена проживала с парализованной больной матерью, когда-то до революции певшей в Опере Зимина, — чтобы на первом трамвае успеть вернуться в центр. Не дожидаясь открытия метро, он сходил на Неглинной, откуда минут за сорок переулками и дворами добирался до своей квартиры на четвёртом этаже нового дома в Малом Патриаршем. Быстро переодевшись, выпив кофе и захватив нужные конспекты и книги, к девяти утра он уже находился в институте, который по чьей-то странной прихоти был переведён на далёкую окраину в Ростокино.
В начале мая сорок первого Алексей познакомил Елену со своими родителями. Встреча была предсказуема и прошла тепло. Свадьбу наметили на сентябрь, поскольку летом Елена собиралась поступать в медицинский институт. Однако ни свадьбы, ни поступления в институт не состоялось.
Последний раз он видел Елену — он прекрасно запомнил этот день — воскресенье 20 июля, сразу же после введения в столице продовольственных карточек. Эвакуацию в то время ещё не объявляли, однако медсанчасть, в которой Елена работала, убывала в командировку за Волгу вместе с несколькими главками Наркомата электропромышленности, и день был объявлен рабочим. В те дни Алексей, хотя и считался мобилизованным, но до выхода приказа о зачислении в разведшколу не мог быть поставлен на казарменное довольствие, в результате чего какое-то время пребывал в состоянии полнейшей свободы. Шататься впустую по городу, всё сильнее погружающемуся в предфронтовую напряжённость, совершенно не хотелось, поэтому большую часть тех чудесных свободных дней он предпочитал проводить в Государственной библиотеке, где с жадностью погорельца делал выписки из подшивок старых французских журналов времён Греви и Карно, которые ещё с весны были затребованы для работы над его диссертацией по истории франко-русского сближения конца XIX века.
После трёх часов пополудни, покинув читальный зал раньше обычного, он купил два билета в Камерный театр на «Мадам Бовари», считавшуюся едва ли не лучшей постановкой предвоенного сезона. Однако когда он, наконец-то, смог дозвониться до Елены, к огромному сожалению выяснилось, что нынешним вечером ей необходимо быть дома, поскольку накануне приехала родственница с детьми, и она пообещала как можно скорее сделать заболевшей девочке несколько уколов. А уже наутро предстояло уезжать.
Когда в половине шестого они встретились у подъезда наркомата, где на платформы грузовиков, аккуратно выстроившихся вдоль Китайского проезда, вовсю сгружали документы и мебель, Елена попросила Алексея помочь купить что-то из продуктов. Считалось, что с введением карточек продукты в свободной продаже могли ещё оставаться в кооперативных магазинах. Они решили обойти немногочисленные кооперативные лавки Зарядья, к тому времени наполовину снесённого и оттого пугающего всякого вступающего в его черту разрухой и ощущением близкого конца. Лишь в одной лавке, приютившейся в грязном тёмном подвале на углу Кривого и Мокринского переулков, им удалось приобрести несколько банок тушёнки и по килограмму крупы, сахара и сала.
Затем, ускоряя шаг по грязной и мрачной неубранной мостовой, мимо разбитых окон мёртвых домов, источающих запахи гниющего дерева и застарелой мебельной пыли, они выбрались к Москве-реке. Из-за развалин бывших Проломных ворот, над рядами скрюченных, доживающих свой век лабазов внезапно ударил яркий свет клонящегося к закату солнца, выхватывая из вечернего полумрака сверкающую водную гладь, величественную, торжественную и совершенно равнодушную ко всей нелепой суете последних дней — из-за чего глаза на какой-то миг вдруг обильно наполнились слезами.
Елена убедила Алексея её не провожать, поэтому он лишь помог донести сумку с продуктами до остановки на Яузской, где, садясь в трамвайный вагон, она провидчески пошутила: «Наверное, последний раз еду в свою воронью слободку, сожгут её!» Потом, помахав своей узкой изящной ладошкой через закрывающуюся дверь, прокричала: «Встретимся после войны в новой Москве. Целую тебя. Прощай!»
Он тоже долго махал ей вслед, и лишь когда прицепной вагон, раскачавшись на стрелке Астаховского моста, скрылся за тёмно-зелёными кронами лип в начале Ульяновской улицы, плотно заслонявшими её просвет, он в первый и, как потом оказалось, в последний раз столь остро и горько почувствовал разлуку.
Бараки в «вороньей слободке» на тёмной и жалкой окраине Андроновки действительно вскоре сгорели после одной из первых бомбардировок столицы. В конце октября Алексей получил от Елены почтовую карточку, в которой она лаконично информировала, что её медсанчасть переводят в Казань и их повезут туда пароходом. А в начале декабря, накануне выпуска из разведшколы, ему пришел треугольник от неизвестной женщины, которая сообщала, что Елены больше нет. Из письма следовало, что медсанчасть была размещена на барже, перевозившей раненных военных, и что возле Горького баржу разбомбил вражеский самолет. Что пилот какое-то время решал — атаковать ли мост через Волгу, на котором в тот момент по какой-то причине застрял железнодорожный эшелон, забитый эвакуируемыми, или сбросить свой смертоносный груз на приближающуюся к мосту баржу. И что пока самолет заходил на второй круг, медсестры пытались расстелить на палубе из простыней большой белый крест, однако фашист, разглядев зелень полевой формы лежавших на палубе красноармейцев, принял решение бомбить именно баржу.
Известие о гибели Елены не вызвало в Алексее ни отчаянья, ни тоски. Эта весть растворилась в общем потоке событий, смертей, исчезновения целых полков, дивизий и армий с немедленным прибытием на место исчезнувших новых, скупых радиосводок, страшных фотографий в газетах и ещё более страшных рассказов и слухов, приходивших с линии огня. Если летом и даже в начале осени, когда смерть косила передовые советские части на далёкой Украине, под Бобруйском или Смоленском, а в Москве, несмотря ни на что, жизнь могла продолжаться в своём практически неизменном течении, то теперь, когда чёрным саваном была накрыта уже вся страна целиком, когда возможность гибели от пули, осколка, холода или болезни из категории умозрительной превратилась в явление повсеместное, а подлинной случайностью и удачей стало являться выживание, равно как и сохранение своего тела без физического страдания и увечья, — теперь душа огрубела, сжалась и в ней уже не оставалось даже самого малого пространства для личной боли.
В какой-то момент Алексей поймал себя на мысли, что поскольку отныне его жизнь предопределена, точнее, предопределена скорая и неизбежная гибель на этой страшной войне, то вместе с вариантностью будущего исчезло и чувство, которое он называл «болью за несделанное». Самая сильная боль, рассуждал он, возникает, когда человек лишается возможности реализовать задуманное: добиться успеха, получить образование, интересную работу, обрести или сохранить любимого. Если физическую боль можно заглушить или как-то преодолеть, то боль подобного рода — абсолютна и неустранима. Однако если устранить представление о собственном личном будущем, если перестать видеть себя в какой-либо иной новой реальности — то «боль за несделанное» также исчезнет.
Продолжая эту мысль далее, он обнаружил, что отсутствие личной боли ввиду полной и абсолютной предопределённости будущего должно было одинаково помогать перед лицом смерти и героям-мученикам гражданской войны, и мученикам религии. Первые твёрдо знали, что в коммунистическом государстве будут навсегда решены все проблемы человечества, и поэтому невозможность желать и требовать для себя и своих потомков ещё большего счастья помогала им преодолевать любые страдания и пытки. Вторые же, веря в истинность загробной жизни «без гнева и нужды», также могли укрепляться в своих земных страданиях через осознание безвариантности грядущего бытия. С позиций этой теории выходило, что самую страшную боль должна причинять измена любимого, поскольку в этом случае вся полнота будущего, замышленного тобой, внезапно обрушивается и неумолимо переходит к другому лицу, если не прямо похищается им. Не менее страшную боль также должны вызывать увечье и смерть в мирное время — здесь он отчётливо понимал, как тяжело было его сверстникам и товарищам страдать умирать в боях на Халхин-Голе или Карельском перешейке — когда совсем рядом, в считанных километрах от линии огня и смерти, била ключом мирная жизнь, работали клубы, крутилось кино и будущее рассыпалось перед всяким, готовым в него заглянуть, тысячами ярчайших возможностей и путей.
Теперь, когда все эти россыпи соединились в прямой короткий луч, упирающийся в стену предопределённости личной судьбы, и при этом неважно, что за этой стеной — неизбежная победа над Германией и грядущая прекрасная жизнь, — Алексей более не жалел ни о разгромленных советских фронтах, ни об оставленных городах, ни о потере любимой. Ни о чем не жалея, он рассудительно и холодно готовился отдать свою жизнь как можно дороже для врага.
Поэтому когда в апреле сорок второго наконец-то прервалось утомительное казарменное ожидание, и младший лейтенант Гурилёв был откомандирован в расположение не выходящей из тяжёлых боёв 39-й армии, его жизнь сразу же обрела смысл и наполнилась невиданным доселе тревожным и торжественным ощущением близкой развязки. Будучи реалистом, он не планировал для себя продолжительной военной судьбы и резонно предполагал, что всё должно решиться в первом или, максимум, во втором бою — вид возвращающихся с передовых позиций соединений и уровень их потерь не оставляли в том ни малейших сомнений.
Однако фронтовую жизнь стала отравлять проблема иного рода: вместо передовой ему пришлось готовиться к спецоперации во вражеском тылу, до выхода приказа пребывая при дивизионном штабе в относительной безопасности и отчасти в комфорте. Затянувшееся ожидание сделалось настоящей мукой: в полном соответствии с разработанной им теорией «боль за несделанное» — за невозможность в открытом бою застрелить гитлеровца или подорвать гранатой фашистский танк — начинала прожигать душу и лишать сна.
Алексей был достаточно разумен и образован, чтобы понимать, что подобное состояние рано или поздно приведёт к умопомрачению. Ведь для того, чтобы обрести покой, ему с некоторых пор нужно было во что бы то ни стало увидеть кровь врага, услышать, наплевав на все дистанции огня, его смертный хрип, физически ощутить, как отлетает в никуда его чужая чёрная душа. Вот почему он страстно и безотчётно желал для себя скорейшего дела, допуская и даже тайно мечтая о внезапном вражеском прорыве к штабным блиндажам, когда бы у него появилось возможность вступить с неприятелем в открытый и беспощадный бой.
Так что пока приказ о спецоперации задерживался, Алексею приходилось прилагать самые серьёзные усилия к тому, чтобы не потерять рассудок в глазах окружающих. Для самого же себя — и он прекрасно это осознавал — рассудок был уже потерян.
* * *
262-я стрелковая дивизия НКВД, к штабу которой были прикомандированы Гурилёв и Здравый, с января 1942 года находилась в распоряжении 39-й общевойсковой армии — одной из двадцати двух советских армий, которые в составе четырёх фронтов в декабре 1941 года участвовали в знаменитом контрнаступлении под Москвой. Советское контрнаступление, как известно, началось 5 декабря, и на западном и юго-западном направлениях развивалось чрезвычайно медленно. Враг оказывал мощное и организованное сопротивление, в результате чего на взлом его линий обороны уходили недели тяжёлых и кровопролитнейших боёв. Лишь спустя десять дней, к 15 декабря был взят Клин, 20 декабря — Волоколамск, 26 декабря — Нарофоминск, а Малоярославец, отстоящий от Москвы всего на 120 километров, части Красной Армии освободили лишь ко второму января.
Однако к северу от столицы, на правом фланге, где позиции гитлеровцев оказались менее прочными, — продвижение советских войск развивалось успешнее. Красным частям удалось взять в полукольцо вражескую группировку в Калинине и освободить город уже 16 декабря. К Новому году войска Калининского фронта сумели прорвать неприятельскую оборону вдоль левого берега Волги выше Ржева, и после Рождества начали быстро продвигаться в южном направлении с перспективой выхода к Вязьме и даже к Смоленску.
Если бы наступление войск Западного фронта не упёрлось в жёсткую оборону 4-й армии вермахта, войска которой удерживали Можайск до 20 января и после этого ещё неделю не покидали западные районы Московской области, откуда по кратчайшему пути до Вязьмы было не менее ста километров, — то начало 1942 года вполне могло было ознаменоваться окружением в районе Ржева колоссальных вражеских сил. В этом котле запросто могли сгореть до восьми германских армейских корпусов и две танковые армии общей численностью в четверть миллиона солдат и офицеров — что стало бы для Красной Армии, к тому времени едва успевшей оправиться от страшных поражений, грандиозным и впечатляющим успехом.
Оптимизма прибавляло чрезвычайно успешное наступление 3-й и 4-й ударных армий Северо-западного фронта. Взломав оборону противника в районе Селигера и освободив в двадцатых числах января Торопец, Западную Двину и Нелидово, они продвинулись на 250 километров к югу, в направлении к Великим Лукам и Витебску. Чтобы остановить наступление этих ударных сил, германскому командованию пришлось срочно перебрасывать в район боёв подкрепления из Западной Европы. Казалось, что ещё немного — и немецкая оборона затрещит по швам.
Однако чуда, столь страстно и едва ли ни безрассудно ожидаемого всеми, не произошло. Прорывавшаяся к Вязьме с севера ударная группировка Калининского фронта в составе 39-й армии, усиленной кавалерийским корпусом, очень скоро увязнет в тяжёлых боях. В какой-то момент казалось, что успех близок: 26 января передовая конная группа сумела пробиться к железнодорожной магистрали Москва-Минск и даже на короткое время перерезать её. Но противник быстро восстановил контроль за магистралью, имевшей для снабжения войск группы «Центр» критическое значение. Тремя днями позже, 29 января, последовала попытка перерезать Минское шоссе за Вязьмой — однако столь же безуспешная. К середине февраля части 39-й армии были оттеснены от Вязьмы к северо-западу, на правый берег Днепра, где на рубеже Холм-Жирковского вскоре сами оказались в полуокружении.
После того как частям Западного фронта в конце января удалось наконец-то взломать вражескую оборону за подмосковными Можайском и Вереёй, у советского командования вновь появилась надежда пробиться к Вязьме с востока и тем самым замкнуть кольцо вокруг ржевской группировки противника. По приказу Жукова с 17 января на Вязьму двинулась измотанная и обескровленная почти полуторамесячными наступательными боями 33-я армия, сопровождаемая кавалерийским корпусом и незначительно усиленная семитысячным воздушным десантом, выброшенным под Юхновым. Невзирая на лютый мороз и необыкновенно глубокий снег, 33-я армия за две недели смогла под постоянным огнём и авиаударами противника продвинуться на запад без малого на сто километров, завязав 2 февраля бои в предместьях Вязьмы. Однако немецкие войска, воспользовавшись растянутостью и слабостью её коммуникаций, быстро восстановили свою линию оборону на линии Юхнов-Гжатск, в результате чего армия оказалась полностью окружённой между Дорогобужем и Ельней. К середине апреля 33-я армия была окончательно разгромлена, из почти пятнадцати тысяч бойцов пробиться из окружения смогли менее тысячи. Её командующий генерал-лейтенант Ефремов отказался воспользоваться присланным за ним самолетом и, не желая сдаваться в плен, застрелил свою жену, служившую медработником, после чего застрелился сам.
Казалось, что фантастический и сверхчеловеческий порыв красноармейцев, в декабре сорок первого сотворивших под Москвой подлинное чудо, поверивших в свои силы и заставивших поверить в себя весь мир, натолкнулся не столько на крепость вражеской обороны, сколько на амбиции высшего командования и безумные приказы, требовавшие исключительно наступать.
Так, пока передовые соединения 39-й армии, удалившиеся к югу от Ржева на расстояние до ста сорока километров, таяли в безуспешных попытках пробиться к Вязьме, а основные её силы во избежание окружения вели тяжёлые бои по удержанию спасительного коридора в направлении Нелидово, западнее Ржева оказались в жёстком немецком кольце её арьергард и полностью — соседняя 29-я армия. Ещё совсем недавно, в декабре, имя 29-й армии гремело и прославлялось после триумфального взятия Калинина. Однако уже следующее наступление на Ржев, начавшееся 12 января, обернулось для неё трагическим разгромом.
В начале января в Ржеве находилась лишь слабая тыловая группировка вермахта. Если бы силы 39-й армии не оказались распылёнными по огромной — размером с половину Голландии — территории, если бы две соседние армии соединённо нанесли удары сначала по Ржеву, а затем двинулись на юг, то противник определённо бы отступил к Вязьме, поскольку удержание им южной половины «ржевского выступа» теряло смысл. В этом случае фронт естественным образом выровнялся бы по линии витебской параллели. Эффектного окружения немцев, о котором мечтали в Кремле, не произошло, однако на протяжении более чем двухсот километров советский фронт стал бы нависать над Минским шоссе и железнодорожной магистралью, угрожая в любой момент ударить и перерезать эту стратегическую для противника жилу. Нетрудно предугадать, что столкнувшись с подобной ситуацией, гитлеровскому командованию пришлось бы задуматься над скорым отходом на юг, в направлении Рославля и Брянска — поскольку других способов сохранить хоть какой-то плацдарм вблизи советской столицы у немцев бы не оставалось.
Однако в январе основные силы 39-й армии отправились на юг, и 29-й армии пришлось штурмовать Ржев в одиночку. Недостаточность её ударных сил позволила неприятелю быстро организовать линию обороны северо-западнее Ржева. Буквально в считанные дни со стороны Оленино и Молодого Туда к Ржеву выдвинулись боевая группа, наскоро сформированная из разрозненных частей немецкой пехоты, дивизиона штурмовых орудий и кавалерийской бригады СС под командованием красавца и героя Берлинской олимпиады штандертенфюрера Фегеляйна. В условиях страшных морозов под минус сорок пять, когда отказывались заводиться моторы танков и автомобилей, немецкие кавалеристы — прекрасно вооружённые, усиленные пулемётами и артиллерией, легко и быстро передвигающиеся по бездорожью — показали себя грозной силой. Как и двумя годами ранее во время польской кампании, они скрытно обходили разрозненные советские части и атаковали внезапно, мощно и яростно. Навстречу им из Ржева, следуя вдоль берегов скованной льдом Волги, вышла столь же оперативно сформированная боевая группа под командованием молчаливого и флегматичного генерала Реке. Костяк группы составляли выходцы из Восточной Пруссии — крупнотелые, здоровые, привычные к снегу и морозу солдаты. Терять обоим тактическим группам было нечего — они двигались навстречу друг другу, на тот момент фактически будучи окружёнными советскими войсками, без авиационного прикрытия и без поддержки тяжёлой артиллерии — так что дрались отчаянно. Поэтому когда на следующий день 23 января две немецкие группы встретились у деревни Соломино, то оказалось, что отныне угрожавшая им 29-я армия сама находится у них в окружении.
Затем с востока и юго-востока, словно наваждение, ударили считавшиеся разгромленными 1-я и 6-я танковые дивизии вермахта в компании с моторизованной дивизией СС «Рейх». Германское командование сумело сотворить чудо и восстановить их боеспособность, за считанные дни перебросив по железной дороге солидное подкрепление. С северного направления намертво встали, упёршись в волжский берег, усиленные артиллерией и морозоустойчивыми пруссаками кавалеристы Фегеляйна. С запада последними замкнули кольцо порядком ослабленные, однако сохранившие напор части 246-й пехотной дивизии вермахта.
Таким образом капкан, в который угодила 29-я армия, захлопнулся.
Увы, боеспособных частей Калининского фронта поблизости не было. Начатое в помощь окружённым по приказу командующего фронтом Конева наступление 30-й армии захлебнулось, и его пришлось прекратить в тридцати километрах восточнее Ржева. А находившиеся южнее основные силы 39-й армии тоже ничем не могли помочь, поскольку с начала февраля сами были вынуждены перейти к обороне от наседающих со стороны линии железной дороги Вязьма-Ржев свежих танковых сил неприятеля.
В результате всей этой череды случайностей, недоразумений и непростительных ошибок высшего командования 29-я армия оказалась запертой на верную гибель в заснеженном и ледяном Мончаловском лесу. Больше двух недель она вела изнурительные оборонительные бои, отбиваясь по всем направлениям. К началу февраля морозы «ослабли» с минус сорока пяти до минус тридцати, однако глушить моторы на ночь по-прежнему было нельзя, из-за чего приходилось, экономя горючее, бросать при отступлении совершенно исправную технику. Устраивать блиндажи и рыть траншеи по причине мороза и постоянных бомбардировок также было невозможно. Немецкие лётчики многократно пропахивали бомбами крохотный и постоянно сжимающийся пятачок, занимаемый гибнущей армией, с размерами менее чем 10 на 15 километров. С самолетов Калининского фронта окружённым пытались сбрасывать боеприпасы и продовольствие, однако в силу крайней изрезанности и непостоянства передовой линии немалая часть грузов приземлялась то в расположении противника, то на смертоносном, простреливаемом со всех сторон открытом пространстве. Солдаты и офицеры ночевали прямо в снегу, и, многие из них, просыпаясь утром после короткого ночного затишья, не желали ни возвращаться к бою, ни даже вставать — просто молча и безучастно лежали, кто в воронке, кто — на открытом ледяном пространстве в ожидании неизбежного и скорого конца.
Когда цепь окружения сжалась до размера три на четыре километра, командование 29-й армии получило разрешение на прорыв. Сохранившие боеспособность остатки когда-то тринадцати полнокровных дивизий, редея под бомбардировками и отбиваясь от вражеской пехоты убийственными штыковыми контратаками, начали движение на юг через Ерзовский лес. Неожиданно пришло подкрепление: в ночь на 17 февраля в поддержку окружённым был десантирован свежий штурмовой батальон из Подмосковья. Несколько дней, без отдыха и перерывов, эти триста десантников, как триста спартанцев, шли в контратаки и прикрывали тылы и фланги отходящих соединений и обозов. Ценой своей жизни они позволили выбраться из окружения штабу 29-й армии и вместе с ним — чуть более чем пяти тысячам бойцов. Двадцать семь тысяч погибли только в одном лишь Мончаловском лесу, до трёх тысяч — во время прорыва, пять тысяч попали в плен. Однако поскольку армейское знамя было сохранено, разгромленную армию расформировывать не стали и её остатки влились в состав сил 39-й армии. Всю весну сорок второго, с небольшим затишьем на период распутицы, 39-я армия продолжала вести изнурительные оборонительные бои с частями генерал-полковника Моделя, к тому времени охватившими её с трёх сторон.
Позднее, в июле 1942 года, германское командование проведёт операцию «Зейдлиц», в ходе которой окончательно окружит и разобьёт 39-ю армию. Отдельным её частям с колоссальными потерями удастся прорубить коридор и уйти на Нелидово, к основным силам Калининского фронта. Из когда-то тридцати тысяч бойцов из котла выберутся не более шести.
Пройдёт время — и, несмотря на жестокое поражение, военные историки будут вспоминать эпопею 39-й армии как пример непредсказуемой манёвренной войны, когда, почти окружённая и брошенная на произвол судьбы, она полгода не давала противнику покоя за счёт внезапности, дерзости и тактического мастерства. К сожалению, на том этапе войны эти замечательные качества не окажутся востребованными, и уже в августе, а после — в ноябре и в декабре ударные силы Калининского и Западного фронтов обрушат на Ржев бессмысленные лобовые атаки, в адских топках которых совершенно напрасно сгорят на сей раз целых девять полновесных армий — почти полмиллиона душ. При этом Ржев так и не будет взят — гитлеровцы сами оставят его в марте 1943 года ради спрямления фронта после Сталинграда.
В мировой военной истории едва ли можно отыскать примеры столь отчаянной борьбы за обладание далёко не выигрышной или привлекательной в иных отношениях позицией, как растянувшаяся на пятнадцать кровавых месяцев «ржевская мясорубка». Бесплодные пески и суглинки, глухой лес, болота да нищие деревни — за это ли нужно было проливать столько человеческой крови? Даже если не брать в расчёт потери, вызванные откровенными ошибками штабных стратегов, то цена, заплаченная за эту землю, не находит себе равных.
Возможно, что в некотором роде ржевская эпопея является отражением истории и смысла самой России — где напряжённое ожидание будущего и скрытная готовность отдать за него жизнь всегда затмевали рациональный эгоизм. Недоступная весна, бесконечные пропасти и светлые подвиги, освещающие их мрак, — как верно было однажды подмечено это несочетаемое единство, и сколь точно оно объясняет путь страны, не похожей ни на одну другую!
* * *
18 января 1942 года разведчики 365-й стрелковой дивизии, возвращаясь с задания на окраине Ржева и решив передохнуть перед опасным переходом через освещаемое ракетами и насквозь простреливаемое мелколесье, служившее на тот момент линией фронта, обнаружили в заброшенном сарае полуобмороженного и голодного мужчину. Под овечьим крестьянским тулупом и огромным, не по росту, истрёпанным шерстяным свитером на нём были чёрный пиджак, на мятой и испачканной ткани которого угадывалась тонкая дымчатая полоска, и когда-то фасонная сорочка, теперь серо-чёрная, с вырванными пуговицами и сползающим с шеи наполовину оторвавшимся воротником. Из под светлых, давно нестриженых волос, местами свалявшихся в колтун, глядели умные и печальные коричневые глаза, а узкий, с лёгкой горбинкой нос и тонкие губы, бледность которых проступала даже сквозь многодневную щетину, выдавали породу природного горожанина.
Услышав русскую речь, незнакомец сначала попытался разыграть ко всему безразличного умирающего беженца, однако разглядев на ушанке одного из разведчиков красноармейскую звезду, неожиданно приободрился и попросил доставить его «к нашим в штаб».
Он выглядел совершенно истощённым и определённо не мог самостоятельно передвигаться. Поэтому первоначально разведчики хотели не связываться с неожиданным попутчиком, резонно полагая, что единственная цель, которая могла быть у больного замерзающего штатского, — это оказаться на какое-то время с их помощью в тёплом штабном блиндаже, чтобы выпить кружку кипятка. Однако незнакомец, мгновенно уловив подобный настрой, начал, запинаясь и скороговоркой, перечислять фамилии и должности, среди которых были упомянуты член военного совета фронта и даже сам нарком Берия. Он клялся, что все они должны знать о нём, и что у него для них имеется важная информация.
Трём здоровенным, добродушным и страшно уставшим друзьям-разведчикам, выросшим в одном дворе в Нижнем Тагиле, совершенно не хотелось связываться ни со всесильным генеральным комиссаром госбезопасности, ни с комиссарами корпусными. Поэтому просьбу доставить незнакомца в штаб было решено выполнить.
Его уложили на связанные из еловых веток импровизированные полозья рядом с пленённым немецким унтер-офицером. Перед отбытием разведчики извлекли из указанного места вместительный саквояж, который незнакомец тотчас же засунул под спину и постоянно стремился держаться за него, вцепившись в потёртый край скользкой толстой рукавицей.
Когда группа, преодолев разделительную полосу, находилась в метрах тридцати от края леса, её заметили и обстреляли. Две пули пробили у незнакомца полог тулупа и разорвали свитер в районе груди. Если бы в этот момент полозья чуть накренились — обе пули прошли бы прямиком в сердце.
К счастью, всё обошлось. В штабе спасённый вежливо и даже как-то излишне церемонно представился, назвавшись Александром Рейханом, сотрудником Наркомфина, и попросил позволить ему переговорить с кем-либо из «главного штаба».
В тот же день вечером в штаб 365-й дивизии пришла шифровка из управления контрразведки: личность Рейхана подтверждается, его необходимо накормить, подлечить и обеспечить максимальную безопасность. Следом из штаба фронта поступила депеша: в район Ерзовского леса вскоре прибывает санитарный самолет и Рейхана с ним необходимо немедленно эвакуировать в тыл.
Самолет ждали в ночь с 21 на 22 января. Рейхан в сопровождении оперуполномоченного особого отдела до утра провёл на заснеженной опушке леса, согреваясь у сигнального костра. Однако самолет не прибыл, пришлось возвращаться в штабную землянку. Днём стало известно, что дивизию из резерва фронта передают в состав 29-й армии. Одновременно пришла страшная новость: 1215-й полк, в который до этого были сведены наиболее боеспособные силы дивизии, полностью уничтожен при штурме Ржева в районе известкового завода — как раз на той окраине, куда трое разведчиков-уральцев ходили за «языком» и где подобрали странного и важного штатского. И теперь, судя по всему, тоже там полегли.
Сообщение со штабом 29-й армии работало с горем пополам, бойцы батальона связи почти все были перебиты, поэтому сводки, доклады и боевые приказы всё чаще приходилось радировались и принимать открытым текстом. Практически сразу после поступления приказа об атаке или предстоящем манёвре противник уже всё знал и имел возможность быть во всеоружии.
Дивизия, вынужденная вступить в бои у Ржева с едва ли половиной от штатного личного состава и ещё меньшей долей уцелевших командиров, на глазах теряла силы. А из штаба армии от нового начальства поступали неточные, нечёткие и большей частью противоречивые приказы, смысл которых сводился к одному: наступать, наступать, перегруппироваться и снова наступать…
Не по своей воле прижившийся при дивизионном штабе Рейхан становился невольным свидетелем неразберихи, граничащей с потерей управляемости, если не с хаосом. И хотя своим штатским видом он зачастую смущал прибывающих в расположение штаба с передовой порученцев и связных, офицеры быстро оценили его ум и способность к предметному и точному анализу ситуации. Подружившись с дивизионным оперуполномоченным, он почти постоянно имел возможность видеть оперативную карту, испещрённую кругами, стрелками и граблями оборонительных рубежей, одним из первых узнавал о выдвижении и гибели немногочисленных боеспособных батальонов и по направлению канонады вполне мог определить, у какого населённого пункта идёт в настоящее время бой.
По многу раз в день он наблюдал совершенно разбитого и высохшего от бессонницы командира дивизии полковника Щукина. Комдив здоровался с ним едва заметным движением неморгающих глаз из-за круглых стёкол очков и если его не отвлекали, неподвижно сидел за столом, сооружённым из расколотой школьной парты, накрывшись белой бекешей с отогнутым вверх воротником, устремив свой взор в одну точку и нервно теребя пальцами карандаш или край бумажного листа.
Поздним вечером 5 февраля, когда оперуполномоченный, воспользовавшись коротким затишьем, извлёк из каких-то только ему ведомых запасов банку тушенки, и у Рейхана — впервые за последние десять дней — появилась возможность поужинать, к ним подсел майор из телеграфно-кабельной роты и шёпотом сообщил, что из штаба армии в штаб фронта только что «двинулся» доклад, в котором дивизию обвиняют в развале обороны всего правого фланга армии и сдаче Чертолино — деревеньки, прикрывавшей последнюю горловину между 29-й армией и «большой землёй». В результате потери Чертолино и отхода частей дивизии к Свистунам 29-я армия окончательно отсекалась от 39-й армии и оказывалась в глубоком и прочном вражеском окружении.
Стало понятно, что полуживая 365-я дивизия, едва успевшая отвоевать в составе этой армии две недели, отныне становится козлом отпущения за приближающийся разгром. На все рапорты и мольбы о необходимости прислать снаряды, помочь с горючим или разрешить отойти на более безопасные и удобные для обороны позиции штаб армии и командующий оперативной группой генерал-майор Поленов хранили молчание, перемежаемое с повторяющимися буквально слово в слово приказами «удерживать», «наступать» и «сохранять материальную часть».
Пытаясь, где это возможно, выполнять эти маловразумительные и с каждым часом всё более далёкие от реальности приказы и указания, комдив Щукин был лишён всякой возможности манёвра, возможности хотя бы раз собрать в кулак свои тающие силы ради контратаки или более прочной обороны. При этом от него требовали держать круглосуточное охранение на лесной поляне возле остатков танкового батальона. Между тем солярка из танков давно была слита и увезена в расположении штаба армии, а с большинства боевых машин были демонтированы аккумуляторы и прицелы.
На соседней поляне замерзали бойцы артиллерийского полка, охраняющие давно замолчавшие из-за исчерпанности боезапаса орудия и минометы. Хотя, вполне возможно, именно эти несколько сотен бойцов как раз и смогли бы выправить положение в боях у Лаптево и Седнёво, откуда, под натиском немецких танков и свежих рот мотопехоты, 365-й дивизии вскоре также придётся отступить.
Рано утром 10 февраля у штаба дивизии остановилась выкрашенная в белый цвет штабная танкетка. Её прислали за Щукиным, вызванным на военный совет армии. Полковник допил остывший чай, неторопливо вычистил ложкой чаинки со дна и стенок стакана и метнул их в топку буржуйки. Попрощавшись с подчинёнными коротким кивком головы, Щукин затем неожиданно подошёл в Рейхану и произнес: «Изыщите любой способ выбраться отсюда. Я вряд ли теперь вам помогу. Прощайте».
Перед избой, в которой должен был находиться штаб, полковника встретил порученец командующего 29-й армией генерал-майора Швецова. Отчего-то встав навытяжку, он объявил: «Военной совет армии решением от 10 февраля постановил: за трусость, нераспорядительность и неумение навести порядок в дивизии, приведшие к самовольному оставлению важнейших рубежей обороны, — командира 365-й стрелковой дивизии полковника Щукина Матвея Александровича расстрелять». В тот же миг четверо верзил из армейской контрразведки схватили полковника за руки, плечи и шею и поволокли к одиноко стоящей берёзе под непрекращающимися раскатами артиллерийской канонады, доносящейся со всех четырёх сторон. Полковника с силой придавили лицом к стволу, после чего старший из группы сделал шаг назад и трижды выстрелил из пистолета Щукину в затылок. Потом он неторопливо отёр кровяные брызги с рукава тулупа и махнул рукой в направлении отдалённого сарая, где чернели, припорошённые снегом, десятки трупов убитых и умерших от ран красноармейцев. Тело комдива оттащили туда и оставили лежать между мёртвыми.
В тот же день пришёл приказ о сведении остатков 365-й дивизии в сводный полк, входящий в 246-ю дивизию. Оперуполномоченный, с которым подружился Рейхан, куда-то исчез, начальник дивизионного штаба полковник Ветлугин, который в своё время пытался отправить Рейхана на санитарном самолете, был поставлен во главе сводного полка и теперь находился в основном при штабе опергруппы Поленова. Вместе с голодными и измученными связистами в компании двух легко раненных артиллерийских капитанов сотрудник Наркомфина обречённо перемещался в составе тыловой группы 29-й армии. Транспорта не было, идти приходилось пешком, снег стоял выше колен. Несколько раз удавалось заночевать в кабинах подбитых грузовиков, в каждую из которых набивались по четверо-пятеро человек, закрывавших выбитые стёкла снятой с убитых одеждой и согревавшихся от тепла друг друга.
В ночной прорыв 17 февраля ушли наиболее боеспособные части 29-й армии вместе со штабом. Благодаря поддержке подмосковных десантников, весьма многие из ушедших в этот прорыв сумели спустя несколько дней выбраться из котла. Тыловые части и обозы с раненными должны были пробиваться к своим в следующую ночь. Им повезло куда меньше — все пути отхода, лежавшие в направлении к деревне Светителево, беспрерывно обстреливались немецкой артиллерией, а ночные атаки немецких кавалеристов отсекали и уводили в полон целые роты. В расположение 39-й армии из этой группы добрались лишь считанные единицы, и никаких гражданских лиц среди них уже не было.
Про Александра Рейхана вспомнили в середине марта, когда в штабы и особые отделы всех частей Калининского и Западного фронтов внезапно пришли из Москвы соответствующие запросы. Хотя было очевидно, что шансов выжить в Мончаловском лесу или при убийственном прорыве у странного сотрудника Наркомфина практически не имелось. В лучшем случае он мог угодить в немецкий плен.
Но, по-видимому, Рейхан действительно являлся птицей весьма важной, поскольку шифрованные запросы о его судьбе по линии военной контрразведки продолжали следовать один за другим. Затем они внезапно прекратились, после чего в расположение 39-й армии, удерживающей свои позиции в наибольшей близости к Мончаловскому лесу и местам февральского прорыва, прибыли уже знакомые нам бойцы ОМСБОН — Гурилёв и Здравый.
Задачей им было поставлено следующее: «Действуя на территории, оккупированной противником, установить местонахождение А. Рейхана или выяснить его судьбу, установить местонахождение имевшегося при А. Рейхане архива, обеспечить эвакуацию А. Рейхана с архивом в расположение советских войск».
Зачитав приказ, майор контрразведки при штабе 262-й дивизии устно пояснил, что при расспросах о Рейхане разведчики должны исключить возможность любой огласки, которая могла бы привлечь к объекту розыска внимание немцев. Это означало, что каждого информатора из местного населения — за исключением случаев абсолютной уверенности в его последующем молчании и лояльности — надлежало после поступления информации ликвидировать.
С таким вот странным, безрассудным и практически невыполнимым заданием двое разведчиков отправились за линию фронта. Из-за авианалета выспаться перед заданием толком не получилось, и они вышли в свой путь уставшими, с тяжестью на сердце и нехорошими предчувствиями.
Штаб 262-й дивизии был расквартирован недалеко от деревеньки с пугающим названием Разбойня, на окружённой непроходимыми заболоченными лесами высоте с ничего не говорящим именем «двести пятьдесят». На этом относительно сухом месте можно было располагаться с известным комфортом, поскольку уже менее чем через километр в любом из направлений начинались мрачные и гиблые топи. Весной, когда в лесах растаял снег, болота стали непроходимыми, и отдельным соединениям 39-й армии, оказавшимся посреди них, выбираться на сухие участки, где стояли основные силы, было не менее сложно, чем выходить из неприятельского окружения. Болотная глушь служила на тот момент второй линией фронта.
Идти разведчикам предстояло на северо-восток в направлении Павлюков в условиях абсолютного бездорожья. Направление держали по руслу небольшой лесной речушки, вздувшейся от обильного половодья и залившей своей чёрной блестящей водой неширокую полосу твёрдой суши. Уже через полчаса сапоги были полны воды, а освободившиеся от ледяного панциря низменные пространства душили скоплениями болотного газа. Радовать могло только отсутствие комаров.
Когда начало темнеть и не представилось возможности обнаружить сухой участок для ночлега, пришлось рубить молодые ёлки и осины, чтобы на покрытой слоём воды лесной почве навалить настил.
На следующий день предстояло вплавь переплывать разлившуюся Осугу, так как в окрестностях двух прибрежных деревень не удалось найти ни одной лодки. В ледяную апрельскую воду погружаться пришлось нагишом — для одежды, рации и оружия соорудили плотик, который попеременно толкали впереди себя.
За Павлюками несколько километров разведчики быстро и легко прошли по сухому редкому лесу, после которого вновь начались болота. Решили повременить до сумерек, и когда на землю стала опускаться вечерняя мгла, вышли на тракт, ведущий к Медведево и далее — до самого Ржева. Здесь уже могли встречаться немцы, поэтому ступать старались почти бесшумно, вслушиваясь в отголоски далёких звуков и хруст веток в лесу. Так удалось преодолеть километров пять или даже семь. Когда же сгустившаяся мгла сделала невозможным быстрое и ориентированное движение, а идти наугад в этих местах было недопустимо, разведчики вновь свернули в лес. Углубившись в чащу метров на семьсот, они нашли подсохшую широкую кочку, на которой и устроились на ночлег.
Лес был полон густого и мглистого тумана, причём туман поднимался не только с болотистых мест, но и стлался над участками относительно сухими, периодически накрывая выбранное для ночлега место. Но подобная дополнительная маскировка вряд ли могла навредить.
Алексей хорошо запомнил ту ночь: ещё с вечера небо заволокло низкими серо-чёрными облаками, из-за которых мгла казалась беспросветной. Абсолютная чернота, исключавшая любые оттенки и тени, заливала глаза и вдавливала голову в землю. Нарастающее господство тьмы было настолько всеохватывающим, что в какой-то момент, заполнив собой всё сверху, она начала проникать вовнутрь со стороны спины и затылка, который онемел и перестал чувствовать покалывание острой еловой хвои.
Все звуки, изредка оглашавшие затихающий лес, — хруст ли распрямляющейся ветки, падение капли ночной росы или случайный возглас птицы — стремительно затихли и прекратились. Торжественная, непостижимая, непередаваемая тишина!
Последним, что запомнил Алексей перед тем, как заснуть, была мысль о том, что тьма спустилась навсегда, и что теперь он, этой тьмой увлечённый и задавленный, уже никогда не проснётся.
* * *
Однако пробуждение, пусть даже и омрачённое неожиданным нападением неизвестного, едва не стоившим Алексею Гурилёву жизни, состоялось.
Однако к счастью ли? Разведчики очнулись без оружия, карт, радиосвязи и запаса продуктов. И вместо выхода на рубеж своего предстоящего задания им пришлось отправляться на «самоукомплектование».
Когда едва заметная и неисхоженная тропа, обнаруженная сержантом Здравым, вывела на широкую просеку со следами тракторных колёс, разведчики наконец-то смогли сориентироваться.
Было вполне очевидно, что по направлению вправо просека вела в сторону деревеньки Медведево, за которой проходила железная дорога из Вязьмы и откуда они уже слышали шум поезда. Идти на хорошо охраняемую территорию в разгар дня было сродни самоубийству.
Зато движение в левую сторону, в направлении на запад и северо-запад, обещало выход к заброшенным и обезлюдившим после зимних боёв деревням Ельцово и Ступино. Эти населённые пункты так или иначе были определены первыми в их поисковом плане. С учётом сложившейся ситуации можно было подстеречь на окраине подвыпившего полицая и, придушив, забрать у него карабин и патроны. Можно было найти и подобрать оружие и амуницию в местах, где зимой пробивались из котла остатки 29-й армии. А уже оттуда, перескочив через продолжение Волоколамского шоссе и железную дорогу Москва-Рига, побывать на станции Мончалово и исследовать Мончаловский лес.
По просеке, ведущей в сторону Ступино, Гурилёв и Здравый двинулись быстро, но осторожно и почти бесшумно. Не прошло и километра, как лес начал редеть, и перед взором открылась широкая светлая поляна с уже поднявшимся травостоем.
Выйдя на поляну, они замерли в недоумении. На противоположной её стороне под высокой распустившейся ольхой стоял странного вида автомобиль. Изящный пирамидоподобный кузов высоко возвышался на красивых колёсах необычной формы. На плоскостях и причудливых деталях отполированного металла весело играли блики свежего лака.
Убедившись, что на поляне никого нет, а из автомобиля их не заметили, разведчики быстро отошли назад, после чего, прячась за кустарником и низко пригибаясь к земле, подобрались к автомобилю поближе. Для проверки обстановки Петрович несколько раз громко крякнул, потом они соединенными усилиями с шумом и треском повалили на землю засохшую ёлку. Но никакой человеческой реакции со стороны поляны и из автомобиля не последовало.
Они ещё раз заглянули за лобовое стекло — автомобиль был пуст. Тогда Здравый извлёк из кармана брелок с обнажённой фиолетовой красавицей и помахал распутной фигуркой перед лицом. Алексей понимающе кивнул — по всему выходило, что автомашина принадлежала зарубленному Петровичем утреннему незнакомцу.
Один из двух ключей легко вошёл в личинку замка, дверь бесшумно отворилась. Заглянув вовнутрь, они были поражены богатым и пышным убранством салона, наполненного благородными запахами кожи и дорогого парфюма. Приборная панель восхищала своими размерами и элегантностью. Энергично выдающийся вперёд высокий капот был увенчан хромированной треугольной звездой.
— Гросэ Мерседес, — прервав напряжённое молчание, задумчиво произнёс Петрович. — Сам Гитлер, что ли, сюда пожаловал?
— Und er war von dir in der Morgendammerung erschlagen…[4] — ответил Алексей, изучая кабину. — Здесь явно что-то не так…
— Второй ключ должен быть от зажигания. Может, прокатимся, товарищ лейтенант?
— Исключено. Даже если это не ловушка, то всё равно мы с тобой на этом фаэтоне далеко не уедем. Хотя, конечно, было бы чертовски заманчиво — прокатиться по весеннему раздолью!
— Погляжу, нет ли где ствола…
Петрович обшарил рукой сидения и пол, однако ничего не обнаружил.
— Глухо всё… Надо скорее уходить. Водителя или пассажира такой машины скоро хватятся, и нам тогда крышка.
— Пошли, — ответил Алексей, вылезая с переднего пассажирского кресла. Но отойдя от машины на несколько шагов, он остановился, чтобы ещё раз обвести её всю восхищённым взором.
Петрович понимающе хмыкнул:
— С такой техникой, товарищ лейтенант, нам будет очень трудно их победить. Очень!..
— Если нас уже не победили, Петрович, — отвечал Алексей, задумчиво глядя в сторону и вверх. — Смотри, а как это прикажешь понимать?
И он показал рукой поверх неширокой лесополосы, отделявшей поляну от раскинувшегося за ней поля. Там стояли футуристического вида опоры линии электропередач, поверх которых тянулись вдаль аккуратно развешенные провода.
— Что ты там усмотрел?
— Не усмотрел, а услышал, — отвечал Алексей. — Электролиния исправна, ток гудит! После зимних боёв такое невозможно. Да и что-то я не припомню, чтобы на картах в этих местах были электролинии.
— М-да… Считаешь, что немец линию построил и ток по ней качает?
— Я считаю, Петрович, что всё гораздо серьёзней. Не в немцах тут дело. Дело в том, что война закончилась.
— Как?
— Да вот так. Ты хоть одну воронку, хоть одно поваленное взрывом дерево сегодня утром видел?
— Нет, конечно. Хотя ещё в феврале здесь была мясорубка. Ты прав лейтенант, что-то не так!
Совершенно инстинктивно они сделали несколько шагов назад и остановились в зарослях ольшаника.
Вторым инстинктивным движением обоих была попытка протереть глаза, причинив лицу импульс боли — чтобы удостоверится, что происходящее с ними — не сон. Однако ясное и прозрачное утро со звонкими переливами далёких звуков жизни явно не могло являться сном.
По всему выходило, что они оба проспали летаргическим сном или находились длительное время в бессознательном анабиозном состоянии. Они вышли на задание весной, сейчас — снова весна, поэтому должно было пройти не менее года. Война определённо закончена. Но тогда кто победил? Кто их теперь примет, и как? Если победил Советский Союз, то как они объяснят свой уход с особо важного задания? Кто поверит в их фантастический рассказ? Всё будет ясно, как божий день — отсиделись, разведчики, у печи на хуторских харчах, трибунал вам за это и десять лет расстрела! Тогда — сразу переходить на нелегальное положение? А если верх взяла Германия? Сдаться, чтобы сохранить себе жизнь для дальнейшей борьбы? Искать по округе партизан? Создать собственную подпольную ячейку, истребляющую оккупантов? А для начала подпилить электрическую опору и взорвать к чертям собачим этот пышный даймлеровский фургон? Только вот чем подпиливать и чем взрывать?
Эти и другие вопросы с неистовой скоростью проносились в головах. Каждый ответ или, точнее, зыбкое подобие ответа, к которому удавалось прийти умозрительным путем, немедленно порождали новый ворох вопросов. Из-за этой свистопляски напряжённое тягостное оцепенение, в котором бешено работающий мозг уже начинал дымиться, совершенно невозможно было прервать.
Внезапно с высоты послышался негромкий ровный гул. Высоко над лесом, курсом на запад, шёл маленький серебристый самолёт с удивительным силуэтом, не похожим ни на что, виденное в авиации ранее. Проводив его долгим взглядом, Здравый цокнул языком:
— Тыщь десять от земли летит… Алёша, Алёша! А ведь это — не наше с тобой время!
Действительно, всё кругом — и футуристические вышки, и провода, наполненные неведомо куда текущим через лесную глушь электрическим током, и удивительный автомобиль, и самолёт, мирно себе летящий на непостижимой высоте, — решительно выбивалось из образов и представлений привычного мира тридцатых и сороковых годов.
По всему выходило, что затянувшийся сон перенёс их в совершенно новую эпоху. Война закончилась, и закончилась весьма давно, так что не надо ни идти под трибунал, ни искать партизан. Но что тогда всё это могло означать? Каков смысл их необъяснимого воскрешения из апреля сорок второго — грязных, ободранных, голодных, без документов и вообще без каких либо свидетельств своего прежнего бытия?
И куда, скажите, им направляться?
Не сговариваясь, они углубились в лесополосу, затем вышли на край широкого поля, остановившись под стальной опорой ЛЭП.
— Слышишь? — Алексей указал кивком головы на северо-запад. — Там шоссе. Всё, как было на карте в штабе. Дальше должна быть железка, затем лес. Предлагаю двинуться туда: по пути обстановку уточним и, если что не так, то укроемся в лесу.
Несколько километров они прошли, прижимаясь к опушке и едва ли не бегом пересекая открытое луговое пространство. Добравшись до шоссе, некоторое время провели за высокими кустами под насыпью, наблюдая, как по асфальтовому полотну на непостижимо огромной скорости проносятся разноцветные автомобили и громадные, превышающие своими размерами железнодорожный вагон, грузовые автофургоны. Когда пересекали дорогу, то пришлось остановится, пропуская материализовавшийся из ниоткуда длинный чёрный автомобиль, летящий по асфальту едва ли не со скоростью истребителя. «Вот тебе и Волоколамский тракт!» — восхищённо подумал Алексей.
Железную дорогу, проходящую через километр севернее автомагистрали, разведчики форсировали без проблем — там не было ни поездов, ни охраны. За путями практически сразу же начались постройки и показались первые люди, куда-то спешившие по своим делам и совершенно не намеренные обращать внимание на двух странных гостей. А те прекрасно помнили штабную топокарту: до войны на этом были лишь лес, стало быть, населённый пункт определённо появился после её окончания.
Вскоре Петрович с удовлетворением отметил, что таблички с названиями улиц выполнены на русском языке. Стало быть, немцев нет, так что одна неясность снимается. Однако какой на улице год? Как называется это поселение? Что происходит вокруг них — на все эти вопросы ответы ещё только предстояло получить.
Очень скоро улица, на которую ступили наши герои, разлилась в широкую площадь, с одной из сторон которой поверх затейливых кованных ворот красовалось мирное и во всех отношениях приятное для уставших и изголодавшихся путешественников название — «Городской рынок».
* * *
Невероятный случай, произошедший с двумя разведчиками-чекистами, относился, судя по всему, к числу исключительно редких, но оттого с каждым разом всё сильнее будоражащих человеческое сознание случаев, известных как хронопортация.
Было время, когда подобные явления именовались чертовщиной, а персоналии, тем или иным образом связанные с ними, безжалостно истреблялись инквизицией или фанатичными толпами обывателей. Но в начале XX века физика вплотную подошла к феномену дискретности времени, из которого вытекало, что элементарные частицы могут перемещаться между настоящим, прошлым и будущим совершенно свободно. В 1948 году Куртом Гёделем было найдено решение для гравитационных уравнений Эйнштейна, в котором доказывалась возможность посещения прошлого в процессе движения абстрактного объекта по вращающемуся пространству Вселенной. Правда, как добиться подобного движения на практике, никто не знал.
Позднее пришло понимание, что в отличие от путешествия в прошлое значительно более реальным представляется перемещение в будущее. В соответствии с общей теорией относительности, чтобы замедлить течение времени для конкретного объекта, достаточно оказать на него дополнительное гравитационное воздействие. Человечество по-прежнему не ведает причин и внутренних законов гравитации, однако у нас нет оснований не допускать, чтобы силы природы не могли, в силу тех или иных причин и обстоятельств, локально увеличивать напряженность гравитационного поля. Или, напротив, усиливать степень воздействия существующей гравитации на объект в результате временного уменьшения или даже устранения его массы — категории, как известно, тоже не абсолютной, а сообщаемой всему сущему таинственным взаимодействием Хигса.
Так что локальное замедление времени, как ни крути, — отнюдь не фантастика.
Досужий исследователь, изучив подшивки старых газет, пожелтевшие полицейские отчёты и книги мистиков, обязательно обнаружил бы десятки невероятных и ничем не объяснимых случаев перемещения людей из прошлого в будущее. Похоже, что большая часть подобных путешественников рассматривала своё появление в неведомом им времени как мытарства души после смерти или даже адские муки. Попадая в неведомое и немыслимое будущее из обществ архаичных, в которых девять человек из десяти относились к классам низшим и не имели образования, большая часть этих несчастных оказывалась на социальном дне, где их не могли выслушать врачи, историки или физики и где поэтому они достаточно быстро погибали. Для тех же, кто вполне осознавал произошедшее с собой и мог что-либо рассказать, наиболее распространённым завершением жизненного пути становились палаты в домах умалишённых.
Но не в пример разумный XX век был отмечен случаями растворения во времени и пространстве многих сотен людей образованных и трезвомыслящих, включая экипажи самолетов и команды кораблей, — случаями, от которых уже нельзя так просто отвертеться. В годы Первой мировой войны в Галиполи бесследно исчез целый британский батальон, отправившийся на выполнение задания и навсегда скрывшийся за внезапно сошедшим с окрестных холмов облаком густого тумана. По окончании военных действий британское командование учинило розыски, однако ни следов сражения, ни донесений о нём со стороны противника, ни записей о взятии пленных не нашлось. Подобные истории нередко происходили и на фронтах Великой Отечественной войны, пополняя, в большинстве случаев, бесконечные списки пропавших без вести. Хотя и не всегда.
В архивных делах Управления НКВД по Приморскому краю хранится дело рядового Терехова, задержанного в 1948 году на просёлочной дороге вместе с тремя военнослужащими, одетыми в немецкую форму. Со слов красноармейца и из показаний очевидцев, которых по ещё неостывшим следам дальневосточным следователям удалось разыскать и опросить, выяснилось, что в июле 1941 года он был взят в плен под Оршей и за какую-то дерзость определён к расстрелу — однако вместе со своими несостоявшимися палачами, уже изготовившимися стрелять, спустя семь лет вдруг оказался на мирной дальневосточной земле. Известно, что после лагеря для военнопленных эти трое немцев вернулись в Германию, а Терехов прожил долгую жизнь и скончался в 1997 году.
Если опираясь на современные теории времени и пространства мы хотя бы можем догадаться о физических основах хронопортации, то о причинах, побуждающих неведомые нам силы совершать подобные перемещения во времени, мы не знаем практически ничего. Едва ли не все такие явления предстают перед наблюдателями играми случая и результатами стихийного стечения обстоятельств. Хотя странным образом их частота возрастает в периоды потрясений, революций и войн. Происходит так, словно если бы гипотетические петли времени были призваны скрывать или, наоборот, освещать перед потомками многочисленные лакуны истории и политики.
История Ржевской битвы, вряд ли имеющей аналоги по упорству, ожесточенности и длительности боевых действий, как раз содержит в себе немалое число подобных лакун. В силу какой высшей стратегической необходимости советское командование трижды бросало на Ржев миллионные армейские группировки? Почему бои велись не за привычные и понятные пространства и плацдармы, а за окраины крошечных деревень, лесные опушки, берега мелководных рек и ручьёв? Подобная ожесточенность могла бы быть объяснена при боях на улицах Москвы или Ленинграда, однако только не на рубежах отдаленного провинциального городка. Почему гитлеровское командование, также неся под Ржевом весьма немалые и болезненные потери, до последнего сохраняло там мощную группировку вермахта, усиленную дивизиями СС, обеспечивая им безукоризненное, расписанное по буквально часам, снабжение всем необходимым? Почему даже в критический для Германии момент наступления на Сталинград, где призом должен был стать захват большей части советских нефтепромыслов, Кавказа и следом — уничтожение британской нефтедобычи в Персидском заливе, что неизбежно привело бы к поражению нашего единственного союзника, на тот момент реально воевавшего с Германией, — так вот, почему в декабре 1942 года под Сталинград не была переброшена хотя бы часть мощнейшей ржевской группировки? И почему, наконец, свою единственную поездку на фронт Сталин решил совершить именно в район Ржева?
Как бы там ни было, но напитанная кровью ржевская земля по-прежнему переполнена отзвуками, образами и тенями минувших сражений. В июле 2007 года, возвращаясь из Псковской области в Москву, я остановил машину на обочине трассы «Балтия» в районе Ерзовского леса — чтобы, пройдясь взад-впёред несколько раз, разогнать сонливость, начинавшую меня одолевать за рулём. Час был поздний, за полночь, дорога — совершенно пустынной в обоих направлениях, а мотор своей машины я по какой-то причине решил заглушить. И как только ночная тишина воцарилась в полной мере, я сразу же услышал негромкую беседу нескольких человек. Как будто совсем рядом сидели у несуществующего костра несколько бойцов и тихо разговаривали о непонятной дороге и почему-то ещё — о каше и другой еде, произносили чьи-то звания и имена, чуть слышно вздыхали и посмеивались. Шум от моих шагов и моё громкое покашливание не были им слышны или были совершенно неинтересны, поскольку разговор не прерывался, а его мурлыкающие, перетекающие из голоса в голос интонации разливались по всей ближней округе, словно у них не было акустического центра и разговаривал сам воздух.
Отъехав с этого места, я поделился странным впечатлением с одиннадцатилетним сыном, который находился со мной, но во время остановки не покидал машины. Каково же было мое изумление, когда он спокойно подтвердил, что также слышал голоса через приоткрытое окно!
Приходится признавать, что если внимательно присмотреться к себе и к окружающему миру, то практически повсеместно можно обнаружить следы таинственной реальности, связанной с нами, но в то же время существующей независимо от нас. Опытные мистики и посвящённые практически всех конфессий в один голос советуют держаться от этих явлений подальше. При нормальном ходе вещей человеческая жизнь течёт и развивается независимо и самодостаточно. Непознанная реальность начинает явно и зримо вторгаться в привычную жизнь лишь в случаях необыкновенных и исключительных, связанных, как правило, с необходимостью устранить последствия неправедных поступков, ошибок или преступлений, совершаемых кем-либо из нас.
Поэтому если подобные экстраординарные вторжения, фиксируемые наукой и описываемые литературой, в своём результате что-то меняют и преображают в нашем мире, то за последствия должны отвечать, прежде всего, мы сами, живущие под его хрупким и уязвимым сводом.
Глава вторая Окольными путями
Городской рынок сразу же окружил суетой, возбуждённостью, предвкушением удачи, острыми запахами еды, круговоротом людей, сумок, тележек, ящиков, возгласами и бодрящим дымным ароматом углей, на которые вот-вот упадут капли от свежего шашлыка. День, судя по всему, являлся выходным и торговля только-только распалялась.
Очевидно, что это был не Ржев, а неизвестный населённый пункт, не обозначенный на картах военной поры, — возникший и разросшийся, по-видимому, лишь в недавние годы. И рынок являлся его сердцем, нервом и главной жизненной артерией. Он гипнотизировал обилием мужских и женских лиц — одновременно привычных и неведомых, новым покроем одежды, удивительными предметами, надписями, ценами, оборотами речи… Решение начать знакомство с новым миром через рынок было абсолютно верным, поскольку в отличие от пустынных предместий рынок был буквально переполнен информацией, которую можно было начинать собирать, не опасаясь обратить на себя ненужного внимания.
Тем не менее Петрович вспомнил о конспирации:
— Мы с тобой смотримся больно похоже, а нас таких не должно быть много. Давай-ка рассредоточимся, да разузнаем побольше, где мы с тобой, почему и что теперь должны делать. Ты походи, послоняйся по базару, а я, если не возражаешь, — вот с этим типчиком побеседую.
Движением головы Здравый показал на одноногого инвалида, примостившегося с аккордеоном на деревянном ящике в небольшом отдалении от приземистого кирпичного здания с железной дверью, в котором, судя по всему, располагалась контора. Грудь инвалида закрывала давно не стиранная тельняшка, поверх которой сидел военного образца китель без погон и прочих знаков различия, но зато с медалью «За отвагу». Здоровая нога была обтянута столь же несвежим, местами порванным синим трико, упиравшимся в широкое и наполовину обрезанное по высоте голенище кирзового сапога, ещё более мятого, серо-жёлтого от пыли и истёртого едва ли не до дыр. Позади деревянного ящика на траве валялись, небрежно брошенные, два костыля, а спереди была установлена аккуратная высокая жестяная банка с изображением розовощёкой чёрнокудрой красавицы, собирающей оливы, в которую прохожие швыряли монетки и изредка опускали банкноты.
По глазам инвалида Здравый определил, что лет ему должно быть пятьдесят или чуть более, однако всем своим потёртым и жалким видом он уверенно производил впечатление человека, разменявшего седьмой десяток и при этом, как говорится, получившего от жизни в фас по полной программе. Но серебряная медаль «За отвагу» вызывала уважение. «Неужели он тоже когда-то был бойцом Красной Армии, воевал с фашистами? Что же должно было произойти, если вместо уважения, почёта и достатка первый же встретившийся ветеран вынужден собирать медяки на вонючем базаре?»
Между тем инвалид растянул меха своего инструмента и неровным хрипловатым голосом тихо запел — с первым же аккордом, отрывисто, скупо и даже как-то испуганно выговаривая слова:
Бой гремел в окрестностях Герата, Где нам предстояло умереть. Нас предали сволочи из штаба Чтобы в левый отпуск улететь… Долго будет сниться нам Афганистан: Снежные вершины, крики мусульман, Грохот пулемета, боли общей нерв, И фашист-полковник, что не дал резерв…«Ну вот, и про фашиста спел, — не без удовольствия отметил Здравый. — Как же, в самом деле, без фашистов-то?»
А инвалид между тем продолжал:
В дорогом ташкентском ресторане, Заломив фасон не в первый раз, Зам по тылу пьянствовал с блядями, А у нас в нулях боезапас…Потом, на несколько секунд задержав паузу — словно специально испытывая внимание публики, — он завершил песню красивым и выразительным куплетом:
Вспомним же, товарищ, мы Афганистан, Снежные вершины, крики мусульман, Прямоту и точность сложного пути, Наш рубеж последний, откуда не уйти.Песня понравилась и, что самое главное, она ясно подсказывала ключ к разговору. Здравый решил отложить на потом стремительно нараставший ворох вопросов про то, какие войны были или, возможно, идут в настоящее время в стране, расспросить про стоявший неподалеку воронок с пугающей надписью «Полиция» и про трёхцветный белогвардейский флаг, вольно и горделиво реющий над административным зданием. Было бы нелишним и выяснить, наконец, какой год на дворе. Но по законам конспирации разговор следовало начинать с чего-то незаметного и будничного.
— Извините, — мягко и дружелюбно начал Петрович, подойдя к инвалиду и присев рядом с ним на высокий бордюрный камень. — Так кто же всё-таки победил — мы или фашисты?
Инвалид, собиравшийся заиграть что-то новое, весь дёрнулся, слегка отвёл аккордеон в сторону и с удивлением посмотрел на Петровича.
— Конечно же фашисты, — мрачно ответил он. — Ты что — сам, что ли, не видишь?
Здравый с профессиональным удовлетворением отметил предложенный собеседником переход на «ты», что обещало сместить разговор в русло более доверительное и открытое. И тотчас же поддержал его провокационной репликой:
— Вижу, друг. Да вот только конкретики не достаёт.
— Ах, конкретики тебе!.. Ты что — журналист? Сразу видно, что приезжий. Да ты побудь хоть день в моей шкуре, и явится тебе вся конкретика. — С этими словами инвалид с силой ухнул, не выбирая места, свой аккордеон на землю, угодив клавиатурой в небольшую лужицу. — Так вот, наперво сообщаю тебе, дорогой товарищ, что все у нас в городе фашисты. Все! А главврач Сидоркин — первый фашист, поскольку выпер меня из больницы, не стал лечить ногу, а у меня диабет, конечность последняя гниёт, а когда сгниёт совсем — отрежет её на фиг, и обрубок мой на органы распотрошит. Эй вы! — здесь он обернулся к публике и, усилив голос, продолжил. — Все всё слышите? Когда Сидоркин мне ногу усечёт, знайте же, что двух недель не проживу. Режь, фашист, клюй, фашист, здоровую могучую печень ветерана!
Из толпы донеслось несколько ироничных реплик, смысл которых сводился к тому, что печень ветерана серьёзно поражена алкоголем и потому не может считаться здоровой — на что тот немедленно рявкнул:
— Э-э-э! Давайте-ка без грязи! Я на свою пенсию лучше на хлебе сэкономлю, но водку брал и буду брать только приличную. Здорова моя печень, не больнее твоей! Попомни мои слова, скоро увидишь за моей печенью очередь к Сидоркину! Сидоркин! Ты слышишь меня? Раскрывай мошну!
Петрович в душе ужаснулся от столь будничных и неприкрытых рассуждений несчастного инвалида о гниющей ноге и враче-потрошителе, под безжалостный скальпель которого тому предстояло, по-видимому, скоро лечь. «Неужели вместо построения коммунистического общества страна докатилась до подобного кошмара? Вырезать органы у живых людей?!»
Однако смятения ни в коем случае нельзя было выдавать, поэтому Здравый постарался изменить тему:
— Мы часто недооцениваем возможности своего организма. Человек — самое живучее, если брать после таракана, существо на свете. Так что погляди, всё ещё, может, и обойдётся с твоей ногой.
— Обойдётся? — инвалид ответил язвительно и даже зло. — Ну хорошо, обойдётся. Я тоже, может быть, в чистый спирт верю. Верю, что разгонит он однажды мне дурную кровь! Но ведь фашистка Климова, эта тварь из ВТК, второй год не даёт мне группу инвалидности! А как без группы жить ветерану? Управа льготы срезала, из квартиры то в чудильник выселяют, то в дурдом! Как мне жить, скажи, гражданин дорогой? Посоветуй, милый человек! В собесе фашисты, в ментовке — фашисты, и директор рынка Алиев — тоже азербайджанский фашист!
— Что ты сказал? — раскатисто и грозно прогремел бас невесть откуда взявшегося верзилы в перепоясанном командирской портупеей чёрном комбинезоне, в чёрной фуражке, напоминающей головной убор таксиста и с шевроном «Охрана». — Ты что, опять на директора выступаешь? Да мы тебе щас вправим мигом!..
— Молчу, молчу, не выступаю! — выпалил инвалид. — Это всё он, — он продолжил, ткнув рукой в сторону Петровича, — в грех меня вводит.
Чтобы показать грозному и властному охраннику свою незаинтересованность в разговоре с опасным собеседником, инвалид демонстративно отвернулся, поднял инструмент и жалобно заиграл:
Люди-граждане, посочувствуйте — Ветеран обращается к вам: Дайте бедному на согрев души… Я имею в виду на сто грамм! Не покиньте меня в этот трудный час — Милосердие ведь не налог: Скиньтесь, граждане, на закусочку, Или лучше на спирта глоток!Верзила в таксистской фуражке исподлобья оглядел Петровича пристальным и недобрым взглядом, после чего куда-то молча удалился.
Здравый резонно предположил, что если бы в стране, в которой он неведомым образом оказался, действительно был установлен оккупационный фашистский режим, то все бы предпочитали об этом не распространяться и молчать. Свобода и лёгкость, с которой этот инвалид называл фашистами нехороших людей и представителей власти, свидетельствовала, с одной стороны, об определённом уровне свободы, а с другой — что упомянутые персонажи до крайности нелицеприятны не только инвалиду, но и значительной части посетителей рынка, которые слышали его рассуждения и не выказывали с ними ни малейшего несогласия.
Значит, сделал вывод Здравый, война с гитлеровской Германией закончилась для страны успешно, однако почему-то люди воспринимают режим едва ли не как фашистский. Ведь инвалид, несмотря на всё своё юродство, был, судя по всему, отнюдь не глуп. Любой внимательный и наблюдательный собеседник легко мог обнаружить в нём следы интеллекта и былой стати.
«Наверное, служил в своё время на младшей офицерской должности или пересидел в сержантах, — заключил Петрович. — Эх, как же узнать, какой на дворе год? Когда закончилась война с Германией? Что было потом?»
В этот момент он увидел, как с места стоянки отъезжает воронок с надписью «Полиция», и на кирпичной стене, которая была им закрыта, словно по волшебству возник плакат с весёлым красноармейцем в пилотке, почёсывающим затылок на фоне таблички «На Берлин!», с праздничным салютом и с фантастической надписью: «67-я годовщина Победы в Великой Отечественной Войне. С праздником!»
«Вот это да! Значит, прошло уже 67 лет? Но от какого года брать? Когда победили? Вряд ли в сорок втором. Наверное, в сорок третьем, если дошли до самого Берлина. Значит, на дворе у нас… 2010 год?»
Пока инвалид исполнял свою следующую песню, в которой рассказывалось про мрачные жизненные перспективы и вероятную гибель лирического героя под колёсами дачного поезда, Здравый лихорадочно анализировал всю эту ошеломляющую информацию. Война, на которой он, Здравый Василий Петрович, скорее всего, погиб, закончилась 67 лет тому назад. Однако он почему-то жив и находится на рынке в маленьком провинциальном городишке. Не ахти что за место, но всё-таки оно вполне должно давать представление о творящемся в стране. Победу над Германией здесь чтят, хотя бы на плакатах. Однако вместо милиции по базару разъезжает полиция, да ещё под белогвардейскими флагами. Невероятно! Врачей и представителей власти люди считают фашистами — ну, это ещё куда бы ни шло, готов понять. На многих странные, невозможные для моего времени одежды… А уж не сон ли это? Не посмертный ли сон, в который погружается душа и в котором перемешиваются прошлое и будущее? Тётка в детстве рассказывала про посмертные сны, а он не верил и говорил в ответ, что она «в своей церкви надышалась опиума». А вдруг тётка была права? А что же она ещё тогда говорила? Ах да, говорила про то, что обычный человек в этих смертных снах прежде ангелов встречает на своём пути демонов и всяких чертей. И что те начинают испытывать его душу, напоминать про грехи… Эх, Здравый, Здравый! Такую красивую фамилию носишь, а несёшь форменную чушь!..
Чтобы удостовериться в реальности своего нахождения в этом мире, он привстал и резко ударил по земле каблуком сапога, потом закрыл и вновь открыл глаза, выплюнул и отёр ладонью губы, почувствовав приятное покалывание отросшей щетины. «Да нет, вроде бы живой. В лесу птицы пели, здесь играет музыка… Правда, эта музыка большей частью такая, какую я не мог нигде слышать раньше. Но она ведь реальна, стало быть, должно быть реальным и всё, что происходит со мной…»
И действительно, мир вокруг совершенно не мог быть вымышленным. Вовсю припекало весёлое и яркое солнце, над торговыми рядами стоял гул живых голосов, лёгкий тёплый ветерок доносил запахи то квашенной капусты, то селёдки. А из под забора, как положено, попахивало тухлятиной и кошачьей мочой. Шумела молодая листва на двух высоких липах, с направления улицы ясно были различимы звуки автомобильных моторов и тарахтение трактора — конечно же, весь эти свет, звук, запахи, голубая дымка в небе, солнечное тепло, муравьи на песке, брошенные окурки и затёкшая от сидения на бордюрном камне нога — всё это было живым и осязаемым, как осязаема и реальна во всех своих чувственных проявлениях настоящая жизнь.
А коль скоро ты, Петрович, оказался в этом неведомом новом мире, отстоящим от срок второго года не менее чем на 68 лет, то необходимо этот мир скорейшим образом познать. Инвалид вот спел про войну в каком-то Афганистане — отлично, вот пускай и расскажет, где своё увечье приобрёл.
— А скажи-ка, дорогой товарищ, на какой же это войне тебе так не повезло?
— На какой, на какой… На афганской, дорогой! Меня тут каждая собака знает. Когда в восемьдесят третьем оттуда вернулся без ноги и с медалью, то каждую неделю — ходил к школьникам на уроки мужества, статьи обо мне печатали во всех здешних газетах… В каждом президиуме был почётный заседатель! Был героем, стал изгоем. Ни лекарств, ни надбавок, а теперь вот и последней комнаты лишают! Сдохни, ветеран несчастный, освободи землю для богатых и счастливых! Эй, Сидоркин, ножи готовь!…
«Понятно. В сорок третьем или чуть позже наши Берлин взяли, а потом, стало быть, случилась ещё какая-то война в Афганистане. Что же мы в той Азии забыли… Или — на нас напали? Но тогда кто мог напасть? Неужели японцы? А кто эти богатые и счастливые, о которых так обижается инвалид? В тылу, что ли, раскормили мы столько мещан? Или они — новые захватчики?»
Но разговор явно задавался, на вопросы Петровича инвалид был готов выплёскивать потоки переполняющих его эмоций, щедро насыщенных фактами и оценками малопонятной современной жизни. В этих условиях делать паузу было недопустимо, поэтому Петрович, практически не задумываясь, с ходу решил инвалиду подыграть:
— А я вот тоже вокруг сморю — и, сколько живу, всё не могу понять: с кем и за что мы воевали? А за что воюем теперь? Или уже отвоевались?
— Кто отвоевался, а кто — нет, — равнодушно ответил инвалид-ветеран. Потом, крякнув, продолжил, чётко и значительно громче выговаривая слова. — Сперва воевали за советскую власть. Потом — за мир во всём мире. А когда советская власть приказала долго жить, шарахнули по коммунистами, из танков, прямой наводкой по ихнему Белому дому на Красной Пресне. Жась — и нету! Кто бы мог подумать, всего-то пара залпов — и семидесяти лет коммунизма как ни бывало! Потом воевали с чеченцами, причем воевали хитро, дважды. Во как! А нынче на повестке дня у нас — война с чиновниками и коррупционерами. Только они, коррупционеры, зная об этом, наносят по трудящимся упреждающий удар!
С этими словами инвалид молодцевато растянул меха и срывающимся петушиным фальцетом запел что-то совершенно неприличное:
Прокурор с главой района Возле рощи строятся - Значит, штрафы и поборы В городе утроятся! В области тюрьму открыли - Как в гестапо камерки. Денежки несите, или Всех засадим намертво, К чёртовой маманеньке! Наш глава — профессор ренты, Папа-мама, не горюй! Ему платят дивиденды, Ну а ветерану — чек!Завершив последнюю частушку выразительным проигрышем, инвалид попытался было перейти к следующей, однако был остановлен непонятно откуда возникшим молодцем из компании трёх парней спортивного сложения в ослепительно-белых рубашках, заправленных в брюки камуфлированной окраски, снизу стягиваемых высокими шнурованными ботинками из пупырчатой свиной кожи.
— Ты получишь по морде, если ещё раз обольёшь грязью нашего главу администрации! Сколько раз тебе можно делать предупреждения? Может, баян порезать? Смотри, не поглядим на прошлые заслуги. Ветеран, бля… советскую власть вспомнил. Мы её в одном гробу с тобой вместе видали, тебе всё ясно или нужно ещё объяснить?
Инвалид мгновенно стушевался и промямлил перепугано и жалобно:
— Ясно, ясно, ребята… Да я ж ничего… Я же не возникаю на кого-то конкретно, просто за жизнь пою… И власть мне нынешняя, может, в чём-то нравится. Очень даже по душе. За советскую власть я ведь не умер, а за вашу — вот увидите, обязательно умру!
Аккуратные и прилизанные юнцы в отглаженных чистых сорочках, которых Петрович сразу же определил для себя как «гитлерюгенд», удались столь же внезапно, как и возникли. «Однако! — подумал он. — Ни тебе Гитлера, ни советской власти. Тем не менее победу над Германией, судя по плакату на заборе, здесь празднуют. Начальство не любят и оно в ответ платит народу той же монетой. Да ещё две войны с чеченцами! Ну и дела! Как же это автономная республика в составе РСФСР могла начать войну? Кто позволил? Что же произошло в стране? Неужели это всё устроили японцы? Оклемались после Халхин-Гола и нанесли нам в Афганистане генеральное поражение?»
До момента встречи с патрулём-«гитлерюгендом» Здравый намеревался перевести разговор с инвалидом на международные отношения, в которых его неглупый собеседник, похоже, был вполне сведущ. Однако опыт разведчика подсказывал, что наводящий вопрос про отношения с Японией мог прозвучать неуместно и выдать его неосведомленность. «А вдруг это была не Япония? Кто же тогда? Британия? Китай?… Нет, после тридцать седьмого Япония раздавила Китай, и тому не подняться…»
Тогда же он поймал себя на мысли, что отчего-то не придал должного значения упомянутому инвалидом «расстрелу коммунистов из танков в Белом доме на Красной Пресне».
«Ай-ай-ай-ай! Идиот я! Какой же я идиот! Ведь в СССР просто сменилась власть! Тогда, получается, что чеченцы со своим кавказским темпераментом эту смены власти не приняли, и потому с ними была война.»
Здесь Здравый почему-то вспомнил историю Дикой дивизии, набранной из чеченцев и ингушей, в Гражданскую войну вставшей под знамена белогвардейцев и затем подчистую разгромленную махновцами. «Да, да, чеченцы… они же всегда были на стороне существующей власти. В этом случае они должны были снова выступить за прежнюю, то есть за свергаемую советскую власть. А кто же на этот раз их разгромил?»
От пугающих аналогий Здравого отвлекла резкая перемена настроения его собеседника после общения с молодчиками. Самое время было бы предложить ему закурить! Однако карманы фуфайки Петровича были, как известно, пусты, и предложить закурить от своего имени он не мог. Пришлось пойти на небольшой риск:
— Табачку бы сейчас. Мне кто-то ночью карманы обчистил, не найдётся ли чего?
Инвалид молча привстал и извлёк из внутренностей ящика, под которым сидел, небольшую сумку. Оказывается, он временами приторговывал табаком. Привыкший к горячей крепости папиросного табака, Петрович сперва даже не почувствовал его вкуса в фильтрованном дыму сигареты с неизвестным ему иностранным наименованием. Однако после нескольких глубоких затяжек табачный аромат наконец-то проявился, что придало сил и стало ещё одним подтверждением реальности происходящего вокруг.
Между тем инвалид, также закурив, разложил перед собой разноцветные коробочки сигарет для продажи, после чего, поправив китель, вновь растянул меха и негромко запел:
Граждане, купите папиросы! Па-адходи, пехота и матросы!..Увы, уже не в первый раз инвалида подвела близость к кирпичному зданию, в котором располагалась то ли администрация рынка, то ли какая другая важная контора. Из-за железной двери решительно выдвинулась полная немолодая женщина в белом халате и, оборвав исполняемый инвалидом городской романс про папиросы, громко прокричала:
— Ершов! Сколько можно тебе говорить — реклама и неорганизованная торговля табаком на территории рынка запрещены! Щас вон выпишу тебе штраф!
Несчастный Ершов что-то хотел ей возразить, не успев поставить на землю свой инструмент, — в результате чего сигарета упала в лужу и немедленно погасла. Он понуро убрал товар обратно в сумку и стал вынимать вторую сигарету.
— Дай-ка помогу тебе, — сказал Петрович. — Пока ты перекуриваешь, я сыграю то же самое, но без рекламы.
Встретив со стороны инвалида молчаливое согласие, Здравый подхватил аккордеон, слегка погудел мехами, подбирая правильную тональность, после чего, размашисто тряхнув головой, умело и задиристо заиграл прежнюю мелодию:
Граждане, купите папиросы! В Губчека закончились допросы. Мы покой ваш охраняли, Хулиганов расстреляли, И опять открыт приморский парк! Там в буфете есть вино, портвейн, балык, икра, Ленинградский джаз играть вам будет до утра, Легкость вальсов, нежность взоров, Возбужденность разговоров, И плывёт дымок от папирос… Но приказ выходит — нужно где-то дать урок, Завтра покидаем мы ваш милый уголок. Холодеет сталь нагана, В бой идёшь — а в сердце рана, Ваших плеч пленительный загар…Эта удивительная песня, которую, разумеется, никто и никогда здесь не слыхал, сразу же собрала небольшую толпу зевак. В жестяную коробку звонко полетели золотистого цвета монетки и даже приземлились несколько бумажных номиналов.
Инвалид с нескрываемым уважением посмотрел на своего собеседника и утвердительным кивком головы предложил продолжить выступление. Здравый с юности хорошо играл на аккордеоне и славился обширным репертуаром. Правда, с учётом его нынешнего местопребывания и окружения, пришлось ограничиться дореволюционными романсами и спеть несколько старых песен про разлуку и любовь.
Между тем дела у второго разведчика, отправившегося «послоняться по базару», шли отнюдь не столь успешно. Сперва Алексей решил осмотреть то, что в дни его детства именовалось «обжорным рядом», и направился туда, где торговали всевозможной едой. Он поразился наличию на прилавках здоровенных мясных отрубов и огромных лососевых туш, которые в его время можно было встретить разве что в торгсине на Смоленской или в «Елисеевском». С другой стороны, удивляла скудость и одинаковость ассортимента выложенных на прилавках товаров, как если бы все торговцы брали его из одного склада. Только у нескольких пожилых женщин, притулившихся в самом дальнем углу, на столах лежало что-то разнообразненькое — сушёные грибы, домашние соленья и внушительных размеров корневища хрена.
Хождение по рядам, воздух над которыми был насыщен разнообразными запахами еды и пряной зелени, чудовищным образом распаляло аппетит. Чувство голода становилось невыносимым, а вскоре его ещё и дополнило острое ощущение жажды. Однако карманы были пусты, и даже если в них и нашлись какие-то деньги, кто бы их взял? Ведь и деньги, и цены здесь были совершенно другими. Кило лососины стоило более трёхсот рублей — а именно триста рублей составляла довоенная аспирантская стипендия Алексея, а его отец в НКИДе получал со всеми надбавками и премиями чуть более тысячи, если не изменяет память. Алексей не удержался и взял у одной из продавщиц как бы на пробу несколько щепоток квашенной капусты и половинку соленого огурца. Каким же наслаждением стало вкушение этой ничтожной пищи! По всему телу сразу же разлилась блаженная лёгкость и уверенность в том, что всё обязательно наладится.
В отличие от своего товарища, Алексей не испытывал ни малейшего чувства нереальности творящегося с ним. Он сразу принял новый мир за своё новое вместилище, и хотя позади оставался огромный пласт непонятого и даже непостижимого человеческому уму, решение всех связанных с этим проблем Алексей был готов отложить на потом. Главное — он был жив, рядом с ним были живые люди, над головой — солнце, он мог чувствовать, думать и даже, пожалуй, мечтать.
В подобном мечтательном оцепенении Алексей какое-то время перемещался между обильно и аппетитно пахнущими продовольственными рядами, покуда не набрёл на небольшой развал, за которым сидел молодой парнишка лет четырнадцати-пятнадцати. На перевёрнутых картонных ящиках с изображением бананов и частично — прямо на земле — были разложены до боли знакомые атрибуты фронтового бытия: диск от автомата, пробитая осколком алюминиевая фляга, фрагмент пулемётной ленты, пустая гильза от противотанкового снаряда, полуистлевшая командирская сумка. В широкой консервной банке горкой были насыпаны пустые винтовочные гильзы с ценником — по 30 рублей за штуку. Там же, на хорошо сохранившейся жестяной мортирной укладке, лежали распотрошённая немецкая мина, несколько хвостовых стабилизаторов, пряжка от немецкого солдатского ремня, сверкающая начищенным глянцем нержавеющей стали губная гармошка и полуистлевший железный кубик, напоминающий зажигалку.
Алексей мгновенно уяснил для себя происхождение этих артефактов, найденных и выкопанных кем-то, возможно, даже этим пареньком, на местах страшных ржевских боёв. Он глядел на них с явным чувством радости, поскольку они свидетельствовали о двух важных вещах: о том, что война уже позади и о том, что его появление в новом послевоенном мире уже не может быть подвергнуто ни малейшему сомнению. Мысль о том, этично или нет торговать на рынке предметами, определявшими в свое время судьбу и жизнь тысяч и миллионов людей, спасавшими и уносившими человеческие души, помнящими живой стук сердец и с которыми неразрывно соседствовали боль и надежда, — эта мысль Алексея в тот момент почему-то нисколько не волновала.
Чуть поодаль, на небрежно отрезанном ножницами куске белой скатерти, под рукой у продавца были разложены сломанный будильник, также несколько наручных часов. Приглядевшись к их небольшим чёрного цвета циферблатам, Алексей без труда различил немецкие марки Silvana и Glycine, которые, по-видимому, когда-то принадлежали германским офицерам. Затем его взгляд привлекли крупные наручные часы в серебряном корпусе с толстым пузатым стеклом, из-за которого строго глядела заглавная греческая буква «омега». Классический циферблат был едва заметно украшен в центре замысловатым узором, характерным для начала века. Широкий, пятисантиметровый корпус поражал скупой и одновременно филигранно точной выточкой лапок и заводного колёсика.
Алексей поймал себя на мысли, что когда-то он подобные часы уже где-то видел, и теперь немало бы отдал, чтобы иметь у себя такие же.
Он ещё раз всмотрелся в них — всё верно, вещь ценная, под циферблатом прочитывалось название известной швейцарской фирмы. Часы остановились на без двадцати двенадцать — видимо, подумал Алексей, в это время что-то и произошло с их владельцем. На стекле имелась трещина, однако не сквозная, чтобы пропускать грязь, благодаря чему циферблат оставался на удивление чистым — его изначально белоснежная поверхность лишь слегка сделалась серой от времени. К часам был прикреплён совершенно новый ярко-бордового цвета ремешок из крокодиловой кожи, который смотрелся немного нелепо.
— А что это за часы? — негромким голосом поинтересовался Алексей.
Парнишка-продавец уже давно наблюдал за странным покупателем в не очень чистом и ветхом ватнике, одетым явно не по погоде этого выдавшегося столь тёплым и солнечным весеннего дня. Можно было допустить, что перед ним стоит селянин, приехавший сюда из какого-то отдаленного и дикого хутора, если бы не лицо интеллигента, чью природную утончённость и породистость Алексей не научился скрывать даже в разведшколе.
— Швейцария. Кто-то важный носил из вермахта или войск СС. Отбился, видно, от своих, нашли на месте неопознанного блиндажа, — со знанием дела, но в то же время совершенно равнодушно ответил парнишка.
— Сколько же им лет должно быть?
— Сколько, сколько! Упали они не позже сорок третьего, так что сам считай — шестьдесят семь… нет, шестьдесят девять лет. Семьдесят, одним словом. Ничуть не заржавели. Мы в механизм не лазаем, чтоб на цену не влиять. Так вот, эти сами пошли, без часовщика. В сухости, наверное, пролежали. Гляди, как я их щас заведу!
— Я думаю, эти часы должны старше. С начала века, так мне кажется.
— Ну, вполне. Я не спец. За пятнадцать штук отдам. Был бы корпус стальной — просил бы восемь. Но ты уж извини — это серебро!
— Пятнадцать чего? — Алексей сделал вид, что не расслышал названную цену.
— Пятнадцать штук. Ну, давай за четырнадцать уступлю. Чё, сильно интересуешься? Если фирма конкретная нужна, можем поискать. Есть ещё немецкая посуда — чистый фарфор. Запонки есть серебряные. Есть советский патефон, работает, сам крутил. Ты скажи, что надо, мы любой заказ делаем. Кое-что ещё имеем. — С этими словами продавец многозначительно кивнул на кучку пустых гильз. Видимо, говорить об этом вслух было нельзя. — Ко мне из Москвы и Питера специально приезжают. Я ещё никого не подводил.
— Спасибо, я пока не решил. Но часы меня определённо заинтересовали. Так значит, сколько они стоят?
— Ты что, глухой? — обиженно произнёс продавец. — Я ж сказал: пятнадцать косарей. Но уступлю за четырнадцать.
«Что за косари? Сколько он имеет в виду? Штука — это ведь в мою бытность вроде бы — сто рублей. Значит, полторы тысячи? А если нет? Как только я покажу ему своё незнание современных денег, я привлеку внимание. Да и денег-то у меня нет. Даже рубля».
— Хорошо, я подумаю, — Алексей решил изменить направление разговора. — А где всё это найдено? Под Мончалово?
— Да нет. Под Мончалово уже всё перерыли. У меня лично под Полунино есть участочек. Начал там по весне копать, но бросил. Сейчас пацаны в ступинском лесу наткнулись на богатую жилу, я к ним, наверное, переберусь. Там поболее железок будет. И наших, и немецких. А под Оленино мой кореш осенью вытащил из болота целехонький «Опель». Только отмыл — ничего не менял, не красил — и толкнул коллекционеру за семь тыщ евро. Если бы через границу перевёз — там двадцатку обещали дать. Но это хлопотно. Мне вот тоже предлагали железки толкнуть через границу. Купцы в Польше уже на опте двойную цену рисуют. Посмотрю, может, съезжу летом пару раз. А в Москве антиквары в том году цену уронили, мы к ним сейчас ничего не возим. Так что лучше у себя дома пока поторгую, — здесь паренёк потянулся, подставляя лицо солнцу, и широко зевнул. — Так что, брат, гляди, можем поторговаться, скину тебе тыщу, если станешь брать.
Сказанное торговцем поразило Алексея вовсе не в связи с тем, что остатки боеприпасов, оружия, предметов одежды и быта тысяч людей из двух противоборствующих армий, волею времени и судьбы навсегда оставшихся лежать в ржевских лесах, на его глазах вдруг стали предметом торговли и даже контрабанды. Всё это напоминало, что он находится в другом, неведанном ему времени, о котором пока рано судить. Прежде всего, Алексея задела незатейливость и будничность, с которой его новые современники могли говорить о вещах из фронтовых могил и вести их добычу. Удивляло и отсутствие каких-либо следов неприязни по отношению к немцам, вещи которых мирно соседствовали с вещами убитых, по всей видимости, ими же красноармейцев.
«…Минувшей брани и обиды забыт и стёрт кровавый след… Чтоб спящий в гробе Теодорих о буре жизни не мечтал… Неужели это уже про нас?» — произнёс про себя Алексей, удивившись тому, что нисколько не забыл этих строчек Блока. Ещё он отчётливо и ясно увидел нечто, скорее всего, неведомое ни парнишке-торговцу, ни его покупателям: тяжёлый и необратимый след времени на всех предметах. Даже очищенные от грязи блестящие гильзы или немецкая гармоника, совершенно не тронутая ржавчиной, несли на себе печать невозвратности. Алексей подумал, что те же самые патроны, когда их вынимали из ящиков в сорок втором, выглядели как живые. Тогда можно было смотреть на них и думать, что вот этот, третий справа, отомстит врагу за Минск, соседний — за бомбежку Ленинграда, а вот этот, что лежит в самом углу, убьёт фашиста до того, как он выстрелит в меня. Тогда у каждого из них обязательно имелась своя живая судьба, сейчас же — это просто железки. Железки, у которых есть прошлое, но нет и не будет будущего.
— Вы, когда это копаете, наверняка находите и людей? — поинтересовался Алексей. Он вспомнил, как в сорок втором видел изрытое воронками подсыхающее апрельское поле, на котором захлебнулась атака стрелкового полка — всё поле, а оно было шириной под километр, было покрыто телами убитых и умерших от ран красноармейцев, забрать и похоронить которых не было возможности из-за перекрёстного вражеского огня. Внезапная мысль о том, что он тоже мог остаться лежать на том поле, а его оружие, его вещи кто-то отделит от праха и разложит на базарном прилавке, обожгла мозг своей противоестественностью: «Как? Разве можно забирать, зачем отнимать у меня? Разве всё это не должно оставаться со мной навсегда?»
— Да, бывает. Только ты за них не переживай, — спокойно ответил продавец и внимательно оглядел Алексея. Похоже, только сейчас он по-настоящему обратил внимание на странный вид своего собеседника, который вполне мог сойти за туриста с лопатой и металлоискателем, впервые забравшегося в эти богатые фронтовым железом края и решившего разведать, где и что копать. А может он — того? Специально кем-то засланный?
Парнишка сделал паузу, извлёк из кармана носовой платок и церемонно высморкался. Сложив и убрав платок на место, он закончил ответ, подбирая и чётко произнося слова:
— Все кости, которые находим, мы сперва складываем, потом сдаём. Документы, медальоны смертные — всё сдаём. Приезжают потом поисковики или из военкомата, разбираются, кто есть кто, и хоронят на кладбище. На нашем или на немецком. Мне же лишние проблемы ни к чему. Мёртвый человек должен быть похоронен, тогда и живому легче жить. А ты-то кем будешь?
— Да я так… По делам приехал.
— А… ну, давай. Если что, ко мне обращайся, меня Олежкой звать. Коль надумаешь где-то покопать сам — не советую. Не любят у нас чужих, понимаешь? Буду нужен — я всегда по субботам здесь, или спросишь у ребят, где Олег с рынка. Давай!
— Спасибо. Ты тоже будь здоров.
Алексей был рад неожиданному окончанию разговора с торговцем осколками войны и возможности отойти куда-либо в сторону. Уже несколько минут он явственно ощущал чей-то пристальный взгляд. Удаляясь от развала с гильзами, боковым зрением он различил двух человек, которые, судя по всему, заинтересованно за ним следили.
Одному было лет двадцать пять, он был худощав, одет в спортивного вида костюм из плотной тёплой ткани, а его глаза и половину лица закрывали чёрные солнечные очки. Второй был лет на десять старше, полный, широкоплечий, в чёрных брюках без ремня на широких подтяжках и в длинной кожаной куртке.
— Чёрт! — сказал толстый худому. — Куда же он делся? Сказал, что в полдесятого нарисуется возле рынка, а уже время обедать. Знаешь, как я жрать хочу?
— Пошли пожрём. У Саида в кафе вчера был классный шашлык. Пока там посидим, Шмальц и подрулит. А зачем такая срочность — вчера же с ним всё вроде перетёрли. По субботам-то он, обычно, отдыхает.
— Я сам забился. Менты по моей теме у армян в Осташкове два спиртовоза тормознули, и теперь грузят конкретно. Мне без Шмальца этот головняк не решить.
— Шмальц же такой фигнёй давно не занимается. С чего это он вдруг дал добро?
— Я ему сегодня нужен. У него с немцами сейчас по лесу и прочим делам большой гешефт, а он прослышал, что мои наткнулись возле Егорьевки на остатки колонны СС, которую наши «катюшами» подчистую уложили. И там как бы должен быть товар по его части.
— Ха! Но там же только железки и всякий фарш! А бундесам отсюда нужен крупняк — цельный танк, например, или истребитель. Помнишь, как Игнатка два года назад «Опель-Адмирал» из болота вытащил?
— Другой случай. Шмальцу сказали, что тогда вместе с немецкой колонной какого-то немецкого барона или графа кокнули. А у графа вроде при себе был родовой браслет, серебро, охотничьи ружья из родового замка и прочий хлам. В общем, теперь Шмальц хочет со мной вопрос по графу конкретно решить.
— А чё, нашли графа?
— Да нет. Там место сильно открытое, работать тяжело. Тамошнюю агрофирму с охотбазой зимой какой-то москвич прикупил. Уже таджики на тракторах по полям ездят, а на базу вернули егеря и вовсю готовят к сезону — так что помех миллион. А мы пока что лишь хвосты раскопали. Ищем, где у них ехало командование. Пока потихонечку так, без шума.
— А как это Шмальц умудрился — продать агрофирму лохам? Куда он глядел-то?
— Да это единственный нарез, который был не конкретно у Шмальца, а в залоге у Россельхозбанка. Банкиры сами замутили продажу. Но скоро тот москвичёнок поймёт, что ему здесь ничего не обломится, и едва ли не за спасибо всю эту хрень Шмальцу отдаст. Сам вот увидишь.
— Да мне-то что… А вон глянь-ка! — худощавый кивнул в сторону Алексея. — Тот фраерок — тоже, поди, ищет что? Возле Олежкиного развала минут десять ковырялся.
— Ну, турист, дачник, мало ли кто на рынке… День-то выходной.
— На дачника не похож. И на купца — тоже. Рожа московская, а прикид — будто стянул с бомжа. Клянусь, явно где-то у него в лесу палаточка с лопаточкой, а сюда приперся справки наводить. Я бы приглядел за пареньком.
— Тогда останешься без шашлыка. Брось, если он где-то и закопался, то далеко не уедет. Пошли, пожрём.
— А может, Шмальцу звякнешь не мобилу? Спокойней-то жрать будет.
— Не любит он, когда звонят по ерунде. Ну, да шут с ним. Дай позвоню.
Толстый с явной неохотой достал из кармана куртки телефон, выбрал нужный номер и поднес к уху. Через несколько секунд вслед за гудками он услышал нарастающий ухающий грохот.
Грохот раздавался из кармана Алексея. Он остановился между рядами и с удивлением извлёк из кармана своей телогрейки изящную серебристую вещицу, которая, переливаясь голубыми огнями, исполняла какую-то странную какофоническую музыку. «Будильник, что ли?» — подумал Алексей, вертя в руках предмет, который он в качестве законного трофея забрал у зарубленного в лесу незнакомца, приняв за карманный фонарик. Неприятный звук нарастал, и Алексей инстинктивно попытался его остановить, нажимая на кнопки. Однако ничего не выходило, и он быстро убрал гремящий предмет обратно в карман.
Намереваясь поскорее перейти на противоположный конец торговой площади, где вёл своё общение с инвалидом его товарищ, Алексей вышел из рядов на открытый пятачок перед центральными воротами рынка. Внезапно путь ему перегородил худощавый тип в спортивном костюме и солнцезащитных очках.
— Эй, парень, стой! Покажь-ка мобилу!
Алексей, подумав, что речь может идти об обычном налёте шпаны, с силой прижал левой рукой карман телогрейки, а правой, твёрдо и решительно захватив запястье хулигана, постарался отодвинуть его в сторону. Однако худой не унимался. Он обоими руками вцепился в телогрейку Алексея и единственным способом освободиться от хватки оставалось скрутить его каким-либо приёмом или просто дать по морде. Однако ввязываться в драку в людном месте Алексей не был готов. «Пусть забирает себе эту тарахтелку» — решил он.
— Пусти, я достану.
Он вынул из кармана и протянул худощавому замолчавшую изящную безделицу, которая, тем не менее ещё продолжала светиться неестественно ярким голубым цветом.
— Так, посмотрим… — засуетился худощавый. — Один пропущенный вызов… Ха! Кабан, а ведь это твой номер высветился!
Собеседник худощавого, широкоплечий и в расстёгнутой кожаной куртке, из-под которой выглядывали красивые широкие подтяжки, немного смущаясь объявленного во всеуслышанье своего прозвища, быстро подоспел к месту стычки.
— Откуда у тебе эта мобила? Где взял? — поинтересовался он мрачным голосом.
Алексей мгновенно понял, что столкнулся не с банальным ограблением. Конечно же, не стоило тащить с собой из лесу эту злополучную вещицу, которую здесь называли «мобилой» и которая, будучи какими-то образом приводимой в действие по радио, теперь выдала его с ног до головы.
— В лесу подобрал, — постарался Алексей ответить спокойно и максимально равнодушно. — Если ваша вещь, то забирайте.
— Да нет, парень, в том-то и дело, что не наша. Одного очень серьёзного человека она. Ничего о нём не знаешь? — также стараясь сохранять вежливость, поинтересовался широкоплечий.
— Обронил, наверное, — я же на тропе нашёл. Мне она не нужна, берите на здоровье.
— Погоди, парень, а ведь ты попал! — неожиданно вклинился в разговор худощавый. — Шмальца с утра не можем найти, а у тебя его мобила звонит… Щас с нами поедешь, да покажешь, где нашёл и когда!
— Никуда я не поеду. Забирайте вашу мобилу, у меня дела, — ответил Алексей с показным равнодушием и сделал шаг вперёд, однако вновь был вынужден остановиться. На сей раз его держали уже четыре руки.
— С нами давай, с нами! — громко приговаривая, худощавый принялся с силой тянуть Алексей за ворота рынка на улицу.
— Да пошёл ты! — Алексей резким и сильным движением завернул худощавому руку за спину, от чего тот вскрикнул и заголосил беспомощно и смешно:
— Сцу-ка!.. Кабанчик, Кабанчик, помоги!
Широкоплечий, весивший далеко за сто килограмм, с силой навалился на Алексея сзади, обхватил руками за плечи и практически лишил возможности пошевелиться. В нос удалили острый химический запах кожи и густой аромат незнакомого одеколона, которым широкоплечий был пропитан буквально насквозь.
Драка распалялась. Алексей с превеликим трудом сумел, используя стиснутого в захвате худощавого в качестве массы, начать валить широкоплечего. Наклонившись, тот взвизгнул от боли, однако продолжал удерживать Алексея, не позволяя ему вывернуться вбок и освободиться от цепких клешней. Воспользовавшись замешательством, худощавый сумел свободной рукой схватить Алексея вблизи колена, не позволяя перевернуться и встать. Несмотря на хорошую форму у Алексея и владение искусством самозащиты, силы были существенно неравными для того, чтобы из драки можно было выйти ловким броском или переворотом. Дело неотвратимо двигалось к применению болевых приёмов или банальному мордобою.
Вокруг дерущихся быстро собралась толпа. Неожиданно, энергично расталкивая зевак, рядом возникли двое в милицейской форме.
— Прекратить драку! Полиция!
«Вот те на! — сокрушенно подумал Алексей и разжал руки. — Попал к полицаям! Жаль, не успел разобраться толком, что за власть в этой стране!».
Алексей с досадой выплюнул угодивший в зубы песок и быстро встал на ноги.
Драчуны также оставили Алексея и начали подниматься с земли. Алексей заметил, как кивком головы широкоплечий поздоровался с одним из полицейских.
— Что случилось? — спросил полицейский широкоплечего.
— Шмальц пропал. А у него, — он ткнул пальцем в ватник Алексея, — телефон Шмальца в кармане нашли. Разобраться бы надо, откуда взял.
Второй полицейский, который, судя по всему, был старшим в наряде, отвёл взгляд в сторону и безучастным голосом произнёс:
— Мы же с вами договаривались, что разбираться надо в другом месте, Россия большая. А у нас — чтобы никаких разборок!
Широкоплечий помолчал и даже как-то извинительно отступил на шаг назад, лёгким наклоном туловища и жестом руки показывая — нате, разбирайтесь!
— Кто такой? — строго спросил полицейский, обращаясь к Алексею.
— Гурилёв Алексей Николаевич.
— Так, Алексей Николаевич… Пройдёмте-ка с нами!
Алексея перевели через широкую асфальтированную площадь перед рынком в двухэтажный домик, над крышей которого развевался трёхцветный белогвардейский флаг, с блестящей вывеской, украшенной двуглавым орлом какого-то странного и далеко не канонического вида. По ходу движения он старался фиксировать и запоминать все детали и особенности окружающей обстановки, однако жизненно необходимое для разведчика трезвое внимание напрочь отсутствовало из-за прилива эмоций: «Где я всё-таки? Что происходит? Кто эти люди и что им от меня нужно?»
Алексея провели по узкому плохо освещённому коридору, в середине которого под яркой лампой сидел дежурный офицер, водворили в тесную комнату и указали на обшарпанный деревянный стул возле пустого письменного стола, приставленного у стены с крошечным зарешёченным окном. Один полицейский, держа руку на кобуре, остался охранять Алексея, второй куда-то ушёл. Минуло четверть часа, прежде чем он вернулся вместе с весёлым полицейским капитаном.
Полицейский капитан, внимательно осмотрев задержанного с ног до головы и, видимо, убедившись, что перед ним находится лицо вполне миролюбивое и даже, несмотря на своё странное одеяние, ничем не напоминающее хулигана или уголовника, лёгким кивком головы дал знак обоим полицейским удалиться.
Капитан зажёг в комнатке свет и опустился за стол. Когда глаза привыкли к свету, Алексей с изумлением увидел большой настенный календарь с портретом Дзержинского и фантастической надписью — 2012 год!
Устроившись поудобнее, капитан представился:
— Участковый уполномоченный капитан милиции Расторгуев! Назовите себя.
Алексей повторно назвал свою фамилию, имя и отчество, после чего поинтересовался:
— Так я нахожусь в полиции или милиции?
Капитан усмехнулся:
— А как хотите! Мне, например, милиция ближе.
— Но тогда как же так? Меня на улице задержали полицейские. Что происходит?
Капитан посерьёзнел и внимательно взглянул Алексею в лицо. «Странный тип, — подумал он про себя. — Под дурочка, что ли, косит, или под бомжа, который газет не читает? Ведь уже больше года прошло, как нас переименовали. А может, это он давит на чувство ностальгии? А если давит, то, значит, он что-то обязательно совершил, иначе зачем ему выбивать из меня слезу?»
— Давайте, молодой человек, не будем вспоминать прошлое. Оно ведь не сильно помогает. Лучше рассказывайте сразу, что натворили.
— Я ничего не натворил. В лесу подобрал этот… радиотелефон. На рынке он у меня в кармане стал звонить, и те двое незнакомых мне людей на меня набросились. Хотя я сразу согласился отдать им этот радиотелефон. Мне он не нужен, а если он их — то пусть забирают. Ещё они говорили про какого-то Шмальца и про то, что эта вещь — его.
Произнося только что придуманное им самим слово «радиотелефон», обозначающее неведомое для сорок второго года карманное устройство для связи, Алексей не был уверен, что его правильно поймут. Однако назвать его «вещью» или «штуковиной» он опасался. Ещё менее приемлемым представлялось ему использование в речи впервые услышанного от нападавших некрасивого слова «мобила» — общаясь с представителем правопорядка, Алексей стремился полностью исключить из своей речи любые жаргонизмы. Поэтому, когда капитан, услышав про «радиотелефон», не выказал ни малейшего непонимания, Алексей мысленно похвалил себя за лингвистическую сноровку.
— И где же этот телефон?
— У них остался. У того, который худой и помоложе. Я сам ему отдал.
— Хм! Тогда чего же они хотят?
С этими словами капитан взял трубку с настольного аппарата с кнопками, в то же время значительно более похожего на телефон настоящий, набрал толстым пальцем какую-то последовательность цифр и поинтересовался — видимо, у дежурного: «Есть по новенькому заявление?».
Затем, положив трубку на место, вздохнул.
— Потерпевший написал заявление. Придётся составлять протокол.
С явной неохотой капитан правопорядка извлёк из ящика стола бумагу и странного вида тонкое вечное перо, напоминающее карандаш.
— Ну, давай, парень, рассказывай, кто ты такой, откуда и что произошло. Гумилёв Алексей?
— Гурилёв.
— Хорошо. Гурилёв Алексей Николаевич. Год рождения?
Алексей лихорадочно отнял в уме 26 из 2012:
— Тысяча девятьсот восемьдесят шестой, — медленно ответил он, поражаясь абсолютно невероятной по отношению к себе цифре мнимого года рождения — 1986-го! Неужели от настоящего года его рождения, 1916-го, — до года рождения вымышленного — прошло целых семьдесят лет?
— Где проживаете?
— М-м… Москва. Пионерский проезд, дом пять. Квартира… — он на мгновение задумался и назвал на всякий случай заведомо несуществующий в своём доме номер квартиры, — семидесятая.
— Так и запишем, — пробормотал под нос капитан. — Телефон?
— Б-0-15-35, - ответил Алексей, в последний момент успев изменить одну цифру и назвав вместо своего номера номер телефона в квартире соседа-авиаконструктора.
— Ещё разочек повторите, пожалуйста! — брови полицейского от изумления буквально взмыли кверху.
— Б-0-15-35.
— Это что же за номер такой?
— Индивидуальный телефон… Не коммунальный, то есть. А что именно вам не нравится? — с искренним недоумением спросил задержанный.
— Пока всё нравится, — капитан благоразумно предпочёл до поры не углубляться в детали. — Где работаем, учимся?
— Институт философии, литературы и истории. Аспирант.
— Отличненько. Аспирант, значит? Историк? — капитан поднял глаза и с подозрением посмотрел на жалкую и грязную телогрейку, которая была на Алексее, а также на его многодневную щетину.
— Да, историк… Был в туристическом походе, что произошло — не помню. Очнулся в лесу один, без документов. Радиотелефон подобрал на тропе, когда шёл в город.
— Паспорт тоже потерял?
— Да.
«Странный тип, — подумал капитан. — Опять сказал: «радиотелефон». Русского языка, что ли, не знает? Да нет же, изъясняется очень грамотно. Неужели псих?»
— А что, ты один пошёл в поход?
— Нет, с товарищем, вдвоём.
— Хорошо. Так и запишем: вдвоём с товарищем находился в туристическом походе… Как товарища звали?
— Прутков. Самуил Абрамович Прутков, — ответил Алексей и сам поразился придуманному с ходу: себя назвал как есть, только с номером квартиры немного схитрив, а Петровича наградил столь экстравагантным именем!
Капитан удивлённо поднял глаза.
— Прутков? Абрамович? Тоже, что ли, историк?
— Ну да, историк. С вечернего только отделения.
— Историк, историк… Знаем мы вас, историков. Весь район перекопали, а потом всплывают стволы и боеприпасы у организованных преступных группировок… Что, не поделил что-то со своим Абрамовичем? Кинул он, что ли, тебя?
Сказав это, капитан помрачнел. По всему выходило, что задержанный за мелкое хулиганство, а то, гляди, и вовсе ни в чем не виноватый московский «интеллигентик» оказался втянутый в разборку чёрных копателей. А если его хотели замочить? А если замочили кого-то там ещё? Ну, Расторгуев, влип ты сегодня. Теперь придётся возбуждать уголовное дело, писать в прокуратуру вороха бумаг, ездить к следователю, в суд! Если бы кто знал, как он устал от всего этого! Как хотелось дождаться трёх часов пополудни и отбыть из отделения домой, где его ждут приготовленные заботливой женой ароматные наваристые щи, в холодильнике — потеет бутылочка хорошей чистой водки, вечером в семь — баня у кума, ну а завтра в воскресенье — там можно было бы на охоту или на рыбалку, решая по ходу… Неужели всем этим планам теперь конец?
Подумав об этом, капитан мрачно исподлобья посмотрел на задержанного.
Алексей немедленно оценил перемену в настроении капитана. «Какой же я идиот! Зачем сказал ему, что я — историк? Ведь видел же на рынке плоды этих раскопок! Конечно, всем этим ремеслом на костях здесь занимаются историки, надо же было это понимать! На вопрос о профессии я должен был отвечать, что я — авиаинженер. Но авиационные инженеры не обучаются в аспирантурах… Чёрт! Как же гнусно, нехорошо врать! Если врать, то нужно подготовиться, любая неподготовленная неправда сразу же раскрывается! Тоже мне, разведчик, диверсант! Забыл, чему учился?»
Одновременно он поймал себя на мысли, что отчего-то испытывает к капитану в полицейской форме, грустящему о милиции, явное чувство симпатии и доверия. «Ведь передо мной сидит офицер милиции. Её зачем-то переименовали в полицию, но это не должно менять сути дела. Рабоче-крестьянская милиция — часть НКВД, стало быть, мы с ним служим в одном ведомстве. Несмотря на моё спецзвание, он немного старше меня, но ведь всего-то — шпала вместо кубарей, а с погонами лишь на одну звезду! Я всегда доверял милиции, и она всегда защищала людей и приходила на помощь. Может быть, этому капитану стоит рассказать всю правду?»
Но тотчас же он вспомнил про режим секретности, из-за которого они со Здравым были вынуждены даже перед бойцами 262-й стрелковой дивизии НКВД представляться офицерами батальона связи… Что же делать? Но ведь война закончилась едва ли не семьдесят лет назад, это факт! И если он, в своей плоти и со своей кровью, каким-то непонятным образом оказался в далёком будущем, то, стало быть, в сорок втором его должны были признать пропавшим без вести. Состоявшееся признание его гибели должно, по всей логике, было означать и снятие режима секретности, по крайней мере, с самого себя. Отлично, тогда он ничего не скажет о своём задании особой важности, а о себе — сообщит. Тем более — представителю своего же собственного ведомства! Чего уж тут бояться! Ну а этот капитан передаст, куда следует, и оттуда приедут и во всём разберутся… Найдут в архиве учётные документы, проверят, восстановят… На службе восстановят — почему бы и нет? А если случившееся с ним и с Петровичем окажется каким-либо медицинским феноменом, например, невиданным по продолжительности летаргическим сном, то страна и наука получат от изучения этого феномена огромнейшую пользу! Поэтому он должен быть откровенен. Не надо ничего бояться. Не надо бояться своих фактических сослуживцев, не надо опасаться этого милицейского капитана!
Подумав обо всём этом, Алексей улыбнулся приятной, открытой улыбкой.
— Позвольте, я вам всё расскажу, — начал он. — Всё, что я говорил вам до сих пор, было не совсем правдой.
С лица капитана сошла маска злой угрюмости. Алексею показалось, что тот даже привстал из-за стола на какой-то миг; его лицо слегка вытянулось, а вечное перо, похожее на карандаш, нервно задрожала в руке. Однако спустя мгновение лицо капитана вновь стало сосредоточенно-серьёзным. Он машинально потянулся за листом для нового протокола, и по его косому взгляду на часы становилось вполне ясно: выявление истины заботит капитана куда меньше, нежели обязанность заводить и заполнять новый протокол.
— Правда — это хорошо, — ответил капитан, поморщившись. — Только ты, когда будешь говорить, не забывай об ответственности за дачу ложных показаний. Мы такого не прощаем.
«Это нормально, что не прощают. Только вот вдруг они не поверят тому, что я им сейчас расскажу?» — подумал Алексей и спросил:
— А если вы мне вдруг не поверите, то чем я рискую?
— Чем, чем… Свободой, братец, вот чем ты рискуешь. Да и здоровьем, смотря какой следователь тебе попадется. У нас в райотделе следак сейчас на больничном, поэтому предварительное дознание, как участковый, я веду сам. Меня ты можешь не бояться, я человек нормальный. А вот про других — так не скажу.
— А что может быть у других?
— Ну… как тебе сказать? Могут поколотить слегка. А могут — и не слегка. В райотделе в Великих Луках следователи, например, резали репчатый лук и втирали подозреваемому в глаза. А в другом дальнем отделении мили… полицейские изнасиловали трезвенника.
— Как так изнасиловали?
— Очень просто, — зевая, отвечал капитан. — Воткнули в рот кусок шланга, насадили воронку и стали лить туда водку. И уши ему для смеха зажали. Он сперва отключился, а потом проснулся и всё рассказал.
— А зачем было зажимать уши?
— Сам не знаю. В протоколе допроса так было написано! — капитан сердито взглянул на Алексея. — Трезвенник, очухавшись, настрочил жалобу, и этих двоих полицейских арестовали. Так вот вместе и сидели потом. А всё — из-за нежелания сразу выкладывать правду. Понимаешь — сам сел, и людей подвёл!
Надо признаться, что Алексея не сильно удивили истории про репчатый лук и про изнасилование водкой. Он догадывался, что в арсенале НКВД должны были иметься и более жёсткие методы воздействия, без которых невозможно работать с изменниками Родины и врагами. Да и кто ведает, что за фрукты попались знакомцам капитана! Применительно к нормальным, честным людям подобное, разумеется, исключено. Достаточно взять случай его и этого вот капитана: капитан видит, что перед ним находится нормальный человек, и разговор поэтому ведётся спокойный и вполне дружелюбный.
— Вы знаете, — сказал Алексей глубоко вздохнув, что должно было предполагать начало долгого разговора, — я совершенно не опасаюсь того, что вы мне только что рассказали, потому что ничего противозаконного я не совершал, и это абсолютная правда. Единственное, в чем вы можете меня упрекнуть — так это в том, что в разговоре с вами я изменил некоторые свои данные. Теперь извольте выслушать, как всё было и как есть на самом деле.
С этими словами он внимательно посмотрел в глаза капитану, рассчитывая увидеть, как в них зажжётся, наконец, огонёк внимания и интереса. Но капитан продолжал смотреть на своего собеседника сосредоточенно-напряжённым взглядом, в котором легко угадывалось равнодушие. Тем не менее Алексей решил не останавливаться.
— Свои имя, фамилию и отчество я назвал верно, — продолжил он, проглотив слюну. — Только вот год моего рождения — одна тысяча девятьсот шестнадцатый.
Произнеся это, он совершенно бессознательно сделал паузу и ещё раз посмотрел на капитана. Увы, в выражении его глаз ничего не изменилось.
— С июля сорок первого я призван и прохожу службу в органах НКВД. Окончил учебный центр спецподготовки в ноябре и с тех пор нахожусь в распоряжении ОМСБОН, первый мотострелковый полк. Спецзвание — младший лейтенант. Был прикомандирован к 262-й стрелковой дивизии в составе 39-й армии. Выполнял спецзадание особой важности, полученное по линии Особой группы при наркоме. О деталях, понятное дело, говорить сейчас не могу. Со своим напарником был направлен в тыл противника с задачей выйти к Мончаловскому лесу, затем — к населённым пунктам к юго-востоку. Далее… а далее произошло самое непонятное. Видимо, мы с напарником получили сильную контузию. Возможно даже что находились в летаргическом сне… и только сегодня утром пришли в себя. В это трудно поверить, но прошло, оказывается семьдесят лет… Война закончена. Вокруг — совершенно другой мир. Я до сих пор сомневаюсь, не сон ли это всё вокруг?.. Я вижу, вы тоже мне сейчас не очень-то верите, я вас прекрасно понимаю. Но вам достаточно сообщить обо мне в Москву, там наведут справки, и тогда всё, что я вам рассказал, подтвердится.
Алексей остановился и вздохнул. Капитан смотрел на него всё тем же безучастным равнодушным взором. Ручка была отложена, а лист, на котором капитан намеревался писать новый протокол, оставался лежать нетронутым.
— Вы ничего не записали, — сказал осторожно Алексей. — Давайте, я повторю.
— Спасибо, не надо. Я думал, что наши мужики заливают, когда рассказывают, как писали протоколы с Гудерианом и даже Наполеоном. У нас тут на почве военной истории многие сходят с ума. Особенно почему-то в фашистов любят рядиться. А ты мне нравишься. Не генерал, ни фельдмаршал, мать их… а наш, родной — из органов, почти мент, чёрт тебя подери! Легендочку ты себе складную придумал. Одно слово — взаправду историк!
— И всё остальное — тоже правда. Запишите мои показания и отправьте телеграмму в НКВД. Всё, что я сказал — обязательно подтвердиться.
— Конечно, подтвердиться. Думаешь, я не верю, что действительно когда-то был боец Гурилёв и что служил в разведывательно-диверсионных войсках? Сто процентов, что был и служил. Как были и Гудериан, и Наполеон, — заключил капитан с довольной ухмылкой на лице. — Как сам-то ты мыслишь?
Алексей грустно промолчал. Весь его порыв выдохся, капитан считает его психом. И ведь теперь точно так же будут думать и другие! «Что же я натворил! Для этих людей всё, что я рассказал и буду рассказывать впредь — останется, увы, вымыслом и бредом. У меня ведь нет ни одного доказательства. Ни одного… Я всегда буду для них чужим, и, скорее всего, ничего не смогу с эти поделать. Как же мне жить тогда?»
— Молчишь? Да ладно, не грусти. Ты же видишь, я тебя даже психом не называю, хотя мог бы. Нет, ты на психа не похож. Ишь ты, чекист! А я ведь тоже, не смейся, в душе такой же. В детстве разведчиком хотел стать. А ты просто болен. До дома сможешь добраться?
— Смогу.
— Деньги есть? Или их тоже увели?
— Нет денег.
К изумлению Алексея, капитан извлёк из кармана своего кителя свёрнутую пополам пачку купюр и протянул Алексею бумажку розового цвета:
— На, вот тебе пятьсот рублей. До Москвы хватит. Доберешься до Рижской трассы, там каждые полчаса идут автобусы. Голосонёшь — остановятся. За четыреста доедешь, сто — на метро.
— То есть вы меня отпускаете?
— Да. У меня к тебе нет претензий. Дуй отсюда, только поскорей. И бандитам этим, которые на тебя заяву написали, на глаза не попадайся. Хотя, боюсь, они уже пасут тебя у выхода… Тогда вот что — я еду домой через полчаса и подброшу тебя до трассы. Подождёшь?
— Спасибо. Конечно, подожду!
Капитан встал из-за стола, кивнул и вышел из комнаты. Алексей остался наедине со своими мыслями и мог, наконец-то, спокойно обдумать сложившееся положение.
«Как удивительно всё складывается! В момент, когда этот капитан должен был меня низвергнуть и растоптать, он вдруг решил мне помочь! Неужели поверил? Поверил, но из-за действительной сложности моей ситуации решил со мною сам не связываться и поэтому отправляет в Москву? Если я молол вздор, то никто о нашем разговоре не узнает, а если моя история будет подтверждена, ему придёт поощрение. Что ж! Логика вполне объяснимая».
«Но как же тогда Петрович? Я непременно должен забрать его с собой. Он безусловно видел, куда меня отводили, и поэтому должен дожидаться где-то неподалёку. Я увижу его и попрошу капитана взять с нами. А если не увижу — что ж! Откажусь от его любезного предложения и останусь в городке. Надо будет лишь позаботиться о том, чтобы не попадаться на глаза этим двум гангстерам… А если их соберётся больше? А если они будет на этот раз вооружены? Лучше об этом пока не думать…»
«А ведь как престранно складывается этот день! Первый же человек, встретившийся мне сегодня, меня едва не задушил, спасибо Петровичу, что спас. Второй встретившийся человек — торгует на рынке чуть ли костями, и до этого никому нет никакого дела! Третий и четвертый — снова на меня нападают без объяснения причин. И только пятый отнёсся по-человечески, отпускает с миром и даже даёт денег на дорогу. Хотя, скорее всего, продолжает в глубине своей души считать меня ненормальным…»
«Но вот что интересно в самом деле — какой окажется Москва? То, что они называют «Рижской трассой» — это, должно быть, старое Волоколамское шоссе. Наверное, изменилось до неузнаваемости. Да и куда я поеду — родителей, скорее всего, уже нет в живых, если только медицинская наука не достигла каких-то удивительных высот… А что если и в самом деле — достигла? И мы с Петровичем оживлены каким-то неведомым нам пока научным экспериментом?»
«Любопытно, какими окажутся москвичи? Боюсь подумать, но вдруг они также через одного начнут душить и нападать?»
Эти и многие другие мысли в голове Алексея рождались и трансформировались в суждения и выводы сами по себе, без малейших на то усилий по части воли и разума. Коротая время в ожидании обещанного капитаном, он наслаждался их непринуждённой игрой и впервые, пожалуй, мог позволить себя расслабиться в течение этого странного и тяжёлого дня.
Внезапно за стенкой раздалось пиликанье, заменяющее привычный грохот телефонного звонка, и он услышал знакомый голос:
— Участковый уполномоченный капитан Расторгуев. Да, слушаю, товарищ полковник… Да, да, здесь. Что? В лесу между Афанасово и Ельцово? Самого Шмальца труп? Вы уверены?.. Что, зарублен топором?.. «Гелентваген» вскрыт? Подозреваемый? Да он здесь, в отделении, странный такой тип… Да, да, мобильник Шмальца вроде бы был при нём… Нет, дружки телефон сразу же забрали. Хорошо, товарищ полковник, понял. Задержим до приезда опергруппы… Спасибо. Вы тоже не болейте, товарищ полковник!
«Что ж! Приехали. Размечтался ты, Алексей Николаевич, о Москве, а ведь тебе теперь придётся в этом неприветливом городишке задержаться! И, быть может, надолго… Труп душителя нашли! Зачем я взял с собой его телефон, что за детство? Голова после пробуждения была тёмной, плохо соображал, наверное… Кто теперь поверит моему рассказу, как всё было, как это он меня захотел безо всяких причин убить? И что же, что же всё-таки происходит вокруг? Сплошные наваждения — одно за другим!»
Железная дверь, ведущая из тёмного коридора в кабинет, где сидел Алексей, внезапно пришла в движение и оказалась затворена кем-то снаружи. Клацнул замок. В комнатке воцарилась гнетущая и убийственная тишина.
В течение двадцати, а, может быть, и тридцати или даже сорока минут, когда Алексей оставался запертым в душной, прокуренной и тёмной комнатёнке, в которой единственное окошко с металлической решеткой с улицы было закрыто высокой каменной стеной с возвышавшимися за ней высокими кронами деревьев, практически не пропускавших солнечный свет, в его голове пронеслось множество мыслей. Но если первые мысли напоминали приступ паники, то очень скоро Алексей взял себя в руки и даже обнаружил от своего положения определённую пользу.
«Что ж! Если меня обвиняют в убийстве, то обязательно будет проводиться серьёзное разбирательство. Так или иначе, начнут определять мою личность и моему рассказу, хотят ли они того, или нет, им придётся поверить. Рано или поздно — обязательно разберутся и поверят. Но в таком случае они будут вынуждены и поверить и моему рассказу про нападение на меня утром в лесу. Мало ли, за кого принял меня этот Шмальц! Как только будет доказано, что случай мой — уникальный, то будет признан и мой рассказ про нападение. Кроме того, в положении, в котором я оказался, мне выгодна определённая публичность… Благодаря публичности я смогу восстановить документы, получить работу… Интересно, смогу я продолжить работу историком? Историк, сам пришедший из прошлого, — это ведь был бы выдающийся случай!»
Рассуждая в подобном духе, Алексей поймал себя на мысли, что в довершение всех своих сегодняшних бед он потерял Петровича, которому теперь также может угрожать опасность. Ценя своего товарища за холодный ум, профессионализм и рациональную жизненную мудрость, Алексей всегда отмечал из его недостатков известную ограниченность кругозора, излишнюю прямоту и упрямство. «Как бы не пропал Петрович один. Вдвоём нам бы больше удалось…»
Железная дверь распахнулась столь же неожиданно, как и была затворена. На пороге возникли двое верзил в камуфлированной полицейской форме с короткоствольными автоматами, угрожающе глядящими с туго натянутых плечевых ремней прямо Алексею в лицо.
— Алексей Николаевич? Вы задержаны по подозрению в убийстве. Поедемте в следственную часть, вставайте!
Алексей молча поднялся. Один из верзил крикнул в сторону дежурного, чтобы принесли наручники. В ответ раздался знакомый голос капитана:
— Вчера при задержании сломались. Но этот — смирный, так доедет.
— Руки за спину! Пошли! Марш!
Алексея поставили перед полицейскими и каждый из них возложил ему на плечо по руке. Сдавив ключицы до сильной боли, они повели его по коридору. Проходя мимо боковой двери, Алексей увидел в соседней комнате капитана, который молча стоял у стены и безучастно теребил пуговицу кителя пальцами обеих рук.
Когда вышли на улицу, в глаза ударил солнечный свет — столь же ярко, как в момент пробуждения в лесу нынешним утром. В десяти-пятнадцати шагах был виден полицейский фургон с широко распахнутыми дверями.
Внезапно справа, совсем близко, сверкнула ослепительная, парализующая зрение вспышка и раздался чудовищный грохот. Спустя мгновение слева и справа прогремели ещё два взрыва, сразу же после которых от земли вверх густо повалил плотный тёмно-серый дым, энергично растекаясь по сторонам и заполняя собой всё доступное пространство.
Алексей различил среди грохота резкий вскрик и оханье быстро опускающегося на колено полицейского, получившего, по-видимому, сильный удар в грудь или живот. Тотчас же его самого обхватила за грудь и с силою повлекла, едва не повалив, чья-то не менее сильная рука, и знакомый голос Петровича прокричал прямо в ухо: «Уходим!»
По неистребимой фронтовой привычке, пригибаясь до самой земли, двое разведчиков мгновенно прошмыгнули через колючую заросль давно нестриженого кизильника, пробежали через небольшую площадку, разрытую строителями, перепрыгивая через шланги и пруты арматуры, и вскоре оказались возле лесопарка. Деревья лесопарка образовывали достаточно плотный заслон, в котором вполне можно было укрыться от погони, чтобы затем уйти в более безопасное место. Однако Петрович поволок Алексея в противоположную сторону, где метрах в пятидесяти проходили железнодорожные пути.
Разведчики перебежали через пути и едва ли не кубарем скатились в глубокий бетонный ливнесток, устроенный на противоположной стороне железнодорожного полотна. Уже через несколько минут они услышали вой сирены и скрип тормозов возле лесопарка. Где-то там хлопали автомобильные двери и вырывались обрывки грозных команд, которые ветер сносил в сторону широкого открытого пространства за магистралью. Прислушавшись, Алексей с удовлетворением отметил, что не различает собачьего лая, — это означало, что розыски беглецов, скорее всего, начнутся в лесопарке, и у них будет время, чтобы уйти на безопасное расстояние.
Справа стремительно приближался нарастающий гул и грохот колёс. Алексей вопросительно взглянул на Петровича, но тот отрицательно покачал головой: «Со стороны Москвы идёт. Пусть проедет, если что — они решат, что мы на него запрыгнули».
Алексей привстал и выглянул из-за свода ливнестока наверх. Там, наверху, отчаянно стуча колёсами по высоким рельсам, с бешенной скоростью неслись на запад серо-красные пассажирские вагоны. Последний вагон, покачивая красным фонарём, уже начинал скрываться за изгибом пути, однако шум и стук не собирались прекращаться. Спустя несколько мгновений в темнеющейся полосе леса, за которой скрылся пассажирский поезд, ярко вспыхнул прожектор локомотива, и по встречному пути загрохотали колеса товарного состава.
«Сюда нам!» — крикнул Петрович, стремясь перекричать грохот колёс. Разведчики выбежали на насыпь и устремились за ускользающими вперёд вагонами. Как назло, мимо проплывали, один за другим, грузовые теплушки и плотно обтянутые стальной сеткой вагоны с легковыми автомобилями, на которые невозможно было запрыгнуть. Пятый… пятнадцатый… двадцать пятый… состав скоро закончится. Неужели у них ничего не выйдет? Алексей на бегу обернулся, и — о чудо! — в конце состава увидел две платформы, на которых были закреплены огромные самосвалы. «Петрович! Там наши две, в конце! Запрыгиваем!»
Вцепившись в борт платформы на уровне груди и отталкиваясь носками сапог от уходящей из-под ног щебёнки, вздыбленной бетонными рёбрами шпал, взрывным усилием рук они оба сумели подтянуться и перевалиться на грязный промасленный пол. Замерев там, несколько минут они оба молчали, затем Здравый поинтересовался:
— Живой?
— Живой.
— Курить хочешь?
— Да. А что, есть?
— Уже есть.
Только теперь Алексей заметил, что на спине у Петровича был закреплён небольшой рюкзачок. Он снял его и уже хотел было продемонстрировать содержимое, как вдруг привстал, глянул в направлении движения состава и произнёс:
— К самому Ржеву подъезжаем. Надо бы укрыться!
И, заглянув под днище самосвала, добавил:
— Сюда, что ли…
— А может наверх, в кузов?
Еще в момент абордажа платформы Алексей успел поразиться огромным размерам самосвальных кузовов, в каждом из которых, наверное, мог бы разместиться лёгкий танк. У идеи укрыться в столь неуязвимом месте, конечно же, не могло быть альтернативы. Уже через минуту друзья были там, и Алексей получил возможность закурить предоставленную Петровичем странную папиросу с белоснежной вставкой на месте мундштука и непривычно мягким дымом.
— Я видел, ты ещё на рынке табачком разжился. А у меня это — первая… за семьдесят лет.
— Ну, так ведь это ж никогда не бывает поздно!
Вблизи Ржева поезд начал тормозить, и сигареты пришлось потушить — дым мог выдать их местонахождение. Однако судя по всему, предосторожности себя не оправдали: поезд проследовал Ржев без остановки, в чём Алексей удостоверился, на миг выглянув из кузова после того, как состав вновь стал набирать ход. Совершенно не чувствуя холода, Алексей лежал на металлическом дне и зачарованно глядел в начинающее темнеть небо. Где-то на северо-востоке уже начинали появляться первые звезды, и их торжественный выход на вечерний небосклон заставлял сердце биться сильнее… Да, он был жив, он вновь видел мир во всём его богатстве и многообразии, он приближался к Москве, где, конечно же, должны были остаться хоть какие-то следы от прошлого, оттолкнувшись от которых он сумеет начать жизнь новую и желанную, наполненную клокотавшей внутри него энергией и неутраченным смыслом.
И хотя все неприятности, приключившиеся сегодня, удивительным образом отдалялись, на глазах теряя угрожающую актуальность, по прошествии некоторого времени Алексей поинтересовался, каким образом его удалось освободить.
Петрович, позёвывая от усталости и обилия свежего воздуха, рассказал следующее.
Общаясь с инвалидом-ветераном и даже распевая вместо него песни, он, Петрович, конечно же, зорко и неотступно наблюдал за Алексеем. Он прекрасно видел и драку, и «забор в полицию». Когда Алексея отводили в участок, Петрович обратил внимание инвалида на то, что их импровизированный совместный концерт уже собрал достаточно денег, и что самое время отметить знакомство в кафе, из окна которого полицейский участок прекрасно просматривался.
Инвалид, по словам Петровича, оказался прекрасной души человеком, гвардии сержантом Советской Армии, героем афганской войны, антифашистом и настоящим патриотом. После второго стакана водки Петрович вкратце поведал ему, что явился сюда со своим командиром прямо и непосредственно из одна тысяча девятьсот сорок второго года. Самое удивительное, что этот рассказ совершенно не ошеломил и, более того, даже не удивил инвалида. Он полностью согласился со всем, что услышал из уст Петровича, и предложил любое содействие и помощь.
Сержант-инвалид подробно и афористично отвечал на расспросы сержанта госбезопасности о том, что происходит в городе, стране и мире. Трудно сказать, действительно ли он воспринимал Петровича как фантастическим образом явившегося пришельца из прошлого, или же просто был рад подвернувшейся возможности поделиться своими представлениями о современной жизни с приличным и уважительно беседующим с ним человеком, — но из его рассказов Здравый сумел почерпнуть массу бесценных данных.
Затем Петрович, ссылаясь на виденные на рынке фронтовые артефакты, попросил ветерана помочь достать какое-либо действующее огнестрельное оружие и несколько дымовых гранат. От помощи с огнестрельным оружием инвалид вежливо отказался, хотя и заметил, что в принципе, когда-нибудь в будущем, и смог бы помочь. Зато две немецкие дымовые гранаты М-24 им привёз в кафе, надёжно упакованными в спортивную сумку, какой-то подросток, прикативший на маленьком мотоцикле после телефонного звонка ветерана. И что самое интересное — вместе со старыми немецкими гранатами подросток доставил в той же сумке удивительное устройство, внешне напоминающее гибрид лампочки с рассекателем на конце душевого шланга. Ветеран сообщил, что это — «наша» светошумовая граната «последней разработки», способная ослепить и оглушить слона. Именно эту гранату Петрович первым делом и метнул под ноги конвою, когда тот выводил Алексея из здания участка. Немецкие же безотказные боеприпасы создали плотную завесу дыма, позволившего им уйти.
Завершая этот рассказ, Петрович особо отметил, что как только к зданию участка подъехал автомобиль с конвоем, он приказал инвалиду скрыться и ни в коем случае не обнаруживать своего участия в операции. При расставании тот ещё раз проявил себя отзывчивым и добрым человеком, подарив Петровичу три тысячи рублей, крендель копчёной колбасы, полбуханки хлеба и четвертинку водки с изрядно потёртой этикеткой — видимо, немалое время проведшей в составе неприкосновенного запаса.
Упомянув о еде, Петрович тотчас же извлёк все эти богатства из своего рюкзака, и Алексей смог, наконец, удовлетворить не на шутку разбушевавшееся с середины дня острейшее чувство голода. Водки выпили три раза по глотку, после чего Петрович, не переставая удивляться подстерегающим на каждом шагу техническим новинкам, плотно закрутил на бутылочном горлышке золотистую винтовую крышку.
Алексей сообщил, что также имеет пятьсот рублей, подаренные ему полицейским капитаном, и поведал свою не менее диковинную историю. Здравый с нескрываемым удивление выслушал, как в полиции неожиданно всплыла история о забытом в кармане мобильном телефоне, принадлежавшем типу по прозвищу Шмальц, утром беспричинно напавшему на Алексея и зарубленному сапёрной лопаткой.
— А ты знаешь, кого мы тобой укокошили? — спросил Петрович Алексея.
— Боюсь, что нет.
— Этот Шмальц — глава всей здешней шпаны, дорвавшейся до власти и почёта. Они, — слово «они» Петрович произнёс особенно медленно, словно подчеркивая дистанцию, — они называют себя «мафией». Сам не знаю как, но этот человек контролировал практически всё здешнее хозяйство. Все рынки, торговлю водкой, все заводы…
— Как же так, но ведь это же всё — государственное!
— Увы, Алексей Николаевич, увы. Когда-то было государственным.
— Но колхозы-то остались?
— И колхозов не осталось. Теперь вместо колхозов у них — агрофирмы. И почти все агрофирмы в округе принадлежали этому Шмальцу.
— Что же это он тогда мною в лесу заинтересовался? Чем это я ему помешал? И если он такой важный, то почему расхаживал один и без документов?
— Документы, думаю, такому гусю с собой носить ни к чему, его и так все здесь знают. А вот нападение на тебя — действительно загадка. Но я думаю, всё это должно быть связано с копаниной.
— Копаниной?
— Да. Здесь так между собой называют промысел на наших с тобой костях. Копают по лесам оставшееся от боёв оружие, документы, кости, пряжки, медальоны. Ведь уже после нас, после нашего исчезновения, оказывается, здесь ещё год шли страшные бои и людей полегло за миллион. Наверное, нашим с тобой воскресением мы кому-то из копателей помешали или сильно напугали.
— Но этого ведь недостаточно, чтобы сразу — и душить насмерть!
— Как знать… Может быть, они тоже что-то очень ценное здесь ищут. Как мы с тобой искали в сорок втором… А нежелательные свидетели — ты же помнишь напутствие, которое сделал нам майор контрразведки: нежелательные свидетели должны ликвидироваться.
— Я не забыл. Как всё-таки это ужасно…
— Конечно ужасно. А ты не грусти, лейтенант. Жизнь — ведь она очень мало у кого удаётся красивой и счастливой. Для большинства людей она ужасна, мрачна и беспросветна. Как, например, для товарища Ершова, моего знакомца и инвалида с рынка. Сегодня мы с тобой победили, а завтра — победят нас. Если, конечно, мы потеряем бдительность.
— Ты спать хочешь?
— Ни в одном глазу.
— Я тоже.
Спать, действительно, совершенно не хотелось.
Небо над головой продолжало темнеть, воздух насыщался прохладной свежестью от ещё не согревшейся с зимних холодов лесной почвы. Внутри кузова обильно пахло свежей нитрокраской, запах которой перемешивался с запахами резины и машинного масла. Платформу с самосвалами, прицепленную в самом конце грузового состава, сильно раскачивало на поворотах и неровностях пути, отчего постанывали стальные стропы и снизу, из железных ящиков, прикрученных к полу, доносилось громкое дребезжание инструментов и запасных деталей. Алексей подумал, что он так и не может до конца понять и осознать произошедшее с ним и с его товарищем в этот день. В привычном и объективном понимании мира их воскрешение в лесу должно было являться фантомом — однако нет, фантомы не могли совершать всего того, что они совершили в течение дня, не могли заставлять людей осознанно реагировать на свои слова, проявлять эмоции или вынудить перенести на них современные принципы правопорядка и полицейского принуждения.
Алексей вспомнил, что встречал в статье о философе Хайдеггере, когда-то прочитанной им в «Интернациональной литературе», любопытную мысль о том, что время может существовать исключительно в связи с бытием человека. То есть внутри человека заключено истинное первоначальное время, а вот время, измеряемое с помощью часов и исторических хроник, — лишь производная от него. Далее загадочный немец делал вывод, который Алексей в своё время совершенно не был способен понять — о том, что прошлое, настоящее и будущее сосуществует одновременно, и лишь субъективные переживания человека способны выхватывать из него те или иные актуальные моменты. Обычно люди переживают своё настоящее, но ведь ничто и не мешает им при опредёленных обстоятельствах войти в будущее!
Но в таком случае, продолжал рассуждать Алексей под неутомимый перестук колёс, картина вырисовывается следующая: во время разведзадания с ними обоими что-то произошло, скорее всего, случилась контузия от подрыва мины или от случайного артиллерийского залпа. А поскольку прошлое и будущее могут оказаться — неровен час! — действительно переплетены и взаимосвязаны, то в результате неведомого физического или психологического расстройства двое разведчиков оказались не там, где должны были быть. «Или в силу какой-то необходимости — продолжал Алексей свою мысль, — возможно, что даже в силу особой важности полученного нами задания, мы смогли преодолеть ограниченность собственного бытия и добраться до того, что передовые философы с некоторых пор называют красивым словом «экзистенция». А время в этой точке, как известно, едино и абсолютно».
Выросший и получивший образование в несложных и интуитивно понятных рамках советского материализма, Алексей всегда воспринимал новейшую французскую философию, выводившую бытие из глубины глубинных переживаний и человеческих чувств, как увлекательный, эстетически красивый и совершенный в методах познания умозрительный турнир, не забывая при этом, что её подлинная суть — это субъективный идеализм, то есть последнее прибежище эксплуататорских классов. Однако прибежище столь очаровательное, что его соблазнам отдавались даже вполне прогрессивные деятели. «А что, если они вдруг они правы на самом деле? — думал Алексей. — Если человек действительно подобен богу и находится не на периферии, а в самом центре вселенной, и из его непознанной до поры человеческой сущности проистекают не только явления материального мира, но и времена? Вдруг прав физик Мах, в своё время раскритикованный Лениным, когда обращал внимание на то, что атомы, из которых сложена материя, собственной материи лишены напрочь и посему есть чистые знаки? А ведь на дне психической сущности человека — также только слова и знаки! Если к началу войны наука ещё не успела раскрыть эти неведомые моему поколению законы, то это нисколько не означает, что подобных законов не существует. А в новом времени, в котором мы с Петровичем оказались, эти законы могут быть уже и вполне раскрыты. Как всё-таки хотелось бы поскорее очутиться в Москве, узнать, что произошло в мире за семьдесят лет! Увидеть открытия, машины, увидеть, возможно, настоящих новых людей — а не эти странные рожи из районного пригорода…»
«И как же мне следует вести себя в этом новом мире? Затаится, стать скрытным, незаметным наблюдателем? Чтобы затем вернуться обратно в прошлое? Или нет — остаться в этом новом времени насовсем, сделаться его активнейшим участником, прожить в нём всю предстоящую жизнь?»
В связи с последней мыслью Алексею вспомнилась фраза из Сартра, ядовито-красный заголовок свежей книжки которого в декабре 1940 года он разглядел в шкафу у Мориса Тореза в общежитии Коминтерна, куда по случаю небольшого предновогоднего застолья он был приглашен вместе с отцом. Тогда эту книжку он сумел выпросить на несколько дней. Сартр в «La Nausee»[5] утверждал: «quand on vit, il n'arrive rien»[6]. Да, он прав, этот язвительный и остроумный француз: пока просто живешь, ничего не происходит. Les decors changent[7], да и только. Чтобы что-то вокруг меня по-настоящему происходило, да и просто, чтобы текло время, необходимо действовать. Иметь цель, построить план. И работать, не покладая рук, во имя воплощения этого плана. Именно этим, пожалуй, он и займётся в Москве.
На затянувшемся безлюдном перегоне, в окружении подступающего к железной дороге со всех сторон чёрного леса, поезд набрал скорость сверх всякой меры, ведомой в довоенную эпоху. Ночной воздух громко свистел, цепляясь о выступающие части товарных вагонов, платформ и грузовых машин, закреплённых на них. Предвкушение скорой встречи с городом, покинутым в давно минувшую эпоху, будоражило и пьянило. «Родителей, скорее всего, уже нет. Друзья, если и живы, то сделались глубокими стариками. Кто знает, может быть, нет и моего дома, и пруда, нет привычных с детства 22-го и 28-го трамваев с зелёными и коричневыми лобовыми фонарями… Нет ничего! Но тогда как же мне быть? Чем заняться?»
В поисках ответа на эти вопросы, перебирая в памяти имена, адреса, названия учреждений и институтов, трамвайных маршрутов и станций метрополитена, должности и места работы знакомых отца и друзей матери по «Госэстраде», театральные афиши, названия прочитанных и заказанных им последним летом в Государственной библиотеке французских журналов и книг, он вдруг отчётливо и безапелляционно увидел и понял, чем именно ему предстоит заняться в первую очередь, какому наиболее существенному делу он должен будет посвятить себя. «Я должен найти женщину. Найти женщину, которая бы понимала меня и которой я бы мог посвятить хотя бы какую-то часть своей жизни. Не обязательно меня с нею должна объединить книжная, бульварная или какая иная любовь, пусть это будет просто чувство близости и доверия друг к другу. Да, обладание женщиной, которая хотя бы в чём-то меня поймёт, — вот самый важный на сегодня рубеж моей жизни. И я не стесняюсь себе в этом признаваться, поскольку всё остальное — работа, дела, общественное положение, бытовые хлопоты — всё будет зависеть от этого, всё будет происходить из понимания меня моей женщиной. Успех и признание? — да, я добьюсь их, но они придут только после того, как я добьюсь от своей женщины ответной страсти, влюблю её в себя, подчиню своей воле, научу и заставлю разделить свои представления о мире. Теперь я всё решил. Я всё знаю. Et c'est ce qui dИsormais sera ma principate tБche a Moscou»[8].
Сомнения ушли, в душе наступила ясность. Алексей почувствовал благодатное облегчение и устремил взор в тёмное небо над головой, в котором редкими огнями светились через просветы облаков далёкие звёзды. Захотелось чем-то прервать затянувшееся молчание:
— Эх, узнать бы, который нынче час?
— Не вопрос, командир, — отозвался Петрович. — Извини, забыл предложить.
С этими словами он извлёк из кармана и протянул знакомые Алексею большие серебряные часы на ремешке нелепого бордового цвета.
— Как это ты их?
— Очень просто — как и всё в марксизме. При твоем освобождении торгаш с рынка под руку подвернулся, а мне — гранату бросать. Пришлось его отключить. Он, когда падал, — выронил, ну а я подобрал. Точнее — экспроприировал.
— Правильно, Петрович. Часы нам пригодятся.
— Тебе — в первую очередь. Твой стиль.
— Спасибо. Только вот ремешок придётся заменить. А я же, знаешь, даже пытался эти часы торговать, при мне их тот парень завёл и выставил время. Стало быть сейчас… — Алексей вгляделся в циферблат, на котором вполне различимо светились стрелки и отметки цифр. — Стало быть, сейчас у нас половина двенадцатого.
— Уже седьмой час едем. Только в Москву ли?
Возникшая новая забота о местонахождении поезда приковала внимание и отвлекала от посторонних мыслей ровно до тех пор, пока состав не начал сильно тормозить под яркими прожекторами крупной узловой станции. Высунувшись из кузова, Алексей разглядел её название — Бекасово.
Бекасово, Бекасово… Где же он мог слышать такое название?
— Петрович, так это же Нарофоминск! — вдруг радостно крикнул он. — Видимо, мы спустились по какому-то кольцу на Киевскую дорогу.
— Кольца на западе от Москвы перед войной не было. Неужели построили?
— Выходит, что да. Теперь отсюда нам либо в столицу, либо на восток.
— Не надо на восток, — резонно ответствовал Здравый.
После почти часовой стоянки в Бекасово состав вновь тронулся, и вскоре наши путешественники получили возможность с радостной возбуждённостью прочитывать одно за другим с детства знакомые любому москвичу имена подмосковных дачных станций — Дачная, Апрелевка, Переделкино… С каждой новой станцией становилось светлее от бесчисленных прожекторов, фонарей и ярко освещённых зданий. Мощной волной прибывал и усиливался гул до боли знакомого, родного и одновременно неведомого ночного города.
Как он встретит, каким окажется, какие приключения и события ждут их теперь в его бесконечных и таинственных пространствах?
Глава третья Со дна
Когда товарный состав надолго остановился возле Очаково, Петрович высказал резонное предположение о том, что теперь состав либо подадут на сортировочную станцию, где он сразу же попадёт под контроль вооружённых вохровцев, либо его погонят по московскому кольцу куда-то дальше. Поскольку оба варианта не годились, было принято решение немедленно выгружаться. Алексей заметил, что на до войны станция Очаково числилась в Подмосковье, то есть за административной границей советской столицы. И хотя, как было совершенно очевидно, за прошедшее время Москва значительно раздвинула свои пределы, проводить рекогносцировку и начинать новый этап пути было сподручнее с тихой малозаметной станции, нежели с шумного и опасного Киевского вокзала, окрестности которого в свое время пользовались не менее дурной славой, чем Марьина Роща, Зацепа или Калитники.
Тем более что проблем, вставших перед разведчиками в полный рост и требующих немедленного разрешения, накопилось немало. Во-первых, нужно было предельно ясно разузнать, в стране с каким всё-таки строем и порядками они оказались. Необходимо было раздобыть одежду, чтобы не выделяться из толпы. Хорошо было бы завести также и какие-нибудь документы. Далее — требовалось как можно скорее научиться пользоваться современными техническими устройствами, чтобы больше не попадать в неприятности, подобные тем, которые вызвал неожиданный звонок радиотелефона на рыночной площади. Также обязательно нужно было помыться, раздобыть продовольствие и обрести какой-нибудь кров. И не просто сделать это в разовом порядке, а обеспечить своё выживание в течение определённого времени, необходимого для разбора и выправления ситуации. Было бы неплохо, наконец, разыскать оставшихся в живых родственников и сослуживцев, чтобы, опираясь на их помощь, предпринять попытку подтвердить и восстановить свои имена и, быть может, поведать окружающим о своём невероятном воскрешении.
Впрочем, вероятно, рассказывать кому-либо о себе всю правду как раз и не стоило бы — в отсутствии решающих доказательств их история легко могла быть истолкована как откровение умалишённых с последующим неизбежным затворением в психдом. Такой вариант не исключался, хотя в него, по правде говоря, пока что верилось с трудом. Слишком уж фантастически радостным было ощущение возродившейся жизни, слишком важной и необходимой для всех людей, для всего человечества представлялась их история, чтобы они могли допустить возможность по дурости оказаться за решёткой или в какой-нибудь медицинской лаборатории.
Выбравшись из огромного самосвального кузова и спрыгнув с платформы на рельсы, наши герои, сторонясь освещённых участков, поспешили переместиться в наиболее удалённую часть станции. За длинными заборами, тянувшимися вдоль путей, с одной стороны находилась освещённая оранжевым светом фонарей улица с многоэтажными жилыми корпусами, с другой же начиналось чёрное пространство, поверх которого, словно на воздушном экране от рассеянного свечения ночной столицы, виднелись вдалеке циклопических размеров трубы, исторгающие контурно-чёрные облака дымов. Между двумя этими мирами блестели уходящие в бесконечность рельсы главного хода, от которых чуть поодаль, в направлении тёмной половины, отходила боковая железнодорожная ветка.
Петрович и Алексей переглянулись: мысль двинуться по этой ветке на территорию тёмной половины пришла к ним одновременно и была, очевидно, единственно верным на тот момент решением.
Спустя несколько минут, когда уличный свет перестал слепить и глаза начали привыкать к темноте, они поняли, что идут вглубь хаотично застроенной, перегороженной заборами, захламлённой и повсеместно перерытой промышленной территории, в пределах которой лишь аккуратная и ровная железнодорожная насыпь могла служить ориентиром и напоминанием о порядке. В то же время заброшенность и дикость округи давали надежду на то, что в её черте обязательно отыщутся шалаш или землянка, в которых можно будет укрыться, перевести дух и разобраться в обстановке.
Однако вскоре на их пути выросло вполне капитальное сооружение — примостившаяся рядом с рельсами двухэтажная будка какой-то железнодорожной службы. Здание было заброшенным, о чем говорили выбитые стёкла и наполовину вывороченная из проёма сломанная деревянная рама. Возле входной двери под ногами зазвенело стекло — когда зажгли спичку, обнаружили несколько бутылок, явно пролежавших не один месяц под снегом и оттого покрытых ровным слоем слипшейся грязной пыли. Дверь не имела замка, легко поддалась, но до конца открываться не хотела, так как упёрлась в одну из досок полусгнившего и просевшего навеса. Тем не менее в качестве временного крова железнодорожная будка была местом идеальным!
Чтобы не жечь понапрасну спички, от немедленного исследования внутренностей здания решили отказаться до наступления рассвета. Петрович устроился в старой покрышке от грузовика, кем-то припрятанной во входном тамбуре, а Алексей разлёгся на обнаруженной там же деревянной лавке. Извлечённые из кармана антикварные часы, ровно и уверенно потикивая, показывали начало четвертого. Главное теперь было — не заснуть, и чтобы отогнать сон, Петрович едва слышно, в четверть голоса, временами скатываясь на шёпот, начал распевать старые романсы, понемногу перемежая их с красноармейскими маршами. Алексей, временами ему подпевая, то и дело поднимался со скамьи и, подходя к тому месту, где предполагалось окно, подолгу всматривался в чернеющий проём.
После шести начало светать, и к семи часам сделалось возможным осмотреть новый дом. Изнутри будка оказалась достаточно просторным сооружением, имея на первом этаже приличного размеру комнату, тамбур и площадку лестничного марша, а наверху — ещё одну комнату и тёмный чулан, детально исследовать который при блёклом утреннем свете не удалось. Все помещения были страшно захламлены: вперемешку с остатками конторской мебели были разбросаны бумаги, из которых кто-то до них пытался устроить на дощатом полу небольшой костёр, валились кирпичи, несколько затвердевших мешков цемента, лежали обрывки проводов, раскуроченный электрический шкаф, остов от тачки, несколько источающих запах гнили матрасов и несметное количество порожних бутылок во всех углах. Очевидно, что в тёплые месяцы в будку регулярно наведывались местные бродяги и пьяницы, а в этот раз честь открытия сезона в заброшенном строении выпала разведчикам НКВД.
Утро выдалось пасмурным — ещё с полуночи небо начало затягиваться плотными облаками, сквозь которые теперь не могли пробиться лучи солнца. Рассеянный серый свет проливался над городом, неведомым и невидимым за приодевшимися в молодую листву деревьями и громоздящимися в отдалении заводскими корпусами. Не было слышно ни шума моторов, ни звона трамваев, ни голосов, не перемещался воздух и не колебались под ветром кроны деревьев.
— Вчера была суббота, сегодня, стало быть, воскресный день, — удлиняя паузы и растягивая слова, произнёс Алексей. — Все будут отдыхать, и вряд ли мы что-то серьёзное разузнаем…
— Отчего же? — возразил Петрович. — Как раз в такой день лучше и начать знакомство с москвичами. Москвичами… какого всё-таки года?
— Две тысячи двенадцатого.
— Хм! Две тысячи! Ко второй тысячи ещё и привыкнуть надо… Трудно в это поверить, однако придётся.
— В нашем облачении нам непросто будет сохранять конспирацию. Давай-ка поищем, нет ли здесь какой-нибудь современной одежды, иначе экскурсию лучше отложить до темноты. Чёрт! Как бы всё-таки разжиться чем-то новым из одежды! Ждать до вечера — просто мучение!
— Хорошо бы. А ты не помнишь, что здесь было до войны?
— Деревни были, помню, был ещё госхоз имени Сталина. Где-то у Аминьево стоял военный гарнизон. Места пусть и ближние, но не дачные, просто так сюда никто не наведывался… Чтоб добраться из города, нужно было либо ехать на дачном поезде, либо с Манежной на 2-м или 35-м автобусах до Кунцево, а дальше — двигать на своих… Да и вряд ли мы что из тех времён найдем… К югу от станции, у самых путей, стоял, кажется, кирпичный завод — теперь там жилые дома. И бдительные граждане, как только мы к ним приблизимся в наших с тобой полуистлевших фуфаечках модели сорок второго года, тотчас же застукают нас и сдадут, куда положено!
— Да, лейтенант, всё так. Здесь ещё, поближе к Кунцево, был 46-й патронный завод. Но туда нам соваться точно не стоит. Так что ты прав, давай-ка нашу избёнку сперва обследуем!
При внимательном рассмотрении в железнодорожной будке обнаружилось немало добра. Были найдены сковорода, детский велосипед, пара абсолютно ненужных по весне драных валенок, газовый ключ, пассатижи, несколько сломанных электрических устройств непонятного предназначения, выроненные кем-то ключи, разбитое зеркало, окаменевшая булка и настольная лампа. Всё это добро приходилось извлекать из груд мусора и хлама, копившихся годами. Приятной неожиданностью стало то, что настольная лампа оказалась исправной, и когда Алексей торжественно, хотя и с нескрываемой лёгкой боязнью, вставил в настенную розетку её штепсель, комната озарилась тёплым домашним светом.
При обследовании чулана, который удалось подсветить через дверной проём настольной лампой, наших друзей ждала поистине желанная находка — в углу валилась забытая или брошенная кем-то почти новенькая синяя куртка. На рукаве золотой нитью было вышито слово «Охрана» и ниже располагался шеврон, чем-то отдалённо напоминавший эмблему НКВД.
— Всё как вы желали, товарищ лейтенант госбезопасности! Форма получена, можем легализоваться!
— Ты, Петрович, уже не в первый раз меня в звании повышаешь. Накажут за самоуправство!
— А я бы вот даже хотел, чтоб наказали… Но вот незадача — не накажут! Нет в живых уже никого из наших, кто бы смог наказать. Так что если просто «лейтенант» тебе не нравится, то считай, что глотаю слово «младший».
— Но тогда ты сам-то кто теперь — младший лейтенант? Или сровняем звания?
— Не надо ничего ровнять. «Младший лейтенант» — ведь это какое-то мальчишество, какая-то несуразность… Я был сержантом, и сержантом остаюсь. А ты — лейтенант. И точка.
— В таком случае, товарищ сержант, слушай мое указание. Отправляемся в город на рекогносцировку. Я одеваю куртку и работаю под легендой современника. А ты меня прикрываешь из укрытия. Пойдёт?
— Пойдёт.
Алексей надел синюю куртку, которая настолько преобразила его, что Петрович даже присвистнул от изумления.
Спустя минуты они вышли из своего нового пристанища и по плавно изгибающейся насыпи железнодорожной ветки вернулись к главным путям киевской дороги. Петрович спрятался в кустах у грязного и наполовину поломанного забора, а Алексей, спокойно оглядевшись по сторонам, пересёк рельсы и уже спустя минуту был на небольшой площади перед станцией.
Часы показывали без четверти восемь, на площади было безлюдно. Следуя привычке разведчика, Алексей некоторое время постоял под сенью жалкого, не желающего распускаться после зимы высокого кустарника, внимательно вглядываясь в два проехавших по улице автомобиля и одинокого пешехода, торопливо перебегающего площадь с противоположной дальней стороны. Всё было спокойно, если не сказать — безжизненно. Тогда он поглубже засунул руки в карманы куртки, пересёк проезжую часть и, не торопясь, зашагал тротуару вдоль жилых домов.
Поскольку в восемь должны были открыться булочные, он решил сперва заглянуть в одну из них. Трудно было придумать что-то более будничное, чем покупка хлеба, и за этим делом он намеревался совершить своё первое пробное прикосновение к московской жизни.
Однако, не обнаружив ни одной булочной, он решил заглянуть в застеклённый киоск со странной вывеской «Хлеб — Продукты» и чуть ниже под ней — «Пиво. Квас. Открыты в любой час — 24!» За скрипучей дверью держался резкий дрожжевой запах пива и старой колбасы. У прилавка дремала женщина с восточными чертами лица в несвежем халате, натянутом поверх тёплого шерстяного свитера. Сонным взглядом она встретила Алексея и, убедившись что покупатель ещё только собирается выбирать, демонстративно отвела взгляд в сторону и протяжно зевнула.
Алексею предстояло максимально быстро, не выдавая своего незнания, выбрать и назвать продавщице какую-то еду, и при этом уложиться в пятьсот рублей: эту красноватую бумажку, неожиданно вчера подаренную ему полицейским, было решено употребить на продукты, а образовавшиеся у Петровича три тысячи сохранить в качестве резерва — ведь значительно важнее, чем достать еду, было приобрести новую одежду или иметь возможность заплатить за проезд в городском автобусе или в метрополитене.
— Здравствуйте, — сказал Алексей продавщице, — дайте мне две булки и полкило колбасы.
— Колбасы в развес нет. Нарезку выбирайте, — меланхолично ответила продавщица, кивнув куда-то в сторону прилавка.
«Ну вот, уже и попался на мелких бытовых деталях! — подумал про себя Алексей. — Ну где же, где же это то, что сейчас называется нарезкой?»
Наконец, он обнаружил нечто, напоминающие ломтики бекона, обтянутые блестящей прозрачной плёнкой, и попросил продавщицу дать ему две упаковки. Ничего не ответив, продавщица вынула две упаковки из стеклянного холодильного шкафа, наличие которого в этом затрапезном месте неожиданно привело Алексея в восхищение: ведь до войны холодильные витрины можно было встретить разве что в лучших московских гастрономах!
— И ещё две бутылки молока, пожалуйста!
— Два пакета? — переспросила продавщица?
— Да, да. Два пакета…
Выставив на прилавок два бумажных кирпича прямоугольной формы с изображением коровьей морды, продавщица затем достала с полки две завернутые в целлофан круглые румяные булочки с искрящимися поверх кристалликами сахара.
— Хорошо, — сказал Алексей, — только мне ещё вот эти две… — с этими словами он вжал палец в стекло витрины, опасаясь в очередной раз ошибиться, — вот эти две белые булки.
— Батоны, что ль?
Алексей согласно кивнул. Затем он с изумлением увидел, как вместо того, чтобы исчислить стоимость покупки на костяшках счётов, продавщица стала нажимать на кнопки какого-то вычислительно устройства, после чего, в очередной раз зевнув, объявила:
— Четыреста семьдесят рублей.
Названная продавщицей цена покупки поразила не столько дороговизной вполне заурядной снеди, сколько тем, что разрушала дальнейшие планы Алексея по посещению других торговых мест. Однако делать было нечего, он протянул купюру и, стараясь выглядеть весело и немого развязано, сказал:
— Авоську забыл. Заверните, пожалуйста!
Продавщица, положив сдачу, удивлённо подняла глаза:
— Я не заворачиваю. Пакет — десять рублей.
Не дожидаясь ответа, она забрала назад рыжую монетку и метнула на прилавок хрустящий жёлтый пакет. Алексею потребовалось несколько секунд, чтобы разобраться, как пользоваться этим незнакомым пока что предметом упаковки, и эти мгновения показались ему долгими минутами, полностью изобличающими его неведение современной жизни. Попрощавшись коротким кивком головы, он забрал продукты и быстро вышел на улицу.
Теперь, неся жёлтую продуктовую сумку, он чувствовал себя значительно уверенней: не было неловкости от рук, спрятанных в высоко сидящие карманы, и не нужно было придумывать и изображать никакого специального смысла: гражданин просто купил еду и куда-то её несёт — мало ли куда и зачем? Он решил пройтись внутрь жилого массива по одной из боковых улиц. Перед тем, как свернуть туда, Алексей остановился и развернулся на несколько секунд в сторону железной дороги — это был условный знак для «прикрывающего» Петровича о том, что «объект прикрытия» самостоятельно и по доброй воли удаляется из зоны обзора, однако вскоре предполагает вернуться на ту же точку.
Прогулка по кварталу прошла спокойно. Алексей вышел на новую, значительно более оживлённую улицу, имевшую наименование Большой Очаковской, и некоторое время с интересом рассматривал модели проносившихся мимо него автомобилей и автобусов. Внимание привлекли похожие на ученические пеналы узкие и высокие многоэтажные дома и необычные по меркам прошлой жизни уличные светильники. Убедившись, что поблизости не наблюдается ни одной магазинной вывески типа «Одежда» или «Обувь», где можно было бы прицениться с современному облачению, он, посмотрев на часы, двинулся назад. На часах было двадцать минут девятого.
Проходя мимо станции, внимание Алексея привлекла отъехавшая от газетного киоска легковая автомашина, из которой выгрузили несколько упаковок товара, после чего женщина-киоскёрша принялась заносить их в киоск через приоткрытую дверь. Когда автомобиль, дыхнув в лицо Алексею необычным выхлопом с запахом миндаля, свернул в боковой проезд и скрылся из глаз, Алексей боковым зрением увидел, как возле киоска, откуда ни возьмись, образовались два подозрительных смуглолицых низкорослых типа в тёмной одежде и чёрных вязанных шапочках, надвинутых по самые брови. Один из них сзади подскочил к пожилой киоскёрше и, обхватив одной рукой за грудь, другою придавил её рот; в это же момент второй злоумышленник проник вовнутрь киоска и начал, лихорадочно озираясь, что-то в нём искать — скорее всего, оставленную киоскёршой выручку.
Не раздумывая ни секунды, Алексей развернулся и уже спустя мгновение был на месте грабежа. Первым делом он постарался освободить женщину от насевшего преступника, для чего известным по спецподготовке особым болевым приёмом в области шеи заставил того вскрикнуть, захрипеть и разжать объятия. Женщина выскользнула из его рук и смело бросилась к киоску, откуда тотчас же выбежал и пустился наутёк второй злоумышленник. Одной рукой удерживая за спиной вывернутый до упора локоть низкорослого и тяжело дышащего налётчика, а другой продолжая наколнять его шею, Алексей намеревался обездвижить и задержать негодяя, однако тот совершенно неожиданно, оперируя свободной рукой, смог извлечь нож и, изловчившись, ударил им Алексею в бедро. От внезапной боли Алексей ослабил захват, грабитель вывернулся и убежал.
— Спасибо вам! — радостно закричала киоскёрша и, бросив товар, устремилась к своему спасителю. — С вами всё в порядке?
Поскольку после полученного ни к месту ранения в планы Алексея теперь уже не могло входить ничего, кроме немедленного возвращение назад в пристанище, а общения с полицией и врачами любой ценой следовало избежать, то он, превозмогая боль, ответил, что с ним всё хорошо и поинтересовался, цела ли выручка. Услышав, что грабитель ничего не сумел найти и забрать, Алексей, желая продемонстрировать незначительность своего ранения, помог киоскёрше убрать оставленные на улице газетные упаковки. Занося их в киоск, он вдохнул любимый со школьного детства свежий типографский запах и тотчас же обратился с неожиданной просьбой — дать ему с собой любые из имеющихся в киоске старых и предназначенных к выносу на помойку газет и журналов, как центральных, так и московских. «Весь день буду на дежурстве, а почитать нечего!» — так он объяснил свою просьбу.
На самом деле, газеты и журналы были нужны как лучший источник информации обо всём, что случилось в стране и мире за последние семьдесят лет и что происходит сейчас. Как же раньше он не подумал об этом?
Благодарная киоскёрша охотно выдала Алексею несколько килограммов печатной продукции. Он погрузил их в пакет с едой, оказавшийся на удивление вместительным и прочным, попрощался и едва ли не бегом бросился на противоположную сторону железной дороги, поскольку по боковому пути на станцию в этот момент подавали длинный товарный состав. Там его уже поджидал Петрович, подхвативший ношу и предложивший следовать к будке только что разведанным им коротким путём через территорию закрытого в выходной день металлического склада, куда можно было проникнуть через потайной пролом в заборе.
Рана на бедре Алексея оказалась неглубокой, но достаточно болезненной. Из-за того что был поврежден какой-то значимый сосуд, она сильно кровоточила, и, чтобы остановить кровь, Петровичу пришлось наложить сделанный из куска медного провода жгут. Об участии Алексея в дальнейших вылазках в ближайшее время не могло быть и речи, поэтому было решено, довольствуясь закупленным провиантом, использовать образовавшееся время для изучения печатной продукции и устройства хотя бы какого-нибудь подобия быта.
Пожалуй, единственной проблемой, которая мешала организации нормального быта, было отсутствие воды. Вода требовалась и для обработки ранения, и для минимальной по походным условиях помывки и стирки белья, и для бритья, поскольку сильно отросшая щетина делала внешний вид у обоих разведчиков совершенно неприемлемым для непринуждённого и безопасного пребывания в городе. В поисках воды Здравый обошёл все окрестные задворки, однако не обнаружил ни крана, ни колонки, ни пожарного гидранта. Зато в нескольких ямах и бетонных желобах стояла вполне пригодная к употреблению талая вода, которую надлежало лишь прокипятить, а чуть дальше, в направлении дымящих труб электростанции, был выявлен полноценный пруд. Однако принести воду было не в чем, и Петрович, предупредив Алексея и одев синюю охранничью куртку, в одиночку отправился в район станции.
Он вернулся часа через полтора с вместительной, литров на десять-двенадцать, побитой эмалированной кастрюлей, к ручкам которой можно было легко прикрепить провод, превратив в подобие ведра. На вопрос Алексея о том, где именно удалось разжиться столь ценной вещью, Петрович ответил, что раскопал её в одном из мусорных контейнеров возле многоэтажных домов. Упреждая недоуменную реакцию своего товарища, он сразу же пояснил, что пока стоял «в прикрытии», то наблюдал, как к мусорным бакам во дворе подходили порыться несколько местных жителей, двое из которых, к тому же, были сравнительно неплохо одеты и совершенно не походили на бездомных бродяг.
Алексей, отложив в сторону раскрытую газету, многозначительно усмехнулся:
— Да, теперь всё сходится. Мы с тобой прибыли, товарищ старший сержант, в страну, где восстановлен капитализм. По ржевским лесам разъезжают бандиты на «мерседесах», а московские старики побираются на помойках.
Петрович сделал вид, что нисколько не удивлён:
— Не факт, что это капитализм. До войны некоторые тоже заглядывали на помойки.
— Может быть, где-то и заглядывали — но уж точно не в Москве!
— Согласен, у вас в Пионерском точно не заглядывали. А чуть подальше — и не такое бывало! Нет ничего зазорного в том, чтобы найти и принести с помойки вещь, которая нужна и которая ещё может послужить. Я сам вот, когда нужно было радиоприемник собрать, ходил на свалку радиозавода…
— Ну ты сравнил! То же радиозавод! Да ведь ты же мог и со службы детали взять!
— Мог, да не брал, — усмехнулся Здравый. — А со свалки радиозавода я даже кое-что носил и к себе на Лубянку — чтоб не ждать, пока снабженцы исполнят комплектацию. Вот и сейчас — эта кастрюлька с мусорки почти новая нам с тобой ещё послужит. Подожди-ка, я воды принесу…
Через несколько минут он вернулся с водой. Теперь принесённую воду надлежало закипятить, для чего Петрович, оказывается, уже приготовил детали для изготовления кипятильника — найденные среди хлама две небольшие ровные стальные пластинки, между которыми он разместил плашмя несколько спичек, скрепил куском бечевки и приладил электрический провод, концы которого продел в отверстия, пробитые гвоздём на каждой из них.
— Что это будет? — поинтересовался Алексей?
— Индукционный кипятильник. Переменный ток из сети создаёт между параллельными пластинами мощное поле, которое греет воду. Вещь потрясающая, но очень опасная. Сделать сам даже не пытайся.
С этими словами Петрович погрузил своё устройство в воду и вставил конец провода в розетку на стене. Немедленно раздался громкий электрический треск и настольная лампа, в свете которой Алексей читал прессу, погасла.
— Пробки выбило. Пойду, гляну…
Алексей поднялся со своего места и проследовал с Петровичем в прихожую, где находился запертый на замок электрощит. Замок сбили обрубком швеллера, Петрович открыл щит и с удивлением покачал головой, не обнаружив привычных пробок. Вместо них на кривой рейке болтались несколько переключателей, один из которых только что перегорел. Петрович что-то буркнул под нос про «байпас» и принялся устанавливать в обход сгоревшего устройства кусок проволоки. Неожиданно он резко вскрикнул и отскочил в сторону:
— Жуть! Что у них тут за напряжение!
И, придя в себя от удара током, принялся с удивлением разглядывать сохранившиеся внутри электрощита таблички и маркировки. Оказалось, что вместо привычных в довоенной столице ста двадцати семи вольт напряжение в сети было — ни много, ни мало — а целых двести двадцать!
Со второго раза байпас встал на место, и импровизированный кипятильник, шипя, свистя и выжигая, по-видимому, колоссальное количество электрической энергии, стал быстро нагревать мутную талую воду в огромной кастрюле. После того как вода закипела, надлежало ждать её остывания до приемлемой температуры, и Алексей, воспользовавшись паузой, принялся рассказывать Петровичу о новостях, только что почёрпнутых им из современных газет.
— Война закончилась не в сорок третьем, а сорок пятом, — начал он с главного. — наши потери — больше двадцати миллионов. В ноябре сорок второго бои шли под Сталинградом. Москву не сдали.
Услышав про Сталинград, Петрович присвистнул. Алексей кашлянул и продолжил:
— Советского Союза больше нет, мы находимся в Российской Федерации. Украина — независимое государство. Президента в России избирают, выборы состоялись в марте.
Видимо, Здравый напрасно полагал, что большую часть реалий современной жизни он узнал из общения с ветераном-инвалидом на рынке. Его друг, как нарочно, как на подбор озвучивал вещи невероятные и выбивающие из колеи.
— Украина независимая, говоришь? — неуверенно и даже с небольшой дрожью в голосе переспросил Петрович. — Ну, тогда и остальные республики разошлись. На кой нам без Украины весь этот муравейник!
— С Грузией война была. Совсем недавно. Там теперь говорят, что Россия оккупировала Сухуми и Цхинвали.
— Ну, это, может, наши и правильно сделали. А в каком году Сталина не стало, ты не разузнал?
— Разузнал. В пятьдесят третьем. После него правил некто Хрущёв, который прославился разоблачением сталинских репрессий. Правда, при нём расстреляли Берию.
— Ты что, Алёша, шутишь так со мной? Какой ещё Хрущёв? Тот матерщинник и недобитый троцкист, что ли, что возглавлял московскую парторганизацию? Репрессии, говоришь, разоблачал?
— Я Хрущёва не знал…
— Зато я знал очень хорошо. Он с тридцать пятого был у наших в разработке, жаль, что его не расстреляли, а ведь было за что. А что же произошло потом?
— Что произошло потом, я ещё не разобрался. В начале девяностых был вроде бы неудавшийся военный переворот, после которого началась приватизация государственных предприятий. Капитализм у нас теперь восстановлен однозначно, однако с Соединёнными Штатами мы по-прежнему едва ли не враги… Так мне показалось, во всяком случае.
— А с Германией?
— Вроде бы отношения ровные. Восточную Пруссию мы у немцев забрали, теперь это Россия. А вот Крым — отдали.
— Кому отдали? Немцам?
— Да нет, Украине.
Петрович, начинавший понемногу привыкать к невероятным новостям, здесь не смог сдержать своего крайнего изумления:
— Если бы отдали Крым немцам, туркам — я бы ещё мог понять. Но чтоб Украине? Они что, у тебя там, в Кремле, — все конечные идиоты?
— Почему это — у меня? У нас с тобой, товарищ сержант госбезопасности, теперь у нас с тобой!
— Извини, лейтенант, — Петрович отёр выступившие на лбу капли пота. Потом, помолчав, продолжил. — Я, честно тебе сказать, не предполагал таких изменений… Новые одежды, автомобили, радиотелефоны — за семьдесят лет всё это могло и должно было поменяться, но вот СССР, Украина, Хрущёв… Куда же Сталин смотрел?
— Но ведь изменения происходили не сразу. Союз после смерти Сталина ещё почти сорок лет держался. Я пока ещё не успел разобраться в международной обстановке за эти годы. Видимо, кто-то нас сильно подвёл или мы отчего-то не выдержали соревнования с капиталистами.
— Не думаю, что было именно так, — грустно ответил Петрович. — В людях всё дело, поверь мне, в людях. Мы хоть с ними всего второй лишь день, но не так уж мало повидали. И вот что я тебе доложу: я не увидел новых людей. Те, что живут здесь сегодня, ничуть не лучше нас, а в чём-то, возможно, даже хуже. У меня из-за моей работы, ты знаешь, не было возможности помногу газеты читать, поэтому я всегда понимал коммунизм не как в газетах писали, а по-своему. Так вот, я понимал коммунизм не через общность женщин и посуды, а через нового человека. Который будет умнее, лучше и совершеннее нас. Только ради такого потомства и можно было терпеть голод и холод, предательства, доносы, убивать врагов, не думать о себе и не жалеть других. Только ради грядущего нового человека! А коль эта затея с новыми людьми не сработала — что ж! Оно тогда даже и лучше, что всё пошло под откос. Тут бы и сотня Сталиных не помогла!
— Что ж, по-твоему, случилось с людьми?
— Да в том-то и дело, Лёша, что как раз ничего не случилось! Всех романтиков типа нас с тобой на войне, видать, поубивало, а вот мещане остались и взяли верх. Я пока вижу здесь одних лишь обычных мещан!
— А твой знакомый-инвалид, что нам помог, — тоже, по-твоему, мещанин?
— Ветеран-то? Нет. Но его таким несчастным именно мещане и сделали, которые одни вокруг него роятся.
Алексей не стал ничего говорить в ответ, и чтобы не создалось тягостной паузы, привстал и попробовал пальцем воду. Вода достаточно остыла и была уже вполне пригодна для того, чтобы обработать рану и хотя бы немного умыться.
Для постирки белья пришлось приносить и кипятить ещё две кастрюли воды, и в этих хлопотах незаметно пролетели несколько часов. Под конец удалось даже побриться — для чего обоюдными усилиями на куске гранитной плитки был заточен и доведен до бритвенной остроты старый кухонный нож.
— Не знаю как ты, — Алексей решил завести новый разговор, — а я до сих пор не могу понять: радоваться нам или нет тому, что с нами произошло?
— Как это — не можешь понять? Живы, руки-ноги на месте — значит, радоваться!
— Но ведь нашей с тобой страны больше нет. Все родные и друзья погибли на войне или умерли, а если кто и жив — тем давно за девяносто… и я бы, пожалуй, предпочёл с ними даже не встречаться. У нас с новым миром нет никакой связи. Даже если мы нарисуем себе документы, легализуемся, научимся пользоваться радиотелефонами — то всё равно останемся чужими. Ты не думал об этом?
— Нет, не думал. А один документ, между прочим, у нас уже имеется.
— Что ты имеешь в виду?
— А вот это, — Петрович не без гордости извлёк из своего кармана зелёную корочку. — Удостоверение частного охранника Козлова, выдано самим Министерством внутренних дел!
— Откуда?
— Хозяин корочки валялся пьяным возле путей. Я оттащил его подальше от рельсов и обыскал.
— Да, но ведь этот как-то не по-человечески — забрать у человека документы?
— Почему не по-человечески? А разве по-человечески — напиваться и валяться по помойкам со служебными удостоверениями, которые могли достаться врагам? Вспомни, что стало бы с нами, окажись мы такими же разгильдяями!
— Ну сейчас же не война… И, возможно, тот Козлов пьёт не по доброй воли — ещё не известно, что за жизнь у сегодняшних людей.
— Война — не война, а документы надо беречь. Кстати, паспорт его я ему оставил, так что не считай меня фашистом. Между прочим, прими к сведению, в нашем новом государстве на паспорте — двуглавый орёл, только не прежний, царский, а какой-то недоделанный… Но главное — если я подстригусь, то вполне смогу сойти за Козлова — взгляни-ка на фото!
Алексей взял в руки корочку и внимательно рассмотрел её.
— Лицо у этого Козлова вообще какое-то очень общее. Ни выражения, ни примет. Я тоже, если что, смогу себя за него выдать… Только всё это — детали. Нам-то что делать? Не вечно же в этой конуре сидеть, пока нас в милицию не сдадут?
Здравый ответил не сразу. Он встал, прошёлся несколько раз по помещению и с минуту молча стоял у мутного окна, утопив кулаки в оттянутых вниз карманах старого фронтового ватника. Потом развернулся лицом к Алексею и произнёс негромко и решительно:
— Мы добудем себе права и будущее. Как сами вышли из-под земли, так из-под земли всё себе и добудем. С кровью вырвем, если что. С оружием в руках. У нас с тобой, Алексей, есть на это самое полное право. Согласен?
— Да, я рассуждал в том же направлении… Выбора у нас нет, если не сможем — загремим в психтрест или будем побираться на помойках. Надо только понять, кем мы должны стать в этом новом мире. Вот я, например, в историки и дипломаты вряд ли теперь сгожусь, как и ты со своей спецлабораторией — кому ты будешь нужен? Всё в жизни ушло слишком далеко, мы просто не сможем его догнать. Ты-то кем сам себя видишь?
— Князем удельным, Алексей, князем удельным себя вижу. А ты — становись царем московским и всея Руси!
— Шутишь?
— А с чего ты решил, что шучу? У человека, если он живёт, должны быть большие цели. До войны мы с тобой что-то строили, поднимали мировую революцию. Я, кстати, мировую революцию всегда понимал не как штурм Зимнего одновременно на всех континентах, а как вселенского масштаба переворот, который принесёт людям новую осмысленную жизнь. Когда человеку не придётся горбится у станка или за конторкой, когда работу за него будет делать машина, а он — станет творцом и владыкой мира. И я думаю, что все из нас тогда что-то подобное впереди себя видели и ощущали. А иначе — кто бы пошёл на такие жертвы, терпел бы, мучился, ждал?
— Всё правильно говоришь, только вот где она — эта новая жизнь? Если страна вернулась в капитализм, вернулась в строй, исторически предшествующий даже нашему с тобой несовершенному социализму — то, стало быть, с новым миром неудача вышла? И если переход в новый мир сорвался даже в нашей стране, которая для него сделала больше всех остальных вместе взятых, то, скорее всего, он не состоялся и в других странах… Ведь могла же быть ошибка в теории Маркса, о которой писали не только белоэмигранты, но и именитые европейские учёные — я же сам в закрытом фонде их читал… Или, скажем, машины, которые должны были сделать человека свободным, не удалось построить. Тогда возврат к эксплуатации становится понятным. И Советский Союз распался, поскольку не стало общей идеи, а эксплуатировать и наживаться можно и поодиночке. Всё это так. Но ведь если нет и уже не будет новой жизни — кому и зачем мы здесь нужны?
— Себе вот и нужны. Ты, Алексей, прости меня, но ты явно с чтением Энгельса перестарался, который всё буквально хотел обобществить, и теперь не находишь себя вне общества. В то время как товарищ Ленин учил смотреть на вещи диалектически. С тем, с прежним нашим обществом, мы были вместе и заедино. Поменялась историческая эпоха, общество стало другим — что ж, будем же и мы теперь от него отдельно! Но при этом останемся собой, Алексей, собой останемся, сохраним наши мысли, наши мечты, нашу энергию — вот что главное! А уж как сохраним — то следующий вопрос. Сейчас главная наша задача — выжить. И выжить не в этой вонючей дыре, а в нашей с тобой обожаемой столице! Ты когда последний раз обедал в «Метрополе»?
— Я в «Националь» обычно ходил по случаю стипендии. В кафетерий при ресторане. И не обедать, а так… кофейку попить. Курить ещё там было приятно — в мягком кресле и с видом на Кремль. Глядишь — кого из артистов или писателей за тем же занятием встретишь.
— Всё ясно. А вот я, не поверишь, в оба места ни разу не заглядывал. На зарплату вроде бы не жаловался, да и премии постоянно шли — а вот времени не хватало! Работали мы не за страх, а за совесть, бывало, ночевали на работе, чтоб очередной радиопередатчик для нелегала в Испанию или Германию изготовить в срок. Или фугасное устройство, встроенное в золотые царские часы фирмы «Павел Буре». Выставишь время определённым образом, повернёшь заводную голову — и пошёл взрыватель секунды считать. Может слышал — такой вот игрушкой наш шеф в своё время собственноручно прикончил Коновальца.
— Главу украинских националистов?
— Да, того самого. В Роттердаме… Но с той истории наши спецсредства стали во много раз точней и совершенней. Именно поэтому я ни разу не смог пообедать в «Метрополе». А теперь — должен. И ты — тоже должен. Мы с тобой не только «Метрополя», но и многое ещё чего заслужили.
— Петрович, я твои заслуги знаю. Но заслуги лично мои — они ведь пока что минимальны, я же толком-то даже и не успел поработать. И на войне, ты тоже знаешь — в вечном резерве, ни одного дела. Да и война-то основная, как сейчас выясняется, была уже после того, как мы с тобой пропали. Так что ты уж не обижайся, но лично мне кажется, что пока нам рано говорить о каких-то особых правах.
— Нет, Алексей, не рано. И не строй из себя идейного комсомольца, мы ж не на митинге. Ведь если мы с тобой, мечтавшие о новой прекрасной жизни и не щадившие для того, чтобы она наступила, ни себя и ни остальных… собиравшиеся горы двигать и континенты… если мы с тобой — последние из поколения, на которое когда-то со страхом или надеждой взирал целый мир, вдруг сегодня скромно промолчим, со всем, что видим вокруг, согласимся, растворимся без следа в этом гигантском городе, в этой непонятной стране с орлами и красными знамёнами на плакатах, если сделаемся незаметными винтиками — то кто же мы тогда?
— Ты хочешь сказать — тогда мы мещане?
— Вот именно. А я лучше удавлюсь, чем сделаюсь мещанином. И ты, Алексей, я знаю, хоть человек культурный и благоустроенный, но в душе — такой же. Или как?
— Такой же, Петрович. Ты прав, нам надо куда-то выбиваться, иначе — сдадут в паноптикум. Только вот как выбиваться?
— Как? А вот это уже другой разговор. Для начала нам не помешало бы переехать отсюда в более приличное место. Потом — нужны деньги, ведь мы же теперь — при капитализме, так? Про документы я не говорю, это даже не вопрос, с их поиска всё и начнём. А дальше — будем осваивать и использовать наши существенные преимущества.
— Какие именно?
— Первое и важнейшее — за нами нет никаких следов. Ни бумаг, ни отпечатков пальцев. Второе — мы можем знать нечто, что сегодня не знает никто. И так далее.
— Хм, с твоим первым преимуществом — в грабители, что ли, подаваться? Что там возможно ещё — дипломатия, разведка, финансы?
— А разве этого мало?
— Нам, двоим голодным, хватит. Но во всех этих сферах придётся служить — а кому служить? Служить власти? Народу? Но мы не знаем пока ни тех и ни других.
— Узнаем, я надеюсь.
— А как будем узнавать?
— Ты прав, — помолчав, ответил Здравый. — Это и есть самое сложное. Но безвыходных ситуаций не бывает, и это нам тоже хорошо известно. Только прежде чем мы всем этим займёмся, прежде чем начнём сказку делать былью, попробуем воспользоваться положенным нам по праву.
— Ты о чём?
— Да вот, мысль одна занятная появилась. Смотри: в ноябре сорок первого, когда эвакуировали Москву, был приказ о создании трёх независимых разведывательно-диверсионных сетей. Я входил в группу, которая для одной из них обеспечивала закладку тайников — наверное, догадываешься, с чем. Даже вблизи дачи Сталина копали. Я участвовал в семи или восьми закладках. Одну из них, очень серьёзную, мы оставили в лесу на верхнем бьефе Рублёвской водокачки, на территории нового совнаркомовского санатория — Москву ведь и наши, и немцы могли, в случае чего, затопить, поэтому место выбирали повыше, куда вода точно не дойдёт. Так вот, эта закладка, я уверен, должна оставаться невскрытой — санаторий при мне эвакуировали, а местных туда на выстрел не подпускали. И поэтому, думаю, нам с тобой предстоит её извлечь.
— Там оружие?
— Не только. Документы, довольно много денег, рация, кое-какая одежда… Для начала хватит.
— Документы печатями сорок первого года, я думаю, сразу отнесём в музей. Да и деньги вместе с ними. Там же должны быть рейхсмарки, кому они теперь нужны?
— Недооцениваешь ты своих коллег! Кроме рейхсмарок, были суммы в британских фунтах и североамериканских долларах. А на случай, если и те не сработают, — немного золотых червонцев из Гохрана.
— Червонцы — это другое дело, — согласился Алексей. — С ними всегда можно стартовать. Но где гарантия, что тайник до сих пор нас дожидается?
Петрович провёл рукой по лбу, разглаживая волосы, и приглушённым голосом ответил:
— Гарантия, Лёша, в том, что мой напарник по закладке в тот же день героически погиб. А я, как видишь — остался.
— Что же произошло?
— Хорошо, рассказываю. Закладывали мы тайник ночью для лучшей конспирации. Аккуратно сняли снег, потом немецкой мотопилой резали мёрзлый дёрн на кирпичи, чтобы затем так же уложить, и по весне не было бы следов. Даже лишнюю землю — в мешки, и с собой. Тайник был одним из последних, предназначался на случай длительного оставления столицы и должен был ждать до тепла… Когда цепь мотопилы затупилась и больше не могла резать землю, долбили грунт ломом и топорами. Заложили цинковый контейнер, вернули всё в божеский вид. С рассветом возвращаемся в штаб нашей дивизии на стадионе «Динамо» — и вдруг замкомандира батальона видит Фёдора и отправляет его вместо себя командовать группой бойцов, отбывающих в Дмитров на усиление бронепоезда НКВД. Никто не предполагал, что в тот день по Яхромскому мосту через канал прорвётся колонна фашистских танков. А у нас, как ты знаешь, с конца ноября кругом подготовка к контрнаступлению, прикрытия нет, свежая ударная армия застряла где-то на марше, и этому бронепоезду, который по случаю там оказался, приходится в одиночку вступать в бой. Из радиоперехвата потом узнали, что из-за плотности огня немцы приняли тот бронепоезд за артиллерийский полк и, потеряв более двадцати танков, больше за канал не совались. Да и наши позднее к мосту пробрались и взорвали его ко всем чертям. А иначе бы — взяли немцы Дмитров, как пить дать, через день тогда они в Загорске, ещё через сутки — обошли бы Москву с востока, и тогда хана всему нашему контрнаступлению под столицей! Ну а Федя — Федя из того боя уже не вернулся, и отчёта о закладке тайника написать не сумел. Так-то вот, товарищ лейтенант. Я тоже бумаг не оставил, поскольку в случае сдачи Москвы должен был перейти на нелегальное положение и организовать диверсионную группу. Тайник был моим, и я предпочёл до поры никому о нем не сообщать. Поэтому думаю, что он до сих пор меня дожидается.
За грязным и мутным оконцем начинало темнеть и стал накрапывать мелкий холодный дождь. В будке сразу похолодало, Петровичу ещё раз пришлось сходить за водой, чтобы периодически нагревая её до состояния кипятка, можно было обеспечить некое подобие калорифера. Новые планы с неизбежностью оборачивались новыми проблемами, которые было непонятно, как решать. Как добраться в Рублёво? Как найти место тайника, если за семьдесят лет всё могло поменяться до неузнаваемости? Как, не привлекая лишнего внимания, извлечь и вывезти контейнер? И как, в конце концов, воспользоваться его содержимым и для начала обменять на современные рубли эффективную валюту или червонцы? Исправно ли оружие, да и что с ним делать — не грабить же с его помощью магазины и сберкассы!
Ответ на все эти вопросы мог принести только завтрашний день, и лучшим завершением дня сегодняшнего могли бы стать несколько часов отдыха с чтением журналов и газет — однако, к несчастью, у Алексея начала сильно болеть и гноиться ножевая рана, нанесённая во время поединка у киоска, и Петрович, не обращая внимания на уговоры остаться, засобирался «в город». Он сообщил, что намерен сразу же за прудом выйти на городскую дорогу, которая представлялась более спокойной, чем оживлённые улицы в районе станции, и, следуя по ней, попытаться добраться до «настоящей Москвы».
В «настоящей Москве» он планировал найти дежурную аптеку, купить йода и бинтов, а также постараться купить или каким-либо иным образом раздобыть две пары ботинок, куртку или пальто. В этом случае разведчики из сорок второго выглядели бы вполне современно новейшему времени и могли перейти к более активным действиям. При этом вопрос с обувью надлежало решить одним из первых, поскольку допотопные сапоги, на подошвах которых была выбита цифра «1940», оставались наиболее слабым звеном в экипировке обоих.
Алексей попытался было склонить Петровича совершить вылазку на следующий день и вдвоём, однако усилившаяся боль в бедре и возможность под покровом ночи скрыть свой пока что необычный вид не оставляли вариантов: когда в районе восьми часов стало достаточно темно, Здравый оделся в синюю куртку охранника и отправился в путь.
* * *
Оказавшись в одиночестве, Алексей некоторое время продолжал чтение, но затем неожиданно свернул очередную газету и грубо сдвинул ворох прессы в подальше сторону. В висках застучала кровь, а глаза стали неожиданно наполняться влагой, из-за которой тусклый свет лампы начал дрожать и походить на пламя свечи, задуваемой ветром. Видимо, накопившиеся за минувшие двое суток чувства, сомнения и надежды, воспользовавшись минутой одиночества, вдруг все разом пришли в движение и до острой боли, властно и неотвратимо, заставляли сердце переживать.
В этот момент Алексей впервые с отчётливой достоверностью увидел иррациональную реальность творящегося вокруг. Реальность — оттого что абсолютно реален этот новый, пусть пока непривычный, но уже во многом им понимаемый современный мир, раскинувшийся за маленьким чёрным окном. Иррациональную — поскольку весь его мир прежний начинал стремительно рассыпаться. Не погружаться во мрак небытия, а именно рассыпаться, оставаясь лежать на поле прошлого глыбами и осколками образов, мыслей и представлений, когда-то важных, живых и полноводных, а теперь лишённых смысла и на глазах теряющих былую полноту и телесную плотность.
Почему-то среди этих осколков не было знакомых человеческих лиц — ни отца с матерью, ни фиалкоокой Елены, ни друзей, ни товарищей по разведшколе — совершенно никого. Точно все они бесшумно вышли вон из огромного гулкого зала, не прикасаясь к дверям, всегда обозначающим место ухода как место возможного вновь появления, — просто ушли и сгинули без следа. Понимая, что всего этого сонма близких и знакомых людей уже давно нет на Земле, он в какой-то момент также осознал и то, что рядом с ним нет теперь и той неведомой, незримой, но осязаемой в мыслях, переживаниях и тревогах субстанции, которую называют душой минувшего. Души его современников, как и их тела, покинули мир, не оставив никаких чувственных свидетельств. Точно так же и ушедшая реальность не сделалось душой минувшего времени, которое в тех или иных проявлениях ещё иногда способно кого-то изредка волновать и воодушевлять, — она исчезла, растворилось в пустоте, распалась на атомы и призрачные знаки.
Всё его довоенное прошлое вдруг оказалась ненужным и мёртвым. Исчезло, пропало ощущение грядущей жизни, которое наполняло Алексея в прежние годы. Детали быта, занятия и мысли, образы старой Москвы, жгучее предвкушение перемен, особенно ставшее заметным с середины сорокового года, когда неожиданно быстро начали решаться многие жизненные проблемы, когда из-за границы вернулись тысячи образованных и интереснейших людей, с некоторыми из которых он имел удовольствие общаться, когда женщины в столице стали одеваться по-парижски красиво, рестораны и парки наполнялись чарующими остинантами модных танго, а курорты в Юрмале и Ялте вновь приобрели волнующую шикарность, когда «Интернациональная литература», выходившая в Москве сразу на четырёх языках, практически без задержки переводила и перепечатывала западных писателей и философов, а научной монографии, над которой он работал, не покладая рук, все хором сулили признание и успех, — так вот, всё это пространство предстоящей счастливой жизни, которое столь воодушевляло Алексея в предвоенные годы и заполняло черновой набросок его будущего яркими, сочными и живыми мазками, — вдруг в один миг померкло, увяло и сделалось безжизненной выжженной пустыней.
Он отчего-то вспомнил июльский вечер, когда в странном оцепенении прощался с Еленой, необычайную, придавленную тишину прежде бойкого и оживлённого Зарядья, солнечный луч, ударивший по глади Москвы-реки, безлюдную набережную с нелепыми и неуместными электрическими опорами на консолях, трамвай, раскачивающийся на стрелке Астаховского моста… Странное дело — именно этот единственный вечер, не похожий ни на какой другой, вечер дня, когда он, словно потерявшийся и смущённый ребёнок вдруг понял, что больше не сможет управлять обстоятельствами своей жизни и потому с щемящей тоской по отложенным надеждам и делам покорно распахнул грудь навстречу неумолимым переменам, — этот июльский вечер отныне становился его единственной реальностью. Но реальность эта была горька и мучительна. Из груди Алексея вырвался сдавленный стон, а из глаз неудержимо покатились слёзы — да, да, всё именно так, на мёртвом, выжженном поле он нашёл-таки уцелевшую живую лозу, но её плоды оказались отравленными ядом единственного подлинного воспоминания. Единственного воспоминания, в котором не было придуманности и фальши.
Он внезапно услышал, как начало неистово колотиться сердце, видимо, не согласное с такими выводами, и одновременно почувствовал, что отчего-то не может сделать вдох, чтобы напитать его кислородом.
«Вот сейчас я умру, — подумал Алексей, — умру, и будет покой, мой прах покроет родные мне развалины, и всё остановится. Я продолжу жить внутри этого покоя, в мире с собой и со всей этой непонятной, саморазрушающейся реальностью. Если есть вечная память, которую поют умершим, то должен быть и вечный покой — возможно, он ничуть не плох. Кто же о нём мог писать? Лермонтов? Нет, Лермонтов желал, «чтоб в груди дремали жизни силы», как у погребённого под толщей земли титана, а я, похоже, хочу покоя. Именно и только одного покоя…»
Вскоре дыхание восстановилось, но тотчас же всё тело накрыл сильнейший озноб. «Сейчас будет жар… Путь к покою, видно, ещё не завершён, сколько же ещё предстоит пройти? Час, день, месяц? Зачем, зачем меня выбросило в этот чужой и безразличный ко мне мир, что я ещё должен сделать в нём, для чего?»
Не имея возможности ответить ни на один из этих вопросов, Алексей поднялся, выпил кружку тёплой прокипяченной воды, накрыл, не выключая, лампу старым ведром, чтобы её свет освещал лишь кусок пола с импровизированной койкой и не мог быть заметен с улицы через окно. Затем он укутал себя второй фуфайкой, оставленной Петровичем, просунул мёрзнущие ладони под спину, где их было проще согреть, и через несколько секунд забылся неровным, но неумолимым сном.
* * *
Где-то в это же самое время Петрович стремительно удалялся из тёмного Очакова в направлении залитой ярким электрическим светом центральной части Москвы, зажатый между двумя полицейскими на заднем сидении их просторного иностранного автомобиля.
Он был остановлен и задержан патрульным экипажем, не успев пройти и трёхсот метров по пустынному окраинному проезду, и данное происшествие, надо признаться, не прибавляло оптимизма и грозило обрушить все намеченные планы.
В ответ на требование предъявить документы Петрович протянул патрулю удостоверение охранника Козлова. Удостоверение вопросов не вызвало, однако на следующую просьбу показать паспорт ему пришлось отвечать, что паспорт оставлен на дежурстве. Видимо, ответ этот был произнесён не вполне уверенно и смутил патрульных: ему велели проехать в отделение. В довершение всего внимание полицейских привлёк внешний вид Петровича: было заметно, как вытаращил глаза капитан, когда разглядел под элегантной и почти новенькой охранной курткой его потёртые, с подвёрнутым рваным голенищем, допотопные кирзовые сапоги!
В машине Петровича вопросами не терзали: вместо этого один из офицеров, державший в руках удостоверение охранника, с кем-то связался по рации и попросил «пробить ксиву», продиктовав фамилию, серию и номер. Автомобиль энергично нёсся вперёд, вырвавшись на широкую и достаточно свободную в вечерний час дорогу и оставляя позади непривычного вида дома и яркие стойки с рекламой. Следуя профессиональной привычке, Петрович демонстрировал глубочайшее равнодушие ко всему происходящему, однако в то же время цепко запоминал все приметы и повороты на случай самостоятельного возвращения назад. Он также успел оценить силы своих противников и уже вполне понимал, какими именно ударами следует нейтрализовать двоих, сидевших с ним рядом, после чего, слегка придушив водителя, добиться от того остановки автомобиля, чтобы затем — бежать. Поскольку на дороге, оказавшейся Аминьевским шоссе, освещённые участки чередовались с чёрными провалами пустырей и закрытых территорий, он в полной мере приготовился к дерзкой атаке и, вглядываясь вдаль через лобовое стекло, уже подбирал подходящее место и удобный момент.
Внезапно затрещала рация, и из трубки радиотелефона раздалось сквозь помехи: «Десятый? С Козловым порядок, фирма наша. А ещё знаешь новость, десятый? Задержанная твоим нарядом наркоманка оказалась дочкой министра, в отделение уже вызвали генерала, лучше туда не суйся».
Услыхав последние слова, полицейский за рулём присвистнул и резко затормозил. Все трое переглянулись, после чего один из них протянул Петровичу удостоверение охранника Козлова и вполне дружелюбно спросил: «Может, подбросить куда? Далеко живёшь?»
Петрович не знал, где он живёт, и поэтому, поблагодарив полицейского, вежливо отказался, попросив высадить его у ближайшей остановки или станции метро. Однако капитан, запомнивший его кирзовые сапоги, решительно запротестовал: «Куда ж он в таком виде — до первого патруля? Поехали, подвезём домой. Где живешь всё-таки?»
Врать было нельзя, и Здравый признался, что проживает на Остоженке. Именно там, в одном из переулков, в изолированной комнате перенаселённой коммунальной квартиры, он был законно прописан с декабря 1934 года.
Реакция полицейских на эти слова неприятно изумила Петровича, поскольку кто-то в ответ рассмеялся, а другой пробубнил непонятное про «квартал миллионеров». Тем не менее полицейская машина набрала ход, и уже на огромной скорости, оставляя по левую руку сияющую в свете прожекторов потрясающую громадину небоскрёба с различимой золотой звездой на верхушке шпиля, влетала на широкий и высокий мост, с которого открывался поразительной красоты вид на ночной город. После моста удивил до неузнаваемости переделанный Хамовнический плац, сразу же за которым взгляд оказался прикованным молниеносно распахнувшимся ностальгическим видом Москва-реки с изящными острыми пилонами Крымского моста. Спустя уже минуту машина притормаживала на Остоженке.
— У кого служишь, Козлов? Где высадить?
На душе у Петровича полегчало. Он уже понял, что простые граждане в центре Москвы теперь не проживают, и перспектива продолжить играть столь пригодившуюся роль охранника его вполне устраивала. Он попросил притормозить между Померанцевым и Мансуровским переулками, ещё раз сердечно поблагодарил полицейских и тотчас же скрылся за ближайшим поворотом.
«Ну, друг Козлов, спасибо тебе! — наконец-то спокойно выдохнув, произнёс про себя Петрович, воздавая пусть запоздалую, но искреннюю благодарность пьяному сторожу за изъятые у него утром документы. — Куда бы теперь… ведь я ничего здесь не узнаю!»
Действительно, и сама бывшая Метростроевская улица, и её переулки, и здания изменились до неузнаваемости. Когда-то сплошь серые и похожие друг на друга коробки домов радикально поменяли свой облик, фасады заиграли нарочитой индивидуальностью, приобрели глянцевость и пышность. Из-за моросящего дождя асфальт и стёкла ярко блестели. Проезжая часть и стены зданий были эффектно освещены, тротуары выложены гранитной брусчаткой, которую местами подпирали колеса припаркованных дорогих автомобилей, а откуда-то сверху расточался непередаваемый пьянящий аромат дорогой и изысканной кухни.
Остерегаясь новых приключений, Здравый решил не выходить на оживлённую Остоженку и медленной походкой двинулся вдоль переулка, опустив руки в карманы и с интересом разглядывая фасады с многочисленными эркерами и балконами, великолепные оконные рамы, кованные решетки, светильники из венецианского стекла и немногочисленные освещённые окна, в основном наглухо задрапированные разноцветными шторами и портьерами. Возле одного из домов он на несколько мгновений остановился, не без удивления рассматривая необычного каменного купидона над подъездной аркой. Переулок с начала и до конца был безлюден, опасности не предвиделось и он, расслабившись, даже не заметил, как позади отворилась дверь и чья-то рука, ухватив его за рукав куртки, с силой потащила вовнутрь:
— Петрович, Петрович! Ну что ж ты стоишь, скорее, времени же нет!
Он очутился в тёплой и ярко освещённой прихожей и окончательно пришел в себя лишь тогда, когда за спиной негромко клацнул замок тяжеленной двери, отделанной дубом. К своему изумлению он увидел, что затащила его сюда женщина лет сорока в белоснежном атласном платье с оборками и не по возрасту кокетливыми фонариками на коротких рукавах, в синем переднике и белом чепце. У дамы было строгое точёное лицо, она носила округлые очки в довольно толстой оправе, а её густые тёмно-русые волосы были тщательно прибраны посредством многочисленных шпилек.
Здравый едва ли не в первый раз за эти два дня по-настоящему растерялся и, наверное, смотрелся в этот момент беспомощно и даже жалко. Правда, он сразу же понял, что женщина плохо видит даже через сильные очки — видимо, по этой причине она обозналась.
— Петрович! — властно произнесла она, стараясь смотреть прямо ему в лицо. — Где ты полчаса шлялся? Я просила быть на месте ровно в девять, а сколько сейчас? Владлена Марковна звонила, они только что приземлились в Шереметьево, но ещё будут заезжать в к Мариночке в Леонтьевский. Я всё прибрала, но сейчас должна уйти в комнату к себе, прошу меня не дёргать! В третьей уборной течёт унитаз, срочно почини! В гардеробной надо закрепить вешалку, ты её сразу увидишь, как зайдешь. Давай, чего стоишь, до полуночи надо всё привести в порядок!
Здравому, по отчеству оказавшемуся тёзкой какого-то другого то ли слесаря, то ли охранника, ничего не оставалось, как согласиться сыграть чужую роль. Конечно, он понимал, что рискует оказаться разоблачённым в чужой и, по-видимому, очень богатой квартире, полной прислуги, и иметь в связи с этим либо очередное удовольствие от общения с полицией, либо ещё одну проверку ловкости и быстроты ног. С другой стороны, имелся и безусловный плюс: здесь можно было без ущерба для хозяев разжиться кое-какой верхней одеждой и обувью — намётанный глаз разведчика сразу же приметил в дальнем углу обширной прихожей не меньше дюжины различных курток и пальто, вывешенных на длиннейшей штанге. Поэтому, не колеблясь, Петрович извиняющимся голосом спросил:
— Да, всё ясно, а где унитаз течёт?
— Да я ж сказала — в третьей уборной! — одновременно и властно, и немного обиженно ответила дама, и машинально провела рукой в направлении парадной анфилады. Поскольку ясности это не прибавило, Петрович опустил глаза и двинулся следом за дамой, являвшейся, как он теперь понимал, старшей горничной этого дома. Если бы уборная находилась в другом месте, его незнание было бы немедленно обнаружено со всеми вытекающими последствиями, но, к счастью, всё обошлось. За одной из дверей он услышал, как громко сипит подтекающая вода, толкнул дверь за золочёную витую ручку и сразу же оказался в нужном помещении. Горничная, прошедшая чуть вперёд, вернулась, ещё раз, близоруко прищуриваясь, осмотрела место предстоящего ремонта и сказала, что отнесла ящик с инструментом в гардеробную, куда ему потом предстоит отправиться для ремонта вешалки. Она хотела, по-видимому, сообщить или приказать что-то ещё или, возможно, отругать за то, что он прошёл в интимные покои не разувшись, — однако внезапно из соседней комнаты раздался ласковый мужской голос: «Лисёнок! Лисёнок, где же ты? Ну давай же, давай же сюда, Лисёнок! Скорее!»
Краем глаза через приоткрытую дверь Петрович на мгновение увидел чей-то обнажённый торс с накинутым на плечо огромным полотенцем канареечного цвета, быстро скрывшийся за ширмой. Горничная немедленно развернулась на своих изящных туфельках с крошечным каблучком и поспешила в соседнюю комнату, плотно затворив за собою дверь и клацнув защёлкой.
Петрович осмотрелся. Он находился один в великолепном мраморном помещении, в котором располагался внушительных размеров бассейн с нежно-голубой постоянно тёплой водой, за ним в отдалении виднелась вынесенная на постамент ванна удручающе вычурной формы на высоких гнутых ножках, в деревянных кадках росли несколько пальм и совсем рядом со входом сипел, пуская прерывистые струи воды, злополучный унитаз. Приподняв крышку со сливного бачка, Петрович быстро разобрался в конструкции и обнаружил причину течи. Взяв со столика возле умывальника баночку нежно-розовой мази, пахнущей дорогими духами, он нанёс несколько мазков на резиновую грушу запорного устройства. Течь прекратилась.
Петрович вздохнул и вышел обратно в коридор с целью разыскать гардеробную. Позаглядывав в несколько комнат, которые в ещё большей степени поражали своими размерами и небрежной роскошью, он вернулся в прихожую, где обнаружил малозаметную дверь, за которой простирался длинный тёмный коридор. Когда он зажёг свет, то оказалось, что коридор есть ни что иное, как искомая гардеробная комната, с обеих сторон которой за стеклянными дверями шкафов-купе висели бесчисленные пиджаки, сорочки, женские платья, пальто, шубы и спортивные костюмы. В открытых шкафах лежали заботливо сложенные брюки и свитера, на высоких полках в коробках и без оных красовались женские шляпки, а внизу длинными рядами выстроилась превосходная обувь. Одна из штанг действительно была сломана, и снятые с неё предметы одежды были аккуратно разложены на специально принесённых сюда стульях. С противоположного конца комнаты-коридора имелась дверь, рядом к которой была заметна красная кнопка с надписью «For Exit». Нажав на кнопку и приоткрыв дверь, Петрович не без удивления обнаружил, что она ведёт во внутренний двор.
Для починки крепления штанги требовалось заменить два выскочивших из креплений шурупа. Петрович, очень довольный обнаруженной возможностью в любой момент покинуть квартиру через чёрный ход, с охотой решил выполнить и второе полученные им поручений — ведь в этом случае прихваченные им с собой вещи можно было рассматривать как вполне законное вознаграждение за труд. Для этого он начал искать ящик с инструментами, о котором сказала горничная, однако его внимание отвлекла внезапно раздавшаяся из парадной трель мелодичного звонка.
Не успел Петрович переместиться в парадную, как звонки прекратились, и вместо них послышались частые удары в дверь кулаком.
— Люська, открывай! Люська, открывай! — доносилось с улицы.
Петрович прильнул к дверному глазку и увидел грузного мужчину в надвинутой на глаза чёрной шерстяной шапочке. Одет он был точно в такую же, как и Петровича, синюю куртку охранника.
— Она отошла, — спокойно ответил Петрович через дверь. — Что случилось?
— Отошла? Она отошла? Что ты мне несёшь, я что, думаешь не знаю, где она? С хахалем своим рыжим заперлась, а меня по магазинам рассылает! Открывай же! Э-эй!.. А ты сам-то кто такой?
На последний вопрос Петрович предпочёл ничего не отвечать и, оценив критичность ситуации, удалился в гардеробную. С улицы, усиливаемые выведенным в прихожую динамиком громкой связи, продолжали нестись настойчивые требования открыть входную дверь, перемежаемые угрозой «рассказать обо всём Аркадию Борисовичу».
Петрович извлёк из купе объёмистую дорожную кожаную сумку коньячного цвета и проворно сложил в неё два костюма, два плаща, пару мужских туфель для себя и две — для Алексея, поскольку не знал точно размера его ноги, несколько сорочек и джемперов, галстуки, жаккардный шарф, клетчатую кепку и американского фасона шляпу. Он также бегло ощупал карманы остающихся пиджаков и обнаружил в нескольких из них бумажные деньги и документы. Все документы он оставил на месте, а вот деньги забрал, поскольку с учётом становящейся всё более очевидной дороговизны московской жизни привезённых им с провинциального рынка трёх тысяч рублей было явно недостаточно для пребывания в столице. В любом случае, твёрдо решил Петрович, ущерб, наносимый им этому дому, не идёт ни в какое сравнение ни с его богатством, ни с тем вероятным ущербом, который наносит или когда-нибудь нанесёт легкомысленная старшая горничная, не чурающаяся в отсутствии хозяев приводить сюда посторонних. К тому же, как-никак, он отремонтировал в этих стенах вышедшее из строя незаменимейшее из сантехнических устройств.
Застёгивая туго набитую сумку, он услышал, как по гулкой анфиладе на усиливающиеся крики и стук настоящего охранника — правда, скорее всего, не вполне трезвого, — спешит в прихожую озадаченная горничная. Тогда он погасил в гардеробной свет и, освещая путь зажжённой спичкой, бесшумно проскользнул к двери с красной кнопкой «For Exit».
Через пару минут, выбравшись на параллельный переулок и совершив ещё ряд манёвров, необходимых для сокрытия следов своего пребывания, Петрович отыскал укромное и надёжно прикрытое от посторонних взоров место. Там он расстегнул сумку, извлёк из неё туфли, потом — снял свою старую, истлевшую местами до ниток рубаху и заменил её на свежую накрахмаленную сорочку, надел новые брюки с ремнём из мягкой и нежной кожи, затем — пиджак, плащ и кепку. Свою старую одежду и рваные сапоги он завязал в узел, но вместо того, чтобы выбросить в стоящий неподалёку мусорный куб, спрятал в дорожной сумке.
Пройдясь по бывшей Кропоткинский улице, преображённый Петрович, словно нарядный состоятельный москвич, собравшийся на ночь глядя в поездку, перекурил на углу Зубовской площади и двинулся далее по Смоленскому бульвару. Обнаружив по пути дежурную аптеку, он попросил флакон йода, бинт и стрептоцидную мазь. Молодая провизорша предложила приобрести также неизвестную Петровичу мазь из современной номенклатуры, на что он с лёгкостью согласился. Дойдя затем до Смоленской площади и постояв в сени невероятной высоты здания с вывеской Министерства иностранных дел, изумившись переменами, произошедшими с Арбатом и осмотрев ярко освещённые витрины нескольких магазинов, он затем поймал такси и велел везти его в Очаково. Заранее расплатившись за поездку, он приказал изумлённому шофёру высадить его на глухом тёмном пустыре Очаковского шоссе, хлопнул дверью и тотчас же исчез в ночном мраке.
Спустя пятнадцать минут Петрович уже был в знакомой железнодорожной будке, где, первым делом подогрел «индукционным кипятильником» запас воды, потом развесил перед постелью Алексея его новую одежду, разбудил своего товарища и помог обработать загноившуюся рану. Проспав несколько часов крепчайшим сном, Алексей забыл про свои невесёлые мысли и искренне обрадовался возможности переодеться. Какое-то время друзья ещё разговаривали на отвлечённые темы, потом Алексея вновь потянуло в сон, а Петрович, готовый прободрствовать ещё некоторое время, решил заняться самостоятельным чтением журналов и газет новейшего века.
Наутро, около восьми часов, их разбудил гудок тепловоза лязг двух вагонов, которые локомотив куда-то тащил по «их» ветке. Начало понедельника сразу же огласилось заводским грохотом, далёким уханьем дизеля и свистом пара. Облачившись в свою новую одежду и постояв у в коридоре у окна, выходившего на задворки промышленной зоны, в накинутом на плечи почти новом твидовом пиджаке, Алексей поздравил Петровича с началом трудовых будней.
— Итак, нацеливаемся на Рублёвскую водокачку? На тайник?
— А что нам ещё остаётся? — ответил Петрович. — Правда, деньжат у нас теперь чуть более — почти тридцать тысяч рублей и вот, посмотри, полторы тысячи каких-то новых денег — евро. Насколько я смог разузнать ночью по твоим газетам, это деньги некоей «объединенной Европы».
— Да, да, я тоже вчера встретил упоминание об этих новых деньгах. Так что про рейхсмарки из тайника можно забыть. Но, что бы там ни было, на первое время принесённого тобой нам хватит. Кстати, ты же их не у пьяных москвичей изъял?
— Что ты, Лёш! У того, в чьей квартире я побывал, эти бумажки были как карманная мелочь. А сама квартира — две или три наши коммуналки, объединённые в одну. Вместо ржавой ванны, полной тараканов, — бассейн с пальмами. Комнат столько, что горничная там с лёгкостью любовников прячет. Так что можешь поздравить меня с законной экспроприацией излишков.
— А что ты оправдываешься? Я же тебя нисколько не осуждаю. Я даже думаю теперь, что поскольку нашего прошлого отныне больше нет, причём нет не только для окружающих, но также и для нас самих, мы первое время должны руководствоваться очень простой и жёсткой моралью. Не трогать беспомощных, женщин, детей и стариков. И — всё на этом. А в остальном — в остальном нам пока что всё должно быть позволено. Пока мы не найдём своё место в этом новом мире и не научимся маскироваться под его законы.
— М-да… А ты не перегибаешь? А если в этом новом мире убивают и насилуют беспомощных — мы что тогда, тоже это примем?
— Нет. Я же не сказал, что мы законы этого мира непременно должны будем признать? И у меня есть чувство, что мы их и не признаем. Будем маскироваться, будем лишь делать вид, что их признаём. Ведь мы терпели несовершенства своего времени в надежде на то, что вскоре будет построен лучший мир. Теперь же оказалось, что мир построили совершенно другой, к счастью, без нас. Свой прежний мир мы уже никогда не восстановим, поэтому всё, что нам остаётся, — это быть честными и порядочными в отношениях между собой и с близкими нам людьми, а также — не творить зла в отношении беспомощных.
— Отлично, но то, что ты сейчас провозгласил, лейтенант — это и есть закон жизни при капитализме. Между собой мы все джентльмены, а дальше — трава не расти, наплевать!
— Не совсем. При капитализме продаётся и покупается абсолютно всё. Нет ни дружбы, ни любви. А я же утверждаю, что по крайней мере во взаимоотношениях между нами и близкими нам людьми должен продолжать действовать нравственный закон, иначе нам не удержаться. Ты же не против этого?
— Нисколько, — согласился Петрович. — Только для того, чтобы нравственный закон не зачах, нам не мешало бы отсюда поскорее выбраться. Но чтобы ехать за нашим скарбом в Рублёво, нужна карта. Как думаешь действовать?
— Я вчера заметил карты в витрине киоска. Значит — отправлюсь проведать своею знакомую!
Для вылазки на станцию Алексей надел уже не раз выручавшую их синюю куртку, взял с собой универсальное козловское удостоверение и немного денег. Выйдя на улицу и пройдя вдоль железнодорожной насыпи метров пятьдесят, он заметил слева небольшой, но высокий холм, с которого должен был хорошо просматриваться город. Надо сказать, что с утра понедельника погода стала улучшаться: облака поредели и поднялись вверх, периодически выглядывающее из-за них солнце начинало припекать, и в воздухе вновь распространялся будоражащий весенний дух. Весело разбежавшись, Алексей вскочил на верхушку земляного холма, откуда была видна вся окрестная территория, поделённая между многочисленными заводами и складами, а в отдалении, в туманной дымке, возвышались силуэты высотных зданий.
Как зачарованный, Алексей глядел на панораму столицы, и ещё совсем недавний холод, вынуждавший его в разговоре с Петровичем жёстко и решительно дистанцировать себя от окружающей новой реальности, быстро сменялся доброжелательным интересом. В конце концов, почему он должен иметь что-то против людей, так или иначе построивших этот нынешний мир, живущих всей полнотой его жизни, любящих, надеющихся, во что-то, возможно верящих и ждущих? Ведь мир, в котором строят такие красивейшие и замечательные дома, не может, должен быть непоправимо чудовищным! Стало быть, в нём удастся со временем отыскать и место для себя. Поэтому он не должен противиться тому, чтобы, без оглядки на прошлое, влиться в эту новую жизнь, стать её неразличимой, неотделимой частью…
— Любуетесь? Я тоже. Красивый, очень красивый город!
Алексей резко обернулся. С ним услужливо и отчасти подобострастно разговаривал худой невысокий человек с чернявым лицом и уставшими, но доброжелательными глазами.
— Да, любуюсь. А вы что хотели?
— Вы уж извините, — продолжил, склонив голову, незнакомец, — я тут со вчерашнего дня за вами слежу. Вы, наверное, от кого-то прячетесь?
— С чего ты это взял? — сурово ответил Алексей, сразу же перейдя на «ты».
— Да я же вижу! Я тоже прячусь. Нельзя мне возвращаться, убьют меня…
«Ну вот, — подумал Алексей, — и попался мне первый убогий и беспомощный. Придётся в соответствии с объявленным только что нравственным законом проявить к нему внимание и сочувствие!»
Разговорившись с незнакомцем, Алексей узнал, что тот — строительный рабочий родом из Таджикистана, бежавший от хозяина из-за какой-то нехорошей истории. Зовут его Фирик, но по отцу, которого он никогда не видел, он считает себя наполовину европейцем. Алексея со спутником он принял за беглых заключённых, скрывающихся в промышленной зоне от посторонних глаз, и теперь хочет попроситься в их компанию.
На вопрос Алексея о его дальнейших планах Фирик поведал, что возвращаться в Таджикистан не намерен и хотел бы уехать к своей невесте на западную Украину, в большое село под Дрогобычем. Алексей невольно поразился размаху человеческих связей, протянувшихся между бывшим польским воеводством, включенным в состав Советского Союза лишь накануне войны, и далёкой среднеазиатской республикой. Однако на вопрос, почему он не нашёл невесту в России, Фирик, немного путаясь в построении сложных фраз, ответил, что Россия, в его понимании, — богатая, но очень жестокая страна, а вот на Украине жизнь хоть бедная и более трудная, но люди там значительно добрее и душевней. Увлечённо и убедительно рассказывая о щедрой украинской земле, гостеприимстве и хлебосольстве, Фирик, как скоро выяснилось, ни разу там не бывал. В прошлом году, работая на каком-то рынке, он познакомился с девушкой из тех мест, также приехавшей в Москву на заработки, и с тех пор твёрдо решил перебраться на родину своей возлюбленной. А на новую стройку подался лишь потому, что намеревался заработать денег на переезд, однако теперь — оказался без документов и без денег.
Алексей дал понять своему новому знакомому, что с деньгами, возможно, он сумеет ему помочь, и осторожно — чтобы не выдать незнание реальностей сегодняшнего дня — поинтересовался, каким образом документы можно бы было восстановить. К своему изумлению он услышал от Фирика, что восстановить паспорт по закону нельзя, поскольку для этого нужно идти в посольство Таджикистана, где в очереди его обнаружат соглядатаи хозяина, после чего — обязательно похитят и убьют.
Алексей поймал себя на мысли, что в иной ситуации поразился бы категоричности ответа «убьют» и, наверное, попросил бы рассказать о причинах подобной уверенности. Однако из опыта своего короткого знакомства с реалиями новой страны он вполне понимал, что здесь сегодня возможно и не такое.
— Что же ты намерен делать? — спросил Алексей Фирика.
— Пока буду прятаться. А вот если бы авторитетные люди смогли выйти на хозяина и забрать у него мой паспорт — я очень, очень много для этих людей сделаю! Сделаю всё, что они захотят!
Поскольку помощник был нужен, Алексей дал понять, что принимает предложение Фирика и для начала предложил ему сходить вместо него на станцию за картой, поскольку рана в бедре, несмотря на улучшение, продолжала болеть и причинять неудобства.
— А зачем покупать карту? — оживился Фирик. — Смотрите!
Он достал из кармана небольшой пенал, похожий на уже знакомый Алексею радиотелефон, но с более широким блестящим экраном. После нескольких быстрых манипуляций на экране появились карта города, участки и объекты которой можно было с лёгкостью приближать и отдалять. Не выказав внешне ни малейшего удивления, Алексей принял удивительное устройство в свои руки и, поработав с ним, вскоре обнаружил на его экране знакомую излучину Москвы-реки, плотину Рублёвского гидроузла и выходящую выше него к реке обнесённую забором Архангельскую рощу — ту самую, в которой в ноябре 1941 года старший сержант госбезопасности Здравый вместе с погибшим в тот же день командиром заложили тайник.
— Я потерял очки и плохо вижу, — решил схитрить Алексей, пока что не умеющий управляться с подобной техникой. — Можешь узнать, что на этом месте сейчас?
Фирик проделал несколько манипуляций, после чего сообщил, что в бывшей Архангельской роще сегодня расположены правительственный дачный спецкооператив, при этом часть земли была прирезана совсем недавно для наделения участками неких высокопоставленных особ. Территория закрыта для свободного посещения и надёжно охраняется.
— Тогда пошли, — сказал Алексей. — Поговорим с авторитетным человеком.
Он забрал устройство с картой и велел Фирику подождать снаружи. Пять минут спустя Фирика позвали.
Посреди разбитой и захламлённой комнаты Петрович восседал, заложив ногу на ногу, на некоем подобии кресла, одетый в элегантный чёрный костюм, с тёмно-бордовым галстуком и в лакированных новых туфлях на толстой прошитой кожаной подошве. А окружающий жалкий антураж только подчеркивал его значительность и солидность.
Петрович ещё раз попросил таджика рассказать его историю. Потом сразу же перешёл к главному.
— Я готов помочь тебе, Фирик. Но для этого ты должен помочь нам. Нам необходимо забрать с этих закрытых дач, — и он ткнул пальцем в зелёное пятно Архангельской рощи на экране устройства, — кое-какие вещи, нам принадлежащие. Подумай, как ты мог бы нам помочь.
Фирик покряхтел и задумался.
Алексей, присевший за Петровичем на свою бывшую койку, предложил раздобыть лодку и под покровом ночи подобраться к закрытому берегу. На это предложение Петрович, эффектно играя роль «старшего», ответил, что для профессиональной охраны засечь проникновение с воды — плёвое дело. Необходимо оказаться на территории правительственных дач абсолютно легально, и при этом ни от кого там не таясь, провести раскопку и вывезти без досмотра достаточно тяжёлый контейнер. Если, конечно же, на этом месте за семьдесят лет не выкопали фундамент под очередную дачу и не сдали содержимое тайника «куда следует».
— А если через прислугу действовать? — предложил Алексей, вспомнив, видимо, рассказ Петровича о близорукой и любвеобильной горничной.
— Зачем через прислугу? — возразил Петрович. — Прислуга землю на берегу не копает. Но там, коль скоро кому-то недавно выделили очередные дачи, должны работать строители. Ну-ка, Фирик, помозгуй, как нам сделаться строителями?
— Не знаю, начальник, — робко ответил Фирик. — У меня друг работал на закрытой даче, туда, чтобы заехать, нужно через хозяина заказывать пропуск.
— Очень хорошо! — оживился Петрович. — А если хозяин заседает в правительстве, то кто вместо него пропуска выписывает? Управляющий? Прораб?
— Да, да! Мало ли, что на стройку надо завезти! Кирпич, доски, окна! Надо, чтобы кто-то, кто работает там, передал охране номер машины. И всё!
— И всё? Далеко не всё. Чтобы было всё, давай-ка искать, кто нам такую любезность сможет оказать. Нет ли у тебя никаких там знакомых?
— Да нет, откуда…
— Стоп! — вмешался в разговор Алексей. — Я читал, что по мнению математиков все люди на планете знакомы максимум через пять рукопожатий. А нам не надо искать знакомства с премьер-министром Великобритании, здесь круг должен быть уже. Давай-ка, Фирик, напрягись и подумай, кто из твоих знакомых мог бы знать другого, который там что-то строит или, если не строит, то знает третьего…
Фирик задумался, потом взял со стола своё устройство и стал с его помощью кому-то звонить. Он разговаривал на непонятном для собеседников языке и лишь по выражению его лица можно было судить о том, что поиски пока не приносят результатов. Наконец, он положил трубку и сообщил, что в дачном спецкооперативе «Архангельский» одно время трудился камнерезом некий дядя Сафар. Однако теперь дядя Сафар, по-видимому, действительно большой мастер, живёт и работает в Арабских Эмиратах. Позвонить ему не проблема, но для международного звонка нет денег.
— Сколько нужно денег для десятиминутного разговора? — спросил Фирика Здравый.
Фирик подумал и сказал, что может потребоваться от двух до трёх тысяч рублей.
Здравый отсчитал Фирику три тысячи и предложил приобрести на почте талон для международного разговора. Фирик с изумлением взглянул на Петровича и, приняв его несколько устаревшее предложение за шутку, засобирался на станцию. Алексей повертел в руках радиотелефон и попросил на время похода к станции оставить его у себя. Фирик удивился ещё больше, однако возражать не стал.
По возвращении со станции Фирик действительно сумел дозвониться в далёкое арабское государство дяде Сафару и достаточно долго и эмоционально излагал ему по-таджикски ситуацию. В самом конце разговора он нацарапал гвоздём на дощечке какой-то номер. Это был телефон озеленителя Абдуллы, который должен был работать в нужном месте.
— Будем звонить Абдулле? — спросил Фирик.
— Обязательно будем. Но ты скажи, дорогой человек, — что, в Москве и в самом деле не осталось русских строителей?
— Не осталось. Не хочет русский человек работать, не желает! Весь Таджикистан сейчас в Москве. Все стройки, рынки, магазины… А вы что — давно тут не были?
— Да, мы отсутствовали достаточно продолжительное время, — ответил Алексей. — Но это не важно. Давай-ка лучше подумаем, чем будем объяснять Абдулле необходимость нашего визита в дачный спецкооператив?
— Самое простое и понятное, — сказать, что нужно срочно забрать с дачи, на которой трудились, свои инструменты, а хозяина нет, — предложил Алексей. — Что думаешь?
— Это неважно, командир! — ответил Фирик. — Я не знаком с Абдуллой но знаю, что он не будет ничего спрашивать. Какая ему разница, какое ему дело до другого русского хозяина? Если Абдулла сможет выписать нам пропуск, то его нужно будет просто отблагодарить. Сможете?
— Сможем, — резко ответил Петрович. — Звони своему Абдулле!
Все замолчали, Фирик набрал номер и было слышно, как из трубки раздаются длинные гудки. Он набрал ещё раз — никто не отвечал. Лишь в конце третьей попытки что-то тенькнуло, и послышался хриплый немолодой голос на незнакомом языке.
Проговорив с несколько минут, Фирик положил трубку на подоконник и с довольным видом сообщил, что Абдулла заказал автомобиль с саженцами деревьев, на который уже выписан пропуск, что шофёр только что звонил ему и сообщил, что находится в пути, и что Абдулла не возражает, если Фирик со своими людьми договорятся с шофёром и прибудут в дачный спецкооператив для решения нужных проблем. В завершение Фирик озвучил просьбу Абдуллы о том, «чтобы было всё без криминала».
— Гарантировать не могу, но постараемся, — ответил Фирику Петрович. — И у тебя ведь ситуация непростая, и у нас, так что ты должен понимать.
— Я понимаю…
— Тогда звони шофёру! Пусть заезжает за нами куда-нибудь сюда.
Минут через сорок на радиотелефоне Фирика раздался ответный звонок от шофёра, который сообщал, что ждёт их напротив пруда на Очаковском шоссе.
Для проведения спецоперации в Архангельской роще были найдены и взяты с собой две лопаты, лом и несколько старых вёдер. Решили, что ещё не вполне выздоровевший Алексей облачится в цивильную одежду и будет играть роль распорядителя, а Петрович — вновь оденет телогрейку и сапоги.
Возле Невершинского пруда их поджидала аккуратная полуторка с поэтическим названием «Газель». Петрович и Алексей разместились в кабине вместе с водителем, а Фирик забрался в крытый кузов, в котором стояли саженцы и ящики с рассадой. Неожиданно Петрович потребовал, чтобы все вышли, и громко заявил: «Хозяин просил обязательно привезти сирень из Очаково. Здесь прошло его детство, поэтому быстро выкапываем вон тот куст!»
Пришлось выгружать лопаты, выкапывать и затаскивать в грузовичок пыльный двухметровый куст сирени с набухшими тёмно-фиолетовыми гроздьями, росший неподалёку.
Въезд в дачный спецкооператив оказался, как и предполагалось, делом непростым. На одном КПП номера машины в записях не оказалось, и пришлось искать вторую проходную. Затем, миновав искомый пост охраны с двумя хмурыми автоматчиками, пришлось достаточно долго помогать в разгрузке посадочного материала, заказанного Абдуллой. И лишь когда Абдулла, сверив доставленный ему груз с накладными и спрятав в карман сунутые ему Алексеем три тысячи рублей удалился по своим делам, Петрович смог отправиться на поиск места, где предстояло искать тайник.
Если вести счёт не астрономическому, а человеческому времени, то с момента закладки тайника в ноябре сорок первого года для Петровича не прошло и года, и он должен был в мельчайших подробностях помнить все детали и приметы. Правда, за прошедшие семьдесят лет сосновый бор на крутом речном берегу значительно преобразился — появились новые дорожки, фонари освещения, поручни, сверху склона протянулись заборы и решётки, а кое-где прямо над обрывом нависли затейливые дачные постройки. До неузнаваемости изменилась и заброшенная речная пристань, которая служила едва ли не главным ориентиром…
Наконец, со стороны берега раздался негромкий свист Петровича, и Алексей с Фириком, прихватив с собой лопаты и одолженный у водителя широкий отрез брезента, спустились к нужному месту.
Пока Фирик с Петровичем копали во влажной и липкой глине узкие, на один штык, шурфы с целью точного обнаружения места закладки, Алексей в штиблетах, плаще и в шляпе с надменным видом надсмотрщика прохаживался неподалёку. И не напрасно: несколько раз наверху появлялись и внимательно наблюдали за работой какие-то люди, однако вскоре исчезали. Немолодая нарядная дама, спустившаяся к реке, поинтересовалась родом и целью работ, на что Алексей ответил, что они проверяют важный правительственный кабель.
«Копайте, копайте, ребятки! — с чувством пожелала дама. — Если дойдёте вон до того забора, то знайте, что он поставлен незаконно! Сколько раз мы говорили прокурору: не ставь там свой забор! Пусть теперь узнает, что и него управа найдётся. Бог вам в помощь!»
И с этими словами нарядная важная дама удалилась.
Поиски тайника пока что с нулевым результатом длились уже более двух часов, и начинало казаться, что эта затея напрасная и что тайник либо без остатка сгнил, либо уже давно выявлен и изъят. Занервничал и водитель, что потребовало дополнительного ему подношения в размере пяти тысяч рублей. Вдруг в какой-то момент обе лопаты застучали сильней, и привычный глухой шум отбрасываемой глины сменился негромким металлическим стуком.
Спустя полчаса взмокшие от напряжения Петрович и Фирик откопали оцинкованный металлический контейнер, за прошедшие десятилетия буквально вросший в глинистую почву и даже оказавшийся местами оплетённым мощными корнями сосен, которые пришлось перерубать. Затем посредством длинного лома днище контейнера оторвали от липкого грунта, вытащили на поверхность и накрыли брезентом. Вес контейнера оказался килограммов под семьдесят и чтобы его доставить его по крутому подъёму до машины, Алексею, наплевав на чистоту и безукоризненность своего наряда, вместо вконец обессилившего Фирика пришлось собственноручно помогать Петровичу его волочить.
На выезде из спецкооператива машину остановил автоматчик и, сверив её номер со своими записями, поинтересовался, что везут. Алексей, придерживая шляпу, высунулся из окна кабины и сообщил, что они только что выкопали и везут куст сирени, который хозяин велел посадить во дворе школы в центре Москвы, где он когда-то учился. Автоматчик заглянул за полог тента и, ничего не ответив, удалился в постовое помещение. Потянулись томительные и страшные в своей непредсказуемости секунды. Лицо Петровича напряглось, и Алексей понял, что он в данный момент прокручивает в своей голове сценарий бегства. «Наверное, вышибет шофёра и сядет за руль. Проломим шлагбаум и погоним прочь. У нас будет форы где-то с минуту, можно будет подальше отсюда в укромном месте выброситься вместе с грузом, вскрыть контейнер, забрать оружие…»
К счастью, ничего подобного не потребовалось: красная шпала шлагбаума неожиданно взлетела вертикально вверх, автомобиль покинул закрытую территорию и встроился в хвост длинной и медленно движущейся веренице машин.
— В Очаково едем?
— В Очаково!
Выбравшись на старое Волоколамское шоссе, Петрович неожиданно потребовал остановиться, чтобы посадить на обочине пропутешествовавший с ними куст сирени. «Выручил нас, пусть теперь растёт! Мы же слово дали!»
В начале шестого вечера землекопатели, наконец, вернулись в Очаково, рассчитались с шофёром и перетащили цинковый ящик в железнодорожную будку. Затем Фирику велели погулять с часок-другой, а Алексей с Петровичем уединились за вскрытием и изучением доставленного в безопасное место контейнера. Благодаря качественной гуттаперчевой прокладке под крышкой влага не смогла проникнуть вовнутрь, и содержимое тайника возвращалось в руки своего законного хозяина практически неповреждённым.
Из контейнера были извлечены: новенький, с ещё нестёртыми следами заводской смазки, автомат ППШ с двумя полными магазинами, два нагана, полный комплект формы майора НКВД, включая хромовые сапоги, портупею и фуражку, радиостанция с ручным генератором и мотком проволоки для антенны дальней связи, несколько не потерявших яркости красок жестяных коробок ленинградских конфет, по которым были разложены какие-то мелкие технические приспособления, динамитная шашка, подрывной шнур и большой кожаный саквояж с блестящими медными застежками, в котором находились деньги. Купюры были перевязаны тесьмой с прикрепленными небольшими бирками, на которых отлично сохранившимися ярко синими чернилами были выведены суммы. Гитлеровских рейхсмарок в портфеле было семьдесят тысяч, британских фунтов — пять тысяч, американских долларов — шестьдесят. Там же в аккуратном холщовом мешочке находилось некоторое количество царских империалов и советских золотых червонцев — на вес где-то около одного килограмма. В контейнере также лежали какие-то бумаги, книги и старые газеты. А на самом дне обнаружили флягу со спиртом и несколько банок тушёнки.
Алексея поразило наличие в контейнере френча майора госбезопасности — величины, умопомрачительной для старшего сержанта. В ответ Петрович пояснил, что на ношение формы старшего комсостава НКВД во время предполагаемой подпольно-диверсионной миссии в неприятельском тылу у него имелось устное разрешение от самого Судоплатова, поскольку подобным образом предполагалось добиваться безоговорочного подчинения ему от собираемых в подпольные группы командиров РККА, партийных и советских работников.
Было решено временно не используемое содержимое контейнера упаковать в мешки и спрятать частью в будке, частью — в заброшенном бетонном жёлобе, присмотренном неподалёку. Когда Петрович, заложив и замаскировав мешок в этом жёлобе, возвращался ко входу в будку, к нему подбежал бледный как мел, насмерть перепуганный Фирик.
— Господин, господин! — буквально заорал он. — Меня нашёл начальник, он сейчас едет сюда вместе с начальником безопасности! Они оба напились водки и сейчас убьют меня, убьют! Надо бежать!
На громкий крик Фирика вышел Алексей, и они вдвоём со Здравым попросили Фирика успокоиться и всё объяснить. Выяснилось, что буквально только что Фирику позвонил кто-то из доброжелателей и сообщил о грозящей беде.
Начальник стройки Лютов (по прозвищу, разумеется, Лютый) — давно задумал за что-то поквитаться и расправится с Фириком, и именно в силу этой причины Фирик в субботу вечером сбежал со стройки без денег и документов. И, надо сказать, правильно сделал, поскольку в ночь на воскресенье каптёрка, в которой он должен быть ночевать, внезапно сгорела, и в огне погибло его звено бетонщиков. Используя свои связи в полиции, Лютов узнал, из какого точно места работает радиотелефон Фирика, и уже едет к ним в очаковскую промзону. Но самое нехорошее — едет он не с нарядом полицейских, которых после пожара в каптёрке ему сам Аллах должен был бы велеть вызвать, а едва ли не инкогнито, вдвоём со своим «безопасником». Поэтому Фирик ни на секунду не сомневался, что в их планы входит его убить, причём — убить без свидетелей.
По перекошенному от страха лицу Фирика было понятно, что он говорит чистую правду. Петрович помолчал и затем дружески похлопал его по плечу:
— Не паникуй. Всё сейчас будет хорошо. Забирайся-ка на второй этаж, а мы с товарищем встретим твоё начальство, да и побеседуем.
Фирик недоверчиво взглянул в глаза Петровичу:
— Правда? А вы… а вы с ним не заодно?
Петрович нисколько не обиделся на некорректный вопрос теряющего душевное равновесие человека, и ещё раз велел тому идти наверх и там ждать. Затем вместе с Алексеем они зашли в комнату первого этажа с целью навести в ней мало-мальский порядок, вынесли на улицу и выбросили вон часть мусора и притулили лампочку к торчащему из потолка проводу. Закончив уборку, Петрович остался в помещении, а Алексей, отряхнув от грязи и извёстки свой костюм и плащ, отправился на улицу встречать гостей.
Долго ждать не пришлось. Вскоре раздался отдалённый шум автомобильного мотора, затем из вечернего полумрака по глазам полосонули яркие лучи от фар и наконец, подпрыгивая на кочках и колдобинах, возле железнодорожной будки остановился огромный чёрного цвета фургон на высоких колёсах с мощными протекторами вездехода. Под лобовым стеклом напротив водителя светился небольшой экран — видимо, это устройство показывало путь к той самой точке, в которой подкупленные полицейские запеленговали радиотелефон таджика.
Двери открылись, и из роскошного вездехода вышли, слегка пошатываясь, двое хорошо одетых мужчин. Алексей удостоверился, что в машине, кроме молодого водителя, больше никого нет и едва заметно улыбнулся.
Незнакомцы, увидев среди мусорных куч хорошо одетого молодого человека, немного растерялись.
— Э-э… уважаемый! Таджика тут не видели?
— Да, — ответил Алексей. — Он только что был задержан нами. С кем имею честь разговаривать?
Двое растерянно переглянулись. Разгадать ход их мыслей было несложно — молодой человек в дорогой и элегантной гражданской одежде, только что кого-то задержавший на заброшенном пустыре, и к тому же по-будничному об этом рассуждающий — однозначно сотрудник какой-то из спецслужб или бандит. Поэтому один из приехавших сразу сделал шаг вперёд и, стараясь говорить максимально вежливо, произнёс:
— Я его начальник. Он нанёс большой ущерб и сбежал со стройки. Мы хотели бы попросить вас его нам отдать.
Алексей не мог не обратить внимание на сильный запах перегара, исходящий человека, называвшегося начальником. Тот тоже это понимал и немного дрейфил, так что данным моментом не грех было воспользоваться.
— Да, такое возможно, — холодно ответил Алексей. — Если вы подтвердите, что он действительно имеет к вам отношение. В ходе обыска мы не обнаружили у него с собой никаких документов.
— Обыска? А что он у вас натворил?
— Гражданин, я ведь ничего не уполномочен вам рассказывать. Если задержанный — ваш работник, то подтвердите его личность, и мы решим, что с ним делать.
— Хорошо! — неожиданно густым басом вступил в разговор второй из незваных гостей. — Его паспорт у меня! Что вам ещё нужно?
— Отлично! Тогда пройдёмте и во всём разберёмся.
Двое снова переглянулись. Затем тот, который разговаривал густым басом, что-то поправил у себя под пиджаком — очевидно, пистолет, — и они двинулись к двери. У входа в комнату басистый отказался проходить вторым и настоял на том, что зайдёт после Алексея. Алексей не возражал.
В небольшой, хорошо освещённой и достаточно прибранной комнате из-за письменного стола, покрытого зелёным сукном, под портретом Сталина на стене, на вошедших внимательно взирал сотрудник НКВД в форме майора госбезопасности с ромбами на бордовых петлицах.
— Добрый вечер. Назовите себя!
Басистый, как вкопанный, остановился в дверном проёме. Его товарищ испуганно обернулся, но, прежде глаз басистого, встретив ледяной взор Алексея, стушевался и с растерянностью обратился на майора.
— Я генеральный директор ООО «Строй…» Лютов. А вы кто будете?
— Пока никто. Кто тот, что в дверях?
Но тот, кому был адресован вопрос, внезапно пригнулся, как от внезапного удара в живот, бросился к Лютову, и, одной рукой обхватив за плечо и прижав к себе, второй спустя мгновение уже целился в майора НКВД из своего пистолета.
Фирик сообщил чистую правду — второй оказался охранником, причём охранником подготовленным и профессиональным, сразу же заподозрившим подвох или розыгрыш. Хотя наши герои, отдадим им должное, действуя единственно возможным способом, никого не собирались разыгрывать.
Однако чего прыткий охранник не мог ожидать и предвидеть — было столь же мгновенное, как и его прыжок с пистолетом, превращение обходительного молодого человека в жёсткого противника: Алексей огрел охранника по голове и вырвал оружие из его рук. Спустя мгновение, придя в себя, охранник увидел направленный ему прямо в лицо холодный и абсолютно правдоподобный воронёный ствол фронтового автомата.
Майор поднялся из-за стола, молча подобрал с пола выбитый из рук охранника пистолет и, брезгливо рассмотрев его, засунул себе за ремень. Потом извлёк из кобуры свой наган, молча взвёл затвор и вернулся на прежнее место.
— Лейтенант, выведите сопровождающего в коридор и там расстреляйте. Он вряд ли пригодится для допроса.
— Руки! Вверх руки! Пошли!
— По какому праву? Вы не имеете права меня трогать! — скороговоркой забормотал охранник. — Я буду…
— Нападение на сотрудника органов — тебе мало? — не дав ему докончить фразу, отрубил Алексей. — А ну пошёл!
И холодный ствол ППШ с силой упёрся охраннику под лопатку.
— Постой, лейтенант, — вмешался майор. — Привяжи-ка его к стулу. Пускай, пока он жив, на всякий случай поучаствует в допросе.
Спустя минуту охранник был надёжно скручен, а в рот ему вбит кляп. Ещё через несколько минут с ним рядом сидел, надёжно привязанный к другому стулу, насмерть перепуганный паренёк-водитель, которого Алексей, выйдя на порог, попросил срочно зайти в помещение, где тотчас же «нейтрализовал». Начальник стройки продолжал стоять на прежнем месте, перебегая глазами между автоматом Алексея и наганом майора. Было не вполне ясно — протрезвел он или нет, однако было заметно, как время от времени, надкусывая себе губу, передёргивая лицом или ни с того ни с сего притоптывая ногой, начальник стройки пытается удостоверится в реальности творящегося с ним кошмара.
— Итак, Лютов, — невозмутимо продолжил допрос майор госбезопасности. — Вы успокоились? Тогда рассказывайте, что у вас произошло в стройгородке минувшей ночью!
— У нас? У нас ничего не произошло. У нас всё в порядке.
— Ты же сам мне сказал, что у тебя ущерб, — бросил ему Алексей, не переводя глаз с пленённых охранника и водителя.
— Да это ерунда. Лебёдку сломали.
— Лебёдку сломали? И из-за сломанной лебёдки вы сюда втроем приехали на ночь глядя и с пистолетом? — человек в форме майора явно начинал выходит из себя.
— У него всегда пистолет с собой… Имеем разрешение, можем показать.
Вместо ответа майор выкрикнул Фирика. Тот тотчас же с понурым видом и держа руки за спиной спустился в комнату.
— Встань слева от Лютова! — приказал ему майор. — Представься.
— Шарипов Фирик, — негромко произнёс таджик. — По матери. По отцу — Кулик.
— Почему не взял фамилию отца?
— По адату и шариату нельзя.
— По шариату? Интересно… — майор даже присвистнул от удивления. — Ну, да будет с тебя. Вы знакомы?
— Да.
— Кто это?
— Лютов, начальник стройки в Филях, где я работаю с февраля.
— Вы, Лютов, знаете этого человека?
— Товарищ майор госбезопасности! — вмешался в допрос Алексей. — У того типа вроде бы должен быть с собой паспорт задержанного. Разрешите обыскать?
— Обыщите.
Алексей извлек из карманов связанного охранника пачку документов, среди которых находился и паспорт Фирика. Майор повертел его в руках, убрал в ящик стола и вернулся к допросу.
— Шарипов, вы же Кулик, как объясните, почему сбежали со стройки?
— Мне стало страшно. — бесхитростно ответил таджик. — Мне показалось, что меня этой ночью убьют.
— Отчего же это так показалось? — майор НКВД поправил френч, слегка откинулся в кресле, и на его лице на какой-то миг возникла вполне доброжелательная полуулыбка.
— Не знаю… Вдруг навалился ужас. Раньше никогда со мной такого не было. В голове застучало — беги, и всё. И я убежал.
— Ну да, всё верно брешет! — сразу же оживился Лютов. — Импортную лебёдку спалил, оттого и сбежал!
— Какая лебёдка? Не было никакой лебёдки, мы же на нулевом цикле работали!
— Да что он врёт! Сжег дорогую лебёдку, и не желает отвечать!
— Хватит! — майор остановил препирательство и обратился к Лютову. — Лебёдка только что была никчемной. Лучше скажи — что у вас ещё этой ночью сгорело?
— Ничего. Ничего не горело. Всё цело.
— Точно всё цело?
— Истинный бог!
— Да врёт же он, врёт! — буквально заорал Фирик. — Пусть тогда скажет, где Муслим, где Рахим, где Гулиб!
— А мы сейчас вон у тех двоих спросим. Ну-ка, Алексей Николаевич, позвольте гражданину, к которого мы отобрали пистолет, рассказать нам, что он обо всём этом думает.
Алексей извлёк мокрый от слюны тряпичный кляп изо рта «безопасника» и аккуратно повесил на спинку стула возле его плеча.
— Я ничего не знаю и ничего не буду вам говорить.
— Хорошо, — невозмутимо продолжил майор. — Тогда дадим слово молодому человеку. Только пусть имеет в виду, что виновных в сокрытии преступления, о котором нам всё известно, здесь же мы и расстреляем. Возиться с теми, кто запирается, нет ни малейшего смысла.
С этими словами он пододвинул поближе лежащий на столе наган.
— Вы не имеете права! Смертная казнь запрещена… — успел выкрикнуть охранник, пока Алексей снова вбивал ему кляп.
— Не запрещена, а ограничена государственным мораторием с девяносто шестого года, — спокойно возразил Алексей, переведя взгляд на определённо поражённого его начитанностью «майора». — Мораторий на то и мораторий, что при необходимости он может быть отменён, и сейчас, похоже, мы имеем именно такой случай. Итак, что нам в этом случае расскажет молодой шофёр?
Взгляд паренька-водителя, не чаявшего угодить в подобный переплёт, испуганно метался между белым от страха Лютовым, связанным охранником и словно воскресшим из фантастического прошлого грозным майором с ромбами на краповых петлицах вместо погон. Судя по всему, паренёк был приучен держать язык за зубами и всё ещё не мог для себя решить, что для его важнее — лояльность начальству или собственная жизнь, в возможность столь простого расставания с которой он, похоже, ещё до конца не верил.
Тем временем образовалась и стала нарастать неприятная заминка — для продолжения допроса и удержания темпа были нужны новые сильные аргументы, и обоим чекистам пришлось на миг сосредоточиться и замолчать. Однако делу неожиданно помог протрезвевший Лютов:
— Это разводка! — вдруг заорал он своим густым басом. — Нас обманывают! Чекисты не настоящие!
И с этими словами, метнув ненавидящие взгляды сперва на майора и затем — на портрет Сталина, он буквально сорвался с места, где до этого спокойно и покорно стоял, намереваясь своим грузным телом навалиться и сбить Алексея с ног.
Алексей моментально вскинул автомат и дал от пояса короткую и оглушительную очередь:
— Не настоящие, говоришь? Проверим!
За спиной у Лютова посыпалась штукатурка, в глаза ударила строительная пыль, а усиленные маленьким и тесным помещением сухие раскаты выстрелов отозвались острой болью в барабанных перепонках. Лютов пошатнулся и отпрянул назад, к стене.
Алексей перевёл оружие на водителя и, поймав его очумелые глаза, буквально вперился в них жёстким и неморгающим взглядом.
— Итак, будем молчать? — буквально заорал он на паренька. — Считаю до трёх!
Парнишка не выдержал и, запинаясь, скороговоркой поведал о том, что минувшей ночью в стройгородке сгорела бытовка и в огне погибла целая бригада бетонщиков.
— Ну вот, — повеселевшим голосом отозвался майор, — нашёлся-таки один сознательный! А ты что, Шарипов, верно, что тоже должен был с ними гореть?
— Да, я работал той самой бригаде. Там все были мои друзья. Нас на ночь всегда снаружи запирали, поэтому никто из них не смог убежать.
— Это был несчастный случай или поджог? — поинтересовался майор у Фирика.
— Поджог, конечно. Внутри в бытовке нечему было загореться, поджечь можно было только снаружи.
— Это ясно. Кто имеет доступ на стройплощадку в ночное время?
— Там только охрана с собаками ночью дежурит. Так что вот он и поджёг, — Фирик указал на связанного охранника. — Он их начальник, это его рук дело!
Майор внимательно посмотрел в глаза арестованному начальнику службы безопасности.
— Ты это сделал?
«Безопасник» молчал, угрюмо понурив взор. Однако ни одного, даже малейшего движения головой, которое можно было расценить как согласный кивок, он так и не произвёл.
— Это мог сделать только ты лично, — продолжил майор, неторопливо и отчётливо выговаривая слова. — Впрочем, ты также мог приказать поджечь бытовку своим подчинённым, это тоже самое преступление, но оно маловероятно. Лишние свидетели тебе ни к чему, так что поджигал ты, я уверен, собственноручно. И сюда явился неспроста один, без подопечных, — чтобы также, без свидетелей, прикончить этого несчастного Фирика. Думаю, ты хорошо понимаешь, что за содеянное тебе светит только расстрел. Есть, правда, ещё один вариант — вместо тебя расстреляют того, кто приказал тебе всё это сделать. Однако если ты решишь его выгородить, то подаришь ему жизнь ценою своей. Подумай, чья жизнь тебе нужнее. Пара минут у тебя есть.
Дождавшись, пока майор закончит, Алексей, продолжая удерживать под прицелом Лютова, вновь освободил охранника от кляпа.
Тот как-то неестественно тряхнул головой, откашлялся и, кивнув в сторону Лютова, отрешённо произнёс:
— Он приказал.
Лютов попытался что-то прошипеть в ответ, но, встретив тяжёлый взгляд майора, осёкся и замолчал.
Охранник, опустив голову, поведал, что погибшая ночью бригада строителей занималась бетонированием фундаментной плиты, в которую с ведома Лютова изрядно недоложили дорогостоящей стальной арматуры. Недоложили где-то на семь или на десять миллионов рублей, которые ведавший всеми закупками Лютов, скорее всего, прикарманил. И как только рабочие завершили укладывать последние кубометры бетона, навсегда скрывшие содеянное, то их как ненужных свидетелей, было приказано убрать.
— Что скажешь на это, Лютов?
Начальник строительства молчал. Было лишь заметно, как сквозь красную набухшую кожу его лица проступают большие капли пота.
Неожиданно подал голос молодой водитель:
— Он ещё поручил мне перерисовывать в автокаде чертежи армирования плиты, — сообщил паренёк.
— А ты что — чертить умеешь?
— Я же в институте учился… Да и что там чертить — удалил в файле лишний металл и кой-где поменял сечения.
— Прекрасно! — вскликнул майор. — И ты — инженер, хоть и недоучившийся, неужели ты не понимал, что соучаствуешь в преступлении? А если дом рухнет, погибнут люди?
— Он не должен был рухнуть… Проектировщики перестарались с армированием, они вечно перестраховываются. Мы ведь по краям оставили всю арматуру, как и было положено, только центр слегка оголили…
— Слегка — это на десять миллионов? — поинтересовался Алексей.
— Пусть он лучше расскажет, — продолжил майор, кивнув в сторону начальника стройки, — как это ему удалось так лихо изменить проект, что подмены никто не заметил. Куда проектанты-то глядели?
Не успел Здравый произнести эти слова, как у парнишки округлились глаза и он, попытавшись привстать, нелепо загрохотал по полу привязанным стулом.
— ГИП ведь умер на прошлой неделе! Теперь я всё понял! Мы ведь ездили на похороны! Молодой был такой, ещё говорили, что отравился колбасой на рыбалке… Неужели…
— Кто такой ГИП? — поинтересовался Алексей.
— Главный инженер проекта… Неужели…
— Что — неужели? Неужели отравленную колбасу подсунули?
— Я не знаю… Честное слово не знаю!
— Ну, ладно… ишь ты, честное слово! Не знаешь, так и не знай, бог с тобой. А вот кто из вас мне расскажет, как вы это так легко разыскали своего таджика среди помойки?
— По мобильнику по его, — охотно откликнулся паренёк. — Что тут искать — шлёшь знакомым ментам нужный номер, и они дают наводку.
— Интересно, — вернулся к допросу майор. — И эти менты что — они всем так готовы помогать?
— Ну да… нам — всегда. У нас же ведь серьёзная организация… И в других вопросах они нам помогают. А что?
— Да ничего. Только у нас, обращаю внимание, организация тоже серьёзная. Проверь-ка, Алексей Николаевич, как эти двое закреплены в своих креслах, да давай-ка с Лютовым вопрос решим. Время выходит.
Алексей, скорбно покачав головой, в очередной раз вставил кляпы охраннику и водителю, вернулся к Лютову, энергичным рывком заломив тому руки за спину и туго стянув бечевой его мягкие, рыхлые кисти. Внезапно начальник стройки запричитал, срываясь на дискант:
— Товарищи! Товарищи дорогие! Ну что же вы так… без суда!.. Так же нельзя, товарищи, отдайте меня под любой суд, я за всё отвечу! Только не убивайте, не убивайте меня, я вас умоляю!
И с этими словами Лютов, со связанными за спиной руками, рухнул на колени. Его подхватили под плечи и поволокли на улицу, с помощью клина крепко затворив дверь в комнату, где остались сидеть арестованные охранник и водитель. По дороге Лютов стонал и пытался что-то рассказать о каких-то важных столоначальниках из префектуры и мэрии, которым он якобы должен был отдать большую часть украденных на арматуре денег, но поскольку на открытом пространстве его голос мог привлечь внимание, ему тоже вставили кляп. Лютова отвели в заросшую прошлогодними репеями балку, где находился водоём, из которого они черпали воду, крепко прикрутили к берёзе и завязали платком глаза. В напряженной вечерней тишине было лишь слышно, как разливается из кармана бывшего начальника жизнерадостная трель радиотелефона.
…Спустя десять минут из бывшей железнодорожной будки выдвинулись двое высоких молодых людей в хорошей одежде и дорогой обуви, один в шляпе, другой в кепке, с саквояжем и дорожной кожаной сумкой коньячного цвета через плечо. Следом за ними последовал смуглый низкорослый человечек в неопределённой одежде. Поднявшись на насыпь, двое остановились и обвели прощальным взглядом свой недавний приют со стоящим неподалёку большим чёрным автомобилем.
— Хорошая, должно быть, машина, — сказал Алексей. — «Land Cruiser». Действительно, сухопутный крейсер!
— Может, заберёте, а? — предложил таджик. — Я знаю ребят на авторынке, которые перебьют номера и сделают вам новые документы.
— Мы кражами и мошенничествами не занимаемся, — сурово ответил Петрович. — Ты же сам видел, что до добра это не доводит.
— А вы Лютова застрелили? — неожиданно спросил таджик.
— Нет, конечно. Пусть живёт, и те двое, что приехали с ним вместе, тоже пускай живут. Если, смогут, конечно.
— Зря… я бы застрелил.
— Я тебя не понимаю, Фирик, — возразил Здравый. — Ты же сегодня второй раз, можно сказать, родился, поэтому прежде всего должен радоваться жизни, а не вспоминать прошлые обиды. Да и мы же, как ты теперь хорошо видишь, отнюдь не кровавые палачи. Тоже, можно сказать, жизни радуемся вместе.
— Да, но они же вернутся на стройку и снова всё продолжится.
— Не продолжится. Они такое на очной ставке понавыкладывали, что теперь либо друг друга сдадут, либо сожрут с потрохами.
— Парнишку жалко, — заметил Алексей. — На нём ведь крови нет.
— Да, из этой компании он мне наименее неприятен. Но тоже, заметь, не дитя безвинное — многое ведь знал, а молчал. Через пару годков стал бы он по такой своей жизни вторым Лютовым.
— Не помрут они там, привязанные? — неожиданно поинтересовался подобревший Фирик.
— Исключено, — уверенно ответил Алексей. — С ними три радиотелефона и навигационное устройство в автомашине. Уже сегодня их друзья из полиции запеленгуют их и освободят. А может быть, они уже сейчас едут сюда во всеоружии. Поэтому нам следует поспешать.
Они ускорили шаг, и вскоре из-за поворота железнодорожной ветки показались станционные пути, на одном из которых стоял, полностью перекрывая вид на пристанционную улицу, длиннейший товарный состав.
— Ну что ж, Фирик, ты же Кулик! — произнёс торжественно Алексей. — Паспорт тебе вернули, угрозу жизни отвели. Теперь куда будешь двигать — к невесте в Дрогобыч?
— Да, туда, конечно. Но пока надо где-то здесь найти работу, я же не могу ехать совсем без денег.
— Пока ты будешь зарабатывать, хохлушка твоя за другого выйдет. Так что, гляди, — может, останешься насовсем в России?
— Нет, я в Украину хочу, в Дрогобыч. Там тепло, и люди там добрее.
— Ну, в Дрогобыч так в Дрогобыч! И в самом деле, нечего тебе по стройкам и рынкам шататься. Держи! — и Алексей протянул Фирику толстую пачку зелёных американских банкнот.
— Это — всё мне? — ошалело произнес таджик.
— Не совсем. Эти деньги мы изъяли у Лютова и будем считать, это зарплата твоя и твоих сгоревших товарищей. Поэтому сам разделишь и вышлешь их семьям. Договорились?
— Смотри, не напутай со счётом, — предостерёг Петрович. — А то — ты же сам говорил: адат и шариат. Это тебе не с нами язык чесать!
— Да что вы, товарищи! — радостно и взволнованно произнёс Фирик, принимая деньги. — Я всё разделю и отошлю их родным. Да и не в шариате дело. Я ведь ни в кого и ни во что теперь не верю. Наверное, я атеист.
— Ну, напугал безбожника! — усмехнулся Здравый. — Хотя — это как ещё посмотреть, безбожник я или нет. Куличи от тётки каждую Пасху получал. Только в тридцать восьмом остался без куличей, так как тогда шестидневку объявили сплошь субботником, и тётку припахали.
Услыхав про тридцать восьмой год, Фирик изумлённо вытаращил глаза. Петрович с сожалением подумал, что отныне ему не просто придётся тщательнее следить за языком, а тоже учиться жить с чистого листа…
Алексей же подумал, что далёкая и тёплая Галиция, отложившаяся от Киевской Руси к Западу задолго до нашествия Батыя, должна, наверное, и сейчас являть собой что-то вроде моста между мирами Запада и Востока, столь непохожими и одновременно столь волнительно тяготеющими один к другому. И если в конце тридцатых местом встречи этих двух миров представлялась ему советская Москва, намеревавшаяся положить начало новому порядку вещей, то теперь он интуитивно ощущал, что за прошедшие годы граница между ними могла вернуться туда, где она всегда была раньше и куда столь страстно и неумолимо рвался из России этот странный восточный человек…
От всех этих мыслей отвлёк резкий гудок локомотива и внезапно ударивший в глаза луч прожектора, рассекающий землю и темнеющее вечернее небо на два пространства. Понемногу сбрасывая ход перед семафором, через станцию проходил пассажирский поезд, на вагонах которого красовались сине-желтые таблички с надписью «Львiв-Москва». Поезд следовал в западном направлении, и за пыльными окнами купе можно было разглядеть немногочисленных пассажиров, часть из которых занимались раскатыванием матрацев, а другая — приступала к нехитрому ужину.
— Фирик, у тебя есть, где ночевать? — поинтересовался Алексей.
— Нет.
— Я не помню расписания, но это, возможно, последний сегодня поезд с Киевского вокзала. Смотри, он сейчас почти остановится. Хочешь — полезай в него и мчись к невесте в Дрогобыч! Там скоро яблони зацветут… Завидую!
— Да, но как попасть в вагон? — внутренне согласный с поступившим предложением оживился таджик.
— Чёрт, в поездах теперь ни одной тормозной площадки! — с досадой выпалил Петрович. — Хотя вон — гляди! Ты же без вещей, живой скелет со стройки, полезай-ка через резиновое суфле между вагонами.
— Да?
— Пролезешь! Пачку с деньгами спрячь подальше, а парочку бумажек отложи для кондуктора. Уже завтра увидишь цветущую Галицию!
— И станешь вместо прежнего жалкого Шарипова гарным Куликом! — перекрикивая резкий скрип тормозов, прокричал Алексей.
Фирик не решался сказать ни да, ни нет, но было заметно, как в предвкушении возможности сию же минуту совершить столь желанный в его жизни поворот у него загораются глаза.
Они вместе подошли к межвагонному стыку, подхватили Фирика за пояс, приподняли и помогли вставить ногу в щель суфле.
— Ну, теперь не дрейфь, Фирик-лирик! Раздвигай резины и лезь! Раз-два! Взяли!
Проскользнуть между толстыми резиновыми трубами было делом непростым, но с третьего или четвёртого раза всё получилось. Туловище Фирика полностью скрылось в межвагонном переходе, а спустя несколько мгновений за стеклом в двери тамбура показалась его взлохмаченная голова со счастливой, почти детской улыбкой.
— Молодец, пролез-таки!
— Ну, прощай!
Почти сразу же справа раздался громкий гудок, лязгнули вагонные сцепки и состав возобновил движение.
Чтобы не привлекать внимание поездной обслуги к проникновению безбилетного пассажира, Фирику не стали махать рукой. Провожая взглядом ускоряющиеся вагоны, Алексей на какой-то миг тоже с грустью и теплотой подумал о далёких зацветающих галицийских садах и пожалел, что в марте сорок первого года не сумел съездить в командировку в Львовский архив с целью розыска некоторых австрийских документов.
Дождавшись, когда красный фонарь на последнем вагоне жёлто-голубого поезда окончательно скроется из виду, Алексей с Петровичем, похожие на заплутавших на городской океане денди, решительно пересекли железнодорожные пути и через станционную площадь вышли на Большую Очаковскую. Там они поймали такси и велели ехать в Центр.
Глава четвёрая Квартира наркома
Борис Кузнецов намеревался провести выходные в размышлениях о собственной судьбе и о смысле сущего, совершенно не предполагая, что эта затея едва не закончится попыткой совершить самоубийство. Правда — самоубийство не совсем обычное, а реализуемое через жестокий запой. Он далеко не сразу догадался о присутствии в запое подобной возможности, которую нельзя было назвать чистым сведением счётов с жизнью, но которая вполне соответствовала принципам русской рулетки — дать возможность судьбе самой разрешить вопрос о твоём предназначении. Поэтому провожать воскресный вечер и вместе с ним — свою прежнюю не очень удачную жизнь — ему довелось среди странных предчувствий и пугающих видений.
Сказать, что накануне Борис выпил — значит, не сказать ничего. Даже по меркам привычной для Бориса полубогемной жизни это был случай нечастого и едва ли не отчаянного запоя.
Начало запою было положено ещё в минувшую пятницу, когда совершив несколько поездок по делам, он провидчески оставил машину на подземной парковке под отелем «Ритц», что в начале Тверской, и пешком поднялся до Пушкинской, где зашёл в кафе «Пирамида». Там, расположившись в самом дальнем углу в зале на втором этаже, он заказал себе давно полюбившееся ему блюдо с полусырым тунцом и под него — сто пятьдесят граммов водки. Настроение было прескверное, поскольку в тот день окончательно стало ясно, что за киносценарий, над которым он трудился с конца минувшего года, никаких денег в ближайшее время ему не светит. А деньги были критически нужны, поскольку с некоторых пор их реально перестало хватать на еду, а на серванте в прихожей ждали оплаты уже с полдюжины квитанций просроченных коммунальных платежей.
Зимой Борису удалось немного разжиться деньгами, выступая ведущим на корпоративных вечеринках и в концертных программах, приуроченных к нескольким международным конференциям. Но вскоре эти доходы прекратились, и в его жизни наступила длительная чёрная полоса. Денежный вопрос был здесь не ключевым — после кончины родителей Борису с сестрой отошло довольно значительное имущество, грамотно распорядившись которым можно было бы существовать относительно безбедно. Так, уже имелась договоренность, что не позже начала июня на пустующую родительскую дачу в Петрово-Дальнем заедут жильцы, и ста двадцати тысяч в месяц напополам с сестрой ему вполне хватит, чтобы сводить концы с концами. Можно было бы с лёгкостью сдать какому-нибудь богатенькому иностранцу и трёхкомнатную квартиру в довоенной «сталинской» девятиэтажке, и из гарантированных за неё полутора сотен половину отдавать сестре, за пятьдесят тысяч снять для себя небольшую студию с кухонной плитой, столом и кроватью, а оставшиеся деньги — пустить на мелкие расходы. В конце концов, можно было продать кое-что из не очень нужного ему родительского антиквариата — например, дореволюционного бронзового Отелло, держащего подсвечник, или две ранних картины Серебряковой — мера хоть и разовая, но способная сразу же принести не менее трёх-пяти миллионов, а на такие деньги вполне реально, если постараться, просуществовать не один год.
Ведь когда у человека имеется минимальный уровень обеспеченности, позволяющий быть свободным и предоставленным самому себе, не иметь нужды бежать с утра на работу, не зависеть от благорасположения начальства, не заниматься делами скучными и ненужными — то разве это не есть тот по-настоящему правильный порядок вещей, к которому стоит стремиться?
Однако важно не просто жить, то есть жить в смысле регулярно питаться, приобретать хорошую одежду и даже время от времени платить за приятелей в ресторане. Смыслом жизни должно являться творчество. Но творчество — это категория высшего порядка, в которой труд неразрывно переплетается с удачей, поэтому далёко не факт, что соответствующие упражнения, когда человек обретает свободу и может посвятить им себя в полной мере, принесут результат. А в отсутствии результата без признания извне усилий и плодов творческого труда всякая творческая личность быстро закисает от ненужности.
И именно это закисание, похоже, составляло для Бориса главнейшую из проблем.
Однако время, Борис знал, у него пока есть. Сохраняется возможность начать другую жизнь. Имеются шансы состояться на одном из творческих поприщ. Присутствует даже возможность поразмыслить и повыбирать, на какое именно поприще ему следует вступить, невзирая на отнюдь не юношеский возраст. Всё снова впереди, и это прекрасно. Требуется только ненадолго остановиться и разобраться, что происходит внутри него. Чего желает сердце и к чему лежит душа. И отчего уже не первый день его обуревает, неудержимо усиливаясь к вечеру, глубокая щемящая тоска, как если бы он потерял навсегда что-то важное и сокровенное.
Почти всё последнее десятилетие Борис проёл на Кипре, где благодаря друзьям и своим многочисленным столичным связям он являлся управляющим нескольких десятков оффшорных компаний. В его задачи входили организация их юридического и бухгалтерского сопровождения, приём и пересылка корреспонденции недешёвой курьерской почтой, изредка — представительство в судах и ещё реже — управление счетами, которое продвинутые собственники компаний обычно предпочитали вести через интернет, но в отдельных случаях перепоручали ему.
Оффшорный кластер, в середине девяностых выглядевший едва ли не как полуподпольный вид бизнеса, очень скоро стал общепризнанным, престижным и желанным способом ведения дел. Не будучи финансистом и ровным счетом ничего не понимая в сложных экономических и финансовых вопросах, благодаря своей исполнительности и очевидной бесхитростности, Борис пользовался доверием и уважением у большого числа держателей оффшоров от Владивостока и до Калининграда. Многие из них, абсолютно не владея английским, были готовы платить по сто долларов за страницу перевода самых примитивных юридических бумаг и щедро гасили счета, которые Борис предъявлял по своим представительским затратам.
Имея чистый месячный доход от двадцати до тридцати пяти тысяч долларов, Борис как-то подсчитал, что через обслуживаемые им компании за год прошло почти двадцать миллиардов. В те годы он не испытывал проблем с подтверждением своей нужности и востребованности, и хотя подобная немного странная для недоучившегося режиссёра работа иногда откровенно становилась скучной и утомительной, он ею совершенно не тяготился. Даже когда не поступало никаких сигналов или знаков внимания от российских владельцев управляемых им компаний, он мог довольствоваться расположением и признательностью со стороны местных адвокатов и акаунтеров.
Однако после знаменитого кризиса 2008 года оффшорный бизнес стал клониться к упадку. Средние и «чуть выше среднего» предприниматели, обеспечивавшие Бориса работой, один за другим начали разоряться и закрывать счета, а оставшиеся на плаву отечественные гиганты к тому времени уже завели на острове Афродиты целый штат собственных представителей. Более того, Борис обратил внимание, что очень скоро из всех знакомых ему людей в этом непыльном бизнесе вдруг не осталось почти никого, а на их место заступили какие-то серые и скучные функционеры, одинаково неважно разговаривающие на иностранных языках и предпочитающие весёлым и шумным обедам в ресторанах поглощение пищи в своих наглухо закрытых апартаментах и отчего-то — обязательно и всегда и с умопомрачительным количеством дорогущего шотландского виски.
В начале лета 2010 года, обнаружив, что после оплаты жилья и прочих расходов от уменьшавшегося месячного содержания у него стало оставаться на жизнь менее тысячи долларов — сущий мизер, — Борис твёрдо решил завязать с этой работой и вернуться в Москву. И даже если бы дела на Кипре вновь пошли в гору, возвращаться туда не стоило бы по-любому: после кончины родителей образовалась масса забот с оформлением наследства и содержанием давно не ремонтировавшихся и ветшающих на глазах дачи и квартиры. Нехорошим дополнением к этим проблемам стали и неприятности у его сестры. Сестра была моложе Бориса почти на пятнадцать лет, по своей девичьей глупости пожелала стать певицей и на этом поприще вляпалась в какую-то тёмную и не очень хорошую историю.
Пролистывая в памяти эпизоды прошедших лет без напряжения и ностальгии, по пути к Пушкинской площади он некоторое время постоял возле книжной витрины с яркими и странно похожими друг на друга обложками. За стеклом красовались яркие альбомы с сокровищами всевозможных галерей, чрезмерно иллюстрированные детские сказки и бесчисленные детективы. Борис с досадой подумал, что книгоиздание необратимо перетекло от поисков новых смыслов и форм к эксплуатации ограниченного числа тем, полюбившихся публике. «Интересно, — подумал он, — ведь в издательствах сидят не самые глупые люди, неужели им не противно издавать одно и то же? В газетах и журналах, когда перепечатывают всякие бредни про инопланетян или конец света, выдерживают, по крайней мере, паузу от месяца до года. А вот ведь было бы неплохо, чтобы в качестве паузы кто-нибудь из них напечатал бы меня…»
Но, едва подумав об этом, он тотчас же испытал внутреннее смущение от наивной бессмысленности последней идеи.
Он решил растянуть заказанные сто пятьдесят граммов водки на семь маленьких стопок, чтобы хмель не ударил в голову разом, а растекался бы медленно и приятно, как если бы он пил хорошее кипрское вино. Борис давно стал заложником своих приобретенных на Средиземном море гастрономических пристрастий, и ароматный сочный тунец, приправленный веточкой базилика, был данью это слабости. Но в то же время пить тёплое южное вино в ещё не прогревшейся после на редкость холодной зимы сырой и неопрятной весенней Москве было дурным тоном. Ещё менее допустимым представлялось ему пить вино, предназначенное для праздника или доброй дружеской беседы, в минуту грусти и не проходящей внутренней тревоги.
Заказанная Борисом водка, кроме полного соответствия климату и окружающей обстановке, была замечательна ещё и тем, что избранный им формат уединения нисколько не противоречил её исконной природе. Если при употреблении вина во время приятного и шумного застолья последнее не более чем смачивает горло и развязывает язык, а воодушевление, страсть и жар приходят сами по себе — от удачно ли изложенной в разговоре мысли, от восторга внезапного озарения или от комфорта внутреннего согласия, то водка лаконична и немногословна. Она не дарит новых мыслей и чувств, скорее — она отключает прежние. Глоток водки бесстрастен и скор, в нем нет ни аромата, ни вкуса, нет абсолютно ничего того, что могло бы пробуждать чувства и воскрешать воспоминания. Семь маленьких стопок как семь точных выстрелов: с каждым падает, вышибается из памяти флажок, выставленный на месте очередной беспокойной мысли, и безо всякого огня становится теплее в душе, как понемногу теплеет в неотапливаемой комнате от одних лишь прекратившихся сквозняков.
Так, совершенно не спеша и не думая ни о чём ином, Борис закончил трапезу, по привычке заказал напоследок чашку крепкого чёрного кофе и вышел на улицу. После воцарившейся в его душе безмятежной тишины шум пятничного вечера показался неуместным и даже оскорбительным и он, перейдя Тверскую по подземному переходу, заспешил по более спокойным улицам в направлении дома. В супермаркете на углу Большой Бронной и Козихинского он купил хлеба, колбасной нарезки, несколько салатов и четыре бутылки водки — правда, уже, находясь перед кассой, извинился перед очередью и обернулся за ещё одной, пятой по счёту.
На душе у Бориса темнело одновременно со сгущающимися сумерками. От живых и громких голосов прохожих, ярких витрин и тёплого света заполненных публикой ресторанов становилось неуютно и тоскливо. Приземисто возвышавшийся рядом молчаливый силуэт церкви Иоанна Богослова, чуждый всему этому шумному и веселящемуся потоку, казалось, был единственным, кто оставался сопричастным ко столь неуместным в этот вечер грусти, сосредоточенности и тревоге, одолевающих Бориса.
Употребленных в «Пирамиде» ста пятидесяти граммов было совершенно недостаточно, чтобы усталость и грусть прогнать. Поэтому, придя домой, Борис отломил хлебную горбушку, выложил на стол часть принесённых закусок и, не раздумывая, махнул ещё сто. Очень скоро в груди потеплело, копившиеся в подсознании беспокойные мысли куда-то растворились и Борис, вполне довольный восстановившимся душевным равновесием, оставив стол, опустился в кресло перед телевизором.
Было время новостей и дикторы наперебой зачитывали события уходящего дня. Не вслушиваясь в текст, Борис отрешённо взирал на мелькание серых пиджаков, одинаковых лиц и рук, размышляя о бессмысленности новостей как таковых. «В них имелся бы смысл, если б они несли знания, позволяющие изменить жизнь или избежать опасностей, — рассуждал он про себя. — Но поскольку мне абсолютно все равно, что решил Президент США, что обсуждали сегодня в Правительстве и как в агрохолдингах Юга продвигается посевная, то все эти новости для меня — не более чем фон. Суета и бред. «Шипят пергаментные речи, с трудом шевелятся мозги» — вот же сказано на все времена, умница Блок!.. Дождусь прогноза погоды и попробую переключиться на что-либо другое. Хотя зачем мне знать погоду?»
Другим, значительно более лучшим фоном, могла служить музыка, и Борис потратил минут пять в поисках подходящего компакт-диска. Но в обширной коллекции ничто не соответствовало его нынешнему неопределённому состоянию. Вещи Рахманинова казались слишком эмоциональными, Чайковского — непозволительно искренними, а Дебюсси требовал внутренней концентрации усилий, для которой не было сил. На полке отдельно стояли «мистики» — Орфф, Скрябин и Мусоргский. Он повертел в руках диск с «Картинками с выставки», под образом которой композитор, как известно, замаскировал поминки друга-художника — и тотчас же вспомнил, как минувшим летом, стоило ему за рулем прослушать «картинки» до «Катакомб» и «Cum mortuis», как он дважды становился свидетелем свежих автомобильных аварий. Тогда же он подумал, что многие из этих вещей, наверное, наделены сверхъестественной силой, приводящей в движение и заставляющей смещаться колоссальные слои эфира, что вызывает смущение душ и автоаварии. Так что не имея острейшей, невыносимой потребности в этих неземных контрапунктах и ранящих сердце диссонансах, правильнее станет не будить лиха.
Он также вспомнил, что ещё совсем недавно хотел написать что-то вроде сценария к фильму о Скрябине, о его белых и чёрных мессах и о намерении посредством звуковых мистерий устроить новую Вселенную. Не исключено, что Скрябин вполне мог приблизиться к этой цели, иначе бы его не постигла ранняя смерть, о котором он загодя знал и даже успел многих оповестить. Бориса в этой истории заинтриговала не столько гипотетическая технология воздействия на мир с помощью звуков, сколько состояние души и внутренний мир человека, который был абсолютно убеждён в осуществимости подобной затеи и с готовностью отдал во имя её собственную жизнь. Ведь жизненные пути именно тех, кто первыми прикасаются к подлинным тайнам бытия, обрываются несвоевременно и внезапно… Однако потрудившись над сценарием несколько недель и даже вчерне проработав его драматургию, в один из дней, едва проснувшись, он уже твёрдо знал, что ничего на данную тему писать не станет. Чтобы не смущаться своим малодушием перед этой действительно труднодостижимой и страшной тайной, он быстро убедил себя, что подобный сценарий в современной меркантильной России не интересен и не нужен ровным счётом никому.
Посему, отложив в сторону диски с «мистиками», Борис подумал, что неплохо было бы сегодняшним вечером утешить себя духовными сочинениями — ведь под них точно не случается аварий на дорогах! Но подержав в руках «Всенощную» Рахманинова, он оставил и эту идею — смешно сказать, поостерёгшись своим нетрезвым видом и путаными мыслями оскорбить произведение, темы которого всегда лучше приберечь для крайних, критических моментов жизни или же для её завершающих аккордов.
Отсюда, прекратив поиски подходящей его состоянию музыки, он вновь включил телевизор и долго листал каналы в поисках подходящей картинки. На большинстве каналов шли стрельба, насилие и спорт. Наконец, он обнаружил сериал про мошенников-банкиров: на экране мелькали синие костюмы и сорочки от Eton, хлопали дверцы люксовых авто, велись какие-то разговоры о деньгах, служению которым Борис тоже посвятил немалую часть своей жизни, звучали знакомые термины, имена и названия. Под этот привычный и нейтральный фон можно было, наконец, расслабиться и забыться.
В тот вечер он вполне добился своей цели — тревожные думы вполне оставили мозг. Он выпил, морща лоб, ещё несколько стопок уже нагревшейся до комнатной температуры водки, убавил громкость телевизора до уровня неразличимого бормотания, и, разлёгшись в кресле, задремал. Пробудившись около пяти утра и не выключая телевизор, он напился холодной водой из чайника, перелёг на диван и проспал на нём, уткнувшись лицом в подушку, практически до полудня субботы.
Он очнулся от солнечного луча, светившего через щель в портьере прямо в лицо. Выглянул за окно — суета будней миновала, дворники закончили мести бульвар и теперь были заняты высаживанием в клумбы весенних цветов. А несколько молодых женщин катали возле пруда детские коляски.
Голова у Бориса гудела, но не раскалывалась — значит, организм сохранял здоровье, водка была хорошей, а повод для её употребления — законным. Опохмелившись двумя рюмками и решив, что ему никуда и ни к кому сегодня идти не надо, Борис решил просмотреть скопившиеся за неделю журналы. Но, бегло пролистав один из них, он отбросил его с выражением тошноты. «Мерзость… Какая мерзость! Как можно так мерзко писать….».
На слегка посветлевшую голову он попытался ещё раз осмыслить своё положение. Затея с киносценариями провалилась, однако деньги на мало-мальски сносную жизнь, если постараться, поднять можно. Можно и возвратиться в бизнес, точнее, в его нынешние сословно-бюрократические институты. Можно поговорить с друзьями и получить непыльное место в какой-нибудь госкорпорации или даже в самом «Газпроме». Вокруг сразу станет больше людей и событий, так что времени для приступов тоски, вроде нынешнего, не будет оставаться. Конечно, если он попросит, ему помогут, все нужные связи есть. Только вот зачем ему «Газпром»? Разве он газовик, энергетик? Нет. Финансист? Хорошо, пусть так, но ведь в управлении деньгами не содержится ни малейшей красоты! Использовать финансовую должность для обогащения — конечно, это увлекательная игра, в ней есть в меру и риска, и куража. Но в чём тогда её смысл, разве что не убивать время? Зачем ему миллионы? На Кипре за десять лет он заработал более двух миллионов долларов, и абсолютно всё, до самого последнего цента, просадил на жизнь. Если сдать в аренду дачу и квартиру — своё нынешнее бытие он обеспечит сполна… Всё верно, к бытию должен прилагаться ещё и смысл, но именно смысла-то в последние годы и нет! И никакой «Газпром» ему со смыслом жизненным помощи не окажет!
Всё-таки грустно в свои сорок лет признаваться в том, что жизнь, скорее всего, в лучшей своей части миновала и в ней всё изведано, изучено и достигнуто. А штурмовать материи непознанные — типа скрябинской метафизики — бессмысленно, люди всё равно этого не оценят. Только зачем мне так важно признание людей? Не оттого ли, что тысячу раз прав Энгельс, утверждавший, что человек — лишь общественное животное? Животные же должны быть накормлены и сыты во всех смыслах, и нынешнее государство в этом преуспело. Двести каналов по телеку, бесплатный интернет, в магазинах — дешёвые колбаса и водка, москвичи либо не работают совсем, либо работают там, где легко и непыльно, а всю грязную работу выполняют азиаты. Лет через пять так будет по всей России и все будут вполне счастливы. А если вдобавок люди перестанут завидовать звёздам «Форбс» с их миллиардами и замкнутся исключительно на себе — то счастье окажется полным. Чем не коммунизм? Наши деды вместе с рабами Гулага, голодая и вкалывая без выходных, покоряли Сибирь, откуда теперь качают для всего мира нефть и газ — стало быть, принесённые жертвы не напрасны, но об этом теперешние правители почему-то бояться объявить. А зря, ведь наши предки нисколько не ошибались, когда считали, что гибнут ради коммунизма, и он, своеобразный коммунизм, уже здесь — близ есть при дверех! — только немного другой… Какой-то философ недавно предлагал легализовать в стране лёгкие наркотики или нацелить науку на создание ненаркотических таблеток счастья — что ж, смелый человек, пьем за него и за новый дивный мир!
… Нет, Борис, в твоей стройной системе нет чего-то очень важного. Наверное, в ней нет человеческого безумия. А любой человек всегда какое-то время оказывается безумным и поэтому будет стремиться вырваться за рамки устроенного для него мирка, в котором все люди принудительно счастливы. Но мирок этот будет как хлев, который от долгого пребывания скотов начинает вонять изнутри, — так что он тоже скоро провоняет насквозь. И чтобы он не провонял, кто-то иногда должен из него выкарабкиваться. Выбираться на свежий воздух. Только выбираться во имя чего? Ну да, конечно же, женская лукавая любовь, что ж ещё! Любовь — единственный законный повод для безумства, причем безумства наиболее сильного и длительного. Шаляпин недаром говорил, что всё, что он создал в своём искусстве, сделано им из-за женщин. А за женщин надо пить стоя и до дна!
Он налил себе полный бокал — граммов сто, не меньше, и тотчас же, поднявшись с кресла, залпом выпил. Потом взял со стола несколько визиток с яркими фотографиями девиц и некоторое время молча их перебирал: «Эти две были в санатории под Одинцово. Позвонить им, что ли?» Увы, нет, встретиться с девицами было невозможно, поскольку для этого надлежало куда-либо ехать, к чему Борис совершенно не был готов, а приглашения блудниц в родную квартиру, где как ему казалось, ещё витает дух покойных родителей, он категорически не мог допустить. Тогда он тотчас же подумал, что после разрыва с женой, обидчивой и сумасбродной профессорской дочкой, требовавшей день ото дня всё новых развлечений и пять лет назад внезапно улетевшей из Никосии в Мадрид с каким-то богатым иорданцем, разбив и бросив возле аэропорта его машину, — так вот, после последовавшего вскоре развода вместе с формальной личной свободой ощущение прежней молодости к нему так и не вернулось. Его взаимоотношения с женщинами стали до тошноты прагматичными и регламентированными. Даже замечая временами желание иных сблизиться с ним и не имея, в общем-то, ничего против такого сближения, он всякий раз отказывался сделать встречный шаг. «Странно, — подумал он, налив себе ещё немного водки, — я здоров, силён духом и неплох телом — почему же я ни с кем не желаю иметь никаких длительных отношений? Они мне неинтересны? Мне не о чём с ними говорить? Но если с блудницами и в самом деле разговаривать не о чём, то почему бы мне не поискать женщин из моего круга, ведь их там полно — приличных, образованных и явно страдающих от одиночества?»
Он снова выпил, в его голове тотчас же вырисовалось объяснение: он эгоист, владелец очень дорогой квартиры в одном из лучших мест столичного центра, к тому же он не намерен переделывать свою жизнь под запросы другого человека и не готов пускать посторонних под свой кров. Поэтому должно случиться настоящее чудо, чтобы он не просто согласился бы принять чью-то любовь, а полюбил бы сам. Но чуда не произойдёт. Что же тогда остаётся, чем утешаться? Из многих наслаждений жизни одной любви музыка уступает, не так ли?
В далёком детстве Борис получил вполне сносное музыкальное образование и в дальнейшем старался поддерживать свои способности в должной форме. Он перешёл в соседнюю комнату, где с незапамятных времен находился кабинетный Bechstein, откинул крышку и, не присаживаясь, попробовал стоя взять несколько аккордов из финала пятой симфонии Чайковского. В своё время, ещё живя на Кипре, он специально раздобыл и выучил его фортепьянное переложение, чтобы доказать одному язвительному англичанину, что «Tchaikovsky cooler Vagner»[9]. Господи, какими смешными и наивными вещами он увлекался в ту далёкую пору!
Решив следовать правилам, он пододвинул к роялю стул и, немного помучившись с подбором правильной тональности, наконец, тихонько проиграл «тему рока», потом вернулся в начало, и, с силой ударив по клавишам, попытался взять сразу несколько голосов. Похоже, получилось… Грозовые маршевые раскаты в ограниченном пространстве комнаты зазвучали особенно мрачно и торжественно. «Отлично, Вагнер отдыхает… Голова от выпитого пусть и гудит, но пальцы пока работают! Тогда вперёд! Вперёд! Allegro vivace! Crescendo! Играть сильней, чтобы рояль гремел! Сильнее играть! Эх, распахнуть бы ещё окно…»
Внезапно он остановился. «Ну да, ведь третий аккорд здесь — это «аккорд смерти». Он раньше мне не удавался вполне, а сегодня я исполнил его просто гениально. Я всегда отчего-то считал эту тему судьбы у Чайковского, вопреки общему мнению, какой-то светлой и восторженной, как в песнях Дунаевского. Но вот теперь, когда выпил больше литра, я отчётливо вижу, что это — чудовищная лавина, неумолимая, как рок. Что вся тихая лирика, весь комфорт, всё условное благополучие, к которому мы так стремимся — лишь жалкий и беззащитный эпизод, который этим роком будет сметён. Сметён и уничтожен. И над развалинами прозвучит торжествующая песня, великий гимн неведомого начала всех перемен!»
Борис снова коснулся клавиш: «Та-та-тата-та! Та-та-тата-та! Та-тата-та-татата!.. Всё ясно. Когда-нибудь обязательно придёт новая жизнь. И вся эта блестящая, рыхлая мишура сгорит. Сгорит, и я, уже сегодня свободный от неё, буду продолжать торжествовать, глядя на пожирающий огонь, топча и попирая её пепел! Пусть всё горит и рушится! Пусть вся эта страна, — с этими словами он одёрнул портьеру и с силой распахнул окно, за которым виднелись крыши самых дорогих московских домовладений и шумели под ветром кроны распускающихся лип, — пусть вся эта страна, сходящая с ума от бабок, дорогих тачек и шмотья, однажды полетит в тартарары! Новая неведомая жизнь явится внезапно и неотвратимо, и я, Борис Кузнецов, сегодня это знаю и говорю всем вам — ждите! Ждите и приветствуйте! Сдохни, ветхая Россия, в которой сделалось невозможно дышать! Я славлю Россию новую! Славлю лучшую Россию, в которой нас, трусливых и жадных, уже не будет!»
Последние фразы Борис буквально прокричал в распахнутое окно, и было очевидно, что внизу их услышали — какие-то две модно одетые женщины подняли головы, а из припаркованного возле подъезда «Ягуара» вылез сосед — мини-олигарх, владелец медного рудника на Урале, который также, задрав голову, с удивлением глядел на окна квартиры Бориса.
Борис заметил внимание и оживился:
— Ну что? Получили? Получите ещё! Нате!
И метнувшись к роялю, заиграл с утроенной силой и нарастающим темпом. Инструмент гремел и дребезжал, звуки, обгоняя один другой, неслись, ударяясь о стены комнаты и вырывались в окно, за которым, казалось, продолжали свой полёт над верхушками деревьев, рикошетировали о жестяные крыши и острыми, обжигающими россыпями обрушивались на прогуливающихся внизу обывателей.
Доиграв до завершающего каданса, Борис в полубезумии бросился от рояля к окну. Внизу уже собралась небольшая толпа, с интересом глядящая в его сторону и что-то между собой обсуждающая. Среди толпы он различил несколько знакомых лиц: помимо хозяина медного рудника, оставившего свой «Ягуар», на него пялили глаза импозантная девица, служащая в какой-то богатой компании финансовым директором, и депутат Думы. Девица с начала года снимала квартиру этажом ниже и зачем-то постоянно сообщала всем соседям, что получает в месяц два миллиона. Депутат жил скрытно, в парламенте бился за обездоленных, однако в выходные дни предпочитал служебному «Ауди» роскошный итальянский спорткар. Видимо, демарш Бориса застал его по пути на парковку, где он прятал свой сокровище. Депутат потряс своей лысоватой головой и покрутил пальцем у виска.
Этот жест окончательно вывел Бориса из себя.
— Ты что делаешь, урод! Что я спел — всё съел? Не подавился? — сильно хрипя и закашливаясь от напряжения, прокричал он вниз. — Будет тебе скоро небо в алмазах! Что говоришь?.. Не слышу!.. Да пошёл ты вон! Ты подавишься и сгинешь, и вы все скоро сгинете вместе с ним!.. Кто сказал? Я так сказал! Всё!
Неожиданно он отпрянул назад в комнату и рухнул в кресло из-за пронзившей его насквозь острой боли. В какой-то момент ему показалось, что он теряет сознание: в глазах потемнело, и все предметы, которые ещё оставались различимыми, стали, закручиваясь как в воронке, стремительно уносится вдаль. Борис инстинктивно сделал несколько больших вдохов, принесших в кровь дополнительный кислород, и тем самым спас себя от провала. «Ну всё, — пронеслось в голове. — Допился. Давай-ка, брат, отдохни».
Отдыхая и понемногу приходя в себя, он просидел в кресле минут двадцать, подставляя лицо потоку тёплого весеннего воздуха, струящемуся в комнату из открытого окна. Дыхание понемногу приходило в норму, однако беспокойные и хмурые мысли сгущались, в результате чего на душе вновь становилось холодно и одиноко.
«В общем-то, жизнь моя кончена. Лучшие годы потрачены впустую, топливо сожжено и до спасительного аэродрома мне не дотянуть. Что ж, мне просто не повезло с рождением. Появись я на десять лет раньше, то я бы встретил девяностые матёрым приспособленцем, а родись на десять лет позже — сразу бы вырос таким, какие все сегодня, и не имел бы с этим миром нравственных проблем. А так — годы, которые я потратил, думая, что отсиживаюсь в тихой кипрской гавани, попросту ушли в утиль. Помогал ворам, но сам воровать не научился. И попутно забросил и загубил все свои творческие зачатки, так что теперь мне уже никуда не пролезть, поздно… Мой внутренний голос — тот самый, который, я знаю, есть тайный глашатай этого мерзкого мира, призывает меня успокоиться, сдать внаём дачу с квартирой и жить припеваючи. Получив в зубы пусть не самый жирный, но достаточно сытный и завидный для весьма многих кусок. Им всем всего лишь надо, чтобы я признал их правоту. А если я не хочу её признавать? О, как бы я жаждал весь этот жалкий и притворный мир взорвать к чёртовой бабушке! Как бы я радовался, наблюдая, как рушатся его скрепы, как рвутся его лживые и маразматические законы, как лопаются от обиды и бессилия все те, кто столь долго, занудно и притворно писали и впихивали его гнилые правила в человеческие мозги!»
Он почему-то представил себе рябого и желчного профессора из Высшей школы экономики, который на минувшей неделе в своей публичной лекции вещал о необходимости для России немедленного приведения всех разделов права и принципов жизни к универсальной общеевропейской модели и на все возражения отвечал в том духе, что историческое время индивидуального и национального окончательно миновало. Борис живо представил, как в момент восславленного им революционного взрыва профессор-мондиалист раздувается в шар, который сначала слегка приподнимается над землёй, но после короткого сухого хлопка лопается и начинает опадать почему-то в виде белоснежного фарша из уничтожителя бумаг. Злобного профессора было нисколько не жаль, и от этой мысли Борис сразу же заулыбался.
Однако он тут же подумал, что не желает насилия по отношению к кому-либо иному, кроме этого отчего-то столь болезненно засевшего в голову учёного негодяя. Было бы неплохо, чтобы все остальные спокойно бы пережили революционный взрыв и сделались другими — новыми и прекрасными людьми. Ах, как это было бы неплохо! Но разве подобное возможно?
«Нет, конечно. Не будет ни взрыва, ни преображения людей, а зловредный профессор будет продолжать, как крыса, бегать за кремлёвскую стену, нашёптывая национальным лидерам свои мерзкие мыслишки. Но только я в этом позоре больше участвовать не стану. Всё. Всё кончено. В холодильнике у меня ещё две нетронутые бутылки и одна початая на столе. Сейчас я выпью это зелье и умру. Я не «ворошиловский стрелок» и не имею в планах прикончить кого либо из этих мерзавцев филигранным выстрелом из винтовки — ни лысого олигарха с его крепостным рудником, ни хвастливой потаскухи с третьего этажа с двумя миллионами в месяц, никого. Я лучше убью себя — одного из тех, в общем-то, редких счастливчиков, для которых это вонючий мир по их разумению и предназначается. Рябой профессор прав, количество хороших мест в мире лимитировано. Ну и отлично! На место приконченных мной горнозаводчика и финансовой девки приползут им подобные, а вот на место моё придёт такой же по духу бунтарь, только моложе и сильнее, и тогда скрепы рано или поздно затрещат…»
Довольный своим умозаключением, Борис поднялся и, пошатываясь, прошёл на кухню, где вылил в стакан всю остававшуюся в початой бутылке водку. Опасаясь терять время на очередные размышления, он с резкостью поднёс стакан к губам и, более не ощущая щемящей спиртовой горечи, залпом его выпил. В глазах на миг потемнело, но вскоре свет и краски дня вернулись в достаточном объёме. Придерживаясь рукой за край стола и стену, он извлёк из холодильника очередную водочную бутылку и последний из купленных накануне лоток колбасной нарезки. «С закуской выпью больше и всё поэтому случится быстрей», — подумал Борис, и прижимая своё добро обеими руками к груди, возвратился в гостиную.
Он почему-то снова вспомнил мерзкого профессора из Высшей школы экономики. «Интересно, чем этот тип занимался в годы безвременья? В проклятые девяностые? Даю голову на отсечение, что он даже не пытался рискнуть, скажем, проявить себя в бизнесе. Сидел, гад, на своём нищенском окладе, и всё высматривал, кому бы себя подороже продать. И ведь не дурак, не пошёл продаваться ни к бандитам, ни к иностранцам, ни к прочим залётным персонажам того десятилетия. Дождался, когда сформируется и окрепнет наш родной чиновник и олигарх — и прямиком к нему на службу. Вчера ещё был вонючим ничтожеством — а сегодня доктор, профессор, вещает с экрана, красуется на первых полосах… А мы — все те, кто что-то хотели сделать, что-то изменить — где мы теперь? Потеряли всё, никому не нужны, и скоро последний из нас сопьётся. Так сколько же вас, гнид, повыползало из щелей? Мильоны, тьмы… Эх, кабы мог — дустом бы вас, дустом!..»
Борис привстал — и размахнувшись, крепко сжатым кулаком с грохотом ударил по столу. «Думаешь, гад, что твоя взяла? Не-ет… Думай и делай что угодно, но знай, что ты — раб. А вот я — пусть нищий, никто, пустое место — но зато я свободен! Так-то… Ты рабом родился, рабом живёшь и рабом подохнешь!»
С этой мыслью Борис с облегчением выдохнул — и забылся.
Когда он пришёл в себя глубокой ночью, то оказалось, что третья бутылка выпита более чем наполовину, при этом сон был крепким, провальным и без сновидений, а после пробуждения он не наблюдал наяву никаких хвостастых тварей и зелёных человечков, обычно сопровождающих алкогольную деменцию. Страшно хотелось воды, и Борис удовлетворил жажду, припав губами к кухонному крану, наплевав, что воду из московского водопровода следует кипятить или тщательнейшим образом фильтровать. «Какая разница, если все равно помирать!»
Он допил остававшуюся в бутылке водку, собрался сходить на кухню за ещё одной, поднялся для этого из кресла — но не дошёл, рухнув на пол в коридоре.
На этот раз сон был более тревожным, наполненным странными образами и предчувствиями. Однако проанализировать эти видения в момент следующего пробуждения, случившегося уже в середине наступившего воскресного дня, возможности у Бориса не имелось, поскольку он уже физически, всем телом испытывал боль от натянувшихся, словно струны, сосудов и нервов. Он лишь успел подумать, пытаясь подняться на ноги, о том, что если сейчас лопнет от перенапряжения какая-нибудь артерия, питающая мозг, то он быстро и скорее всего безболезненно умрёт, тем самым выполнив поставленную себе накануне задачу.
Но если он останется жить — то так тому и быть, противится судьбе он не намерен и не станет. На кону была четвёртая бутылка водки, остававшаяся в холодильнике. Опасаясь удара убийственной боли, поселившейся в затылке, он предпочёл, не вставая, до холодильника доползти. Пробка, точно не желая способствовать смертоубийству Бориса, долго не хотела отвинчиваться, и чтобы её снять, пришлось ножом резать металлическую уздечку.
Выпив — но теперь не залпом, а в несколько приёмов — граммов сто и уже ощущая исходящее от них анестезирующее облегчение, Борис сообразил, что если он отдаст концы, то его труп, наверное, пролежит не один день и даже, возможно, не одну неделю, прежде чем его обнаружат и предадут земле. Мысль о том, что весь этот ужас будет происходить в священной для него родительской квартире, показалась нестерпимой, и поэтому он решил, не открывая входной двери, поставить замок на предохранитель. В начале недели к нему собирался заглянуть приятель с «Мосфильма» — так вот, пусть толкает дверь, находит бесчувственное тело и звонит во все колокола. Хоть какая-то случится польза… детишкам в назидание…
Добравшись до входной двери и зафиксировав на предохранителе защёлку замка, Борис, зажимая ладонями раскалывающуюся голову, вернулся в своё кресло и зачем-то включил телевизор. Зачем включил — было совершенно непонятно, ибо ему ужасно хотелось в ближайшие минуты доползти до спальни и рухнуть в кровать — кто знает, может быть, в последний раз… С неимоверным усилием, превозмогая тошноту, он влил в себя содержимое предпоследней бутылки, и, распластавшись на подушках, с безучастностью стал наблюдать за калейдоскопом европейских новостей, готовясь к развязке.
Развязка должна была наступить в понедельник. Несмотря на сильное затемнение в голове, Борис на удивление долго не засыпал, пытаясь одним глазом следить за телевизионным сюжетом, а другим — за странными угловатыми отражениями и тенями, то и дело возникающими в дальних углах гостиной и привносящими предчувствие перемен страшных и необратимых. Вначале эти углы и тени пугали его, но потом он быстро к ним привык и даже назвал инфернальной геометрией. Видения эти, откровенно говоря, смотрелись странно, поскольку новый мир, в который Борис намеревался отправиться, мыслился ему менее жёстким и бесчеловечным, чем мир нынешний, реальный, — так что непонятным и пугающим было то, что вместо струй света и малиновых звонов на своём пороге новый мир встречал его нарастающей тревогой и предвкушением кошмаров.
Однако деваться было некуда, количество яда, влитого вовнутрь себя, уже было необратимым. Поэтому оставалось лишь ждать и надеяться, что за порогом неведомого предела его просто поймут и пожалеют. В конце конов, зла в этом мире он никому не сотворил и потому жёсткая расправа над ним была бы нелепой и ничем не оправданной ошибкой.
«Бог милостив» — вспомнил Борис и, успокоенный мыслью об этом, не обращая более внимания на шорохи и тени, забылся сном крепким и относительно спокойным.
Он очнулся в понедельник после полудня — с раскалывающейся головой, страшным лицом, но — живой и, главное, способный этому факту улыбнуться. Более не имея никаких планов по прекращению собственной жизни, Борис решил, что пора начинать приводить себя в порядок, для чего он умылся и даже попытался залезть под душ — однако допустив, что в своём неустойчивом состоянии он может поскользнуться в ванной и разбиться от этого насмерть, предпочёл воспользоваться старыми и проверенными средствами.
Как всем хорошо известно, лучшим поправочным средством в подобных ситуациях являются две стопки водки с острой и горячей закуской. Никакой закуски, правда, к понедельнику уже не оставалось, поэтому Борису пришлось сымпровизировать: откупорив последнюю, пятую бутылку, он налил новые сто или даже сто пятьдесят граммов и в полном соответствии с ещё более древним обычаем — как профессиональный пьяница, картинно поморщившись перед чаркою вина, — залпом всё выпил.
«Ну вот, не в пример вчерашнему — выпил, а на душе приятно: пью теперь не в погибель, а во спасение!» — вслух произнёс Борис и неожиданно, как подкошенный, рухнул на старинный кафельный пол кухни, теряя сознание.
Падая на пол, он неудачно подвергнул ногу, из-за чего случившийся в результате неестественно сильный изгиб колена, сдавивший кровоток, спустя часов десять-двенадцать с неизбежностью должен был привести к некрозу и гангрене — вещам страшным и совершенно не предполагавшимся Борисом, когда ему взбрела негожая мысль испытать судьбу. Но как обычно бывает с ошибающимися в первый раз, судьба решила не исполнять сурового жребия и проявила милосердие.
В десять часов вечера Бориса разбудила пронзительная трель мобильного телефона, ожившего впервые за несколько дней. Не вполне соображая, что с ним происходит, но уже твёрдо зная, что план самоубийства не сработал и ему отныне предстоит так или иначе жить, Борис не без усилий дотянулся до трубки.
Звонила — впервые за много недель — его родная сестра Мария. Оказалось, что она набирает телефонный номер брата уже несколько часов подряд и уже не надеялась его услышать. Она в отчаянном положении — застряла на станции Голицыно без денег и без документов, вокзал через час закрывают и ей некуда идти. Просит срочно приехать и забрать. Все подробности потом. Умоляет приехать и забрать.
Борис, не предприняв ни единой попытки вспомнить и проанализировать всё, что происходило с ним с вечера пятницы, вскочил с пола, разыскал в тёмной прихожей вешалку и натянул на плечи старый плащ. Вопреки обыкновению даже не взглянув на себя в зеркале, он шатающейся походкой, морщась от боли в голове и жадно хватая воздух пересохшими от обезвоживания губами, вышел на лестничную клетку, вызвал лифт, спустился на улицу и, сильно раскачиваясь из стороны в сторону, двинулся в направлении Большой Садовой в поисках такси.
Как известно, уже с весьма давних пор настоящие, легальные таксомоторы москвичи вызывают по телефону или через интернет, а на улицах ловят случайно подвернувшихся любителей быстрого заработка. Борису попался молодой кавказец, который на удивление быстро и без торга согласился ехать достаточно замысловатым маршрутом до подмосковного Голицыно и оттуда — назад. Ранее Борис категорически избегал услуг частных извозчиков, многие из которых при первой же возможности, судя по многочисленным рассказам и свидетельствам прессы, не гнушались пограбить и даже иногда лишать жизни своих ездоков. Однако сегодня выбора не было. Борис не мог допустить, что его сестра спустя сорок-пятьдесят минут окажется выброшенной на тёмную привокзальную площадь подмосковного городка, где сделается лёгкой добычей пьяниц, дикарей и насильников. И вот теперь этот странный тип, в иных обстоятельствах, по убеждению Бориса, вполне способный составить всем этим негодяям подходящую компанию, мчит его за город на старых «Жигулях». Мчит вроде бы для того, чтобы спасать сестру, а сам — неровен час — переговариваясь с кем-то по своему телефону на непонятном языке, вполне возможно, уже вынашивает очередное злодеяние…
Терять Борису было нечего и он, подчеркнуто вежливо, стараясь поддерживать плывущую из-за алкоголя дикцию, обратился к своему вознице со следующей необычной просьбой:
— Уважаемый, эй! Уважаемый, вы меня слышите? Если вы мусульманин, я заклинаю вас… заклинаю Аллахом, который… да, всемилостив. Я вас очень прошу доехать со мой до Голицыно и вернутся назад. Там в беде человек. Я заплачу не три, а пять тысяч. Если нужно шесть, заплачу столько, сколько скажете. Я точно заплачу. Но денег с собой у меня сейчас нет. Если мне не верите — высадите меня где-нибудь на «Минке», только не увечьте и не убивайте. Я вас не обманываю. Я заплачу обязательно. Только довезите. Деньги будут!
— А я что тебе — на убийцу похож? — немедленно с явной обидой в голосе ответил шофёр.
— Ну что вы! Просто я там уже был…. вблизи того света… Был совсем недавно, и не хочу возвращаться. Понимаете?
— Понимаю, — ответил кавказец. — Вы, русские, очень боитесь, что мы вас захватим, заберём вашу землю, понимаешь, убьём — а вы ведь сами себя убиваете! Не жалеете себя, не уважаете. Что, разве я не прав?
— Прав, но только частично. Ты ещё многого о нас не знаешь. Ну да ладно, не будем сейчас об этом…. Спасибо тебе, брат, что везёшь!
— Тебе спасибо….
Вскоре они свернули с шоссе и оказались на привокзальной площади. Ещё только въезжая на площадь, Борис увидел, как от едва освещённого пятачка перед зданием голицынского вокзала метнулась к ним навстречу тонкая, почти воздушная тень. Через несколько мгновений Мария, не отряхнув с соболиного воротника крупные капли ночного дождя и источая едва различимый старый аромат духов, была уже рядом с ним в машине.
— Боренька, спаситель! Успел! А меня уже два мента высматривали, представляешь? А что с тобой, дружок? От тебя несёт, словно из бочки, я такого не припомню. Что-то случилось?
— Успокойся, Маша. Со мной — ничего не случилось. А пью как раз из-за того что ничего не происходит. Ну, об этом после. Я тебя три месяца не видел. Что с тобой?
Сестра вздохнула и едва заметно улыбнулась.
— Сбежала я.
— Как сбежала? Тебя кто-то держал? Почему я ничего не знаю?
— А как, ты думаешь, я бы тебе всё рассказала? Ведь меня к батарее не приковывали. Зайцева знаешь? Я теперь этой сволочи триста тысяч должна.
— Триста тысяч чего? — с осторожностью поинтересовался Борис.
— Долларов, конечно же, не рублей.
— Ты что? Как такое могло случиться? Это они тебе должны были платить, а не ты им. Что произошло?
Вопрос, заданный Борисом, был во многом риторическим, поскольку он вчерне знал и понимал истоки случившегося с его сестрой несчастья. Мария неплохо пела, и минувшей осенью она воспользовалась предложением одного агентства, пообещавшего «раскрутить» её на эстраде, радио и телевидении. Выступления, в которые она вложила неимоверные усилия, прошли без особого результата, но всё бы ничего, если бы хозяин агентства по фамилии Зайцев не заявил, что он банкрот и что потраченные на «раскрутку» Марии деньги «приняли на себя» его друзья, оказавшиеся самыми натуральными бандитами. Хорошо одетыми, пахнущими дорогими одеколонами, посещающими лучшие московские рестораны и ночные клубы, но — однозначно бандитами. Бандитами они являлись не потому, что черпали свое состояние из каких-то мутных источников, связанных с наркотиками, нелегальной торговлей землёй, гостиницами или автозаправками, а по причине своей принципиальной неготовности понимать положение и учитывать точку зрения талантов и профессионалов, которым выпало несчастье с ними работать. Марию поразило и та лёгкость, с которой её новый хозяин, некто Влад Устюгов с очевидным прозвищем Утюг, обратил все неопределённые моменты и тонкости её договора с Зайцевым исключительно себе на пользу.
«Ну и что, что у тебя какое-то там сопрано! — с предельным цинизмом объяснил он ей однажды. — Таких, как ты — пол-России: все бабы желают петь и купаться в славе. Мне же на голос насрать, главное — деньги. И если мы вложили в тебя наши деньги, то ты их нам должна отбить с хорошими дивидендами. И только потом будешь своими сопранами распоряжаться. Да и то, если мы тебя отпустим».
Борис несколько раз лично пересекался с Зайцевым и имел определённое представление об Устюгове. Связь частного продюсера и светского интеллектуала с этим угрюмым и косным человеком, который, казалось, только и знает, что разъезжает по своим разбросанным по Московской и Смоленской областям «бизнесам» и от того, наверное, принципиально не моет от грязи внедорожник, представлялась необъяснимой и фантасмагоричной.
— А что, выходит, Зайцев действительно разорился? — переспросил он сестру. — А если и разорился, то зачем же сразу к этим уродам побежал?
— А к кому ему ещё было бежать? Он всегда крутил уродские деньги, считался у них одной из «прачечных». А когда эти деньги потерял или украл, то сказал, что это всё из-за меня, и сразу же нарисовались нереальные суммы. Но он ещё не самый больший урод, ведь мог запросто нарисовать и миллион, если вспомнить провальный концерт в «Роснефти».
— Сволочь. Пристрелил бы его, — процедил Борис. — А ты знаешь, Маш, я ведь его действительно прикончу!
— Не возражаю, только не ори об этом при свидетелях, — Мария кивнула в сторону водителя.
Какое-то время они молчали, затем Борис поинтересовался у сестры, чем был вызван её отъезд, больше напоминающий бегство. Оказалось, что в воскресенье вечером она должна была выступать на каком-то сборище у криминального авторитета в Можайске и с вечера субботы находилась там в частной гостинице. Но в воскресенье выяснилось, что ни авторитета, ни Влада — никого нет и не будет, все срочно куда-то укатили. Проторчав в опостылевшем номере ещё ночь и полдня, незадолго до ужина она оделась, сказала охраннику, что собралась погулять, затем дворами вышла на шоссе и стала ловить попутную машину до Москвы. Трудность состояла в том, у Марии не было с собой никаких денег, и лишь спустя час ей попался пенсионер, согласившийся бесплатно её довезти — но только до Голицыно.
— А паспорт что — тоже у уродов остался? — спросил Борис.
— Да.
— Это плохо. Имея в руках твой паспорт, они тебе легко какие угодно долги ещё нарисуют. Чёрт подери, это же очень хреново! Очень! Надо срочно что-то придумывать. Они отступят только тогда, если увидят, что у тебя есть другая, более серьёзная «крыша», либо когда ты поднимешься на какой-нибудь запредельный федеральный уровень. Не захотят портить себе репутацию и отстанут. Будем что-то придумывать…
— Давай завтра об этом поговорим. Мне сейчас просто хорошо оттого, что ты меня забрал, и я с тобой еду домой. Знаешь, очень хорошо! Ты только не выпивай больше так!
С этими словами она положила голову на его плечо и спрятала лицо в распушённом меховом воротнике, тихо сверкающим маленькими искорками в свете проплывающих фонарей и встречных фар.
Минут через двадцать они проехали Кудринскую площадь и Борис начал объяснять водителю особенности проезда в Малый Патриарший. Когда по радио объявляли полночь, машина затормозила и остановилась возле подъезда.
— Сколько нащёлкало? — поинтересовался Борис у кавказца.
— Пять тыщ.
— Нет проблем. Посиди, я вернусь и принесу. Пошли, Маш!
— Куда это пошли? Пусть один остаётся, а другой пусть деньги несёт! У меня работа, чтоб караулить вас тут…
— Я посижу здесь, за меня не бойся, поднимись за деньгами, — сказала Маша.
— Ещё чего… Я тебя тут одну не хочу оставлять. В заложниках останусь я сам! Деньги, Маш, в твоей комнате, где обычно — помнишь?
— В старом немце?
— Ну да, под крышкой должны лежать.
«Немцем» они называли между собой антиквартный бехштейновский рояль. Мария выпорхнула из машины, без запинки набрала квартирный код на стальной двери подъезда и, радостно поздоровавшись с засыпающим консьержем, вскоре была у знакомого порога. Ключ, однако, упорно не проворачивался в нужном направлении: пытаясь разобраться с причиной, она обнаружила небольшой зазор в месте примыкания, толкнула дверь, оказавшуюся открытой, и с изумлением остановилась посреди ярко освещённой прихожей.
Марию поразили не столько незапертая дверь и очевидное присутствие в квартире посторонних — к Борису, бывало, часто захаживали и засиживались до утра какие-то его приятели, — сколько доносившиеся из-за портьеры, прикрывавшей проход в её комнату, негромкие звуки фортепьянной игры. Звучало что-то из сюит Баха. Войдя в комнату, где под потолком в старинной бронзовой люстре ярко пылали все рожки, она увидела за роялем тёмноволосого худощавого молодого человека в чёрном концертном костюме в тонкую серебристую полоску и при галстуке вишнёвого цвета. Молодой человек, заметив вошедшую в комнату Марию, неожиданно резко взглянул на неё, и, не доиграв аккорда, поднялся из-за инструмента.
Едва переведя дыхание, Мария выпалила:
— Извините, Боря меня о вас не предупредил. Мне нужно кое-то посмотреть… под крышкой рояля.
— Конечно, давайте я вам помогу! — незнакомец быстро переместился и помог приподнять тяжёлую крышку.
— Нет. И здесь ничего нет, старый «немец» подвёл, — растягивая слова, задумчиво произнесла Мария. — Простите. Вы не выручите пятью тысячами рублей? Там внизу такси ждёт, мне надо заплатить.
— Хорошо, — пожал плечами незнакомый молодой человек. — Меня зовут Алексей. А как зовут вас?
— Мария.
— Очень приятно. Я не нахожу у себя пять тысяч, поэтому возьмите вот это — здесь двести долларов. Это даже должно быть немного больше. Возьмите на всякий случай ещё одну бумажку — пусть будет триста.
— Огромное вам спасибо, Алексей! Я тотчас же вернусь!
Из трёх бумажек, переданных водителю Борисом, кавказец принял в оплату за поездку только две и вернул третью вместе со сдачей в тысячу рублей. Мария ничего не сообщила брату о присутствии в квартире постороннего, поэтому на лице Бориса нетрудно было заметить недоумение — он не мог припомнить, чтобы прятал в рояль доллары, и тем более не факт, что там под крышкой вообще могли оставаться какие-то деньги. Возможно, что все свои наличные деньги он бросил в машине в гараже под «Ритцем», а квартира была в этом смысле пустой. Так что находка сестрой трёхсот долларов — чем не чудо?
Однако, стоя в ярко освещённом холле в ожидании лифта, Борис с удивлением обнаружил, вертя в пальцах стодолларовую купюру, что она имеет заметные отличия как от современных банкнот, так и от банкнот предыдущей серии, ходивших по миру в девяностые годы.
«Странно. Очень странно, — подумал он, пристально всматриваясь в знакомые изображения и детали. — Цвет какой-то серый. Более блёклые буквы. На щеке у президента Франклина вроде как нет бородавки… Кажется, имеются лишние надписи, они точно есть, только я не могут сказать, где именно. Надо бы сравнить… А вот это — что это такое? Ну да! Вот это фокус!»
— Смотри-ка, Маш! — и он протянул банкноту сестре. — «Series of 1934». Откуда ты такой раритет нашла?
— Ниоткуда. Ты ведь денег, где положено, не оставил. Зато Алексей, твой приятель, одолжил.
— Какой ещё приятель?
— Какой-какой… Ты думаешь, я всех знаю, кто к тебе приходит? Молод и красив, как лорд Галифакс. И, кстати, очень недурно на фоно играет. Не хуже тебя. А может быть — даже лучше.
— Да, да, припоминаю… Я же ждал Смирнова и Гутмана, поэтому дверь оставил открытой. Только с чего это они на ночь глядя припёрлись? И даже не позвонили?
Тут приехал лифт, и спустя менее чем минуту Борис с сестрой уже входили в свою квартиру.
К удивлению Марии, теперь гостей было двое. Рядом с приветливым тёмноволосым молодым человеком в прихожей стоял столь же изысканно одетый господин чуть ниже ростом, с круглым и немного напряжённым лицом.
— Я уже успел представиться, — начал знакомство тёмноволосый. — Меня зовут Алексей. А это — мой товарищ и коллега, Василий Петрович.
— Борис. Я — Борис. А это Мария, моя сестра… А вы, выходит, будете с «Мосфильма»? От Гутмана, наверное? Насчёт моего сценария?
— И да, и нет, — ответил круглолицый. — У моего друга имеются кое-какие соображения, которые ему хотелось бы с вами обсудить.
— О чём речь? Сейчас же и обсудим, — с этими словами Борис помог сестре снять шубу, водрузил её на плечики и широким жестом пригасил всех переместиться из прихожей вглубь квартиры. — С извинениями за простоту и неподготовленность прошу пройти и разместиться на кухне! Чувствуйте себя, как дома!
Войдя на кухню сам, Борис с ужасом обнаружил, что холодильник пуст, а все купленные в пятницу припасы давно и безнадёжно съедены. Зато на дверце холодильника гордо красовалась початая водочная бутылка — та самая пятая, за которой, как теперь выяснялось, он не напрасно возвращался от кассы в торговый зал.
— Пусто. Какая досада! — театрально развёл руками Борис. — Я сейчас сбегаю в круглосуточный подвальчик, тут рядом. Подождём пять минут?
— Спасибо, — сказал в ответ круглолицый незнакомец, представленный Василием Петровичем, — мы не с пустыми руками. Ваши пять минут — наши пять секунд, не так ли, Алексей Николаевич?
С этими словами он прошёл в прихожую, откуда принёс саквояж, из которого извлёк круглую буханку ржаного хлеба с ароматной твёрдой коркой, несколько упаковок с нарезками колбасы, сёмги и осетрины, кирпичик голландского сыра и пачку сливочного масла.
Борис с Марией с восторгом глядели на выложенные на стол яства, поскольку один не ел с воскресенья, вторая — не вкушала битый день с самого утра. Мария сбегала куда-то за четырьмя хрустальными рюмочками, в них налили водки, и задорно чокнувшись, все выпили первый тост за столь нечаянную встречу.
Борис только начал приходить в себя после трёхдневного запоя, едва не ставшего для него роковым, и после тоста первым делом про себя отметил, что теперь, когда его гости тоже выпили, он может более не опасаться ненароком дыхнуть на кого-либо своим перегаром. Второй мыслью было не спешить с расспросами о судьбе его сценария, отданного продюсерам на «Мосфильм», и не затевать прежде времени иных разговоров — в том уязвимом положении, в котором он находился всё последнее время, куда более разумным представлялось сначала выслушать предложения гостей, по интонациям попытаться уловить их настрой и распознать планы, и лишь после этого попытаться перейти к обсуждению деловых вопросов.
Похоже, импровизированное полуночное застолье оказалось более чем уместным, поскольку голодны были решительно все его участники. Мария взялась нарезать и намазать маслом хлеб и выразила восхищение превосходным вкусом ржаной буханки.
— Когда я нашёл этот хлеб на полке в магазине, — охотно пояснил Алексей, — то не ожидал, что он окажется не нашим, а заграничным. Но он и в самом деле неплох.
— У нас, похоже, всё разучились делать, даже хлеб, — пояснил Борис. — Хороший бензин и тот из Финляндии теперь привозят.
— Во всём должны быть свои плюсы и минусы, — вывернулся Алексей, явно не желавший вступать в обсуждение актуальных экономических проблем.
— Минус в том, что мы не выпили за знакомство! — предложила тост Мария.
— Я только «за», — ответил Алексей, взглянув на Марию излишне смело и отчасти резко, отчего она, опустив рюмку, немедленно отвела глаза в сторону.
— Кстати, я должен вам триста долларов, — вспомнил Борис. — Можно, я завтра их отдам? Я оставил деньги на парковке, в своей машине.
— Конечно, — ответил Алексей, отрезая сыр. — Когда тебе будет удобно.
И сказав это, смутился от неожиданной фамильярности.
Однако идея перейти с «вы» на «ты» оказалась удачной и вполне востребованной, за что рюмки были немедленно вновь наполнены и выпиты до дна.
— У тебя оказалась очень странная купюра — тридцать четвертого года, — продолжил взятую тему Борис. — Я первый раз держал такую в руках. Это из какой-то коллекции?
— Да, из коллекции, — немного помолчав, ответил Алексей. — А что?
— Да ничего. Я просто думаю, что у коллекционеров её цена выше номинала раза в два-три. Но это не вопрос, я оплачу, если надо.
— Зачем? Триста долларов, и ни сантима больше.
— Спасибо!
После небольшой паузы, в течение которой участники трапезы разделывались с колбасой и осетриной, разрумянившийся от водки Петрович заметил, что по его мнению гастрономические стандарты отечественных внезапных застолий не менялись на протяжении как минимум последней сотни лет.
— Они немного упростились сразу же после революции, а с довоенных времен мало что изменилось, — авторитетно пробасил он, смахнув салфеткой капусту с губы. — Только водка определённо стала лучше. До войны она была значительно грубей.
— Вот как! — улыбнулась Мария.
Замечание Петровича о довоенной водке представилось Борису более чем уместным, поскольку он был занят поиском предлога, чтобы перескочить на обсуждение интересующих его вопросов по линии «Мосфильма».
— А всё-таки… прошу извинить мою навязчивость, — кашлянув для важности, спросил Борис. — Неужели Смирнов не показывал никому из вас мой киносценарий про Тухачевского? Сам-то он хоть прочитал?
Василий Петрович отрицательно мотнул головой.
— Я никаких киносценариев не видел, — бесхитростно ответил Алексей. — Правда, вместе с дружбой хотел бы предложить тебе помощь по ряду исторических моментов. Я всё-таки историк.
— А я думала, пианист. Ты классно играл, когда я вошла. Это был Бах?
— Да, кажется, в тот момент я играл аллеманду из третьей французской сюиты. Прошу прощения, что сбился, когда вы вошли…
— Я давно не слышала такой вдумчивой и одновременно лёгкой игры. А какая у тебя основная работа?
— Хм… Это сложный вопрос. Я полагаю, что поиск работы станет моей основной задачей в ближайшее время.
— И моей, — добавил Василий Петрович.
— Ну как же так? — искренне изумился Борис. — «Мосфильм» ведь сейчас на гребне, масса заказов, госфинансирование попёрло. Оттуда просто так не уходят. Или вы не с «Мосфильма»?
— Я сейчас всё объясню, — подумав несколько секунд, ответил Алексей, снимая пиджак и развешивая его на спинке стула. — Мы с моим товарищем хоть и представились, но как-то сразу не рассказали о себе. Скажу честно, мне льстит ваше внимание и оценка моих хотя бы… музыкальных способностей. Надеюсь, что дополнительные сведения обо мне вас не разочаруют. Кстати, и о про Тухачевского я мог бы кое-что рассказать, о чём никогда не писали в газетах. Я несколько раз видел маршала в гостях.
Борис, всё застолье излишне нарочито демонстрировавший веселье и дружелюбие, вдруг посерьёзнел и даже как-то потемнел. «Проклятая водка, мешает сосредоточится. Что он несёт, как это он видел Тухачевского? Кто эти ребята? Если они не от Гутмана, то кто они? А если они — квартирные воры? Что тогда делать?»
Алексей не мог не заменить, как изменилось выражение лица Бориса. Тогда он поднялся из-за стола, одёрнул галстук и произнёс нечто совершенно невероятное:
— Думайте обо мне что угодно. Я не жулик и не квартирный вор. Но кто-то из вас оставил входную дверь незапертой — и после нескольких звонков я открыл её и вошёл. Тем более что имею на это пусть небольшое, но неоспоримое право. В своё время я жил в этой квартире и намеревался кое-то уточнить у её новых хозяев. Ведь нынешние хозяева — вы?
— Ну да. Но ты что-то путаешь. Я родился тут в семьдесят втором. А наши с Маришкой родители въехали сюда парой лет раньше. Я хоть и выпил явно лишнего, но в таких вещах не могу ошибаться.
— Он правду говорит, — подтвердила сестра.
— Хорошо. А кто тут жил раньше? Во второй комнате, куда я заглянул мельком, стоит дореволюционный ореховый буфет. Никто из вас не выяснял, откуда он здесь?
— Буфет вроде бы остался от прежних жильцов.
— А кто были — те прежние жильцы?
Борис с досадой подумал о том, что он столь опрометчиво влип в разговор с квартирными жуликами. Но для чего они интересуются такими древностями? Он прописан здесь, как только получил паспорт в восемьдесят восьмом, в девяносто втором квартиру приватизировали, и баста. Что им нужно? Чего они хотят?
— Мама рассказывала, что здесь до нас проживала одинокая старушка, — вступила в разговор Мария. Она говорила совершенно спокойно, даже с какой-то неуловимой исповедальной интонацией. Судя по всему, внезапные страхи своего брата по поводу квартирных мошенников Мария не разделяла. — Старушка умерла где-то в шестьдесят восьмом. Затем квартира несколько лет стояла пустой, и её через Моссовет получил наш дед. Ну а затем жили в ней уже наши родители. Теперь живём мы. Одни.
— Я понимаю, — грустно улыбнувшись, ответил Алексей. — А никто из вас не помнит фамилии старушки?
— Гумилёва вроде. А что?
— Может быть, Гурилёва?
— Да, да, Гурилёва, — уверенно подтвердила Мария. — Отец ещё говорил, что она — вдова какого-то сталинского наркома, погибшего в войну.
— Тогда всё сходится. Эта старушка — моя мать.
— Как такое может быть? — отказался верить Борис. — Я хоть и принял лишнего, но не до такой же степени! Мужики, ведь вы — артисты, и я вами восхищён! Классно придумали, а? Ну, говорите, артисты же? Значит, сценарий вам подошёл? Будем фильм снимать?
Алексей и Василий Петрович переглянулись. А что, в самом деле, может и стоит сыграть на больном интересе этого парня к кинематографу, для которого он, похоже, пока безуспешно строчит сценарии? Ведь всё что им, воскреснувшим из сорок второго, необходимо в эту ночь и несколько ближайших дней — безопасный ночлег, возможность осмотреться и ещё — возможность поговорить с умными людьми. Этот Борис, похоже, человек нормальный и умный, вполне мог бы в чём-то помочь. А без приюта и крова над головой будет вновь и вновь повторяться кошмар минувшего вечера, когда, прибыв в центр города и прогуливаясь вдвоём по знакомым улицам, Алексей с Петровичем вдруг неожиданно почувствовали нехорошее, проникающее сквозь одежду и кожу внимание многочисленных охранников и двух полицейских нарядов, один из которых буквально вперился в их спины у Патриарших и от которого удалось спастись только в бывшем доме Алексея — благо, какая-то дама, выгуливавшая собачку, открывала в нужный момент бронированную дверь в подъезд, консьержка спала, а сама квартира, словно по волшебству, оказалась незапертой!
Но Алексей внезапно вспомнил искренний, тёплый и живой интерес, проявленный к нему стороны Марии, и разыгрывать спектакль с обманом ему совершенно расхотелось. Будь что будет!
Он сосредоточился и улыбнулся.
— Как хотите: можете признать и можете отвергнуть. Но в данный момент времени перед вами стоит сын советского дипломата Николая Савельевича Гурилёва и отчасти знакомой вам Евдокии Семёновны, до замужества Иловайской. Этот человек — я. Родился в Москве на углу Неглинной и Театрального проезда в 1916 году. В тридцать четвёртом окончил школу, успел поработать в издательстве, начало войны встретил в аспирантуре ИФЛИ. В июле был мобилизован, прошёл спецпоготовку, выпущен в звании младшего лейтенанта. Во время выполнения задания в районе Ржева в апреле 1942, видимо, пропал без вести вместе с товарищем. То есть с ним, — Алексей кивнул в сторону Петровича. — А три дня назад мы каким-то чудом очнулись и выбрались из ржевского леса. Петрович, скажи сам несколько слов о себе.
Петрович с явной неохотой подключился к разговору:
— Моя биография не изобилует столь яркими деталями. Родился я в Коломне в 1909-м, в семье железнодорожного инженера. Работал в одном из технических отделов НКВД. На спецзадание вышел в звании сержанта госбезопасности. Ну а далее — всё, как сказал мой командир. Полностью подтверждаю. С апреля сорок второго по апрель нынешнего года где-то, видимо, находился, однако где именно — не имею понятия.
На какое-то время воцарилась звенящая тишина, и посреди этой тишины неожиданно громко вдруг раздался смех Марии:
— Ребята — просто таланты! Перевоплощение и игра — высший класс! Нет слов!
— Да, — радостно поспешил согласиться со своей сестрой Борис. — Сыграно вживую. Детали, образы — не придерёшься. Давайте-ка, братцы, выпьем за вас, что у нас осталось!
— Не надо…
— Я хотел бы кое-что ещё разъяснить…
— Нет, нет, всё! Пьём за вас!
Борис всем своим видом дал понять, что в качестве хозяина застолья он не приемлет никаких отказов, и быстро разлил остававшуюся водку. Бокалы исторгли приятный звон и вскоре были опустошены. Тогда Борис резюмировал:
— Вот теперь — всё. Лично я пить прекращаю. С завтрашнего дня — только работа и творчество. И вместе мы горы свернём.
Когда Борис замолчал, Алексей поднялся из-за стола, подошёл к нему и положил на плечо свою руку.
— Я тоже думаю, что вместе мы сотворим великие дела. Нашему знакомству нет и часа, но уже ясно — мы очень неплохо подходим друг для друга. Но тем не менее я хотел бы ещё раз сказать — всё, что только что я изложил о своём прошлом, а Василий Петрович о своём — это правда. А правда интереснее любой, даже самой невероятной, актёрской игры.
— Ну уж нет! — раскрасневшийся Борис тоже поднялся из-за стола и продолжил, немного запинаясь от хмельной усталости, свою прежнюю линию. — Невероятна именно твоя игра! Извини, но я в этом понимаю толк… Ты — мастер перевоплощения. Да! И я хочу по этой причине выпить именно за тебя!
С этими словами он потянулся за бутылью, однако обнаружив, что она пуста, несколько мгновений глядел на неё, как на предателя, воспалёнными глазами.
— Вот тебе и выпили… Измена…
— Сядь, Боренька, мы уже за всё выпили. Давай кофе заварю?
Алексей с тревогой взглянул на Бориса, который на глазах терял над собой контроль и, казалось, скоро свалится в пьяный сон. Кто знает, сколько он выпил накануне? Вдруг с ним что случится, приедут врачи, полиция, спросят документы, которых у них нет… Бедная его сестра, ей, скорее всего, будет нужно помогать, а они, оставаясь на нелегальном положении, помочь не смогут… Нет, это парня необходимо любой ценой вернуть в чувства, и вернуть немедленно. Но как? А может быть — попытаться немедленно, прямо сейчас сделать то, что он хотел отложить на утро? Сделать — и тем самым подтвердить правоту рассказанной им истории! Хорошо бы, однако поймёт ли всё правильно этот перебравший современный москвич? Тогда откладываем назавтра? — Нет, тоже нельзя… Ну, тогда будь что будет!
И Алексей с силой потряс Бориса за плечи.
— Проснись, товарищ!
— А-а…
— Ты не скажешь, когда в этой квартире последний раз делался ремонт?
— Какой ремонт?
— Нормальный, серьёзный ремонт.
— Не было в ней ремонта, — тихо ответил Борис. — При мне — не разу. Только обои переклеивали и ванну сменили. Куда прикажешь девать книги и рояль, если затевать нормальный ремонт?
— Я тоже так подумал. Вот эта трещина на гипсовой розетке, — и Алексей указал пальцем на потолок, откуда свешивалась освещавшая кухню люстра с пыльным стеклянным абажуром, — я её прекрасно помню, она появилась в конце тридцатых, когда дом был ещё новый и дал осадку. А раз в квартире не было ремонта — значит, кое-что здесь должно было остаться с тех пор, и мы сейчас это проверим. А заодно убедим гостеприимных хозяев в нашем древнем и отчасти знатном происхождении.
— Что ты хочешь найти? — поинтересовался Петрович.
— Тайничок из стены. Не сравнить, конечно, с твоим кладом на рублёвской водокачке, но всё-таки…
Расчёт Алексея удался. Борис сразу же перестал клевать носом в стол и заинтересованно поднял голову. На лице Марии промелькнула тень обеспокоенности:
— Тайник? В нашей квартире? Разве такое возможно?
— Да, возможно, — доброжелательно ответил Алексей. — Я всё сейчас объясню. В последний раз я был здесь в октябре сорок первого года, в двадцатых числах. Город тогда находился уже на осадном положении, увольнений не давали, но отец позаботился, чтобы меня отпустили на несколько часов. Отец тогда собирался в командировку в Англию, добираться до которой нужно было через Тегеран и северную Африку, и он не был уверен, что вернётся обратно живым. Также было неясно, что станет с Москвой… Он хотел показать мне кое-какие из своих бумаг и вещей, которые он называл важными не только для меня, но и для страны. Однако времени почти не было, мне требовалось вернуться до комендантского часа. Мы с отцом лишь успели выпить чай и он сообщил, что устроит в стене на кухне, где-то под вентиляционной вытяжкой, небольшой тайничок, в котором оставит для меня наиболее важные вещи. Тогда готовились к сдаче Москвы и даже было правительственное постановление по закладке тайников и другим подобным приготовлениям для подпольной борьбы. Я уверен, что отец своё слово сдержал, и тайник оставил. Потом, конечно, когда немцев отогнали от Москвы, он мог забрать из тайника свои вещи, однако то, что предназначалось для меня, думаю, должно было сохраниться. Ведь мы с ним твёрдо договорились, что если я останусь в живых, то заберу их оттуда сам.
— Ну и ну, — покачал головой Петрович, услышавший эту историю впервые.
— Интересно, — задумчиво отозвалась Мария. — Ремонт всё равно скоро делать, так что можно и поворошить стену. Как ты, Борь, думаешь?
— Я ничего не понимаю… А что для этого надо?
— Простучать стенку возле вытяжки и, если что найдём — вскрыть.
— Валяй…
Добившись разрешения Бориса, Алексей взял в руки деревянную поварёшку, поднялся на стул и начал потихоньку простукивать стену. Несколько раз он замирал, прикладывал ухо к штукатурке, возобновлял удары и перепроверял результат, тихонько проходясь по стене костяшками сжатых в кулак пальцев.
— Вот здесь, похоже. Можно нож?
Петрович без энтузиазма протянул Алексею короткий, но массивный кухонный нож. В его глазах нетрудно было прочесть грусть и сожаление о затеянном его другом поиске маловероятного клада. Ведь в случае если поиск закончится неудачей, то им скорее всего придётся лишиться этого вполне гостеприимного крова и обнаруженных в нём доброжелательных знакомых. Забавно, что этот захмелевший москвич с сестрой, имеющие какое-то отношение к кинематографии, до сих пор видят в них актёров. Нет, рано, рано пришла в голову Алексею мысль искать тайник, без неё они бы уже спокойно улеглись спать, а наутро, глядишь, что-нибудь и придумали…
Тем временем Алексей, как заведённый, перепачкав дорогие брюки обильно сыплющейся вниз известковой пылью, выбивал один за другим куски штукатурки. Один из них, отлетев в сторону, вдребезги разбил фарфоровый чайник, чем не мог в очередной раз не расстроить Петровича: «Ну вот, уже и материальный ущерб нанесли…»
— Глянь! — Алексей остановился. — Кругом извёстка, а тут — цемент.
Действительно, на участке стены, с которого удалось содрать штукатурку, отчётливо выделялся шов тёмно-свинцового цвета. Да и цвет кирпича над этим швом, казалось, отличался от остальной кладки.
Приложив ещё немного усилий, Алексей расчистил уложенный плашмя кирпич, который явно был заделан в толщу стены значительно позднее. Он попытался расковырять ножом цементный шов, однако из этого ничего не вышло, шов был крепок, как металл. «Наверное, батя чистый цемент развёл. Искать песок времени не было. И ещё удивительно, как у него вообще на всё это времени хватило. При его-то занятости!»
— Нужно что-то, чтобы пробить шов. Не поищешь? — обратился Алексей к Борису.
Тот кивнул и удалился из кухни. Спустя минуту он вернулся с мощной дрелью в руках.
— Отлично!
— Лучше не бывает! — Петрович поспешил охладить азартный восторг Алексея. — Мы что, весь дом хотим в свидетели позвать? Три часа ночи!
— А ведь он прав, — заметила Мария. — Может, отложим всё это до утра, а сейчас пойдём спасть?
Между тем уже сам Петрович, быстрыми шагами выйдя в коридор, возвращался оттуда со знакомым нам автоматом ППШ в руках.
— Прикладом, Лёша, приложи его. От пары ударов прикладом никто не проснётся.
— Что это? — с изумлением вскрикнул Борис, протирая глаза.
— Боевое оружие бойцов спецдивизии НКВД СССР. Приклад, между прочим, не берёзовый, как у пехоты, а из дуба. Лови!
И он протянул Алексею тяжёлый автомат.
— Погоди, отцеплю магазин и проверю, чтобы патронник был пустой. А то вдруг потом заклинит…
Он проверил затвор, передал Петровичу диск с патронами, получше расположил себя для нанесения удара и, вложив все силы в короткий и энергичный удар, нанёс его прямо в центр подозрительного кирпича.
Ко всеобщему удивлению, кирпич оказался тонкой плинфой, поставленной на длинное ребро и потому нуждавшейся для крепления со стеной в прочном цементном растворе. Глиняная переборка разлетелась по своему центру, осыпав мебель и пол осколками. Алексей запустил руку в образовавшийся проём, потом с жаром схватил автомат и принялся добивать уцелевшие от первого удара края переборки. Наконец, ему удалось вытащить из стены пыльный металлический контейнер. Он слез с табуретки и, переведя дух, медленно и торжественно возложил его на стол, с которого Петрович едва успел сдвинуть в строну рюмки и тарелки.
— Ну вот… Всё верно. Отец слово сдержал.
На кухне воцарилась тишина. Алексей протёр ладонью верх контейнера, которым отказалась жестяная коробка от конфет «Октябрьские» с изображением крейсера «Аврора», посылающего всем навстречу яркий луч прожектора. Шов между коробкой и крышкой был укрыт пергаментной лентой на казеиновом клее, многочисленные подтёки которого спускались до самого дна. Прежде чем попытаться срезать эту ленту ножом, Алексей взглянул на тех, кто стоял рядом.
Петрович теперь выглядел наиболее спокойным. Он отлично понимал, что что бы ни находилось в контейнере, всё теперь окажется на пользу, и экспромт Алексея вполне удался. Борис, напротив, был полностью сражён произошедшим; он переминался с ноги на ногу, покачивал головой, и его губы что-то беззвучно произносили. В глазах Марии угадывался живой интерес и отчасти восторг, которые она, судя по всему, старалась до поры сдерживать. Она то и дело переводила изумлённый взгляд с легендарного автомата на запылённую коробку из сорок первого года, и когда её глаза встретились со взглядом Алексея, то она, нисколько не смутившись, попросила:
— Открывай же скорее!
Не без труда освободив крышку от намотанной в несколько слоёв задубевшей пергаментной ленты, Алексей во всеобщем молчании медленно открыл коробку. В ней лежали толстая тетрадь в дерматиновом переплёте, три конверта и маленький плюшевый медвежонок. Алексей немедленно взял в руки игрушку, приподнял её повыше и с восхищением произнёс:
— Это мой друг детства! Мама говорила, что подарила его, когда мне исполнился год. То есть — в семнадцатом году…
— Невероятно! — прошептал Борис.
Алексей раскрыл верхний конверт — в нём лежал паспорт Французской республики, выписанный на имя Алексея в 1939 году, с чёткой фотографией, полностью повторяющей его нынешние черты и даже — фасон его галстука. Пока Алексей, слегка обескураженный, с изумлением вчитывался в текст документа, Мария, придвинувшись поближе, разглядела фотокарточку.
— Похож! Ведь это же ты, ты! Просто невероятно!
Отложив паспорт, Алексей раскрыл остальные два конверта. В одном лежали семь тысяч советских рублей, во втором — пятьсот долларов мелкими и достаточно изношенными банкнотами.
Борис, удивившись, поинтересовался:
— Семь тысяч рублей в начале войны — это много?
— По тем временам достаточно, — ответил Алексей. — Отец получал чуть больше тысячи, мама — шестьсот. Видимо, это были их накопления. Если они оставили для меня на случай сдачи Москвы советские деньги, то, значит, верили, что всё равно мы победим.
— А вот пятьсот долларов для сталинского наркома — это сенсация! — произнёс Борис.
— В чём сенсация?
— Для сегодняшних министров такие суммы — это вроде чаевых. В подобных тайниках у них в особняках сегодня хранятся миллионы и десятки миллионов, полученных, разумеется, не через кассу. А тут — у сталинского наркома всего пятьсот, и это для него, видимо, была весьма приличная сумма. Господи, каких людей мы потеряли!
— Мой отец не был полноценным наркомом. Он был советником Молотова в наркомовском чине. Настоящий же нарком получал в месяц около двух тысяч.
— Ну не долларов же, а рублей! — не унимался Борис. — А тут — пятьсот долларов сбережений для человека из правительства! Что за страна была у нас, когда не воровали!
— А разве в правительстве можно воровать? — простодушно спросил Алексей.
— Всё, можешь больше о себе ничего не рассказывать, — неожиданно вступила в разговор сестра Бориса. — Ты — оттуда, ты — из того времени, теперь это всем понятно. Из эпохи, когда, быть может, и расстреливали без суда, но зато не крали, как крадут сегодня. Лёша, миленький, теперь нам надо всё бросить и думать, как тебе выжить в нынешнем мире. Ты ведь в нём пропадёшь…
— Постараюсь не пропасть.
— Он постарается! — добавил Петрович. — А я ему помогу, поэтому всё будет хорошо. Только давайте-ка дискуссии оставим до утра и как-нибудь попробуем поспать.
— Погоди, Петрович, ещё тетрадь надо посмотреть…
Алексей осторожно отогнул задубевшую от времени обложку, пробежался глазами по нескольким абзацам и заглянул на следующую страницу. Едва заметно вздохнув, негромким голосом он начал читать:
«Дорогой мой Алексей! Сегодня двенадцатое ноября. Обстановка в городе нормализовалась, паника давно прекращена. Большая часть аппарата уже в Куйбышеве, в моём управлении вместо двенадцати человек осталось трое. Сталин и Молотов в Москве, об их отъезде речи не идёт.
Часто вспоминают 1812 год, Кутузова и говорят, что с потерей Москвы Россия не потеряна. Никто не сомневается в нашей окончательной победе. На случай, если фашистам всё-таки удастся ворваться в нашу столицу, разработаны планы диверсионной борьбы. Возможно, сынок, что ты откроешь этот тайник, находясь на спецзадании. Поэтому я оставляю тебе немного наших денег, а также денег США — они остались от апрельской командировки, мне разрешили их не сдавать, так как намечалась новая поездка за океан. Только будь осторожен, если на оккупированной фашистами территории будешь расплачиваться американскими деньгами. По достоверной информации, циркулирующей в НКИД, Соединенные Штаты ищут повод, чтобы уже в самое ближайшее время прервать нейтралитет и вступить в войну.
Оставляю также тебе твой французский паспорт. Он подлинный, и пока Германия признаёт «государство Виши», он поможет тебе в конспиративной работе. Не удивляйся наличию этого документа и не подумай, что твоим родителям могла когда-нибудь прийти в голову мысль о предательстве и бегству за границу. Просто после рекомендации в кадровый резерв иностранного отдела разведки ты должен был ещё в прошлом году выехать во Францию для стажирования. После падения Парижа у нас почти не осталось там доверенных людей, поэтому единственное, что могу предложить, если тебе потребуется там связь, — разыскать известного тебе почитателя Бунина с бульвара Тампль. Или княгиню Зарубину, которая, как ты помнишь, всё сетовала, что Россия её не отпускает, поскольку она вынуждена жить на бульваре Крым. Твой французский паспорт мне на днях собственноручно доставил в кабинет сотрудник ИНО, поэтому можешь считать, что данное твоё прикрытие с инстанцией согласовано.
Действуй по обстановке, сынок, не мне тебя учить. Но, идя на смертельный риск, помни, что величие социалистической Родины и историческая правота наших идей не позволяют нам разменивать жизнь на пустяки. А если придётся жизнь отдать — не забывай, что враг должен заплатить за неё самую высокую цену.
Мама отказалась от эвакуации и по-прежнему в Москве. Она передаёт тебе самый горячий привет и целует.
Целую тебя и я. Наше дело правое и мы обязательно победим. Германия ещё горько пожалеет о своём вероломстве.
Твой НГ.PS: Это не всё. Прочти далее и действуй осторожно».
Последнюю фразу из отцовского письма Алексей не озвучил, но запомнил. Когда он завершал чтение, то было заметно, что на его глазах выступили слёзы, и он позволил им, оставляя на щеках широкие борозды, скатиться вниз.
— Узнать бы, как сложилась судьба у Николая Савельевича, — тихо произнёс Петрович.
— Сейчас, подождите несколько минут, — сосредоточенно и негромко ответил Борис, после чего поднялся и ушёл в другую комнату. Мария вздохнула и пристально посмотрела в глаза Петровичу и Алексею.
— Не могу поверить. Точно окунулась в сорок первый год. Какое же страшное было время! И как быстро мы обо всём забыли, хотя память — вот, совсем рядом, — она указала на коробку, — и мы прожили рядом с ней всю жизнь!
Вскоре вернулся Борис и не поднимая глаз сообщил, что Николай Савельевич Гурилёв в декабре 1941 года был направлен с дипломатической миссией в Великобританию и погиб на эсминце в Норвежском море.
— Откуда ты так быстро об этом узнал? — поинтересовался Алексей.
— Через компьютерный интернет-поиск. Хорошая вещь, я покажу тебе, как она работает.
— Я примерно представляю. А этот поиск вдруг может — ошибаться?
— Увы, нет… Я искренне соболезную.
— Да, отец мог бы пожить ещё… Ему ведь не было даже пятидесяти. Дождался бы Победы… А так — погиб, даже не узнав о ней.
— Как и миллионы других, — Мария всхлипнула. — Миллионы не дождались. Господи, как всё-таки это страшно и несправедливо! И никто этого сейчас не понимает. Ведь мы только делаем вид, что помним войну, а на самом деле? Нужно не просто помнить, а нужно чувствовать, нужно понимать!
Алексей, ничего не ответив, собрал документы в коробку и спросил разрешения закурить. Борис немедленно принёс пепельницу. Алексей курил один, и понимающее молчание всех остальных казалось тягостным и даже гнетущим. Он глубоко затягивался, докурил быстро и, скомкав сигарету, твёрдым голосом произнёс, обращаясь с Борису и Марии:
— Утро вечера мудренее. Пора бы поспать. Вы ведь не будете возражать, если мы заночуем у вас?
— О чём речь? Я сейчас всё организую.
— Спасибо.
Борис провёл Алексея и Василия Петровича в одну из комнат, где расстелил диван и разложил на полу матрац с одеялом.
Все пожелали друг другу спокойной ночи, и в комнатах наркомовской квартиры вскоре погас свет.
Глава пятая Роковой дневник
Зачитывать вслух письмо отца из обнаруженной в тайнике тетради было настолько горестно и тяжело, что Алексею стоило огромных усилий сохранять самообладание и не допустить, чтобы из глаз хлынули слёзы. Именно поэтому, огласив основную часть письма, он с огромным для себя облегчением закрыл тетрадь, словно распахнувшееся от сквозняка времени окно.
Когда Петрович заснул, Алексей включил крошечный ночник и вернулся к отцовскому посланию. Страницы, с которых было зачитано отцовское послание, были лишь вклеены в тетрадь, исписанную незнакомым мелким почерком. Рукопись предварял оставленный рукой отца короткий комментарий, из которого следовало, что тетрадь эта была написана его однокашником по университету Платоном Фатовым. Гражданская война и эмиграция разлучила их, но три года назад Николай Савельевич неожиданно встретил Платона в Москве на одном из приёмов по линии НКИД.
Да, да, это действительно было так. Алексей вспомнил, как осенью тридцать восьмого года у них до поздней ночи гостил высокий светловолосый человек в шикарном тёмно-бежевом костюме, представляя которого отец упомянул, что тот «только что из Берлина». Гость был весел, остроумен, болтал о недавно вспыхнувшем романе Ремарка с Марлен Дитрих, рассказывал о своём знакомстве с Караяном, проча тому славу Тосканини, а также делился впечатлениями о грандиозной архитектурной выставке в германской столице, откуда он был не прочь перенять ряд принципиальных идей для перестройки Москвы. Но что было особенно любопытно — из его уст Алексей впервые услышал показавшееся тогда невероятным суждение о том, что в гитлеровской Германии есть силы, которые склоняются к возобновлению добрых отношений с Советским Союзом и что в скором времени Берлин и Москва должны будут сделать навстречу друг другу весьма значительные шаги. Эти слова гостя так бы и остались экстравагантной причудой, если бы в августе тридцать девятого он не вспомнил о них в связи с неожиданным заключением советско-германского договора. Тогда же Алексей окончательно убедился, что отцовский приятель-эмигрант, владеющий подобного рода информацией и свободно перемещающийся между Москвой и заграницей, не может не быть связаным с определёнными советскими органами, и поэтому сразу же зарёкся поменьше о нём думать или, лучше всего, — забыть.
Однако забыть белокурого красавца не получилось, поскольку Платон Фатов, как следовало из составленного отцом комментария, в начале ноября 1941 года снова появился в столице и прожил в их квартире несколько дней.
Углубившись в дальнейшее чтение, которое представляло собой оставленный Фатовым дневник с описанием событий, происходивших с ним начиная с конца июля 1941 года, Алексей с изумлением и немым восторгом начал понимать, зачем и во имя чего отец поместил эту тетрадь в тайник и с чем, возможно, связано его собственное фантастическое воскрешение спустя семьдесят лет после войны.
Итак, вот что было написано в той тетради.
«8/XI-1941
Восьмое ноября — по советскому табель-календарю, пока никем не отменённому, — второй выходной… После прошедшего снегопада в городе немного потеплело. Вчерашний парад на Красной Площади и речь Сталина, транслировавшаяся всеми радиоточками, заметно подняли дух и вдохнули уверенность, что вражеский натиск удастся остановить. И словно в подтверждение надежд, что прежняя жизнь ещё может вернуться, зима на полшага отступила, подарив ещё одну передышку предзимья — короткого, но всё ещё немного согретого уходящим теплом лоскутка времени между беспокойными осенними сумерками и близящейся ночью года. «Не греет камин, и только глинтвейна горячий глоток вернуть мне способен рассудочность мыслей и прежнюю жажду любви…» Да, только здесь и теперь, пожалуй, я начинаю понимать в полной мере, до какой же степени я любил это задумчивое и мимолётное предзимье в моей прежней развесёлой и лихой московской юности! Никакая, даже самая роскошная европейская осень не сравнится с закатом осени московской — слякотным, промозглым, но зато, как ничто другое, располагающим к сосредоточенному ожиданию и тихой надежде.
Надежде!.. Что ж — пожалуй, я и в самом деле отказываюсь замечать, насколько я постарел и как изменился мир вокруг! Уж чего-чего, а надежды-то у меня как раз и нет! После того как сегодня в полночь истечёт короткий срок, положенный с момента моего приезда в Москву для прописки, я снова сделаюсь нелегалом. Стану вне закона в стране, которую всегда почитал как родную мать и которой старался служить честно и беззаветно все последние долгие годы. Злоупотреблять доверием и гостеприимством достигшего государственных высот Николая, заставлять его идти на риск, приютив в своей квартире эмигранта и беглеца с подложными документами, сумевшего одурачить НКВД в Архангельске, на глухой северной станции и на платформе дачного поезда в подмосковной Лосинке, — я не посмею ни единого лишнего дня. Мой предстоящий путь теперь ясен и необратим — ближайший сборный пункт ополчения Грузинском валу, где не смотрят документы. Ну а потом — пара ночей в каком-нибудь пакгаузе вместо казармы, винтовка из музея времён Балканского похода, как вчера рассказывала про вооружение ополченцев любезнейшая Евдокия Семёновна, мёрзлый окоп под Можайском, ну а далее — ваше слово, госпожа судьба! Вполне догадываюсь, каким именно будет это слово, однако не ропщу, не жалею и не молюсь.
Вознёсшийся под самые кремлёвские звёзды Николай Савельевич (а ведь когда-то — просто Николашка, выпивоха и фрондёр) сейчас на работе и вернётся из наркомата, как предупредил, часов в пять утра, не раньше. Евдокия Семёновна будет находиться в эвакуационном комитете на Курском вокзале до нескорой, судя по её словам, отправки в Ср. Азию эшелона с музыкантами, посему мне предстоит оставаться в их квартире одному. Лучшего для себя не пожелаешь — тишина за наглухо задраенными окнами, неизвестность, тусклый свет настольной лампы, эта тетрадь… Если начнётся германский авианалёт и объявят тревогу — спускаться в бомбоубежище не стану, поскольку не могу лишний раз рисковать, выходя на улицу без документов. Будь что будет. Если то, во имя я добирался сюда через четыре границы, имеет значение и действительно нужно для России, то до утра, я уверен, со мною ничего не должно произойти. Полагаю, что я успею и всё, что должен, изложить в этой тетради, словно на исповеди.
Дай-то бог вспомнить, когда я последний раз исповедовался? В тринадцатом году? В шестнадцатом? Да, в шестнадцатом, поскольку уже шла война, и поэтому церкви понемногу снова стали заполняться людьми. Но у меня, помню, тогда ничего не вышло: равнодушный и неопрятный попик никак не вязался в моём представлении с предстоянием Господу Богу, поэтому после невнятной скороговорки, которой он ответил на мой исповедальный монолог, я решил не подходить к причастию и сразу же покинул храм. Тогда же я подумал, что точно так же, вместе с угасающей русской церковью, угасает и прежняя жизнь, и возлюбленная мною Москва.
Угасание Москвы отложилось в моей памяти несколькими последовательными волнами. Первой волной был немецкий погром в октябре четырнадцатого года с юной девицей, растерзанной и брошенной умирать в луже крови на мостовой Кузнецкого возле магазина «Швабе». Эта нелепая и бессмысленная смерть, которая никому не поможет, ничего не решит и при этом завтра же будет всеми забыта, отложилась в моей душе печатью отчаянья и навсегда похоронила радушие и былую приветливость старосветской столицы. Второй раз я почувствовал холод перемен спустя пару лет, когда у меня в трамвае прилюдно отобрали кошелёк, я взмолился о помощи — и вдруг понял, что вокруг меня толпятся совершенно другие люди, всецело равнодушные и чужие. Потом были истязания и бессудные расстрелы юнкеров и офицеров, к которым я, как вольноопределяющийся, едва было не примкнул, разруха, книги вместо дров, бледное лицо матери, когда она отвозила собранные в узел семейные драгоценности в Сходню, чтобы на какой-то спецдаче передать их столоначальнику из ВЧК для оформления нашей семье разрешения на отъезд за границу.
Далее — эмиграция, голодный месяц в сыром таллиннском подвале, где мы застряли из-за потери ничтожной справки, затем дорога через Польшу в вольный город Данциг, где нас в очередной раз ограбили, и наконец Берлин. Здесь, наконец-то, мы смогли перевести дух и получить поддержку, поэтому я всегда буду благодарен этому городу за своё спасение. Вскоре отец сумел открыть семейный магазин антиквариата — сначала на Потсдамском шоссе, затем — поближе к центру. Из-за забот, связанных с этим магазином, родители вскоре угасли, но я хотя бы перестал голодать и даже смог жениться, хотя и не вполне удачно.
И ещё, конечно же, — все эти годы со мной пребывала постоянная и неизбывная тоска, сделавшаяся естественным фоном моего существования… Именно эта тоска — не знаю, по самому ли себе или по умирающей родине, — спустя десять лет сподвигла меня подружиться с некоторыми советскими представителями и начать им тайно помогать. И в тридцать пятом, когда я вновь оказался в Москве на международных профсоюзных курсах, которые на самом деле были курсами красного шпионажа, я с радостным воодушевлением наблюдал за удивительным возрождением всего того, что в моём представлении должно было погибнуть давно и безвозвратно.
Поскольку я лично или через короткую цепочку своих знакомых и родственников знал многих персоналий в советском руководстве, я не питал иллюзий по поводу того, что эти перемены к лучшему — результат чьей-то личной прозорливости или неожиданной правоты бредовой и порочной коммунистической теории. Было очевидно, что перемены идут от народа, в котором революция приоткрыла и высвободила какие-то важные энергетические узлы. Если это было так — то оно означало, что все мы стоим на пороге невиданного в нашей истории рывка в будущее, на пороге воплощения самых сокровенных и веками под спудом копившихся представлений и надежд о прекрасном и благородном грядущем мире. О новом мире, до деталей, возможно, похожего на то «небесное царство», веру в которое у меня когда-то пресёк дурной и ко всему равнодушный служитель культа. А вот эта внезапно открывшаяся мне новая вера по-настоящему давала силы и желание жить, хотя я как ненавидел, так и продолжал ненавидеть марксизм и все его советские производные. Но и в не меньшей степени я ненавижу надменную европейскую рациональность, убеждающую, что жить следует исключительно сегодняшним комфортом и состоянием. Меня всегда веселили интеллектуальные потуги, с помощью эти кретины пытались и до сих пор пытаются объяснять непонятную на Западе «русскую душу». Для меня же всё давно очевидно: главное и принципиальное отличие русской души от западной — это вера в Грядущее, в котором возможны и оправдание, и прощение, и неведомая новая жизнь.
Единственное, чего я остерегался — не дать этой своей внезапно вспыхнувшей любви к преображающейся России угаснуть от какой-нибудь случайной осечки или неудачного личного опыта. Именно поэтому я был очень рад, что бывал в СССР исключительно короткими и нечастыми наездами, и поэтому имел возможность культивировать свои чувства к этому столь мне любезному неведомому новому миру преимущественно в хрустальной теплице своей души.
Я по-прежнему горжусь тем, что достаточно много сделал для советско-германского сближения в 1938–1939 годах, отправляя в Москву шифровки о настроениях в руководстве Рейха. Моя информация была весьма высокого уровня, я черпал её, в частности, из бесед со Шпеером, вращавшимся в ближнем круге Гитлера, с которым мне ещё при жизни отца удалось познакомиться в архитектурной мастерской Трооста, или из разговоров с рейхсмаршалом авиации Герингом, который полюбил наведываться в мой салон, находившийся по соседству с его министерством, в поисках редких картин и старой бронзы. Я истово верил, что если между СССР и Германией не случится войны, то эти прекрасные ростки нового в моей стране со временем обязательно разовьются в прочное древо здорового, наполненного творческим началом и внутренней красотой грядущего бытия.
В силу этой причины нападение Германии на СССР явилось для меня не просто знаком вероломства и предстоящих невиданных утрат, а прежде всего оскорблением моих самых глубоких и искренних ожиданий. В отличие от других, я мало следил за положением дел на фронтах, меня гораздо больше интересовало, как поведёт себя русский народ в час испытаний. Я скупал и прочитывал все немецкие и шведские газеты, слушал английское и московское радио и даже специально заходил в различные бары и кафе, чтобы не пропустить возможность пообщаться с кем-нибудь из немецких офицеров, которые могли иметь отношение в восточному фронту и поведать что-то важное для меня. Мне было необходимо знать, не произойдёт ли с народом в России та страшная метаморфоза, что надломила его в минувшую войну, и не загаснет ли в нём ещё не успевший набрать силу огонь веры в свою лучшую судьбу — хотя с каждым днём войны я всё отчётливее начинал понимать, что скорее всего, все эти «огни» и «ростки» — не более чем выдумки моей погибающей души, не выдержавшей столкновения с рациональностью и цинизмом западного мира.
Мои первые дни в осаждённой Москве, когда в по-прежнему уютной квартире Николая Савельевича я смог, наконец-то, отогреться и прийти в себя, не прибавили мне надежды. Бесконечные разговоры о недавней страшной октябрьской панике, о толпах москвичей, бросивших всё и рванувших из города, словно с тонущего корабля, о госпитале с ранеными, откуда удрали врачи и где перевязки и уколы бойцам приходилось делать старушкам-нянечкам, о разграбленном озверевшей толпой эвакуационном эшелоне в Мытищах или о лагерном пункте в подмосковной Капотне, откуда 16 октября сбежала охрана и уголовники разбрелись по городу, — все эти свидетельства распада воспринимались мной значительно тяжелее, чем смакующие поражения Красной Армии выпуски Die Deutsche Wochenschau[10]. А чего стоила поведанная Евдокией Семёновной история о том, как буквально пару недель назад, во время утренней передачи советского радио, в приёмниках по всей Москве вдруг зазвучал Horst Wessel, нацистский партийный гимн? Если подобная диверсия стала возможной в святая святых красной пропаганды, то нетрудно представить, с каким остервенением и ненавистью в других местах люди должны были разрушать и затаптывать в грязь свои недавние идеалы… А мои собственные разговоры с самыми различными людьми в поезде и на станциях, а также беседа с мрачным шофёром таксомотора, который привёз меня сюда, — отовсюду сквозила убеждённость, что Москва будет непременно немцами взята! Хотя само по себе наличие такси в городе, от предместий которого до переднего края врага остаётся не более нескольких десятков километров — уже неплохой знак.
И вдруг совершенно неожиданно я узнаю от милейшей Евдокии Семёновны, что в Зале Чайковского с середины октября открыт сезон и каждый день там идут концерты, смещённые, правда, из-за комендантского часа на светлое время, а всю последнюю неделю в соседнем Мюзик-холле выступает джаз! И я, наплевав на отсутствие прописки и разрешения на въезд, отправляюсь на Триумфальную в кинотеатр «Москва» смотреть только что вышедший на экран кинофильм «Дело Артамоновых». Ну а уже после сеанса, как когда-то в лучшие годы, гуляю по Тверской, где по-старому работают кафе, рестораны и даже открыт Елисеевский гастроном! Там же я становлюсь свидетелем сцены, будто бы нарочно поставленной неведомым режиссёром: из притормозившего автомобиля вдруг выходит генерал-майор Рокоссовский, его сразу же обступает толпа москвичей, я оказываюсь рядом и слышу, как на задаваемый всеми один и тот же вопрос «удержим ли Москву» Рокоссовский отвечает, что «удержим во что бы то ни стало» и что «силы у нас есть!» От честного и спокойного голоса генерала проходит страх — и я внезапно понимаю, что снова вижу перед собой тех же самых полюбившихся мне людей, которых я встречал и которыми не переставал восхищаться в счастливые времена моих прежних к ним визитов.
Всё это означало, что мой новый мир и моя новая вера — выдуманные или реальные, не знаю, — вновь обрёли под собой опору и ось для развития. Стало быть, все мои скитания и жертвы были не напрасны, как не стала — очень сильно надеюсь! — напрасной и эта последняя история, в разгар войны перенёсшая меня из благоустроенного осеннего Берлина в холодную Красную столицу.
Но — обо всём по порядку.
Август 1941
Эта последняя моя история началась в Берлине в середине августа.
Шла седьмая неделя германо-советской войны. Нося в кармане с тридцать первого года германский паспорт, имея собственное заведение на престижной Краузенштрассе и поддерживая вполне искреннюю дружбу с весьма многими влиятельными персоналиями в высшем руководстве Рейха, я опасался, что мне будет непросто проявлять равнодушие или, не дай бог, поддержку германскому наступлению на Россию, и поэтому предполагал, что предельно сокращу своё появление на людях или даже надолго уеду в Верхнюю Саксонию, где в деревенском домике доживал свой век двоюродный брат отца, престарелый царский генерал Рощаковский.
Однако мне не пришлось скрывать своё лицо. За исключением единичных случаев, когда в каком-нибудь кафе подвыпившая компания эсэсовцев начинала орать тосты за победу «над жидо-большевизмом», большинство берлинцев были не в восторге от этой авантюры фюрера. Все, кто знал меня, в разговорах со мной были предельно воздержаны, аккуратны и даже, как мне казалось, хотели выразить и передать мне своё сочувствие. Если газетные репортажи о сбитых английских бомбардировщиках порождали у большинства берлинцев естественную из их положения ненависть и законное чувство мщения, то фотографии мёртвых красноармейцев и горящих советских городов вызывали молчание и оторопь, и я многократно обращал внимание, как многие стараются поскорее перевернуть газетный лист.
Сначала я не мог понять, с чем связаны эти неожиданно возникшие и нетипичные для уверенных в своих силах немцев настороженность и скепсис — ведь репортажи с восточного фронта были бодры и предрекали скорую победу. Я полагал, что немцы, привыкшие добиваться успеха путем концентрации усилий, подспудно не приемлют войну на невиданном в человеческой истории фронте, растянувшемся от Арктики до Чёрного моря. Ответ на эту загадку сообщил мне за второй или третьей кружкой пива в ресторане на Курфюстендам мой давнишний знакомый полковник СС Мартин Бюркель: разоткровенничавшись, он признался, что «фюрер дезинформирован насчёт влияния евреев в СССР, в результате чего Германия оказалась втянутой в борьбу с великим русским народом — с самым, возможно, близким к нам народом Европы». Я принял это объяснение, и отнёс сохраняющуюся в остатке его враждебность к евреям на эсэсовское воспитание. Интересно, что бы сказал простодушный Мартин, когда бы знал, что прабабка его собеседника была чистокровной еврейкой, а единственным, что связывало мою семью с Германией, были безупречные рекомендации, данные немецким управляющим моему отцу, работавшим до революции в Обществе Фохта…
Впрочем, для подобных казусов в нынешней Великогермании имеется замечательная формула: «У нас фюрер лично решает, кто в Рейхе еврей, а кто — нет». Жаль, что фюрер равнодушен к антиквариату, иначе я имел бы возможность завести приятельство и с ним. Ведь если верить слухам, то еврейской крови в жилах фюрера окажется даже поболее, чем в моих…
Но, право, я начинаю увлекаться и уходить от основной темы. Так или иначе, я принял решение не уезжать из Берлина, поскольку, во-первых, моим привычным занятиям здесь ничто не угрожало и, во-вторых, я не чувствовал неудобств из-за того что вынужден скрывать своё настроение и свои чувства в разговорах о войне — у большинства берлинцев они были почти такими же, как и у меня. К тому же, должен признаться, в произошедших изменениях для меня имелся безусловный плюс — после интернирования и отъезда из Берлина советского посольства я отныне мог не опасаться провокаций или даже мести со стороны людей Деканозова[11]. Дело в том, что в декабре тридцать девятого года мои контакты с Москвой прекратились, поскольку абсолютно все люди, с которыми я поддерживал связь, без предупреждения исчезли, шифры не были обновлены и я был вынужден закопать радиопередатчик в саду. В ноябре сорокового меня неожиданно разыскали и привезли на встречу с новым советским резидентом. На этой встрече мне почти в ультимативной форме были предъявлены чрезмерные и просто вопиющие требования, ставящие под угрозу не просто безопасность меня одного, но и многих близких мне людей. Я ответил тогда, что беру время на раздумье, однако новый резидент не мог не понимать, что на самом деле я отказываюсь от сотрудничества с Советами. После той беседы я дважды получал условные сигналы с приглашением на конспиративную встречу, но всякий раз на них не реагировал. Разумеется, в моей голове рождались и прокручивались один за другим сценарии возможной мести или расправы. Вот почему когда все они выехали из Берлина в сторону Болгарии в мягких вагонах дипломатического поезда — пусть даже столь страшной ценой войны! — я облегчённо вздохнул и хотя бы начал засыпать без таблеток.
18/VIII-1941
Несколько дней назад мне позвонил из Парижа мой старинный приятель и однокашник Герман Тропецкий, называющий себя генералом, но на самом деле никогда не поднимавшийся выше полковника. Тропецкий всем рассказывал, что получил генеральские погоны буквально за несколько дней до эвакуации Добровольческой армии из Новороссийска весной двадцатого года. Ясность в этот вопрос мог бы внести Деникин, однако за минувшие годы Антон Иванович ни разу не подтверждал и не опровергал генеральских притязаний Тропецкого. Ходили, правда, слухи, что перед самым разгромом Тропецкий мог купить себе генеральские погоны, чтобы гарантированно получить каюту и не остаться в прикрывавшем порт арьергарде вместе с отчаянным калмыцким полком, который был полностью перебит красными. В любом случае всей правды теперь никто не узнает.
В телефонном разговоре Тропецкий сообщил, что собирается прилететь в Берлин по важному делу и поинтересовался, буду ли я на месте и смогу ли с ним встретиться. Я ответил, что уезжать из Берлина не планирую и, конечно же, буду рад с ним повидаться. Последнее утверждение являлось для меня абсолютно дежурным, поскольку Тропецкий никогда не был мне симпатичен. Долговязый надменный самодур, неизменно желчный и неразборчивый в связях, он не пользовался уважением в среди эмигрантов и был одинаково чужд как ястребам из РОВСа[12], звереющим от одного лишь упоминания про Советы, так и многочисленным сменовеховцам, евразийцам и левым патриотам, к лагерю которых, полагаю, он причислял и меня. С другой стороны, Тропецкий был весьма богат и время от времени делал щедрые пожертвования на различные эмигрантские нужды, благодаря чему его терпели и потакали его вздорному характеру и неприкрытым недостаткам.
Богатство Тропецкого на фоне нищеты большинства нашего эмигрантского рассеянья — вопрос отдельный. Офицеры, знавшие его по службе, в один голос утверждали, что в прежнее время кроме военного жалования у его семьи не имелось других доходов, из-за чего он ощущал себя обделённым и озлобленным на весь мир. Однако уже в двадцать первом году, когда все наши беглецы гнили и голодали в Галиполи и Бизерте, Тропецкий сорил деньгами в Париже. Ходили слухи, один таинственнее другого, что то ли ему досталась отбитая у махновцев казна украинской Директории, то ли он причастен к убийству Гужона[13], который, если это так, перед смертью мог быть принуждён открыть ему номера своих тайных счетов в иностранных банках.
Так или иначе, но я не горел желанием встречаться с Тропецким и поэтому благополучно забыл о обещанном им приезде. Но в понедельник после обеда мне напомнил о его прибытии звонок из городского управления гестапо: звонивший офицер вежливо сообщил мне, что пограничная полиция аэродрома Темпельхоф задержала человека с русской фамилией, у которого нет разрешения на пребывание в Берлине. А поскольку задержанный заявил, что прилетел сюда по моему вызову, то меня приглашали явиться для разъяснений.
Разумеется, повесив трубку, я дал волю своим эмоциям и припомнил Тропецкому все его подобные фортели, когда ничего не подозревающие люди оказывались заложниками его планов и сомнительных инициатив. Однако делать было нечего — с открытием Восточного фронта все люди с русскими фамилиями в Германии оказывались под особым надзором, а некоторым моим знакомым даже было предложено от греха подальше покинуть Берлин. Разумеется, в этих условиях я не мог зарекаться насчёт себя — пребывание в Берлине являлось необходимым условием моего дела да и всего моего существования, поэтому мне ничего не оставалось, как ехать вызволять Тропецкого по известному всем адресу берлинского гестапо на Грюнер-Штрассе, 12.
Меня проводили в кабинет криминальдиректора[14], где в просторном кресле, не снимая плащ-реглан, развалился за чтением французской газеты мой парижский знакомый. Я сказал, что знаю Германа Ивановича с незапамятных лет, посетовал на его забывчивость и подтвердил, что действительно пригласил его приехать в Берлин, поскольку полагаю, что у него имеется ко мне предложение по покупке какого-либо антиквариата.
Криминальдиректор молча выслушал объяснение и потребовал показать мои документы. Я протянул ему свой германский паспорт с вложенными в него полицейскими разрешениями, а также как бы ненароком забытыми двумя фотокарточками. Этот нехитрый приём в последнее время неоднократно меня выручал, поскольку на одной карточке я был запечатлён вместе с сияющим от восторга Герингом в момент покупки им мейсенского сервиза, а на другом — за беседой с юной фройлен Гудрун, дочерью всесильного Гиммлера. Гудрун вместе с матерью несколько месяцев назад заходили в мой магазин и я демонстрировал им гравюры Хогарта, рассказывая, как их автор высмеивает в своём творчестве пороки британской плутократии.
Фотокарточка с Герингом не произвела на гестаповца ни малейшего впечатления — более того, как мне показалось, он даже немного поморщился. Однако моё знакомство с дочерью рейхсфюрера СС немедленно возымело действие — криминальдиректор заулыбался, вернул документы и теперь уже вполне дружеским тоном посетовал, что «из-за войны с Россией он вынужден в каждом русском подозревать врага». Я ответил, что понимаю его положение, но тут же и ввернул, что «фюрер неоднократно подчёркивал, что ведёт войну не с Россией, а с её большевистским режимом». Гестаповец на стал возражать, однако для того, чтобы иметь законную возможность отпустить Тропецкого, он попросил, чтобы я оставил ему расписку в том, что ручаюсь за прилетевшего из Парижа гостя.
Мне ничего не оставалось, как написать расписку, ещё разок мысленно проговорив про себя всё, что я думаю о своём непредсказуемом и бесцеремонном приятеле. Инцидент был исчерпан, Тропецкого отпустили и на своём неброском «Опель-Олимпия» я повёз гостя домой.
По дороге я поинтересовался о его планах — выяснилось, что кроме встречи со мной у него в Берлине других дел нет. Сказать честно, меня несколько озадачило подобное внимание к собственной персоне. Тем более что первым делом, толком ни о чём мне не рассказав, Тропецкий попросил меня подыскать на мой выбор ресторан, в котором мы могли бы «без лишних глаз и ушей обсудить некоторые важные вещи».
Я ответил, что в части отсутствия «ушей» в воюющем Берлине я ни за что ручаться не могу, и лучшее, что мы могли бы предпринять — это попытаться поужинать в маленьком кафе рядом с филармонией, где имеют обыкновение собираться музыканты с целью не столько поесть, сколько поиграть в собственное удовольствие. Я объяснил, что после того, как в Берлине запретили «дегенеративный джаз», музыка в большинстве кафе и ресторанов стала исполняться в весьма скромных составах и потому сделалась тихой, в то время как в том заведении запросто на эстраде мог собраться небольшой полноценный оркестр. К тому же если гестаповцы и в самом деле вздумали установить под каждым берлинским столиком по микрофону, то малоизвестная филармоническая харчевня была бы в соответствующем списке явно не в первых рядах.
— Ты не женился после развода? — неожиданно сменил Тропецкий тему разговора.
— Нет. Не время сейчас.
— А как тогда ты проводишь досуг?
Подобного вопроса я, признаюсь, от совершенно не ожидал, и потому ответил не вполне убедительно и немного раздражённо:
— Как-то решаю. Однако это никого не касается.
— Тогда ты ночью будешь дома один?
— Скорее всего нет, поскольку ты ничего не сказал мне про гостиницу, где планируешь остановиться.
— Разумеется, я остановлюсь у тебя. Я хочу, чтобы ты нашёл и привёз ко мне женщину. Ну и себе, если захочешь.
Торопецкий никогда не отличался тактом и воздержанностью, однако здесь, похоже, он превзошёл самого себя. Стараясь не рассвирепеть окончательно и отлично понимая, что из-за оставленной в гестапо расписки я теперь полностью отвечаю за все его сумасбродства, я постарался, изображая заинтересованность, слегка изменить взятое им направление:
— У нас здесь не принято заниматься этими делами дома. В Берлине имеется несколько «шлюхенштрассе», и я бы предпочёл съездить именно туда.
— Ладно, поговорим об этом позже, — ответил, зевая, Тропецкий и неожиданно поинтересовался, могу ли я дать ему возможность принять ванну:
— В Париже запретили использовать электричество для приготовления горячей воды, поэтому я не мылся больше двух недель, — ничтоже сумняшеся пояснил Тропецкий своё желание воспользоваться моей ванной комнатой. — Кроме того, я практически не спал последнюю ночь. Так что если засну в ванной — прошу разбудить!
— Лучше у меня в ванной не спать, — предостерёг я его. — В колонке угольный газ, давление в последнее время стало часто пропадать, так что если пламя загаснет — можно угореть.
— Чёрт, вот и не поверишь, что мы живём в Европе! Словно опять в немытой России с худыми трубами и перепившимися банщиками!
— Война, увы, накладывает и не такие ограничения…
Тем не менее напуганный моим предостережением, Тропецкий провёл в ванной не более пятнадцати минут. Всё это время я, зациклившись на его странностях, не мог заниматься никакими своими делами и просто молча сидел в кресле. Когда же он вошёл в комнату, я не мог не отметить, что переодевшись в новую сорочку и источая аромат парижского одеколона, он по-прежнему выглядит неухожено и неопрятно.
— Ну что, герр Фатов, едем?
Я взглянул на часы: было около шести — самое время для начала вечерних мероприятий.
В филармоническом кафе в тот вечер репетировали клавирные вещи Баха, поэтому большим и шумным оркестром, под звуки которого Тропецкий собирался со мной секретничать, здесь, увы, не пахло. Тем не менее других вариантов у нас не имелось. Я выбрал столик в небольшой арочной нише, в которой, как мне показалось, звуки музыки резонируют наиболее сильно и потому там больше шансов сохранить беседу никем не услышанной.
Убедившись, что знакомый официант заметил нас и направляется к нашему столику с меню, я поднялся, чтобы заглянуть в соседнюю комнату, однако вновь услыхал от Тропецкого нечто странное:
— Куда это ты собрался?
— В туалет.
— Зачем? Мне же надо с тобой говорить!
От такого заявления я натурально растерялся и снова не мог с ходу решить, что ответить. Единственное, что я придумал — постараться его успокоить, сказав, что задержусь не более чем на минуту. «Вот тоже, свалился мне, словно снег на голову! С чего это принесла его нелёгкая…»
Когда я вернулся, то оказалось, что Тропецкий, в очередной раз проявив инициативу, уже определился с заказом и официант ждёт меня. Я попросил принести кёльша (кёльнского пива) для нас двоих и айнтопф с говядиной, заменяющий первое и второе. Мой же гость решил подкрепиться более основательно — он взял сельдь, гороховый суп с колбасными клёцками и половину померанского гуся. При этом он определённо нервничал, поскольку выяснилось, что у него не было рейхсмарок, и мне пришлось успокаивать его насчёт своей платёжеспособности.
— У немцев тяжёлая и вредная кухня, — заметил он. — Но иногда организму полезно отдохнуть от хорошего.
— В Париже, я полагаю, еда по-прежнему на высоте?
— О, да. Не буду скромничать, но я даже не заметил перемен. Немецкие офицеры толпами валят к нам из северных провинций, чтобы только отдохнуть от своей вонючей свиной колбасы с картофелем. А с обедневшего юга в Париж везут и везут непревзойдённую лимузенскую говядину и овернских жёлтых кур.
— Боюсь, скоро этот рай может прикрыться. Если англичане активизируются в Африке, то Германия намерена оккупировать всю Францию целиком. И солдаты вермахта сожрут у Петэна[15] всех его кур.
— Возможно. Но я не думаю, что немцы окажутся столь глупы, чтобы лишать продуктов парижские рестораны. У нас многие выражают надежду, что оккупация Франции пойдёт им на пользу — они хотя бы научатся правильно употреблять алкоголь. А то я посмотрел — здесь кроме пива, польской водки и кислого рислинга в меню ничего и нет. А кстати — когда начинают бомбить? Нас здесь не разбомбят?
— Англичане уже давно не бомбили Берлин. Да и когда раньше прилетали, то особой точностью не отличались. Любопытно то, что Берлин две недели назад начали бомбить русские. Но им долго лететь, и они если отправились сюда — то появятся не раньше полуночи.
— Русские бомбили Берлин? Не может такого быть!
— Может, это факт. Правда, газеты утверждают, что это дело рук англичан, однако те открещиваются. К тому же кто-то давеча отбомбился по Штеттину — а он англичанам явно не по пути.
— Ну, тогда прими мои поздравления, — неожиданно сказал Тропецкий и расплылся в саркастической улыбке.
— Я не понял. Поздравления с чем?
— С очередным успехом Советов. Ведь ты, Платон, советский шпион?
От такого заявления у меня перебило дыхание и мне пришлось приложить огромные усилия, чтобы сохранить невозмутимость. Не знаю, заметил ли Тропецкий всю эту борьбу внутри меня, но даже если и заметил, то, наверное, мне не следовало столь сильно этого опасаться — ведь обвинение в шпионаже, произнесённое в воющей стране, способно смутить и поколебать любого, вплоть до фюрера.
— Это интересно, — ответил я, стараясь при насмешливости своего тона продемонстрировать небольшое волнение — ведь как-никак, за подобные вещи в Рейхе не жалуют. — А почему только советский? Я могу быть шпионом де Голля или сиамского короля.
— Для де Голля ты слишком плохо знаешь французский, равно как плохо говоришь и на языке его хозяев-англичан, — раздражённо рявкнул Тропецкий и вытащил из бокового кармана пиджака свёрнутый в несколько раз газетный листок. — Читай! Хотя это тебе не жареные каштаны покупать, давай-ка я лучше сам переведу.
Я ответил, что мечтаю как можно скорее услышать о причинах столь чудовищного обвинения в мой адрес и полностью доверяю переводу Тропецкого.
В статье говорилось, что при недавней эвакуации из Парижа советского посольства оттуда сбежал «шифровальщик ГПУ», выдавший немало тайн. В частности, из его показаний следовало, что в Берлине у Советов имеется важный агент, замаскированный под коммерсанта, при этом вхожий в высшие круги Рейха. Никаких других подробностей у шифровальщика не имелось, за исключением того, что тот агент, с его слов, несколько раз приезжал в СССР через Болгарию и даже был награждён советским орденом.
Я абсолютно искренне расхохотался, поскольку хотя в Москве и появлялся, но никакими орденами меня там никто не награждал. Однако история с Болгарией была правдой. Чтобы попасть в СССР, я приезжал на болгарское побережье, снимал в нескольких местах апартаменты, охотничий домик и брал в прокат автомобиль, демонстрируя тем самым, что намерен много ездить и не ночевать в одном и том же месте. В условленный же ночной час за мной приходил моторный катер и доставлял на борт советского судна, дрейфовавшего в нейтральных водах, а на следующий день я уже пил «Абрау» и «Магарач», закусывая бутербродами с белужьей икрой, в вагоне-ресторане московского экспресса.
Но насмешливое отрицание, равно как и выражение показного равнодушия, могли выглядеть с моей стороны не вполне правдоподобно.
— Допускаю, что сбежавший шифровальщик сообщил правду, — сказал я Тропецкому, когда он закончил чтение и перевод своей статейки.
— Я же говорил! — рассмеялся тот. — Поздравляю с советской наградой!
— Боюсь, ты сильно ошибаешься адресом, Герман, — ответил я. — В Берлине наших проживает более ста тысяч, а во всей Германии — и того больше. У многих имеется своё дело и наработаны неплохие связи. Болгария же для немцев — излюбленное место отдыха и просто союзная страна, туда летом едут тысячи, не у всех же есть деньги на ваши Антиб и Ривьеру! Поэтому если я — единственный из немецких русских, кого ты хорошо знаешь, то это не означает, что предполагаемый русский шпион обязательно сидит перед тобой.
— Не заговаривай мне зубы, Платон, у меня хорошая интуиция. Я и так насквозь вижу, что ты связан с Советами, да и слухи ходили ещё до войны, что видали в Москве кого-то больно уж похожего на тебя… В любом случае у тебя скоро начнутся большие неприятности. Шифровальщика забрало гестапо, он сейчас даёт показания. В бывшем советском посольстве обнаружены какие-то тайники и шифровки, их тоже рано или поздно прочтут. Поэтому даже если ты непорочнее самого Папы Римского, тебе по любому несдобровать. Как минимум попадёшь под подозрение, а это, согласись, отпугнёт большинство твоих клиентов, и ты разоришься. Так что боюсь, Платон, что тебе — крышка.
— Ты специально прилетел, чтобы предупредить меня об этой опасности? Благодарю. Но вот в чём ты безусловно прав — так это в том, что в Рейхе всегда надо быть начеку. Однако я постараюсь упредить возможные подозрения в свой адрес.
— У меня есть другое к тебе предложение. За то небольшое время, пока гестаповцы раскалывают шифровальщика и твоей репутации ничего не угрожает — скажем так, неделю-другую, — у тебя, конечно же, сохранится прежний выход на влиятельных бонз в Берлине. Так вот, у меня есть план, как эти твои контакты таким образом использовать, что если вскоре подтвердится твоя тайная связь с Советами — а я думаю, что немцы до тебя обязательно докопаются, — то она пойдет всем нам на пользу. Ты сыграешь с Советами в придуманную мной последнюю игру, после чего сделаешься сказочно богат, а сам фюрер возложит на тебя Рыцарский крест.
Я отлично понимал, что Тропецкий, хотя и осушил стакан пива, не может в этой ситуации нести откровенный бред. За нагромождением малопонятных предложений должно было скрываться что-то весьма важное, ради чего он, прежде не замеченный в общительности и в склонности помогать друзьям, решился в разгар войны лететь ко мне через пол-Европы. Поэтому, уловив в его словах нотки германофильства, я решил им подыграть.
— Судя по тому, как развиваются события на Восточном фронте, Советам долго не продержаться. Посему боюсь, что предполагаемая тобой моя тайная помощь в переговорах с ними Рейху очень скоро не понадобится.
— В том-то и дело, что понадобится. Быстрая и лёгкая победа Германии совершенно не очевидна. Более того, я даже опасаюсь, что при известных условиях она может и не состояться вообще.
— Каковы же эти условия?
— Поддержка Советов со стороны Англии и Соединённых Штатов. Германия фатально ошиблась, полагая, что англосаксы не простят Сталину пакта с Риббентропом. А они не просто простили, но ещё и втягивают СССР в настоящий политический союз. Ну а дальше — ясно и дураку: если объединить их деньги с русским человеческим ресурсом, с этим нашим извечным la chaire Ю canons[16], то такой союз станет непобедимым. Да, абсолютно непобедимым. И тысячелетнему Рейху будет крышка.
— По твоим словам крышка должна быть мне, а теперь, выходит, ещё и самому Рейху. Поясни тогда, что делать-то?
— Что делать? Пока ничего. Просто слушай внимательно, что я сейчас расскажу. Только скажи официанту, чтобы принёс ещё пива.
Я подозвал официанта и, допивая свою первую кружку, постарался как можно внимательнее разглядеть Тропецкого. Да, подумал я тогда, пусть он малосимпатичен, однако обладает непревзойдённым умением выстаивать отношения с людьми именно так, как ему надо. Причём проделывает он это без уловок и притворства, оставаясь собой и даже подчёркивая неизменность и свободу собственных суждений. Он целеустремлён и сосредоточен, никогда не растрачивает время на сантименты, даже отказался от семьи — и вот я, человек свободный и самодостаточный, уже битый день играю по его правилам: пишу ручательство в гестапо, грею ванну, везу в ресторан, а вечером, судя по всему, ещё и отправлюсь с ним в публичный дом. Чёрт, что же за магнетической силой обладает этот невзрачный и словно закрывшийся в футляре человек!
Дождавшись свежей кружки кёльша и отхлебнув из неё, я улыбнулся и сказал Тропецкому с искренней приветливостью:
— Готов слушать, начинай.
Как раз в это время заиграли виолончель и две скрипки, чей громкий тянущийся звук надёжно заслонил наш разговор от посторонних ушей.
Рассказ Тропецкого был фантастическим и невероятным, и если бы я не ведал всей прожжённой рациональности этого человека, то вряд ли поверил в реальность услышанного хотя бы на йоту.
— С некоторых пор я являюсь очень богатым человеком, Платон. Возможно, что и обладателям самого большого состояния, которое когда либо знал мир, — так начал он свою речь. Произнеся первые две фразы, он сделал паузу, чтобы оценить мою реакцию. Я намеренно изобразил немного удивлённый вид, чтобы уверить его в своей заинтересованности слушать.
Но похоже, что Тропецкий ожидал от меня более значимой реакции, потому что по его лицу пробежала мгновенная растерянность. Однако, откашлявшись, он продолжил ровным и отчасти равнодушным голосом.
— Дело обстояло следующим образом. В средние века в наш Новгород, что на Волхове, не вполне понятным образом попали важные ценности Ордена тамплиеров, разгромленного во Франции. Какое-то время они болтались у новгородцев, становясь причиной междоусобиц и раздоров, пока Иван III не отобрал их у них и не спрятал на Белом Озере. В летописях периодически встречается упоминание об «иноземной» или «фрузской казне» — так вот, это она и есть. Все русские правители знали об этих сокровищах, однако боялись к ним подступиться, поскольку были убеждены, что они-де нечистые, над ними тяготеют проклятья и прочая — однако на всякий случай оберегали весьма тщательно. Правда, хранить в Кремле рядом со святыми соборами не решались. Так они и оставались на севере — правда, позднее их перевезли с Белого Озера в Кириллов, где построили настоящую крепость. Между прочим, одну из крупнейших в Европе — для чего ещё, скажи, следовало городить стены в пять саженей толщиной в медвежьем углу, за тысячу вёрст от границы!?
Я понимающе кивнул головой. Тропецкий с жадностью отхлебнул пива и, не вытирая губ, с явным возбуждением продолжал свой рассказ.
— Тамплиеры, видимо, столького натерпелись от французских королей и римского престола, что пошли на то, чтобы их сокровища были спрятаны на самом краю Европы, где их никто бы не только не стал искать, но даже не решился бы помыслить о чём-то подобном. Возможно, они думали, что ссылка не затянется надолго и вскоре их богатства пригодятся для свержения монархий и переустройства Европы. Однако вышло так, что ссылка затянулась.
— Странно, — ответил я уже без какой-либо игры, поскольку поднятая тема показалась мне чрезвычайно интересной. — Отчего ж тогда за столько веков этими сокровищами не воспользовались наши великие князья и цари? Ведь денег на Руси никогда не бывало в достатке. Я бы на их месте давно казну тамплиеров прикарманил.
— Не всё так просто, Платон, — ответил Тропецкий с тонкой улыбкой всезнающего профессора. — Во-первых, насколько мне известно, услуги по сохранению казны были оплачены тамплиерами правителям России на многие годы или даже на века вперёд. Во-вторых — ты никогда не задумывался: с какой этой стати вдруг возвысилась никому не ведомая Москва? Посреди лесов и бесплодных земель, обложенная ордынской данью по самое «не могу», — и вдруг нате, с нуля попёрла в рост, обрела средства и для ведения бесконечных междоусобных войн, и для строительства, совершенно невероятного по тогдашним меркам? Я понимаю, что русский мужик трудолюбив, и выжать из него можно всё что угодно, — однако с тамплиерскими деньгами многие вещи объясняются куда естественнее, не так ли? А дальше, слушай, дальше была вот такая история…
Он снова выпил глоток пива и продолжал.
— Через двести лет сведения о сохраняемой в России казне тамплиеров стали понемногу просачиваться в Европу. Первым о ней сообщил Курбский, что-то доверительно узнавший от Ивана Грозного в пору, когда они ещё были близкими друзьями, — но ему, похоже, там не поверили. Вторым источником был Гришка Отрепьев — он мог прослышать тайну от монахов, поскольку вся работа по сохранению этого добра проходила по церковному ведомству. Иначе просто невозможно представить, с какого это перепугу поляки обласкали оборванца и не поленились собрать под него целое войско.
— Насколько мне известно, Герман, — возразил я, — войско, с которым самозванец отправился свергать Годунова, было не самым лучшим. Исход той борьбы решила случайность — а если ты прав, то по такому случаю поляки должны бы были собрать войско поболее.
— Войско поболее явилось через двести лет. Обладанием артефактами, оставленными рыцарями Храма, бредил Наполеон Бонапарт, их поисками он сначала упорно занимался в Египте и на Святой Земле, а затем, видимо, не без этой мысли решился на смертельную по всем меркам авантюру в России. Тебя, кстати, никогда не поражали мотивы Наполеона — едва завершилась революция, Франция лежит в разрухе, а он ищет какие-то древние сокровища — зачем? Если исключить вариант сумасшествия, то ответ один — с их помощью он намеревался превратить Францию в первоклассный финансовый центр и изменить мир на собственный манер. Однако мне кажется, что первыми за эту идею ухватились всё-таки поляки в XVII веке, когда, как ты помнишь, они надолго к нам залезли. Ведь имея за душой сокровище, которым мог бы быть обеспечен любой кредит, они бы сделались не просто законодателями европейских финансов, но и политическим центром Европы. Суди сам: после Реформации Европа расколота и ослаблена, и поляки, получив в руки неограниченный кредит, в этих условиях элементарно берут под свой контроль её католическую половину и даже переносят римский престол в Краков. В окружении польских королей, начиная со Владислава Вазы, который, если ты помнишь, три года также официально считался правителем России и кое-что в этой связи, наверное, знал и соображал, подобные планы не считались безумными. Ну а мысль о том, что предмет их вожделений лежит где-то под спудом в заснеженной Московии и когда-нибудь, возможно, поработает на её славу, — такая мысль просто сводила поляков с ума.
— Да, ты интересно говоришь, — согласился я. — Но ведь всё это — гипотезы, Герман…
— Гипотезы? Для кого-то, может быть, и гипотезы, а для меня, друг мой, это свершившийся факт.
— Ты хочешь сказать, что перехитрил поляков с Наполеоном и смог эти сокровища разыскать?
— Нет, я разыскал то, что от них осталось. Точнее, даже не разыскал, а оказался единственным, у кого после нашей революционной смуты остались на руках нужные карты и ключи.
— Так они что — пропали, эти сокровища?
— Если бы они пропали, — Тропецкий всезнающе усмехнулся, — то мы с тобой не жили сегодня в великолепных европейских столицах, не путешествовали в мягких вагонах и на роскошных кораблях, не летали бы на самолётах и не участвовали в войнах, каждый день которых обходится дороже всех наполеоновских эпопей вместе взятых.
— Хм… Ты уже не интригуешь, а просто мистифицируешь.
— Нисколько. Всё предельно просто: когда при Александре III началось сближение России с Францией, французы попросили императора вернуть, наконец, эту злополучную «казну». Предложение выглядело заманчиво: французские банки были готовы использовать ценности тамплиеров для превращения Франции в мировой финансовый центр, а Россия за всё за это получила бы деньги на свою модернизацию. Собственно, так и произошло — император возвратил Французской республике сокровища Жака де Моле[17], а французские банки завалили нашу империю дешёвыми кредитами. Ну что — складывается пасьянс в твоей голове?
— В полной мере, — решил я отшутиться. — Думаю, что теперь ты намерен предложить мне отправиться в Париж, чтобы штурмовать хранилища Национального Банка? Я готов, только, боюсь, что немцы его уже опустошили.
Но Тропецкий, подготовившийся к длительному разговору, на мою шутку даже не отреагировал.
— Всё гораздо хитрее, Платон, — продолжал он, как ни в чём ни бывало. — Наш царь не был дураком, чтобы отдать подобную ценность за какие-то кредиты, пусть даже и весьма солидные. Взамен французы уступили ему акции своих крупнейших банковских учреждений и финансовых обществ. Которые, согласись, в наш век немного поинтереснее иерусалимских древностей. Так вот, за прошедшие полвека те французские банки и общества сами много раз успели вложиться и многократно разбогатеть. И среди вложений этих, то есть в активах тех банков — не только билеты самарского пароходства, которые, как ты понимаешь, были не отродясь никому нужны, а прежде всего — лучшие банковские общества Германии, Англии и Америки. Плюс финансовые проекты Лиги Наций — например Banque des Reglaments Internationaux[18] и так далее. Ну а дальше — дальше кто владеет капиталом учредителей, тот владеет и тем, что на этом капитале удалось учредить и заработать в последующем. И так до бесконечности.
Многозначительно приподняв подбородок, Тропецкий замолчал, чтобы утолить жажду очередным глотком. Чувствовалось, что он сам восхищён распахиваемым передо мной тайным знанием, все детали которого до этого момента ему приходилось держать мучительно и глубоко внутри себя. Пока всё шло гладко, и я решил просто слушать, тем более что слушать Тропецкого теперь было действительно интересно.
— Итак, — продолжил Тропецкий, явно довольный произведённым на меня впечатлением, — тайная договорённость о компенсации за ценности тамплиеров была достигнута ещё при жизни Александра III. Однако французы, как обычно, всячески тянули с её выполнением, а затем и вовсе заявили, что выданных ими кредитов России должно быть достаточно. Лишь летом 1907 года, когда Николаю II пришлось твёрдо дать им понять, что если прежнее обязательство не будет выполнено, то он не подпишет оборонительный союз с Англией и в этом случае Антанта распадётся, они вновь начали шевелиться. Правда, уверен, что они и в этот бы раз свели всё к пустым разговорам, если б ни президент Фальер[19], который недолюбливал буржуазию и был не прочь немного подпортить обедню своим банковским воротилам.
— Каким, интересно, образом?
— Самым простым. В один прекрасный день Фальер взял — и передал России акции и закладные французских банков, которые лежали у государства. И перед нами лицо сохранил, и своих толстосумов немного привёл в чувства — чтобы меньше, думаю, таскали взяток в Елисейский дворец.
— Невероятно! Но я слышу обо всём об этом в первый раз!
— Немудрено — всё держалось в глубочайшей тайне. Помимо самого императора, у нас о том ведали буквально несколько человек. Так сложилось, что мой родной дядя был как раз в числе трёх наших поверенных, которые ездили в Париж для оформления сделки. Дядя — а он был банковским юристом — отвечал за подлинность бумаг и правильность оформления их передачи, а двое других занимались выбором закладных и векселей, чтобы их стоимость соответствовала оговорённому размеру компенсации. К двенадцатому году работа была завершена.
Я поймал себя на том, что рассказ Тропецкого не просто увлёкает, но и возвращает мои мысли к России. Я снова ощущал себя на родной земле, совершенно забыв, что отделён от неё тысячами километров и чудовищной войной.
Между тем Тропецкий продолжал удивлять.
— Полученные от французского правительства ценные бумаги были сведены в особый фонд, который затем передали на хранение в швейцарский филиал Caisse des Depots[20]. Правда, когда в четырнадцатом началась заваруха, фонд от греха подальше перевели в филиал швейцарского госбанка в Лозанне. Но самое интересное в том, что Николай II, по первоначалию оформив фонд, разумеется, на собственное имя, вскоре отдал его в управление группе успешных промышленников, которым он благоволил. Предводительствовал там небезызвестный тебе, я думаю, господин Второв, и в группе той не было ни иноземцев, ни старообрядцев, которых в окружении царя не терпели и за глаза считали тайными иудеями. Так вот, тогда у Второва со товарищи сразу же дела пошли в гору — сначала повыгоняли иностранцев с нефтяной биржи, потом большую часть промыслов прибрали и перевели на Нобеля Эммануила[21], у которого был русский паспорт и которому царь лично благоволил. Ну а затем начали строить новейшие заводы на уровне «Сименса» — «Сименс» бы удавился, но ни за что не стал бы строить у нас то, что едва успел запустить в Германии, а эти ребята — делали всё это легко и быстро. Электротехника всякая, химия, особая военная металлургия, передовые сплавы… Я до сих пор не перестаю поражаться, насколько гениальным и благородным было это решение нашего царя — отдать деньги в руки тех, кто действительно умеет их приумножать, а не только жрать икру с шампанским и таскать актрис МХТ по номерам…
— Особенно если учесть, Герман, что теперь эти деньги достались тебе, — не мог я удержаться, чтобы не ввернуть шпильку. — Если бы вклад остался записан на царя Николая, то, боюсь, ты бы прозябал на чердаке в пролетарском парижском предместье, а деньгами вовсю бы пользовались его европейские родственнички.
— Зря ты ёрничаешь — неужели у меня нет права по чести оценить чужой поступок? Фабриканта Второва, которого царь назначил управляющим, все в голос называли «русским Рокфеллером» и прочили его начинаниям грандиозное будущее. Думаю, там было ещё много тайн, о которых мы никогда не узнаем. Кстати — обрати внимание: Николай Второй и Николай Второв даже пишутся почти одинаково, так что если что — можно сослаться на каллиграфическую ошибку, сечёшь?.. Мне иногда кажется, что и без высших сил тут не обошлось…
— Всё может быть, — поспешил я согласиться. — А как же затем наш «рокфеллер» распорядился царскими сокровищами?
— А никак! В восемнадцатом он погиб — якобы его застрелил из револьвера какой-то сумасшедший студент, которому не хватало денег на билет в Тифлис. И это при том, что Второв был буквально обласкан советской властью: большевики у него не только ничего не отобрали, но незадолго до своей гибели он даже с подачи Ленина открыл в красной Москве фондовую биржу.
— Ты шутишь? Я помню Москву в восемнадцатом — какие к чёрту там были биржи?
— Это была закрытая биржа для иностранцев. Под его имя и авторитет на этой бирже иностранные собственники, прежде всего немцы, с которыми у нас тогда, после Бреста, были мир и дружба, имели возможность за несколько месяцев до национализации продать свои акции в русских предприятиях.
— Ты хочешь сказать, что Второв оплачивал за большевиков их беззакония?
— Не упрощай, Герман, ты же умный человек! Вся непримиримость Советов выплёскивалась на доморощенных буржуев, а сильно ссорится с иностранцами они по ряду вполне понятных причин не желали. Думаю, что у Ленина со Второвым была договорённость — наш «рокфеллер» помогает большевикам избежать международной изоляции, а в обмен на это советская власть выдаёт ему что-то вроде мандата на управление всем российским хозяйством.
— Я бы не согласился такой мандат принять.
— Перед Второвым, думаю, не стояло выбора — соглашаться или не соглашаться. Если не согласишься — в лучшем случае удерёшь за границу, но при этом потеряешь всё, что построил в России и, что значительно хуже, — всё, что задумывал и хотел совершить. А планы у него были феноменальные — в такой-то стране, с таким народом — ведь горы можно свернуть! Ну а коль согласишься — думаю, на этот случай у Второва имелась надежда, что советская власть — а ведь в ней, помимо горлопанов, Платон, были и весьма неглупые люди! — так вот, могла быть надежда, что новая власть предоставит ему больше возможностей, чем при прежнем строе.
— И тогда бы лавры русской индустриализации достались не Куйбышеву с Орджоникидзе, а Второву?
— Вполне. Да и страна могла и должна была сделаться другой. И пили бы мы с тобой пиво сегодня не в Берлине, а где-нибудь в неузнаваемом Петрограде… Только не считай, что я распускаю слюни. Той страны уже нет, точка! Из-за твоих замечаний мы зациклились на Второве, а вопрос ведь не в нём, а в том, что России-то нашей с тобой уже нет!
— Это не новость для меня.
— Не новость! Не лукавь, я знаю — ты со своими друзьями-евразийцами продолжаешь считать, что Советы — это продолжение России, а это совершеннейшая неправда! Россия, может быть, и существует, только от нас она отреклась, а её народ — изгнал нас и проклял. Даже если отдельные её представители, Платон, и нуждаются пока в твоих услугах и даже готовы за них что-то обещать и давать награды — это ещё ни о чём не говорит. России и русского народа нет, о них нужно забыть раз и навсегда!
Я был сильно удивлён таким неожиданным поворотом и сменой тона моего собеседника. Впрочем, это мог быть просто нервный срыв, и я решил не обращать внимание.
— Что-то тебя в сторону увело, — посетовал я, изображая циничное равнодушие к его эмоциональному порыву. — Давай-ка лучше о деньгах. Сколько, по-твоему, может стоить этот фонд?
— По номиналу где-то двести пятьдесят миллионов золотых франков или сорок-пятьдесят миллионов долларов. Но эти суммы ни о чём не говорят. Реальная стоимость фонда выше в десятки, а то и в сотни раз, Если её вообще возможно оценить — ведь лежащие там бумажки уже сегодня позволяют властвовать едва ли над половиной мира, а скоро — и над всем миром.
— А как такое может быть? Ты не ошибаешься?
— Возможно, но только ошибки, боюсь, здесь могут быть лишь в меньшую сторону. Ведь учреждение фонда удивительно совпало с грандиозным финансовым ростом. Скромные на первый взгляд бумаги, которые были положены в фонд, сегодня представлены, насколько я помню, акциями Banque de France, Банка Англии, крупнейших колониальных банков, знаменитого Городского банка Нью-Йорка, обществ вроде «Кун и Лёб» — всего не пересказать. От них тянутся нити к тысячам и миллионам других банков и компаний. Если правильно распутывать этот клубок, то ниточки приведут к таким тузам, как Гугенхаймы, Дюпоны, Морганы, Ротшильды… Конечно, я не имею в виду, что теперь к ним ко всем можно вламываться в особняки и, потрясая векселями, диктовать свою волю. Но вот грамотно воздействовать на решения финансовых воротил — это вполне реально.
— Может быть. Только боюсь, что когда ты придёшь к Ротшильду, то он не согласится с твоими доводами и объяснит, что заработал свои капиталы значительно раньше всей нашей истории.
— Не волнуйся, все они отлично знают, что раньше они успели заработать лишь мизерную часть своего состояния! Невиданный никогда прежде мировой финансовый рост начался в конце XIX века — как раз, когда во Францию вернулись тамплиерские сундуки. Как иначе объяснить, что эта страна из аграрной, с несовершенной и безнадёжно устаревшей промышленностью — которая, кстати, даже накануне войны нынешней так и не смогла приблизиться к германской, — вдруг в одночасье сделалась мировой финансовой державой? А следом за ней — никому не известная Америка? Так что все, все, кто схожим образом фантастически обогатился за последние полвека, должны быть благодарны этим сундукам…
— Ты хочешь, чтобы я тоже воспылал благодарностью? Увы, привилегия фантастического обогащения меня не посетила.
— Я о другом, — с прежней серьёзностью продолжал Тропецкий, не распознав издёвки. — Вот ты не голодаешь и имеешь над головой кров — а разве это всё, чего ты достоин? Ты расшаркиваешься перед любым гестаповцем, ты боишься немецкого начальства, ты не знаешь будущего, а почему? Потому, что у тебя, у человека отнюдь не бедного, нет власти. Деньги сами по себе обеспечивают лишь жалкую иллюзию власти, но не власть как таковую. Власть дают только очень, очень большие деньги. И именно такие деньги сегодня, не смейся, имеются у меня.
Сказать, что рассказ Тропецкого заинтересовал меня и взбудоражил — ничего не сказать. Внутри меня одновременно вскипали и боролись между собой целых три чувства — недоверия, которое проистекало не столько от услышанного, сколько от моей не очень-то большой к Тропецкому привязанности, а также чувство восторга и чувство зависти. Ведь если сообщённое им хотя бы даже на один процент являлось правдой, то возникал законный вопрос — почему подобное сокровище не попало в распоряжение государственных организаций, причём неважно — советских или иностранных, или почему оно не в руках более достойных людей.
И поскольку слушать панегирики золотому тельцу мне больше не хотелось, то я решил изменить направление разговора и попросил Тропецкого рассказать, каким образом фонд Второва, будучи столь тщательно скрытым от постороннего ведения, вдруг оказался у него в руках.
— Милый Платон, — ответил он на этот мой вопрос, чётко и повелительно выговаривая каждое слово. — Есть вещи, о которых не узнает никто и о которых я сам при первой же возможности постараюсь забыть. Жизнь, как и политика с революциями и гражданскими войнами, не делается в лайковых перчатках. И ещё, не забывай: в том хаосе всё это могло пропасть и сгинуть навсегда, и лучше от подобного, поверь, не стало бы никому.
В тот момент я не на шутку испугался прямоты своего последнего вопроса и того, что Тропецкий может отвернуться и замолчать. А мне, каюсь, начало чертовски хотеться услышать, что же эдакое он задумал и какого рода участие намерен мне предложить.
— Не обижайся, я просто должен был задать тебе этот вопрос, — поспешил я исправить положение. — Наше старое воспитание, сам понимаешь, — это заноза надолго. Сентенции о мировой гармонии и слезе ребёнка прочно засели в башке.
— А я и не обижаюсь. Ты философствуешь так, потому что ты революцию пережил с минимумом потерь — пересидел смуту в Москве, а в двадцать первом с разрешения ВЧК укатил заграницу в международном вагоне… А вот я, Платон, почти три года по фронтам грязью и кровью умывался. Я убедился, что святая в нашем прежнем понимании человеческая жизнь отныне не стоит и копейки. И не просто там из-за войны или душевного помутнения у человеков, а оттого, что в её воспевании и сбережении нет ни малейшего смысла. Согласен, в прежние времена существовал смысл проявлять человеколюбие — хотя бы в расчёте на встречное благородство. Теперь же благородства в мире нет и более не предвидится. Да, я ныне не скрываю, что заплатил золотом, чтобы спастись и уплыть из Новороссийска и что вполне сознательно оставил свой калмыцкий полк погибать под комиссарскими шашками. И мне не капельки за этот поступок не стыдно, потому что либо другие поступили бы со мной аналогичным образом, либо сгинули бы мы все. В нашей теперешней жизни жалости и сострадания быть не должно. Тот, у кого сила, берёт и будет брать верх — и горе побеждённым, vae victis, как совершенно справедливо уразумели древние. Уразуметь-то уразумели, а реализовать до конца не смогли, поскольку у них не оказалось настоящей силы, не было той железной и безразличной ко всему мощи, которая имеется у людей сейчас. Оттого и сдулась в одночасье великая Римская империя, когда один фантазёр начал учить, что получив по щеке, надо-де подставить другую… Хотя если бы проявил Рим тогда твёрдость — стоял бы и по сей день, и железа бы у него достало, чтобы держать за горло целый мир! А сегодня совсем не железо нужно, Платон. Подлинная сила сегодня — уже мечи, не пулемёты или линкоры, а великие и бесконечные деньги. Когда деньги в мире ограничивались небольшими запасом золота, люди наивно полагали, что благородство и сострадание способны обуздать наживу. Никто не понимал и всё ещё не понимает до конца всей страшной, необузданной силы денег! А сила эта в том состоит, что при всякой сделке тот, у кого денег больше, всегда имеет больше прав, чем тот, кто должен производить и продавать, чтоб не сдохнуть с голоду. Ведь покупатель всегда диктует продавцу свою волю. В прежнем патриархальном мире, где люди работали в основном на себя, а сделки были редки, этот неизбежный обман со стороны тех, кто платит, уравновешивался всевозможными податями и покаяниями. Но времена меняются, сделки происходят с нарастающей быстротой, торгуются теперь не только товары, но и права, обязательства, честь, перепродаётся само будущее людей! А ныне прикинь — сегодня тот, кто способен создавать бесконечность денег, рано или поздно приобретёт и весь мир! И очень скоро в этом нашем с тобой мире не останется ничего, кроме неограниченной и бесконтрольной воли сильнейших!
Торопецкий на несколько секунд замолчал, неподвижно глядя прямо мне в глаза. Потом взял лежавшую на коленях салфетку, вытер ею вспотевший лоб и продолжил.
— Поэтому меня мало волнует, что происходит сегодня на фронтах — в Африке ли, в России или в Китае, все эти новости с фронтов, будоражащие умы публики, — ничто в отношении к тем величайшим открытиям и переменам, которые скоро произойдут в человеческих головах совершенно необратимо, когда люди поймут, что они все — жалкие рабы волшебных бесконечных бумажек, заменяющих любые богатства вселенной. Уразумеют, начнут протестовать, проклинать — а поделать с этим ничего не смогут! Мир только начинает догадываться, Платон, что означает всемирная власть денег, способная подмять под себя любую техническую мощь, он ещё не услышал грозной проповеди грядущей эпохи! Даже Ницше, пред которым ныне все пресмыкаются, — для меня не более чем мелкий предтеча, редкие крупицы истины в речах которого напрочь забиты рефлексиями умирающей цивилизации. Понимаешь, к чему я клоню? Новый мир будет не просто страшным — он будет чудовищным. Я даже думаю, что обычные люди не смогут прожить в нём ни дня, если не обзаведутся, скажем, бронированными телами или не научаться общаться и думать посредством каких-нибудь зашифрованных радиоволн. Мы даже не можем представить, что должно произойти и что непременно произойдёт, какими станут те немногие человеческие существа, которые заберут в свои руки власть над миром. Стальные викинги фюрера покажутся им, гениям грядущего, ограниченными и жалкими фиглярами…
— Окстись, Герман! У нас в Берлине не принято высказываться о фюрере в подобном тоне.
— А мне плевать на фюрера, ибо я знаю нечто большее, о чём он способен догадываться даже в самых провидческих своих снах. Я сегодня никого и ничего не боюсь — если меня схватит гестапо, я найду, что им сказать, чтобы оставить их всех с открытыми ртами…
— Тем не менее, не вводи меня в грех и оставь фюрера в покое. Даже не знаю, что тебе ответить… Я всё понял. Но ты ведь прилетел сюда не просто для того, чтобы этим со мною поделиться?
— Разумеется. Вот поэтому теперь — о самом главном. Только пусть ещё пива принесут. Кстати — что те четверо на сцене так заупокойно играют?
— Репетируют клавирные концерты Баха, если мне не изменяет память.
— Бах, Бах… Да, видать, сильно засели в нас дурацкий романтизм и сентиментальность. В двадцатом веке пора научиться что-нибудь другое слушать вместо этой мертвечины.
— Например, «слушать музыку революции», как призывал Маяковский, — ввернул я.
— Не Маяковский, а Александр Блок, как ни странно… Хотя, между прочим, уши он имел чистые и в конечном счёте оказался полностью прав. Он вот только революции перепутал.
— Я плохо разбираюсь в том, что называется совдеповской литературой, — ответил я, недовольно поморщившись, — но всё же предпочёл бы Баха любому футуризму.
— Воля твоя. Но ты не печалься. То, о чём я только что говорил про будущее, случится не скоро, случится не с нами и не нам в том стальном мире жить предстоит. Но чтобы нас с тобой не сожрали и не затоптали сегодня, мы должны не следовать в общем потоке, а стать во главе него. Сейчас я изложу тебе свой план. Готов слушать?
— Я весь внимание.
— Отлично. Смотри: открытием более гениальным, чем физика деления урана, стало умение печать на бумаге полновесные деньги. Любое обычное сокровище, которое прежде клалось в обеспечение денег, можно было измерить и обозреть, поэтому напечатать полновесных денег больше, чем это сокровище стоило, было невозможно. Испанцы, как ты знаешь, в своё время сидели на горах золота, и где теперь эти горы, где всё их богатство? Так вот, главнейшее открытие нашей эпохи состоит в том, что эмиссионное сокровище должно быть абсолютным и не подлежащим ни малейшему оспариванию. Я не знаю, чем в своё время набили тамплиеры свои сундуки, однако пятьдесят лет назад припасённое ими реально помогло Франции стать главным мировым кредитором. По-настоящему, Платон, помогло! Затем кредитная власть понемногу начала перетекать в Америку и Англию. В середине двадцатых, если ты помнишь, Франция на счёт очень переживала и была готова чуть ли не снова воевать, однако сегодня, когда Франция низложена, вся кредитная власть — теперь окончательно за Ла-Маншем и далее за океаном, с этим фактом не поспоришь. Однако остались, как любят выражаться янки, «инвестиционные права», на основе которых французские деньги в своё время легли в основу американо-английских капиталов. И половина — да, именно ровно половина этих прав, — она сегодня в моих руках! Поскольку именно о таком распределении шла речь, когда Александр III и Сади Карно совершали свою тайную сердечную сделку! И это не просто какие-то миллиарды, Платон, на которые можно жрать и покупать любовь самых прекрасных женщин. Это — власть над половиной мира!
— Хорошо, но ведь остаётся и вторая половина?
— Да, это так. Часть прав на неё сегодня в руках у Германии, остальные — в частных руках. Посвящённые в эти вопросы немцы последнее обстоятельство хорошо понимают и потому столь яростно преследуют евреев, поскольку хотят забрать себе растворённые среди тузов всемирного еврейства судьбоносные векселя. Я открою тебе по секрету, Платон: через полгода, максимум, через год Германия приступит к тотальному, к полному физическому уничтожению еврейской нации. Решение страшное, но оно уже принято и оно полностью в духе того, о чём я тебе только что говорил. Пока нацисты лишь выборочно расстреливают евреев на занятых землях, чтобы поддерживать напряжение. Но совсем скоро миллионы невинных людей будут умерщвлены и перемолоты, как геологическая порода, на специальных фабриках, от вида которых содрогнётся земля. И всё для того, чтобы несколько семейств, обладающих этими векселями, в конце концов отдали бы их фюреру в обмен на собственную жизнь. Ещё раз повторяю — решение уже принято.
— У тебя есть план, как спасти евреев?
— Нет, мне плевать на евреев, равно как плевать на судьбу русских и немцев, перемалывающих друг друга на фронтах. Я хочу заключить сделку с фюрером и с помощью бывшего царского фонда лишить англосаксов их главного оружия — всемирных денег. И ты, Платон, необходим мне именно для этого.
— Однако ты даёшь! — едва не сорвавшись на громкий возглас ответил я, будучи готовый услышать от своего собеседника что угодно, но только не это. — Ты хочешь, чтобы я изложил всё это за чашкой чая Герингу или супруге Гиммлера? Но меня же немедленно объявят сумасшедшим! А потом — побеседуют с тобой, и обвинят ровно в том же. Если сразу не прихлопнут, то будем коротать остаток жизни в одной дурке, а твоими векселями займётся гестапо.
— Ты правильно рассуждаешь, я это тоже прекрасно понимаю. Для того чтобы подобного не произошло, мы должны исключить из игры очевидность. А для этого следует подключить к ней крупного и неуправляемого из этих мест игрока. Понимаешь, к чему я клоню?
— Не совсем.
— Надо подключить Советы.
— Ты офанарел.
— Пусть все по первоначалию так и считают. Но через включение в игру Советов мы, во-первых, гарантируем свою неприкосновенность, поскольку объясним немцам, что мы не просто обладаем исключительными знаниями, которые, если не повезёт, можно будет вытащить из нас под пыткой, но и что часть ключей к векселям лежит по ту сторону фронта. А часть ключей действительно лежит в Москве. Наконец, пока идёт война, Германия, даже завладев абсолютно всеми векселями, не сможет быстро заместить международных банкиров и управляющих на своих людей, дабы положить конец политике, проводимой Черчиллем и Рузвельтом. У Германии имеется только один путь, чтобы сокрушить «атлантистов» — помириться с Советами и вновь договориться о союзе, только на сей раз о союзе военно-финансовом. Поэтому действовать надо быстро и решительно, пока немцы не взяли Москву и Петроград — иначе умножившиеся обиды русских лишат их возможности договариваться о новом мировом порядке.
— Вижу, что ты по-прежнему убеждён, что из моей спальни протянут прямой телефонный провод до Кремля.
— Мне всё равно — шпион ты или нет. Но после откровений шифровальщика тебя, не сомневайся, очень скоро возьмут за жабры. Единственный для тебя выход — выходить с моим предложением на самый верх Рейха и затем сразу же, как только они всё поймут, сказать, что ты имеешь связь с Советами и готов помочь нашему общему успеху. В этом случае тебя не тронут и мы с тобой постепенно, шаг за шагом, начнём менять мировую финансовую власть. Чтобы немцы берегли нас как зеницу ока, мы скажем, что векселя, прежде чем поступить в новое владение, должны хотя бы номинально быть возвращены природному владельцу, то есть России. В России, чтобы нас также не хлопнули, мы объясним, что важнейшие ключи хранятся в Рейхе, и так далее. Главное — ослабить накал схватки на Восточном фронте и возродить военный союз против янки и англичан. Ибо только в этом случае мой план состоится вполне.
— Англию, положим, ещё можно будет дожать, но вот Америку — вряд ли, — я специально озвучил первое же пришедшее на ум возражение, чтобы иметь возможность лучше осмыслить оферту, поступившую в мой адрес.
— Да, Америку завоевать нельзя, — согласился Тропецкий. — Но, раздавив Англию, мы уничтожим форпост их совместного капитала, нависающий над Европой и Азией. Запертая и заблокированная с моря на своём нелепом континенте Америка погрузится в провинциальность и скоро издохнет.
— А новый союз Германии с Россией — насколько он может оказаться долговечным?
— Я полагаю, что Германия, воспользовавшись ресурсами России для разгрома англосаксов, со временем тихо её поглотит и переварит. Без брани и крови, до самых дальневосточных рубежей, всю без остатка. Ведь русские даже если и умеют, то они всё равно не хотят играть в современные игры, связанные с преумножением богатства. Цивилизация страны, в которой мы с тобой родились, — это затянувшийся сон византийства, она слишком благородна и старомодна, и потому безнадёжно устарела. Большевики, правда, решили её немного подправить и осовременить — но из этой затеи, я твёрдо знаю, ничего не выйдет.
— Однако здесь всерьёз рассчитывают разделаться с Россией до начала зимы. Вермахт продвигается очень быстро. Я боюсь, что до тех пор, пока на восточном фронте всё идёт как по маслу, здесь никто не будет обсуждать возможность остановки войны и каких-либо новых союзов с Москвой.
— Я вижу, ты хорошо обработан берлинским радио. Но моя информация — верней. На самом деле на восточном фронте не всё так просто. Потери вермахта и союзных Германии войск превышают любые мыслимые пределы. И самое главное — мы знаем, что наиболее умные люди в руководстве Рейха совершенно не разделяют мнения фюрера о скорой победе.
— Тебе из Парижа лучше видать?
— А почему бы и нет? Мой друг, небезызвестный тебе доктор Залманов[22], пользующий генералов вермахта и гестапо, очень хорошо осведомлён об их подлинных настроениях. До того осведомлён, что не побоялся публично заявить, что «нападение на Россию удалось бы в том случае, если бы оно было поддержано более высокой моралью». И всё ему сошло с рук.
— Залманов по-прежнему в Париже? Но оттуда же выселили всех евреев!
— Главный парижский эсэсовец заявил Залманову, что он лично решает, кто в у него в Париже еврей, а кто — нет. Доктору абсолютно ничего не угрожает, и если тебе нужно подлечиться водами, я договорюсь с ним и организую пару-тройку курсов. Кстати — мы с тобой коль скоро залезли столь глубоко в финансы, тоже, очевидно, вскорости будем считаться у нацистов евреями. Но в нашем положении подобное не страшно, наплевать! Так что вот так, мой дорогой друг, — я всё тебе выложил и рассказал, так что теперь твоя очередь — анализировать и принимать единственно верное решение.
— Пожалуй, я готов подумать… Не могу ведать, насколько все эти планы способны сбыться, но если тем самым я хотя бы помогу остановить пролитие русской крови — то я к твоим услугам.
— Ишь, гуманист какой! Но тогда тебе есть резон поспешить, поскольку, гляди, с нашей подачи фюрер подобреет и отыграет назад ещё и по еврейскому вопросу — ведь ты же его тоже имеешь в виду, я угадал? Только для меня, ты пойми, все подобные резоны пусты и бессмысленны. Благодарность толпы меня заботит не более чем её проклятие. В нашем внутреннем мире не должно быть посторонних, а все посторонние должны восприниматься частью неодушевлённой среды, вроде брёвен или камней, — в мире ведь существуем только мы и наша жизнь. Уверен, ты в этом скоро сам убедишься.
Я не стал ничего отвечать и вынул из кармана портсигар. Раскрыв его, протянул Тропецкому:
— Может закуришь?
Он в ответ замотал головой.
— Курение вредит организму, а я хочу прожить долго. Сегодня, пока идёт война, большинство людей думают лишь о том, как бы выжить, и совершенно забывают о будущем. Моя же, а с сегодняшнего дня и твоя, Платон, сила состоит в том, что мы своё будущее знаем, и отныне чётко работаем только на него.
— Охотно тебе верю, но от вредной привычки отказаться пока не готов, — ответил я, улыбаясь. — Не станешь сильно ругаться на меня, если начну дымить?
— Валяй. А пока ты травишь свой организм, я скажу тебе ещё вот о чём. Времени у нас очень мало. Мое разрешение на пребывание в Берлине истекает завтра вечером, поэтому у тебя есть только один день, чтобы выйти на нужных людей. Геринг и Гиммлер — идея хорошая, эти личности в состоянии всё правильно понять и дать необходимые указания, но первым делом мне необходимо продлить моё разрешение. Ты сможешь связаться с ними завтра же?
— Дай подумать, — ответил я, провожая глазами тонкую голубую струйку дыма, поднимавшуюся к потолку.
— Думай. Ну а я, чтобы не мешать тебе думать и не насыщать себя твоим ядом, пойду-ка подышу свежим воздухом!
Сказав эти слова, он с грохотом отодвинул стул, поднялся и нетвёрдой, раскачивающейся походкой двинулся в направлении выхода.
На какое-то время я остался один. Ресторан был почти пуст, кроме нашего столика в противоположном конце зала ужинала пожилая чета с молодым человеком в форме вермахта — видимо, это были проводы на фронт. Когда Тропецкий проходил мимо них, они подняли бокалы — наверное пили, как водится в подобных случаях, за здоровье и возвращение домой, и в этот момент я, никогда прежде не замечавший за собой дара предвидения, вдруг с абсолютной ясностью понял, что этот юноша домой не вернётся. С пугающей до мельчайших деталей ясностью я увидел, как его скрюченное тело догорает в заснеженной траншее, и мне стало страшно и безудержно больно от этого безошибочного знания.
Мне захотелось немедленно встать, подойти к ним и рассказать об этом роковом предвидении — однако что могло быть глупее и безумнее подобного шага? «Знание будущего способно убить быстрее, чем само будущее», — подумал я и тотчас же содрогнулся от мысли о том, что только что мне самому Тропецким была начертана дорога на собственный эшафот.
Конечно, я не мог быть столь наивным, чтобы принять план, предложенный мне Тропецким, за чистую монету. Даже если он не лгал насчет оставленного в нейтральной Швейцарии царского фонда, то разве можно было со здравым рассудком надеяться, что в эти ожесточённые дни, в разгар всемирной титанической битвы, в которую вовлечены миллионы и в которой на кон поставлены судьбы и жизни целых народов, два каких-то жалких пилигрима, вооружённых малоубедительной и фантастической для большинства непосвящённых версией о ключах к мировому богатству, развернут орудия и поменяют миропорядок? Не могло быть никаких сомнений, что вероятность даже не успеха, а хотя бы нашего выживания после обнародования соответствующей информации, клонилась к нулю.
Однако даже если нам поверят — где гарантии того, что получив от нас минимальные установочные сведения, всё остальное германские асы шпионажа не сделают сами, а нас затем не пустят в расход или не поместят под вечный арест? С другой стороны, Тропецкий, заставляя меня предпринять в его интересах роковые шаги, возможно, держит в рукаве несколько козырных карт, которые должны спасти ему жизнь и сохранить свободу. Не исключено, что с каким-нибудь прицелом он прокроет и меня, однако гарантии в том нет. Если будет нужно — то он, не задумываясь, перешагнёт через любой труп, в том числе и через мой, о чём он, собственно, только что и говорил. И именно так, скорее всего, и будет.
В этом случае, правда, меня не должны будут растоптать сразу: необходимость игры с Москвой, способная дать Тропецкому гарантии безопасности, выглядит похожей на правду и я в этом деле могу оказаться ему полезным. Но, с другой стороны, у немцев в России есть масса собственной проверенной агентуры и поэтому вряд ли в столь важном деле они положатся на человека, о связях которого с СССР в Берлине до сих пор не знала ни одна живая душа. Зато если по поводу тех связей у немцев возникнет хотя бы малейшее подозрение — мне точно несдобровать. Итого, Платон, у тебя полнейший цугцванг — что бы ты ни сделал, будет только хуже.
Или — рискнуть? Ведь вдруг богатство, о котором вещает Тропецкий, реально и у меня тогда появляется шанс отщипнуть от него свою долю? Увы, но и этот вариант меня не устраивает, ибо моя личная жизненная программа давно выполнена и деньги мне не требуются. По большому счёту, я бы отдал их России — чтобы поскорее завершилась война и меньше родной крови пролилось. И тем самым были бы сбережены жизни и англичан, и немцев, и евреев — всех остальных, кому предначертано сгинуть в этой прорве. Но чтобы получить свою долю, необходимо идти с Тропецким до конца. А в этом случае наружу вылезут все прежние риски с практическим нулевыми шансами на моё выживание.
Тогда — скрыться и, опираясь на полученную информацию, искать царский фонд самому? Увы, сам я не смогу сделать ни шага, ибо без тайных ключей, которые Тропецкий, конечно же, бережёт как зеницу ока, в глазах всех я буду выглядеть умалишённым.
Итак, остается одно — отказать. Возвращается Тропецкий, а я ему говорю, что так мол и так, милостивый государь, твоё предложение рассмотрено и не может быть принято. Отлично! Могу даже ничего не говорить и покинуть заведение немедленно. Его действия? Всё очевидно — скорее всего, в этом случае он не преминет расправиться со мной. Самый простой способ — спокойно приехать в Темпельхоф и перед обратным вылетом рассказать в пограничном отделе гестапо, что я — русский шпион. Другой вариант — просто меня прикончить, мало для этого существует способов! Даже если он не услышит от меня однозначного «нет», но почувствует в моём поведении осторожность, то уже сегодня, ночуя в моём доме, он запросто может перерезать мне горло во сне. И отказать ему в ночлеге, отвезти в гостиницу — тоже, увы, нельзя. Воистину какой-то заколдованный круг!
Время стремительно бежало, в моих пальцах догорала вторая сигарета, в любой миг Тропецкий мог вернуться и мне надлежало принять решение, как действовать. И в этот принципиальнейший момент я вдруг понял, что теряю волю.
Мои кисти обмякли, руки, доселе пребывавшие в напряжении, безвольно соскользнули с крышки стола, и я едва успел загасить и бросить в пепельницу сигарету, прежде чем пальцы потеряли способность её держать. Мой рассудок пытался сопротивляться происходящему, но ничего не мог поделать — словно многопудовая тяжесть пала на всё моё существо и начала мягко, но неумолимо лишать меня всяческого движения. Я почувствовал, как мои глазные яблоки закатываются куда-то вверх и в сторону, откуда нельзя ничего видеть, а всё сознание неумолимо погружается в сон.
И буквально в самый последний миг, когда я уже был готов потерять рассудок и провалиться в небытие, меня обожгла яркая и белая искра случившегося внутри меня непонятного разряда. Меня буквально подбросило на стуле и я сразу же почувствовал твёрдость в руках, снова обрёл зрение, а мой мозг наполнился горячим желанием к действию. В тот же момент я понял, каким именно должно являться это действие: мне предстоит Тропецкого убить.
Вынужден признаться, что со времени моего последнего визита в Москву летом 1938 года со мной постоянно находились две ампулы, содержащие яд. В одной, отмеченной зелёной полоской, находился быстродействующий цианид, а в другой, имевшей полоску белого цвета, был особый новый яд, вызывающий необратимый сердечный приступ и полностью пропадающий из тела к тому моменту, когда его привезут для исследования в анатомический театр. Первая ампула была моим личным «последним патроном», а вторую мне передал заместитель Ежова для ликвидации одного видного берлинского журналиста. Эту ампулу мне выдали в секретном кабинете с наглухо зашторенными окнами, где на стене висел редкий фотографический портрет выступающего с трибуны Дзержинского, напротив которого зачем-то возвышался графин с водой. Тогда я вспомнил, что видел ту же фотографию в одном американском журнале, где говорилось, что остановка сердца Дзержинского могла быть спровоцирована особым ядом, подмешанным ему в разгар заседания ВСНХ.
Я не выполнил поручения по ликвидации журналиста, поскольку был убеждён, что тот играл положительную роль в начавшемся сближении Германии и СССР и намеревался использовать связи с ним в свой дальнейшей работе. Думаю, что именно это и явилось причиной моей опалы. Зато у меня остался невероятный по силе и характеру действия яд, который я решил приберечь на «чёрный день».
Если кто из читателей этого дневника готов моему рассказу поверить, то я ещё раз хочу повторить, что решение убить Тропецкого принимал не я. Во мне как будто бы воплотился кто-то другой, взявший под свой контроль все мои решения и действия. Моя рука, наполнившись незнакомыми мне посторонними импульсами, непроизвольно потянулась к потайному карману, где были спрятаны ампулы, и при этом единственной вещью, которую я мог продолжать осознавать своим прежним собственным разумом, была неочевидность извлечения ампулы с белой маркировкой. Если бы тот другой, вдруг вселившийся в меня, извлёк бы ампулу с цианидом, то жертва пала бы прямо здесь, за ресторанным столом, и характерный запах миндаля незамедлительно выдал бы во мне убийцу. Однако мой незнакомец, следуя одному ему ведомому плану, выбрал ампулу, не оставляющую следов. Не вынося её на свет, мои неподконтрольные пальцы сломали на ампуле наконечник, и когда я выливал её содержимое в оставленное Тропецким пиво, моё прежнее «я» лишь с удовлетворением отметило, что по стекляшке проходит белая полоса.
Вскоре Тропецкий, заметно повеселевший от пребывания на улице, вернулся и о чём-то меня спросил. Однако, находясь в прострации, я не понял обращённых ко мне слов и не ответил. Не дождавшись ответа, Тропецкий вполне дружелюбно потряс меня за плечо — и тогда тот, другой, стал что-то говорить моими устами и моим голосом. Затем, повинуясь его неведомой воли, моя рука протянулась к бокалу с пивом. Тропецкий сделал то же самое, и тогда мы, слегка чокнувшись, выпили до дна.
Я рухнул на стул, поскольку всё внутри меня зашаталось, закружилось и поплыло. Я начал проваливать в какую-то тёмную бездну, как вдруг понял, что это неведомый убийца покидает моё существо. Спустя несколько секунд оно полностью вернулось под мой контроль и я снова обрёл способность думать и говорить.
Меня более не интересовала ни судьба швейцарского богатства, ни моя судьба — я лишь видел перед собой пожилого и смертельно усталого человека, который ещё несколько минут назад убеждённо рассуждал о том, как он собирается управлять миром, а теперь, ни о чём не догадываясь, доживал свои последние часы. Мне стало безудержно жаль Тропецкого. Он никогда не был моим другом, но в этот момент я понял, что исповедовав мне свои тайны, он сам того не ведая вручил в мои руки и свою судьбу.
Кто готов поверить — прошу, поверьте: моими руками Тропецкого убила неведомая сила, на несколько минут всецело подчинившая себе всё моё существо. Эта же сила задержала жертву на необходимые для манипуляций с ядом несколько лишних минут и отвернула взоры всех остальных, кто находился в зале и кто мог увидеть мои действия. Возможно, описанные мною эти мои ощущения и шаги когда-нибудь заинтересуют психологов и врачей и те, быть может, найдут аргументы, чтобы оправдать меня. Я же, не имея таковых, вынужден принять и принимаю это страшный и необъяснимый поступок на собственный счёт.
Я боялся взглянуть в пока ещё живое лицо человеку, которого только что убил. Он был спокоен и даже немного весел — видимо, моими словами, которые за меня произнёс тот другой, было согласие с его предложением. Я не стал дожидаться счёта, подозвал официанта и вручил ему заведомо больше рейхсмарок, чем мы могли проесть. Можно было уходить, однако Тропецкий неожиданно предложил мне немного задержаться.
Я понял, что он хочет дослушать до конца звучащее со сцены ларгетто из четвёртого концерта. Эта перемена поражала — ещё совсем короткое время назад он открыто выказывал неприязнь к «мертвечине» старой музыки, а теперь будто зная, что прикоснулся к порогу смерти, зачарованно внимал страдающей и переливающейся затаёнными отблесками грусти этой баховской мелодии. Можно было подумать что тот неведомый, кто поставил жирную и окончательную точку в нашем с Тропецким разговоре, специально подгадал так, чтобы это трогательное ларгетто прозвучало для моего приятеля то ли в качестве последнего прощания, то ли искуплением за ошибки и напрасно произнесённые слова.
Размеренным аккордам старинного клавира восходяще вторили скрипка и альт, а низкий голос виолончели словно проводил под ними печальную черту ещё не свершившейся, но уже скорой и неизбежной утраты. Я тогда подумал, что все мы, пока остающиеся и продолжающие жить, одинаково стоим в начале страшно долгого и тяжёлого пути, и при этом любые попытки этот предначертанный путь сократить или изменить — безрезультатны и ничтожны. Подобно тому, как я неожиданно увидел догорающего на снегу молоденького унтер-офицера, который пока что безмятежно допивал за соседним столиком рейнвейн и что-то обещал своим любящим родителями, я также увидел и мёртвого альтиста, а следом — и разбитую в щепу виолончель, погибающую под руинами разбомблённого здания. Позже я пойму, что после случившегося со мной в тот вечер я каким-то непостижимым образом обрёл дар узнавать и предвидеть будущее людей, находящихся от меня в непосредственной близости. Этот дар не окажется постоянным и большую часть дней будет меня покидать, чему я сделаюсь несказанно рад — иначе бы моя скорбь, становясь известной окружающим людям, начала хоронить их раньше срока, отмеренного судьбой.
Во всяком случае по дороге к дому, когда зазвучали сирены воздушной тревоги и меня остановил полицейский, чтобы предложить немедленно проехать в бомбоубежище, я наотрез отказался и предупредил его, чтобы он сам ни в коем случае не укрывался в нём. Не знаю, как полицейский решил поступить, но на следующее утро Берлин оплакивал добрую сотню жертв от прямого попадания в то самое бомбоубежище советской восьмисоткилограммовой бомбы.
Также перед тем, как рассудок окончательно вернулся ко мне, мне померещилось, что на короткий миг я вижу безжизненного Тропецкого, заваленного горой мёртвых тел. Разбирая затем эти инфернальные видения, я отметил для себя, что таковым вполне мог оказаться его конец, если бы он в соответствии с высказанными мне планами обратился бы к руководству Рейха со своим безумным предложением. Хотя, возможно, эти мысли рождались и проносились в моей помутившейся голове ради собственного оправдания.
В ту же ночь Тропецкий скончался от сердечного приступа. Ему сделалось плохо, едва мы поднялись в мою гостиную. Когда у него стала отниматься левая рука, я уложил его на диван, принёс подушки, воды и вызвал по телефону врачей. Из-за начавшегося налёта старенький «докторваген» добрался ко мне уже после того, как мой приятель испустил дух. А я, закрывший ему глаза и всё это время отрешённо дожидавшийся врачей при ярком электрическом свете, который во время бомбёжки полагается выключать, в момент когда фельдшер официально сообщил мне, что Тропецкого больше нет, — я не смог сдержать слёз и разрыдался, словно ребёнок.
Видимо, в ту ночь моя привычная рациональность меня покинула, и я был сентиментален, любезен и даже насколько это могло быть в моём положении, — честен с умирающим другом. Я отлично понимал, что этого человека, ещё недавно пытавшегося меня шантажировать и подчинить своей воле, я не имел оснований был называть другом. Однако как только в Тропецком обозначилась малая капля беспомощности и простой человеческой натуры, он сразу же сделался для меня один из тех немногих, кого я знал и помнил со стародавних гимназических времён и в ком временами различал собственное отражение.
В какой-то момент, когда Тропецкий начал особенно нестерпимо стонать от загрудной боли, мне показалось, что заглянув в мои глаза, он догадался, по чьей вине он умирает. Тем более удивительным явилось для меня его явное и осознанное желание успеть сообщить мне известные лишь одному ему ключи от секретного царского фонда. Для этого сперва он попросил принести из его саквояжа Библию, чем немало меня удивил — ибо заподозрить Тропецкого в религиозности я прежде никак не мог. Потрёпанный томик Библии оказался единственной книгой в его вещах. Это было редкое и ранее не попадавшееся мне издание, в котором русский синодальный текст построчно сочетался с текстом латинской Вульгаты.
Он принял книгу из моих рук и сразу же раскрыл её на заднем форзаце, где хорошо знакомым мне его почерком было выведено «Iesus Christus», а ниже располагались колонки цифр, в окончание которых были обведены числа «73» и «117», а ещё чуть ниже стояли единица и девятка.
— Учебник Амфитеатрова помнишь? — с хрипом в голосе спросил он меня.
Конечно же, я не мог не помнить в своё время зачитанный до дыр учебник по популярной нумерологии Амфитеатрова, который ходил по рукам в гимназии.
— Тогда соображаешь, как надо считать? — видимо, не доверяя моей памяти, Тропецкий решил мне напомнить. — Выписываешь алфавитные номера латинских букв, потом берёшь их сумму и находишь арифметический код. Иисус — это единица, Христос — девятка, то есть, как и должно быть, альфа и омега, начало и конец. В сумме, между прочим, — снова единица как символ грядущего царства. Не забыл?
Я утвердительно кивнул. Тогда он начал быстро пролистывать страницы и, вскорости разыскав Книгу Екклесиаста, принялся внимательно вглядываться в мелкий шрифт в колонке с русским текстом.
— Вот, вот это, — ткнул он пальцем в нужный абзац и затем поставил отметку ногтем. — Запомни: «Видел я рабов на конях..». В Sacra Vulgata в этой фразе — одиннадцать слов. Отсюда пароль — одиннадцать кодов арифметических… Девиз — «Екклесиаст» и номер стиха «десять-семь», то есть ещё два кода. Разберёшься?
— Спасибо. Я всё запомнил.
— Кроме тебя об этом не знает никто…
Я с благодарностью взглянул в его гаснущие глаза и понял, что жизнь уже покидает их. Тогда я обхватил его за плечи и покричал, проклиная себя за все прежние обиды:
— Герман, милый Герман! Не уходи! Скажи, какой банк? Каково название банка?
Но вместо ответа услышал выдох и сдавленный хрип. Голова Тропецкого стала заваливаться назад, я опустил её на подушку и уже приготовился прощаться. Однако жизнь задержалась буквально на мгновение и губы Тропецкого прошептали: «Лозанна, Банк Насьональ… В Москве узнай у…»
Он замолчал, но затем, словно вновь найдя в себе какие-то силы, попытался ещё что-то сказать про Москву или назвать одну или несколько фамилий, — однако уже было слишком поздно, его речь рвалась, затихала и вскоре прекратилась полностью.
В эти последние и страшные мгновения, когда, должно быть, его душа покидала тело, я испытал ещё одно новое и доселе неизведанное чувство. Я догадался, что посетивший меня в ресторане тёмный дух отнюдь меня не покинул и что во мне теперь время от времени начнёт оживать и подниматься в свой полный рост неведомый «чорный человек», присутствием которого мне отныне предстоит выполнить чью-то неизвестную и неумолимую волю. Когда я закрывал глаза почившему Тропецкому, меня посетила надежда, что чудовищная работа, взваленная на меня, завершена и сей дух согласится оставить меня в покое. Забегая вперёд признаюсь, что этого не случилось.
Более того, с прошествием времени мне стало казаться, что каким-то невероятным образом вовнутрь меня перетекло то мрачное и злое начало, которое последние двадцать лет являлось потаённой сущностью Тропецкого — поскольку он едва ли не на моих глазах вдруг начал превращаться в человека совершенно иного, расставание с которым вызывало искреннюю скорбь и печаль.
С другой стороны, я не позволил этой мрачной сущности овладеть моей душой до конца и вёл с ней борьбу. Эта борьба стоила мне огромных сил, страданий и в конце концов доконала меня.
Вселившийся в меня «чорный человек» продолжил и дальше творить свою разрушительную работу. Он преследовал меня в минуты одиночества и в толпе, приходил по ночам, подсказывал, издевался, подстраивал невероятные совпадения и творил фантастические удачи — одним словом, гнул и выкручивал мне руки, неумолимо увлекая меня к непонятной и ненужной мне цели.
Допускаю, что в силу каких-то обстоятельств я мог оказаться очень больным и по причине этой болезни утратить над собой контроль. Но, как бы то ни было, именно эта неведомая, внешняя и чужая для меня воля стала определять мои действия и метания в последние два с половиной месяца. В результате я бросил свой налаженный и безопасный удел и прибыл в осаждённую Москву. Тем не менее я по-настоящему этому рад. Рад, что мои скитания — а нынче об этом можно говорить с высокой степенью убеждённости — остались позади и что очень скоро я сам, записавшись и вступив, никем не узнанный, словно простой слободской мужик, в ряды московского ополчения, внесу в дело защиты красной столицы свою крошечную лепту и с радостью отдам во имя этого свою напрасную жизнь, когда-то принявшую неверный поворот.
И тогда тот неведомый, кто освободил душу Тропецкого и переселился вовнутрь меня накануне всеми забытого во фронтовых буднях таинственного праздника Преображения, умрёт вместе со мной где-нибудь в окопах под Можайском.
19-25/VIII -1941
За первой страницей Библии, которая была у Тропецкого в саквояже, лежала написанная его рукою записка, представлявшая собой духовное завещание. В ней на русском, французском и английском языках было сказано, что он просит похоронить его на русском кладбище, предварительно отпев, а личные деньги, хранившиеся в трёх парижских банках, отдать «на добрые дела». Я ещё раз убедился, что Тропецкий был совсем не тем жёстким, циничным и беспринципным человеком, который за рассуждениями о мировом господстве был готов проклянуть и приговорить к гибели миллионы близких и далёких людей.
Я сразу же решил отпевать и хоронить Тропецкого в Париже, поскольку не хотел показываться в русской церкви на Хоенцоллернбанн. Несколько лет назад церковь перевели туда с Фербеллинер, однако я ни разу на новом месте не был и совершенно не туда рвался, поскольку не переношу соседства с соглядатаями гестапо и боевиками из здешнего отделения РОВСа.
Получение у полицейских властей разрешения на отправку гроба с Тропецким в Париж заняло у меня практически целую неделю. Если бы не связи — мне пришлось хоронить Тропецкого в Берлине, как в первый же день посоветовал мне полицейский офицер. Однако времени даром я не терял — в течение этой недели, словно повинуясь неведомым посторонним приказам, я начал приводить в порядок и готовить к передаче свои многочисленные берлинские дела. Чтобы отогнать нехорошие мысли о «чорном человеке», которые с учащающейся регулярностью продолжали меня посещать, я решил, что всё дело — в моей несчастной фамилии. В самом деле: разве Фатов и Fatum — не роковое ли созвучие?
26/VIII-1941
Наконец, формальности были улажены, мне вернули паспорт со всеми печатями, а грузчики Темпельхофа получили разрешение подкатить тележку с гробом Тропецкого к борту пассажирского «Юнкерса», отправляющегося в Париж. Неожиданно я столкнулся с категорическим отказом пилота погрузить гроб в почтовый отсек. Чтобы не откладывать свой рейс и не ввязываться в оформление отдельного грузового перелёта, мне пришлось срочно оплачивать четыре дополнительных кресла — их выделили в хвосте самолёта, отгородили ширмой от остальной кабины и в проходе между ними поставили наглухо запаянный и опечатанный пограничной службой жестяной контейнер, ставший для моего товарища последним пристанищем.
Воздушная дорога до Парижа заняла почти пять часов, которые лично для меня пролетели совершенно незаметно — уподобившись лермонтовскому демону, я с бесстрастным упоением следил за облаками, наблюдал за медленным смещением под самолётным крылом альпийских склонов и лугов и почти не задумывался о вещах практичных и приземлённых. Разговоры соседей по кабине, детский смех и даже замечательные доминиканские сигары, которые от имени капитана разносили всем желающим покурить, не могли отвлечь меня от молчаливого созерцания.
Такое же отрешённое настроение сопровождало меня и на французской земле, на недлинном пути от аэродрома Вильнёв-Орли до православной часовни на кладбище в Сент-Женевьев. Если бы ещё в Берлине я не договорился о выделении мне для этой цели военного грузовика, то не знаю, сумел бы я доставить гроб с Тропецким к месту погребения — почти все частные авто во Франции были реквизированы для нужд войны, и мне пришлось бы сходить с ума в поисках грузового такси. В этом случае, возможно, я смог бы вернуться в своё прежнее активное и деятельностное состояние — однако всё обошлось.
27/VIII-1941
Я скоротал ночь в местном русском пансионе, утром следующего дня состоялось отпевание. Несмотря на то что я известил о кончине Тропецкого телеграммой по его парижскому адресу и сообщил по телефону нескольким общим знакомым, помимо меня проститься с ним пришли лишь две незнакомые старушки и какой-то юноша. Кем именно он приходился погибшему — племянником, необъявленным сыном или, быть может, его прислал проститься вместо себя кто-то из уже немощных ветеранов — для меня так и осталось неведомым.
Стоя во время отпевания с зажжённой свечёй, я заметил несколько недоумённых взглядов, брошенных в мою сторону, поскольку я ни разу не перекрестился. Я поступил так совершенно осознанно, поскольку не желал лицемерить и возносить моление о человеке, жизни которого я собственноручно положил конец. Да и я не считал свой поступок грехом, поскольку поступил подобным образом в ответ на предложенный мне безвариантный план собственной погибели. В то же время прощание с Тропецким вызывало скорбь и всеохватывающее чувство жалости — к нему ли, к себе — я не знаю, и это чувство, горевшее во мне ровным и болезненным огнём, было по-настоящему искренним и глубоким.
Разумеется, первую горсть земли в могилу Тропецкого пришлось бросить мне, и в этот момент я осознал, что вместе с ним я хороню и свою прежнюю жизнь. Как ни странно, мысль об этом приободрила меня, поскольку за исключением давно забытых за ненужностью идиллических воспоминаний детства всего остального в моей почти полувековой жизни мне было нисколько не жаль. Ибо как можно жалеть время, в течение которого в моей жизни постоянно шла война — даже когда пушки молчали! На войне же, как известно, люди отнюдь не живут, а принимают и исполняют некие решения, замысел которых для абсолютного большинства лежит за пределами их разумения. И поскольку от любых подобных решений так или иначе погибают люди, то только безответный рядовой, не имеющий права отдать даже никчемную команду, может по праву считаться абсолютно ни в чём не виноватым и даже святым.
Я же, бывший вольноопределяющийся, разумеется рядовым не являюсь, и поэтому должен разделять всеобщее для войны бремя ответственности за вынужденное пресечение чужих жизней.
Действительно, говоря военным языком, моё роковое решение, принятое и исполненное в филармоническом кафе, являлось тактической реакцией на действие пусть и союзной силы, но из-за необдуманности и чрезмерной самоуверенности поставившей меня в положение гарантированного разгрома. Что ещё мне оставалось? В конце концов, если приказ на действия в рамках изложенного Тропецким плана я бы получил от некого третьего лица, имевшего верховенство над нами обоими, — то безусловно я бы подчинился и исполнил этот приказ до последней запятой.
Роковой ошибкой Тропецкого явилось то, что он — при всей хитроумно продуманной безвариантности для меня своего предложения — решил обратиться ко мне как к равному, «сыграть в демократию». Демократию же на фронте мы все проходили летом семнадцатого и ему ли было не знать, к чему она приводит! Тем более что под Новороссийском его голос не дрогнул, когда во имя «высших задач» он отдавал калмыцкому полку приказ умереть под штыками и шашками красных отрядов. Точно так же в этот раз поступил и я. Ведь если рассуждать предельно откровенно, то подчинённые Тропецкого, все как один, тогда погибли во имя того, чтобы он спокойно и безопасно вывез за границу добытые бог весть где сведения о спрятанных в Швейцарии царских векселях. Кстати — несчастный Гужон, возможно, тоже лишился жизни во имя того же самого, неплохо бы это проверить… Так или иначе, но эти векселя с военной точки зрения обладают ценностью не большей, чем какая-нибудь сопочка по левому флангу, ради которой командиры без разбора бросают на пулемёты целые дивизии, и потому в контексте военных законов Тропецкий действовал правильно и рационально.
Ну а я — я поступил точно так же. План Тропецкого помирить с помощью денег сцепившихся в смертельной схватке Германию и Россию, а затем раздавить Англию и установить финансовую власть над миром — не просто идиотизм, а стратегически убийственное для нас обоих решение. Посему, обнародовав его, он не оставил мне другого выбора. А ведь разумные варианты имелись, и их как минимум было два: первый — вернуть векселя в Россию, второй — продать их тем же англосаксам. Так что теперь, по-видимому, мне самому придётся с дальнейшими вариантами действий определяться. Грустно то, что вернуться к прежнему состоянию у меня уже не выйдет — переданная мне тайна будет сжигать меня изнутри, покуда я не расстанусь с ней.
А коль скоро так — то предсмертные откровения Тропецкого были отнюдь не благородным поступком по отношению к своему потаённому убийце. Возможно, что на смертном одре тайна моего поступка приоткрылась ему и он поступил совершенно расчётливо и жестоко, переложив на меня проклятье своего знания. Что ж! В любом случае он успел очистить свою душу и теперь сможет предстать перед Богом в той наивной прежней чистоте, которая столь поразила меня в нём в его последние минуты.
Последняя мысль посетила меня уже после кладбища, по дороге к пансиону, и была столь убедительна и сильна в своей очевидности, что я пожалел, что во время отпевания сохранял за собой чувство вины и не пожелал осениться. Чтобы исправить этот недочёт, я остановился и принялся искать глазами какой-нибудь церковный купол с крестом. Ничего, правда, не обнаружив, я повернулся в направлении, в котором должен был находиться погост, трижды покрестился на небо и поклонился в землю.
Проделав это, я немало удивил русских старушек, которые плелись по той же дороге позади меня, но зато моё сердце сразу же наполнилось спокойствием и утешением от сознания того, что я, никчемный, недостойный и греховный человек, освободил от страшного груза душу Тропецкого. Как ребёнок я порадовался, подумав как она, отныне более ничем не отягощённая, сможет начать восхождение к свету. Цена же, заплаченная за это освобождение, меня не нисколько не волновала, поскольку моя собственная жизнь была уже давно безвозвратно погублена и персонально для себя я у Бога никогда ничего не просил и просить не собирался.
По этой же самой причине я совершенно не огорчился, когда решив довести до конца логику придуманного мной сравнения гибели Тропецкого с военной целесообразностью, я внезапно обнаружил за своей спиной присутствие того вышестоящего командира, которого до сих пор во всей этой конструкции недоставало и который единственный был вправе отдать мне смертельный приказ. Я снова ощутил прикосновение моего «чорного человека», не приходившего уже неделю. Но на этот раз я не испугался, а лишь признался себе в том, что обустроенный посредством антикварного магазинчика на Краузенштрассе мой спокойный и безопасный мир безвозвратно провалился в прошлое, а моя прежняя свобода отныне уступила место чистой и жестокой необходимости. Понимание этого факта не вызвало у меня ни ропота, ни сожаления, поскольку оно полностью укладывалось в канву продолжающейся вселенской войны, которую я только что для себя провозгласил и вне которой я немедленно должен был превратиться в жалкого труса и убийцу.
Но прежде чем отправляться к местам предначертанных мне сражений, я не мог не воспользоваться возможностью немного отдохнуть, для чего, конечно же, надлежало посетить Париж. Правда, добираться пришлось немного не по-парижски: поймать такси в этом глухом предместье оказалось невозможным по определению, в результате чего путь до площади Данфер-Рошро мне пришлось проделать в тесном и до неприличия забитом городском автобусе.
Зато Париж был по-прежнему Парижем. Перед поездкой меня предупредили, что с начала августа погода здесь стоит прохладная и дождливая, однако сегодняшний день, словно по заказу, выдался в меру сухим и тёплым. Правда, на асфальте оставались лужи, весело обходя которые я дошёл до бульвара Сен-Мишель, откуда сразу же свернул Люксембургский Сад. Несмотря на будний день, в Люксембургском саду было полно гуляющих всех возрастов, от стариков и маман с детскими колясками до лиц весьма юных, пришедших сюда на свидание или просто побездельничать. Все были доброжелательны и спокойны, временами слышался громкий заразительный смех, а в небольшом отдалении играл аккордеон. В подземке, в вагоне которой я проехал две остановки, улыбчивые германские офицеры охотно уступали места парижским дамам и старушкам. Эта умиротворённая атмосфера совершенно не вязалась с напряжением, которое незадолго до этого передалось мне на улице от сосредоточенного внимания полицейских и повсеместно расклеенных плакатов, извещающих, что «21 августа в Париже был убит германский военнослужащий, вследствие чего начиная с 23 августа все французы, арестованные германскими властями по усмотрению последних, считаются заложниками, а в случае продолжения терроризма часть из них будут расстреляны».
Освежившись бокалом бордо, я продолжил своё путешествие, буквально на каждом шагу отмечая произошедшие перемены. Прежде всего бросалось в глаза практически полное отсутствие машин на мостовых — должен заметить, что даже в осаждённой ноябрьской Москве их будет больше. Причина банальна: германские власти реквизировали из свободной продажи бензин и теперь за исключением авто, закреплённых за германской администрацией, а также небольшого числа автобусов и безумно вздорожавшего такси, ездить парижанам не на чем. Некоторым, правда, удалось оборудовать свои машины газогенераторами на угле и дровах, уродливо торчащими из багажников, но всем остальным пришлось пересесть на велосипеды и импровизированные рикши.
Ещё одно наблюдение, бросившееся в глаза, — почти все развешанные по Парижу агитационные плакаты отчего-то призывают к борьбе исключительно с «мировым большевизмом», в то время как в самой Германии их добрая половина посвящена борьбе с негодяйкой-Англией. Подобное лукавство показалось мне не вполне честным.
Однако следующий плакат — огромный, растянутый вдоль фасада кинотеатра, — затмевал собой все остальные: под надписью «Евреи догрызают Францию» картинно-злобный иудей впивался в зубами в нечто соломенно-золотое, что можно было принять, в меру испорченности, за земной шар или же за аппетитное женское бедро. Как оказалось, то была афиша нового французского фильма. Привыкший по своей жизни в Рейхе не обращать внимание на вещи подобного рода, здесь я всё-таки поперхнулся и мне сделалось грустно за свою прабабушку, когда-то переводившую стихи Вийона на идиш. Чем бы ни закончилась теперь эта война, её переводы уже точно никому не пригодятся.
По мосту Менял я дошёл до улицы Риволи и решил прогуляться по ней в направлении площади Согласия. Возле Лувра свернул в садик Пале-Рояль, чтобы отдохнуть на скамейке в окружении по-прежнему роскошных клумб, и из случайно подслушанного там разговора узнал, что утром двадцатого августа немцы, устроив облаву в 11-м округе Парижа, арестовали и вывезли в Дранси несколько тысяч еврейских семей. Сразу стало понятным, что убийство в следующую же ночь германского военнослужащего явилось местью за эту депортацию. Выходило, что насилие над евреями обернулось насилием над французами, которых в отместку хватали и, вполне возможно, понемногу продолжают хватать как заложников на улицах и в подземке без какого-либо объяснения причин. Причём непосредственно арестами евреев и французов — об этом я также узнал из подслушанного в Пале-Рояль чужого разговора — занимаются не немцы, а местные полицейские, которые сами проверяют документы, допрашивают и затем принимают решение, кого отпустить, а кого передать в германскую комендатуру. Отпустить всех задержанных они, разумеется, не могут, поскольку немцы доводят до них чёткий «план», — стало быть, этим парижским мужикам, облачённым в полицейские мундиры и форменные кепи, приходится каждый раз лично решать, кого оставить наслаждаться свободой, а кого — отправить в ад. Страшный выбор, нечего сказать! Наверное по этой причине на фоне достаточно безмятежных лиц обывателей физиономии полицейских сразу же показались мне необычно суровыми и немного обескураженными. Все они понимают, что если германская оккупация когда-нибудь прекратится, то их головы первыми лягут под гильотину. И по схожей причине они не могут и бросить к чёрту свой пост и куда-нибудь сбежать.
В то же время удивительная и в некотором смысле даже демонстративная беспечность и весёлость остальных парижан подводили к мысли о том, что спокойное отношение к исчезновению средь бела дня большого числа людей — скорее не странность, а следствие глубинного свойства человеческой природы, стремящейся, по мере возможного, не принимать всерьёз опасности, пока что не ставшие явью. Ведь и в мирное время людей убивают, люди тонут, попадают под колёса авто — однако пока каждого из нас подобное не коснётся близко, мы готовы бесконечно наслаждаться и радоваться каждому солнечному дню. Ну а мне, отпетому цинику, а теперь вдобавок ещё и убивцу, — тем более не о чем горевать!
Около пяти часов вечера я вспомнил о необходимости определиться с ночлегом — либо устраиваться в отель, где может не оказаться мест из-за огромного постоя германских офицеров, либо возвращаться в русский пансион в Сент-Женевьев. Оба варианта меня не устраивали и я вполне мог оказаться в незавидном положении бездомного, если не бы не вспомнил о знакомом отставном полковнике люфтваффе, который с прошлого года работал здесь в руководстве отделения «Организации Тодта»[23]. Во время прогулки я заметил вывеску «Организации» в перспективе проспекта Опера и теперь поспешил туда вернуться. Разыскав нужную дверь, я представился и назвал имя своего полковника, с которым желал бы встретиться или переговорить по телефону. Высокий статус моего знакомого в сочетании с моей русской фамилией и так и не изжитым за годы эмиграции московским акцентом повергли француженку-секретаршу в настоящий политический шок. Было заметно, что она совершенно растерялась, не зная как со мной себя вести, и в конце концов не нашла ничего лучшего, как предложить мне стул и угоститься стаканом холодного лимонада.
Минут через пять затрезвонил телефон, она подняла трубку и сразу же, рассыпаясь в любезностях, передала её мне: «Генерал-инспектор на проводе!» Бывший полковник, а теперь, стало быть, генерал-инспектор, был чрезвычайно рад моему звонку и ещё более моему визиту в Париж. Минут десять он расспрашивал меня о полученных впечатлениях и выдал несколько дельных советов, как обезопасить себя здесь от различных случайностей. Я попросил его помочь с машиной, чтобы уехать ночевать либо в Орли, в гостиницу при аэродроме, либо обратно в русский пансион. В ответ он полностью подтвердил мои опасения, что с машинами и бензином здесь более чем плохо, однако заверил, что поможет мне и пришлёт свой «Хорьх» с водителем и с разрешением на выезд за город — но только ближе к девяти вечера. Мы договорились, что машина будет ждать меня ровно в девять на Вандомской площади возле магазина Скиапарелли, а в остающееся время я найду, чем себя занять. От всей души поблагодарив полковника, то есть генерала, и не забыв отметить услужливость и очарование его сотрудницы, я распрощался и отправился на дальнейшую прогулку с целью скоротать предстоящие несколько часов.
Изрядно подустав от ходьбы, я решил поужинать в кафе на бульваре Мадлен. Сразу же отмечу, что меню здесь по сравнению с тридцать девятым годом, когда я был в Париже в последний раз, стали куда проще, если не сказать — бедней. Видимо, покойный Тропецкий наслаждался лимузенской говядиной в существенно других заведениях.
Несмотря на вечерний час, предполагающий аншлаг, кафе оставалось полупустым. Мой столик был на улице. Там ко мне вскоре подсела, предварительно спросив разрешение, худощавая особа лет сорока или, может быть, сорока пяти, в спасающем от прохлады распахнутом тёмно-бежевом габардиновом пальто и длинном элегантном платье в стиле Вионне. Издалека она имела привлекательную внешность, в которой особенно выделялись узкий и слегка выступающий вперёд подбородок с маленькими округлым ртом, подчеркивающие сосредоточенность и страстность. Она чем-то походила на Марианну с французских почтовых марок довоенной серии — разумеется, если клош заменить фригийским колпаком. Однако при ближайшем рассмотрении весь её вид с бледным и очевидно изрядно утомлённым лицом и сильными следами пудры на запястьях в сочетании с той решимостью, с которой она поспешила завязать со мной беседу, выдавали в ней в лучшем случае обедневшую даму полусвета, а в худшем — труженицу ближайшего борделя. Правда, последнее меня ничуть не смущало.
Болтая с незнакомкой о каких-то пустяках и понемногу убеждаясь в правоте своего последнего вывода, я поймал себя на мысли, что понемногу перестаю понимать притягательность женского тела и очарование красоты. После давнишнего разрыва с женой, укатившей вместе с дочкой сперва в Бельгию, потом — в Америку и там, по слухам, вступившей в новый и выгодный брак, я установил и до сих пор поддерживаю с двумя немками отношения, которые ни для кого не являются секретом и мало к чему меня обязывают. Однако именно вольная и ничем не связанная любовь всегда оставалась для меня чем-то вроде высшей награды и императивного наслаждения. Теперь же, вглядываясь в свою соседку, я неожиданно понял, что грань между наслаждением и мукой — очень тонкая и условная, и если её переступить, то взаимная привязанность легко обратится в ненависть. Причём последняя, подобно полю между полюсами мощного магнита, способна соединять и удерживать тела и души не в течение коротких минут взаимного любовного порыва, а всю бесконечную вечность. Этим своим открытием я не на шутку оказался поражён и взволнован: ведь если оно было верным, то первопричиной мироздания оказывалась ненависть, сотканная из вечных мировых полюсов, противоречий, борьбы и антагонизмов. Ну а любовь — она лишь приходилась мировой ненависти счастливым и редким исключением.
Ибо если мы, проживая жизнь, с лёгкостью впускаем в себя всю сопровождающую нас грязь, без которой невозможно добиться положения и успеха, то уже к совершеннолетию не только человеческие души, но и тела оказываются безнадёжно отравленными мировым злом. И когда в порыве страсти мы начинаем обожать чужое тело, то вместе с ним обожаем и яд, сочащийся из всех его пор. Возможно, что действие именно этого яда и приносит наслаждение — да, да, скорее всего именно так оно и обстоит, поскольку подобно всякому яду наслаждение нельзя вкушать много и долго. С другой стороны, если человеческая жизнь есть борьба за наслаждение, из которого высшим для большинства из нас является обладание женской плотью, сим ядом пропитанной, — то к чему тогда стремимся и чего достигаем мы по мере свершения своих жизненных планов и стяжания успеха, славы и богатства?
Я без стеснения стал заглядывать в глаза моей Марианне, прежде срока начинавшие выцветать от подобной, должно быть, ядовитой любви, и мне вспомнились гумилёвские строчки с врезавшимся в память описанием инфернальной вечности:
…Ты увидишь пред собой блудницу С острыми жемчужными зубами. Сладко будет ей к тебе приникнуть, Целовать со злобой бесконечной, Ты не сможешь двинуться и крикнуть. Это всё. И это будет вечно.Интересно, подумал я, поднося к губам бокал с вином, только что соединившийся с её бокалом: каким именно будет мой персональный ад? Ведь если следовать моей космогонии, то моей душе будет непросто слиться с мировой ненавистью, поскольку я, в общем-то, в своей жизни никого по-настоящему не ненавидел. Да и отравленной любовью, положа руку на сердце, не злоупотреблял. Всю жизнь я так или иначе занимался собой, своими персональными проблемами и внутренним миром, ведя во имя них никому не ведомые битвы.
Поэтому, наверное, после своей кончины я буду пребывать в мрачном и оцепенелом молчании, подобно бельфорскому льву[24], которым я сегодня любовался на площади Данфер-Рошро. Ну а если я смогу реализовать свой план и куда-нибудь пристрою открытые Тропецким сокровища — то сделаюсь героем, как и тот полковник, угробивший пусть в символичной, но никому не нужной обороне в три раза больше солдат, чем осаждавший его неприятель. Я же уже угробил Тропецкого. Возможно, что мне придётся прикончить кого-нибудь ещё, и даже если мой личный мартиролог на этом и прекратится, то за припасённое Тропецким открытие, которое теперь я скоро предъявлю человечеству, ещё сгинут тысячи и тысячи других, ничего не ведающих, не виноватых и совершенно не способных изменить свою несчастную судьбу.
И при этом выходит, что за данное сомнительное право пускать чужие жизни на ветер я сегодня имею в бумажнике по здешним меркам целый капитал — две тысячи военных рейхсмарок, а если захочу — мне из Берлина переведут ещё сколько угодно! Я имею привилегию пить в оккупированном Париже лучшее вино, заставляя очумелых поваров что-то для меня жарить и пассировать. Я могу, наконец, немедленно и в любом количестве купить любовь этой пусть потрёпанной, но неглупой парижанки. Или какой-нибудь ещё другой, третьей, пятой, похуже ли, получше — мне наплевать!
Да, я определённо начинал становиться копией Тропецкого, которого не волновали человеческие страдания. И самое неприятное — в моих руках находился рычаг, с помощью которого в полной мере можно было бы осчастливить всё человечество. А если не хватать столь высоко, то у меня в кармане лежал козырь, манхув которым представлялось возможным остановить репрессии по отношению к европейскому еврейству. Казалось бы, чего проще — передать векселя фюреру, и он немедленно прекратит выжимать из евреев припрятанные, по его мнению, в их среде ключи к мировому богатству. Немцы перестанут хватать и вывозить из Парижа тысячами несчастные еврейские семьи, уцелевшие смельчаки прекратят из-за угла убивать немецких солдат, а немцы перестанут в отместку за последних казнить ни в чём не виноватых галлов. Борьба на восточном фронте также сразу потеряет смысл, поскольку если Тропецкий прав, то Гитлеру придётся пойти на сотрудничество с русскими, коль скоро он всерьёз пожелает отобрать у англосаксов власть над мировыми деньгами. Англия же сама нарвалась на эту войну и как только её финансовое могущество пошатнётся, она легко пойдёт с Германией на мир, о чём, собственно, всегда говорил и к чему по-прежнему полушёпотом продолжает призывать Риббентроп…
Тем не менее я не стану ничего предпринимать и продолжу спокойно пить своё вино и ждать, когда мне принесут турнедо-планш под коньячным соусом. А потом — почему бы и нет, время ведь имеется! — прогуляюсь куда-нибудь со стареющей красоткой. И я буду прав, поскольку от моих действий ровным счётом ничего не зависит. Ведь в движение сегодня приведены колоссальнейшие мировые силы и любой здравый взгляд показывает, что рычаги, которыми я теперь располагаю, в практическом плане смогут заработать отнюдь не скоро, если заработают вообще. Кровавым шестерням предстоит ещё долго и безостановочно крутиться, и каждый из нас, вне своего желания, получит персональную порцию страданий или удовольствий — ибо удовольствие, согласно моей новой теории, с неизбежностью возникает там, где страдание пробивает в океане мировой ненависти временную и случайную брешь.
Примерно вот так, проворачивая в голове подобные умозаключения и одновременно болтая со своей demi-mondaine[25] о вине, о холодной парижской погоде и о ценах в берлинских магазинах, я совершенно потерял из вида, что не ответил на её главный ко мне вопрос. Она напомнила мне о нём вполне изящно хотя и немного бесцеремонно, поинтересовавшись, в каких парижских борделях я бывал и бывал ли в них вообще.
— Ma chИrie[26], - ответил я немедленно. — Когда я впервые переступил порог борделя, вы ещё пели в приходском хоре.
Она совершенно не обиделась и ответила, что в таком случае у меня есть возможность насладиться её гораздо лучше сохранившейся невинностью. Мы оба расхохотались и я, признаться, всерьёз задумался над тем, чтобы принять её предложение и прогуляться в гостиницу, располагавшуюся ближайшем квартале. До назначенного мне времени встречи оставалось ещё больше часа, так что все возможности были налицо. И тем не менее я дал понять, что имею на этот вечер другие планы.
До сих пор сам не понимаю, что сподвигло меня на такой ответ, нехарактерный для сверхчеловека, каковым в тот момент я вполне себя осознавал. Думаю, что причиной являлось затеплившееся где-то в глубине чувство жалости к этой несчастной и умной женщине, обречённой на прозябание безо всякого утешения и надежды. Прогуливаясь ранее по городу, я имел возможность наблюдать отвратительную толпу немецких офицеров возле знаменитого борделя на улице Шабанэ, из чего сделал вывод, что именно за утешением прибилась ко мне моя Марианна.
Поэтому я позаботился о том, чтобы она хорошо поела — два бурганьона и мороженое стали нелишним дополнением к полуголодному быту одинокой парижанки. Также я отдал ей полторы тысячи оккупационных рейхсмарок — целое состояние по здешним меркам. Этим подарком, который ничего не стоил для меня, я просто хотел облегчить её жизнь на ближайшие полгода, а то и целый год — хотя, если бы предвидел, что в порыве благодарности она будет готова буквально бросится ниц и целовать мои ноги, я ни за что не поступил бы так.
К счастью, во второй или третьей по счёту бутылке оставалось достаточно вина, я немедленно налил его в наши бокалы с предложением выпить за то, чтобы в жизни было больше удовольствий, за которые не нужно платить. Возможно, что с моим французским это пожелание прозвучало не вполне понятно или же она не сразу уловила суть сказанного — поскольку, только осушив бокал, она вдруг с удивлением поинтересовалась у меня, за что же тогда я отдал ей столько денег.
Я ответил, что поскольку платить за удовольствия отказываюсь, то и деньги отдал за нечто им противостоящее и приносящее страдание. На её лице сразу же случилась перемена: на щеках внезапно проступил румянец, губы сжались, а в глазах вспыхнул какой-то глубинный огонь. Было видно, что она уловила и поняла мою мысль.
Тогда я продолжил и заявил — хотя до сих пор не могу понять, почему и в силу какой надобности я это произнёс, — что полюбил её. И что также убеждён в том, что если не сейчас, то очень скоро её сердце ответит мне тем же чувством. Но сразу же и добавил, что радоваться этому не стоит, поскольку любовь есть нисколько не удовольствие, а высшее из страданий.
Румянец на щеках несчастной Марианны зардел ещё сильней, а я, словно нарочно решив поддать жара, заявил, что уверен в том, что она будет помнить нашу встречу и меня достаточно долго.
— А как же ты? — услышал я в ответ.
— Я желал бы того же самого, однако знаю, что моя жизнь будет значительно короче, чем твоя.
Я прошёлся к барной стойке и сам принёс два коньяка, который мы молча выпили, глядя друг другу прямо в глаза. В этот момент я понял, что придуманное мною умозаключение оказалось чистой правдой — я действительно эту женщину полюбил, полюбил искренне и горячо, и от осознания этого живого чувства мне сделалось немного не по себе. К счастью, подходило время, я распорядился закрыть счёт и сообщил, что должен идти на Вандомскую площадь, предложив Марианне прогуляться со мной.
Я взял её под руку и весь путь мы проследовали молча, глядя на одно и то же — холодные бесстрастные парижские камни под ногами, которые пережили века и переживут и нас.
На Вандомской площади возле уже закрытого модного магазина стоял сверкающий «Хорьх», возле которого прогуливался офицер в форме СС. Я представился и тотчас же услышал в ответ «Хайль Гитлер!»
Приподняв правую руку, я доброжелательно ответил на приветствие. Офицер сообщил, что имеет для меня предложение ехать в Орли, где меня устроят в гостиницу, а утром я смогу улететь в Берлин на воздушном грузовике. Этот вариант меня полностью устраивал, я попросил передать благодарность моему благодетелю из «Организации Тодта» и спросил у офицера разрешения подвезти даму.
Офицер вполне предсказуемо ответил согласием. Моя спутница назвала адрес, мы разместились на заднем диване и я приготовился к достаточно длительной поездке, в течение которой мы могли бы о чём-то ещё подумать и что-то ещё друг другу сказать. Однако уже спустя минут пять водитель затормозил и сообщил, что мы приехали.
Поскольку было крайне маловероятным, что моя Марианна имела или снимала жильё в первом округе Парижа, я не без грусти отметил, что мы, скорее всего, прибыли в ту самую «гостиницу», в которую она приглашала меня с ней зайти. Я решил не выходить из машины и лишь поцеловал ей пальцы на прощание. И ещё — сунул в её ридикюль все остальные купюры, которые имелись в моём кармане.
Спустя полчаса меня доставили к гостинице существенно иного рода, которая буквально под завязку была забита ожидающими своих самолётов офицерами вермахта, СС, разномастной гражданской публикой — в основном с инженерными значками — и, конечно же, сотрудниками «Организации Тодта» в оливкового цвета мундирах, когда-то реквизированных у разоружённой чешской армии. К моему изумлению, для меня приготовили персональный двухместный номер — цену этой любезности я узнал, когда ко мне постучался штурмбанфюрер, забывший в освобождённой для меня тумбочке свои бритвенные принадлежности. На пути же из столовой, куда я спустился, чтобы пропустить кружечку пива, я обратил внимание, как штурмбанфюрер с кем-то на пару устраивается спать в коридоре на раскладушках.
Да, безусловно, в оккупированном Париже мне был оказан во всех отношениях и смыслах царский приём, и в прежние времена я бы это оценил. Но только не сейчас.
28/VIII-1941
Ранним утром я улетел в Берлин на грузовом самолёте, перевозившем артиллерийские взрыватели. Мне и сопровождавшему груз майору выделили места возле кабины лётчиков, благодаря чему я имел возможность лицезреть земные красоты не только из бокового иллюминатора, но и за многочисленными стёклами пилотского фонаря.
Из-за военного груза на борту было объявлено, что самолёт сядет не в Темпельхофе, а в Гатове, неподалеку от Потсдама, где меня также будет ждать машина. Фантастические предусмотрительность и внимание!
Было облачно и немного темно, тяжелогружёный самолёт двигался под нижней кромкой густых туч, из-за которых обихоженные европейские пространства, проплывающие под крылом, были сплошь в приглушённых пастельных тонах. Глядя на их чередующееся однообразие, стоившее веков труда и миллионов жизней, я невольно подумал, что та женщина, с которой я только что столь странно встретился и расстался, и есть для меня самый точный и окончательный символ Европы.
Европа также провела своё детство в рвении и благочестии «приходского хора», затем мечтала о красивом и разумном будущем, ну а теперь, оставив эти мечты, сделалась простой содержанкой, за которую ведут борьбу две выросшие из неё же силы — германский Рейх и атлантический союз. Декларируемой любви отныне нет, есть лишь голая рациональность и упоение силой. И создаётся впечатление, что лишь мы, немногочисленные и разбросанные судьбой по самым разным европейским углам русские эмигранты, наивно и отчасти смешно пытаемся Европу любить за давно погасшую красоту и несуществующие добродетели.
Поэтому пока наш «Юнкерс», нудно и напряжённо гудя моторами, медленно полз над разноцветной сеткой полей и поселений где-то в восточной Бельгии или Вестфалии, я твёрдо решил, что не отдам свои ошеломляющие секреты ни одной из этих нынешних двух сил.
Векселя достанутся моей бывшей родине, и произойдёт это вовсе не из-за того, что они должны вернуться именно туда, откуда когда-то пришли, — мне на это тоже, по большому счёту, наплевать. Просто в России, понял я, есть одна вещь, которая искупает все ужасы и грехи её нынешнего состояния. Эта вещь — вырвавшаяся из-под векового спуда идея иного будущего. Будущего, в котором не будет ни нас, нынешних жалких и ничтожных, и ни бронированных чудовищ, о которых распинался Тропецкий.
Пусть сегодня эта идея иного будущего окрашена в красный цвет, пусть завтра она станет жёлтой, синей, пурпурной — не имеет значения. С подобной идеей Россия всегда будет оставаться полноценной мировой силой. Ни у одной другой из мировых сил ничего подобного нет, все их футуристические образы примитивны, до краёв заполнены мещанством или отсутствуют вовсе, давно и безнадёжно уступив голому желанию наслаждаться и потреблять.
А я дам этой великой и спасительной нашей идее шанс воплотить себя в потрясающем масштабе и полноте.
Что именно пытается строить Россия — мне трудно судить. То, что я наблюдал в Москве в свой первый приезд летом тридцать пятого, сильно отличалось от того, что я переживал в годы революции, а увиденное в тридцать восьмом было уже непохоже на тридцать пятый год. Однако за непреодолённой вековой грязью и косностью я в полной мере уловил и запомнил стремительный дух обновления, призванного человека не поработить, а вознести и возвеличить. Пусть последнее звучит наивно и нехарактерно для моего нынешнего буржуазного бытия, но я, единожды вдохнув глоток того кислорода, навсегда превратился в добровольного адепта и пленника советского эксперимента. И даже последовавшие затем охлаждение в наших отношениях не остудило во мне данного сумасшедшего чувства.
Когда пилот проинформировал, что мы пролетаем между Касселем и Гёттингеном, я твёрдо решил — возможно, что и опрометчиво, — что если Советы получат доступ к мировым деньгам и без чьей-либо помощи начнут использовать их в своих грандиозных замыслах, то в этом случае и у любимой мной Европы появится шанс не погибнуть от мещанства. То есть если мой план состоится, то импульсы новой воли, вырывающиеся из недр красной страны, уже простым фактом своего присутствия оживят и преобразят древнюю европейскую землю. Причём проделают это в полном подобии со вспыхнувшим в моём сердце порывом к парижской куртизанке, спровоцировавшем её на ответную страсть. Только результатом отношений здесь станет не глупая сытая жизнь, отправленная пороком или бессмысленной предопределённостью семейных уз. Новые вызовы породят новую борьбу и раскроют дремлющие таланты, благодаря чему по прошествии времён мы увидим Новое небо и Новую землю, как нам было когда-то завещано.
Хотя лично я, разумеется, ничего этого уже увидеть не сумею. Более того, я сознательно пойду ещё на одно преступление и не воспользуюсь пусть призрачным, но всё-таки объективно существующим шансом немедленно остановить мировую бойню, подарив фюреру сокровище, об обладании которым он боится помыслить даже в своих снах. Понимаю и не страшусь, что в этом случае вина за миллионы душ, сгинувших во всемирной мясорубке, падёт на меня. Однако я знаю, что скажу в своё оправдание: вопросы политики и финансов — лишь запал, но не топливо войны. Топливом же является накопившаяся в европейцах звериная страсть к насилию и истреблению, которая всегда является обратной стороной культуры и декларируемой всеобщей любви.
И столь же понимаю, что воплощение моего плана также вряд ли окажется приятной прогулкой по васильковому лугу, а будет стоить многих и многих новых страданий и жертв. Но отныне я и твёрдо знаю, что любое страдание, равно как и сочащийся сквозь поцелуи яд, — неизбежная плата за наслаждения жизни, и потому вне зависимости от моего действия или бездействия этот яд продолжит вновь копиться и рано или поздно найдёт для себя выход, умерщвляя всех без разбора.
В то же время существует единственное наслаждение, ядом не отравленное. Это наслаждение, как я уже писал, — увидеть Новое небо и Новую землю. Поэтому ради того, чтобы оно имело шанс когда-нибудь состояться, я не стану жалеть ни других, ни себя.
Возможно, что я окончательно сошёл с ума или эти мысли внушил мне мой ночной собеседник — неважно! Решение принципиальное, я его принял и жить прежней своей жизнью я более уже не смогу.
15/IX-1941
По здравом размышлении я вскоре понял, что задачу взвалил на себя немыслимую и практически неосуществимую. Я должен буду переместиться из Германии в Россию через воющий континент, сохранив свою миссию в тайне как здесь, так и там. И при этом оказавшись в России не просто сдаться первому же попавшемуся красноармейцу, а сохраняя инкогнито добраться до Москвы.
Помимо всех очевидных преград мою задачу осложняло ещё и то обстоятельство, что нельзя было быть уверенным, что добравшись до Москвы, я не застану там германские войска — все газеты Рейха не без оснований полагали, что советская столица будет взята и оккупирована не позже середины октября. Если такое произойдёт, то мне придётся пробираться в стан русских куда-то на восток — на Волгу или даже на Урал, а это — ещё один смертельный риск, сводящий на минимум мои шансы.
Тем не менее внутри меня уже сформировался бешеный настрой на воплощение этого плана и никакие резоны отныне не могли остановить мого движения к нему. Более того, во мне постоянно присутствовала уверенность в том, что я смогу успешно преодолеть все без исключения преграды и опасности.
Попасть в Россию можно было только через нейтральную страну, имеющую сообщение со странами антигерманского блока. Самым практичным вариантом представлялся переход с территории Испании в английский Гибралтар, а оттуда — морем в Сирию, занятую англичанами и войсками де Голля, ну а далее через Турцию — в советское Закавказье. Второй путь начинался в Швеции, откуда можно было на пароходе какой-нибудь нейтральной страны добраться до Британских островов. Английское радио, передачи которого я регулярно включал, сообщало о готовящихся поставках военных грузов в Советский Союз, так что имелась возможность пристроиться на какой-нибудь уходящий в Россию грузовой пароход.
Я выбрал второй вариант, поскольку он предполагал пересечение меньшего числа границ, а также возможность, используя имеющиеся у меня особые навыки, затеряться в суматохе и неразберихе советского порта и далее, не раскрывая себя, добраться по железной дороге до Москвы. Переход же через турецко-советскую границу означал бы мой немедленный и неизбежный арест, чего я категорически не мог допустить. В чём также не приходится сомневаться — так это в том, что в силу известных причин моя фамилия давно включена в СССР в списки для немедленного ареста, так что объяснять важность и уникальность моей миссии и моего предложения советскому правительству будет проще генералам в Москве, чем недалёким оперуполномоченным где-нибудь под Гюмри.
Разумеется, в Берлине я представил всё так, что отправляюсь в деловую поездку, которая должна продлиться несколько недель, а то и более того: ведь охота за антиквариатом — дело хлопотное и непростое. С делами в магазине прекрасно справится немец-управляющий, а затем — либо я смогу по какому-нибудь каналу сообщить, что погиб, либо по прошествии известного времени меня объявят пропавшим без вести. На эти оба случая я оставил завещание, в котором просил передать всё мое состояние дочери. Дочь находилась в Америке, отношения которой с Германией всё более и более скатывались к неизбежной и скорой войне, поэтому я указал её местом жительства дочери нейтральную Швейцарию. Из Стокгольма я пошлю дочери за океан письмо или телеграмму, в которых обо всём об этом предупрежу.
А за несколько дней до запланированного отъезда мне самому пришло письмо из Парижа от нотариуса, уполномоченного германской военной администрацией. В нём сообщалось, что я как душеприказчик Тропецкого имею право на часть состояния покойного и потому мне необходимо её забрать или сделать распоряжение. Поскольку собственных денег мне вполне хватало, я выслал в Париж распоряжение о перечислении этой доли госпиталю в Фалькензе. Исполнение такого решения в моё отсутствие гарантированно не столкнулось бы с препонами со стороны военной администрации и одновременно оно нисколько не помогало Германии продолжать войну, поскольку в Фалькензе исключительно дохаживали военных, получивших смертельные ранения.
Однако несмотря на то, что мой отъезд в Швецию со всех сторон выглядел как заурядный коммерческий вояж, при получении выездной визы у меня неожиданно возникли проблемы. Из полиции мои документы были перенаправлены на Грюнер-Штрассе, куда мне снова пришлось являться с объяснениями. Гестапо интересовали цели моей поездки, адреса контрагентов, планируемый маршрут, а также множество других вещей, далёких, казалось бы, от интересующей темы, но способных поймать меня на противоречиях и неточностях. К счастью, всё обошлось. Правда, когда мы прощались, то офицер, рассматривавший моё дело, посоветовал мне добираться до Стокгольма на поезде, поскольку его бдительные коллеги, несущие службу на берлинском аэродроме, как он почему-то решил, вполне способны меня остановить.
Я от души поблагодарил гестаповца и чтобы не искушать судьбу не стал приобретать железнодорожный билет в Берлине, а отправился в пограничный Засниц на поезде внутреннего сообщения. Там я без помех взял пассажирский билет на паром «Пруссия», а из шведского Треллеборга, в который прибывает паром, телеграммой забронировал себе место в международном вагоне, курсирующем между швейцарской и шведской столицами.
Отправление парома было задержано часов на пять из-за замеченных в море подводных лодок — полагаю, что советских. Среди пассажиров первого класса, собравшихся в ресторане, это известие вызвало состояние, близкое к панике. Дипломаты-нейтралы бодрились и заливали своё смятение вином и коньяком, женщины сбивались в группы и неприлично громко, если не истерично, о чём-то судачили, а человек десять попросту решили сойти на берег, намереваясь дожидаться парома, ходящего под шведским флагом. Что же касается меня, то к удивлению окружающих и себя самого я был совершенно спокоен — поскольку не сомневался, что пока я нахожусь на борту судна, перевозящего в моём лице груз чрезвычайной важности, ни одна из советских торпед его не поразит.
Коротая время в судовом ресторане, я не мог не обратить внимание на услышанное из радиодинамика ларгетто четвёртого баховского концерта. Эта вещь не просто поразительно напоминала о нашем последнем ужине с Тропецким, но и звучала в эфире в исполнении музыкантов, которые в тот печальный вечер репетировали на наших глазах в филармоническом кафе. Разумеется, совпадения подобной точности и глубины не способны происходить просто так и свидетельствовать они могли только об одном — что отныне моя судьба пребывает в руках не вполне уже моих.
18/IX-1941
Второй день я нахожусь в Стокгольме, где после двух лет, проведённых в воюющей Германии или на занятых ей территориях, впервые способен насладиться настоящей свободой и покоем мирной жизни. Наверное, если бы это происходило весной, в окружении столь по-русски цветущих черёмух и сиреней, я бы окончательно лишился рассудка, однако и осенний Стокгольм с его крепким свежим ветром и насыщенно-синим цветом прибрежной воды достаточно погружает душу в состояние созерцания и тоски по прежней свободе, оставленной где-то в рассветном полумраке юности.
Я прекрасно понимал обстоятельства произошедшей в Берлине задержки с моей визой и потому не сомневался, что в Стокгольме за мной обязательно будут следить. Коль скоро так, то как и подобает богатому берлинскому антиквару, я остановился в Град-Отеле, где принято селить лауреатов Альфреда Нобеля. Я регулярно красовался там в ресторане и предпринял несколько пеших прогулок с посещением местных достопримечательностей, букинистических лавок и барахолки.
Невозможность приблизиться к советскому посольству нисколько не огорчала меня — напротив, я должен был отправляться в Россию максимально скрытно, под чужим именем и потому в равной мере опасался соглядатаев с обеих сторон. Мне было известно, что в городе под видом добропорядочного коммерсанта из Испании проживает советский нелегал по имени Рафаэль, с которым я познакомился и подружился на московских курсах «профинтерна» в тридцать пятом, так что моей главной задачей отныне являлась встреча именно с ним.
Конечно, запросто могло оказаться, что Рафаэль живёт и работает под немецким контролём. В этом случае моя инициатива с выходом на него завершилась бы плачевно — здешние агенты Рейха быстро бы вернули меня в фатерлянд на всё той же «Пруссии», только теперь не в роскошной палубной каюте, а в трюме. Однако страх подобного развития событий действовал на меня в высшей степени благоприятно, отрезая пути к отступлению и подгоняя исключительно вперёд.
21/IX-1941
Я прибыл в Стокгольм определённо неудачно, накануне выходных, когда Рафаэль, как добропорядочный горожанин, имел все основания уехать куда-нибудь за город отдыхать. Я регулярно делал из гостиницы и ресторана звонки по записанным у меня четырём его номерам, разбавляя их для видимости пустыми телефонными разговорами с местными торговцами древностями и ювелирами.
К моему счастью, поздним вечером в воскресенье он поднял трубку. Выслушав мою немного сумбурную речь и просьбу о помощи в поисках и приобретении полотен Одельмана и Ларссона, он немного подумал и предложил встретиться в понедельник за обедом в ресторане Фреден на Остерлангатан.
22/IX-1941
Поскольку зал ресторана в обеденный час был забит публикой до отказа, выбор Рафаэлем именно этого места привёл меня к грустному заключению о том, что он не вполне мне доверяет и не желает встречаться наедине. Мало ли с какими намерениями или чьим-нибудь приказом я прибыл к нему!
За разговором скоро выяснилось, что осторожность Рафаэля не беспочвенна: подобно мне, он «порвал с Советами» и теперь не без оснований опасается за свою безопасность. Более того, он был чрезвычайно удивлён, что я смог разыскать его по телефонному номеру квартиры, на которой проживает его любовница и где сам он бывает чрезвычайно редко. Он был убеждён, что этот номер он никогда никому не сообщал. В моей же записной книжке телефон любовницы Рафаэля оказался из-за чистой случайности: пару лет назад он неосторожно попытался с этого номера дозвониться до меня в моё отсутствие, трубку подняла горничная, которая, сообщив шведской телефонистке о том, что меня нет дома, не поленилась спросить, откуда и с какого номера меня разыскивают. Так «секретный» телефон Рафаэля оказался зафиксированным в моём блокноте, о чём он даже не подозревал.
История Рафаэля оказалась до мелочей схожей с моей. В конце тридцать девятого года он стал получать из Москвы странные, а вскоре и совершенно убийственные поручения, от выполнения которых он предпочёл уклониться. Затем пришло неожиданное известие о том, что его «работой довольны», что он представлен к награждению и вызывается в Москву — куда, разумеется, он также не поехал. Более того, в отличие от меня, накрепко прикреплённого к своему Gewerke[27], к моменту нашей встречи Рафаэль почти созрел, чтобы радикально поменять жизнь и покинуть Стокгольм. Так что мне ещё крупно повезло, что мы сумели здесь пересечься.
Схожесть судеб сближала нас и позволяла быть откровенными, однако она же ставила под угрозу мою основную цель — использовать каналы Рафаэля для негласного возвращения в Советский Союз. Я уже начал понемногу смиряться с необходимостью искать другие пути, например, каким-либо тайным образом проникнуть в советское посольство, как неожиданно я услышал от Рафаэля предложение изготовить для себя ирландский паспорт.
Выяснилось, что некоторое время назад, готовя себя к отъезду из Швеции, Рафаэль обзавёлся паспортами Панамы и Ирландии, причём обошлось ему это удовольствие приблизительно по тысяче рейхсмарок за каждый. Всё ещё не зная, для чего ирландский паспорт способен мне пригодиться, я ответил принципиальным согласием и услышал в ответ от Рафаэля несколько любопытных вещей.
Прежде всего он поведал много интересного из области международных дел, причём многие моменты стали для меня, регулярно слушающего помимо берлинского радио также радио Москвы, Би-Би-Си и «Свободную Францию», подлинным откровением. Он дал обоснованный до мелочей прогноз развития ситуации на Восточном фронте и выразил полную уверенность, что советскую столицу немцы не возьмут. Затем он высказал предположение, что мой выезд из Берлина должен был быть делом непростым. Я подтвердил его догадку и поинтересовался, в связи с чем он так подумал.
— Фюрер поставил грандиозную задачу переместить в Рейх такой объём ценностей — от драгоценных металлов до произведений искусства, древностей и прочих артефактов, — который бы позволил Германии создать на основе рейхсмарки лучшую в мире валюту. И он уже во многом преуспел: несмотря на войну, курс рейхсмарки неколебим, как шведская гранитная скала, и все те, у кого в кармане лежат бумажки с портретами Либиха и Шинкеля[28], в любом уголке Европы могут чувствовать себя королями.
Я признался, что по-королевски чувствовал себя в Париже и чувствую здесь, однако выразил опасение, что триумф рейхсмарки во многом связан с военными успехами и может пошатнуться, если изменится ситуация на Восточном фронте или же если в борьбу с Рейхом вступит Америка, до сих пор сохраняющая формальный нейтралитет.
— Ничего страшного не произойдёт, — парировал мой возражение Рафаэль. — Германия не столь глупа, чтобы сжигать свои силы на удержании контроля за половиной мира, не говоря уж про борьбу с заокеанскими Штатами. Главная задача Гитлера сейчас — забрать с оккупированных территорий максимальное количество ценностей и сокровищ. Любая война рано или поздно заканчивается миром, завершится и эта, в результате чего Германия вернётся в свои прежние или почти прежние границы. Однако всё должно быть устроено так, чтобы после этого возвращения именно Германия оказалась бы главной мировой силой, чтобы именно она, а не «еврейские банкиры», как выражается фюрер, контролировали бы мировую финансовую систему, а также чтобы германское хозяйство предстоящую тысячу лет питалось бы соками со всего остального мира, не прибегая для этого к насилию и новым войнам.
— И ты полагаешь, что у Германии есть шансы на успех? — поинтересовался я.
— Есть, и они немалые. Правда, немного странно, что об этом рассказываю я, жалкий полулегальный эмигрант, в то время как для тебя в этом грандиозном проекте предуготована немалая роль.
Услышав эти слова, я не смог сохранить спокойствие и определённо отреагировал, вздрогнув и изменившись в лице. Мысль о том, что Рафаэлю может оказаться известна моя тайна, показалась мне невыносимой и убийственной.
Однако, к счастью, он имел в виду совершенно другое.
— У нас здесь многие шепчутся, — продолжал он с совершеннейшим спокойствием, — что фюрер ещё в середине лета лично утвердил список фирм и антикваров, которые будут участвовать в оценке ценностей, доставляемых в Рейх. Работа начнётся совсем скоро, уже в следующем сорок втором году, и программа эта будет поистине адовой — в хранилища Рейха со всех концов Европы, из России и с Ближнего Востока хлынут несметные эшелоны сокровищ. Так что поздравляю — ты будешь при делах, поскольку твоё имя — одно из первых в этом списке!
Сказать, что я был поражён услышанным от Рафаэля — ничего не сказать. Рафаэль всегда отличался тем, что имел чрезвычайно надёжные источники информации и редко ошибался в своих суждениях. Тем более что в моём случае всё сразу же вставало на места — и странная волокита с выдачей разрешения на выезд, которая, по большому счёту, имела все основания закончится отказом, однако гестапо отчего-то предпочло не портить со мной отношения, и совершенно очевидное наблюдение за моей скромной персоной в Стокгольме, будто бы в моём лице немецкие агенты видели важную политическую или военную фигуру…
С вероятностью девять десятых Раф был прав и, поведав мне об этом, он должен был преследовать одну из двух целей: либо прибиться ко мне, чтобы поучаствовать в инвентаризации реквизируемых в пользу Германии мировых сокровищ, либо отвадить меня от сего сомнительного дела. Последний вариант представлялся менее правдоподобным, поскольку он не сулил Рафаэлю никаких барышей — разве что у него имелись планы закрутить со мной какое-нибудь иное дело. В то же время согласившись на первый вариант и вернувшись в Берлин, я бы мог спокойно приступить к этой работе сам, не нуждаясь в его помощи, — так что вряд ли он держал в голове именно его. Существовала ещё и третья возможность — после разрыва с Советами Раф вполне мог оказаться завербован немцами и тогда выходило, что в его лице они дополнительно проводят проверку моей благонадёжности. История с невероятным появлением Рафа в момент моего звонка в квартире любовницы, где он в принципе не обязан был отвечать на звонки, также свидетельствовала в пользу последнего варианта. Да и предложение сделать мне паспорт нейтральной Ирландии — не провокация ли это?
В этих условиях наиболее безопасным действием для меня могло быть только выражение удивления и восторга миссией, предначертанной для меня в Рейхе. Однако в этом случае мне вряд ли бы удалось раскрутить Рафаэля на дальнейшие откровения, к которым, как мне показалось, он потихонечку намеревался подвести наш разговор.
— У меня тоже имеется кое-какая информация, — ответил я ему, подумав. — Я полагаю, что речь будет в основном идти о ценностях, которые фюрер намерен реквизировать у евреев, поскольку в следующем году он намерен начать с ними предельно жёсткий разговор. Мы оба ведём речь про предстоящий сорок второй год, поэтому, скорее всего, мы говорим об одной и той же программе.
— Интересно, — задумчиво произнёс Рафаэль. — Признаюсь, я даже не задумывался о такой возможной связи. Но, с другой стороны, бизнес есть бизнес, и представившимся шансом не грех воспользоваться. Или у тебя другое мнение?
Мне ничего не оставалось, как пойти ва-банк.
— Что же касается меня, — ответил я, — то я убеждён, что идея фюрера — утопия. Развязав террор по отношению к евреям, он намерен заполучить в Рейх отнюдь не семейные побрякушки и золотые зубы покойников, а нечто большее — права на капитал ведущих банков Англии и Соединённых Штатов. Он рассчитывает, что их владельцы и управляющие, ужаснувшись уничтожению соплеменников, согласятся передать их фюреру свои активы в качестве выкупа, и тогда Германия воспримет в свои руки мировую финансовую власть. Однако именно в этом фюрер ошибается. Банкирам плевать на чужую кровь, даже если это кровь самых близких им людей. Жертва, которую принесут евреи во имя этой иллюзии фюрера, будет чудовищной, однако совершенно бесполезной. А настоящая жертва, которая позволит сохранить в мировых финансах имеющийся статус-кво, сегодня оплачивается на Восточном фронте русской кровью. Русские люди наивно полагают, что всего лишь отстаивают, как и многие века назад, собственную землю, а на самом деле война на Востоке мотивирована совершенно другими причинами. И её финал вполне предсказуем: устоит ли Россия или проиграет, Германия окажется кардинально ослабленной и, в итоге, будет повержена атлантическим союзом. Вот почему я, полагающий Германию своей второй родиной, хотел бы, прежде всего, помочь русским, чтобы не допустить разгрома и подчинения Германии англосаксам.
— А что тебе мешает это сделать? С началом войны Советы поумнели, очень многих повыпускали из тюрем, так что у тебя есть возможность возобновить с ними нормальное сотрудничество. Ведь ты же помогал им заключить пакт в тридцать девятом!
— В условиях войны это будет сделать слишком сложно… прежде всего, по моральным обстоятельствам, — ответил я, определённо слукавив. — Я бы предпочёл вернуться в Берлин и просто спокойно жить.
— Вполне тебя понимаю, — ответил Рафаэль. — Но в этом случае ты сильно рискуешь. Ведь когда программа фюрера начнётся, тебя уже не выпустят.
— У меня накоплено достаточно денег на жизнь, так что я мог бы и вообще отказаться от работы. В конце концов, я уже немолод и силы не те.
— Если ты прописан в списке у фюрера, то отказа от сотрудничества тебе не простят. Раскулачат и пустят в расход, как еврея. Что глядишь на меня удивлёнными глазами? У вас ведь в Рейхе Гиммлер лично решает, кто еврей, а кто — нет, разве не так?
— Примерно так, правильно.
— Вижу, что расстроил я тебя. Но ведь и приехал сюда вовсе не для того, чтобы поплакаться мне в жилетку. Скажи — ты хочешь эмигрировать? Или тебе нужен выход на советскую резидентуру?
Пауза на оценивание ситуации была отныне излишней. Из трёх мотиваций Рафаэля оставались две: либо он заодно с гестапо «пробивает» меня, либо действительно хочет мне что-то предложить. Что выпадет — орёл или решка? Мне стало всё равно, я плюнул на предосторожность и ответил встречным вопросом:
— А что подразумевает твоё предложение с ирландским паспортом?
Рафаэль сдержанно улыбнулся, отхлебнул вина и ответил:
— Поскольку мы с тобою, Платон, оказались в одной заднице с нашей работой на русскую разведку и оба не желаем мараться в Великогерманском Рейхе, то я бы хотел предложить тебе участие в одном многообещающем нейтральном предприятии.
Разговор об этом «многообещающем предприятии» мы продолжили, прогуливаясь вдоль набережной Шеппсбрун вдали от посторонних глаз и ушей.
Предложение Рафа сводилось к организации тайного механизма поставок в Советский Союз шведских ферросплавов, подшипников и авиационной стали, в которых отчаянно нуждалась советская военная промышленность. При всей фантастичности этой затеи дело могло оказаться вполне реализуемым: пароходы под шведским флагом имели право на «гарантированное судоходство» при проходе через Ютландию в Северное море, а их капитаны располагали подробными картами минных полей в этом районе, поскольку воюющие между собой Германия и Англия были одинаково заинтересованы в услугах шведского флота.
Обычно германские военные корабли сопровождали шведские торговые суда через минные заграждения в Датских проливах, попутно проверяя содержимое их трюмов. При этом существовало нечто вроде негласной договорённости, по которой кригсмарине пропускали в сторону Англии пароход с рудой, по документам предназначенной для какого-нибудь фиктивного южноамериканского получателя, в обмен на пропущенный англичанами танкер с венесуэльской нефтью или балкер с бразильским каучуком, оформленными на шведскую фирму, однако следующими напрямую в германский Киль. На мой вопрос о том, кто в таком случае будет компенсировать немцам выход в Северное море нашего «внепланового» судна, Раф ответил, что у его шведских партнёров имеется прямой контакт со штабом адмирала Редера, благодаря которому «всё можно будет легко организовать».
Более того, вскоре я узнал, что судно, предполагающее затем следовать в принимающие советские грузы порты Ирана или даже во Владивосток, — на самом деле будет не шведским, а, скорее всего, панамским, и что смена в открытом море флага и названия — задача не более сложная, чем изготовление поддельного судового коносамента. Однако игра при этом однозначно будет стоить свеч: советская сторона готова платить за подшипники и металл двойную цены и даже выше, в результате чего прибыль с каждого одного подобного парохода сможет достигать умопомрачительных величин. Если повезёт — то до двух миллионов долларов, когда перевозится руда, и до пяти миллионов, когда в трюмах будут подшипники.
Не скрою: у меня заблестели глаза, когда я услышал обо всём этом. Но как быстро выяснилось, сумасшедшие барыши военной коммерции достаются не тем, кто рискует, а кто финансирует. Со слов Рафа, финансировать тайные поставки в Россию будет банк знаменитого Маркуса Валленберга, некоронованного хозяина шведского государства. Правда ни для кого не секрет, что Валленберги активно сотрудничают с Рейхом, поэтому для сохранения инкогнито в их торговых операциях с советский стороной будут задействованы несколько посредников, и Раф — один из них.
На мой вопрос, что именно сподвигло Валленбергов, поддерживающих огромный торговый оборот с Германией, рисковать на единичных поставках в адрес русских, Раф туманно ответил, что «Валленберги учитывают все обстоятельства». Из дальнейшего разговора я сделал для себя вывод, что соответствующее решение они могли принять с оглядкой Америку, которая твёрдо поставила на недопущение разгрома СССР. В качестве доказательства Раф привёл недавнее и многих удивившее американское эмбарго на торговлю с Японией — объявленное как раз накануне ожидаемого всеми решения японцев об объявлении России войны.
«Видишь ли, — заключил он, — ради того, чтобы Россия не пала в неравной борьбе на два фронта и могла продолжать перемалывать чудовищный германский молох, Америка не прочь даже начать собственную войну с Японией, и введённое эмбарго — предвестник того, что такая война скоро будет объявлена. Американцы действуют очень грамотно, поскольку в их войне с Японией потери за год будут в разы меньше, чем у русских и немцев за неделю. Стратегически Америка уже начинает выигрывать, Валленберги это понимают и готовы понемногу подыграть будущему победителю».
Сомнений быть не могло — Раф замкнулся на империю Валленбергов и теперь работает с ними. Что ж! Озвученная им идея выглядела разумной и, главное, не противоречила моим планам. Быстро оценив все за и против, я сделал вид, что чрезвычайно заинтересован и польщён своим посвящением в её детали.
Убедившись, что я прочно заглотал наживку и готов к сотрудничеству, Рафаэль достаточно скоро произнёс именно то, что я и хотел от него услышать: Валленбергам нужен надёжный и умный связник, способный донести их предложение до высших лиц в советском правительстве, а также профессионально поддерживать обратную связь. Разумеется, я согласился, хотя прекрасно понимал, что даже при самом благоприятном отношении советского руководства к предложению Валленбергов, меня, как состоявшегося двойного агента, на третью службу больше не возьмут и при первой же возможности прикончат. Однако это произойдёт не сразу, а пока же мне нужно во что бы то ни стало добраться до Москвы — так что открывающейся для этого возможностью грех не воспользоваться.
Вот такой неожиданный, но позитивный поворот сделала судьба — я ехал в Стокгольм, чтобы проследовать оттуда в Москву по подпольным каналам и с документами советского нелегала, а в результате отправляюсь в почти легальное путешествие в роскошной капитанской каюте шведского грузового парохода.
29/IX-1941
Неделя с выходными прошли в многочисленных встречах с Рафом и несколькими его партнёрами, которые предпочитали представляться псевдонимами и никогда не возвращались на места прежних встреч. Ирландский паспорт, который был выписан на моё имя на следующий же день после нашей первой встречи с Рафом, мне пришлось вернуть, получив взамен паспорт с шведским гербом. Это значительно лучше, поскольку по пути в Россию мне предстоит короткое пребывание в Англии, где ирландский паспорт может сослужить скверную службу.
Рафаэль со своей командой организовал мой отъезд на грузовом судне, выходящем из Хельсинборга, куда в целях конспирации мы добирались на автомашине без малого пятьсот вёрст. Порт находился в самом узком месте пролива Зунд, через который хорошо просматривался датский берег, оккупированный Германией. Однако мои кураторы сочли, что именно из этого места я сумею покинуть Швецию наиболее безопасным образом.
Я вспомнил, что на противоположном датском берегу должен находиться замок, в котором погиб Гамлет. Однако мысль о погибающем на моих глазах привычном старом мире показалась мне не из самых приятных, так что я решил не глядеть более в направлении древних башен Эльсинора.
Перед отъездом из Стокгольма Раф предлагал мне «временно» переоформить на его имя мою берлинскую фирму, открыто намекая, что к её делам я более не вернусь. Я ответил, что моя собственность в Германии уже завещана дочери, но оставил ему всё необходимое для связи с управляющим моим магазином. Было очевидно, что Раф не прочь поработать и на немцев, если у последних возникнет потребность легализовать какой-нибудь антиквариат. Воистину: война — войной, а бизнес — по расписанию. Не скрою, что последние дни общение с Рафом становилось для меня всё тяжелее и по-настоящему начинало угнетать, поэтому, как только мой пароход отвалил от причальной стенки, я весь воспрянул от обретённого чувства свободы.
30/IX-1941
Отдав швартовые в минувший полдень, наш пароход, гружённый алюминием и какими-то таинственными деревянными ящиками, поздним вечером остановился в районе Гётеборга, где простоял на рейде целую ночь. Утром, когда я, не спеша побрившись и хорошо позавтракав, вышел на палубу подышать свежим воздухом, я увидел идущий к нам наперерез со стороны датского берега германский сторожевой корабль. Я уже внутренне приготовился к досмотру, как немцы что-то просигналили и повернули влево. Спустя минуту машина нашего парохода начала стучать сильней, из трубы повалили чёрные клубы дыма, заскрипели якорные лебёдки и вскоре мы неторопливо тронулись вслед за немецким провожатым.
Помощник капитана объяснил мне, что в этом районе пролива Скагеррак начинаются минные заграждения, тянущиеся едва ли не на двести миль. Оба судна продвигались крайне медленно, атмосфера на пароходе была напряжённой и немного нервной. Видимо, не в полной мере доверяя лоции, наш капитан выставил на баке двух смотрящих за морем. Да и я сам, чтобы чем-то занять томительно тянущиеся часы, не сводил глаз с водной зыби.
Наконец, поздним вечером немецкий сторожевик сбросил ход, мы сблизились, прошли от его борта метрах в тридцати, где капитаны, вооружившись рупорами, попрощались и пожелали друг другу морской удачи. Мы вошли нейтральные воды Северного моря, в котором, по словам капитана, мин быть уже не должно. Я посетовал, что наслышан об опасности сорвавшихся с фалов мин, однако капитан успокоил меня, сообщив, что немецкие и английские мины оборудуются специальным механизмом, который в случае отрыва от троса приводит к их затоплению. Затем, немного помолчав, он пожаловался, что «у русских мин такого механизма нет» и поэтому мореходство в восточной Балтике отныне сродни «русской рулетке».
Машина ухала и гремела на самых больших оборотах, наш пароход на полных парах продвигался на северо-запад. По левую руку на линии горизонта догорал закат и были отлично видны зажигающиеся поверх него первые звёзды. Я до темноты простоял в одиночестве на палубе, забыв про ветер, понемногу становящийся из свежего ледяным, поскольку никак не мог насладиться и насытиться этой величественной картиной тишины и сосредоточенного покоя. Северное море, всегда по картам представлявшееся мне прибрежным и карманным, на самом деле являло собою простор, непостижимо превосходящий своими размерами крошечную и случайную человеческую сущность, для которой лучшим способом бытия являлись бы смирение и жизнь в постоянной молитве о милости стихий. Собственно, именно такой и была наша жизнь на протяжении тысячелетий, пока люди не получили в свои руки современную технику и представление о том, что любые проблемы могут быть решены с помощью денег.
И если цивилизация техники, делающая людей сильнее, рассуждал я, является для человечестве безусловным благом, то цивилизация денег умерщвляет в них естественные и благородные начала состязательности и честной борьбы. Так, участвуя в почти безумной и смертельно опасной игре, я ощущаю себя спокойно и комфортно, поскольку за эту игру или, по крайней мере, за её первую половину, мне сполна заплатили. Хорошо это или нет? Полагаю, что нет. Я бы значительно лучше чувствовал себя одиноким охотником, бросающим вызов и идущим наперекор судьбе и стихии, чем винтиком изощрённой финансовой машины, способной покупать паспорта и человеческие связи, мотивировать политиков, склонять на свою сторону непримиримых военных и при этом при любом повороте событий практически ничего не терять, становясь только богаче, богаче и богаче!
Да, мы все и я, конечно же, со всеми заодно не заметили перемены эпох и всё ещё продолжаем жить, полагая, что наша жизнь зависит исключительно от нас. Правда, миллионы мобилизованных на мировую войну более так не считают, но ведь даже и они надеются, что если им удастся уцелеть, то жизнь после войны вернётся к старым законам. Глупцы! Чья бы сила ни одержала верх, прежней жизни с её маяками личного успеха, честной состязательностью, с азартом преодоления риска и весёлым упованием на удачу да Божью благодать уже не будет никогда!
Считаю, что роковую роль в произошедшей с человечеством метаморфозе сыграла доступность сотворения денег. До последнего времени деньги были чрезвычайным и редким даром, и их ценность всегда точно соответствовала потраченным ради них человеческим усилиям. Те же, кто придумал создавать деньги из воздуха, совершили против человеческой природы величайшее из преступлений, пред которым меркнет даже недобрая слава искусителя в Эдемском саду. Странно и необычно сознавать, что отныне и я сам вхожу в число хранителей тайны, которая открыла ко всему этому путь. Страшно вообразить, что за дьявольская субстанция или чёрное знание могли лежать в сундуках тамплиеров, которые на протяжении шести веков столь тщательно сберегались русскими правителями подальше от глаз своего наивного богохранимого народа и которые теперь, ведомые роковой прихотью судьбы, доламывают и испепеляют беззащитный старый мир.
Мне кажется, что в этих сундуках должно было находиться нечто такое, что научило посвящённых и избранных управлять главнейшими человеческими страстями — страстью к насилию и страстью к наслаждению. Я вполне понимаю, насколько эти страсти необоримы и способны в умелых руках перевернуть землю. Но они же несут в себе и непримиримое противоречие, исключающее их длительную взаимность, — стало быть, в сундуках должно было содержаться ещё нечто третье, способное эти две страсти объединить. Интересно знать — что именно?
Однако вот что на деле очевидно и ясно — так это цена, которую платит мир за новые деньги. Если кто раньше решался начеканить пустых монет и расплатиться ими, то платой являлось обесценение и обеднение — однако они не были столь страшны, поскольку имели естественный предел. Новые же деньги почти не подвержены обесценению, но только в силу какого свойства? Не оттого ли, что их излишек с известной периодичностью должен поглощаться войнами и катаклизмами, и нынешняя война — не чрезвычайный акт человеческой драмы, а заурядная самонастройка мирового механизма? Да, много, очень много жизней пожирает новое золото, и у людей когда-нибудь может не остаться сил и душ, чтобы этот молох остановить и насытить.
И всё-таки я не прав, полагая себя винтиком сей чудовищной машины. Я перехитрил её, и теперь везу ключи от её безжалостного мотора в руки тех, кто, как мне кажется, готов ей противостоять и способен построить и запустить взамен неё что-то принципиально другое. Пусть не сейчас — ради такого не грех и подождать. Что это будет — не знаю, но тем не менее чувствую, что эта невообразимая новь имеет все шансы состояться. Верю в то, что если моя бывшая Родина, преодолев нынешнюю отсталость и заблуждения, когда-либо откроет миру другую истину, то в интересах этого открытия она по-праву сможет воспользоваться законно перешедшим к ней ресурсом богатства и силы. Также верю и в то, что те, кто смогут им воспользоваться, будут достаточно разумны, чтобы не повторять ошибок моего века, и когда работа будет ими выполнена, они найдут в себе силы, чтобы обезвредить и уничтожить денежный мотор как один из первоисточников мирового зла.
С этими мыслями я поднялся в свою каюту уже глубокой ночью, где согрелся бокалом виски и тотчас же заснул спокойным и чистым сном младенца.
2/X-1941
За следующий полный день наш корабль, не встречая помех, пересёк Северное море. Глубокой ночью мы видели огни Оркнейского архипелага, утром нам встретился английский эсминец, после из тумана стали проступать очертания шотландских берегов, а к исходу дня вместо фиктивной Ирландии мы бросили якорь в порту Глазго.
Совсем юный британский пограничник, постоянно извиняясь, сообщил мне, что по законам военного времени он не вправе выпустить меня в город без разрешения военной контрразведки. Ему было невдомёк, что мой путь по-любому лежал именно к её представителям.
Меня доставили в неприметный старинный особняк в центре Глазго, где мне, как шведскому коммерсанту прибывшему из зоны военных действий, надлежало ещё раз подтвердить свою личность и рассказать абсолютно всё о предстоящих планах на британской земле. Из-за позднего часа мне пришлось дожидаться прихода дежурного майора в холодной и дурно пахнущей коморке гауптвахты.
К изумлению майора, едва успевшего приступить к изучению моих шведских документов, я объявил, что они являются камуфляжем, и выложил перед ним на стол служебный паспорт СССР. Этот подлинный советский служебный заграничный паспорт, в который была искусно вклеена моя фотокарточка, наряду со многими другими замечательными вещами заботливо сберегался в обширной шпионской коллекции Рафаэля.
Я сообщил майору, что являюсь советским агентом и нуждаюсь в помощи для скорейшего возвращения в свою страну.
Разумеется, майор контрразведки заштатного гарнизона не имел полномочий для решения задач подобной сложности. Однако благодаря моему демаршу и его впечатлительности наступившую ночь я провёл в относительно сносных условиях офицерской казармы, предварительно получив возможность хорошо поужинать в столовой и насладиться свежим элем — чтобы купить виски, нужно было выходить в город, чего мне не могли позволить.
7/X-1941
Из-за уникальности моего случая и вопиющей нерасторопности англичан я проторчал в комендатуре Глазго все выходные и понедельник. В город меня по-прежнему не выпускали и единственным утешением стала любезная готовность одного капрала за небольшую комиссию покупать для меня виски, табак и свежие газеты.
За вынужденным бездельем в ожидании своей участи я также имел возможность слушать по радиоприёмнику советские и немецкие станции. Из их сообщений с поправкой на очевидные пропагандистские преувеличения становилось ясным, что ситуация на русских фронтах ухудшается день ото дня. Финны заняли Петрозаводск, вермахт от Смоленска и Рославля неудержимо наступает на Брянск и Вязьму, поглощая в «котлах» дезорганизованные части Красной Армии. По моим прикидкам, идти до Москвы немцам оставалось чуть более ста пятидесяти километров, и хотя благодаря открывшемуся внутри меня мне внутреннему знанию я понимал, что взять советскую столицу вермахту будет не под силу, плохие новости с фронтов вызывали во мне раздражение и нервозность.
Единственным приятным известием стало завершение переговоров в Москве с участием Англии и США, на которых последние подтвердили обязательство регулярно отправлять в Россию корабли с военной помощью. Ведь практически единственным способом для меня добраться до России было присоединиться к подобного рода английскому морскому эшелону.
Наконец, утром седьмого октября мне предложили пройти в автомобиль, который в сопровождении лейтенанта и двух конвойных матросов перевёз меня, как выяснилось потом, на военную базу под Гуллем.
Весь вечер и половину ночи мне пришлось общаться с двумя господами в штатском, один из которых прекрасно владел русским языком. Они желали знать обо мне абсолютно всё — моя легенда вполне позволяла им многое рассказать, однако с целью сохранения требуемого ореола своей миссии и невозможности раскрывать «секреты» я нарочно выдавал им информацию дозировано, скупо и с изображением напряжённой внутренней борьбы.
Моё положение осложнялось тем, что я убедительно просил англичан не сообщать обо мне в советское посольство, мотивируя эту просьбу опасением «старых репрессий» и необходимостью реабилитировать себя в очном разговоре с высоким московским начальством.
Англичане меня прекрасно поняли, однако взамен назвали собственную цену, предложив тайное сотрудничество. И я был вынужден в очередной раз разыграть прилив переживаний, запросив у них «хотя бы сутки на обдумывание».
8/X-1941
Разумеется, на следующей встрече я дал согласие на вербовку и подписал для этого несколько бумаг. Приятной неожиданностью стало немедленное переселение меня в комфортабельную гостиницу и посещение с большой компанией английских офицеров ресторана, где меня множество раз сфотографировали, после чего по пути в гостиничный номер со мной как бы ненароком пересеклась и познакомилась молодая красавица. Всё это было до смеха тривиально, предсказуемо и совершенно ненужно, однако поскольку выбора у меня не имелось, я позволил английским разведчикам проделать со мною всё, что они хотели.
10/X-1941
Весь четверг и половина пятницы прошли в прогулках по неприветливым улочкам осеннего Гулля, и я уже готовился к продолжению этого безрадостного занятия на предстоящие выходные, как в конце дня русскоговорящий англичанин, особенно много беседовавший со мной, пригласил меня в паб.
Там я узнал, что уже завтра меня доставят на борт военного корабля, которому предстоит сопровождать в Россию конвой с грузами. Затем он приказал мне заучить наизусть московский адрес и телефон некоего адвоката Первомайского, с которым мне предстоит поддерживать связь. Разумеется, я сделал всё, что меня просили сделать, и шумный пятничный вечер был проведён в доброй компании моряков, лётчиков и каких-то двух местных дельцов.
Утром следующего дня, в субботу, мы выехали на автомобиле в Ливерпуль, откуда на катере добрались до стоящего на якорной бочке эсминца. Там мой куратор передал меня в ведение командира, я его поблагодарил и на том мы распрощались.
13-30/X-1941
Больше двух недель наш эсминец в составе большого морского конвоя пробирался к русским берегам. Шли медленно, подолгу простаивая в туманной мгле и совершая многочисленные труднообъяснимые манёвры, призванные не дать себя обнаружить немецким подводным лодкам.
За дни похода я неплохо подружился с офицерами команды и, полагаю, что оказал некоторым из них добрую услугу, поведав о том, что обладаю твёрдой уверенностью в безопасности нашего путешествия в Россию и их последующего возвращения домой. Почувствовав внутри меня дар предвидения, некоторые стали просить меня заглянуть и в более далёкое время — однако в нём мне виделся едва ли не сплошной мрак, и я вежливо заявил о своей неспособности заглядывать в будущее более, чем на один месяц.
Тридцатого октября без помех и потерь наш конвой прибыл в порт Архангельска. Перед тем как сходить на берег, я осушил со своими свободными от вахты друзьями по полному стакану виски… и через каких-то двадцать минут давал показания уже в совершенно другом мире — в тесном, заплёванном и насквозь прокуренном кабинете начальника припортового управления НКВД.
31/X-1941
Меня разместили в значительно менее комфортабельной, нежели в Шотландии, одиночной каморке гауптвахты, откуда весь вечер и следующий день регулярно вытаскивали для общения с различными военными и штатскими товарищами. Уровень их интеллекта убивал меня — моей очевиднейшей ошибкой являлось распространение опыта моего общения с московскими чекистами на остальную часть России. Кормить стали крайне скудно и всего один раз в день. Если бы я не захватил с английского эсминца немного хлеба и банку сардин, то после вполне сносного по меркам военного времени питания на флоте Его Величества столь резкий перепад мог бы стоит моему отвыкшему от невзгод организму болезненного и никому не нужного расстройства.
Прежде всего, всем своим видом и поведением я подчёркивал, что безудержно ряд возвращению на Родину и горю стремлением прибыть в столицу для доклада перед своим начальством. В мои советские документы было вписано имя некоего Матвея Розена, имя которого, я полагал, в своё время должно было быть согласовано Рафом с Лубянкой, поэтому я потребовал сообщить телеграммой о моём прибытии «куда надо».
Однако никаких перемен в моём положении не происходило, и к исходу второго дня заточения мне пришлось обратить на себя внимание дежурного громким стуком в дверь. Я потребовал, чтобы меня немедленно проводили к начальству, угрожая в противном случае «серьёзными последствиями». Полагаю, что в порыве своего праведного гнева я произвёл должное впечатление, поскольку уже спустя полчаса был доставлен в кабинет к заместителю начальника городского НКВД.
Не дав ему толком подготовиться к разговору, я с порога спросил, какие из моих документов вызывают сомнение и препятствуют отправке меня в Москву. Он замялся и начал говорить что-то про мой паспорт.
— Срок действия моего служебного загранпаспорта не истёк, визы на въезд в СССР для совграждан давно отменены, что тогда вас не устраивает? — продолжил я свой натиск.
— Но сами знаете, военное положение… Опасность шпионов, диверсантов…
— Вам следует поискать шпионов в других местах. Согласитесь, что это просто глупо полагать, что немецкому шпиону могло прийти в голову ехать в СССР на эсминце наших союзников, которые воюют с Гитлером значительно дольше нас. Куда проще было бы перейти линию фронта, тем более что она у нас приближается с каждым днём!
Капитан госбезопасности буквально вперился в меня выпученными глазами, а лицо его начало краснеть. Было видно, что он в принципе не допускал, что задержанные могут разговаривать с ним в подобный манере, и ему становилось не по себе. С другой стороны, перед ним стоял, как я ненароком подслушал слетевшее с уст охранника выражение, «столичный тип», пока что никем не разоблачённый и не осуждённый, от которого, если что окажется не так, можно было и схлопотать по фуражке.
Я же принял решение идти до конца и в открытую объявил, что являюсь советским нелегалом, возвращающимся из фашистской Германии с информацией исключительной, стратегической важности, которую с нетерпением ждут в Москве и от которой зависит весьма многое.
— Понимаю, — пропыхтел в ответ капитан, — но почему я должен вам верить?
— Потому, — ответил я, выкладывая ему на стол свои германский и шведский паспорта, — что фашистский разведчик не преминул бы от всего этого освободиться!
— А почему вы не могли передать свою информацию по обычным каналам?
— По каким это обычным? Телеграммой с берлинского почтамта, что ли?
Капитан на миг замялся, однако вновь начал что-то бормотать насчёт военной обстановки и предосторожностей.
— Знаете что, — сказал я тогда, — я вижу, что вам здесь в тылу пока трудно понять, что происходит на фронтах. Позвольте в таком случае вас заверить, что как только в Москве поймут, по чьей вине добытые мной стратегические сведения задерживаются уже третьи сутки, у вас очень скоро появится возможность оценить их важность на передовой. Или в тыловых частях другого рода. Поэтому будьте любезны — предоставьте мне возможность выехать в столицу с любым сопровождением! Я обещаю, что в этом случае о вас там услышат только слова благодарности!
Мой план сработал идеально, и тем же вечером меня доставили на железнодорожную станцию, где находился прицепленный к товарному эшелону вагон для перевозки заключённых. Вагон возвращался пустым в городок с названием Котлас, откуда в нём, по-видимому, накануне доставили сюда группу лагерников. Перед отгороженной решёткой секцией, в которую не хотелось заглядывать, в вагоне имелись два нормальных купе, в одном из которых вместе с четырьмя вооружёнными охранниками я и выехал из Архангельска.
При всей двусмысленности моего положения, в глазах этих конвоиров, возвращавшихся в Котлас, я являлся просто добрым попутчиком. Как только состав тронулся, они угостили меня хлебом с окаменевшей колбасой и разлили из армейской фляги спирт, который мне пришлось пить в неразбавленном виде. За сутки с лишним пути я услышал от них огромное количество советских новостей и слухов — один хуже другого, из-за чего меня даже стали одолевать сомнения по поводу правильности моего решения вернуться в Россию.
2/XI-1941
Ещё в Архангельске меня предупредили, что вагон проследует по новой ветке Севжелдорстроя на Котлас, и чтобы не потерять курс на Москву, на станции Коноша мне надлежит сойти и обратиться к тамошнему начальнику какого-то «особого пункта».
Распрощавшись со своими спутниками, я сошёл в названном месте и отправился на поиски нужного учреждения. Разыскать его оказалось делом нехитрым — «особый пункт» располагался в просторном двухэтажном деревянном бараке вместе с райотделом НКВД, телеграфной станцией, ЗАГСом и похоронной контрой.
Оказывается, местные чекисты поработали на славу — здесь меня не только ждали, но даже уже и получили обо мне некоторые сведения из Москвы: я увидел, как здешний начальник, молодой старший лейтенант с перекошенным по причине какой-то травмы лицом — отчего на нём постоянно присутствовала гримаса равнодушной угрюмости, — уяснив, кто стоит перед ним, сразу же извлёк из сейфа и разложил на столе несколько депеш и странного вида лист рулонной бумаги с тёмным размытым изображением.
Присмотревшись повнимательнее, я понял, что странный рулон представляет собой фототелеграмму, с помощью которой в эту глушь с Лубянки переслали фотоизображение человека, именем которого я представлялся.
К счастью, фотопортрёт Матвея Розена дошёл сюда по проводам столь тёмным и размытым, что с известной долей погрешности любой мужчина мог бы за него сойти.
Значительно хуже было то, что в депешах содержались подробности ориентировки по моему персонажу, которых я знать не мог.
Я заявил, что срочно нуждаюсь в проездных документах и транспорте до Москвы, на что мне было велено повременить и ответить по «ряду пунктов».
Началась внешне спокойная, однако достаточно напряжённая беседа, которая на самом деле была допросом. Я старался вести разговор уверенно и бойко, и сначала мне везло: формулировки, которые я использовал для ответов на вопросы о родственниках и о странах своей закордонной службы, было трудно оспорить. Правда, с местом рождения вышла осечка: я сказал, что родился в Москве, в то время как товарищ Розен по документам был уроженцем Гомеля. Лейтенант побледнел и уже изготовился обрушиться на меня — однако я сумел выкрутился, сообщив, что в силу особенностей профессии имею две метрики.
Когда мне был задан «секретный» вопрос о курирующеё меня «инстанции», я ответил чистую правду — всё, что знал о своём начальстве по состоянию, имевшему место несколько лет назад. Правильное произнесение мною названий главка и его отделов однозначно подтверждали мою причастность к главной советский спецслужбе и я уже был готов торжествующе взглянуть на своего мучителя, как тот попросил меня озвучить фамилию куратора.
Я самонадеянно назвал фамилию руководителя иностранного отдела Слуцкого, благодаря которому началось моё сотрудничество с советской разведкой, и был уверен, что после этого провинциальный инквизитор от меня отстанет.
Однако в ответ я услышал, что «товарищ Слуцкий давно умер», после чего прозвучало требование сообщить, с кем я взаимодействовал после.
— Знаете ли, товарищ, — возразил я достаточно дружелюбно, — вообще-то я не имею права называть фамилии своих фактических кураторов. Эта информация — секретная и разглашению не подлежит.
— Правильно, — отвечал начальник. — Лично мне всё равно. Но у меня имеется инструкция получить от вас разъяснения, — и с этими словами он поднял со стола и потряс передо мной телеграммой.
— Как вам будет угодно. В тридцать шестом году я работал со Шпигельгласом.
Вместо ответа на моё признание лейтенант долго что-то читал в депеше, делая какие-то отметки. Затем он спрятал её в ящике стола и с каким-то глупым умилением произнёс:
— А вам известно, что Шпигель… как это его… да — Шпигельглас арестован как враг народа?
Он хлопнул ладонью по крышке стола и стал торжествующе приподниматься, намереваясь, наверное, встав в полный рост объявить о разоблачении на вверенной ему территории очередного изменника. К счастью, мне удалось остудить его пыл.
— Мне это известно, — ответил я. — Теперь я вынужден вам объяснить, что Шпигельглас работал не со мной одним, а с десятками, если не сотнями нелегальных советских разведчиков. И это было не оттого, что он подбирал нас по своему вкусу, а потому что государство поставило его на эту должность и доверило работу с зарубежными резидентурами. Благодаря информации от которых, между прочим, в Ставке и сегодня принимаются важнейшие решения и разрабатываются планы борьбы с фашисткой агрессией. Если б я являлся изменником Родины, то я бы, поверьте, нашёл способ проникнуть сюда с документами, не вызывающими вопросов.
Сказав это, я приподнялся, расправив лацканы своего итальянского пальто, и водрузил на стол перед слегка опешившим от такой наглости чекистом кожаный бельгийский саквояж.
Правда, спустя мгновение тот сделал вид, что контролирует ситуацию и что-то вновь зарядил про «бдительность».
Но моё терпение окончательно лопнуло. Я придвинулся к столу и, наплевав на все предосторожности, заорал ему в лицо, что уровень моих кураторов — старшие майоры и комиссары госбезопасности и что я не намерен терпеть произвол от какого-то старшего лейтенанта, а также что если он будет продолжать меня задерживать и не пускать в столицу, то я — даже если окажусь там в кабинете следователя — непременно обвиню его в саботаже и пособничестве врагу.
— И вы поймёте, что ваша должность и ваша жизнь не стоят и тысячной доли той стратегической информации, которую я везу, пусть даже если моя жизнь и предрешена. Мне плевать на свою судьбу, но я клянусь, что чтобы со мной ни случилось, я добьюсь вашего ареста и расстрела!
— Что же мне делать? — примирительным голосом поинтересовался старший лейтенант после минутного молчания.
— Проездной документ и эшелон на Москву, — выдохнул я. — Отвечать на все вопросы я должен только там.
Немного поразмыслив, занервничавший и сразу же подобревший начальник «особого пункта» поведал мне, что до вечера никакие эшелоны со здешней станции уходить не будут и что он за это время обязательно постарается решить вопрос с моей отправкой. Я поблагодарил его и спросил, чем в таком случае мне следует заняться или же я должен оставаться у него, считая себя задержанным и арестованным.
— Ну что вы, зачем! Погуляйте по городу, а часиков в шесть возвращайтесь ко мне!
Покинув кабинет, я по достоинству оценил мрачный юмор лейтенанта с перекошенным лицом. Назвать Коношу городом мог исключительно циник: крошечный посёлок был отгорожен от мира такими непроходимыми лесами и бездорожьем, которые полностью исключали для цивилизованного человека возможность куда-либо отсюда сбежать. За час я обошёл посёлок вдоль и поперёк. Стоял достаточно крепкий мороз, у меня начали мёрзнуть ноги, а согреться было решительно негде — в единственной столовой обслуживали только по карточкам местных рабочих.
Прогуливаясь в районе станции и всё более коченея, я обратил внимание на стоящие на запасном пути три товарных вагона, в которых везли мобилизованных в Красную Армию жителей здешних мест. Все они ещё не успели сменить свои гражданские одежды и были самых разных возрастов — от юнцов до моих пятидесятилетних сверстников, причём последних, как мне показалось, было едва ли не столько же, сколько молодых. Попадались среди призванных и явные представители «интеллигентских» профессий — инженеры, счетоводы и учителя.
Было очевидно, что эти люди, то и дело выбегавшие из теплушек за кипятком и папиросами, во-первых, ещё плохо знают друг друга, а во-вторых, что повезут их, разумеется, в сторону Москвы. Так что моим единственным шансом совершить отсюда побег становилось уехать с ними.
Стараясь сильно не светиться, я сходил на местный рынок, где приобрёл не первой свежести телогрейку, пару тёплых носок и обыкновенный фанерный чемодан. Уложив в этот чемодан свой саквояж вместе с итальянским пальто и облачившись в ватник, я сразу же приобрёл завершённый рабоче-крестьянский вид. Добытым из-под снега стеблем пожухлой от мороза крапивы я растёр до красноты себе щеку и подбородок, имитируя последствия драки, и в таком виде залез в одну из теплушек, с шипящей злобой приговаривая, что отныне я «еду тут», а с той сволочью-де «ещё поквитаюсь».
Мне никто не препятствовал и не даже не попытался вступить в разговор. Немного потолкавшись на лавке в центральной части вагона, я вскоре переместился в дальний тёмный угол, где сидений не было, зато пол был выстлан слежавшейся и грязной, но тем не менее сухой и немного согревающей соломой. Убедившись, что в этом месте я стал практически незаметен, я прислонился к стене, поднял воротник телогрейки, надвинул картуз на глаза и сделал вид, что сплю.
Конечно же, спать я не мог и из обрывков разговоров с подсмотренными сквозь разжатые ресницы выражениями лиц и мимикой моих попутчиков я постарался выведать своё ближайшее будущее. Оказывалось, что эшелон должен идти не то в Данилов, не то в Череповец, где формируется новая дивизия. Одни говорили, ссылаясь на начальника эшелона, что их затем направят под Ленинград, другие, со слов армейского капитана, ехавшего в соседнем вагоне, не сомневались, что их бросят на фронт под Москву.
И Череповец, и Данилов меня вполне устраивали, поскольку приближали к Москве без малого на полтысячи вёрст.
Вечером в районе шести часов поезд, наконец, тронулся, и я принял решение «проснуться», чтобы принять более активное участие в жизни своего вагона. Жизнь эта оказалась безрадостной, голодной и тёмной. Под потолком вагона болтался едва теплящийся керосиновый светильник, освещавший лишь себя, печка-буржуйка почти не грела, из щелей вовсю гуляли сквозняки, а за водой, остатки которой плескались на дне простой железной бочки, приходилось долго пробираться, обходя сидящих и переступая через улёгшихся спать прямо на полу…
3/XI-1941
После ночи поезд двигался медленно и подолгу останавливался, причём это происходило не только на узловых станциях и разъездах, но и посреди безлюдного леса. Распространялись слухи о том, что немцы разбомбили что-то в Вологде или Ярославле, и поэтому нам придётся ехать в объезд. Тем не менее Вологду мы проскочили быстро, приостановившись только на смену паровоза. После этого наш эшелон, словно литерный экспресс, набрал полный ход и под сливающийся в монолитный гул перестук колёс буквально понёс нас сквозь белесую ледяную пелену. В вагоне воцарилась сосредоточенная тишина — под свист ветра, перемежающийся с частыми гудками локомотива, все понимали, что приближается развязка каждой из наших судеб и молча глядели, кто куда.
Я навсегда запомнил лица своих попутчиков — совсем юные и изрезанные глубокими морщинами, вдумчивые и насмешливые, растерянные и нарочито-наглые, верящие и сомневающиеся — все они были одинаково беспомощны перед накатывающим на всех на нас девятым валом смертельных испытаний. Возможно, что мне было больнее всех остальных, поскольку сколько бы я ни вглядывался в лица своих молчаливых попутчиков, будущего я не видел ни для одного из них.
Вечером состав несколько часов простоял под Ярославлем, и с наступлением темноты мы снова поехали. Все были уверены, что мы направляемся напрямик к Москве. Однако когда по моим расчётам за вагонной щелью, заменяющей окошко, уже должны были проплывать дачные пригороды, я наблюдал одни лишь пустынные чёрные пространства. Я испугался, что эшелон могли перенаправить на восток, решил не спать и дожидаться ближайшей крупной станции.
4/XI-1941
Когда мои часы показывали шесть утра, поезд, наконец, остановился. Аккуратно переступая через спящих и постаравшись максимально бесшумно снять с запора и отодвинуть вагонную дверь, я спустился на землю. Вдалеке я увидел какую-то женщину, бредущую через пути, подбежал к ней и спросил, как называется станция. Догадка подтвердилась — мы стояли в Орехово, то есть эшелон ушёл на восток, однако пока — не сильно далёко.
Я вернулся в свой вагон, взял чемодан и так же, стараясь никого не разбудить, бесшумно пробрался к выходу и спрыгнул на шпалы.
Из вагона донёсся чей-то голос, обращённый ко мне: «Ты куда, доктор?» Почему-то мои попутчики называли меня доктором…
Я ничего не стал отвечать и постарался поскорее скрыться из виду.
До рассвета я сумел незаметно перебраться с территории станции в город, после чего явился, никем не остановленный, на пассажирский вокзал.
К моему удивлению, там было достаточно многолюдно: местные жители, в основном крестьянки с огромными корзинами и узлами, собрались в ожидании дачного поезда в сторону Москвы. Удивительно, что дачные поезда продолжали ходить, хотя не по расписанию, а по решению железнодорожного начальства. Однако в этот день, похоже, поезд на Москву отправлять на планировалось.
Потолкавшись в пассажирском зале, я познакомился с интеллигентного вида дамой, а несколько позже — и с вернувшимся из очереди за билетами её мужем.
Они рассказали, что в день всеобщей паники в середине октября они бежали из столицы вместе с другими семьями на заводском грузовике и сумели добраться аж до Горького. Там их застала весть о введении в Москве осадного положения и наказании для тех, кто эвакуировался самовольно. И поэтому теперь, не имея проездных документов и почти оставшись без денег, поскольку все продукты отныне приходится покупать у спекулянтов на рынке, они уже третью неделю возвращаются домой.
После очередной отлучки к кассе мужчина, оказавшийся конструктором военного завода (sic!), авторитетно сообщил, что поезда сегодня точно не будет, но что есть возможность уехать на «потребсоюзовском грузовике» до Щёлково или даже до самих Мытищ. А оттуда уже и до Москвы недалеко, там работают телефоны-автоматы и можно будет, если что, переночевать на чьей-нибудь даче. Однако водитель грузовика за поездку требует пятьсот рублей, которых, увы, у несостоявшихся беглецов уже нет.
Я обрадовал их, сказав, что деньгами располагаю и расплачусь с водителем за всех. Нас заперли в фургоне с насквозь провонявшими бочками из-под квашеной капусты, и после обеда мы уже были на мытищинском вокзале. В отличие от замершей Горьковской железной дороги здесь, на Северной, жизнь била ключом. Дачный поезд со стороны Загорска ждали в районе пяти часов вечера, поэтому, невзирая на холод, мы сразу же решили занять очередь на перроне.
Поезд задержался почти на час. Пришли всего четыре маленькие вагона, за пятиминутную стоянку которых нам пришлось выдержать настоящий бой, пытаясь в них втиснуться и закрепиться. К счастью, всё удалось. Замерев в тамбуре на одной ноге, я был согласен терпеть любую тесноту и неудобства, лишь бы, наконец, завершить этот путь, в мирное время занимавший не более минут сорока. Однако вскоре меня ждало новое испытание: в Лосинке поезд остановили для всеобщей проверки документов.
Толпа, высыпавшая из вагонов, заполонила разделённую на две части платформу, в середине которой милиционеры устроили контрольный пост. Поезд оттащили назад, и теперь те, кто успешно проходил проверку документов, могли снова в него сесть, чтобы спустя час-другой доехать, наконец, до столичного Северного вокзала, где работало метро и ходили такси.
Вскоре стало понятно, что проверку документов проходят не все: наряду с публикой, понемногу растекающейся по свободной части платформы, рядом с военными росла кучка тех, кому не посчастливилось пройти проверку. Когда в ней стало более пятнадцати или двадцати человек, для охраны подошли два автоматчика.
Было страшно обидно и горько сознавать, что за несколько километров до вожделённой цели моё феноменальное путешествие через воюющую Европу и северную глушь завершится в подмосковной комендатуре, где теперь мне вряд ли удастся кого-либо ошарашить или очаровать. И может так статься, что разбирательство со мной в принципе не дойдёт до того уровня, на котором моя информация сможет быть понята и оценена. Из многочисленных разговоров я знал, что в условиях осадного положения все подозрительные личности могут быть расстреляны на месте любым комендантским нарядом. Мысль об этом немедленно материализовалась в моей голове: я ясно осознал, как командир этого самого наряда, завершив проверку толпы и выловив в ней меня, столь странного и необычного, предпочтёт рутине разбирательств, оформления бумаг и доставке в распоряжение центральных служб НКВД пустить в меня пулю возле близлежащей стенки.
За побег, как известно, тоже полагается пуля, однако последняя показалась мне немного менее позорной. Я понял, что должен во что бы то ни стало бежать, и вскоре обнаружил для этого удачный момент.
С той стороны, где стояли проверяющие, по свободному пути к нам стремительно приближался поезд. Я понял, что через несколько мгновений меня закроет от милиционеров густое облако пара. Выход с противоположного конца платформы охранялся станционным стариком-сторожем, вооружённым берданкой, который зашёлся в кашле и оттого сильно наклонился. Времени на раздумье не было, и я буквально бросился под надвигающийся паровоз, успев перебежать на безопасную сторону практически за секунду до неизбежного удара.
Пока товарный состав, гремя вагонами, относительно надёжно заслонял меня от посторонних взглядов, я сумел добежать до границы путей и скрыться за плотными зарослями кустарника вблизи деревянного забора. Найти в ветхом заборе щель не составляло труда и вскоре, никем не задержанный, я уже обегал, прижимаясь к оградам и постройкам, близлежащие пустыри, всё более удаляясь от платформы, едва не ставшей для меня роковой.
Не помню какими путями, но в сумерках я выбрался на Большую Ростокинскую улицу и зашагал по её обочине в направлении Церковной Горки и Останкино. Ещё несколько дней назад я слышал по радио, что пассажирский транспорт в Москве продолжает работать, и мне страшно хотелось успеть до наступления комендантского часа хотя бы приблизиться к центру города, где, как я предполагал, я сумею и спрятаться, и переночевать.
Но за исключением нескольких проехавших мимо грузовиков, отказавшихся меня подвезти, улица оставалась пустынной и вымершей. Тогда я вспомнил, что один из Алексеевских переулков ведёт к задворкам Сокольнического лесопарка, в котором можно укрыться на ночь в какой-нибудь дворницкой или в конюшне. В поисках нужного поворота я углубился в хитросплетение улочек и проездов, застроенных мрачными барками, как вдруг неожиданно оказался ослеплённым светом фар автомобиля, провалившегося одним колесом в обледеневшую дорожную яму.
Мне в очередной раз повезло — это был один из немногих сохранившихся в городе таксомоторов, и к тому же — свободный! Минут пятнадцать я помогал шофёру вызволять из ледяной ловушки тяжеленный ЗИС, а затем легко договорился, что за триста рублей он отвезёт меня на Патриаршьи. Да, именно сюда, где живёт мой единственный московский друг, в квартиру к которому я либо сумею, наконец, попасть, либо мои странствия будут продолжены — правда, отныне с ещё меньшими шансами на успех и справедливое разбирательство.
Когда я расплачивался за поездку, то удручённый общим положением дел таксист оттаял и сделал мне поистине царский подарок — отдал чью-то недавно прокомпостированную железнодорожную карточку. Эта безделица позволяла мне несколько дней легально находится в Москве без прописки, не опасаясь милицейских и военных патрулей.
Мне повезло: Николай Савельевич в этот вечер находился у себя дома, хотя по обыкновению возвращался далеко за полночь, если не оставался ночевать в наркомате. Словно в вознаграждение за тяготы долгого пути, который, считая от Берлина, забрал у меня пятьдесят дней, я сумел насладиться горячей ванной и пусть скромным, но вполне сносным по меркам войны ужином с бутылкой прекрасного грузинского кагора.
5/XI-1941
Разговор за столом затянулся не просто допоздна, а до утра, и мне было крайне неловко осознавать себя причиной, из-за которой соратник Молотова уехал на службу не отдохнувшим.
Однако всё моё путешествие было предпринято, собственно, ради этого разговора и Николай это прекрасно понимал.
Я максимально подробно рассказал ему обо всём, что узнал от Тропецкого, и на отдельном листе бумаги собственноручно написал код к швейцарскому сейфу. Затем предельно кратко поведал о своём путешествии, а на вопрос о моих дальнейших планах сообщил, что эти планы будут определяться судьбой моей информации.
Николай долго думал и затем ответил, что в сегодняшней обстановке он не видит никакой возможности, чтобы привезённые мною сведения о царских векселях были правильно восприняты «наверху».
Прежде всего он объяснил, что отношения России с англо-американским союзниками вышли на столь высокий и доверительный уровень, что пытаться улучшать его с помощью денег не только бессмысленно, но и некрасиво. После конференции с участием союзников, завершившейся в Москве сентябре, они сами начали финансировать военные поставки в Советский Союз.
Я для порядка заметил, что лишние деньги не помешали бы в деле наращивания этих поставок, однако услышал в ответ от Николая именно то, что сам хорошо понимал и предполагал услышать: помощь союзников России будет дозироваться строго в соответствии с той потребностью, которая позволит ей поддерживать борьбу с Германией, но только ни в коем случае не начать побеждать. Роль России — истекать кровью, а победа над Германией должна достаться англосаксам — Николай прекрасно видел и с внутренней горечью понимал эту их стратегическую цель. Советское правительство, сказал он, также не питает иллюзий на сей счёт, но рассчитывает со временем изменить ситуацию в нашу пользу.
Николай заверил меня, что уже менее чем через год за Уралом будет создана новая колоссальная военная промышленность, которая позволит СССР радикально переломить ситуацию на фронтах. Однако пока перелома не произошло, правительство будет поддерживать с союзниками максимально лояльные отношения и не станет даже зондировать их касательно тех направлений и объёмов помощи, которые по вполне понятным причинам они нам предоставлять не желают.
Тогда я озвучил «план Тропецкого» — вступить в негласные переговоры с Германией по вопросу совместного использования царских векселей в интересах гипотетического альянса наших стран, способного потеснить англо-американский капитал и на продолжительной перспективе решить наши экономические проблемы. Ответ Николая был быстрым и поразил меня своей продуманностью — словно подобный вариант уже обсуждался Совнаркомом и все решения по нему приняты, а разъяснения — даны.
Как не сложно было предположить, советник Молотова решительно отказал этой идее в праве на жизнь. Гитлер, объяснил он, окончательно утратил возможность являться для нас стороной переговоров: если свою войну с Западом он начинал во имя стяжания Германией части мировой финансовой власти и в момент подписания пакта в августе тридцать девятого ещё можно было вести речь об «экономическом альянсе» между Германией и СССР, то затем в фюрере возобладала патологическая страсть к уничтожению «неполноценных» народов. И изменить отныне эту установку невозможно никакими резонами, кроме военных. Николай подтвердил, что в Москве отлично осведомлены о существовании в высшем руководстве Рейха оппозиционных Гитлеру сил, однако ни в коей мере не планируют их поддержки, поскольку в случае захвата оппозиционерами власти прогнозируется, прежде всего, неизбежное и быстрое примирение Германии с Англией. В этом случае для новых руководителей Рейха выгоды от возможного перехода в их руки контроля за мировыми финансами будет заведомо менее значимыми, чем реальная возможность вермахта, уже занявшего Украину, Белоруссию, Прибалтику и почти весь наш северо-запад, при переключении в пользу Германии ресурсов англичан и американцев уже от имени объединённого Запада добить и оккупировать Россию со всеми её народами и богатствами целиком и навсегда.
Моим третьим предложением была мысль — почему бы и нет? — обратиться напрямую к Сталину и предложить «красному царю» вернуть обратно в Россию императорские векселя, а вместе с ними — и зависимые от них богатства и активы мировых финансов. Помимо очевидных долгосрочных выгод, подобное решение помогло бы и скорее завершить кровопролитие.
Советник второго лица в СССР достаточно долго думал над этим моим последним предложением. Затем он произнёс в ответ примерно следующее:
«Исход войны, которую ведёт Советский Союз, сегодня совершенно не зависит от денег и материальных ценностей, за исключением оружия. Однако нужного для победы оружия в свободном рыночном доступе нет — его мы должны либо изготавливать сами, либо покупать у наших англо-американских союзников. Но те, как мы с тобой уже выяснили, не продадут нам ни одной лишней винтовки, сколько бы мы не были готовы заплатить. Так что финансы, по большому счёту, в этой войне не нужны. Сталин прав: эта война — священная, и народ отлично понимает, что ведётся война эта не за какие-то блага, а за первейшее право жить, дышать и разговаривать на родном языке. Поэтому, Платон, твоё предложение Иосиф Виссарионович в лучшем случае отложит в долгой ящик. И вернётся к нему не раньше, чем будет добыта наша окончательная победа».
В принципе, мой высокопоставленный приятель на сказал ничего нового, все услышанные от него доводы я так или иначе множество раз воспроизводил и осмысливал в своёй голове сам. А то, что бушующая за этими окнами война не описывается обычными законами и не подчиняется им, я отлично уяснил во время короткого, но богатого на события и встречи «русского этапа» своего путешествия. Я лишь никак не мог подобрать правильного определения — и вот теперь оно, наконец-то, прозвучало: Священная война. Поэтому пока Священная война не завершена, всё то, что из Европы предстаёт рациональным и очевидным, под этим небом работает по совершенно другим правилам.
Я сознательно решил не беспокоить Николая просьбами о содействии в моей реабилитации, поскольку прекрасно осознавал, что тем самым ставлю под угрозу его служебную репутацию. Одно то, что он пустил меня в свой дом, выслушал, принял и сделался хранителем полученной от меня информации, было выше любых похвал.
Если не считать перехода на нелегальное положение, то у меня оставалось только два пути: отправляться на Лубянку в надежде, что в связи с военной обстановкой меня простят и предложат какую-нибудь новую работу, или уходить в ополчение, где не спрашивают документов. Шансы на успех по первому варианту были следующие: пятьдесят процентов на то, что не простят, и пятьдесят процентов, что простят, однако затем я погибну в каком-нибудь очередном шпионском омуте. Итого общий шанс на выживание — двадцать пять процентов. В ополчении же шанс на выживание — один процент, не более. Тем не менее я однозначно выбрал ополчение. При этом я отказываюсь считать себя самоубийцей — ибо подлинным самоубийством для меня являлось бы возвращение к моему прежнему бытию, в котором не имелось успокаивающего чувства завершённости пути и познания высших земных тайн.
Я также незаметно выбросил в мусоропровод бывшую при мне вторую ампулу с ядом, которая могла бы помочь избавиться от страданий при смертельном ранении. Ведь если я — не самоубийца, а лишь следую по пути, указанному судьбой, то я могу надеяться, что она, многим меня одарив, не забудет проявить ко мне и свою последнюю милость.
Конечно, у меня сохранялась ещё одна возможность спастись — позвонить работающему на англичан адвокату Первомайскому. Были бы с ним, уверен, и новые документы, и кров над головой. Однако я не буду метаться: спасение моего физического ego мне неинтересно, а разрушать новый и великолепный мир, который я завершил строить внутри себя, я не позволю никому.
О самом Первомайском я также решил никому не сообщать, пусть живёт спокойно: всё-таки его хозяева — пока наши союзники…
Да, я едва не забыл про переданное через Рафа предложение Валленбергов. На сей счёт я составил небольшой меморандум, который вручил Николаю Савельевичу. Он сразу сказал, что предложение интересное и он обязательно ознакомит с ним руководство Государственного комитета обороны.
Что ж, если хотя бы это одно удастся — моя миссия будет считаться не напрасной.
9/XI-1941
Ранее ноябрьское утро. За окном, если отогнуть полог светомаскировки, ещё царит ночь, но по отсветам низких облаков видно, что день будет промозглым и хмурым. В доме я один — Николай ночью сообщил по телефону, что заночует на работе, а Евдокия Семёновна по-прежнему дежурит в своём эвакуационном комитете.
Одно слово: «нам утро скорбный мир несёт…». У меня действительно на душе скорбно, но мирно. Последние сомнения улеглись. Всё, что необходимо было передать Николаю Савельевичу Гурилёву, я сделал и передал. Этот дневник, который я сейчас дописываю, будет лежать у него на столе. В прихожей оставляю лишнюю одежду и вещи из Европы — время непростое, могут ещё пригодиться.
В своём архангельском ватнике я имею абсолютно законченный рабоче-крестьянский вид с которым, уверен, без помех доберусь до сборного пункта ополчения. Дворничиха в подъезде вчера сказала, что после того, как в ополчение пришли записываться несколько «высокопоставленных», на Грузинской начали смотреть документы. Бедная женщина, она никак не может понять, зачем этим «высокопоставленным» сбегать из тёплых квартир на смерть! Думаю, что у них — именно мой случай.
Я решил ехать на сборный пункт в Сокольниках — там большой заводской район и там, я уверен, меня примут в ополчение без лишних формальностей.
Записку для хозяев, чтобы не вздумали учинить розыск, я приколю на двери. Ключ мне не понадобится — английский замок отворит мне дверь только в одном направлении.
Пожалуй, это всё. Я всё понял, всё сказал и объяснил. Единственное, что продолжает волновать меня безусловно и навязчиво с детской безыскусной искренностью — это Новое небо и Новая земля. Нынешние мною исчислены и более неинтересны.
Для грядущих же — я сделал всё, что мог. Внутри меня теперь остаётся только одно желание — сохранить надежду когда-нибудь разглядеть их торжествующий свет из моей приближающейся инфернальной пустоты.
Поэтому — в путь.
A Dieu Vat!»[29]
Глава шестая Естественная связь времён
Дочитав тетрадь, Алексей долго не засыпал, одновременно пребывая в восторженном и отчасти опустошённом состоянии. Едва ли не первой мыслью, которая посетила его, явилось понимание неслучайности произошедшего с ним и с его товарищем чуда пробуждения спустя семьдесят лет после войны. Второй мыслью стало острое сожаление о судьбе отца, которая, не окажись он на злополучном эсминце, могла бы с учётом произошедшей осенью 1941 года встречи сложиться совершенно по-другому. Третья мысль была о том, что попавшие в руки отца тайные сведения могли, напротив, сослужить ему плохую службу, поскольку за ними с восемнадцатого года тянется не пересыхающий кровавый след.
Но если это действительно так, то гибель в морской пучине несравненно лучше ареста, тюрьмы и расстрела по приговору тройки ничего не соображающих статистов с оловянными глазами. С другой стороны, Молотов отцу безмерно доверял. Его знал и похоже ценил также сам Сталин, поэтому как знать — может быть, именно отец сумел бы грамотно, тонко и незаметно для врагов вернуть в ведение государства неожиданно всплывшие сокровища, в которых Россия столь нуждалась. Ведь как бы там ни выходило, с лишними деньгами было бы и в войне проще победить, и быстрее восстанавливать повреждённое хозяйство. А затем, глядишь, и направить на строительство справедливой жизни в мировом масштабе.
С другой стороны, какой именно мир и какую именно жизнь предстояло строить? Имелась ли у кого ясность на сей счёт, были ли готовы люди? По какому пути надлежало идти — заниматься созиданием нового в отдельно взятой стране, к чему до войны явно склонялся Сталин, либо сделаться равным по статусу партнёром ведущих мировых держав? А может быть, возглавить какое-то новое общемировое движение — правда, последнее смахивает на троцкизм, однако почему бы и нет — ведь Троцкий мёртв, и всё когда-то задуманное и начатое им теперь вполне могло быть возвращено под советский контроль…
«Хотя о чём это я? Какой советский контроль? На дворе совершенно другое время, другая страна, другой мир… Никаких «если бы да кабы…» Надо что-то предпринимать, и предпринимать сегодня. Нужно понять, в чём состоят проблемы сегодняшнего мира. Выяснить, какие решения возможны. Определить, что именно эти решения дадут стране. Ах, чёрт, я опять говорю про страну и забываю, что моей страны больше нет, а ту, что существует сейчас, я совершенно не знаю. Значит — что нужно не стране, а людям. Людям… да, именно людям. А люди, если захотят, построят такую страну, которая им нужна. Только вот захотят ли? А если они захотят чего-либо другого или даже противоположного? Господи, как же всё это сложно и запутанно…»
Алексей не заметил, как заснул. Сон был глубокой, крепкий и спокойный. Петрович, вставший в районе десяти утра, не стал его будить, и Алексей очнулся только в полдень.
На кухне, прибранной и вновь чистой после сокрушения стены, за накрытым к завтраку столом их уже ждали Борис с Марией. Имелось, правда, лёгкое опасение, что после завершения бурного ночного знакомства хозяин квартиры, поразмыслив на теперь уже трезвую голову, запросто может предложить им покинуть гостеприимный кров или, не дай бог, сообщит о произошедшем куда следует. Однако Борис, как выяснилось, сам, похоже, побаивался подобного рода мыслей у своих новых друзей. Поэтому едва его сестра принесла Петровичу чай и сварила Алексею чёрный кофе, он сделал следующее предложение:
— Ребята, пока вы отдыхали, я тут вот что подумал. Вам надо легализоваться. Вам нужны паспорта. Пока у вас нет паспортов, лучше оставайтесь здесь и не высовывайтесь на улицу.
Петрович внимательно посмотрел на Бориса, словно пытаясь понять, насколько можно доверять услышанным словам и не кроется ли за ними подвох. Например, желание надолго заточить их в квартире наркома.
— Спасибо, я тоже начал думать об этом, — ответил Алексей, запивая своим кофе бутерброд с ветчиной на свежем хрустящем багете. — Мы совершенно нормальные люди и нам нужны такие же возможности, как и у других.
— А какие могут иметься варианты? — поинтересовался Петрович. — Я имею в виду паспортизацию? В домовом комитете ведь нас явно не ждут.
— Пока вы отдыхали, я навёл кое-какие справки, — ответил Борис. — В Москве паспорт получить трудно. Однако есть несколько мест в России, где это можно сделать.
— За красивые глаза?
— За красивые глаза будет скидка. А так, товарищи, привыкайте, что в нашем нынешнем государстве теперь за всё приходится платить.
— Платить всегда приходилось, — согласился Петрович, — просто раньше платили трудом, верностью, а иногда — и жизнью. Ну а теперь деньгами — что ж с того? Найдутся ли у нас деньги, товарищ лейтенант?
— Кое-что найдётся. Сколько будут стоить два паспорта?
Борис немного замялся и ответил, что за паспорта с полной и подлинной регистрацией придётся заплатить по миллиону рублей.
Петрович, хотевший что-то сказать и даже слегка привставший для этого со своего стула, сразу осёкся и присвистнул.
— Ну что ж, — ответил после некоторой паузы Алексей. — Это будет шестьдесят тысяч долларов или сорок тысяч фунтов. Немало. Сможем потратиться из «диверсионных»?
— А куда нам деваться, — мрачно согласился Петрович. — Только не окажутся ли эти паспорта фуфлом?
— Нет, исключено. Я знаю людей, и если они берутся, то всё будет честно.
— Ну, совсем, чтобы честно, положим, не будет, — Петрович улыбнулся. — Придётся совершить диверсию против государственной паспортной системы. Как ты на это, Алексей Николаевич, посмотришь?
— А вот никак и не надо на это смотреть! — вступила в разговор Мария, не позволив Алексею ответить. — Ребята, вы не жулики, и нечего вам мучить себя подобными вопросами! Вы за Родину кровь проливали, и потому имеете право. Паспорта по последним указам раздают сегодня всем кому не попадя, так что не волнуйтесь, на вас нет никакой вины! А что, Борь, никак нельзя их сделать за меньшие деньги?
— Российский общегражданский — нельзя. Я с Михельсоном говорил, а он врать не будет: если делать быстро, то миллион. Можно, правда, сделать загранпаспорт российского гражданина из Абхазии, это обойдётся в три раза дешевле. Но такой паспорт будет датирован 2008-м годом, ведь потом, после признания абхазской независимости, их бросили выдавать. Стало быть, на следующий год паспорт придётся менять — а никто не знает, где да как. И за границу с таким паспортом не съездишь, ведь для визы нужна копия общегражданского.
— Тебе виднее, — дружелюбно ответил Алексей. — Выбираться за границу нам обязательно придётся, так что на паспортах лучше не экономить. А как сделать заграничный паспорт?
— Его придётся оформлять в том же далёком месте. Но с ним будет проще. Я уговорил Михельсона оформить загранпаспорта в подарок.
— Михельсон не разориться, — со знанием дела подтвердила Мария. — Как скоро он это сделает?
— Обещал, если запустим всё сегодня, успеть до праздников…
Так было решено, не мешкая, приступить к легализации. Правда, срезу же возникла заминка — Петрович решительно возразил против того, чтобы оплачивать аванс довоенными долларами. Поэтому Борису пришлось изрядно помотаться по столице, обменивая небольшими суммами доллары 1934 года на банкноты нового образца или на рубли. На вопросы удивлённых менял Борис неизменно отвечал, что «обнаружил на даче загашник прадеда». Попутно он выяснил, что имеющийся в «диверсионном фонде» довоенные британские фунты теоретически можно обратить в современные деньги через процедуру экспертизы и направления соответствующего требования в Банк Англии. Поэтому было решено, что Мария объявит эти фунты семейным кладом и официально отвезёт их в специализированное банковское учреждение. А вот советские довоенные рубли и рейсхмарки годились только для нумизматов.
Вечером Борис сводил Алексея с Петровичем в крошечное фотоателье, разместившееся в подсобке продовольственного магазинчика, где были сделаны необходимые фотографии, которые затем он отвёз вместе с авансом «куда надо». Паспорта обещали сделать не позднее девятого мая.
Приступив к решению паспортного вопроса, вспомнили и о паспорте Марии, оставшемся у работодалетей-бандюганов. Борис настоял, чтобы сестра написала заявление о пропаже документа и без задержки собрала для получения нового документа все справки.
Завершающую апрельскую неделю и первомайские праздничные дни наши друзья безвылазно провели в квартире Бориса, где к их распоряжению были библиотека, рояль и превосходная еда, которую Борис специально заказывал у какого-то знакомого ресторатора. В первые дни Мария почти не покидала квартиру, в изобилии снабжая своих гостей свежей прессой и обучая компьютерным премудростям. И если у Петровича общение с цифровыми технологиями сразу же не заладилось, то Алексей, напротив, оказался более чем способным учеником. Уже на следующий день он умел свободно пользоваться интернетом и отправлять — пока что, правда, самому себе — электронные письма. Особенно же полюбилось ему рассматривать на экране компьютера детальные космические фотографии земной поверхности, выискивая знакомые холмы и излучины рек.
Алексею не терпелось поскорее вырваться из пусть гостеприимной, но ставящейся с каждым днём всё более тесной и невыносимой от воспоминаний прошлого собственной квартиры и хотя бы мельком пройтись по знакомым московским местам, где, как он был уверен, ещё можно было встретить следы былого. А вот от намерения посетить бывшую родительскую дачу пришлось отказаться, поскольку на её месте теперь находился закрытый санаторий, пруд был засыпан, а на месте старой липовой аллеи космическая фотография показывала теннисный корт.
Встречать когда-то столь любимый праздник Первого мая тихо, буднично и заурядно, без повсеместного трепещущего кумача знамён и проникающих в распахнутые окна задорных звуков песен было непривычно, и Алексей даже посетовал Борису, что его современники становятся скучными и даже не хотят радоваться весне. Борис, поначалу готовый согласиться с этим утверждением, затем неожиданно возразил в том духе, что теперь «эмоциональная кульминация» сместилась на День Победы.
— С некоторых пор девятого мая у нас, — пояснил он, — это вроде светской пасхи, праздник жизни и воскресения. Войну, конечно, теперь никто не знает по-настоящему, фронтовиков практически не осталось и если среди них ещё и найдутся единицы, которые прошли через настоящий ад, то они, скорей всего, давно заменили его в своей памяти каким-нибудь не рвущим душу мифом… Но тем не менее большинство из нас чувствует свой долг перед воевавшими. Люди понимают, что жизнь устроена не вполне справедливо: мы вот живём и наслаждаемся, а те — сгинули, ничего от жизни не вкусив и не узнав. Девятого мая это чувство выходит из подсознания и люди об этом могут если не говорить вслух, то хотя бы задумываться. А так, конечно, ты прав, прежнего духа сегодня нет и в помине. Однако если народ когда-нибудь забудет и про День Победы — то всё, ему конец…
— А почему ты сказал про праздник воскресения? — поинтересовался Алексей, глядя сквозь давно не мытое оконное стекло на крыши домов, освещённых склоняющимся к закату солнцем. — Ведь люди даже прежде не очень-то в христианское «воскресение мертвых» верили, а тут, сегодня — неужели они что-то подобное имеют в виду?
— Ну как же? Вот вы вдвоём уже взяли — и воскресли, — решил отшутиться Борис.
— Может быть… Но ведь нас, похоже, никто тут не ждал и не ждёт. Я просто хочу понять, за что сегодняшние люди, как ты говоришь, любят День Победы. За то, что теперь нет войны и что ни тебя, ни близких твоих не убьют? — вряд ли, слишком много времени прошло. В благодарность я тоже не очень верю. Искренняя благодарность живёт лишь у поколения современников и очевидцев, а затем исчезает без следа. За три века Россия, кажется, с одной лишь Турцией воевала не менее десятка раз, там тоже были страшные жертвы, но разве кто-то их сегодня вспоминает?
— Правильно, никто не вспоминает. А эту войну — вспоминают. Даже я так скажу — целый год почти не помнят, а вот в этот день вспоминают. Самое удивительное — вспоминают сами, без чьей-то подсказки. А знаешь — почему?
— Нет.
— Потому, что в той войне с Германией мы реально должны были погибнуть, сгинуть. Германия должна была победить, истребить всех нас, здесь живущих, а потом, помирившись с Англией и США, править миром. Тысячелетний рейх не был бредом Гитлера, к нему Европа продвигалась на протяжении всех своих веков… На нас обрушилась мощь невиданная, они всё знали и просчитали, осечки не должно было выйти… Ведь под Москвой и Сталинградом, Алексей, наша судьба висела даже не на волоске! И тут случается чудо, это железный каток ломается и Россия, которую уже похоронили, вдруг воскресает! И поэтому теперешние люди, за исключением законченных циников и негодяев, нутром чувствует, что своей нынешней жизнью они обязаны исключительно этому чуду, этому невиданному в человеческой истории жертвоприношению, которое совершили наши деды. Разве не так?
— Не обижайся, — ответил Алексей, — но мне трудно об этом судить. Я ведь на той войне ни разу даже не выстрелил в сторону врага. Да и задание, с которого мы исчезли и каким-то образом попали к вам сюда, как я сейчас понимаю, тоже не было связано с военной необходимостью. Я даже про Сталинград-то узнал-то только из твоих, Борь, книжек… По сути своей — я остался довоенным человеком. Излишне экзальтированным, доверчивым и немного сентиментальным. И в отличие от него, — Алексей кивнул в сторону утонувшего в глубоком кресле Петровича, всецело погружённого в чтение, — жившим не реальностью, а в основном идеями. Идеями, которые сегодня мертвы.
— Ничуть нет! — как всегда неожиданно, включилась в разговор вошедшая в комнату Мария. — Ты просто не получил в полной мере от войны травму. Её все тогда получили, и теперь эта травма у детей и внуков в подкорке сидит. Недаром же говорят, что в России пить водку — именно пить, как пьют сейчас, — начали только после войны, и всё так случилось именно из-за той страшной травмы.
— А ты, товарищ лейтенант, напрасно считаешь меня реалистом, — отозвался из дальнего угла гостиной Петрович, который, как оказалось, внимательно следил за разговором. — Думаешь, что все, кто снаряжал бомбы и прочие спецсредства для врагов государства, не могли быть романтиками? Мы-то как раз и были самыми большими романтиками тридцатых годов!
— Это интересно, поясните! — удивлённо произнесла Маша, присев на подоконник.
— Ничего сложного, — Здравый кашлянул и отложил книгу в сторону. — Мы уничтожали врагов не только без сожаления, но даже со светлым чувством радости. Ведь радуется же хирург, когда удаляет из раны гной и даёт больному возможность выздороветь, чтобы затем — счастливо жить! Вот сегодня у вас все подряд про НКВД пишут невесть что и называют нас извергами и палачами. В этом есть своя правда, ближе к войне в органы действительно натекло много мутного народа. И эти, вновь пришедшие, всех романтиков первыми же взяли в расход. Остались считанные единицы, и из них последний — вот он, перед вами.
— Последний романтик эпохи Большого террора, — тихо и задумчиво произнёс Борис.
— Да не совсем. Я и мои товарищи работали в основном по загранице. К тем репрессиям, о которых у вас сегодня не пишет только ленивый, мы прямого отношения не имели. И это — чистая правда, поскольку если бы имели — меня бы уже шлёпнули давно и я бы не мог сейчас разговаривать с вами, читать ваши газеты и пить ваш коньяк. Кстати — за книжку воспоминаний Судоплатова огромное спасибо!
— Понравилась?
— Нет, конечно. Как может понравиться, когда узнаешь, как скверно сложилась жизнь практически у всех, кого я знал и с кем работал… Шпигельглас расстрелян, Мельников в конце войны застрелился… А у выживших — дети и внуки либо стали капиталистами, либо сбежали из страны.
— А вот у меня, — ответил Борис, — вы только не удивляйтесь, от воспоминаний Судоплатова осталось почему-то очень светлое впечатление.
— Почему?
— Потому что книгу написал человек, с начала и до конца веривший в то, что он прав. И когда всё у него пошло прахом — не разочаровавшийся и не озлобившийся. Один лишь эпизод, когда ему в тюрьме по распоряжению Хрущёва прокалывали спинной мозг, а он, чтобы избежать расстрела, делал вид, что сошёл с ума и не чувствует боли — одно это чего стоит! Хотя к тому времени Судоплатов уже успел побывать на самом верху, почувствовать себя небожителем — и тут вдруг падение, позор, неизвестность. Другой бы сломался, пожелал бы себе скорой смерти и получил бы её — а он предпочёл побороться с судьбой. Хотя понимал, что жаждущий его смерти новый генсек пришёл надолго и шансов — почти никаких.
— Да, та прав, пожалуй, — помолчав, согласился Петрович. — То, что начал Ежов, Хрущёв довёл до конца. Извёл последних, кому было не наплевать.
— Хрущёв, конечно, законченный негодяй, — возразил Борис, — но люди начали костенеть и разочаровываться немного позже. В семидесятые годы и, особенно, в начале восьмидесятых. А при Хрущёве всё-таки мы полетели в космос.
— Из того, что я успел прочесть, могу судить, что полетели — на старых дровах….
— Ладно, мальчики, давайте закончим этот спор, — решительно заявила Мария. — А то мы словно на похоронах. Идеи мертвы, люди мертвы… Ничуть не мертвы! И люди живы! Это же ведь настоящее чудо — вы явились, как среди ясного неба гром, пришли, откуда никто не приходит, и теперь находитесь здесь, среди нас, со всеми своими эмоциями, переживаниями, со всей вашей верой!.. Чем не чудо? И ведь это чудо не могло произойти просто так. Значит, нам всем что-то предстоит сделать, сделать что-то очень важное. Ведь так? Или я не права?
На какое-то время в комнате воцарилась тишина. Алексей неторопливо достал сигарету, потеребил её в пальцах, всем своим видом давая понять, что собирается что-то сказать. Однако вскоре он молча положил её на стол и опустил взгляд, словно не находя подходящих слов или не решаясь их произнести.
Затянувшуюся паузу разрядил Петрович:
— Если мы начнём искать ответ на подобные вопросы, то вскоре все сойдём с ума. И доказывать этот факт не придётся, особенно когда мы с Алексеем получим паспорта и уйдём с нелегального положения. Как только вы кому-то расскажете, что общались с ним, лично знавшим Тухачевского, либо со мной, осенью сорок первого года минировавшим Москву, — так всех нас быстренько определят на излечение и хорошо, если в одну палату, где мы сможем продолжить обмен мнениями. Поэтому я считаю, что подобные разговоры нужно прекращать и начинать жить настоящим. Мы — такие же люди, как и вы. Вот ещё немного почитаем современной литературы, освоимся — и никто больше не скажет, что между нами есть разница.
— А если мы живы, то продолжат жить и наши идеи, и наши замыслы, — поддержал товарища Алексей. — Может быть, со временем это к чему-то приведёт. Интересно только знать — к чему именно?
Мария слезла с подоконника и направилась к двери, выходящей в коридор.
— Не одно лишь это интересно, — сказала она, прислонившись к старому деревянному косяку с потёршейся краской. — Интересно то, что будет завтра. Что произойдёт в мире, произойдёт у нас в стране, с нами… Каждый прожитый день — это чудо, и любой неглупый, что-то представляющий собой человек — тоже чудо. А мы в кои веки собрались в такой замечательной компании — разве не чудо и это? Поэтому всё — заканчиваем философию, сегодня — праздник, и я иду накрывать на стол!
Предложение было более чем уместным, поскольку с самого утра никто не ел. Все перешли в соседнюю комнату, по центру которой был выставлен большой овальный стол, покрытый тёмно-зелёной старинной скатертью. После череды пусть сытных, но сооружённых на скорую руку перекусов на кухне парадный вид этого стола вызывал настоящее предощущение торжества.
Правда, не менее сорока минут пришлось довольствоваться лицезрением пустых тарелок и нетронутых приборов, поскольку заказанные из ресторана блюда никак не везли. Наконец, около семи вечера раздался звонок в дверь, и курьер доставил в квартиру дюжину картонных контейнеров с салатами, холодцом, маринованным грибами и многочисленными мясными деликатесами. Откупорили шампанское, и комната постепенно наполнилась негромким, но не умолкающим ни на секунду шумом дружеского застолья.
Первый тост подняли за праздник, второй выпили за здоровье собравшихся. Выждав необходимую паузу, Борис поинтересовался, не будут ли его гости возражать, если третий тост, следуя традиции, будет провозглашен за Сталина.
Однако на это предложение Здравый ответил, что ему всё равно, а Алексей сказал, что не стоит пить за здоровье того, кого давно нет на земле. Возникла секундная неловкость, которую удалось преодолеть, когда Алексей, поднявшись из-за стола и держа перед собой высокий хрустальный бокал, произнёс:
— Поскольку у нас в бокалах шампанское, а шампанское, как известно, — вино праздника, то пить за ушедших и, прежде всего, за невернувшихся с войны мы сейчас не станем. Да и для нас с Василием Петровичем это как-то неловко: ведь чуть больше недели назад мы числились среди пропавших без вести, были одними из них… Поэтому сегодня и сейчас предлагаю выпить за Родину. В наше время мы называли её Советским Союзом, теперь это Россия. Может быть, когда-нибудь завтра стране дадут другое имя — кто знает? — неважно. Важно другое. Наша Родина — это не просто определённая территория с известными границами, ландшафтом и климатом. И даже не страна, в границах которой проживают те или иные народы. Наша Родина — это прежде всего мечта. Мечта о прекрасном доме, который мы когда-нибудь создадим. Мечта о справедливости. Мечта о правде. Мечта о вечном свете и о том, что именно с ним возможно человеческое бессмертие, о котором мечтали поколения наших пращуров. В своей истории мы совершали много ошибок и выбирали неверных путей. Однако именно эта мечта объединяла и продолжает объединять всех нас с нашей Родиной. И именно она является единственным оправданием наших ошибок и заблуждений. Поэтому прошу вас, друзья, поднять бокалы и выпить за нашу великую мечту. Которая есть наша Родина, есть наша правда и есть наше оправдание!
— Браво!
— Великолепный тост!
— Присоединяюсь!
Содвинутые разом бокалы напевно зазвенели, ледяные искрящиеся брызги, высоко подпрыгивая, защекотали у кончика носа и затем, орошая горло, весёлым и лёгким возбуждающим хмелем разнеслись по телу. Вскоре завязалась приятная и беззаботная беседа.
Алексей сидел напротив окна и, несколько раз приподнимая бокал на уровень глаз, сквозь резной узор на фиолетовом хрустале вглядывался в причудливые изломы крыш и деревьев на фоне темнеющего вечернего неба. Из приоткрытой створки доносился далёкий уличный гул и живое тёплое дыхание как всегда внезапной и бурной московской весны. Несколько раз он отвечал, совершенно не задумываясь, на адресованные ему вопросы, в то время как хоровод собственных мыслей всё дальше и дальше его куда-то уносил. «Что всё-таки происходит? Почему я здесь? Кто эти чужие люди — близкие и симпатичные мне, но в то же время чужие, хотя и занимающие мою квартиру? Отчего именно они поселились здесь, и почему столь легко и быстро мы сошлись? И что, наконец, будет впереди?»
Когда шампанское закончилось, хозяин стола откупорил бутылку портвейна. Алексей с удовольствием выпил полный бокал, поскольку нараставшую внутри тревогу стоило чем-то приглушить, и глоток терпкого и сладковатого вина был более чем уместен. Волнение понемногу улеглось, за окном темнело, где-то у пруда в небо запустили несколько петард, которые с шумом пронеслись вверх, рассыпая яркие золотые брызги. «Как хорошо! В самом деле, как хорошо! Чем я заслужил это блаженство? Я же по-настоящему даже не воевал и не страдал… Все эти люди расположены и добры ко мне, у меня есть деньги, и их довольно-таки много… Всё это так. Но ведь я ничем этого не заслужил. Значит, должен буду заслужить. Должен буду что-то сделать для страны, для людей. Или — для памяти и доброго имени тех, кого уже нет на земле? Так или иначе, мне что-то предстоит. Что ж! Я готов. Буду ждать».
Несколько дней назад Борис купил большое количество дисков с кинофильмами о войне — «самыми премиальными», как он выразился, — чтобы Алексей с Петровичем могли лучше познакомиться с событиями, происходившими после их исчезновения весной сорок второго. В этот вечер они смотрели две последних части эпопеи «Освобождение» с битвой за Берлин. Алексей, доселе проявлявший к просмотрам этих фильмов самый живой и искренний интерес, вдруг поймал себя на странной мысли, что отныне он — не участник, и лишь зритель демонстрируемых на экране событий. Эмоции стали более скупыми, чужая смерть и боль уже не пронзали сердце, как обычно пронзают сердце очевидца, а на место горячего и по-детски искреннего ожидания возмездия врагу заступила рассудочность зрителя, интересующегося прежде всего тем, о чём создатели фильма намерены рассказать в дальнейшем. Алексей, негодуя, постарался заставить себя избавиться от подобного настроя, и на какое-то время непосредственное сопереживание ему удавалось сохранять. Однако усилие, которое было для этого необходимо, свидетельствовало лишь об одном — он быстро и необратимо превращается в москвича двадцать первого века.
Однако когда ближе к полуночи Борис предложил посмотреть документальный фильм Довженко об освобождении Украины, Алексей вновь почувствовал себя живым очевидцем тех событий. Не в силах оторваться от экрана, он вновь физически ощущал чужие страдание, отчаянье, жар и экстаз боя. А Петрович, забыв про недопитый портвейн, казалось, тихо и незаметно плакал.
«И всё-таки — почему я здесь? Зачем? Что и как именно я должен сделать?» — с вернувшимся напряжением подумал Алексей после того, как фильмы закончились и все, пожелав друг другу доброй ночи, разошлись по комнатам.
Второго мая около одиннадцати их разбудил Борис, сообщивший, что Мария, получив рано утром сообщение от подруги, неожиданно собралась и уехала в Петербург, где для неё в преддверии Дня Победы намечался ангажемент, а также обещали возможность послушаться в одном из музыкальных театров. Борису же позвонил сосед по даче и также попросил срочно приехать, дабы бригада водопроводчиков могла перекрыть в его доме какой-то важный для ремонта линии вентиль. Пообещав вернуться к вечеру, Борис доверительно поведал, что только что навёл справки насчёт паспортов и с радостью готов сообщить, что паспорта готовы и в ближайший день-другой должны быть на самолёте доставлены с Дальнего Востока. Но пока документы отсутствуют, он настоятельно просит друзей не покидать квартиры, тем более что в ближайшие дни в центре столицы намечается важное политическое событие, из-за которого «требования безопасности взвинчены до предела» и «ничего не стоит загреметь в каталажку».
Надо сказать, что Алексей с Петровичем, согласившиеся на добровольное двухнедельное заточение, нисколько не чувствовали себя стеснёнными и ущемлёнными в свободе своих действий. Память о лихих событиях их первых дней в новом мире и очаковской ночлежке была более чем свежей, поэтому искушать судьбу без крайней необходимости совершенно не хотелось.
Когда дверь за Борисом захлопнулась, Петрович притворил окно и промолвил, опустившись в кресло:
— И всё-таки, Алексей, я до сих пору не могу понять и объяснить себе — хотя уже столько времени прошло: почему мы здесь с тобой оказались? Зачем? Что мы теперь должны делать? Как будем жить?
— Мои мысли читаешь. Сам голову ломаю.
— Начнём с паспортов. До сих пор не могу прийти в себя от этой затеи.
— Затея и в самом деле дурацкая. Но разве у нас имеются другие варианты?
— Нет.
— Всё верно. Раньше бы сами нарисовали себе паспорт — и никакие патрули на страшны. Только теперь у них все люди и документы заведены в базы данных. Так что без официальных паспортов — нам никуда.
— Но платить за это по миллиону рублей!
— Согласен, многовато… Но иначе — как нам было поступать? Ходить по московским базарам и всех расспрашивать, где можно сделать подложный паспорт подешевле?
— Да уж… За три первых дня здесь мы три раза имели проблемы с милицией… тьфу, с полицией. А ведь когда-то — они были нам с тобой младшие братья. Кто бы мог подумать!
— Такого даже во сне кошмарном не приснится. Поэтому, чтобы не загреметь в кунсткамеру, лучше потратиться. Чёрт с ними!
— С кем?
— С деньгами.
— А я думал — с Борей и Машей.
— Ну почему ж? Лично мне они даже премного симпатичны.
— Мне тоже. Только вот странные они немного.
— Почему странные?
— Потому, что они не очень похожи на людей, которые сейчас здесь живут. Какие-то подозрительно правильные.
— Ну и что? Ведь не все в этой нынешней стране такие же мерзавцы, как тот Лютов. Могут ведь попадаться приличные и интеллигентные люди. Вот нам повезло — такие попались.
— Меня смущает, что в твоей квартире нам слишком часто везёт. В запертый подъезд впустили, консьержка спала, дверь в квартиру была открыта! Потом явились жильцы, немного поморщились, поломались — и вдруг сразу нам поверили.
— Но ведь отцовский тайник! Такая находка любого убедит!
— Понимаю. И всё-таки — не верю я в Борину искренность до конца. Что-то он не договаривает. Убей меня — но он точно снимет свою комиссию за наши паспорта.
— Но если с паспортами будет всё в порядке — какая разница? Он ведь использовал какие-то свои связи, сам шёл на определённый риск…
— А ты не думал, Алексей, что наши с тобой коллеги — я имею в виду тех, кого раньше звали чекистами, — пасут и ведут нас, как миленьких, от самого Ржева? Видишь ли — сначала мой тайник извлекли, потом твой… Ты не думал, что они ждут от нас чего-то ещё? И поэтому так красиво и умно всё вокруг нас обставляют — вежливый брат с сестрой-красавицей, кино про войну, коньяки да портвейны…
Алексей немедленно посерьёзнел. Мысль об инсценировке со стороны своих бывших — тьфу, «будущих» коллег-чекистов, заинтересованных в информации, оставленной ему отцом, несколько раз посещала Алексея, однако допустить подобную возможность всерьёз он не решался. Ещё в первую же ночь он надёжно спрятал тетрадь среди своих вещей, сказав Борису, что в ней — личная информация. Петровичу, да простит он его, Алексей также ничего не поведал. Этот момент неправды по отношению к боевому товарищу был немного тягостен, однако значимость информации, оставленной ему отцом, не позволяла столь легкомысленно раскрывать её даже самым доверенным людям.
И хотя он уже решил вполне, что в течение какого-то обозримого времени ему придётся посвятить Петровича в тайны царских сокровищ, делать это сегодня и сейчас он не был готов, намереваясь всё ещё раз хорошо обдумать. Хотя — кто знает! — вдруг Здравый смог разгадать его мысли? Или прочитать тетрадь? А теперь элементарно проверяет «на вшивость»? Поэтому нужно сказать что-нибудь, абсолютно что-нибудь, лишь бы оно не являлось бы ложью!
— Если нас ведут, то делать это могут только те, кто нас воскресил, — ответил Алексей, тщательно подбирая слова. — А вот это дело, ты уж извини, — не человеческое.
— Но мы же можем даже не предполагать, какого уровня технологиями они сегодня обладают…
— Хорошо, пусть обладают. Но тогда зачем им было расставлять на нашем пути столько ловушек? Меня же хотели арестовать за убийство какого-то бандита! А товарный эшелон — приди он на пять минут позже, нас бы взяли, как котят! И отчего мы маялись в Очаково, как робинзоны, а не жили в «Национале»?
— Не знаю. Ты не сердись, я же просто делюсь с тобой своими опасениями. А уметь теоретизировать об опасностях, пусть даже призрачных, — наше профессиональное свойство.
— Всё хорошо. А что тебе в хозяевах не нравится?
— Я же сказал — оба они как не от мира сего. Вот Борька — вроде мажор, повеса и алкоголик, а умён и совесть имеет. Странное сочетание.
— Чего ж тут странного! Ты думаешь — я не такой?
— Ты?
— Да, я. Просто я всегда был при деле, а он оказался за бортом. Должно быть, при капитализме оказаться за бортом — это обычное явление. Он говорит, что после сорока человек здесь никому не нужен.
— С его-то связями? С «Мосфильмом»?
— А что — «Мосфильм»? Я разговаривал с ним об этом. Там теперь всё в частных руках, куча разных студий… Где нормальный продюсер — это, по-нашему, режиссёр, а где криминальный типаж — не разберёшься без стакана. Снимают в основном всякую похабщину, однако в последние годы, по его словам, начал расти интерес к советской истории. Я имею в виду — к нашему с тобой времени. Всё, что связано с НКВД, со Сталиным, с войной — всё сегодня пользуется повышенным спросом.
— Да, но тогда отчего же он не работает?
— А он как творческий человек не обязан ходить в контору каждый день. Работает вроде бы помаленьку, что-то пишет. Написал недавно киносценарий — «Красный Бонапарт». О Тухачевском.
— Это по нему он с тобой консультировался?
— Да. Всё расспрашивал, был ли военный заговор в тридцать седьмом.
— А ты?
— Что я? Я лишь рассказал, как общался однажды с Тухачевским на даче у драматурга Сланского, который был приятелем отца. Это было где-то в году тридцать пятом: я был тогда ещё мальчишкой и всё пытался расспросить Тухачевского, какой будет война с немцами. А он отшутился, сказав, что к началу войны СССР будет иметь на вооружении боевые ракеты и Берлин сожгут за пару дней. Красивый, умный был человек, изъянов я в нём не обнаружил. Хотя — я многого тогда мог не видеть и не понимать.
— А ты-то сам веришь в заговор?
— Как тебе ответить? И да, и нет. Да — потому что годом раньше на нашу общую беду в Испании удался заговор Франко. Нет — потому что прежде, чем рассуждать о заговоре, стоило бы разобраться в конфликте между Тухачевским и Ворошиловым. Они ведь элементарно не переносили друг друга. В этом конфликте, думаю, и вся суть.
— Да, ты прав, дело тёмное. Поговаривали, что наши вроде бы вскрыли на Транссибе японскую диппочту из Варшавы, а в ней — записи доверительных бесед с маршалом, сделанные японским атташе.
— Но если так — то почему же эти документы не опубликовали?
— Чтобы на следующий же день началась война с Японией?
— Да, ты прав, Петрович. Но, как бы там ни было, Борису я ничем по теме Тухачевского помочь не сумел.
— А он сам — в своём сценарии — на какой позиции стоит?
— Считает, что заговор имел место.
— Молодец. Я тоже так считаю.
— Ну вот видишь! А ты говоришь — мажор!
— Мажор он есть. Только несчасливый и оттого немного странный. И сестра у него — тоже какая-то несчастливая. Всё, за что берётся — всё валиться из рук и выходит ей боком.
— Это тебе Борис рассказал? Или она сама?
— Тут к цыганке ходить не надо, всё как на ладони. Родилась не в своё время. Эх, ей бы во время наше! Вторая бы была Изабелла Юрьева!
— Я тут как-то подумал, Петрович, и хотел с тобой посоветоваться: может, поможем ей немного деньгами? Её втянули в какую-то нехорошую историю и потом объявили, что она должна неким негодяем большие деньги.
— Сколько должна?
— Не знаю. А сколько, кстати, у нас осталось? Точнее — останется, когда рассчитаемся за паспорта?
Оказалось, что в распоряжении бывших разведчиков остаётся не так уж и много средств: рейхсмарки не в счёт, пять тысяч старых английских фунтов отправлены на экспертизу и вернутся нормальными деньгами — если ещё вернутся — совсем не скоро, рубли и евро, затерявшиеся в карманах одежды буржуев с Остоженки, почти все были потрачены на еду, газеты и видеофильмы. А из суммарно шестидесяти пяти тысяч долларов, находившихся в «диверсионном» тайнике и экспроприированных у начальника стройки Лютова, после расчёта за паспорта на руках останется только пять. Не густо.
Правда, они совсем забыли про червонцы. Червонцев было 103 штуки, и для понимания современной стоимости этого сокровища Алексей в полной мере воспользовался технологиями нового века, справившись через компьютер. Оказалось, что золотые червонцы будут стоить порядка полутора миллионов рублей.
— Да, — процедил сквозь зубы Здравый, — раньше на эти деньги можно было вооружить батальон или целый год содержать на конспиративных квартирах партизанский отряд. А теперь — нам с тобой на подъём по семьсот тысяч едва ли хватит. Машеньке мы вряд ли поможем — по крайней мере, если помогать станем деньгами. А у тебя-то у самого — какие планы? Не век же нам в твоей бывшей квартире сидеть.
— Пока особых планов нет. Выправлю документы — осмотрюсь, попробую поездить по городу, пожить самому. А дальше — посмотрим. Я же историк, и хотел бы по этой свой специальности и продолжать.
— А жить где будешь?
— Где жить? Пока не думал.
— Очень зря, что не думал. Работу по специальности ты сможешь сыскать, боюсь, только в Москве, а жилье за зарплату историка обретёшь только в глухой провинции. Начальный капитал в столице за пару месяцев подчистую спустишь.
— Тогда что ж! Уеду из Москвы.
— Если уедешь — то тогда забудь про любимую работу.
— А если служебное жильё дадут?
— Сегодня — не дают.
— Хорошо. А у тебя у самого какие тогда планы?
— Разумеется, постараюсь из Москвы смыться. И чем скорее, тем лучше. Куплю где-нибудь в деревеньке домик — и стану мелкобуржуазным элементом. Авось протяну как-нибудь.
— Окулачишься?
— Ну да, вроде того. Хотя по духу своему я однозначно городской пролетарий. А может быть — даже и интеллигент. Когда-то лучше меня никто радиоприемники чинить не мог. Только вот техника теперь не та, и мне её уже не догнать… Поэтому, думаю, придётся уходить в сельское хозяйство.
Ничего не отвечая, Алексей прошёл на кухню и вернулся с картонным саквояжиком, содержащим несколько бутылок заграничного пива.
— Опять трофейное?
— Ну да, немецкое. Хочу кино посмотреть — не возражаешь?
В этот раз поставили на просмотр один из дисков со специально сделанными Борисом подборками документальных фильмов о событиях, происходивших в шестидесятые-семидесятые годы. Исторически кадры Карибского кризиса, лунной гонки и перекрытия сибирских рек надолго приковали внимание и отвлекли от неприятных мыслей. Время пролетело незаметно, и когда подошло время ужина, то звонить в ресторан из экономии не стали, обойдясь остатками салатов и колбас со вчерашнего застолья. Поужинав, перешли на изучение восьмидесятых годов, начавшихся с помпезных похорон трёх генсеков и завершившихся развалом страны. Смотрели молча и напряжённо, не обмениваясь комментариями и стараясь получше запомнить каждое лицо и каждую деталь.
Где-то после одиннадцати вечера из прихожей послышался глухой перезвон ключей и звук отпираемого замка. Приехал Борис.
— Не скучаете? Я только переночевать. Завтра к восьми утра назад, водопроводчики трубу только будут варить…
— Да ты бы остался на даче! Что за нужда себя гонять? — удивился Здравый.
— Да… можно было. Ну ничего. Нужна, видимо, порция общения с вами.
Алексей с Петровичем удивлённо переглянулись. Неужели для Бориса столь важны эти во многом беспредметные разговоры на случайные темы? Неужели они представляют для него интерес не с точки зрения какого-то долгосрочного замысла, в наличии которого они начали было его подозревать, а нужны просто так, нужны лишь своим существованием и присутствием? Но тогда кто же этот человек?
Борис тоже, по-видимому, уловил эту неопределённость, обозначившуюся в их взаимоотношениях. Переодевшись и умывшись, он вернулся в гостиную с твёрдым намерением посвятить предстоящие ночные часы каким угодно беседам и выяснению позиций, но только не сну. Правда, от пива он наотрез отказался, сославшись на то, что наутро ему садиться за руль.
— Кто-нибудь из вас прочитал «Архипелаг ГУЛАГ»? Я оставлял его на полке, — поинтересовался Борис, когда очередной документальный диск завершился сюжетом о возвращении в Россию Солженицына.
— Не то чтобы внимательно и до конца — но просмотрел книгу вполне предметно, — ответил Алексей.
— И что скажешь? Похоже на правду?
— На девять десятых — правда. Но одна десятая — это субъективный взгляд автора, который он преподносит как истину и окончательную данность. Но автор — настоящий мастер, поскольку умудрился свою личную позицию представить правдой всеобщей.
Ответ Борису понравился, и он широко и открыто улыбнулся:
— Если хотите знать моё мнение, то для меня Солженицын — большая сволочь.
— А вот это интересно! — отозвался из полутёмного угла Петрович. — Я хотя книгу Солженицына не читал, но немного в курсе. Так вот, всё должно было быть наоборот — мы, недобитые чекисты, против написанного им, а современный москвич — за. Или ты, Алексей, занимаешь центристскую позицию?
— В каком смысле — центристскую?
— В том, что нашу с тобой «эпоху террора» добра и зла было поровну. Али как?
— Добра было больше. Я что-то, Петрович, тебя не совсем понимаю. Ты полагаешь, что действия Сталина необходимо осудить?
— Ха! Вот и ты, Алексей, попался в эту ловушку. А ведь её чертовски искусно придумали: если ты за Сталина, то значит и за репрессии, и нет тебе прощения в цивилизованном обществе. А самое-то главное — остаётся за кадром!
— Браво, Петрович, браво! — Борис вскочил и энергично провёл рукой по воздуху, обозначая верно найдённый окончательный ответ. — Именно так: главное — за кадром. Любая жизнь многопланова и многоцветна, и марать её единственным цветом — как минимум признак скудоумия. Вот ты, Алексей, почему то, что ты назвал «личной правдой Солженицына», не приемлешь?
— Насколько я сумел разобраться, Солженицын — человек неглупый, гордый и амбициозный. В сталинской системе он желал и ждал для себя чего-то великого — ну, например, лавров Шолохова или Толстого Алексея, а тут раз — и слетел с орбиты из-за неосторожного письмеца. Отсюда личная обида и крайняя нелюбовь ко всей эпохе… Вместо того чтобы разобраться в ней глубоко и честно, он всю её замарал ГУЛАГом. Вроде и не было ничего другого, а только сплошные лагеря… Как психолог он этот трюк провернул гениально. А как писатель — я даже не знаю… Боюсь комментировать, поскольку не вполне в курсе того, как принято писать сегодня. Однако в мои годы его никто писателем не назвал бы. С другой стороны, журналистом его тоже не назовёшь — больно уж огромный пласт он поднял и перенёс на бумагу, прежде писатели за такое не брались.
— Тут не в писательстве дело, — вновь вступил в разговор Петрович, рассудительно поглаживая ладонью тщательно выбритый подбородок. — Спору нет, время было жёсткое и безжалостное. Чуть оступился, написал или сказал не подумав — и хватил лиха. Но это происходило так не оттого, что Сталин или кто-то другой так захотели. По-другому просто не могло и быть.
— Солженицын и вслед за ним миллионы людей по всему миру считают, что могло.
— Ну и пусть себе считают! Сегодня людям даже невозможно представить, какой страшной и дикой была наша реальность. При царе едешь по России — вокруг в основном благородная публика, дворяне, купцы, попы с попадьями… Кресты золотые! А вся основная масса народа была заперта по бесконечным деревням. И не просто заперта, но ещё и придавлена гнётом социальным и религиозным. А после революции вот что получили: благородная публика исчезла, народ из-заперти хлынул и заполонил всё, что только можно. Население одной Москвы выросло в пять раз, если не ошибаюсь, трамваев не стало хватать! Это здорово, конечно, но при этом на одного мечтателя или романтика коммунизма стало приходиться по три натуральных бандита, садиста и хама. И в придачу религию, которая их худо-бедно сдерживала, отключили и объявили опиумом и бредом. В двадцатые годы, если помнишь, днём на улицу страшно было выйти. А уже перед войной — чистые, нарядные города, розы в клумбах, театры, кино. Кто-нибудь сегодня понимает, что произошло, отчего такая перемена?
— В конце двадцатых я два года жил с отцом в Париже, — задумчиво произнёс Алексей, — однако представление имею.
— Догадываюсь, Петрович, куда клонишь, — ответил Борис, — но ты сам лучше доскажи.
— Хорошо, досказываю. Все перемены состоялись не потому, что были успешно выполнены сталинские планы и пятилетки, а потому, что мои коллеги с наганом в руке и голимым чаем в животе, чтобы поменьше спать, день и ночь вычищали всю эту дикость, всю эту отрыжку человеческую… Не оппозиционных профессоров и политических разных противников, а именно самую натуральную мразь прежде всего. Вязали, строили и отправляли на перевоспитание — рыть каналы и тайгу валить. Выполняли эту чёрную и неблагодарную работу хотя бы для того, чтобы нынешние бабушки, когда становились студентками, могли спокойно вечером дойти из института до общежития. Понимаешь, Борис? Я не говорю про тридцать седьмой и тридцать восьмой годы, когда эта система наша дала сбой и стала уничтожать тех, кто ей служил, — давай смотреть на то, что было до и после. Ведь если бы вся эта чёрная масса победила и захватила страну, то не было бы теперь ничего. Гитлер ведь и рассчитывал, что встретит в России именно таких. Похвалялся, что передавит их гусеницами и установит новый тысячелетний порядок. А если бы он в тридцать девятом приехал бы в Москву сам, а не посылал бы Риббентропа, то увидел бы, что очистительную работу мы уже сделали. Я имею в виду НКВД. Причём сделали филигранно. Негодяев убрали, а лучших вытащили на свет, дали возможность работать, раскрыться… И если бы не война, которая всех этих лучших и выкосила, жил бы ты сегодня, Борис, в самом светлом и в самом справедливом государстве планеты.
— Полностью с тобой согласен, Петрович, — ответил Борис. — Только думаю, что кроме хулиганья вам стоило бы покрепче поработать с политическим классом.
— А вот здесь я не очень тебя понимаю. Поясни-ка.
— Что пояснять-то? Мало вы врагов народа расстреляли. Точнее — много погубили случайных людей, а настоящих врагов оставили жить и работать. Тогда это как-то обошлось, но зато потом, уже в наши дни, привело к катастрофе. И сегодня у нас в России уже весьма многие рассуждают в том ключе, что если бы Сталин довёл чистку до конца, то не было бы с нами нынешнего позора. И что рано или поздно, хотим мы того или нет, придётся чистку повторять. Только теперь, скорее всего, в более кровавых масштабах.
Борис закончил говорить, и возникла небольшая пауза. Алексей молча сходил за пепельницей и закурил. Петрович, к которому была обращена сентенция Бориса, немного покашлял и ответил негромким голосом:
— Вот чего не ожидал — так это встретить в вашем прекрасном мире желающих повторить нашу мясорубку.
— Этот мир только внешне выглядит прекрасным, — спокойным голосом ответил Борис. — Он построен на вопиющей несправедливости и давно прогнил. Страной правят подлецы, не имеющие никаких идей, кроме желания обогащаться и купаться в наслаждениях. Ведь даже у Троцкого была идея, а у этих — нет. Пока наш наивный и добрый народ всё ещё чего-то ждёт: то ли их вразумления, то ли Божьего гнева. Но если вразумления нет, а Божий гнев запаздывает или не приходит вовсе — то совершенно объективно возникает потребность в терроре. Возникает не потому что я, такой вот кровожадный Борис Кузнецов, жажду напиться кровью негодяев и лжецов, а оттого, что эти негодяи сами открыли двери для отмщения, и кто-то должен в них первым войти. И если это выпадет сделать мне — я не буду комплексовать и бояться, что развязав войну, пострадаю сам. Война на то и война, что пули летят в обе стороны и часто ранят невиновных и посторонних. Ещё раз: я боюсь об этом думать, но всё идёт к тому, что кое-кому из нас придётся завершить то, что не успели сделать вы.
— А что мы не успели? — поинтересовался Здравый.
— Не добили разных жадных и слабохарактерных типов, дети и внуки которых затем устроили в стране перестройку.
— Снова я не понимаю. Если ты говоришь про политических — я для тебя плохой собеседник. Я никогда по политическим делам не работал, и слава Богу. Хотя и хулиганьём с кулачьём занимались тоже другие товарищи, это я себе сейчас их доблесть приписываю. Мы же больше работали по белоэмигрантам, буржуазным националистам и прочей подобной публике. Но у этих клиентов, поверь, была своя сильная идея. Иногда зацепляли кое-каких троцкистов — ты уж извини, но слабохарактерными людьми их никак не назовёшь. Да, мышлением они обладали своеобразным. Думали о чём угодно, но только не о стране и людях. Однако их вере и твёрдости любой большевик мог бы позавидовать. И если бы Троцкий Сталина одолел — крови народной пролилось бы куда более.
— Разве? А я считаю, что именно потомки недобитых троцкистов захватили власть, разрушили Союз и теперь ведут страну к «глобальной гармонии». Раньше это называлось мировой революцией. Теперь — глобализованным миром под руководством США.
— Ты, Борис, что-то путаешь. Я многих из этих троцкистов знал лично. Ты прав в том, что они наш Союз не ценили, им нужен был весь земной шар. Но вот утверждать, что они так вот взяли — и все скопом продались мировой буржуазии, её штабам, разведкам — я не верю. У них ведь своя, отдельная вера была. И эту веру они имели неистовой, страшной силы. Поэтому часто случалось, что совершенно невиновные люди страдали только лишь из-за того, что имели столь же сильные убеждения. У нас в одно время в троцкисты записывали всех, кто был наркомвоенмором Троцким в Гражданскую отмечен — а это почти все поголовно красные командиры, выросшие до военачальников. Их через одного в конце тридцатых и положили — явный перебор. А их дети в войне с фашистами в первых рядах пали. Так что развалить страну они никак не могли. Разваливали страну не внуки троцкистов, а внуки мещан и недобитых кулаков. И недобитые мной националисты с ними в придачу. Извини, но я именно так считаю. А ты, лейтенант, как полагаешь?
Алексей ответил не сразу — было видно, что разговор для него не вполне приятен:
— Согласен я только с тем, что время было неимоверно жестоким. Боюсь, сегодня эту жестокость никто не может даже вообразить. Тогда весь мир, как во времена альбигойских войн, виделся расколотым на добрую и злую половины. А в таком мире невозможно не замараться, невозможно оставаться чистым. Ведь чтобы оставаться чистым, надо было либо перестать действовать вообще, либо умереть.
— А где, по-твоему, было зло, а где — добро? — поинтересовался Борис.
— Их невозможно разделить. Просто невозможно. Я же сказал — представить то время сегодня попросту нельзя. Даже я сам сегодня начинаю теряться и перестаю понимать, как всё было на самом деле. И вы все лучше эту затею бросьте. Есть факты, есть события, есть судьбы людей — вот на них и смотрите. А оценки раздавать — нет, не наше это право.
— Но ведь оценка всё равно будет вынесена! — не унимался Борис.
— Кем?
— Ну хотя бы в предварительном порядке — апостолом Петром, что стоит с ключами перед дверьми царства Божия.
— Вряд ли. Хотя, — Алексей на минуту задумался, — очень возможно, что в рай пригласят совсем не тех, кого мы ожидаем там увидеть. Если судить не по чистоте, а по порядочности. Чистеньким, я уже сказал, остаться в наше время было невозможно. А вот порядочным — да. И таких порядочных людей было достаточно много. В том числе — и на самом верху.
— Лейтенант прав, — подтвердил Петрович. — Когда любой донос мог оборвать любую жизнь, люди поначалу пытались замкнуться в себе, но затем — наоборот, начинали крепко друг за друга держаться. Понимали, что по другому нельзя. Оттого если кто-то попадал в неприятность, то обычно тянул за собою весь свой круг. Но чаще, мне кажется, этот круг не губил, а выручал. И если б не война, то таких кругов, таких сообществ людей порядочных развилось бы куда больше, и они со временем покрыли всю страну, физически вытеснив негодяев и прочую с ними плесень. Поэтому надо бы, Борис, чтобы сообщества подобные возникали сегодня, и от них круги пошире бы расходились. Тогда и террор новый не потребуется.
Борис ухмыльнулся:
— Но ведь сообщества порядочных стали возникать именно в условиях террора, чтобы честные люди могли ему противостоять!
— Ах, чёрт! Я всегда был слаб в схоластике. Но тогда что прикажешь делать?
— Сначала — безжалостный и беспощадный террор против правящей верхушки, — рассудительно и спокойно, словно говоря от чём-то давно продуманном, осмысленном и очевидном, резюмировал свою точку зрения Борис. — То есть уничтожение нынешней политической и экономической элиты, как они себя сами называют. Затем — быстро и энергично строим гражданское общество, организуем и развиваем все эти сообщества порядочных людей, профессионалов, мастеров и прочее. А на третьем этапе — возводим новую экономику и новое государство. Ведь к тому времени, когда начнёт заканчиваться нефть и существующий мировой экономический порядок однозначно рухнет, уже нельзя будет твердить, что Америка или Европа — образец-де для нас. Снова придётся всё выстраивать заново, снова будет езда в незнаемое, как у Маяковского. Я считаю, что именно такая перспектива — сегодня единственный шанс для России.
— А без террора на старте никак не обойтись?
— Хотелось бы обойтись. Но, боюсь, что по-мирному не выйдет. Надо просто сделать так, чтобы террор не вышел за нужные рамки и не начал косить невиновных.
— В годы французской революции так, как ты хочешь, тоже ведь не вышло, — возразил Алексей. — Тогда все думали, что как только перебьём негодяев, всех этих ennemi du peuple[30],- так и начнётся прекрасная жизнь. Но на деле выходит так, что если запустить реакцию насилия, то она будет длиться до тех пор, пока в ней не сгорят все, кто на момент её начала что-то из себя представлял. Это как деление ядер урана — если реакцию запустить, то она не остановится, пока в ней не сгорит весь уран. Огонь террора остановит только следующее поколение, которое придёт на смену уничтоженному. Похоже, такое вот новое поколение и спасло страну после тридцать седьмого года, остановило тот маховик… Ну а если брать шире — то мы, друзья дорогие, сейчас залезли с вами в такие проклятые вопросы, от которых лучше держаться в стороне. Добро и зло разделены только в церкви. В жизни развести их невозможно, и тот, кто этого не понимает, способен распахнуть самые страшные бездны…
— Ты правильно сравнил насилие с делением урана, — ответил ему Борис. — Но эта реакция не обязательно приводит к взрыву — её давно научились замедлять и контролировать. Так же и здесь: имеется, имеется механизм, позволяющие контролировать насилие!
— Какой механизм?
— Самый элементарный. Культура. Культура не в смысле набора знаний, а как эстетический код… эстетический код, отрицающий пошлость! Ведь пошлость — это стремление убедить себя в какой-то момент, что все проблемы решены, что тебе хорошо и так далее. Relax and enjoy![31] Пошлый человек, заняв место негодяя, немедленно станет таким же, и у других неизбежно возникнет желание с ним расправиться. Уничтожим пошлость — уничтожим основу для зла внутри себя. И тогда зло, приходящееся ответом на другое зло, быстро прекратится.
— То есть ты предлагаешь…
— Я предлагаю, — воодушевлёно подхватил Борис, решительно поднявшись со своего кресла, — впервые в человеческой истории в основу социальной революции положить настоящую, высокую культуру. Раньше подобное было невозможно хотя бы потому, что миллионы людей, которые вынуждены были пахать землю и заниматься тяжёлым и грязным трудом, объективно не имели доступа к культуре. Но сегодня мы вовсю приближаемся к новому миру, в котором этого привычного труда не останется, всё будут делать машины, роботы, компьютеры. Технический прогресс сегодня уже вовсю выталкивает людей в области, где нужно работать головой, мечтать, думать о великих вещах, о Вселенной, о Боге… Но вместо того, чтобы впервые со времен изгнания Адама дать людям возможность заниматься подобными прекрасными вещами, приближаясь к Творцу, нынешние хозяева жизни делают всё, чтобы превратить людей в дебилов.
Борис остановился на секунду, вытер ладонью пот со лба и продолжил:
— Самое страшное сегодня состоит в том, что эти негодяи убивают в людях саму возможность преображения. Раньше человек мог, оказавшись даже в самой жуткой ситуации, оставаться внутри самим собой… например, рабом в каменоломне распевать про себя Stabat Mater или читать сонеты Петрарки. Сегодня в каменоломнях работают в основном машины, а высвободившихся людей распределяют по каким-то бесконечным ячейкам, офисам, точкам сервиса, подчиняют всевозможным регламентам, кодируют, оскопляют, лишают возможности самостоятельно думать. Школьные программы переделывают в расчёте на дебилов, в вузах учат, в лучшем случае, функциональному ремеслу. Телевидение и массовая культура выбивают у людей последние мозги, а остающиеся постоянно промывают рассказами про «ужасы сталинщины» и всех революций вообще. То есть: сидите себе, граждане, спокойно и жрите, всё равно всё уже решили без вас. Но те, кто так придумал — глупы. О, как же они глупы! Они уверены, что революции случаются исключительно от отсутствия хлеба и зрелищ. А ведь можно сделать так, что революция возникнет как культурный феномен. Как протест против их пошлости и их гламура. Против их сытости и самодовольной влюблённости. Никто не будет ходить на митинги и бегать со знамёнами, некого будет в подполье ловить! Взрывная энергия станет накапливаться подспудно и незаметно, однако когда рванёт — удар придётся точно по адресам негодяев, по выстроенным ими лживым институтам! Если сила сконцентрирована, то она сокрушительна. А то, что произойдёт потом, окажется нечто новым и прежде невиданным — диктатурой чести. Власть возьмут те, кто сохранил в себе культуру и благородство. В мир придут другие смыслы. Люди поймут, что теперь они по-настоящему освобождены, поскольку смогут, не заботясь о куске хлеба и крыше над головой, начать задумываться о вещах вечных, творить, разговаривать с Богом… А негодяев даже не придётся расстреливать — погрузить всех на пароход, да вывезти куда-нибудь на Мозамбик или в Таиланд.
— Только Сиам без вины обидим, — прервал Бориса Петрович. — Я бы кое-кого наказал бы и посильней. Но в целом — докладчик рассуждает верно. Особенно этот момент с культурой важен. Гляди, Алексей: диктатура со стороны нового благородного ядра — она и конструктивна, и возможна технически. Деникин в своё время с горской офицеров едва Москву не взял… Он проиграл лишь потому, что с ним была публика уходящая, их благородство являлось традицией, наследованием, чем ещё угодно, но только — не собственным результатом. У нас тоже имелись свои благородные идеи, и они были значительно свежее. Красная эстетика тогда разгромила белую. А сегодня здесь всего лишь культура должна победить не-культуру. Такое осуществимо, я тут не вижу никаких противоречий. Тем более что подобные люди сразу же составят то самое новое поколение, которое пресечёт террор. Правильно я рассуждаю?
— Возможно, — ответил Алексей, — но только кто же тогда террор начнёт?
— Наверное, эта роль отводится нам, — широко улыбаясь, сказал подобревший Петрович. — Иначе зачем мы явились сюда спустя семьдесят лет?
Борис тоже расхохотался:
— Тогда что будем делать?
— Как что? — повеселев, ответил Алексей. — На вопрос «что делать» ответ, как известно, один: будем создавать революционную организацию.
— Во втором-то часу ночи? — не согласился Здравый. — Чтобы главному революционеру, не выспавшись, с утра ехать на дачу чинить водопровод?
Потому, ещё немного пошумев, все начали расходится по комнатам спать. Когда Борис удалился в свою комнату, Петрович подмигнул Алексею:
— Вот и разрешился вопрос, кто кому и для чего нужен. Наш друг, конечно, никакой не революционер и не террорист, до Робеспьера или Савинкова ему далеко. Он — личность творческая, романтик, а все романтики — законченные бунтари и ниспровергатели. В нас же он нуждается для вдохновения. Не знаю как тебя, но меня такой поворот вполне устраивает.
— «А он, мятежный, просит бури…» Что ж! Я не против, но только боюсь, что сегодня о красоте и силе этой бури нам придётся в основном рассуждать на тихом берегу, в мягких креслах и под хороший аперитив, — согласился Алексей. — Но, как бы там ни было, мы с Борисом вполне подходим друг для друга. Так что поздравляю: решение оставаться до поры вместе — естественный выбор обеих сторон. Естественная, так сказать, связь времён.
Естественная связь времён! Как важно иногда найти точное определение своему состоянию, чтобы вместо тревоги за неверно сделанный шаг, неосторожное слово или ошибочное умозаключение явилось чувство спокойной уверенности в том, что всё совершено правильно, что друзья тебя понимают и что впереди — широкая и ровная дорога, по которой отныне можно шагать, не задумываясь о прошлых обязательствах.
И хотя в положении наших героев пока ещё ровным счётом ничего не поменялось, Алексей долго не мог заснуть, испытывая от неведомого, но оттого прекрасного в своей таинственной непредсказуемости будущего примерно тот же восторг, что переполнял его сердце под высоким звёздным небом на платформе товарного эшелона, переносившего из ржевской глуши в сверкающую и полную новой жизни столицу.
* * *
Через несколько дней вынужденное затворничество Алексей и Петровича завершилось — в Москву авиарейсом с Дальнего Востока доставили паспорта.
Борис тщательно изучил привезённые документы на предмет подлинности и отсутствия, как он выразился, «скрытых дефектов», после чего торжественно вручил их законным владельцам. Как и было обещано, таинственный посредник с фамилией Михельсон помог изготовить в подарок два заграничных паспорта. Алексей с Петровичем, словно дети, долго вертели в руках новенькие краснокожие документы, вчитываясь во все записи и улыбаясь собственным фото. Когда же курьер, забрав с собой остаток денег, покинул квартиру, Борис протянул друзьям две блестящие розовые корочки:
— А это уже подарок от меня — водительские права. В наши дни без автомобиля не обойтись. Поэтому вспоминайте — а лучше всего — изучайте заново дорожные правила!
Получение столь важных документов было решено обмыть, так что предстоял первый полностью легальный выход в город. Борис придирчиво проконтролировал, чтобы в одежде его друзей не имелось необычных и привлекающих излишнее внимание деталей, для обеспечения чего ему пришлось отдать кое-что из собственных вещей.
И хотя на протяжении всех дней, проведённых в квартире на Патриарших, там почти не закрывались окна и приходящий свежий воздух постоянно напоминал об улице и весне, первые же секунды после выхода из подъезда по-настоящему ошеломили и заставили сердца биться сильней. Высокие старые липы, которые Алексей прекрасно помнил со времён своего детства, давно оделись в роскошный светло-зелёный наряд, воздух был наполнен ароматом свежей листвы вперемешку с отходящим ранневесенним запахом талой почвы, который в лесу под Ржевом и в Очаково был вездесущ и прочно врезался в память.
Предложение Петровича поискать пивную или организовать импровизированный стол с выпивкой и закуской прямо на садовой скамейке возле пруда Борис отверг, сославшись на крайнюю нежелательность нарушения общественного порядка в предпраздничные дни, когда центр столицы переполнен полицией. Поэтому было решено, двинувшись по переулкам без особого плана, найти и остановиться в первом же приличном ресторане.
Запланированное мероприятие справили в небольшом уютном заведении с итальянской кухней, ограничившись скромным столом с салатом, двумя видами пиццы и бутылкой красного вина. Когда трапеза подходила к завершению, за окном потемнело, затем послышался громкий шум весеннего ливня и следом торжественно и величаво прогремели далёкие раскаты майского грома. Эти раскаты напоминали приветственный салют, они совершенно не были страшны и звучали завораживающе весело. Вскоре, словно желая подчеркнуть случайность и преходящесть ненастья, из-за неплотных рваных облаков легко пробился и с триумфальной основательностью осветил городские стены и блестящий асфальт яркий солнечный луч.
Излившаяся с небес вода без следа ушла, тротуары начинали быстро подсыхать и посему планы по скорому возвращению в квартиру сменились согласным желанием погулять по столичному центру.
С восторгом и трепетом Алексей ступил на знакомые с детства камни Тверского бульвара, направляясь к Страстной, чтобы оттуда живыми глазами увидеть не менее любимую им Тверскую. Немало удивившись переезду памятника Пушкину на противоположную сторону Тверской и заставив своих спутников непременно зайти в Елисеевский гастроном, он увлёк их далее в сторону Моховой и Кремля. По пути было отмечено отсутствие сгинувшей без следа Филипповской булочной. Хорошо знакомое по прошлым времена общежитие Коминтерна в гостинице «Люкс», где он когда-то одалживал у Мориса Тореза книжку Сартра, ныне стояло полуразобранным и затянутым строительной сеткой; также было выявлено, что на площади, где раньше находились Первый книжный магазин, ресторан «Арагви» и снесённый незадолго до войны обелиск в честь революционной свободы, теперь возвышается державный монумент князю-москвичу. Неподражаемый Дом связи, Центральный телеграф, пребывал на старом месте, однако в окружении многочисленных зданий и рекламных щитов более не имел прежней основательности и коренастости. А вот проезд Художественного театра, в котором прежде располагалось множество писательских квартир, в одной из которых — у поэта и бывшего футуриста Асеева — он не раз бывал в гостях вместе с родителями, сразу же порадовал неизменностью вида и запретом на движение машин.
Проходя по столь же несильно изменившейся Большой Дмитровке, Алексей не мог не задержать внимание на облепленном афишами здании театра оперетты, в котором когда-то, в незапамятные дореволюционные сезоны, выступала в опере Зимина мама его фиалкоокой Елены. Заглянув ради интереса в вестибюль станции метрополитена «Охотный ряд», сохранивший достаточно много из довоенного декора и внутреннего устройства, и затем свернув на Театральную площадь, он пожалел, что из ниш метрохолла куда-то исчезли гипсовые атлеты, когда-то служившие едва ли не главной приметой этой части уличного пространства.
Зато сама Театральная площадь порадовала прежней открытостью и классичностью форм, незримо стягивающихся к зданию Большого театра и затем экстравагантно разрываемых готическим модерном ЦУМовского дома. Однако отсутствие трамваев с их уютной неторопливостью явно пошло площади во вред, и бесконечный поток машин, отныне непрерывным потоком протекающий через неё, необратимо свидетельствовал о новых временах. Деревья в сквере напротив Большого то ли подросли, то ли были заменены на новые, а на месте многоярусной клумбы, на вершину которой с наступлением тёплых дней в прежние дни выставляли кадушку с пальмой из театральной оранжереи, теперь вовсю бил фонтан.
На соответствующую реплику Алексея Борис со знанием дела ответил, что фонтан у Большого был сооружён сразу же после войны и что на его отделку пошёл особый шведский гранит, привезённый гитлеровцами для памятника свой несостоявшейся победе. Однако на намерение Алексея подойти поближе и потрогать этот легендарный гранит рукой Борис усталым и равнодушным голосом всезнающего гида проинформировал, что несколько лет назад фонтан разобрали и полностью заменили.
— Но гранит, конечно же, должны были сохранить! — безапелляционно возразил ему Петрович.
— Увы.
— А что же с ним случилось?
— Его украли.
— Как?
— Обыкновенно, — примиряющим тоном ответил Борис. — Только, ради бога, не удивляйтесь, это ещё не самый худший вариант. Всё-таки новый фонтан и смотрится неплохо, и даже работает…
Затем они поднялись к Лубянской площади, красочно декорированной ко Дню Победы. Петрович замедлил ход и молча обвел взглядом группу высоких зданий с её противоположной стороны, за разностильностью фасадов которых неуловимо угадывалась общность архитектурного замысла и подчеркнутая закрытость от шумливой уличной суеты.
— Да, разрослось наше гнездо, — произнёс Петрович, остановившись и немного помолчав. — Нас когда-то здесь было куда меньше. Но отчего-то фонтаны тогда не крали.
— Не только не крали, но даже и помыслить о подобном не могли!
Пройдя по Большой Лубянке до начала Кузнецкого моста, Алексей обратил внимание Бориса на здание бывшего Наркомата иностранных дел, перед входом в который с неизменной гримасой на лице в нелепом возбуждении стоял на полусогнутых ногах бронзовый дипломат Воровский. Глядя на памятник, Борис попытался сморозить что-то умное о непостоянстве канонов красоты и мужественности.
— Зато есть постоянство борьбы с радикулитом! — удачно пошутил Алексей под всеобщий одобрительный смех. — Хотя если серьёзно, то именно в этом здании я когда-то представлял свою будущую работу. И здесь же трудился мой отец. Отсюда, надо полагать, он отбыл в свою последнюю командировку. Наверное, из вон того подъезда, как обычно, выходил…
Но вместо того, чтобы свернуть и подойти к подъезду поближе, Алексей молча двинулся по улице вверх, остановившись напротив бывшего сорокового гастронома.
— Интересно, кафетерий и буфет с разливным пивом там остались? — спросил он у Бориса.
— Сколько живу — не помню. Хотя, когда был школьником, бегал туда пить молочные коктейли.
— Ты ещё, Лёша, расспроси-ка его про профитроли с форшмаком из керченских сельдей, про раковый суп со стерляжьим расстегаем и про шнельклопс церемонный из хребта черкасского быка, — с горячностью поддержал кулинарную тему Петрович. — Не знаю как вы, товарищи, но после сегодняшней скудной и символической пищи итальянских бедняков я бы от чего-нибудь подобного не отказался!
— Мы ж, Петрович, в своё уже рассматривали этот вопрос и решили закрыть его в «Национале». Насколько помню, все голосовали за данное предложение единогласно.
— Согласен, но всё-таки прежде, чем у нас появиться повод туда сходить, хотелось бы что-то сожрать. Гуляем-то, поди, уже битый час!
Решили погулять ещё, чтобы аппетит распалился посильней. Настроение у всех было приподнятое, однако когда вздумали свернуть в Варсонофьевский переулок, чтобы вновь вернуться на Кузнецкий, Петрович неожиданно замедлил ход и, как, могло показаться, нервно и неловко подёрнулся всем телом. Затем, сплюнув и потупив взор, перешел с правой стороны на левый тротуар переулка и значительно ускорил шаг, словно желая поскорее покинуть это место.
— Что-то не так? — спросил его Борис, догоняя.
Петрович ничего не ответил, и только дошагав до Рождественки, отдышался и сказал:
— Здесь была моя лаборатория.
— Что-то случилось? — удивился Борис, испуганно взглянув на подоспевшего к ним Алексея.
— Нет, просто не хочу больше появляться в этом месте, — отвечал Петрович, понемногу успокаиваясь Не знаю почему — но не хочу. Наверное, слишком много времени прошло, или я стал другим. Вспоминать — могу, а вот находиться здесь — нет. Пойдёмте дальше, Москва ведь большая.
Предпраздничная Москва напоминала огромную, разноцветную и стремительную воронку, готовую затянуть в свой круговорот любого, кто оказывался внутри неё без ясной и чётко обозначенной цели, праздным ли гулякой или утомлённым странником. И поскольку положение наших друзей в полной мере отвечало этому состоянию, прогулка затянулась. Через Петровку и Столешников, в полной мере поразивший неофитов витринами наиболее изысканных столичных магазинов, уже затемно они выбрались вновь на бывшую Страстную площадь, где Борис предложил утолить разгулявшийся аппетит в «буржуазной столовой Макдоналдса».
Сытный американский ужин руками из картонных коробов — несмотря на изначальный скепсис — вполне пришёлся по душе, не понравилось только отсутствие спиртного. Из-за позднего времени торговлю алкоголем в магазинах уже прекратили, поэтому ничего на оставалось, как отправляться на поиски недорогого кафе. Таковое было найден возле площади Маяковского. Затем Борис поймал такси и организовал поездку сначала по ярко иллюминированному Садовому кольцу, затем — к Воробьёвым горам, откуда они долго любовались прекрасной ночной панорамой. По пути назад в районе Калужской заставы остановились ещё в одном месте, чтобы заглушить жажду свежим пивом с обворожительно нежной и ароматной малосольной фарерской лососиной, затем пили кофе на Новом Арбате в непонятном заведении из стекла, напоминающем трёхмерную трапецию, где на каждый столик приходилось по две полуголых официантки с накрахмаленными игривыми передниками и чудовищного вида ожерельями из красных кораллов. Затем пытались штурмом прорваться в заведение, которое, по убеждённости Бориса, должно было располагаться на крыше одной из центральных гостиниц и иметь потрясающий вид на Кремль, — однако заведение то ли было закрыто, то ли в нем не было свободных мест, и из гостиницы их попросили. Наконец, после всей этой круговерти предстоял ещё один тур по залитым разноцветными огнями полупустым магистралям, эстакадам и тоннелям не желающей засыпать ночной столицы.
Лишь около трёх часов ночи таксист остановил машину возле дома в Малом Патриаршем и наши странники, поздоровавшись с разбуженным хмурым консьержем, вернулись, наконец, домой.
* * *
Следующим утром, а точнее — когда уже было за полдень — Борис уехал по делам, пообещав вернуться лишь поздно вечером. У Петровича давно имелся план посетить городской адресный стол на Краснопролетарской, в котором, по его убеждению, представлялось возможным навести справки по старым адресам родственников и знакомых, чтобы, быть может, кого-нибудь из них разыскать. Алексей к подобной затее отнесся без энтузиазма, поскольку тесных родственных отношений его родители ни с кем не поддерживали, немногочисленные друзья их семьи давно умерли или погибли, а налаживание связей с их потомками, живущими теперь в совершенно иной вселенной, не имело ни малейшего смысла.
Поэтому когда все разъехались по своим делам, Алексей решил не предавать себя вновь добровольному заточению и отправился на прогулку.
Утренняя дымка, обещавшая дождливый и влажный день, к обеду начала постепенно рассеиваться, облака посветлели и поднялись высоко в небо, то и дело расступаясь под лучами яркого майского солнца. В прекрасном расположении духа Алексей перекурил возле пруда и по Малой Бронной проследовал к бульвару. Перейдя проезжую часть и немного постояв возле чугунной решётки, он отметил для себя, что, невзирая на будний день, машин на улицах совсем мало, зато вокруг — обилие самых разнообразных пешеходов, многие из которых в преддверии завтрашнего праздника Победы спешили явно не по делам. А за весь достаточно длительный период, проведённый им в новом времени, он до сих пор не имел возможности спокойно и безопасно понаблюдать за людьми, рассмотреть их одежду, осанку, выражения лиц, проследить за мимолётными движениями глаз, попытаться понять и разгадать их эмоции и мысли.
Поэтому Алексей решил познакомиться с москвичами поближе.
Чтобы публика была помноголюдней, он как и вчера взял направление к Страстной площади. В сквере, где до войны стоял памятник Пушкину, скопление граждан было наибольшим, поскольку многие выбирали это место, чтобы перейти от выхода из метро к Тверскому бульвару. Здесь вполне можно было устроить наблюдательную позицию, если бы не сплошь занятые скамейки и шумное присутствие большой группы дворников в оранжевых жилетах, деловито метущих мостовую и разгружающих из автофургона ящики с цветочной рассадой.
Поэтому вернувшись на Тверской бульвар, он разыскал свободную скамейку и вполне этим довольный расположился на ней. Правая рука самопроизвольно извлекала из кармана пиджака коробку с длинными папиросами «Беринг» и спички. С папиросами вышла отдельная история — в своё время он посетовал Борису, что совершенно не понимает современных табачных изделий с фильтром и неестественными химическими добавками, и тому пришлось специально разыскивать для Алексея редкие в наши дни старомодные папиросы. Правда, вчерашним вечером по пути на совместную прогулку Борис показал на Малой Бронной вход в небольшой клуб, где собираются любители сигар и трубочного табака, с предложением со временем это место посетить. Однако подобные планы он отложит на потом, поскольку что может быть лучше сегодняшнего тёплого майского дня, свежего воздуха и неподражаемой атмосферы предпраздничной столичной суеты!
Сквозь синеватый папиросный дым Алексей с лёгкой улыбкой принялся разглядывать двух студенток, присевших на одну из дальних скамеек на противоположной стороне и разложивших рядом с собой какие-то тетради. Одна из них достала из сумки небольшой переносной компьютер и начала что-то демонстрировать на экране своей подруге, после чего обе вдруг начали весело и звонко хохотать. Алексея заинтересовала вторая девушка, которая, несмотря на прохладную погоду, была одета в лёгкое летнее платье — она показалась очаровательной и наполненной живой внутренней чувственностью. Разумеется, это происходило оттого, что она была брюнеткой, а именно от брюнеток всегда следует ожидать наиболее трудного в достижении, однако самого горячего и искреннего обожания. Если, конечно, приложить к этому соответствующие усилия. Но почему бы и нет?
«Хотя очевидно, — не без удовольствия произнёс Алексей про себя, — что спешить здесь не стоит, всегда лучше продумать и получше подготовить свой выбор. Тем более что сидящая рядом подруга брюнеточки в своих тесно облегающих бёдра синих брюках выглядит, на его взгляд, совершенно вульгарно. Понять её можно — хочет создать себе привлекательный образ, однако действует слишком неловко и грубо. Под юбкой её бёдра смотрелись бы куда симпатичнее и, главное, вызывали бы непреходящий интерес. У неё к тому же рыжие и скорее всего крашеные волосы — а это тоже признак каких-то скрытых проблем: обиды, зависти или даже тайного презрения к мужчинам. Правда, если верно последнее, то флирт с ней был бы интересным, непредсказуемым и потому захватывающим процессом. Сломить её гордыню, вырвать победу, заставить трепетать в осознании неизбежности покориться рано или поздно его объятиям и упоительной силе поцелуев — чем не задача, которой можно посвятить часть себя на ближайшие недели и даже месяцы?! Но посвятить именно часть себя, поскольку полная отдача подобному делу — это позор для мужчины, свидетельство неспособности покорять женские сердца «между делом», а стало быть — признак слабости и профессиональной малогодности.
Впрочем, вот в сторону Никитской шагает уже совсем другая красавица. И она, пожалуй, будет даже поинтереснее тех двух, хохочущих напротив на скамейке. Невысокая, но стройная, голову держит гордо и высоко. Боже, а какая обворожительная у неё грудь! Её грудь совершенно идеальна, идеальна в том смысле, что любое, даже самое малое изменение, нисколько не убив этой привлекательности, определённо не пошло бы ей на пользу. А какая у неё кожа — нежная и бархатная, цвета тёплого южного мрамора. Скорее всего, впервые после долгих зимних месяцев она подставила солнцу почти полностью открытые руки, одной из которых она прижимает ридикюль, и теперь они оттаивают под его яркими лучами. А эти очаровательные стройные ножки, на которые сегодняшним утром она не стала одевать чулок — солнце также ещё не успело приласкать их своим загаром, и можно лишь позавидовать тем его лучам, которые первыми доберутся до этой зимней красоты, украсят, согреют и оживят своими тайными поцелуями! Господи, я готов сойти с ума от уже лишь третьей встретившейся мне москвички, даже не докурив до конца папиросу… Да, это действительно что-то невообразимое — весна, возможность любой перемены, лёгкость согласия и приветливость бытия…
А вот теперь, к слову, можно и перевести дух — по бульвару катит детскую коляску какая-то невзрачная особа неопределённого возраста с землистым и равнодушным лицом. Наверное, это домработница или нянька, молодая мать была бы куда привлекательнее и, главное, имела бы взгляд яркий и живой… Вот она поморщилась, случайно вдохнув завиток дыма от моей папиросы. Excusez moi, madame, mais dans votre regard il y a plus de jalousie, que de mИcontentement…[32] Ладно, не будем её осуждать, ведь она, возможно, боится не за себя, а за ребёнка. Ребёнок, дети — это всегда чудно, но ведь в то же время и трагично для настоящей чувственной любви, которая не допускает наличия между влюблёнными кого-то третьего.
Если этот третий — просто мой соперник, то такой поворот не страшен, так как я просто уничтожу, испепелю этого взрослого человека в своём сознании или выставлю насмех, представлю ничтожным, жалким, и тогда мы вновь останемся с моей возлюбленной вдвоём и замкнём на себя весь мир… А если этот третий окажется моим ребёнком — я не смогу его ни отринуть, ни даже на короткий миг восстановить между мной и моей женщиной весь этот непостижимый мир, предназначенный исключительно для нас двоих. Вот, оказывается, в чём загадка! Настоящая любовь рано или поздно должна будет убить или по крайней мере оскопить самою себя. Вариантов избежать этого немного, и здесь один другого хуже. Можно оставить жену после рождения ребёнка — нет, это не то, конечно, чтобы подло бросить, а оставить, всё объяснив и обеспечив ей полную материальную состоятельность. Можно не бросать, а отдавая ей каждый день дежурную порцию своего внимания, ласки и домашней заботы, в то же время незаметно переключиться на другую женщину. Non, ce n'est pas du tout ce qu'il me faut…[33] Тогда третий вариант — собрать и применить все возможные усилия воли и буйство чувств, чтобы с их помощью воссоздавать прежний хрустальный мир для двоих хотя бы на короткие мгновения подлинной и бесконечной близости? Но при этом понимая, что этот мир и эти мгновения будут призрачными и мимолётными… Нет, это тоже не выход. Оберегать свою единственность, эгоистически не допуская самой возможности появления кого-то ещё между нами — это возможно, но такое не состояние не сможет продлиться вечно. В какой-то момент женщина начнёт терять прежнюю красоту или, может быть, я сам разочаруюсь в ней ещё быстрее — и что тогда? Бросать её одну, теперь уже никому не нужную, становиться вольным или невольным убийцей той, которая ещё вчера была для меня милее небесного света? И к тому же лишать её естественного стремления к материнству, прекращать род и её, и свой собственный? Вот ведь, действительно, проклятый вопрос. Toute la vie est faite de questions maudites…[34]»
Алексей закурил новую папиросу и постарался переключиться на что-то другое. Вот по бульвару проследовали трое совершенно уродливо одетых парней с жестянками пива в руках, а вот с ними разминулась аналогичного вида девица с обнажённым животом и блестящей булавкой в носу. Дура, она просто не знает, что чем обнажённее и доступней женщина, тем труднее в неё влюбиться.
Вот продефилировали мимо несколько одинакового вида молодых людей в свежеотглаженных сорочках — наверное, какие-то служащие или управляющие. Проковылял нищий, источая вокруг себя нестерпимую вонь. Хорошо, что нищий не уселся рядом на лавку, иначе бы пришлось срочно покидать бульвар…
Когда нищий удалился достаточно далеко, Алексей машинально извлёк из коробки очередную папиросу и отчего-то вспомнил о Марии. «Интересно, почему я до сих пор не попробовал в неё влюбиться? Она хороша и умна, правда, немного скрытна… Наверное, мы не вместе из-за того что я сам пока что слишком острожен… К тому же она — сестра человека, от которого пока весьма многое зависит в моих нынешних обстоятельствах. Думаю, правда, что этот человек не стал бы сильно возражать против нашей связи. Однако готов ли я гарантировать длительность и серьёзность отношений? Скорее всего, нет. Особенно в данный момент, когда напротив меня возникает вон та милая особа!»
Он разглядел, как через проезжую полосу на тротуаре, участок которого оставался различимым между деревьями, остановилась небольшого роста шатенка в больших тёмных очках. Недолго постояв, она быстрым шагом перешла дорогу и, пройдя по бульвару несколько десятков метров, присела на только что освободившуюся скамейку прямо напротив Алексея. Осмотревшись, она сняла очки и положив ногу на ногу, извлекла из сумочки небольшую книгу. Отыскав нужную страницу, она вновь подняла глаза и, немного прищуриваясь, внимательно оглядела пространство бульвара и своих соседей по нему. Задержав взгляд на Алексее, она сперва плавно перевела его на гравийную дорожку, а затем углубилась в чтение.
Алексей не без удовольствия переключился на любование новой незнакомкой.
«Всё при ней — свежесть, юность, красота, — рассуждал он, следя за тем, чтобы его взгляд лишь изредка пересекался с её фигурой и чтобы его лицо внешне сохраняло немного равнодушное и безучастное выражение. — Если меня спросят, чем именно она лучше десятков и сотен других красавиц, то, я, наверное, не смогу сказать ничего определённого. И тем не менее — она удивительно прекрасна. Ведь если б представился случай — я бы бросился с упоением целовать её худые колени, ловить тепло её ладоней, наслаждаться её ароматом… Она это знает и в полной мере отдаёт себе отчёт в наличии у неё подобной силы и власти над мужчиной. Но в то же время она знает и то, что эта власть коротка и не вечна. Случись с ней, не дай бог, что угодно — усталость, тяжёлая неприятность или даже беременность, в глубине души желанная, наверное, для всякой женщины, — и этот образ царственной неземной красоты исчезнет навсегда. Да, может остаться красота тела — беременные ведь тоже по-своему красивы! — могут остаться лёгкость, живость ума, звонкий голос — но только уже не будет всей это цельной ауры, с ума сводящей. А я готов влюбляться исключительно в подобную ауру, в этот образ красоты, который я выдумываю и развиваю сам и который моя избранница, тонко чувствуя это, сама помогает мне создавать, подыгрывая и провоцируя! Выходит, что я готов любить образ женщины, а не саму женщину…»
С рождением этой мысли он немедленно вспомнил фиалкоокую Елену: всё ясно — как только созданный в его воображении образ оказался разрушен и разбит разлукой и смятением первых месяцев войны, огонь в сердце навсегда погас. Он несколько раз повторил в голове эту последовательность рассуждений в поиске ошибки или логического противоречия, однако всё выходило именно так, без малейшего сбоя и изъяна. Алексей недовольно поморщился, поскольку подобный вывод оказывался неприятным сюрпризом, и с намерением перевести мысль на другие темы полез в карман за очередной папиросой.
«А почему это, собственно, я испугался? Кто сказал, что я люблю не женщину, а придуманный идеал? Никто. Je ne t'aime pas en toilette, et je deteste la voilette qui t'obscurcit tes yeux, mes cieux[35] — всё верно, Поль Верлен не мог ошибиться. Не надо ничего выдумывать, ведь женское тело обладает подлинной и ни с чем не сравнимой магией. В конечном счёте я стремлюсь к обладанию именно прекрасным телом. Что в этом предосудительного и дурного? Ничего ровным счётом. Но тогда чем я отличаюсь от пьяного матроса, лезущего на шипчандлеровскую проститутку? Вот ведь в чём суть!
А отличаюсь я тем, что пьяному матросу нужна исключительно голая женская плоть, а мне — красота возлюбленной. Красота, которая каким-то скрытым образом присутствует абсолютно в каждой женщине, однако нуждается в том, чтобы кто-то, увидев и, главное, почувствовав эту красоту, построил бы на её основе уже совершенно другое — особое, нужное и желанное именно для него самого представление о ней.
Но тогда получается, что я снова возвращаюсь к тому, что люблю фантом? Нет, Гурилёв, ты вернулся не в прежнюю точку, а на другой уровень. Ты понял, что именно ты любишь — ты любишь экзистенцию, суть образа красоты, его неделимое ядро, дистиллят, не подверженный никаким превратностям и переменам. Но это такая штука, за которую не ухватиться. Вот и приходится, чтобы было, за что ухватиться, создавать более осязаемые и понятные производные образы очарования. Укрывая их шелками и осыпая лепестками роз, которые затем с восторгом и упоением предстоит отводить в сторону, постоянно разоблачая — и при этом не имея возможности окончательно разоблачить красоту подлинную и первоначальную.
Видимо, именно так и устроена человеческая любовь. Сначала плоть, потом — образ. Хотя нет же, то, о чём я говорю — это сначала внутренний образ красоты, затем — его отражение в сознании, и лишь после всего этого — настоящая, нескотская любовь. И с точки зрения философии такой взгляд будет чистой воды субъективным идеализмом. Объяви я подобное в своё время на философском семинаре в институте — меня немедленно бы отчисли, а то ещё и сослали бы куда подальше за декаданс высшего пошиба.
Или дистиллированную красоту должно сопровождать нечто другое — смысл, надежда, отражение чувств, преломление желаний друг друга? И оттого, каким образом совершается это самое преломление, проистекает и всё невообразимое многообразие любовной связи.
Впрочем, вот ещё что интересно — если с точки зрения физиологии любое женское тело одинаково, то почему одни женщины с первых же секунд вызывают упоение и восторг, а в общении с другими сразу наступает отторжение? И тогда немедленно те же самые черты — глаза, губы, тонкость шеи, запах волос — становятся банальными и отталкивающими. Любопытно было бы разобраться, что именно в ответе за подобное отторжение — экзистенция или же её тень?»
— Что за времена настали! Приходится прошагать по всему Тверскому от самой Никитской, прежде чем обнаружишь на скамейке не размалёванного урода, а нормального человека! Простите, к вам можно присесть?
Алексей обернулся. На скамейке рядом с ним, не дожидаясь согласия, уже размещалась худенькая опрятно одетая старушка в старомодной, но весьма изящной тёмно-фиолетовой шляпке-таблетке с узкой полосой вуали, собирающейся сбоку в тройной бант. На ней были аккуратный бордового цвета жакет, длинная плиссированная юбка тёмного тона и чёрные лакированные туфли на невысоком изящном каблуке.
— Конечно, присаживайтесь! Погода ведь хорошая, и скоро свободных скамеек на бульваре не останется. Я, правда, хотел закурить, но если вы возражаете — я обожду.
— Ни в коем случае! Я — как вы можете догадаться — человек из прошлого, и вся моя жизнь прошла в плотном окружении табачного дыма. Лишь пару лет назад я сама оставила эту привычку.
— У меня пока бросить курить не получается.
— Когда-нибудь вы почувствуете необходимость, и у вас получится. А вот все мужчины, с которыми сводила меня моя жизнь, даже не задумывались об этом. Даже если бы на коробках с табаком в те годы писали устрашающие надписи, как делают сегодня. Тогда никто не думал, что проживёт долго. Жили сегодняшним днём и ближайшим завтра.
— Почему только ближайшим?
— Потому, что в более отдалённое будущее никто не пытался заглянуть. Думали, что оно будет прекрасным и что землю будут населять совершенные и прекрасные люди. Может быть, немного наивно, но сегодня я понимаю, что это был совершенно правильный взгляд. С таким взглядом было проще жить и легче умирать.
— Пожалуй, вы правы, — ответил Алексей и зажёг папиросу.
— А как тут ошибиться! — продолжила старушка, заинтересованно взглянув на него и затем быстро переведя взгляд на бордюрный камень, возвышающийся над неровной и избитой множеством ног гаревой отсыпкой бульвара. — Все мужчины, которые были в моей жизни, не дожили до старости. Первый жених пропал в сорок первом, второй — погиб на фронте в последние дни войны. Он был танкистом и сгорел в самоходной артиллерийской установке. Знаете — эти установки были очень слабые, в них солдаты постоянно горели и погибали… лучше бы он служил на настоящем танке. В сорок седьмом я вышла замуж за военного картографа, но уже на следующий же год экспедиция, в которой он участвовал, сгорела в таёжном пожаре. Мой следующий муж был инженером на ракетном заводе и за несколько лет до пенсии — а пенсия ему полагалась рано, в пятьдесят три, — надышался на испытаниях ядовитым топливом и умер прямо в самолёте, на котором его везли с полигона в Москву. И все, абсолютно все их друзья и знакомые ушли столь же рано! Оставили нам страну, которая до сих пор их трудами держится, да лишние годы, что теперь доживаем вместо них. С одной стороны — я радуюсь каждому новому утру, а с другой — вижу и понимаю, что живу уже совершенно не в своё время.
— Бросьте. Если живёте — значит нужно. Детям, внукам, родственникам, в конце концов.
— Вы отвечаете мне, как должен отвечать культурный человек. А на самом деле я никому не нужна, кроме двух таких же дряхлых, как и я, подруг. Дочь ещё двадцать лет назад сбежала за границу и знаться с ней я не желаю.
— Что же случилось?
— Перестройка, Горбачёв. Ветер свободы вскружил голову! Заявила, что не желает жить в «стране рабов» — да, именно так и сказала! — и укатила в Норвегию. Сперва долго маялась, но возвращаться отказывалась наотрез. Потом, когда уже ей было уже под сорок, вышла замуж за какого-то араба, а вскоре обнаружила, что является у того то ли второй, то ли третьей женой. Так что пусть наслаждается своей свободой и дальше. А мне остаётся одной нести бремя этих бесконечных лет.
— Я понимаю вас, — медленно произнёс Алексей. — Ваш опыт мне пока недоступен. Понимаю, что скорее всего это безосновательно и глупо, однако я по наивности, наверное, продолжаю питать какие-то надежды на лучшее будущее. Как же без надежд?
— И правильно, правильно делаете! Думаете, я просто так подсела к вам? Да я ещё за двести шагов обратила внимание, как глазеют на вас все существа женского пола в округе! И не пытайтесь со мной спорить, у вас впереди — прекрасное будущее, хотя бы потому, что вы — совершенно нормальный человек. А сегодня такие люди, то есть нормальные — самая большая редкость.
— Вы преувеличиваете.
— Нисколько. Я же значительно старше вас и, стало быть, больше в этих вопросах понимаю.
— Помилуйте! При вашей остроте ума неразумно спрашивать о возрасте.
— Impossible de vous dire mon Бge, il change tout le temps[36], - улыбнувшись, произнесла старушка.
Алексей поспешил с ней согласиться:
— Alphonse Allais Иtait un connaisseur de ces questions.[37]
— Il a oubliИ de dire seulement que la montre s'arrЙtera un jour…[38] — подмигнув, ответила старушка, и её бесконечно уставшие чёрные глаза вдруг вспыхнули ярким и озорным светом.
— Et en mЙme temps il affirmait, non sans raison, de ne jamais remettre Ю demain ce que l'on peut remettre Ю aprХs-demain![39]
— Bravo! Et aprХs tout cela vous direz que vous Йtes Иgaux aux autres? Les jeunes filles connaissent a qui faire les beaux yeux![40]
— Ну, положим, что это отчасти так, — улыбнувшись, согласился Алексей, переходя на русский, дабы не смущать прохожих. — Но ведь эти девушки на бульваре совершенно меня не знают! Может быть, я зануда или тайный женоненавистник.
— Не пытайтесь меня обмануть! Во-первых, я прекрасно вижу, что вы — не женаты. Во-вторых — сегодня в стране просто нет ни женихов, ни нормальных мужчин. Либо великовозрастные дети, либо алкоголики, наркоманы, либо, страшно подумать, содомиты. Так что пока я сижу рядом с вами на этой скамейке — можете отдохнуть от внимания моих более молодых соперниц!
«Странно, — думал Алексей, поддерживая со старушкой ни к чему не обязывающий разговор, перемежаемый лёгкими шутками и афоризмами на французском. — Почему эта дама появилась здесь столь неожиданно и нашла именно меня? Сколько ей лет, если ее парень погиб на фронте? Она — моя ровесница или чуть моложе. Неужели ей за девяносто? Бог мой! а не могла ли она видеть меня до войны или даже влюбиться в меня тогда? У неё могли отложиться в памяти мои черты, и увидев меня здесь — точнее, увидев, как она думает, молодого человека, похожего на меня — она вспомнила вольно или невольно своё прошлое! Значит, я напрасно полагал, что все мосты сожжены… У неё на редкость ясный ум — а вдруг она признает, что я — это именно я, а не похожий на меня человек? И затем с восторгом и добрыми намерениями выдаст всему миру нашу с Петровичем тайну… Что же делать?»
Но старушка, словно прочитав мысли Алексея, сама предложила выход, сообщив, что у Никитских ворот скоро начнётся предпраздничный концерт, который она хотела бы послушать. Алексей помог ей подняться и, взяв под руку, предложил сопроводить.
Действительно, в скверике перед Спиридоновкой была устроена импровизированная эстрада, на которой расположился оркестрик в составе двух скрипок, виолончели, нескольких духовых и ударника. Музыканты играли вполне сносно, не обращая внимания на уличный шум. Исполняли они в основном незатейливые пьесы в джазовой аранжировке, многие из которых имели довоенное происхождение и были Алексею хорошо знакомы. Алексей был приятно удивлён живому интересу публики к мелодиям, извлечённым, казалось бы, из пыльных бабушкиных сундуков. У эстрады собралось слушателей человек под пятьдесят, многие прохожие на тротуарах останавливались, а проезжающие мимо машины замедляли ход. Ко всеобщему разочарованию, спустя сорок или пятьдесят минут концерт окончился. Музыканты, прощаясь, пообещали вернуться на эстраду завтра, в праздничный день девятого мая, а публика, ещё немного потолпившись, начала расходиться.
Алексей предложил старушке довести её до дома, на что та с благодарностью согласилась.
Пожилая дама проживала неподалёку в видавшем виды бывшем доходном доме в одном из Кисловских переулков. В тёмном и грязном подъезде стоял нестерпимый запах кошачьей мочи, за массивной входной дверью, не один десяток раз перекрашенной казённым суриком, открывался захламлённый коридор коммунальной квартиры. Судя по дворницкой утвари, развешенной для просушки одежде и смуглым лицам, выглянувшим с кухни, в квартире проживали несколько семейств азиатских трудовых мигрантов. Старушка занимала просторную комнату с высоченными потолками, обстановка которой представляла полный контраст с безалаберной захламлённостью коридора: широкий диван, старинные дубовый буфет и гардероб, стол с засохшим букетом в китайской вазе и пианино, наполовину закрытое портьерой из плотной тёмно-синей ткани. В правом углу, в полумраке, висела небольшая икона Спасителя. Чувствовалось, что хозяйка в меру сил стремится поддерживать в комнате порядок, однако делать это ей удаётся со всё большим и большим трудом — на отдалённых поверхностях мебели уже скопился изрядный слой пыли, свет горел лишь в половине рожков хрустальной люстры, а сам хрусталь, не протиравшийся уже много лет, был больше похож на жёлтую пластмассу.
Алексей собрался было раскланяться, как старушка подошла к буфету и извлекла оттуда бутылку коньяка.
— Прежде чем вы уйдёте, давайте-ка с вами выпьем. Выпьем за Победу! У меня со времён первого замужества припасена одна совершенно замечательная бутылочка, которую я всё не знала, с кем открыть. Теперь — знаю. И я очень рада, что этот бриллиант после того что скоро, по-видимому, случится со мной, уже не достанется местным алкоголикам.
— Полноте… Простите, я совершенно забыл спросить, как вас зовут?
— Анжелика Сергеевна.
— А меня зовут Алексей. Полноте, Анжелика Сергеевна, не говорите так. Живите долго!
— А это уж как Боженька решит!
Привстав со старого и скрипучего венского стула, своими тонкими и длинными пальцами, украшенными несколькими старинными перстнями, в дрожащем блеске которых угадывался заметный тремор, она поставила на стол два высоких бокала и попросила Алексея открыть коньяк.
— «Самтрест». Грузинский коньяк марки «ОС» — то есть «очень старый». Сколько же ему лет?
— Считайте, Алексей. Я вышла замуж в сорок седьмом…
— «Очень старый» — это, должно быть, лет ему более десяти или двенадцати. Значит, тридцать пятый или тридцать седьмой годы.
— Тридцать пятый… мне тогда было всего четырнадцать! И вашей, Алексей, бабушке, должно быть, было столько же! В Москве в тот год пустили метро, а в Большом поставили «Леди Макбет» Шостаковича… И вам, возможно, могло быть лет шестнадцать-семнадцать — в прошлой жизни, если, конечно, прошлая жизнь существует…
Алексей не стал ничего отвечать. Бережно вытащив из горлышка хрупкую старую пробку, он разлил коньяк по бокалам.
— За Победу! — торжественно, но в то же время искренне произнёс он. — И за то поколение, которое Победу добыло. За вас, Анжелика Сергеевна!
— И за вас, Алексей! За вас — потому что вы — живое подтверждение того, что наши прежние принципы и наши идеалы хотя бы в ком-то и в чём-то по-прежнему живы. Вам, возможно, это трудно представить, но поверьте — после того, как я порвала с дочерью, весь мир для меня потерял смысл. Из-за бессонницы я часто просыпалась на рассвете, смотрела на восход и не могла понять — зачем встаёт солнце, зачем продолжает жить этот мир, в котором почти не осталось любви и красоты? Вы не смейтесь, Алексей, не считайте меня полоумной старухой, а теперь — ещё ко всему и выпившей! — но когда я увидела вас сегодня на бульваре, я узнала свой идеал. Неважно, что он не состоялся и уже больше никогда не состоится для меня… мне важно было убедиться, что он существует, а не придуман мной в моих глупых женских мечтах. Теперь, может быть, Боженька и отпустит меня.
— Не стоит так говорить, Анжелика Сергеевна. Вы превосходно выглядите и даже гуляете не по возрасту — без трости.
— Не преувеличивайте. Гадалка предсказала, что я умру сразу и легко, умру во сне, так что мне не с руки разыграть немощь. Лучше налейте-ка мне, Алексей, до половины бокала, и я на этом остановлюсь. А себе наливайте, сколько надо. Ведь коньяк в самом деле хорош, да?
— Не то слово…
— А мой второй муж на полном серьёзе полагал, что старые вина — это единственная сущность из прошлого, продолжающая жить… Что только они сохраняют в себе наполнение ушедшей эпохи, все её акценты и смыслы. И что тот, кто умеет слушать, способен через них проникнуть в любые тайны истории.
— Мысль занятная и, похоже, верная, — произнёс Алексей, доливая коньяк в бокалы. — Хотя очень часто тайны истории оказываются совсем неподалеку. Взять хотя бы ваши фотокарточки на стене и на крышке клавира — можно не сомневаться, что за каждым лицом скрыта целая вселенная. Говорят, что через пять рукопожатий мы знакомы со всем миром — может быть, и те люди подобным образом хранят связь со Сталиным, Чемберленом или Гаруном-аль-Рашидом и могли бы немало нам рассказать. Вы не позволите, Анжелика Сергеевна, посмотреть ваши фотографии?
— Конечно. Если увидите там девочку с косичкой — то знайте, что это я.
Держа бокал в руке, Алексей подошёл к фотографиям и спустя несколько секунд замер, поражённый внезапным открытием, которое, как оказалось, давно зрело подспудно, однако нуждалось в окончательном доказательстве: на выцветшей довоенной фотографии в овальном коричневом паспарту была запечатлена его Елена со своей подругой. Да, всё теперь вставало на свои места: девушку с короткой чёрной косичкой на остановке возле консерватории, тёмной осенью сорокового года смело попросившую сопроводить её подругу на Андроновку, звали Анжеликой. Он также вспомнил, что она сама назвала ему своё имя в момент той короткой встречи, и из множества вполне культурных парней, которых можно было встретить в тот вечер на Большой Никитской, опять же по какой-то неведомой своей интуиции она обратилась именно к нему.
Чтобы скрыть охватившее его волнение, Алексей залпом выпил коньяк и, не поворачивая лица, сделал вид, что продолжает рассматривать другие фотокарточки. Он почувствовал, что в глазах неумолимо начинают проступать непонятно откуда взявшиеся слёзы, и поэтому постарался, собрав волю в кулак, перевести свои мысли на что-то тривиальное и нейтральное. Он сумел совладать с эмоциями и успокоился понемногу, однако мысль постоянно продолжала перескакивать на знакомые и совершенно живые образы, столь убедительно глядящие из прошлого.
«Интересно — а если рассказать Анжелике всю правду? Что может быть проще — ведь достаточно напомнить детали: про мокрый сентябрьский вечер, когда вдоль всей Большой Никитской стоял острый запах свежеукатанного асфальта, про только что наклеенную афишу… кажется с концертом Мясковского, про зелёно-коричневый лобовой фонарь 28-го трамвая, медленно ползущего по Большой Никитской с Пресни в далёкий Владимрский посёлок… Что ещё? Ничего. Про Елену можно даже не упоминать — она вздрогнет, перекрестится и сразу же абсолютно всё поймёт. Только вот выдержит ли она? Вряд ли. Анжелике в жизни многое пришлось пережить, и я не имею права добавлять ей переживаний. И тем более — во имя чего?»
Собравшись с силами и вновь сосредоточившись, Алексей вернулся за стол и спросил, кивнув в сторону инструмента:
— Вы, наверное, уже не играете?
— Да. Лет пять назад перестала. Но инструмент настроен. Сыграйте, что сочтёте нужным. Там рядом в двух коробках сложены ноты, выберете, что пожелаете.
— Несколько вещей я вроде бы должен помнить… Позвольте мне попробовать.
— А что вы сыграете, Алексей?
— Если позволите, это будет девятнадцатый этюд Шопена…
— Это же очень трудная вещь!
— Я постараюсь.
— Алексей! Если есть Бог на небе, то сегодня он смилостивился ко мне и прислал вас. Этот этюд… этот этюд просил меня исполнить мой первый жених… просил перед тем, как уйти и уже не вернутся. Тогда я сыграла его — сыграла именно за этим самым фоно! — в последний раз в своей жизни.
— Перед войной?
— В сентябре сорок первого года.
— М-да… В тот год люди ещё не были привычны к смерти, и каждая похоронка с фронта была даже не трагедией — концом света…
— Мне в этом смысле повезло — я не получала похоронку, и поэтому осознание его смерти для меня растянулось… Он ведь не был военнообязанным, но его для чего-то послали в командировку в район боёв. Разумеется, он не вернулся. Возвращение было бы чудом, а чудес не бывает. Однако сегодняшний день и вы, Алексей, — это подлинное чудо, зачем-то явленное мне, старухе. Поверьте, теперь мне уже не страшно умереть. Спасибо вам, играйте же!
Алексей пододвинул табуретку и на несколько мгновений замер. Затем он медленно поднял крышку и с минуту продолжил сидеть молча, глядя попеременно на клавиши и на расставленные вдоль верха пианино фотокарточки счастливых, улыбающихся, иногда грустных, красивых, в основном — молодых, но теперь, увы, абсолютно одинаковых в своём земном небытии людей. Ему показалось, что если он ещё немного продолжит так же сосредоточенно молчать, то все пребывающие в этом тёмном пространстве старой комнаты духи прошлого оживут, и по лицам людей, глядящих с выцветших фотографий и фотопластинок, пробежит движение, проявится цвет и затем кто-нибудь из них обязательно обратится к нему с таким вопросом: «Ты же наш, а почему-то не с нами? Чудес не бывает, и ты не мог оставить нас просто так. А если так случилось, что ты нас оставил, — то значит, ты должен что-то сделать важное в том мире, где ты сейчас оказался, и вернуться к нам назад. Мы не торопим тебя, но ждём…»
Пытаясь отогнать эту неприятную мысль, Алексей резко тряхнул головой, бросил на клавир короткий и сосредоточенный взгляд, затем снова поднял глаза, слегка зажмурился — и с осторожностью, словно опасаясь извлечь звук более громкий, чем усилившийся сверх меры стук его собственного сердца, начал играть.
И когда после начальных робких и растерянных аккордов, после звенящей пустоты паузы, неожиданно — но в этот раз абсолютно уместно удлинённой Алексеем, заговорили светло и тревожно, сосредотачиваясь и обгоняя друг друга в своём важном, горячем и трогательном диалоге два голоса, то попеременно соединяясь в согласную песню, то сбиваясь, умолкая и расходясь, чтобы затем, зазвучав с новой силой, оживить память и возвысить мысль о чём-то очень важном: мимолётности ли счастья, нежности и холоде, неотвратимости разлуки и случайности любви, — именно тогда всеми клетками своего существа Алексей почувствовал, как вокруг него, заполняя высокое пространство комнаты, просвет окна и даже нагревшийся воздух старого московского двора, напоённый ароматами молодой листвы, пробуждаются и восстают тени минувшего. Воспоминания — теперь уже бесформенные и безличные, однако ясные и неумолимые, как очередная строка заученного с детства стихотворения, наваливались, тесня друг друга и перехватывая внимание, — пусть хотя бы на миг, но цепко и ясно, с той неимоверной различимостью мельчайших деталей, которую раньше могла оставлять разве что магниевая вспышка на фотопластинке парадного портрета. Ожившие воспоминания продолжали плыть, он ощущал их обволакивающее прикосновение, они проходили, не исчезая, сквозь его живое тело и возвращались, кружась и рассыпаясь, чтобы затем соединиться в очередном вибрирующем порыве и напомнить вновь о себе, о своём вечном и неотменяемом существовании — однако при этом не раскрывая лиц, не называя имён и не сообщая никаких иных подробностей.
Алексей играл девятнадцатый этюд не просто без нот, по памяти, но с сознанием, полностью обращённым в этот отворившийся перед ним фантастический мир. При этом он знал, что любой неверно извлечённый звук вызовет сбой, остановку и возвращение в прежнюю банальную реальность. В глубине сознания он отдавал себе отчёт в том, что был бы совершенно не против подобного скорейшего возвращения, однако ничего не мог поделать с собственным мастерством.
С какого-то момента под точными и сильными прикосновениями его пальцев наружу стали вырываться аккорды уже не утверждающие, а сомневающиеся и испрашивающие — вопрошающие о всё тех же вечных и неизменных в любые времена вещах: жизни, любви, расставании и надежде. Особенно — о надежде. О надежде, которая вопреки всем доводам разума продолжает удерживать в человеке крупицы растерянных привязанностей и отложенных на потом, на недостижимое будущее, встреч… Почему любой из нас всегда столь страстно желает, чтобы эти крупицы надежды обязательно ожили физически? Отчего так трудно, порой невозможно мириться с их длительным пребыванием внутри себя, почему обязательно именно физическое воплощение, именно переход крупиц надежды в реальные плоть и кровь должны служить подтверждением истинности человеческой любви — даже невзирая на то, что в силу законов природы плоть дряхлеет, кровь остывает, а любовь, как кажется, может и должна оставаться вечной?
Не получив ответа ни на один из этих вопросов, Алексей завершил этюд. Всё, что несколько минут назад оживало и теснилось вокруг, незамедлительно исчезло, тени минувшего со старых фотографий возвратились на свои прежние места. Ещё раз убедившись в этом, он бесшумно опустил крышку пианино, поднялся и отрывисто поклонившись, подошёл к креслу, в котором сидела Анжелика Сергеевна, чтобы поцеловал ей руку.
— У вас превосходный инструмент. Спасибо, это было удовольствием сыграть для вас. Но мне — пора.
— Милый Алексей! Это вам спасибо. Но допейте же коньяк! Или заберите с собой.
— Я не имею права злоупотреблять вашим гостеприимством. Пусть коньяк останется в вашем буфете. Я живу неподалёку, и если нам ещё доведётся увидаться, то он окажется весьма кстати.
— Ну, тогда ступайте. С Богом! И ещё раз — спасибо за всё!
Напоследок Анжелика Сергеевна и Алексей обменялись телефонными номерами, он повторно поцеловал её руку и вышел в коридор, плотно прикрыв за собой тяжёлую, покрытую многочисленными слоями масляной краски дубовую дверь с растрескавшимися филёнками, местами хранящими следы когда-то сплошной и искусной старинной резьбы. В широком захламлённом коридоре сильно пахло свежеприготовленным мясом и пряностями. Из открытого проёма, ведущего на кухню, выглянула немолодая женщина азиатской внешности, за ней — другая, помоложе, тоже в пёстрой косынке, несмотря на царящую на кухне жару плотно стягивающей волосы.
— А это вы сейчас играли? — с небольшим восточным акцентом спросила женщина постарше.
— Да, я.
— Очень хорошая музыка. А как она называется?
— Это был Шопен.
— А, Шопен… Сейчас все слушают плохую музыку.
— А эта?
— Эта — хорошая. Только очень грустная.
— Но в жизни ведь всегда присутствует грусть…
Женщина с дочерью, оказавшиеся дворничихами, приехавшими на заработки из Узбекистана, отчего-то в самом деле были растроганы неожиданным концертом, подслушанным из соседской комнату. Они попытались затащить Алексея на кухню, чтобы накормить свежеприготовленным лагманом. Алексей предпочёл не злоупотреблять чужим гостеприимством и сославшись на занятость поспешил откланяться, пообещав зайти в следующий раз.
Однако до того, как ему это удалось сделать, из разговора с узбечками он узнал, что коммунальная квартира доживает свои последние дни и в ней бы уже вовсю шёл бы «евроремонт» с перепланировкой, задуманный новым хозяином, — если б не «бабушка Анжелика», наотрез отказывающаяся переезжать в другое место. Вначале хозяин пытался ускорить её выселение, отключая свет и воду, а потом нарочно запустил в соседние комнаты на постой рабочих-азиатов, уверенный, что упрямая москвичка не перенесёт подобного соседства. Однако «бабушка Анжелика» легко нашла с узбечками общий язык и теперь вопрос о её выселении решается в каком-то суде. Выслушав всё это, Алексей пообещал, что обязательно навестит их всех через неделю-другую и, возможно, сыграет что-нибудь повеселей.
Добравшись до квартиры на Патриарших, Алексей не стал дожидаться возвращения Бориса и Петровича, который, судя по путаному ответу на телефонный звонок, слегка загулял. Молча выкурив две папиросы подряд, он умыл лицо холодной водой, постоял у открытого окна с видом на затихающий вечерний город, погасил свет и отправился спать.
Глава седьмая Сотворение совершенства
Праздничным утром 9 мая Алексея разбудил громкий телефонный звонок, раздавшийся в комнате Бориса. Спустя минуту на пороге спальни появился и сам Борис — не выспавшийся и без конца зевающий, с вестью о том, что сестра только что позвонила из поезда, чтобы сообщить, что после десяти она прибывает на Ленинградский вокзал. И поскольку времени до прибытия поезда остается немного, то он отправляется встречать сестру.
Алексей тотчас же предложил поехать на вокзал всем вместе, после чего погулять по праздничной Москве. Борис начал было возражать, памятуя, что Алексей с Петровичем собирались смотреть телетрансляцию военного парада, однако Алексей быстро переубедил его, сказав, что парад можно будет посмотреть в записи в вечерних новостях, зато трудно придумать лучший способ попасть в центр города, где власти в день праздника собирались закрыть выходы из метро, кроме как двинуться туда пешком от «трёх вокзалов» через Мясницкую и Лубянку, обходя, если нужно, полицейские заслоны переулками.
— Но она же будет с вещами! — сам не зная зачем Борис попытался привести последнее возражение.
— Вещи сдадим в камеру хранения, — уверенно возразил Алексей.
Именно так и решили действовать. Наскоро позавтракав и собравшись, друзья спустились на улицу, вышли на необычайно пустую Садовую и, поймав такси, едва ли не через десять минут уже шагали по перрону, пытаясь угадать, где остановится нужный вагон. Алексей успел купить большой букет цветов, и роскошные, с капельками росы бордовые розы, возлежащие на фоне его светло-бежевого пиджака, казалось, приковывали внимание каждой пары женских глаз, различимых за окнами замедляющего ход «Сапсана».
Мария была приятно удивлена представительной встречей, охотно любезничала и шутила, однако при всём при этом невозможно было не заметить, что она продолжает оставаться сосредоточенной и чем-то глубоко опечаленной. Предложение всем вместе прогуляться по праздничному Центру она восприняла положительно, однако как только они вышли с территории вокзала на площадь, вдруг на миг остановилась и в сердцах произнесла:
— Как хорошо, что теперь можно развеяться… Я ведь абсолютно всё провалила!
По дороге она рассказала, что ей не удалось пробиться с сольным выступлением ни на одно из концертных мероприятий, в изобилии запланированных на праздничную неделю в Северной столице. «Никогда ещё не чувствовала себя такой дурой — ведь знала и хорошо знаю, что для этого нужны либо блат, либо деньги, а я, как порядочная, припёрлась просто так!» — заключила Мария с нескрываемой горечью.
Борис осторожно поинтересовался о результате её попытки прослушаться в музыкальном театре.
— Разумеется, провалилась!
— Как так? Но ты же не могла провалиться, словно школьница! Даже если ты спела чуть хуже, они всё равно должны были признать твой голос и хоть что-нибудь тебе предложить!
— Они и предложили.
— Что?
— Петь в хоре.
— В хоре? Тебе, с твоей колоратурой? Они что — полные идиоты?
— Нет, Боря. Они отнюдь не идиоты…
— Тогда кто же они?
— Мастера интриги.
— Поясни тогда, в чём это интрига состоит?
— Да проще некуда. При моем прослушивании концертмейстер сначала сыграл на полтона выше — я удивилась, но спокойно взяла. Ну а потом, когда он сфальшивил на целый тон, мне уже ничего не оставалось, как смотреть… смотреть, как эти козлы в комиссии сокрушённо трясут головами, после чего присуждают вакансию той дуре…
— А почему ты не заявила? Не потребовала переиграть?
— А чего бы я добилась, если они уже всё решили заранее?
— Если ты это знала — не стоило тогда к ним идти и унижаться.
— В том-то и дело, что не знала! Они же сами звонили в начале апреля и предлагали петь у них главные партии едва ли в четырёх операх! А потом им из госбюджета отвалили триста миллионов на новую постановку.
— Ну и что?
— Как ну и что? Сразу появилась новая примадонна. Под которую, думаю, и деньги выделили. Ну а меня — меня в хор.
— Сволочи! Добраться бы мне до них… Кишки бы им всем повыпускал, коррупционерам!
— Борис! Ты что? Они же бедные, несчастные люди!
— Несчастные? Ты смеешься?
— Да, именно несчастные. Они этих денег ждали лет двадцать. Я же знаю их — зарплаты меньше, чем у дворников, концертные костюмы в заплатах… И пока им всё это счастье не светило, они действительно хотели работать со мной. Ну а как пришли деньги — следом пришли и обязательства.
— Понятно. А кто та дура, что выиграла конкурс?
— Понятия не имею, хотя несколько раз её имя слышала. Говорят — любовница какого-то типа из Музсовета. Так что, как видишь, она отнюдь не дура — сориентировалась и правильной творческой дорогой пошла. А настоящая дура, судя по всему, — это я. Ничему в жизни так и не научилась!
Алексей, удручённо слушая этот разговор, захотел в этом месте немедленно возразить, однако поймав себя на мысли, что изречёт банальность, передумал. Поэтому разговор продолжил Борис, поинтересовавшийся у сестры, что она планирует делать дальше.
— Вернусь к своим бандитам и продолжу петь шансон. Стану звездой шансона. Королевой Шантеклера! А дальше — трава не расти!
Здесь Алексей не смог удержаться и, постаравшись придать голосу трибунную убеждённость, к которой он прежде никогда не прибегал, произнёс твёрдо и спокойно:
— Если бы всё это происходило в моё время, то я непременно добился твоего назначения. Ведь мир тесен и не столь сложен, как кажется иногда. Не знаю, чем именно я сумел бы помочь тебе сегодня, но чем-нибудь, наверное, точно смог. Подскажи — я сделаю всё. Клянусь.
— Спасибо, — ответила Мария. — Но право, моя затея того не стоит.
Все замолчали, и было лишь слышно, как отзываются шаги, опускаясь на выметенный и чистый асфальт тротуара. Спустя какое-то время со стороны Лубянки донеслись звуки музыки. Перед выходом на украшенную праздничным кумачом площадь стояла группа полицейских в парадной форме, которые вопреки делавшимся накануне предостережениям ничего не имели против прохода молодых людей в сторону Моховой. Поскольку автомобильное движение по случаю праздника было закрыто, то знаменитую площадь они пересекли, не выискивая переходов, напрямик по диагонали и спустя несколько минут вышли на Театральную.
В сквере перед Большим театром было достаточно многолюдно. В лучах солнца, уверенно пробивающегося из-за облаков, весело и вдохновенно блестели золотом медали седовласых ветеранов. Однако бросалось в глаза, что собирающихся здесь героев войны значительно меньше, чем людей менее пожилых, а также молодёжи и детей. Все, наверное, в этот момент подумали об одном и том же: самому юному из тех, кто в свои семнадцать, по сниженному в конце войны призывному возрасту, успел в сорок пятом побывать на фронте, должно сегодня быть за восемьдесят четыре.
С умилением разглядывая старинные гимнастерки, портупеи и ремни и продолжая немного удивляться неведомым для сорок второго года погонам на плечах ветеранов, Петрович не мог удержаться:
— А ведь мы с тобой, Лёша, могли бы быть среди них настоящими Мафусаилами. Тебе — девяносто шесть, а мне — аж сто три! Ты готов такое вообразить?
— Вчера — точно мог бы, — ответил Алексей, — а вот здесь и сейчас — не уверен, нет…
— Я тоже. Любой из этих стариков может быть одним из тех мальчишек, которым я драл уши за проезд в трамвае без билета!
— Так ты что, — изумился Алексей, — контролёром успел поработать?
— Нет, конечно. Но до войны нас несколько раз привлекали… В качестве народных дружинников.
— Ну тогда уж извини — привычка! У нас в институте просто отчего-то не любили тех, кто подрабатывал контролёрами… Хотя я лично за проезд всегда платил, так что мог тебя не бояться и спокойно засматриваться на любую из тех бабуль, когда они были школьницами и ехали со мной в одном трамвае!
— Товарищ лейтенант госбезопасности! Нежели вы за школьницами приударяли?
— Не понимаю вас, товарищ сержант госбезопасности! Тринадцать лет — а именно столько могло быть перед войной самой юной из них — это ведь возраст первой любви!
— Да, возраст Джульетты, — вмешалась в разговор Мария. — И ведь только сейчас, видя перед собой этих людей, начинаешь понимать, сколько же этим Джульеттам пришлось пережить!
— Да, им — пришлось, — ответил Алексей, отчего-то немного раздражённо и с очевидной горечью. — А вот мне — нет. Ни разу не выстрелил по врагу. Ушёл в лес — и там и пропал.
— Ну это уж как посмотреть! — решительно возразил Петрович. — Во-первых — не пропал, раз сегодня ты здесь. Во вторых — ты выполнял приказ и находился, как и я, ровно там, где нам приказали. Многие из этих замечательных людей тоже, быть может, не успели побывать под огнём. Пехотинец, как известно, в среднем ходил в атаку два раза, в третьей он погибал. И если кому-то из этих старичков повезло — значит, так было надо.
— И ещё неизвестно, — буркнул под нос Борис, — кому повезло больше: убитым в атаке пехотинцам или этим ветеранам. Если даже не каждый из них успел сходить в атаку, то двадцать лет назад им всем поголовно пришлось пережить гибель страны, за которую они проливали кровь… Когда боялись выйти на улицу в советской форме и при орденах.
— Неужели такое вправду было? — не поверил Алексей.
— Увы.
— Невероятно… Только как, интересно, подобное отношение объясняли? Ведь любые мерзости всё равно надо как-то объяснять…
— Кто объяснял?
— Те, кто был готов, как ты говоришь, срывать с ветеранов ордена. Ведь человек не может совершать злодеяний, не запасшись оправданиями.
— Ты, Алексей, очень хорошо думаешь о моих современниках, — усмехнулся Борис. — Но тем не менее идеология у тех, что рвали ордена, имелась. В те годы было принято рассуждать, что если б ветераны воевали чуточку похуже, то сегодня, дескать, пили бы пиво не клинское, а баварское. Даже в газетах не стеснялись писать подобное.
Мария, до сих пор хранившая молчание, не смогла удержаться.
— Это были самые мерзкие и подлые годы, скажи об этом, Борь! Наверное, хуже сорок первого. И то, что эти годы — позади и больше не вернутся, — огромное счастье. Как и счастье всё ещё видеть тех, кто выжил и в войну, и в нашу безумную перестройку. Кто воевал, в назидание нашему поколению, весьма хорошо!
С этими словами Мария развернула букет, выбросила в урну целлофановую обёртку и, подойдя к присевшему на скамейку старенькому ветерану с сержантскими погонами, отдала ему, поклонившись, самую красивую из своих роз. Две другие розы Мария подарила седовласому мичману и щупленькой старушке с петлицами медицинской службы.
— А это вам, друзья мои, — с этими словами Мария протянула оставшиеся розы Алексею и Петровичу. — Да, именно вам! Вы такие же, как и они. И сегодня — ваш праздник!
Два молодых человека переглянулись, но возражать на стали. Приняв цветы из рук Марии, они неторопливо двинулись по дорожкам сквера, внимательно разглядывая таблички с названиями фронтов, дивизий и полков в расчёте найти знакомые соединения.
Однако обойдя сквер перед Большим театром несколько раз, ничего знакомого разыскать не удалось.
— Видимо, наших уже не осталось, — резюмировал Алексей.
— Да нет, не совсем, — ответил Петрович. — Я же забыл рассказал, что не зря вчера ездил в паспортный стол.
— Кого-то удалось найти? — с блеском в глазах спросила Мария.
— Да. И не только найти, но даже и побывать в гостях.
Все тотчас же остановились.
— Невероятно! — выпалил Борис.
Алексей ничего не произнёс, однако взглянул на Петровича с восторгом.
Петрович рассказал, что ему удалось разыскать адрес своей бывшей подчиненной из радиолаборатории спецотдела НКВД. Девушке, которой в начале сорок второго едва исполнилось двадцать три, теперь было на семьдесят лет больше. После окончания войны она не менее пяти раз меняла место жительства, при том что её первые два адреса были, известное дело, засекречены. И если б не проявленная Здравым незаурядная настойчивость, паспортистка вряд ли бы догадалась перепроверить списки жильцов по известному в своё время ведомственному дому на Второй Мещанской. Оказалось, что проживающая сегодня на Большой Серпуховской Лариса Валериевна в своё время была Елизаветой Валерьяновной, дочерью надворного советника, за время службы в органах дважды менявшей фамилию и один раз — имя. И это при том, что бывшая радистка замуж так и не вышла — типичная история для послевоенных лет.
— Кстати — неожиданно пришёл к выводу, что долголетие чекиста определяется родом работы, — как бы невзначай заметил Петрович. — Все, кто был связан со внутренней безопасностью и не угодил тогда же под раздачу — все, как один, давно и как-то одинаково быстро ушли. А вот из работавших по внешнему противнику весьма многие до сих пор в строю. Как такое объяснить?
— Разве что тем, что первые были вынуждены заниматься не вполне праведным делом, — немного сумрачно откликнулся Алексей. — А вторые, надо полагать, ждут, чтобы по нанести по недобитым врагам последний и беспощадный удар!
Далее Петрович поведал, как перепроверив сведения, полученные им в паспортном столе и наведя кое-какие собственные справки, он накануне вечером нагрянул к Елизавете Валерьяновне в гости, с порога ошарашив обращением по давно забытому имени. Разумеется, представился он не самим собой, а собственным внуком, если уместно так сказать. Объяснил, что его «отец» много рассказывал о «деде», передал кое-какие из «старых бумаг» и завещал разыскать оставшихся в живых сослуживцев или их потомков.
Однако старая радистка, привыкшая к эшелонированной секретности, приняла его объяснения далеко не сразу — не очень помогали даже факты из предвоенного периода службы, которые Петрович выкладывал один за другим на основании пресловутых «отцовских бумаг». Лишь за чаем, когда сквозь мощные стёкла очков она сумела толком разглядеть его лицо, то полностью и безоговорочно признала в неожиданном госте «потомка Васеньки».
— А каким же именем ты назвался? — поинтересовался Борис.
— Как каким? Как в паспорте — Здравый Василий Петрович.
— То есть твой предполагаемый «отец» — Пётр Васильевич — должен был назвать тебя честь своего отца?
— Разумеется.
— Молодцы, старая гвардия! Не то слово! Не задушишь, не убьёшь!
— Отнюдь не только старая. У Ларисы, то есть Елизаветы, есть и внук, и правнук. Внуку сорок пять — он меня постарше будет! — по образованию инженер, однако по специальности поработать не успел, так как в стране начался развал. Сперва подался в предприниматели — сначала мастерил сейфы для нуворишей, потом переключился на ремонт квартир. А в минувшем году заделался фермером — купил землю в Сталинградской… то есть в Волгоградской области, и теперь туда вроде бы жить переезжает.
— И правнук туда же с ним?
— Нет, правнук пока учится в Москве в институте. Учёба нынче стоит денег, и чтобы сделать взнос на следующий год, его отцу придётся вырастить и продать аж семьдесят тонн помидоров.
— Могу вообразить! Два вагона ради двух семестров! А кто-то — жизнь просто так прожигает! — возмутился Борис.
— Ну, ничего страшного, правнук-то тоже не монашеского устава. В двадцать лет — чего от него хотите? Разумеется, в голове только девчонки да и ещё одно какое-то странное увлечение — он лазает с друзьями по всяким подземным тоннелям и коридорам.
— Диггер, так это сейчас называется, — со знанием дела пояснил Борис.
— Да, да, правильно, диггер. Таким образом, друзья, наша старая гвардия не просто в строю, но и активно развивается. Теперь вот и думаю — надо бы и мне съездить как-нибудь под Сталинград на ту ферму. В конце концов, не век же мне чужой хлеб даром есть!
— Вы не даром хлеб едите, — поспешила возразить ему Мария, — Не спешите, не надо пока никуда не уезжать!
Тем временем в окружающей толпе возникло оживление — многие из гуляющих начали перемещаться к металлическим парапетам, установленным вдоль Моховой. Глядя поверх многочисленных голов, можно было разглядеть, как со стороны гостиницы «Москва» к площади под слегка плывущие звуки военного марша приближается широкая колонна под кумачовыми знаменами.
— Демонстрация компартии, — со знанием дела сообщил Борис. — Они каждый год организуют шествие на Девятое мая.
— А другие политические партии как-то участвуют? — поинтересовался Алексей. — Правящая партия, например?
— Нет, не считают нужным. На Красной Площади проходит традиционный военный парад и его, как они полагают, вполне достаточно для выражения памяти и внимания. Коммунисты же устраивают отдельный праздник.
— И они трижды правы, — отозвалась Мария. — Я не сомневаюсь, что две трети шествующих в этой колонне никакого отношения к компартии не имеют и пришли лишь для того, чтобы постоять под знамёнами, цвет которых они продолжают считать своим. Я бы тоже хотела пройтись с ними вместе, жаль, что мы раньше не подумали об этом…
— А что нам мешает? — спросил Алексей, выражая готовность начать пробиваться сквозь толпу к шествию.
— Требования безопасности и десять тысяч полицейских, — охладил его пыл Борис. — Теперь перед любым митингом людей обыскивают и, возможно, тайно фотографируют.
— А фотографировать-то зачем? — возмутился Петрович. — Боятся напрямую запретить и хотят, чтобы у людей срабатывал самоконтроль? Прямо какое-то иезуитство…
— Иезуитство самое что ни на есть! — Борис зло ухмыльнулся. — Вся извращенность нашей политики сегодня проистекает оттого, что её подлинные цели не хотят обнародовать. Раньше власть совершенно не боялась свои цели провозглашать — мировая ли революция, индустриализация, построение развитого социализма… Теперь же — молчание. Для чего, во имя чего всё делается — это скрывается даже не от народа, ибо от народа, согласимся, трудно что-либо утаить, а прежде всего от себя самих. Лежащие ныне в основе реальной политики нажива, вседозволенность, разврат, бесчестие, обман доверившихся и спекуляция на святом — всё это выходит настолько перпендикулярно нормальной человеческой природе, что власть предержащим даже трудно в этом самим себе признаваться. Потому они не жалеют денег на показное благочестие — отсюда и миллиарды на сегодняшний парад, на подарки ветеранам, на весь этот праздничный антураж. Шутка ли — обеспечить шествие, охранять до темноты гуляния, устроить салют — да, всё вроде бы делается правильно, но ведь делается — с холодным сердцем! Что молчите? Или я неправильно говорю?
— Всё, наверное, так, — с грустью ответил Алексей. — Странно лишь то, что в этом нашем новом мире, в двадцать перовом веке — страшно подумать! — когда наука и техника достигли невиданных высот, когда будущее относительно легко прогнозируется и им вполне можно управлять, никто не решается открыто и обстоятельно рассказать о нём! Предложить на выбор варианты, объяснить, что может поджидать людей на пути к каждому из них, предупредить о трудностях… Люди бы всё поняли, обдумали, взвесили и сделали бы согласный выбор. Для несогласных с выбором большинства — предложить что-то взамен, мы же не после гражданской войны, чтобы сгоряча расстреливать и лишать прав всех несогласных… Однако вместо этого — молчание. Просто живите, люди, ходите под флагами пусть красными, пусть синими или зелёными, но только не задавайте вопросов о будущем. Его за вас как бы определят другие.
— Вот молодец! Всё понял, всё усвоил из нашего новояза! — внезапно прервал Борис. — Произнёс «как бы» — самое что ни на есть главное ныне словечко! Как бы! И ведь это не просто словечко — это целая формулу жизни, по ней всё ныне делается — как бы!
— А может быть, друзья, хватит митинговать? — предложила Мария. — Оставьте политику для разговоров дома, сейчас же праздник!
— С удовольствием оставлю! — немедленно согласился Алексей, переложив розу из одной руки в другую. — Но я хотел бы всё же подарить эти наши цветы кому-нибудь из тех, кто семьдесят лет назад твёрдо знал, что будущее зависит от собственных усилий и личной твёрдости. Кто боролся за это будущее, шёл на любой риск, был готов к смерти — причём по-настоящему, а не «как бы»!
Однако, на беглый взгляд, настоящих фронтовиков поблизости не обнаруживалось: из разноликой толпы выделялись лишь несколько моложавых, лет по шестьдесят-семьдесят, полковников, увешанных медалями, такого же возраста капитан первого ранга в чёрном с золотыми кантами кителе да несколько молодых парней в красноармейских гимнастёрках, куда-то целеустремленно протискивающихся сквозь плотные ряды гуляющих.
Алексей с Петровичем переглянулись: выходило, что в этот момент времени и в этой точке пространства лишь они двое могли похвастаться принадлежностью к славному прошлому! Однако думать об этом, пребывая в крепких и здоровых телах, было неловко и тяжело. Алексей ощущал также и неловкость и от ношения великолепной праздничной розы, которая, по его твёрдому убеждению, должна была находиться в других руках. Но где же найти эти нужные руки?
В этот самый момент Петрович подмигнул и лёгким кивком в сторону предложил следовать за собой. Действительно, за поворотом дорожки на скамейке сидели две щуплые и совершенно седые старушки. Одна была в старомодном коричневом жакете, на лацкане которого светилась единственная медаль «За отвагу», другая — в выцветшей и заштопанной видавшей виды гимнастерке сержанта санитарной службы, теперь немного мешковато сидевшей на её крошечных, сутулых плечах. Наград у второй старушки было чуть больше, но тоже немного — всего три.
Алексей с Петровичем подошли к ним и, поклонившись, протянули розы. «С праздником вас! Будьте всегда здоровы и радостны!»
Старушки приняли цветы, заулыбались и одна из них начала было вставать со скамейки для благодарности, на что Петрович запротестовал и уговорил её этого не делать. Тогда фронтовички согласно подвинулись, предложив Петровичу место рядом. Петрович не стал спорить и ненадолго присел, а Алексей, Мария и Борис остановились рядом.
Легко и непринуждённо завязался разговор, из которого выяснилось, что одна старушка воевала на 2-м Украинском, а вторая — на 3-м Белорусском фронтах, что познакомились они уже после войны на общей работе и что долгие годы праздник 9 мая встречали порознь, поскольку собирались с однополчанами в разных местах. Однако вот теперь, когда прежнего множества встреч уже больше нет, они проводят День Победы вместе…
Внезапно рядом появился грузный молодой человек в солнцезащитных очках с ярко-рыжей растрёпанной шевелюрой, выбивающейся из-под тесной, слегка съехавшей на затылок бейсболки и в разноцветной рубашке навыпуск.
— Моя прабабушка Мария Вениаминовна! — указывая рукой на старушку в гимнастерке, раскатисто представился он, отчего-то при этом сохраняя серьёзное и насупленное лицо. — Двадцать шестого года рождения! Героиня!
— Яшенька, ну зачем же так? — попыталась робко возразить ему старушка.
— Чтобы страна знала в лицо своих героинь! — ещё громче ровным театральным голосом провозгласил правнук. — А рядом — её боевая подруга… Василиса Прокопьевна… Да, именно Василиса Прокопьевна. Обе брали Кёнигсберг!
— Яшенька, Василиса же воевала в Венгрии! — ответила ему старушка тихим и немного извиняющимся голосом.
— Ну подумаешь! Из-под Кёнигсберга перебросили в Венгрию! Или наоборот. Чего-чего, а вагонов у Сталина всегда хватало!
— Яш, ну не надо…
— А почему это — не надо? Если День Победы — то что же: сплошные глупые улыбки и фигуры умолчания? Нет, пусть все знают, что победу заслужили только конкретные люди, вот они, например, — с этими словами верзила кивнул на старушек. — А если брать всех вместе — то совершенно не заслужили. Самолеты были дерьмо, генералы — дерьмо, солдаты шли в атаку только лишь потому, что сзади стояли пулемёты, а сто грамм спирта отключали мозги… Без американской помощи и заградотрядов не было бы тут никакого девятого мая! Победа этому режиму досталась чудом.
— Вы хотите сказать, что она была должна достаться Гитлеру? — с изумлением спросил Алексей.
— И да, и нет. У меня, у Якова Херсонского, как вы понимаете, свои счеты с Гитлером. Но во всём, если разобраться, виноваты Сталин и Россия. Вы не согласны? Хорошо, тогда объясняю. Россия в последние десятилетия царизма стала бредить социал-демократией. Социал-демократия, как вы знаете, — явление европейское. Россию же в Европу никто не звал, она сама припёрлась и долго клянчила у порога. Её пустили, а она раз — и устраивает революцию, заключает с Германией Брестский мир, ломает все европейские планы. Ну, сразу же ей и наказание — гражданская война и голод. Наказание состоялось — к ней опять начинают лучше относится, опять приглашают стать культурной…
— Простите, — не выдержал Алексей. — Кто и когда приглашал?
— Кто-кто… европейская социал-демократия, ставшая к тому времени влиятельной силой.
— Вы что-то путаете… Между двумя войнами социал-демократы нигде не могли похвастаться особым влиянием.
— Нигде? Вы ошибаетесь.
— Тогда где же, подскажите?
— Англия и Америка — вас это устроит?
— Ни в коем случае. Если Чемберлен — социал-демократ, то я тогда, наверное, японский император, — возразил Алексей, улыбнувшись. — И даже если Рузвельт симпатизировал отдельным левым идеям, то это ровным счётом ни о чём не говорит.
— Не в политиках дело, дорогой мой! Мировые финансы — вот кто создал социал-демократию и кто ею всегда руководил! Вы думаете, так легко было создавать современную экономику, глобальную валюту, глобальные банки? Свергать монархии, просвещать людей? Для этой работы были сформулированы новые идеи и созданы организации, без войн и демагогии покорившие мир быстрее, между прочим, чем любая из известных религий! Россия же вместо того, чтобы спокойно дожидаться своей очереди, припёрлась в этот серьёзный клуб сама — припёрлась, да и начала куролесить: революция, потом расправа с теми, кто её совершил, убийство Троцкого, новый Коминтерн… Если бы всё шло по плану — то и не возникло бы потребности эту взбесившуюся страну усмирять. И Гитлер бы просто сгинул в баварской тюрьме после очередного пивного путча!
— Лихо это вы закрутили! — подключился к спору Борис. — То есть Гитлера сделали Гитлером ради усмирения взбесившейся и отсталой, на ваш взгляд, России прогрессивные мировые банкиры?
— О чём, кстати, в открытую писали все подряд советские газеты в тридцатые годы, — добавил Алексей, стараясь не показывать вида, что обескуражен внезапным поворотом разговора.
— А вы что — читали эти газеты? — Херсонский взглянул на Алексея надменно и в чём-то даже непримиримо.
— Представьте себе, что читал..
— Читал-не читал… всё у нас сегодня историки — через интернет! — пробурчал Херсонский с явным недовольством. — Я готов спорить с вами до бесконечности, но только не сейчас. А сейчас — вы меня всё равно не переспорите, поэтому признайтесь и согласитесь, что войну выиграли исключительно Америка и Англия. А России — по её собственной же тупости и интеллектуальному убожеству — пришлось стать пушечным мясом. И поделом ей, зато сколько человеческих жизней в культурных странах удалось сберечь!
Воцарилась недоумённая пауза, которую спустя несколько секунд прервала Мария.
— А что же, Яков, по-вашему выходит, что Россия виновата и в гитлеровском геноциде ваших соплеменников? — спросила она со сталью в голосе.
— Ну что вы, девушка! Я вижу, вы и в самом деле ничего не понимаете. Да, Гитлер не любил моих соплеменников, но на деле хотел лишь переселить их подальше от Германии. А холокост начался, когда Гитлер — нет, не только Гитлер — когда все немцы поняли, что смертельно увязли на восточном фронте и что скоро в Германию войдут не американские войска, а русские.
— Ну и что из этого? Ведь именно советские войска освободили концлагеря на территории Польши и спасли от гибели миллионы евреев. В Западной Европе, которую освобождали союзники, гитлеровцы отчего-то стеснялись строить крематории.
— Бросьте, это очень, очень сложный вопрос. Значительно сложнее, чем вам представляется, — произнеся эти слова, Яков на миг задумался и поправил на голове бейсболку. — Ну, хорошо, я попробую объяснить. Если вы не знаете, то я вам скажу, что Гитлер тоже был немного евреем и сперва поддерживал создание Израиля. Многие евреи могли уехать с оккупированных им территорий, но не хотели уезжать. А вот Троцкий был против создания Израиля, и за это поплатился. Над ним была совершена особая молитва — призвание ангела смерти. Пульса Денура, удар огнём — не слышали?
— Ну уж вы, Яков, загнули. Я думаю, Троцкий поплатился отнюдь не за это, и молитва над ним была совершена другого рода, — вновь вступил в спор Борис. — А Советский Союз был первым, кто после войны поддержал создание Израиля.
— Это ни о чем не говорит. Россия поддержала создание Израиля со своим очередным идиотским планом, что этим она насолит Западу. А когда поняла, что села, как всегда, в лужу — то быстро отыграла назад и стала поддерживать наших врагов.
— Скажите, пожалуйста, а вы себя сами к какой стране причисляете? — вновь подключился к спору Алексей.
— К свободному человечеству. К той лучшей части мира, где никто не будет учить меня жить, никто не будет лезть мне в мозги.
— А здесь — что, лезут? — поинтересовался Алексей.
— Представьте себе, что да. Если бы не моя бабушка Маря, которая не хочет никуда уезжать — я бы ни дня тут не задержался.
— Яшенька, — старушка умоляюще взглянула на внука, — ну куда же я поеду? Я здесь родилась и здесь умру. А уж ты поступай, как знаешь.
— Эх, что делать с вами, наивными ветеранками! Живёте по принципу — день прошёл, и хорошо. Сколько раз я говорил тебе, что так рассуждать нельзя. Вцепились в своё прошлое, держитесь за какие-то воспоминания жалкие, да жалкие мечты, все эти попыточки поймать счастье между молотом и наковальней, — Яков на миг замер, довольный, похоже, придуманным им сравнением, и метнув в сторону своих оппонентов острый взгляд, продолжил мысль. — Ведь ты, баб Марь, даже не понимаешь, какой фантастический мир после войны был построен за бугром без нас! С тех пор, как в России прогнали коммуняк, этот мир в некоторых вещах здесь научились копировать, однако главного так и не поняли.
— А что это — главное? — поинтересовался Борис.
— Главное, — с этими словами Яков выпрямился и задумчиво улыбнулся, — главное — это лёгкость бытия. Понимаете? Необременённость и лёгкость… Свобода выражать себя в любых формах. Отсутствие гнёта дурацкой и тёмной истории. Нетягостность религии. Умение получать удовольствие от жизни. И Всевышний, если он существует, этому новому миру помогает и всегда будет помогать. Просто обязан будет помогать.
— Вы хотите сказать… — Борис попытался что-то возразить.
— Хочу сказать, — решительно оборвал его Яков, — что это прекрасный новый мир, к пониманию которого лучшие люди мира стали приходить где-то двести или сто пятьдесят лет назад и к строительству которого Россия столь неуклюже попыталась в своё время прибиться — это качественно иная реальность. Тут даже нельзя говорить, что лучшая часть западного мира ушла вперёд, а Россия отстала. Россия и остальные вместе с ней не просто отстали, а остались на совершенно другой орбите. Остались в прошлом и навсегда. И догонять бесполезно. Ведь дело тут не в железках и технологиях, а в мозгах. Здесь мозги засорены вчерашним и опутаны страхами, тянущимися из глубин веков. Там же — всё это давно преодолено. И люди поэтому на Западе не просто свободны, а окончательно, навсегда раскрепощены. Раскрепощены не в смысле вседозволенности, а в смысле отсутствия каких-либо комплексов, то есть человеческих сомнений. Поэтому даже те объективные ограничения, которые имеются в любом государстве, там не видны или малозаметны.
— Странно, — возразила Мария. — Вот я вроде бы комплексами тоже не страдаю, но мне в моей стране вполне комфортно.
— Ну что вы, я докажу, что это не так! — с этими словами Яков широко, даже неистово широко улыбнулся, оскалив здоровые и ровные зубы. — Может быть, конечно, вы — исключение, однако в этой стране всем приходится зарабатывать на жизнь тяжёлым и неблагодарным трудом. Так здесь было, есть и так останется всегда. Здесь никогда не будет хватать денег. Все мировые деньги создаются в лучшей части мира. Создаются без пота, грязи и страданий. Надеюсь, с этим фактом вы не будете спорить?
— Имеете в виду, что Америка создаёт деньги из воздуха? — спросил Борис, также улыбнувшись.
— Именно. Если хотите — да, из воздуха. Печатать бумажки может любой дикарь, однако настоящие, великие деньги способен создать только освободившийся от грязи прошлого новый мир. И заметьте — даже не Европа, в которой этой грязи всё ещё немало, а Америка, страна практически без истории. Америка печатает главные мировые деньги уже более ста лет, и никакие войны, никакие кризисы не смогли ей помешать. Я лично пока не очень религиозен, но готов согласиться с теми, кто говорит, что это великое право подарил ей Всевышний. Как когда-то подарил Моисею возможность кормить свой народ небесной манной.
— М-да… Ну вы, Яков, и загнули, — присоединился к разговору всё время до этого молчавший Петрович. — После вашего рассказа мне, человеку с однозначно русским паспортом, — что же теперь — идти топиться?
— Ну зачем же? — Яков вновь блеснул обворожительной улыбкой. — Попробуйте освободить себя от всего того, о чём я только что говорил. Не обижайтесь, но для начала выбросите из головы, что у вас — именно русский паспорт. И что вы — русский, украинец или представитель какой-либо другой национальности. Считайте, что вы — просто человек, и всё.
— А у вас, Яков, что — тоже нет национальности?
— Провоцируете? Тогда я вам вот что скажу — моя национальность за прошедшие тысячи лет первой освободилась от комплексов и сделалась по-настоящему свободной. Поэтому, не обижайтесь, именно моя национальность сегодня — в авангарде человечества. И среди банкиров, и среди учёных, буквально — везде. Не обижайтесь — мы везде впереди. И даже оружие мы делаем сегодня лучшее в мире.
— Я не знал, — подчёркнуто вежливо ответил Петрович, поднявшись со скамьи. — А какое именно оружие?
— Да всё буквально. Лучшая военная электроника. Лучшие беспилотники. Система ПВО «железный купол».
— А что это за система?
— Неужели вы не знаете? Самая совершенная в мире система ПВО. Гарантированно сбивает всё, что в её сторону летит — от ракеты до артиллерийского снаряда.
— И как же эта система работает?
— Просто до гениальности. Радар сканирует небо, компьютер классифицирует цели, выдает команду — и всё, что находится в воздухе, поражается противоракетами.
— То есть на каждый летящий снаряд приходится выпускать ракету? — не унимался Петрович.
— Да, разумеется. Но у нас этих умных ракет предостаточно. Наша маленькая страна, в которую бабуля всё никак не хочет переселяться, со всех сторон окружена дикарями. Но это не мешает ей процветать. Несмотря на постоянные обстрелы и неистовое желание отсталой части мира сбросить нас в море.
— Мы, например, этого совершенно не желаем, — примирительным тоном ответила Якову Мария.
— А я и не обвиняю вас. Но я же выражаюсь образно: есть, есть прекрасный, совершенный, имеющий будущее и обласканный Всевышним новый человеческий мир. Израиль — лишь его малая, но очень важная часть. А есть, простите, мировая помойка. На которую можно было бы закрыть глаза, плюнуть — если бы не исходящее из её недр перманентное желание этот наш лучший мир изгадить и уничтожить. А нанести ущерб в подобной схватке можно только грубой силой, физической агрессией — все остальные-то карты ведь теперь у нас! И военная, к слову, карта — у нас тоже. Вот почему я терпеть не могу эти брутальные майские празднования в Московии. Припёрся сюда лишь из-за уважения к бабушкиным сединам.
Яков закончил свою речь эффектным театральным поклоном в сторону старушек. Бабушка Мария Вениаминовна, не проронив ни слова, взглянула на него своими чёрными грустными глазами, а её подруга непонимающе покачала головой. Разговор оборвался, и в небольшом пространстве возле скамейки под зацветающей яблоней воцарилась тишина. Вокруг же продолжала шуметь и многоголосо переговариваться пёстрая праздничная толпа, со стороны площади, с эстрады, доносились звуки «Синего платочка», а где-то рядом за театральным фонтаном играл аккордеон.
Петрович, не скрывая своего смущения, наморщил лоб и слегка тронув Якова за локоть, предложил отойти от скамейки на несколько шагов.
— Так что же, Яков, — спросил он спокойно негромким голосом, — вы видите место нашей страны на этой самой мировой помойке?
— Я же вам всё объяснил, — выдохнул Яков, добродушно улыбнувшись. — Однако если хотите — повторю ещё раз: существуют два мира — высший и низший. Можете злиться, можете негодовать, но это — необсуждаемый факт, который необходимо признать и успокоится. Согласитесь! Ведь вы же неглупый человек!
— За комплимент благодарю. А вот чтобы успокоиться — то вряд ли. Знаете, Яков, я не имею ничего против того мира, частью которого вы себя считаете, и против той страны, под флагом которой вы, как я понимаю, сегодня живете. Я против и всяких дикарей, в том числе и тех, которые, как вы говорите, к вам лезут и мешают жить. Но только не надо объявлять подобным тоном, что вы можете абсолютно всё, не надо!
— А чем вас мой тон не устраивает?
— Только тем, что вы плохо знаете жизнь и живёте в полностью выдуманном мире.
— Ха! Чем докажите?
— Хотя бы тем, что любой «железный купол» захлебнётся, если, не дай бог, против него ударит беглым огнём всего лишь один артиллерийский дивизионный полк по штату одна тысяча девятьсот сорокового года. Тридцать шесть гаубичных стволов с практической скорострельностью пять выстрелов — это, простите, две тысячи снарядов за десятиминутное артнаступление, сто восемьдесят за минуту или по три каждую секунду! Боюсь, не справится ваш радар с таким ульем.
Помрачневший Яков метнул на Петровича недовольный взгляд. Затем несколько раз кашлянул и коротко ответил:
— Ну, положим, не справится. Тогда что?
— Да ничего. Просто будьте сдержаннее в ваших оценках.
— А вот и не буду! Есть цивилизация, а есть варварство. И вы со своими друзьями, уважаемый товарищ, я вижу к огромному своему сожалению — на стороне варварства. Ишь ты — артиллерийский полк вспомнил! А если тыщу артиллерийских полков собрать, а? Миллион снарядов, миллиард! Разрушать, только разрушать умеете! Всю свою историю только знали, что разрушали и крушили всё вокруг и у себя внутри. Проклятая, проклятая страна! Неужели так и не надоело вам крушить?
Яков почти перешёл на крик, и многие, стоявшие или проходившие рядом, недоумённо оглянулись. Бедные старушки, пришедшие на праздник, однако оказавшиеся участниками совершенно неуместного в этой день спора, незаметно сместились на дальний край скамейки. Обе смущённо отводили взгляд в сторону и старались делать вид, что ведут между собой посторонний разговор.
Петрович в ответ на эскападу Якова ухмыльнулся, пожал плечами и произнёс неожиданное:
— А ведь вы, пожалуй, будете правы. Мы действительно всегда были безжалостны по отношению к самим себе. Есть, есть в нас страсть не только строить, но и уничтожать построенное. Но уничтожать, заметьте, не чужое — а своё.
— Ну вот же! Вот вы и согласились со мной, что внутри России сидит звериный комплекс — крушить и разрушать! — замотал головой неожиданно просветлевший Яков.
— Нет. Я не это имел в виду. Я имею в виду вечное, как мне кажется, живущее в нас желание переделывать и создавать что-то другое. Новое и более совершенное, потому что то, что есть — ни к чёрту не годится, в этом я с вами согласен. Здания, дороги, заводы, человеческие отношения — всё абсолютно. Если уж говорить о каких-то древних родовых чертах, скрытых в нашем русском народе, то одна из главнейших — это поиск правды, которой почему-то всегда нет. Но ради которой не жалко ни себя, ни других. Правильно я говорю, Алексей?
Алексей, настроившийся на скорое завершение пустопорожнего и утомительного препирательства, уже не ожидал услышать ничего важного и оттого заметно напрягся, пытаясь проанализировать слова Петровича и понять, стоит ли включаться в новый виток спора.
Яков, к своему изумлению обнаруживший в молчаливом Петровиче готовность хотя бы в чём-то с собой согласится, уже приготовился было заговорить, как внезапно со стороны весёлого искромётного фонтана, необъяснимым образом одновременно просочившись через плотную толпу, рядом с ними образовалась стайка из четырёх низкорослых смуглых молодых людей азиатской наружности. Соединившись на пятачке, они что-то быстро обсудили между собой на непонятном наречии и один из них, громко и коряво выкрикивая нечто-то вроде «люди пусти меня», вплотную подошёл к Марии с Борисом. После этого, демонстративно выставив вперёд своё плечо, он начал проталкиваться к скамейке. Недоумевающая Мария, растерявшись, сделала шаг назад и уткнулась спиной в точно такого же типа. Не обращая ни малейшего внимания на сидящих напротив старушек-ветеранок, незнакомец принялся перелезать через скамью, беспардонно наступив истёртой длинной туфлей на край шифоновой юбки Василисы Прокопьевны.
— Что вы творите! — гневно крикнул Алексей.
Однако негодяй уже заносил вторую ногу на спинку скамьи и, спустя мгновение, перемахнул через неё; второй азиат, вклинившись между изумлёнными фронтовичками, проделал то же самое, и спустя мгновение уже бежал по газону к тротуару Моховой.
— Хам! — в бессильной ярости метнула ему вслед Мария.
В этот момент послышалось громкое оханье — это грузный Яков, схватившись за одной рукой за живот, а другой нелепо и немного смешно помахивая куда-то вверх, начал оседать и заваливаться на землю. Алексей мгновенно схватил его за плечи и помог удержаться от падения.
— Ограбили! Меня ограбили… Мой планшет!.. — застонал Яков жалостливо, громко и протяжно.
Стало понятно, что остальные два злоумышленника, воспользовавшись тем, что внимание было отвлечено на хамские скачки их дружков, взяли Якова в тесные «клещи», ударили кулаком в живот и отобрали чёрную сумку, в которой находились документы и деньги. Чтобы без следа раствориться в праздничной толпе, запрудившей Моховую, им оставалось преодолеть несколько метров газона с цветущей посередине яблоней.
Внезапно раздался похожий на пистолетный выстрел громкий треск рвущейся ткани. Переведя взгляды от несчастного Якова, все увидели, как азиаты во всю прыть улепётывают к спасительной для них толпе, а возле яблони разворачивается Петрович, сумевший в немыслимом прыжке дотянуться до одного из них. В поднятом кулаке он сжимал отбитую сумку.
— Всё в порядке, — сказал он, возвращая сумку Якову.
Опешивший Яков глядел на Петровича большими перепуганными глазами. Сделав несколько неровных вдохов и выдохов, он принял сумку и зашептал слова благодарности.
— Всё в порядке, — снова повторил Петрович, снимая пиджак. — Кроме вот этого…
Рукав дорогого итальянского пиджака был вчистую оторван, и помимо того подрукавный шов разошёлся до самой талии.
Вокруг сразу же образовалась толпа сочувствующих. Звучали возмущенные голоса, сетования на бездействие полиции и гневные призывы гнать в шею понаехавших в столицу гастербайтеров. Обе старушки поднялись и наперебой начали предлагать Петровичу отремонтировать пострадавший пиджак.
— Не надо, милые, не надо, — отшутился он. — Эта пижонская материя того не стоит. А вот ваша бы не подвела!
С этими словами он коснулся и любовно провёл ладонью по выцветшему рукаву гимнастёрки Марии Вениаминовны. Видавшая виды белёсая хлопчатобумажная ткань с ровным и плотным саржевым плетением была по-прежнему прочна, пригодна и величественна в своей продуманной неизменности.
Петрович опорожнил карманы разорванного пиджака, переместив их содержимое в карманы брюк и отдав что-то из своего добра Алексею, после чего скомкал его и затолкал в мусорную урну.
— Ну, так-то даже будет поинтереснее! — сказал он, разминая плечи. — Сорочка вроде бы не порвалась?
— Увы, — ответил Алексей. — И сорочка пострадала.
— Что ж! Тогда, наверное, будем прощаться — и по домам.
Оправившийся от удара Яков подошёл к Петровичу и протянул руку.
— Не подберу слов, чтобы вас отблагодарить. Спасибо, господин… не знаю, как вас зовут, вы не представились.
— Зачем «господин»? Есть же другие слова. Зовите меня — товарищ Василий.
— Спасибо вам… Василий.
Инцидент был полностью исчерпан. Все ещё раз поздравили друг друга с праздником, Алексей немного церемонно поцеловал ручки восхищённых старушек, и на том распрощались.
Потерянный в схватке с грабителем пиджак и разорванная сорочка разом изменили все планы, имевшиеся на предстоящую часть дня. Гулять по праздничному городу, слушать концерт на Поклонной или даже просто посидеть в ресторане было теперь нельзя, поэтому решили возвращаться в квартиру.
Движение по Тверской оставалось перекрытым, поэтому в Большом Палашёвском, куда наши герои свернули по пути домой, в ожидании разрешения на проезд скопилась целая очередь автомашин. Внимание Алексея приковал роскошный спортивный автомобиль ярко-алой расцветки: как зачарованный, с давно забытым для себя детским простодушием, он рассматривал его, покуда они не поравнялись — после чего по-прежнему задерживать, оглядываясь, на чужой машине восхищённый взгляд становилось не вполне прилично. Однако обернуться пришлось — с лёгким и звонким щелчком отворилась дверца чудо-родстера, и из его кабины выскочил импозантный гражданин средних лет в белоснежном чесучовом пиджаке и с впечатляюще высоким коком чёрных набриолиненных волос.
— Боря, здорово! — заорал он что было сил.
— Саня, ты?.. Привет! — остановившись, ответил Борис. — Застрял, что ли?
— Да, застрял, как видишь! — автовладелец, оказавшийся приятелем Бориса, обречёно махнул рукой. — Гуляете?
— Да вроде того… Давай тебя познакомлю: это Маша, моя сестра. Мои друзья — Алексей и Василий.
— Очень приятно. Я — Штурман. Александр Штурман.
— А я вас помню, мы как-то пересекались, — сказала Мария, пока мужчины пожимали руки друг другу.
— Ну, это немудрено. Корпоративы, шоу, балаганы…
— Всё продюсируешь? — поинтересовался Борис.
— Понемногу. Жить-то надо!
— Вне всяких сомнений! Сегодня, поди, тоже на посту?
— А як же ж! Эх, дёрнула меня нелёгкая свернуть к Тверской… Подскажи-ка мне лучше, ты ведь здешний старожил, — как бы мне переулками просочиться к Гнесинке?
— Думаю, что никак. Никитская тоже перекрыта часов до двух. Ступай пешком.
— Жесть! Поздно уже. Не успею, значит, одну деваху прослушать.
— Пусть подождёт. И ты отдохни в праздник.
— Отдохни! Это ведь моя работа — чтоб другие отдыхали! Срывается выступление…
— Ну и пусть срывается, мало ли что! Устрой замену.
— Нельзя замену устроить, Боря, никак нельзя! Правительственный концерт!
Не на шутку опечаленный Штурман поведал, что одна из солисток, два номера которой он согласовал для предстоящего в сегодняшний праздничный вечер правительственного концерта, накануне куда-то исчезла, и лишь сегодня утром, ответив на телефонный звонок, как ни в чём ни бывало сообщила, что отбыла в Милан петь на вилле какого-то украинского банкира. «Перекупили, сволочи! — сокрушался Штурман, потрясая своей роскошной причёской. — Какая подлость! Оставила меня в дураках, опозорила перед первыми лицами государства! А что я могу сделать — там ей по сорок штук евро отваливают, а у меня утверждённый бюджет, не свои ж докладывать! За шальные деньги люди готовы последнюю совесть продать!»
— Ты не кипятись, — принялся успокаивать приятеля Борис. — У нас, как известно, рыночная экономика, и первые лица государства прекрасно об этом осведомлены. Сделай замену, и они всё поймут.
— Думаешь?
— Ну а что в том сложного? Что именно твоя изменщица должна была петь?
— «Утомлённое солнце» со старыми словами. Что-то вроде: «Это было на юге, возле Чёрного моря» — если знаешь…
Борис, улыбнувшись, взглянул на Алексея, и тот в ответ немедленно подмигнул ему в ответ.
— Знаю, конечно. Текст можно уточнить в интернете, — с показным спокойствием продолжил утешать приятеля Борис. — А что касается вокала, то ведь это — обычный шлягер на полторы октавы. Спустись в метро — там каждая вторая его исполнит.
— В том-то и дело, что не исполнит! — продюсер грустно усмехнулся. — Вторым номером у неё идёт концерт Глиэра для колоратурного сопрано. Так что я, как видишь, попал…
Борис присвистнул и с изумлением взглянул на продюсера. Потом он перевёл взгляд на Алексея, но тот глазами дал понять, что с этой вещью Глиэра не знаком.
«Ну да, всё верно, — подумал про себя Борис, — знаменитый концерт Глиэра, посвящённый жертвам войны, был написан ближе к её концу, мои спутники его просто не слышали… Да и если б знали — разве смогли помочь? Предложить спеть Маше — вряд ли, там сложнейшая тесситура, у неё не хватит времени на подготовку… А всё-таки — может попробовать? У Сашки положение, похоже, безвыходное, а для сестры после провала в Питере — чем не шанс?»
Ещё раз оценив в уме все за и против, Борис решил предложить несчастному Штурману этот вариант. В конце концов, подумал он, «Утомлённое солнце» Мария однозначно споёт, и споёт неплохо.
— А какой формат концерта запланирован? — издалека поинтересовался он, наспех выстраивая в голове план, как склонить Штурмана собственноручно сделать ангажемент сестре.
— Праздничный концерт для ветеранов, — уныло и немного раздражённо отрезал тот.
— А поконкретней?
— Конкретнее? Одно отделение, длительность не более ста минут… Сначала должна быть представлена, так сказать, довоенная ностальгия. Песни тридцатых, то да сё… Потом — песни военных лет. Только без особо печальных интонаций, такое было пожелание сверху. Затем всё завершает огромный военный хор с какой-то современной величальной кантатой — но эта тема уже не моя.
— А зачем тогда Глиэр? Ведь его концерт — по сути реквием погибшим, вещь предельно камерная. Мне кажется, что исполнять её на твоём мероприятии — не совсем по профилю.
Штурман многозначительно поднял глаза к небу.
— Ты Усманчика знаешь?
— Того, что курирует твой бизнес из Кремля?
— Не из Кремля, а со Старой Площади. Так вот, сбежавшая солистка — какая-то его родственница, типа троюродная сестра. То ли она его просила, то ли он сам придумал — но было решено с помощью Глиэра раскрутить девочку перед первыми лицами. Так сказать — и шлягер, и бельканто, всё умеем, нате!
— Но тогда зачем было сбегать на виллу в Милан? Я бы на её месте остался и спел. Всё-таки не часто предстаёшь перед царскими очами!
— Всё не так просто, Боря. Предполагалось, что на концерте, помимо первых лиц, будет один тип из Министерства культуры, от мнения которого для неё что-то предметно зависит. Но этот тип умотал за границу. И она, не будь дурой, тоже свалила за баблом.
— Дело житейское. Я бы на месте Усманчика согласовал замену, и делу конец.
— Нельзя, Боря, нельзя!.. Если убрать концерт Глиэра, то из программы выпадает восемь минут. Для замены нужны два довоенных шлягера. Причем таких, чтобы были в тему, ибо про колхоз или Днепрогэс тут не споёшь. Самые классные песни, которые ветераны помнят, — из старых кинофильмов. Мы уже вытащили из фильмов всё, что могли. Но на эти восемь минут нет ровным счётом ничего, хоть самому выходи и пляши!
— Неужели так ничего и нет?
— Да, ровным счётом ничего. Всё перерыли — «Волга-Волга», «Цирк», «Светлый путь», «Истребители». Бравурные марши не годятся. Концерт ведь у нас по жанру лирический, а с лирикой во времена товарища Сталина, ты же понимаешь, были проблемы.
— Странно, — с задумчивостью в голосе ответил Борис, переводя взгляд на Алексея. — А вот ты, Лёш, как историк — что считаешь?
— Я считаю, что та эпоха, это правда, не вполне располагала к лирике. С середины тридцатых предчувствие большой войны было абсолютно реальным, весь выбор состоял лишь в том, начнётся она завтра или послезавтра. Но вот через фильмы люди как раз и старались снимать это напряжение. Поэтому кинотеатры никогда не пустовали.
— А какие фильмы у нас крутили перед войной?
Алексей немного подумал и ответил:
— Самой популярной, кажется, была «Музыкальная история» с молодым артистом Лемешевым. Но там репертуар, я понимаю, не вполне ваш… Затем был какой-то комедийный фильм про пастуха и свинарку, но он тоже вряд ли подойдёт. К столетию гибели Лермонтова сняли «Маскарад» — его начали показывать в сентябре, когда немцы рвались к Москве, и смотреть его, должно быть, было ужасно…
— Ну вот! Всё правильно твой друг говорит! — оживился продюсер, — Какая там к чёрту лирика! Драма, да и только!
— Нет, постойте, — возразил Алексей. — Не может так быть. Что же ещё… Ну да, я же совсем забыл про «Большой вальс»! Великолепный фильм, его крутили с лета сорокового. Люди покупали билеты на несколько сеансов подряд!
— Ну так то же был фильм американский! — ответил Штурман, снисходительно посмотрев на Алексея.
— Да, но это ни о чём не говорит. Мне кажется, что именно он занимал в довоенном прокате твёрдое первое место. Об этом у нас нигде не сообщалось, однако ощущение было именно таким — в кинотеатры очереди стояли. Ведь фильм заряжал какой-то неистребимой надеждой и жаждой жизни. К тому же и сделан он был хорошо, и актёры подобрались великолепные. Одна Милица Корьюс чего стоит — восемь минут квинтэссенции Штрауса!
Штурман уже открывал рот, чтобы, по-видимому, в очередной раз высказать возражение, однако внезапно задумался, упершись взглядом в асфальт под ногами и скрестив руки на груди.
Алексей, вполне довольный доставшейся ему ролью историка, решил этой паузой воспользоваться:
— Милица Корьюс — из семьи русского офицера. Она начинала учиться в Москве, в гимназии на Большом Казённом. Моя ма… моя прабабушка ту же гимназию заканчивала и сохранила воспоминание о первокласснице с необычным именем, данным в часть нашей великой княжны. Многие москвичи помнили о происхождении этой в ту пору уже американской актрисы и оттого относились к ней с особенной теплотой. Но дело не в происхождении. Она была действительно великолепной — и на сцене, и в пении!
Штурман медленно оторвал взгляд от земли и внимательно, широко раскрытыми от изумления глазами, посмотрел на Алексея.
— Умопомрачительный вариант! Ведь если ту её арию… ту знаменитую песню из фильма поставить в программу… Нет, это же гениально придумано! Действительно, я припоминаю, — то был довоенный супершлягер! Его ведь и по радио должны были крутить, — обратился он к Алексею, — вы не знаете, его по радио крутили?
— Нет, по радио его почему-то не крутили. Тем не менее эту вещь знали абсолютно все.
— Нет, правда же! Это гениально!.. Рождение вальса… Большой вальс!.. Как там: та-та, та-та… А перевод в фильме был?
— Нет, Корьюс пела в фильме на английском. Но, уверяю вас, переводы имелись.
— Кто же их автор?
— Многие переводили сами.
— А вы откуда знаете?
— Как вам сказать? Просто знаю, и всё.
— Правда?
— Да вы не сомневайтесь! Если покопаться, то я один из них, возможно, для вас разыщу. Только найдите подходящего исполнителя.
— А у вас, у вас, — тут Штурман с нескрываемым уважением посмотрел в лицо историку, — есть какие-то варианты по исполнителю?
Алексей внезапно и решительно перевёл взгляд в сторону Марии. От неожиданности та встрепенулась и резко опустила руку с мобильным телефоном, с которого собиралась куда-то звонить. Отошедший в сторону на несколько шагов Петрович вытащил из сжатых губ сигарету и, выпустив клуб дыма, развернулся к разговаривающим. При этом оторванный рукав сорочки, который ему до этого удавалось маскировать, неожиданно отвалился вниз, обнажив поцарапанное плечо.
— Я могу спеть, — спокойно сказала Мария, выступив на полшага вперёд.
— Ты уверена? — озабоченно спросил сестру Борис, который теперь, оказывалось, был не вполне рад тому, что вместо несложного номера, исключительно на исполнение которого он намеревался уговорить Штурмана, петь его сестре придётся вещь искусную и технически весьма непростую. — Там ведь, кажется, надо брать самый верх третьей октавы?
— Ну и что? Возьму.
— Маш, ты уверена? Ты подумала хорошо? Времени репетировать нет, если провалишься — считай, конец карьере…
— Не волнуйся, не провалюсь. А насчёт третьей октавы ты даже не волнуйся — у меня получалось и в четвёртой.
Борис присвистнул.
— Когда ж ты успела?
Мария, слегка улыбнувшись и лукаво посмотрев на Алексея, ответила:
— Наверное тогда же, когда он делал свой перевод!
Взбудораженный продюсер, разумеется, намёка не понял, и с неистовой скоростью прокручивая в своей голове все варианты и исходы предстоящей в его судьбоносном концерте замены, незаметно сделал несколько шагов назад, после чего, упёршись спиной в крыло своего автомобиля, сначала инстинктивно отскочил, а затем подтянувшись на руках, молодецки запрыгнул на капот.
Борис, не желая, похоже, смириться с неотвратимостью рискованного предприятия, в которое внезапно перетекла его безобидная идея пристроить сестру на простенький и выигрышный номер, попытался отыграть назад. Взглянув на часы, он громко произнёс, обращаясь к Марии:
— Ну, положим, ты эту штуку выучишь и даже споёшь. Но оркестр! Как он-то успеет подготовиться? Даже если они всё сию минуты бросят и займутся тобой!
— Ах, оркестр… — с нескрываемым разочарованием выдохнула Мария. И на какое-то время воцарилась тишина.
Паузу прервал Штурман. Картинно тряхнув головой с неопадающим коком, он спокойно сообщил:
— Оркестр — сможет. Партитуру сделают на компьютере с фонограммы минут за пять. Сыграют с листа. Дирижёр, если надо, пойдёт за голосом. Могут сымпровизировать.
— Где это ты таких способных отыскал? — с лёгкой иронией в голосе поинтересовался Борис.
— Обижаешь! Это же «Кремлёвские виртуозы»!
Борис понимающе развёл руками и кивнул головой.
— Теперь всё ясно, извини. Ну что ж! Тогда — почему бы не рискнуть!
Продюсер спрыгнул с машины и продолжил теперь уже стопроцентно деловым тоном:
— До концерта — меньше семи часов. У меня есть кое-какие дела, но я перенесу их на последние часы. Сейчас нужны текст, звукоряд из интернета, ну и фоно, чтобы сделать пару проб. У меня нет вариантов, я в пробке. Какие есть у вас?
— Ко мне на квартиру. Десять минут — и мы там.
— Отлично. Только бы вот машину с дороги отогнать…
— Кажется, вон возле той помойки слева есть местечко, — подсказал зоркий Петрович.
Штурман не без труда развернул свой сверкающий спорткар в забитом машинами переулке и в районе Сытинского проезда буквально втиснул машину в узкий проём между каменной оградой и ржавым коммунальным контейнером. Последовательно приведя в действие две или даже три сигнализации, он с деловой целеустремлённостью догнал немного ушедшую вперёд компанию, и сразу же огорошил Марию вопросом:
— Ты уверена, что точно не провалишься?
Снова все остановились.
— Не провалюсь, — спокойно возразила Мария. — Неужели я похожа на дуру или самозванку?
— Нет, конечно, — ответил разволновавшийся продюсер и, обращаясь к Борису, уточнил: — Но мы же все должны понимать, что если будет провал, то я лишь слегка попаду на деньги и пару извинений, а вот для неё — для неё тогда захлопнутся все двери!
— Ну и пусть, — ответила Мария спокойно. — Только ты, если пообещал, сегодняшнюю дверь не захлопывай!
Уже в квартире на Патриарших, где под аккомпанемент Алексея Мария быстро разучила и с изящной лёгкостью исполнила перед Штурманом наиболее сложные и «улётные», с его слов, пассажи из штраусовской «квинтэссенции», тот, наконец, успокоился и умиротворенно попросил принести выпить «граммов пятьдесят». Однако немного поразмыслив после бокала кубинского рома, он вдруг поморщился и заявил, что заезженное «Утомлённое солнце», предваряющее «Большой вальс», — «не катит», и потому первый номер нужно срочно менять. Стрелки часов между тем приближались к половине шестого, и по постоянным трелям мобильного телефона продюсера можно было заключить, что его уже заждались в концертном зале.
Со Штурманом неожиданно согласился и Алексей, сообщивший, что по мнению его как историка довоенной эпохи все три русские текста «Утомлённого солнца» — и тот, где лирическому герою «немного взгрустнулось», и менее известный про «встречу на Юге», и где, наконец, «листья падают с клёна» — надуманны и немного нелепы. Причину этого Алексей объяснил тем, что в Советском Союзе никто не осмелился обратиться напрямую к первоначальному польскому тексту первоисточника — танго To Ostatnia Niedziela, что означает «Последнее воскресенье». В польском же оригинале рассказывалось не просто о погибшей любви, а едва ли не о последних минутах жизни, которая без этой погибшей любви делается невозможной.
Алексей даже вернулся к роялю, подобрал тональность и пропел по-польски:
…Dzisiaj sie rozstaniemy, Dzisiaj sie rozejdziemy Na wieczny czas![41]Потом, помолчав, добавил, что ему известно, что в СССР это танго даже намеревались запретить, поскольку в довоенной Польше оно породило настоящую эпидемию самоубийств. Бывало, что оркестр ещё доигрывал концовку, а варшавские студенты и офицеры с пугающей лёгкостью стрелялись сразу же за порогом ресторана или танцхолла.
Затем он тоже налил себе немного рома и, глядя на его обжигающий лучистый янтарь, пояснил:
— Эта вещь появилась безошибочно точно в своё время. В конце двадцатых, когда в Европе веселились, на неё даже бы не обратили внимание. После войны — то же самое, но только по другой причине. А эта песня из второй половины тридцатых, как никакая другая, оказалась созвучной предчувствию войны. Любовь, потерянная навсегда, потерянная абсолютно без каких-либо надежд на возвращение, утрата в едва ли не самый прекрасный день — ведь по-польски niedziela — это наше воскресенье, — одним словом, весь этот бульон эмоций был тем же самым, что и уходящая в небытие довоенная жизнь. Но просто взять и высказаться об этом — тривиально, ведь так чувствовали в ту пору почти все. Поэтому человек, написавший стихотворный текст, совершил гениальный ход — он вернул эту навсегда потерянную любовь лишь на один короткий воскресный вечер. Живая пришла к уже неживому. Оттого слушать оригинал было больно до нестерпимости — даже если на твоём персональном личном фронте всё обстояло великолепно.
Закончив свой комментарий, Алексей залпом допил ром и отставил бокал на крышку рояля.
— Вот это мозги! Потрясающе! — воскликнул продюсер. От волнения он стал поглаживать сверху вниз подбородок, отчего его узкое лицо с умными серыми глазами, казалось, ещё более вытянулось и стало напоминать иконописный лик. — Нам с вами обязательно нужно поговорить! Но теперь и ежу понятно, что старый номер надо снимать. Имеется ли что-то взамен? Думайте скорее, у нас всего десять минут, я должен уезжать!
— Не надо ничего снимать, — неожиданно возразил Алексей. — Просто надо спеть перевод с польского.
— Ну как же это — «не надо»? Не снимать? Зачем же рвать сердца ветеранам? Вдруг кто-то из них действительно перенесёт себя в прошлое и ему станет плохо прямо в зале?
— Никому не станет плохо, поверьте мне. Всё, о чём я только что рассказал — больше никогда возвратится. Если этим людям посчастливилось пережить войну, то, значит, они — живые, разве не так?
— Разумеется, но только что из того?
— А из этого следует то, что гениальная уловка того поэта… его звали, кажется, Луи Фокс, — сегодня не сработает. Живая придёт к живому, у которого в сердце всегда отыщется надежда, и всё будет хорошо.
— Так уж и всё?
— Да. Старики вспомнят свою довоенную молодость и улыбнутся. И даже если эта улыбка окажется грустной, убить она уже никого не сможет.
— Ну и ну, — покачал головой Петрович.
— Думаешь, что так? — бросил Штурман Борису.
— Думаю, что можно попробовать. А русский перевод оригинального текста имеется?
— Надо поискать, — ответил Алексей и удалился в комнату.
Спустя несколько минут он вышел с листом бумаги и протянул его Штурману. Тот быстро пробежал текст глазами и заключил коротко:
— О'кей. Играем «Утомлённое…», то есть — как его? «Последняя неделя», «Последнее воскресенье». Короче, играем оригинальный вариант на два припева. Я уехал. Жду не позднее семи, скажите охране, что идёте ко мне, вас проведут.
* * *
Когда закончили репетировать «Последнюю неделю», Мария поинтересовалась у Алексея, в чём состоит причина его интереса к польской музыке — не жил ли он там перед войной и нет ли у него польских корней. Алексей в ответ покачал головой.
— Это музыка — польская только по месту рождения, а по сути она — наша.
— Как же так?
— Очень просто. Несмотря на политическую трескотню и убийственный национализм, довоенная Польша, равно как и Прибалтика, долгое время оставались продолжением России. Причём если у нас революция весьма многое поломала и изменила, а белая эмиграция, как ни пыжилась, в европейских столицах была обречена ютиться на задворках, то в довоенной Польше наш «серебряный век» не прерывался и оставил после себя много удивительного. Он был лишён страстности нашего красного пожара, но зато пожары человеческих страстей распалять умел по-настоящему. Когда-нибудь историки это оценят.
Как было условленно, ровно в семь часов вся компания собралась у входа в сверкающий огнями концертный комплекс. Правда, их прибытие едва не закончилось конфузом, поскольку все подходы были наглухо перекрыты полицией, и если бы Мария не смогла продемонстрировать суровому майору коробку с белоснежным концертным платьем, доказав тем самым, что она является актрисой, по причине перекрытия улиц следующей с пешим сопровождением, — видимо, концерт пришлось бы слушать на площади по трансляции под накрапывающим дождём.
Выйдя из гримёрки, Мария отправилась на розыски Штурмана. Он разговаривал с какими-то серьёзными людьми в зрительном зале, куда Марию категорически отказался пустить администратор сцены. Пришлось несколько раз громко звать его из-за кулисы.
Когда Штурман подошёл, Мария сунула ему в руку лист бумаги с текстом и огорошила заявлением:
— Объявите, что танго я буду петь в дуэте.
— С кем? — продюсер подскочил от изумления.
— С Алексеем Гурилёвым.
— Кто это?
— Мой друг, который только что рассказывал вам об истории этой песни.
— Да, но ведь он же историк!
— У Алексея замечательный природный баритон. Мы прорепетировали, можете послушать! — и она протянула мобильный телефон, из динамика которого уже звучали вступительные аккорды фортепиано.
— Хорошо, не надо, — Штурман прервал её порыв. — Я видел, что играет этот парень профессионально, так что и петуха дать не должен. Да и фамилия у него вроде музыкальная… Но ты, Маша, ведь меня без ножа режешь! В следующий раз я отвечу тебе, что это всё называется одним словом — шантаж!
— Спасибо. Но это не шантаж. Вы сами услышите и поймёте, что дуэтом будет лучше…
Продюсер ничего не ответил, бегло пробежавшись глазами по листочку с текстом. Там были два анонса, сочинённые Алексеем для конферансье. Утвердительно кивнув головой и произнеся сакраментальное «О'кей», он быстрыми шагами удалился.
Где-то далеко, со стороны неведомого и пугающего неизвестностью огромного зрительского зала, продолжали гудеть и вздыхать инструменты оркестрантов, доносились звуки шагов, голосов и опускающихся кресел. К Марии подошла седовласая благообразная дама, ранее представившаяся администратором концентра, и попросила записать должности «сопровождающих лиц».
Алексей, застегнув бархатный пиджак и поправляя алый платок на шее, заявил, что является солистом, однако отказался сообщить должности помощников. Выручил вовремя подоспевший Борис, назвавший себя директором дуэта исполнителей, а Петровича — своим ассистентом. Затем явился человек в форме капитана, представившийся сотрудником Федеральной службы охраны и попросивший показать паспорта «сопровождающего персонала».
Новенький паспорт Петровича вызвал удивление:
— Вы не москвич? — спросил капитан, не выпуская паспорта из своих рук.
— Не совсем, — согласился Петрович. — Но теперь будут жить в Москве.
Капитан с недоверием взглянул на «ассистента», одетого в дорогой тёмно-вишнёвый костюм, позаимствованный из гардероба Бориса.
Выручил Борис. Обворожительно улыбаясь, он сообщил, что этих «товарищей» он лично недавно «вытащил из хабаровской филармонии» и что очень скоро о них будет знать вся страна.
— Из хабаровской? Неужели там есть филармония? — недоверчиво переспросил офицер.
— Конечно! Филармонии у нас и в Приморском крае имеются, и даже в Магадане!
И тут же понял, какую непростительную ошибку он совершил — совершенно упустил из вида, что у главной солистки документы на сто процентов московские, и никаких дальневосточных следов в нём нет!
К счастью, проверять документы самих артистов, облачённых в нарядную концертную одежду, в этот момент не полагалось. Офицер спокойно вернул Петровичу его новенький паспорт и, отойдя в сторонку, уселся на стул, являвшийся, по-видимому, его рабочим местом в ходе предстоящего концерта.
Спустя минуту негромко прозвенел сигнал к началу и воцарилась тишина. Вскоре тишину взорвали знакомые и величественные звуки государственного гимна.
«Нас вы-ра-стил Сталин на вер-ность народу!» — достаточно громко начал подпевать Петрович, чем, по-видимому, сильно смутил сидящего неподалеку мордастого баяниста в галифе, хромовых сапогах и стилизованной под довоенный фасон новенькой гимнастёрке с петлицами неопределённого рода. Рядом с баянистом неподвижно возвышалась, видимо боясь прислониться и примять длинное, почти в пол, вечернее кремовое платье с косым подолом, молодая изящная дамочка. Её стриженые золотые кудри были уложены ностальгической волной, которой были удивительно созвучны крошечный сетчатый ридикюль, спрятанный под рукой, и закруглённые лаковые туфли с тонким ремешком.
— Извините, что-то не так? — поинтересовался Петрович у баяниста. В ответ баянист буркнул под нос нечто трудноразличимое.
— Ах, вы ведь тоже входите в образ? — встрепенувшись, тотчас же обратилась к Петровичу очаровательная спутница баяниста.
— Конечно, гражданочка, — ответил тот и грустно улыбнулся.
После исполнения государственного гимна раздались аплодисменты, после чего репродукторы внутренней трансляции донесли чьи-то негромкие, но выразительные и тёплые приветственные слова.
— Кто это вдруг выступает? — поинтересовался баянист, взглянув на часы.
— Сам Президент, — ответила ему его спутница.
— Да ты шо!
— Я тебе говорю!!
После непродолжительного президентского приветствия по залу долго, в несколько волн, прокатились аплодисменты. Затем наступила тишина, и двое ведущих, поочередно приветствуя публику, открыли концерт.
К Марии и Алексею профессионально бесшумно приблизилась администраторша и сообщила, что их выступление поставлено четвертым номером. Отныне им следовало подойти к противоположным краям кулис и начать следить за происходящим на сцене.
Концерт открыло вокальное трио, которое под великолепное сопровождение кремлёвского оркестра зажигательно и искромётно исполнило «Катюшу».
Затем столь же чудесно были спеты «Парень кудрявый» и «Песня Марианны».
Как только стали затихать очередные аплодисменты, молодой конферансье, чем-то похожий на Мориса Шевалье, держа ладонь у продетой в лацкан смокинга алой гвоздики, произнёс торжественным, но тёплым голосом:
«Предвоенные годы — это годы юности вашего поколения, дорогие ветераны. Страшная война была впереди, и вы жили счастьем вашей любви и молодости. Все мы знаем, какими горькими и безвозвратными в такую пору оказываются разлуки и потери, какими искренними и горячими бывают невидимые слёзы неразделённой любви!»
Принявшая микрофон вторая ведущая с точёным овалом лица, напоминающим Грету Гарбо, продолжила:
«На вашу долю выпали огромные трудности, огромные потери, разорвавшие связь времён. Поэтому в память о вашей прекрасной и яркой молодости, оборванной войной, примите, дорогие ветераны, знаменитое танго «Последнее воскресенье». Сегодня вы впервые услышите его в новой редакции, которая максимально приближена к оригиналу, пришедшему в нашу страну из довоенной Польши. Пусть же пережитые чувства больше не ранят вас, но наполняют ваши сердца новым теплом и новой памятью о главном!»
«Х-м, подготовленный мною текст слегка подправили, — подумал про себя Алексей. — Однако протестовать не стану. Интересно, говоря про «память о главном», — что именно они имели в виду?»
«Для вас поют Мария Кузнецова и Алексей Гурилёв!» — представил солистов конферансье в смокинге, и это объявление показалось Алексею раскатом грома.
Ведущие поклонились и покинули сцену, в зале немного похлопали, после чего наступила тишина. Алексей и Мария вышли из-за кулис и встретились в центре сцены. Алексея очень беспокоило отсутствие у него какого-либо опыта обращения с беспроводным микрофоном, и он по-настоящему обрадовался, когда убедился, что микрофон уже включён и удерживается им на нужном расстоянии от губ.
Дирижёр взмахнул палочкой, и скрипки исторгли чарующие и одновременно трагичные аккорды вступления.
Алексей почувствовал, как сильно и неуправляемо заколотилось в груди сердце. Он взглянул на Марию и сразу же увидел её глаза — тёплые и слегка грустные. Переведя дыхание, он взял себя в руки и точно дождавшись нужного такта, начал петь:
Поздно и горько искать оправданья Счастью уже не быть: Прекрасен, щедр и талантлив Твой новый избранник, И мне предстоит уходить…До этого момента Алексей, несмотря на свой развитый голос, не только никогда не выступал на эстраде, но даже не предполагал для себя такой возможности. Поэтому чёрное пространство зала, отсечённое лучами софитов, на какой-то миг померещилось ему холодным и зловещим. Он тотчас же подумал, что безумно любит всех этих людей, собравшихся в зале, однако совершенно не может быть уверен, что они поймут то, что он должен выражать не привычными словами, а магией образа, который может сработать, а может — и нет. Он также немедленно осознал, что если мыслимый им в песне образ не будет принят, не сработает — то всё, что он замышлял, превратится в банальный и даже не вполне складный набор слов.
Словно в поиске ответа, Алексей поднял взор и посмотрел прямо в глаза Марии. В них светилась теплота, но на этот раз холодная громада зала, придвинувшаяся сгустком космического холода, почему-то стала их стремительно отдалять. Совершенно инстинктивно Алексей переложил микрофон в левую руку, а правой потянулся к Марии, желая дотронутся до её локтя или плеча. Однако в тот же момент он понял, что истекающая теперь уже со всех сторон густая ледяная мгла не позволит ему этого сделать и что он, на виду у всех, открытый и беззащитный, вот-вот провалится в бездонный колодец, не имеющий с этим миром ни малейшего сообщения. Он почувствовал, что уже сбивается дыхание и что, наверное, правильнее будет смириться с подступающей мглой, в объятиях которой цепенеет тело и начинает остывать сердце, нежели пытаться ей противостоять. Но в тот же миг он и осознал, что голос — его живой голос остаётся. Голос продолжает выражать чувства, а чувства заставляют разум продолжать жить.
Всё случившееся заняло малую толику секунды или того меньше. Паузы не случилось, голос не прервался, однако Алексей понял, что запаздывает с новой фразой на небольшую долю интервала. К счастью, кремлёвский дирижёр, известный своим умением исправлять чужие ошибки, учёл эту заминку, и старое довоенное танго продолжало звучать объёмно, живо и грандиозно. Алексей немедленно восстановил контроль над собой и продолжил петь, отчётливо и жёстко расставляя акценты:
Просьбу мою не оставь без ответа, Даром не отклони, Дай мне лишь вечер — печальный, единственный вечер, В память о прошлой любви!И тотчас же следом его баритон слился с блестящим и одновременно приглушённо-трепетным колоратурным сопрано Марии:
Этот вечер воскресный - Берег нашей разлуки, С неизбежностью смены Имён и лет. Положи мне на плечи Свои тонкие руки, Подари в нежном взгляде Последний свет.Когда дуэтная партия была завершена, Алексей вновь на четверть оборота развернулся в сторону Марии и продолжил петь соло, в этой части выдержанно, спокойно и камерно:
Твоей жизни мирного теченья Жребий мой не потревожит, знай! В этот вечер воскресный Мгла не станет рассветом Образ близкого счастья - Навек прощай!Мария взглянула на партнёра, и, преодолевая цепкое внимание тысячи зрительских глаз, поймав его единственный близкий и тёплый взгляд, нежно, бережно и напевно подхватила завершающий припев:
Этот вечер воскресный - Берег нашей разлуки…Завершив выступление, Алексей и Мария развернулись к залу и поклонились. На какой-то миг наступила тишина. Было слышно, как кто-то всхлипывает среди зрителей, а другой что-то объясняет громким шёпотом. Казалось, что пауза растянулась на целую вечность. Затем раздались аплодисменты. Сначала они были вялыми и разделёнными, но затем стали звучать дружнее и громче. Марии принесли цветы, солисты ещё раз отдали публике поклон и удалились со сцены.
По знаку администратора Мария остановилась дожидаться следующего выхода сразу за пологом занавеса, а Алексею пришлось вернуться в помещение к артистам. Баянист воздел кверху огромный кулак с оттопыренным вверх большим пальцем, демонстрируя высший градус одобрения. Его утончённая спутница изобразила томную улыбку и несколько раз прохлопала длинными пальцами. Однако Борис встретил Алексея с пасмурным лицом:
— Только что здесь был Штурман. Он считает, что это провал. Говорит, что Президент во время вашего выступления покинул ложу. Да и публика аплодировала, скорее, из уважения.
— Ну и что? — меланхолично ответил Алексей.
— Как что? Не впечатлила публику декадентская польская музыка… С точки зрения сегодняшних правил — твой дебют провален.
— Я не дебютировал, я только помогал Маше. Поэтому если я кому-то не понравился — мне абсолютно все равно. Профессионально петь на сцене я никогда не собирался.
— Только вот опять Машке не везёт…
— Почему же? Подожди хоронить, ведь…
Алексей не договорил, потому что в этот момент ведущие закончили прочтение очередного короткого приветствия и по трансляции зазвучали вновь слегка подправленные слова из второго собственноручно составленного им анонса:
«Образы искусства предвоенных лет — это не только яркие воспоминания вашей юности, дорогие ветераны. Они — ещё и напоминание о красоте и хрупкости мира, над которым уже начинали сгущаться чёрные тучи. Напоминание о том, что сильнее насилия, огня и железа может быть только любовь!»
Второй конферансье подхватил:
«Именно о такой любви, о счастье и о прекрасном, солнечном и лучезарном мире пела героиня знаменитого кинофильма «Большой вальс». И хотя этот фильм вышел на наши экраны в суровые и тревожные времена, когда до войны оставалось меньше года, он как никакой другой, пожалуй, наполнял сердца красотой и радостью любви. Примите же наш подарок, дорогие друзья — Мария Кузнецова дарит всем вам незабываемую песню весеннего Венского леса!»
Под приветственные аплодисменты Мария выбежала на середину сцену и приняла микрофон. Затем глазами подала дирижёру знак готовности и, услышав первые робкие голоса трёх скрипок, ещё раз улыбнулась зрителям. С каждым мгновением оркестр звучал громче, слаженнее и немного торжественно.
Мария вновь заглянула в тёмное пространство зала, поднесла микрофон почти к самым губам и запела негромко, выразительно и светло:
Сердце моё не спит, Громко в груди стучит. Сердце ответа просит, И дальний вальса звук доносит — Что за чредой невзгод Встреча опять нас ждёт! И что уж счастье на пороге В этот дивный день!Дирижёр выдал знак паузы и специально, как все могли ясно видеть, на какой-то миг её задержав, дал, наконец, разрешение оркестру играть по-настоящему. Вторя лёгкой, стремительной, слегка лукавой и бесконечно радостной мелодии, голос Марии легко и непринуждённо воспарил над пением скрипок и трелями флейт:
Весенней песни лёгкий нрав В роскошной зелени дубрав И звонкий тон на звук любой Нам дарит Венский лес с тобой! Ла-ла! Ла-ла! Ла-ла! А-а! Ла-ла! Ла-ла! Ла-ла! А-а! Разлуки льды растают - Распахну своё окно, Что не делала давно, Солнца вихри вновь играют!Мария отлично понимала, что сегодня она поёт свободно и хорошо, без малейшей боязни принимая всем своим существом зачарованное внимание огромного зала и ощущая нарастающий трепет тысяч сердец, внемлющих её пению.
Пусть встречаться придётся в вечерний час В неурочный час, Без излишних глаз…На какой-то миг, вторя этим словам, ей захотелось закрыть глаза и самой забыться в предвкушении чего-то неведомого, роскошного, прекрасного и вечного в своей недосказанности:
Этот лунный час, Он — не выдаст нас! Я тебя обниму С жаждой счастья и страстью огня! Обниму… Обниму!.. Не верну в прежний мир! Не отдам в прежний мир без меня!Вслушиваясь в таинственные переливы арфы, Мария твёрдо и убеждённо поняла, что смысл этой её песни — в обращении к единственному человеку на земле, которому она должна поверить и направить отныне в его сторону все свои чувства и надежды:
И пускай Луны бледен свет, И пускай ещё далёк рассвет - Ты взглянешь на меня - Я улыбнусь тебе, И мы поверим в дар судьбы и в наше счастье! Пусть прошлое уйдёт, И новый день Оставит в нём навеки грусть и тень!И вот, наконец-то, наступил момент, когда она сможет и должна будет показать всю запредельную лёгкость и красоту своего подвижного, полётного голоса! Как долго она ждала этого высокого и счастливого мига, скитаясь по местам бессмысленным и злачным, перепевая опостылевший шансон на дебильных корпоративах и в вонючих кабаках, в окружении свиноподобных рыл, как безответно и обречёно стучалась во всегда наглухо закрытые двери немногочисленных приличных мест… Так неужели сегодня — её час? Неужели всё получится? Всё получится, всё — неужели сразу и навсегда?
И вот уже свершается! Без малейшей боязни, легко приближаясь к верхним недоступным регистрам, Мария продолжает петь вольно, звонко и ярко:
Ла-ла-ла-ла-ля! Ла-ла-ла-ла-ля!.. Ла-ла-ла, ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла!.. Я хочу, я хочу танцевать снова вальс!«Ля» третьей октавы? Или, страшно подумать, — даже «си»? Но ведь взяла! И при этом какой объём! Прекрасно! А что дальше? А дальше — дальше снова безумие полёта, снова простор, снова непреодолимая, неистребимая жажда счастья! Счастья, о котором она так долго грезила и которое она наконец-то сумеет вырвать у судьбы!
А-а-а! Аа! А-а-а! Аа! Этот вальс танцевать! Этот вальс только знать! Этот вальс, этот вальс, этот вальс, этот вальс!.. Я хочу танцевать! Танцевать и летать! Нет прекрасней судьбы, Нет прекрасней мечты! Ла-ла! Ла-ла! Ла-а! Ла-ла!Вот дирижёр, безусловно довольный работой голоса Марии, делает указание оркестру перейти на пианиссимо. Музыка отступает на задний план, и теперь уже только один чистый, серебряный голос творящей чудо певицы весело и торжественно врывается со сцены в замерший от напряжённого внимания зал:
И снова радости мотив Несётся, всё опередив! И вторит музыке небес Прекрасный Венский лес! Ла-ла! Ла-ла! Ла-ла! Ла-ла! Ла-ла! Ла-ла! Ла-ла! Ла-ла!В этот момент дирижёр подаёт очередной знак, оркестр полностью замолкает, и Мария, счастливо и озорно глядя в прямо ему в глаза, завершает свой концерт на предельной, звенящей и сияющей высоте:
А-аа! А-аа! Пусть над миром властвует вечный гимн Любви!Закончив петь, Мария едва успела послать зрителям воздушный поцелуй и только намеревалась склонить голову в поклоне, как зал взорвался неистовой и безудержной овацией. Началось вставание с мест, послышались восторженные выкрики «на бис» и «браво». Седовласые, увешанные золотом наград фронтовики и их боевые спутницы, словно забыв о годах, аплодировали стоя, приветственно размахивали руками и громко выкрикивали слова восхищения. Кто-то увлечённо раскачивал головой в такт продолжающей греметь в ушах музыке, несколько человек самозабвенно пытались дирижировать воображаемыми оркестрами, а один старичок в матросской форме, словно ребёнок, то и дело восторженно подбрасывал вверх видавшую виды бескозырку, вынуждая то одних, то других соседей отвлекаться на её возвращение своему без меры разошедшемуся обладателю.
На сцену хлынуло море цветов, и спустя каких-то полминуты Мария уже не могла держать их огромную охапку, цветы покорно ложились на рампу к её ногам, падали в оркестровую яму, в проход… Над рядами стоял плотный одобрительный гул и казалось, что на эти несколько минут все присутствовавшие напрочь позабыли о продолжающемся концерте и желали только одного — излить в адрес никому доселе неизвестной юной певицы, столь неожиданно и искромётно воскресившей страницы их далёкой молодости, свою приязнь, почитание и высшую степень похвалы.
Чтобы остановить овацию и дать возможность перейти к следующему номеру, вышколенный оркестр был вынужден негромко заиграть новую тему. Другая мелодия стала понемногу вытеснять продолжавшие звучать во взбудораженных головах аккорды Штрауса, и зал потихоньку начал успокаиваться.
Мария послала зрителям прощальный поцелуй, поклонилась и убежала со сцены. Вновь появились ведущие и не спеша, чтобы страсти окончательно улеглись, стали предварять следующее выступление.
Едва дойдя до гримёрной, Мария рухнула в кресло, и её тотчас же облепили друзья и многочисленные незнакомые люди. Вновь откуда-то стали появляться цветы, зазвучали восторженные голоса и бесконечные поздравления. Вбежал абсолютно сияющий Штурман, расталкивая локтями толпу поклонников:
— Ты — королева! Ты ещё даже не понимаешь, что ты натворила! Это полный фурор!
К Штурману пробился Петрович и почему-то взволнованно спросил о Президенте.
— Президент? А что Президент? Уехал? Да нет же, никуда он не уезжал и даже никуда из ложи не уходил, это кто-то обознался. Понравилось? Конечно, понравилось. Хлопал со всеми.
Затем к Марии подошёл какой-то незнакомый человек и, вручая очередной букет, сообщил, что по его мнению в финале она уверенно взяла ноту «ре» четвертой октавы. «Поздравляю вас, вы — вторая Мадо Робен! Готов лично рассмотреть любые ваши предложения!» — сказал незнакомец, целуя ей руку. Чуть позже Штурман пояснил, что незнакомец — музыкальный директор оперного театра, только что получившего колоссальный государственный грант на множество новых постановок.
В течение нескольких следующих минут пальцы Марии уже сжимали не менее двух десятков визитных карточек, пестревших именами всевозможных продюсеров, режиссёров и арт-директоров.
Зачем-то принесли шампанское. Мария одним глотком пригубила ледяную влагу вина, но затем отставила бокал и искренне попросила собравшихся остановить чествования. «Милые друзья, спасибо вам. Там продолжается концерт для ветеранов, и давайте сегодня будем чествовать именно их!»
Понемногу страсти, продолжавшие кипеть за сценой около получаса, улеглись, да и концерт вскоре начал подходить к завершению. В финале программы все выступавшие в нём артисты вместе выходили на поклон к публике и было заметно, что значительная часть симпатий снова достаётся Марии. Борису, наблюдавшему за этим из-за кулисы, показалось, что особое внимание зрителей его сестре уже начало вызывать у коллег по сцене ревнивое раздражение — отлично скрываемое за сияющими улыбками, однако принципиальное и стойкое. «Что ж, такова жизнь, — с довольной ухмылкой заключил Борис, — но в то же время жизнь и продолжается!».
Теперь надо было думать о том, как достойно со всеми распрощаться и покинуть концертный комплекс, не ввязываясь в неизбежные после подобного рода мероприятий пьянки и кутежи. Он хорошо понимал, что не будучи «закреплённым» во множестве повторов сегодняшний сногсшибательный успех его сестры во многом виртуален, и совсем скоро сделанные ей фантастические предложения, вроде обещаний партии в Метрополитен или контракта с Ла-Скала, скорее всего окажутся светским трёпом и начнут рассыпаться в прах.
Однако уйти незаметно оказалось делом непростым — Марию уже поджидали несколько репортёров с телекамерами. Затем в гримёрную вошёл человек в скромном деловом костюме и что-то негромко произнёс — репортёры словно по команде испарились, а две пожилые служительницы внесли роскошную корзину цветов. Оказалось, это был подарок Марии от самого Президента.
Так медленно и постепенно, на каждом шагу удовлетворяя интерес многочисленных новоявленных почитателей, раздавая автографы и короткие интервью, Мария в сопровождении Алексея, Бориса и продюсера Штурмана продвигалась к выходу. Петрович шёл впереди процессии, вежливо расчищая дорогу.
Когда все вышли из служебного подъезда на улицу, то увидели, как охранники пытаются удержать за ограждением широкоплечего мужчину в блестящей мотоциклетной куртке. Мужчина намеревался пробиться к процессии, наваливаясь тяжестью своего квадратного тела на двух охранников одновременно. В то же время, по-видимому в желании избежать неприличной перебранки, он держал рот на замке и сосредоточенно сипел.
— Пустите его, — внезапно крикнула Мария охранникам, — это же Влад!
«Вот те на, да ведь это же Утюг! — резануло Бориса внезапное озарение. — Тварь, качок, бандюга! Какого хрена сюда приперся? Машу назад захотел, гад? Про триста тыщ нарисованные вспомнил? Клянусь, на этот раз не выйдет, не петь ей больше в твоих паршивых кабаках! Воспользуюсь по максимуму вниманием Президента — завтра же пойду в прокуратуру, напишу на Лубянку — сделаю всё, чтоб тебе яйца отрезали, чтобы до конца своих дней ты забыл к Машке дорогу!..»
Однако вопреки предположениям Бориса, предприниматель и по слухам средней руки криминальный авторитет Влад Устюгов оказался миролюбив, любезен и даже в меру галантен. Он извлек из-под широкой полы мотоциклетной куртки букет светло-лиловых орхидей, которые, несмотря на потасовку с охранниками, оказались нисколько не помятыми.
— Машенька, прими мои самые искренние поздравления! Я был в зале и плакал от восторга, когда ты пела! — подбирая слова, произнёс Утюг, улыбаясь.
— Спасибо, Влад, — спокойно ответила Мария. — Ты уж извини, что я от тебя уехала, не предупредив. Ты же сам видишь: то, что ты хотел от меня — не моё!
— Не твоё, королева, не твоё! Ты — на другой орбите. Я просто рад, что когда-то был с тобою знаком. Может, внукам своим буду рассказывать!
И с этими словами он вновь запустил огромную ладонь под куртку и извлёк оттуда увесистый конверт, перетянутый для верности скотчем.
— Возьми, это тебе!
— Что это?
— Твой паспорт, у меня забытый, и деньги… Ты же когда-то выступала и забыла их взять!
Мария порадовалась возвращению паспорта, однако совершенно не собиралась брать конверт с деньгами. В объяснении последнего она спокойно и совершенно не опасаясь, что её слова могут быть услышаны посторонними людьми, напомнила Устюгову, что небезызвестный Зайцев в своё время «развёл её на умопомрачительную сумму», и потому она прежде всего желала бы этот фиктивный долг закрыть.
— Насчёт Зайцева ты даже не волнуйся, королева. Этот баклан больше не пикнет. Он тебя на понт хотел взять, ты ему ничего не должна!
— Разве?
— Ни копейки не должна, ноль. Даже не сомневайся.
— Спасибо, Влад. Но вот этого, — и она указала на конверт, — мне тоже не надо.
— Возьми, королева, они же твои! Ты уж прости, что я раньше не смог заплатить.
Мария намеревалась снова возразить, однако в разговор вмешался Петрович:
— Возьми, это же твои заработанные деньги. Так ведь, Владик?
— Всё так!
— Ну вот и всё, забирай их преспокойно, — заключил Петрович и, видя продолжающиеся колебания, сам принял конверт. — Сердечное всем спасибо! Всем спасибо, доброй ночи! Дайте-ка дорогу!
На служебной автостоянке, куда посторонних не пропускали, им наконец-то удалось пообщаться в узком кругу.
— Интересно, — сразу же спросила всех Мария, — откуда Утюг-то здесь взялся? Неужели он посещает подобные мероприятия?
Воцарилась недоумённая тишина, в результате чего Петровичу пришлось сделать неожиданное признание.
— Я об этом позаботился.
— Зачем? — удивлённо спросила Мария.
— Чтобы раз и навсегда закрыть твои взаимоотношения с уголовниками, — ответил тот.
— Но каким образом?
— Очень просто, — спокойно и немного лениво начал объяснил Здравый. — Твой брат рассказал мне о кабале, в которую ты по молодости попала. Ситуация известная, похожие возникали и в наше время, моим старшим товарищам из ОГПУ приходилось их решать в конце двадцатых… Я, правда, грешным делом подумывал над тем, как твоего Утюга вместе с мистером Зайцевым прихватить за одно место, да поговорить по душам. А если не выйдет — решить по обстановке… К счастью, всё оказалось намного проще.
— И как же?
— После сегодняшней репетиции я понял, что ты по-любому выступишь неплохо. Стало быть, тебя отметят на самом высоком уровне, в присутствии первых лиц. А эти типы — я знаю их очень хорошо, — никогда не попрутся против власти. Чтобы власть в их собственных делишках их не трогала, они ей ноги готовы напоказ лизать. Ведь не дай бог, узнает кто-то из твоих возможных новых покровителей, что у них, таких чистеньких и великих, от твоей прошлой жизни остались конкуренты, — и тем не сдобровать!
— Так ты смог объяснить всё эту Утюгу? — изумилась Мария. — Вложить столь сложную мысль в его крошечные мозги?
— Ты его недооцениваешь, он в подобных вещах соображает шустро.
— Ну а как ты смог его разыскать и вытащить на концерт? Ведь обычно по выходным он парится в бане на смоленской даче с проститутками.
— Не волнуйся, Маша, это даже был не вопрос. Как говорится, дело техники, ибо кое-чему я всё-таки был обучен… Эх, вот если бы интернет и мобильные телефоны имелись в наши времена — мы бы горы с ними свернули!
— И деньги ты тоже организовал?
— Нет. Но я предполагал, что он поспешит как можно поскорее рассчитаться с тобой, чтобы загладить свою вину.
— Я всё равно не хочу брать эти деньги. Они нехорошие.
— Напрасно ты так думаешь. Нехороших денег не бывает, есть нехорошие дела, которые совершаются с помощью денег. Неужели тебе будет легче, если ты узнаешь, если Утюг организует на эти деньги какую-нибудь гадость или элементарно их пропьёт? Кстати, знаешь, откуда я его развернул?
— По пути на смоленскую дачу?
— Да нет, с московского аэродрома. Растут и совершенствуются люди! Вечером он намеревался улететь в Минск, чтобы провести вечер в казино — ведь в России рулетку прикрыли.
— Ишь, тогда понятно происхождение столь замызганного конверта! — ухмыльнулся Борис. — В другой раз мог бы для новой звезды что-нибудь поаккуратнее соорудить! Но у меня вопрос в другом — насколько Утюг сдержит своё слово? Не начнёт ли Зайцев со временем новые претензии измышлять? Ведь без Марии ему, похоже, крышка, из долгов не выпутаться…
— Не надо волноваться, — успокоил Бориса Петрович. — Если Утюг своё слово на людях не просто произнёс, но ещё и повторил — значит, живи спокойно. Эта публика, как говорится, за базар отвечать приучена, так что твой Зайцев не больше пикнет. Забудь!
В этот момент в кармане у Штурмана зазвонил мобильный телефон, и вскоре он разочарованно сообщил, что вызванный им для Марии лимузин не приедет, поскольку он только что «попал в небольшую аварию на Ленинградке». Борис предложил вызвать такси, а до приезда машины вернуться в какое-нибудь помещение, поскольку на улице сильно похолодало, поднялся ветер и начал накрапывать дождь. Но продюсер рассудил иначе.
— Держи, — он протянул Борису ключи от своего двухместного спорткара, — отвози Машу, а я всё равно пока должен на какое-то время здесь поошиваться.
Борис не без изумления посмотрел на Штурмана, затем пеервёл взгляд на его роскошный автомобиль. Всё взвесив и внутренне согласившись, что другого варианта увезти домой начинающую замерзать сестру нет, он принял ключи, однако тотчас же с досадой воскликнул:
— Ах, чёрт, я же выпил!
— Ерунда, — ответил Штурман. — Если остановят — заплатишь ментам.
— Я никогда им не плачу, Саня, ты же знаешь! Это — принцип. Эх, дёрнула меня нелёгкая после шампанского да на водку! Слушай, а пусть Алексей сядет за руль. Ты ведь взял права?
— Да, — ответил Алексей, — удостоверение при мне.
— Довезёшь?
— Постараюсь. Только немного страшно — машина уж больно хороша. Вдруг что-нибудь случиться?
Штурман улыбнулся и махнул рукой:
— Плевать. Она застрахована. Если что — документы в яш-щичке!
— Но в таком случае, — вдруг уверенно и властно вступила в разговор Мария, — я бы желала немного развеяться после выступления и покататься по городу. Ты не будешь возражать?
— Нисколько! — ответил Штурман.
Подойдя к переливающемуся отблесками уличных огней ярко-алому родстеру, Алексей распахнул дверь и помог Марии разместиться на глубоком и удобном пассажирском сидении. Затем сам сел за руль и, сосчитав в уме до трёх, повернул ключ зажигания. Мотор, словно испытывая неловкость от своей необыкновенной мощи, доверительно заурчал, а приборная панель озарилась сиянием многочисленных разноцветных огоньков. Алексей постарался сориентироваться в незнакомой обстановке водительского места и, по-быстрому определив местонахождение основных приборов и включателей, поинтересовался у хозяина через опущенное окно:
— Сколько времени имеется у нас?
— Сколько нужно! Бросите потом машину возле своего дома, я её завтра или когда-нибудь там заберу.
— Спасибо, — ответил Алексей, после чего, не вполне доверяя монитору заднего хода и по-старинке резко развернув голову назад, начал выезжать со стоянки концертного комплекса.
Штурман помахал рукой и сразу исчез, а Петрович с Борисом остались дожидаться такси.
— Какой же длинный день! Я даже забыл, что совершенно не выспался накануне, — произнёс Борис, зевая. — Но вот они — они с пользой проведут время. Что же остаётся нам?
— Нам? — переспросил Петрович, тоже украдкой зевнув. — Только завидовать!
* * *
На протяжении недолгого времени своего знакомства с Марией Алексей испытывал по отношению к ней неподдельную симпатию, которую ему приходилось сдерживать, поскольку он не без оснований опасался, что она может перейти в более сильное чувство. Впустить же это более сильное чувство в своё сердце Алексей до последнего времени не был готов и отчасти поэтому давеча на бульваре развлекал себя рассуждениями о субъективности любви.
Прежде всего, смущение вызывал его неопределённый статус в обществе — без связей, без работы и без друзей (не считая, конечно же, Бориса) и с полуфальшивыми документами, которые могут засветиться при любой серьёзной проверке. Во-вторых, Алексей не мог быть уверен, что достаточно приспособился к современному обществу, разобрался в его правилах, освоил его терминологию. Как страшный сон он вспоминал памятный разговор с задержавшим его на рынке капитаном Расторгуевым, когда каждое второе сказанное им слово было провальным! Теперь, конечно же, он сделался более искушённым в выборе имён и произнесении названий, однако кто знает — вдруг где случайно проскочит довоенное словечко или его уличат в незнании какого-нибудь очевидного для современников факта, события или явления?
И наконец, самым неприятным и тревожным являлось отсутствие ясности того, кем именно является он, молодой человек 1916 года рождения, в нынешней обстановке. Ведь если реальностью и объективным физическим феноменом оказалось их с Петровичем умопомрачительное воскрешение после семидесяти лет небытия, то реальностью может однажды стать и обратный процесс. Насколько Алексей мог судить, ничего подобного в известной истории доселе не происходило, поэтому опираться на какой-либо опыт из прошлого было нельзя. А раз нет опыта, раз нет понимания сути случившегося с ним чуда — то нет и не может быть никакой уверенности в завтрашнем дне. Так однажды ляжешь спать — и не проснёшься…
Но с другой стороны, что случилось — то случилось! Он, Алексей Гурилёв, жив, здоров, пребывает в ясном уме, помнит всё, сотворён из плоти и крови. Он чувствует, он живёт, мечтает, огорчается, может шутить, уставать, восхищаться, быть гневным, рассудительным или сентиментальным, надеяться, ненавидеть, любить. Любить? Конечно же, любить. Ибо так устроен мир, что пока человек живёт, он не может не думать о ком-то другом. И дело здесь, наверное, не столько в телесной страстности, сколько в необходимости через того, другого, каким-то образом подтверждать своё собственное неповторимые бытие.
То, что он способен любить, должен любить и будет любить, Алексей знал едва ли с не с первых минут, когда он начал сознавать возобновлённость своей жизни и новую реальность. Он думал об этом и в памятную ночь под стук колёс на длинном железнодорожном перегоне, вглядываясь в звёздное мерцание, и в промозглой очаковской конуре, когда рассудок отступал перед жаром лихорадки, и когда потом, уже вполне пришедший в себя и прилично одетый, он из окна такси вовсю засматривался на нарядных москвичек. И, конечно, же, все эти мысли были с ним, когда он впервые увидел Марию, внезапно ворвавшуюся в его прежнюю гостиную с неожиданной просьбой поискать под крышкой рояля деньги, а он от волнения вскочил и перепутал ноты…
Да, за все эти быстро промчавшиеся и насыщенные событиями дни, общаясь с Машей воочию или живя предвкушением её скорого возвращения из Ленинграда, Алексей вполне решил для себя, что она красива, остроумна и в полной мере способа его понимать. Стало быть, она отвечает тому трудно определяемому, но тщательно выстраиваемому и ревниво сберегаемому образу, который каждый мужчина утверждает для себя в качестве идеала женской добродетели и красоты. Он также всё сильнее ощущал усиливающуюся с Марией душевную близость, происходившую не столько от сходства взглядов на политику и искусство, сколько от оказавшихся созвучными и сопричастными друг другу каких-то потайных внутренних струн.
Разгоняя великолепный автомобиль модного продюсера по залитому оранжевым светом ночному проспекту и наблюдая боковым зрением за острожной улыбкой на Машином лице, Алексей поймал себя на мысли, что ему, вопреки всему сказанному вчера на бульваре самому себе, по большому счёту наплевать на то, что именуется телесной красотой. Однако Маша — она ведь и в самом деле хороша! А если вдобавок он ещё будет уверен, что вспыхнувшая к ней страсть — взаимна, что она надолго или, возможно, даже навсегда, — то почему бы ему в этом не признаться и не сообщить избраннице?
Да, всё верно. Он жив, способен любить и быть любимым. Это всё так, иначе Мария вряд ли бы согласилась на ночное катание с ним наедине. Но вот какими словами следует об этом сказать, как преодолеть эту вечно опасную и оттого пугающую своей необратимостью точку перехода между «до» и «после», между состоянием невозмутимой личной свободы и дуализмом союза между мужчиной и женщиной? Ибо союз этот — далеко не регистрационная запись в торжественный день, а признание обретённой совместности двух душ. Признание, в основе которого — океан переживаний, который рано или поздно нужно облечь в несколько обязательных слов. Именно слов, потому что ни взглядом, ни помышлением, ни поцелуем или объятием факт наступления этой совместности невозможно подтвердить. Необходимо именно словами произнести сакральную формулу, после которой союз либо наступит, либо нет. Обязательно сначала должно быть слово…
Но вот какое слово — это вопрос! Алексей, в своё время в изобилии читавший Бодлера, Моруа, Фицджеральда, Готье, Монтерлана и даже тайком Оливию Уэдсли, то ли забыл, то ли не желал принимать чужие формулировки. Тем более что большая их часть относилась к связям прагматичным или легкомысленным. Так что же именно произнести? Как прервать затянувшуюся паузу, когда в предвкушении чего-то недосказанного и важного лишь молчаливые улыбки их обоих проносятся над мокрым асфальтом?
— Маша, — поинтересовался Алексей, притормаживая. — А где сейчас самое красивое место в Москве?
— Самое красивое? Наверное, на Воробьёвых горах.
— Я так и подумал. Едем туда. Подскажи только, как лучше — наверное, через метромост?
— Конечно. А ты неплохо изучил теперешнюю Москву. Интересно, а как раньше туда из центра ездили?
— Через Крымский мост и по Большой Калужской. Потом — поворот на Воробьёвское шоссе. Незадолго до войны там выстроили закрытый институт. А до того времени место было почти диким, местами без асфальта. За Новодевичьим начинался огромный луг с деревенькой, огородами, коровниками и водокачкой. Прямо за Калужской заставой, в оврагах, были городские свалки со Свалочным шоссе и Живодёркой.
— Живодёркой? А что это такое?
— Район назывался Живодёрной слободой.
— Ужас какой! Что же за звери там жили?
— Да нет же, обычные бабы и мужики. Просто у них работа была такая — убивать и хоронить негодных старых лошадей. В прежней Москве было очень много лошадей, почти как сегодня — автомобилей.
Мария заметила, как Алексей вздохнул и как-то по особому посмотрел на приборную панель, потом — на свои руки, возлежащие на изящном и послушном рулевом колесе, обтянутом дорогой кожей и инкрустированном палисандром. В это время машина взлетала на Метромост и от распахивающейся в обе стороны перспективы захватывало дыхание. Мария отчего-то подумала, что Алексей, должно быть, всё ещё продолжает сомневаться в реальности мира, который привычным и предсказуемым образом окружает их.
— Такое прекрасное место — и лежало на отшибе? — решила она поддержать разговор.
— Ну почему ж! Сразу после революции на месте нынешнего Университета хотели возвести Международный Красный Стадион. Между прочим, крупнейший в мире. Затем, правда, выяснилось, что фундаменты сползают к реке, и эту затею бросили. Но после стройки на краю склона и внизу остались десятки буфетов и летних ресторанчиков. В них всегда было многолюдно, по Воробьёвке туда специально ходили трамваи. Потом пустили троллейбус — кажется, четвёртый номер, он бегал от «трёх вокзалов» до Киевского. Кстати, почему-то только здесь постоянно продавали какое-то малопонятное, но очень дешёвое турецкое вино. Так что место числилось популярным.
— Ни за что не поверю! И ты, комсомолец, приезжал туда пить турецкое вино?
— Конечно, много раз. Но в основном у нас, школьников, денег на вино и буфеты не бывало, поэтому мы покупали кто мороженое, кто семечки и забирались на чердак Мамоновой дачи. Оттуда теми же красотами любовались бесплатно…
— Здорово. Дача, чердак, золотое детство…
— Ты вздыхаешь, Маш, словно хочешь туда вернутся… А вот я бы не стал.
После спуска с метромоста Алексей почти гениально угадал съезд и поворот на Университетский проспект, и через пару минут остановился у смотровой площадки. Он помог Маше выбраться из машины и они пошли в направлении к гранитному парапету. Очередной залп дождя, собиравшийся последние полчаса, так и не решался пролиться, уступая место влажной дымке, в туманной пелене которой размывались силуэты возвышающихся на противоположном берегу высотных зданий и множество городских огней. Пространство площадки хранило следы недавнего столпотворения по случаю салюта: на мокром асфальте блестел разноцветный мусор, в отдалении шумела небольшая стайка молодёжи, а несколько подвыпивших бродяг, один из которых, не в силах стоять на ногах, возлежал на парапете, вели промеж себя незатухающую беседу.
Не сговариваясь перейдя немного в сторону с освещённого пространства смотровой площадки, Алексей с Марией остановились в сени высокого клёна. От этого места открывался всё тот же великолепный панорамный вид на ночную столицу, до мельчайших деталей Марии знакомый. Ей было приятно наблюдать, с каким изумлением Алексей пожирает его своими глазами, обрывочно произнося вслух имена узнаваемых в новом облике мест — «…это старые Хамовники», «..возле Трубецкой», «…за Красным Лугом — небоскрёбы», «…две высотки — одна точно на Смоленской» и так далее.
— Нравится?
— Да, не то слово. Воистину, вечный город.
— Вечный?
— Да, вечный. Третий Рим…
— И как на его фоне мимолётна наша жизнь! Я уже даже начала забывать про сегодняшний концерт. Между прочим, все почему-то бросились поздравлять меня, а о тебе забыли. А ведь ты всё это придумал. Именно ты. Даже не знаю, как тебя отблагодарить.
— Пустяки. Ты долго шла к этому успеху и заслужила его. Я очень хочу, чтобы он открыл для тебя новую жизнь.
— Спасибо. Но даже если каждый предстоящий день будут таким же, и жизнь моя сложится счастливо на зависть всем — то всё равно она останется лишь крошечным мгновением.
— Да, но такое мгновение будет соткано из миллиардов секунд, — возразил ей Алексей. — Каждая из которых — в своём роде тоже вечность.
— Поэтому в каждую из них я буду стареть, — ответила Мария и посмотрела Алексею прямо в глаза.
Алексей принял этот её взгляд, наполненной неуловимой трепетной надеждой, и ответил решительно:
— Давай тогда будем стареть вместе. Я давно хотел тебе это предложить. Подумай, находишь ли ты это возможным для тебя?
Их взгляды снова пересеклись и остановились. На какой-то миг Алексею показалось, что он прочитывает в глазах Марии недоумение или даже испуг. Он тотчас же подумал, что напрасно произнёс «давно хотел»: о каком «давно» может идти речь, если их знакомство длится всего две недели, да и сам он, надо полагать, знакомый более чем странный…
— Я согласна, — не отрывая взгляда, коротко и спокойно ответила Мария. — Я согласна.
И неожиданно спросила:
— А ты меня любишь?
— Да. Я тебя люблю, — ответил Алексей без малейших колебаний и тут же, чтобы освободиться от только что посетившей его тягостной мысли, взволнованно произнёс: «Я не знаю, как сложится моя жизнь, но я готов поклясться, что каждый день, проведенный нами вместе, я буду стремиться делать таким же незабываемым. Ну а если я не справлюсь или если со мной что-то случиться или пойдёт не так — ты свободна, ты полностью свободна принять любое решение».
— Ты со всем справишься и с тобой ничего не случится. Всё будет хорошо — ты понял? Даже не думай о другом!
— Что ж! Если ты говоришь — не случится, то значит — в самом деле не случится! — ответил, улыбнувшись, Алексей, и вдыхая волнующий запах волос, поцеловал Марию сперва в лоб — и тотчас же, обхватив обеими руками за плечи, глубоко, остро и протяжённо, то и дело забываясь от чарующего головокружения, припал к её тёплым и взволнованным губам.
…Они долго не уходили не уходили с Воробьёвых гор, наслаждаясь далёкими звуками и огнями любимого города, изящной монументальностью университетской башни, подпирающей облака, запахами молодой мокрой листвы и кое-где уже начинающей зацветать сирени. И конечно же — до восторга и забвения упиваясь осознанием реальности счастья, счастья внезапного и безразмерного, счастья, о котором нельзя было помыслить ещё вчера.
Возможно, они бы продолжили гулять по Воробьёвым горам до рассвета, однако поднявшийся в половине второго ночи холодный сильный ветер напомнил о необходимости перебраться в место более укромное. Алексей завёл машину, включил обогрев и поинтересовался, куда им стоит отсюда переехать. Заявляться среди ночи в квартиру не хотелось, от дачи в Петрово-Дальнем у Маши не было с собой ключей, поэтому Алексей предложил поискать гостиницу.
— Не надо в гостиницу, — ответила Мария.
— Почему? У нас же с собой полно денег!
— Я не хочу, чтобы все эти ресепшионисты, портье и коридорные, проснувшись, заглядывали нам в глаза.
— Ну и пусть себе заглядывают! Нам-то какое до них дело?
— Я просто не выношу эти масляные взгляды. Даже со спины. Смесь подобострастия с панибратством и восприятием всех как ровни. Ведь для них мы будем только развратным существами.
— Но какая нам разница? Все знают, что гостиницы открыты по ночам в том числе и для таких, подобных нам…
— Сегодня не тот день и не тот случай, Лёша. Я не хочу видеть никого, кроме одного лишь тебя. Кроме только тебя, тебя одного, понимаешь?
Между тем усталость от невероятного по насыщенности событиями дня нарастала неодолимо. Алексей, обычно по-юношески пренебрегавший самочувствием и всегда хранивший уверенность в исключительности своего запаса сил, вдруг заметил, что его рука то и дело самопроизвольно вздрагивает, а веки начинают смыкаться. Ещё немного — и сон своей невидимой властью выключит сознание, и тогда ktoz to wie?[42] — всякое может случиться на пустой ночной дороге с автомобилем, в котором шкала спидометра заканчивается на цифре 350. Поэтому было решено, пока ещё остаются силы, вырваться за город и заночевать в каком-нибудь безлюдном живописном месте, встретив рассвет и умывшись по утру росой. Именно так пожелала Маша, и Алексей не мог с ней не согласиться.
По старой памяти Алексей предложил заночевать на берегу какой-нибудь красивой излучины Москвы-реки между Барвихой и Ильинским. В тридцатые годы туда легко можно добраться с Воробьёвых гор по начинавшемуся здесь же Рублёвскому шоссе. Когда-то на таксомоторе ЗИС-101 эта дорога занимала более часа, теперь же, имея под капотом несколько сотен лошадей, он запросто мог туда домчаться минут, наверное, за двадцать пять. Без особого труда разыскав начало старой Рублёвки, именуемое теперь Университетским проспектом и улицей Пальме, Алексей поведал о своих планах Маше. Однако Маша отнеслась к затее ехать к Москва-реке без энтузиазма, сказав, что все берега от Серебряного Бора и до Звенигорода теперь плотно застроены элитными усадьбами со шлагбаумами и видеокамерами, так что никакого смысла наведываться в этот район нет.
«Хорошо, поедем тогда на Истру», — ответил Алексей и тут же оказался вынужден резко затормозить машину, обнаружив впереди перекрытый въезд на старинный мост через Сетунь. «Кончилась прежняя дорога!», — подумал он в сердцах. Пришлось разворачиваться и искать выезд на ближайшую магистраль, оказавшуюся Минской улицей. Трасса была совершенно пустой, Алексей набрал умопомрачительную скорость и, более не ошибаясь с выбором пути, спустя каких-то десять минут уже въезжал на Волоколамку. К этому времени Мария крепко спала, запрокинув голову и чему-то незримо улыбаясь.
Алексей напрочь не узнавал Волоколамского шоссе, бывшего когда-то пустынным и диким. Через короткое время он даже стал всерьёз опасаться, что из-за неузнаваемо изменившейся обстановки он может потерять дорогу, и поэтому как спасения ждал ориентира — истринского моста. Когда же, наконец, за очередным обширным населённым массивом он влетел на этот мост, то облегчённо выдохнул и сразу же стал притормаживать в поисках съезда к реке. Заметив ближайший поворот, он свернул в него, потом каким-то образом оказался на грунтовой дороге, и не обращая внимание на тряску и тотчас же полетевшую на лобовое стекло глинистую грязь, стал объезжать спящий посёлок с редкими фонарями, расплывающимися в низинном тумане. Свет фар выхватил из темноты зелёную плоскость луга — Алексей повернул туда и вскоре добрался до небольшой рощицы, которая, по его расчётам, должна была находиться недалеко от берега. Здесь он вышел, чтобы осмотреться, затем на всякий случай развернул машину в направлении обратного выезда и заглушил мотор. По ногам от накопившейся усталости снова пробежала дрожь, и его неумолимо поволокло в сон.
Однако выспаться толком не удалось. В половине седьмого Алексей очнулся от невыносимо громкого пения соловьёв. Приподняв голову с откинутого назад водительского кресла, он обнаружил, что Мария по-прежнему крепко спит. Стараясь её не потревожить, он медленно и осторожно приоткрыл дверь и вышел на улицу.
От реки тянулись низкие и слоистые полосы тумана, пахло влажной землёй, травами и молодой листвой. Посёлочек, оставшийся позади, безмолвствовал. Лишь далёкий шум от проезжающих по шоссе машин изредка нарушал утреннюю тишину.
Повернув голову к реке, Алексей вздрогнул, пораженный видом огромного конуса, устремлённого в небо. Вглядевшись пристальнее, он различил за зелёными кронами деревьев силуэты стен и башен. Это был Ново-Иерусалимский монастырь, присутствие которого в этом месте Алексей напрочь упустил из вида.
Он тотчас же вспомнил, что в декабре 1941 года читал в «Красной Звезде», что перед отступлением немецкие войска взорвали монастырь, и теперь вид восстановленного из руин исполинского собора и покрытых свежим золотом куполов вызывал удовлетворение и гордость. Однако несколько раз побывав в этих местах до войны, Алексей только сейчас обратил внимание на его необычный вид и нездешнюю архитектуру, заодно вспомнив, что носящую такое же нездешнее название железнодорожную станцию в революционные годы по какой-то причине то ли забыли, то ли не пожелали переименовать.
Затем он услышал острожные шаги, и спустя секунду тёплые руки крепко обняли его со спины:
— С добрым утром!
— С добрым утром, любимая! — ответил он и, развернувшись, с жаром приник к машиным губам, осознавая, что это — их первый настоящий поцелуй.
Мария приняла этот поцелуй, и долго, очень долго, как показалось им обоим, они боялись пошевелиться и разомкнуть трепетное слиянье уст.
— Какая красота! — произнесла затем Мария, глядя в сторону собора, поднимающегося над туманом. — Это подарок от тебя?
— Да не совсем. Я просто искал красивое места на берегу.
— А нашёл русский Сион!
— Да, ты права. Этот Никон, престраннейший патриарх, мечтал построить здесь второй Иерусалим. Град юный… Настоящий Иерусалим он считал навсегда погибшим и желал создать его точную копию — чтобы Христос снизошёл именно сюда судить мир и воскрешать мертвых…
— А ведь это удивительное желание! Как бы сказали сегодня — прямой диалог с Богом. Или — корректировка мироздания. А может — вмешательство в высший замысел? Ведь смело, да?
— Конечно. А я ещё у кого-то читал, что этим своим проектом Никон намеревался передвинуть в Россию ни много ни мало, а ось мировой истории! Но ведь и безумцем он не был, стало быть, и за этой мечтой таилось что-то реальное?
— Да, наши предки подобных грандиозных проектов не боялись…
— В истории сокрыта тьма интересного. Но ведь и мы с тобой ничего не боимся, разве не так? — с весёлостью в голосе ответил Алексей, после чего, решив завершить историческую тему, наклонил голову и вновь припал к Машиным губам.
Мария с ответной страстностью приняла поцелуй, однако затем не преминула пожурить с улыбкой:
— Фу, какое легкомыслие! На историка не похоже!
— Ну отчего ж? Разве историки — не люди? — и с этими словами Алексей ровно и нежно обнял Марию.
— Разумеется, люди. Только некоторые из них, не в пример патриарху Никону, совершенно легкомысленные! — звонко рассмеялась она, наградив Алексея в ответ собственным поцелуем. — А вот могу ли я быть легкомысленной?
— Конечно! Я выполню любой твой каприз!
— Великолепно. Тогда я хочу… знаешь, что я хочу?
— Мне не дано предугадать, моя повелительница!
— Тогда я хочу — крепкого и свежего кофе для нас двоих. На белоснежной скатерти в просторном, пустом и гулком ресторанном зале. И чтобы молодой официант дерзнул посоперничать с тобой красотой, но потерпел от тебя сокрушительное поражение!
— Слушаюсь и повинуюсь! Но для этого, боюсь, нужно возвращаться в Москву. Позвольте тогда пригласить вас в экипаж, chХre Madame[43]!
Всю дорогу в Москву наши герои в предвкушении великолепного завтрака болтали о всём и не о чём, смеялись и несли совершеннейшую чушь, разобрать которую спустя минуту было невозможно. Уже в самом центре Алексей указал Марии на дом на углу Неглинной и Театрального проезда и сообщил, что именно в нём он родился. «Отец до революции работал приказчиком у купцов Хлудовых и имел в их доме небольшую квартиру. Москва тогда была не в пример нынешней, всё под рукой — и школа, и театры!»
В ответ Мария попросила Алексея без специальной необходимости не упоминать события умопомрачительной древности, предложив жить исключительно настоящим, и он безоговорочно с ней согласился.
Утренний кофе с пирожными удалось обрести в «Метрополе» — антураж вполне соответствовал высказанным пожеланиям, правда, вместо жгучего официанта им прислуживала молодая китаянка в красном переднике. Мария изобразила театральную грусть и заявила, что не станет возражает, если он в эту китаянку влюбится. В ответ Алексей сделал серьёзное лицо и провожая глазами удаляющуюся от их столика узкоглазую красавицу, вспомнил древний восточный миф о невидимой красной нити судьбы, которая при любых обстоятельствах всегда рано или поздно соединит тех, кому предначертано быть вместе. Мария восхищённо зааплодировала, Алексей с нежностью заглянул ей в глаза и на какой-то момент оказался смущённым глубиной и задумчивостью, которыми они отчего-то наполнились вдруг внезапно и беспредельно.
Разделавшись с первым завтраком, решили ехать ко второму — на этот раз домой.
* * *
Во время утренней трапезы Борис как бы между делом сообщил, что с утра до Маши пытались дозвониться с поздравлениями человек десять или пятнадцать, а также что было получено приглашение «потусить» на даче у олигарха Гановского на Николиной Горе. Приглашены все, но особенно хозяин будет рад присутствию Марии, триумфальное выступление которой он смотрел вчера по телевизионной трансляции.
— Тоже мне, нашёл олигарха! — усмехнулась виновница переполоха. — Когда это Гановский успел заделаться олигархом?
— Ну, положим, не настоящим олигархом, а пока что «олигархом-лайт», — примирительно уточнил Борис. — Однако дачка у него не чета другим: участок за два гектара, лес и выход к реке.
— А мы вот с Алексеем сегодня тоже были у реки, — ответила Мария, отставив в сторону кофейную чашку, — и замечательно провели там время безо всяких олигархов!
— То есть ты не поедешь?
— Если Алексей не возражает, то давайте съездим. Всё-таки — смена обстановки!
Выезжать надо было в пять. Изрядно запылённый и испачканный истринской глиной двухместный родстер Штурмана остался дожидаться хозяина во дворе, ехать решили на скромном «Пежо» Бориса. Поскольку погода к середине дня стала налаживаться, Борис воспользовался возможностью свернуть крышу, и наши герои отправились в путь в открытой кабине кабриолета. Задумчивый с утра Петрович отметил про себя, что благодаря такому изящному решению статусность их транспортного средства определённо возросла — немаловажная деталь при посещении сильных мира сего.
Пока Борис, объезжая шлагбаумы и «кирпичи», пробирался к даче Гановского по хитросплетению узких улочек модного посёлка, в котором из-за мраморных заборов то и дело выстреливали фасады и башни роскошных особняков и вилл, им неожиданно пришлось принять на борт ещё одного пассажира — молоденькую девушку по имени Олеся со скрипичным футляром за спиной, которую пригласили на то же самое мероприятие. Она рассказала, что до Барвихи добралась на маршрутке, а затем заблудилась.
Сам хозяин усадьбы, сделавшийся совсем недавно обладателем умопомрачительного состояния, одетый в незамысловатый песочного цвета пиджак и демократичные джинсы встречал гостей на идеально подстриженной зелёной лужайке с бокалом шампанского в руке. Подарив Марии приветственный комплимент и поздоровавшись с Алексеем и Петровичем, Гановский отдал бокал лакею и заключил Бориса в крепкие дружеские объятия. Борис хорошо знал Гановского ещё со времён Кипра и теперь с удивлением отметил, принимая поцелуй в шею, что Гановский абсолютно трезв. «Видимо, держит шампанское для вида, бережёт здоровье. Намерен, значит, жить долго. Молодец, noblesse oblige[44]!»
Из импровизированных комментариев Гановского, которыми он продолжал встречать подъезжающих гостей, можно было заключить, что сегодняшнее мероприятие — что-то вроде открытия сезона, которое олигарх намерен взять за правило устраивать каждый год на берегах Москвы-реки. При этом отмечать «точку зенита» всем друзьям предлагается в конце июля в Каннах, а на закрытие сезона он приглашает в Монако.
— Дела в гору пошли? — дежурно поинтересовался Борис у широкоплечего белокурого американца лет пятидесяти, работающего у Гановского юристом.
— Да, мы предпринял эффективный шаги, — с небольшим акцентом не без гордости ответил американский экспат. — Имеем подряд нефтепровод, олимпик Сочи, и один важный траст. В управлении целых пять долгоиграющий пакет Роснефть и Газпром!
— Молодец, поздравляю. Очень рад, что твой босс в Москве хотя бы начал бывать. А то всё вечно за границей, толком не пообщаешься!
— Москва, — ответил американец не без гордости прежде всего за себя, — скоро будет второй Гонконг! А десять лет через — второй Нью-Йорк, запоминать!
— Запомню, — дружелюбно согласился с американцем Борис, и заприметив кое-кого из прежних знакомых, поспешил к столику под сосной, куда доставили поднос с коктейлями и холодные закуски.
Алексей остался вместе с Марией и был вынужден принять на себя всю столь привычную для спутников знаменитостей тягостность постоянного внимания, приветствий, предложений что-то обсудить и предпринять, восторженных комментариев и непременных просьб сфотографироваться. Но Алексей рассудил, что не должен сопротивляться данной роли, поскольку она будет способствовать успехам Марии и отчасти поможет его собственной интеграции в современное общество. Несмотря на неоднозначность своего отношения к этому светскому собранию и его участникам, Алексей не сомневался, что интеграцию лучше начинать «с верхов», нежели долгие годы корпеть где-нибудь в подвальных этажах.
Приятной неожиданностью для Алексея было то, что некоторые из гостей запомнили также и его собственное появление на сцене в первом номере, так что теперь не скупились на комплименты и лестные оценки.
В какой-то момент Мария, почувствовав себя утомлённой от избыточного внимания, предложила в присутствии хозяина вечеринки «заняться делом» и «что-нибудь сымпровизировать». Предложение прошло «на ура», Гановский отдал распоряжение — и вскоре Марию с Алексеем пригласили на огромную открытую террасу, где стоял белоснежный концертный рояль. Прислуга моментально соорудила по краю террасы линию из коктейльных столиков, куда доставили вино и закуски для желающих приобщиться к прекрасному.
Алексей, допуская возможность непредвиденного концерта, ещё днём скачал из интернета и распечатал фортепианные транскрипции различных популярных мелодий. Особое внимание он при этом старался уделять музыке, появившейся после войны, которую в силу понятных причин он прежде не знал, однако демонстрировать это незнание считал для себя недопустимым.
По распоряжению Гановского из «Пежо», припаркованного у входа в усадьбу, тотчас же принесли пухлую папку с нотами, и они с Марией занялись подбором номеров для своей небольшой программы. К ним присоединилась и скрипачка Олеся. Скромная и какая-то даже излишне простая при первом знакомстве, она, как весьма скоро выяснилось, виртуозно владеет инструментом и может аккомпанировать буквально с голоса.
Решив не искушать судьбу, Алексей в качестве разминки принялся наигрывать вариации из джазовых сюит Шостаковича, некоторые из которых он разучивал — страшно помыслить! — ещё в конце тридцатых. Олеся, когда находила возможным, присоединялась к его игре, и всякий раз ей это удавалось более чем удачно. Для пробы сил в современных вещах Алексей взял несколько транскрипций Леграна, Кола Портера и Пола Маккартни, чем сразу же сорвал аплодисменты. Однако на поступившую просьбу сыграть что-то «посвежее» задумчиво ответил, что его пристрастия остановились на лучшей и самой богатой, по его мнению, области музыки, оформившейся в начале XX века «на основе уникальных для Европы интонаций русского невыхолощенного симфонизма, французского импрессионизма и американской джазовой импровизации».
Во время небольшого перерыва, когда разгоряченному игрой Алексею принесли фужер с коктейлем, Мария сообщила шёпотом: «Публика плохо разбирается в музыке и я боюсь, что тебя начнут воспринимать как тапёра. Попробуй показать им что-нибудь особенное!»
«Но что именно их сможет удивить?» — спросил Алексей.
«Может быть, ещё одно старое польское танго? — подсказала Маша. — Это ведь в самом деле удивительная музыка, и я теперь понимаю, почему ты к ней столь неравнодушен».
Алексей согласился, подозвал к себе Олесю и о чём-то коротко переговорив с ней, вскоре громко постучал десертной ложкой по краю бокала, привлекая внимание.
— Дорогие друзья, я исполню для вас одну замечательную песню. Это довоенное польское танго Pamietam twoje oczy[45], - объявил Алексей негромким голосом в наступившей вокруг тишине. — Сегодня эту вещь не часто можно услышать, если можно услышать вообще. Тем более что я приготовил для вас маленькую премьеру — я спою это танго на русском языке.
Вновь раздались аплодисменты, которые были прерваны мощными аккордами вступления, неожиданно для всех зазвучавшими с трагической силой и глубиной. Трепетный альтовый звук скрипки мгновенно заполнил собой пространство террасы и вырвался в сад, притягивая внимание собравшихся и заставляя их прервать разговоры. В наступившей сосредоточенной тишине сильно, объёмно и богато зазвучал баритон Алексея:
За гранью прежних дней и встреч Твоих я ласк не помню: Не помню уст горячих, ни жарких слов признаний… Лишь помню блеск твоих очей — пьянящих, страстью полных, Открытых и огромных, Как бездна и любовь. Прошло уж много лет, Но первой встречи след Остался в сердце, как рана, Хоть женщин немало Мимо прошло. Не знаю я ни одной, Чтобы сравнились с тобой, И чтоб огонь их любви Горел, как очи твои!..Кто-то из гостей решив, что всё уже сказано пропето, начал было аплодировать, однако Алексей, неожиданно выстрелив поверх голов суровым и бесстрастным взором, резким ударом в клавиши взял сфорцандо, и тотчас же поддержанный объёмным и густым легато скрипки в руках Олеси, продолжил — на этот раз на полтона сумеречнее и грустней:
И вот проходит жизнь, как сон, Тебя уже не встретить, Не вспомнить уст горячих, ни светлых слов весенних… Лишь помнить буду блеск очей — роскошных, счастьем полных, Распахнутых, бездонных, В снегах моей души.«Вот теперь всё», — сказал он негромко, чтобы могла слышать только Олеся, и на несколько мгновений задержав свой взгляд на замолчавших клавишах, резко поднялся из-за рояля.
— Браво, Алексей! — Гановский не скрывал восхищения. — Сам не могу понять, чем эти старые песни так берут. Магия, да и только!
— Скрывать такой талант! Как же вам не стыдно! — к Алексею поспешила с комплиментом молодая спутница известного питерского банкира. — Послушайте-ка, если в вашем концертном графике будет окно, обязательно приезжайте к нам. Муж в июне устраивает закрытый фестиваль. Выборгский замок, белые ночи… Обязательно приезжайте!
— У нас лучшая в Москве закрытая школа, — вторила ей другая дама, — мы вас тоже ждём. Приезжайте к нам на выпускной!
И с этими словами она сунула ему в ладонь визитную карточку.
Затем подошла ещё одна дама с внешностью и манерами школьной учительницы, предложив Алексею познакомиться со своим спутником — известным спортсменом Ласточкиным, который выглядел лет на десять её моложе. По тому как одетый в дорогой шёлковый пиджак олимпиец постоянно кивал и повторял по делу и без дела «Круто!» и «Замечательно!», Алексей заключил, что он давно и безнадёжно пребывает под каблуком и его единственная задача — не более чем открывать своим именем нужные двери. Между тем некоторые из рассуждений манерной дамы показались Алексею интересными. Так, она вполне убедительно, постоянно стараясь приправлять клокочущую эмоциональность рациональными доводами, рассуждала о социальной миссии и особой профессии таких, как она, «светских людей»:
— Все почему-то убеждены, что мы — пустые прожигатели жизни, а ведь это совсем не так. Да, нам не нужно париться у станка или в офисе, мы можем позволить себе ложиться в пять утра и спать до обеда, отключив при этом мобильный телефон, а затем можем весь день провести в массажном салоне или проболтать с подружкой в клубе за чашечкой кофе. Но зато именно благодаря нам общество получает ориентиры. Женщины из нижних слоёв, — перед словом «нижних» она на миг задержала дыхание и произнесла его с каким-то особенным ударением, — на словах продолжая ненавидеть нас, начинают к нам тянуться. А их мужчины, видя это, тоже постепенно облагораживаются. Кстати, именно благодаря нам после кошмарных девяностых в России произошла революция!
— Какая, позвольте, революция? — поинтересовался стоявший неподалёку господин средних лет в круглых очках с бородкой «анкор», которая делала его чрезвычайно похожим на меньшевика Дана.
— Революция гламура! — с ходу выпалила дама с прямолинейностью педагога.
— Поясните, что вы имеете в виду?
— Я имею в виду очень простую вещь — когда бандиты, правившие балом в девяностые, увидели новый великолепный стиль жизни, принципиально отличный от их жестоких самцовых принципов, — то под его влиянием они быстро изменились.
— То есть, по-вашему, предпочли гламурные «тусэ» своим стрелкам и разборкам?
— А вы, пожалуйста, не язвите! — неожиданно решил поддержать даму её молчаливый спутник. — Вот скажите, например, где теперь все эти бандиты?
— Я думаю, что они друг друга перестреляли, — ответил, не скрывая улыбки, человек, похожий на меньшевика.
— Всех перестрелять невозможно, — торжественно возразила дама, не уловившая, видимо, юмора. — Под воздействием принципов гламура, как бы мы к нему не относились, Россия стала другой. Люди, обладавшие деньгами и силой, начали меняться, начали расти в соответствующем аспекте, и сегодня, уверяю вас, мы пожинаем плоды этого замечательного процесса!
Борис, оказавшийся поблизости, не смог удержать себя от того, чтобы не шепнуть Алексею на ухо о наблюдаемом им факте чрезвычайно высокой концентрации «гламуризированной бандократии» на вечеринке Гановского. Услышав это замечание, Алексей, не сдержавшись, прыснул отчаянным смехом. И если бы Борис чуть загодя не догадался потянуть Алексея за пиджак, заставив развернуться, то его друг вполне мог оказаться в положении сомнительном и неловком.
Вскоре пронёсся слух, что поднесли горячие закуски, и все присутствующие непроизвольно стали перемещаться к фуршетным столам, расставленным под огромным парусиновым тентом. Вместе с горячим прибыли и очередные подносы, полные шампанского, вин и запотевших стопочек водки. Используя прибытие алкоголя как предлог, Алексей, опрокинув стопку и прихватив с собою ещё две, поспешил на розыски своего боевого друга. Ведь Петровичу, который, как выяснилось, не был толком никому представлен, явно не хватало общения, и практически всё время вечеринки он коротал в небольшой беседке для курения, попыхивая загодя припасённой трубкой и периодически вступая в случайные conversations brХves[46] с заглядывающими в эту беседку любителями табака.
Петрович с благодарностью принял доставленную ему ледяную стопку и проследовал к столу, где наши герои в полном составе получили возможность немного отдохнуть от во многом неестественных и бессмысленных разговоров. К их кругу присоединилась и скрипачка Олеся, заслужившая от Бориса похвалу за блестящую игру. Олеся отказалась от вина, сообщив, что ещё ни разу в жизни не употребляла алкоголя, и поэтому Борису пришлось разыскать персонально для неё кувшинчик с ананасовым соком.
Олеся поведала, что она — студентка четвёртого курса музыкального училища, однако учёбу, возможно, скоро придётся прекратить, поскольку тяжело заболела мать и завершение образования сделалось роскошью. Поэтому ей приходится подрабатывать подобного рода частными концертами, а когда приглашений нет — играть вечерами в новом подземном переходе на станции метро Маяковская.
Совершенно неожиданно перед ними возникла молодая строгая мадемуазель в бордовом жакете поверх тёмно-фиолетового муарового платья.
— Это вы — скрипачка? — без представления спросила она Олесю, вперившись ледяным взглядом.
— Да, я. А вы кто будете?
— Я — персональный менеджер господина Гановского. Вы должны сейчас же покинуть мероприятие.
— Но вы же… вы же пригласили меня для выступления!.. Агент переслал мне приглашение от вас…
— Я сожалею, но приглашение аннулировано. Агент должен был вам об этом сообщить, но он почему-то этого не сделал и поэтому мы с ним больше не предполагаем взаимодействовать. Кстати, как вы попали на территорию?
— Я заблудилась, и меня подвезли ваши гости, — Олеся растерянно кивнула в сторону Бориса.
— Всё понятно. Охрана иначе бы вас и не пропустила. Собирайтесь, наш водитель довезёт вас до ближайшего метро.
— Послушайте! — вступился за Олесю Борис, сразу же догадавшийся, что смена репертуара и аннулирование приглашения скрипачки произошло исключительно из-за его согласия прибыть на вечеринку с прославившейся сестрой. — Я сейчас же переговорю с самим Гановским, это недоразумение, Олеся должна остаться! Она великолепно играет!
— Очень сожалею, — ответила Борису мадемуазель, вышколено наклонив голову и растекаясь улыбкой, словно перед старшим по званию, — но у нас строгие правила. Эта девушка не должна и не будет здесь находиться, она сейчас же поедет в Москву.
— Но тогда мы тоже уедем! — не выдержал Алексей.
— Ни в коем случае, — прозвучал спокойный ответ. — Ведь вы — персональные гости господина Гановского!
И тотчас же Алексей ощутил на себе силу парализующей улыбки муаровой мадумуазель.
Борис что-то пробормотал под нос и решил попробовать разрядить ситуацию.
— Ладно, Алексей, мы останемся, — сказал он примирительно. — А вот вы, господа менеджеры, должны ответственнее относиться к своей работе!
— Спасибо, мы учтём ваше замечание, — невозмутимо ответила муаровая мадемуазель, переводя свою парализующую улыбку с Алексея на Бориса.
— Но мне обещали заплатить… — робко попыталась напомнить о себе Олеся.
— А у вас, девушка, есть на руках подписанный контракт?
— Нет.
— Значит успокойтесь, вы ничего не получите. Разбирайтесь с агентом сами, а сейчас освободите территорию от своего присутствия!
Подошёл вышколенный водитель в какой-то особенно белоснежной на фоне темнеющего неба сорочке, при галстуке и в застёгнутом на все пуговицы костюме. Мадемуазель кивком головы представила его и отошла на несколько шагов в сторону — всем своим видом демонстрируя, что считает проблему разрешённой, однако продолжает сохранять контроль.
Олеся грустно вздохнула и растерянно со всеми попрощавшись, взяла чехол с инструментом и пошла за водителем.
— Стой! — догнала её Мария, — Подожди!
С этими словами она открыла свою сумочку и извлекла из неё толстый перетянутый скотчем конверт, переданный ей вчера Устюговым.
— Подожди же! — с этими словами она разорвала конверт и, запустив пальцы в тугую плоть купюр достоинством по пятьсот евро, извлекла оттуда половину. — Возьми вот это.
— Что вы, что вы! Не надо! — запротестовала Олеся, растерявшись и внезапно подавленно замолчав. Несложно было догадаться, что за всю свою жизнь она едва ли держала в руках более пары бумажек подобного достоинства.
— Милая, даже не спорь. Всё это — твоё, — с этими словами Мария помогла Олесе убрать деньги и сама подвела её к водителю. — Ступай!
И тотчас же развернувшись, крикнула в адрес строгой мадемуазель:
— Потрудитесь, чтобы шофёр доставил её домой и сопроводил до самой двери квартиры!
— Конечно, не сомневайтесь! — с услужливой готовностью немедленно ответила та, и тотчас же громко ретранслировала водителю уже властным голосом: «Поднимешься с ней до самой квартиры!»
Мария не стала дожидаться свой порции неповторимой улыбки и, ничего не сказав, возвратилась к обществу.
В одну из неколебимых традиций олигарха Гановского входило устраивать всевозможные вечеринки, рауты и ассамблеи не только без общего стола, но даже без гарантированных для каждого из гостей стула или кресла. При обильных разнообразных закусках и аперитивах подобный порядок не только позволял публике активнее общаться, заводить знакомства и устраивать между собой всевозможные дела, но и создавал неповторимую атмосферу праздничного возбуждения и отчасти восторга. Дополнительным плюсом почти постоянного пребывания на ногах лично для себя Борис отмечал возможность употребления несколько большего количества алкоголя, который, что бы ни говорили врачи и прочие недоброжелатели, был, есть и будет оставаться необходимым условием приятной застольной беседы и бодрящего предощущения новых встреч, открытий и мыслей.
Перейдя с шампанского на портвейн и имея в более отдалённых планах сконцентрироваться на чём-то более крепком и «шотландском» вроде Macallan или Longmorn, Борис в высшей степени праздно перемещался между группами гостей, изредка подключаясь к какой-нибудь беседе, но чаще — просто выискивая знакомые лица и перебрасываясь двумя-тремя дежурными фразами для поддержания если не знакомства, то по крайней мере визуальной памяти.
Куртуазного вида девица с бриллиантовым колье интересовалась у изящного молодого человека:
— Я так хотела увидеть сегодня здесь Сёму Огородникова — а его, похоже, нет.
— По моим сведениям, он на даче.
— Какая прелесть! Такая погода, весна…
— Не радуйся, он на даче показаний!
Два предпринимателя оживлённо обсуждали чей-то бизнес:
— Так ты не знаешь? Кипятильникова просто подарила часть акций своему управляющему, управляющий за месяц навёл на заводе порядок, всех разогнал, привёз пятьсот узбеков — и теперь Наташка каждый месяц получает, совершенно не парясь, по семьдесят миллионов!
— Неплохо, конечно, но она при этом всё равно остаётся в теме. Не забывай, в какой стране мы живём… Если на заводе что случится, то её найдут и могут быть проблемы. В наши дни доказать, что директор контролируется собственником — раз плюнуть.
— Ну мало ли что можно предположить? А вдруг и на нас кирпич упадёт?
— Кирпич, может, и не упадёт, а вот Андрюшка Рубин поступил куда грамотнее — он свой заводик вообще закрыл, оборудование порезал на лом, а землю загнал девелоперу. Сердито, но на оставшуюся жизнь ему от пуза хватит.
— А его племянница Кристина по-прежнему делает успехи в теннисе?
— Нет, она зачехлила ракетку.
— Тоже собирается валить из «Рашки»?
— Да она уже давно свалила! Второй год блаженствует на Гоа. На кой чёрт ей теннис сдался?
Молодые женщины в плетёных креслах о чём-то оживлённо шептались и хохотали, пока их друзья и мужья, вооружившись бокалами с красным вином, сошлись на деловых вопросах:
— Сенатор Лудаков подался в сельское хозяйство, ты в курсе?
— Ну и что? Это же сейчас модно.
— Модно — не модно, а Минсельхоз уже подписал ему на этот год субсидий на пять миллиардов.
— Дурак он! Засветится с таким баблом, и все его тотчас же сдадут!
— Да, но пять миллиардов просто вот так срубить — не шутка.
— Глупости. Если хочешь, я познакомлю тебя с одним малым — так вот, он добился буквально двух нужных слов в текстовке распоряжения правительства — и теперь имеет с нефтепровода в год миллиардов под сто.
— Ха, и ты считаешь, что эти деньги все — его?
— Почти все. Во-первых, мало кто знает, сколько на самом деле он зарабатывает. А во вторых — откаты с такой суммы, сам понимаешь, не так-то легко доставить по назначению. Скорее всего, в натуре он заносит мизер, так сказать, на карманные расходы парочку, как принято, «коробок из-под ксерокса», а остальные бабки остаются у него лежать как бы в трасте. Только вот я думаю, что лет эдак через пять не будет ни траста, ни этого малого — я имею в виду под прежней фамилией… Возникнет где-нибудь на другом конце света счастливый и богатый человек с чистым и безукоризненным прошлым!
— Не многовато ли будет ему бабла на оставшуюся жизнь?
— Для нас — много, для него — в самый раз. Он как раз один из тех, кто планирует прожить лет двести, и в финансирование этой беды вложился более чем конкретно… Давай-ка лучше выпьем!
— Ты прав. Пьём за здоровье немедленно!
Чуть поодаль Бориса окликнул знакомый депутат Государственной Думы с вопросом «на засыпку»:
— Ты в курсе, что Могилевский стал баронетом?
— Понятия не имею. Лет десять с ним не общался, он ведь давно из Лондона носу не кажет. А за какие, интересно, заслуги?
— Женился на вдове баронета.
— Я рад за него.
— Тут самый прикол в том, Боря, что ты лично познакомил меня с этой баронетессой Эмилией в баре в Никосии, а она потом всех уверяла, что никак не может тебя влюбить. Каково, а?
— Не грусти, она ведь страшная и бестолковая. Как раз вариант для всеядного сэра Льва! — ответил, поморщившись, Борис и похлопал депутата по плечу.
Под узорными сводами небольшой беседки два молодых человека и девушка оживлённо обсуждали таланты какого-то неповторимого голландского сэнсэя:
— Так вот, этот Хенк, если он согласится работать, гарантированно выведет любой твой талант на самый высокий рынок. До уровня Phillips de Pury и даже Cristie's.
— Неужто любой?
— Именно, что любой. Больше, конечно, к нему обращаются по части современной живописи, однако он может взяться за всё что угодно — от стихов до танцев.
— Невероятно!
— Почему ж невероятно? Ведь лучше всего продаётся не то, что создаётся годами работы и геморроем, а то, что правильно раскручено.
— Так он что же — просто за раскрутку берёт?
— Нет, у него потрясающий нюх на то, что именно можно раскрутить.
— Тогда этот Хенк просто гений. А сколько стоит к нему обратиться?
— Цена начинается от двухсот тыщ евро за персонализированную творческую концепцию. Очередь на год. Но зато — потом не пожалеешь!
Пройдя ещё метров пятнадцать, Алексей снова столкнулся с олимпийцем Ласточкиным, осмелившемся обсуждать в отсутствии супруги хозяйственные и финансовые вопросы.
— … А ты не знаешь, как Гановскому удалось такую усадьбищу отхватить? Откуда земли столько? — интересовался известный спортсмен у не менее известного спортивного промоутера.
— Тут раньше был какой-то санаторий.
— Тогда понятно… Хорошо ему, в этом месте не велось боевых действий.
— Да, на Николиной не воевали. А с чего это ты вдруг про войну вспомнил?
— Да с того, что моя Лариса прикупила за Звенигородом три гектара. Короче, пионерский лагерь забрала по банкротству. И вот только она всех оттуда разогнала и начала строить конюшню — на нас инспекция с ментами наезжает.
— С какой стати?
— А с такой, что в сорок первом году там действовали какие-то партизаны, и теперь эта земля — объект, так сказать, наследия.
— Ну да, это только нам, дуракам, в школе талдычили, что партизаны — хорошие. А на самом деле, как теперь выясняется, этих партизан специально готовили в диверсионных отрядах НКВД, чтобы они убивали мирных жителей и громили их дома. Для усиления, так сказать, ненависти и чтобы врагам имущество не досталось, — высказался промоутер с гордостью человека, недавно что-то на эту тему прочитавшего или услышавшего.
— Ты думаешь, я этого не знаю? Одна Зоя Космодемьянская чего стоит! Поджигала частную собственность, за этим делом попалась, а потом из неё героиню сотворили! А я теперь из-за всего этого геройства знаешь, на какие бабки попадаю?
Оказалось, что молчаливый Ласточкин, достигая состояния возбуждения, может изъясняться вполне связно и эмоционально.
— Ты хочешь сказать, что Зоя Космодемьянская и до тебя из могилы дотянулась? — съязвил промоутер.
— Да я бы её…
Борис, не без неприязни подслушавший этот разговор, хотел было осадить спортсмена-землевладельца, однако в тот момент кто-то резко и немного бесцеремонно одёрнул его со спины. Обернувшись, Борис не сразу различил в уже достаточно плотных сумерках своего давнишнего приятеля, которому он когда-то, по старой жизни, помогал в поиске иностранного банка для экстренного перекредитования.
Приятеля звали Виталиком. Несмотря на показной прикид молодого бесшабашного гуляки в потёртых джинсах и старой футболке, Виталик, имея фигуру по-спортивному крепкую и жилистую, на этот раз выглядел немного растерянным, постаревшим и даже потухшим. Первым делом он счёл нужным поведать Борису, что задержался по причине того, что имел стычку с «чеченскими коллекторами», пытавшимися отобрать у него швейцарские часы на выходе из клуба в гостинице «Украина». Чеченцы, судя по словам Виталика и отбитым часам, небрежно болтающимся на запястье, были посрамлены, однако печальным обстоятельством являлось то, что действовали они по наводке вполне официальных судебных приставов. Последние давно положили глаз на остатки когда-то обширного состояния Виталика, ныне разбросанного и перепрятанного по многочисленным офшорам, акциям и депозитам, в результате чего он никак не может консолидировать активы, чтобы отыграться.
Борис, отчасти знакомый с бедами Виталика и его практически безнадёжными долгами на несколько миллиардов рублей, выразил сочувствие, но и тут же подумал: «Зато вот пример нового дворянства! Человек не просто сидит без капитала, но имеет капитал резко минусовый, то есть его положение во много раз хуже, чем у последнего бомжа. Тем не менее он носит дорогие часы, ездит на представительских машинах и, главное, сохраняет право входа на олигархические тусовки. Хотя, быть может, последнее даже к лучшему — вдруг найдёт себе здесь партнёра или очередного покровителя…»
Но с новыми партнёрами, судя по всему, у Виталика дела не ладились, поскольку он явно начал пытаться, не зная всей правды, искать покровительства у Бориса. Он поведал, как «занавесившись» через третьих лиц, сумел в конце зимы приобрести в Тверской области заброшенный колхоз и теперь намерен открыть там охотничье хозяйство с элитной базой отдыха. Гостевые домики, баня, конюшня, стрелковые вышки и кормушки для кабанов — всё уже оплачено и готово, дело остаётся за малым — «раскрутить» объект. Для этого, по мнению Виталика, достаточно уговорить приехать туда погостить члена Правительства или какую-нибудь творческую знаменитость.
Борис пообещал помочь, чем сумеет, и попросил для начала прислать ему рекламные материалы по охотничьей базе. Виталик повеселел, приободрился и принялся рассказывать какой-то длинный и занудный анекдот, заставивший Бориса искать предлог куда-нибудь уйти. Подходящий повод представился достаточно скоро: к Борису подошёл Петрович с просьбой от Марии помочь в подготовке очередного выступления.
Борис быстро перепоручил Виталика в ведение обнаруженного неподалёку Петровича, и тотчас же удалился к сестре.
Однако там быстро выяснилось, что причины для спешки нет — рядом с террасой, чуть поодаль от ярких световых овалов, отбрасываемых на землю многочисленными светильниками, Мария и Алексей оживлённо беседовали с миниатюрной пожилой женщиной в бретонской шляпке, оказавшейся матерью Гановского. Именно она вчерашним вечером обратила внимание своего сына на выступление Марии и с изумлением услышала в ответ, что молодая певица — сестра его старого приятеля.
— …Поймите меня правильно, моя милая, — услыхал Борис немного возбужденную речь пожилой дамы, ведавшей себе цену, — я кое-что понимаю в этой жизни и желаю вам только добра. У вас прекрасный голос, но оставляя его таким, каким он есть, вы не сделаете карьеру. Колоратурные изыски сегодня никому не нужны и не интересны. Вы же не согласитесь всю жизнь петь одну лишь «Царицу ночи»! Подумайте, что Милица Корьюс, которую, вы вчера перепели, после того фильма так и не смогла сотворить себе карьеру настоящей певицы! Переходите в более низкий регистр, пробуйте себя в малой октаве! И меняйте амплуа, деточка, срочно меняйте! Можно и небольшую операцию по корректировке голосового аппарата сделать — подумайте хорошенько. Если что, у меня есть один замечательный хирург, я для вас всё организую…
— Извините, что вмешиваюсь в ваш разговор, — немного бесцеремонно объявил о своём прибытии Борис, — но я бы поостерёгся быть столь категоричным. Маша свободно чувствует себя в широком диапазоне и может браться даже за драматические партии. Она легко переходит в кантилене с грудного резонирования на головное. Плюс — мягкость дыхания. Плюс — много ещё чего. У Маши действительно уникальный голос, и ей бы… ей бы не по разным сомнительным лавочкам нашим шастать, чтобы потом резать связки, а позаниматься у лучших мировых вокалистов!
— Конечно, конечно, вы абсолютно правы! Талант нужно развивать, пусть она развивает, но вот использовать она его сможет только в узком домашнем кругу, уж вы мне поверьте! Ибо миром искусства сами знаете, что правит.
— Знаю, деньги.
— Не только деньги, мой милый. Прежде, чем приходят деньги, формируются стандарты и стереотипы. Во времена Моцарта и Доницетти были один стандарты, теперь — другие. Сегодня рынку колоратуры и стаккаты не нужны. А знаете, почему? Потому, что публика хорошо потребляет лишь то, что она сама способна в каком-то приближении воспроизводить. Никто и никогда не согласится платить за то, что ему ни при каких обстоятельствах абсолютно недоступно в домашнем музицировании или под караоке. Никто и никогда!
— Но мне наплевать на деньги, — немного раздражённо и с грустью в голосе ответила Мария.
— Не смешите меня, голубушка! Даже если вам наплевать, то вот ему, — и она кивнула в направлении Алексея, сидевшего в кресле неподалёку, — ему, вашему спутнику, это вовсе не всё равно!
— Отвечу честно, мне тоже всё равно! — отозвался Алексей, не вставая. — Я разобьюсь в щепу, но найду, как обеспечить Машу всем необходимым. А она пусть развивает те свои способности, которые получила от природы. Так что обойдёмся без операции.
— Абсолютно согласен, — резюмировал Борис.
Однако тут Мария неожиданно лукаво улыбнулась старушке и заявила, что телефон хирурга она записать готова и что над операцией — подумает.
— Умница, я же говорила! Умница! — всплеснула та руками.
— При одном условии, — спокойно ответила Мария и, подойдя к плетёному креслу, в котором сидел Алексей, возложила свои руки ему на плечи. — При условии, что об этом попросит меня он.
И, наклонившись, поцеловала Алексея в волосы.
Наступившую на миг тишину пришлось прерывать виновнику поцелуя:
— Ну вот об этом я точно не попрошу! Кстати — мы забыли, что обещали что-то исполнить. Публика, похоже, уже заждалась.
— Этой публике, — заговорила старушка Гановская ровным и спокойным голосом, бросив в сторону толпы гостей надменный взгляд, — им ближе не академический вокал выслушивать, а под «Мурку» плясать. Хотя когда-то эта самая «Мурка» была прекрасная и чистая мелодия… Я — старый человек, мне нечего скрывать, и мой сын это тоже знает: половина из тех, что там толпятся, — абсолютно неграмотные и невежественные люди. Вторая половина — негодяи, которые шли к вершинам по чужим судьбам и трупам. Баловни судьбы и преступники, ничего более… Однако вы правы, мы им обещали меленький концерт. В конце концов, их расположение нужно всем нам для нашей работы… Я слышала, вы что-то что из Вагнера сейчас споёте?
— Из Вагнера? — искренне удивилась Мария. — Из Вагнера я знаю крошечную партию Фреи из «Золота Рейна», и это всё, пожалуй. Пробовала, правда, как-то ещё Эльзу, Einsam in truben[47]. Но я не люблю Вагнера.
— Отчего ж?
— Я понимаю, что я неправа, но для меня он — мизантроп и воспеватель смерти. Не выношу его, и всё. А почему вы спросили о Вагнере?
— Потому, милая, что в ближайший год Вагнер будет в моде. У вашего воспевателя смерти грядёт юбилей, и публика готова платить за него любые деньги. Понимаете?
— Понимаю. Но только сегодня я Эльзу петь не хочу.
— А что, Маш, может попробуешь? — подключился к новой теме Борис. — Публика оценит, а аккомпанемент там несложный, легко на рояле изваяем.
— Нет, не хочу и не буду!
— Подумай, у тебя получится!
— Нет.
— Но послушай, — не унимался Борис, — сегодня — отличный шанс заявить о себе. Закрепить вчерашний успех. В конце концов, если не петь, то зачем ты сюда приезжала, а я напрасно травил свою печень алкоголем?
— Боря, — ответила Мария. — Мы с Алексеем уже всё решили. Я буду петь первую арию Виолетты. Потому что я именно так себя сейчас чувствую и именно так хочу. Ведь взгляните, друзья — какой прекрасный сегодня вечер, замечательное весёлое общество, вино и улыбки! О болезнях печени и обо всём прочем можно пока не думать… Я чувствую, что здесь и сейчас для меня… для всех нас открывается какое-то неведомое будущее, и у меня есть надежда, что оно будет счастливым. Мне сегодня как-то особенно странно и хорошо.
И поправив длинную шаль на плечах, Мария развернулась по направлению к широкому спуску к реке, открывающемуся сразу же за ярко освещённой площадкой шумного собрания.
— Хорошо, — ответил Борис, обращаясь к Алексею. — Виолетта так Виолетта. Сможешь поддержать аккомпанементом? Или мне попробовать?
— Я думаю, — ответил Алексей, — что петь арию Виолетты на пару с концертмейстером в такой день не стоит. Нужен хороший оркестр.
— Ясное дело, нужен оркестр! Только где мы его возьмём?
В ответ Алексей загадочно улыбнулся и пригласил Бориса спуститься к реке.
Внизу, на берегу Москвы-реки, на обширной тщательно подстриженной пляжной лужайке, группа рабочих в свете фар двух автофургонов завершала установку огромного телеэкрана, мощной акустической системы и нескольких студийных видеокамер. Через открытый сбоку кузов одного из фургонов с параболической антенной на крыше был различим длинный микшерный пульт, таинственно мерцающий разноцветными огоньками, с двумя склонившимися над ним тёмными фигурами. Услышав приближающиеся шаги, одна из фигур развернулась, и Борис узнал радостного Гановского.
— Так ты ещё не в курсе? — с нескрываемым восторгом воскликнул олигарх, обращаясь к Борису. — Твой друг придумал гениальную вещь!
— Поясни, что всё это значит?
— Мария будет петь в сопровождении «Кремлёвских виртуозов», как вчера. Ведь они достойны друг друга!
— Ты что? Ты и их сумел пригласить? Они сюда специально припёрлись из Москвы?
— Ха, они улетели из Москвы утром. Сейчас они в Лейпциге, в Гевандхаузе.
— Ты хочешь сказать, что они будут играть… через спутник?.. — Борис с изумлением покосился на антенну, экран и гигантские колонки.
— Именно так! Твой приятель — гений, он подбросил отличную идею, — Гановский восхищённо кивнул на Алексея, — а я её реализовал. Техника из фирмы Андрюшки Баумритца, он здесь на Рублёвке все праздники пасётся, прикатил через полчаса. Директору оркестра я сам позвонил, они там у себя сейчас начинают репетировать и согласились для нас малость потрудиться. Так что, как видишь, всё на редкость классно складывается!
— Только затраты, наверное, сумасшедшие, — пробурчал Борис.
— Брось. Какие затраты? Рублей восемьсот от силы, ну — миллион. Или полтора. Что же мы — не заработаем? Гляди-ка лучше — сейчас запустят видеоканал!
Действительно, огромный экран вспыхнул ярким синим цветом, мгновенно отразившемся в глади реки, и спустя несколько мгновений появились картинка с изображением пустого дирижёрского пульта и нескольких захваченных в кадр музыкантов. Тут же следом пришёл и звук — объёмный, гулкий и живой, будто каждый из многочисленных разномастных динамиков выдавал что-то своё: шум шагов и сдвигаемых стульев, установочную линию гобоя, немедленно подхватываемую густым скрипом бас-кларнета, потом — беспорядочные пассажи струнных и грохот поднимаемого с пола контрабаса…
В кармане у Гановского зазвонил мобильный телефон. Дирижёр «Виртуозов» докладывал из Лейпцига, что будет готов через десять минут.
Гости начали дружно спускаться к речной террасе и заполнять её обширное пространство. В дополнении к неяркому свету садовых торшеров, на причале, где были пришвартованы два прогулочных катера — хозяина и кого-то из гостей, — зажгли прожектора, очертившие своими лучами два чётких изумрудных круга, на пересечение которых вскоре выступила Мария. Она помахала рукой, и малозаметные на фоне тёмных кустов студийные телекамеры на растопыренных треногах тотчас же перенесли её приветствие в далёкий Лейпциг, откуда дирижёр, вставший к пульту, послал ей в ответ воздушный поцелуй.
В воздухе нарастал густой и плотный шум от многочисленных голосов — публика по достоинству оценивала высокотехнологичный сюрприз, и Гановский не скрывал своего удовлетворения. Дирижёр взмахнул, и оркестру пришлось дважды проигрывать вступительные такты, прежде чем шум, наконец, затих.
E' strano!.. e strano!.. in core scolpiti ho quegli accenti… Saria per me sventura un serio amore?… Che risolvi, o turbata anima mia?…[48]Мария пела на итальянском языке арию своей любимой героини, разученную много лет назад, когда она даже помыслить не могла о подобной роли. Пела она свободно и легко, звук её голоса, казалось, шёл из глубин сердца и был мягок, напевен и искренен. Её сопрано спокойно и ровно нисходило до волнующих драматических нот в строках о горечи отвергнутой любви и немедленно наполнялось лёгкостью и светом, когда слова адресовались возлюбленному.
Затем — знаменитое «Follie!.. follie!..[49]» В этом месте словно что-то надрывается внутри, и от внезапного прозрения сердце на миг останавливается: «Напрасные мечты, зачем я им так доверяюсь, одинокая и никому ненужная? Да, лучше не загадывать, не испытывать судьбу, не стремиться к безумно высокому и недоступному свету, который может так и не зажечься… Или, будучи зажжённым, внезапно погаснуть. Всё может быть, потому что всё уже было. И будет, конечно, обязательно будет… Но что же делать тогда — бесстрастно взирать на несовершенство и обречённость мира, готовится к худшему, ждать огня и катастроф, уподобляясь ненавистным мне вагнеровским истуканам? Нет, только не это. Значит — надо оставаться собой, оставаться той абсолютно совершенной, молодой, весёлой, щедрой и всеми любимой. Стараться взять всё от этой лучезарной и искрящейся жизни, от каждого её мгновения. Ведь солнце — оно щедрое и вечное, поэтому брать его свет — не совестно, не страшно. И не страшно наслаждаться. Наслаждаться всеми до конца прекрасными солнечными днями, которыми нас одаривает судьба, проживать в их безумном вихре и не думать, не думать о том, что где-то ждут, затаившись, своего страшного часа болезни и утраты. Итак — наслаждаться! Только наслаждаться!»
И вот, следуя этому восторженному зову, голос Марии вырывается в верхний, искромётный регистр, где его уже не удержать, и рассыпается серебряными струями:
Sempre libera degg'io Trasvolar di gioia in gioia, Perche ignoto al viver mio nulla passi del piacer…Оркестр гремит, повторяя рефреном пьянящую мелодию Верди, прославленную в веках. На экране крупным планом хорошо видно, как дирижёр оборачивается к камере, что-то желая спросить у певицы. Мария прочитывает вопрос в его глазах, и тотчас же, обращаясь к уже своей камере, притаившейся возле высокой густой акации, подаёт знак снова сыграть Sempre libera… Этот импульс уносится неведомой силой по проводам и радиоволнам за многие тысячи километров и незамедлительно возвращается гремящей симфонией счастья. Мария внезапно переходит на русский текст:
Быть свободной, быть беспечной! Жизнь, лети от восторга к восторгу! Нам неведомо, сколько продлится Её сладкий и радостный бег!..Пять ритурнелей за вечер! Успех грандиозный и ошеломляющий.
К радости Марии и удовольствию зрителей, на этот раз эмоции публики не урезаются, как вчера, необходимостью переходить к последующим номерам. Сегодня уже ничего больше не прозвучит. Затронув и оживив какую-то потайную струну в сердце каждого, Мария из заурядной гостьи, приглашённой провести праздник на даче у знатного финансиста, вдруг сделалась всеми любимой и обожаемой. Воистину, сегодня — её вечер, сегодня она — королева бала.
Экраны погасли, но светильники продолжали гореть по-прежнему волнительно и ярко. Пришёл Гановский с огромной бутылкой безумно дорогого шампанского из своей известной на всю Москву коллекции. Пили за успех, за счастье и молодость. Где-то у самой воды зажгли салюты, и их весёлые огненные брызги с весёлым шумом начали рассыпаться над чёрной гладью. А на фарватере Москвы-реки замерла проплывавшая мимо небольшая яхточка, пассажиры на которой, судя по всему, рассчитывали на продолжение концентра.
Но время быстро летело, ночь давно вступила в свои права, одарив всё сущее на подмосковной земле влажной и убаюкивающей весенней прохладой. После ещё нескольких смен напитков и еды гости постепенно стали собираться по домам. Кто-то молча допивал и доедал, кто-то спешил завершить деловой разговор, и теперь уже на площадке возле раскрытых кованных ворот, где стояли машины приглашённых, нарастало оживление.
Борис собрал своих друзей, договорился с Алексеем, что тот, как более трезвый, поведёт машину вместо него, после чего озаботился поиском Гановского, чтобы попрощаться. В шапочной суете не сразу удалось обратить внимание на жену спортсмена Ласточкина, которая возбуждённо носилась по дорожкам сада, о чём-то расспрашивая сбивающейся скороговоркой.
Поравнявшись с Борисом, мадам Ласточкина выпалила: «Мой куда-то пропал! Вы не видали?»
Однако никто не имел ни малейшего понятия о местопребывании спортсмена. Лишь Петрович, почесав за ухом, припомнил, что видел, как тот около получаса с кем-то направлялся в отдалённую тёмную часть сада.
Тотчас же в указанном Петровичем направлении устремились несколько высокорослых охранников с мощными фонарями и овчаркой.
Спустя минут пять все неразъехавшиеся гости стали свидетелями сцены странной и немыслимой: два дюжих охранника на плечах тащили обмякшего спортсмена с огромным синяком под глазом и разбитым в кровь ухом. Костюм олимпийца был измят до невозможности и местами выпачкан жёлтой жирной глиной.
Его тут же усадили в садовое кресло и принесли воды. Ветер доносил тревожный шёпот: «В дальнем углу нашли… Возле старого сортира… Если б не собака!..» Несчастного немедленно обступили со всех сторон, посыпались вопросы и полились соболезнования. Кто-то стал звонить в «Службу спасения».
Пришедший в себя Ласточкин вскорости поведал, что вступил в спор с кем-то из гостей, ему неизвестным, и, когда, увлечённый этим спором, удалился со своим собеседником в дальний угол, то тот внезапным ударом по сонной артерии его нокаутировал. Ничего более пострадавший спортсмен не помнил и сообщить не мог, ссылаясь на темноту и потерю сознания.
К счастью, могучий организм Ласточкина успешно справлялся с последствиями нокаута — уже через несколько минут он смог самостоятельно подняться с кресла. Его жена тотчас же заявила, что отвезёт супруга к личному врачу и потому приезда врачей они дожидаться не станут. Громко объявив всем спасибо за сочувствие, с гордым выражением лица она повела мужа к машине.
— Интересно, кто же это Ласточкина так разделал? — задал риторический вопрос Борис, когда их кабриолет уже спокойно катился в сторону Москвы по ухоженному и тщательно освещённому Рублёво-Успенскому шоссе.
— Наверное, кто-то из конкурентов по олимпийскому движению, — высказал своё предположение Алексей, не отрываясь от дороги. — Звериный оскал капитализма!
— Нет, это дело рук Виталика, — с абсолютным спокойствием констатировал с заднего сидения доселе молчавший Петрович. — Того взбудораженного малого в одежде бродяги. Всё произошло в моём присутствии.
— Как! И ты ничего не предпринял? — сидевший рядом с ним Борис даже поперхнулся от неожиданности.
— Этот мерзавец заслуживает большего наказания, поэтому я не стал вмешиваться.
— А что же произошло? — обернулась Мария.
— Ласточкин в разговоре с Виталиком стал развивать тему о том, что якобы наши диверсанты, героически действовавшие в годы войны в тылу врага, все поголовно — сволочи и негодяи. Они, оказывается, не только уничтожали священную частную собственность, но и теперь, словно из могилы, мешают Ласточкину снести в его поместье какие-то постройки, объявленные памятником войны. Если бы ты слышал, Лёша, какими словами он гнобил и оскорблял наших с тобой однополчан! И что он, подлая его душа, нёс про Зою Космодемьянскую, которую я лично инструктировал в диверсионной школе и помню как живую…
— И ты не сдержался?
— Я разведчик, и должен скрывать эмоции. А вот Виталик, которому я незадолго до этого рассказал, как именно эта девочка погибла, контролировать себя не смог. Просто догнал Ласточкина и отключил одним ударом.
— Надо всё-таки сразу было вызвать врача, — сердобольно посетовала Мария.
— Совершенно ни к чему. Уверяю вас, эти типы очень живучие, — ответил Петрович и вздохнул.
— Да, — сказал Борис, прервав наступившее молчание. — Виталик, при всей его безбашенности, — очень искренний и порядочный человек. Только жаль его безумно — из таких миллиардных долгов, какие у него теперь, живыми не выкарабкиваются… Мне кажется, что с ним… с ним что-то нехорошее должно скоро произойти. Ну да ладно, Бог поможет. Домой пора, уже третий час.
Глава восьмая Елисиум
Часть первая
Как только отшумели праздники, Петрович отбыл в Волгоградскую область, чтобы помочь внуку Елизаветы Валерьяновны с запуском в работу овощной фермы. В Петрово-Дальнем случилось ЧП: из-за затеянного соседями ремонта водопровода произошёл скачок давления в трубах, и дача Кузнецовых протекла. Встал вопрос о срочном ремонте с просушкой стен и заменой труб, ради организации которого Борису пришлось бросить все остальные дела. А из Екатеринбурга позвонила старая подруга родителей с просьбой пустить пожить на несколько недель в московской квартире — внук собрался поступать в МГУ, и она хотела перед его приездом на экзамен «всё хорошенько подготовить». Отказать в этой просьбе было невозможно, и понимая, что в случае успешной сдачи экзамена постой уральских знакомых может затянуться весьма надолго, Борис обратился к Алексею и Марии со следующим предложением.
— В Дальнем плесень, квартира скоро будет занята. А вам нужно где-то пожить одним. Я созвонился с тёткой — она на всё лето уезжает в Болгарию, где семья племянника прикупила квартиру у моря, и согласна, чтобы вы переехали на её дачу в Малаховке. Направление не столь пафосное, как Рублёвка, но зато поживёте в тишине.
— Не вижу причин для уныния. Перед войной именно в этих местах проводила лето большая часть интеллигенции, — согласился Алексей.
— Замечательное предложение! — с радостью отозвалась Мария. — Но боюсь, мы окажемся обузой. Ведь дачу на целое лето можно сдать за хорошие деньги.
— Она принципиально не сдаёт, — успокоил сестру Борис. — Для Екатерины Андреевны недопустимо нарушение сакральности древних стен. Поэтому — ключи только для своих!
Не успела захлопнуться за спиной дачная калитка, как Алексей с умилением увидел, что вернулся в довоенную юность. Старый и уже покосившийся одноэтажный дом постройки 1935 года, о чём извещала надпись под коньком, вырезанная из рассохшейся фанеры, буквально утопал в зарослях непомерно разросшегося сада. Часть вишнёвых деревьев была уже сухой, однако остальные — цвели отчаянно и очумело. Бело-розовым флёром подёрнулись высоченные яблони, помнившие, надо полагать войну, а чуть ниже всего этого великолепия, заполняя остающееся пространство сада, распускалась сказочная густая сирень.
В доме — несмотря на то, что там всю зиму работала газовая колонка, — кисловато-пряно пахло сыростью и поскрипывали при ходьбе крашеные половицы. Буфет в столовой был забит старой, даже порой антикварной посудой, которую по обыкновению москвичи предпочитают развозить по дачам. С окон свисали кружевные занавески, плавно перетекая на обеденный стол, покрытый бордового цвета парадной скатертью с длинной бахромой, ниспадающей до пола. Выдающихся габаритов холодильник «ЗИЛ», когда его включили в сеть, сперва зарычал, как трактор, однако очень скоро, успокоившись, выдал весьма сильный холод, крепко приморозивший к испарителю неосторожно брошенный на него пакет с припасами.
— Клопов и тараканов нет, — констатировала тётушка Бориса, приоткрывая дверцы гардероба в спальне и выдвигая один за другим комодные ящички.
Затем, пройдя в гостиную, сказала не без гордости, указывая на пианино:
— Настройщик был прошлым летом, если что, он живёт тут неподалеку, я оставлю адрес. А насчёт сырости — не волнуйтесь, в этой комнате у нас теплей всего.
Во дворе под навесом, увитым диким виноградом и зачем-то заставленным пустыми бочками (для «маскировки на зиму от воров», как пояснила Екатерина Андреевна), хранился старый и изрядно побитый автомобиль не вполне понятной иностранной марки. Задние фонари были заклеены прозрачной лентой, местами уже отошедшей, а бампер — подвязан тросом.
— Ванюшкина машина, на ходу. Пользуйтесь, чтобы не ржавела! А ключи и документики — сейчас же узнаю, где он их спрятал, так что забирайте себе! — продолжала тётя с твёрдым намерением всучить своим постояльцам заодно и старую машину племянника.
— Сделай вид, что соглашаешься, а я попробую найти для тебя авто получше, — шепнул Борис на ухо Алексею.
Если не обращать внимание на ржавеющую под навесом развалюху, от которой разило подтекающим маслом, то всё остальное, что оставила своим постояльцам добрейшая Екатерина Андреевна на старой даче, было очаровательным, уютным и прекрасным. Благоухающий сад, раскинувшийся на огромном, почти в гектар, участке, вековые сосны, покрывающие землю ажурной полутенью, скамейки в укромных уголках, да и сам дом — несмотря на возраст основательный, крепкий, добротный и какой-то тёплый изнутри… Можно было пить чай на террасе из старинных потрескавшихся чашечек под трели садовых горихвосток, можно — валяться в гамаке, музицировать, не думая о покое соседей, можно было уединиться с книгой, петь, декламировать стихи или просто лежать на скамейке, глядя, как фиолетовые грозди сирени над головой сливаются с небом…. Цветение сирени в эту весну было фантастическим и неудержимым, в первые мгновения её аромат, казалось, сшибал с ног, а в своём продолжительном воздействии создавал атмосферу неослабевающей восторженности. Подобно хмелю, сиреневый аромат будоражил мысли, заводил и опьянял — не ослабляя своих чар ни на единый миг.
— Мне кажется, что пока мы здесь, мне каждую будет сниться только эта сирень, — сказала Мария Алексею, заканчивая разбор вещей.
— Такое впечатление, что мы находимся острове. Нет ни Москвы рядом, ни посёлка, никого нет. Есть только эта сирень и этот сад. Хочется никуда не уезжать и проводить здесь день за днём.
— А я бы именно так и поступила. Давай, пока цветёт сирень, забудем про остальной мир! Дела могут и подождать. Всё-таки — медовый месяц у нас, а? Как ты считаешь?
— Так и считаю, — ответил Алексей, выбирая упавшие сиреневые лепестки из Машиных волос и крепко их целуя.
Однако уединиться полностью и забыть про остальной мир не получилось. Поздним вечером за воротами послышалось громкое урчание мотора. Борис выполнил обещание и пригнал-таки машину. Алексей ахнул — перед ним стоял, прожигая темень высокими фарами-прожекторами и сверкая новеньким хромом, огромный и потрясающий автомобиль.
— Что это?
— То, о чём вы мечтали, но боялись спросить! — с нескрываемой весёлостью ответил Борис. — Подлинный правительственный «ЗИМ ГАЗ-12». Когда-то он обслуживал отдел культуры ЦК, сейчас — в коллекции у Сёмика Милославского из «Газинвеста». Двигатель от «мерса», трансмиссия, электрика — всё новое. Сёма только что получил его из Латвии, где делался капремонт. Пока действует гарантия, нужно накатать пять тысяч вёрст, на что у него времени, понятно, нет. А у нас — есть и время, и необходимость. Полный гешефт. Так что на ближайший месяц этот ретроркар — наш!
Передав Алексею ключи, документы и какие-то бумаги на английском языке из компании, занимавшей ремонтом, Борис отказался от чая и уехал в Москву на такси.
— Чем займёмся? — поинтересовалась у Алексея Мария, когда тот вносил на террасу кипящий самовар.
— Ты имеешь в виду завтра?
— И завтра в том числе.
— Ну коль скоро у нас появился транспорт, то хотелось бы завтра съездить записаться в «Ленинку» — пора возобновить научную работу.
— Не советую, простоишь в пробках полдня. Давай лучше с утра покатаемся по окрестностям!
На следующее утро Алексей и Мария сумели встать только к обеду, и прогулка, предполагавшаяся дневной, естественным образом сместилась на вторую половину дня. Обновлённый, с иголочки, ретролимузин заводился с пол-оборота, плавно и легко трогался и прекрасно вёл себя на шоссе, заставляя водителей и прохожих оборачиваться и провожать глазами его стремительный роскошный силуэт.
Вначале Алексей решил немного поколесить по старым поселковым проулкам, вспоминая и рассказывая Маше, в каких, по его памяти, домах жили когда-то Прокофьев, Зощенко и Лепешинская, как вместе с отцом он бывал в гостях у Сергея Эйзенштейна на его невероятной круглой даче, напоминавшей пагоду в готическом стиле, и за какой оградой в тридцать шестом боролся с туберкулёзом Илья Ильф, а он ходил к нему за автографом… Вспомнил и про жирных карасей, водившихся в пруду, на месте которого сегодня теснятся высоченные каменные коттеджи… Затем, вырулив на Егорьевское шоссе и перекусив в придорожной шашлычной, они не поспешая добрались до Бронниц, где запутавшись в дорожных хитросплетениях и изрядно поплутав, приняли решение возвращаться по новой дороге на Чулково.
Переехав мост через Москва-реку у Заозёрья, Алексей вдруг в задумчивости остановил машину и несколько минут внимательно разглядывал его исполинскую стальную конструкцию.
— В конце ноября сорок первого наш курсантский взвод почти неделю просидел в окопах на Ленинградке, на берегу канала имени Сталина, перед точно таким же мостом.
Мария с помощью своего айфона немедленно навела справки и сообщила, что это и есть тот самый мост, после войны демонтированный и перевезенный сюда из Химок.
— Вот, выходит, и встретил старого друга, — сказал, задумчиво улыбаясь, Алексей, возвращаясь в машину. — Всё-таки удивительная штука — жизнь! Будто бы и смерти нет…
На следующее утро, сумев проснуться уже чуть раньше, к одиннадцати, Алексей всё же настоял на вылазке в город. Но поездка выдалась ужасной — подъезды к Москве были забиты машинами в столь огромном количестве, какого Алексей даже не мог предположить. В самом городе было не легче, и дорога до Охотного ряда заняла более трёх часов. Машину пришлось парковать на подземной стоянке на площади Революции, где также пришлось попотеть — огромный ЗИМ с превеликими усилиями вписывался в узкую спираль ведущего вниз съезда…
Они договорились встретиться в районе семи часов у «Метрополя» и разошлись — Алексей в «Ленинку», Мария — в студию к подруге, с которой договорилась обсудить поступившие ангажементы. Как оказалось, предложений для Марии пришло пока немного: одно — прослушаться для нового мюзикла, другое — отправиться на стажировку в Великобританию. «Разве в Англии умеют петь?» — возмутилась Мария, и услышала в ответ, что всё дело — в отпрыске одного известного нашего олигарха, живущего в Лондоне и решившего в дополнение к своему успешному бизнесу «немного попродюсировать». Ответ родился внезапно и выдался столь хлёстким и обидным для решившего посентиментальничать с музами молодого бизнесмена, что процитировать его даже малой частью мы не можем себе позволить. Зато они с подругой вволю насмеялись над незадачливым Мусагетом, потом пили кофе и чтобы убить время, вдвоём болтали по телефону со всевозможными приятельницами.
Вернувшись из «Ленинки», Алексей рассказал, что его сначала не хотели записывать в читальный зал, требуя показать студенческий билет или диплом, однако затем всё же пустили. Он без особого труда разыскал через каталог нужные ему французские журналы 1890 года и был одновременно взволнован и удивлён, увидев на месте последней отметки в карточке собственную роспись фиолетовыми чернилами с датой «18/VII-41». Решив воспользоваться благами прогресса, он сделал фотокопии с нужных для работы страниц и сообщил Маше, что теперь спокойно сможет завершать написание своей статьи о предпосылках русско-французского альянса в дачной тишине.
И действительно — помимо нежелания тратить часы и жечь бензин в столичных пробках, сама поменявшаяся погода теперь располагала к неспешной загородной работе. После череды солнечных дней пришли дожди — временами обильные, но не затяжные, с частыми проблесками солнца, от которых особенно ярко блестела молодая листва. Чтобы не мешать Алексею, Мария уходила в сад, где в ветхой деревянной беседке, уединившись в плетённом кресле-качалке, читала всё подряд — от свежих модных детективов до раздобытых Алексеем старых книжек с переводами стихов Валери и «Эглантиной» Жана Жироду. А ближе к вечеру, чтобы немного развеяться, они катались по ближайшим окрестностям, иногда наведываясь на лодочную пристань на Москва-реке или заезжая в Жуковский, где имелся приличный продуктовый магазин.
В один из таких вечеров, незаметно войдя к Алексею в кабинет, Мария застала его склонившимся над листом бумаги, исписанным крошечными квадратными абзацами. Экран ноутбука, на котором Алексей вводил текст, был погашен.
— Как твоя статья? Скоро Россия узнает историческую правду? — с весёлостью поинтересовалась она.
Было заметно, что Алексей немного смутился и сразу же попытался накрыть исписанную рукопись другим листом. Однако решив этого не делать, признался, что с незапамятных времён взял за правило наиболее яркие впечатления записывать в стихотворный дневник. Он протянул листок Марии, и она прочла:
Чтобы душой воскреснуть вновь, Простить обман, забыть мытарства Хочу, чтобы была любовь Без спешки, жара и коварства. Чтоб стала мокрая сирень Преградой для сомнений колких, И скука длинных дачных дней — Залогом поцелуев долгих. И после щедрости дождя, Нам подарившего беспечность, Чтоб месяц, к звёздам восходя, Не вспоминал, что знает вечность…Перечитав несколько раз, Мария вернула Алексею листок и вздохнула.
— Здорово! Ничего не спрашиваю — про кого и про что. Только скажи — что имеет в виду месяц, когда говорит, что «знает вечность»? Намекает, что мы с тобой — пока вне вечности?
Алексей громко рассмеялся.
— Месяц, как известно, является метафорой и субъектом всемирного коварства. Я же, как ты помнишь, просил о любви без коварства, поэтому в силу закона жанра коварство обязательно должно проявиться в конце. Но ты, Маша, к этому безобразию останешься непричастной, ибо сотворит его бледный месяц.
— И когда же, по-твоему, это случится?
— Во-первых, уже завтра утром он положит предел ещё одной роскошной и волшебной ночи, приведя в действие дурацкий будильник в нашей спальне, который с недавних пор ты зачем-то стала заводить. Ну а во-вторых — когда-нибудь закончится и этот дачный рай, высохнет и перестанет блестеть после дождя мокрый деревянный пол на веранде, прекратится цветение в саду, наступит жара, мы отсюда съедем, жизнь закрутит нас, и эта новая, неведомая пока что суета сделается для нас подлинной вечностью. Ну а далее — хоть и не стоит сегодня говорить о грустном — предстоит, наверное, вечность и другого рода. Так что всё, об избежании чего рискнул было помечтать твой лирический герой, — рано или поздно состоится. И суета, и жара, и коварство.
— Понятно. Но прежде этого мне ещё понятно, что тебя что-то сильно расстраивает!
— Да, не стану скрывать. Затея с моей статьёй с треском провалилась.
— Не может быть! Что же произошло?
— Я завершил статью и переслал её посредством компьютерной почты в несколько журналов. Провал полный.
— Почему ты так решил? Неужели успели прийти разгромные рецензии?
— Ничего не пришло, мне пришлось звонить самому.
— Ну и что они ответили?
— В одном журнале тему назвали «пронафталиненной». В другой редакции мне предложили убрать всё, что связано с коррупцией в эпоху президентства Греви — якобы могут возникнуть ненужные аналогии. В третьем месте предложили разместить статью в интернете. Я зашёл на страницу их журнала и посмотрел число читателей — многие статьи не открывались ни разу за несколько лет. А работать в пустоту я не могу.
Мария обняла Алексея со спины и поцеловала в макушку.
— Какой же ты глупый у меня! Живёшь старыми представлениями! Сейчас везде так. Кстати, у твоего любимого Валери я только что вычитала, что «история — это наука о том, чего уже нет и не будет». Так что — прими на вооружение.
— Валери ни при чём… Я понял другое — пришло совершенно иное время. В своей предыдущей, если так можно выразиться, жизни я действовал с чувством значимости каждого шага и жил с пониманием, я бы сказал, исключительности. Исключительности не в том смысле, что мой отец работал у самого Молотова и у нас была квартира на Патриарших, а исключительности в смысле величия времени, в котором мы все находились и ход которого напрямую зависел от наших помыслов и действий. Я уверен, что подобное же чувство имелось у абсолютного большинства людей из моего поколения, включая тех, кто был вынужден жить в коммуналках и бараках. Теперь же я отлично вижу, что ничего этого более нет. Нужно просто жить и не мешать жить другим. Поэтому, Машенька, с историей, равно как с наукой вообще, мне придётся завязать… Зато вот Петрович звонил — говорит, что нужна помощь. Может стоит к нему съездить?
— Зачем к нему? Ты москвич и интеллектуал, неужели они без тебя помидоры не вырастят?
— Я тоже страшно не хочу заниматься какими бы то ни было земледелиями и ремёслами. Но бездельничать — ещё хуже… А вот скажи-ка: как у тебя с приглашениями, гастролями? Давай я попробую заделаться твоим импресарио!
— У меня тоже неважные вести, Лёш. Не будет никаких гастролей.
— Но почему же? Как такое может быть? Тебя же приглашали на пробы в Ла Скала и Оперу Гарнье! А тот тип, что сравнил тебя с Мадо Робен, — я все сто уверен, что он не шутил. Надо напомнить о себе! Если тебе неудобно — давай этим займусь я!
— Уже напоминала. Все приглашения на ходу и визитки — это политес. А тот тип действительно получил государственные деньги на несколько крупных оперных постановок, однако ты же понимаешь — он теперь за это всем обязан! И не он теперь решает, кто там будет петь.
— Тогда зачем же он лгал, раздавая обещания?
— Он думал, что раз я выступаю в президентском концентре, то за меня похлопочут нужные люди. Но нужных людей, увы, — нет. Мы с тобой нужны только самим себе.
— А Штурман? Неужели он тоже — наобещал с три короба, и…
— Сашка как раз не обманул и постарался помочь мне по максимуму. Но он ведь тоже — при всём своём блеске мало что может провернуть по собственной воле. Крутит чужие деньги, выполняет какие-то заказы… Однако он прав в одном — разового успеха недостаточно. Нужно серьёзно заниматься у лучших вокальных педагогов, засветиться в конкурсах, долго и много ездить по миру… Всё это стоит огромных денег, а у него самого их и близко нет. Всё, что Штурман смог — он переговорил с кое-кем из лучших, на его взгляд, педагогов и предложил помощь в знакомстве с несколькими меценатами. Один меценат вроде бы из Красноярска, другой живёт в Тель-Авиве…
Алексей громыхнул кулаком по столу.
— Всё ясно, можешь не продолжать! Дожили! Меценаты! Двух недель не прошло, как ты от своего бандюгана освободилась, и что же — всё заново, снова на поклон? Но скажи — кто же так всё подло устроил, по какому праву ты должна продавать себя? Идти на жертвы для того, чтобы реализовать твой, только твой, твой собственный, только тебе принадлежащий талант!
— По такому, Лёшенька, по-нашему праву. Сегодня везде так — и в Москве, и в Милане, и в Нью-Йорке. Терпи, не скули и, может быть, тогда что-нибудь и получишь.
— Взорвать бы всех этих меценатов к чёртовой бабушке…
— Зачем? Что ты этим изменишь?
— Восстановлю справедливость хотя бы!
Мария поднялась с кресла и вновь обняла Алексея.
— Вот за эту самую справедливость я никогда не разлюблю тебя, так и знай! Ты, Лёша, и в самом деле — не от мира сего. Точнее — не от мира сегодняшнего. Хлебнём же мы с тобой горя… Но я всё равно счастлива буду.
— Брось, о каком ты горе? Тебе для успеха нужны не меценаты, а лучшие учителя. Смотри, я обещал Петровичу продать наши червонцы, за них мы выручим полтора миллиона. Не ахти какие деньги, но на сезон, может быть, хватит. Не хватит на Милан — найдём учителей в Москве или Ленинграде. Выступишь на двух-трёх конкурсах, подтвердишь свой талант… Всё получится, Маша, не бойся!
— А зачем Петровичу полтора миллиона?
— Он говорит, что надо срочно починить какую-то насосную станцию. Без неё помидоры, которые они уже посадили, не вырастут. А так — уже осенью он эти деньги с троицей вернёт.
— Помидоры не вырастут?
— Ну да. Там же очень жаркий климат, а река — рядом. Нужно только воду для полива из реки достать и перекачать, для этого и нужна насосная станция.
— Но тогда червонцы следует отдать Петровичу, иначе его дело прогорит.
— Петрович перебьётся. Дожди, может быть, пройдут.
— А если не пройдут?
— Всё равно у него что-то вырастит. А вот ты — прогоришь!
— Не прогорю. Выкручусь. Тем более я уже решила, что будет делать.
— Что же?
— Пойду в музыкальную школу учить девочек пению.
Алексей хотел присвистнуть от неожиданности, но поперхнулся.
— Скажи — ты это придумала только что?
— Нет. Давно.
— Тогда я ничего не понимаю. Ты — восходящая звезда, у тебя огромный, всеми признаваемый талант. Сейчас мы столкнулись с временными трудностями, но я уверен, мы их преодолеем. Отчего же ты должна опускать руки? Музыкальные школы не закроются, а вот сцена — одна без тебя обеднеет!
— Браво, браво! Вот видишь, Лёш — обещал, что сделаешься такими же, как и мы, — и всё равно выдаешь в себе «сталинского сокола»! Знаешь, в чём разница между нами? Ты уверен, что все эти проблемы с мой учёбой, со сценой, с антрепризой — случайные и временные, и их можно преодолеть, если применить напор и натиск — так, кажется, у вас говорили? А вот для меня всё это — не превратность, а система жизни. В этой системе отшлифованы и подогнаны все кирпичи, закручены все винтики, распределены все до последней роли. Каждый человек находится на отведённом для него месте, свободные перемещения давно не приветствуются. Все проходы тоже перекрыты — но не наглухо, иначе стало бы совсем не интересно. Двигаться возможно, но для этого нужно на каждом шагу отпирать очередной замок, а это чего-то стоит. Стоит либо денег, либо благорасположения «меценатов». И ничего другого взамен нет и не будет! Я всё это уже прошла и поняла сполна!
— Но почему же? Кто мешает нам попробовать? Преграды и негодяи, устраивающие их, существовали всегда. Но ведь есть же ещё и удача! Я лично верю в удачу, без этой веры я не смог бы, наверное, прожить и дня. Давай исходить из того, что у нас есть полтора миллиона и ещё плюсом тысяч двести-триста, если удастся загнать старые фунты…
— Давай исходить из того, что эти деньги пойдут Петровичу на насосную станцию. Я их не приму!
— Но постой же… Можно, наверное, попробовать и без денег или пообещать заплатить осенью — давай я сам поговорю со Штурманом.
— Не надо с ним обо мне говорить. Если ты это сделаешь — я испорчу и разорву со Штурманом все отношения!
— Но это невозможно! Александр рассудительный человек, его…
— Нет, разорву. И он никогда больше не подаст мне руки и не ответит на мой звонок.
— И как же ты это сделаешь?
Мария на миг замолчала, и Алексея неприятно поразило, как сверкнули внезапным недобрым огнём её глаза.
— Я придумаю против него какую-нибудь оглушающую чушь. Знаешь — я объявлю во всеуслышание, во всех газетах и на телевидении, что он меня домогался на фестивале в Юрмале.
— Это в самом деле правда?
— Нет, конечно. Но я сделаю так, что абсолютно все в это поверят.
— Маш, но ведь ты этого не сделаешь, зачем бросаться словами?
— Почему не сделаю?
— Потому, что это бесчестно.
Мария ничего не ответила и, молча поднявшись, подошла к окну. Потом, ещё немного помолчав, произнесла:
— Ты прав, я не сделаю этого. Но отчего же тогда, скажи, он может почти всё, а мы с тобой — нет? Не потому ли, что у него фамилия — Штурман?
— Я думаю, дело в другом. Просто его фамилия позволяет ему быть более гибким и идти на компромиссы там, где мы тобой, судя по всему, никогда не поступимся принципами. Он же сам рассказывал, что перед каждым новым годом тратит целых три-четыре дня, чтобы лично поздравить абсолютно всех своих знакомых, включая полнейших негодяев и подлецов. Для него пожимать грязные руки без разбора — часть, как он говорит, его бизнеса.
Мария снова задумалась и затем тихо произнесла:
— Ты прав, Леша, ты трижды прав… Прости меня, что я так сорвалась. Что на Сашку наговорила, он же, в самом деле, хотел сделать мне лучше, насколько он это сам понимает… Он же ведь тоже, если присмотреться, — безумно наивный человек!.. Однако как же тоскливо заканчивается вечер! У нас осталось вино? Может выпьем?
— Полбутылки вчерашнего коньяка в буфете. Давай я лучше сгоняю в гастроном!
— Куда? Уже девять, вино после девяти часов у нас теперь не продают. Даже в этом зачем-то душат и не дают жить… Теперь я понимаю, что Борька, когда напьётся, правду говорит — всех их надо убивать!
— Кого — «их»?
— Всех тех, кто создал и поддерживает эту гнусную и закостенелую систему. Не знаю, Лёш, честно — не знаю!.. И убивать плохо, и жить так нельзя. Налей-ка лучше мне… как себе наливаешь, по полный. Без закуски? К чёрту закуску, так выпью…
Он разлил коньяк, и они выпили — Алексей половинку большой старинной лафитной рюмки, а Мария — целую. Действие коньяка быстро сняло остроту зашедшего в ступор спора, однако и не намечало никаких путей выхода из тупикового положения.
«Собственно, всё возвращается к состоянию, какое я имел в Очаково, — размышлял Алексей, глядя на мокрое от неуспевших просохнуть дождевых капель стекло террасы. — Ни возможности работать, ни будущего, ни денег… К счастью, появилась Мария — но ведь она тоже всё ещё живёт иллюзиями насчёт меня, а когда иллюзии развеются — что-то будет? Моя главная ошибка состоит в том, что я захотел вернуться в свой прежний мир, решил, что смогу снова заниматься с историей, музыкой, литературой — а этот мир для меня закрыт. Мудрый Петрович трижды прав — надо просто жить, довольствуясь малым. Отправиться, что ли в самом деле к нему выращивать помидоры? Сначала, разумеется, будет мерзко заниматься низшим ремеслом, но потом привыкну. Ха, а как же тогда Маша? Сказать ей, что бросаю игру, которую начал и в которой она мне поверила? Нет, подобную подлость я сотворить не в состоянии. Но что же делать тогда?»
Он услышал за спиной шелест газетного листа — это означало, что Маша раскрыла одну из свежих газет, за которыми он регулярно ездил в киоск, и в ближайшие минуты у него нет необходимости возвращаться в столовую, чтобы продолжать разговор, когда говорить не о чем. Слава Богу, можно по-прежнему смотреть в окно. Древняя, рассыхающаяся от старости рама и чёрное зеркало стекла, хранящие следы от неведомых событий — здесь что-то тёрли ножом, а здесь когда-то раздавили муху… Когда он покинет эту дачу, то на деревянном откосе тоже останется, возможно, какая-то связанная с ним царапина или трещина — ничтожное и никому не ведомое свидетельство его нынешних переживаний и отчаянья. А если — если взять и разбить это стекло? Хозяева приедут, поставят новое, и уже никто ни о чём не вспомнит. Никогда. А на новом окне будут появляться новые царапины и новые отметины, отмеряющие уже новую жизнь…
А ведь судьба дала ему, Алексею Гурилёву, именно такую новую жизнь. И вооружила для этой жизни, если разобраться, нечто более грандиозным, чем обесценившиеся деньги из диверсионного тайника. Записка отца! Царские деньги, ждущие своего часа в Швейцарии! Он никогда не забывал об этой тайне, вдруг ставшей ему известной, однако всегда полагал её едва ли не фантомом, касаться которого преждевременно и опасно. И только сделавшись именитым учёным, перепроверив все связанные с царским фондом отношения и события, он мог бы в будущем на какой-нибудь конференции анонсировать это открытие, предоставив своим коллегам возможность всё перепроверить, и если царский фонд окажется реальностью, то тогда торжественно вскрыть его и забрать средства на развитие, скажем, академии наук или на иную государственную потребность.
А что — если вскрыть фонд самому, как намеревался сделать друг отца? Мысль первоначально нехорошая и подлая, поскольку фонд принадлежит России и ни коем образом не должен быть им, Алексеем, даже в малой толике использован на нужды себя и близких людей. Но, с другой стороны, кто-то же должен однажды вернуть стране содержащиеся в этом фонде колоссальные, надо полагать, средства! А всё та же судьба более чем ясно указывает ему, что этим человеком должен стать именно он и никто другой. Хорошо, пусть так. По крайней мере на ближайшие месяцы ему будет чем заняться серьёзным и нужным, а не поливать и пропалывать без толку помидоры.
«Bonne idИe…»[50]- рассуждал Алексей. А раз так, то у него должна иметься зарплата, которую — почему бы и нет? — за неимением начальства ему придётся назначить себе самому. Заработок, как известно из марксистской политэкономии, должен покрывать основные жизненные потребности, среди которых важнейшая для него сегодня — это сценическая карьера Маши. Поэтому, не нарушая никаких заповедей, он возьмёт из Фонда ровно столько, сколько нужно, чтобы Мария смогла начать выступать. А остальное — отдаст государству. Как? Напишет письмо Президенту России… Нет, не годиться — вдруг письмо не дойдёт, попадётся в руки кому-нибудь из челяди и деньги умыкнут? То, что было немыслимо при Сталине, сегодня, похоже, сделалось всеобщей нормой разгула и воровства. Поэтому он поступит иначе — созовёт международную пресс-конференцию и сделает публичное сообщение. А чтобы его не приняли за сумасшедшего, он начнёт загодя переводить денежные суммы в детские дома или больницы. Гениально, superbement[51]! Здорово же он придумал! Значит — вот его путь. Браво, лейтенант Гурилёв, браво! Выходит — всё не зря, и всё впереди!
Он ворвался в столовую и буквально растолкал за плечи уже начинавшую засыпать над газетой Марию. Наверное, он должен был проделать это более интенсивно, поскольку после первого сбивчивого изложения своей идеи он осознал, что Мария глядит на него глазами, полными изумления и непонимания. «Поди со стороны я похож на сумасшедшего!» — подумал Алексей и быстрым шагом удалился в спальню, где в его дорожной сумке хранилась аккуратно завёрнутся в батистовую тряпицу отцовская тетрадь.
Спеша вернуться назад, он в ударился плечом о дверной косяк и пытаясь удержать равновесие, неудачно схватился рукой за угол буфета. Немедленно загремели рассохшиеся створки и тревожно зазвенел старый хрусталь.
— Что это? — спросила Мария, приходя в себя после полудрёмы.
Алексей положил тетрадь на стол и быстро раскрыл её на отмеченном месте в середине дневника Фатова. И сразу же спохватился:
— А где находится твой телефон?
Мария с лёгким недоумением кивнула на полку буфета, где лежал её «айфон». Алексей взял его и следом вытащил из кармана своего пиджака, вывешенного на плечиках стула, собственный миниатюрный мобильный телефончик.
— Сейчас отнесу их куда-нибудь подальше… в беседку на улицу, так надо. И давай, всё равно, говорить тише.
Когда спустя несколько минут Алексей вернулся из беседки, где спрятал мобильные телефоны в закрытой крышкой алюминиевой кастрюле, то был поражён, с каким неподдельным интересом Мария перелистывает тетрадные листы. Чтобы не помешать ей, он сделал несколько шагов в сторону, но Мария заметила его приход и определённо смущаясь, оторвала взгляд от текста.
Алексей кивком головы послал знак, чтобы она продолжала, однако Мария, бегло пробежав глазами ещё несколько страниц, отодвинула тетрадь на середину стола и произнесла шёпотом:
— Я начинаю всё понимать и поэтому не хочу читать то, что предназначено тебе. Я всегда чувствовала, что в нашей встрече был заключён какой-то высший смысл. Лёшенька, я помогу тебе вернуть эти сокровища нашему народу, и это станет главной для меня задачей. А всё остальное — приложится, даже не желаю об этом думать сейчас!
Они вполголоса проговорили до самого рассвета, обсуждая предстоящие планы: поездку в Швейцарию, поддержание секретности и недопущение преждевременной огласки, способной привлечь к царскому фонду внимание жадных до чужих богатств жуликов и коррупционеров. Решили, что в детали предстоящей операции они посвятят лишь двух человек — Бориса и Петровича. Однако те оба должны будут оставаться на родине — не владевший в должной мере иностранными языками Петрович за границей рисковал оказаться обременительной обузой, а для отслеживания ситуации дома возможности и связи Бориса подходили как нельзя лучше.
Вечером на дачу приехал Борис. Без каких-либо объяснений его мобильный телефон был изъят, завернут в алюминиевую фольгу и отнесён в дальний конец дома, после чего уже в беседке, под шум ночного дождя и шелест листвы, Алексей и Мария начали посвящать его в свой тайный план.
На следующее же утро авиарейсом из Волгограда прилетел Петрович. Его втроём встретили в Домодедово, и по дороге на Патриаршьи и далее в банк, где предстояло продавать червонцы, в просторном семиместном ЗИМе Алексей изложил боевому другу суть предстоящей операции. Петрович выслушал молча, уточнений запрашивать не стал и на вопрос Алексея о своей готовности «принять участие» ответил серьёзно, спокойно и без малейшего проявления эмоций, что «выполнит любой приказ лейтенанта госбезопасности как старшего по званию». Однако от предложенного участия в поездке за границу отказался наотрез, сказав, что «дома ещё слишком много забот».
Алексей настоял, чтобы большую часть денег, вырученных от продажи червонцев, Петрович забрал с собой в Волгоград, и лишь небольшую долю согласился потрать на предстоящую поездку в Швейцарию. Правда, размер командировочных пришлось несколько увеличить, поскольку Борис потребовал, чтобы Алексей и Мария обязательно летели в салоне первого класса и останавливались бы в лучших гостиничных номерах. «Банкиры вас обязательно «пробьют» по своим каналам, и если обнаружат, что вы прилетели как простые туристы и обедаете в «Макдональдсе», то вместо царского фонда есть риск схлопотать статью за мошенничество», — так пояснил он необходимость дополнительно изъять из «червонцевых» десять тысяч евро и пообещал, что ещё столько же раздобудет и внесёт сам.
Борис немного опасался и временами нервничал, что у Алексея с его девственно чистым заграничным паспортом могут возникнуть проблемы при получении швейцарской визы. Однако всё обошлось — с помощью вездесущего Штурмана на имя Марии поступило официальное приглашение выступить на летнем фестивале в одном из горных кантонов. В приглашении содержалось упоминание о «спутнике», в роли которого, разумеется, выступил Алексей. Швейцарское посольство сработало на редкость чётко и оперативно, визы были получены без лишних вопросов, и в первых числах июня Алексей и Мария отбыли в путешествие.
* * *
Прибыв «на аэродром», как ещё по-старому продолжал выражаться Алексей, он в очередной раз воспользовался случаем поблагодарить Марию за помощь в освоении реальностей новой жизни, с которыми, как ему казалось, он уже достаточно свыкся. Регистрация на рейс, сдача багажа, получение посадочных талонов, личный досмотр, прохождение границы и, наконец, словно награда за эти труды — коктейль и лёгкая закуска в салоне первого класса — все эти этапы и процедуры приходилось преодолевать впервые, так что без незаметных Машиных подсказок он наверняка бы что-нибудь напутал и тем самым обратил на себя внимание, что в их планы совершенно не входило.
Новый белоснежный аэробус за три с половиной часа доставил путешественников в Цюрих, откуда им предстояло первым делом прибыть на фестиваль в Вале — «отработать визы», как настоятельно рекомендовал поступить Борис. Специальный микроавтобус для особо важных пассажиров с комфортом доставил Марию и Алексея на вокзал Хауптбанхоф. Представитель авиакомпании сопроводил их к женевскому экспрессу, где передал пожилому проводнику, поджидавшему возле вагона с заранее оформленными билетами на Сьон.
Двухсоткилометровая поездка на поезде подарила море незабываемых впечатлений. Изумрудные холмистые предгорья быстро сменились отрогами Бернских Альп, и затем, после коротких и немного тревожных минут, проведённых в темноте Лёчбергского туннеля, долина Роны приветствовала их ослепительным солнцем и лугами, источающими густой хмелящий аромат альпийских трав. Отчего-то казалось, что над южными склонами Альп солнце никогда не заходит.
Они расположились в люксовых апартаментах лучшей — снова noblessе oblige! — гостиницы Сьона и сообщили о своём приезде в дирекцию фестиваля. Оттуда сразу же прислали автомобиль, который быстро доставил их в очаровательную горную деревушку, где Марии предстояло выступать и где сценой служила просторная зелёная лужайка в окружении потемневших от солнца и времени бревенчатых домов. В полноте восторженных чувств Алексей и Мария даже не заметили, что успели учинить спор насчёт того, как правильнее называть жителей Вале — валлийцами, что было бы созвучно с жителями британского Уэльса, или же валлизерами от немецкого Wallise. Совместным решением было решено опустить одну букву «л» и говорить о валийцах.
Однодневный музыкальный фестиваль получился приветливым, красочным и весёлым, однако заметно провинциальным. В основном на сцену выходили местные вокалисты-любители, хотя присутствовали и несколько гостей из Италии и Франции. Репертуар, в котором преобладали неаполитанские песни и несложные арии из старинных опер Генделя и Кальдера, не отличался виртуозностью. Это дало повод Марии шёпотом съязвить, что фестиваль напоминает экзамен в московской музыкальной школе. Алексей подумал, что Марию по причине заметного превосходства могут даже отстранить от выступления, однако вспомнив слова Штурмана о том, что у неё формально нет оснований считаться состоявшейся певицей и по бумагам она продолжает оставаться «молодой дебютанткой», решил, что всё должно обойтись.
Мария заявилась с исполнением моцартовской Царицы Ночи — вещи своенравной, капризной, требующей известной степени раскрепощения и вседозволенности. Однако волшебный альпийский воздух, насыщенный предвкушением близящихся перемен, великолепно проделал за неё эту работу.
Разумеется, выступление Марии, даже несмотря на небольшой сбой дыхания в верхнем регистре, сорвало овацию и как вскоре стало ясно при оглашении итогов, принесло ей первое место. Награда, которую она совершенно не ждала, заставила на ходу придумывать короткую речь, давать интервью местному телеканалу и вместе с мэром городка наносить благотворительный визит в какой-то скаутский лагерь. Вечером для участников фестиваля был устроен приём с фейерверком, на котором Марии пришлось петь многочисленные шлягеры дуэтами и хором со всевозможными местными знаменитостями и даже с несколькими влиятельными банкирами из Берна.
Сложнее всего было отказываться от в изобилии посыпавшихся предложений дружбы и содействия во время их объявленного предстоящего путешествия по альпийской республике. Пришлось лукавить и говорить всем, что у них пока нет конкретных планов на предстоящие дни. Поэтому, скорее всего, они отправятся в Женеву, где определятся с планами и если образуется возможность, то смогут затем где-либо пересечься с почитателями её таланта. На самом же деле Женева в планы пока не входила, поскольку в отцовской тетради было чётко указано, что розыски депозитария следует начинать в Лозанне.
Наутро следующего дня Алексей объявил администратору отеля о своём check-out[52], попросил забронировать аналогичный номер в Лозанне и вызвать такси.
Переехав в Лозанну и устроившись в великолепном Beau-Rivage Hall с видом на Женевское озеро, Алексей переоделся в строгий тёмно-серый костюм, а Мария сменила яркое летнее платье на аккуратный итальянский пиджак с бархатной юбкой. Удостоверившись, что их внешний вид вполне соответствует местному деловому дресс-коду и даже в чём-то превосходит его, они сразу же отправились в региональное представительство Banque Nationale le Suisse[53], о котором упоминалось в тетради.
Предложив Марии подождать в фойе за столиком с разложенными журналами, Алексей, тщательно подбирая разученные накануне современные деловые выражения, попросил о встрече со старшим управляющим по вопросу «особой важности». Через пятнадцать или двадцать минут их принял в специальной комнате для переговоров сотрудник банковского учреждения, представившийся «публичным администратором» — худой высокий брюнет с маленькими рыжеватыми усиками и аккуратно-всклокоченной шевелюрой.
Представив собеседнику «свою спутницу Марию», Алексей сразу же предупредил, что не захватил с собой собственные визитные карточки в силу конфиденциальности визита, на что банкир тотчас же понимающе закивал.
Алексей объявил, что согласно недавно всплывшим документам, он является распорядителем крупного частного фонда, открытого в период с 1891 по 1912 годы в женевском филиале парижского Caisse des Depots[54] и с началом первой мировой войны переведенного в Лозанну в филиал швейцарского Центрального банка. И его соответственно интересует, где именно он может ознакомиться с находящимися в его ведении активами.
Публичный администратор выслушал Алексей с выражением сосредоточенного внимания и не выказав абсолютно никаких эмоций, натренированным голосом поинтересовался, каков предполагаемый состав фонда — ценные бумаги, валюты или драгоценности. Алексей, стремясь выглядеть столь же невозмутимым, ответил, что согласно его информации речь идёт о ценных бумагах — как закрытых, так и публичных.
Администратор задумался, затем несколько раз передёрнул плечами и на его лице застыло выражение, которое бывает, когда уже подготовленная дежурная фраза вдруг оказывается остановленной неожиданным осознанием сложности и глубины вопроса.
— Извините, мадам и месье, — скороговоркой выпалил администратор. — Я хотел бы пригласить сюда старшего банкира. Вы готовы подождать? Заказать для вас чай или кофе?
Спустя пятнадцать минут в комнату вошёл невысокого роста полный человек, одетый в дорогой строгий костюм. Вероятно, именно такими и должны выглядеть швейцарские банкиры, подумал Алексей. Особенностью его внешности была большая блестящая плешь, тянущаяся от лба к макушке, при этом по бокам и на затылке пребывающая в обрамлении необыкновенно густой белоснежной шевелюры.
Видимо, администратор уже ввёл старшего банкира в курс дела, поскольку тот сразу же обратился к Алексею по имени и попросил рассказать известные ему подробности о фонде, а также о том, каким образом он сделался его распорядителем.
Алексей, стараясь не спешить, чтобы иметь возможность лучше обдумывать каждую свою фразу, ответил, что сведения о фонде он получил от наиболее близких родственников, и поскольку отныне обладает «закрытой ключевой информацией для доступа», то за неимением иных владельцев таковой является natif heritier[55].
Банкир понимающе закивал и неожиданно попросил Алексея назвать упомянутый им код. Алексей ответил спокойно и специально с немного надменной интонацией, что он готов огласить и использовать код только в том месте, где непосредственно находится фонд и только убедившись, что он будет немедленно применён для открытия депозита.
— Странно, что вы не доверяете нам, — скороговоркой ответил банкир, немного, видимо, растерявшись. — Во всём мире нам привыкли доверять.
Алексей извинился и сказал, что он в полнейшей степени доверяет швейцарской банковский системе, однако желает получить гарантии того, что его депозит находится именно здесь, в лозаннском офисе Banque Nationale.
— Таких гарантий я вам дать не могу, — бегло ответил банкир. — Более того, упомянутого вами вклада здесь нет.
— Как так нет?
— Извините, месье, но депозитарий был переведён из нашего здания в 1938 году.
Алексей и Мария переглянулись.
— Позвольте! Но как такое может быть? Для швейцарского банка подобное невероятно!
— Перед войной Национальный Банк счёл за благо передать свой небольшой депозитарий частным банкирам. Швейцарский нейтралитет, как вы понимаете, в любой момент мог быть нарушен, а в частных сейфах риск утраты или изъятия средств представлялся минимальным.
— Я понимаю. Но мы могли бы мы тогда проследить историю нашего фонда?
Банкир сделал вид, что не расслышал или не понял вопроса, и вместо ответа задал свой:
— Судя по всему, месье, вы не отслеживали движение фонда как минимум с 1938 года?
— Да, но для этого имелись форс-мажорные причины.
— Понимаю. Понимаю. Скажите — основатель фонда был еврей?
— Не понимаю вашего вопроса… При чём тут национальность?
— Если основатели довоенного фонда — еврей или институированная еврейская организация, то в этом случае действует специальная инструкция, облегчающая розыск активов жертв Холокоста…
— Боюсь, что в нашем случае инструкция не поможет. Основатель моего фонда не имел отношения к еврейству.
— Понятно. Тогда я могу посоветовать вам обратиться к одному из авторизованных адвокатов, располагающих доступом к довоенным банковским архивам и материалам комиссариата юстиции. Уверен, он поможет в розыске.
— Вы готовы дать мне необходимые контакты?
— Конечно. Прежде всего, я хотел бы рекомендовать адвокатское бюро Шпигеля из Берна. Вам удобно будет работать с ним?
— Не совсем. Мы остановились у вас, в Beau-Rivage.
— О, это прекрасный выбор, поздравляю! Лозанна чудный город. Но, боюсь, что в этом случае ближайший адвокат, которого я готов буду вам порекомендовать, находится в Женеве.
— Женева недалеко и нас она вполне устраивает.
— Очень хорошо. Тогда, господа, мой коллега Пьер, — с этими словами он взглянул на сидевшего рядом всклокоченного брюнета, — предоставит вам все необходимые контакты. Мадам, месье, будьте здоровы!
Банкир отдал поклон и удалился. Администратор не выходя из комнаты кому-то перезвонил, и вскоре секретарша принесла лист бумаги с адресом и телефонами женевской адвокатской конторы. Алексей в задумчивости пожал администратору руку, Мария попрощалась быстрым движением глаз, и они молча покинули здание Национального банка.
Сказать, что Алексей был разочарован и раздосадован — это значит ничего не сказать. Ударивший в глаза солнечный свет показался издёвательством, как если бы он оставил в тёмном, антикварным дубом отделанном помещении банка абсолютно все свои надежды, и яркость дня только подчёркивала его открывшуюся беспомощность и ненужность. Лишь ощутив тепло прижатой к нему Машиной руки, Алекей нашёл силы сосредоточится и придавить возникшее было в душе паническое предчувствие безысходности.
Он распрямил плечи и поинтересовался — не будет ли Маша возражать дойти до гостиницы пешком. Разумеется, возражения не последовало.
— Я не всё поняла из вашего разговора на французском. Скажи — они потеряли наш фонд или не хотят нас к нему допускать?
— Сам не могу разобраться… Если отбросить эмоции, то банкир всего лишь констатировал, что наш фонд покинул их здание в 1938 году и теперь необходимо учинять его розыск. Для этого он рекомендует обратиться к какому-то адвокату.
— Разводка, чтобы слупить с нас деньги?
— Трудно сказать. Но, наверное, всё-таки нет. Мне кажется, этим людям нет никакого дела до мелких гешефтов. Или он действительно не знает, куда вывезен фонд, либо знает, но не хочет нас к нему допускать.
— Сколько лет прошло… Они же могли его сами вскрыть и использовать под благовидным предлогом…
— Да, разумеется… Но всё-таки как-то не хочется в это верить…
Несмотря на то что рабочий день был ещё в разгаре, Алексей предложил отложить поездку в Женеву и встречу с адвокатом на завтра. На протяжении нескольких часов в гостиничном номере он штудировал через интернет всевозможные публикации и форумы о швейцарской банковской системе, пытаясь обнаружить ситуации, схожие со своей, дабы подтвердить или опровергнуть свои худшие подозрения. Однако работа с интернетом ясности не привнесла, и незадолго до пяти часов он сделал звонок в Женеву, чтобы заранее анонсировать завтрашний визит — ибо кто знает, вдруг причиной сегодняшней неудачи стала именно внезапность их появления?
Зафиксировав время визита на одиннадцать часов, он попрощался с принявшей его звонок другом конце провода любезной мадемуазель и предложил Маше временно забыть о делах. Вечер вступал в свои законные права, и они отправились на прогулку по Женевскому озеру на борту плавучего ресторана, где было шумно, весело и играл забавный джазовый оркестрик, составленный из румынских цыган.
На следующий день опытный таксист помог им разыскать в женевском районе Ситэ почти безымянную адвокатскую контору, при этом занимавшую несколько уровней дорогого и эпатажного особняка. Её присутствие выдавала лишь крошечная латунная табличка «Dr. Awerbach» на массивной входной двери.
Всё столь же любезная мадемуазель проводила Алексея и Марию в просторный зал с камином и высокими окнами, плотно задрапированными французскими шторами, предложив кофе с прекрасным чёрным шоколадом. Минут через пять после кофе в зал вошёл улыбающийся господин в строгом костюме с тёмно-бордовой бабочкой в сопровождении помощника или консультанта — одетого в приталенный пиджак накоротко стриженного мужчину лет пятидесяти с аккуратной бородкой и в дымчатых золотых очках.
— Гарри Авербах, — представился адвокат. — И мой партнёр Майкл, он неплохо говорит по-русски.
Алексей высказал признательность за встречу и сказал, что несмотря на возможность перевода, он всё же предпочтёт вести разговор на французском или немецком языках. В ответ адвокат изобразил восхищённое лицо и ответил, что нечасто имеет удовольствие «общаться с русскими бизнесменами на языке Вийона и Рабле». Партнёр Майкл усмехнулся едва заметной улыбкой и опустился в кресло на небольшом отдалении от босса. Выражение его лица сразу же сделалось безучастным, а сам он углубился в просмотр какого-то многостраничного документа, принесённого им с собой.
Стараясь выглядеть максимально сдержанным и даже отчасти равнодушным, Алексей предельно коротко рассказал о своей миссии и об основных данных фонда, не упоминая, разумеется, никаких известных ему из отцовской тетради деталей его дореволюционной и довоенной историй. Можно даже сказать, что Авербаху Алексей рассказал меньше, чем выложил вчера банкиру, однако из наблюдения за собеседником можно было заключить, что часть информации он уже откуда-то получил. В завершение своей короткой речи Алексей ещё раз подчеркнул, что является единственным natif heritier и рассчитывает на содействие в розыске фонда.
Авербах задал несколько никчемных уточняющих вопросов, словно желая потянуть время. Когда Алексей тщательно и подробно закончил на них отвечать, то он вздохнул и произнёс:
— Я полагаю, господа, что задача, которую вы ставите — трудна до чрезвычайности. Во-первых, в Национальном банке по определению могли храниться только фонды, принадлежащие государствам, религиозным организациям или монархам, но только не гражданским частным лицам. Вы же, месье Алексей, сообщили, что действуете как частное лицо. Или, быть может, ваша спутница — царских кровей?
Алексей не стал переводить Марии только что употреблённое Авербахом выражение sang royal[56], сочтя его неуместной колкостью, и вместо этого бросил в сторону собеседника хмурый и усталый взгляд. Но тот, нисколько не смутившись, продолжал:
— Во-вторых, депозитарий действительно был выведен из Национального банка перед самой войной. Он был именно выведен, а не переведён, как многие другие во временное альпийское хранилище, чтобы пережить там неспокойные годы. Ответственность за эти выведенные депозиты принял на себя консорциум частных банкиров. Из своего опыта я могу судить, что при транзакциях такого рода далеко не всё оформляется на бумаге. Наиболее ценная информация передается устно и, судя по вашим словам, ваш фонд вполне мог попасть именно в данную категорию. С тех пор прошло семьдесят четыре года, так что вряд ли сегодня у нас получится опросить хотя бы кого-то из очевидцев той операции. Однако даже если мы и разыщем следы фонда, то совершенно не факт, что он существует и дожидается вас. Поймите меня правильно, месье.
— Извините, — ответил Алексей нарочито холодно, — но последнее требует пояснений. Фонд, как известно, был открыт именно в Швейцарии, славящейся традициями конфиденциальности и защиты клиентов. Как, простите, фонд мог попасть в чужие руки?
— Мне грустно об этом говорить, месье, но к величайшему сожалению такое возможно. Незыблемость швейцарской банковской тайны — это в большей степени всеми желанный миф, нежели реальность.
— Разве?
— Да. Не будет, наверное, большим секретом, если я скажу, что в годы войны специальные службы Великобритании и Америки разыскивали вклады и фонды, которые могли принадлежать нацистам или использоваться ими. Если после завершения войны они заявляли нам, что такой-то депозит был сформирован нацистами или работал на них, то мы, как вы понимаете, были вынуждены его раскрывать…
— Господин Авербах, — прервал его речь Алексей. — Ведь вы говорите невозможные и чудовищные вещи! Вы разрушаете веру в финансовую честность швейцарцев. Как такое может быть? А если, допустим, я не наследник, а ловкий журналист, и ужа завтра ваши откровения разойдутся по всему миру? Или вы специально провоцируете меня?
— Конечно же нет! Швейцарская система — лучшая в мире, и в этом справедливо убеждены большинство людей. Но к сожалению, бывают и досадные исключения. Ведь те же частные банкиры, принимавшие на слово и веру ценнейшие активы, такие же люди, как и мы, люди из плоти и крови… Они могли допускать и, к сожалению, допускали непростительные по нынешним меркам ошибки, работая, к примеру, с преступными организациями, созданными Гитлером. Поэтому если информация о фондах, сделанных, скажем, руководителями гестапо, попадала в руки англосаксов, то те получали возможность нас шантажировать и иметь взамен сами понимаете что. Полагаю также, что подобными вещами не брезговала и советская разведка…
— …Которая действовала, как говорят, через третьи страны, — неожиданно возвысил голос из своего глубокого кресла партнёр Майкл, после чего снова принялся перелистывать страницы.
— Тогда куда же направлялись найденные и отобранные у банкиров чужие деньги? — поинтересовался Алексей. — Ведь насколько я в курсе, выплаты жертвам нацизма начали осуществляться лишь много лет спустя.
— Мне об этом ничего не известно, мы можем только догадываться, куда они уходили… — примирительным тоном ответил адвокат. — Однако, друзья мои, не падайте духом! Я лишь набросал перед вами критические варианты, чтобы из состояния эйфории, типичной для всех наследников, вернуть вас на грешную землю. Между тем ваш фонд — почему бы и нет? — может быть, терпеливо дожидается вашего прихода.
— Да, очень хотелось бы в это верить… Но вы могли бы что-то предпринять для его обнаружения?
— Конечно. Более того, я скажу вам, что мы уже начали эту работу.
— Хорошо. Тогда, давайте, поговорим о ней.
— О чём именно?
— О сроках, о гарантиях, о стоимости…
— Да, разумеется! Но только не торопитесь, месье Алексей! В подобных делах любая спешка — первейший враг успеха.
— Мы готовы ждать, — ответил примирительно Алексей, — однако время у нас — не безгранично. Хотелось бы поскорее приступить к работе. Насколько я понимаю, речь пойдёт о контракте с вами?
— Возможно. Однако дайте нам подумать несколько дней. Я лично позвоню вам, как только обрету ясность по возможностям и срокам нашей работы. Уверен, что эти несколько дней вы сможете с пользой провести. Ведь вся Швейцария — перед вами!
— Спасибо, это на сегодня — наше единственное утешение. Будем ждать от вас обнадёживающих известий! — ответил Алексей вставая, чтобы попрощаться.
Покидая офис Авербаха, Алексей отказался от предложения воспользоваться автомобилем и вновь предпочёл пойти пешком куда глаза глядят.
— Час от часу не легче, — по прошествии времени сказал он Марии. — Я уверен, что они просто разыгрывают нас или устраивают какую-то мистификацию, чтобы выжать всё, что мы знаем о фонде. Право, не ожидал я подобного от господ швейцарцев…
Мария остановилась, чтобы ответить шёпотом:
— Возможно, друг твоего отца не ошибался, когда писал о том, что фонд является чем-то исключительным. Швейцарцы вполне могут об этом знать и, увидев нас, заключить, что мы — мошенники, которые хотят завладеть чужими богатствами. В самом деле — приехала на гастроли никому не известная молодая парочка…
— Но мы же и в самом деле приехали сюда на твои гастроли! — с горечью в голосе рассмеялся в ответ Алексей и, ускорив шаг, зашагал в направлении зеленеющего впереди парка Англе. Ничего другого, кроме как впустую тратить время и сжимать от бессилия кулаки, ему не оставалось.
— Хорошо, пусть мы — на гастролях, — неожиданно согласилась Мария, остановившись напротив знаменитых цветочных часов. — Между прочим, они сами отдали мне первое место, и два банкира из Берна оставили мне свои визитки. Позволь, я позвоню одному из них или обоим сразу. Пусть помогут, если обещали помогать!
— Спьяну много что можно пообещать, — буркнул Алексей, однако сильно возражать не стал.
Рассматривая протянутые Марией визитные карточки, он обратил внимание на фамилию, созвучную с известной на весь мир династией швейцарских финансистов и, поразмыслив, предложил позвонить именно ему. Было решено, что звонок они сделают в конце рабочего дня, что разговор на английском начнёт Мария и затем, посетовав на трудность в изложении сложных финансовых материй, попросит разрешения передать трубку Алексею.
Не имея более внутренних сил, чтобы тратить их на многочисленные женевские достопримечательности и оттого проторчав до пяти часов в парке Англе, они, наконец, позвонили в Берн. Разговор на удивление оказался лёгким и весёлым. Когда Алексей излагал суть образовавшейся проблемы и в ответ слышал на другом конце провода «Bagatelle!»[57] и «Cela va passer!»[58], ему временами казалось, что собеседник просто отшучивается. Однако нетрудно было заметить и то, что банкир схватывал суть дела мгновенно и временами своими короткими репликами в точности предварял то, что Алексей ещё только собирался ему сказать. В завершение разговора банкир попросил передать несравненной «russo diva»[59], чтобы та ни в коем случае не волновалась и «ждала информации».
Несмотря на обнадёживающую тональность, разговор с именитым банкиром не смог вернуть наших героев в прежнее расположение духа. Алексей высказал предположение, что всему виной — известная русская критичность и боязнь подвоха. Предложив вместо романтического ужина на берегу просто выпить кофе с круассанами, он вызвал такси, и они засветло вернулись в Лозанну.
Утром Алексею пришлось вспомнить золотые слова молодого графа Монтекристо — «ждать и надеяться». Ничего другого, увы, не оставалось. Мария, чтобы не закиснуть совсем, с жалкой сотней франков в кармане отправилась осматривать окрестные магазины, а сам же он, разыскав на веранде несколько предназначенных для курения столиков, молча сжигал одну мини-сигару за другой.
Когда Алексей увидел спешно приближающегося к нему метрдотеля, то решил, что чрезмерным курением он что-то нарушил и его за это намерены оштрафовать. Однако запыхавшийся метрдотель сообщил, что в холле гостиницы его ожидает представитель Banque Nationale le Suisse.
Алексей немедленно загасил сигару и отправился на встречу с визитёром. В холле его встретил позавчерашний собеседник, лысоватый старший банкир. Но на этот раз вид у него был торжественный, а обрамляющая плешь седина смотрелась как белоснежный венок.
Банкир сообщил, что имеет хорошую новость — информацию о местонахождении «интересующего актива». Незамедлительно разыскав Марию в одном из близрасположенных бутиков, они втроём выехали в банковский офис.
Во вчерашней переговорной комнате банкир, не скрывая за торжественным выражение лица довольной улыбки, объявил, что предпринятые им и его коллегами усилия увенчались успехом: интересующий Алексея фонд с 1938 года находился в депозитном учреждении Banque Coffre Aplestre, а после войны в связи с реорганизацией был переведён в частный банк Banque Privee Courtenay & Cie. Офис и депозитарий последнего расположены совсем отсюда рядом, в Монтрё, и уже сегодня они смогут нанести туда визит.
По-прежнему допуская, что слова банкира могли быть неточны или даже содержать в себе провокацию, Алексей от имени Марии и себя сдержанно поблагодарил его за неожиданное и вселяющее оптимизм известие. Раскланявшись, они на несколько минут заехали в отель, чтобы переодеться, и сразу же отправились в расположенный в тридцати километрах от Лозанны очаровательный Монтрё.
Не в пример предыдущим поездкам, на этот раз таксист-араб был грубым, нервным и страшно спешащим по какому-то личному делу. Единственным резоном, объясняющим его согласие на небыструю поездку по загородному тарифу, могла являться исключительно любовь к деньгам. Это стало окончательно понятно, когда на скверном французском таксист заявил, что Ривьеру ненавидит, Монтрё не знает совершенно, и после двух коротких попыток найти нужный адрес вдруг остановился и потребовал освободить машину.
Алексей не без труда удержался, чтобы не выругаться вслед дикому вознице, и поступил безусловно правильно, поскольку оказался в месте столь уютном и прекрасном, что скверные мысли сразу же улетучились.
Ярко блестела на солнце кожистая листва аккуратно подстриженных изгородей из падуба и изящных гледичий. Едва заметный свежий ветерок с озера отгонял полуденный жар, а запах близкой воды, перемешиваясь с тонкими ароматами haute cuisine[60], навевал непередаваемый бодрящий дух двух начал, трудносоединимых в обычной жизни, — странствия и комфорта.
— Вот, пожалуй, мы и прибыли лучшее место на земле! — восхищённо заметила Мария.
— Да, банкиры знают, где следует работать, — отвечал ей Алексей. — Но, боюсь, мы сейчас никого не найдём — обеденный перерыв.
— Ничего, подождём полчаса.
— Не полчаса, а полтора. Здесь, как и во Франции, не принято обедать на бегу. Два часа на обед как минимум!
Действительно, практически все немногочисленные офисы были закрыты, зато под вывесками и маркизами ресторанов и кафе чувствовалось нарастающее оживление.
Ограничившись перед предстоящей важной встречей лишь одним кофе с шоколадным профитролями, Алексей с Марией отправились на «рекогносцировочную прогулку» в районе проспекта Казино и улицы Театра, где должен был находиться офис частного банка Куртанэ. Банкир из Лозанны не помнил точного адреса и сообщил лишь улицу и телефон, однако при попытке дозвониться автоответчик любезным голосом сообщал, что сделать это лучше по окончании la pause-cafê[61].
Так, проходя дом за домом, наслаждаясь уютом и немного усыпляющим покоем, они оказались на аккуратной площади перед открытой дверью небольшого римского собора, о чём извещала табличка при входе. Пройдя через полумрак короткого притвора в зал и сразу же присев на ближайшую скамью — поскольку после яркого дневного света было трудно различать дорогу — они провели там не менее получаса, слушая внезапно зазвучавший орган. Когда же орган замолчал и Алексей с Марией, не торопясь, поднялись и стали осматривать соборный зал, к ним спустился с приветствием немолодой католический священник.
Алексей высказал восхищение его игрой и сразу же честно признался, что не сумел определить, что именно он исполнял. Священник широко улыбнулся и ответил:
— О, это очень редкая и мало звучащая сегодня музыка Ролана де Лоссю: месса, страсти и мадригал. А вы, должно быть, музыкант?
— Нет, я всего лишь историк. А вот моя спутница — певица.
— Мне очень, очень приятно видеть вас в нашем храме. Приходите чаще, мы будем рады вам всегда. На этой неделе я буду исполнять Баха, Палестрину, Генделя и Пендерецкого.
— Мне безумно жаль, — ответил Алексей, — но мы в вашем городе всего лишь проездом. И, что самое печальное — даже не в связи с отдыхом, а по делам.
— Не волнуйтесь, — поспешил успокоить его падре. — Заботы каждого человека важны и оправданы перед Господом.
— Наверное, к вам приходят специально послушать орган? — немного невпопад поинтересовалась Мария.
— Да, конечно, туристы иногда заходят. А так — приход у нас совсем небольшой для такого храма. Очень немного прихожан. Некоторые священники обижаются и говорят, что люди забывают Бога, но ведь Бог каждому даёт по его силам. У людей сегодня сделалось слишком много забот и слишком мало остаётся времени, чтобы заняться своей душой. Поэтому для меня всякий, кто хотя бы раз зайдёт сюда послушать орган, — уже сделал шаг к Богу и воздал Ему благодарность. Позвольте, я вас благословлю!
Мария опустила голову, падре произнёс «in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti»[62] и перекрестил обоих. Прощаясь со священником, Алексей на всякий случай поинтересовался, не знает ли тот, где расположен Banque Privee Courtenay. Падре был в курсе, он подробно объяснил, как найти этот банк и проводил своих гостей до самых дверей.
Как только на смену прохладному полумраку собора вернулся всеохватывающий жар ослепляющего солнечного полдня, Алексея обступила небольшая стайка детей лет восьми-десяти, весело щебечущих по-французски. И пока Алексей, присев на корточки, о чём-то разговаривал с ними, Мария не без восхищения разглядывала длинный ряд роскошных автомобилей, собравшихся то ли перед казино, то ли перед расположенным неподалёку ювелирным магазином, в котором сегодня должны были презентовать новую сезонную коллекцию известного модного дома.
Затем они быстро разыскали нужный адрес. Банк находился в достаточно скромного вида двухэтажном особняке, и за исключением небольшой таблички возле входа не имел никаких опознавательных знаков и элементов рекламы — разве что две огромные пальмы, росшие возле дверей, подчеркивали знатность и роскошный характер учреждения. Входная дверь была заперта, и чтобы войти в банк, пришлось несколько раз нажимать кнопку звонка.
Как обычно, за огромным и богатым столом ресепшн сидели миловодная секретарша и немногословный охранник, в адрес которых Алексей произнёс разученную наизусть формулу своего визита: прибыл в связи с вопросом особой важности и по рекомендации, полученной в Banque Nationale le Suisse.
Секретарша улыбнулась обворожительной и совершенно искренней улыбкой, что позволило Алексею заключить, что клиентов сюда должно заглядывать не очень много — иначе бы эта улыбка непременно стала дежурной и слегка вымученной. Разумеется, секретарши-дуры могут, словно мартышки, изображать радость перед каждым встречным, однако при первом же взгляде на эту девушку становилось понятно, что в ней одинаково гармонично с телесной красотою соединены ум и душевная глубина.
Секретарша уточнила должность и имя банкира, давшего рекомендацию, и затем немедленно с кем-то связалась по телефону. Положив трубку, она поднялась из-за стола и подошла к Алексею и Марии.
— Любезно прошу нас извинить, — произнесла она, — но мы рассчитывали, что ваш визит к нам состоится завтра. Но, пожалуйста, не беспокойтесь, господин Шолле через двадцать минут вылетает из Франкфурта и в течение часа с небольшим будет здесь. Для нас станет большой честью, если вы подождёте его возвращения в нашем салоне. Пожалуйста, позвольте я проведу вас в салон!
— Давайте-ка лучше мы придём завтра, — немного растерявшись, предложил Алексей. — Если ваш представитель только вылетает из-за границы, то даже несколькими часами ожидания здесь не обойтись.
— Я знаю аэропорт Франкфурта, это сущий кошмар, — подтвердила Мария. — Два часа идёт одна регистрация, и ещё минут по сорок самолёты ждут разрешения на взлёт!
— Не волнуйтесь, господин Шолле вылетает не из международного аэропорта, а с маленького аэродрома в Эгельсбахе на частном самолёте. Он сделает посадку в Блешерете, рядом с Лозанной, и будет в Монтрё уже весьма скоро. Пожалуйста, я проведу вас!
Делать было нечего, и Алексей с Марией проследовали за секретаршей по коридору в просторный и светлый зал, над входом в который была установлена табличка с буквами HNVI. Эта аббревиатура чем-то напоминала каноническую надпись на иконах, хотя, очевидно, имела другое значение. Поэтому, как только они опустились в роскошные кожаные кресла, Алексей немедленно воспользовался айфоном Марии, чтобы выяснить смысл надписи, и обнаружил, что она обозначает «High Net Value Individuals»[63]. Усмехнувшись про себя, он вернул Марии айфон и, внимательно осмотрев помещение салона, действительно обнаружил за высокими спинками кресел кое-кого из high net value individuals. В одном случае это был холёный пожилой африканец вместе с юной чернокожей спутницей, на шее у которой переливалось огненными брызгами внушительной величины алмазное колье. Чуть поодаль о чём-то беседовали две ухоженные дамы европейской внешности. А в дальнем углу совершенно неожиданно обнаружился миниатюрный китаец — и то, когда поднялся в полный рост, чтобы переговорить по мобильному телефону, поскольку до этого момента высокая спинка дивана скрывала его присутствие надёжно и беспроигрышно.
Помимо великолепной мебели, всё остальное устройство салона аналогичным образом было предназначено для обеспечения комфорта, таинственности и скрытости. Звуки голосов дробились и терялись едва не сразу же за головами собеседников, и даже шаги изредка заглядывающей сюда прислуги были практически не слышны. Воздух в салоне был прохладен и чист, а присутствие под пальмами орхидей и цветущих лиан наполняло его ароматами умиротворения и блаженства. Не хотелось даже разговаривать — до того восхитительным и торжественным был царящий кругом покой.
Алексей взял с журнального столика несколько листов бумаги и не желая тратить время даром, занялся одному ему ведомыми записями и расчётами. Мария попыталась занять себя чтением свежих журналов, однако не в силах бороться с одолевающей дремотой, устроилась поудобнее в кресле и заснула. А когда Алексей обратился с просьбой «перефотографировать» свои записи на айфон и она очнулась, то для борьбы со сном ей пришлось дважды ходить к буфетному столу за крепким чёрным кофе и свежими имбирными пирожными, служившими здесь фирменным угощением.
Ровно через два часа, как и было обещано, приехал господин Шолле и Алексея с Марией сразу же пригласили к нему в кабинет.
Управляющий банком Courtenay Франц Шолле был высоким и красивым человеком лет шестидесяти или шестидесяти пяти. Ему могло быть и больше, однако очевидное прекрасное здоровье и внимание к своему состоянию и внешности убедительно говорили о том, что он бодр, силён и ни в малейшей мере не собирается давать кому-либо повод усомниться в своём таланте, влиянии и власти. Даже седина у него была не белой, а светловато-каштановой, напоминающей цвет щедрой пашни или масть благородного скакуна.
Представляясь, Шолле упомянул, что уже более сорока лет представляет в банке интересы собственника в лице семьи Куртанэ, являющейся по происхождению прямыми потомками третьего капетингского дома и дома графов Амьенских.
Алексей высказал благодарность за проявленную господином Шолле готовность прибыть на эту встречу за сотни километров, и словно в своё оправдание посетовал на то, что уже на протяжении нескольких дней вынужден колесить по Швейцарии в поисках следов вверенного ему русского фонда, открытого в 1891 году в женевском филиале парижского Caisse des Depots и в начале XX века переведенного в лозаннский филиал швейцарского Центрального банка.
— Не волнуйтесь, — спокойно и доброжелательно ответил Шолле, — этот Фонд находится у нас. В соответствии с общим порядком, для получения доступа к Фонду вы должны обладать уникальным ключом. Но в силу особого статуса, который сообщили данному Фонду его основатели, применяется специальное правило, согласно которому предполагаемый бенефициар должен также подтвердить свою личность.
— Я первый раз слышу об этом, — ответил Алексей, всеми силами пытаясь сохранить хладнокровие и невозмутимый внешний вид. — Доступ к Фонду открывается номерным ключом, которым я располагаю. В соответствии с банковской традицией вашей страны, обладатель правильного номерного ключа является natif heritier[64] и иных подтверждений не предусматривается. Я не возражаю, чтобы вы проверили мою личность и убедились, что перед вами стоит не мошенник, но в то же время, согласитесь, мне крайне трудно будет доказать вам справедливость передачи прав на Фонд, которые возникли более ста лет тому назад и которые были вынуждены претерпеть многочисленные исторические пертурбации…
Безусловно, охватившее Алексея волнение и даже отчаянье от слов банкира сполна выдавали себя — он стал запутываться в собственных словах и был вынужден свести фразу к набору благозвучных, но слабо связанных между собой выражений. Казалось, что ещё миг — и ему предстоит пережить самую провальную, позорную и страшную минуту своей жизни.
Он замолчал, ожидая спустя мгновение услышать, как смертный приговор, требование раскрыть свою родословную и тем самым обнажить ничтожность прав на неведомое богатство. Или — продемонстрировать незнание существенных и важных деталей, что немедленно в глазах всей этой достопочтенной публики поставит его на одну доску с мошенниками и лихоимцами. Бедная Мария! Какой позор предстоит пережить и ей, когда лучший голос фестиваля в Вале объявят едва ли не преступницей, и даже крошечная заметка об этом в захолустной местной газетёнке, попав в интернет, немедленно поставит крест на всей её мировой карьере!
Однако ничего иного не оставалось, и Алексей молча протянул Шолле свой новенький заграничный паспорт с современным двуглавым российским орлом.
Шолле раскрыл документ, положил его на стол перед собой и принялся с вниманием изучать.
«В довершение ко всему — там единственная виза и два жалкие пограничные штампа! — подумал Алексей сокрушённо. — Для человека с моим французским иметь сегодня такой девственный документ — полный нонсенс! Сразу видно, что паспорт либо поддельный, либо получен специально для того, чтобы провернуть афёру…»
— Скажите, месье Гурилёв, — произнёс Шолле после продолжительной и тягостной паузы. — Вы действительно родились в богом забытом посёлке на Дальнем Востоке России?
«Всё кончено, раскусил!» — ударило в голове. Но, памятуя ещё из детских книг о том, что погибать надо достойно, Алексей взял себя в руки и ответил, насколько возможно, спокойно и равнодушно:
— Я родился в Москве.
— Да, но в вашем паспорте написано, что вы родились на Дальнем Востоке в 1986 году. Я неплохо знаю русскую историю, которая в своё время забросила в этот край земли весьма многих именитых и известных людей. Но помилуйте — все они вернулись к себе домой ещё за тридцать лет до вашего рождения! Насколько я помню, отказался возвращаться лишь один — ваш знаменитый шансонье Вадим Козин, — но, судя по фамилии, вы не являетесь его родственником.
— Разумеется, не являюсь… — ответил Алексей, растягивая слова, чтобы сконцентрироваться на мысли, только что пришедшей ему в голову и призванной положить конец всему этому унизительному процессу разоблачения. — Более всего, господин Шолле, я не хотел бы остаться в ваших глазах человеком, который скрывает свою личность. Поэтому — как вы посмотрите вот на это?
И, наклонившись, он извлёк из портфеля и протянул банкиру сохранённый в отцовском тайнике французский паспорт на имя Alex Gourilev, выписанный в 1939 году для запланированной, но так и не состоявшейся студенческой командировки по линии одного из закрытых советских ведомств. Этим жестом отчаяния Алексей хотел добиться лишь одного — спасти репутацию Марии от позорной огласки, ибо любая информация о её связи с банковским аферистом, прикрывающимся столь экзотическим и невероятным документом, выглядела бы слишком фантастической, чтобы стать правдой.
Шолле бережно принял в свои руки документ, выданный полицейским комиссариатом Третьей Республики, и с неподдельным интересом принялся рассматривать его жёлто-коричневую обложку, скрывающую под собой тридцать две страницы плотной льняной бумаги. Затем, положив раскрытый паспорт на стол, он извлёк большое увеличительное стекло в массивном медном ободе и принялся изучать фотографию и великолепно сохранившиеся записи, сделанные острым стальным пером полицейского писаря со старинной прописью букв и многочисленными завитками. Потом он аккуратно потрогал и даже поддел ногтем две круглые и слегка поржавевшие стальные клипсы, с помощью которых в соответствии со старой французской полицейской традицией была закреплена вклеенная в паспорт фотография. Алексей чуточку привстал, чтобы взглянуть на своё довоенное фото, и с сожалением в душе отметил, что выглядит на нём моложе, чем сейчас, аж на целых три года.
— Странно, а ведь я совсем было забыл, что в наших старых паспортах страницы были разделены на мужскую и женские половинки, — в задумчивости произнёс Шолле, разглядывая документ. — Для мужчин вклеивали фотографии и делали записи слева, а для женщин — справа. Правильно, всё так. Как же я об этом забыл…
— У вас есть какие-то сомнения? — с показным равнодушием поинтересовался Алексей, решив, что терять ему уже больше нечего.
— Нет, сомнений у меня никаких. Паспорт подлинный и принадлежит действительно вам. Возьмите, пожалуйста! — ответил банкир и протянул документ обратно Алексею.
Алексей, не в силах скрыть изумления, принял документ.
— Благодарю… В таком случае — мы не станем больше вас задерживать, — произнёс он, поднимаясь с кресла и протягивая руку Марии.
— Как! Вы уходите? — воскликнул Шолле. — Вы даже не попытаетесь открыть сейф?
— Вряд ли с довоенным паспортом вы мне это позволите…
— Но я же сообщил вам, что паспорт подлинный! Пожалуйста, если номерной код находится при вас — я приглашаю вас в депозитарий!
С этими словами Шолле, опережая Алексея, сделал шаг к двери. Алексей с грустью посмотрел на Марию, пожал плечами и последовал за ним.
Шолле повёл их длинным коридором в глухую часть здания, откуда затем они на лифте спустились на несколько этажей под землю. В ярко освещённом подвальном помещении их встретили двое охранников и узким проходом подвели к стальной двери, замок которой приводился в действие одновременным приложением магнитной карточки банкира и особого ключа, который посредством браслета был пристёгнут к запястью сотрудника охраны.
За массивной дверью располагалось небольшое помещение, разделённое алюминиевой перегородкой, в дальней части которого рядом с маленьким столиком возвышался стеллаж, в ячейках которого находились стальные сейфовые ячейки. Первый же взгляд на их узкие крошечные дверцы вызвал недоумение — неужели за ними могли помещаться сокровища мира? Однако Алексея волновало совсем другое — в каком статусе он проведён сюда по пожелтевшему от времени паспорту, не сошёл ли кто-то из них двоих с ума и не ловушка ли это?
— А всё-таки, господин Шолле, — поинтересовался он у банкира, когда охранники, наконец, оставили их наедине. — Вы действительно уверены, что видите перед собой того человека, который имеет право не только ввести код, но и прикоснуться к содержимому?
— Я смотрю, вы никак не можете успокоиться после триумфального признания вашего старого французского паспорта! Не волнуйтесь, пожалуйста, месье Гурилёв, мы здесь не такое видали!
— То есть вы подтверждаете мои права?
— Предварительно — да. Но решающее слово мы услышим вон оттуда, — и он посмотрел на сейфовый стеллаж. Сейчас вы введёте код, и содержимое ячейки нам обо всём расскажет.
— А где именно вводить?
— Извините, вы заговорили меня… Ваш вклад относится к третьей депозитарной группе, она формировалась как раз на рубеже XIX и XX веков. Номер вашей ячейки — цифра семь, это второй блок слева. В сейфах этой группы впервые были применены тринадцатиразрядные кодовые замки. При этом два последних разряда выполняли роль девиза, подтверждающего основной одиннадцатиразрядный код. Механизм устроен таким образом, что у вас имеется возможность вводить девиз целых двенадцать раз, а вот для основного кода у вас в запасе только две попытки. Вы готовы?
— Пожалуй, да.
— Тогда я, как принято, подожду вас за перегородкой. А вот ваша спутница, не обижайтесь, должна полностью покинуть помещение и дожидаться вас у охранного поста. И ещё один совет — механика у замков исключительного качества, и если сейф не откроется — не пытайтесь по нему стучать и применять силу. Лучше сосредоточьтесь и перепроверьте себя!
Оставшись рядом наедине с сейфом N7, Алексей внимательно осмотрел ведущую к его содержимому отнюдь не самой великой прочности, как ему показалось, стальную дверцу, глазки и колёсики кодового замка. С левой стороны поверх глазков и колёсиков к дверце была прикреплена бронзовая табличка со словом «Alpha» — скорее всего, это было название фабрики, на которой когда-то изготовили сие причудливое устройство. Из всех тринадцати глазков на него смотрели нули. Алексей вспомнил, что когда-то читал о замках, которые в момент закрывания автоматически сбрасывают кодировку — похоже, это был тот самый случай.
Оставшись один, Алексей присел за стул и достал из кармана листок, на котором он неоднократно перепроверял оставленный его отцом расчёт кода. Да, всё сходилось: в изречении Екклесиаста ровно одиннадцать слов, двенадцатый знак — имя книги, тринадцатый — сумма номеров главы и стиха. Может быть, стоит ещё раз по памяти проверить номера латинских букв — нет, поздно, это займёт слишком много времени. Поскольку с девизом, образуемым из слова «Екклесиаст» и цифр «10:7», ошибки быть не должно, у него есть две попытки для ввода основного пароля. Если ошибётся — он перепроверит его ночью и завтра вернется сюда. Итак, вводим пароль? А если в расчётах где-то уже сидит ошибка или неточность, и если она не одна? Тогда если завтра он обнаружит и исправит только одну, то у него не останется права на третью попытку! Так нельзя. Значит, ещё раз и именно здесь, под пристальными чужими взглядами, он должен проверить расчёт пароля заново. Сколько бы ни заняла времени данная работа, эти минуты, пожалуй, становятся самыми важными в его жизни!
Он выхватил авторучку, быстро выписал в столбик пронумерованный латинский алфавит, и принялся по два, по три, а где и по четыре раза перепроверять каждую букву в высказывании «Vidi servos in equis et principes ambulantes quasi servos super terram»[65]. Всё правильно, всё сходится…
Он отёр выступивший на лбу обильный пот и ещё раз взглянул на листок с выкладками. Придраться не к чему, колебаться нельзя. Остаётся лишь одно большое сомнение — удастся ли или нет вся эта безумно сложная операция, ключи к которой прошли через множество рук и судеб, передавались изустно, намёками или, возможно, домысливались в непременном желании скорейшего успеха… И ещё, разумеется, на всём этом пути могли быть заблуждения и ошибки…
Внезапно осознав, что в данный миг от его действий зависит не столько его личная судьба, сколько оправдание чаяний и жизней множества известных и неизвестных ему людей, судьба которых так или иначе могла пересекаться с этим странным и неведомым наследием прежней России, Алексей поднялся, подошёл к сейфу и стал медленно вводить цифры:
8, 8, 5, 8, 7, 1, 9, 4, 8, 7, 3–3, 8
Завершив ввод последней цифры, он прислушался в надежде различить срабатывание прецизионного механизма — однако со стороны сейфа не исходило ни малейшего звука. Неужели фиаско? Или всё-таки барахлит хвалёный замок, к которому банкир запретил прикасаться?
Понимая, что терять больше нечего, Алексей легонько постучал пальцем по дверце, а потом слегка надавил её вверх. И о чудо! — раздавшийся звонкий щелчок возвестил, что сейф ожил, под действием пружинного механизма дверца немного приоткрылось, а в коридоре громко зазвенел звонок.
— На вас лица нет! — было первое, что услышал Алексей от сразу же вошедшего к нему Шолле. — Охрана! Сообщите, чтобы срочно принесли воды!
— Со мной всё в порядке, — попытался было успокоить его Алексей, однако увидев свою промокшую насквозь сорочку и записной лист, на который продолжали скатываться крупные капли пота, изменил тон и сообщил, что быстродействие швейцарского замка оказалось не на высоте.
— Ну, это не страшно, бывает, всё-таки сто лет прошло! Поздравляю вас, месье Гурилёв и вас, мадам, — обратился Шолле к подошедшей Марии. — Действуйте же, действуйте смелее!
Алексей открыл дверцу полностью и протянул туда ладонь. Было заметно, с каким вниманием он старается ощупать и перепроверить каждый уголок его неведомого зияющего пространства в поисках сокровища, за которым судьба его сюда привела. Однако спустя полминуты томительного ожидания, Алексей извлёк из сейфа единственный конверт из жёлтой пергаментной бумаги с золотым тиснением по краям и ярким, исполненным киноварью двуглавым имперским гербом и надписью «Правительствующiй Сенатъ». С обратной стороны конверт скрепляла сургучная печать.
Алексей медленно перенёс и положил конверт на столик, на котором только что лихорадочно перепроверял коды пароля и девиза, и обескуражено взглянул на банкира.
— Открывайте! — ответил тот совершенно спокойным голосом. — Воспользуйтесь этим для съёма печати!
И Шолле протянул Алексею красный перочинный нож.
Срезав печать, Алексей осторожно вскрыл конверт. В нём находился одностраничный документ на французском языке. Бегло пробежав по нему глазами, Алексей показал его банкиру.
— Это доверенность, выданная назначенным распорядителем Фонда и заверенная печатью Правительствующего Сената Российской Империи, — пояснил тот спустя минуту. — В ней особо оговорено, что поскольку доверенность предназначена для использования за пределами Империи, то она является бессрочной и действительной для предъявителя, имеющего к ней доступ. Иными словами, этот документ в ваших руках продолжает обладать законной силой. Ещё раз поздравляю вас, месье, и вас, мадам!
Алексей и Мария в недоумении переглянулись. Заметив их замешательство, банкир счёл за благо сразу же сделать нужные разъяснения.
— Эта доверенность предоставляет вам доступ к фидуциарному депозиту, открытому господином Второвым в начале XX века. На этот счёт перечислялись и продолжают перечисляться все доходы от ценных бумаг, размещённых в известном вам Фонде, который между собой мы называем Большим счётом или Большим трастом. Все транзакции осуществляются через наш банк, и сегодня же вы получите обо всём этом самую детальную информацию.
— Спасибо, — ответил ему Алексей. — Но нам хотелось бы также знать, где находится сам Фонд, а также каковы его состав и стоимость.
— Большой счёт находится у нас, и банк Куртанэ уже очень длительное время осуществляет профессиональное управление его бумагами. Могу вас заверить, что управление осуществляется разумно и эффективно, и не было случая, чтобы стоимость бумаг снижалась.
— А можно взглянуть на эти ценные бумаги?
— Это не так просто, месье Гурилёв. В процессе управления нам достаточно проводить операции с их электронными счетами, сами же документы, поскольку они представляют особую важность, находятся в одном из горных хранилищ. Кстати, доверенность открывает вам доступ к этим документам. Но для этого вы должны открыть ещё одну ячейку… точнее не ячейку, а на этот раз уже полноценный сейф.
— В горном хранилище?
— Совершенно верно, в альпийском хранилище.
— А вы знаете, что находится в том сейфе?
— Да, знаю, но не располагаю правом говорить, пока сейф не открыт законным путём. Если у вас имеется второй код — заявите мне об этом сейчас же, и мы не будем терять время!
Стараясь не выдать вновь усилившегося волнения, Алексей ответил, предпочитая глядеть не прямо, а немного вниз:
— Нет, второго кода у меня сегодня нет. Я догадывался, что он существует, однако до сих пор мне его не удалось разыскать. Ещё разобраны не все документы.
— Абсолютно ничего плохого! Абсолютно ничего! Время работает в вашу пользу.
— Да, я тоже так считаю, — ответил Алексей, улыбнувшись. — Мне было важно убедиться, что мы находимся на правильном пути. Так что, надеюсь, навестим вас как-нибудь в следующий раз. Спасибо!
— Как, вы уходите? — поразился Шолле. — И вы даже не посмотрите отчётность по Большому счёту?
— Почему бы и нет? Конечно, посмотрим!
Все вернулись наверх, и Шолле провёл Алексея и Марию в большой зал со стеклянными перегородками, где, по-видимому, находились бухгалтерские службы. Он попросил подождать за столом для гостей и вскоре вернулся с достаточно пухлой папкой.
— Давайте обсудим это в моём кабинете!
Когда зашли в кабинет, Шолле сообщил, что номинальный дебет Большого счёта составляет не менее трёхсот тридцати миллиардов швейцарских франков — в переводе на американские доллары это будет примерно столько же. Для определения точной цифры нужны свежие данные по ряду зарубежных банков, на депозитах которых Банк Куртанэ разместил средства Большого счёта, соответствующая работа может занять до недели, однако на общий результат эти данные совершенно не повлияют.
Вторым важным открытием стало то, что приблизительно пятнадцать миллиардов долларов, скопившихся на управленческом счёте, находятся в полном распоряжении актуального доверителя, то есть Алексея. Заподозрив подвох, Алексей заявил Шолле, что рассматривает царский Фонд как достояние народа России, которое обязался возвратить. Банкир ответил, что исключительно высоко ценит это благородное решение и надеется, что после того, как Алексей восстановит доступ к основной части Фонда, он сможет сделать для этого необходимые распоряжения. При этом банкир особо подчеркнул, что в соответствии со статутом Фонда, на управленческом счёте доверителя аккумулируется исключительно доход, представляющий собой «половину от остаточного дохода Фонда после исключения из него обязательной рекапитализации в размере 7/12 и страхового резерва в размере 7/21 от годовой прибыли, поскольку вторая половина признаётся комиссией банка», — эту замысловатую формулировку Шолле произнёс без запинки и подсказки, что говорило о том, что к встрече он подготовился по высшей категории.
— То есть вы хотите сказать, что эти пятнадцать миллиардов — это скопившийся за невостребованностью доход доверителя, то есть на сегодняшний день — меня?
— Да, совершенно верно. Только пожалуйста, уймите ваше стеснение! За вычетом 7/12 и 7/21 мы имеем… — банкир на несколько секунд задумался, — мы имеем… 21/252, или где-то около восьми процентов годового управленческого вознаграждения, из которых ваших — ровно половина. По сегодняшним меркам это очень скромный показатель, месье Гурилёв. Основатели вашего Фонда были действительно скромными людьми! Однако поскольку этот законный доход они официально передали вам, вы не должны его бояться или, не дай боже, от него отказываться!
— Я не отказываюсь от денег, — успокоил банкира Алексей. — Но тем не менее я готов под присягой заявить, что большая часть этих денег будет отдана моему народу.
Шолле сделал серьёзное лицо и покачал головой.
— Воля ваша. И, между прочим, я вполне допускаю, что вы произносите эти слова искренне. Однако если бы вы знали, сколько эти стены видели правителей различных стран и предводителей народов, диктаторов и президентских вдов, благотворителей, тайных бизнесменов, злодеев, шпионов — и абсолютно все они, подтверждая согласие на распоряжение миллиардами, которые были в здесь для них сохранены и приумножены, в один голос клялись, что непременно потратят их на общественное благо! О, если бы вы только знали! Поэтому не стройте из себя святого бессребреника. Ваш народ сможет получить эти деньги только лишь после того, как вы оформите их на своё имя. Для этого в соседнем «Райффазенбанке» для вас уже заведён лицевой счёт, и в течение часа сюда доставят вашу кредитную карточку. Лимит у вас определён в пять миллионов, пополняться он будет нашим банком в течение двух-трёх дней в пределах общей суммы, размера которой, думаю, нет нужды повторять. Полагаю, что подобный порядок вас вполне устроит.
— Думаю, что да. А почему вы открываете мне счёт в другом банке?
— Исключительно с целью того, чтобы сделать ваш капитал малозаметным. Окружающие, да и то не все, будут видеть у вас карточку хорошо известного банка и лишь миллион-другой долларов на ней — это, поверьте, на сегодняшний день небольшие деньги, а вашей стране, насколько мне известно, многие вообще не считают подобные суммы деньгами. Истинный же баланс будете знать только вы. Кстати, если надумаете производить платежи в интересах, как вы говорите, народа России — не пользуйтесь карточкой, а прилетайте сюда, мы организуем перевод денег грамотно, незаметно и напрямую.
— И всё-таки…
— Никаких «всё-таки», не изображайте из себя картинного благотворителя! Я не должен был вам это говорить, но, так уж и быть, скажу, ибо боюсь увидеть с вашей стороны чудо альтруизма: до войны управленческий доход дважды снимался со счёта, знайте!
— Интересно… А кто же это делал?
— Извините, но вот эту информацию раскрыть для вас я уже не могу. Пока не принесли карточку — вам чай или кофе?
— Два кофе, конечно же, — ответил Алексей. — И с коньяком, если возможно.
— Разумеется, у нас всё возможно!
Расторопный стюард подал вместе с кофе хрустальную бутылку редкого коньяка из рода Grande Champagne, и Алексей употребил целых три бокала для того, чтобы сбросить накопившийся стресс, от которого по всему телу временами пробивала дрожь. Шолле искусно перевёл тему разговора с инвестиций и финансов на Шильонский замок и другие местные достопримечательности, чем сделал ожидание курьера из «Райффазенбанка» приятным и необременительным.
Уже при прощании, после того, как необычная кредитка, закреплённая за обложкой нового загранпаспорта, опустилась в карман Алексея, он неожиданно поинтересовался — не был ли человек, снимавший с Большого счёта деньги накануне войны, Германом Тропецким.
— Да, его звали именно так, — невозмутимо ответил Шолле.
Шолле замолчал на некоторое время и потупил взгляд, будто что-то рассматривал или разыскивал на полу. Потом, подойдя в Алексею практически вплотную, произнёс шёпотом:
— Я вновь делаю то, что не должен делать. Но вы, судя по всему — особый случай, поэтому я хочу вам немного помочь. Я вижу, что вы получили информацию от Тропецкого, который так же, как и вы, имел ключ к управленческому счёту, но не имел ключа от самого Фонда. Судя по всему, после русской революции и гибели господина Второва информация о Фонде разделилась. У Тропецкого была лишь её первая часть. Второй код оказался в распоряжении Христиана Раковского, тогдашнего посла Советской России в Париже. Представители Раковского обращались к нам, однако без первого ключа Фонд остался для них закрытым. Поэтому, cher ami[66], - ищите! Кроме вас, этого не сделает никто. И ещё у меня есть предчувствие, что удача будет на вашей стороне!
Алексей сразу воскресил в памяти содержавшееся в дневнике Фатова упоминание о словах Тропецкого про Россию, без которой был невозможен полный доступ к спрятанному богатству. Не исключено, что Тропецкий что-то ещё знал о второй части счёта и мог бы сообщить перед смертью, однако не успел.
Алексей сердечно поблагодарил банкира, Шолле в ответ поцеловал руку Марии, и они вдвоём спустились на улицу, где их дожидался заказанный банком лимузин.
— Теперь, Маш, прямой дорогой — на проспект Казино? — пошутил Алексей.
— Лучше всё-таки домой, — ответила Мария. — Боюсь, что не смогу остановиться!
* * *
По возвращении в Лозанну в Beau-Rivage, Мария сразу же поспешила подняться в номер, чтобы привести себя в порядок, а Алексей остался в холле, желая переговорить с портье. Когда же, переодевшись в вечернее платье, она вернулась, то Алексея там не застала. Она искала его в баре, заглядывала в ресторан — однако его не было нигде.
Неожиданно Марию пронзила обжигающая и острая, словно молния, мысль о том, что её спутник, имея в кармане кредитку с миллиардами долларов, вполне мог исчезнуть, и подобное исчезновение находилось бы в полном соответствии с законами жанра. Ведь пятнадцать миллиардов in cash[67] — богатство умопомрачительное, пребывающее за привычной гранью добра и зла.
Подойдя к стеклянной двери, она увидела, как внезапно вспыхнули красные огни отъезжающего от отеля лимузина, и почти поверила в то, что Алексей должен был находиться именно там. При этом она не успела испытать ни разочарования, ни обиды, поскольку следующей же её мыслью явилось прозрение, что она немедленно должна начинать мстить. Например, срочно позвонив в Москву брату и попросив, чтобы тот объявил обладателя паспорта с сомнительной дальневосточной регистрацией в международный розыск. Воображение самопроизвольно рисовало картину задержания и ареста сконфуженного Алексея в женевском аэропорту, откуда он собирался вылетать в Эквадор или Панаму, с разбирательством в полиции и конфискацией волшебной карты.
Однако не успела она насладиться созерцанием это мига торжества, как очередная страшная догадка заставила её остановится, замереть, вцепиться в дверной косяк и наплевав на макияж, начать нервно вытирать ладонью обильно выступивший на лице пот. Да, она не могла ошибиться — это была та самая одновременно и страшная, и абсолютно правдоподобная мысль, которая уже несколько мгновений свербела где-то внутри и теперь, наконец, вырвалась наружу. Мысль о том, что пригретый её лаской и покровительством бывший энкэвэдэшник, вскормленный кровавым сталинским режимом, конечно же, не мог не предвидеть её подобную реакцию. Более того, он непременно был обучен не оставлять свидетелей — стало быть, где-нибудь поблизости Марию, без сомнений, уже поджидает наёмный убийца. Или, страшно подумать — хотя чего уже бояться! — сам Алексей, прекрасный и чудовищный, как Дориан Грей, хладнокровно взводит за углом ледяной затвор своего нагана или вальтера… Начала сильно кружиться голова. Интересно знать, куда он будет целиться — в голову или в грудь?
— Vous allez bien? — вдруг услышала она, как к ней обращается пожилой господин, направляющийся на прогулку с ухоженной старушкой и весёлой собачкой на длинном поводке. — Puis-je vous aider?[68]
— No, — отрешённо ответила Мария, понемногу приходя в себя. — I am all right.[69]
Дождавшись, когда пожилая чета проследует вперёд и перестанет оглядываться, она также вышла на улицу и с наслаждением подставила мокрое от волнения лицо под порыв свежего ветра, идущего с озера. Светящиеся круглые часы показывали начало десятого, небо быстро темнело, в воздухе пахло сыростью воды, смешанной с ароматами дорогих духов. На веранде поблизости горел яркий свет и сновали официанты, там шумно праздновала развесёлая компания каких-то богатеев. Фортепиано и виолончель наигрывали что-то до боли знакомое из репертуара «Платтерс» или Фрэнка Синатры… Двое мужчин, прижавшись друг к другу, попытались исполнить нечто наподобие тура вальса, однако зацепившись за край стола, под всеобщий смех и грохот посуды, оба повалились на пол…
Мария огляделась по сторонам — Алексей как в воду канул.
«Плохо дело, — подумала она. — Неужели так всё и произойдёт?»
Неожиданно родилось спасительное решение — немедленно позвонить Алексею самой. Позвонить, даже если этот звонок обнаружит её местонахождение и позволит сбыться её самым страшным предположениям. Ещё раз быстро всё обдумав и решив, что лучше ужасный конец, чем этот ужас без конца, она достала из сумочки свой «айфон» и негнущимися пальцами набрала заученный наизусть номер.
Алексей ответил немедленно. Оказалось, что по причине шумной компании, оккупировавшей веранду, он дожидается её за дальним и плохо освещённым столиком, единственным достоинством которого является крошечная табличка, разрешавшая курить. И последнему обстоятельству он был бесконечно рад.
Целая гора в мгновение ока низверглась с Машиных плеч. От восторга она едва не зашвырнула айфон в кусты и с трудом сдержалась, чтобы не закричать или запеть от невыносимого чувства радости. Наплевав на все приличия, она, как уличная девчонка, застыв под фонарём и подперев коленкой ридикюль, спешно восстановила макияж и затем, стараясь ровным и глубоким дыханием навсегда похоронить остатки посетившего её наваждения, быстрыми шагами пошла, а вскоре и побежала туда, где Алексей, дожидаясь её, спокойно пил коньяк.
Приняв её за свой стол, он как ни в чём ни бывало предложил Маше обсудить ближайшие планы, резонно полагая, что она захочет остаться на какое-то время в Швейцарии или посетить другое нужное ей место. Раньше она несколько раз упоминала, что хотела бы заехать на парочку дней на Лазурный Берег, где живёт подруга, вышедшая замуж за тюменского миллионера, и Алексей был не прочь выполнить любой её каприз. Однако Мария сразу же ответила, что не имеет никаких особенных планов, и потому готова отправиться туда, куда он пожелает поехать сам.
Алексей задумался и признался, что хотел бы, конечно, провести недельку-другую в любезной его сердцу Франции, однако считает подобный отдых непростительной роскошью — ведь нужно, не теряя времени, начинать искать второй код, который был известен Раковскому, а для этого необходимо возвращаться в Москву, залезать в архивы… С другой стороны, небольшой отдых также бы не помешал. Отсюда родилась мысль — отдохнуть, одновременно направляясь в сторону дома: взять напрокат автомобиль и двинуться на нём на восток, через Австрию и Словакию.
— А потом — через Польшу или Украину, — напомнила Мария географическую реальность. — Но там мы вряд ли отдохнуть сможем.
— В этом случае, — не стал спорить Алексей, — мы спустимся на юг, в Югославию.
— В бывшую Югославию, — снова уточнила Мария.
— Да, в бывшую… Отец в середине тридцатых находился там в командировке и привёз кучу сувениров, из которых мне запомнилась цветная открытка с изображением лазоревого заката над Адриатикой. Почему-то именно лазоревого… Между прочим, продукция белогвардейского издательства, подпись была на русском языке со старой орфографией. Эта открытка постоянно стояла у меня в витрине книжного шкафа… Так что — почему бы и нет? — погостим на Адриатике, воплотим в жизнь детскую мечту!
Утром Алексей вызвал агента, занимающегося прокатом автомобилей, и несмотря на все попытки последнего всучить им роскошный внедорожник или хотя бы представительский «Мерседес», настоял на аренде небольшого и скромного «Ситроена». Хорошо позавтракав и сердечно поблагодарив за гостеприимство персонал отеля, наши герои отправились в дорогу.
Путешествие, в котором предстояло преодолеть без малого тысячу километров, отлично спорилась. К обеду они безостановочно миновали Берн и подъехали к Цюриху, откуда повернули на юго-восток в направлении озера Валензе. Кофе на полдник пили в центре Вадуца, столицы Лихтенштейна, напротив лоснящегося от солнечных бликов изваяния возлежащей на бронзовых перинах красавицы с грудями-колбами, утомлённой и распухшей от полноты и покоя здешней неспешной жизни. После седого Фельдкирха, в окрестностях которого, казалось, русалки вполне могли когда-то спрятать Золото Рейна, начиналась потрясающей красоты горная дорога, где от величия тирольских перевалов захватывало дух и звенело в ушах. После Инсбрука они неожиданно очутились на территории Германии, однако выяснили это лишь после того, как на подъезде к Зальцбургу наткнулись на австрийский пограничный знак давно упразднённого контрольного пункта. До Вены оставалось более двухсот километров, начинало темнеть, однако Алексей, разогнавшись по великолепному автобану «Вест», решил во что то ни стало «ехать до конца».
Наконец, за полчаса до полуночи, двигатель «Ситроена» смог впервые с утра отдохнуть, остановленный на ночь в подземном паркинге. Путешественники, пошатываясь от усталости, подтвердили сделанную накануне резервацию в венском пятизвёздочном отеле и сразу же поднялись в ресторан на крыше, где их ожидал лёгкий ужин. Не требовалось даже вина — раскинувшаяся внизу блистающая и роскошная ночная Вена, огни которой дробились и множились в чёрном зеркале Дуная, опьяняла, кружила голову и не позволяла спать. Последнее не было преувеличением — заснув не ранее двух и предполагая проснуться ближе к обеду, уже в половине восьмого Алексей и Мария поднялись с постели абсолютно здоровыми, бодрыми и полными сил.
Пешую прогулку по утренней Вене они начали от великолепного Дворца Хофбург, откуда по старинным улочкам проследовали к собору Святого Стефана. Затем, прогулявшись по городскому парку и повернув направо, вскоре обнаружили себя в районе между Венской оперы и Галерей Альбертина, хранящей замысловатые видения Босха и лаконично-взрывные акварели юного Шиле. Мысленно поклонившись памятнику Моцарту в прелестном Императорском саду, они вышли к необъятному Терезия-Плац, разделённому на лужайки, каждая из которых с чрезмерной щедростью была усеяна шарами, конусами и цилиндрами искусно подстриженных кустов. Здесь располагался музей Kunsthistorisches[70]. Алексей сообщил Маше, что всегда мечтал в нём побывать, и, разумеется, теперь не мог не воспользоваться представившейся возможностью.
На пути в знаменитую итальянскую галерею, немного постояв в задумчивости возле «Вавилонской башни» Брейгеля и бегло осмотрев небольшую коллекцию французской живописи, Алексей попросил у Марии позволения ненадолго задержаться в почти пустом зале с античными экспонатами. Здесь его внимание привлёк небольшой свинцовый медальон с изображением двух всадников, едущих верхом на единственной лошади.
— Смотри, — сказал Алексей Марии, — какая необычная вещь!
— Почему?
— На остальных экспонатах всадники едут каждый на своей лошади, а эти двое — на одной.
— Там на табличке должно быть написано разъяснение, прочитай, — посоветовала Мария и зевнула, давая понять, что античность сегодня — не самая актуальная для неё тема.
— Всё равно не понятно, — продолжил Алексей, закончив читать пояснение. — В древней Паннонии — а мы сейчас находимся как раз на её западной границе — в первые века новой эры был распространён религиозный культ так называемых «дунайских всадников». В чём состояла его суть — сегодня никто не знает. Здесь также сказано, что культ представлял собой комбинацию греческих и фракийских верований, и что рядом с некоторыми фигурками присутствует надпись soter, то есть «спаситель».
— Ну и что? Ведь в истории много тёмных страниц.
— Я о другом. Смотри — на одном медальоне всадники изображены точно такими же, как на печатях тамплиеров. Между прочим, как теперь выясняется, не столь уж и далёких от нас…
— Всё равно не понимаю. Один всадник, два всадника — какая разница…
Алексей понял, что Марии не терпится увидеть полотна Рафаэля, Тициана и Караваджо, и потому тратить драгоценное время среди скучных археологических артефактов она на намерена.
Но едва он собрался развернуться, чтобы выйти из зала, как услышал за спиной приближающийся шаги и обращённые к нему слова на русском языке:
— Прошу извинить, если помешал вам, но в этом уголке музея не часто можно услышать русскую речь. Вас, должно быть, что-то заинтересовало?
— Да, — ответил Алексей, улыбнувшись. — Очень необычный медальон.
И он указал незнакомцу на заинтересовавший его экспонат.
— Это изображение «дакийского всадника», — пояснил тот. — Позднеантичного божества, почитавшегося в этих местах.
— А вы не знаете, почему на одном из медальонов всадников двое? Ведь это же, как известно, значительно более позднее представление?
Незнакомец задумался и, почёсывая длинными пальцами свой подбородок, медленно ответил.
— В куда более древней библейской книге Екклесиаста говорилось про рабов, едущих верхом, и князей, идущих, как рабы, по земле…
Услышав про книгу Екклесиаста, с цитатами из которой он работал позавчера, Алексей внутренне сосредоточился — однако решил, что речь, скорее всего, идёт о случайном совпадении.
Между тем незнакомец на хорошем русском языке с едва заметным западным акцентом завершал свою мысль:
— …В людях во все времена жила вера в то, что в новой жизни, которая ждёт их после того, как они покинут этот жестокий и кровавый мир, последние сделаются первыми. А «дакийский всадник» — это как раз почитавшийся здесь посредник между двумя мирами. Я полагаю, что либо эти двое решили уподобиться божеству, либо божество взяло одного из них с собой.
— Вы по специальности историк?
— Нет, моя специальность — прикладная психология. А если быть точнее, то один из её новейших разделов — фелицетарный синтез, или наука о человеческом счастье.
— А вы не подскажите, как пройти отсюда в итальянскую галерею? — немного бесцеремонно поинтересовалась у незнакомца Мария.
— Конечно. Я тоже направлялся туда, но, услышав русскую речь, заглянул к вам. Я покажу вам дорогу, следуйте за мной.
По пути к шедеврам итальянского Возрождения они познакомились. Психолога и знатока панннонских древностей звали Гельмут Каплицкий, он был австрийцем с чешскими корнями. Каплицкий рассказал, что посещает венские музеи едва ли не несколько раз в неделю перед каждым значимым профессиональном мероприятием, поскольку они наполняют его эмоциями и энергией. В последнем трудно было усомниться, так как с лёгкостью и компетенцией лучшего гида он провёл Марию с Алексеем по нескольким залам и мастерски ответил на все вопросы.
В районе половины первого Каплицкий извинился и сообщил, что должен забрать из района Гринцинг свою спутницу, с которой ему вечером предстоит ехать на важную церемонию, и пригласил своих новых знакомых, если на то будет их желание, разделить с ними обед в одном из милых венских пригородов. Алексей поблагодарил за приглашение и записал адрес ресторана.
— Зря ты согласился на обед, — сказала ему Мария, когда Каплицкий ушёл. — Не досмотрим музей. Когда ещё я сюда соберусь!
— В музей можно прийти завтра, давай по такому случаю задержимся в Вене ещё на денёк. Тем более завтра — выходной, суббота. А этот человек — настоящий европейский интеллектуал. Таких и раньше, в довоенные годы, было не весьма много, а сегодня они — просто исчезающий вид. Так что лучше подобными знакомствами не разбрасываться!
Мария не стала возражать и согласилась досмотреть Венский музей как-нибудь поздней осенью или зимой, дабы не похищать дни у предстоящего отдыха на Адриатическом побережье. Возвратившись в отель и закрыв счёт, они погрузили все свои вещи в «Ситроен» и выехали по указанному Каплицким адресу.
…Так получилось, что две машины подъехали к зданию ресторана практически одновременно, и прямо на его ступенях Каплицкий смог представить Алексею с Марией свою спутницу Эмму Грюнвальд — высокую статную даму с роскошными золотыми волосами и волевым взглядом, который немного контрастировал с её добродушно-округлым подбородком и милыми чувственными губами. Эмма тоже совершенно свободно изъяснялась по-русски, поскольку родилась в ГДР, где русский язык являлся обязательным школьным предметом.
Немолодой кельнер, загодя предупреждённый об их приезде, провёл гостей на открытую площадку под почерневшим от времени деревянным навесом, удерживаемом резными колоннами, увитыми виноградом, и предложил занять столик на затенённой половине.
Ресторан был расположен на краю высокого городского холма. Отсюда открывался непередаваемой красоты вид на нижнюю часть городка, излучину Дуная, всю усыпанную голубыми бриллиантами солнечных брызг, и уходящую вдаль широкую изумрудную долину — прибранную и ухоженную, как лужайки перед дворцами блистательной Вены.
Любезный официант огласил дежурный перечень приветствий, раздал меню и поспешил принести воды. Каплицкий разлил воду по бокалам гостей и сам с жадностью выпил несколько глотков. Эмма, усевшаяся напротив Марии, с радостным предвкушением захватывающего процесса выбора блюд раскрыла меню.
— Какой прекрасный вид! — сказал Каплицкий, повернув голову в направлении речной долины. — Я готов спорить с кем угодно, но докажу, что именно здесь — настоящая Европа, её сердце, самый её центр!
— А ведь центр Европы — понятие вполне научное и он, должно быть, давно определён и записан во все учебники, — сказал Алексей просто так, для поддержания разговора.
— Насколько мне известно, один официальный центр Европы находится в Галиции, а другой — в Литве. Но все эти расчёты формальны, — вступила в разговор всезнающая Эмма, отложив меню в сторону. — Подобные расчёты исходят из географического понятия Европы, в котором её половина — это Россия. Но ведь согласитесь, милые мои друзья, — Россия есть Россия, это холодное и неуютное пространство. За редким исключением все оттуда хотят куда-нибудь уехать… Эти бесконечные степи, леса, все эти угрюмые, серые, ужасные поселения от востока Польши и до Уральских гор — это всё что угодно, но только не Европа. Европа, вы же понимаете, — она здесь.
— Признаюсь, мне грустно слушать такие слова о моей Родине, — прервала речь Эммы Мария. — Даже если вы и правы про леса и угрюмые города. Но ведь и Европа не всегда была такой цветущей!
— В том-то и дело, моя милая, что всегда. Я никого не хочу обижать. Просто здесь особый климат, воздух, особый цвет неба… Кстати, я недавно была на Украине, которая сейчас стремиться стать частью Европы, но эта страна — не Европа и Европой никогда не станет!
— Из-за своих степей? — слегка улыбнувшись, поинтересовался Алексей.
— В том числе и из-за степей. Степи, поймите меня правильно, иссушают воздух и делают землю скупой и неухоженной. Степи идеальны для кочевья, когда крошечные группы людей, странствующих по ним, могут наслаждаться их безразмерностью. А вот жить в степях и строить там города нельзя, в таких городах человеческому существу нечем прикрыться и оно утрачивает чувство уюта. Жить надо здесь! — Эмма описала рукой широкий полукруг над распахнутым за парапетом веранды великолепным видом. — Здесь, под сенью светлых дубовых рощ и липовых аллей, среди цветов и полноводных рек, под этим щедрым и радостным солнцем!
Алексей также отхлебнул немного минеральной воды и решив, что небольшой интеллектуальный спор обеду не повредит, возразил:
— Да, вы правы, это прекрасная земля. Но ведь прежде, чем здесь воцарился дух щедрости и красоты, она была свидетелем страшной борьбы за обладание собой. Постоянные войны, океаны пролитой крови… Ведь все попытки сосчитать, сколько людей пало, умерло в муках от копий и ножевых ран, сколько было зарублено и сожжено, сколько погибло ещё прежде, чем появились пулемёты, артиллерия и танки, которые в историческом масштабе лишь немного добавили людских мук, — все эти попытки провалились. Страдание исчислить невозможно. О нём можно только помнить. Помнить, что каждая пядь этой земли пропитана человеческой кровью до самой своей бездны.
— Да, конечно, — согласился Каплицкий. — Но пролитая на какой бы то ни было земле человеческая кровь — лишь эксцесс. Короткий, случайный эксцесс. Поскольку по сравнению с вечностью этой земли пребывание людей на ней — тоже достаточно коротко и случайно.
— И если уж проливать кровь, то проливать её следует за землю, подобную этой, — дополнила своего спутника Эмма.
В этот момент явился официант, чтобы записать заказ, и от дискуссии пришлось на некоторое время отвлечься. Австрийская пара взяла себе лионский салат, рататуй, венский грестль с фаршированной грудинкой и тирольский антрекот; Мария выбрала bouillabaisse[71] и альпийский тафельшпитц под медовым соусом, Алексей — луковый парижский суп и cordon bleu[72] с прованским картофельным гратеном.
После того как официант, поздравив своих гостей с превосходным выбором, закрыл блокнот и важно удалился, Алексей заметил, что «степные пространства» его Родины за прошедшие века были политы не меньшим количеством крови — стало быть, они тоже представляли собой высокую ценность для тех, кто был согласен за них умирать.
— И вы совершенно напрасно твердите только про степь! Ведь средневековая Русь — это главным образом города в благоприятной лесостепной зоне или на опольях. Киев, Владимир, Ярославль… А чистая степь для наших предков была, наоборот, едва ли не вечным источником опасности. Именно из степи являлись те, кто желал эти оазисы захватить.
— Не буду с вами спорить, поскольку вы правы, — с заметной досадой ответила Алексею Эмма. — Я преклоняю колени перед мужеством ваших предков и соотечественников. Но давайте сравнивать результаты. Положа руку на сердце, согласитесь — ведь у них всё равно не было другого выбора, поскольку не было земли, подобной той, что имеется здесь! И по причине этого — вы уж не обижайтесь на мою прямоту! — многие из жертв, понесённых вашим народом, оказались напрасными.
— Напрасных жертв не бывает. Ведь и пришедшие на вашу землю племена, когда начинали собственную борьбу за европейские луга и долины, явились отнюдь не в земной рай. Более того, для древних римлян едва ли вся Центральная Европа представлялась местностью дикой и страшной, покорение которой велось ими главным образом в интересах безопасности цветущей метрополии. Одни названия чего стоят — Косматая Галлия, проклятый Тевтобургский лес…
— Где в судьбоносном сражении германцы отстояли право жить и распоряжаться на собственной земле! — удачно изменил направление разговора Каплицкий.
— Да, но германцам удалось разгромить легионы Вара исключительно благодаря предательству Арминия, которому несчастный Вар доверял, как самому себе!
— Восхищаюсь вашей начитанности, герр Алексей! Однако нам ли судить? На войне как на войне. Для римлян эти места действительно были мрачной прорвой. А для наших предков — благословенным Мидгардом. Хотя, конечно, и у Рима мы позаимствовали немало.
— Но вот, прекрасно, вы сами начинаете соглашаться с тем, что сказала Мария: любая земля сперва одинакова в своей дикости и неухоженности. И только живой человеческий дух способен её преобразовать. Однако на эту работу уходят века. И ещё нужны, я полагаю, какие-то особые всплески человеческого духа, которые заставляют людей решительно отказываться от прежних привычек и установлений, создавая взамен что-то новое. Нынешняя обустроенность и культура пришли в Европу не сразу и тем более не были простым копированием старого Рима. Сначала — каролингское возрождение, мистерии крестовых походов, альбигойский взрыв, который сродни революции; затем собственно Ренессанс, Реформация, Кодекс Наполеона… Каждая из этих вех означала, что общество наполнялось новыми смыслами, которые давали ему энергию для осуществления перемен. Большая часть этой энергии уходила, как водится, на войны, интриги и поиск очередных способов эксплуатации людей. Но какая-то её часть перешла в сады, луга, в эти уютные домики под черепичными крышами, в колокольни и дворцы… В моей же России проделать подобное было значительно труднее — прежде всего из-за огромной нашей территории. Влияние тех импульсов, о которых я говорил, у нас поэтому было значительно меньше. Но зато они были не столь кровопролитными, как в Европе.
— Алексей, вы меня почти убедили! — примирительно ответил Каплицкий, и предложил оценить вино, только что принесённое официантом. Алексей сделал маленький глоток и сообщил:
— В винах я знаток небольшой, но это нахожу приятным и даже выдающимся.
— Разумеется, — улыбнулся Каплицкий, — это же само Chateau Petrus! Самое прекрасное вино мира! Наш подарок для вас.
— Это восхитительно! — Мария, знавшая цену раритету из Бордо, поспешила поблагодарить щедрую чету.
— Не стоит благодарности, — Каплицкий дал знак официанту налить Petrus в бокалы остальных. — Вино это всегда миф, миф от начала и до конца. Люди платят и соревнуются между собой не за миллилитры виноградного спирта, а за образ, который вино в себе несёт.
— Например мы с вами, — поддержала Каплицкого Эмма, — ни перед кем не желаем выделиться и потому с лёгким сердцем пьем вино стоимостью в две тысячи евро на пустой веранде и в неурочное время. Однако скажите: разве для каждого из вас это вино не рисует тот или иной трепетный образ, бесконечно вами ценимый, и вы чувствуете и переживаете через него что-то особенное — надежду, лёгкую грусть, предвкушение исключительных событий, полёт?
Алексей, выслушавший эту мысль с нескрываемым удовольствием, улыбнулся:
— Прекрасные слова! Я бы только дополнил, что в подобные минуты, в этом замечательном месте, в узком кругу друзей не только одна душа начинает стремиться к новым далям, но и сердце наполняется твёрдым намерением перемен. И если есть в вине, как говорят, божественный смысл, то состоит он в том, что человек начинает эти перемены прозревать и прорастать в них.
— Браво! Это тост. Выпьём же за нас, а также за перемены! — и с этими словами Каплиций высоко и торжественно вознёс свой бокал.
Почти сразу же официант доставил первые блюда, чьё появление немного приостановило беседу и позволило немного утолить чувство голода, распалившееся за время, прошедшее с завтрака.
Покончив с салатом и отодвинув тарелку в предвкушении скорой смены кушаний, Каплицкий откинулся на спинку стула и выдал неожиданное признание:
— А ведь вы, герр Алексей, и вы, фрау Мария, будете совершенно правы. Нынешняя обустроенность Европы — это миф, такой же миф, как и это вино. Вино ценят не потому, что в нём содержится что-то совершенно исключительное, а в силу человеческой договоренности. Просто группа людей, которых все считают знатоками, однажды решила, что именно такой-то виноградник, такая-то почва и такая-то роза ветров — вершина в виноделии, и все с ними согласились. И, конечно же, согласились ещё и потому, что эту вершину разыскали во Франции. Окажись, скажем, где-нибудь в Мозамбике пусть даже во много раз лучшее сочетание составляющих для вина — не сомневайтесь, тот аппелласьон в лучшем случае ограничился бы средненьким Vin de Pays. С Европой, поверьте, происходит то же самое.
— Немного с вами не соглашусь, — Алексей заканчивал расправляться с луковым супом и поспешил вернуться к беседе. — Во-первых, обихоженность и обустроенность Европы — очевидный факт. Во-вторых, что бы мы ни думали про прежних и нынешних европейцев, но их мысли и дела, пусть даже не самые идеальные, опираются на глубокую и великую традицию. И эти две объективные основы Европы нельзя недооценить.
Реплика Алексея оживила Эмму:
— Даже совершенно не зная вас, лишь по одному тому, как вы защищаете Европу, я могла бы заключить, что вы русский! Даже те из русских, кто Европу ругает, в глубине своей души думают так же, как вы! Это для вас столь очевидно!
— Простите, но это не совсем так. Я совершенно не преклоняюсь перед Европой. Я просто говорю о том, что вижу и что реально здесь существует — обустроенность и культура. Если бы не тяжёлая историческая судьба, в России было бы так же.
— Помилуйте, Алексей! Неужели вы думаете, что отрицаю право России называться европейской страной?
— В какой-то степени — отрицаете. Взять хотя бы наш спор о степях.
— Это всё она, — Каплицкий обернулся к Эмме и рассмеялся. — Наверное оттого, что с детства не переносит жару и пыль. Но это всё — эмоции. Зато я вам вот что скажу, дорогой Алексей: наличие в России столь взволнованного и трепетного отношения к Европе связано знаете с чем? С тем, что Россия — это такая же часть Европы и, возможно, даже лучшая её часть!
— Нам не нужно быть лучшей частью, мы — просто её полноценная часть, и всё, — поспешила заметить Мария.
— Не скромничайте, друзья мои, я сейчас всё объясню. У вашей страны больше оснований называть себя европейским государством, чем у Германии и даже нашей горячо всеми любимой Австрии. Ещё в десятом веке византийский император Константин Багрянородный, когда кодифицировал установленный Константином Великим запрет на династические браки с иноверцами, сделал особое исключение для франков. При этом все как один византийские хронисты того времени — и Продолжатель Феофана, и Симеон Логофет в один голос утверждали, что за этим исключением стояло желание иметь хорошие отношения с Россией, поскольку ваша страна ведёт своё начало именно от франков, а её княжеский род — от династии Каролингов.
— Я читал об этом, — ответил Алексей. — Думаю, что это, скорее всего, либо ошибка, либо лукавство, устроенное княгиней Ольгой, желавшей женить своего сына Святослава на дочери Константина Багрянородного. Ещё один вариант нормандской теории.
— Не будьте столь категоричны, герр Алексей! Что за странное желание у вас, русских, своими руками тащить себя в сторону востока, одновременно рассуждая о европейских ценностях? Есть же масса других доказательств — взгляните, каменная резьба на ваших древних соборах во Владимире практически повторяет сюжеты и образы резьбы соборов в Арле и Пуатье. А ваше древнее наименование Валдая — Алаунские поля — разве ничем не напоминает Каталунское поле, на котором Флавий Аэций давал последнюю битву старого Рима? Да и тезис о «третьем Риме», коль скоро его однажды озвучили, должен был иметь под собой немного большие основания, чем просто результат женитьбы московского князя на наследнице последнего константинопольского императора. Византийских принцесс отправляли замуж во многие страны, но говорить от Третьем Риме решились почему-то только у вас!
— Думаю, что этот тезис — не более чем пропагандистский жупел, придуманный по заказу отца Ивана Грозного, — улыбнулся Алексей и скептически покачал головой.
— В те далёкие годы к словам относились намного ответственнее, чем сейчас, герр Алексей. Да и фактов имелось предостаточно: пусть отдалённое, но всё-таки родство князя Рюрика с самим Августом Октавианом, племянником Цезаря, прямое родство московских князей с потомками Константина Великого. В жилах матери Ивана Грозного текла кровь ромейской династии Комнинов. На дочери вашего князя Ярослава запросто женится третий из Капетингов король Франции Генрих, как будто бы нельзя было найти кого поближе. Добавьте сюда очевидное для современников родство княгини Ольги с Карлом Великим, крестившим, между прочим, Германию и провозглашённым римским папой императором Запада. Допустите также наличие других возможных фактов и династических историй, которые сегодня напрочь забыты, но о которых в те времена отлично знали и помнили. Вот и получается, что династические линии обоих Римов в один прекрасный день сошлись в Москве. Странно — ведь это вас не радует, неужели вы бы желали выстраивать свою генеалогию от монголов и татарских мюрз?
— В данном случае мне всё равно. Родословная правителей имеет очень опосредованное отношение к историческому процессу. Историей движут другие силы.
— А я не спорю. Но работа исторических сил очевидна для нас, людей современных. А вот для людей, живших тому назад тысячу лет, на первом месте были почему-то вопросы крови тех, кто ими правит. Понимаете, к чему я клоню?
— Если честно — то не совсем.
— Мы начали говорить о том, что у вашей России, какой бы неприветливой, степной и таёжной моя Эмма её ни считала, имеются абсолютно схожие и равные с другими странами основания считать себя источником и хранителем европейской традиции. А коль скоро мы коснулись Рима — то и всей той древней оси, на которой держится цивилизация. Вы же не станете это опровергать?
— Нет, конечно. Однако я думаю, что наш народ завоевал подобные привилегии более весомыми заслугами. Своим трудом и героизмом. Одна лишь защита Европы от монгольских орд чего стоит!
— Не умаляйте свой народ, герр Алексей, и не заставляйте меня, австрийца, быть более русским, чем являетесь вы!
— А я вообще не понимаю предмета вашего спора, друзья! — поспешила внести умиротворяющее начало Мария. — Между прочим, нам уже несут plat de resistance[73]. Поэтому давайте-ка лучше выпьем и сосредоточимся на вкусном!
— С огромным удовольствием! — отозвалась Эмма. — Но ведь вы, русские, не пьёте просто так. Так за что же мы выпьем?
— Давайте выпьем за взаимопонимание, — предложил Алексей. — За взаимопонимание, которое не просто облегчает жить, но делает каждого из нас богаче.
— О, мы все мечтаем разбогатеть! — рассмеялся Каплицкий. — Присоединяюсь!
После подачи главных блюд и нескольких минут, ушедших на то, чтобы начать разделываться с их изысканным и великолепно украшенным содержимым, Каплицкий промокнул губы салфеткой и вернулся к своей немного ушедшей в сторону теме.
— Пока вы кушаете, я позволю себе завершить изложение той мысли, с которой я начинал нашу беседу. И для меня большая честь, чтобы её выслушали именно вы — блестяще образованные, талантливые и успешные молодые люди из России. Я говорю так не для того, чтобы вам польстить — хотя в ваш адрес уместны любые комплименты, а в силу своей убеждённости в том, что именно вашей стране предстоит сыграть особую, если не сказать ключевую роль в предстоящей судьбе Европы.
Алексей тотчас же отставил тарелку:
— Вы говорите волнующие слова, Гельмут, и наивно желаете, чтобы мы спокойно продолжали кушать!
— Это повод для третьего тоста, друзья, — сказала Эмма, вдохновенно поднимая свой бокал. — Давайте на этот раз выпьем за вашу великую, неизведанную и доселе ещё не сказавшую своего настоящего слова страну!
После этого замечательного тоста, за которым бокалы Petrus были опорожнены, Каплицкий перенёс себе в рот два крошечных куска антрекота и, быстро пережевав их, продолжил, выпрямив спину:
— Так вот, позвольте я вас спрошу: верите ли вы в то, что сегодняшняя европейская цивилизация, или, возьмём немного шире, цивилизация западная, в полной мере отвечает своим основам и своим отправным идеям? Верите ли, что её нынешние институты и узаконения способствуют развитию и укрепления в людях исконно европейского духа свободы, ответственности, культуры? Верите ли, что люди, живущие на европейской земле, осознают все эти ценности и стремятся поддерживать их в внутри себя?
— Конечно же не верю, — ответил Алексей. — Сегодня вообще очень трудно говорить о верности чему-либо.
— Ну вот, и отлично. Тогда выслушайте моё мнение насчет того, что происходит с Европой. И затем вы поймёте, что я имею в виду, когда говорю о новой роли России.
— Мы все внимание, говорите! — подтвердила Мария.
— Итак, — начал Каплицкий, поудобнее устроившись на своём стуле, — никто не станет отрицать, что на протяжении тысячелетий, со времён Рима и Афин, древних галлов, нашего германского Мидгарда, славян, кельтов — пожалуй, всех, кто населял и продолжает населять сегодня этот континент, одной из ключевых и определяющих идей была идея ухоженного, безопасного и справедливого мира. Не думайте, что я изрёк банальность — в других местах Земли бытовали иные идеи: вспомните, ну хотя бы Тамерлана или тех, с кем повстречался в Америке Кортес. В Европе тоже лились потоки крови, в этом вопросе я полностью согласен со своим русским другом. Однако по какой-то причине после каждого кровопролития, после каждого безрассудства народы, населяющие наш континент, становились более организованными. А древнее зверство на какую-то пусть даже мизерную долю замещалось понятиями справедливости и так, шаг за шагом, уходило. И ещё — словно во искупление пролитой крови и всех подобных ужасов люди с удвоенной энергией начинали заниматься украшением вмещающей их среды. Мне кажется, в основе этого процесса лежала какая-то внутренняя европейская молитва: выравнивая поля, прокладывая дороги, каналы, строя из вечного камня прекрасные здания, замки и аббатства люди надеялись, что в этой лучшей среде жизни они сами или, во всяком случае, их потомки станут человечнее. Даже кордовские арабы, некогда неотличимые от своих диких родственников из Магриба, прожив пять веков в Испании стали мало чем отличаться от испанцев. И хотя люди в остальных частях света в перерывах между войнами и смутами занимались, в общем-то, тем же самым обустройством, почему-то именно в Европе им удалось построить Европу. Вы вновь качаете головой — вы не согласны со мной?
— Пока могу только сказать, что я не уверен в универсальности вашей теории, — ответил Алексей. — Не будем брать далёкие страны, обратимся к России. Я уверен, что в России была другая идея, и она точно — не обустройство существующего. Один мой друг недавно высказал мысль, прямо противоположную вашей, — о том, что в России, постоянно стремясь к чему-то новому и более совершенному, не только не обращали внимание на жалкое настоящее, но и с лёгкостью сами его разрушали или позволяли разрушать, если случались войны и прочие напасти.
— Поверьте мне, ваш друг неправ. Беда России — в её огромных размерах и малой заселённости. В тех же «степях», как говорит Эмма. Поскольку добротного камня на вашей равнине никогда не хватало, люди были вынуждены строить деревянные избы, даже дороги мостили брёвнами — а разве дерево может создать завершённость, если через какое-то время всё приходится начинать заново?
— Но вот церкви в России строили почти всегда каменными. И крыли золотом — «чтобы чаще Господь замечал», как у нас говорят, — заметила Мария.
— Вы абсолютно правы, — поспешил согласиться с ней Каплицкий. — Через обустройство, даже сверхобустройство сакрального пространства русские люди сумели сверхразвить одну из своих исконных и общих для всех нас общеевропейских черт. Эта черта — вера в то, что на Земле может быть создана какая-то часть Божьего Царства. Для русского человека эта вера локализовалась в постройках церквей и монастырей, которые с лёгкостью переживали века, а вот у западных европейцев она имела возможность выплескиваться и на другие объекты, среди которых протекала повседневная светская жизнь. В маленькой и густонаселённой Европе развитие этих объектов было делом посильным, пусть и небыстрым. Однако прошли века — и вот сегодня мы видим результат…
Алексей хотел что-то возразить, однако Каплицкий не дал ему этого сделать.
— Подождите, я очень прошу вас позволить мне закончить мысль. Я ведь вовсе не собираюсь петь Западу панегирик. Ведь всё, чем мы все только что восхищались, — с этими словами он повернул голову и окинул взглядом изумрудную долину, — на самом деле — обречено.
На какой-то миг воцарилась тишина.
— Почему вы так считаете? — недоумевающе спросил Алексей.
— Потому что в европейцах есть одна очень важная черта, без которой не удалось бы создать Европу такой, какой мы её знаем и любим. И правда состоит в том, что поскольку всё меняется, то сегодня эта самая черта начинает мешать развитию, становится помехой на пути любых улучшений.
— Что же это за черта такая?
— Эгоизм. И наш, — Каплицикй дотронулся до локтя Эммы, — и ваш тоже. Ведь вы — точно такие же европейцы.
— Не совсем вас понимаю, поясните.
— Смотрите. Когда я говорил про обустройство, про европейскую молитву на сей счёт — я намеренно не сказал, что всё это могло работать только в условиях, где каждый индивид имел возможность обихаживать и улучшать кусочек своего собственного мира. Причём не обязательно земли — европеец, живший в городе, с неменьшей истовостью обихаживал и свою каменную конуру — вспомните все эти бесконечные украшения старых домов, резные двери, флюгера, цветы за окнами, отполированные до блеска камни на порогах и откосах! Стремление к уюту и теплу проявлялось здесь даже в самой нищей лачуге! Всем этим принято восхищаться, но ведь в основе этого — чистой воды эгоизм! Стремление любой ценой создать и оградить персональный микрокосм. А вот в России ничего подобного нет.
— И поэтому у нас на окнах не растут бегонии? — поинтересовалась Мария.
— Да. В вашем пространстве и в вашем климате создать индивидуальный микрокосм невозможно. Конечно, если вы — аристократ и у вас есть тысячи рабов, то возможно всё, даже самое невероятное. Оттого европейцы всегда так восхищались дворцами и усадьбами русских аристократов. Однако за пределами этих немногочисленных оазисов приходилось жить куда проще и честнее.
— Честнее — вы это хорошо сказали, — усмехнулся Алексей.
— Да, именно — честнее. В этом плане ваш народ лучше европейцев. Наш эгоизм сделал нас самодовольными бюргерами, которым на всё наплевать.
— Ну уж полноте! — не выдержала Мария. — Только что вы пели этим бюргерам дифирамб, а теперь — смешиваете с грязью?
— Да, милая Мария, именно так. С европейским эгоизмом и индивидуализмом нельзя дальше двигаться в будущее. Для будущего нужен совершенно другой багаж. Что-то другое нужно готовить и брать с собой. Но уж точно — не эти лужайки и домики, которые вышли из прошлого и, увы, останутся в нём навсегда.
— Вы опять говорите загадками, Гельмут…
— Может быть. Но тогда давайте перейдём ближе к делу. К «закату Европы», как выразился когда-то Шпенглер. Верите ли вы, что её нынешние институты и узаконения способствуют развитию и укрепления в людях исконного европейского духа свободы, ответственности, культуры? Верите ли, что люди, живущие на европейской земле, осознают все эти ценности и стремятся поддерживать их внутри себя? Нет, нет и ещё раз нет! Вы согласны с этим тезисом?
— Ну положим…
— Хорошо, тогда я продолжу. Пока шло строительство и совершенствование Европы, здесь пылал огонь подлинного европейского духа. Он создал великую культуру и невиданную в мире систему отношений между людьми, основанную на признании ценности и прав всякой личности. Однако теперь всё погасло. Свершившееся обустройство убило европейский дух и развратило людей. Воля европейцев всегда поддерживалась их трудолюбием. Но теперь — смотрите! — всё есть, можно не работать. Или почти не работать. В Германии и Англии уже возводятся фабрики, где не будет людей, а станут работать исключительно машины. Скоро такие фабрики распространятся повсеместно. То есть все блага, которые нужны людям, включая продукты питания, одежду и прочее, станут производить бездушные компьютерные монстры, для обслуживания которых хватит нескольких тысяч инженеров на целый континент. Все остальные смогут получать хлеб и прочие блага за просто так. Разумеется, если они имеют гражданство, права и зарегистрированы во всевозможных распределительных системах. Поэтому не будет преувеличением сказать, что Европа скоро построит настоящий коммунизм. Что вы об этом думаете, герр Алексей?
— Я думаю, — ответил Алексей, — что подобного рода коммунизм — насмешка над тем, о чём когда-то мечтали у нас в России. Возможно, наша идея коммунизма была недоработанной и наивной, однако она предполагала постоянное и интенсивное развитие. Развитие как условие сохранения человеческой личности. И как значительно более высокую форму простого европейского трудолюбия, о котором вы только что говорили. Если же развития нет — всё цепенеет, и даже трудолюбие не очень-то помогает. Quand on vit, il n'arrive rien[74], как писал когда-то Сартр…
— Гениально, герр Алексей! Вот мы и добрались до самого главного — что станет с Европой? А вы, Мария, я вижу, слушаете меня с большим недоверием. Вы не согласны?
— Мне хочется верить, что с Европой ничего не случится. Вы вполне заслужили всю эту красоту и мир. И мне хотелось бы, чтобы этот мир, насколько возможно, был вечным.
— Спасибо за прекрасные слова! Я бы того же хотел желать! Но, увы, вечный мир — это обман. Когда уже совсем скоро Европа перестанет работать, когда прежде гордые и самодостаточные европейцы превратятся в получателей пособий и страховок от корпораций и государства и будут готовы удавиться за каждый даруемый им цент, они перестанут быть народом. Станут коллективным животным, готовым подобострастно припадать к питающим сосцам и в то же время — загрызть всякого чужака, кто осмелится покусится на эту привилегию. А это — война. Сперва этими чужаками будут посторонние: может быть, мусульмане, может быть — китайцы, мало ли у нас гостей, — однако вскоре придет время, когда люди одного прежде круга станут находить врагов внутри себя. Сопровождавшая человечество со времён каменного века борьба за обладание ресурсами власти и богатства сменится борьбой за обладание места в очереди, в которой раздают пищу, комфорт и здоровье. А для элит — борьбой за место среди тех, кто очередями управляет. И когда подобная метаморфоза в полной мере состоится, из европейцев выплеснется весь накопленный за века заряд эгоизма — они станут бороться друг с другом, доносить, преследовать, убивать… Вот именно этого я боюсь более всего!
Кончив говорить, Каплицкий протянул руку с бутылке с Petrus, разлил остаток вина по бокалам и тотчас же сделал глоток из своего. Было заметно, как его пальцы немного дрожат.
— Мне кажется, вы излишне драматизируете, — ответил Алексей после небольшого раздумья. — В природе и жизни редко получается так, чтобы какой-то процесс доходил до своего логического завершения. Обязательно случится что-то непредвиденное и результат окажется другим. Возьмём ваш пример: пусть вы тысячу раз правы, и европейцы, утратив привычку к труду, начнут грызться и гнобить друг друга в очередях за благами, которые им кто-то обязан предоставлять. Но, во-первых, этот «кто-то» — ничего не обязан, рано или поздно он сможет отключить кормушку. Во-вторых — если в очереди начнутся драки и воцарится хаос, в Европу сразу же хлынут волны голодных и целеустремлённых завоевателей. И тогда либо европейцы, повинуясь инстинкту самозащиты, сами вернутся к прежним традициям, либо все чудо-фабрики вместе с их хозяевами и очередями к местам раздачи благ будут сметены дикими ордами. Которые, осев на этой земле, начнут окультуриваться и подобно варварам, разгромившим Рим, через несколько поколений станут называть себя римлянами. В обоих случаях традиция будет восстановлена. У нас бы это всё назвали «диалектическим витком».
— Неужели у вас в России до сих пор преподают диалектику? — изумилась Эмма.
— Дело не в диалектике, — ответил Алексей. — Просто мы привыкли мыслить категориями неотвратимости перемен. И знаем, что какой бы страшной ни была историческая катастрофа, новая жизнь обязательно будет прорастать на старом субстрате.
— Не стану с вами спорить, — вернулся к беседе Каплицкий. — Однако какова окажется цена подобной новой жизни? У нас создано и обихожено столько всего, что если это разрушить даже на небольшую часть — потери будут неприемлемыми. Я готов приветствовать очищающие вихри истории где угодно, но только не здесь. Мы должны думать над тем, как сохранить Европу и избежать худшего. Между прочим, это наша с вами общая задача. России нужна Европа такой, какая она есть, какой она сложилась исторически, а нам необходима в этом деле ваша помощь.
— Чем же помочь сможем? — поинтересовалась Мария. — Ведь вы же сами говорили, что если в нас и есть что-то европейское, так это наш собственный эгоизм?
В ответ Каплицкий рассмеялся.
— Ценю, ценю вашу наблюдательность! Но ваш русский эгоизм не зловреден, поскольку он — это следствие вашей подсознательной привязанности к Европе, стремление добиться аналогичных уровней культуры и комфорта. Но важно совершенно другое: в русском народе сохранилась воля. Древняя и очень сильная воля, не растраченная, как у нас, по всяким пустякам. Вы можете ставить и решать грандиозные задачи, и в этом вам нет равных. Другие народы перед вами бессильны, судите сами. Китай, вот уже как полвека купаясь в золоте, до сих пор не может собраться и преодолеть бескультурие. Отдельные исламские нации грозят цивилизованному миру войной, однако их собственной воли едва хватает на уколы исподтишка. Латинская Америка двести лет твердит о своей «боливарианской исключительности», однако совершенно не в состоянии обеспечить порядок и безопасность на улицах хотя бы своих столиц. Так что из всех наций, у которых предполагается наличие состоявшейся воли, она по-настоящему имеется только у русских. Или вы так не считаете, герр Алексей?
— Почему же нет? Но меня более интересует цель вашего рассуждения, поэтому продолжайте, пожалуйста… Вы говорите дельные мысли — но неужели клоните к тому, чтобы мы пришли в Европу и помогли европейцам воспрянуть? Поделились с вами своей волей?
— А почему бы и нет? — рассмеялся Каплицкий, откинувшись на спинку стула. — Вы уже много раз приходили в Европу. Брали Берлин, Париж, Вену… В отличие от многих своих соотечественников, я не питаю к этим событиям ни малейшей неприязни. Когда ваши солдаты вступали в европейские города, они делились с нами частью своего необычного и свежего миропонимания, частью своей воли. Нам же это шло на пользу. Но всё же обмены подобного рода для сегодняшнего дня совершенно недостаточны. Сегодня, даже если немки или француженки нарожают тысячи детей с русскими генами, в поведении европейцев ровным счётом ничего не изменится. Хромосомы, биология — ведь всё это прошлый век… Нужно формировать новое сознание, новую психологию, новое восприятие космоса. Одним словом — лепить нового человека, беря от разных наций наиболее ценные составляющие. Ваша составляющая, как я уже сказал — это ваша воля.
— В России большинство убеждено, что наша составляющая сегодня — это нефть и газ, — усмехнулся Алексей. — Однако всё возможно, спорить с вами не стану. Только что вы предлагаете делать?
— Россия не просто влиятельная, но ещё и очень богатая страна. Богатая настолько, что вы, по большому счёту, даже не знаете, как своё богатство потратить. Сегодня вы зарываете своё золото в землю — строите дороги, дома, стадионы, стремитесь достичь наших стандартов, но при этом, заметьте, у вас ничего не выходит — Россия не становится ближе к Европе ни на шаг. Ну а мы, укрывшись в своём комфорте и исключительности, тоже не решаем своих проблем. Поэтому пока наука не придумала какие-нибудь особые технологии, нужно вкладывать все силы и средства в объединение элит. Да, я не оговорился, а вы не ослышались, — в объединение элит. Мы не столь различны, Алексей, как это многим представляется. Мы всегда были одной крови. Имеющиеся различия — ничтожны. Влажные дубравы и засушливые степи в чём-то могут разделять население, влиять на образ жизни, привычки, кулинарные пристрастия. Однако географические различия не столь велики, когда речь идет о людях, вырабатывающих национальные цели и добивающихся их воплощения. Различие наших народов объективно, различие наших элит — не более чем гримаса истории, ширма, мистификация.
Каплицкий перевёл дух и за неимением вина отхлебнул из бокала с водой. Мария не могла не воспользоваться паузой:
— Гельмут, вы переоцениваете тех, кого именуете российской элитой. Абсолютное большинство из них — случайные выскочки и негодяи. Значительная часть которых, несмотря на миллиардные состояния и власть, долго наверху не задержатся.
— Не волнуйтесь, я же очень, очень хорошо знаю вашу страну! Все эти случайные люди, подобно пене, поднимаются и в других странах, но потом так же быстро и опадают. У вас их просто образовалось немного больше, чем допускается на Западе, но — уйдут и они, не сомневайтесь. А останутся подобные вам — те, что на протяжении поколений хранили культуру и занимались — я бы так сформулировал — выработкой национальных целей и правил жизни.
— Спасибо за комплимент, — сказал в ответ Алексей, посмотрев на Марию. — Однако я боюсь, что наша личная роль в судьбе России более чем скромная…
— Вздор, никогда так не говорите! Вы же не одни! Людей, подобных вам, в вашей стране сотни тысяч или даже несколько миллионов. Вы образованы — стало быть, вы обладаете пониманием происходящего. У вас есть совесть — поэтому, если вы обладаете пониманием идеала, вы не можете переносить отклонения от него. Ну а если не можете переносить отклонения и намерены действовать — значит, у вас есть воля. Пусть ваша персональная воля слаба. Однако воля сотен, воля тысяч — это уже великая сила!
— Да, да, Алексей, — Эмма поспешила поддержать своего друга. — Это поистине великая сила. Тем более что она питается на только волей современников, но и растворённой в истории волей прошлых поколений. Шопенгауэр называл это явление палигенезией. Наш замечательный соотечественник Шрёдингер считал, что через неумирающую волю человечество способно будет однажды достичь бессмертия. Вы только вдумайтесь: ваше ego не умрёт никогда, если его воля передастся в чаяния и дела тех, кто придёт вам вслед!
— Не спорю, то, о чём вы сейчас говорите — звучит волнующе, — ответил Эмме Алексей. — Но мне кажется, вы переоцениваете возможности нынешней России. За какие-то полвека от былого единства у нас не осталось и следа. Каждый старается жить сам по себе. Людей дела в правящем классе с огнём не сыскать, а на то, что там есть, не хочется даже глядеть. Разделённость, тщеславие, цинизм… Вот вы предлагаете объединить наши элиты — но зачем? Половина наших только спит и видит, как бы «объединиться с Европой», однако Европа их по факту к себе не берёт. Со свиным-то рылом!
Каплицкий с нескрываемым импульсом эмоций немедленно возразил.
— Алексей, не беспокойтесь, мы их и так не возьмём! Нам жулики и временщики не нужны. Но мы почтём за величайшую честь быть вместе с людьми такими, как вы. С русскими интеллектуалами всех направлений — с футуристами, художниками, философами, поэтами… С инженерами, врачами и учителями… Между прочим, даже с теми из вас, кто не любит Европу и считает себя русскими традиционалистами. Алексей, послушайте: то, что я говорю сейчас — это не прихоть, это, возможно, последний шанс для наших цивилизаций себя сохранить. Если падёт Европа, то погибните и вы, разрушится Россия. Однако если нас ждёт удача — мы восстановим Европу в её подлинных границах, от Гибралтара до Уральских гор. Или до самого Владивостока, если желаете. И Европа эта обретёт будущее, останется живой — вот, что главное! Я не призываю вас немедленно со мной согласиться, однако подумайте хорошенько! Кстати, от чашечки венского кофе на десерт никто не откажется?
— Конечно, мы только за! А что касается ваших слов — я вижу, что вы давно работаете над этими вопросами, поэтому я не готов с хода ни соглашаться, ни возражать. Однако мне непонятно следующее — каким образом вы намереваетесь этот свой проект реализовать?
— О, здесь нет ничего невозможного! Необходимо совсем немного — преодолеть идеологические и религиозные комплексы, разделявшие нас на протяжении столетий, и снова соединиться на основе общих ценностей и интересов.
— Но каких именно?
— Самых простых и оттого вечных. Земля. Солнце. Красота мира и красота человека. Что может быть одновременно и проще, и святей?
— Как будто бы ничего, — ответил Алексей после небольшого раздумья. — Но ведь всё это уже было! Солнце, природа, человек — все эти образы из античной Аркадии не умирали никогда. Однако и всеобщей популярности не снискали.
— Это как посмотреть, — не согласился Каплицкий. — Большинство людей действительно живут текущими проблемами и сегодняшним днём, перепоручая тому, кого они именуют Богом, заботиться обо всём остальном. Будто бы у Бога нет других задач, кроме как прибираться за людьми и устраивать их ничтожные дела. Согласитесь, что рассуждать подобным образом — глупо и нечестно. Умнейшие люди во все века размышляли над тем, как примирить человека не с абстрактными сущностями высшего порядка, а с реальным и повседневным миром. Начиная от Зенона Китийского, призывавшего жить в согласии с природой, или Николая Кузанского, отождествившего природу с самим Творцом. Или вспомните гениального Спинозу, открывшего, что мыслить и переживать способны все сущности подряд, что любая из них наделена душой и что человеческое тело — лишь совершеннейшая из линз, с помощью которой мы способны преломлять и воспроизводить внутри себя абсолютно точный образ любого предмета и явления. А умение отразить — значит и умение принять. То есть человек способен, если захочет, преодолеть свою ограниченность и вместить вовнутрь себя целую Вселенную!
— Спиноза, помнится, зарабатывал на жизнь шлифовкой линз и понимал в них толк, — отшутился Алексей, покачивая головой. — Однако мне кажется, что не стоит планировать жизнь на основе чьих-то идей, пусть даже гениальных. Принимать к сведению — да, подчиняться — ни за что. Тем более что лично мне ближе идеи не слияния с природой, а преодоления её необузданности и стихии. Ведь без борьбы человек закисает.
— Вы рассуждаете как большинство русских, Алексей, хотя ваш Лев Толстой решительно не согласился бы с вами! — ответила Эмма, размешивая кофейные сливки. — Борьба губит человечество. Особенно сегодня, когда в руках людей сосредоточены колоссальные технические возможности, способные уничтожить мир. Чтобы не случилось непоправимого, необходимо навсегда похоронить эгоизм и индивидуализм. А для этого нужно наделить людей единой волей, подняв её из глубин древнего сознания и вернув людям ощущение их единства со всем, что их окружает. И вы даже не спорьте с нами, Алексей, мы это знаем, мы это выстрадали и ни за что своего мнения не изменим!
— Да ведь я и не пытаюсь вас переубедить, — немного растерянно произнёс в ответ Алексей. — Мы и спорить-то не собирались!
— За исключением того, что вы сами заговорили об объединении наших элит, — поддержала Алекея Мария.
— Да, это была наша инициатива, — подтвердил Каплицкий. — Решить глобальную задачу спасения Европы руками одних европейцев, боюсь, нам не под силу, поэтому мы ищем мощного союзника в лице вашего народа. Простите меня за жёсткость, но европейцев надо лечить от эгоизма, а русских — от излишней уверенности в себе. Я предлагаю делать эту работу вместе.
— И при этом очень быстро, — добавила Эмма. — Времени нет, и если Россия не готова к сотрудничеству, то вместо неё мы будем вынуждены привлечь Украину.
— Ну зачем же так резко обозначать барьеры! — поморщился Каплицкий, выказывая несогласие со столь категоричным суждением своей спутницы. — Мы доброжелательны и открыты. И если наш проект удастся, то мы спасём европейскую цивилизацию, спасем цивилизацию русскую как часть европейской от почти неизбежного одичания, от нашествия азиатских орд, от перехода в историческое небытие!
Алексей оценивающе посмотрел на Каплицкого.
— Вы второй раз сказали про «проект». Это серьёзно? Ведь одно дело просто пофилософствовать, а другое — замахнуться на решение задачи… задачи столь сложной и даже опасной?
— Да, герр Алексей, вы правы. Решение этой сложной и опасной задачи — моя профессия, моё credo. Эмма помогает мне уже много лет, у нас с ней абсолютно общие взгляды.
— Понимаю… Но ведь это должно быть чистое подвижничество с вашей стороны! Представляю, каково работать на будущее без уверенности в том, что оно наступит!
— Не сгущайте краски, дорогой Алексей! Во-первых, мы с Эммой не одни, у нас достаточно единомышленников. Во-вторых — откуда вы взяли, что будущее наступит нескоро? У нас, признаюсь, совсем другие планы. Мы уже сейчас ведём напряжённую и результативную работу с тысячами людей, которые определяют жизнь и внутренние процессы в большинстве европейских государств, и присоединение к нашему проекту России давно стоит на повестке дня. Поэтому то, что я высказывал на сей счёт, уверяю вас, не экспромт, а осмысленное и выстраданное понимание общего и единственного пути.
— Чем же мы тогда можем быть вам полезны?
— Уже одним тем, что вы есть, что вы умны, умеете понимать причины и готовы к содержательной дискуссии. Пусть даже и не во всём вы соглашаетесь с нами, но для нас большая честь видеть вас среди своих друзей и вероятных партнёров.
— Спасибо.
— Спасибо вам, Алексей, и вам, Мария, — широко улыбаясь, ответила Эмма, позволив Гельмуту рассчитаться с официантом. — В качестве свидетельства нашего уважения к вам и залога нашей дружбы, в которую я искренне верю, я хотела бы предложить вам посетить одно интересное и важное мероприятие — если, конечно, Гельмут не станет возражать.
— Разумеется, я не буду возражать! — отозвался Каплицкий, подписывая принесённый официантом ресторанный чек. — Эмма, как всегда, меня определила, я сам намеревался предложить посетить наш мастер-класс. Для участия в котором мы, собственно, и прибыли сюда. Сегодня мероприятие будет особенным. Оно пройдёт на знаменитом Паннонском Лугу. Это исключительное место с древней историей и энергетикой. Место военной ставки Марка Аврелия — Конунтум, граничная черта Рима, точка, где Дунай пересекался с Янтарным путём и где поныне сходятся Запад и Восток — Австрия, Венгрия, Словакия… Точка соединения ключевых древних культов — Митры, Кибелы, Вотана и Исиды, чей сын Хор воскрешает Осириса и чьи здешние последователи впоследствии сделались самыми рьяными христианами… Кстати, там же растёт и древний тис, который по преданию является легендарным ясенем Иггдрасиль.
Каплицкий на миг запнулся, чтобы перевести дыхание, и его мысль тотчас же подхватила Эмма:
— …То есть тем самым ясенем, на котором Вотан, верховный бог древних германцев, добровольно распял себя на девять дней, чтобы познать мировую премудрость.
— Эмма знает об этом месте столько всего, что готова говорить часами, — расточая улыбку, вернулся к разговору Каплицкий. — Ну как, заинтересовали мы вас? Всё, что необходимо для реинкарнации Европы и оживления древней воли волшебным образом соединяется в единственном волшебном месте. Уже одного этого должно быть достаточно, чтобы бросить всё к чёрту и отправиться к Паннонскому Лугу, не так ли?
— Действительно, звучит интригующе, — согласился Алексей. — Надо подумать.
— А вы не думайте, а приезжайте. Не пожалеете!
— Как ты смотришь на это? — Алексей обратился к Марии.
— Всё, что вы рассказываете, очень интересно, — ответила та. — Правда, я никогда не верила в возможность просто вот так взять — и рукотворно объединить самых разных людей. Даже если место, как вы говорите, совершенно особенное.
— А вы приезжайте и сами увидите, как это происходит, — с нескрываемой убедительностью, словно о чём-то уже решённом, сказал Каплицкий. — Увидите, как под сенью священных деревьев и полевыми шатрами медленно, но с каждым годом всё верней воплощается вековая европейская мечта о единстве. Мы с Эммой как организаторы должны будем отбыть туда прямо сейчас. Лучшее время для вашего приезда — после четырёх часов. Дорогу найдёте легко — берите курс на Хайнбург и не доезжая где-то километр до моста через Дунай, ищите поворот. Далее следуйте по указателям. Я дам вам пропуск, но вы ещё покажите при въезде мою визитную карточку, с ней вас проводят в зону для почётных гостей. Там и увидимся. Решайте!
— Ну что, Маша, проведем вечер на Панноноском Лугу под шатром Марка Аврелия?
— Честно говоря, я думала вечером отдохнуть — меня после дороги сильно клонит в сон… Однако что ж! Жалко будет пропустить такое мероприятие, коль скоро мы оказались рядом. А как часто оно проходит?
— Такое, как сегодня — только раз в году. Мы выбираем для этого вечер и ночь с идеальной погодой как можно ближе ко дню летнего солнцестояния. Это момент торжества природы. Избранный день для избранных!
— Хорошо, мы приедем, — согласился Алексей. — Всё, что вы обещаете, действительно интригует. Плюс ваши слова о России… Над этим действительно стоит подумать.
— Мы очень благодарны вам за ваше согласие быть с нами! — ответил Каплицкий, вставая из-за стола.
— Уверяю вас, что лучшего места и времени для размышлений о будущем не найти! — добавила Эмма, поднимаясь следом за ним.
— Спасибо за замечательный обед. Тогда что же: короткий отдых — и вперёд?
— Только вперёд! — с решительностью согласился Каплицкий.
Часть вторая
Проводив взглядом белый «Мерседес», на котором Каплицкий с Эммой выехали с парковочной площадки ресторана и скрылись за изящной старинной постройкой, чья солнечная стена густо заросла плющом, Алексей посетовал на опрометчивость данного им согласия провести вечер на этом непонятном и скорее всего бестолковом мероприятии. Бессонный ночной переезд давал о себе знать, и вслед за Марией он бы тоже не отказался от нескольких часов крепкого послеобеденного сна. Однако своему слову надлежало быть верным, поэтому он засобирался в дорогу.
Изучив карту, Алексей предположил, что сразу же после завершения мероприятия, пусть даже если оно затянется за полночь, он соберёт в кулак все остатки бодрости и постарается по автобану «Нордост» домчаться до Братиславы. Там они бросят машину возле ближайшего приличного отеля и смогут капитально отоспаться за две ночи подряд. Потом погуляют по Старому городу, посидят в каком-нибудь милом уютном кафе, заглянут в музей или на концерт. Ну а далее, после короткого ночлега — путь на юг. Через Дьор к Будапешту — там, скорее всего, возникнет желание также сделать остановку на ночь, — а уж потом — на Сегед, к сербской границе. Отдых в Суботице — и далее как душа пожелает: Нови-Сад, Белград, Ниш, Цетине, Дубровник… Очень хотелось бы, чтобы в самом конце путешествия сбылось одно из необыкновенных и заветных желаний детства — увидеть лазоревый закат над Адриатикой. И уже с Балкан они вернутся авиарейсом в Москву, где предстоят непростые и ответственные дела.
Поэтому вернувшись отель, забрав вещи и поблагодарив за гостеприимство, наши герои без промедления выехали по указанному Каплицким направлению на Хайнбург.
В полном соответствии с полученной инструкций, незадолго до моста через Дунай они увидели огромный щит, предваряющий поворот к Паннонскому Лугу. Там же на обочине возле поворота стояло с десяток автомобилей, предлагавших бесплатное сопровождение к месту назначения. Водитель крайнего из них сделал несколько шагов к притормозившей машине с явным намерением оказать содействие, однако Алексей, широко улыбнувшись и отрицательно мотнув головой, дал понять, что найдёт дорогу сам.
Нужды в сопровождении действительно не было никакой, поскольку уже задолго до места назначения вдоль асфальтового полотна с усиливающимся постоянством стали появляться плакаты, призывающие «открыть сердце духу Земли» или «оставить прошлую жизнь в прошлом», а на подъезде к самому Паннонскому Лугу в синем небе трепетал растянутый между двумя вековыми вязами аншлаг, информирующий о неизбежности обретения каждым, кто стремится сюда, «древней воли Европы».
В нескольких километрах от предписываемого дорожными указателями места назначения Алексей, ведший свой автомобиль след в след крошечному «Фиату» с громкоговорителем на крыше, который, судя по всему, держал путь в служебную зону, то есть туда же, куда должны были прибыть и они, был вынужден отстать, пропуская вывалившуюся с примыкающей дороги колонну из нескольких десятков огромных и неповоротливых автобусов. «Неужели и они туда же?» — пронеслась мысль.
Возобновив движение и доехав, наконец, до установленного на обочине стенда, который представлял собой огромный щит из лакированной сосновой доски с надписью Wilkomen, со всех сторон украшенной живыми цветами, Алексей стал понемногу притормаживать, наивно рассчитывая заприметить машину Каплицкого или что-нибудь, напоминающее штаб. Но тщетно — ни белого «Мерседеса», ни ничего похожего на стационарный или полевой командный пункт не просматривалось. Более того, вся обочина была нашпигована знаками, запрещающими остановку, и вдоль неё через каждые двадцать-тридцать метров стояли регулировщицы движения — юные создания в полупрозрачных платьицах и бейсболках с зелёными значками волонтёров на груди. Каждая из них была неотразима, как рисованная красотка с довоенных американских плакатов. Всякого, кто намеревался поставить машину в неположенном месте, девушки награждали столь очаровательными и обезоруживающими улыбками, что даже очень сильное желание нарушить запрет на остановку улетучивалось, и водители покорно проезжали дальше по дороге, откуда потом были вынуждены спускаться на огромное поле, размеченное белыми лентами на парковочные квадраты. Поле простиралось едва ли не до самого горизонта и заполнялось по чёткому плану, во исполнение которого очередные регулировщицы, встречавшие машины уже на траве, заставляли всех следовать в наиболее дальнюю его часть.
Алексей, пока ещё не съехавший с основной дороги, с грустью обвёл взглядом это бесконечное поле, подумав, что ему придётся трястись по ухабам не столько на пути к разрешённому месту парковки, сколько при обратном выезде, когда все эти десятки тысяч автомобилей вдруг как один засобираются в дорогу. Как долго продлится стояние в огромной бесконечной очереди — час, два, три?
«Жаль, выходит, что ночлег в Братиславе — под большим вопросом. Надо было ехать с Каплицким, он бы что-нибудь придумал», — пронеслось в голове.
Неожиданно впереди вспыхнули тормозные огни: огромный автобус из опередившей их колонны не вписался в узкий съезд на парковочное поле, из-за чего остановился и начал сдавать назад, перекрыв собой дорогу. Видимо, за рулём там был водитель неопытный, поскольку с завидным постоянством он промахивался, упирался в придорожные кусты и, надсадно ревя мотором, предпринимал одну за другой безуспешные попытки исправить злополучный манёвр. Все юные регулировщицы, оказавшиеся поблизости, побросали свои посты и столпились возле автобуса, пытаясь помочь ему развернуться.
В этот момент к машине Алексея со стороны опустевшей дороги подбежала немолодая взволнованная женщина и заглянув в кабину через опущенное стекло, негромким сбитым голосом обратилась по-испански:
— Mi hija se desmayó! Ayudenme por Dios llevarla al médico! El médico estА en el Recinto administrativo a un kilómetro de aquМ![75]
Алексей, когда-то сдававший в ИФЛИ зачёт по диахронии романских языков, немного понимал по-испански, а женщина могла изъясняться на ломаном французском, поэтому с горем пополам он уяснил, что именно стряслось и как следует действовать. Усадив внезапную гостью на заднее сидение, он, никем не остановленный, принял левее, объехал застрявший автобус и остановившись через указанные пятьсот метров, помог затащить в машину из-под дерева худую и бледную, словно смерть, девицу. Она имела вид несчастный и нездоровый, едва дышала, и с этой мертвенностью контрастировали лишь её роскошные чёрные волосы, сведённые на затылке в тугой узел, схваченный гребнем с огромным пурпурным цветком. Мария попыталась выяснить у девушки, что именно случилось, однако та только твердила, не разжимая полузакрытых глаз: «Santa Verónica, salva mi corazón…»[76]
Через километр, как и говорила её мать, располагался целый городок из автофургонов и тентов, на самом въезде в который стоял автобус с надписью «Ambulance». Алексей вышел из машины и помог матери довести молодую испанку до дверей автобуса, где её передали в руки двух неразговорчивых врачей. Сказав женщине несколько успокаивающих фраз, он оставил её на скамейке неподалёку дожидаться разрешения ситуации с дочерью, и убедившись, что они приехали в искомую «Recinto administrativo»[77], решил приступить к поискам Каплицкого и Эммы.
Неприятной неожиданностью для Алексея явилось открытие, что он не удосужился узнать титулы и должности своих maitres du bal[78], в результате чего теперь предстояло обходить с расспросами о них весьма обширную территорию Ставки. Поскольку Мария не захотела коротать время в машине и также вызвалась идти на поиски, Алексей счёл за благо отогнать их зелёный «Ситроен» на обращённый к лесу участок поля. Оставленный под раскидистыми и низкими ветвями одиноко растущей старой ольхи, он был практически незаметен.
Прежде чем углубиться в служебную зону на розыски своих гидов, Алексей с Марией отошли немного в сторону от Ставки к протяжённому краю небольшой, но достаточно круто ниспадающей гряды. Вид, открывавшийся из этого места, поражал воображение. Всё огромное пространство Паннонского луга, край которого терялся за висевшей в воздухе сине-серой пылевой дымкой, было чрезвычайно плотно занято людьми. Можно было различить несколько десятков помостов-трибун, вокруг которых огромными полуовалами собиралась пёстрая людская масса, внемлющая, по-видимому, каким-то речам; были видны неподвижные и неровные линии разной длины очередей, сходящихся к узловым точкам, где-то устанавливали шатры и натягивали тенты, а ещё откуда-то доносились рваные куски далёкой мелодии… И между всеми видимыми неподвижными объектами, огибая, пересекая, местами соприкасаясь и сливаясь в примыканиях, медленно и монотонно перемещались потоки из сотен и тысяч человек.
Алексей никогда прежде не видел такого людского скопления и не предполагал, что подобное возможно. Когда улеглись первые эмоции от созерцания этой исполинской толпы, неведомой волей собранной в одном месте, он неожиданно остро почувствовал неестественность схождения в почти единое целое столь огромного числа человеческих тел, в каждом из которых продолжали биться отдельное сердце и трепетать живая, не похожая ни на одну другую, душа. Картина человеческого моря завораживала молчаливой предсказуемостью потоков и постоянством неторопливых колебаний, наблюдая за которыми трудно было отделаться от мысли, что эти тысячи людей, зачем-то собранных на Паннонском Лугу, на глазах теряли персональность и сливались необратимо в какой-то неведомый и пугающий единый организм.
Мария первой высказалась об увиденном:
— Какая-то бессмысленная карусель! Столько людей — зачем? Словно батальная сцена в кино… Но в кино — взрывы, дым, напряжение борьбы, а здесь — пустота. Даже закат — и тот в облаках поднятой пыли…
— Да, ты права… Я тоже не вижу в этом смысла. Хотя, возможно, мы этого смысла просто пока не понимаем. Не забывай, что мы с тобой — не в Азии, и чтобы собрать в одном месте столько европейцев, нужны веские причины. И у нас есть возможность во всём этом разобраться. Пойдём!
С этими словами, слегка дотронувшись пальцами до запястья Марии, Алексей сделал шаг в направлении спуска.
— Стойте, друзья мои! — вдруг раздался сзади знакомый голос Каплицкого. — С трудом разыскал вас!
— А мы решили спуститься, чтобы искать вас внизу, — ответила ему Мария.
— Хорошо, что не сделали этого. Внизу мы могли бы и не найти друг друга. Взгляните, что творится!
Алексей недоумённо пожал плечами.
— Вы говорите так, Гельмут, будто там, внизу, — происходит что-то ненормальное. Но это ведь только на первый взгляд. Я прекрасно понимаю, что толпа хорошо организована и подчиняется какому-то особому порядку и закону. Ведь это ваша работа?
— Вы мне льстите, герр Алексей! Конечно же, в том, что мы сейчас видим на этой равнине, есть и мой скромный вклад. Однако мы с Эммой — лишь одни из многих, весьма многих организаторов этого священнодействия.
— А всё-таки объясните, Гельмут, что всё это значит? — обернувшись к Каплицкому, спросила Мария.
— С удовольствием. Эти десятки тысяч людей, которых мы сейчас видим перед собой — подлинная элита Европы. Публика часто ограничивает понятие элиты кругом политиков, банкиров и поп-звёзд, преувеличивая их роль и значение. На самом же деле понятие элиты шире. Вот мы видим в ней всех, кто в своей повседневной деятельности принимает существенные решения и несёт ответственность за их выполнение. Это и сотрудники корпораций и банков, профессиональные служащие, учёные и художники, имеющие хотя бы минимальное признание, врачи, профессора — одним словом, все те, без работы которых шестерёнки общества немедленно остановились бы.
Алексей опустил руки в карманы брюк, покачал головой и тихонечко присвистнул.
— Ну вы и замахнулись, Гельмут! Тех, кого перечислили, будет, наверное, не один миллион. Неужели вам удалось их всех здесь собрать?
— Вы правы. По нашим расчётам, таких людей в Европе от четырнадцати до пятнадцати миллионов человек. Но это только — западный союз. Если добавить наших восточных соседей, то будет около восемнадцати миллионов. А вместе с Россией — о чём мы говорили сегодня за обедом — порядка двадцати одного. Внизу же собралось тысяч триста. Или триста пятьдесят — Эмма знает лучше… Так что, как видите, при существующей производительности работы у нас — не меньше, чем на полвека!
— А что же всё-таки это за работа такая? В чём суть собрания? Вы же нам так ничего не рассказали, — поинтересовалась Мария с нескрываемым изумлением.
— Сейчас всё объясню, — не без удовольствия и гордости за произведённый эффект продолжил Каплицкий. — Я специально не стал вдаваться в подробности нашего проекта за обедом — хотел, чтобы вы сперва всё увидели своими глазами. Собрание, которое происходит внизу — это финальный этап грандиозного тренинга, направленного на изменение личности. На создание совершенного человека, если хотите.
— Но ведь в Европе живёт масса умных и талантливых людей — возразил Алексей. — Я не очень понимаю, зачем заниматься их совершенствованием. И тем более — в таких гигантских масштабах?
— Всё очень просто. Сегодня общество способно дать этим умным и талантливым людям, как вы правильно выразились, в сотни, в тысячи раз большие возможности, чем они имели до сих пор. Судите сами: от решения биржевого брокера, на выработку которого могут уйти секунды, по всему миру в движение приходят десятки миллиардов долларов, способные обогатить или разорить целые континенты. У политиков, журналистов, учёных — не меньшие возможности влиять на события, только они подчас скрыты и опосредованы. Вы же не станете возражать, что пилота аэробуса надо готовить лучше и тщательней, чем, скажем, водителя трамвая?
— Да, конечно… Но одно дело — профессиональная подготовка, а другое…
— Другое, — перебил Алексея Каплицкий, — другое — это то, что сегодня наше общество имеет возможность подарить каждому из них нечто доселе невиданное и невозможное!
Каплицкий поймал заинтересованные взгляды своих собеседников и определённо довольный произведённым впечатлением, продолжил.
— Сегодня наше общество располагает технологиями, позволяющими продлить жизнь каждому из этих людей с привычных восьмидесяти лет до ста двадцати, до ста пятидесяти, а для некоторых — и того больше. Даже до двухсот. Угадываю ваш скепсис. В это трудно поверить, но это так. Медики умеют восстанавливать повреждённые органы, сердце, сосуды, могут подавить в зародыше любое раковое заболевание. Для этого созданы персональные вакцины, генетические сыворотки, технологии саморемонта. Мы вплотную приблизились к тому, чтобы останавливать процесс старения… Жаль, куда-то ушла Эмма, она бы рассказала вам обо всём этом значительно лучше меня….
— Но Гельмут! — буквально вскрикнула Мария. — Это же фантастика! Ничего подобного сегодня ещё нет!
— Напрасно сомневаетесь. Всё это есть. Другое дело, что подобная персональная медицина, когда врачи и учёные специально для вашего генома разрабатывают и производят необходимую вакцину или сыворотку молодости, стоит колоссальнейших денег. Короткий профилактический курс может обойтись в миллион, а серьёзное лечение — в десятки миллионов. Но объяви кто широко, что такие технологии существуют — как тут же возле госпиталей и управлений социальной защиты выстроятся многокилометровые очереди из страдальцев, умоляющих о помощи. Однако на помощь всем не хватит никаких средств. Только вы не переживайте — сегодня мы можем если не дарить бессмертие, то продлевать жизнь самым существенным образом лучшим из европейцев, и это факт. Если вас по-прежнему терзают сомнения, то там, внизу, вы вполне можете встретить мужчин и женщин, которым под сто. Все они в прекрасной форме и при абсолютно ясном рассудке. Морщин и складок у них не больше, чем у сорокалетних. И через десять, и через двадцать лет любой из них будет по-прежнему в состоянии переплыть Дунай на скорость!
— Какая-то фантастика! — промолвила Мария, обводя отрешённым взглядом человеческое море внизу обрыва. — Что скажешь, Леш?
— Даже на знаю… в это трудно поверить. Впрочем, я очень даже допускаю, что наука способна творить настоящие чудеса. Странно лишь то, что её плодами могут воспользоваться лишь единицы… Правда, теперь я начинаю понимать… да, да… Вот, значит, почему все эти люди собрались здесь вместе!
— Вы почти угадали. Этих людей ждёт завидная судьба! Судьба творцов, которым выпадет счастье спустя десятилетия пожинать плоды своих усилий лично и воочию, а не бесплотными тенями, выглядывающими из-за занавеса царства мёртвых. И увидят они результаты своих дел не дряхлыми стариками, которым посчастливилось дожить, а здоровыми и сильными людьми, готовыми к продолжению работы. Подумайте, разве подобный приз не стоит того, чтобы за него побороться?
— Конечно, стоит, — ответил Алексей в небольшой растерянности. — Но я опять же о своём — кто отбирает этих счастливчиков? Насколько справедливо, что их на всю Европу — лишь считанные миллионы?
— Абсолютно справедливо. Ибо любой, совершенно любой человек может войти в их число. У нас нет ни сословных, ни национальных, никаких в принципе ограничений! Единственное, что требуется от желающих вступить в новый мир — немного переделать себя. Чем мы и занимаемся в рамках нашего проекта.
— Тогда расскажите об этом подробнее!
— Ну, я уже всё основное вам рассказал. Чтобы вступить в новую жизнь, необходимо убить в себе старого и несовершенного человека. В физиологическом плане эту работу делают медики посредством своих чудо-вакцин и прочих премудростей. А вот всё остальное — это работа наша. Помните, за обедом я много говорил об эгоизме? Так вот, если свести нашу работу к самому главному, то это главное — уничтожение эгоизма в людях. Согласитесь, что подобная цель — в высшей степени благородна. У нас, признаюсь, немало критиков, однако когда мы заводим речь об истреблении эгоизма, им нечего противопоставить. Эгоизм, в основе которого лежит стремление людей рассматривать себя отдельно от остального целостного мира, — это зло абсолютное и бесспорное.
— Да, теперь я жалею, что мы не продолжили наше общение за обедом, — посетовал Алексей. — Вы затронули проблемы, которые тянут не на одну бутылку Chateau Petrus!
— Разве я был против? — улыбнулся Каплицкий. — Но ведь времени уже не оставалось — меня ждали здесь!
— Да я нисколько не обижаюсь! Просто тема грандиозна и даже, как я вижу теперь, чем-то перекликается с нашими прежними идеями коммунизма… Но у меня сразу много вопросов. Вот, например, что первым приходит в голову: вы сказали, что боретесь с эгоизмом, устраняя отдаленность человека от мира. А как же самосознание? Куда девается знаменитое cognito, делающее человека человеком?
Каплицкий неожиданно помрачнел и посмотрел на Алексея пристальным и цепким взором.
— Зрите в корень, герр Алексей! Я тоже давно понял, что вы не праздный бездельник из России, шатающийся по Европе, каким вы себя пытались представить! Так вот, именно с самосознанием мы и боремся. Точнее, боремся со старым, традиционным типом человеческого самосознания, предлагая взамен новую модель.
— А разве самосознание может быть старым или новым? Это ведь древнейшее свойство нашего мозга, позволяющее выстраивать в голове отраженные образы предметов и явлений для того, чтобы их изучать, развивать и мыслить абстрактно…
— Да, да, конечно. Только не забывайте, что в тех же древнейших пластах человеческой психики, в которых зародилось самосознание, продолжают оставаться также и дикие, архаичные комплексы, много лет назад обнаруженные Юнгом и до конца не понятые до сих пор. Мы же сумели разобраться в их хитросплетениях и теперь легко нейтрализуем или удаляем теневые основы любых страстей. Люди, прошедшие через систему наших мероприятий, становятся доброжелательными, активными и лёгкими на подъём. Перестают обманывать и скрывать что-либо у себя внутри. Даже сны они видят теперь исключительно весёлые и светлые. При этом в разы, в разы возрастает их работоспособность, поэтому на своих служебных местах они отныне в состоянии заработать не только на комфортную жизнь, но и на персонализированный медицинский сервис, продлевающий жизнь на десятилетия вперёд. Улавливаете связь? Могу похвастаться: если в первые годы становления наш проект требовал финансовой помощи извне, то теперь он полностью самоокупаем. То есть прослойка новых, совершенных граждан Европы с некоторых пор в состоянии обеспечивать своё воспроизводство. Кстати, недавно мы получили ещё одну потрясающую новость: новая структура личности, которую мы формируем, оказывается, генетически наследуется и передаётся при рождении потомства!
— Но тогда вы напрасно радуетесь, — Мария прервала Каплицкого, рассмеявшись. — Ведь в таком случае вы скоро останетесь без работы!
Каплицкий открыл рот, чтобы ответить, но его опередил Алексей.
— А как же остальные люди? Даже если ваша система открыта на вход, всех она по-любому не примет. Что же остаётся остальным?
— Герр Алексей, мы обычно не отвечаем на такие вопросы. Ведь тот, кто их задаёт, сам всё прекрасно понимает!
— Вы хотите сказать, что они умрут и освободят Землю?
Каплицкий усмехнулся и, немного помолчав, ответил:
— Да, умрут. Умрут тихо и мирно, умрут своей смертью в отведённый природой срок. Но я не вижу в этом ничего дурного и несправедливого. Мне, признаюсь, тоже по-человечески жаль этих старомодных и не желающих меняться людей. Но для большинства из них этот выбор — на их совести.
— Боюсь, что с этими старомодными людьми умрёт и старая добрая Европа, которую мы с вами было вознамерились спасать! — воскликнула Мария, которую речь Каплицкого, судя по всему, задела, раздосадовала и даже в чём-то оскорбила.
— Нет. Ещё раз повторяю — старый, традиционный путь эволюции завёл общество в тупик. Персональное развитие в обустроенной среде убило в людях волю и теперь превращает их, извините, в обыкновенных социализированных животных. А мы — мы пробуждаем в людях струны древней воли и возрождаем для новой жизни.
Алексей поднял глаза и посмотрел на Каплицкого с определённым недоверием.
— Но как вам удаётся усиливать в людях волю, если вы вычищаете самосознание?
— Элементарно! Убивая эгоизм в самом широком смысле, мы восстанавливаем в людях разорванное единство с природой. То, что природа, весь окружающий нас бесконечный мир обладают имманентной волей, со времён Лейбница и Шеллинга ни для кого не секрет. А в огромном волевом потоке природы присутствует и немалая доля, предназначенная специально для людей. В древности люди умели припадать к этому источнику, черпая из него силу и веру в предстоящие свершения. Кстати, ваш русский учёный Лев Гумилёв во второй половине XX века переоткрыл данный феномен, назвав его, если я не ошибаюсь, пассионарностью. Но он ошибочно полагал, что воля, сообщаемая человеческим сообществам природой, затухает подобно колебаниям маятника. А вот одно из свежих открытий, на которое мы опираемся в своей работе, состоит как раз в том, что мы нашли способ волю не просто восстанавливать, но и усиливать, переводить на новый энергетический потенциал! Вы же понимаете, Алексей, что это означает!
— Понимаю… Но даже не знаю, что и ответить. Честно говоря, я не думал, что философские изыскания могут получить в жизни подобное развитие.
— Не обижайтесь, герр Алексей, но немецкая философия тем и отличается от русской, что изначально была ориентирована на практические вещи. Если вы готовы веками рассуждать о непостижимом Боге, то мы строго и системно анализируем инструменты, с помощью которых Бог управляет миром, и если необходимо, то создаем такие же собственными руками. Кстати, если я потревожил ваши религиозные чувства, прошу меня простить.
— Я далёк от религии, — ответил Алексей с искренним спокойствием.
— О, это совсем не похоже на сегодняшних русских! Я ничего не имею против религии, однако твёрдо знаю, что религиозность мешает понимать вещи такими, какими они есть на самом деле. Ну а вы, Мария, — наверное, не пожелаете быть столь категоричной? Я угадал?
— Да, угадали. Я в церковь не хожу, но Бог для меня — не пустое место и не объект, с которого можно смерить мерку. И вообще, Гельмут, если честно, — мне очень не нравится вся эта затея.
— Чем же именно не нравится? Назовите причины!
— Не могу пока назвать. Не знаю. Просто не нравится, и всё.
— Понимаю вас. Всё новое выглядит необычным и может испугать. Но мы же все прекрасно понимаем, — с этими словами он простёр руку в направлении колышущегося внизу людского моря, — что такие вот процессы невозможно ни выдумать, ни остановить. Бороться с ними также бессмысленно. Поэтому примите происходящее таким, каким оно есть.
Мария не стала ничего отвечать, и разговор сам по себе прекратился. Все молча смотрели вниз, где освещённое склоняющимся солнцем продолжалось движение многих десятков тысяч человек. Наблюдая за ним, становилось понятно, что Гельмут нисколько не преувеличивал. Словно подчинённое некой единой воле, это человеческое перемещение начинало представать прообразом какого-то непостижимого разумного существа, тайна рождения которого, возможно, открывается здесь и сейчас.
«Или это всё бред, спектакль, который разыгрывают перед неофитами?» — подумал Алексей и тотчас же осмотрелся по сторонам, рассчитывая увидеть где-либо в отдалении группы подобных им зрителей, для вдохновения которых это представление могло быть устроено. Однако кого-либо ещё, кто бы мог, как они, праздно наблюдать за происходящим, не имелось. Гребень склона с идеальным обзором был безлюден, и они оставались единственными, кто стоял на нём.
— Что ж! — прервал тогда затянувшуюся паузу Алексей. — Думаю, что для того, чтобы разобраться во всём этом получше, нам следует спуститься вниз и побывать там. Это возможно, Гельмут?
— Да, конечно. Я лишь не хотел бы, чтобы вы шли туда одни. Лучше — со мной. К тому же — уже семь часов вечера. Если мы хотим застать самое интересное и захватывающее — то нам пора!
Алексей, согласившись, кивнул, и они с Марией двинулись вслед за Каплицким. По дороге он подумал, что не всё, наверное, в происходящем здесь столь странно и тревожно. Странность возникает от отсутствия достаточного знания, а тревожность — от новизны.
Спустя несколько минут он смог убедиться в верности этого своего предположения, поскольку увидел перед собой вполне нормальных людей. Правда, как и предупреждал Каплицкий, никто из не чувствовал себя участником собрания праздного — на большинстве лиц читалась сосредоточенность, причём некоторые выглядели обеспокоенными и вели себя отчасти невротично. Однако все огрехи искупались превосходной организацией, которая — что также показалось Алексею удивительным — осуществлялась здесь без чьей-либо внешней помощи, сама собой. Люди спокойно подходили к никак не отмеченным точкам сбора, легко находили там собеседника, говорящего на их языке, имели с ним короткое общение, после которого столь же спокойно шли к следующему месту, которое для одних оказывалось рядом, а для других — и на весьма большом отдалении. «Интересно, как они ориентируются в этом Вавилоне?» — думал Алексей, не переставая внимательно и подчас восхищённо разглядывать участников. И следующим открытием, которое он для себя сделал, была их телесная красота и великолепная физическая форма, нисколько не зависящая от возраста. Да и возраст этих людей — за исключением весьма небольшой прослойки очевидной молодёжи — определить было непросто. Каплицкий не солгал — зачастую лишь по глазам можно было составить заключение о том, что бодрому обладателю рослого стройного тела, эффектно схваченного приталенной белоснежной сорочкой, или улыбчивой милой мадам с гуттаперчевой талией — далеко за пятьдесят.
На вопрос, чем именно занимаются сейчас эти люди, Каплицкий сообщил, что происходит обмен впечатлениями от «работы и событий за минувший год». Все решившие вступить в новую элиту Европы, оказывается, должны отказаться от осёдлости и сложившихся профессиональных предпочтений. Банкир из Франкфурта может получить должность ресторатора в Ницце, а начальник городской полиции — стать управляющим директором в корпорации со штаб-квартирой в тысяче километров от своего прежнего дома. Через год — очередная смена рода занятий и мест жительства, поскольку «мобильность и мультизадачность» — важнейшие принципы программы. Определённые исключения делаются только для представителей науки и медицины, остальным же представляется возможность в свободном общении выбрать для себя место приложения сил на предстоящий год. «Прямо-таки наш Юрьев день!» — пронеслось в голове у Алексея, но он поостерёгся обидеть Каплицкого, судя по всему великолепно знавшего русскую жизнь, излишне жёстким сравнением. Поэтому Алексей лишь осторожно выразил изумление сознательному желанию его подопечных менять привычки и очаги. В ответ Каплицкий пояснил, что «стремление к мобильности совершенно естественно для человека и входит в древний архетип», в то время как чрезмерная осёдлость ведёт к неприятностям и вырождению.
Мария, сохраняя свой критический настрой, усомнилась, что для людей из творческой среды подобная зарегулированность может служить благом. Каплицкий ответил, что специализированные творческие профессии уходят в небытие, и уже в скором времени каждый человек сможет реализовать в себе талант артиста или поэта. «А иначе будет несправедливо!» — заключил он с абсолютной убеждённость.
Затем он подвёл Марию с Алексеем к импровизированному подиуму, на котором уже по-настоящему пожилой человек в чёрном костюме, утопающиё в мягком кресле, что-то не очень складно и временами сбивчиво бормотал в микрофон. Ему внимали через наушники синхронного перевода несколько тысяч человек, расположившихся кто на временных скамейках, кто на траве. Каплицкий пояснил, что здесь проходит один из наиболее важных этапов подготовки «новых людей»: их обучают, как и почему не следует бояться смерти. Продление жизни с помощью успехов медицины не снимает страха смерти как такового, и даже возможность покинуть мир безболезненно, в сладких грёзах обезболивающего медикаментозного сна оставляет у многих мучительное предощущение конца, к которому «надо готовиться». Данное предощущение — очень сильный раздражитель психической сферы, который путём самоподготовки необходимо устранить.
«Но разумеется, мы не можем в своей работе опираться на религиозную фантастику — рассказывать людям про рай, про всеобщее воскресение и тому подобные чудеса. Мы честно объясняем им, что в неизбежный день смерти их воля просто покидает вышедшее из строя тело и возвращается в лоно вечной и неумирающей Природы. При этом в отличие от церковников, мы нисколько людей не обманываем. Все они к этому моменту не просто твёрдо знают, что их собственная воля перед тем как войти в их тела пребывала в резервуаре Природы, но и имеют конкретный личный опыт по взаимодействию с этим резервуаром. Мы профессионально учим их, как этот резервуар следует посещать, забирая оттуда растворённые в нём монады воли прежних поколений и эпох, — улавливаете теперь, почему для нас столь важно принципиально участие русских с их неповторимыми монадами древней воли?.. Когда я впервые обо всём этом рассказываю непосвящённым, мои собеседники обычно не верят ни единому моему слову. Однако резервуар, в котором человеческая воля сохраняется в Природе и откуда она может быть изъята, скорректирована и приумножена — подтверждённая реальность. И я готов вам это доказать. Лучшее доказательство — погрузиться и прочувствовать всё лично».
По выражению лица Марии несложно было сделать вывод, что она действительно не верит ни одному услышанному слову. Алексея же речь Каплицкого в определённой степени заинтриговала, поскольку выданный им залп мыслей породил интересные коннотации, в которых было бы неплохо поразбираться на досуге. Однако разговор вскоре пришлось прервать, поскольку господин в чёрном перешёл от спокойного и умиротворяющего рассказа к настоящей бурной проповеди.
Внезапно вскочив со своего кресла, размахивая руками и потрясая густой седой шевелюрой, он начал выдавать длинные очереди из деклараций и предписаний попеременно на французском, английском и немецком языках. Затем, выдержав паузу и картинно благословив обеими руками поднявшихся со своих мест слушателей, он прохрипел под опережающие аплодисменты: «Volo ergo sum![79]»
Алексею очень хотелось в спокойной обстановке задать Каплицкому несколько важных вопросов, однако он не смог этого сделать — тысячи человек начали быстро покидать трибуны и заполнять достаточно узкую аллею из старых ясеней, образовывавшую проход через плотные заросли кустарника в направлении, где за перелеском должен был начинаться дунайский берег. Упреждая предстоящее движение, Каплицкий указал на небольшую тропу, ведущую через кустарник. Прошагав по этой обходной тропе минут пять, наши герои оказались на просторной поляне, где также находилось неимоверное число людей — на сей раз собравшихся для того, чтобы преодолеть устроенный здесь контрольный пост.
Каплицкий быстрым шагом подвёл Марию с Алексеем к барьеру из плотной нейлоновой ленты, рядом с которым стоял огромной длины автофургон, выполнявший роль камеры хранения. Оказавшиеся возле барьера участники этого странного мероприятия, до этого успевшие в специальных кабинках переодеться в одинаковые одежды из тонкого белоснежного полотна, напоминающие тунику или египетский калазирис, сдавали в фургон свою старую одежду, документы и мобильные телефоны. Взамен номерка на правую руку каждому надевался яркого цвета пластиковый браслет.
— Ну вот, друзья мои, — сообщил Каплицкий, — на этом рубеже нам следует принять решение о дальнейшей программе. Вы достаточно всего увидели, а я вам достаточно всего рассказал — теперь можно попрощаться и вернуться назад. Однако самая захватывающая часть праздника — впереди. Правда, здесь я должен буду вас покинуть. Решайтесь!
— Как ты, Маш? — поинтересовался Алексей.
— А как долго всё это будет продолжаться?
— Задержитесь до полуночи, — ответил Каплицкий. — Хотя лучше всего — остаться до рассвета.
— Я бы поехала домой. Но если это интересно тебе — то давай останемся.
— Заверяю вас, что скучать вам не придётся.
— Тогда остаёмся?
— Остаёмся, — согласилась Мария. — Нам тоже нужно переодеться и сдать на хранение вещи?
— Нет, для вас это не обязательно. Единственное, о чём я вас попрошу — это оставить мобильные телефоны и надеть браслеты. Таков порядок. Без браслетов охрана может принять вас за посторонних.
Обменявшись с Марией удивлёнными взглядами, Алексей кивнул и направился к очереди, выстроившейся за получением браслета. Тотчас же рядом с ними возник пожилой охранник и услужливо предложил помочь с их получением. Мария с нескрываемым равнодушием протянула руку, и натренированные пальцы охранника тотчас же защелкнули на её запястье прочное пластиковое кольцо ярко-алого цвета. С Алексеем же вышла заминка — при попытке браслет застегнуть сломался замок, и охраннику пришлось извлекать из пришедшего в негодность устройства электронный чип, после чего вставлять его в новый браслет большего размера.
В эти несколько минут непредвиденной паузы к Марии, чуть отошедшей от барьера, быстрым шагом приблизилась невысокая светловолосая женщина средних лет. Подойдя почти вплотную и опустив глаза, она спросила тихим и немного заискивающим голосом:
— Sind Sie aus Russland oder aus Polen angekommen?[80]
— Россия, — Мария не говорила по-немецки и ответила машинально и наугад.
Тогда незнакомка перешла на русский язык, которым несмотря на заметный акцент она владела достаточно сносно:
— Простите, меня зовут Агнежка… Я родилась в Праге, но последние пятнадцать лет живу в Веймаре. Завтра утром мне предстоит улетать в Восточную Африку, в Данакиль. Оттуда я не вернусь, там страшное место… Умоляю вас, отнесите это в любой католический костёл и вручите Пресвятой Деве!
Произнося последнюю фразу, женщина подняла глаза и развернув кверху своими слегка дрожащими пальцами ладонь Марии, вложила в неё крошечный золотой крестик.
— Отчего вы говорите, что не вернётесь? — спросила Мария женщину.
Агнежка из Веймара не проронила ни слова в ответ. Убедившись, что ладонь Марии плотно сомкнулась, она лишь испуганно бросила на неё умоляющий взгляд и снова опустив глаза, точно до смерти боясь услышать отказ, прошептала едва различимо:
— Вы ведь обязательно выполните мою просьбу, да?
— Да, да, конечно! — немедленно ответила Мария, задерживая дыхание, чтобы о чём-то ещё спросить незнакомку. Но та лишь склонила голову в мимолётном поклоне и тотчас же, стремительно развернувшись, исчезла в толпе.
В этот момент Марию окликнул Алексей — новый браслет ему наконец-то подошёл и можно было двигаться дальше. Довольный Каплицкий провёл их в обход очереди к турникету, условием пропуска через который была проверка радужной оболочки глаз. «Вас нет в базе данных, поэтому проходите по моему магнитному пропуску, — пояснил он. — При выходе назад я встречу вас и так же проведу!»
И, пожелав на прощанье хороших впечатлений, Каплицкий вернулся за турникет и оттуда несколько раз помахал рукой.
* * *
Пройдя от пункта пропуска шагов двести по натоптанной тропе, ведущей через высокие заросли лещинника, Алексей и Мария оказались на открытой прибрежной террасе, несколькими протяжёнными уступами нисходящей к реке. Вряд ли открывавшаяся впереди тёмная лента, лениво переливающаяся в свете вечернего солнца, была Дунаем — скорее всего, они вышли к долине старого русла или к одному из дунайских рукавов. Как только прекратился шум от шагов, то сразу наступила оглушительная тишина. Густой запах травы, скопившийся в безветренном воздухе, слегка пьянил. Несколько раз из зарослей раздался скрипучий крик коростеля, однако тотчас же пресёкся, словно не смея нарушить царящего вокруг сосредоточенного покоя.
— Где же все? — спросила Мария растерянно.
— Действительно, странно, — согласился Алексей, невольно понизив голос до шёпота. — Может быть, только собираются подойти… Или мы взяли неверный путь.
Ещё немного постояв и осмотревшись по сторонам, Алексей ужу собрался было двинуться назад, как услышал сзади гул шагов и сухой треск веток под ногами.
Со стороны лещинника к ним направлялась внушительная колонна людей в белом. Алексей с Марией отошли с тропы, чтобы пропустить идущих. Но как только колонна поравнялась, они немедленно ощутили на себе пристальное внимание многих десятков мужских и женских глаз, а поднявшееся движение воздуха стало доносить ароматы парфюма, перебивающиеся с запахом разгорячённых быстрой ходьбой человеческих тел.
— Marschieren mit uns![81] — послышался обращённый к ним громкий возглас, и буквально сразу чья-то рука мягко, но властно повлекла Алексей к проходящей мимо шеренге.
— Suive-moi, Maria!..[82] — Алексею ничего не оставалось, как подчиниться этой воле и увлечь Марию следом за собой.
Они оказались в колонне, сплошь состоящей из людей более чем солидного возраста, одинаково подтянутых, стройных и дышащих если не здоровым духом молодости, то бодрящим слитым осознанием телесной крепости и жизненного успеха. У мужчин под просторными туниками легко угадывались загорелые прямые спины и сохраняемые в отличной спортивной форме плечи, а кожа идущих рядом женщин была доведена до идеала упругости, прочности и мягкого матового блеска, словно у дорогого шёлка.
Плотная марширующая толпа быстро разъединила Алексея и Марию по разным шеренгам.
Соседом Алексея оказался немного странноватого вида господин с длинной и неопрятной бородой, состоящей из прядей самой различной длины, одна часть которых заворачивалась и переплеталась в районе шеи, а другая спускалась едва ли не до живота. Если бы не въедливые умные глаза, взгляд которых передавал отсвет тлеющего в их глубине огня, его вполне было бы принять за какого-нибудь эксцентричного художника.
Незнакомец на английском языке поприветствовал Алексея и поинтересовался, почему he wears casual, not special clothes[83].
Алексей, спросив разрешения перейти на французский, ответил, что приглашён сюда вместе со своей подругой месье Каплицким в качестве гостей.
Услышав про Каплицкого, бородатый сосед дал понять, что исключительно высоко ценит факт подобного приглашения и чрезвычайно рад «видеть новые лица в наших рядах». Кто-то другой, шествующий рядом и слышавший ответ Алексея, также выразил нечто вроде полного расположения. Поэтому очень быстро между шагающими в шеренге завязался вполне непринуждённый разговор, из которого Алексей почерпнул много нового и любопытного.
Бородач почему-то счёл нужным начать с того, чтобы не без гордости поведать о своём возрасте — ему было под семьдесят — и об отменном здоровье. Затем он рассказал, что последнего времени возглавлял крупную международную авиакомпанию, а теперь ему предстоит потрудиться в должности либо министра культуры, либо еврокомиссара. Вопрос о месте предстоящей работы до конца пока не прояснён, однако в том, что он будет решён по одному из названных вариантов, — сомнений не может быть никаких. Сосед бородача, шагавший от него по правую руку, в основном восторженно поддакивал, слегка шепелявя, а о себе невзначай сообщил, что имеет отношение к науке, в прошлом году удостоился престижной международной награды, а в ближайшие тридцать пять-сорок лет собирается возглавить первую колонию европейцев на Марсе или на Луне.
Алексей высказал свое восхищение возможностью находиться рядом с такими знаменитыми людьми и не желая углубляться в дебри современной политики и космологии, попросил поподробнее рассказать о том, что именно предстоит увидеть этим вечером.
— Ne pas voir, mais ressentir![84] — с твёрдостью в голосе поправил его бородатый, делая особый акцент на слове ressentir, а шепелявый покоритель планет с готовностью его поддержал.
Хотя Алексей уже и начал понемногу догадываться, что под покровом сумерек и предстоящей ночи на дунайском берегу предстоит нечто фривольное, рассказ будущего министра о предстоящих событиях явился для него подлинным потрясением.
Тот поведал, что уже несколько лет избранные участники программы, реализуемой командой Каплицкого, имеют возможность предаваться наслаждению в компании себе равных сильных мира сего, располагая правом не просто выбрать любого партнёра, но и едва ли не официально заключить нечто вроде гражданского брака на предстоящий период. Сколько времени этот союз продлится — значения не имеет, но, как правило, он длится порядка года. «За год даже такие не нуждающиеся ни в чём люди, как мы, начинаем друг другу надоедать, и личная жизнь требует перезагрузки», — резюмировал бородатый.
— Но насколько подобная практика соответствует общественному благу? — спросил у него Алексей, определённо стесняясь собственной наивности.
— Наша жизнь сама по себе есть bien public[85], - с абсолютным спокойствием прозвучало в ответ. — Мы призваны обеспечивать функционирование современного общества, управление которым сегодня требует совершенно других, немыслимых ранее практик и способностей. Поэтому мы же и вправе раздвигать для себя рамки дозволенного. Ошибка многих и ваша, в том числе — вы уж не обижайтесь! — состоит в том, что вы пытаетесь применить к нам устаревший шаблон личной жизни.
Алексей слушал внимательно и сосредоточенно. Бородач, похоже, тоже был не прочь скоротать дорогу за разговором с любознательным неофитом.
— Судите сами, — продолжал он объяснять спокойно и немного вальяжно. — Традиционная семья создавалась с целями деторождения, выживания в условиях риска нужды или гибели одного из супругов на какой-нибудь очередной из войн, а также с целью юридического оформления наследства. Однако сегодня всё это не актуально. Лучшие дети зачинаются под контролем генетиков и рождаются специально подготовленными суррогатными матерями. Случайной смерти никто не боится — по крайней мере, среди нас. Вопросы наследования в нашем кругу также неинтересны, поскольку материальные потребности здесь удовлетворены, а наследовать статус и власть — нельзя. К тому же нашу жизнь, вы наверное это знаете, передовая медицина теперь делает здоровой и страшно продолжительной. От подобного подарка отказаться трудно, однако ещё труднее, согласитесь, обрекать себя на семейный союз, который может продлиться неприлично долго.
— Насколько долго?
— Например, лет сто. Нет, вы не подумайте лишнего — мы тоже привыкли восхищаться взаимной верностью милых стариков и старушек, но ведь ни один из нас, скорее всего, никогда не сделается, подобно им, дряхлым, немощным и беззащитным. Мы энергичны, полны сил, имеем перспективы и постоянную смену занятий, не позволяющие закиснуть. А когда ты не стареешь — тебе не нужен кто-то один, кто бы в этом старении мог служить утешением, старея с тобой вместе.
— Ясно. Теперь я понимаю, что барон Гольбах, обосновывавший атеизм, поспешил на несколько столетий. Пожалуй, только с появлением таких возможностей, какие есть у вас, человечеству следовало отказываться от религии, — ответил Алексей, явно намереваясь потрафить своему собеседнику.
К удивлению Алексея, бородач с ним не вполне согласился:
— Лично мне и, думаю, им всем, — он небрежно обвёл взглядом затылки идущих рядом с ним людей, — Бог не нужен. Однако я никогда не стану утверждать, что Бога нет, я просто говорю, что некоторым из нас нет необходимости с ним общаться. Если живёшь в нужде и не знаешь, что станет с тобой завтра, — пожалуйста, разговаривай Богом. Он ведь подобных к себе и призывал.
— Да, да, я раньше и не задумывался, что прогресс способен так сильно изменить человеческую природу…
— Не то слово! Вот вы наверняка уверены, что сегодня на этом прекрасном зелёном берегу мы будем заниматься заурядной любовью? Позвольте вас в этом разубедить. Обычная страсть, возникающая между мужчиной и женщиной или между, скажем, двумя лицами одного пола, — продолжил будущий министр, лукаво взглянув на своего шепелявого соседа, — есть результат их несовершенства и страха. Если не принимать во внимание вульгарных вариантов, вроде посещения борделя, то для достижения счастливого мига соития влюблённые должны сперва преодолеть собственную робость и страх отказа со стороны партнёра, затем — где-либо уединиться, то есть устранить на время свой страх и стыд перед обществом, и так далее. Но даже когда все подобные преграды позади и соединённые тела трепещут в упоительной близости, не является ли переживаемый влюблёнными восторг всего лишь результатом их искусственной и кратковременной самоизоляции от неприветливого и угрожающего мира? Ведь всё это подобно иллюзии полёта при прыжке с невысокой башни. Освобождение на короткий миг от тягот земного притяжения само по себе прекрасно, однако оно ничего не способно изменить, поскольку следом наступает болезненное приземление.
— Интересная мысль… Никогда не думал, что любовь может быть связана с несовершенством, — признался Алексей. — Но если, допустим, несовершенство устранить — то что должно измениться?
— Не надо делать никаких допущений! Сегодня здесь вы увидите совершенных людей. И отношения между ними будет столь же совершенны. Никто не будет стыдиться своей наготы или impuissance[86]. Никто не будет искать в объятьях избранного партнёра милости или тайного покрова от житейских невзгод. Та страсть, которая скоро вспыхнет между нами, будет страстью к совершенству. Понимаете разницу? Что может быть прекраснее и ярче соединения безупречных, несмотря на возраст, тел и заключённых в них выдающихся интеллектов? Когда не нужны ни условности, ни компромиссы, не нужно что-либо обещать и не нужно опасаться последствий? Так что, друг мой, коль скоро вам посчастливилось оказаться с нами, — присоединяйтесь!
— Спасибо. Но боюсь, что неполнота моих прав не позволит…
— Не бойтесь! Гуляйте, общайтесь, предлагайте свою дружбу и принимайте предложения от ищущих дружбы с вами. И не страшитесь никаких для себя последствий, даже если проведёте ночь с самой госпожой премьер-министром!
— И она так просто это позволит сделать?
— Запросто. Даже если у вас окажутся соперники, не думайте, что они будут добиваться обладания ею лишь потому, что она — успешный и знаменитый премьер. Несколько лет назад я сам прожил с ней два или три месяца — я был тогда послом в Сингапуре, а она возглавляла одно из международных рейтинговых агентств. Неплохо мы там порезвились! И хотя больше нам уже не о чем говорить, мы разошлись друзьями. Это норма. Премьерше сегодня далеко за шестьдесят — но обладая ею, вы ощутите в своих объятиях тело семнадцатилетней красотки! Биомедицина и в самом деле сегодня творит чудеса — её атласная, без единой морщины кожа столь совершенна, что одновременно будет и обжигать, и пронзать исцеляющим холодом, а её подмышки пахнут, как у школьницы. Коктейль гормонов! N'hesites pas![87]
— Если не секрет — то почему столь скоро прервался ваш союз?
— Мы просто наскучили друг другу. Когда прочитаны все мысли — зачем играть в какую-то любовь? Между прочим, по этой причине вы, как человек новый, будете пользоваться сегодня особой популярностью, имейте это в виду!
— Спасибо, я учту. Но если вернуться к нашей основной теме, — можно ли сказать, что главная цель предстоящего события — это обогатить друг друга новыми впечатлениями?
— Вы мыслите в правильном направлении. Только здесь обмениваются не впечатлениями, а эманациями воли — так мы это называем. За год каждый из нас что-то из их багажа подрастерял, а что-то — успел накопить. Но поскольку воля в индивидуальном человеке лишь ночует, а развиваться она должна в совместном обществе, то мы и проводим такие фестивали. Начало было на Рейне, потом Каплицкий обнаружил этот дунайский остров и предложил переехать сюда… не это главное. Главное — всё должно состояться за несколько дней до летнего солнцестояния и обязательно при убывающей Луне.
— Неужели это важно?
— Как ни странно, да. Мы не питаем иллюзий насчёт нашей всесильности, поскольку верховной силой над нами всегда будет оставаться Природа. Чтобы был достигнут результат, наша воля сначала должна объединится с волей Природы в момент её временной паузы на высшей точке подъёма, а затем разойтись по нашим телам. Чёртова механика! Мне до сих пор в ней многое неясно. Тем не менее всё это работает… Глядите — вот и Луна восходит при ясном небе. Сегодня и в самом деле должна быть замечательная ночь!
Действительно, на тёмном сумеречном небе, где уже начинали зажигаться первые звезды, появилась большая, в три четверти, красно-жёлтая Луна. Увлёкшись разговором, Алексей только теперь заметил, сколь большое расстояние они прошагали. Где-то впереди виднелся низководный деревянный мост, переброшенный через протоку на один из островов. Там, по-видимому, и находился конечный пункт их перехода.
За столь увлёкшим его разговором Алексей старался не потерять из вида Марию, которая шла немного впереди в окружении небольшой женской компании. Можно было разглядеть, что дамы о чём-то тоже оживлённо переговариваются между собой. «Интересно, — подумал он, — если речь ведут о том же самом — как мне быть? Плевать я хотел на атласную премьершу и всех этих накаченных гормонами сверхлюдей — мне надо во что бы то ни стало сохранить верность Марии и её любовь ко мне. Безусловно, я люблю её, а она — любит меня. Затея Каплицкого способна всё расстроить… И не для этого ли именно он позвал нас сюда? Du cul![88] Мне нужно устроить так, чтобы не отходить от Маши всю эту ночь…»
Не желая делиться с кем-либо этой обеспокоенностью, Алексей, выдержав небольшую паузу, немного вальяжно и с озорством поинтересовался у бородача как у будущего еврокомиссара по культуре: какой из классических аналогов предстоящего fête de nuit[89] он находит наиболее уместным? Олимп, Парнас, Лимб или Аркадия?
Бородатый весело рассмеялся в ответ:
— Не буду скрывать — обычно наш fête nocturne сравнивают с Содомом. Но вы, я вижу, человек с тонкой организацией, поэтому я не побоюсь признаться, что лично мне импонирует сравнение с мистериями античных богов или героев. Дело отнюдь не в престиже: в силу огромных возможностей, которыми мы обладаем, у нас с ними общие проблемы. Так, если мы утратим согласие внутри своего круга, то последствия будут сравнимы с пергамским побоищем[90]. Или, скажем, возьмём проблему бессмертия. Можете верить, можете нет, но в ближайшие пять или десять лет наука найдёт решение этой проблемы. Однако нужно ли бессмертие — вот в чём вопрос! Поэтому сегодня почти достигнут консенсус о том, что каждый из нас однажды должен будет сам решить, когда прекратить свой земной путь. Современная медицина в полной мере позволяет сделать этот шаг комфортным и радостным, важно лишь преодолеть связанный со смертью комплекс негативных ощущений. Этот комплекс — один из самых стойких, но я уверен, что и он поддаётся демонтажу. Кстати — разве Каплицкий не говорил вам, что будет происходить сегодня перед самым рассветом?
— Нет, мне ничего не известно…
— Предстоит настоящая мистерия — мы будем прощаться с нашими скончавшимися товарищами. Древний погребальный костёр, чистейший огонь, через который к нам возвращается воля умершего, причащение пеплом…
— Жуть какая!
— Нисколько. К смерти необходимо привыкать и выбирать её самому, когда подойдёт срок. В конце концов, когда-нибудь всему человечеству придётся сделать подобный шаг и переместиться в какой-нибудь квантовый носитель разума, которому будет под силу пережить финальный взрыв Солнца и столкновение галактик. Что с вами — вы изменились в лице? Не переживайте, это произойдёт не скоро! А впереди у нас, между прочим, мост — это значит, что мы почти пришли, мой друг. Готовьтесь к лучшему!
Колонна стала замедлять движение и вскоре почти остановилась возле моста, поскольку пройти по узкому настилу могли в ряд не более двух или трёх человек. Солнце давно скрылось за тёмными вершинами деревьев и, возможно, даже скатилось за горизонт, поскольку стало темно, и лица людей на фоне гаснущего фиолетового неба сделались почти неразличимы. В густой траве стали один за другим зажигаться светильники на солнечных батарейках, но их синеватый свет мог освещать только узкий ход тропы. Неподвижный воздух был влажным и необыкновенно тёплым. Где-то несколько раз протяжно пропищала овсянка и тотчас же, словно вспомнив про неурочный час, замолчала.
То и дело приподнимаясь на цыпочках и вытягивая вверх шею, Алексей с огромным трудом разыскал Марию. Она находилась в первых рядах и тоже, похоже, искала его, оглядываясь по сторонам. Но спустя несколько мгновений пришли в движение несколько шеренг, стоявших между ними, и единственный узкий просвет, через который он мог Марию наблюдать, оказался перекрыт чужими головами.
Алексею показалось, что перешедшие на противоположный берег начинают расходиться в разные стороны, и поэтому решил, что Мария, не зная определённой дороги, обязательно там его дождётся. Поэтому он не стал пробиваться к первым рядам и спокойно ждал своей очереди на мост в компании бородача и шепелявого астронавта. Однако сумерки обманули — после перехода через мост никто не разбегался — просто обходили лужу на тропе, и Мария ушла со всеми вперёд.
Теперь-то он в полной мере пожалел, что поленился пробраться к Марии перед переправой. Следуя по узкой тропе, проложенной по-над берегом в плотных зарослях кустарника, Алексей насчитал целых пять развилок, по которым растекались идущие впереди. При этом каждая из них могла иметь ещё по несколько ответвлений, в силу чего розыскная задача осложнялась. Тем не менее, полагал Алексей, он сумеет за короткий срок обойти речной остров, который вряд ли будет большим, а Мария, пусть даже оказавшись в столь необычной обстановке nuit des sorciêres[91], найдет способ отвертеться и дождаться его.
Тропа резко повела вниз и сразу же исчезла, растворившись в песке речного пляжа.
— Ruhrt euch![92] — послышалась впереди отчётливая команда. — Wegtreten![93]
Алексей, по пути предусмотрительно переместившийся в замыкающий ряд, сделал несколько шагов назад и остался стоять, незамеченный никем, за ширмой из ветвей плакучей ивы, обильно разросшейся на берегу. Глаза начинали привыкать к темноте, и лишь светящиеся пятна повсеместно расставленных солнечных светильников немного мешали различать детали. Убедившись, что бородач и шепелявый — те единственные двое, которые знали его, без происшествий дошагали до центра пляжа и разошлись по сторонам вместе с небольшими компаниями, Алексей решил «исчезнуть» и заняться розыском Марии.
Двинувшись по тропе назад, без особых сложностей он нашёл ближайший поворот, отметил его завязанной в узел ивовой веткой и, стараясь ступать осторожнее и тише, вскоре вышел к похожему песчаному пляжу. В отличие от предыдущего, укрытого за высокими деревьями, этот участок берега освещался Луной, которая висела прямо над речной гладью, прочерчивая на чёрной воде дрожащую и мерцающую полосу.
Внимательно присмотревшись, Алексей обнаружил на берегу пять женщин, из которых две, негромко переговариваясь, занимались разведением небольшого костра, а три другие, небрежно скинув одежды, не проронив ни единого звука, стали заходить в воду. Внезапно в отдалении раздался сухой треск веток, и со стороны зарослей, обрамляющих дальний край пляжа, показались две полностью обнаженные мужские фигуры. В отличие от прекрасных, без единого изъяна тел купальщиц, у одного из них вываливался неопрятный живот и блестела под лунным лучом бугристая лысина, а его спутник заметно горбился. «Не на всё, стало быть, способна расхваленная бородатым биомедицина, — пронеслось у Алексея в голове. — Или эти двое ещё не прониклись духом нового человечества!»
Подойдя к купальщицам, искатели прекрасного вступили с ними в разговор, оказавшийся, увы, непродолжительным и малоутешительным: очень скоро за разорванными обрывками фраз пролился весёлый женский смех, и посрамлённые amants malheureux[94], неуклюже развернувшись, продолжили свой одинокий путь. Они направились прямо к тропе, где находился Алексей, поэтому, чтобы не дать себя обнаружить, ему пришлось незаметно переместиться вглубь заросли и присесть. Когда эти двое проходили мимо, Алексей разобрал в обиженном бормотанье толстяка, истерически срывающемся на контратенор, слова «…and beside all she called me elderly sea-cucumber!»[95] — и с трудом сдержался, чтобы не прыснуть со смеху.
«Вот ведь незадача — было бы неплохо припереться сюда принципиально одному, — пронеслась в голове шальная и обжигающая мысль. — Жаль, что не могу задержаться и спуститься вниз… Cette nymphe au le milieu est três bonne»[96].
Тем не менее он потрудился сразу же прогнать подальше эту нехорошую мысль.
Подождав, пока двое голых отойдут по тропе достаточное расстояние, Алексей, стараясь ступать бесшумно, двинулся в поисках очередных развилок и поворотов. С завидным постоянством дорога выводила его на практически одинаковые прибрежные пляжи или отмели, загодя подготовленные для ночных купаний и утех. То и дело тишину взрывали оглушительный плеск воды, хруст хвороста, ворчанье, внезапный крик, стоны, кашель, хлопки, посвистывание, барабанная дробь, отбиваемая ладонями, громкие всхлипывания и шёпот, уханье, придыхание, неожиданные выкрики или даже непонятно каким образом произведённая раскатистая горловая трель, отдалённо напоминающая звук очереди, выпущенной из лёгкого пулемёта.
Наблюдение со стороны за тем, как могущественные и серьёзные люди предаются самым невероятным наслаждениям, демонстрируя в своём большинстве продолжительный и редкий по силе накал страстей в сочетании с дебелой телесной статью, могло бы составить задачу для какого-нибудь творческого проекта, если б не усиливающаяся в душе Алексея тревога за Марию. Рациональная и успокаивающая мысль о том, что его подруга, явившаяся сюда в своей обыкновенной одежде, не должна привлекать внимания, то и дело перемежалась с образом дикой и неистовой расправы, возможно, уже творимой над ней кем-то из самодовольных самцов, слетевшихся на этот невероятный ночной пир.
Смятение и тревога у Алексея усилились после двух особо неприятных моментов. В одном из них ему не посчастливилось лицом к лицу столкнуться на тропе с полусогнутой женщиной, всё тело которой было в кровь исцарапано или исхлёстано. Однако вместо просьбы о помощи она буквально ослепила его ледяным электрическим взором, после чего в сладостной истоме рванулась к нему на шею, припечатывая стремительными поцелуями щёки, нос и подбородок. Она явно намеревалась добраться до его губ, пытаясь пальцами развернуть голову и повалить на землю. Её вытянутое и по-античному красивое лицо хранило живые следы предыдущей страстной схватки, и Алексей явственно слышал запах тёплой крови, сочившейся из её разорванной губы. Не без усилий ему удалось освободиться от пугающих объятий и убежать.
Во второй раз он наткнулся на привязанного животом к толстому буку голого мужчину неопределённого возраста, бившегося в ознобе. На его шее была закреплена широкая петля, от которой к одной из горизонтальных ветвей дерева поднималась туго натянутая верёвка. На петле имелся узел, предотвращающей смертельный перехват, однако и с ним несчастному приходилось несладко — они хрипел, выворачивал голову, а с его щеки на грудь стекала кровавая слюна.
Не раздумывая ни минуты, Алексей бросился на помощь, но в тот же миг из зарослей выбежали с бранью и проклятиями обнажённые женщина и мужчина. Ничего не объяснив, мужчина попытался повалить его на песок, применив борцовский приём. Алексей не растерялся и быстро отделался от захвата, для острастки припечатав нападавшего ударом кулака. С дамой, однако, вышла заминка — та успела подскочить откуда-то сбоку и вцепилась ему в шею своими длинными острыми ногтями. Не решаясь причинять ей встречную боль, Алексей был вынужден разыграть сцену покорности. Напавшая тотчас же ослабила хватку и сладострастно приоткрыла рот — очевидно для немедленного поцелуя. В этот миг Алексей резким движением сбросил со своих плеч обмякшие ледяные руки, метнул ей в лицо: «Ведьма!» — и поспешил удалиться прочь.
Продолжая плутать по лесу в поисках Марии, Алексей вскоре понял, что потерял основную тропу. Какие места и закоулки острова он уже посетил, где ещё не был и куда теперь вели проходы, временами лишь интуитивно угадываемые по разрывам в сплетениях ольшаника и ореха — он не помнил и не знал. Под светом бесстрастной Луны, теперь уже мертвенно-белой, в окружении зарослей, за которыми бушуют нечеловеческие страсти и копятся опасности, под гулкое уханье совы и спорадически усиливающееся кваканье жаб, в приливах тёплого и влажного воздуха, пахнущего корой и болотом, начинало становиться по-настоящему жутко. Электрические фонари, под густыми тенистыми кронами не успевшие за день сполна напитаться светом, гасли один за другим, и во многих местах, куда деревья не пропускали мерцания склоняющейся Луны, становилось черно, как в погасшей паровозной топке.
Алексею пришлось оставить затею о систематическом обследовании острова. Единственное, что занимало его теперь — во что бы то ни стало найти Машу. Однако время неумолимо шло, и шансов на то, что Мария дожидается его в безопасном месте, становилось всё меньше. Пробиваясь в направлении очередного просвета сквозь густое сплетение веток, Алексей поймал себя на мысли, что теперь он даже не в силах ни проклинать Каплицкого, ни осуждать себя, наивно согласившегося ввязаться в эту авантюру. В голове было только одно — найти и успеть.
Спускаясь бегом к очередному плёсу, он не заметил толстого корня, из-под которого высокая вода вымыла песок, и он висел над землёй. Зацепившись ногой за корень, Алексей утратил равновесие и, падая, на всём ходу врезался лбом в дерево. Бенгальские икры, немедленно вспыхнувшие в стиснутых от боли глазах, потухли от нахлынувшей следом мглы. Алексей потерял сознание и с грохотом повалился на землю.
…Он очнулся от тепла и потрескивания небольшого костра, который спокойно и тихо горел совсем рядом. С трудом разомкнув веки и боясь обознаться, он долго не отводил взгляда с весело пляшущего оранжевого пламени. Когда же поднял глаза, то увидел склонившееся над ним чьё-то лицо.
— Are you all right?[97] — произнёс молодой и звонкий женский голос.
— Tout va bien… Wo sind wir?[98] — ответил Алексей одновременно на французском и немецком, при сочетании которых он чувствовал себя увереннее.
И, не дожидаясь ответа, сделал попытку подняться, — однако из-за резкой боли в ноге тотчас же рухнул на песок.
Рядом с ним сидела, опустившись колени, очаровательная худенькая девушка едва ли старше двадцати — двадцати двух. Как и все на острове в эту ночь, она была обнажена, однако её нагота выглядела совершенно естественной и не вызывала смешанного чувства обожания и брезгливости, которое Алексей испытывал при виде вызывающе-безупречных тел титулованных дам и старух. Наверное, у неё по-особому светились глаза, а в голосе угадывалась ещё не в полной мере преодолённые стеснительность и наивная взволнованность.
Девушка легко перешла на немецкий, и Алексей узнал, что она — родом из Венгрии и её зовут Ханна. Дотронувшись своею рукой до царапин и ссадин на лице и шее Алексея, она спросила, может ли он немного потерпеть, пока её подруга не принесёт лекарство.
— Вряд ли лекарство поможет, — ответил Алексей. — На несколько недель всё это, не меньше…
— Поможет, обязательно поможет. Петра вернётся с мазью через несколько минут.
Ханна объяснила, что Петра — так звали подругу — отправилась за особой мазью на Wiese der Abschied[99], куда после захода Луны, перед рассветом, начнут стекаться все, кто проводит ночь на острове. Для их быстрого восстановления и залечивания повреждений медики разместили там небольшой лазарет с чудодейственными лекарствами и аппаратами.
— Значит, на Wiese der Abschied все скоро и соберутся?
— Конечно. Разве ты не знаешь?
Алексей не ответил — мысль о том, что на этой «поляне прощания», он сможет, наконец, найти Марию или что-либо разузнать о ней, перебила всё в его голове. Он даже попытался снова привстать, однако немедленно проснувшаяся боль не позволила этого сделать.
— А ты странный… — тихо сказала ему Ханна, гладя прямо в глаза и таинственно улыбаясь. — Не сменил и не снял одежду. Мы сначала думали, что ты — пробравшийся на остров папарацци и хотели вызвать охрану. А потом — увидели твой браслет и успокоились.
— Да, браслет… — ответил в задумчивости Алексей, рассматривая свою разорванную рубашку и испачканные до неприличия брюки. — Знал бы, что так выйдет — действительно разделся бы…
Ханна улыбнулась, и лёгким прикосновением своих тонких длинных пальцев принялась расстёгивать оставшиеся на рубашке Алексея пуговицы.
— Зачем? — спросил он её.
— Ты же хочешь раздеться. Ты позволишь мне побыть с тобой?
Алексей ничего не ответил и медленно перевёл свой взгляд на жаркие угли костра, а затем — на рассыпающиеся в воде отблески Луны.
— Я ведь тебе нравлюсь, да? — вновь спросила Ханна и улыбнулась.
— Да, ты в самом деле прекрасна. Но пойми, милая Ханна, — я немного не тот, за кого меня все здесь принимают…
Вместо ответа венгерочка поднялась и подошла к кромке берега. Поставив ступни одну за другой точно по урезу воды, она неторопливо воздела руки и, сцепившись наверху пальцами, потянулась вся, выгибая изящную стройную спину и подставляя под последние отблески спускающейся за лес Луны свою острую и плотную грудь.
— Ты тот, именно тот, кого я ждала! Ждала не просто сегодня, а всю жизнь. И я вижу, вижу, что ты тоже любишь меня. Пожалуйста, подойди же!
Эти слова были принесены Ханной с такой искренней трогательностью, что Алексей не осмелился поступить иначе. Превознемогая боль в ноге, он поднялся и, прихрамывая, подошёл к девушке. Она крепко обняла его, сжав с необыкновенной силой за локти, из-за чего он не смог ей ничем ответить. В следующее же мгновение Алексей ощутил, как изначально прохладная, словно ночная роса, кожа Ханны начала теплеть, и через считанные секунды уже обжигала ровным горячим и чистым пламенем.
— Подожди… — попросил он её тихонько. — Проклятая нога… Разреши сесть, так должно стать лучше…
— Конечно… Расскажи мне, где у тебя болит, я согрею…
— Не надо, — прошептал в ответ Алексей. — Не надо. Всё хорошо…
Они вместе опустились на прибрежный песок, и Алексей, с силою прижав Ханну к себе, с непередаваемой ясностью понял, что уже ничем, абсолютно ничем не сможет противостоять этому сладкому плену, пахнущему соломенными волосами Ханны, озвученному её живым дыханием и тихим шорохом дунайской волной. «Будь что будет, — подумал он. — Пусть я преступник. Но ведь и любовь этой девочки, даже явленная в таком месте, — она чиста и без порока. Взаимность моя ей зачем-то очень необходима…»
— …Костёр догорает. Ты не замёрзнешь? Я подложу ещё веток, — сказала Ханна, когда Алексей наконец-то нашёл в себе силы разорвать упоительный поцелуй, длившийся, как ему показалось, целую вечность.
Она бесшумно переместилась к костру и бросила на угли припрятанную где-то поблизости охапку лесного хвороста. Взметнувшиеся вверх языки пламени озарили оранжевыми пятнами край берега и окатили тело щедрым теплом. Словно не желая мешать этому согревающему потоку тепла, Ханна отдалилась от огня и, присев рядом с Алексеем, обняла его со спины.
Он чувствовал сбивчивую трепетность дыхания Ханны на своём плече и по-прежнему сокрушенно думал, что повёл себя как преступник и последний предатель. Господи, где сейчас Мария, что с ней, о чём думает она, видя его исчезновение? Но, с другой стороны, сам он этой встречи не искал, а Ханна буквально его спасла — ведь неизвестно, где он упал, где бы лежал теперь с изуродованной ногой и разбитым лицом и что бы могли сотворить с ним озверевшие от вседозволенности безумцы, заполонившие этот странный остров… Вот если бы неведомая подруга принесла лекарство и он бы смог встать на ноги! Как мало надо человеку, когда что-то у него летит под откос, какую малость требуется вернуть из того, на что в обычной жизни никто не обращает ни малейшего внимания!
Едва подумав об этом, Алексей сразу же обернулся, желая поблагодарить свою добрую фею — но вместо уже привычной таинственной улыбки увидел теперь неподвижное, словно маска, лицо Ханны и её глаза, полные слёз.
— Ханна, что случилось?
Вместо ответа она рухнула на его плечо и громко, в голос, зарыдала. «Ты у меня единственный, — зашептала она. — Единственный и последний. Не уходи, пока можешь… Прошу…»
Отринув все сомнения, Алексей бросился её успокаивать и утешать. Понемногу девушка стала приходить в себя. Опасаясь, что подобное может повториться с ней вновь, он решил оставить до лучших времён невесёлые мысли и постарался разговорить свою странную подругу.
Из неожиданного рассказа Ханны он узнал, что несколько лет назад она закончила с отличием инженерный университет в Германии, но так и не сумела найти работу. Чтобы прекратить безуспешные мытарства, Ханна приняла решение вступить в особую программу, о которой Алексею рассказывал Каплицкий. У этой программы нет устоявшегося названия, однако всем известно, что участвующие в ней не только получают достойные должности в лучших корпорациях и государственных институтах, но и формируют элиту западного континента. Ханна подтвердила ранее услышанное Алексеем о невероятных медицинских услугах, делающих жизнь членов клуба здоровой, бодрой и почти вечной, об их невероятном «корпоративном духе» и о творимых этим духом чудесах.
Алексей и раньше догадывался, что цена подобных благ должна быть достаточно высокой. Однако то, что поведала Ханна, повергало в оцепенение: лично ей для перехода с подготовительного уровня на уровень «практический» мало укоренить в своей голове новое мировоззрение — необходимо и физиологически стать другой, согласившись на ряд необратимых хирургических вмешательств.
— Операции должны состояться на следующей неделе, — сказала Ханна. — Как раз, когда солнце повернёт на зиму и наступят сумерки года, я выйду из госпиталя и больше уже никогда не смогу чувствовать и любить так, как только что чувствовала и любила тебя.
— Бред… Какие ещё сумерки?…
— Кто умирает в сумерки года, тот уже никогда не возвращается на землю… Поэтому я должна успеть умереть до того, как утро года закончится, а это произойдёт совсем скоро.
— Я ничего не понимаю и не верю… Но что же такое они собираются сделать с тобой?
— Вырежут всё, что Бог дал мне как женщине. Возьмут и вставят что-то своё, я даже не знаю, что именно и откуда, и я превращусь в такую же бесстыжую и нестареющую фурию, что резвятся здесь сегодня. У них ведь особые гормоны… Мои дети появятся на свет из пробирки, я их никогда не увижу и, разумеется, никогда не поинтересуюсь, кто их отец. Если ты, милый, про это не знаешь — лучше и не пытайся узнать. Просто райская жизнь требует платы.
— Какая же это к чёрту «райская» жизнь? — искренне возмутился Алексей.
— Так все её называют. Просто другая, прежняя жизнь сегодня делается уже почти невозможной. Говорят, людей развелось слишком много! Поэтому в той самой «обычной» жизни я никому не нужна, и будущего там нет.
И, задумавшись на секунду, добавила:
— Ни для меня, ни для кого. А если честно — то будущего сегодня нет ни для кого на всей этой планете. Перед рассветом на Wiese der Abschied они начнут сжигать своих мертвецов. Будут жечь тела не только тех, кто в течение года умер или погиб, но и кто добровольно оставил жизнь с помощью обезболивающего укола. Потом каждому из нас отсыплют по горсти их пепла, одну часть которого нужно будет съесть, а другую — носить в ладанке, как талисман. Хотят, чтобы мы перестали бояться смерти — ведь если не испытывать ни малейшего страха перед чужой смертью, то воля умершего должна войти в тебя…
— Мне уже говорили об этом. Но это, кажется, какой-то бред. Ты в это веришь?
— Я не знаю, мне всё равно. Они хотели научить меня не бояться смерти — это факт, и я её теперь не боюсь. Но я и не хочу, чтобы они могли забрать себе хоть что-то от меня. Хочу поэтому исчезнуть так, чтобы от меня ничего не осталось — ни праха, ни записи моих дел и моих мыслей, ни даже моего имени. Ничего!..
Алексей не знал, что ответить, и надолго замолчал. Костёр снова стал гаснуть, однако он не решался встать, чтобы подбросить дров, не желая оставлять даже на короткий миг Ханну — от волнения по телу которой стала пробегать лёгкая дрожь и которую теперь он сам должен был согревать собственным теплом.
— Я слышу шаги, это возвращается Петра, — прервала молчание Ханна. — Она хорошая добрая девушка, но об этих грустных вещах с ней лучше не говорить. И ещё, пожалуйста: если ты встретишь кого-то из начальства, не рассказывай, заклинаю, что ты был наедине со мной.
— Конечно, я ничего никому не скажу… Но в чём дело? Разве не для подобных встреч наедине всё это и было придумано?
— Так только кажется. Здесь для каждого навсегда определён свой круг. Мой круг — тот, где я должна быть с Петрой, понимаешь?
— Понимаю. Не хочу подводить тебя. Может быть, мне лучше уйти?
— Не надо, Петра мена не выдаст. Главное, чтобы наши с ней браслеты показали, что мы снова вместе…
Действительно, приближавшиеся шаги означали, что это возвращалась с «поляны прощания» Петра, высокая и худосочная брюнетка. В руках у неё были две крошечные баночки с мазями. Ничего не объясняя, она смазала первой мазью царапины и синяки на лице и шее, а другой — отбитую при падении голень. Результат был фантастический — уже спустя несколько секунд боли стали исчезать, а нога обрела подвижность. Петра наклонилась и внимательно осмотрела ссадины. По её словам, препараты подействовали, раны должны затянуться уже через пару часов, а спустя сутки и исчезнуть полностью.
Завершив осмотр травм Алексея, Петра занялась костром, а Ханна зашла в воду по грудь, переплыла неширокую стремнину и выбралась на осерёдок метров в двадцати от берега. Как раз на этом месте обрывался луч почти уже спустившейся до горизонта Луны, и выхваченная им фигура Ханны, стоящей на отмели, казалась изваянной из ослепительного мрамора.
— Ну как, хороша я? — донеслось с реки.
Петра, занятая раскладыванием хвороста, даже не подняла голову. Алексей крикнул, что Ханна прекрасна, как амазонка Поликлета.
— Ха! А та амазонка, кажется, была раненая? — донеслось с реки. — Раненая, подбитая амазонка! Как же ты прав!
Не опуская высоко поднятых рук, Ханна несколько раз повернулась кругом, подставляя своё миниатюрную мраморную фигуру под лунный луч, а потом совершенно неожиданно сделала несколько быстрых шагов в сторону стремнины. Было заметно, как сильное течение на короткий миг лишило её равновесия и заставило присесть, чтобы удержаться на ногах.
Вернувшись на отмель, Ханна замахала рукой и прокричала:
— Я сейчас поплыву на другой берег!
— На надо! — крикнул её в ответ Алексей. — Можно утонуть!
— Ну и пусть! — донеслось в ответ. — Мне не страшно! А что, разве из амазонки сделаться русалкой — это плохо?
И, не дожидаясь ответа, Ханна стремительно бросилась в реку.
Было хорошо видно, как проплыв несколько метров, она развернулась к течению, словно желая помериться с ним силами, и нырнула под воду. Когда её голова снова показалась над волной, Алексей, забыв от повреждённой ноге, уже бежал к осерёдку, преодолевая нарастающее сопротивление воды, быстро поднимавшейся от пояса до плеч. Сквозь шум и плеск он услыхал, как Ханна крикнула что-то вроде «Не надо помогать!», после чего снова скрылась под зыбкой водной гладью.
Спустя минуту, когда задыхающийся Алексей выбрался на отмель, неровный плеск доносился уже с отдалённой и тёмной части дунайского фарватера. Однако вскоре он затих, и вместе с ним окончательно погас неверный лунный светильник.
— Ханна! Ханна! — прокричал он несколько раз. — Ответь, что ты пошутила!
Не дождавшись ответа, удручённый Алексей в растерянности глядел на безмолвную речную гладь. Не зная, что предпринять, он вернулся на берег.
— Ханна утонула! Зачем она это сделала? — обратился он к Петре, как ни в чём ни бывало греющейся у огня.
Вместо ответа Петра молча пожала худыми озябшими плечами. Это необъяснимое равнодушие на миг воспламенило Алексея страстной ненавистью ко всему её существу — однако уже следующий взгляд на жалкое непропорциональное тело этой необъяснимо странной девушки с некрасиво выпирающими ключицами и разбегающимися в стороны худосочными грудями погасил прилив гнева. «Она никогда не утопится, потому что отсутствие намёка на красоту давно и навсегда примирило её с жизнью… Она вынесет всё, что ей предложат, и всех нас переживёт…»
Алексей постарался незамедлительно погасить клокочущие внутри себя чувства и вернуть самоконтроль. Как только это получилось, он расспросил у Петры про дорогу к пресловутой «поляне прощания» и подбросив в качестве благодарности немного дров в костёр, максимально быстрым в его положении шагом поспешил туда.
Минут через пятнадцать-двадцать он заметил за деревьями рассеянный электрический свет, а чуть позже услышал шум от каких-то работ и приглушённые голоса. Сойдя с тропы и попытавшись пробиться туда через густые заросли, он чуть не налетел на спрятанный в зарослях автоприцеп с установленной на нём цистерной, напоминающей бочку для кваса советского образца. Правда, цистерна таинственно переливалась новеньким хромовым покрытием и имела надпись ярко-красными буквами «Flammable. Butan»[100].
В метрах двадцати за цистерной заканчивался лес и начиналась то самое оживлённое место, освещённое светом фонарей на высоких столбах. Вдалеке виднелись несколько мощных прожекторов, зажжённых пока вполнакала. С одной стороны поляны были установлены длинные столы с едой, к которым понемногу подходили люди в белых одеяниях. Растекающийся в во влажном туманном воздухе домашний запах горячего кофе, наливаемого из огромных термосов, будоражил и смущал душу предвкушением возможного отдыха.
На другом конце поляны Алексей обнаружил непонятную арочную конструкцию из блестящих металлических труб, возле которой копошились несколько человек в рабочих комбинезонах. Периодически некоторые из собравшихся у столов «патрициев» подходили к этому сооружению поближе и побродив или постояв там какое-то время, возвращались назад, чтобы продолжить ранний завтрак.
Обходя поляну со стороны леса, Алексей нашёл в траве оставленную кем-то тунику. Натянув её поверх своей изорванной и перепачканной одежды и сделавшись, таким образом, неотличимым от остальных, он смело вышел на поляну.
Чтобы избежать ненужных встреч, он стал осматривать металлическое сооружение издалека. Оно представляло собой спиральной конструкции помост, напоминающий знаменитую в своё время «башню Татлина», с небольшой огороженной площадкой наверху, на которую сбоку вела узкая прямоходная лестница. Ничего примечательного в этой конструкции не обнаруживалось, а задержавшись возле неё, можно было привлечь к себе внимание. Подумав об этом, Алексей ещё раз обошёл башню и попеременными галсами двинулся в направлении столов с бутербродами и кофе.
Однако на полпути ему пришлось вздрогнуть и замереть от ужаса — едва прикрытые по бокам зарослями травы, на земле стояли около полусотни открытых гробов с покойниками. То есть рассказы о предстоящем с рассветом сжигании мёртвых членов клуба, услышанные накануне, оказывались правдой.
Переведя дух и резонно рассудив, что в этом невесёлом месте можно малозаметно для присутствующих на некоторое время ещё задержаться, Алексей решил осмотреть приготовленные для сожжения трупы.
С печальным выражением на лице он медленно перемещался между рядами мертвецов, то и дело замедляя ход и временами останавливаясь, чтобы получше разглядеть некоторые из них. Поражала, прежде всего, необычность увиденного: вместо привычных деревянных гробов тела покоились на ажурных ложах, выполненных из тонких стальных трубок. По-видимому, все они были доставлены без одежды и лишь здесь накрыты по подбородок одинаковыми синими саванами с орнаментом из бледных звезд. От тел усопших исходил холод и запах формалина — по всей видимости, умирали эти люди в различное время, и до последнего момента их тела сохранялись в холодильнике.
Алексей надеялся увидеть какое-то подобие табличек или бирок с именами мёртвых или данными о том, кем они были, однако ни малейших следов идентификации обнаружить не удалось. Однако и предположить, что на «поляну прощания» свезли каких-либо случайных мертвецов, было недопустимо — хватало одного взгляда на их лица. На стальных одрах возлежали головы людей, когда-то наделенных могуществом и властью, привыкших распоряжаться и повелевать. При этом печать властности на женских лицах проявлялась даже заметно сильней, чем на мужских.
Алексей не мог не обратить внимания и на то, что несмотря на заморозку, покойники и покойницы выглядели дряхлыми и осунувшимися, в то время как живые члены клуба, невзирая на возраст, имели вид холёный и молодцеватый. Значит, действие хвалёных медицинских препаратов всё-таки имело свой предел и в момент кончины прекращалось.
Гробы были расставлены на земле в несколько рядов, и собиравшись развернуться, чтобы подойти к новому ряду, Алексей неожиданно остановился, вдруг увидев совершенно живое молодое лицо. Он немедленно узнал молодую черноволосую испанку, с которой накануне случился обморок и которую вместе с матерью он передал на руки врачам. «Бедная! — пронеслось в голове. — Выходит, она всё предчувствовала и потому просила Святую Веронику ей помочь!»
Забыв об осторожности, он прижал свою ладонь ко лбу испанки. Её тело ещё не успело остыть и единственное из всех источало нежный аромат незнакомых духов. Даже в фиолетовом электрическом свете её кожа продолжала выглядеть мягкой, тёплой и живой. Большой пурпурный цветок, ещё совсем недавно неподражаемо украшавший её волосы, теперь был сильно помят и небрежно воткнут в причёску — видимо, это проделали уже после того, как наступила смерть. Алексей в задумчивости прикоснулся к цветку и развернул его кверху менее повреждённой стороной. Затем разглядев в траве несколько ромашек, он сорвал их и положил юной испанке поверх савана.
— Legt nichts![101] — услышал он вдруг чей-то раздражённый голос. Обернувшись, Алексей увидел рабочего, копошащегося возле какого-то устройства.
— Warum?[102]
Рабочий с явной неохотой объяснил, что тела должны кремироваться полностью обнажёнными и перед установкой на предназначенный для этой задачи помост саваны с покойников будут сняты. На вопрос об их дальнейшей судьбе рабочий ответил, что после кремации останки будет смешаны и пропущены через особую мельницу, подготовкой которой он и был в настоящий момент занят. Чтобы не выдать свою неосведомленность, Алексей предпочёл вопросов более не задавать. Изобразив на своём лице равнодушие, он развернулся и сделал шаг в направлении к следующему ряду покойников.
Неожиданно он поймал себя на мысли, что его правая рука только что украдкой перекрестила мёртвую испанку. «Вот те на! С чего бы это? Ни разу в церковь не заходил, даже не знаю, как пальцы держать… Ну да ладно, будет мне…!»
«Стоп! — вдруг обожгла всё его существо следующая мысль, на этой раз страшная и непереносимая в своей возможной реалистичности. — А вдруг под одним из этих саванов — Мария? Я ведь не только не нашёл её, но и не имею никаких свидетельств, что она также меня искала. Вдруг они её убили? Или сопротивляясь насилию, она сама наложила руки? Чёрт, отчего же я не бросил все силы на её розыск? Ах да, проклятая нога, всё из-за неё… Что же делать?»
Не пытаясь более скоротать время, решительными и быстрыми шагами Алексей принялся обходить гробы, заглядывая во все лица. К счастью, Марии среди мёртвых не было. Чтобы ещё раз перепроверить себя, он предпринял новый обход, попутно пересчитывая покойников. Досчитать до конца не получилось, потому что подошли рабочие, которые начали переносить гробы к постаменту. Там с мертвецов снимали саваны и водружали голые тела, покоящиеся поверх едва заметных ажурных ложементов, на специальные ступени, устроенные вдоль спирального хода взбирающегося наверх металлического каркаса.
Взглянув в противоположную сторону, Алексей увидел, как подкрепившаяся бутербродами публика, постепенно покидая столы, начала выдвигаться и переходить поближе к башне. С востока уже понемногу брезжил рассвет — судя по всему, неотвратимо приближалась развязка этого ночного шабаша, невероятного и жуткого. Алексей счёл за благо перейти на край поляны, откуда только что во всю мощь ударил прожектор, нацеленный освещать место предстоящего аутодафе. Расположившись в кустах под слепящим световым потоком, он навряд ли мог быть кем-либо замечен.
«По окончании этого действа надо будет разыскать Каплицкого или бородатого. Пусть ответят, куда мог пропасть человек. А если — если они заодно с теми, из-за кого исчезла Маша? Нет, тогда лучше дождаться утра, заодно досмотрев этот спектакль, искать брошенную машину и мчаться в ближайший полицейский участок по горячим следам!»
Но не успел Алексей критически проанализировать только что родившуюся мысль об обращении полицию, как он увидел Каплицкого. В настоящей римской тоге, торжественным шагом тот вышел на середину поляны, поднялся на небольшой помост и воздетой к небу рукой поприветствовав собравшихся, начал что-то негромко говорить.
Из доносимых ветром обрывков фраз Алексей смог лишь понять, что Каплицкий то ли благодарит, то ли выражает уверенность и радуется «демонстрируемой убеждённости в процветании и успехах всех вместе и каждого по отдельности». В ответ на эту дежурную абракадабру из толпы прозвучали несколько вопросов, обращённые к нему, однако Каплицкий отмахнулся и попросил всех замолчать.
В направлении, указанном взмахом руки Каплицкого, Алексей увидел небольшую процессию во главе с женщиной, одетой в длинное, до самой земли, белое тканое платье и с венком из полевых цветов в волосах. В следующий же миг он содрогнулся всем своим существом, узнав в этой женщине Марию.
«Жива! — со скоростью молнии пронеслось в голове. — Она жива, и этот факт даёт сказочное облегчение! Выяснить бы теперь, что с ней случилось и зачем она идёт сюда…»
Однако уже спустя секунду мимолётное облегчение сменилось страшным, наповал разящим ударом. Взяв в руки микрофон, одна из женщин, сопровождающих Марию, громкогласно объявила последовательно на английском, немецком и французском языках, что «через несколько минут наша лучезарная гостья добровольно покинет мир, предавая себя чистейшему огню и искренне желая всем провожающим её ничего не бояться».
Как только шталмейстерша закончила говорить, над головами собравшихся пронёсся глухой гул, перемежающийся с изумлёнными возгласами. Но этот ропот затих и прекратился столь же неожиданно, как и возник.
Прожектор выхватил на тёмно-зеленом сукне поляны ослепительную фигуру Марии, застывшую со странным жестом не то приветствия, не то благословения. Все её движения были замедленными и неестественными, и это убедило Алексея в том, что Мария не понимает, что происходит вокруг и замышляется с ней. Скорее всего, она пребывает под воздействием каких-то снотворных газов или лекарств. «Негодяи! Как они посмели так поступить с доверившимся им человеком! Они же не люди!»
Одна за другой вскипали в голове мысли о том, как спасти Марию. Бросится к ней, вырвать из рук негодяев, убежать с ней в лес — глупо, ведь пока он нейтрализует Каплицкого — а тот отнюдь не слабак, и с этим жилистым типом придётся побороться и ещё неизвестно, чья возьмёт, — из ближайших рядов «патрициев» подскочат добровольцы и легко его скрутят. То есть действовать силой — нельзя. Тогда — выбежать из укрытия, прокричать в адрес собравшихся проклятья, создать огласку, испортить им праздник? Нет, это тоже неразумно. Такой его поступок не вызовет ничьей жалости, ничего не исправит и ничто не остановит.
Однако если вариантов спасения нет — то что же? Тогда, когда вспыхнет огонь, он немедленно бросится туда, в огонь, вслед за Машей, и примет смерть вместе с ней. Вместе им будет легче умирать. И он, Алексей, эту смерть в полной мере заслужил — ведь именно он согласился прийти сюда, именно он отказался уезжать минувшим вечером в мирную и уютную Братиславу, именно он желал «увидеть всё до конца». Дурак, позволил себе купиться на новые впечатления! Нисколько не жаль ответить за всё самому — жаль только, что вместе с ним погибнет невинный человек!..
Мысль о принятии смерти вместе с Машей по коротком размышлении показалась Алексею наиболее разумной и позволила перевести дух. Взяв себя в руки, он вновь начал различать слова, которые отчётливо произносила в микрофон с середины поляны незнакомая следующая дама, живописуя собравшимся, сколь лёгким и абсолютно безболезненным «будет у нашей госпожи» расставание с миром. Пересыпая свою речь медицинскими терминами и названиями препаратов, очевидно хорошо публике знакомых, дама то и дело посылала непонятные пассы и рисовала руками воздушные фигуры.
Теперь Алексей твёрдо знал, как будет действовать, и поэтому спокойно дожидался развязки. Когда речи-проповеди прекратились, микрофон вручили Марии, и она неровным тихим голосом, обращаясь на русском языке, в короткой прощальной речи сказала, что «любит всех и принимает смерть для того, чтобы никто из вас её отныне не боялся».
В этот момент откуда-то издалека ударили три новых прожектора. Один из них ярко осветил спиралевидный эшафот, заставленный носилками с мертвецами, и лестницу, ведущую на верхнюю площадку. А два других выхватили из предрассветного мрака невероятных размеров мрачно-зелёное дерево, возвышающееся позади эшафота и своими неровными корявыми ветвями плотно заслоняющее просвет, ведущий к дунайскому берегу.
«Чёртов Иггдрасиль! — немедленно пронеслось в голове. — Спектакль разыграли, как по нотам… Мерзкие и подлые рабы древних мифов! Если бы вы знали, как я вас всех ненавижу!»
Раздался удар в небольшой колокол, Мария поклонилась публике и слегка поддерживаемая под руки сопровождающими, медленно направилась к лестнице. Поставив ногу на первую ступень, она улыбнулась, ещё раз помахала всем рукой и самостоятельно пошла наверх.
«Как только в достаточной степени вспыхнет пламя, я немедленно окажусь там, на верхней площадке, и останусь рядом с ней!» — произнёс про себя Алексей, радуясь наступившему после минут смятения душевному спокойствию. Но пока ещё оставалось время, он счёл необходимым сосредоточился над решением тактической задачи: с какой стороны, дабы максимально долго оставаться незамеченным, ему следует подбираться к огненной плахе, как взбегать на площадку, кричать что-либо оттуда или действовать молча…
Потянулись томительные минуты ожидания. Поднявшись наверх башни, Мария развернулась в сторону рассвета. Было хорошо заметно, как её руки с невероятной силой вцепились в стальной парапет. Внизу, под башней, сразу же возникло какое-то не вполне понятное оживление. Вскарабкавшись на нижний ярус и вытянув шею в узком проходе между мертвецами, Каплицкий громким шёпотом что-то пытался сказать Марии. Из обрывка, донесённого ветром, Алексей понял, что он просит Марию развернуться лицом к зрителям, находившимся с северной стороны. Однако та, не шелохнувшись, продолжала с упорством смотреть в сторону востока.
«Только барабанной дроби не хватает!» — усмехнулся про себя Алексей и в тот же момент отчётливо увидел, как из труб, образующих нижний ярус спирали, вырвались длинные языки синего пламени. Над поляной немедленно пронёсся неуловимый вздох — то ли от ужаса, то ли от облегченья.
Пламя поднималось выше, приблизившись ко второму витку и на некоторое время там замерев, словно накапливая силы для следующего броска наверх. Спустя минуту послышался громогласный «Ах!» — и безжалостное пламя скакнуло на очередную ступень.
Алексей невольно поразился чудовищной предусмотрительности инженеров, придумавших и изготовивших этот погребальный помост. И в тот же миг, глядя на вовсю бушующие у земли огненные языки почти двухметровой высоты и на поджариваемые в них трупы, которые попеременно вздрагивали и лопались от дьявольского пламени, он с ужасом сообразил, что не сумеет преодолеть эту огненную стену и добраться до площадки, где в подлом одиночестве будет умирать его возлюбленная. А раз так — то она никогда не узнает, что он вовсе не предал её и был с нею рядом в последний и самый страшный миг, когда вколотые в кровь наркотики смогут перестать действовать и тогда весь ужас происходящего выплеснется наружу и разорвёт сердце!
Не успев найти ответ на эту оглушающую мысль, Алексей сорвался с места и со всех ног бросился бежать. Но лишь спустя несколько мгновений, преодолевая тяжесть от преодолеваемой преграды и чувствуя, как по щеке течёт кровь от раны, прочерченной острыми шипами боярышника, он осознал, что рвётся не к пылающему помосту, а почему-то вглубь чащи. «Что со мной? Неужели я спасаю шкуру? Надо немедленно вернуться назад!» — выстрелило в его голове.
Он остановился, чтобы подчинить вышедшее из повиновения тело импульсу ясной и сознательной воли, как вдруг его взгляд упал на поблескивающий за ветками хромированный бок газовой бочки.
В следующий же миг он был рядом с ней, и дрожащими от перенапряжения руками, сдирая с ладоней целые лоскуты кожи, вгонял в землю тугой газовый вентиль, от которого уходил в траву затянутый в стальную сетку шланг.
Результат от прекращения подачи газа не замедлил сказаться — было заметно, как огонь на эшафоте погас, на поляне послышались шум и громкие голоса, и вскоре он увидел из-за деревьев, как в его направлении быстрым шагом двинулись несколько человек.
Воспользовавшись тем, что из-под луча прожектора он вряд ли мог быть обнаружен, Алексей бесшумно переместился на несколько метров в сторону, и когда те приблизились к газовой установке — вырвался из лесной тени. Уже через считанные секунды он очумело взбирался по раскаленным стальным ступеням наверх башни. Не имея возможности задержать дыхание и превозмогая убийственно-сладкий запах горелой плоти, он бросился к замершей в оцепенении Марии и первым же делом разомкнул её пальцы, буквально врезавшиеся в парапет. Сразу стало ясно, что Мария пребывает в состоянии полубессознательном и потому не может идти сама. Ухватив за плечи и талию, он стремительно поволок её вниз. Оказавшись на земле, он попытался поднять Марию на руки, чтобы так добежать до леса, — однако оценив, что сил для этого не хватает, молниеносно опустил её животом на землю, забросил её левую руку за плечо, затащил на спину и, глубоко вдохнув по-прежнему мерзкий воздух, устремился к лесу.
Алексею показалось, что спасительные пятьдесят метров, отделявшие его от лесной опушки, он преодолевает целую вечность. Приготовившись ко всему — от преследования и до выстрелов — он двигался, как заведённый механизм, имея перед глазами лишь одну цель — чернеющий под серебрящимися стволами буков плотный колючий боярышник.
Пробивая головой и плечами проход в его густой заросли, он не имел возможности убедиться, что первый этап побега успешно завершён. Наоборот, насколько это было возможным, он пытался продвигаться быстрей, используя остатки своей скорости для того, чтобы запутывать след, смещаясь то в одну, то в другую сторону.
Правда, спустя минут десять или пятнадцать Алексей понял, что силы заканчиваются и что уже через несколько мгновений он более не сможет идти.
Тогда, на короткое время оставив Марию одну, он налегке пробежался вдоль берегового обрыва, уже вполне освещённого встающим солнцем, где присмотрел узкую расщелину, когда-то промытую в глинистом грунте дождевым потоком. Совсем рядом лежала поваленная ветром или грунтовым оползнем небольшая ель, которая идеально годилась для маскировки. Перетащив ёлку в нужное место и забросав следы листьями и старым буреломом, он вернулся к Марии и перенёс её в это импровизированное укрытие.
Она по-прежнему находилась в состоянии полусна, не могла разговаривать, а в ответ на любые его слова лишь тихо стонала.
Маскировка оказалась не напрасной — вскоре в отдалении Алексей услышал приглушённые голоса и треск старых сучьев под ногами. К счастью, голоса не стали приближаться, а спустя какое-то время продолжили звучать с убывающей силой, свидетельствуя о возвращении назад тех, кто его искал. Алексей подумал, что второе счастье состоит в том, что собак, способных взять след, на «срамную ночь» никто не догадался прихватить. Третьим же счастьем должно было стать только полное вызволение себя из этого омута.
Окончательно отдышавшись и не забыв смазать остатками чудодейственного снадобья вновь приобретённые раны и ссадины у себя и у Марии, Алексей с предосторожностью выдвинулся из расселины на речной берег, чтобы осмотреться и определиться с дальнейшей дорогой.
Подойдя к воде, он не мог не порадоваться счастливому покровительству самой природой их только что совершённому побегу — на сторону, где должна была находиться жутковатая поляна и где сейчас, судя по всему, члены клуба избранных должны были дожигать своих мертвецов, опустилась плотная завеса тумана. С восточной же стороны, наоборот, откуда потихоньку поддувал лёгкий ветерок, всё было чисто и открыто.
Алексей быстро сообразил, что он вышел к боковой протоке, которую пересекал по узкому деревянному мосту в компании бородатого еврокомиссара и «марсонавта» и где окончательно потерял Марию. Сориентировавшись по обнаруженным на противоположном берегу верхушкам ясеневой аллеи, миновав которую все накануне сдавали вещи и одевали браслеты, он сделал вывод, что и мост, и дорога к нему, и даже примыкающее к аллее поле с турникетами в настоящий момент укутаны туманом и вряд ли смогут служить источником опасности.
Правда, вспомнив о браслетах, которые с минувшего вечера опоясывали их с Марией запястья, Алексей немедленно вспомнил, что с их помощью за ними могут следить, если уже не следят. Да и памятные слова Ханны о том, что она должна была подтвердить своё пребывание рядом с Петрой кому-то неведомому, укрепили его в этом предположении. От браслетов надлежало немедленно избавиться, но только как? Изготовленные из эластичной пластмассы с внутренним стальным армированием, их невозможно было ни самостоятельно снять, ни разбить.
Сплюнув от досады, Алексей отправился вдоль берега в поисках какого-нибудь брошенного куска железа, из которого можно было бы соорудить нечто вроде зубила или ножа. Метрах в ста от их убежища он обнаружил угли костра, горевшего прошедшей ночью. Он немедленно раздул их и, превозмогая боль от нарастающего ожога, приложил к ним свой браслет. Вскоре пластмасса, прикрывавшая внутреннее устройство браслета, начала плавиться. Добравшись до электронной начинки, он расковырял и стёр её в порошок острым камнем, после чего в очередной раз прокалил на огне.
Чтобы проделать то же самое с браслетом Марии, он соорудил из обмазанных глиной молодых веток некое подобие подноса, с помощью которого перенёс угли к расщелине. Спустя несколько минут браслет Марии был аналогичным образом уничтожен, а обожженная рука — смазана волшебной мазью. От внимания Алексея не могло ускользнуть, что и до момента наложения мази Мария практически не ощущала боли от раскалённых углей — настолько сильным и устойчивым был рукотворный полусон, в который её погрузили негодяи.
Теперь оставалось одно — переправляться на противоположный берег. Необходимо было спешить, поскольку усиливающийся ветер мог в любой момент порвать спасительную туманную завесу. Алексей перетащил Марию к воде, крепко обхватил со стороны спины, протянул по пояс в воду, затем осторожно перенёс захват на подбородок, оттолкнулся от дна — и поплыл на спине. Боясь ослабить захват и потерять Машу, он был вынужден грести одними лишь ногами, что выходило утомительно и очень долго. По этой же причине он не смел повернуть голову, чтобы видеть, насколько далёк берег, и потому глядел только в высокое серо-голубое утреннее небо.
Так прошли минут двадцать, а быть может, и целый час… Наконец, онемевшая макушка ощутила прикосновение прибрежного камыша. Собрав волю и последние силы, Алексей с воодушевлением врезался в его острые заросли, путаясь ногами в подводных стеблях и корнях, но не желая останавливаться ни на миг, пока не нащупает под собой твёрдую почву. Эти последние метры, когда вместо грунта под ногами клубился скользкий ил, тоже, казалось, растянулись на целую вечность. Но миновали и они.
На берегу Алексея ждало приятное открытие, ставшее заслуженной наградой за труды: пока он плыл, течение, имевшееся в протоке, снесло их на достаточное расстояние вниз. Из-за прибрежной заросли ему открылся край Паннонского луга и участок гряды, с которой минувшим днём они любовались людскими перетоками и где имели неосторожность откровенничать с Каплицким. Там же, под старой раскидистой ольхой, вполне мог дожидаться их возвращения зелёный «Строен». Не «должен был» дожидаться, а только «мог», поскольку предугадать, что ждёт их впереди, если машина исчезнет, Алексей даже не решался.
И — о следующее счастье! — зелёный «Ситроён» стоял на месте. Правда, ключи были оставлены в злополучной «камере хранения», но в перчаточном ящичке должен был находиться дубликат. Недолго думая, ударом камня Алексей разбил вдребезги боковое стекло и открыл дверь изнутри. Дубликат был немедленно обнаружен, однако прежде чем завести мотор, Алексей достал из багажника сухую одежду, обувь, переодел Марию и переоделся сам. Там же он нашёл и заграничный паспорт Марии, накануне легкомысленно забытый среди её нарядов. Свои же документы, уложенные по фронтовой привычке в водонепроницаемый пакет, ему удалось пронести в сохранности через все передряги паннонской эпопеи.
Пассатижами, извлечёнными из ремонтного набора, Алексей перегрыз остававшиеся на руках браслеты и выбросил их в ближайшую канаву.
Поскольку под многочисленными тентами и в автофургонах, стоявших в отдалении, вполне могли находиться недоброжелатели или держиморды, способные воспрепятствовать их отъезду с Паннонского Луга, Алексей внимательно изучил ведущую наверх к спасительному асфальту поверхность поля, по которому ему предстояло выбираться, и проложил маршрут в обход заметных кочек и притопленностей.
Бережно усадив Марию в пассажирское кресло и пристегнув ремнём, он неспешно вытащил из рамы остатки разбитого стекла, убедился, что теперь сможет безопасно высовываться для полноты обзора в этот проём, который в летнюю пору не должен ни у кого вызывать подозрений, после чего поудобнее устроился в кресле сам. Затем, широко улыбнувшись и произнеся вслух случайно воскрешённое из глубин памяти старомодное «A Dieu Vat!»[103], быстрым оборотом ключа запустил мотор, и не теряя ни секунды на разогрев, привёл автомобиль в движение.
Надсадно ревя холодным двигателем и захлёбываясь нагнетаемым сверх меры бензином, маленький «Ситроен» медленно, но уверенно начал выползать наверх по размякшему грунту. «Хорошо бы я выглядел, если б согласился взять в прокат двухтонный «Мерседес»!» — пронеслась в голове весёлая мысль и тотчас же, словно в её подтверждение, он почувствовал, как передние колёса надёжно зацепились за асфальт. Спустя пару секунд по днищу машины застучали, подобно пулемётным очередям, отлетающие от шин комки глины — это означало, что вырвавшийся на свободу «Ситроен» стремительно набирает ход.
Впереди, вблизи памятного места, где они остановились, пропуская колонну автобусов, и где им встретилась умирающая юная испанка, дорогу перекрывал шлагбаум, к которому уже направлялся сонный охранник. Алексей почти было собрался с хода таранить шлагбаум, как вдруг вспомнил, что при пересечении границы на разбитой машине могут возникнуть помехи. Немного притормозив, он увидел, что может объехать шлагбаум по обочине, и немедленно выполнил этот манёвр. «Да, браслеты с микрочипами расслабили современных фашистов, — подумал он с накатывающим озорством, — даже дороги разучились перегораживать по-человечески!»
Азарт удавшегося побега позволил Алексею без помех преодолеть самый опасный в плане преследования начальный участок пути. Переехав по мосту Дунай и свернув на автобан «Нордост», он сделал остановку на ближайшей заправке. Прихватив в салон чашечку крепкого ароматного кофе и поднеся её вплотную к Машиному лицу, он с радостью отметил, что она понемногу просыпается и приходит в себя.
Не теряя времени, он погнал в сторону границы. Часы показывали половину седьмого, через отсутствующее стекло в кабину врывался оглушающий поток воздуха, из-за которого держать максимальную скорость было невыносимо. Австрия провожала путешественников тишиной прохладного субботнего утра под присмотром безмолвно вращающихся в высоте лопастей десятков гигантских ветрогенераторов, расставленных вдоль автобана. Похожие во встречном свете солнца на чёрные руки, перемалывающие небо, они усиливали ощущение нереальности, которое ещё долгое время не хотело Алексея оставлять.
Отказавшись от неуместного в их нынешнем положении посещения Братиславы, он сразу же свернул на трансъевропейский автобан, ведущий от гранитных скал Швеции к нежным мраморным россыпям Эгейского моря, и устремился по нему на юг. Венгерская граница в очередной раз порадовала отсутствием пограничного контроля, а сама Венгрия — будоражащим оживлением выходного дня.
Не переставая повторять, что «всё позади» и всячески вполне проснувшуюся успокаивая Марию, Алексей тем не менее не исключал возможности преследования. Поэтому увидав поворот, ведущий на Будапешт, он непременно решил туда заехать, чтобы сменить машину. Поколесив по венгерской столице в поисках приличного отеля, он запарковался на подземной стоянке, где вытащил из багажника и салона и сгрузил на тележку все их вещи. К этому моменту Мария уже вполне могла передвигаться, поддерживаемая за руку. Сопровождаемые служкой, они поднялись на лифте в роскошный гостиничный холл. Алексей на французском объяснил портье, что ждёт к обеду приезда друга, держащего резервацию на номера, и попросил отнести их вещи в кафе. Заказав там лёгкий завтрак, он вновь вызвал портье и сообщил, что намерен арендовать «небольшое авто для поездки на Балканы».
Пока готовился завтрак, все формальности с арендой были улажены. Извинившись за то, что в наличии у прокатной фирмы имеются только «Мерседесы» представительского Sonderklasse[104], портье возвратил Алексею кредитку вместе с ключами от машины и пожелал приятного пути.
— Но нам же ещё нужно сообщить швейцарцам, где мы бросили наш «Ситроен»! — вспомнила Мария.
— Отсюда звонить не стоит. После сообщим, — тихо ответил ей Алексей и подозвал служку, чтобы помог перенести вещи в новый автомобиль.
Спустя двадцать минут Будапешт остался позади, дорога весело бежала в направлении на юг. И поскольку лето с ярким солнцем делали своё дело — чувство тревоги постепенно начало сменяться предощущением устроенности, надёжности и даже близящегося беззаботного отдыха. Километров через двести последовала непродолжительная остановка на границе с Сербией, и, как только пограничные формальности были улажены, совсем скоро Алексей уже переносил вещи в небольшую уютную гостиницу в центре Суботицы.
И лишь когда в просторном гостиничном номере он рухнул на мягкий диван, то понял, какую невероятную усталость носил в себе на протяжении этой восьмичасовой дороги. Не дожидаясь обеда, заказанного в номер, он уснул и очнулся, когда за окном уже зажигались ночные фонари.
— Что же всё-таки произошло с нами? — окончательно придя в себя, спросил он у Марии, наливавшей ему крепкого чая.
— Когда мы миновали деревянный мост, я искала тебя, но вместо тебя встретила Эмму. Она пригласила меня на какую-то опушку, под тент… Меня чем-то угостили там, а что происходило дальше — я почему-то помню очень плохо.
— Ты теряла сознание?
— Нет… Вроде бы всё видела вокруг, разговаривала с ними…
— С кем — с ними?
— С Эммой… Были ещё две незнакомые женщины, потом зашёл какой-то мужчина…
— Каплицкий?
— Нет, это был не он.
— Вспомни, пожалуйста, хоть что-нибудь из вашего разговора!
Мария закрыла глаза, сосредоточенно содвинула брови и долго сидела совершенно неподвижно. Неожиданно она вскрикнула и вскочила с кресла:
— Где мой айфон?
— Мы же сдали эти игрушки перед тем, как пройти на остров.
— Да, да, я отлично помню, я сдавала свой телефон вместе с тобой… Но тем не менее он был со мною там, под тентом!
— Ты в этом уверена?
— Да, абсолютно. Его ведь принёс тот самый незнакомый мужчина.
— Зачем он это сделал? Ты должна была куда-то позвонить?
— Нет, я не звонила. Я даже хорошо помню, что телефон в том месте вообще не ловил…
— Так, так, Маша, этот момент с телефоном, похоже, очень важен — пожалуйста, постарайся всё вспомнить!
— Да, я понимаю… Я стараюсь, — вновь закрывая глаза, произнесла она в задумчивости. — А знаешь — они ведь попросили меня найти один файл… одну картинку, которую, кажется, ты мне подарил.
— Машенька, ты что-то путаешь. Я готов подарить тебе весь мир, но вот картинок я не дарил…
— Нет, дарил… Впрочем — кажется, я вспомнила, ура! Помнишь — в Монтрё, возле католического собора, ты разговорился с детьми и обещал для них сделать какое-то хитроумное вычисление?
— Да, помню, разумеется. Священник придумал для них забавную игру, по условию которой он спрятал в банковский сейф коробку с шоколадом и сказал детям, что код от сейфа они должны узнать из «Магнификата».
— Всё правильно. Когда в салоне банка мы дожидались господина Шолле, то ты, чтобы убить время, занялся поиском придуманного священником кода. А когда у тебя всё получилось и сошлось, ты попросил меня переслать код по электронной почте одному из тех детей.
— А что ты сделала для этого?
— Я сфотографировала бумажку с твоими записями и отправила на адрес, который ты записал… Боже! Я теперь всё поняла! Я всё, всё поняла, что с нами произошло!
— Машенька, ты не волнуйся…
— Ясно, теперь всё ясно! Я фотографировала бумажку с твоими цифрами в том роскошном банковском салоне. Но разве можно, находясь в банке, доставать и показывать какие-то цифры! Там же находились посторонние люди! И вместе с ними там была Эмма. Она всё видела и решила, что в моём телефоне теперь записан код от Большого Счёта, известный только тебе. И, естественно, захотела его украсть!
— Ты уверена, что в салоне была именно Эмма? Ведь когда мы познакомились в музее, ты ничего не сказала, что уже видела её.
— Она перекрасилась, но это была она, точно она, теперь я твёрдо знаю! Походка, разговор — всё это невозможно спутать… И ещё — когда я ходила за имбирными пирожными и разминулась с ней совсем близко, от неё пахло каким-то лекарством неуловимо…
Алексей не стал ничего больше говорить. Неужели всё раскрылось столь элементарно? Добрейший падре спрятал для детей шоколадный подарок в банковском сейфе и придумал код, в поисках которого дети должны были выучить «Магнификат»[105]. Но кажется, священник переоценил знание математики современным поколением: согласно заданию, нужно было разыскать такие две строчки в «Магнификате», для которых нумерологическая сумма первых букв даёт число девять, поскольку именно тогда нумерологические суммы полных слов, содержащихся в этих строках, образуют заветный код. Дети оказались не в состоянии с этим заданием справится, да и у него самого оно отняло почти час — скоротав, правда, ожидание возвращения банкира. Алексей тогда тоже окончательно запутался в вычислениях и догадался о выбранных падре двух строках лишь когда подумал, с какой тоской в глазах тот должен был каждый день взирать на заполонявшие площадь перед собором роскошные лимузины богатеев и светских особ, из которых никто ни разу не заглянул к нему для молитвы и не оставил ни малейшего пожертвования… Конечно же, падре имел в виду звучащее в «Магнификате» древнее пророчество угнетённых: «Deposuit potentes de sede Et exaltavit humiles»[106]!
Быстро убедившись, что только эти две строки соответствуют придуманному падре критерию, Алексей следом рассчитал нумерологические суммы каждого из их семи слов и записал полученные числа на жёлтый стикер, чтобы передать Марии. Внизу он также вывел и подчеркнул восьмое число — накопленный итог нумерологических сумм заглавных букв «Магнификата» с первой строки по последнюю из тех двух найденных — это было число «123», и оно обозначало номер сейфа. Однако насколько же всё просто и глупо вышло потом, Боже мой!
— Стало быть, мошенники приняли нас за русских миллиардеров, — резюмировал свои выводы Алексей, — а когда увидели нечто, напоминающее банковский код, то решили его прикарманить. Знали бы, что крадут! Сильнее всего пострадают дети: шоколад, который слегка поехавший на банковских тайнах добрейший падре спрятал для них, теперь достанется негодяям!
— Позволь с тобой не согласиться, — ответила Мария. — На месте обычных преступников я бы вытрясла душу у этих русских миллионеров где-нибудь поблизости в тёмном предместье и не стала бы разыгрывать спектакль на Паннонском Лугу. Они ведь что-то ещё хотели сделать со мной, ты случайно не помнишь?
Алексей внимательно взглянул на Марию. До сих пор он думал, что она не помнит про самое страшное, что с ней едва не произошло, и потому не хотел допускать ни малейшей возможности напомнить ей об этом. Однако если она что-то помнит сама… Если в её памяти отложились смутные воспоминание пережитого ужаса, если не изгнаны страхи, способные то и дело напоминать о себе, если всё теперь именно так — то тот кошмар надлежит раскрыть и уничтожить.
Поэтому, тщательно взвесив все за и против, Алексей ответил твёрдо и спокойно:
— Они тебя хотели сжечь живой, чтобы убедить собравшихся в лёгкости и безболезненности расставания с жизнью.
— Да, да… Я начинаю вспоминать… Но почему они просто не убили меня, когда я отдала им все нужные файлы? Зачем они выбрали такой странный способ? И для чего ту толпу нужно было убеждать в лёгкости смерти? Ведь все они в открытую гордятся, что смогут прожить во много раз дольше любого из нас и даже, возможно, скоро научатся жить вечно? Зачем им, сверхлюдям, — бояться смерти?
— Право, я не знаю… Или не всё в их философии так гладко, и смерть остаётся страшным и непреодолимым препятствием… Препятствием к окончательному господству над миром… Или — или они, на самом деле, такие же точно люди, как и все мы, и их поэтому нужно было просто красиво припугнуть!
Мария в задумчивости подошла к окну.
— Смотри, как мало иллюминации за окном. У нас в Москве или в Сочи огней гораздо больше.
— Сербия небогатая страна…
— Я понимаю, — ответила Мария, немного распевая слова. — А знаешь — тебе не кажется ли, что всё то, что произошло с нами, — сон?
— Какой сон?
— А самый что ни на есть обыкновенный сон. Когда мы обедали днём в ресторане, Каплицкий с Эммой вполне могли нам что-то подсыпать, напоить или отравить. Потом с помощью гипноза они попытались заставить меня извлечь из телефона этот дурацкий код! Ну а потом, чтобы мы не смогли их разоблачить, бросили нас в машине под деревом — спать до утра! Что ты думаешь?
— Отравили? Бросили? Хм… Но тогда почему у нас у обоих — сны совершенно одинаковые? Разве такое возможно?
— С нынешней техникой, Лёша, всё, наверное, возможно… Но — хватит об этом. Давай лучше погуляем!
Прогулка по таинственной и прекрасной ночной Суботице, завершившаяся лёгким и аппетитным ужином в интерьерах средневекового замка, оказала на путников исцеляющее воздействие — к гостинице они возвращались уже в настроении весёлом и приподнятом. В самом деле, случившееся вполне можно было объяснить наваждением или результатом какого-нибудь особого гипноза. Лёгкость, с которой они выбрались на свободу, отсутствие погони и плюсом ко всему несколько часов дороги до Будапешта в «засветившемся» автомобиле, в течение которых их никто не пытался остановить, — всё это свидетельствовало о том, что за досужими разговорами о Новой Европе мошенники в ресторане просто влили им какое-то снотворное или наркотик. Возможно — даже пожертвовав для этой цели драгоценнейшей бутылкой Chateau Petrus.
Вернувшись в номер и зайдя в туалетную комнату, Алексей специально снял рубашку и засучил низ брюк, чтобы максимально внимательно изучить своё тело на предмет следов от ссадин и ушибов. Но его кожа оставалась на удивление безупречной, без единого следа повреждений. Вряд ли даже самая совершенная мазь была в состоянии так скоро исцелять, если бы раны действительно имели место. Приняв этот момент как ещё одно доказательство, что произошедшее являлось сном, Алексей поудобнее устроился в кресле, чтобы предаться чтению.
Мария сказала, что отправляется принимать ванну, однако спустя несколько минут в одном халате выбежала к нему:
— Смотри! Ты не помнишь?
— Что случилось?
— Помнишь — в том сне… или не во сне? — странную женщину на лугу, которая попросила меня забрать и отнести в костёл её крестик? Этот её крестик сейчас висит на мне! Ту женщину звали Агнежкой, я хорошо помню. Что это, Лёша? Разве это сон?
С этими словами она сняла с шеи и протянула Алексею крошечный золотой крестик, исполненный в западном каноне.
— Не знаю, Маш. Возможно, кто-то и разговаривал с тобой о крестике, когда нас в бреду бросили ночевать под ольхой. Не бери в голову. Что бы там ни было — мы с тобой живы и у нас всё хорошо!
— Да, ты прав… Но я всё равно хочу отнести этот крестик, как обещала. Ты не будешь против?
— Завтра же сделаем.
Наутро, перед дорогой на Белград, Алексей разыскал неподалёку от ратушной площади католический собор, и они тихо проследовали под его гулкие прохладные своды. Приблизившись к алтарной преграде, Мария в молчании повесила крестик на полуопущенную руку Мадонны, изваянную из нежнейшего розового мрамора. От лёгкого соприкосновения с узорным серебряным ограждением в высоте нефа родился утончённый звук, рассыпающийся над головами коротким эхом невысказанной благодарности.
Следующие дни, лёгкие и яркие, словно в награду за пережитые испытания, принесли путешественникам только радостные эмоции. В Белграде, из гостиницы в Старом городе, было рукой подать до Скадарлии, местного Монмартра, с уютными древними улочками, кофейнями и скучающими художниками, у одного из которых они заказали Машин портрет. Кряжистый и молчаливый собор Святого Саввы поражал своими исполинскими размерами и воскрешённым византийским безразличием к течению времён и переменчивости стилей. А постоянно заполненный публикой пляжный парк у дунайской стрелке с живой весёлостью напоминал, что отвлечься от проблем — не только возможно, но и легко.
Алексей сразу же приметил в белградцах что-то очень импонирующее и не пренебрегал возможностью с ними пообщаться по любому поводу. Встретив на Аде Сиганлии белого как лунь уличного музыканта, игравшего на флейте одну за одной грустные мелодии, исполненные турецкой орнаментальностью и балканским фатализмом, он столь расчувствовался, что переложил ему в фуражку, не глядя, все имевшееся в кармане немалые наличные деньги.
Переехав день спустя в Черногорию и остановившись в Цетинье, они до ночи гуляли по беспорядочным древним улочкам «сербской Спарты», а Алексей, как зачарованный, долго прохаживался вдоль ограды Влашской церкви, скованной из трофейных стволов турецких ружей. В усыпальнице Николы Негоша Алексей рассказал Марии, что предпоследний русский император отчего-то называл черногорского князя своим «единственным другом», а также напомнил, что Милице Корьюс родители дали имя в честь дочери Негоша, вышедшей замуж за внука Николая Первого… «Кстати, чуть позже эта же Милица привела в царский дом Распутина!» — резюмировал он и замолчал, сам поразившись обилию исторических скрещений на столь крошечном пятачке.
Затем Мария убедила Алексея сходить поклониться древней реликвии, хранимой в Цетиньском монастыре. Ссылаясь на свою нерелигиозность, Алексей сперва не посчитал эту затею стоящей, однако после, задержавшись перед Иоанновыми перстами, которые крестили Иисуса, вернулся на улицу в задумчивой сосредоточенности. А на вопрос Марии о впечатлениях вдруг ответил с несвойственной торжественностью, что отныне он «в историчности встречи на Иордане двух пророков не сомневается».
Далее, как и было запланировано, их путь лежал в Дубровник, где на долгожданном морском берегу предстояло провести неделю или даже две. Оставив свой «Мерседес» на стоянке пансиона, расположившегося в чудном уголке старого города возле средневекового фонтана, они с упоением предавались пешим прогулкам, катанию на парусной лодке или просто час за часом проводили на пляже, наблюдая за играющими детьми и легко бегущими, словно волны беспечного сна, стрелками старых чугунных часов. Настоящий курортный сезон ещё не наступил, и город был свободен, чист и особенно приветлив. Цены повсеместно были сказочно низкими, а машины на улицах — непропорционально дорогими, что позволило Марии проницательно подметить обратную зависимость между уровнем достатка и обилием «мерседесов» на балканских дорогах — число последних возрастало по мере усиления «общей нищеты». Однако последнее наблюдение для хорошего и полноценного отдыха не имело никакого значения.
Алексей поймал себя на мысли, что за два минувших месяца он, пожалуй, впервые может позволить себе просто расслабиться и наслаждаться спокойной и солнечной жизнью, ни о чём не думая и ничего не остерегаясь.
Правда, эта расслабленность едва не сыграла с ним довольно нелепую шутку, когда погрузившись на катер, следующий на Локрум, уже после отплытия он удосужился прочесть, что расположенный там знаменитый пляж предполагает у своих гостей отсутствие всяческих одежд и покровов. Немедленно вспомнив огненную дунайскую ночь, устроенную Каплицким то ли во сне, то ли наяву, он громко и сердито закричал по-французски, что его ввели в заблуждение и ему необходимо вернуться. Юный губастый возница разворачиваться не желал, и Алексею пришлось, разыграв перед ним сцену пуританского гнева и всучив пятьдесят евро, под непонимающие взгляды остальных пассажиров добиваться безусловного выполнения своего высоконравственного требования.
В один из дней они выбрались на прекрасный, с зацветающими лавандовыми полями, остров Хвар. Расположившись в небольшом отеле и отужинав, Алексей задержался на веранде, чтобы выкурить по сигаре с новым соседом, испанским торговцем хересом. Когда же минут через пятьдесят он поднялся в номер, то застал Марию в необычном возбуждении.
— Смотри-ка, что я разыскала в интернете! — с ходу выпалила она. — Тебе это ничего не напоминает?
Алексей приблизился к экрану и увидел бледную размытую фотографию, на которой была изображена объятая огнём трубчатая «башня Татлина».
— Что это?
— Я не могу прочитать, сайт на французском…
Алексей немедленно приник к экрану.
— Это страница какой-то маргинальной газеты, — спустя короткое время дал он свои пояснения. — Судя по антуражу — французские новые левые, почитающие Троцкого и Мао… Но вот написано здесь — нечто! Смотри, перевожу дословно: «На последнем сборище панъевропейской банды ублюдков, мажоров и индюков — да, да, именно так, dindons[107], - на этом сборище, известном как Fuhrerakademie[108], в минувшую субботу была заживо кремирована Эмма Грюнвальд. Госпожу Грюнвальд считают одним из создателей и руководителей этого борделя, на протяжении последних пятнадцати лет рекрутирующего и поставляющего кадры для комиссий и транснациональных корпораций. Непонятно, что заставило эту особу, состояние которой, по слухам, превышает полмиллиарда евро, взойти на огненный эшафот — предательство подельников, болезнь или желание доказать что-либо из собственных принципов. Говорят также, что первоначально должны были сжечь другую женщину, однако та сбежала. Наш товарищ, тайно сделавший данное фото, сообщает, что кремация вызвала у собравшихся элитариев прилив вдохновения, и после её окончания, как обычно, владыки мира бодро причащались пеплом. Произошедшее с Эммой Грюнвальд для нас любопытно, но в сущности неинтересно, ведь мы не скорбим и не злословим, а готовим революцию». Хм… такой вот текст. И ещё в самом конце приписка: «L'emancipation de l'homme sera totale ou ne sera pas»[109].
Алексей замолчал. Не проронив ни звука и не шелохнувшись, Мария неподвижно смотрела в экран.
— Что ты думаешь об этом, Лёша? — ответила он наконец.
— Думаю, что всему написанному в этой газетёнке можно верить. За исключением революционного лозунга в конце.
— Ты вот всё шутишь, а разве тут до смеха?
— Неприятно, конечно.
— Да не в этом дело. Выходит, всё, что было с нами тогда — не гипноз?
— Выходит, что да. Но ты успокойся, это прошло и больше не вернётся. Миновало, как сон.
— Всё равно — мне как-то не по себе. Погиб человек. Это ведь не игрушки, Лёш!
— А ты хочешь сказать, что чувствуешь свою вину, что сгорела не ты?
— Да нет же! Но ведь они хорошо нас знают и могут теперь отомстить!
Алексей ненадолго задумался.
— Мстить? — ответил он затем с решительной твёрдостью. — Мстить? Нет уж, это скорее мы выведем их на чистую воду! Я всё думал, круглый я идиот, что они представляют собой тайные силы Европы, а это, оказывается, всего лишь секта! И пишут о них в своей газетёнке другие политические сектанты! Не надо их бояться, за такими ведь не стоит ничего серьёзного! Если что, я завтра же заявлю в полицию или расскажу обо всём прессе. Давай лучше спать.
И он демонстративно выключил верхний свет и улёгся на кровать. Ещё не вышедшая до конца усталость не замедлила сказаться — Алексей отключился практически сразу.
Утром, проснувшись немного раньше, чем должен был зазвонить будильник, он нашёл Марию безмятежно и крепко спящей рядом с собой. Стараясь не потревожить её сна, он отключил звонок и потихоньку поднялся. Однако взгляд сразу же привлёк вплотную придвинутый к кровати столик, на котором стояла почти опорожнённая бутылка коньяка из мини-бара.
Оставалось лишь надеяться, что запланированная на сегодня продолжительная морская прогулка наполнит сердце новыми впечатлениями и отвлечёт Машу от гнетущих воспоминаний. И прогулка в самом деле удалась. Небольшая и изящная яхта, управляемая немногословным пожилым шкипером, под спокойным и ровным береговым ветром быстро вырвалась в море и чуть подрагивая на прозрачной зыби, резво побежала по волнам. Пройдя маяк Милны, яхта взяла курс на юго-запад, где оставив позади остров Вис, устремилась в открытый морской простор. Крепнущий бриз освежал, дарил бодрость и звал в дорогу. Лёгкие белоснежные облака, набегающие с берега, постоянно меняли картину неба и казалось, время от времени выжимали из солнца жаркие лучистые брызги. Пели паруса и звенела вода, закручиваясь под свесом кормы. На протяжении нескольких часов Мария самостоятельно простояла у штурвала, а Алексей, откинувшись на палубе перед рубкой, наслаждался симфонией из миллионов голосов, исходящих от воздуха и моря и щедро резонируемых в глубине его повеселевшей и отдохнувшей души.
Ближе к вечеру, уже на подходе к порту, Алексей неожиданно поинтересовался у шкипера, отчего все закаты, которые они наблюдали в последние дни, проходят в преобладании пурпурного цвета, и возможно ли увидеть гаснущее солнце в оттенках сирени или ультрамарина. Привыкший к самым неожиданным вопросам отдыхающих, шкипер широко улыбнулся и сообщил, что цвет заката в этих местах зависит от определённого типа погоды, которая не менялась уже долгое время. Однако со дня на день необходимая перемена, по его мнению, должна состояться.
Но на следующий вопрос Алексея о том, может ли закатное небо окрашиваться в цвет лазури, шкипер ответить с хода не смог. Подумав некоторое время, он сказал, что лазурь — это цвет прежде всего зари утренней, а не вечерней, и потому она вряд ли может быть обнаружена в часы заката.
Но Алексей не унимался — поведал про старинную открытку, утверждавшую, что подобное всё же происходит. В ответ шкипер покачал головой, однако допустил, что лазоревые сумерки возможны в качестве редкого и исключительного явления. Например, если предстоящий восход утреннего светила ожидается столь ярким и бурным, что его предчувствие волшебным образом передаётся и отражается на вечерних небесах.
Проведя на Хваре ещё почти весь следующий день, Алексей с Марией поздней ночью вернулись в Дубровник. Встав к обеду, они отправились позагорать несколько часов на пляже, чтобы уже оттуда, ближе к вечеру, отправиться на прогулку в горы. Где-то там, в одной из затерявшихся деревень, им предстояло разыскать таверну, знаменитую блюдами из запечённой козлятины.
Но едва они отъехали от пляжной стоянки, как Алексей внезапно остановил автомобиль возле полицейского участка и сославшись на необходимость что-то купить на улице, попросил Марию немного его подождать. Возвратившись спустя минут десять или пятнадцать, он молча проехал несколько поворотов, затем снова остановился и заявил неожиданное:
— Маша, мы возвращаемся в Москву!
— Как возвращаемся? Что стряслось? — она отказывалась верить своим ушам.
— Твои страхи оказались не беспочвенны. Они, — он произнёс это слово с особенным ударением, — они нас нашли.
Мария с изумлением и нарастающим страхом в глазах взглянула на Алексея. Но уже спустя несколько секунд, сопоставив его слова с повсеместно царящей безмятежностью сонного курорта, заявила серьёзно и даже обиженно:
— Отчего ты так решил? Разве для этого имеются основания?
— Увы, имеются. Утром в пансионат приезжала полиция — оказывается, ночью вскрыли машину молодой бельгийки с двумя девочками, что живет в соседнем от нас коттедже.
— Ну и что! Обычные воришки…
— Думаю, что не совсем обычные… У бельгийки такой же зелёный «Ситроен», что был у нас в Нижней Австрии. Кроме того, они ничего не взяли.
— Глупости. Просто совпадение. Да и бельгийка та — прирождённая мымра, всё ценное всегда забирает и носит с собой в бауле, я видела.
— Возможно. Но только как ты посмотришь на то, что в нашем номере в данный момент находятся непрошенные гости?
— А ты что — туда заходил?
— Разумеется, нет. Однако прошёлся со стороны сада. Так вот, окно нашей гостиной приоткрыто. Если ты помнишь — я заклеил скотчем дымовой датчик в номере и прилично там накурил, а перед уходом специально не стал проветривать, чтобы с улицы не застукали… Так вот, сейчас окно приоткрыто. И ещё какая-то тень за стеклом мелькнула, хотя, возможно, мне и показалось.
— Горничная могла зайти…
— У горничной рабочее время заканчивается в обед. Тем более она сама попрощалась с нами, когда мы двигались на пляж и сказали её, что сегодня можно не убирать. Нет, Маша, тут что-то не так…
— Зна-чит, — потупив взор, Мария вновь сделалась грустной и стала медленно проговаривать по слогам, — зна-чит, нам на-до уезжать?
— К сожалению.
— А ты не мог чрезчур перестраховаться? Вдруг всё то, о чём ты говоришь, — просто совпадение?
— Совпадение, но только другого рода. Вспомни ещё — когда нам, припозднившимся, приносили завтрак, в пустом ресторане ошивался какой-то тип.
— Да, помню, конечно, но что в том такого?… Может — просто меню посмотреть зашёл.
— Я бы тоже желал думать так же. И даже когда мне показалось, что от этого типа пахнуло тем же лекарством неуловимо, что когда-то от Эммы, — я был уверен, что обознался. Но теперь, как видишь, совпадений сделалось слишком много.
— А как же наши вещи в номере? Давай вызовем полицию!
— В таких переделках от полиции мало толку. Но ты не волнуйся, наши вещи я ещё утром перенёс в машину.
С этими словами он вздохнул, с резкостью тронул руль и выехал на проезжую часть. Однако прежде чем выбраться из Дубровника на загородную трассу — словно на прощание Алексей сделал ещё несколько кругов и замысловатых зигзагов по старинным узким улочкам.
— Отсюда сегодня вечером улетает самолёт в Москву, но на местном аэродроме, скорее всего, нас уже ждут, — продолжил он рассудительным и спокойным голосом. — В Загребе, уверен, — то же самое. Так что придётся разворачиваться и возвращаться в Белград.
— В Белград — так в Белград! А когда это, Лёш, ты научился быть таким осмотрительным? — ответила Мария и тотчас же улыбнулась столь очевидному и неуместному вопросу.
Большую часть вынужденного возвращения в Белград, растянувшегося почти на шестьсот километров, они ехали молча. Несмотря на скверные дороги, Алексей гнал «Мерседес» на пределе возможного, нервно обгоняя неторопливые грузовики. Было печально и грустно не столько из-за потерянных прекрасных дней отдыха, сколько из-за мрачной и глухой угрозы, возникшей неожиданно и вопреки всем их помышлениям и действиям, которые всегда оставались благожелательными для окружающих.
Привыкший с юношеских довоенных лет относиться к встречающейся в жизни несправедливости без излишнего сердцебиения, Алексей тем не менее сильно волновался за Марию, для которой её беспричинная виноватость и факт превращения в опасного свидетеля, грозящие отныне непредсказуемыми последствиями и вынуждающие уносить ноги из этих прекрасных и уютных мест, могли оказаться переживаниями нестерпимыми и губительными. И лишь убедившись, что она отлично держит эмоции под контролем и не прочь пошутить или мирно подремать, особенно когда на горных серпантинах начинало закладывать уши, то от сердца отлегла целая тяжесть.
Миновав черногорский Херцег Нови, забираясь в горы и всё увереннее принимая направление на восток, Алексей не мог не обратить внимание на то, как в кабину через заднее стёкло ударил низкий солнечный луч. Он пробился через фиолетовые облака, хмуро сгрудившиеся над морем, и поэтому имел необычный тёмно-лиловый оттенок. «Вот и не увидал я лазоревого заката над Адриатикой, — вспомнил он про столь запавшую в его детскую душу белогвардейскую цветную открытку, когда-то привезённую из загранкомандировки отцом. — Теперь, буду надеяться, в следующий раз…»
Дальнейшая дорога до Белграда оказалась тяжёлой и заняла более двенадцати часов. Зато уже утром они приобрели билеты и регистрировались в белградском аэропорту, а «пятичасовой чай» пили в старой наркомовской квартире на Патриарших, совершенно не представляя, что и как они будут рассказывать о своих приключениях московским друзьям и будут ли делать это вообще.
А из серебряной конфетницы выглядывала небрежно извлечённая Алексеем из кармана удивительная банковская карточка, открывающая доступ к неисчислимому и невероятному богатству.
Если, конечно же, это богатство не погубит их самих.
Конец первой книги
Примечания
1
вспомогательный (добровольный) помощник (нем.)
(обратно)2
легендарное разведывательно-диверсионное соединение, созданное в первые же дни войны. Бригада формировалась из кадровых разведчиков, спортсменов, представителей творческой интеллигенции и иностранцев-иммигрантов (прим. авт.)
(обратно)3
Московский институт философии, литературы и истории — в период с 1931 по 1941 гг. ведущий гуманитарный вуз в СССР. Был выделен из Московского университета и затем вновь включён в его состав (прим. авт.)
(обратно)4
И был зарублен тобой на рассвете (нем.)
(обратно)5
«Тошнота» (фр.)
(обратно)6
пока живешь, ничего не происходит (фр.)
(обратно)7
меняются декорации (фр.)
(обратно)8
И это отныне будет моей главной задачей в Москве (фр.)
(обратно)9
Чайковский круче Вагнера (англ.)
(обратно)10
«Немецкое еженедельное обозрение» — пропагандистский киножурнал в гитлеровской Германии (прим. авт.)
(обратно)11
посол СССР в Германии в 1939–1941 гг. (прим. авт.)
(обратно)12
РОВС — Российский Общевоинский Союз, правопреемник белогвардейских Вооружённых сил Юга России, — наиболее непримиримая к СССР организация эмигрантов, в годы войны активно сотрудничавшая с гитлеровцами (прим. авт.)
(обратно)13
Ю. Гужон — крупный российский промышленник, владелец металлургического завода в Москве, известным в последующем под названием «Серп и Молот». Был убит осенью 1918 г. офицерами белогвардейской Добровольческой армии на своей даче в Крыму (прим. авт.)
(обратно)14
чин сотрудников гитлеровской тайной полиции — гестапо, соответствующий майору (прим. авт.)
(обратно)15
А. Петэн — глава формально независимой от Германии южной части Франции, которая была оккупирована гитлеровцами лишь в конце 1942 года (прим. авт.)
(обратно)16
пушечным мясом (фр.)
(обратно)17
Жак де Моле — последний великий магистр Ордена тамплиеров. Знаменитый разгром Ордена завершился его сожжением на костре 18 марта 1314 г. (прим. авт.)
(обратно)18
Банк международных расчётов (фр.) — первый в истории международный банк, созданный по инициативе Лиги Наций в 1930 г. Штаб-квартира размещена в швейцарском Базеле По сей день этот банк считается одним из наиболее закрытых финансовых учреждений, он освобождён от уплаты налогов и располагает собственной разведывательной службой (прим. авт.).
(обратно)19
Р. Фальер — президент Франции в 1906–1913 гг, известен своим происхождением из бедной рабочей семьи (прим. авт.)
(обратно)20
французский государственный банк развития, созданный в 1816 году (прим. авт.)
(обратно)21
Эммануил Людвигович Нобель (1859–1932) — один из ведущих российских промышленников и инноваторов, возглавлявший крупнейшую нефтяную компанию своего времени — «Товарищество братьев Нобелей», завод «Русский дизель» и др. Являясь родным племянником знаменитого Альфреда Нобеля, Э. Л.Нобель родился в Санкт-Петербурге и имел российское подданство. Покинул Россию после 1917 года (прим. авт.)
(обратно)22
Абрам Соломонович Залманов (1875–1965) — известный российский врач, после революции некоторое время лечивший В. Ленина. В 1921 г с разрешения последнего выехал за границу. Во время войны проживал в оккупированном гитлеровцами Париже (прим. авт.).
(обратно)23
в годы нацизма — созданная под патронатом министра вооружений Ф. Тодта «трудовая армия», в которую первоначально вербовались вольнонаёмные рабочие и инженеры для трудоустройства в военной промышленности Германии, а в последние годы войны направлялись военнопленные (прим. авт.)
(обратно)24
речь идёт об обороне Бельфорской крепости во время франко-прусской войны 1870–1871 гг., которой руководил полковник П. М.Данфер-Рошро. Впоследствии он стал национальным героем Франции, ему установлен памятник на названной в его честь площади в Париже, выполненный в виде возлежащего льва (прим. авт.)
(обратно)25
дамой полусвета (фр.)
(обратно)26
моя дорогая (фр.)
(обратно)27
бизнесу (нем.)
(обратно)28
речь идёт о банкнотах в 500 и 1000 рейхсмарок, введённых в обращение после прихода к власти нацистов в 1934 г. (прим. авт.)
(обратно)29
с Божьей помощью! (старинный возглас при отправлении корабля) (фр.)
(обратно)30
врагов народа (фр.)
(обратно)31
расслабься и получай удовольствие (англ.)
(обратно)32
извините меня, мадам, но в вашем взгляде больше зависти, чем недовольства (фр.)
(обратно)33
нет, это совсем не то, что мне необходимо (фр.)
(обратно)34
вся жизнь состоит из проклятых вопросов (фр.)
(обратно)35
«Я не люблю тебя одетой — // лицо прикрывши вуалеттой // затмишь ты небеса очей» (П. Верлен, пер. Ф. Сологуба)
(обратно)36
я не могу назвать вам свой возраст, поскольку он меняется со временем (известный афоризм А. Алле) (фр.)
(обратно)37
Альфонс Алле знал толк в этих вопросах (фр.)
(обратно)38
Он только забыл сказать, что часы однажды остановятся… (фр.)
(обратно)39
И в то же время он справедливо утверждал — никогда не откладывай на завтра то, что можно сделать послезавтра! (фр.)
(обратно)40
Браво! И после всего этого вы скажете, что вы равны другим? Девушки знают, кому строить глазки! (фр.)
(обратно)41
Сегодня мы расстанемся, // Сегодня мы разойдёмся // Навсегда (польск.)
(обратно)42
кто знает? (польск.)
(обратно)43
милостивая госпожа (фр.)
(обратно)44
положение обязывает (фр.)
(обратно)45
помню твои глаза (польск.)
(обратно)46
короткие разговоры (фр.)
(обратно)47
Einsam in truben Tagen hab ich zu Gott gefleht («Богу я раз молилась, плача одна в тиши…» (нем.)) — начало арии Эльзы из оперы Р.Вагнера «Лоэнгрин» (прим. авт.)
(обратно)48
Как странно!.. как странно!.. Его слова запали глубоко в моё сердце… Неужели может сулить несчастье настоящая любовь? Что ты решишь, моя взволнованная душа? (итал.)
(обратно)49
Безумство!.. безумство!.. (итал.)
(обратно)50
хорошая мысль (фр.)
(обратно)51
великолепно! (фр.)
(обратно)52
выписка из отеля (англ.)
(обратно)53
Национальный банк Швейцарии (фр.)
(обратно)54
французский государственный банк развития, созданный в 1816 году (прим. авт.)
(обратно)55
природным распорядителем (фр.)
(обратно)56
королевская кровь (фр.)
(обратно)57
чепуха (фр.)
(обратно)58
это пройдёт (фр.)
(обратно)59
русской богине (итал.)
(обратно)60
высокой кухни (фр.)
(обратно)61
обеденного перерыва (фр.)
(обратно)62
во имя Отца и Сына и Святого Духа (лат.)
(обратно)63
«Исключительно состоятельные персоны» (англ.) — обозначение, считающееся статусно более высоким, чем VIP (прим. авт.)
(обратно)64
природным распорядителем (фр.)
(обратно)65
Видел я рабов на конях, а князей ходящих, подобно рабам, пешком (лат.)
(обратно)66
мой друг (фр.)
(обратно)67
живыми деньгами (англ.)
(обратно)68
С вами всё в порядке? Вам помочь? (фр.)
(обратно)69
Нет, со мной всё хорошо (англ.)
(обратно)70
Художественно-исторический музей Вены (прим. авт.)
(обратно)71
буайбес, или марсельская уха (фр.)
(обратно)72
шницель с сыром (фр.)
(обратно)73
основное блюдо (фр.)
(обратно)74
Пока живешь, ничего не происходит (фр.)
(обратно)75
У моей дочери обморок! Помогите ради бога отвезти её к врачу! Врач находится в Ставке управляющих в километре от этого места! (исп.)
(обратно)76
Святая Вероника, спаси моё сердце (исп.)
(обратно)77
«ставку управляющих» (исп.)
(обратно)78
хозяев бала (фр.)
(обратно)79
Хочу, следовательно существую (лат.) — тезис французского философа Мэн де Бирана, оспаривающий классическое утверждение Р. Декарта Cogito ergo sum — «мыслю, следовательно существую».
(обратно)80
Вы прибыли из России или Польши? (нем.)
(обратно)81
Маршируйте с нами! (нем.)
(обратно)82
Следуй за мной, Мария! (фр.)
(обратно)83
носит обычную, а не специальную одежду (англ.)
(обратно)84
Не увидеть, а прочувствовать! (фр.)
(обратно)85
общественное благо (фр.)
(обратно)86
импотенции (фр.)
(обратно)87
не стесняйтесь! (фр.)
(обратно)88
в задницу! (фр.)
(обратно)89
ночного праздника (фр.)
(обратно)90
легендарная битва олимпийских богов с титанами, изображенная на алтаре древнегреческого храма Зевса в Пергаме (прим. авт.)
(обратно)91
ночи ведьм (фр.)
(обратно)92
вольно! (нем.)
(обратно)93
разойтись! (нем.)
(обратно)94
незадачливые любовники (фр.)
(обратно)95
…и кроме того, она обозвала меня престарелым морским огурцом! (англ.)
(обратно)96
Та нимфа, что посередине, — весьма хороша (фр.)
(обратно)97
C вами всё в порядке? (англ.)
(обратно)98
Всё в порядке (фр.) Где мы находимся? (нем.)
(обратно)99
Поляна Прощания (нем.)
(обратно)100
Огнеопасно. Бутан. (англ.)
(обратно)101
ничего не кладите! (нем.)
(обратно)102
почему? (нем.)
(обратно)103
С Богом!
(обратно)104
S-класса (нем.)
(обратно)105
широко используемое в христианском богослужении Славословие Девы Марии, в русском синодальном переводе: «Величит душа моя Господа…» (прим. авт.)
(обратно)106
Низвергнет правителей с тронов и возвеличит кротких (лат.)
(обратно)107
индюки (фр.)
(обратно)108
академия вождей (нем.)
(обратно)109
освобождение человечества будет всеобщим, либо не наступит вовсе (фр.)
(обратно)


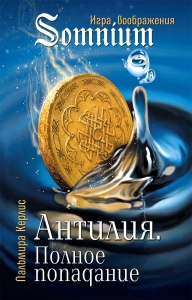










Комментарии к книге «Вексель Судьбы. Книга 1», Юрий Анатольевич Шушкевич
Всего 0 комментариев