Александр Холин Адамантовый ирмос, или Хроники онгона Криптографический приключенческий роман
Немногие люди могут сказать о себе, что они свободны от веры в то, что этот мир, который они видят, не является в действительности плодом их воображения. Если это так, довольны ли мы им, гордимся ли мы им тогда?
Айзек ДинесонПусть в этой сказке тебе откроется моя нелюбовь к игре светотени и желанность для меня ясного, тёплого и всепроникающего Эфира.
НовалисВсе права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.
©Электронная версия книги подготовлена компанией ЛитРес ()
Пролог
Мы, каждый день, сталкиваясь с ангелами, не знаем даже кто они, откуда и не является ли любой из них плодом нашего воображения? Конечно, не верить – легче, мол, меня умного ничем не обманешь! Или: этого не может быть, потому что не может быть никогда! А почему, собственно, не может?
Само название романа – Адамантовый ирмос или хроники онгона – дословно переводится как «Бриллиантовое песнопение или хроники адского пламени». Может ли церковное песнопение состоять из алмаза? И может ли оно сверкать адским пламенем, например, во время литургии? Весь вопрос в том, под каким ракурсом на это посмотреть. Ведь давно известно, что адское пламя очень часто сжигает человека изнутри. С одним христианским священником такое произошло как раз во время Богослужения.
Человеку всегда приятнее оказаться самым умным, самым главным, самым себялюбивым в подлунном мире. Но от фактов никуда не денешься. Далеко ходить не будем. Россия всегда была странноприимной страной, богатой Екклесиастами,[1] чудесами, умами и настоящим человеческим альтруизмом, чуждым зарубежным странам, особенно в настоящее время.
Итак, что же нам сообщает госпожа История?
Много нашествий перенесла Русь, но заглянем в не такое уж далёкое время.
В начале XIX века известный многим император Наполеон шибко раскатал губы на гиперборейскую кладовую природных ресурсов. Тем более, что один из французских учёных, посетивших Россию в поисках легендарной Ариан Вэджи – потустороннего города нибелунгов – наткнулся на сказочный Аркаим – столицу царства Десяти Городов, где в архивных документах, имеющихся на руках французов, говорится об этом гиперборейском городе, как о входе в Шамбалу.
Известно также, что человек, получивший разрешение на вход в Зазеркалье и побывавший в Шамбале, получит власть над всем миром. Не эта ли заманчивая идея повлекла Наполеона в Россию? Но императору, победившему русское войско, оккупировавшего столицу, не повезло. Сама Богородица явилась к Наполеону со скромным советом не трогать Русь и убраться восвояси.
Император, хоть и слыл среди французов величиной не робкого десятка, только с потусторонними силами воевать был не готов, поэтому в то же утро французские войска в панике оставили Москву под адамантовый ирмос Богородицы.
Лишь корсиканская мстительность всё же не дала Наполеону убраться без скандалов. В Кремлёвских подвалах «лягушатники» заложили множество бочек пороха – чтобы получилось этакое публичное хлопанье дверью на прощание. Как ни странно, этого не свершилось. Французские бомбардиры не смоги взорвать ни одной бочки. То есть адское пламя не смогло сожрать Кремль под покровом Царицы Небесной.
На этот историко-биологический артефакт нигилистические материалисты тут же сочинили многомудрые объяснения, не выдерживающие никакой критики.
Переселимся немного поближе, в двадцатый век. Фашисты в 1941 году рвались в ту же Москву, с конкретной установкой командования – взять столицу любой ценой. Об этом стало известно Джугашвили-Сталину-Кобе, который сам готовил нападение на Германию и никак не ожидал, что партайгеноссе Гитлер его опередит. Сталина выручило, что в юные годы он два года учился в семинарии, и худо-бедно был знаком с энергетикой Космоса, доступной только Проповедникам.
Несмотря на то, что Джугашвили-Кобу выгнали из семинарии за воровство и, казалось бы, любая церковь вождю противопоказана, у него хватило ума отыскать в Донском монастыре блаженную Матронушку, московскую пророчицу.
Видя, что пособник Антихриста пришёл с поклоном, Матронушка успокоила будущего генералиссимуса тем, что Богородица не допустит врага в столицу. Надо только икону Владимирской, которую писал евангелист Лука, трижды обнести вокруг Москвы, хоть на самолёте. Вдобавок к этому необходимо открыть все московские храмы, где священники должны читать неусыпную Псалтирь.[2] Требование было исполнено, что послужило помощью почти безоружным двадцати восьми Панфиловцам удержать танковую дивизию…
С чудесами мы сталкиваемся каждый день, только не желаем ничего видеть, мол, не может быть ничего такого, чего человек объяснить не в силах. И всё же доступ к энергии Космоса люди чувствуют. Особенно из мирских людей к этому расположены писатели, музыканты, поэты, художники. Просто потому, что с параллельным Зазеркальем у них более короткая связь, благодаря духовному таланту.
Почему это так – никто до сих пор ответить пока не мог, но эта книга, может быть, приоткроет завесу Истины, недоступной пониманию человека. Кстати, курсивом здесь отпечатаны чудом уцелевшие цитаты из давно сгоревших романов.
Глава 1
Тяжёлые, плотные, налившиеся маслянистой сажей августовские тени прыгали по стенам, пытаясь иногда подкрасться сзади и цапнуть за спину свежезаточенными лаковыми когтями. По телу пробегали суетливые мурашки, вспыхивающие мёртвым ледяным прикосновением. Жёсткий геометрический узор теней вместо того, чтобы скрыть, яснее выделял и очерчивал стоящую в комнате ширпотребовскую стенку из древесных опилок и стружек, да диван карельской берёзы, матовым проблеском разрывающий объятия теней.
Там, в дальнем углу, сиротливо прикорнул ещё телевизор, вроде бы японский, а, значит, с запредельными нерусскими наворотами, но он был повёрнут мордой в угол – общение с ним вносило дисгармонию в тихую жизнь дачи. Сам «японец» ни в чём не провинился, а вот его коллеги – ведущие телепрограмм – всласть набедокурили, так как весь свой талант отдавали на добровольное одурачивание телезрителей. Что поделаешь, так положено. А что, где положено? И кем? Неужели нашему правительству важна поголовная деградация населения? Неужели русскому – русскому? – правительству удобней царствовать в стране дураков?
Вполне возможно, что это именно так, потому что если голова «дурака» пухнет от новостей с чечено-грузинского фронта или сознанье направлено на поиски международных террористов, а вдобавок к этому московские власти напустили в столицу столько чечено-азербайджанского ворья, угодного достославному мэру, то полу-умному остаётся только слушать приказы и выполнять кем-то принятые решения.
Возле пылающего камина стояли два разухабистых кресла. Несмотря на выпирающие от времени там и сям пружины, кресла умудрились остаться мягкими и уютными, за что при вселении в гостиную всенародно были объявлены каминными. В основном мебель на даче собралась покладистая. Проблему составлял только антикварный, весь в деревянных резных рюшечках, секретер.
Но с ним даже краеугольные тени не желали связываться, поскольку именно его деревянная утроба несъедаемо хранила рукопись недавно законченного романа, который несколько раз уже переписывался и однажды чуть не был сожжён… в пылу, так сказать. По счастью огню тогда пообедать не удалось, потому что всё обошлось без лишних жизненных выкрутасов. Рукопись по-прежнему дожидалась своего часа то ли сожжения, то ли издания в лакированном брюхе деревянного задаваки-секретера, который всем видом своим показывал, что без него тут не обошлось, и сгорела бы, может, не только рукопись, кабы не он.
Пожилая яблоня, давно уже переставшая плодоносить, скреблась в окно, словно просясь обогреться в этот неприкаянный, не по-летнему холодный вечер. И этот скрип когтями яблони по стеклу раздавался в темноте, как пророчества садового Екклесиаста, то есть проповедника. Казалось, дерево хочет привлечь к себе внимание хотя бы тем, чтобы оторвать хозяина дома от слишком опасной беседы с огнём.
Никита сидел у камина и отрешённо бросал в огонь исписанные листы. По одному. Он, словно видавший виды классик, сжигал очередное только что законченное произведение, поскольку многие из классиков когда-нибудь обязательно сжигали свои опусы. Какой же он, Никита, писатель, ежели не предаст огню рукопись? И уж тем более никогда не станет классиком, ежели не сожжёт какую ни на есть писанину, которую должен подарить огню вместе со своей кровью. Собственно, огонь о всяческих сожжениях рукописей давно знал, не знал только сам писатель.
От сожжённой бумаги по всей даче гулял сиротский дух разбитых мечтаний, пережитых юношеских надежд и неудовлетворённого тщеславия, от которого почему-то несло осенней Ригой: где остывшие за лето печи сначала никак не могут напитаться горделивой горячностью, и сеют вокруг горечь уходящего лета, а, может, и всей жизни.
Очередной листок с прыгающими по нему буквами, похожими на мелких чёрных блох, задержался в ладони Никиты. Другой рукой он машинально пригладил вечно растрёпанный хаер[3] и поскрёб небольшую аккуратную бородку. Прошлое! Какое же оно всё-таки цепкое и не желающее освободить память от воспоминаний. Снова эти воспоминания заискрились в памяти, как вылезший из пепла Феникс. Всё же строки стоили того, чтобы их не приговаривать к сожжению, однако Никита уверенно бросил стихи вслед уже превратившимся в пепел.
Сегодня ночью плавился асфальт и заливались в рощах соловьи. И током в миллионы киловатт пронзило воздух с неба до земли. Я задрожал, как баба на сносях, как путник, замерзающий в пургу. А ночь к рассвету мчалась на рысях, и как с любимым пряталась в стогу. Кружа в спиралях наших мелодрам, сорвав ромашку – быть или не быть? — я за одну тебя, мой друг, отдам всё то, что доводилось мне любить. Сегодня ночью плавился асфальт, и клещи фар крошили сноп теней. А где-то в будущем неотвратимый альт наигрывал мелодию огней.Надо же! Это писалось когда-то совершенно искренне! А почему нет? Кому как не автору знать истинную цену тому, когда действительно готов отдать все существующие и не существующие сокровища за одну только улыбку на милом лице? Что значат все купленные за деньги ласки против одного нечаянного касания руки? Тем более, что в нежном возрасте человека много больше интересует именно улыбка милой, чем мешки с деньгами. Её сверкающие любовью и восхищением глаза, ни с чем несравнимое ощущение полёта, когда физически чувствуешь потоки воздуха, клубящиеся по соседству облака. И радость! Радость, которая тут же разливается тонкой плёнкой над поверхностью планеты, даря всему живому такую же неумирающую силу жизни, любви и полёта.
Только тогда человек по-настоящему понимает, что жить всё-таки стоит! Это не просто интересно, а необходимо. Ведь именно тогда ты сможешь исполнить то, что умеешь, на что способен и для чего пришёл в этот колючий не всегда приветливый мир.
Причём, сами стихи тоже не могли прийти ниоткуда. Почему-то верилось в эти слова, как в аксиому, как в завтрашний день, как в будущую весну. Но что вся эта вера в дни, вёсны, в аксиомы, когда не только в стихах, но и в прозе сквозило неуловимое косноязычие, и не обозначилось ни крупицы любви, бушевавшей тогда в сердце поэта. Именно это чувство он испытывал когда начинал парить над землёй во сне, если это состояние можно назвать сном.
В полёте любовь и радость жизни никогда не покидали Никиту. А вот при перенесении на бумагу происходило какое-то неуловимое одурманивание, будто рядом с письменным столом примостился казённый чиновник и начинал запудривать мозги тем, что положено и покладено, что выглядит нехорошо, некультурно и не надо такими мыслями делиться ни с кем – сам посуди, что люди подумают?!
Вот это неуловимое косноязычие завоёвывало душу по всем фронтам и не думало сдаваться. Вернее, очень даже уловимое! Ведь косность языка всегда проявляется там, где нет ни крупицы чистой безраздельной любви, то есть, исчезает полёт, пропадает радость бытия и чувства. Поэт и писатель уже не чувствует, что может сделать что-то очень важное и нужное для окружающего мира. А без этого полёта всё написанное и даже изданное – просто ложь.
Если бы! Если бы переступить ту грань деланности, сковывающую слова, не дающую развернуться сюжету, превращающую в мёртворожденного любой персонаж, осмелившийся вылепиться из густых, похожих на жидкий пластилин чернил.
Иногда наступала эйфория: казалось, что слова выстраиваются в рисунок, известный только им одним, а писатель присутствует при этом, как сторонний наблюдатель. Всё происходило так плавно, так легко, будто слова ждали, чтобы Никита взял авторучку и принялся выстраивать их на бумаге, цепляя одно за другое, соединяя в гирлянды, в звенящие мониста, любуясь и забавляясь сделанным.
Вдруг из этого фейерверка возникал вполне зримый человек, настоящий герой романа, который вначале неуверенно, но потом всё более азартно начинал помогать автору, подсказывая варианты, ситуации, даже линию сюжета. Он успевал подружиться со своим творцом, поскольку творил и сам. А когда наступало утро, Никита перечитывал ворох исписанных листов, и его недавний друг выползал оттуда на негнущихся ногах, опираясь на скрипучий костыль, глядел мутным, стеклянным глазом, будто спрашивая:
– Чё уставился? Всё путём. Лучше покемарь с устатку.
И это было просто невыносимо.
А стихи? У них ещё более одиозная биография. Они приходили, прилетали, – точнее, налетали, захватывали целиком, с потрохами и без. Голова кружилась, как осенний лист в октябрином танго, сознанье поражали запахи ещё никогда ранее неизведанные, но всё это быстро исчезало, и если ничего не успел ухватить – никто в этом не виноват, твоя проблема. Никита начинал лихорадочно строчить, выписывался, выкладывался и… и падал, как выжатый лимон.
Ради кого? Ради чего? Кому это всё нужно? Талант, Божий Дар, Судьба, Творческий Путь – всё это бред авантажных дамочек, для которых собственные глаза превратить в квадратуру круга – составляет чуть ли не высший смысл Жизни! А заодно с таинственными глазами надо обязательно сообщить собеседнику страшным шёпотом о творческом успехе, который даётся… здесь желательно пальцем указать место, откуда приходит сила Творчества.
Никита, держа в руках очередной лист, покачал головой. Вот и это стихотворение писано… А не всё ли равно кому? Он давно уже хотел забыть девушку, вынырнувшую из подсознания, навсегда расстаться с ней, даже прогнать назад в Зазеркалье. Но вдруг выныривало откуда-то посвящённое ей стихотворение или неизничтоженная фотография, или…
Писатель резко встал, подошёл к пузатому секретеру, вытащил из его вместительных глубин плюшевого зайца – самая любимая игрушка удивительной девушки, предмета первой любви, оставшейся в юношеском прошлом. Нет, она вовсе не покинула этот мир, покинутым остался только Никита.
И в память ему был оставлен игрушечный зайка.
Странно устроена именуемая «лучшей» половина человечества нашей планеты: девчонки играют в куклы до седых волос. Вот и эта игрушка – напоминание чего-то отжитого, нереального, несуществующего. Женщины всегда бывают больше опасны, чем полезны.
Давно надо было распрощаться с этим зайцем, пока жена не увидела. Зачем смущать и обижать человека, который тебя любит, который не заслужил обид? Ведь обидеть можно легко, но, сколько не склеивай разбитую чашку, она так и останется разбитой, сколько не связывай верёвочку, она так и останется с неприятным царапающим узелком. К тому же, уходя – уходи, потому что в одну реку дважды никто не входит.
Никита прислушался. Нет, всё тихо. Даже пара сосен у крыльца не скрипела, как обычно. Сосны проделывали это всякий раз, когда принимались размышлять про собственную жизнь. Хвойные весталки, вечно недовольные тем, что меж ними натянут гамак, жаловались на хозяев неизвестно кому, мечтая получить хотя бы деланное сочувствие. Радовались бы лучше, потому как, ежели не гамак, то прямым ходом в камин.
На участке были, конечно, и другие сосны, но те не лезли прямо к дому, а скромно кучковались поодаль. За ними, словно тать, притаившийся в кустах, гнездились дачи старых большевиков, которые следили за сосновой соседской порослью, дабы не опоздать на поживу, когда хозяин сосен задумает их порубать.
Собственно, большевиков-то никаких в дачах давно не было, но этот район в подмосковном Кратово до сих пор величают посёлком Старых большевиков. Очень живуча ностальгия по советской элите. Впрочем, Никита, как никто, имел отношение к настоящим старым большевикам. Что ни говори, а от прошлого не отказываются. Всё касалось опять же прошлого.
Одна бабушка у него была из уральских крестьян, то есть советской колхозницей, не видавшей за всю свою полезную трудовую жизнь ничего, кроме родного колхоза, находящегося под старорусским городком Кунгуром, прославившимся на всю Россию своей огромной пещерой, не исследованной до конца, да ещё аномальным пятном похлеще Бермудского треугольника. Об этом вообще старались не говорить ни местные жители, ни приезжающие важные учёные. Но, как говорится, шила в мешке не утаишь.
А вторая бабуля… Со второй бабушкой выходило сложнее. Она была прямой дочерью столбового дворянина, полковника царской армии, перешедшего на сторону красных. Только зачем красным понадобился штабной офицер совсем не пролетарского происхождения? Мало ли что он воевал за красных, не лучше ли будет вообще от такого избавиться?
Есть человек, есть проблема, а нет человека, нет проблемы – так вслед за Лейбой Бронштейном принялись повторять все, кто хоть немного получал реальный доступ к власти. Этот аргумент перерос в аксиому. И бывшие «свои», переметнувшиеся на сторону красно-еврейского будущего, не щадили никого: зачем брать обузу в светлое социалистическое завтра и давать жизнь чужому, не желающему жить по-новому? Генерал Каледин также не щадил красно-еврейское быдло, а тем более офицеров царской армии, переметнувшихся на сторону большевиков. Русский офицер не понимал и не принимал флюгерную систему изменения взглядов, несмотря на то, что красные жидо-масоны обещали светлое коммунистическое будущее.
– Господин генерал! Господин генерал! Ваше превосходительство! – голос вестового у крыльца взбудоражил утреннюю тишину, мигом испарившуюся, словно песня жаворонка. На смену ей пришёл тревожный куриный переклик, заливистый цепной лай и шумные крупнорогатые вздохи придворной скотины. На крик из избы выскочил адъютант.
– Чего орешь, болван! Их сиятельство отдыхают.
– Дык красного взяли! С девчонкой! – не унимался вестовой. А конь, с которого он не думал спрыгивать, переступал с ноги на ногу, всхрапывал, косил красным глазом, даже пытался заржать, поддерживая рулады скотного двора.
– Какая девчонка? Ты что мелешь? – снова прикрикнул на вестового адъютант.
– Дык вона, ведут их! – снова гаркнул вестовой. – В расход не стали, дык офицер он боевой.
В конце улицы показались солдаты в коротких овчинных полушубках, из-под которых выглядывали синие суконные галифе с широкими красными лампасами. Казаки конвоировали высокого человека в длинной офицерской шинели без погон, на фуражке вместо кокарды темнело овальное пятно. Руки у него были связаны за спиной тонким сыромятным арканом, а рядом семенила девочка в заячьей шубке и таком же меховом капоре, испуганно оглядываясь на солдат.
Процессию догнал верховой хорунжий в чёрной черкеске с газырями. Он по случаю резкого похолодания небывалого для этих мест даже в ноябре, закутан был в красный башлык, концы которого болтались, завязанные узлом за спиной. Спереди на седле он придерживал рукой вместительный саквояж, отобранный у пленников. Хорунжий обогнал процессию и подскакал к крыльцу.
– Доложи его превосходительству, – рявкнул он, обращаясь к адъютанту и спрыгнул с коня. Затем водрузил на ступени крыльца, больше похожего на веранду, привезённый баул, и снова вопросительно поглядел на адъютанта, наблюдающего за суетнёй с лёгким недоумением.
– Доложи: захвачен красный командир с дочерью.
– Mes condoleances,[4] – наклонил адъютант красивую, чуть ли не под греческий эталон, голову, но не двинулся с места.
Новенькая шинель сидела на нём ладно. Адъютант Его Превосходительства не удосужился надеть головной убор, но безукоризненно ровный пробор в чёрных волосах вместе с пренебрежительной усмешкой явно свидетельствовали о мире и спокойствии: какие красные? какой переворот, господа? я только от Его Превосходительства, там ни о каком воображаемом противнике не слышали. Вот так-с. Общую картину облика портили разве что капризные, как бы не совсем мужские губы, уголки которых чувственно дрожали.
– Неужели вы считаете, что Его Превосходительство можно безнаказанно беспокоить по пустякам? – наконец удосужился узнать он.
– Это не пустяки, корнет, – отчеканил хорунжий, – в наши руки попал командир четвёртого кавалерийского корпуса красных. Или вы будете утверждать, что никогда не слышали о самом опасном корпусе противника? Сам корпус, а также его командир у Антонова-Овсеенко не на последнем счету. Красные для достижения победы ничем не гнушаются. Так что доложи немедленно и по полной форме, что от тебя требуется.
На этот раз адъютант ничего не сказал. Досадливо закусив губу, он отправился докладывать по инстанции. Но вскоре вернулся ещё более подтянутый и затянутый в портупею. Почти безразлично окинул взором присутствующих, потом сказал обыденно, просто, даже довольно буднично:
– Господин генерал сейчас будет.
Несколько минут ожидания тянулись довольно медленно. Хорунжий, уже успевший нацепить бурку, которую услужливо принёс один из казаков, ходил взад-вперёд возле крыльца на манер маятника, от нетерпения похлопывая согнутым концом нагайки по голенищам хромачей.
А казаки, в отсутствие высокого начальства, расположились поодаль, на брёвнышке, передавая друг другу кисет и переговариваясь вполголоса, изредка кивая на пленных.
Те стояли посреди двора спокойно, никак не высказывая своего отношения к окружающему. Девочка прижалась щекой к левой руке отца, да так и застыла. Иногда только пушистые ресницы взлетали вверх, испуганно вздрагивая. А влажный взгляд, как вспышка чёрной зарницы скользил по двору, где на слегка промёрзшей земле лежали ещё не убранные в сарай завезённые фуражирами мешки с картошкой, перловкой и обмолоченным овсом.
Казённая офицерская шинель пахла дымом, конским потом и ещё чем-то незнакомым, но девочке было спокойно: это запах отца. Даже сейчас, стоя подле него посреди двора под перекрёстными взглядами врагов, она не боялась. Отец сумеет с ними всеми справиться – ему всё удаётся. Он большой, сильный. Не может быть, что б не сумел. Так было всегда, так должно быть и сейчас, потому что другого решения просто быть не может.
Дверь пятистенки распахнулась, на крыльцо вышел грузный человек в серой шинели с генеральскими погонами, накинутой поверх мундира. Едва взглянув на пленных, он прошёл к стоящему тут же на веранде круглому столу и опустился в плетёное лыковое кресло. Ночью налетел первый настоящий заморозок, и сгустки инея ещё можно было разглядеть на теневой притолоке веранды, но ближе к полудню солнышко опять расстаралось, сияло совсем по-весеннему, отогревая землю, успевшую распрощаться с теплом чуть ли не навсегда.
– Чаю, Мишель, – приказал Его Превосходительство, адъютанту не оборачиваясь, – а то что-то захолодало сегодня. Давай, что там у тебя? – и сделал отмашку рукой, сняв черную лайковую перчатку.
Тот скинул старый сапог с самовара, который служил адъютанту кузнечным мехом для раздувания углей, налил чаю в глубокую кобальтовую чашку с золотым вензелястым узором, подал начальству.
– Тут хорунжий Збруев умудрился где-то полонить красного командира, – вполголоса пояснил адъютант. – Не одного, с девочкой, которая, судя по одежде, далеко не из пролетарской семьи.
Генерал, отхлёбывая чай, присматривался к пленным.
– Ба! Никак господин Полунин?! Собственной персоной! – поставил он на стол недопитую чашку. Потом резко встал, но тут же снова, кряхтя, опустился в кресло, вынул большой синий клетчатый платок, вытер мигом вспотевший, несмотря на холод, затылок.
– Дела-а-а…
– Так точно, вашско-ородье! – вытянулся перед крыльцом хорунжий. – Я его тоже узнал, Иуду.
Хорунжий с ненавистью посмотрел на пленника.
Тот всё так же спокойно стоял посреди двора, не обращая внимания на сцену «узнавания». О его волнении можно было судить лишь по заходившим желвакам на скулах. Но арестованный выдержал упорный взгляд бывших товарищей по оружию. Шутка сказать, многие годы они служили в одном полку и расстались лишь, когда Полунина откомандировали в ставку государя Российской Державы.
– Хорунжий! Какого чёрта! – голос генерала вдруг стал жёстким. – Тьфу ты… – он посмотрел на вытянувшегося в струнку казака. – Ладно, давайте его сюда. И руки развяжите, право слово!
Збруев подскочил к пленнику, одним махом кинжала разрезал путы на руках, подтолкнул арестованного рукояткой нагайки в спину и пленный сделал несколько шагов к крыльцу, растирая на ходу запястья.
– Мишель, что стоите, уберите девочку, – сделал рукой жест генерал. – Дети никогда не должны отвечать за грехи родителей. Тем более, войну эту не мы затевали. В который раз Россию поганят ублюдки! И этот изувер тоже к ним примазался! Во истину, ничего святого в стране не осталось!
Адъютант махнул казакам. Двое подбежали к девочке и стали отдирать её от офицера. Та, молча, сопротивлялась, вцепившись в рукав отца мёртвой хваткой.
– Отпусти, Кэти, отпусти, – тихо выдохнул он, – иди, тебе не сделают ничего плохого.
Она послушалась, отпустила рукав, но из глаз её на подмороженный песок упали две прозрачные капли, ничуть не похожие на слёзы, поскольку были они крупные, как предвестники тёплого тропического ливня.
Но с тропическими ливнями приходилось подождать, если не вовсе забыть. Два года уже как Полунин обещался показать дочери сказочную страну Японию, да всё служба, служба. А сейчас, вовсе не до отдыха, когда Родину раздирают на части, когда приходится браться за оружие. Арестант встряхнул головой, будто избавляясь от воспоминаний.
Девочку увели и заперли в сарай на скотном дворе, а пленный красно-белый офицер, всё так же подталкиваемый в спину тупым концом збруевской нагайки, поднялся на крыльцо. Он стоял перед генералом, внимательно разглядывающим его, не отводя глаз. Собственно, смотрел он не на генерала, а сквозь него, в какое-то своё, неведомое, куда нет ни дорог, ни тропинок, но где живёт, присутствует то светлое будущее, которому он вымечтал посвятить всё своё воинское уменье, за которое и жизни не жалко.
– Господин Полунин? – спросил генерал, словно всё ещё сомневаясь: не обман ли зрения?
– Да, вы не ошиблись, Алексей Максимович, – отозвался тот. – Бывший полковник царской армии Преображенского полка.
Генерал помолчал немного, пожевал губами, будто разгрызая ещё не произнесённое слово, потом снова остро посмотрел в лицо пленнику:
– Вы меня помните?
– Кому ж не известен автор Знаменательной казачьей Декларации, ваша честь? – вопросом на вопрос ответил арестованный. – Да и вы меня, смею надеяться, припомнили. Нам не раз приходилось сталкиваться в ставке Главнокомандующего. Ведь так?
На это генерал ничего не ответил, лишь склонил голову, как бы задумавшись о том, какие фортели выкидывает судьба.
– Как вы могли?! – генерал снова в упор посмотрел на пленника. – Столбовой дворянин, отличный штабист, сам государь был о вас высокого мнения и – к красным, к бунтовщикам, к нигилистам? К полупьяным подзаборным люмпен-пролетариям? Ведь насколько надо не любить свою Родину, чтобы отдать её на растерзание жидам и лавочникам? Да вы в своём ли уме, милейший?
Полунин пожал плечами. Потом раздумчиво, как бы сам с собой, проговорил:
– Россия, моя бедная Россия! Она столько раз выставлялась на аукцион перед иностранным капиталом, столько раз её, как породистого ахалтекинца, хлопали по крупу, слюняво причмокивая, столько раз заглядывали в зубы, мол, хорош ли русский мерин, что мне, право, стало досадным: почему одно из богатейших в мире государств не имеет хозяина? Почему большинство правительственных чиновников, если не весь государственный аппарат, смотрят на Россию только как на сырьевую базу для развития Европы и какой-то там занюханной Америки? Ведь на корню продавали, на корню! Единственный из немногих, кто радел о могуществе России – Петр Аркадьевич Столыпин. Но и того убили! А вот увидите: ваша любезная Европа или Америка вскоре использует систему хуторского хозяйства и в короткое время станет богатейшей из богатейших.
– Вы забываетесь, господин Полунин, – глаза у генерала сузились. – Столыпин был убит нигилистом, примерно так же, как эсер Блюмкин застрелил Мирбаха.
– Ошибаетесь, Алексей Максимович, – возразил пленный. – Это прекрасно организованное провокационное убийство, как, скажем, убийство упомянутого вами Мирбаха. Западу и масонам не нужна сильная Россия. Гражданская война и такие как вы им на руку. Предатель Алексеев, арестовавший и сдавший государя в ваши руки, по моим данным, находится сейчас у вас в ставке, в Новочеркасске. Там же и господин Милюков, и Родзянко. Я не ошибся?
Генерал вспомнил, как в Новочеркасске, на соборной площади, у памятника Ермаку Тимофеевичу было устроено торжественное чествование означенным персонам атаманами Войска Донского. Тогда собрались казаки со всего Дона, Терека, Кубани. Были боевые офицеры, прошедшие закалку на полях Первой Мировой – прямо скажем, цвет русской армии. Все искренне любящие Родину. О каком же предательстве толкует господин Полунин?
Скорее, кучка непохмелённых люмпенов согласились за стакан устроить для жидов ещё один весёлый праздник Пурим,[5] где главный приз – страна непуганых идиотов. Но никогда ни один настоящий русский не примет такую власть. И что же? Перед ним офицер ставки, имевший когда-то полковничий чин, человек не трусливого десятка! И этот бывший боевой офицер ныне утверждал, что только большевики – истинное будущее России, только под жидовские марши страна придёт к светлому будущему! Весь вопрос – какому светлому? И на сколько этот свет поможет жизненному развитию России.
– Смею заметить, что полупьяные, как вы только что отметили, лавочники и пролетарии выиграют у вас войну, – веско заметил Полунин. – Не знаю, легко ли, но выиграют. Да-да, у регулярной армии, прошедшей закалку на полях Первой Мировой. Хотите знать, в чём секрет? А никакого секрета здесь нет. Предателей наказывает Сам Господь. Кстати, вы веруете? Если да, то вам не мешало бы исповедоваться.[6] Поверьте, нам всем уже не долго осталось.
Полковник на мгновенье замолчал, оглянулся на седое клочковатое небо в рыжих подпалинах. Такое бывает только зимой в донских степях. Потом снова обернулся к генералу:
– А в ставке государя беспечально мог себя чувствовать только какой-нибудь интриган-заговорщик. Вам не хуже меня известно, что учинил с государём генерал Алексеев со своими офицерами. Предательство! Что вследствие всего этого ждало Россию? Английское владычество? Или же колониальное подчинение объединённой Антанте? Причём, вы бы первый развели руками, мол, les caprices de la fortune![7] Нет, ваше превосходительство, фортуна здесь не причём. Это прямое предательство Родины и русского народа. Измена клятве, данной государю. Что же касается большевиков, то за ними будущее. Они сыновья этой несчастной страны, хоть многие из них действительно инородцы. Они сделают всё, чтобы Россия стала богатой, могущественной, чтобы её боялись ваши голубезные англичане, французы и иже с ними.
Во время тирады лицо Его Превосходительства меняло окраску от белого с чуть заметной желтизной до малинового, как грозовой августовский закат, глаза сверкали, но голос остался, на удивление спокоен.
– Вы, милостивый государь, забыли присягу, долг, честь, – слова Каледина как оплеухи попадали в лицо пленному. – Вы преступили обет не только перед государём, но даже пред Богом! Вы и ваша рвань убиваете ни в чём неповинных стариков, женщин, детей, и оправдываете это борьбой за светлое будущее, где все осчастливятся голодом и будут вынуждены нищенствовать? Мне кажется, что такое счастье отпечатается отчётливым кровавым оттенком. Вас не смущает возведение храма на крови своих соотечественников?
– Собственно, так же как и вас, Ваше Превосходительство, – пожал плечами Полунин. – Нам обоим доподлинно известно, что об одном и том же событии одни говорят: бес попутал! Другие: Бог благословил! Насколько вы считаете меня предателем, настолько же я отношу вас к данной пресловутой категории. Будущее покажет кто из нас прав.
Но смею повторить, что за надругательство над Помазанником Божьим всё ваше белое «освободительное» движение очень скоро поплатится. У вас даже Родины не будет. А я верю в Россию, служу ей. Вы же с вашим консерватизмом просто заблуждаетесь. Заблуждаетесь, и готовы поставить к стенке каждого, кто с вами не согласен. А на чём основана эта правота? На убеждениях упрямца? Так здесь вы недалеко ушли от того русского мужика, против которого подняли оружие. «Мужик, что бык: втемяшится ему какая блажь…».
– Хватит!.. – взорвался, наконец, Каледин. Его ладонь с такой силой опустилась на стол, что подпрыгнула и опрокинулась чашка с недопитым чаем, а из хрустального вазона на пол веранды посыпались сухарики с маком. С навеса над крылечком беззаботный ветерок сдул клок свежих не слипшихся ещё снежинок, а жующий, томно вздыхающий, кудахтающий скотный двор вдруг затих, как бы боясь пропустить самое главное.
Мишель, стоявший за спиной его превосходительства, при крике генерала даже дёрнулся от неожиданности, а хорунжий непроизвольно ухватился за темляк шашки.
Каледин стоял на ногах и тяжело смотрел на пленника. Его глаза потемнели, стали похожи на два расстрельных ствола.
– Вы изменили присяге, вы пошли против государства и государственности, прикрывая прекрасными словами о счастливом будущем самое банальное предательство, – каждое слово генерала звучало как неотвратимый ружейный залп. – Неужели вы рассчитываете на то, что ваши нынешние хозяева вас помилуют? Оставят в своём «светлом будущем», которое вы им преподнесёте на блюдечке? Вы согласились на роль безответственной рабочей скотинки, добывающей хозяевам нужное, которую потом за ненадобностью непременно отправляют на бойню. Но я избавлю ваших доблестных хозяев от лишнего труда. Я не Господь Бог и предательства никогда не прощаю.
Он сделал движение рукой, смысл которого понять можно было только однозначно.
Над двором давно уже повисла пещерная тишина. Даже со скотного двора не доносилось обычных вздохов и возни крупнорогатых, суеты и кудахтанья кур. Казалось, сама природа прислушивается к негромкому голосу боевого генерала, не бравшего пленных, не прощавшего ошибок ни себе, ни тем более другим.
– В расход… – это слово было произнесено с видимым спокойствием, но с чётким выговором согласных, каждая из которых прогремела как выстрел.
Пленник кивнул, как будто только этого добивался от противника.
– Одна просьба, ваше высокоблагородие…
Поскольку генерал молчал, всё так же неподвижно глядя перед собой, как будто застыл под тяжестью отданного им же приказа, пленник продолжил:
– Со мною дочь. Я хотел отвезти её к сестре в Батайск, да не учёл, что территория под вашим контролем, вот и не доехали. Отвезите девочку туда. Ребёнок не виноват в наших разногласиях, в этом мы одного мнения. Честь имею.
Он щёлкнул каблуками, поклонился и неспешно спустился с крыльца, кивнув хорунжему: веди, мол. Тот сделал знак казакам, и они подбежали с винтовками наизготовку. Скрип песка с гравием под сапогами разносился в морозном воздухе особенно явственно, а на старой липе за скотным двором обрадовано запел ворон. Вот уж воистину собачий нюх у этих траурных птиц.
Дверь сарая натужно закряхтела, в образовавшейся щели возникла голова Мишеля. Он настороженно осмотрел сарай, как будто в запертом помещении могла находиться какая-то досадная неурядица. Кэти сидела на колоде для рубки дров, подперев головку маленькими кулачками. Глаза настороженно и недоверчиво следили за адъютантом.
Но в следующее мгновение вся настороженность исчезла, испарилась, растаяла. Да и могло ли быть иначе: у Мишеля в руках покоилась большая кукла. Волосы у неё были забраны в мелкую золотую сеточку, которая вполне могла сойти за головной убор царицы Савской. Обмётка белого атласного платья, с пущенными вдоль подола вензелями из толстых парчовых ниток, также была золотой, а по кружевным прорезям рукавов сверкали драгоценные камушки.
Кэти заворожено смотрела на куклу. В это чудо невозможно, казалось, поверить, но кукла не исчезала. Напротив, Мишель с картинно беспечным видом подошёл к девочке и протянул ей игрушку.
– Это вам, мадемуазель.
– Мне? – Кэти всё ещё боялась поверить своему счастью.
– Да-да, берите, – он вручил девочке куклу и та осторожно, как хрупкий цветок, приняла её на руки, тут же поправляя оборки роскошного платья и золотую сеточку на волосах.
– Это мне? – снова пролепетала Кэти, как бы ещё не веря в реальность игрушки.
– Да, конечно. Но у меня к вам небольшая просьба. Надеюсь, вы не откажетесь проехаться со мною к вашей тёте в Батайск? Здесь недалеко.
– А где papan?[8] – глаза девочки тревожно блеснули.
– Ему необходимо задержаться, – Мишель попытался снова изобразить беспечность и повертел в воздухе рукой, затянутой в тонкую чёрную перчатку. – Но ваш papan задержится здесь ненадолго. Он непременно нас нагонит, вы даже не успеете по нему соскучится.
Кэти недоверчиво посмотрела в глаза корнету.
И тут морозную тишину, повисшую стеклянным занавесом над станицей, раздробил нестройный винтовочный залп. Мишель оглянулся на дверь, передёрнул плечами. А когда снова посмотрел на свою юную собеседницу, ещё раз зябко передёрнул плечами. И было отчего: девочка, крохотная хрупкая девочка исчезла. Перед ним стояла маленькая старушка. Вмиг посеревшее, покрывшееся скорбными морщинками личико, ничуть не походило на детское.
– Папочка… – всхлипнула она.
Мишель подыскивал слова, чтобы успокоить девочку, разуверить, обмануть, но она вдруг с размаху бросила красавицу куклу на пол и исступленно принялась топтать её.
– Папочка! Папочка! – истерически вскрикнула она. – Я тоже стану настоящим большевиком! Я обязательно отомщу за тебя!..
«Струились лучистые дали, окурки и кровь на полу, ногами топтала я куклу, что дал мне Каледин в тылу…», – вспомнил Никита бабушкино стихотворение.
Плюшевый зайка в его руках смотрел жалобно, как бы говоря:
– Почему мы, игрушки, чаще всего страдаем от ваших взрослых игр? В чём мы виноваты?
Все пять лет супружества, Никита прятал на даче игрушечного зайца и фотографии, с которыми расстаться, почему-то было жаль, а Ляльке показывать не хотелось. Здесь же, в секретере, обретались стихи, писаные тоже давно, тоже не жене. Да и заяц серенький… Если б его увидела Лялька, то наверняка обиделась бы, ведь женщина, особенно русская, всегда болеет единоличностью.
Заяц плюхнулся на поленья, его серая плюшевая шерстка сначала подёрнулась дымком, потом по ней пробежал лёгкий, едва заметный огонёк. Заяц жалобно пискнул, правая лапка игрушки откинулась в сторону, будто посылая воздушный поцелуй своему инквизитору. От неё. Прощальный. А была ли любовь, если обыкновенный плюшевый заяц превратился в фетиш?
Сверху на сгорающего в любовном онгоновом[9] огне зайца легли стихи, фотографии. И ещё стихи. И ещё. Чёрная пенка сгоревшей бумаги покрывала поленья, словно траурная кайма вокруг живого портрета огня. Сжигать себя – дело, оказывается, совсем не простое. Пусть стихи, написанные когда-то другой девушке, не имели никакого отношения к сегодняшней жизни, только это была неотделимая часть человеческой души. Так стоило ли сжигать память, уничтожать прошлое, из которого вылепилось существующее сегодня?
– Лавры Гоголя спать не дают? – тихий голос, похожий на лепет ветерка в листве осины, вернул его к камину, к холодному летнему вечеру.
Никита скосил глаза. Рядом в другом каминном кресле уютно устроилась Лялька.
Вот так всегда! Она умела приходить незаметно, напоминать о себе в самые нежелательные минуты. Все годы их семейной жизни протекали вроде бы ровно и гладко, по авторитетному заявлению тёщи, женщины своенравной и своевольной до боли в печёнке. Впрочем, других тёщ в природе ещё не замечали, поэтому они и зовутся любимыми.
И всё же бывали такие вот минуты, когда жизненно необходимо было остаться один на один с одиночеством. Говорят, что одиночество – хорошая вещь, только в то же время как воздух необходим человек, которому можно сообщить по секрету, что одиночество – хорошая вещь! Таким незаменимым человеком постоянно прикидывалась Лялька, – подкрадываясь, возникала, материализовалась, вытаскивала мужа из всех тяжких настроенческих пропадений и пропаданий.
Интересно, заметила ли она зайца, вот в чем вопрос? Может он успел сгореть до?.. Объясняться не хотелось, тем более врать.
Никита ничего не ответил, лишь нахохлился и ещё больше стал похож на сердитого ёжика, фырчащего под осенними листьями.
– Зря ты это затеял, – опять подала голос Лялька. – Знаешь, из твоего романа можно было сделать очень даже не плохую повестушку. Я тебе и раньше говорила, помнишь?
Это была правда. При чтении отдельных глав его жена становилась самым незаменимым, самым беспощадным редактором: сначала слушала внимательно, затем отбирала рукопись, вычитывала, чуть ли не каждое слово, набрасывалась на рукопись с карандашом, отстаивая и утверждая свою правку.
Надо сказать, такое редакторское вмешательство было довольно плодотворным, даже стало незаменимым для Никиты. Но сейчас важно другое: Лялька не заметила казнь зайца! А сгоревшие стихи посчитала сгоревшей рукописью законченного романа.
Верно, потому, что один раз Никита уже порывался на грязное дело сжигания ещё недописанной рукописи. Тем лучше. Пусть пока думает, дескать, опус сгорел и всё тут. Тем более, чтобы походить на Гоголя, для начала необходимо научиться сжигать!
– Послушай, Елена, – полным именем он называл жену только при серьёзном разговоре, ну, разве что на людях иногда. – Послушай, покойный Николай Васильевич тут ни при чём. Да и не только у него одного литературная жизнь состоит из сожжённых рукописей.
– Разве? – съехидничала Лялька.
– Дело в том, – назидательным и противным скрипучим голосом принялся объяснять Никита. – Дело в том, таких вот постмодернистских публицистических романов, как мой, написано столько, что их критическая масса скоро взорвёт самоё себя. Я опух от этого! Цитаты, цитаты, цитаты. Коды, перекоды, словари перекодов. Комментарии к словарям. Комментарии к комментариям. Пропала собака! Маленькая! Беленькая! Пушистенькая! Вернись поскорее, мой маленький друг! Всё! Не хочу! Надоело!
– Да что с тобой сегодня? – Лялька скользнула к нему в кресло, пощупала лоб. – Перегрелся у камина, бедненький? Или действительно Гоголя вспомнил? И коды какие-то. Ты ещё Дэна Брауна с «Кодом Да Винчи» вспомни. Берёшь пример неизвестно с какого неруся, вот и получается американское неизвестно что. Русская литература живёт только в России, а не в Соединённых Штатах.
– Елена! Как ты не поймёшь? – попытался объяснить жене Никита. – Перемалывание чужих текстов, чужих рукописей! Это вовсе не разгадывание кодов, не плагиат американского разгадывания загадок, где ключ в ключе и ключом погоняет! Я последнее время чувствую себя не археологом. Отнюдь нет! Я чувствую себя грабителем могил. Несуществующих могил. Этаким новым русским некрофилом! Только трупный яд всё равно проникает в кровь, в мозг, в сознание. Превращает меня из человеческой личности в личину! Ни у одного из моих героев нет любви не только к ближнему, но и к самому себе. Они же живые мертвецы! Да живые ли? Они не могут сказать ничего нового, а довольствуются лишь обыденными заезженными сентенциями, обтрёпанными шаблонами, только результат в любом случае плачевный. Такая книга никому не принесла бы радости. Просто досужая игра слов. Слово от слова, для слова, но не для человека, не для Любви. Кому это нужно?! Потрёпанное умирающее или неживое словоблудие?!
– А у Иоанна Богослова сказано, между прочим, что вначале было Слово и Слово было у Бога…, – вставила жена.
– Но Слово было Бог, – перебил Никита. – Слово должно быть Богом и по энергетике, и по смыслу, и по содержанию!
– Кто ж тебе мешает научить своих героев любить ближнего? – хмыкнула Лялька. – Любить не потасканными словами, а как Господь заповедовал? И общаться не книжным языком, как положено, а делиться с читателем догнавшими голову мыслями с уверенностью, что тебя обязательно поймут?
– Именно этого я и хочу! – Никита рубанул воздух ладонью. – Надо суметь донести людям не только свои соображения, а Божественную мудрость, огонь Высшей Любви…
– Такая книга уже давно написана, Патетей ты мой Прометический, – не унималась жена, – это Библия. Но поскольку создавать маленькую Библию, когда есть большая, глупо, то сжигать, по меньшей мере, любопытное произведение – это тоже не от духовной мудрости, а очень даже наоборот.
– Блаженны нищие духом, яко тех есть Царствие Небесное, – грустно улыбнулся Никита.
– Ну, как знаешь, – Лялька легко встала с кресла и отправилась к себе, на второй этаж.
Только странное дело: сюда Лялька пробралась тише тишины, незаметней тени, а назад… Деревянная лестница под её ногами стонала на все лады, даже пару раз пискнула совсем как сгоревший плюшевый заяц. Тяжёлые шаги никак не походили на привычную лёгкую поступь жены. Скорее всего, можно было подумать, что Костяная Нога, укутавшись в длиннополую ягу,[10] подымается в свой девический терем.
Никита опять уставился в камин, пошевелил кочергой уголья. Те отозвались весёлым треском, рапортуя, что не было ни стихов, ни первых поцелуев, ни бессонных ночей, ни ощущения вселенского счастья, когда можно с ума сойти от одного взгляда, от мимолётной улыбки… да и зайца тоже не было.
Что было? Что будет? Чем сердце успокоится? Романом. Или в романе. Но ведь он тоже сгорел?! Никита даже оглянулся на секретер. Кажется, всё в порядке. Деревянный толстяк всем своим видом показывал, мол, не извольте сомневаться, молодой хозяин. А, может, сжечь его всё-таки и дело с концом? Нет. Это будет самая большая глупость в жизни. Надо закончить работу, всенепременнейше с блестящим результатом. Это будет его победа, его гордость!
– Гордыня-матушка вперёд тебя родилась…, – то ли ветка яблоневая нахально скрипнула по мокрому окну, то ли отголосок дыма аукнул в трубе и вылетел прочь.
На всякий случай Никита оглянулся. Никого. Показалось. А если нет? Есть ведь такая пословица.
Откуда-то из детства вынырнула картинка: тёмный вечер у камелька в деревенской избе, бабушка учит Никитку читать по житийной книге библейского Моисея. Бабушка говорит, что он великий, что народ свой из Египта вывел и сорок лет по пустыне водил.
– Сорок лет! Да ведь всю жизнь, поди, – всё ходили, ходили? – искренне удивился мальчик. – Бабушка, а тебе когда сорок лет будет?
– Ну, что ты, Никитушка, мне уже два сорока, – улыбнулась старушка. – Только и это не так уж много.
– А что же Моисей за сорок лет никуда дойти не мог? – не унимался Никитка. – Ну, слабак!
– Не говори так! Нельзя! – бабушка даже перекрестилась, опасливо глядя в Красный угол, где красовались старинные образа в серебренных блестящих окладах. – Моисей народ свой в землю обетованную привёл. Не всем дано, ему только.
– Да я бы за год управился! – задорно заявил мальчик. – Не такая уж там страна большая, чтобы где-то ходить сорок лет! Россия много больше Израиля, да и то не надо сорока лет, чтобы из конца в конец пешком дойти. Я бы запросто из конца в конец дошёл!
– Ой, внучек, гордыня-матушка…
Уголья всё ещё перебрасывались призрачными язычками пламени, поджидая новую жертву, новые стихи. Или роман. Сожжённый? Никита всё же заставил себя снова встать, подойти к секретеру. Ключик от внутреннего ящика был у Никиты всегда с собой, но почему-то не хотел открыть в этот раз или же потаённый ящик сам не желал открываться.
Никита с нетерпением дёрнул за ключ, готовый уже пойти и взять в помощь какую-нибудь стамеску, если не топор. Но тут замочек почти послушно щёлкнул и открылся, обнажая полость заднего ящика. Темень вывалилась оттуда, как пьяный матрос с клотика.
Ладонь, машинально нырнувшая внутрь ящика, наткнулась на труху. Запахло палёным. Никита вытащил руку: в горсти была зажата жмень пепла. Рукопись! Лялька?! Нет, что-то не то. У неё нет ключей от секретера и про рукопись только что не говорила бы, если б сожгла. Тогда как? Почему?
– Кто сказал, что рукописи не горят? – отчётливо прозвучал в темноте чей-то скрипучий голос.
– Что это?! Кто это?! Что за чертовщина? Господи, помилуй! – Никита даже перекрестился, как это всегда делала бабушка, но голос из Зазеркалья больше не раздавался. Ночь тянула свою неспешную тоскливую лямку.
– Удельная, – картаво захрипел динамик в вагоне электрички. – Следующая станция – Выхино.
Когда-то она была «Ждановской». Некоторые местные до сих пор не отвыкли от старого названия. Особенно после убийства на «Ждановской», когда менты замочили подвыпившего гэбэшника. Какой-то шустрый режиссёр под шумок фильм одноимённый протолкнул. А сейчас, много ли изменилось? Только вывески, только реклама: на улицах, на станциях, на Кремле. Что может измениться в государстве, где ворьё хозяйничает? Рыба всегда с головы гниёт – недаром испокон веков эта пословица по Руси ходит. Никите вспомнилось, как он откликнулся на праздник шестидесятипятилетия Победы в Великой Отечественной войне:
Опять холодная война! Ей никогда не стать горячей, страна в болото сметена, и подготовлена для сдачи. Но ни снарядов, ни фронтов мы в этот раз не испытали. Под равнодушие ментов Россию Западу продали. За что же дед мой воевал?! За что отец ходил в атаку?! Никто из предков не жевал американских булок с маком. Они вставали за страну! Они сражались за Рассею!.. Американских денег кнут всё наше мужество развеял. Жидо-масонское ворьё ликует нынче в Москвабаде. Мы превращаемся в гнильё… Спаси нас, Боже, Христа ради…Вспомнилось. Никита не то, чтобы цитировал исключительно себя, но нынешнее его состояние оставляло желать лучшего: ни с того, ни с сего удрал с дачи в Москву среди ночи, не говоря Ляльке ни слова про обнаруженную сгоревшую рукопись. А ведь понимал – волноваться будет, на то она и жена. Но всякие воспоминания и откуда-то выползшая жалость к себе-любимому перевесила. Глупо? Да, конечно. Но возвращаться сейчас – ещё глупее. Надо побыть одному, в конце концов, просто пошляться по городу, сходить в народ, на людей посмотреть – себя показать.
В непроходимой чаще буден крепчают наши голоса. Поэты шли когда-то «в люди», теперь – в дремучие леса.Опять процитировав себе – себя, Никита вдруг успокоился, как пообедавший удав. Решил: если понесло в город, значит, там ждёт что-то такое, что изменит жизнь или даже мировоззрение. Хорошо, посмотрим, что день грядущий нам готовит.
Глава 2
Город встретил его своей всегдашней суетой, беготнёй, зачумлёнными лицами приезжих, проклинающих Москву, но зачем-то снова и снова приезжающих потусоваться на московских рынках. Москва, вообще-то, всегда была уникальным городом, только в последнее время, когда жирный московский мэр принялся продавать квартиры бравым азербайджанцам, чеченцам и дагестанцам, неповторимость города испарилась как дым, как утренний туман. Многоэтажные проамериканские билдинги подвели последнюю роковую черту в судьбе города. Американизированная Москва теперь уже не имела права считаться уникальным памятником прошлого.
Да и настоящих москвичей становилось всё меньше и меньше. Стариков, воевавших за Отчизну, всеми правдами и неправдами городские власти стали выселять за сто первый километр или сдавать на пожизненное заключение в Столбы – так называется психиатрическая лечебница. Молодое же население, не желающее, чтобы их родной город получил прозвище Москвабада, ответственные лица вместе с такими же исполнительными органами принялись под разными предлогами «гнобить» и «прессовать». Естественно, что после физической обработки мало кто из попавших в лапы ответственных органов мог вообще жить или существовать.
Тем не менее, москвичи не унывали. Барды даже песню про мэра распевали на своих выступлениях:
«Уважаемый Лужков-задэ, На тебе кепк, носи вездэ. Мы тебе будем уважать, Мы твой пчёль, ты наша мать».Потом этого мэра всё же сместили с насиженного кресла. Новый, вроде бы, задумал провести судебное следствие по нехорошим делишкам своего предшественника, но это были только слухи. Слухами они и остались.
Вот поэтому большинство свободного времени Никита с Лялькой проводили в загородном доме, где московская суета и неразрешимые проблемы уходили на задний план. Во всяком случае, когда позволяло время, они без разговору уезжали в Кратово и тамошний сохранившийся сосняк возвращал им интерес к жизни.
Сейчас Никита решил побродить по Арбату, благо и Старый Арбат, и многочисленные дворики ещё сохраняли ауру старой Москвы. Правда, и здесь уже успели постараться современные ноу-хау-вориши, но район не сдавался. К тому же, на улице до сих пор продолжали продавать картины художники, выступать всевозможные артисты и пели цыгане. В общем, кусочек огромной столицы жил и дарил жизнь окружающему миру. Никита же, как настоящий художник слова, попытался внести свой эскиз в жизнь Арбата:
По Арбату чудные лица, зачастую забыв побриться, выползают повеселиться или просто срубить монету. Нету здесь ни князей, ни нищих, только каждый чего-то ищет и оборвышей бродят тыщи — все художники и поэты. Лето жалует одержимых беспокойных рабов режима и повсюду по щёкам – жимолость, а в улыбках – цветы жасмина. Гласность, вроде бы, не нарушена, отчужденья стена разрушена, и открыт уже домик Пушкина. Кто теперь у его камина выжимает пыл вдохновения, вычисляет путь накопления или ищет минут забвения, укрываясь от лап инфляции? Кто продолжит Арбата хронику: любера? проститутки? гомики? или сказок волшебных гномики? Ладно. Требуйте сатисфакции за сближение несближимого, разрушение нерушимого. Я с улыбкою одержимого говорю: – Господа, к барьеру!..Эти стихи Никита написал уже давно, в то время, когда Старый Арбат только-только сделали пешеходной улицей. Шутка ли, впервые в России какая-то улица стала недоступной для проезда железных коней любой масти. Шоферюги, конечно, добывали для беззаконного проезда левые липовые бумажки и пропуска, но москвичам нравилось иметь свою пешеходную, вовсе неавтомобильную улицу и бродить по ней бесцельно, слушая выступающих здесь скоморохов и прочих уличных «народных» профессиональных артистов. Иногда забредали сюда даже вездесущие кришнаиты. Недаром песня «Хари Кришна, хари Рама, я за что люблю Ивана?..» стала общеарбатским достоянием республики. И как-то раз даже сам господин-товарищ бывший Президент Перепутин снизошёл до посещения здешних кривых улочек.
Кучка зевак на Старом Арбате, возле театра Вахтангова, как всегда благоговейно внимала самостийным арбатским поэтам, перемежающим чтение стихов подгитарными песнями и даже анекдотами. Вероятно, что б не так тоскливо было слушать витиеватые поэтические изыски. А когда один из этих забавников начал обходить собравшихся с шапкой, дабы изъять какую ни есть дань, толпа заметно убавилась. Но всё же, в шапку сыпались железные и бумажные жизненно необходимые дензнаки. Значит, кому-то из праздно шатающейся публики всё же нравились живописные самостийные чтения, не говоря уже о необыкновенных бардовских песнях, которые вперемежку с проходным тюремным «блатняком» принялись с недавнего времени величаво именовать «русским шансоном».
Подобные выступления стали когда-то расползаться по миру с лёгкой руки Эдит Пиаф. Только наши московские уличные театралы решили даже в этом перещеголять Францию. А что, ведь театральное действо всегда должно нравиться почтеннейшей публике, иначе, зачем весь этот анекдот?! И анекдоты сыпались в честной народ даже в стихотворной форме с незабываемыми полутеатральными телодвижениями.
Естественно, что Россия будет, есть и была во все века самой читающей страной, но такие вот доходные представления не очень часто устраивались в России. Хотя нет, на ярмарках были всякие балаганы, и скоморохи усердно потешали публику. Только со времён поработившего страну патриарха Никона, который приказывал принародно казнить скоморохов, театральные действа захирели на Руси. И только после создания первого в стране государственного театра в городе Ярославле, никто не воспринимал в штыки уличных театралов. Улица бесплатно дала место для выступления артистам, а народу возможность оттянуться и поглазеть на что-нибудь интересное или не очень, но не требующее никаких забот и затрат. Платили скоморохам только те, кто мог или снисходил. Ведь так было во все века и во всех странах, где публика приветствовала артистов.
А нынешние балаганщики решили наверстать упущенное в веках и старались развлекать народ по возможности, хотению и умению доставить ближнему небольшую частицу радости. Ведь сейчас Россия – уже не коммунистическая, а, социо-дермократическая, значит, всё можно, хоть и не всё полезно, то есть, всё полезно, хоть не всё и не всем разрешается.
Никита стоял посреди прочих, и отсутствующим взглядом следил за сборщиком народной благодарности, пробирающимся по смачно заплёванным арбатским именным булыжникам – бездарный ремейк голливудской звёздной аллеи. Но когда сборщик оказался рядом, Никита всё ещё не мог решить для себя: стоит ли положить в шапку денежку? Дело было не в деньгах, а в принципе заработка таким способом. А с другой стороны – почему бы и нет? Ведь любой писатель или поэт, печатая свои опусы, обнажается перед толпой, продаёт не только тело, но кое-что и посущественнее. Почему?
– А помочь собрату по перу вовсе не возбраняется, – прозвучал над ухом насмешливый голос.
Никита обернулся и встретился с ухмыляющимися глазами человека, одетого в полукафтан из голубой парчи со стоячим высоким воротом, подпоясанный широким красным кушаком с кистями. На голове незнакомца красовалась под стать кафтану соболья «боярка». А худощавое гладко выбритое лицо сочеталась с кафтаном примерно как корова с кавалерийским седлом, ведь никто из русичей не признавал безбородых обманщиков.
В пору удивиться хотя бы, но ведь это же Арбат! А, значит, ряженый полукафтанник той же команды, что и выступающие. На худой конец какой-нибудь коллега по выбиванию финансово-рублёвой дисциплины из праздношатающегося люда.
Будто в подтверждение догадки мужик вытащил из-за спины деревянный размалёванный лоток на широком кожаном ремне через плечо. Книги в нём тесно стояли вперемешку с эстампами, картинами, деревянными ложками и свистульками, берестяными коробочками, желудёвыми монистами и гривнами.
Коробейники на Руси частенько ходили от дома к дому, предлагая свой товар и этот новоявленный торгаш ничего новенького не придумал, разве что парчовый кафтан да соболья «боярка» для обычного книгоноши были слишком дорогой одёжкой.
Но ведь это же Арбат! Первая в городе, и вообще в стране пешеходная улица. Здесь никому нельзя было появляться на автомобилях, хотя запрет постоянно нарушался новыми русскими, то есть, старыми деревенскими. Только это всё же не мешало уличным представлениям и созданию постоянного карнавала в центре города. Ведь когда человек полон радости, света и улыбок, все дела у него складываются как нельзя лучше. Вот и этот коробейник стоял против Никиты с обезоруживающей улыбкой. Может, продать хотел чего-нибудь, может, просто поболтать с подвернувшимся прохожим, обратившим на него внимание.
– Масыга обезетельник тебе офенится, – заговорил с Никитой коробейник на каком-то полурусском сленге. – Купи, мил человек, берестяну грамотку, аль лубок на липовой коре. Всё радость благодатная. Всё подарочек ближнему, аль себе для поправушки дел нешуточных.
Никита и бровью не повёл, слушая лопотню арбатского офени. Пока тот балагурил и словоблудничал, парень взял с коробейного лотка несколько лубочных картинок, выполненных и вправду на хорошо обработанной мягкой липовой коре.
Никита с увлечением и удивлением рассматривал диковинные самоделки, поскольку никак не ожидал здесь увидеть что-либо подобное. Офеня всё ещё продолжал лопотать на полурусском, расхваливая товары, и на зов торгаша подошли ещё несколько человек, забредших по случаю на праздник арбатского бытия и веселия.
– Ой, прелесть какая! – протиснулась к лотку молоденькая девушка.
– Настоящая ручная работа! Не подделка какая-нибудь! – отозвался коробейник.
– Сколько стоит? – друг девушки, видимо, решил тряхнуть мошной на радость подружке и не скупиться на затейливые безделушки. – Мы, пожалуй, купим у вас кое-что. Сколько стоит вот это? – парень указал на затейливую игрушку-свиристелку, вырезанную из липы.
– Стоит – не воет, воет – не смоет. По вычуру юсов, – опять забалагурил странный книгоноша. – Брать дорого не стану и не сыпь мне соль на рану!
Потом офеня повернулся спиной к парочке потенциальных покупателей и, нагло наступая на Никиту, тесня его к вестибюльной колоннаде театра Вахтангова, заговорил уже более современным языком.
– Купи, господин хороший, свиристельку-самосвисточку, аль гусельки самогудные, переливчатые. Всё польза душе ищущей, отрада сердцу неспокойному. Тебе мой товар как никому нужен, уж я-то знаю. А хошь, мил-человек, книжицу редкую из стран заморских да сочинителей тутошних, не нами писанную, не тобой прочитанную? Почти книгоношу-офенюшку, купи хоть поэмку за денежку. Никаким не Байроном, а самим Пушкиным писанную, да ишчё не читанную, глаголом не глаголемую. А вот роман Сухово-Кобылинский. Опять жа нигде, окромя меня, не купишь, сгоревший потому как.
– Сгоревший? – Никиту аж передёрнуло, будто ему предлагали купить свеженькой мертвечатинки под гламурным соусом настоянном на тридцати трех травах.
– А то, как же! – подхватил офеня. – Кто сказал, что рукописи не горят? Горят, ещё как! Горят, синим пламенем, дымным дыменем, что и вкруг не видать, а видать – не угадать. Любит ваш брат писарчук огоньком-то побаловаться. Не сыскать ещё закона против пламени онгона.
– Какой брат? – Никита подозрительно глянул на книгоношу. – Ты про какое пламя онгона, и про какого брата мне лапшу на уши вешаешь?
– Не тот брат, что свят, а тот, что у Царских Врат по тебе рыдат, – пустил слезу офеня. – Коли есть кому молиться – то не курица, а птица…
Пространство вдруг сузилось, загудело, как сквозняк, прорвавшийся сквозь тесное неприютное ущелье в диких горах. И вдруг Никита вспомнил. Вспомнил давно забытый эпизод из детства, невесть как застрявший на одной из полок памяти, пылившийся там до поры, покуда простое ничего не значащее слово, брошенное странным книгоношей-офеней, не вытащило на свет Божий почти совсем забытую картину. В памяти возникла старенькая деревянная, давно не ремонтируемая деревенская церковь, куда водила его бабушка тайком от просвещённых Научным коммунизмом родителей. Увидел как бы со стороны бабушку, совсем не изменившуюся с тех пор, и себя там подле неё, державшегося неуверенно за её юбку. А прямо супротив Царских Врат стоит Данило – деревенский юродивый.
Юродивый был в любой русской деревеньке великой достопримечательностью, потому что слова юродивых всегда были пророческими. Взрослые иногда с опаской, иногда открыто спрашивали у них совета, знали – юродивый наговорами грешить не станет. Только вот мальчишки часто закидывали безобидного молитвенника камнями, дразнили: «Данило-косорыло», улюлюкая и пританцовывая на все лады. А он не обижался. Лишь пугал иногда:
– Вот я вас!
Мальчишкам же деревенским только того и надо было. Травля продолжалась до тех пор, пока кто-нибудь из взрослых не разгонял пацанят или подвернувшаяся сердобольная хозяюшка не уводила юродивого к себе в избу.
Здесь же, в церкви, Данило стоял впереди всех прихожан, истово крестился, по его бородатому лицу текли слёзы. Это было заметно издалека и так поразило мальчика, что ему стало жалко не столько юродивого, роняющего слёзы, сколько себя, потому что ничем не мог он утешить боль человека.
Никита долго следил за ним, прячась за бабушку, всё также держась за её юбку. Потом, решившись-таки, бочком-бочком подобрался к Даниле, подергал за рукав меховой кацавейки, которую тот не снимал даже летом и потихонечку, чтоб никто не услышал, спросил:
– Данило, а, Данило. Ты чё ревёшь?
Юродивый оглянулся.
– Молюся я. Молюся, что б душеньки вы свои в огонь не бросали. Молюся я… ежели пламя онгона в душе разгорится, ничем ты его, малец, не потушишь. Не спеши сгореть вживе, не для того тебя Бог на землю отправил…
– Да, позагорбил басве слемзить: рыхло закурещат ворыханы.[11] У кого душа чиста, ты скажи, Никита-ста?..
Никита поднял глаза, но книгоноша уже растаял в толпе, словно клочок петербуржской белой ночи, похожей на из-поддизельный выхлоп, занесённый нечаянным ветром в столицу. Всё ещё пытаясь высмотреть офеню среди разношёрстных любителей поэзии, Никита выплеснулся на свободный пятачок булыжной мостовой, однако коробейника нигде не было. И странная фенька офени повисла на ушах непереведённым предупреждением. А о чём хотел предупредить книгоноша? И хотел ли? Может, вся его фенька как раз рассчитана на падучих купчих?..
– … чтобы душеньки свои в огонь не побросали.
Не успел Никита избавиться от наседающего образа кафтанного офени, как на глаза попался художник, вывесивший свои гравюры прямо на проволочном стояке, смонтированном посредине бульвара. И всё ничего, художников, книгонош, матрёшечников, гимнастов, бардов и прочего артистического добра на Арбате хватало. Этот же обратил внимание на себя, то есть, на свои графические работы, явной небывальщиной.
Шёл первый год нового столетия, однако нигде ещё Никита не встречал таких гравюр, разве что когда-то с удовольствием просматривал чёрно-белый стиль Дюрера или же Обри Бердслея. Только эти господа давно уже отошли в мир иной, оставив после себя удивительные гравюры. Но в новом веке не должно было возникнуть никого из таких художников, владеющим проникновением в самые сокровенные углы человеческого сознанья с помощью одного-двух штрихов послушной туши. Просто не модно среди художников выставлять своё творчество со стороны откровенности. А вот этот не испугался…
На одной из гравюр бы изображён человек, держащий в руке, вывернутой за спину, то ли кисть, то ли кривую стрелу, украденную у Амура. А, может быть, сам Амур поселился в теле этого художника. Рядом с фигурой красовалась надпись: Александр Лаврухин. Видимо, картина была визитной карточкой художника, стоявшего неподалеку и с приветливой улыбкой следившего за Никитой.
– Александр Лаврухин – это вы? – поинтересовался Никита.
– Мне кажется, других поблизости не наблюдается, – весело рассмеялся художник. – Вижу, вам понравились мои работы, или я ошибаюсь?
– Нисколько не ошибаетесь, – уверил его Никита. – Только я давно уже среди современных художников не встречал ничего подобного. Вероятно, есть где-то кто-то, но так чувственно улавливать человечью суть мог до сих пор только Обри Бердслей, но и он, кажется, недолго на свете прожил.
– Просто не дали, – усмехнулся художник. – У каждого человека в этом мире есть определённая задача: каждый должен открыть свою дверь, на то он и человек. А вот сможет ли закрыть – вопрос уже другой. Сперва стоит подумать, стоит ли закрывать, если надумал раскрыть?
– Это, по вашему предположению, удел каждого?
– Во всяком случае, творческие люди, решившие подарить этому миру, скажем, слово своё и оставить после себя поучительные опусы, обязаны решать, надо ли миру такое поучение? – опять с усмешкой, но уже довольно ядовитой, заметил Лаврухин. – А про нас, художников или музыкантов, и говорить нечего. Какой же ты мастер, если не сможешь доставить окружающим радость выполненными работами, хоть на несколько минут в этой призрачной жизни?
Художник посмотрел в глаза Никите и того чуть не хватил психический удар, поскольку Александр Лаврухин оказался точной копией только что пристававшего книжника-офени! Разве что у арбатского вились вокруг лица длинный волосы, а подбородок украшала аккуратно постриженная бородка. Но лица художника и офени были настолько схожи, что Никита сразу не смог даже ничего сказать. Лишь помотав головой, он всё-таки решился:
– Послушайте, Александр, у вас нет случайно брата? Я буквально несколько минут назад видел вон там, – Никита для наглядности указал пальцем в начало Арбата, – видел точно такого же человека, торгующего офеню-лотошника. Если вас поставить рядом, можно сказать, – близнецы!
– Вы, скорее всего, ошиблись, – пожал плечами Лаврухин. – Просто этот офеня чем-то сумел поразить, вот вам и кажется нечто похожее. Но мне интересно, какая же из моих работ вас затронула?
– Вот эта, – ткнул пальцем Никита в занимательный графический рисунок.
На нём была изображена женщина, сидящая в позе лотоса. Но художник умудрился зарисовать даму в профиль. Причём, вся фигура женщины под взглядом рисовальщика оказалась прозрачной и внутри фигуры, вместо позвоночника, вытянулась змея, голова которой застыла прямо в мозгах под причёской дамы. Никита и раньше слышал про энергию Кундалини, начинающейся в конце позвоночника, там же, где находился хвост змеи. Но данная энергия раскручивается снизу по телу человека как спираль вокруг позвоночника. На рисунке змея в теле женщины также обладала спиралевидными отростками, как будто дерево – веточками.
– Ах, вот что, – улыбнулся художник. – Когда я изобразил женщину под таким ракурсом, то был поражён мыслью посланной мне из подпространства. А ведь из этого и состоит каждый человек. То есть, внутри личности растёт дерево, связывающее все физические основы человеческого тела. То же самое представляет собой дерево мира, по которому даже певец Боян путешествовал, о чём сказано в «Слове о полку Игореве».
– А почему у вас в голове женщины находится голова змеи? – поинтересовался Никита.
– Видите ли, человеческий позвоночник действительно похож на ось мира, на его мизерную копию, – начал объяснять Лаврухин. – Недаром во всех странах деревом мира считалась обыкновенная акация: именно это дерево выросло вокруг тела Осириса, именно из веток акации был сплетён «терновый венец» для Иисуса, именно из этого дерева Моисей сколотил себе ковчег. Человеческий позвоночник тоже похож на структуру акации. А голова змеи, как я думаю, тот самый плод дерева, зарождающийся в сознании матери. Если женщину преследуют плохие мысли в момент зачатия, то плод, созревший в голове, падает в её утробу и поселяется в теле ребёнка. Ведь человек до сих пор не может понять, откуда у детей возникают неизвестные слова, понятия, действия, доброта или наоборот – жуткая агрессивность. Казалось бы, человек ни в коей мере не должен родиться плохим, однако, многие дети вместо «мама» говорят «дай». У этой женщины, пришедшей ко мне ниоткуда, родится ребёнок с головой змеи: с ранних лет умненький, даже мудрый, чуть ли не гениальный, но в любой момент готовый ужалить любого, кто окажется поближе. Нечего, мол, со мной сюсюкать и растекаться лужей по паркету.
– Сколько стоит эта картина, – спросил Никита, поскольку решил подарить картину Ляльке. Пусть думает, каким может родиться у них ребёнок, когда настанет срок.
– Знаете, – художник на несколько секунд замолчал. – Знаете, я вам эту картину просто дарю, потому что вы первый за сегодняшний день, с таким вниманием отнёсшийся к моим работам.
Лаврухин снял с плетёного стенда гравюру, завернул в чистый лист бумаги и протянул понравившемуся ему собеседнику. Никита растерянно принял подарок, распрощался с художником и побрёл дальше. Мысль, что офеня и художник-график похожи, как братья-близнецы, опять закрутилась в пустой голове, подгоняемая фразой, брошенной юродивым в детские годы: «…чтоб душеньки свои вы в огонь не побросали…».
О, сколько раз уже приходилось делать это, сталкиваться с вездесущим пламенем онгона. Сколько раз, начиная с тех времён, когда книги только-только стали овладевать сознанием, лепить характер человеческий, или характерного человечка, испепеляющий онгон проникал в тело, сознанье, душу? Сколько раз хозяйничал супротив воли? А!.. всё равно…
Но откуда этот залежалый офеня – продукт явно не двадцать первого века – откуда он что-то знал про Никиту?.. откуда Александр Лаврухин?.. нет. Просто какое-то дикое совпадение. Всё это ерунда на постном масле.
Размышляя так и заставляя себя не думать, не вспоминать о куче сгоревшей бумаги в секретере Никита брел по Арбату в толпе гуляющих, число которых на этом клочке Москвы никогда не убавляется.
Художники, портреты, барды, палатки, продавцы, попрошайки – всё смешалось в одну разноцветную карусель, даже слишком весёлую, чтобы быть настоящей. На углу разбитные девчонки-протестантки, размахивая флажками с трехцветной российской демократией, протестовали против очередной войны, развязанной американцами, своеобразным парафразом известной фронтовой песни: «… а Бушу яйца-а-а оторва-али, несли с пробитой головой».
За столиками, стоящими прямо посреди улицы, сидела шумная студенческая компания и с достойной всяческого уважения актуальностью уничтожала то ли «Баварское», то ли «Балтику» третий номер, но под непременные креветки, поцелуи и тосты. Естественно, где-то сбоку притулился всамделешний гитараст с нехитрым музыкальным инструментом своим, да только с музыкой у него как-то не получалось. Но это никого не интересовало.
Общее внимание привлёк к себе серебристый кабриолет, медленно продирающийся по пешеходному Арбату. За рулём сидел известный всему городу Сын Юриста. Такую кличку от народа Жириновский заработал своим же высказыванием, мол, мать у меня – русская, а отец – сын юриста. Что поделаешь, человек сам выбирает себе не только профессию, а и национальность. Позади его машины неотлучно, словно щенок на верёвочке, полз джип «Чероки» с зачернёнными стёклами в тон окраске кузова.
– А слабо Жирика на пивко расколоть? – подал кто-то ценную мысль в студенческой компании.
– Легко! – отозвался гитараст. Прислонил свою многострадальную «музыку» грифом к столешнице и боком протиснулся к кабриолету.
– Здорово, Вольфыч, – глубокомысленно обратился он к сидящему за рулём, но больше сказать ничего не успел, потому как из джипа, словно чёртики из табакерки, выпрыгнули два охранника с тем, чтобы блокировать осмелившегося обратиться к ЛДПРовскому хозяину.
– Ладно-ладно, отпустите-отпустите. Однозначно! – проворковал Сын Юриста. – Чего тебе?
Гитараст, разминая запястья после нежных прикосновений охранников, ничуть не смущаясь, ляпнул:
– Вольфыч, а слабо с нами по полтинничку на пиво?
Тот удивлённо посмотрел на гитараста, подумал секунду и в тон ему ответил:
– Легко!
Пока возбуждённые студенты освобождали место для именитого гостя, вытирали замусоренный стол, и наливали ему пиво, охранники живым полукольцом оцепили пивной ресторанчик, ясно давая понять, что «туда нельзя», «сюда тоже». Барин гуляют!
Никита, мимоходом наблюдая арбатские приключения, засмотревшись на эту достойную кисти эпохального баталиста панораму, налетел на ещё одного нелепого торгаша. Тот сидел прямо на булыжной мостовой в позе бывалого московско-российского йога и бормотал то ли мантры, то ли заклинания, то ли «Апрельские тезисы» Ульянова-Бланка. Его окружали три кольца стеклянных разнокалиберных банок, как три кольца ПВО – Москву.
Никита прорвался в самый центр, не задев ни единой посудины. Да и сам торгаш, одетый в русскую с расшитым воротом косоворотку, чудом избежал столкновения. Видя попавшего к нему потенциального покупателя, он тут же принялся всучивать свой любопытный товар, отчаянно грассируя и канюча:
– Купи, господин хороший, баночку. Ждёт-пождёт рыцаря красна девица.
Это словосочетание «господин хороший» полоснуло, как высверк зарницы, когда «тиха украинская ночь». Снова почудился давешний знакомец офеня. И уже в третий раз! Нет. Лицом не похож, хотя голос вместе с прибаутками очень смахивает на тот, что был у встреченного книжника в боярском кафтане… А что голос?
Можно подумать, что офеня давнишний знакомый и Никита обязан вычислять его даже по голосу и по цвету глаз из тысяч, гуляющих по Арбату! Только глаза всё же очень похожи на те, что были у художника Лаврухина: острые, насмешливые, беспощадные. Такие легко запоминаются, но у разных людей глаза не могут быть одинаковыми. Скорее всего, одинаковых глаз не бывает, как и одинаковых отпечатков пальцев. Может, все они, арбатские тусовщики, чем-то похожи? Вот и будет теперь офеня чудиться в каждом случайном прохожем.
– Ты чем торгуешь? Банки продаёшь? – решил узнать Никита.
– Банка банке рознь: ту – возьми и брось, а вот здесь не муха – свет Святого Духа.
– Говори да не заговаривайся, любезный? – поднял бровь Никита, тем более, присказка опять смахивала на слетавшие недавно с губ офени прибаутки.
Однако, взглянув на стеклянную посудину, обомлел. К вечеру ближе тени сгущаются: внутренность банки отчётливо светилась разноцветными узорчатыми пятнами. Они не лежали смиренно набитые под стекло, а переливались, вытягивались, заплетаясь косичками, создавая внутри посудины огромный разноцветный микрокосмос. Надо думать, в темноте банка вообще заиграет всеми цветами радуги.
– Что это у тебя? – опешил Никита.
– Имеющий уши да слышит, – обиделся торгаш. – Я не шайтан и не шарлатан. А вот ангелов ловлю да по сходной цене уступаю. Они ведь как? Ждут-пождут сердешные, когда попросит кто о помощи помолится. Да народ или молиться не умеет, просит плохо или непотребное что-то клянчит. А ведь сказано: стучите и отверзется, ищите и обрящете. Для кого сказано? Вот и помогаю я ангелам непристроенным с людьми творческими встретиться. А где же ещё, как не на Арбате? Да…
Торговец замолчал, поднялся с земли, отряхнул свою белую полотняную косоворотку, подпоясанную красным кушаком с кистями, тоже очень похожим на пояс офени.
– Ну, что? Возьмёшь Ангела? В полцены уступлю, а то потом искать будешь – не найдёшь, просить станешь, а не обломится.
– Тебе лишь бы продать, я понимаю, – кивнул Никита. – А что мне с ним делать, если это действительно ангел?
– Как что? – удивился торгаш. – Принесёшь домой, поставишь на подоконник. Как чего надо – потри банку рукавом, глядишь чего-нибудь и исполнит.
– Ну, прямо уж и исполнит? – не поверил Никита. – Он же не джин и не в кувшине.
– А тереть банку с верой надо. С любовью, – наставительно объяснил продавец. – Обращаться только с необходимыми проблемами и не надоедать попусту.
У студентов за пивной трапезой в уличном ресторане кто-то включил магнитофон, из которого голос Высоцкого авторитетно сообщил: «Меня недавно Муза посетила. Немного посидела и ушла…».
– Этот не уйдёт, – кивнул продавец на светящуюся банку, – только крышку не открывай.
– Ага, одиночная камера. Он что-то вроде джинна, что ли? – решил уточнить Никита.
– Я же говорю: Ангел! Бери, тебе даром отдам. Ты хороший парень, скрупулезный, так что Ангел у тебя не пропадёт. Это мой подарок от души!
– Странно! – поджал губы Никита.
– Что странно? – не понял торгаш. – Дарёному коню…
– Знаю, знаю, – перебил Никита. – Не то странно, что ты мне подарок делаешь, а то, что мне только что один художник, на тебя похожий, тоже подарил свою картину.
– Художник? – усмехнулся торгаш. – Подарил? Так радуйся! Подарку всегда радоваться надо, иначе ты за всю свою сознательную жизнь романы писать не научишься…
От студенческих столиков, аккуратно отгороженных спинами хранителей тела, раздался дружный хохот. Никита даже оглянулся в ту сторону. Видимо, гвоздь программы – именитый гость – веселил подрастающее поколение, на чём свет стоит. От него можно было ожидать что-либо подобное, тем более, в студенческой компании.
Никита невольно прислушался. Судя по всему, Сын Юриста был в ударе и возвысил голос свой с милой «юридической» картавинкой. Его стало хорошо слышно на добрых сто метров в близлежащих арбатских подворотнях и уличных ресторанах.
– Пора объединить все здоровые силы в Отечестве нашем, – витийствовал Жириновский. – Объединить всех истинных граждан Державы нашей вокруг единой святой идеи – назло любой мировой закулисе. Иначе – хана. Воспользуюсь этой скромной трибуной, я процитирую здесь, в порядке напутствия единомышленникам, заключительные слова из моей книги «Иван, запахни душу!»: «Я простой гражданин России. Я хочу помочь тебе, Иван. Давай вместе скажем, наконец: Хватит! Русский Иван больше не хочет, не будет, не позволит!».[12]
– Во даёт! – отметил Никита. – Ему бы ещё броневичок, как Ильичу Первому, или на худой конец танк, как Бориске Пропойце, – и революция в кармане. Да, мужик, давай мы с тобой, мужик! Мужик не хочет! Правда, неизвестно что, но не хочет! Конкретно не хочет! Поэтому, долой! Расстрелять! Призвать к ответу и заставить объяснить мировой закулисе… Новая революция… Новая власть… Всё это мы уже проходили в сотнях стран в миллионах эпох. Во имя чего? Выстругать новое свиное корыто для «отечественной закулисы»? Сам-то ты, Сын Юриста, сделал для страны хоть что-нибудь стоящее, кроме скандалов и пустопорожнего ора?
Меж тем торгаш принялся складывать банки в большую чёрную сумку. Никита всё ещё держал светящийся сосуд, не в силах решить: купить или не купить, как будто вездесущий принц датский снова патетировал из средневекового небытия трагическим шёпотом – быть или не быть?
– Извечная дилемма, – подал голос продавец. – Я и сам не ам, и другим не дам.
– Но ты не сказал, сколько я тебе должен? – возразил Никита. – У любого товара есть своя цена.
– Говорю же: тебе – даром. Бери, пока даю! – торгаш обиженно вскинул голову. – Беда мне с этими русскими, даже подарки готовы на зуб пробовать.
– Послушай, что это ты вдруг подарить решил? ангела?.. в банке?
– В банке, в банке, – подтвердил незнакомец. – Они больше ни в какую посуду не ловятся. А ты мне понравился, парень, вот поэтому хочу сувенирчик на память оставить. Можешь не благодарить, сейчас это тебе просто игрушка красивая. А потом, когда поймёшь, может, вспомнишь ещё да поклонишься.
Торговец уже сложил свой странный товар в сумку и, не спеша, зашагал к Смоленке, ещё раз кивнув Никите на прощанье. Тот остался стоять посреди улицы, держа в руках банку, переливающуюся холодными разноцветьями бликов, не зная, то ли радоваться нежданному подарку, то ли поставить её куда-нибудь к стеночке от греха подальше.
– Послушай! – закричал Никита вслед торгашу. – А как ты догадался, что я романы пишу?
Только торговец уже не слышал Никиту или сделал вид, что не услышал, продолжая прокладывать могутным плечом путь к метро в негустой толпе случайных прохожих.
Банка в руках жгла холодным светом, и хотелось от неё почему-то избавиться. Но затейливые блики, словно узоры калейдоскопа, завораживали волшебными рисунками, удивительным струистым мерцанием, и Никита решил оставить игрушку. В то, что там действительно ангел, верилось слабо. Точнее, совсем не верилось, хотя что-то там всё-таки светилось. Может метан? или гелий? или?.. Полыхающая огнями банка вполне могла оказаться побочным продуктом какого-нибудь грандиозного открытия или совсем не грандиозной ядовитости. А, может, она всё же не дешёвка? Тогда зачем торгаш её подарил? Ведь сначала продать хотел!
– Губит людей не пиво, губит людей вода! – жизнеутверждающе голосили студенты, а, Сын Юриста милостиво кивал в знак полного согласия. Его маститая тушка торчала посреди студентов, живо напоминая репейник на грядке. Потом он вдруг вскочил, встал в позу и зажурчал, совсем как обвальный водопад:
Подай, поэт, глоток прохладной лиры, Я так устал от бешеной жары!.. Угрюмый мир моей пустой квартиры Не отличить от сумрачной норы.[13]Никиту слегка затрясло, где-то в недрах желудка стало нехорошо. Этого только не хватало! С биокабинками на Арбате проблема. Никогда бы не подумал, что от стихов…, то есть от зарифмованного текста, может быть нехорошо.
Душа истлела, сердце от исканий Иссохлось, как пустынная земля… Подай, поэт, приблизь предел мечтаний, И в храме вечности тебя восславлю я!.. Всего глоток… Я шёл через пустыню, Песчаный смерч засыпал мне глаза, Моих следов не отыскать уж ныне, Их занесла песчаная гроза, А фляга вдохновенья опустела Ещё за тем барханом суеты…– Ага, – подумал Никита, – ещё одну такую флягу и атомной войны не надо. Вот в этом весь Жирик!..
Он кивнул неизвестно кому, и пошел, размышляя об ангелах совсем не ангельскими категориями, потому что иначе хана. Арбат уже не казался Никите таким уж странным и с десятком-другим художников-торгашей-офеней он был совсем не прочь встретиться мимоходом. А что, сразу жизнь принимает какие-то другие оттенки, и происшедшие события кажутся указательными вехами в непройденной дороге по болоту жизни.
Никита снова с любопытством взглянул на подаренную банку. Пятна в ней с наступлением темноты действительно сгустились, даже сами стали источать неуловимую радужную энергию. Смотреть на них было приятно. Световой калейдоскоп не раздражал, а наоборот, успокаивал и навевал воспоминания детства:
Свет лампочки ворвался в комнату непрошенной сиятельной волной, обличающей всех, на месте застуканных. Мама твёрдой поступью войскового старшины на параде маршировала по паркету к сыну, занявшему оборону на тахте под верблюжьим одеялом. Никита, глядя военный парад по телевизору, как-то раз примерил эту грозную шагистику военных к маминой – получилось в точку.
«Сейчас она устроит пар-Ад, – справедливо подумал Никита. – Нет, скорее всего, демон-страцию. Хотя хрен редьки не слаще». Чеканная поступь тапочек затихла совсем рядом.
– Сам отдашь или изъять?
И голос как у старшины. Никуда от неё не спрячешься. Но Никита лежал, не шевелясь под своим толстым верблюжьим одеялом с лиловым узбекским узором посредине: а вдруг пронесёт? вдруг поверит, что сплю?
Мама тяжело вздохнула, содрала одеяло и отобрала зажжённый фонарик.
Отобрала так же и книжку. Посмотрела название.
– «Три мушкетёра», – поджала мать губы. – Третий раз ведь уже читаешь. Поспал бы лучше. Завтра опять краном не подымешь.
– Мам, ну я только главу дочитаю…
Мама посмотрела на попрошайку с чуть заметной улыбкой.
– Всё, спать! И гляди у меня! – погрозила она.
Никита горестно вздохнул, опять с головой закутался в одеяло, всем своим видом изображая покинутость, одиночество не понятого обществом и непризнанного даже близкими. Ну, пусть не гения, где-то около, но непременно гонимого.
В комнате погас свет. Дверь затворилась. Мальчик ещё некоторое время лежал, напряжённо выслушивая тишину. Вот по коридору прошуршали мамины тапочки, неуловимо превратившиеся из пар-адовых ботфортов в мягкие кошачьи подушечки. Пора! Он змеёй скользнул под стоящее рядом с тахтой бархатное кресло, выудил оттуда другой фонарик, том «Графа Монте-Кристо» и снова с головой нырнул под одеяло. Жизнь продолжалась.
Угрюмый дождик до вредности педантично перечёркивал окно наискосок, Судя по всему, на заслуженный отдых он не собирался. Никита в мокрой куртке – забыл снять – сидел у письменного стола, держа в руках фотографию улыбающейся девушки. Милые глаза, милая улыбка… Кто она ему? Так, одноклассница, сидели за одной партой с первого класса. Именно тогда Никита взял на себя смелость охранять Верочкины бантики, что б никто не смел не то, чтобы дёрнуть, но даже подумать об этом.
Сейчас она уже девушка и сделала себе модную стрижку. Даже успела выскочить замуж. Но что толку с этой стрижки? Она всё ещё та маленькая, с косичками? Хотя… Только ведь никто никаких обещаний не давал! А разве надо было что-то обещать? Ведь они целовались! Оба целовались в первый раз! Он отлично помнил, как её глаза оказались совсем рядом, будто заглядывали куда-то внутрь, куда даже сам Никита ещё не заглядывал.
А оттуда, изнутри, полыхнула волна огня! Впрочем, это был не тот огонь в физической своей ипостаси. Это был настоящий адский онгон, сметающий все преграды и условности, спаливший в одно мгновенье всё существо до клеток, до атомов.
Он целовал её… нет, это она, она целовала. От этого голова кружилась ещё больше, ещё значительней было тонкое касание руки, волосы, скользнувшие по лицу… Запах её тела – свежесорванных яблок, смешанный с дымом запрещённой «Варны» или ещё чего-то запрещенного, дурманил, жил в нём частью того же самого онгона. Потом была встреча: сын, очень похожий на маленького Никитку, её глаза… ее шёпот:
– Хочешь? Я приду к тебе…
Оказывается, не только к женщинам иногда возвращается память о первой любви. Но в отличие от мужчин женщина никогда не помнит, что дважды в одну реку не входят.
Фотография, разорванная на несколько частей, упала под стол. Там же почему-то валялась книга «Три мушкетёра». Интересно, а какой была Констанция Бонасье, когда училась в школе? И училась ли? Кусочки порванной фотографии окружили книгу, словно маленькие белые лепестки ромашки: любит – не любит, плюнет – поцелует, к сердцу прижмёт…
Сгорает школьный роман. Неудержимо. Неотвратимо. Полыхают выстроенные мальчишеским воображеньем расписные терема, и дребезгами рассыпаются хрустальные замки. Это только в сказках всё кончается хорошо, и они обязательно поженятся. Жизнь подсовывает совсем другое, похожее на нелицеприятную изнанку. К тому же, сопровождающуюся смрадным запахом сточных ям.
В свете рампы возникает невесёлая мизансцена из обломков прошлого, грядущего, пустоты настоящего, которое тут же превращается в прошлое. Чем не калейдоскоп?
Серый пепел, похожий на пелену снега, засыпает глаза. Куда идти? И надо ли? Завтра выпускной. Через несколько лет он встретит её с сыном…
Эта встреча всё-таки будет. Или нет? Выпускной. Куда она после школы. В институт? Не всё ли равно теперь. Только почему же так дышать трудно? Ведь никто она и звать её никак, а…
Листья жёлтые по октябрю уплывают в отжившее лето, умоляя больную зарю вспомнить блеск золотого рассвета. Где-то ветер мяучит в кустах, где-то дождик брюзжит под окошком. Снова жизнь превращается в прах и стареет земля понемножку. Кто познал поцелуи небес, не вернётся обратно в пустыню. Вот он, твой заколдованный лес! Только нет в нём пахучей полыни, только нет в нём шелковой травы — все тропинки листвою заносит. Под унылые крики совы бесконечная тянется осень, осень жизни и осень души, как рисунок на белой эмали. Ты когда-нибудь мне напиши те слова, что ещё не слыхали обладатели пышных одежд на твоём незапятнанном ложе. Я шагаю по лесу промеж мёртвых клёнов – усталый прохожий, не похожий на стража небес и на сказочного исполина. Где он, твой зачарованный лес с Купиною Неопалимой?В том же альбоме сохранилась ещё одна фотография прошлых времён, которая чудом попала к Никите, ибо сделана была залётным журналистом, прилетевшим тогда в ЦДЛ за информационной поживой – вдруг повезёт!
Журналисту повезло запечатлеть писательский дебош. Более того, он умудрился передать фотографию пикантного момента непосредственному исполнителю…
Всегда благопристойный конференц-зал Центрального Дома Литераторов в Москве нынче клокотал от непристойности, словно незапланированный лавовый выброс давным-давно потухшего Везувия, вдруг возрождённого к жизни на маленьком кусочке большого города. Это иногда случается в кузнице человеческих душ, не только с кузнецами. А если при этом подворачивается удобный случай кого-нибудь пнуть или хотя бы вытереть свои многотрудные ноги, естественно дико извиняясь притом, то желающих хоть отбавляй.
Шумный пленум Союза Писателей был в самом разгаре: обсуждались навалившиеся, требующие немедленного решения проблемы непростого многонационального пространства, именуемого Россией. Что говорить, а писательское корыто приняло с лёгкой руки Луначарского и Фадеева статус «наиважнейшей кормушки» с комбикормом за полцены.
Надо сказать, писатели в ЦДЛ забегали чаще всего, чтобы пропустить рюмашку-другую в подвальном буфете, а не перемывать кости и грязное бельё собратьев по стилу. Но на сей момент, в зале собрались маститые и не очень, так как темы дебатов казались насущными.
В зависимости от поднимаемых тем выступающими ораторами, посреди классиков рождались глубокомысленные рассуждения и вспыхивали моментальные драчки «за» и «противостояния». О литературе уже никто не думал, так как срочно надо было отстаивать своё мнение и выбивать место у кормушки. Обычно из всего этого возникали очередные «охоты на ведьм» да поиски внутреннего врага: идеология – вещь серьёзная, одной перестройкой от неё не избавишься.
Никита заскочил сюда в надежде увидеться с приятелем-стихоплётом, само-собой неповторимым гением, да так и остался, слушая самозабвенные русофобские, юдофильские, патриотические восклицания ораторов.
Опрометчиво развесив уши, он даже не заметил, как искусные ораторы навешали ему такой лапши, что и сам он решил податься в подобные трибуны.
Оттесняя знакомых и малознакомых, Никита успешно прокладывал себе путь на сцену, к заветной трибуне, поскольку именно она была сейчас тем местом под солнцем, за которое положено бороться всем трибунам-ораторам, оттеснив сытные кормушки и корыта на задний план. Переговорив с парой-тройкой президиумных заседал, он выбил-таки желанное место и время на вдохновенную речь.
– Эх, давно не брал я шашку в руки, – пробормотал Никита, пробираясь к кумачовой тумбе.
Оглядывая зал, он привычно искал среди очков, пиджаков, платьев что-нибудь такое галантерейное, на чём может сосредоточиться взгляд. Из всей пестроты партера он выделил даму не слишком старую, довольно упитанную, но главное – на ней было надето что-то, похожее на китайский пеньюар: розово-жёлтые драконы слились в экстазе посреди экзотических лиан и папоротников. Никите даже захотелось заглянуть под кресло, чтобы убедиться в наличии кружевных оборочек на экзотической хламиде. – Надо же, наши поэтессы в присутственные места в неглиже изволят?
Тем не менее, объект был, мысль тоже. Не хватало связного повествования об подступивших обуревающих чувствах, но в таких случаях Никита предпочитал вспоминать слова Иисуса, заповедовавшего апостолам не заготавливать парадных речей и проповедей: Господь сам знает, какие слова вложить в уста глаголющему, особенно если тот вносит в жизненную суматоху часть хоть какой-то истины.
На трибуне, как положено, стоял графин, вероятно, еще со времён зарождения исторического материализма. Налив себе воды, вкусом очень похожую на прокисшую атмосферу в зале, Никита отыскал глазами выбранную жертву и обратился прямо к ней:
– Я вот здесь послушал выступления многих уважаемых, – он сделал сакраментальную театральную паузу, – и не без основания подумал, что устраиваются нынешние пленумы для исписавшегося или вообще бесталанного большинства, прорывающегося к кормушке. Ведь во времена Бояна, Державина, Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Бунина, да и в Серебряном веке тоже никогда не было Союза Писателей или Художников. Откуда эта кровавая мозоль среди верховых, оседлавших Пегаса? Зато Союз Писателей богат членами, этого никому не отнять.
Мигом рухнувшая в зал тишина воодушевила Никиту. Мысли, образы, соображения, давно зревшие в сердце, стали выстраиваться во вполне понятную картину мышиной возни под царственной вывеской «Союз Писателей». Вероятно, не стоило в эту пустую драчку ввязываться: гневной речью, похожей на порыв ветра, такую махину не остановить – но уж если первый шаг сделан… Пеньюарная жертва плотоядно взирала на молоденького, но уже осмелившегося, – что б ему!..
Никита не отвёл взгляда, наоборот. В одраконенной даме, любопытные глазки которой весело поблескивали на откормленном оштукатуренном лице, пред ним предстал весь СП в великолепии социалистического реализма.
– Поднимите руки, – продолжил он, – кто из вас вместо того, чтобы работать со словом, над словом, писать стихи, песни, прозаические эссе, опусы и романы собираются здесь и слагают слова в лозунги типа: «Русские мешают возрождению Руси!» или «Восстановлению порядка в России мешают жиды!». Ага, лес рук и бурные аплодисменты! В общем, хорошему танцору всегда что-то там мешает. Я вижу в президиуме одного из прежде выступающих и отважных. Скажите, Юрий Александрович, а много ли килограмм прозы у вас вышло за последнее время? – обратился он к одному из президиумных писателей. – Нет, лучше сформулируем по-другому: у вас вышло в свет более сорока томов многокилограммовой прозы. Я ничего не путаю?
Я не против ваших сочинений, отнюдь нет, но здесь несколько минут назад вы, милостивый государь, заявили, мол, гнать из России жидов и всё тут. Пусть русские только русских читают. Я знаю одну кандидатуру на выгон. Это женщина. В частности – Юнна Мориц, о которой вы тоже только что поминали. Эта поэтесса искренне считает нашу страну своей Родиной, живёт в ней, Никуда не эмигрируя, работает для страны, то есть для русских. Более того, считает себя истинной уроженкой державы под именем Русь. А строчки её стихов, например, «Собака бывает кусачей только от жизни собачей» или «Шёл и насвистывал ёжик резиновый с дырочкой в правом боку», знает любой первоклассник.
Так кто же для этой страны сделал больше: многоуважаемый Юрий Александрович с грудой изданных томов, которые, увы, никто не читает и которые не годны даже для туалета, потому как отпечатаны на мелованной бумаге, или эта поэтесса одной строчкой своего стихотворения?
Хотите знать, во что выливаются писательские бдения? Пожалуйста: на Масленицу у парадного подъезда ЦДЛ сожгли соломенное чучело Евтушенко. Он что, заказал посильную помощь в рекламе, поскольку давно уже исписался?
Писатели меняют стило на френч рекламного менеджера! А скажите-ка мне, уважаемые, был ли, скажем, Пушкин или Гоголь, в каком ни на есть Союзе Писателей, я уже задавал этот вопрос? Что? Не было тогда этого? То-то и оно! Просто не надо было русским писателям становиться членами. Люди вместо междоусобия работали и не мешали другим. Конечно, ссоры да междусобойчики имели место и тогда, не отрицаю. Но люди не мешали друг другу: никто никого никуда не выгонял. Одно только изгнание Пастернака или Бродского стоит презрения к Союзу так называемых писателей!..
Зал уже давно раскалённый и заведённый вдруг взорвался фальцетом обиженного члена СП:
– Поджидок!
Никита с удивлением отметил, что визжала пеньюарная дама, а её драконография оскалила свою хищническую сущность, готовая порвать на портянки Нового Цицерона. Зал, подгоняемый визгом, словно ломовой мерин пьяным извозчиком, подхватил:
– Гнать его! Вон из России!
– Пошёл вон!
– Вали из России, жидовский прихвостень!
– Меня? Из России? – усмехнулся Никита. – Это вряд ли получится. А вот в Союзе вашем я и сам не останусь. Кто кому нужен, вы мне или я вам?
С этими словами Никита достал из кармана зажигалку, писательский билет и принялся обстоятельно поджигать его здесь же, на трибуне посреди траурного всеобщего ворчания. Красный коленкор упрямо сопротивлялся, но с огнём не пошутишь: корочка, роняя едкий, режущий глаза дым, всё-таки занялась.
Боковым зрением Никита заметил, что пришедшие в себя охранники писательских тел активно зашевелились за кулисами.
Дожидаться афронта не стоило. Величественным жестом, бросив билет, исторгающий обаятельную вонь, в пепельницу председательствующего, стоявшую на столе под кумачом, Никита спрыгнул со сцены и, не торопясь, вышел из зала.
Толпа, заполнившая было проход, послушно расступалась перед ним, будто застойный лёд под брюхом ледокола. С чувством выполненного долга Никита вышел из зала, где писательский шабаш уже достигал апогея.
Уходя – уходи!
Глава 3
Он стал приходить ночью.
Сначала просто как часть сонной рапсодии или мозаики, потом более зримо, осязаемо. Казалось, незримое полупрозрачное пространство вдруг сворачивается, раскручивается маленьким смерчем прямо в квартире, потом крутящийся вихрь густеет, и плотный сгусток постепенно превращается в абрис человеческой фигуры, продолжающей шевелиться в такт вращения смерча. Наконец, когда наблюдающий уже должен привыкнуть и не орать благим матом, видя сгущающееся пространство, из ниоткуда возникал настоящий человек.
Кто он? Никита не знал, не пытался разобраться в истоках своих снов. Просто когда приходил Ангел – именно так стал называть его Никита – в холодной комнате становилось тепло и уютно. Видимо, сгусток воздуха, откуда возникал Ангел, был непростого происхождения. На припорошённом снегом балконе распускались чайные розы удивительных расцветок и оттенков, а откуда-то из близкого-далёка доносилась нежная спокойная музыка, напоминающая мурлыканье ручейка по весне. На большом старинном гобелене, подаренном друзьями на свадьбу, расцветал миндаль, и лёгкий бриз кружил по комнате его удивительные дымные запахи.
Тут хочешь – не хочешь, а поверишь в невообразимый потусторонний огонь, врывающийся без спросу в обозримое пространство. Сначала чудилось невесомое парение в каком-то волшебном незнакомом мире, который был всё тем же узнаваемым. Узнаваемым, и в то же время совсем другим, будто отражённым в огромном венецианском зеркале, которое Никита из года в год давал себе слово перевезти с дачи в Москву, но которое так и оставалось в числе невывезенных.
Глубина и чистота отражения зеркала была пронзительной, как сквозняк, шмыгающий в приоткрытую дверь промозглым вечером, как судорога скул от ключевой воды в июльский полдень. Зеркало завораживало и отражало самую суть возникшего в нём человека, который непроизвольно получил имя Ангел. Это нездешнее зеркало совсем не спешило отражать физические формы предметов окружающего мира. Только когда Никита брал зеркало за угол, словно огромное полотенце, и встряхивал, то отражающийся в нём Ангел оставался в комнате. Более того, он оживал физически, а зеркало исчезало, будто его и не было.
Это новое чувство, подаренное Ангелом, можно сравнить разве что с любовным мандражом нецелованного мальчика. Любой мужчина должен помнить первые ощущения, когда каждой клеточкой чувствуешь хрустальные многоэтажные пространства, готовые рухнуть на самой высокой ноте твоей желаемой грусти или восхитительного восторга, чтобы опрокинуть и тебя, и весь мир в тартарары, потому что… потому что любовь!
Но всё же, что такое любовь? Жалость? Сострадание? Боль? Понимание? Алчное обладание? Или всё это вместе взятое, плюс ещё косой десяток определений? Возможно, если это чувство является целью. Но когда человек живёт понятием Христоцентричности мира, любовь становится процессом, философией и даже самой жизнью.
Именно эту роль взял на себя Ангел, потому что Никита видел в нём посланца неведомого Божественного мира, иначе с приходом Ангела никогда бы не появлялось чувство высокого полёта и радости.
Мишурные брызги света, словно пузырьки нарзана, струились в сознании. Откуда-то проливались звёздные ливни, пронизывали пространство, закручивались косичками, как стебли повилики или ползущая по прутику виноградная лоза. Конечно, это мир становился сном, потому что наоборот бывает редко, вернее, – никогда. Но повторяющийся сон намекает на то, что он – вещий. Сны-откровения и раньше приходили к Никите, поэтому он не особенно удивлялся головокружительным красотам, сопровождающим приходящего Ангела. Более того, Никита стал ждать его появления, так как никогда раньше не испытывал такого подъёма жизненных сил и веры в свои писательские способности.
Лялька, узнав об Ангеле, ничего не сказала, только ядовито улыбнулась и поджала губы, дескать, будущее покажет. Что ж, Никита был с этим согласен. Только когда наступит это будущее? Причём, Лялька скоро уезжала в свою очередную археологическую экспедицию, а Никите не хотелось бы встречать будущее без любимой жены. Тем более, что Лялька всегда была его берегиней и дельным советчиком. Таких жён в наше «трудное время американского кризиса» днём с огнём не сыщешь.
Волшебные сны, кстати, стали сниться почти сразу после того, как Никита принёс домой дареного Ангела в банке. Поэтому являющегося во сне он почти сразу стал называть Ангелом. Гость никогда не причинял неприятности и вместе со сновидениями приносил только радость. Может быть, он не любил страшилки и кошмары всех видов, потому как кошмарики никогда никому не приносили пользы. Ангел становился для Никиты тем другом, каких мало в настоящем подлунном, поэтому его сакральные посещения стали необходимы, как укол для наркомана.
В связи с посещением потусторонней силы, вероятно, необходимо было выпросить у него подачку, как водится во всех сказках. Но просить Ангела о каких-то выполнениях желаний совсем не хотелось. А банка, между тем, днём жила своей банковой жизнью, к вечеру переливалась искромётным каскадом красок, вспыхивала фейерверком пульсирующих огней. Всё же посудина не всегда была весёлой и цветной. Банка стояла на подоконнике иногда тёмная, даже чёрная, не выдавая своего присутствия. В такие моменты Никите казалось, что Ангел на что-то беспредметно обиделся и совсем по-детски фыркнул.
– Тоже мне, ужас на крыльях ночи! – ворчал Никита в такие вечера. Он очень не любил Ангела, когда банка темнела, потому что неизвестно на что обижается. И вообще, обижаться без причин, прямо скажем, просто неприлично. К тому же на обиженных воду возят! Но сам житель банки никак не проявлял себя, кроме цветастой какофонии света и красочных явлений во снах.
Как-то раз Никита, посмеиваясь в душе над собой, попробовал потереть стеклянный полыхающий бок банки рукавом свитера, но Ангел игнорировал его робкие попытки. Правда, именно после этого он стал приходить в гости, перенёс цветомузыку в сон, даже раскрашивал сонное пространство перед Никитой, используя сочные пахучие краски, создавая удивительные картины, за идею которых любой художник неизбежно пожертвует жизнью, но и только. Хотя, если разобраться, это тоже было не мало, поскольку сны восстанавливали периодически исчезающий стимул в работе над текстами, избавляли от покрытой зеленью и плесенью тоски. Постепенно цветовые ванны превратились в своего рода допинг.
И все же сны были сюжетными. Лялька здорово умела их разгадывать, но она вот уже пару месяцев как потерялась в Земле Спасителя. Археологи всего подлунного снова кинулись в Палестину, потому что кто-то где-то под уцелевшей стеной Иерусалимского Храма опять нашёл подлинные апостольские Евангелия на «подлинной финской бумаге прошлогоднего выпуска Коткинского писчебуммаша»… – так Никита подтрунивал над женой, однако она была совершенно индифферентна к подобным шпилькам. Более того, прослышав про новые археологические находки, тут же без лишних обсуждений кинулась на передовую.
Из редких её посланий по Интернету, Никита узнал, что действительно нашли рукописи, действительно древние и что… и что жена задержится ещё совсем на чуть-чуть. Это значит, месяца три-четыре придётся жить холостяком, смотреть разноцветные дурацкие сны и мечтать о возвращении Ляльки, как о чём-то небывалом, несбыточном.
Возвернётся археологиня до дому до хаты, ан мужа-то и нетути: устроился на Канатчикову дачу сказочником по совместительству, сны свои Никит-царевичьи медсёстрам наизусть рассказывать, коль на бумагу ничего путного не ложится. Но и Ляльку тоже понять можно было. Любой человек, если он личность, должен относиться к своему делу серьёзно.
Поначалу Никита пытался отвадить жену от археологической страсти. Возможно потому, что заявлялась она из экспедиций совсем в неадекватном состоянии: исхудавшая, облезлая, пыльная, с нездоровым стеклянным блеском в глазах.
Её приходилось неделями отмачивать, оттирать в ванной, откармливать любимым карпом по-китайски, которого Никита отлично мог приготовить. Но только-только оборванка начинала превращаться во вполне цивильную принцессу, звучал рог Судьбы, она срывалась на очередные раскопы, все усилия мужа – хвосту под кот.
Вероятно, Никиту мучил обычный мужской эгоизм: «Скорей отдай мой каменный топор и шкур моих набедренных не тронь, Молчи! не вижу я тебя в упор, сиди там и поддерживай огонь». Когда-то Высоцкий спел свою песню с подковыркой всем семейным, но и сам попал под тот же топор.
Никита любил Ляльку, а любовь никогда не подразумевает дрессуру, скорее наоборот, самопожертвование и жена отвечала ему тем же. А в ответ на бурчание по поводу многочисленных экспедиций отрезала:
– Я ведь не мешаю тебе заниматься любимой литературой!? Если место друга занял твой Ангел, то и к нему я пока что претензий не имею. Заметь, я никогда не отнимала лиру у твоей второй жены Мельпомены, или у писателей другая муза?
– Вообще-то Эрато.
– Пусть Эрато, – усмехнулась Лялька. – Только она тоже женщина, и отнимая тебя на какое-то время, лишает меня уверенности, что ты ещё рядом, что можешь вернуться, а не остаться там, в запредельном Зазеркалье вместе с Эратой. Кстати, я одна, а у Эрато восемь сестёр – запросто помогут заманить тебя в силки. Им ещё твой Ангел не откажется помочь. Реально?
Потом его жена подошла к полке с книгами, вытащила какую-то, принялась листать и, наконец, найдя нужное, прочитала мужу:
– Я тут интересовалась пифагорейской школой и обнаружила там высказывание самого Пифагора, касающееся тебя. «Ваше собственное существо, ваша душа, не представляет ли микрокосм, малую Вселенную? Она полна бурь и несогласий. И задача в том, чтобы осуществить в ней единство гармонии. Лишь тогда Бог проникнет в ваше сознание, лишь тогда вы разделите Его власть и создадите из вашей воли жертвенник очага, алтарь Весты,[14] и трон Зевса».
Я люблю тебя, муж мой, но люби и ты меня вместе с моими археологическими выходками. Прими меня такой, какая есть, ведь я же тебя принимаю. Только тогда восстановится меж нами гармония, и богиня огня подчинится тебе безоговорочно. Научись не только брать, но и отдавать!
На это сказать было нечего, пришлось смириться. Недаром мудрецы говорят, что женщина, если она действительно женщина, всегда права и лишь человеку свойственно ошибаться.
А Никиту в гордом одиночестве ожидали глобальные перемены. Однажды банковый постоялец пришёл один без сопровождающей его постоянной компании красок и образов. Он заявился, или возник в комнате как простой человек, в джинсах, в свитерке, ничем не отличающийся от какого-нибудь случайного прохожего, раздвигающего в толпе могутным плечом обычные плечи хилых сотолпников.
Вот разве только глаза. Мало того, что глаза у Ангела были разного цвета, это Никита приметил сразу же, но они посеяли какое-то внутреннее неспокойствие, как будто приходилось висеть над пропастью, в межвременье, в ничегонеделании, ожидая неизвестно чего.
Кто-то из шибко мудрых изрёк в своё время исторически мудрёную фразу, что глаза-де – зеркало. Глаза Ангела действительно походили на зеркало. Ну, не совсем в прямом смысле, но на сухом лице, обрамлённом вьющимися тёмными волосами, вдруг вспыхивали два прозрачных родника, тоже разноцветных, и проваливались куда-то внутрь тебя, заглядывали в самое сокрытое, сокровенное.
Всё длилось полсекунды. Взгляд потухал, приглушённый пушистыми, как у девушки, ресницами. В то же время вся его напускная неприметность выпирала вовне. Ангел выглядел, будто сноп огня, рвущийся в окна из горящей квартиры. Такой физически ощутимый сгусток энергии Никите ещё никогда не удавалось обнаружить в человеческом теле. Только был ли он всё-таки человек, несмотря на все, применимые для человека, параметры?
Никита увидел его впервые таким вот простым, ощутимым, близким. Близким в буквальном смысле, потому что Ангел уселся во вращающееся кожаное кресло, стоящее в противоположном углу комнаты у компьютерного стола, молча смотрел на Никиту своими глубокими, разноцветными, почти человеческими глазами, казалось, молился.
Это длилось мгновение, час или год – время законсервировалось, заморозилось. Даже оконная занавеска перестала колыхаться от непрерывных форточных течений. Вероятно, просто не в силах трепыхнуться под волнами свежего воздуха, которые, в общем-то, тоже заморозились, вот разве что не затвердели только.
Никита лежал на тахте, укрытый тёплым пуховым одеялом, и не знал что делать. Чернышевского бы сюда – мелькнула крамольная мысль – он-то всегда знает: что делать и как поступить? Недаром, его одиозная одноимённая книжка послужила для большевиков бесплатным билетом в будущее.
Явь это или сон, поскольку грань между тем и другим настолько тонка, что человеку порой не под силу её ощутить.
Всё-таки это была явь.
Никита решил так потому, что Ангел оставил неподвижную позу сфинкса, моргнул, закинул ногу на ногу и сцепил руки на животе. Откуда он взялся? А, если раньше приходил только во сне, то, может, это тоже… только более ощутимо, осязаемо? Тонкий сон какой-нибудь? Или толстый? Интересно, бывают ли такие сны? Впрочем, снится же! Значит, всё-таки бывают.
– Никита-ста, – первым нарушил молчание Ангел, – я пришёл, чтобы показать тебе мир, который всегда существует в твоём мире, в котором существуешь ты, но не знаешь его. Ты живёшь, не живя, и существуешь, не существуя. Всё можно исправить в этом мире, если захочешь.
Это архаичное обращение, да что-то ещё едва уловимое, не имеющее названия, показалось Никите уже виденным когда-то, уже имевшем, так сказать, место. А когда пришелец встал с кресла, как-то неловко повернулся и чуть не смахнул на пол, стоявший на письменном столе компьютер, задев монитор деревянным коробом, висевшим у него за спиной на широком ремне, разорванные клочки воспоминаний мигом сложились в почти забытую картинку.
– Офеня? – полувопросительно полуутвердительно сказал Никита. – Ведь ты тот самый офеня?
– Ага, – согласился тот. – Я тот самый офеня или, может быть, Ангел. Ты ведь так с недавнего времени меня называешь, не правда ли?
– Ангелы разные бывают, – осторожно ответил Никита.
– Да, конечно, – улыбнулся Ангел и тут же задел всё-таки лотком угол серванта, отчего стоявшая в нём посуда недовольно зазвенела.
– Не вертись, пожалуйста, – недовольно проворчал Никита. – А то ты мне своим коробом всю посуду переколотишь. Только что монитор чуть не скинул со стола. Чем он тебе мешает?
– Хорошо, – кивнул Ангел. – Я буду очень аккуратен и постараюсь навеки избавиться от человечьей неуклюжести.
С этими словами он снова повернулся, и опять так неловко, что смахнул со стола хрустальную вазу с засохшими розами, которые ставила ещё Лялька, а Никита всё никак не собрался выкинуть отжившие цветы. Казалось: розы на столе, значит жена где-то неподалёку, может, в соседней комнате или на кухне. С миражами жить иногда легче.
Ваза грохнулась на пол. Хрустальные дребезги весело заиграли по дубовому паркету, звуком внося диссонанс в несоздавшуюся гармонию. Казалось, на этот раз Ангел не способен подарить ни минуты радости. Ну, что ж, не всегда коту перепадает лакомиться сметаной.
– Осторожно! – с запозданием вскричал Никита. – Просил же! Ты в гости явился, чтобы переколотить всю посуду?
– Прошу пардону, – изогнулся офеня в шутовском поклоне. – Я это безо всякой машинальности. Хотя, если данный осколок семейного счастья тебе безумно дорог, то получи…
Он подобрал одну из засохших роз, взмахнул ею, как волшебной палочкой. Пространство изогнулось, в комнате возник маленький вихрь. Вазовые кусочки слетелись обратно на стол, слепились в хрустальную вазу, но роз в ней уже не было. Осталась только одна в руках Ангела.
– Всё-таки сон, – вслух произнёс Никита.
– Чего? – переспросил Ангел.
– Нет, ничего. Это я так. Значит, ты из банки?
– Не совсем, – Ангел на секунду задумался, ища более подходящие слова для объяснения. – Банка только накапливает психофизическую энергию. Так сказать – конденсирует.
– Зачем же ты пожаловал? – хмыкнул Никита. – Сгоревшие опусы прямо на дому предлагать? Если бы мне что нужно было, я бы тогда на Арбате у тебя купил. Что же опять к этому возвращаться?
– Может и так, может, ты и прав, – хитро прищурился Ангел. – Только денег у тебя ни тогда, ни сейчас нет. Во всяком случае, на рисунки и книги не хватит. Разве что подарок не откажешься принять, – Ангел кивнул на рисунок художника Лаврухина, который Никита уже успел пристроить на стену.
– Что? Этот художник тоже на тебя работает? – поджал губы Никита.
– Это ангелы на вас работают, – обиженно заметил гость. – Я с тобой вожусь не для собственной радости, и без тебя дел хватает. Но хочется хоть чем-то помочь. Ведь ангелы никогда не бывают только хорошими или же только отвратительно плохими. Любой из нас с радостью окажет человеку помощь, но только такую, на какую человек способен и готов.
– Интересно, ты сам-то знаешь, на что я готов, и что смогу, а что нет? – хмыкнул Никита.
– Да ты не беги впереди паровоза, Никита-ста, – миролюбиво заговорил Ангел. – Из тебя выйдет прекрасный создатель авантюрных, даже авантажных романов, они ведь тоже нужны, но прежде надо кое-что посмотреть, пощупать, пропустить через себя.
А чтобы пропустить что-то, необходимо претерпеть некоторые внутренние изменения.
– Это как? – не понял Никита. – Ты заменишь мне сознание с помощью психотропного вмешательства?
– Не совсем, – отрицательно покачал головой Ангел. – То есть совсем не так. Ты слышал когда-нибудь о ГМО?
– Генно-модифицированный организм или трансгенизация?
– Да, именно это.
– Насколько я знаю, трансгенизация тотально применяется в сельском хозяйстве, – подытожил Никита. – Только причём здесь психика человека, скажем, состояние его души? Полагаю, ты не собираешься сажать меня в теплицу агропромышленного комплекса и подкармливать гербицидами с ограниченной добавкой пестицидов?
– Конечно нет, – улыбнулся Ангел. – Тебе всего лишь необходимо знать, что в человеческом организме плазмид,[15] способствующих биологическому развитию личности, больше, чем достаточно.
– В результате каждый человек превращается в мутанта, – констатировал Никита. – Так что же мы до сих пор живые? Я слышал, американцы в девяностых годах прошлого столетия придумали трансгенизацию растений, якобы, для борьбы в вредоносными бактериями, и с такими же насекомыми, например, колорадскими жуками. Но человечество до сих пор не скончалось в тяжких муках. Хотя… хотя мне приснилось однажды, что в две тысячи семнадцатом году вся наша планета превратится в мутанта.
– Не всё сразу, Никита-ста, и не обязательно верить в неизбежный апокалипсис, – Ангел для образности покачал головой. – Для каждого времени свои забавы. Но трансгенизация совсем не смерть. Это преобразование организма человека в такую же форму существования, только в очищенном виде. Такое же очищение я собираюсь провести с твоим сознанием, ибо писателями не рождаются – ими становятся. Это возможно сделать довольно-таки безболезненным способом, если, скажем, прогуляться по сгоревшим романам и узнать – почему они сгорели? Почему автор в итоге приговорил героев к сожжению?
Никакой писатель не начнёт думать так, как думает динозавр, не побывав в его шкуре. И только тогда ты совершишь подвиг, когда на исповеди священнику скажешь, мол, нет ни одного греха на свете, которые я не совершал, потому что я писатель и всё, что делают мои герои – делаю я сам. Ну что, по рукам?
Не дожидаясь ответа, офеня подошёл к стене. Засохшая роза в его руке превратилась в ветку мирта, лавра или же омелы – Никита не слишком разбирался в райских кущах, то есть кустах. Ангел плавно, даже немножко «на публику», взмахнул ею, и на стене стала прорисовываться дверь. Обычная дверь, деревянная, с массивной бронзовой ручкой, старинными накладными петлями, мерцающими бронзовым блеском в полутёмной комнате.
– Иди, Никита-ста, не бойся, – обернулся к нему Ангел, – в своей жизни каждый человек должен открыть хотя бы одну дверь. А переступать ли порог – тебе решать.
– Должен открыть дверь, – эхом отозвался Никита. – А разве можно открыть нарисованную дверь?
– А разве можно носом проткнуть горящий очаг, как это сделал Буратино? – поддразнил офеня. – Попробуй, Никита-ста, попробуй!
И тут же добавил дежурной прибауткой:
– У ворот рыжий кот, он тебя задерёт! Не ходи за врата, там живёт пустота.
Как ни странно, присказка подзадорила Никиту. Он натянул спортивный костюм, влез в тапочки и сделал два шага к двери. Потом вернулся, вытащил из-под тахты кроссовки, переобулся, решил, что так лучше, и снова направился к двери. Офеня всё это время молча стоял у компьютерного стола, только короб свой вытащил из-за спины, будто приготовился продавать-расхваливать свой товар небедному, но обнищавшему покупателю.
Чем ближе подходил Никита к двери, тем реальнее она становилась, тем сильнее стучала кровь в висках. Потом где-то на полпути между печёнкой и селезёнкой завозился, словно хорёк в норе, холодный комочек жути. Что, собственно, происходит? Почему он послушался этого, как бишь его? Мало ли что во снах являлся? Ведь сказано же: испытывайте духов, от Бога ли они? Вообще-то Ангелом я его окрестил, а кто он – неизвестно. Как его испытать? Вдруг Никиту осенило: в серванте стояла бутылка со святой водой, которую они с Лялькой принесли из церкви ещё на Крещение. Он оглянулся, но офени уже не было.
– Я здесь и не здесь, я везде и нигде, я жёлтые листья на чёрной воде, – пронеслось в голове у Никиты, словно нелепая прибаутка. Но Ангел всё-таки сгинул. Сгинул очень даже по-английски, оставив Никиту наедине с дверью, тоже, кстати, не опробованной мощью святой воды. Собственно, бутылка вон она, рукой подать, но… лить или не лить, кропить или не кропить? – вот в чём вопрос. Поза датского принца была в наличии, вопрос – тоже, не хватало только черепа бедного Юрика, то есть Йорика, который необходимо было подержать на ладони, как это делал принц Датский, чтобы решить извечный вопрос – быть или не быть?
– Смылся! Тоже мне, Ангел! – принялся ворчать Никита. – Но, если я войду, не потребует же он с меня душу в уплату за вход? А с другой стороны, если открыть дверь и она откроется, то можно ли будет закрыть? Ведь, скорее всего, это и есть плата за вход, потому что будущее совсем по другой дороге покатится. А каким оно будет – не узнать, не побывавши там самолично.
Бронзовая ручка, как и положено ей, была чуть холодноватой. Открыть? Может быть, именно этот незначительный поступок станет вдруг каким-то поворотным моментом, привнесёт что-то новое. Хотя бы новое понимание мира. Тогда, может быть, и вправду удастся написать что-нибудь интересное? Но бесплатный сыр?.. To be or not to be! Вообще-то, на Руси это звучит немножко по-другому: налево пойдёшь – ничего не найдёшь, направо пойдёшь – никуда не придёшь, а прямо пойдёшь – ни за грош пропадёшь.
Никуда не ходить? Это не выход: выход в том, чтобы не ходить в наш дом или ходить в никуда. Бред.
Тем не менее, Никита медлил. Начавший было зарождаться ледяной комочек жути, сгинул бесследно под жаркими лучами любопытства. Страха не было. Но было ощущение чего-то запретного, необратимого, до чего обязательно нужно дотронуться своими руками. Не станет ли человек, открывший дверь, каким-нибудь банальным еретиком?
Впрочем, в средние века Савонарола не испугался сожжения на костре и не покорился инквизиции. То же самое было и на Руси. Болярыни Морозова, Урусова и Данилова не побоялись угроз «новодела» Никона и не отказались от молитв, завезённых в Россию ещё Андреем Первозванным.
Патриарх Никон безнаказанно уморил голодом царских родственниц, и не их одних. Старообрядцев сжигали целыми деревнями, а вместе с ними и книги церковные. Новоделы Никона рубили пальцы у тех, кто отказывался креститься щепотью – тремя пальцами. Тогда Русь была потоплена в таких потоках крови, каких не видела ни одна страна в подлунном. Где ж тогда были ангелы? Может быть, духи просто не могут вмешиваться в драчки человеков?
«Испытывайте духов, от Бога ли они?» – снова пришло на ум. Но как всё-таки испытать этого? Потереть банку рукавом, чтобы Ангел опять предстал пред светлые очи, расспросить его обо всех ангельских законных беззакониях?! Потребовать расписку кровью, что душу не тронет? М-да, было бы любопытно: Ангел, дающий человеку расписку, подписанную кровью…
…с той ли, с этой ли стороны ожидается дым-пожар? Иль не молишься ты за ны, куренной монах Кудеяр? Ярость века сгорит в огне, ляжет копотью в пол-Земли. И поэтому снова не спится мне, если рядом жгут корабли, —вынырнуло вдруг из стародавнего, почти забытого.
Что же, сжигать корабли – нынче в моде, ведь каждый человек должен открыть хотя бы одну дверь!
Она поддалась легко. Даже слишком. Открылась сама? Не заметил просто. Нет, всё же не без помощи витязя на распутье. Но ничего не произошло. Ни-че-го! Ровным счётом. Только за окном почему-то явственно прокричал петух. Откуда он? И причём здесь петух?
«Рече ему Иисус: аминь глаголю тебе, яко в сию нощь, прежде даже алектор[16] не возгласит, трикраты отвержешься Мене».
Память, оказывается, бывает иногда удивительной камерой хранения прочитанному. Надо же, Евангелие вспомнил… Но была в связи с петухом ещё какая-то штуковина, она никак не вспоминалась. Петух прокричал снова. И это чуть ли не в центре города? Может, соседи на балконе кур разводят или кто петухом вместо канарейки обзавёлся? Глупости.
«Да, позагорбил басве слемзить: рыхло закурещат ворыханы». Вспомнил-таки! Офенина болтовня на невообразимой фене? А он откуда знал про петухов? Сам, небось, из-подпространства петухом поёт, чтобы всё как в настоящей страшилке.
Вокруг ничего не было. Правда, чувствовалось какое-то воздушное пространство, запахи коммунального жилья, даже далёкое рычание автомашин, но глаза пока что не могли разглядеть ни одного материального предмета, да и не материального тоже. Единственное, что чувствовалось чётко – твёрдая плита под ногами.
Наконец Никита понял, что стоит на крылечке какого-то дома с большими окнами и старинными балконами, украшенными витиеватыми коваными решётками. Образ дома неохотно вырисовался из темноты, но уже не думал никуда исчезать.
Над подъездом висит фонарь, возле которого вьётся беспокойная мошкара. Тёплая, скорее всего, летняя ночь тасует и перемешивает звёзды, совсем как вьюга в студёное Сретенье кружит снежинки. И те послушно несутся прямо на фонарь, потом резко останавливаются, зависают, будто натолкнувшись на невидимую стену, и снова срываются, летят, кувыркаются, наслаждаясь полётом ради полёта.
Тепло и… тревожно. Никита сначала даже не понял – почему? Он разглядел недалеко от подъезда чёрную легковую машину с «обрубленным» квадратным багажником. На таких разъезжали киношные американские гангстеры тридцатых. Шофёрская дверца открылась, на булыжную мостовую вылез человек в гимнастёрке, сапогах и синих галифе. На голове у него была военная фуражка с тульёй непомерных размеров, с околышем такого же цвета, как галифе. Вероятно, подобные воинские фуражки послужили образцом кавказской публике, когда те дружно принялись за внедрение моды кепок-аэродромов.
Военный вытащил из кармана портсигар, мертвенно блеснувший лунным зайчиком, продул мундштук папиросы, потом долго рылся по всем карманам в поисках спичек. Но спички, то ли не желали зажигаться, то ли просто пропитались трудовым шоферским потом, запах которого доносился даже до крыльца, где стоял Никита.
Наконец, одна из спичек повиновалась-таки настойчивому добытчику огня. Он прикурил. Тут одно странное обстоятельство поразило Никиту своей невозможностью, фантастичностью: у военного не было носа! И лица не было! То есть, лицо, наверное, было, но в коротком свете спички под лаковым козырьком просматривалось только белое пятно с воткнутой в него папиросой.
Сзади из подъезда раздался топот ног, смахивающих на слаженную поступь левых бригад, возвещающую скорую победу Великого Октября, и по ступенькам к машине сбежали ещё трое безликих, сплошь затянутых ремнями, в куртках и штанах искусственной кожи. За кожаными шёл человек в чесучовом пиджаке с перекинутым через руку пальто. В другой руке человек держал большой канцелярский портфель красной кожи на двух медных застёжках.
– Зачем пальто, – вслух подумал Никита, – тепло ведь?
Вдруг кто-то сзади больно саданул его в спину, да так, что Никита чуть было не скатился кубарем по крутым выщербленным ступенькам.
– Туда, куда его повезут, на первых порах и пальто пригодится, – прозвучал очень знакомый голос.
За спиной стоял Ангел со своим вездесущим коробом, которым он продолжал цеплять всё подряд. На этот раз досталось Никите.
– Нельзя ли поосторожнее, – огрызнулся он, инстинктивно пытаясь дотянуться рукой до ушибленного места.
Ангел только фыркнул в ответ, поправляя на себе портупею. Он тоже оказался затянут в кожу, как и действующие лица текущей драмы, с той лишь разницей, что не потерял лица своего. Ещё у Ангела не было форменной фуражки с огромной тульёй и околышем синего цвета. Зато в голубых петлицах гимнастёрки красовались четыре «кубаря», а это не такой уж малый офицерский чин у красных командиров довоенного времени.
Меж тем кожаные затолкали мужчину на заднее сиденье, влезли сами и машина, кашлянув выхлопным газом, покатила в темноту. Сквозь заднее стекло ещё некоторое время можно было разглядеть оглядывающегося на прошлое человека. А будущее, есть ли оно у арестанта?
– Его арестовали? – решил уточнить Никита.
– В вашем мире, мой друг, человек всегда стоит перед выбором свободы и необходимости, – философски заметил Ангел. – В данном случае человек принял, как необходимость, писать о свободе, в результате лишился её. В любом выборе существует элемент потери, потому как что-либо приобрести, ничего не потеряв при этом, попросту невозможно. Ведь и ты только что решил открыть дверь – это твой выбор. Твой! Но самим выбором не мы определяем интересующий нас объект, а объект определяет нас.
Никита с подозрением посмотрел на философствующего Ангела. К чему он клонит?
– Послушай, Ангел, – сдавленно обратился Никита, чуть ли не попрошайничая, к разгулявшемуся философу. – Зачем всё это более чем реальное приключение? Не пора ли мне проснуться?
– А затем, – тут же ответил Ангел. – Лишь затем, чтобы ты научился видеть сквозь время, понимать тех, кто терял в огне не только рукописи. НКВДэшники только что навсегда увезли Даниила Андреева. Ведь всё это есть, было и будет ещё в человеческой истории. Уничтожить рукопись или, скажем, стихи, легко. Гораздо труднее сохранить. Только я тебя умоляю: не подумай что какой-то вшивый ангел пред тобой менторствует. Это, скорее, тест, который для меня тоже не лишним будет. Так что смотри, Никита-ста, слушай и постарайся ничего не упустить из виду.
Глава 4
Никита брёл по непроспавшейся затаившейся Москве и, узнавая, не узнавал её: всё вроде бы было таким, как всегда, но в то же время другим, чужим, инородным. Создавалось впечатление, будто весь огромный город является бутафорией киношников, собравших и сколотивших здания на скорую руку.
Это относилось не только к кривым арбатским переулочкам, с детства знакомым, излазанным вдоль и поперек, щедро политым – двор на двор, святое дело – храброй мальчишеской кровью. Из-за кого? Конечно же, из-за девчонок! Чтобы в наш двор чужаки! Да ни в жисть!
Вот здесь, кажется, было: четырёхэтажка на углу Сивцева Вражека. А она ли это? На домах, ни табличек с названием улиц, ни номеров… фонарей тоже не густо. Пара на всю улицу. Да и светят-то себе под нос. Почему же светло всё-таки? Луны нет, облака, вот-вот дождик развяжется. Ах, это стены, наверное, отражают свет, накопленный за день! Есть у московских домов такая особенность: освещать собой улицы. И, право, темнота разбегается, кидается наутёк, расползается по подворотням, только противным чавкающим эхом шагов пугает. Будто кто-то там, в подворотне, давясь, глотает куски московской тишины и с утробным сопением не прекращает свой ночной пир.
За очередным поворотом Никита встал, как вкопанный: впереди, на расстоянии полёта стрелы (а далеко ли они летают?) виднелась громада белого храма. Судя по огромадности, помпезности и хорошо видимым барельефам на стенах, это мог быть только храм Христа Спасителя. Его недавно восстановили стараниями лучших вольных каменщиков города. Сразу вспомнилось, как нынешний московский мэр в кожаном фартуке, размахивая серебряным мастерком, публично делал закладку первого камня.
В среде городских остроумов злословили, что суждено-де Антихристу построить новый храм на месте старого, вот он и старается… Только этот величественный собор был совсем не таким помпезным и холодным. Опять же какие-то двухэтажные каменные палаты вокруг храма с узкими зарешеченными окнами-бойницами, с частыми трубами на длинной блестевшей свежевыкрашенной крыше. Они выглядели, как часть большого церковного подворья.
Ну, как же! – догадался Никита, – перед ним вовсе не чудо советских реставраторов, а тот первый, ещё не разрушенный Великим Октябрём, храм Христа Спасителя во всей велелепоте и величии, воздвигнутый в честь победы над дитятей французской революции на всенародные пожертвования. Надо же, храм строили всем миром, и большевики решили его взорвать тоже всем миром, только своим. Вот она, война миров!
Но ведь когда строили этот первый храм, среди москвичей тоже нездоровое брожение умов было: кто говорил, что архитектор Тон – автор проекта – не считается с общим обликом города; что православный храм, а выглядит как самовар; кто утверждал, такая-де громада – вообще невесть что, только не храм Божий.
Болтали разное, воркотня стояла примерно такая же, как в наше время, когда Церетели водружал своего одиозного Петра нал столицей, будто бы дар художника – стране! Но почему Пётр в Москве – на это не мог ответить даже сам художник. А то, что Пётр Первый ненавидел своё государство, тем более, бывшую столицу, об этом вспоминать считалось бестактным.
Но девятнадцатый век успел смириться с глобальной постройкой нового храма. Тем более, что Русь всегда любила что-то грандиозное. Потом к храму привыкли, даже полюбили. Стоять бы ему века, да захватили власть чужие, и принялись узаконивать «аристократию помойки».
Так уж вышло, что ничего путного у чужих не получалось, кроме как отнять, разделить и разрушить. А когда дальновидные решения партии и правительства об уничтожении храма просочились за кремлёвские ворота, храм превратился в мученика, в памятник большевистскому варварству. Все его жалели, но никто слова не сказал в защиту. Боялись? Может быть. А, может, действительно верили, что придут другие, лучшие времена. Без царя и без Бога?!
Лишь несколько десятков столетних старух не хотели отдавать храм Божий на поругание басурманам. Их волоком утаскивали краснощёкие молодцы в кожанках и фуражках с голубыми околышами. Храм превратился в легенду. У этой истории удивительные корни: знаменитый создатель храма архитектор Тон – близкий родственник товарища Когановича, который перед нажатием рубильника, вызывавшего взрыв, сказанул историческую фразу: «Задерём подол матушке-России!».
Что поделать, чужие целых восемьдесят лет задирали подол великой державе. А нынешние реставраторы – те же мастера мастерка, циркуля и кожаного передника. Разве не парадокс? Нет, скорее – закономерность, потому что народ достоин своего правителя. И если те же чужие поныне продолжают разбазаривать державу, то виноваты в этом только мы, потомки, допустивших чужаков к власти.
Размышляя таким образом – благо, мешать было некому – Никита подошёл к заглавной храмовой калитке, которая кружевным кованым узором почти совсем не отличалась от ворот, и чуть было не наступил на человека, вольготно расположившегося тут же под забором. Человек, в лохмотьях, то ли пьяница, то ли юродивый, заворочался, заворчал и резко поднял голову на Никиту. Потом вдруг юродивый подал голос, будто ворон московский каркнул надтреснуто:
– Ишь, чё смотришь, смотришь! То ж на Бога ручонки сучишь, ножёнками топочешь. Сгубили Русь, антихристово семя, да не взять вам её, не взять, проклятые. Русь-от в поджидках не узрите. Ишь, чё вздумали: храм рушить, тугариново племя. Смотри, смотри! Не скоро ишшо новый-то построют. Антихрист и построит. Сам ломат – сам стройку заводить почнёт. А вона, лико чё, последыш евойный побежал. Ты тоже бежи, спасай поджидка… онгон тебя спалит…
Никита оглянулся и увидел в тени домов одинокую фигуру. Кто-то шёл со стороны Метростроевской. Тьфу ты, она давным-давно снова Остоженкой стала, только вот доходных домов здесь больше нет. Хотя, кто их знает, старых русских или новых деревенских? Многие пытаются что-то возродить, возвернуть да от большинства кроме делового шума ждать нечего: такова уж природа бездельников, шуму много – толку мало.
Низенький человек выписывал кренделя, будто крепко принявший за воротник, на ходу жестикулировал руками, помогая мыслям выстраиваться в нужную картину. Иногда он на секунду останавливался, хватал губами воздух, словно рыба, выброшенная на лёд, и спешил дальше, чтобы через десять-пятнадцать шагов снова ловить ртом уплывающие в темноту драгоценные пузырьки воздуха. Глаза его, навыкате, точь-в-точь как у откормленного зеркального карпа, шарили по ночным теням, по силуэтам домов, выискивая что-то своё, сокровенное. Может, он родом был из этих тёмных пятен, поэтому искал там поддержки, но тьме было не до одинокого сиротинушки.
Человек свернул на одну из арбатских улочек, ведущих к Манежной. Серые туши диких, но родственных теней поспешили спрятать его под своим пятнистым омофором, чтобы где-нибудь там, в глухом месте, накинуться голодной шакальей сворой, запутать-задушить, выпить беззащитную душу до донышка.
Обычно так поступают с человеком ночные тени. Что же искал этот, путаясь в перекрёстках знакомых улиц и задыхаясь от собственной печали?
Никита от нечего делать побрёл за человечком, который вдруг ни с того, ни с сего принялся сыпать отборными ругательствами в адрес какой-то Ирины, загубившей на корню его моложавую жисть. Видимо, во всём виноват был банальный бытовой «треугольник», только зачем же об этом сообщать той же темноте, жалуясь от бессилья и безысходности.
Чёрные арбатские подворотни слушали эти животные живописные словоизвержения, пропуская их сквозь вставные челюсти заборов, словно кит, фильтрующий планктон. У очередного сгустка тени человек остановился, будто налетев на невидимую преграду. Затем развернулся на сто восемьдесят, заковылял навстречу Никите, но, не дойдя нескольких метров, также резко остановился.
– Они, – человечек воткнул перст указующий в плавающую над головой темноту, – хотят строить храм. Храм Мира, Любви и Науки. А я их предал!
Ага, еще один строитель храмов. Но этот уже, поди-ка, с претензией на оригинальность, на несомненную благодарность потомков за одно только желание построить храм Мира, Любви и Науки. Интересно, кому молятся в таком храме, потому что эти три ипостаси в одной компании выглядели взаимоисключающими?
– А я их предал! – снова взвыл коротыш. – Я Ирину предал, потому что люблю! Потому что люблю, потому и предал. Я так люблю её, а она замуж выходит! Почему она решилась на такое, когда я люблю её?!
Как по волшебству левый рукав его пиджака сам собой вспыхнул лёгкими языками жёлто-голубого огня, будто пламя онгона, часть которого хранится в сердце любого человека, решило помочь страннику разобраться с жизнью. Сбивая рукой пламя, человечек кинулся в сторону и нырнул в парадное многоэтажного дома на Якиманке.
Никита, боясь упустить этого странника ночи, также поспешил в подъезд. А тот уже ломился в какую-то квартиру на первом этаже. Когда не открыли сразу же, он принялся колотить ногами в дверь, обтянутую чёрным, протертым во многих местах, дерматином. Странный человечек, вероятно, пробудил бы весь дом, кабы ему всё же не открыли.
На пороге стояла худая долговязая женщина в наброшенном на плечи поверх ночнушки сером платке со свалявшимся пухом. Она пыталась вникнуть в бессвязный фальцет ночного посетителя. У того из словесной абракадабры всё же вылепилось, наконец, связное:
– Мне Женю позовите! Позовите Женю мне! Его фамилия Моргенштерн. Позовите мне Женю.
– Я его мама, – спокойно и устало ответила женщина. – Жени сейчас нет дома. Но вы проходите, не стойте на пороге. Я чайник поставлю.
– Вы ничего не понимаете! – взвизгнул человечек. – Я их предал! За тридцать серебряников! За поцелуй Ирины! Мне Женю позовите! За поцелуй Ирины!..
Потом, снова забормотав что-то несуразное, странный гость вдруг подхватился и кинулся в ночь, в месиво хищных теней и страхов. В коридоре, позади женщины, сгрудились остальные обитатели коммуналки, разбуженные ночным вторжением.
– Кто это? – подал голос один из соседей.
– Женю арестовали? – буднично спросил другой.
Женина мама обернулась к соседям:
– Не волнуйтесь, ничего не случилось. Просто один Женин знакомый сошёл с ума.
– Сошёл с ума?! – вслух повторил за ней Никита. – Надо же!
Во всяком случае, ему было дико оставаться в этом мире, куда он попал по лёгкому приглашению Ангела. Может быть, в том прошлом времени, куда угодил Никита, москвичам было наплевать друг на друга, и аресты вместе с умопомешательством никого не удивляли. Но этот мир был, если он действительно был, каким-то картонным, даже нарисованным жирным углём на листке испачканного пространства. Как же люди в действительности смогут жить в такой неразберихе и смогут ли. Кому будет интересно читать книгу, с описанием безысходности, свалившейся ниоткуда и без всякой надежды найти спасение?
Никита оглянулся вокруг. Однако, нигде в сгустившейся над Москвой темноте Ангела не было видно. Он, конечно, был где-то недалеко, на то он и Ангел, только не хотел сейчас показываться. Видимо, ожидал, чтобы Никита поближе познакомился с героями этой книги. Но кому интересно знакомиться с безысходностью? А, может быть, Ангел прав всё-таки, потому что сам Никита тоже готов был покориться свалившейся ниоткуда депрессухе, и если бы он не являлся в снах, то ещё неизвестно до чего могла довести человека депрессия?
Не стоит ли взглянуть поближе на героев? Кстати, не мешало бы узнать, кто написал этот роман? Неужели Даниил Андреев? Но, вроде бы, ничего похожего в его трудах не наблюдается. Хотя, кто его знает…
– Клементовский, я должен вам признаться, – Адриан взволнованно ходил по комнате. – Я знаю, вы меня поймёте. Вы должны понять, я знаю, – повторил Адриан.
Его собеседник – мрачный плотный человек, в дорогом, ладно скроенном костюме – внимательно слушал Адриана, изредка оглаживая свою окладистую бороду.
– Но сначала я вам кое-что покажу, – и хозяин квартиры повёл своего молчаливого чернобородого собеседника к репродукции картины Врубеля «Поверженный демон», висевшей в глубине небольшой комнаты, плотно заставленной антикварной мебелью и, скорее всего, поэтому не бросающейся в глаза.
Перед репродукцией в небольшом китайском вазоне стоял букет черёмухи – облако безгрешных цветов, так живо напоминающем хозяину квартиры о Туманности Андромеды, предмету его исследования.
Репродукция была великолепная, судя по подписи – английская, сделана, видимо в девяностых годах, когда гениальное произведение ещё сияло всеми своими красками, всей своей страшной, нечеловеческой красотой. Казалось, на далёких горных вершинах ещё не погасли лиловые отблески первозданного дня; быстро меркли его лучи на исполинских поломанных крыльях Поверженного, – и это были не крылья, но целые созвездья и млечные пути, увлечённые Восставшим вслед за собой в час своего падения. Но самой глубокой чертою произведения было выражение взора, устремлённого снизу, с пепельно-серого лица – вверх: нельзя было понять, как художнику удалось не только запечатлеть, но только хотя бы вообразить такое выражение. Невыразимая ни на каком языке скорбь, боль абсолютного одиночества, ненависть, обида, упрёк и тайная страстная любовь к Тому, Кто его низверг, – и непримиримое «нет!», не смолкающее никогда и нигде и отнимающее у Победителя смысл победы.
– Видите? – промолвил Адриан после долгого молчания. – Это икона, но икона Люцифера.
– Икона? Я как-то даже не задумывался над этим, – отозвался Клементовский, снова оглаживая свою разбойничью бороду.
– Возможно, вы и правы. Видимо для художника этот персонаж был воистину судьбоносным.
– Вот именно! – воскликнул Адриан. – Понимаете, Врубель искренне верующий человек, пишет картины, изображающие демона. Пишет до такой степени прочувствованно, что, наконец, картина превращается в икону. Икону Люцифера. Значит, зло в мире настолько проникло в плоть и кровь смертных, что молиться Богу человек уже не в силах. Иначе как вы объясните торжество зла в мире? Как примириться с гибелью безвинных младенцев, с благополучием извергов, с арестами честных людей?
– Да, Божий Сын являлся в этот мир. Но миссия его оказалась невыполненной. Почему так случилось – неведомо никому. Но Иисус показал нам путь, которым хочет избавиться от зла. Вы понимаете? Он принёс Себя в жертву. Он пришёл в мир человеком. И в жертву принёс Себя как человек. Понимаете?
Клементовский задумчиво разглядывал репродукцию картины и по-прежнему молчал. Но заблестевшие живым огнём глаза его под нависшими бровями выдали неподдельный интерес и волнение.
– Да, я не ошибся, – продолжал Адриан, – вы меня понимаете. Вы знаете, что я астроном, наблюдаю в настоящее время Туманность Андромеды. Это космический символ звёздной гармонии, который однажды подсказал мне выход борьбы со злом.
– То есть? – Клементовский в упор посмотрел Адриану в лицо.
– Вспомните, даже апостолы говорили всегда о со-переживании, со-распятии Христу. Но они недопоняли учения Сына Божьего. Сораспинаться надо буквально. Только приняв на себя грехи этого мира, можно его очистить.
– Но ведь это самоубийство, которое не прощается ни в этой, ни в будущей жизни! – возразил Клементовский.
– Вовсе нет. – Адриан на секунду умолк, собираясь с мыслями. – Вовсе нет, – повторил он, – потому что, идя на жертву за други своя, добровольно принимая на себя хотя бы часть грехов этого мира, в то же время очищаешь его, но это бывает, только когда человек понимает, в чём его жертва. Вспомните Аввакума. Пламя костра примирило его с Никоном и, пусть даже внешне, раскольников с неоправославными.
– Бред какой! Что он мелет? – фыркнул Никита, давно уже наблюдающий беседу двух будущих «спасителей человечества». – Не нам, рождённым в грехах, прилаживать на многоумный лоб очередной терновый венец? Тем более, рассуждать о примирении Аввакума с патриархом Никоном, чуть не продавшим Россию католикам, это, по меньшей мере, безграмотно.
Сдаётся мне, шибко много берёт на себя этот доморощенный философ. И герои романа слишком уж физиологически воспринимают учение Сына Божьего. А ведь Он не раз говорил книжникам и фарисеям, что царство Его – не здесь, не в этом мире.
– Ничего особенного, – Ангел на этот раз оказался рядом. – Во времена Даниила Андреева, встречались разные подвижники, то есть странники. Это его сгоревший роман, который так и должен был называться «Странники ночи». Но я одного не пойму, Никита-ста. – Ангел угловато повернулся и, конечно же, задел расписным заплечным коробом пианино, которое не замедлило откликнуться всеми своими закипевшими внутренностями. Причём двое «странников», увлечённых идеей спасенья человечества, не заметили возмущённого ворчания музыкального инструмента, хотя звук откликнувшихся струн был довольно громкий. – Не пойму я, чем эти странники хуже твоих бездарных, безропотных героев, у которых не может быть никакого сюжетного апогея, не говоря уже о простых конфликтах? Сам же на даче жене жаловался на неудачные образы, затянутый мёртвый сюжет, на кисельную фабулу, или я что-то путаю?
Никита закусил губу. Что ни говори, но Ангел был прав на все сто двадцать процентов, потому что никакой роман, равно как и стихотворение, не высосать из пальца, и не придумать не случившееся. Пусть даже сюжет будет составлен заковыристый, ан не получится роман по той простой причине, как не получилась благополучная жизнь маленького странника ночи, предавшего друзей «за поцелуй Ирины».
– Слушай, Ангел, – начинал закипать Никита. – Ты меня затащил в чужой роман, чтобы показать всю мою несостоятельность? Всё моё версификационное графоманство? Благодарю покорно, любезнейший.
– Ну-ну, не обижайся так уж, – заворковал офеня. – Поглядишь-посмотришь, поживёшь-помаешься, глядишь, и напишется-сложится, чем мысль растревожится.
– Это так важно – тревожить ум? – продолжал дуться Никита. – Покой ума создаёт благоприятную почву для философии, как считал Диоген. А всякая тревога, взбудораженность, подозрительность и настороженность приводят к войне. Но известно, что ни в одной войне ещё не было победителей. Стоит ли тревожить ум и создавать нелепые ситуации?
– А то, как же! – злорадно хмыкнул Ангел. – Ежели бы предки твои в Эдеме не узнали, что они наги, досе уплетали бы груши с ананасами на манер скотинки домашней. Ведь никакой коровушке, аль кабанчику не взбредёт в голову книжки писать или вон как этим странничкам себя на место Распятого ладить. Свинюшки жуют себе и счастливы, поскольку сыты и веселы. Даже потомки этрусков в Первом Риме кричали: «Хлеба и зрелищ!». А ты вон послушал странников ночи, поглядел, будто в зеркальце заглянул, – сразу про свои греховности вспомнил. Ещё чуть-чуть и каяться побежишь! Есть стимул к развитию, а?
Никита недобро глянул на Ангела, но промолчал на этот раз. Сам-то ты, ангел хренов, можешь со-переживать, со-распнуться? Или это только для тварей низшего сорта – человеков? А тебя, такого хорошего, Бог совсем не для этого создал – творение Божие! Лучше бы Вседержитель аборт богине сделал, что умудрилась на свет произвести!
Ладно уж, кто знает, может, надо действительно на другие сгоревшие души стоит посмотреть, прежде чем свою сжигать? Да вот ещё на охламонов этих данииландреевских. Ведь такую лабуду несут, что ни в сказке сказать! А что, многие, между прочим, клюют на такое. Ведь САМ ПИСАТЕЛЬ сказал: через него Господь с людьми разговаривает! И то, что в книге написано, для человеков почти всегда аксиомой является!
Тут же вспомнилась одна прибаутка, когда попали на тот свет грешники всякие, ну и, естественно, всем по грехам воздаётся. Черти под сковородкой у каждого по костру разводят. У кого побольше, у кого поменьше. По заслугам, значит. А у писателя под сковородкой свечка! Толстая, основательная. Но свечка! Возмутились греховодники:
– Это за что же почтение такое недописанному писарчуку-записанцу?! Мало он нас на том свете (то есть, на этом) совращал своей писаниной, так ещё здесь ему почёт и уважение! Несправедливо!!
– Э-э, нет, – прокашлял самый старый чёрт. – Вы здесь, убивцы и золотопоклонники, пожаритесь маленько, прокоптитесь на шампурах, проваритесь в бульоне с луком да перцем, и ступайте себе в эмпирии высокие. А энтот настоящим кузнецом человеческих душ был. Во все, самые незапамятные времена, шибко любил людей наставлять да жить не по-людски, вот навечно к медленному огню и приговорён. Так что не завидуйте. Кому из вас больший кайф присуждён – не нам судить, но вот на место этого, даже мы попасть не хотели бы.
Женя Моргенштерн вслушивался в свои шаги, рикошетом отскакивающие в притаившиеся московские переулки, слишком гулкие в предутренний час. В них темнота шевелилась живым паучьим месивом. Казалось, что слипшиеся вместе к утру разрозненные сгустки зла поджидают прохожего либо фартовым пером из-за угла, либо тягучим Фортуньим шёпотом про жизнь загубленную, где исход всё одно: мыла кусок да шнурок покрепче!
Вон он, шнурок этот в подворотне болтается, что искать? А так темнота набросится, задушит, искорёжит, измельчит, кости до единой поломает. Слабый человек. Слабая душа. Его убедить любая темнота может, потому что верит он ей! Ох, как верит! Нет, темнота эта не инородна. Она сделана из того же, из чего слеплен человек и мечтает только заполнить сознание человека с мыслями, с потрохами, либо всосать его в себя, чтобы он стал самой теменью. Вот она приходит к нему тётка-сваха в чёрном сарафане, а человечек, вишь, отбрыкиваться начинает: не я, мол, и сваха не моя.
Милый, куда ж ты денешься? Из пепла ты рождён – в пепел и превратишься! Только что сможешь огненного придумать меж двумя крохотными кучками сгоревших тайн?
А путь в темноту недалёк. Иногда вроде бы, всё со светлой мечты начинается: Храм Солнца Мира! Любви! Науки! Кому он нужен в этой полицейской безумной стране, где любое и каждое движение к Свету, к Жизни, прерывается расстрельным приказом полупьяного взводного: Души! прекрасные порывы… Вот и душат, кто сколько сможет! Нет, человек не умирает, его оставляют жить, но жизнь ему уже не принадлежит. Что дальше? Дальше по отработанной схеме: исправление вольного думства на стройках народного хозяйства, так называемых «комсомольских», где комсоргом – тот же самый полупьяный взводный.
Уехать! Уехать? Но куда? Все планы побега за границу либо просто неосуществимы, либо связаны с непреодолимыми трудностями. Но жить дальше во лжи?! Верить, что проект Храма Солнца Мира когда-то увидит свет, и его возведут-таки на Воробьёвых горах? Бред.
Женя Моргенштерн схватился за голову и даже замедлил шаг.
Что было сделано для того, чтобы окружающие люди радовались жизни настоящей радостью романтиков? Ни-че-го! Да и все эти встречи на Якиманке. Мечтатели! Маниловы! А смысл этих собраний? Вечером произносить взволнованные речи о грядущей «синей» эпохе, расцвете Разума и Любви для того, чтобы утром окунаться в «красную» быдловатую толпу с серыми непроспавшимися лицами и лгать, лгать, лгать. Лгать и объявлять себя хорошим, послушным, не подверженным диссидентству верноподданным. Что заставляет людей становиться такими? Страх? Желание денег? Но со времён Иуды ни один человек притязать на мошну с тридцатью серебряниками не осмелился бы. Хотя кто знает…
Лгать себе, что же хуже, что смог бы сделать и ещё смогу, только воли дайте, только срок – я ведь тоже хочу!
Ложь. Она присутствует везде и всюду, даже в их кружке. Взять хотя бы Ирину Глинскую и Олега, решивших пожениться, а на венчании дать обет целомудрия. Ложь! Олег уже сейчас ходит к другой женщине тайком. Ложь вязкая, склизкая, скользкая, – как о ней говорят ещё – сладкая, навроде сгущённого молока, но она проникает всюду, заполняет собой все щели, все и трещинки этого мира.
Можно ли избавится от лжи!? Вряд ли. Человек даже себе всё время старается лгать: Я – такой красивый! моя жена – мне не изменяет! И вообще – завтра я всех победю неотвратной победою!
Наступает завтра, человек находит у себя в спальне чей-то использованный презерватив, ему опять звонят кредиторы, он подходит к зеркалу и видит отражение всей этой кошмарной никому не нужной жизни.
Он опять соглашается влачить своё более чем жалкое существование ради того, чтобы получить в обмен на банку какой-нибудь сгущёнки кусок красивой жизни. Спокойной! Без лубянских пыток и допросов, без сибирских лагерей и морозов. Не слишком ли это большая цена?
Москва снова накинулась на Женю тёмным кошмаром переулков и зыбучей тёмной пустотой, проглатывающей город с утробным сладострастным чмоком. Будто улицы жили своей нечеловеческой жизнью, охотясь за одинокими прохожими. Почему Женя отправился бродить по родному, но неприютному в этот час городу?
Но вот же он, Уланский переулок, где дрались с ребятами из соседних дворов смертным боем: уланы-де! И церковь – вот она… только не церковь уже. Купола нет, ворота распахнуты, во дворе какие-то бочки, пахнет мазутом… Неужели действительно? Неужели вправду говорили о взрыве главного храма на Москве? Неужели большевики решатся на такую вакханалию? Что же будет? По сути, наступает начало бесконечного конца!
Вдруг Женя обнаружил, что невыбираемая за размышлениями дорога привела его к лубянской крепости – фундаменту красного владычества. Огромный, унылый странноприимный дом, который сам себе отнюдь не казался унылым и никудышным. Напротив, здесь разместился весёлый табор весёлых ребят, для которых человечек вроде пуха июньского. А для каменных стен, кровь-то – она потежельше всякого спуда: к вечности есть приговорённость.
Женя стоял на противоположной стороне улицы и смотрел на это каменное чудовище с чувством брезгливости и безысходности. Вдруг он приметил, что калитка тяжёлых бронированных ворот, выходящих в переулок, то ли по небрежению охраны, то ли ещё по каким недосмотрам оказалась приоткрытой, будто приглашая войти во двор саркофага непрошенным гостем.
Сумрачное, сермяжное, истоптанное революционной поступью небо наваливалось, душило, не давало времени подумать, очухаться. Какая-то сила, похожая на обжигающую страсть, когда женщина касается губами самых сокровенных мест, повлекла его туда, в непроглядную темень двора. Калитка, без сомнения такая же бронированная и чудовищная, открылась на удивление легко, даже без скрипа. Ни привратника, ни часового.
Узкий коридор меж двух падающих в небо монолитов, в котором даже служебный «воронок» проезжал, цепляя стены железными обшарпанными боками, гостеприимно приглашал зайти и обогреться. Тем более что внутри двора мелькали какие-то сполохи. Женя поёжился. Интересно, что бы сказал уважаемый Данте, заглянув на часок в Лубянский подвал? Все его адовы откровения – лишь бледная тень существующей здесь панорамы. Недаром после «исторического материализма» истязательные и истязующие функции стали именоваться железными: от железного Феликса до железного занавеса.
Впереди снова полыхнул свет. Женя заспешил туда, как на свидание с любимой, как на праздник Мира и Счастья, который должен был вечно присутствовать в Храме Солнца Мира. Как будто в Лубянском дворе его ожидал оракул, готовый предсказать искомое будущее.
Стены неожиданно раздались, посреди захламленного железными контейнерами, старой сломанной мебелью, огрызками автомобильных моторов и другой хозяйственной всякой-всячиной стояла горстка людей, среди которых Женя знал многих: Леонид Фёдорович Глинский, его сестра Ирина, Олег, Серпуховский, Бутягин…
Посреди двора горел весёлый пионерский костёр и пламя его, отрываясь блудными клочками, уносилось туда, к звёздам, к Туманности Андромеды, к невоздвигнутому Храму Солнца Мира.
Арест? – мелькнуло молнией, но тут же испарилось предположение. А вот в стороне от костра двое чужих: один в белом балахоне – ну точно ангел, если бы не короб с деревянными ложками, иконами, книжками. Рядом с коробейником – молодой парень в спортивном костюме, прошитом разноцветными ленточками, расписанном нерусскими буквами. Провокаторы? Похоже на то. Хотя какие могут быть провокаторы внутри Лубянского саркофага? И коробейник с дешёвым лубочным товаром, какими путями здесь оказался?
От размышлений его отвлекли голоса суетящихся у огня людей. Совсем рядом стояли двое в кожанках, незлобливо переругиваясь и не обращая на незваного гостя никакого внимания. Впрочем, похоже, что кожаным чекистам на других присутствующих внутреннего двора Лубянки было ровным счётом наплевать.
Но одна поразительная деталь впечатляла и давила своей невозможностью: лиц у кожаных не было! То есть был какой-то бесформенный расплывающийся пульсирующий блин безо рта, носа, глаз… Бред! Как может быть то, чего быть не может?
Всплески жадного огня высветили глухую стену здания с намалёванной прямо поверх штукатурки картиной. Вернее, это была даже не картина, а огромная репродукция Врубелевского «Поверженного демона».
– Смотрите, он здесь! – раздался голос Адриана. – Это икона, икона Люцифера!
Все присутствующие принялись разглядывать настенную роспись, предчувствуя близкое свидание с изображённым на ней херувимом, только безликие кожаные роботы всё так же суетились у огня, сжигая какие-то бумаги, циркуляры, протоколы, письма. В руках одного из них появилась кипа мелко исписанных листов с пометками на полях и густой чернильной правкой. В свалившейся откуда-то наэлектрелизованной тишине ещё явственней затрещали поленья.
– Ты читал это? – спросил один из кочегаров напарника.
– На компромат мало похоже, – ответил тот. – Смахивает, скорее, на сочинение неграмотного школьника об утопическом светлом будущем, построенном на наших осколках.
– На чьих?
– На твоих, балда.
– Ишь, разговорился! – буркнул второй кожаный. – Отставить разговорчики! Мы – настоящие строители светлого будущего. Но пустим туда не каждого, так что бросай в огонь эту галиматью. Пусть горит синим пламенем.
Его товарищ принялся по одному-два листа кидать в костёр. Буквы на белых, ещё не успевших вспыхнуть, листах высвечивались вдруг радужным семицветием. Снопы искр, будто маленькие человечки, перепрыгивали по чернильной вязи, а затем сам листок в мгновение ока закутывался в пламя, превращаясь в серый скукоженный пепел, с пробегающими тут и там бордовыми огоньками сожжённых желаний и судеб.
Вслед за листами рукописи и словами вспыхивал кто-нибудь из присутствующих во дворе. Неторопливое пламя лизало руки, лицо жертве с неутомимой собачьей преданностью, подбиралось к губам, целовало тихо, бережно, пока вдруг не проглатывало всю фигуру целиком, плотоядно облизываясь, пуская сытую слюну.
Огонь с удовольствием пожирал либидо, превращаясь, сам в эту жгучую сексуальную жизненную энергию. Каждая его жилочка полыхала, переливалась, обдавала волнами то тепла, то холода.
Никита смотрел на гибель чужой рукописи, остро чувствуя сгорающую в ней надежду автора поделиться с окружающим хищным миром своими мыслями, чувствами, желанием построить Храм Любви. Он почти физически ощутил ту, не совсем ему принадлежащую частицу сверхсознания. Никита ощущал два сгустка уже существовавшего разума, разделённых гранью зеркала, где отразилась частица написанного романа, суть которого, собственно, и есть жизнь. Что эта тонкая грань может вместить в себя?
Такой вот обрывок пламени или искру, из которой вряд ли что возгорится. «Господи! Господи! Дай мне хоть миг покаянья. Не позволяй нераскаянным в полночь уйти!..» – так говорил главный герой. Смог ли он покаяться? Успел ли? Дал ли ему Никита этот шанс перед тем, как от рукописи остался один только пепел? Кто сказал, что рукописи не горят? Горят, и ещё как! Ведь в секретере оказался только пепел… Если это не мистика, то как?
– Бывает, что бумага сгорает без пламени, – раздался знакомый голос сзади. – В твоей книге огонь был внутри, вот она и сгорела. А у этой огонь – вот он, никуда не спрячешься!
Никита оглянулся. Ангел стоял рядом, чуть сзади, мило улыбаясь. Кажется даже слишком мило, что очень похоже на откровенный цинизм.
– Слушай, это все герои из романа Даниила Андреева? – уточнил Никита.
– Видишь ли, – усмехнулся Ангел. – Ты уже успел побродить по Москве вместе с некоторыми героями, влезал в их шкуру, думал за них крамольными мыслями…
– Неправда! – искренне возмутился Никита. – Я сюда не просился. И ни за кого додумывать жизнь не собираюсь!
– А вот этот, – Ангел указал на Женю Моргенштерна. – Он только что бродил по Москве и размышлял твоими диссидентскими мыслишками. Сам он, под пером автора, никогда бы до такого не додумался. Именно ты здесь принял деятельное участие. И Женю так же сожгут, как всех других. Но мысль – тайком войти во двор Лубянки – твоя! Так что сожгут Женю с твоей помощью. Никуда не денешься.
Никита закусил губу. Просто возразить на отповедь Ангела было нечем. Ведь Никита действительно воровским способом влез в образ чужого героя и сделал то, что сотворил бы и сам. Но это же не его книга!
– Послушай, Ангел, – обернулся Никита к своему собеседнику. – Ведь то, что придумал я – никак не может стать частью не мной написанной книги. Я не просил этого и не соглашусь на плагиат!
– Какой плагиат, право слово, – усмехнулся Ангел. – Ты забыл, что книга эта сгорела? Я же тебя предупреждал. Видимо, так ты меня слушаешь, а это, прямо скажу, обидно.
– Ну, зачем же сразу обижаться? – смутился Никита. – Я помню, что ты советовал обратить внимание на других героев. И участвовать в их несостоявшейся жизни действительно интересно. Спасибо!
– Вот это хорошо, – кивнул Ангел. – От благодарности ещё никто не отказывался, а я – тем более.
Пляска теней по стенам не прекращалась. Наоборот, откуда-то с крыши налетел порыв ветра, вздувший костёр. Пламя поднялось выше, взметнулось, загудело. Никита отступил на шаг. Что-то в лице Ангела заставило сжаться, словно перед прыжком в прорубь. Лицо! Да, этот лик, тот самый, который рассматривали на стене герои книги! Никита повернулся к стене, но репродукции на ней уже не было. Да и сама стена выглядела по-другому. Ни репродукции Врубеля, ни героев сгоревшего романа, да и огня-то уже никакого не было.
Двор исчез. Вместо него до горизонта тянулась малоезжая дорога. А стены Лубянского саркофага превратились в невзрачный кирпичный бункер – автобусная остановка. Такие сиротливые будки когда-то лепили на проезжих трактах российской глубинки. Как правило, внутри бетонной будки всегда был набросан мусор и обязательные разноцветные осколки битых бутылок. Казалось, автобусные остановки на российских дорогах существуют только для создания культурной огороженной помойки. Обязательный атрибут в любой будке: лавочка с одной-единственной уцелевшей доской…
Так и есть. Мусору много, а на лавочке сохранилась одна-единственная доска, выкрашенная когда-то, но сейчас имевшая неопределённый цвет. Мир этот почти не меняется, оставаясь по-российски инертным. Во всяком случае, если что-то и меняется иногда, то слишком неприметно. Вот и кажется всё неизменным. Даже светлое коммунистическое «завтра».
Сизо-сиреневая изморозь сумерек окутывала пространство, старалась упрятать под кровом своим недалёкий перекрёсток. За ним, словно войска перед битвой, крупные кряжистые сосны стояли тёмными рядами, и войско это терялось где-то за горизонтом. Но горизонта, как такового, не было: сине-зелёные тучи, нависающие над лесом, вдалеке сливались с ним, напрочь скрадывая горизонт.
Порождённая природой тёмная жуть была живой, осязаемой, почти такой же, как московские тени. Можно сказать, здешняя жуть была предвестницей чего-то ужасного, неотвратимого. Этот вечер казался таким же, как перед концом света. Да, именно так. Казалось, небо и земля сами рождают мрак, тревогу. Ни птица лётом не пролетит, ни зверь по тропке не прорыщет.
Вот уж действительно только камня на распутье не хватает.
Может быть, всё ничего бы, только транспорта в светлое будущее можно было прождать здесь всю оставшуюся жизнь.
Нет, всё же за лесом надсадно билась о колдобины залётная полуторка, будто сонная муха об осеннее стекло. Истошный зуд её вызывал нестерпимую зубную боль. Всё же транспорт здесь иногда появляется. Пока не совсем стемнело, неплохо было бы позаботиться и о себе. Только кого найдёшь в этой безлюдной мёртвой пустоши? Разве что визгливая машина пробьётся сюда по буеракам, не вылезая из вездесущей русской колеи.
Глава 5
В этот занудный взвизг вклинилось что-то новое, звук, похожий на человеческий голос. Звук становился резче, громче, и скоро можно было разобрать слова, которые произносил металлический робот, поскольку звук голоса был по-металлически скрипуч:
…– инфернальный художник, хранитель моих рукописей, собственноручно сжёг их перед смертью. Безумие ли, страх или опьянение алкоголика, или мстительное отчаяние, та присущая погибающим злоба-ненависть к созданному другими, или же просто ад тёмной души руководили им – итог один: вершинные творения, в которых выражены главные фазы единого мифа моей жизни, погибли.
Моя жизнь осталась неоправданной. Моё отречение, самопожертвование во имя самовоплощения моей творческой воли завершилось трагедией и сарказмом. Я достиг, воплотил, – но злость, мстительность, самовлюблённость, зависть, трусость, самолюбие приспособившихся и безразличие пустоцветов не только не захотели спасти, но наоборот захотели уничтожить то, что было создано вдохновением, страданием, любовью, напряжённой мыслью и трудом для них же. Остался пепел – пепел моего дела, пепел того, что уже не принадлежало ни мне, ни им, принадлежало всем – человечеству, человеку, векам…
Скрипучая речь металлического голоса была на удивление противной. Казалось, бездушный робот обвиняет весь окружающий мир в несовершённых бедах, желая тем самым, обелить самого себя. Неужели кто-то из «странников ночи» Даниила Андреева докатился до такой пошлой самовлюблённости?
Никита заглянул за кирпичную стену автобусной остановки – именно оттуда доносился голос, – и увидел растение, похожее на огромный подсолнух. Только у этого вместо одной головы на вершине стебля красовалось сразу четыре. Все они, как положено настоящему подсолнуху, были с золотисто-жёлтыми лепестками.
По лимонному пушку на мордах подсолнуха время от времени пробегала едва уловимая рябь. Растение раскачивалось в такт словам, все его четыре морды, обращённые на четыре стороны света, вдруг начинали говорить одновременно. Тогда нельзя уже было понять, о чём собирался поведать подсолнух. Но три морды всё-таки замолкали на какое-то время, и речь снова становилась разборчивой, только ненадолго.
Иногда подсолнухи принимались браниться, обвиняя друг друга в некорректности, неэтичности, злобе, зависти, неумении синхронно произносить монолог. Потом успокаивались и философствовали снова, не забывая толстым стеблем исполнять танец живота. Грядка, где произрастал подсолнух, была обыкновенной кучей компоста. На ней даже сорняки не росли: всё было во власти одного растения. После очередного переругивания слаженный квинтет снова разразился тирадой:
– Так считаю я себя в праве рассчитывать на то, что сожжено безумцем, и что не было спасено далеко не безумными. Как всегда: страх, немного подлости, много глупости и невежества – а в итоге гибель благого дела. Это трагедия самосознания, – но не только самосознания. Это трагедия для всей моей теперь неоправданной жизни. Дело не в душевной боли…
– А в чём? – вклинился в сетования Никита. – Вы хотите сказать, что принесли жертву на алтарь отечества и за одно это достойны памятника где-нибудь у Никитских ворот? А стоит ли того ваша жертва? Ведь рукопись сожгли, а в этом мире ничего просто так не происходит. Судя по многочисленным «Я», так оно и есть.
– Я пожертвовал всем, – продолжал цветочек, – за что борются люди: возможностью лёгкой славы, карьерой, комфортом, положением. Короче говоря: я пожертвовал благоразумием и здравым смыслом трезвых людей. Но это ещё не большая жертва. Я пожертвовал наслаждением вкусно пожить: питаться и сладострастничать – я пожертвовал радостью тела. Это уже нечто от аскетизма, хотя аскетом стал я поневоле.
Аскеты – лицемеры (почти всегда), – склонившись в сторону единственного зрителя, интимно прошептала одна из голов, – если они не маньяки и не гениальные неудачники. Это была жертва себе в ущерб. Но я пожертвовал гораздо большим, я пожертвовал любовью – любовью в том смысле, в каком я понимал подлинную любовь. Такую женщину, как она, выкупают или золотом или славой. Горькое признание. У меня не было ни того, ни другого.
Я долго боролся, даже слишком долго и пожертвовал ею только тогда, когда она стала между мною и моим делом. Это была большая жертва – жертва счастьем, жертва душой. На некоторое время я окоченел, чтобы пережить разлуку. Такая жертва должна была быть оправдана. Она не оправдана. Моя нужда, нищета, одинокость, покинутость – не оправданы. Вот почему моя исповедь не мораль, а жизнь. К этому надо ещё прибавить мщение духа. Дух часто мстит человеку за то, в чём он не повинен, а повинны другие: за то, что уничтожено самовоплощение духа. Дух требует для себя бессмертия – и я обманул его.
– Серьёзное заявление, – кивнул Никита. – Вижу, что некоторые мои подозрения очень даже имеют место. А тебе не хотелось иной раз воскликнуть: остановись, мгновенье, я прекрасен!? Четырём подсолнухам в одном обличье очень подошёл бы такой девиз. Хотя до Нарцисса далековато, но всё же элемент оригинальности в тебе присутствует. Во всяком случае, можно было бы с большей основательностью обвинять других в собственной никчёмности. Не ты первый, не ты последний, красавец.
– Все четыре подсолнечных блина круто развернулись в сторону говорившего и стали похожи на античную гидру с мускулистым чешуйчатым телом, жаждущую живём проглотить всякое мелкое и жужжащее. Даже по стеблю пробежали глотательные судороги, а с порыжевших лепестков закапала на землю мутная жидкость.
– Слюни подбери, надежда человечества, – усмехнулся Никита. – Много таких растёт, но обычно только на компостных кучах.
Вдруг подсолнух начал быстро расти, вытягиваться, крутясь всеми четырьмя головами вокруг своей оси, издавая при этом пронзительный ядовитый свист. Никита глазом моргнуть не успел, а подсолнух уже вырос, вытянулся на высоту десятиэтажного дома. Тут шея его изогнулась и все четыре блина, роняя густую слюну, спикировали на обидчика. Это было так неожиданно, что Никита стоял, ничего не соображая, будто кролик перед царственной пастью удава.
Толчок! Даже приличный чувственный удар в плечо. Земля перевернулась, провалилась в небытие. Никита кубарем покатился в грязь, ничего не соображая по-прежнему. Лишь боковым зрением успел заметить Ангела, одетого на этот раз в джинсовку. И в ту же секунду пасть подсолнуха пронеслась мимо, обдав ускользнувшую дичь отборным трупным перегаром.
– Беги, Никита-ста! – раздался призывный голос Ангела.
Дважды повторять не потребовалось, поскольку подсолнечные блины снова разворачивались на боевой заход. Никита подхватился и кинулся к автобусной остановке, где уже скрылся Ангел. Под ноги попалась мелкая россыпь придорожной гальки, и исход запросто мог оказаться летальным, но чуть буксанув, как заправский гоночный мотоцикл, Никита влетел под спасительную крышу.
Прямо в стене была открыта дверь, которой, совершенно точно, раньше здесь не было. Но раздумывать не приходилось, поскольку сзади уже нарастал вой пикирующего растения. Ввалившись в какой-то тамбур, Никита, скорее, почувствовал, чем услышал звук захлопнувшейся сзади двери перед самым носом у подсолнуха. Все четыре морды с маху влепились в дерево. Дверь треснула, но выдержала. Зато подсолнуху это пришлось явно не по вкусу. Он взвыл, и вскоре за дверью снова послышались жалобные причитания.
– Среди созданных мной произведений, вполне и не вполне завершены, три являются метаморфозами моей жизни. Человек обязан себя признать всецело земным, ни на что не надеяться, кроме как на себя, ибо все его силы суть силы земные.
– Не слушай этого болтуна, – махнул рукой Ангел, – он даже в меня не верит, хотя я для него всего лишь мечтатель и романтик, не более. Иди лучше прогуляйся по его сгоревшему роману. Это будет гораздо интересней.
– Спасибо, что спас меня, – Никита настороженно глядел исподлобья, – но зачем? Ведь погибший в инфернальном мире автоматически становится твоей добычей. И телом, и душой.
– А, пустое, не бери в голову, – отмахнулся Ангел. – Кому нужна твоя душа? И притом, ведь я тебя пригласил погулять по сгоревшим когда-то романам! Или ты считаешь, что гостеприимство – чувство чисто человеческое, на которое не способен никто из Инфернального мира, либо из параллельного Зазеркалья? Что я сотворён только для того, чтобы дарить гадости вместо радостной энергии, приносящей пользу не одним только людям?
На это было нечего ответить, и Никита просто пожал плечами. Кто знает, может, Ангелу не чуждо ничто человеческое? Эта мысль даже вызвала мимолётную улыбку, но развивать её не имело смысла – пустые бредни. Ангелы и люди никогда не поймут друг друга, как, например, отцы и дети, мужчина и женщина. Не поймут, хотя могут.
– Послушай, – Никита явно подыскивал слова, чтобы не показаться совершенно безграмотным дилетантом. – Послушай, ты только что упомянул Инфернальный мир и Зазеркалье. Разве это не одно и то же? Просто сложные понятия часто заменяют одним, наиболее простым – Потусторонний мир. Разве не так?
– Конечно не так, – Ангел отрицательно мотнул головой. – Инфернальный – это тот мир, где обычно обитают духи всех наклонностей и пошибов. Человеку там, прямо скажем, делать нечего. Хотя многие попадают туда чисто по своему человеческому согласию. В свою очередь, многим духам нечего делать в Зазеркалье, но некоторые попадают туда так же, как люди в Инфернальный. Рядом с этими мирами существует Потусторонний. И не он один. Миров множество, как, скажем, страниц в одной книге. Буквы на каждой странице одни и те же, только сами по себе они не имеют возможности перепрыгнуть с одной странички на другую.
Это пространственное объяснение Ангела понравилось Никите своей простотой и доходчивостью, однако, ему по-прежнему с трудом верилось в реальное существование чего-то другого, кроме Земли. А другие пространства, миры и цивилизации во Вселенной неизбежно должны существовать, ибо на той же Земле никогда не бывает чего-нибудь, сотворённого Богом, в неповторимом единичном экземпляре. Другое дело, что люди не имеют ни капли информации о существующих где-то рядом соседях.
Ангелов, видимо, не очень-то интересует людская суета за редким исключением, а люди просто не способны мыслить ангельскими категориями, но повсеместно возмущаются: как же так, не помогают-де ангелы по жизни, а обязаны! Обязаны? Вот то-то и оно, что ничем, никому не обязаны. У ангелов своих проблем с постигшей их гордыней предостаточно! Более того, им так темно в нашем мире, что, скорее всего, они заслуживают жалости, поселившись у нас, ибо убивают себя в наших потёмках ради не менее горделивых, завистливых, жадных и никого не научившихся любить людей.
Что же получается? Ведь сколько раз у самого Никиты в жизни было: люди не ангелы, мол, и пошёл во все тяжкие! Даже Ляльку, жену свою любимую, нежную, обижал просто так, из-за плохого настроения. А ведь она единственная, пожалуй, кто понять может. Что в жизни нужно человеку? Чтобы кто-то выслушал, простил, понял, не слишком обременяясь и обременяя ценными советами.
– Я тоже могу, – улыбнулся Ангел. – Могу и понять, и выслушать, и простить, и не путаться лишний раз под ногами. Смогу даже исповедовать тебя, если возникнет необходимость. Поэтому и пригласил тебя в гости. Ведь должен же кто-то помочь тебе?
– Ты что, мысли читаешь? – подозрительно взглянул на него Никита. – Хотя, и самому следовало бы догадаться.
– Иногда читаю, – неохотно признался Ангел. – Не очень-то большое удовольствие в сером человеческом веществе копаться, потому как оно чаще с явным жёлтым оттенком и довольно-таки смрадным запахом, накопившимся от всех совершённых грехов за прожитую жизнь. Ох, навязались вы на мою грешную голову писарчуки всякие, записанцы и художники недорезанные. А за вас перед Ним, – Ангел указал пальцем вверх, – тоже ответ держать надо.
– Тебе?! Ответ?! Перед Вседержителем?!
– Мне, мне, – невозмутимо кивнул Ангел. – В нашем мире существуют некоторые правила, которые никто не нарушает.
– Но ведь ты же…
– Проклятый, хочешь сказать? – ядовито ухмыльнулся Ангел. – Какой я ни будь, только не забывай, Господь никогда не оставляет грешников и не лишает их права к покаянию. Особенно тех, кто действительно хочет и может покаяться. Ведь сказано: «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды».[17] Ты, вероятно, не обратил внимания на мои слова, что даже я могу отпустить твои грехи!
– А ты? – снова изумился Никита. – Неужели ты способен к покаянию? Способен прийти в храм на исповедь?
– Что – я? – пожал плечами Ангел. – По-твоему покаяние – это опять только человеческая прерогатива? Тебе сам Господь так сказал? Я знаю немного другое человеческое понимание: «Не согрешишь – не покаешься, не покаешься – не спасёшься» и ещё, «не то делаю, что хочу, а что не хочу – то делаю».[18] Видишь, как у вас всё просто! В общем так, идёшь бродить по роману? По сгоревшему роману, – поправился он. – Тебе решать. Если нет, доставлю домой в лучшем виде. Только другой попытки не будет.
Снова соглашаться на предложение прогулки? А надо ли? Но, с другой стороны, ведь Ангел не просит за своё предложение заложить душу. И всё же Никита чувствовал, что такие игрушки могут оказаться небезопасны. Взять хотя бы Нарцисса-Подсолнуха, бормотавшего на своей любимой компостной куче. Ведь съел бы! Без хлеба и соли. Даже не жуя. Ангел его привёл сюда, но Ангел же и спас. Только зачем он со мной нянчится? Хочет прогулять по сгоревшим романам разных писателей? На это и жизни не хватит. Искушение? Вот это больше похоже на правду. Ведь когда он попался в пустыне Макарию Великому, тот спросил:
– Куда спешишь ты, нечистый дух, и зачем столько разных склянок на себя навесил? И услышал в ответ:
– В каждой склянке разные соблазны. Оттолкнёт грешник одну склянку, а я ему тут же другую: что-нибудь да выберет.
Может, и мне он склянку предлагает? То есть банку. Выходит, уже… Причём покровителем писателей и художников себя почитает. Но ведь сказано, не его бояться надо, и не может он душе человеческой навредить, если, конечно, сам человек… а, ладно…
Никита увидел таящее в воздухе изображение Ангела и, пока тот опять не исчез по-английски, решил узнать, что за подсолнух встретил его у автобусной остановки:
– Ангел, постой, не исчезай, этот подсолнух – тоже любящее дитя, сотворённое Даниилом Андреевым?
– Нет, это Яков Голосовкер… иди, если хочешь действительно познакомиться… так не расскажешь…
Последняя фраза зазвучала уже чуть слышно, как будто Ангел кричал через толстую кирпичную стену. Площадка, где стоял Никита, оказалась просторным каменным коридором со сводчатым потолком и базальтовым полом, в который выходило несколько дверей, выкованных, вероятно, во времена Иоанна Грозного.
Есть ещё на Москве княжеские палаты, где можно увидеть такие двери. Палаты? Да, скорее всего это помещение раньше было именно боярскими или митрополичьими палатами, где прошлое всегда переплетается с будущим. Но только не здесь. Обшарпанные стены, на полтора метра от пола покрашенные в самый казённый рассейский цвет жидкого поноса. Пол, выложенный массивной каменной плиткой из давно не метеного базальта, тоже вызывал чувство загаженного общественного туалета. Над единственным зарешеченным окном в торце коридора – паутина.
Никита попробовал заглянуть в ближайшее к нему помещение.
Дверь, окованная ржавым кровельным железом, оказалась запертой. Открылась только третья дверь, за которой была келья тоже со стрельчатым потолком и окнами-бойницами, забранными в тяжёлые толстые решётки. За единственным обшарпанным некрашеным столом, притуленным между окнами, спиной ко входу сидел человек.
Во всяком случае, человеческая фигура была в неприютной комнате единственным заслуживающим хоть какое-то внимание предметом. Потому что красный бархат расшитого изумрудным узором халата, в который кутался человек, привлекал внимание постороннего. С одной стороны стола стояло причудливое кресло с высокой спинкой и вылинявшей до дыр обивкой, но человек сидел на простом грубом табурете, тоже не крашенном, как и стол, просто почерневшим от времени.
Никита, обрадовавшись встрече хоть с кем-то в этом необычном тюремно-больничном заведении, несколько раз кашлянул, стараясь привлечь внимание человека. Но тот, склонившись над столом, не обратил на вошедшего никакого внимания. Тогда гость сделал несколько осторожных шагов по комнате и заглянул человеку через плечо. В руках тот вертел камертон. Затем вдруг бросил его в алюминиевую миску и долго слушал, как затихает звук инструмента.
– Ты всё-таки пришёл, то есть, не преминул прийти? – не оборачиваясь, спросил человек, ещё плотнее запахиваясь в толстый домашний халат, ничуть не похожий ни на больничную, ни на тюремную одежду. Поскольку в комнате больше никого не было, то ждали, вероятно, Никиту.
– Да, – кивнул гость. – Только мы разве знакомы?
От Ангела можно было ждать что угодно. Он мог объявить Никиту спасителем человечества или, на худой конец, всенародным целителем. Мало ли почему человек ждал Никиту? Перестраховаться в любом случае не мешало. Причём в этот раз, явившись спасителем от нападок Подсолнуха на остановке, офеня был без своей коробушки с книжками, деревяшками и монистами. Наоборот, одетый в новенькие джинсы и джинсовую курточку с выглядывающей из-под неё красно-кровавой рубашкой, Ангел выглядел очень даже клеевым пацаном. У них, в ангельском блокгаузе, тоже какая-нибудь партийная перестройка или просто статус поменял.
Человек в келье не обратил внимания на вопрос гостя. Скорее всего, никакой ответ был вовсе не нужен. Человек хотел говорить сам и иметь слушателей. Как это всё же важно – иметь слушателей. Любой из живых людей много отдаст за то, чтобы иметь внимательно слушающую аудиторию. Гордыня власти над чьим-то сознанием – о, как ты сладка!
– Я звал тебя, – продолжил мужчина, всё так же не оборачиваясь. – Звал и ждал. Не отрекаюсь. Хотя ты, верно, знаешь всё, что может тебе сказать обыкновенный больной обыкновенного юродома, но ведь и ты такой же сумасшедший, как и я. Мы недаром живём в одном доме: раньше это был твой дом, дом твоего отца, а теперь наш общий. И это закономерно, что теперь здесь не церковь, а больница для повредившихся умом. Поэтому я всё скажу тебе, что должен.
Мужчина приумолк, собираясь с мыслями. Куда это Ангел соизволил отправить Никиту? В дурдом, который когда-то был церковью? Вполне возможно. Такое даже при совдепии практиковалось нередко. Но за кого принимает гостя этот умалишённый философ? За явившегося к нему Спасителя? Тоже похоже на правду. Любопытно послушать какая такая нетленка приходила Подсолнуху в голову, за что «инфернальный художник» её спалил? Ведь этот самый, сидящий спиной к вошедшему, один из героев сожженного романа Голосовкера, то есть, Подсолнуха. Недаром Ангел предупреждал, что всё это надо увидеть своими глазами.
– Ты обещал человеку истребить зло добро, – раздался снова голос обитателя юродома. – Ты уверил человека в том, что, несмотря на все его злодейства, свирепость, глумление над добрым и добром, он всё же по природе добр и полон любви, даже тогда, когда топчет любовь ногами, и плюёт ей в сердце, и гадит на всё, что любит и любил человек. За твоё добро и твою любовь тебя распяли. Теперь об этом вспоминают со скукой и даже не хотят больше вспоминать, до того люди превзошли твою Голгофу и крест такими голгофами и суперголгофами, что твой Гефсиманский сад, и чаша скорби, и гвозди, вбитые в тебя, кажутся невинным капризом, детской фантазией по сравнению с этими новыми сверхголгофами гуманности сегодняшнего дня. Тебя распяли. Но всё же многие тогда уверовали в твоё слово, в твоё добро. Какие только личины не надевали на себя поверившие в твоё добро и доброту, чтобы проповедовать его и обманывать себя, и как беспощадно расправлялись они со всеми, кто пытался с них сорвать их обманные личины или хотя бы только указать на эти личины, усомниться в их доброте. Уязвлённое самолюбие доброго, когда усомнятся в его доброте и высокой цели добра, намного страшнее задетого самолюбия злейшего-из-злейших. Оно мстило и ещё как!
Были среди последовавших за тобою и нежнейшие из душ человеческих. Они думали, как ты, не умея победить зла добром. И многие из них запутались и уже сами не знали: где добро и где зло.
Ты смотришь на меня безмолвно, как будто всё это знаешь и даже знаешь нечто большее. О, это твоё большее! Сколько раз оно спасало тебя в душе человека, уже отчаявшегося в тебе и понявшего всю тщетную чудесность твоей мечты о добре и добром человеке, – но только мечты. И когда он это понял, он, отчаявшийся, решил, что земля, родив человека, родила только интересного зверя, самого интересного из всех зверей на земле, который вовсе не хочет никакого добра, и никакого зла, и вовсе не хочет их борьбы, а хочет только интересно жить, ликуя и смеясь жизни, – и это всё. Он даже не прочь поохотиться на другого интересного зверя и, если бы мог, охотился бы даже на самого себя, как это ни смешно. А, впрочем, кое-кто на себя же и охотится: ведь встречаются же и такие, которые сами себя подстреливают. Но он не смог так жить, как хотел. Жить только интересно вне добра или вне зла, потому что среди его породы возникали звери ещё интереснее, чем он, которые изобретали ещё более интересные земные забавы, чем прежние, и среди этих забав особенно интересной оказалась забава «добро», и даже забава «в веру в добро»: сначала – детская, прелестная, а затем самая кровавая забава. Эти забавы были так занимательны и так нравились, что все другие забавы по сравнению с ними становились скучными. Это вызвало ненависть и опасение у ставших скучными. И тогда эти скучные, бывшие интересные, стали охотиться на новых интереснейших зверей, играющих «в добро». Таким вот интереснейшим зверем был и Ты, «человеколюбец», ставший богом.
Ты прибавил к игре «в добро» ещё любовь – к человеку, которая могла увлечь за собой тьмы человеков. И вот тогда-то бывшие интересные звери, ставшие скучными, сговорившись, превратили твою «живую любовь» в «жертвенную любовь», в новую забаву для человека, – и распяли тебя.
Так решил про себя отчаявшийся в добре.
Я знаю, что ты не был забавником, что ты на самом деле хотел истребить зло добром, не постигая всей хитрости охотников на интересного зверя. И что же! – за 2000 лет ты этого не сумел, – пусть не ты, пусть это христианская культура не сумела истребить зла добром. Но она наскучила, эта христианская культура, и человек отвернулся от тебя и твоей жертвенности. Теперь человеку остался второй путь. Забава ли это или новая попытка всерьёз – но человек от сего дня спросил себя: «Если зло неистребимо добром, то нельзя ли зло истребить злом?».
О, это желание «истребить зло злом», стало сегодня его мечтой, и он решил эту мечту осуществить. Он решил: если преодолением зла добром руководила любовь, твоя любовь, – то истреблением зла злом должна руководить ненависть. На лбу двадцатого века – как каинова печать, загорелась заповедь – страшный девиз, лозунг новой эры, эры высшей гуманности: ненавидь, если ты человек.
Разве здесь в слово «человек» не вложена высшая гуманность и надежда? Эта ненависть врывалась по-разбойничьи в умы, вползала в сердце и впускала в него свой яд. Она лежала, притаившись в тёмных углах нищеты и коек больниц, скользила под тёплое одеяло будуаров, ворочала тела в мягких постелях и таилась вором под кроватью. Она валялась под заборами с пьяным выкриком охрипшей глотки, всходила на кафедры и амвоны, гудела в фабричных гудках и паровозах, свистела свинцовыми наконечниками плёток и дубинок. Она захлёстывала петлёй виселиц горло и взрывалась бомбой под лимузином. Мириадами микробов она вселялась в бумагу, принимая обличие букв и слов, шепталась на явочных квартирах и в ночь гремела по лестницам под звон шпор сапогами. Она вспыхивала пожарами усадеб и целых деревень, обрушивалась на вековую скорбь глаз, века ждущих избавителя, белыми клыками набрасывалась на чёрные тела и чёрными коричневыми кулаками на белые, и тот, кто всё это совершал, кто умел так ненавидеть, считался человеком. Она была непобедима, потому что вооружилась с самого начала оружием, страшнее и сильнее которого на земле нет: Идеей. Именно Идея и вырезала на своём щите тот девиз – лозунг высшей гуманности: ненавидь, если ты человек!
И потребовала от человека воплотить его в жизнь – но воплотить целесообразно: истребить зло злом. Вот она, та Идея, которая покорила сегодня человека. И пришли те, которые эту целесообразность восторженно приняли и стали целеустремительно осуществлять.
Но для осуществления нужна власть. Ты сам знаешь, что наибольшей властью над человеком, над его умом и душой, обладает сила, которая таится в надежде. И та надежда живёт в мозгу человека, именно, в его Идее, о которой я тебе только что сказал. Она, эта Идея – чудовище, и нет в мире чудовища жесточе, беспощаднее и кровожаднее Идеи. И чем она кажется возвышеннее, жертвеннее или святее при своём зарождении, и чем большее число голов идёт под её знаменем, тем больше у неё рабов и тем кровожаднее она становится в своём триумфе. Впрочем, где тебе, Великому Ребёнку, знать, что величие Идеи измеряется на земле трупами и тот, кто оставил позади себя наибольшее число трупов, тот в глазах человека наиболее велик. Да, они это знали, но они знали и то, что человек самое слепое создание на земле и что ему нужна Идея для того, чтобы прозреть и в своё прозрение поверить. На самом же деле она нужна ему, чтобы ослепнуть до конца. Разве твоя любовь не ослепила до конца человека слепой верой в то, что добро победит зло? Ты сам не имел идеи: Ты просто любил. Но те, кто овладели твоею любовью, те ослепили человека «идеей любви». Но живая любовь и идея любви не одно и тоже. Знай же, не ты, а твоя любовь, как идея любви, победила и 2000 лет длилась якобы её победа, но человек не стал ни более любящим, ни более зрячим, а стал намного более слепым, чем был до тебя. И в слепоте своей он сокрушил ту земную красоту, которая была зрячее и умнее его ума: язычество Эллады.
Теперь пришли те новые, всё это знающие – истребители твоей любви. Они сказали, что сегодня Идее ещё нужно особое знание: знание-от-ума, и что такая вооружённая знанием-от-ума Идея есть та идея, которая сделает слепого зрячим. Они назвали это особое знание законами истории и решили эти законы осуществлять.
Впрочем, что тебе законы!..
Весь этот монолог-исповедь Никита слушал, открыв от удивления рот. Да и было чему удивляться: нахальности суждений позавидовали бы и Ницше, и Шопенгауэр, и Гитлер вместе взятые. Откуда этот «фрукт» в домашнем красивом халате, байковых тапочках на босу ногу, гривой давно не мытых и нечёсаных волос появился в тюремной больнице?
Яснее ясного и доподлинно понятно, что сказанное относится не к Никите, но тогда где и кто тот, долженствующий выслушать этот бред? Ясно, что сцена была разыграна Ангелом специально для одного зрителя. Но ведь и актёр – тоже один. Если же актёр выдавал монолог с таким воинственным напором, то, вероятно, ожидал, что его обязательно услышат, ответят, возразят!
Вдруг в полумраке комнаты, неподалеку от себя, Никита заметил фигуру в белом длинном покрове, неподвижно парящую в воздухе у одной из побелённых колонн, подпирающих своды церкви, то есть больницы для душевнобольных.
Свет плохо проникал с улицы сквозь давно немытые окна, поэтому серо-белый сумрак скрадывал очертания предметов и пространства, из-за чего Никита вовсе не обратил внимания на третье действующее лицо мизансцены. А сейчас лёгкое движение воздуха, тайком прошмыгнувшее в неплотно прикрытую дверь, всколыхнуло белый хитон левитирующего человека, что сделало его если не осязаемым, то заметным.
– Ты говоришь с чужих слов, Авраам, – промолвил парящий в воздухе. – Разве в злобе рожала тебя мать твоя? Разве в злобе кормит тебя земля твоя? Разве не ты восторгался словами Нагорной проповеди? Что же теперь ты, Авраам, повторяешь ересь, посеянную врагом рода человеческого, оскверняющую душу твою?
– Нет! Никогда! – вскочил с деревянной табуретки мужчина и, отбежав к противоположной стене, потеряв по дороге один тапочек, скривился:
– Я – Орам! И никогда, слышишь, никогда не буду тем, кем Ты назвал меня! Даже Ты здесь не Иисус, а всего лишь Исус. Не правда ли что-то схожее с искусом. Не знаю, автору виднее, но не Ты ли тот змей, которого рисуют нам в Библии? Не Ты ли тот искуситель, решивший позабавиться над Своим созданием, словно ребёнок с игрушкой? Чем же игрушка виновата, если Творец не смог сотворить её хорошей, доброй и послушной? Все Твои творения выглядят, как создание настоящего Франкенштейна! Силы хватило у Тебя только на урода! Ты это знаешь, поэтому слаб. Да, это так. Ты не Спаситель. Тебя самого надо спасать, спасать Тебя надо! Я знаю, ты жалеешь меня. Но я не стою Твоей жалости. Иди! Помогай! Спасай! Сомневаюсь, что у Тебя хоть что-то получится, хоть кто-то обратится за Твоей помощью…
– Я не хочу избавлять человека от выбора пути, по которому он собрался пройти до перехода в иной мир, – снова явственно прозвучал голос парящего над полом. – Родившись, человек отнюдь не стремится постичь зло и отринуть чувство настоящей любви. Заметь, в вашем больном государстве до прихода к власти чужих тоже были гражданские войны. И одна из них исполосовала Россию в семнадцатом веке, с благословения патриарха Никона. Но истинные христиане, каких вы теперь зовёте старообрядцами, не стали воевать, не приняли игру врага, а просто ушли с поля боя, оставив пауков повеселиться в стеклянной банке. Любви нельзя научиться, если у человека отмирает орган любви…
Тут потолок кельи прорвался, как папиросная бумага, и в образовавшееся отверстие втиснулся не ко времени четырёхголовый подсолнечный аспид:
– Я же говорил, что человек обязан признать себя всецело земным, ни на что не надеяться, кроме как на себя, ибо все его силы, суть силы земные.
– Сгинь, демагог, – тут же раздался из подпространства голос Ангела.
Интересно, у всех ли ангелов есть привычка исчезать и являться по-английски? И почему, собственно, по-английски, а не по-ангельски? Ведь они перемещаются, кажется, не так как люди.
В этот раз на материализовавшемся Ангеле опять был офенинский красный полукафтан с золотым шитьём по красной парче. Из такого богатого материала у священников бывают пошиты пасхальные ризы. Под огненным полукафтаном офени виднелась чёрная косоворотка с кокетливо отстёгнутым воротом. Подвязан полукафтан был зелёным кушаком с пушистыми кистями.
– Тебе говорят, сгинь! – повторил Ангел. – Никогда не след встревать в не свой разговор!
Затем он начертал в воздухе замысловатый знак веткой, похожей на хвойную, только с мелкими бело-голубыми цветами омелы, и потолок снова стал монолитом, скрыв уродливую рожу Подсолнуха.
– Что ж ты его изгоняешь? – хмыкнул Никита. – Ведь он вещает твою правду: правду сытого брюха, тёплой постели и звонких монет. Пусть даже на трупах рождается такая правда, зато уважать будут и ныне, и присно, и во веки веков!
– Аминь! – машинально промолвил Ангел. – Тьфу ты, балаболка! Тебя не за этим позвали.
– А зачем? Слушать бредятину этого недоумка? – Никита ткнул в фигуру застывшего у стены мужчины в халате со зверски перекошенной физиономией. – Ведь он вещает твою правду!
– Опять ты за своё? – поднял бровь Ангел. – Откуда тебе знать мою правду? Господь нашептал? Может, и апостольское «Откровение» уже собрался писать, гениальный ты наш? А что, вот и название подходящее: «Откровение Никиты Богомысла», или, скажем, «Пророчество Никиты Богоявленного». Красота! Вторым Екклесиастом сразу же прослывёшь! Почёт! Чинопочитание! Слава! Уважение! Поклонение! А дальше – трудно сказать!..
– Но ведь он же…
– Он? Ты на себя посмотри, – взъерепенился Ангел. – Стал бы я с тобой возиться, если б ты гордыней да спесью свой же талант не испоганил. Рукопись свою вспомни: от стыда она сгорела. От стыда за написанное. В гении метишь? В кузнеца человеческих душ? Нет, милай, туда тебе ещё рановато! Хотя, пожалуй, можно. Даже в кузнеца. Поэтому пытаюсь тебе показать, как не надо писать. Запомни: настоящий гений без кастрации некоторых духовных и физических сил состояться не может. You understand me?[19]
– How terrible! But why?[20] – это прошептал Подсолнух, просунув свои головы на этот раз в приоткрытую дверь.
– Сгинь, тебе говорят! – Ангел запустил в него апельсином, который перекатывал до этого с ладони на ладонь. Подсолнух юркнул за дверь, но опять принялся за свои жалобные причитания.
– А действительно, зачем? – поинтересовался Никита. – Гениями, по-моему, рождаются, а не становятся.
– Да, гениями рождаются! – согласился Ангел. – Но гений обязательно должен узнать, кто он такой, поверить в себя, научиться влезать в шкуру любого героя, верить в совершённые вместе с героем преступления или сексуальные сакральные приключения. Это не даёт расползаться воображению. Оно должно без конца возвращаться к исходным темам, рассматривать их под тысячами, под миллиардами ракурсов. Только тогда гений начинает понимать азы гениальности, то есть, проходит начальную физику жизни. Ещё древние говорили sor lemahela haschar – возвратись, певец, к началу. Эх ты, огорчающий левитов!
От такой отповеди Никита немного обалдел. Потом беспомощно оглянулся, как бы ища чьей-нибудь фундаментальной поддержки и заступничества от нападок Ангела, но ни парящего в воздухе, могущего заступиться, ни злобного никчёмного философа в комнате уже не было.
– Вот ты, – перешёл Ангел на более миролюбивый тон. – Ты пришёл сюда зачем? Правду искать? Правда в мире одна, Никита-ста. Но она, к сожалению, принадлежит не мне и не тебе, и тем более не этому, – кивнул он на дверь. Что с Подсолнуха возьмёшь? Кажется, Поль Элюар сказал, что не следует представлять реальность по своему собственному образу и подобию. Знакомец же твой просто опух от самогениальности, поэтому и сидит здесь в компостной куче в личине четырёхглавого подсолнуха.
– Не правда! – послышалось за дверью. – Мои труды…
– Слушай, пойдём лучше, – поморщился Ангел. – Сам посмотришь его роман. А то он снова лекцией разразится.
– А что, это правда, здесь Иисуса Исусом зовут? – полюбопытничал Никита. – Неужели Подсолнух-Голосовкер не знал имени Сына Человеческого?
– Правда, – кивнул Ангел. – Не упускай из виду того времени, когда жил Подсолнух. В Советском Союзе не знали даже, что Новая эра начинает отсчёт от Рождества Христова. Хотя Подсолнух твой не слишком-то неправ. На разговорном арамейском языке имя Сына Человеческого звучало действительно Исус, а письменный иврит и греческий исковеркали его до Иисуса, что отметили в своих переводах многие греки.
Только советский писатель Голосовкер этого не знал. Просто хотел щегольнуть дьявольской откровенностью и вследствие этого он неожиданно, можно сказать, несознательно приподнял историческую истину, бывает же такое. Но создавать опусы на сакральные темы, которые обязательно должны стать настольной книгой каждого человека – это ли не соблазн! В предложенном тебе романе хватит мусора на косой десяток бульварной макулатуры, но, не окунувшись в дерьмо, не станешь ассенизатором. Когда о Боге начинает писать безбожник, это всё равно, что кухарка принимается управлять государством. Смотри сам.
Глава 6
Пространство вздыбилось упругими волнами колокольного звона, наступающей и наступившей весны, ночными запахами многомиллионного города, гуляющего в эту праздничную ночь по старой инертной привычке – Пасха ведь! Многие ударились в запой из-за подвернувшегося случая – грех не выпить! – а кто и просто так за компанию с теми и другими. Христос воскресе! – значит, воистину, до дна и можно даже повторить, если пойло не кончилось.
И в эту первую Пасхальную ночь под гул колоколов по переулкам Москвы проходил странный человек в длинной белой тунике, подпоясанной простой пеньковой верёвкой. Для одних это был Иисус – Сын Господень, для других Исус – Сын Человеческий. Кто его знает, тот или не тот, но каждый, увидев этого, так или иначе, подумал о Нём.
Если это Он, – думали одни, – то не Второе ли пришествие грядёт? И как раз на Пасху! Ведь семнадцать пророчеств отмечено в Библии, что Пришествие Его будет вторым и последним. Не бывает ничего бесконечного, значит, Конец Света должен когда-то наступить. Может быть, пора готовиться предстать перед Престолом? А если не Он, – соображали другие, – то это просто какой-нибудь Исус, напяливший на себя простецкую тунику, подпоясанную вервием, но никак не Он. Потому что настоящий Сын Божий не явится в мир, словно нищий или бродяга.
Человек шёл, и рядом вдоль стен домов скользила его неотлучная тень, то забегая вперёд, то отставая, то короткая, то длинная. По тротуарам Москвы звонко отдавался стук деревянных сандалий Иисуса. И тот, кто верно знал, что Он был, и тот, кто ещё вернее знал, что Он не был, слушали звон колоколов над Красной Москвой. Колокола заглушили шаги Исуса.
Кто-то столкнулся с Ним, кто-то задел плечом, кто-то наступил Ему сослепу на ногу, кто-то ахнул, наткнувшись на Него, протёр глаза, и отмахнулся, буркнув: «Чёрт!» И тут же обиделся на фонарный столб.
Исус, или кто бы он ни был, вышел на площадь к часовне Иверской Богоматери и как раз из-под Иверских ворот, где часовня, прошуршало наперерез чёрное авто к Кремлёвским воротам – одно и другое.
– Простите, товарищ! – чёткий командный голос прорезал ночь, как бы соревнуясь в громкости с колокольным перезвоном. – Па-апрашу документики.
Исус повернулся к нему и стоял, молча, разглядывая холодную голову постового. А тот, сдерживая порыв горячего сердца, полез чистыми руками в единственный карман на тунике задержанного.
– У вас здесь, кажется…, – сначала уверенно проговорил мент.
Но к своему удивлению вынул из неглубокого кармана туники Псалтирь в потрёпанном переплёте и, повертев её в руках, всунул обратно в опустошённый только что карман хитона, но так неловко, что небольшая книга застряла боком и теперь торчала углом наружу. Мент коротко сказал:
– Иди. Тебе туда, – и подтолкнул безработного сына плотника, даже не зарегистрированного, наверное, на бирже труда, немного вперёд, – туда, вдаль тёмного переулка.
Повернувшись по военному, он зашагал, не оглядываясь, прочь от Исуса, обратно к Тверской и исчез за углом дома. Милиционер смутно понял: безработный плотник был не факт. Фактом была книга, но он не знал, что с ней делать, поэтому засунул назад, в карман.
Унылая дорога с колдобинами через унылую пустоту ночи среди не менее унылых домов, серых, одиноких, наводила на такие же невесёлые мысли о смысле и никчёмности жизни. Только иногда вся эта устоявшаяся патриархальная бесприютность нарушалась тоскливым воем одинокой собаки то ли на неразбитый ещё фонарь, то ли на висящий под ним плакат: «Все в ОСВОД!» Что это такое собака не знала, но увиденные на плакате буквы хорошо провывались. Когда ещё выпадет так тоскливо и сладостно повыть по написанному тексту?
Кто знает, может быть, она мечтала научиться читать, только у неё плохо пока получалось и это тоже отражалось в безысходном вое. А, может быть, сказывалась генетическая связь с дикими предками, которые тоже любили повыть на луну. Потом собака умолкла, потому что вечером на окраине города не фырчали ни полуторки, ни тем более шикарные «Победы». Даже случайные велосипедисты, в полосатых футболках и широких шароварах, очень похожих на казацкие, не катались здесь в эту пору. Так что отреагировать на вой было некому, а собакам, как и всем человекам, обязательно нужен был слушатель.
По пустырю, что за городскими огородами меж Москвой рекой и далёкой монастырской стеной иногда пролетал резвый весенний ветерок, донося из-за реки еле слышный гул далёкого товарняка. Звук этот, такой же сиротливый, как вой собаки, умирал потихоньку на западе, будто последний вздох давно уснувшего солнца. Пуст далёкий пустырь, как воспоминание о любви, когда-то чудной, словно первые нежные ростки, но под перекатом времени превратившиеся в жухлую осеннюю траву. И тогда сердце человека появляется такой же пустырь, который разрастается во всю ширь видимого мира и старается подмять под себя не только одного случайного человека, а пленить всех, живущих ныне. Потому что по земле разливается Красная Пасхальная неделя.
В эту вторую пасхальную ночь вышел сюда на пустырь меж рекой Москвой и монастырской стеной – Исус. Он шёл в белом балахоне, простоволосый, под встречный ветер с реки, не зная, куда, на чей зов, и рядом, словно зная куда, шагала, качаясь под месяцем в бледности ночи по пустырю его тень.
Неслышно шагал Исус, не тревожа псов, вдали от домишек. Лишь изредка дребезгнёт у него под ногой обрезок жести или обломок коробки от консервов, – да мало ли чего. Было на том пустыре свалочное место, и дети, и псы растаскивали оттуда отбросы города – кто куда. Исус шёл. Уже далеко от него монастырь и древний огляд башен со стен, уже далеки и домишки, – только гряды с гнилью овощей и прелый запах, и нигде кругом не видать человека: один Исус.
И вдруг крик в ночи. Не обман, – крик: живой, прямо от берега, высокий, человеческий – вопль о помощи: женщина кричит. Она крикнула раз, другой, третий, всё пронзительнее, потом глуше, как-то взвизгнула, застонала, – и снова криком зовёт:
– Спаси-и-ите!
И уже ветер выхватил у берега громкий покрик мужской, передрягу голосов, хохот и брань и бросил эту симфонию на ликованье псам. Псы залились.
Крик не умолкал. На берегу шла борьба. Человек звал на защиту от зверя человека. По пустырю, по загаженным грядкам огородов, затрепетал под ветром белый балахон, и рядом заскакала гигантом впопыхах тень – туда, на зов о помощи, к реке Москве: Исус бежал – зовут. Их было четверо, – нет, пятеро – на берегу, на влажном песке апрельской ночи: пятый бежал куда-то в сторону и кричал истошно:
– Сейчас приведу! – А трое бороли женщину, зажимая ей ладонью рот. Они барахтались на земле все четверо, – такие забавники ночные! – Отдавшись с упоением игре, где трое сильных парней распластывают на земле женщину, и непременно на спине, и непременно оголённую, – а женщина, сильная девушка, им не даётся: она пытается подняться, сгибает ногу в колене, поворачивается на бок, вся извивается, выскальзывает, – а её тискают, мнут, срывают с неё пальто, терзают платье на груди, даже одну ботинку уже стянули с ноги сотнями щупов впиваются в её тело: распластали, – и вот уже победно навалившись на это тело тремя сопящими мясцами, а она, задыхаясь, стонет и кого-то из трёх за руку зубами…
Тут-то и возник перед ними лунный призрак с взлохмаченной головой: человек-в-белом. Исус задыхался от бега, слова не выговаривались. Он только вытянул руку к девушке, к клубку тел. Бледный под бледностью месяца, с глазами пещерами, в гриве нависающих на лоб и на плечи волос, стоял он с этой вытянутой рукой, и губы Исуса дрожали.
А парни?
Они не сразу заметили его. Только девушка, уловив смутно чей-то образ, словчилась ещё раз высвободить голову из обхвата локтей и простонала окровавленным ртом:
– Помогите…
На мгновение в том стоне глаза Исуса и глаза насилуемой встретились. Но он увидел не глаза, а две огромные дыры, будто два жерла вулканов, давно выдохнувших весь огонь и лаву и теперь застывших чёрными кратерами, и в тех кратерах-дырах так же, как тела на земле, склубились: гнев, оскорбление, стыд и дурман в тусклом ужасе желания.
И как раз в это же мгновение один из парней выдрал победно у девушки повыше голого колена что-то разодранное, клок – длинный лоскут с кружевом, белый, как одежда Исуса, быть может, последнюю преграду, – и, полуобнажаясь, победитель прохрипел:
– Я!
Но это «Я» перебилось выкриком другого борца, тоже парня-победителя, поднявшего голову, чтобы глотнуть воздух:
– Га, глянь!
Головы глянули: над ними с вытянутой рукой стояло какое-то чудило в белом. И парни онемели: как так? – но только на миг. И уже тот, кто выкрикнул «глянь», вскочил, дал телом в сторону и с рукой наотмашь, головой-тараном вперёд, подскакивал к Исусу, чтобы долбануть его под грудь и… и не долбанул. Парень, лежащий на девушке, предупредил его криком:
– Брось, Ванька, не видишь что ли…
И тоже вскочил.
Ванька застопорил. Всмотрелся дельно в бледное виденье и веско высказал свою Ванькину правду:
– С Канатчиковых дач сбежал.
Исус и два парня-насильника, втроём, стояли, словно вскочив с разбега на исполинский пружинистый трамплин и, казалось, доска трамплина под тяжестью прыжка вот-вот слетит вниз, чтобы вновь с силой распрягающихся пружин взлететь вверх и метнуть куда-то толчком замёрзшие тела Исуса и парней.
Третий паренёк, с виду подросток, не поднимался. Распалённый страстью, он лежал ничком, вцепившись в ногу девушки и, всасываясь губами в мякоть тела, не отпускал ноги, а девушка судорожно глотала воздух, открыв месяцу, ветру, реке и любым глазам опушённый рыжими волосиками девичий стыд. Так лежала она перед Исусом. Внезапно по её ногам пробежала дрожь. Девушка дёрнулась, села и так ловко сразу до крови хрястнула парнишку в лицо под челюсть.
– Гада!
Оба поднялись рывком на ноги, ещё не отпуская друг друга, двумя мгновенными ненавистями, с обидными словами на губах, чтобы тотчас уставиться, как и те два прежних парня, на Исуса: кто это? что за явление?
И тут вторично глаза Исуса и девушки встретились. Казалось, она вот-вот поймёт того, кто её спас, кинется к нему, к спасителю, и тогда увидится ею та адамантовая нить, та незримая вековая связь меж царапиной у её чуть-чуть разодранной губы от ногтя зажимавших ей рот пальцев – и человеком-в-белом, – и вот тогда капелька крови у зазубрины на нижней щеке девушки откроет ей древнюю тайну и смысл этого явления-в-белом. Но девушка не кинулась к Исусу, и прочь не побежала, оглашая воплем пустырь, где жути уже заползли под лунные блики, будто так ничего и не случилось на том обнажённом пустыре у берега Москвы-реки. А Москва-река захотела как раз быть большой серебристо-чешуйчатой рыбой-угрем: так переливалась река серебром под луной.
Насильники переглянулись.
То были обычные встречные парнишки – те же, что вчера у Иверской, тесно, звеном, валили во всю ширину тротуара, напирая на пасхальную ночь, на Исуса, и им, весёлым, скуластым, вольным уступил тогда Исус тротуар – сам соступил на мостовую. Двое из них стояли сейчас без кепок. Кепки тут же чёрными грибами росли на песке рядом с брошенной ботинкой девушки, рядом с лужей и женским распластанным пальто.
Только у третьего, с виду подростка, с носом-вопросом, того самого, что в ногу вцепился, кепка приплюснулась ко лбу, и эта кепка, расщепляя оторопь обалдевшего парнишки, выбросила как бы от себя:
– А ну, ребята!
И уже снова Ванька мимически скривился, готовый долбануть тараном-головой Исуса под грудь, и уже шептал ему на ухо предостерегающе другой паренёк:
– Может он бешеный: укусит? Ты смотри, у них сила припадючая. Гляди, Ванька.
Вдруг послышался гомон, топот ног, свист и зык толпы. Вдоль по берегу во главе с тем пятым, убежавшим парнем, что кричал истошно «Сейчас приведу!», неслась гурьба новых парней-кепок, но не просто кепок, а фертов, и кто-то из них на бегу орал:
– Шпарь её, недотрогу! – подскочил и встал столбом, а за ним и вся банда встала, упёршись глазами в Исуса:
– Фу!
Исус с девушкой очутились в живом полукольце. Полукольцо в десятка полутора парней тревожно сомкнулось, оторопев, как те трое прежних, при виде Исуса, чтобы тот час разомкнуться, надвигаясь угрюмой живою волной.
– Ребя, да вы чё, – вдруг подала голос девушка. – Не видите, он же того малость, – и она выразительно покрутила пальцем у виска.
– А ты чё прибежал-то? – вскинула она глаза на Исуса. – Это ж свои ребята, фартовые.
И она, пользуясь случаем, спряталась за ванькину спину. А тот, как шакал, почуявший добычу, которой уже ни с кем не надо будет делиться, просипел вальяжно и натурально, демонстрируя свою доброту:
– Ну, ты это, фраерок, дёргай. А дивчат наших не тронь.
Понял, да?
И в следующую секунду ватага уже гомонила вдоль монастырской стены к себе во двор. И только девушка, кутаясь в накинутый Ванькой пиджак, ещё раз оглянулась – из любопытства – на своего спасителя.
Никита стоял поодаль и всю сцену наблюдал как бы на экране объемного кино.
– И эту нетленную изморось Подсолнух наваял?… – голос гостя романа был с явной хрипотцой, будто застудил на ветру или наглотался фартового «Тройного рома».
– Ага, – кивнул Ангел. – Действительно, наваял, и даже кое-что ещё кое-что. Потом покажу.
– Слушай, – не унимался Никита. – И орфография его? То есть, весь роман писан таким вот старосоветским языком?
– И синтаксис, и стиль, и фабула! – ухмыльнулся Ангел. – Из-за этого он и стонет, превратившись в Подсолнуха. Я же обещал показать тебе сгоревшие романы, чтобы ты на собственной шкуре почувствовал тонкость русского языка. Для Подсолнуха – он именно такой. Его Яша зовут. Голосовкер.
– Не знаю, Яша он или Хрюша – хотя второе подошло бы лучше – только прежде чем писать сцену изнасилования, Подсолнуху не мешало бы самому кого-нибудь изнасиловать, если воображения не хватает. Или попросил бы своих разлюбезных «фертов», чтобы его самого изнасиловали. К тому же, тема фартовая, как он любит выражаться. Представь: ферты, начитавшись произведений Подсолнуха, насилуют его на пустынном берегу Москвы-реки, прикрывая кепками-грибами голую задницу изнасилованного, превратившуюся в стыд!
– Чего? – улыбнулся Ангел.
– Нет, ничего, это я так, – отмахнулся гость. – Но, во-первых, что касается воображения. Вспомни: когда Виктор Гюго описывал пытки своего героя, у него на утро стигматы появились! А во-вторых, я бы с удовольствием понаблюдал «мимически скривясь», как этого писарчука «борют со стыдом и дурманом в тусклом ужасе желания под гулкой тяжестью прыжка».
Ангел откровенно расхохотался.
– А ты, оказывается, злой!
– Нет, я просто люблю русский язык! – огрызнулся Никита. – Да, люблю, и теперь понимаю того «инфернального художника», спалившего попавший ему в руки бесценный роман. Я бы, вероятно, тоже сжег эту писанину, потому что в совейские времена над русским языком издевались планомерно и неспроста. Да и сейчас давление на русский язык продолжается под неусыпным вниманием американских архантропов.[21] У крутой молодёжи, например, не исключая девочек, матерщина стала обычным средством общения. Чем тупее башка – тем «круче» молодец. В результате страна превращается в родину «отморозков» и деградирующих алкоголиков, о чём так мечтала в своё время Маргарет Тэтчер.
– Ой-ой, Никита-ста, не настолько жизнь проста, как ты здесь пытаешься расписать, – хмыкнул Ангел. – Можно подумать, что сам ты никогда не поминал, мягко говоря, нелитературным языком никого из родных? Никогда не сочинял частушек, не рассказывал анекдотов с «картинками»?
– К сожалению, ты прав, – смутился Никита. – Но у меня матерщина не становится, и не стала непременной формой общения. Знаешь, рассказать анекдот с «картинками» – это одно. А ввести в постоянный лексикон те же «картинки», когда человек на улице обращается к себе подобным на громогласном испоганенном языке, по-моему, вещи совсем не совместимые. Кстати, офеня, а куда ты сплавил свой короб знаменитый? И почему наш знакомый Подсолнух, то есть Яша, то есть Хрюша, четырёхголовый?
– Вот опять ты забыл про бревно и соломинку в глазу – притчу евангельскую, – Ангел даже поднял указательный палец вверх. – Не спеши, всё увидишь, всё узнаешь. А четыре головы? Ну… может… от большого ума.
– У Подсолнуха?! От большого ума? – откровенно рассмеялся Никита. – Да ты, верно, издеваешься.
– Э-э-э, милай! Цыплят по осени считают, когда на небе тучки тают.
– Офеня, не темни, – посерьёзнел гость. – Ежели пригласил прогуляться по романам, то выкладывай всю информацию. Кто знает, может быть, именно четыре головы помешали стать Подсолнуху читабельным борзописцем.
– Ну, что ж, слушай, коли приспичило, – кивнул Ангел. – Только не обзывай собрата по перу разными нелитературными прозвищами. Он сам, кстати, ни одного плохого слова о тебе ещё не сказал.
– Ага, – согласился Никита. – Только проглотить хотел при встрече! Но я – твой гость, поэтому деликатес или лакомую закуску ты решил оставить для себя и поэтому спас.
– Ладно, не отвлекайся от темы, – перебил его Ангел. – Кусать меня за заднюю пятку, в общем-то, нехорошо и неприлично. Послушай лучше деловые воспоминания. Давным-давно наш любезный автор увлекался кантовской «Критикой чистого разума» и его четырьмя антиномиями.
– И что же? – пожал плечами Никита. – Я многих знаю, кто интересовался антинаучными размышлениями Канта. Поэтому философия и существует, что в ней появляются здравые мысли, воспринимаемые как оголтелая ересь, а умирают эти мысли уже в плакатах и догмах, превратившись почему-то в правила мирового сосуществования. Ведь так?
– А это он, наверное, сейчас сам расскажет. Ты же знаешь, человеку всегда нужен слушатель. Писателю тем более, на то он и писатель. Причём, знакомиться с такими тружениками пера полезно хотя бы для того, чтоб самому не свалиться в клоаку словоблудия, – Ангел оглянулся. – Эй! Ты где?
Откуда-то сбоку, как бы действительно из-за киноэкрана, с готовностью вынырнул Подсолнух. Казалось, он только и ждал, когда позовут и оценят всю его невыразимую выразительность. Четыре подсолнечные головы отливали золотым пушком, разгоняя негустой мрак пустыря и отбрасывая блики на спокойную в этот час Москву-реку.
– О чём там посреди вас спор, любезный? – спросил Ангел. – Вы никогда не устаёте выяснять вопрос – кто из вас четверых прав. Так поделись с нами своими соображениями. Может быть, мы присоветуем что-нибудь, если сможем разобраться в ваших нескончаемых спорах.
– Конечно, мы всегда спорим о главном, – ответила одна голова. – Имеет ли мир начало во времени и какую-нибудь границу своего протяжения в пространстве или мир безграничен и вечен?
– Существует ли где-либо, – подхватила вторая голова, – неделимое и неразрушимое единство или всё делимо и разрушимо?
– Свободен ли я в своих действиях, – вклинилась третья, – или же, подобно другим существам, подчиняюсь руководству природы и судьбы?
– И ещё, – подытожила четвёртая голова, – существует ли высшая причина мира или все вещи природы и порядок её составляют последний предмет, на котором мы должны остановиться во всех своих исследованиях?
– Видал, – уважительно кивнул Ангел, – а ты говоришь!
– Всё равно, – упёрся Никита, – к литературе я бы его близко не подпускал. Так писать – это выказывать неуважение не только к читателю, но и к самому себе. А ежели он сам себя не уважает, так пусть не ждёт этого от меня, как от случайного читателя и случайного прохожего.
Подсолнух снова принялся обиженно сопеть и раздуваться. Назревал очередной скандалешник, но тут сзади послышался негустой уверенный баритон:
– А можно я попытаюсь ответить на ваши антиномии?
Все оглянулись. В сторонке, стараясь до того не привлекать к себе внимания, стоял Женя Моргенштерн. Стоял, скорее всего, с самого начала, но не встревал. А тут «не вынесла душа поэта» и, только он обозначился, сразу же на спине его модной курточки вспыхнул огонь. Он поспешно скинул курточку и принялся сбивать пламя, топча курточку ногами.
– Тебе кто сюда позволил явиться, дружок? – тоном строгой педагоги вопросил Ангел. – Мы свои проблемы решаем без помощи посторонних. Тем более, ты не писатель вовсе.
Поскольку Женя смущённо молчал, за него вступился Подсолнух:
– Можно он ответит? А он, я чувствую, знает правильный ответ на все четыре положения. Неужели вам самим не интересно послушать? Так редко здесь попадаются умные люди, всё больше случайный прохожие, да случайные графоманы, – и он выразительно качнулся в сторону Никиты.
– Я могу ошибиться, – начал Женя, – ведь известно, что чем меньше человек знает, тем большую проблему пытается решить. Но мне кажется…
– Ты не с того начал, – перебил Ангел. – Видишь, к чему приводит элементарная бездарность и пытливый ум, а, проще говоря, любопытство? Ты же сам сгоришь от этого огня! В потустороннем Зазеркалье его называют онгоном. Представь, тебя окутывают языки ртутного пламени с оливковыми и ярко-алыми переливами, допустим, как случилось с тобой сейчас! Надо сказать, со стороны это выглядит живописно, только я всегда жалел сжигающих себя. Ведь ничего уже не остаётся, даже память о человеке гаснет со временем. И тебя, сгоревшего, сначала будут поминать только рюмкой водки раз в год, потом и это уйдёт в прошлое. Что же от тебя останется хорошего?
– Мне грозит не это сгорание, – парировал Женя. – Я прекрасно знаком с природой Огня, иначе не стал бы проектировать Храм Солнца Мира. А сгорю я от другого. Меня попросту сожгут, заставят превратиться в пепел только за то, что я не такой, как все: молись со всеми одной молитвой! кушай со всеми одну баланду! будь как все и не высовывайся! делай только то, что прикажут и что положено! если ты сможешь быть скуфейкой, сорванной с головы и растоптанной, только тогда ты человек! Даже не человек ещё, а кандидат в партию настоящих человеков! Да, я могу претвориться в грязь, я могу исчезнуть! Но принесёт ли это кому-нибудь пользу? «Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу». Именно так я живу и чувствую себя, но не знаю, сколько времени у меня ещё осталось, так что позвольте, я продолжу.
– Уж сделай милость, – ухмыльнулся Ангел.
– Итак, – Женя сделал риторическую паузу. – Имеет ли мир начало во времени и какую-нибудь границу своего протяжения в пространстве или мир безграничен и вечен? Я правильно запомнил?
– О, да! О, да! О, да! О, да! – закивали подсолнуховые блины.
– Так вот, – продолжал Женя, – давно замечено, что время имеет «спиралевидную форму», то есть развивается и тут же возвращается по спирали двумя потоками – от круга к другому кругу. Опять же отмечаю, что это только материалистическое понятие и философия материалистического сознания, поскольку человек всегда и всё пытается втиснуть, вогнать не знаю в какие, но человеческие рамки. Почти никто из живущих совершенно не задаётся простым вопросом: а что там тянется за моим хвостом? что за гранью увиденного? есть ли конец бесконечности?
К разрешению этого вопроса иные приходят, но, как правило, слишком поздно.
– Значит, границ нет? – встрял Яша Подсолнух. – Бесконечность не может иметь ни конца, ни начала.
– Границы есть, но не физические. Боюсь вам это, как стодвадцатипроцентному материалисту будет трудно понять, но попытаюсь объяснить.
Представьте себе кольцо из пружины, которое в разных местах то сжимается, то растягивается, скажем, меж двумя кольцами существования. Это и есть физическая модель нашего Вселенского времени. Там, где происходит коллапс, – сжатие – время существенно убыстряется, пролетает в никуда бурным потоком и времени никогда никому не хватает. Это замечаем даже мы, нашими отмороженными органами чувств, но не придаём происходящему большого значения. Происходит то, что происходит!
Далее: при максимальном сжатии пружины возникает ослепительная вспышка, то есть конец старого, начало нового. Ergo:[22] мир имеет начало и конец, но не имеет ни того, ни другого. Жизнь имеет начало и конец, но не имеет ни того, ни другого. Потому что вся пружина времени хранит ростки жизни, и она не умирает в целом, хоть и обновляется.
Далее. Существует ли где-либо неделимое и неразрушимое единство или всё делимо и разрушимо?
– А у меня вопрос по первому пункту!.. – пискнул Подсолнух.
– Все вопросы потом, – веско припечатал Ангел. – Не сбивай докладчика на дурацкий диспут! Мы слушаем, любезный.
– Так вот, – Женя Моргенштерн расстегнул ворот рубашки, зачем-то поднял с земли вконец испорченную курточку, снова бросил её и продолжил:
– Так вот. Неодолимое и неразрушимое единство – это Всевышний, это та вспышка, посредством которой обновляется и продолжается жизнь. Это тот огонь, за счёт которого мы все живём и даже ты, господин хороший!
От Никиты не укрылся едкий сарказм при обращении «господин хороший». Причём Ангел как-то странно вздрогнул и с явной неприязнью уставился на Женю. А тот, игнорируя всякого рода имеющую возникнуть полемику, опять пустился в философские изыски:
– Вспомните, на протяжении всей своей жизни человечество пытается проникнуть в связь жизни и огня. Дескать, познав природу Огня, познаешь тайну Вселенной. Человек, как всегда, слишком самонадеян. Ведь недаром нам даден постулат: «Познай себя – познаешь Бога!» Именно потому, что часть Божественного Огня в каждом из нас. Я помню высказывание одного учёного: «Если вы допускаете ошибку в описании природы Огня, ваша ошибка распространится на все отрасли физики – ведь во всём, что создаёт природа, главным агентом является Огонь».[23] И это относится ко всему на свете, даже к таким явлениям, как мысль, взгляд, сон или же чувство.
Давно известно, что существует огонь Природный – это мужской огонь, запрятанный в глубины сознания, в середину, в самую суть любого растения или камня. Ещё есть Внеприродный – женский огонь – он невидим и ослепителен, он дух и дым. Он приходит извне и заставляет гореть внутренний огонь, и тот всегда разгорается, просто не может не разгореться.
Но есть ещё и Противоестественный разлагающий огонь, разъединяющий самые крепкие связи, посягающий на Божественную Сущность.
Тут в голосе оратора снова прозвенели нотки ехидства, а Ангел даже дёрнул плечом, будто стряхивая с себя прилипшее определение.
– Вот вам оно неделимое, неразрушимое и разрушающее единство! Что же касается третьего вопроса…
– Свободен ли я в действиях, – услужливо подсказала третья голова Подсолнуха, – или же, подобно другим существам, подчиняюсь руководству судьбы и природы?
– Конечно, свободен, – кивнул Женя, – вон и «господин хороший», – он снова ехидно улыбнулся Ангелу, – не устаёт повторять нашему гостю, мол, твой выбор! ты сам решил! ты сам и ответишь. А что он? Он такой же слабый человек, как все мы. Он тоже подвержен искусам. Но внимания достоин не тот, кто искусился, а кто смог переступить через искушение. Заметьте, ведь это слово у нынешних батюшек превратилось в простое ругательство, вместо того, чтобы обострить внимание и стремление к молитве.
– Что касается четвёртого вопроса…
– Существует ли высшая причина мира, – влез с напоминанием Подсолнух, – или же все вещи природы и порядок её составляют последний предмет, на котором мы должны остановиться во всех наших исследованиях?
– Да, именно так, – Женя немного подумал и ответил с какой-то детской обезоруживающей улыбкой. – Но ведь ответ на этот вопрос автоматически вытекает из предыдущих. Все знают, что высшая причина есть. Это Создатель. Вы, уважаемый, – Женя чуть поклонился Подсолнуху, – принялись даже роман писать об Его Сыне, не имея малейшего представления, ни понятия о предмете своего писательства. Вам просто хотелось показать, что при новом режиме Господь никому-де не нужен, что от Него все отворачиваются. Ведь так? Но где он, ваш режим? Был да весь вышел, как дым, как утренний туман. Что же касается Бога, то это примерно так: отвернувшись от стены, сколько ни тверди, что её нет, но сама стена от этого не исчезнет. Вон даже наш любезный офеня жалуется, что вы в него не верите, а скоро, глядишь, ему же докажете, что его нет, и не было, что ангел – не творение Бога, а только выдумка.
Давно уже известна истина, – если нет дьявола, нет и Бога. Только кому такая истина нужна? Логично? Мне кажется, я ответил на ваши вопросы. Остальное додумаете сами. Быть может, тогда освободят вас от компостного ложа…
Не успел Женя Моргенштерн договорить, как вся его фигура полыхнула алым. Большие и маленькие язычки пламени плясали над головой в виде короны, а всё тело окутывалось тугими огненными кольцами. Пламя от ног поднималось по спирали выше и выше: очень быстро вся фигура превратилась в маленький огненный смерч, уносящийся в ночное небо.
– Его дух слился с духом Вселенной. Он счастлив, – патетически изрёк Ангел. – Здесь нам делать больше нечего. Пойдём, Никита-ста. По дороге решим, чему посвятим свои душевные порывы.
Они отправились берегом, словно пилигримы, идущие в никуда и лунные нити опутывали странников серебром, наматывались, словно пряжа на челнок, выделяя две одинокие фигуры призрачным сиянием, словно пометив для других: это чужаки, пришлые, не тутошние и – кто его знает? – с чем нехристи пожаловали в мир, отринувший Христа.
– Всё же не руби сплеча, Никита-ста, – полуобернулся Ангел, – сам знаешь, с осуждением мы всегда скоры. Не забывай, эта эпоха – построения рая земного, который должен быть сейчас, здесь и немедленно, а никак не в будущем, тем более там, куда уходят. Всем необходим рай только здесь и только сейчас. Многие даже усердно Христа цитируют, когда Он наставлял апостолов не брать с собой в дорогу ни сменной обуви, ни денег, даже не репетировать свои выступления, мол, всё будет дадено, когда придёт необходимость. Значит, всё может быть здесь и сейчас, а не в каком-то там Зазеркалье.
– Разве эти мысли не продиктованы тобой? – усмехнулся Никита. – Выходит, ты сам в себе сомневаешься? Не знаешь, что с тобой будет в самом недалёком будущем?
– А ты нет? Ты никогда и ни в чём не сомневаешься? Можешь дать ответ, что с тобой будет в ближайшем будущем?
– Знаю, – кивнул Никита, – мне комсомолка отрежет голову, потому что Аннушка уже пролила масло.
Ангел удивлённо глянул на собеседника, потом весело рассмеялся. Беззаботный смех его так не вязался с посеребрённой тишиной ночи, что Никита невольно поёжился.
– Ой, господа-писатели, горе мне с вами! Надо же, «Мастера и Маргариту» вспомнил! – всё ещё посмеивался Ангел. – Многое вам дано, и многое спросится, да не много вы понимаете. Хотя если взять от каждого по здравой мысли, то, возможно, обозначится искомая истина. Пусть даже наброском, абрисом, тенью на стекле. Это ведь тот же самый огонь. Как о нём сказал один мой знакомый алхимик:
«Искусство, подражая природе, отворяет тело посредством огня, но гораздо более сильного, чем Огонь огня закрытых огней».
– Фауст? – поднял брови Никита. – Кажется, только он из живых мог так «огненно» выразиться.
– Кажись он, – небрежно хмыкнул Ангел. – А, может, и нет. Говорю же, вам, писунам и записанцам, многое дано будет, но многое и спросится. А вот когда спрашивать будут, не каждый готов отвечать. Так всегда происходило, так случится и на этот раз. Для меня ты, скажем, как подопытный кролик: сможешь ли перешагнуть ту грань невидимого или зазеркального, заглянуть за границу того, что видишь, исполнить то, что не предначертано, суметь прикоснуться, а, может быть, просто приподнять краешек истины?
– Но ведь тебе-то истина не нужна, – в унисон Ангелу хмыкнул Никита. – К чему такая забота о ней? К чему знать, что я смогу и чего не получится? Не значит ли это, что сам ты ничего не можешь, даже понять основу истины, хотя и хорохоришься почём зря?
– Это как сказать, – нахмурился Ангел, – у любой истины, как у медали, есть оборотная сторона – то самое, чем меня Творец наказал. Ведь если бы Он мог обойтись без меня – меня бы не было. И как ты себе представишь этот мир без света и тени? Как ты поймёшь, что такое добро, не понимая зла?
А пока человек мечется между полюсами истин, между выбором дня и ночи, между быть или не быть, – подбрасывает дров в кострище души своей, где она и сгорает благополучно, как мысль, как рукопись.
И зачастую истина заключается в давнишней дилемме: люпус люпус эст.[24] Лучше иди, посмотри на одного такого сомневающегося. Может, всё же поймёшь правду души своей.
С этими словами Ангел рубанул рукой воздух, и пространство перед ним разодралось на две части, словно холст картины, за которой в образовавшейся прорехе, виднелось какое-то помещение больше похожее на тюремный каземат.
Пока Никита пытался разглядеть что-либо в этом каменном мешке, он, как живой, надвинулся, всосал Никиту с утробным вздохом, будто кит, заглатывающий планктон. А ожившее на секунду пространство сомкнулось за спиной, снова превратилось в глухую холодную стену с облупившейся штукатуркой да зелёными пятнами плесени, ядовито высвечивающей посреди водяных подпалин. Бетонный пол тоже сиял мокрыми пятнами, но отнюдь не после мытья. Грязные скопления лужиц, вокруг которых, словно лепестки у ромашки, отпечатались следы сапог: быть или не быть, расстреляют, на каторгу пошлют, оправдают (?) – гадай на тюремной ромашке, авось улыбнётся фортуна.
На нарах в тюремном халате – удивительно, как автор любит одевать героев в халаты и балахоны – сидел человек. Один на всю маленькую грязную квартиру, ставшей на короткое время его собственностью. Даже не собственностью, а пристанищем, отделяющим его от остального ядовитого мира. Уставившись в пространство, заключённый бездумно пытался разглядеть в тёмном заплёванном углу за парашей, которая больше походила на средневековое орудие пыток, что-то живое, шевелящееся. То ли мокрицы справляли там свою мокричную свадьбу, то ли ожившие тени затеяли возню, ничуть не обращая внимания на соседа, но его именно это место заинтересовало просыпающейся в нём, затаённой до этого, жизнью отдельного тюремного мира.
Человек знал: до рассвета – и всё. Поиск выхода тщетен: значит, всё. Звон колоколов доносился и сюда – глухо, но всё-таки. Что-то вспомнилось, зашевелилось в далёком, забытом. Удлиняло ненужно время, как бы сжатое до мига, в точку – пальцами меж коленей:
– Волю! в железо взять волю! не сдаваться! волю! – нависающая полумгла странно закачалась перед глазами. Под звон колоколов замерещилось детство:
– Не надо детства!
И всё же что-то рванулось из души криком:
– На волю! На волю!
Заключённый подался телом вперёд. Что-то маячило перед ним в полумгле: что-то… кто-то… приближался… в белом… в халате… длинноволосый…
Смертнику послышалось, как из его гортани вырвалось само собой:
– Кто? Поп?.. А! Попался… тоже. Как ты сюда попал? Перевели?
И смертник криво улыбнулся. Исус приблизился ещё на шаг.
– Ты? – в необычайном волнении почти выкрикнул он, откинувшись от видения туловищем назад. – Да разве ты был?.. Морока! Это не ты! Вздор! Подстроили спектакль! Это они могут, комедианты!
Он вскочил с койки и встал во весь рост перед Видением-в-белом. Бледное лицо Исуса оказалось на уровне его лица.
– Я к тебе, – сказал Исус.
– Ко мне? Зачем ко мне? Ведь тебя не было. Я это твёрдо знаю.
Исус молчал.
– Не было, не было! Фарс! Тебя не могло быть. Это научно доказано. Ты – выдумка рабов, жрецов, – для отвода глаз, чтобы покорять и властвовать. Впрочем, разве ты поверишь науке? Ты – мечта, фантом!
Смертник снова сел на койку и сжал руками виски:
– Позор! Слабость. Галлюцинирую. Как это постыдно. Детские бредни вспомнил. Всё это проклятый колокольный звон, такой же, как в детстве, замутил мне голову.
Он протёр глаза. Глубоко вдохнул в себя воздух. Видение осталось на месте. Смертник снова вгляделся в него и, напрягая дёргающиеся мышцы лица, вдруг ставшие тугими, глухо спросил:
– Кто тебя подослал?
– Я сам пришёл, – сказал Исус.
– Сам? Странно. Так ты что ли вправду был? И даже теперь здесь? Не может быть. И это перед тем самым… финалом… на рассвете? Впрочем, такое на многих находит, когда finita la commedia. Но ведь я неверующий, понимаешь, не признаю, не признавал и никогда не признаю тебя.
– Ангел, ты где? – Никита снова стоял наблюдающим и уже несколько минут озирался в поисках своего неразлучника. – Ангел! – снова позвал Никита. – Откликнись, зачем ты знакомишь меня с неверующим нигилистом?
– Да здесь я, здесь, – прозвучал из-подпространства голос Ангела. – Что тебе не смотрится, не слушается? Именно здесь, на границе ухода в другой мир человек может что-то принять и отвергнуть. Недаром же, многие грешники заранее видели, куда они уходят. Причём, иногда делились своими видениями с палачами. Поэтому многие палачи кончали жизнь в психушке. Разве ты не хочешь хотя бы определить, кто этот заключённый? Почему к нему явился Сын Человеческий? Ведь не с каждым такое происходит!
Ангел вывалился из стены на этот раз в форме тюремного надзирателя. Даже большая связка ключей болталась на широком ремне.
– Всё понятно: Репин, «Отказ от исповеди», – комментировал представленное видение Никита. – Так? Или опять скажешь, что рассуждаю, не вникнув в ситуацию, что впереди паровоза бегу, теряя на ходу последние тапочки?
– Скажу, – удовлетворённо кивнул Ангел. – Тебе, если книжный текст не нравится, не особо прислушивайся. Так уж Подсолнух написал, никуда не денешься. А вот в ситуацию вникнуть не мешало бы. Может быть, и текст, и ситуация для тебя более полезной окажется, чем для Подсолнуха-записанца или же этого нераскаявшегося смертника.
– Да какая, к лешему, ситуация, когда сплошь профанация! – воскликнул Никита. – Что, по-твоему, этот в натуре зек не знает, с чего Новая эра началась, от какой даты, то есть, откуда счёт происходит? Или действительно считает, что собралась пара-тройка пап и кардиналов, заложила за воротник по рюмке чаю, а потом объявила Новую эру начатой по случаю беззакусочного выпивона, нам только углубить оставили?
– Ишь ты, Аника-воин, – помотал головой Ангел. – А терпения-то у тебя самого ни на грош. Слушай лучше, о чём промеж себя два мира договорятся, а своё мнение потом как-нибудь выскажешь или запечатлишь на скрижалях. Никогда не бери пример с критиков, которые часто употребляют штамп, мол, не читал книгу, но знаю…
Ангел снова отбыл восвояси, только забыл сообщить, где они находятся. А сам Никита не представлял и не мог вообразить существование «своясей». Тем не менее, двое в камере продолжали «задушевную» беседу, совершенно не подозревая о третьем лишнем.
– А!.. Понимаю, понимаю, – тебя, как когда-то к Джордано Бруно, для исповеди ко мне подослали – оттуда. Ловко. Даже смешно, что ты в белом, а не в красном: «Он не был больше в ярко красном», как в «Балладе Редингской тюрьмы».
Смертник попытался засмеяться, но не смог.
– Впрочем, ещё целая ночь впереди, так сказать, вечность – до рассвета. Что ж, есть время: можно высказаться. Давай, что ли?
Он чуть отодвинулся на койке.
– Что же ты стоишь? Ты сядь. Вот здесь – указал он Исусу место. – Садись.
Исус шагнул и сел рядом со смертником.
– Гха! – гортанным звуком вырвалось из горла у смертника, – с попом помирать веселее, говорит народ.
– Я не поп, – сказал Исус.
– Это сейчас не важно. Извини меня. Это я так по привычке говорю, как многие другие: историческая необходимость словаря.
Они помолчали.
– А ты что: плоть? – спросил, приглядываясь к Исусу, смертник и коснулся рукою колена Исуса.
– Да, плоть. А ну-ка дыхни. – Дышит. Ну что ж, очень хорошо. Значит, вместе… до рассвета? Это камера смертников. Других сюда не сажают. И вообще, в одиночную камеру перед самым тем фактом не принято впускать к смертнику чужого. Может быть, помещений не хватило? Он помолчал.
– Ты по какому делу сюда попал? Ах, да, вспомнил: по этому, голгофскому, что ли? Да, да, что-то такое у меня в памяти мерещится, но я детали позабыл. Впрочем, это тоже сейчас не важно. Важно другое, совсем другое: только сформулировать сейчас не могу. Ты меня понимаешь?
Исус кивнул головой.
– Странно, как это я не заметил, когда тебя сюда впускали, раз ты плоть. Ты же не смог войти невозможным способом? или ты?..
– Я проник, – сказал Исус.
– Факт. Тем хуже для фактов. Но раз ты проник, то ты для чего-то проник. Быть может, ты не знаешь, кто я?
Он отодвинулся от Исуса на самый край койки.
– Я – анархист, террорист. Подготовил взрыв – с жертвами. По банковскому делу: банк ограбить хотели – государственный. Это – не для тебя дело. Ты – тихий. Хотя… – и анархист даже поднял палец кверху – помнишь, как ты мытарей, так сказать, финансистов из храма выгонял. О тебе много наврали, что ты тихоня.
– Много, – сказал Исус.
– Ага, вспомнил-таки и про Голгофу, и про Распятие анархист хренов, – встрял Никита. Он не боялся высказываться вслух, потому что книжные герои его не слышали. – Азы истории раньше в любой церковно-приходской школе преподавали. Подсолнух это вовсе не учёл, создавая героев. Или сам круглым неотличником был? Такое тоже случается. Живой пример братьев Ульяновых-Бланков. Младший до сих пор в театре одного актёра, что на Красной площади, роль вождя всех времён и народов исполняет по совместительству. Его, болезного, до сих пор похоронить не могут – что поделаешь, земля не принимает.
Поскольку собеседники снова не обратили внимания на ворчание Никиты, он с довольно кислой миной лица благополучно заткнулся, решив пока больше не вмешиваться. Меж тем антихрист, то есть анархист, поёрзал на ложе, застеленном рваным в пятнах – похоже от нечистот – одеялом и принялся развивать недремлющую мысль.
– Ну и я такой же, как ты. Только я в порядке экспроприации.
И зарвался. Меня выдали – твои, Иуды. Пускай. Теперь всё равно. Это тоже деталь. Тебя тоже предали. История повторяется. Легенда тоже повторяется. Всё повторяется. Факт! – по спирали заворачивается. Или, по-твоему: это не факт, а фатум. Факт и фатум сейчас одно и то же. Пускай фатум! Сейчас для нас двоих это уже не важно. Так всё же, зачем ты проник сюда ко мне? Ты же неорганизованно проник, сам от себя, так сказать, самотёком или как кустарь-одиночка. Но я – атеист, т. е. не верую на научном основании:
Древс, Ренан, Бакунин, Эльцбахер и прочие…, как анархист, понимаешь? Ах, да, – спохватился он, – ведь ты тоже анархист, тоже антигосударственник. Теперь всё ясно. Не совсем – но ясно. Значит, – до рассвета?..
Смертник посмотрел на окно и с тоской обвёл глазами камеру.
– Тебе не кажется, будто немного стемнело? Впрочем, это естественно, даже более чем естественно. Теперь мне всё, всё понятно – до конца.
Исус тоже оглядел тревожно сумрак камеры и, пригнувшись к смертнику, положил ему на колено руку.
– Убери, убери руку! – весь вздрогнув, закричал заключённый. Я – смертник, я – анархист. Ты воспользовался моей минутной слабостью. Ты не имеешь права класть на меня руку. Я – не твой. Я иду – «анти» Тебя. Понимаешь: анти!
И сбросил со своего колена руку Исуса.
– Впрочем, извини за грубость. Я даже тыкаю тебе. Быть может, это не следовало бы, поскольку я иду против тебя. Ещё, пожалуй, пригруппируют тебя ко мне: группа, мол, – и тоже привлекут за взрыв: на этот раз за взрыв мирового банка идеалов, т. е. тоже за экспроприацию. А ведь это было бы замечательно! – два анархиста, ты и я, сгруппированы по двухтысячелетнему признаку – за экспроприацию идей: крест и бомба вместе. Вот бы такой факт, – да в кино. И представить нас мировому зрителю на этой же самой койке: Ты да я – перед рассветом… Так и назвать сценарий: «Двое перед рассветом», или ещё лучше: «Рассвет – расстрел».
Исус встал и прошёлся по камере, к чему-то прислушиваясь. Потом осторожно коснулся концами пальцев противоположной стенки камеры, как будто нащупывая что-то рукой, и снова прислушивался.
– Ты что? – спросил тревожно смертник. – Обиделся? Уйти хочешь? Я не хотел тебя обидеть моим «Ты». Это с моей стороны не пренебрежение. С революцией все друг друга тыкают, т. е. тыкаются. Да, да, все на всех и на всё тыкают. Ведь это у нас черта народная, русская. Так ближе к правде, к природе. Ведь звери на «ты» друг с другом. Вот ты, как известно, космополит. Скажи, разве лай собачий бывает на «вы»? Даже заграницей, где все на «вы», – и то там собачьего лая на «вы» не бывает. Впрочем, ведь и ты привык к «ты»: это я с детства помню, что ты всем говорил «ты». Почему же ты обиделся? Вежливость не для распинаемых и распинающих. И после распятия, когда воскресают, тоже не «выкают», а «тыкают». Зачем же тебе уходить? Знаешь, мы здесь с тобой ненадолго и менять обращение уже не стоит. Я даже как-то сжился здесь с тобой немного…
В каком же времени уважаемый автор поселил свой «Сгоревший роман»? Никита не знал и никак не мог сообразить. Да и не ворочались у него сейчас мозги на эту тему. Но, если «кепки-ферты» – явно тридцатые, то анархист-смертник должен жить до исторического материализма и, поскольку он бедный неуч, то не мог знать, что у Фёдора Сологуба есть прекрасный термин – «недотыкомка». Хотя и Никита о братьях Ульяновых-Бланках, возможно, приврал, но кто его знает, люди разное бают. Только где же Подсолнух Яша? Что-то слишком надолго он оставил свою нетленку.
Совершенно случайно взглянув в окно, Никита обнаружил в узком зарешеченном пространстве все четыре благосклонно кивающие морды. Скорее всего, речь анархиста для Подсолнуха-автора являла верх мудрости и понимания жизни. Никите даже захотелось перефразировать Ангела и спросить у голов Подсолнуха-Яши: в чём там промеж вас мудрость, любезный? Голосовкер будто почувствовал взгляд и презрительно чихнул.
Надо же, какие мы чувствительные!
Но ведь он совершенно искренне считает, что принёс себя в жертву народу, стране, человечеству. А если так, то его книга должна стать ежедневником любого и каждого в России, как, скажем, цитаты председателя Мао в Китае. Что с того? «Считание» автора не может быть истиной. Вот опять тот же сакральный вопрос: что есть истина, особенно, для человека, считающего себя гением? Истина – она была, она есть, она будет есть!
А Подсолнух, будь у него руки, устроил бы своим героям бурные и продолжительные аплодисменты плавно переходящие в овацию. Голос у арестанта внезапно осел, стал больше походить на надрывный шёпот:
– Что, идут?
Смертник сорвался с места и впился в дверь камеры глазами.
Он ошибся: никого.
Исус уже возвращался и снова сел рядом с опустившимся на койку смертником. Оба долго молчали. Зато примолкшие было колокола, возобновили перезвон. Полночь миновала.
– Тебе пора, – сказал Исус. – Один ты пройдёшь: тем же путём, что и я.
– Каким, тем же? А ты?
– Я… здесь.
– Вот как, – очень медленно прошептал смертник. – Здесь останешься? Так, так. А я выйду – выйду вместо тебя…
Исус уже распахнул одежду, похожую на белый больничный балахон, и стал её сбрасывать с одного плеча, высвобождая левую руку.
– Не смей! – как-то воплем выкрикнулось из смертника, вскочившего разом с койки и ухватившего Исуса за полы балахона. – Ты не смеешь так со мною!.. Хочешь опять повторить то, что тогда там: снова на крест и муку … за меня? снова – жертвенно? А я-то как после этого жить буду, приняв твою жертву? Ты об этом подумал? – В подлецах, в трусах жить, как те тогда, как твои фарисеи!
Он дрожал от негодования, от злобы, от стыда, от нестерпимого оскорбления, нанесённого ему этим неведомо откуда явившимся спасителем, ему, террористу, его совести революционера, готового своей кровью ответить за чистоту грядущей правды.
– Так вот ты, какой человеколюбец, – бросал он уже с ненавистью в лицо Исусу, своей любовью мне в лицо плюёшь. Я тоже, как и ты: «за человека». Но что же скажу я человеку, если спасусь, подставив твою голову под пулю, под петлю? Скажу: «Лес рубят – щепки летят». Тебя-то причислю к щепке, а себя – к очистителю-топору? Да ведь человек мне за это в лицо плюнет.
– Хорошо, подлец, излагает, – хмыкнул Никита. – Особенно про человека и «за человека», которого он убивал не задумываясь, террорист поганый. Теперь осталось спуститься на самое дно самого горько(вско)го колодца, чтобы услышать и понять сакраментальное: «Человек – это звучит гордо!». Значит, гордыня для ангела – самый любимый грех человека!
В этом небытии Никиту опять никто не услышал – ангеловы штучки! – только в пафосе «негодования, злобы, стыда, нестерпимого оскорбления» заключённому всё равно было не до того. Признаться, Никиту, как гостя, немного это задело. Ему хотелось пообщаться с книжным героем на равных, а односторонняя связь выглядела более, чем скудно.
– Ты что же думаешь, что ты чист, а я не чист? Я бы сам убил и тебя, и себя, если бы знал, что великая анархия свободы от этого восторжествует во всей своей высокой чистоте. Да разве я грабитель?
– Скорее, тать, – поддакнул Никита. – Под татя ты точно покатишь.
– Бандит трусливый?
– Конечно, смелый бандит. Бандиты никогда не бывают несмелыми.
– Негодяй?
– Годяй! Однозначно!
– Разве я жажду власти и соглашусь кровь твою пролить, чтобы только… Я – анархист, и ненавижу власть. Она мне не нужна. Но ненавижу сейчас и тебя за то, что ты пришёл искусить меня своим самопожертвованием ягнёнка. Уйди!
– …уйди, совсем уйди! Я не хочу страданий, страданий без любви и ласковых речей! – запел в унисон Никита, хотя его также никто не слышал.
– Уйди! Ты любишь жалко, не умея ненавидеть. Я – всей ненавистью моей люблю – мир, человечество и может быть потом… и тебя.
Смертник на мгновение умолк.
– Да что же это! Исповедуюсь перед тобой, что ли, – выкрикнул он в гневе:
– Уйди! Ты не нужен мне такой. Ненужный ты! Ненужный! Прочь! Прочь! Прочь!
Смертник упал лицом на койку и сжал ладонями голову, пытаясь, будто страус, зарыться с головой в песок.
Ещё долго стоял в безмолвии над смертником Исус, снова натянув на себя балахон. Перезвон колоколов не умолкал. В окошке за железом решётки – мгла, фиолетовая от ночного света, стала, будто редеть. В камеру проникала бледность. И с этой бледностью слилось видение-в-белом. Его не стало.
Приговорённый приподнял голову, выслушивая тишину; оглянулся, обшаривая растерянным взглядом камеру, посмотрел на решку, резко вскочил, нагнулся, заглянул под нары; сел на краешек, упёрся локтями в колени, а ладонями в подбородок.
В конце коридора, где железная дверь без ручки вела к витой лестнице, послышалось звяканье ключей, голоса, топот солдатских подкованных сапог.
– Слаженным, строевым! – пробормотал Никита. – Здесь-то что топать?
Шаги стихли у двери. Караульный – верно, с перепою – усердно вставлял ключ в замочную скважину, только он чевой-то не слушался. Матюгнулся. Помогло. Ключ просто испугался матершинника. Металлическая дверь начала открываться и в ту же секунду на стене, за спиной застывшего арестанта, появился огненный символ «Z» – зеро, ноль, ничто.
Знак разрастался, ширился, из него весёлой гудящей струёй в камеру хлынуло пламя. Целый огненный поток жёсткий, жалящий, смердящий удушливой серой, сметающий всё на своём пути. Такой можно увидеть разве что в жерле вулкана. Такие потоки когда-то заливали Помпею. Такой сгусток вгрызался в тело Джордано и Орлеанской Девы. Всё застыло, оцепенело в страхе, панике, ужасе. И только пламя заполняло собой свободные ниши и проёмы – всё убогое пространство, не желающее вместить эту царственную мощь, слизывавшую мрак, юркнувший под нары, в надежде, что там его не достанут.
Пространство искривилось. Никита выпал в него, как выпадают из перевернувшегося гамака, как пьяный, перепутавший дверь с окном и трезвеющий на пути к земле. Ветер весело хохотнул у него в ушах, предвкушая подхватить, перепеть последний крик летящего в пропасть бедолаги, разнести по косточкам хруст шмякнувшегося на мостовую тела да потешиться над воплями случайных зевак и крестящихся в подворотнях бабушек: Господи помилуй!
– Не каждый день доводится нашему брату видеть выпавшего в окно пьяницу!
– В какое окно?
– Дома, они во-она где, кто ж оттедова сюда долетит.? Рази чё на ковре-самослёте. – И, гляди-ко, прямо к Обводному каналу.
– Какие ковры, православныя! Тем боле, самослёты! Бесятина энто шуткует.
– Кто шуткует? – мириканец ето, у них смерчей – страсть воздушная! Торнадами кличут. Вот и снесло энтово сюды… Пущай у нас оклемается…
Никита совсем уже приготовился хряснуться о мостовую, но падение прекратилось так же внезапно, как и началось. Голоса стихли. Собственно, были ли какие голоса, ведь падение было долгим. А старорусский сленг – просто голос собственного подсознания.
Глава 7
Что падение благополучно закончилось, Никите поверилось не сразу. Когда-то, в раннем детстве, он часто летал во сне в таких же заоблачных далях, поэтому нынешний полёт не смог вытряхнуть из него самосознание и яркие картины детства. Вероятно, люди всё-таки когда-то владели левитацией, только почему и куда исчезли человеческие умения воспринимать мир таким, какой он есть? Почему, как только человек перебрался на технический путь развития, из его природного умения стали бесследно исчезать умение летать, преодолевать любые расстояния через нуль-пространство, общаться на телепатическом языке, да и просто разговаривать с Творцом? Ведь техническая цивилизация никому ещё не причиняла вреда и неудобства.
А, может быть, именно поэтому человек стал неукоснительно «забывать» свои возможности. Ведь природа не прощает предателя и выбравший путь технократии, достоин существовать таким, какой он есть сейчас. А левитация останется недостижимой сказкой, тем более телепортация и умение читать мысли собеседника. Что ж, и сказки тоже нужны человеку, иначе он окончательно опустится, впадая в нарастающую деградацию.
Оказавшись целым и невредимым на булыжной мостовой, Никита открыл глаза, встряхнул по-собачьи головой и принялся осматриваться. Ведь, если Ангел до сих пор его не уничтожил, не посадил на адову сковородку, значит, гость зачем-то ещё нужен в этом мире. Значит, не всё ещё сделал или не всё ещё познал. Только вот для чего это нужно? Если верить Ангелу, то его уже сейчас можно считать Меценатом Русской культуры. Без него-де руссичи давно превратились бы в спившихся графоманов или воров.
И только Ангелу с его могучей инфернальной энергией русские писатели должны класть земные поклоны. Ну, до поклонения Ангел вряд ли доживёт, но всё-таки от предложенных услуг, какими бы они не были, отказываться нельзя. Никита потом сможет сам решить, помогать ли Ангелу в восстановлении русской культуры или она, сердешная, без инфернальных помощников обойдётся.
Город. Чужой город.
Снова встряхнув головой, Никита подумал, что чужой город виден сразу, но не сразу можно определить, Россия ли это. И какое время выбрано Ангелом для ознакомления с этим местом, потому что Древняя Русь пользовалась грамотой только в летописных целях, записью всяческих там государственных указов и печатанию переведённой на русский язык Евангелия и Библии. А исторические книги, тем более, беллетристика, появились никак не раньше Ивана Васильевича по прозвищу Грозный.
Тогда царь не только расширял границы государства, не только рубил головы смевшим роптать болярам, но благосклонно относился к развивающейся на Руси литературе. И впервые он после благоверного князя Александра Невского заставил поклониться Руси и татар, и кипчаков, и ливонцев с тамплиерами.
И всё же, какой это город? Что это отнюдь не Москва, Никита понял сразу. Он очутился на булыжной мостовой, протянувшейся вдоль широкой протоки с берегами, оправленными в гранитные прямоугольные плиты, которые в свою очередь были увенчаны литыми чугунными решётками.
Совсем недалеко мост на монолитных каменных сваях с такими же чугунными перилами. У оснований моста красовались квадратные каменные тумбы с водружёнными на них, успевшими позеленеть, бронзовыми грифонами, а середину моста украшали металлические штанги, закрученные наверху косичкой, словно усы зелёного гороха. На этих усах висели пузатые стеклянные фонари, которые не горели, поскольку было довольно светло. Раннее утро, когда день ещё не перевалил за половину, во многих городах бывает немноголюдно за исключением ярмарочных дней. Тогда спозаранку люди спешат куда-то, создавая имитацию бурной деятельности.
Возле чугунного парапета – проложен кем-то аккуратный деревянный тротуар с подогнанными досками, наверное, у города был хозяин, заботящийся о жителях не на словах, а на деле. Ведь никакой плотник самостоятельно не станет класть такой тротуар! Вдалеке за речкой виднелась широкая улица, мощенная темным обтёсанным булыжником, подогнанным кирпич к кирпичу очень плотно, совсем как на Красной площади.
Никита вгляделся в особняки на противоположной набережной. Двух-трёхэтажные здания, почти везде слепленные торцами, вызвали в памяти смутные воспоминания. Ну да! Это же Париж! Только век явно не двадцать первый и даже не двадцатый. А улица, упирающаяся в мост, как две капли воды похожа на бульвар Сен-Мишель. За мостом должен быть остров Сите.
Правильно! Вон и хрящеватый шпиль замка Сент-Шапель торчит. Только зачем Ангел отправил своего гостя в Париж? Неужели в России не у кого учится чистописанию?
Надеюсь, путешествие в Париж устроено не для того, чтобы рассматривать достопримечательности Нотр-Дама вместе с химерами или сожжение тамплиера Жака де Малэ? Если хочешь что-то для себя выяснить, понять хоть часть существования, в России принято в народ ходить. Значит, пора в народ, будь это Париж, Лондон или какой-нибудь Мадрид.
Утреннее солнце уже успело напитать летним сиянием воздух, и прогулка обещала быть приятной. Тем более, что город, судя по всему, не был пристанищем заезжих и гулящих. Ну, что ж, Париж, так Париж. Никита жил здесь несколько месяцев с Лялькой когда-то очень давно, в середине девяностых прошлого столетия. Просто Никите прислали приглашение уехавшие навсегда в Париж поэты и художники.
Диссидентская волна эмиграции не задела Никиту по простой случайности. Но ему все друзья советовали удирать пока не поздно вместе с приговорёнными к выселению из России. Иначе выселение могло произойти совсем в другую сторону, то есть куда-нибудь ближе к Магадану. Коммунисты любого плана не любили инакомыслящих, недаром их вечно живой вождь Ульянов-Бланк-Ленин парафразировал Евангелие: кто не с нами – тот против нас!
В Париже Никита с Лялькой бродили, взявшись за руки по улицам и бульварам – Рю да Рю, Риволи, заходили в церковь Сен-Жермен л'Оксерруа, дворец Шайо и, конечно же, излазали склоны Мон де Мортир, то есть Монмартра. Ах, как было тогда здорово! Они только что поженились, примеряли на себя семейную жизнь и без конца целовались. Да разве в Париже возможно не целоваться? Но оба влюблённых, не сговариваясь, пришли к выводу, что Париж – это маленькая Москва и никак не наоборот.
Тогда была чудная, пахнущая морем, солнцем, жареными каштанами, желтеющими клёнами осень. Она сводила с ума сказочностью и тёплым ласковым общением. Именно в Париже они влюбились по-настоящему. Это тёплое, ласковое парижское солнце согревает их до сих пор. Кажется в эту осень… да, в эту осень он подарил ей стихотворение. Не Бог весть, какое по стилю и прочему, но Лялька визжала от восторга.
Мне хочется дарить тебе цветы и выполнять заветные желанья, и знать, что есть на свете я и ты, и есть мечты, а не воспоминанья. Ах, этот воздух! Воздух октября — чудесная настойка мандрагоры. Побудь со мной, мой друг, не говоря о том, что было или будет скоро. И, словно блик на острие меча, рождается момент чудесной силы. Мне хочется с тобою помолчать о самом важном, нежном и красивом.Только здесь, на извилистых сказочных французских улицах, оба поняли истинный смысл существования человека на земле. Научились делиться настоящей человеческой любовью и радостью не только друг с другом, а также с простыми прохожими, деловито спешащими по своим делам, с голубями, клюющими крошки утренней подачки, с окружающей природой, с подозрительно поглядывающими на тебя зданиями глазницами подслеповатых окон.
Вся история человечества, построенная на плотоядном желании – отнять и разделить! – не имеет, в сущности, права на внимание. Человеку помогает вылезти из каких-то душевных драм и бытовых проблем только умение делиться с другими настоящей радостью жизни.
Насилие и агрессия не принесли ещё ни одной из хищнических побед процветания и славы. Любой человек вспоминает войны только с неприятным содроганием. Проснись, человек! Даже крестоносцы, прячась за крестом, не смогли убедить людей, что служат исключительно Сыну Человеческому! Ведь дал же Он заповедь человеку: НЕ УБИЙ! И никакие оговорки здесь не уместны, потому что на чужих костях счастье не приживется, и никогда не построишь храма на крови.
За размышлениями о главном Никита не заметил, как выбрался на людную улицу, хотя её ещё трудно было назвать людной, поскольку в больших городах народ заполняет улицы исключительно после полудня. Но даже сейчас публика попадалась прелюбопытная.
Теперь уже не было сомнений, что это девятнадцатый век. Такой вывод Никита сделал хотя бы потому, что невдалеке увидел троих рабочих какой-нибудь Тулузской мануфактуры в толстовках, с красными шейными платками. Так любят в наше время одеваться некоторые художники. А в девятнадцатом, да ещё в Париже это был отличительный атрибут рабоче-матросского населения. А вон и фрак навстречу, в цилиндре, тросточкой крутит. А там пара – довольно странная: салоп и поддёвка. В таких одёжках когда-то любили разгуливать рассейские приказчики с супругами.
Засмотревшись на выпавшую из парижской симфонии пару, Никита чуть не врезался в чей-то объёмный живот, покрытый красной рубахой в белый мелкий горошек, а сверху ещё и жилеткой с массивной золотой часовой цепью. Живот даже был при картузе и при лаковых прохорях с раструбами. Чудом, увернувшись от живота, Никита нанизался-таки на усы. Потом сконфуженный, униженно прося пардону, отошёл к салатового цвета стене двухэтажного особняка, которая по фронтону имела ещё и ажурную лепнину.
– Смотреть надо, растяпа, – буркнули усы на чистейшем русском.
Так это вовсе не Париж?! А мощёная тесаным булыжником улица? А чугунная литая решётка у… Так. Это может быть только Петербург. Вот тебе и салоп с поддёвкой, вот тебе и усы. Собственно, на кой ляд Ангелу отправлять гостя в Париж или другую чужую страну? Европа развивается совсем по другому пути, поэтому ни учёные, ни, тем более, писатели западных стран никогда не поймут «таинственную душу русского человека». Да, в толстовках французская мода пришла и в Россию, но вот шёлковых красных рубах, а тем более ухоженных усов, там никогда не увидишь.
Тут же припомнились слова о Петербурге девятнадцатого, сказанные одним из тогдашних писателей:
«Здесь вы встретите усы чудные, никаким пером, никакой кистью не изобразимые; усы, которым посвящена лучшая половина жизни, предмет долгих бдений во время дня и ночи; усы, на которые излились восхитительные духи и ароматы и которых умастили все драгоценнейшие и редчайшие сорты помад; усы, которые заворачиваются на ночь тонкой веленевою бумагой; усы, к которым дышит самая трогательная привязанность их посессоров, и которым завидуют проходящие».
Конечно, это был Петербург – удивительный и безжалостный, раздвинувший каменными локтями толпу старорусских городов, деревень и посёлков, так и не ставший «окном в Европу», но сохранивший Эрмитаж, Петергоф, разводные мосты и даже чудо Монферана.
Сразу на ум пришёл Достоевский.
Нет. Пожалуй, Достоевский здесь ни при чём. Он не сжигал своих опусов, да и город, понемногу наполняющийся пёстрой гомонящей толпой, пузатые разноцветные особняки-снобы, дворцы с капризными колоннами и свысока взирающие на людской муравейник – ничто не напоминало мрачный, промозглый, утопающий в вечных сумерках и грязи город, где бродят одни лишь маньяки, неудачники да третьесортные шлюшки.
Этот город наливался предпраздничным оживлением, смехом, радостью. Вон вдалеке взыграли солнечными лучиками купола какого-то величественного собора. Исаакий? Возможно. Во всяком случае, монументальная лавра Александра Невского не сравнится с ним величавостью.
Даже лошади, иногда запряжённые парой в помпезную карету с вензелями на дверцах и форейтором на запятках, а иногда одиночки – в извозчичьи пролётки, выбивали по мостовой игривый перезвон подковами: все едут, все спешат, торопятся, ведь вечером бал! Да, именно так. Город был в предвкушении будущего праздника, карнавала с весёлыми масками, танцами, фейерверком. Что-что, а в Петербурге карнавал делать умели не хуже, чем в Риме или Венеции.
Этот Питер был городом Онегина, городом Хлестакова, наконец, но никак не Раскольникова и старухи-проценщицы. Это был живой город, город людей, поэтому каменные львы на парапетах, те же разноцветные особняки, даже булыжная мостовая были тёплыми, горящими благодатным огнём. А огонь иногда больше всего на свете нужен человеку.
Город представлялся Никите большим каменным цветком, в лепестках которого не может затаиться зло: его попросту растерзают многочисленные статуи львов, грифонов и сфинксов, притаившихся в самых неожиданных местах. Ничто плохое не способно просочиться сквозь ажурные литые решётки, ограждающие капилляры каналов, пронизывающих город во всех направлениях.
Вода в этой кровеносной системе города переливалась яркими бликами, вспыхивала, словно лёгкая паутинка, сверкающая под весёлым августовским солнцем. Не будь каналов, город не получил бы той частицы настоящей жизни, какая имеется в любом городе. Именно каналы придали Петербургу то неповторимое совершенство, каким редко может похвастаться какая-нибудь другая столица.
Северная Венеция.
Всеобщее чувство праздничности постепенно передалось и Никите. Ему стало казаться, что окружающее его пространство, весь город принадлежит ему не как гостю, а как благосклонному завоевателю, присланному из Первопрестольной за данью и для вящего усмирения. Даже невозмутимые сфинксы вовсю помогали ему, приглядывая за порядком на улицах, и аппетитно жмурились, когда по их человеко-львиным физиономиям прыгали солнечные зайцы.
Ощутив прилив жизненных сил, Никита решил прогуляться по старинным улицам города, тем более, таким Петербург никогда больше не увидеть. Ведь он почти что в сказке, а в сказках Иван-дурак частенько ходил в народ: на людей посмотреть – себя показать. Здесь Ангел пролил масло на сердце своего гостя, потому что машин времени пока что не изобрели и увидеть Петербург таким, каким он был когда-то, суждено не каждому.
Себя показывать было особенно нечем, потому что обычный адидасовский спортивный костюм и кроссовки выделяли его из толпы своей необычностью, но и только. Прохожие смотрели вовсе не на него, на костюм. Примерно так смотрят на заморскую диковинку, удивляются и тут же забывают. Никите хотелось большего, но никакого большего, многочисленным встречным – пусть даже праздничным и весёлым – сюртукам, фракам, салопам, шинелям он дать был не в состоянии. По крайней мере – сейчас. От этого Никита немного досадовал на себя.
На какое-то мгновение, зазевавшись, он чуть не растянулся на тротуаре, обо что-то споткнувшись. И еле удержавшись на ногах, обнаружил: правая кроссовка попала в верёвочную петлю зелёного цвета, высовывающуюся из под ближайшей подворотни. Хотя на пеньковую верёвку эта зелёная никак не походила. Вдруг верёвка дёрнулась и, словно змея, принялась сама уползать обратно в подворотню.
– Простите меня за столь экстравагантный способ привлечь ваше внимание, – услышал Никита то ли извиняющийся, то ли пренебрежительный голос, доносящийся сверху. Задрав голову, он обнаружил, что стоит ровнёхонько под свесившимися над ним четырьмя подсолнечными головами на манер дамской сушилки для волос.
– Опять что ли глотать собрался? – пришла в голову не очень весёлая мысль, скорее наоборот, но она не испортила настроения. Просто Никита с любопытством ждал, что будет. С правой ноги окончательно сползла зелёная подсолнуховая петля, убралась в подворотню, а сама гидра, опять уронив плотоядную слюну, отодвинулась в сторону, опустилась немного ниже, до уровня лица Никиты, чтобы сказать своё веское слово:
– Я хотел отметить, что мои сочинения…
– Только не это! – завопил Никита, не без основания подумав, что придётся снова выслушивать плач Подсолнуха, перед которым причитания Ярославны казалась мелкой песчинкой во вселенском горе писателя.
– Нет, ты не понял, – заторопился его непрошенный собеседник, – я хотел сказать, что глубоко уважаю Исуса. Он великий пророк – все знают это.
– Во-первых, не пророк, а Сын Божий. Есть разница? Во-вторых, Его имя Иисус, а не Исус, хотя в Иерусалиме его иногда называли так же, как ты. Но сам подумай, я ведь не зову тебя вместо Яши, скажем, Хрюшей, любезный? Это просто неуважение к чужому имени, а, значит, и к самому носителю этого имени. Смекаешь?
– Да, да. Всё правильно. Просто я хотел подарить вам один свой сюжет, – Подсолнух опять перешёл на «вы» и явно рассчитывал заполучить если не благодарного исполнителя записанского замысла, то вдохновенного слушателя – точно. Во всяком случае, Никита понял: просто так отделаться не удастся, вздохнул и приготовился слушать. Подсолнух чутко уловил, что нашёл-таки свободные уши на какое-то время, что клиент готов и натужно откашлялся.
– Так вот, – деловито начал он. – Я очень глубоко уважаю Исуса…, то есть Иисуса. И мой сюжет касается исключительно Его жизни на земле. В те далёкие времена жил один старик, у которого было два сына. Старший – поэт и философ, пользовался уважением самого императора и признанием народа. К тому же он считался среди свободных граждан неплохим оратором. Младший же, как водится, был оболтусом и бестолковщиной. Всё свободное время проводил в драках, военных игрищах и забавах. Он завидовал славе старшего, поэтому не мог оставаться под родительским кровом. Поступив на военную службу, младший уехал в далёкие земли.
Но человек не вечен. Пришло время умирать и нашему старику. Явился за ним ангел и сказал:
– Только за то, что ты вырастил сына, возлюбившего Бога более всего на свете, Всевышний прощает тебе тяжкие грехи твои и дарит покой в том мире, куда отправляешься ты.
– О, да! – сказал старик. – Стихи моего сына воистину писаны с Божьего произволения. Он действительно великий поэт!
Тогда ангел улыбнулся, взмахнул рукой, – одна из стен стала прозрачной, и старик увидел своего младшего сына, ставшего военачальником в далёкой земле. Он любил своих воинов, был добр со слугами, а когда один из них заболел, отправился к Мессии, который как раз был в этих местах.
«Вошедшу же Ему в Капернаум, приступи к Нему сотник, моля Его и глаголя: Господи, отрок мой лежит в дому разслаблен, люте стражда. И глаголя ему Иисус: Аз пришед исцелю его. И отвещав сотник, рече Ему: Господи, несмь достоин, да под кров мой внидеши; но токмо рцы слово, и исцелеет отрок мой; ибо аз человек есмь под властию, имый под собою вонны; и глаголю сему: иди, и идёт; и другому: приди, и приходит; и рабу моему: сотвори сие, и сотворит. Слышав же Иисус, удивися и рече грядущим по Нём: аминь, глаголю вам: ни во Израили толики веры обретох. …И рече Иисус сотнику: иди, и якоже веровал еси, буди тебе. И исцеле отрок его в той час».[25]
– Эта история, Яша, – Никите вдруг стало жаль Подсолнуха, – эта история известна со времён императора Тиберия. Её евангелист Матфей записал.
Подсолнух ошарашенно молчал. Потом встряхнулся, как бы оправляясь от удара, пробормотал:
– Как же так? Ведь это я придумал! Я!
– Ничего особенного, – Никита пытался успокоить расстроенного собеседника, считающего себя к тому же гениальным писарчуком или записанцем. – Просто ты непроизвольно подключился к общему информационному полю Вселенной. Такое иногда случается не только с талантливыми людьми.
– К че-му? – зашипел Подсолнух.
– К информационному полю Вселенной, – терпеливо повторил Никита. – Тебе была показана картина прошлого, чтобы ты смог увидеть, понять часть Истины, отпущенной тебе. Вероятно, она заключается в том, что не ты благодетель и спаситель человечества, что кроме твоего «Сожжённого романа» существует ещё кое-что, чего ты понять пока не желаешь. Или попросту не в силах.
Вот, кстати, не о тебе ли рассказывали: шёл в гору человек. Может, изверившийся, может, ещё не пришедший к вере. Факт в том, что он хотел забраться на самую высокую гору и посмотреть, есть ли на небе Бог? Но самая высокая гора оказалась очень крутой. Она то и дело подбрасывала под ноги путнику камешки, которые срывались вниз, увлекая другие камни, побольше. И слышится сзади – только обвалы да вой ветра. Но путник идёт: есть цель, есть смысл, да и вершина – вот она! Там, думал человек, исчезнут проблемы и сомнения. Только круча оказалась коварной, и сорвался оглашенный.
Вдруг на его человеческое счастье подвернулся под руку какой-то чахлый кустик, невесть как зацепившийся за скалу. И человек в свою очередь зацепился за куст. Так и висели они над пропастью живой цепочкой. А надолго ли хватит силы человеческой? Рядом ни живой души, помощи ждать неоткуда, надежда на спасение уходит с каждой секундой, как вода в песок. Лишь та неугасимая искра, тлевшая в душе, ради которой он отправился в дорогу, подсказала единственный выход: взмолился человек.
– Господи! Господи! Если Ты сущий, если Ты слышишь, – спаси! Спаси и помилуй! Клянусь, что буду веровать в Тебя и всех обращать в веру Твою.
– Слышу тебя и прощаю грехи твои, – раздался голос. – Я – Господь твой. Всем, кто верует, Я дарую прощение грехов. А теперь разожми руку, отпусти ветку, не бойся.
– Да ты чево, Господи?! Отпущу ветку – и полечу в пропасть! Что я, дурак что ли? – отвечал человек.
– Ты ничего не понял! – завопил Подсолнух Яша, – мои произведения…
Никита покачал головой, улыбнулся и пошёл не оглядываясь. Но долго ещё вопли «о моих произведениях» висели над Невским.
Радуясь летнему солнцу, играющему в окнах дворцов, чистому небу, упоительному настроению, Никита двинулся дальше по улице. Может, он радовался оттого, что отбрил и отбоярил Подсолнуха? Признаться, не каждый решился бы раздраконивать злопамятного, ушедшего в потусторонний инфернальный и хищнический мир бывшего советского писателя. Может, Никита балдел, почувствовав себя истинным героем нового, ещё никем не написанного романа?
И от этого тоже.
Любопытная бытовая картинка случайно привлекла его внимание, заставив забыть о только что состоявшейся встрече: прямо посреди улицы, не обращая внимания на проезжающие мимо экипажи, беседовали две дамы. Вообще-то дамами их можно было назвать с большой натяжкой. Обе в серых платьях, пелеринах с чёрной узорчатой каймой по краю, серых капорах, с чёрными длинными, заменяющими трость, зонтиками в одной руке и корзинками на локте в другой.
Обе в круглых одинаковых очках на верёвочках и обе говорили без умолку, иногда жестикулируя при этом зонтиками. Причём, Никита с удивлением заметил, что, несмотря на «одновременный непрерывающийся диалог», обе друг дружку спокойно понимали, потому как согласно кивали головами в такт двусловоречию. Такое необычайное происшествие заслуживало внимания хотя бы потому, что только в России можно было наткнуться на такое словотворчество.
Засмотревшись на кумушек, Никита налетел на невысокого фрачного господина, только что покинувшего экипаж, ничуть не ожидая какого-либо столкновения прямо на улице.
– Tu es fou, ou quoi,[26] – удивлённо посмотрел на него господин и сразу же поправился, – да вы в своём ли уме, милейший, вы, верно, ворон здесь считаете?
– Великодушно прошу простить меня, – Никита сам не понял, откуда это чуть витиеватое обращение и к месту ли, но тут он приметил оброненную господином трость красного дерева с серебряным резным набалдашником и поспешил поднять её.
– Право слово, вышло довольно неловко, прошу принять уверения, – снова начал витийствовать Никита, только все его извинения потонули в вопле ливрейного мужика с бородой-лопатой, выкатившегося из подъезда ближайшего особняка.
– Александр Сергеич! Ба-атюшка! Дак ить как же ето! Не доглядел, ба-атюшка!
– Ничего, ничего, Прохор, – поморщился столкнувшийся с Никитой господин. – Ступай себе. Доложи своему барину, что сей час буду.
– Александр Сергеевич? – Никита всмотрелся в незнакомца.
Вся обстановка, способы общения, одежды и манеры людей наводили на мысль, что Ангел решил познакомить своего подопечного с моментами возникновения основы русской литературы, то есть, с господином, через которого словотворчество принялось овладевать умами человечества.
А ведь верно: известные всему миру вьющиеся волосы… бакенбарды…
– Я вижу, вы узнали меня, милейший, – досадливо поморщился Пушкин, ибо это действительно был он. – За вашу окаянную неловкость вас не мешало бы вздуть, но, верно, вы из провинции и этикету не учены…
– Александр Сергеевич, ещё раз прошу милостивого снисхождения. Право же я здесь потому, что… по казённым надобностям, – брякнул Никита первое, что взбрело в голову.
– По казённым? – вскинул брови Пушкин. – Во-первых, исполняя казённые надобности, милейший, вы были бы одеты в партикулярное платье. Так что смею полагать, вы лжёте.
Никита покраснел. Казалось, не только уши, но и пятки налились у путешественника пунцовым огнём. Ему действительно было стыдно. Чтобы хоть как-то исправить положение, он решил поддержать версию поэта, ведь упрямое отстаивание своих доводов не всегда может помочь в щекотливом положении.
– Вы правы. Я только-только из Москвы, вернее, из Подмосковья. Просто посчитал неуместным как-то сразу признаваться. А всё дело в том, что я прочитал однажды в «Ведомостях» об вашем журнале, да и журнал глядел… и книги…
– Всё понятно, – кивнул Пушкин. – Читать ныне непогрешительно, тем более, что люди печатаются у меня замечательныя и популярныя. Публика отмечает кажного, сообразно их достоинствам. А вы, стало быть, сами стилом балуете или же принадлежите к сочувствующим?
– Я… я пытаюсь, – опять покраснел Никита. – Но не всегда и не сразу что-нибудь получается. Вот вы, Александр Сергеевич, пятнадцать лет версификации обучались! А мне… может быть, и мне повезёт?
– Ага, – хмыкнул Пушкин, – пару-тройку опусов – и столицу воевать, а?
Никита согласно кивнул. Пушкин на слово поверил в биографию уездного писателя, глядишь, и посоветует что-нибудь дельное.
– Знавал я одного такого, знавал, – важно кивнул собеседник начинающего писателя. – А как мы познакомились когда-то! Oh, c'est toute une histoire![27]
– Уж, не про Николая ли Васильевича поминаете? – поинтересовался Никита. – Мне говорили, вы иногда любите поминать сие знакомство.
– О, да! – удивлённо поднял бровь поэт. – Вы знаете Николая Васильевича? Что ж, это похвально. Давеча прочитал я его сочинение «Невский проспект» и с большим удовольствием. Кажется, всё может быть пропущено. Секуцию жаль выпустить: она, мне кажется, необходима для эффекта вечерней мазурки. Ну да, авось, Бог вынесет.
– Так правду бают, что вы на балу и познакомились? – не отставал Никита. – И в местах никак не предназначенных для танцев?
Пушкин внимательно посмотрел на любопытствующего собеседника и как-то странно улыбнулся:
– О сей казуистике много сплетничали. Да и ныне… Николай Васильевич, упившись на рауте, принялся распевать гимн Василия Андреевича в мужской кабинете, откуда мы его и попросили удалиться. Ну, да не об том речь.
– Простите, Александр Сергеевич, я положительно не знал и не желал вас обидеть своими расспросами.
– Ну что вы право, – пожал плечами поэт. – Сия казуистика не столь заслуживает внимания…
– Нет, нет. Я где можно, – перевёл Никита разговор на более безопасную тему, – читаю ваши сочинения и нахожу их превосходными.
Это был верный ход: к лести в подлунном никто неравнодушен и великие исключения не составляют. Пушкин, совсем было собравшийся уходить, при этих словах снова повернулся к Никите и, посмотрев ему прямо в глаза, спросил, жестикулируя при этом пальцами правой руки, затянутой в перчатку:
– Надеюсь, в моих произведениях вы находите тот огонь, ту полноту, которая для них желательна? Ведь, не передав в строках огня души, не сможешь донести огонь мысли и наоборот.
– О, да! Именно огонь души чувствуется при прочтении. И я с удивлением читаю на вас достославные критики.
– Почему же с удивлением? – Пушкин опять поднял бровь. Видимо это была его неотъемлемая привычка. – У одного из наших известных писателей спрашивали, зачем не возражает он никогда на критики? – критики не понимают меня, отвечал он, – а я не понимаю критиков. Если будем сердиться перед публикой, вероятно, и она нас не поймёт, и мы напомним старинную эпиграмму.
Глухой глухого звал на суд судьи глухого. Глухой кричал: «Моя им сведена корова!». – Помилуй! – возопил глухой тому в ответ: – Сей пустошью владел ещё покойный дед! Судья решил: «Почто идти нам брат на брата? Не тот и ни другой, а девка виновата!».Можно и не удостаивать ответом своих критиков, когда нападения суть чисто литературныя и вредят разве что одной продаже разобранной книги. Но не должно оставлять без внимания, по ленности или добродушию, оскорбления личныя и клеветы, ныне, к несчастью, слишком обыкновенныя. Это и вас касается в будущем.
– Я запомню ваш совет, – рассудительно заметил Никита. – А вот дозвольте ещё полюбопытствовать про ваши афронты с Николаем Васильевичем. Об этом много говорят, мне не хотелось бы сплетен. Отчего вы, так чутко относившиеся друг к дружке, вдруг на глазах общества разминулись без видимых причин. Такого обычно не случается в обществе.
Пушкин покачал головой:
– Извольте, я отвечу. Не должно вам сплетен слушать, дабы вы в столицу совсем не для этого прибыли. Так вот. Будучи совершенно чужд ходу деловых отношений с интересующим вас человеком, я с болью узнал, что Николай Васильевич оделькопничает и воейковствует, перепечатывая мои мысли в своих произведениях. Чего вам никоим разом не советую. Он-де провозглашает литературныя мысли моим подарком ему к Великой Пасхе, скажем, или же на Масленицу, что, по сути, одно и то же вольнодумство.
А у Николая Васильевича вы найдёте разныя произведения, иной раз совершенно разнородныя, но это его дети, он любит их. Entre nous sois dit,[28] он довольно талантлив. Я даже полюбил его за провинциальную простоту, только…
Никита с интересом слушал собеседника. Встреча ничего не значащая. Более чем случайная. И вдруг знаменитый поэт беседует с ним – никем, по сути, – раскрывает свои переживания, мысли.
…– только простота эта оказалась наигранной. Да вот ещё. Слыхали ль вы, как он своего «Ганца Кюхельгартена» спалил? Весь тираж!
Никита кивнул:
– Гоголь думал тогда, что его книгу будут покупать нарасхват, драться из-за неё в очереди, но никто во всём Петербурге даже не заметил выхода в свет такой нужной любому умеющему читать книги. Вот и скупил Николай Васильевич весь тираж и с удовольствием святотатца сжигал роман у себя в комнате. От тиража чудом уцелели только крохи. Верно, это была первая попытка предать созданный опус всепожирающему огню.
– Так не один он огоньком балует, – лукаво улыбнулся Пушкин. – Я, вишь, тоже грешным делом по младости произведения свои…
– Сожгли?! Но зачем? – вскричал Никита. – Вы же создавали воистину гениальные произведения! Кому нужен такой афронт?
– А чтобы критикам кус не достался, – игриво продолжил Александр Сергеевич. – Ну а коль будете когда с Николай Васильичем в беседах меня поминать, поклон ему. Только мыслями своими не делитесь. Уж он их использует, будьте покойны, стило у него мастерское.
С этими словами Пушкин поклонился и скрылся в подъезде особняка, а Никита долго ещё стоял на месте, переваривая услышанное и сопоставляя в уме факты истории. Было ли так, как сказал его собеседник, или эта встреча с поэтом сочинена Ангелом? C'est symbolique, n'est ce pas,[29] от него можно ожидать неожиданностей всяких, в любом количестве и под самыми изысканными соусами. Хотя, с другой стороны, всем известна ссора Пушкина и Гоголя, о причине которой столько догадок, так что… а что?
Не придя ни к какому выводу, Никита снова двинулся по улице, изменившейся вдруг неузнаваемо: тёмные свинцовые облака насели на город, чуть не цепляясь боками за крыши вмиг почерневших дворцов. От весёлой толпы сюртуков и салопов не осталось следа. Улицы опустели, лишь кое-где проскальзывала плоская тень запоздавшего путника да цокал в неприютном далеке одинокий экипаж.
Сумерки. Непогодь. Тревога. Безысходность. Достоевский…
Гулкие шаги раскалывали булыжную мостовую, а ниоткуда взявшийся ветер разносил их по опустевшему городу. Звук шагов носился, отскакивая от домов, дворцов, соборов, словно послушный теннисный мячик, или, скорее, как вконец затравленный волк меж высверкивающими в темноте пламенными флажками, дико озираясь: нет ли спасения?
Спасения не было. Мостовая от грохота шагов трескалась. Казалось, змееобразными трещинами покрывается всё обозримое пространство, создавая картину реального апокалипсиса. Весь мир на глазах просто раскалывался на части, и темнота сразу же пыталась заполнить собой украденное у природы пространство. Трещины увеличивались и скоро целая базальтовая глыба, с сохранившимся ещё кое-где булыжником мостовой, рухнула вниз, в бездну, в болота, на которых возник город.
Никита упал на колени, чтобы удержаться. Потом, почувствовав, что его остров плавно балансирует, будто на морской волне (или болотной?), он встал, принялся озираться. И – о, чудо! – в нескольких шагах от себя увидел человека в матросской курточке, высоких сапогах и берете с весело прыгающем на ветру помпончиком. Матрос ладил прямо на острове мачту с треугольным парусом, превращая обломок города во что-то похожее на необыкновенный плот.
– Что стоишь истуканом? – заорал матрос. – Помоги лучше! Не видишь, мне одному трудно!
Ангел! Ну, конечно, это был он собственной персоной. Кто бы ещё смог оказаться рядом на осколке планеты и превращать его в плот? Вдвоём, несмотря на тугие яростные вспышки ветра, они подняли невысокую мачту с треугольным парусом, и островок заметно перестало трясти. Волн «за бортом» никаких не было видно, но что-то подобное морской стихии подхватило импровизированное судно и понесло его по ветру.
– Это что, виндсерфинг для двоих, или гонки на обломках планеты? – поинтересовался Никита. – Куда нас интересно вынесет по морю-окияну на плавучем острове-Буяне?
– Ни то, ни другое! И вынести может только в никуда, – прокричал сквозь ветер Ангел. – Здесь не просто потусторонний, а инфернальный мир, Никита-ста, то есть, скопище отрицательных энергий. Пора бы понять. Здешнее пространство может быть похожим на ваше пекло, но это не ваш мир и никогда ему не стать болотом мелких грязных страстишек, зависти, предательства и кухонных драк, каким бы отрицательным он ни выглядел, запомни это.
– Спасибо! Я уже как-то без тебя разобрался, – досадно сплюнул Никита. Ему стало до боли обидно за свою родину, ибо Ангел в двух словах описал все мерзкие случаи земного бытия. – Куда мы сейчас?
– Скоро узнаешь.
Ангел больше не произносил ни слова, но и того, что он сказал, было достаточно для притаившегося в душе уныния. Не хотелось отдаваться этому подленькому чувству, тем более считающемуся одним из самых тяжёлых человечьих грехов, но сознание очень часто оказывается непослушным. Необходимо было чем-то отвлечь себя от неприятных дум.
Никита пытался оглядеться: вокруг пещерной темени не наблюдалось, но и видимости почти никакой. Единственное, что удалось понять не без некоторого внутреннего содрогания, что островок находится внутри гигантского тайфуна, в его оке. Островок скользил по краю ока, как по волне, не задевая «стенок». Никита вспомнил, что скорость воздуха в земных тайфунах достигает трехсот километров в час. Какая же здесь скорость? Во всяком случае, если глыба коснётся края относительно спокойного ока, то… об этом не хотелось думать. Но вот смерч стал стихать. Тугие кольца воздуха опадали куда-то вниз. Скоро они исчезли совсем, и окружающее пространство мгновенно превратилось в мёртвый штиль. Ангел снял мачту, значит, приплыли. Но куда?
– На кудыкину гору, – обернулся Ангел.
Он как всегда подслушивал мысли и не преминул укусить гостя, дабы тот не расслаблялся. Стало много светлее. Свет наступал отовсюду, пока четко не определились полюса.
Огонь!
Земной! Неделимый! Тёплый! Божественный!
Потусторонний? Зеркально-ртутный? Обжигающий пустотой?
Что бы то ни было, но впереди путешественников ожидала встреча с неприрученным никем диким пламенем, которое, собственно, и дрессировке никакой не подвластно.
Глава 8
Два сплошных потока пламени шли навстречу друг другу. Один, рдеющий, как маков цвет, переливающийся голубым и зелёным, словно фонтан, прыснул тугими потоками снизу и пытается залить своими огненными потоками всё окружающее пространство. Или, если не залить, то хоть окропить священными маковыми каплями.
Второй, будто напитавшийся тягучей густой кровью, пролитой человечеством во все века на всех континентах земли, искрящийся жёлтыми и фиолетовыми блёсками, дождём обрушился с неба, пытаясь подмять под себя всё окружающее и даже фонтан пламени, струящийся мощными потоками снизу.
Когда потоки сошлись, островок, на котором приютились Никита с Ангелом, оказался как бы в огненном шаре, недоступном пока ещё пламенным силам. Тем более, что при возникшем единоборстве потокам живого пламени было не до посторонних явлений и прозрачных шариков, прыгающих как щепки, как мусор на тугих мышцах огненных струй.
Сфера шара была невидима, но она ощущалась. Ощущалась хотя бы потому, что выскакивающие из общего пламенного клубка протуберанцы, смахивающие на толстых, в белых, оранжевых и малиновых пятнах змей, устремляющиеся к островку, всякий раз рассыпались, растекались во все стороны, будто наткнувшись на невидимую преграду. Тогда по внешней поверхности сферы пробегали попыхивающие пламенем на теле и рассыпающие алмазные искры огненные ящерки. Как будто самые сокровенные тайны земного пламени не прятались сейчас от наблюдающих за ними случайных зрителей.
– Гляди, саламандры! – восторженно завопил Никита. – Никогда бы не поверил! Они же настоящие!
– Конечно, настоящие, – Ангел снисходительно улыбнулся уголком рта, – это только начало. Запомни, Никита-ста, ты только тогда научишься писать доходчиво и понятно, когда не сможешь или не сумеешь разучиться удивляться происходящему. Ничто не бывает случайным, даже хранительницы и берегини огня к нам пожаловали не просто так. Значит, жди гостей. Это действительно начало.
– Начало чего? – осторожно поинтересовался Никита. – У Джордано Бруно и Савонаролы пламя инквизиторского костра было тоже началом исторической памяти, а им самим это надо было?
– Видишь ли, – Ангел повернулся к Никите, сделав жест рукой в сторону буйства пламенных стихий. – Видишь ли, огонь, – такое существо или субстанция, если хочешь, которая съедает сама себя. Мы сейчас именно это и наблюдаем. Но пламя не только съедает, а тут же возрождает самоё себя. Причём, твой внутренний огонь, то есть, сакральный онгон, если никому не передашь его, сожжёт тебя изнутри. Полностью!
А коли сможешь зажечь кого-то своими пламенными искрами, разгоревшийся пожар поглотит обоих, но из пожара возродится пламя животворящее, а не разрушающее. Это одна из самых древних и истинных философий жизни. Тебе, человеку творческому, понять такое просто необходимо, если действительно хочешь сделать что-то стоящее, а не отдаваться проходным измочаленным штампам.
– Подожди, Ангел, – Никита по своей давней привычке попытался сделать уточнение. – Я не просто так интересуюсь, а именно для того, чтобы избавиться от литературного мусора. Скажи, откуда всё началось?
Возможно, гость Ангела задал вопрос не к месту и не ко времени, но этот интерес вызвал одобрение. Ангел даже удовлетворённо кивнул и решил ответить бесхитростно, по-ангельски. Ведь недаром же Творец создавал его в виде ангела, значит, и дела его всегда должны быть ангельскими. Плохими или хорошими, но только ангельскими:
– Постарайся немного абстрагироваться от собственной натуры, Никита-ста. И постарайся взглянуть на человека со стороны. Все насельники Земного Шара выглядят примерно так: человечество гораздо поучать и научать всех и каждого! Даже Всевышнего. Ты, мол, Господь, не делай вот этого, а делай то. Так лучше будет. Не веришь? Спроси у меня же: не совру. И начало падения человека началось оттуда. Каждый из вас ищет свободные уши, ищет, кого можно научить и заставить кого-то поступить так, а не иначе!
Представь, что Вседержитель, разыскивая Адама и Еву в кущах Эдема, наткнулся на них в кустах. Его дети прятались там, потому что уже умудрились овладеть знанием добра и зла. Но, как ни странно, оба предложили Творцу отведать шашлык, приготовленный из мяса Змея, угостившего их яблоком раздора.
– Что натворили вы, скверные и непослушные? – вопросил Единый.
– Ничего особенного, – ответила Ева. – Ты, Отец, сам сказал, мол, плодитесь и размножайтесь, Вот и стараемся мы познать непознанное: власть воды и огня, страсти и отчаянья, интуиции и разума. Ты сам наделил женщину большей степенью любопытства к жизни, чем мужчину, так чего же удивляться, если все человеческие страсти становятся на круги своя? Мы – Твои дети, дело Твоих рук, и зачем обвинять нас в Тобою же сочинённых запретах? Если бы Ты сам, Отец наш, не хотел бы возрождения в нас любопытства, то никакого дерева, тем более, посредине Эдема, не произрастало бы.
– Отец наш, – вмешался Адам. – Не слушай её! Что с бабы взять? Язык-то у неё без костей, вот и мелет всякий вздор. Мы вот тут нашего соблазнителя на шашлык порезали, поскольку неча нас по каждому пустяку соблазнять, поэтому и Тебя угостить хотим. У него мясо довольно вкусное! А поджаренное на огне – и того вкусней! Попробуй сам и тогда точно скажешь, что это хорошо! То есть, то, что сделал Твой сын – это хорошо!
Кто знает, Никита-ста, может быть, всё случилось именно так? Ведь ты же не можешь знать, как в действительности тогда было. Может, мой рассказ является более достоверным, чем повествование Хозарсифа, получившего второе имя – Моисей, что значит Спасённый? И человечество с тех самых времён растёт на поглощении шашлыка, к тому же попутно отыскивая свободные уши, чтобы во время трапезы научить ближнего жить правильно, даже безропотно правильно, потому что высказанное – есть истина!
– Что касается человека и человечества – это твоя особая специализация или просто ангел-любитель выдаёт на-гора ангельские сентенции, которые с ангельскими рядом не лежали, то бишь, настоящее «самоварное золото»? – сделал жёсткий вывод Никита. – А коли ты самолично возложил на себя корону музы-покровительницы писателей Эрато, особенно русских писателей, то рассказал бы мне, тёмному, про истоки жизни, глядишь, пригодится в писательстве моём. Иначе, зачем вообще меня было тащить по сгоревшим романам? Подозреваю, что сами авторы не очень-то были довольны сотворёнными опусами, иначе не предавали бы их огню. Скажи, много ли ты видел родителей, сжигавших детей своих или готовящих из младенцев сочный шашлык?
– Ох, Никита-ста, вострый ты наш, – поморщился Ангел, – я всего лишь прах Господень. Но если есть желание…
Ангел встал на краю островка. По странной прихоти природы, это место чем-то смахивало на кафедру. Да и одёжка у Ангела переменилась: длинная чёрная мантия с претензией на профессорскую и четырёхугольная шапочка с кисточкой – чем не нобелевский лауреат! И всё-таки слова начинающего «дровосека», приглашённого в гости, напомнили Ангелу то время, когда сказал о нём поэт:
Печальный Ангел, дух изгнанья Летал над грешною землёй, И лучших дней воспоминанья Пред ним теснилися толпой; Тех дней, когда в жилище Света Блистал он, чистый херувим, Когда бегущая комета Улыбкой ласковой привета Любила поменяться с ним. Когда сквозь вечные туманы, Познанья жадный, он следил Кочующие караваны В пространстве брошенных светил; Когда он верил и любил, Счастливый первенец Творенья! Не знал ни злобы, ни сомненья, И не грозил уму его веков бесплодных ряд унылый… И много, много… и всего Припомнить не имел он силы![30]А так ли тогда было? Ангел действительно уже стал забывать про то, что было, к чему нет возврата! Однако, один из таких вот юношей, принявшихся делиться с бумагой своими мыслями, точно описал ангельскую жизнь, хотя сам писарчук ни разу не бывал в тех местах невидимого Зазеркалья! Откуда же ему, простому и никчёмному человечишке было знать про ангельскую жизнь? Ведь сам Ангел никогда не делился воспоминаниями ни с кем из близких… Из близких? А есть ли они, близкие в этом мире?
И всё же человек, написавший без специального ангельского благословения эти строки, заслуживал поклонения. А, может быть, Ангел действительно на себя много взял, отобрав покровительство над писателями, поэтами и художниками у Эрато? Может, действительно и без него власть над писарчуками, тем более русскими, принадлежит не ему одному? Вероятно, это следовало бы проверить.
Но пока писатели поддаются дрессуре и послушно выполняют те кодовые предписания Писательского Закона, он не должен оставлять никого своим вниманием. А этот приглашённый в гости сам просится! Как же ему отказать в науке? Видать страсть к писательству – наиболее страшная и действенная частица искушения, чем даже какой-то там наркотик. От наркомании вылечить можно, а от писательства ещё никому сбежать не удавалось.
Что ж, если глина готова, чтобы из неё слепили амфору или кувшин, или просто горшок – лепить надо! С музой, покровительницей писателей, всегда можно договориться. Но нельзя упускать ни одной овцы, отбившейся от стада. Ведь чем раньше она к стадной жизни приучится, тем ближе путь к победе инфернальных сил.
Глаза Ангела, как у настоящего вдохновенного оратора, засверкали, а голос звучал твёрдо, как огранённый алмаз:
– С давних времён у человека одним из самых болезненных интересов было возвращение к минувшему: я как-то уже говорил, – sor lemahela haschar – возвратись певец к началу. К началу всегда возвращаться трудно, почти невозможно, если только не поставить для себя такой цели.
Откуда всё произошло? Кто такие люди по своей сути? Где та движущая сила, заправляющая миром? И уже только потом вставал вопрос: что будет? Здесь к месту вспомнить древнюю формулу всяческих гадателей и колдунов: что было? что будет? чем сердце успокоится? На первом месте, как видим, стоит вопрос «что было?»
Итак, что же было со всеми нами? Вернее сказать, со всеми вами, – Ангел сделал изящный поклон в сторону Никиты. – Одни пытались и кое-где до сих пор пытаются уверить, что человек-де произошёл от облезяны, то есть обезьяны. Только вот переходной момент между австралопитеком и неандертальцем так и не обнаружен, к сожалению. Тем более, что такие случаи в природе никогда и нигде больше не наблюдались. Любой вид земно-водного не может так вот запросто перейти в другой.
Даже ваша американская звёздочка, как биш её? – Мадонна, обнародовавшая своё совокупление с любимым псом, может вызвать только нездоровый эпатаж публики, но никогда не сможет родить от такого любовника. И, если человек создан Творцом, причём здесь виды и подвиды животных? Физиология! – Ангел притворно вздохнул, – Полагаю, вопрос ясен.
Далее. Наиболее экзальтированная часть общества принялась утверждать, что человечество насаждено инопланетным разумом, что земля – своеобразный инкубатор разума, чувств и технического прогресса. Странный инкубатор получается: родители бросили цыплят на произвол судьбы и оные преспокойно играются со спичками, то есть с атомными, водородными, нейтронными, психотропными бомбами. Срочно создают из инкубатора этакий рассадник Вселенского Апокалипсиса. Даже я о своих подопечных, – опять поклон в сторону Никиты, – забочусь много больше. Как? – это уже другой вопрос.
Известно, что мир несколько раз уже был на грани Третьей Мировой, которая уничтожит весь инкубатор целиком и родителей не помилует – цепную реакцию ещё никто не отменял.
Правда, были, говорят, «контакты». И в той же Америке существует таинственный «Ангар-18», в котором стоит самолетающая тарелка. Только все эти тарелки вместе с обитателями, скорее, существа инфернального мира или же Зазеркалья, но никак не родители человечества.
– Инфернального? – с видимым интересом переспросил Никита. – То есть твои подручные? Или, лучше сказать, коллеги, хранители отрицательных энергий и чёрных дыр человеческого сознания?
– Во время лекции вопросов не задают, – занудным наставническим тоном загнусавил Ангел. – Ну вот, с мысли меня скувырнул, поскрёбыш.
Он многодумно приставил ладонь к многострадальному лбу, затем, вроде бы в озареньи, возопил:
– Ага! Вот!
– Ты ещё «Эврика!» добавь, – поддел Никита. – Без этого возгласа открытие теряет всякий смысл.
Ангел откинул голову, презрительно оглядел аудиторию из-под полуопущенных век, и как ни в чём не бывало, продолжил:
– Все люди, подчёркиваю, все пытаются отделаться от определения, что сознательный мир существует всего-то двадцать тысяч лет, что всё ваше «здравомыслие» сотворено Всевышним. Зачем Ему это было надо? Вопрос логичный с точки зрения человека. Но и ответить следует по-человечески: затем хотя бы, что душа ваша, – Ангел машинально облизнулся, – ваше Божественное начало, ваш огонь может развиваться и возрастать только в физическом теле.
Своими поступками и решениями, каждый насельник Земного Шара направляет сознание в ту, либо другую сторону. И на каком костре запылает его душа – неизвестно даже Творцу, потому что человек создан по образу и подобию, то есть, также не отдаёт себе отчёта в совершаемом творчестве. Только сделав что-нибудь и оглядев сотворённое немного со стороны, новоявленный творец может сказать, что это хорошо! Или же наоборот, уничтожить сделанное, растоптать, исковеркать, а затем сесть, охватив голову руками, жалея себя бедного, несчастного, но такого хорошего! И почему Бог позволяет своему сыну творить неблагословенные дела? За что такие напасти? В чём бедный человек виноват перед Отцом?
Среди людей давно известно одно высказывание или, если хотите, откровение: «Аз есмь огонь внутри Себя, огонь служит Мне пищей и в нём Моя жизнь». Догадываешься, кому принадлежат эти слова, и что за ними скрывается?
С другой стороны господа материалисты утверждают, что человек, мол, только тогда стал человеком, когда палку в руки взял и приручил огонь. Приручил?! Разве можно приручить нечто самоё в себе? Разве можно управлять жизнью Солнца или, если рассуждать немного поприземлённей, остановить мчащийся на полной скорости локомотив, набросив на него ковбойское лассо?
Человек в до-Потопные времена просто жил и размножался на тёплой планете. Мяса он не ел – не нужно было. Только у травоядных на земле есть аппендикс – орган, способствующий переработке растительной пищи. Зачем человеку огонь? Не логичнее ли будет предположить, что он просто убежал бы от огня, как и остальные животные. Меж тем человек всегда находит в огне часть себя самого. Он тянется к нему как… как ребёнок к матери. Не странно ли? И, повторяю, другие земные твари бегут от него как… как от огня.
– Или как чёрт от ладана, – подумал Никита. – Интересно было бы на лекторе проверить, боится ли он ладана?
– Чем же притягивает человека огонь? – Ангел для вящей убедительности поднял вверх указательный палец. – «Огонь и тепло дают ключ к пониманию самых разных вещей, потому что с ними связаны неизгладимые воспоминания, простейший и решающий опыт каждого человека.
Огонь – это нечто глубоко личное и универсальное. Он живёт в сердце. Он живёт в небесах. Он вырывается из глубин вещества наружу. Он прячется в недрах материи, тлея под спудом, как затаённая ненависть и жажда мести. Из всех явлений он один столь очевидно наделён свойством, принимать противоположные значения добра и зла. Огонь – это сияние Рая и пекло Преисподней, ласка и пытка. Это кухонный очаг и Апокалипсис… Огонь противоречив, и поэтому это одно из универсальных начал объяснения мира».[31]
Ангел перевёл дух. Видимо, цитировать смертных на память ему было не очень-то приятно, поскольку зависть одолевала даже ангелов. Ведь Творец их создал совершенными, а тут какой-то человечишко сумел переплюнуть существо неземное, а, значит, более умное, чем остальные мыслящие.
– Я сейчас процитировал единственного в своём роде исследователя огня и философа Гастона Башляра, – заметил Ангел. – Ему удалось, как никому другому понять сущность огня и не простого пламени, а онгона, языки которого мучают душу каждого человека.
– Ты говоришь, что этот философ – единственный? Насколько мне известно, все средневековые алхимики занимались изучением огня, – хмыкнул Никита. – Было бы крайне странно не обратить внимания на предмет, с которым работаешь, и от которого зависит твоя жизнь!
– Да. Но так близко к пониманию онгона, к его сути, подобрался только этот здравомыслящий, – скривил губы Ангел. – Сравни: Апокалипсис тоже написан только одним человеком, а над темой бились тысячи и тысячи. Более того, над трудом Иоанна Богослова по сю пору работают целые исследовательские институты!
– Так то Апокалипсис! – пожал плечами Никита. – И, между прочим, все эти научно-исследовательские учреждения, скорее всего, пытаются отхватить себе пару-троечку брендов для поддержки штанов. Евангелие, тем более Апокалипсис, надо понимать душой, а не раскладывать косточки по полочкам, зарабатывая себе чин доктора теософии. Но никто из этих любомудрых мужей не может познать причину жизни и последующей смерти.
– А в чём различие проблем возникновения жизни и смерти? Ты хорошо подумай прежде, чем глупые восклицания делать, а то засмеют.
– Уж не ты ли?
– Нет. Я тебя настолько знаю, что мне не смешно. А вот он, пожалуй, посмеётся, – Ангел указал на сверкающую точку, возникшую на сфере плавающего в огне шара с наружной стороны. Точка сыпала искрами во все стороны, как бенгальский огонь и очень быстро росла в диаметре. Вскоре она превратилась уже в подобие большой огненной мухи, стремительно ползущей по спирали от полюса к экватору. Никита, словно реципиент, наблюдал это скольжение и отметил ещё, что муха с каждым витком продолжала увеличиваться, на глазах превращаясь в миниатюрную тройку огненных коней.
Зрелище воистину завораживало и приковывало к себе всеобъемлющее внимание. Впервые в жизни Никита видел мчащихся по небу коней. Значит, действительно можно было увидеть настоящих рысаков, скачущих среди поднебесных обрывов и пропастей! Значит, откровения поэтов вовсе не выдумка, а стремление поделиться чудом увиденного.
Коней уже можно было разглядеть невооружённым глазом, потому что тройка продолжала расти на скаку, превратившись сначала из трескучей искры в сгусток пляшущего по небосводу пламени. Потом изображение с каждой минутой увеличивалось, и скоро возникшие ниоткуда скакуны ощутимо дробили копытами невидимую мостовую, причём звук скачки разливался повсюду, как будто скакал целый табун диких ахалтекинцев.
Коренной – кроваво-красный с фиолетовой гривой. Пламя от него рвалось во все стороны, сливалось с дыханием, слетало клочками, будто пена, с гривы и хвоста. Левый пристяжной – жёлтый, с мерцающими алмазными искрами по крупу. Про него можно с уверенностью сказать: золотой в адамантовых яблоках. И, наконец, правый пристяжной. Им оказался удивительный фиолетовый конь: по его шкуре пробегало, словно рябь по заводи, темное, пожирающее, сжигающее без следа вампирическое пламя. Долго на него смотреть становилось невозможно – охватывал первобытный ужас, хотелось зарыться в песок или убежать.
Кони, запряжённые в довольно любопытную коляску, напоминающую греческую колесницу, оббитую по бокам пластинами червонного золота, пускающими вокруг светлые блики, неукоснительно приближались. В колеснице стояли два человека, ничуть не похожих на греческих воинов, хотя бы потому, что были совершенно черны, как нубийцы, а в греческих войсках иноземцев и наёмников не признавали.
Может, это чёрнота выглядела слишком уж реальной и создавала резкий контраст только на фоне пылающих коней. Но, может быть, в инфернальном ангельском мире, где правит только злоба и ненависть, все обитатели выглядят в исключительно чёрных тонах? Никита решил не делать никаких скоропалительных выводов, не познакомившись с гостями.
Колесница увеличивалась в размерах. Ясно прорисовывался на переднем золотом щитке искрящийся символ «Z». На осях больших колёс, словно сверкающие лезвия на греческих колесницах, пылали огненные языки. А люди в ней оставались всё так же непроглядно чёрны и лицами, и одеждой. На держащем вожжи и кнут была накинута чёрная короткая туника с золотым узором, оттенённым пурпурными штрихами, по подолу. Туника тоже сверкала мелкими искрами. Второго пока ещё нельзя было разглядеть, так как его заслонял возница.
Коляска достигла того места, где у прозрачного шара, плавающего в огне, как в непроглядном Космосе, должен быть экватор и сфера впустила её вовнутрь, расколовшись в неприметной критической точке. Кони также по спирали, но уже внутри сферы, скакали к острову.
– Прошу любить и жаловать, – Ангел театрально воздел руки горе, – Тувалкаин собственной персоной.
– Кто? – не понял Никита.
– Тувалкаин, потомок Каина и Повелитель огня. Библию читать надо, православный ты наш.
– Я читал, – насупился Никита.
И это «я читал» прозвучало так похоже на «я учил» какого-нибудь первоклассника-двоечника, что Ангел весело рассмеялся.
Меж тем коляска причалила на манер венецианской гондолы к острову. Кони – их теперь можно было разглядеть получше – вблизи казались ещё более удивительными. Они вспыхивали как бы изнутри ярким весёлым пламенем, причём, каждый скакун горел огнём своего цвета. Каждый конь казался сгустком пламени, существующим в себе, то полыхающий цветными языками, то вдруг окутывающийся дымом – тоже цветным.
Тёмно-фиолетовое пламя, вспыхивающее внутри правой пристяжной, трудно было назвать весёлым. Скорее оно внушало благоговейный мистический ужас перед неотвратимой гибелью в огне. А красный конь уже не казался безнадёжно кровавым. Его нутро походило на жерло дремлющего вулкана, где лава плещется тонкими струйками огня, играет водоворотами, мурлычет, словно сытая довольная кошка. Но эта кошка в любую секунду может взметнуться, прыгнуть и ужалить ударом когтистой лапы.
Жёлтый был внешне спокоен. Но, приглядевшись, можно было отметить особое ликующее сияние, пробивающееся из глубин его существа. Такое бывает при взгляде на пасхальные купола церквей, сияющие праздником и радостью. Это пламя обещало только жизнь, только радость существования, но никакой ненужной и никчёмной борьбы с полыхающими сгустками.
Из колесницы вышел один из прибывших гостей: высокий босой человек в кожаных штанах и рубахе без рукавов. Тёмную волосатую грудь, уже не казавшуюся слишком чёрной, украшала большая буква «Z», висевшая на толстой золотой цепи. Такие побрякушки часто цепляли себе на шею крутые современники Никиты, считающие вероятно, что чем толще блестящий ошейник, тем элегантнее выглядит металлоносец.
Приехавший оказался вовсе не негром и не нубийцем, как вначале подумал Никита. Просто его лицо потемнело до окончательной неотмываемости от постоянного общения с огнём. Шутка сказать! – сам Тувалкаин, Повелитель огня в гости пожаловал!
– Послушай, Ангел, ты сведи-ка его к нам на Арбат. Он в любой тусовке самым отрывным чуваком будет. Во повеселитесь! – шепнул Никита, пока гость ещё не мог его слышать. – Такого отпада нигде в ваших царствах нет и не будет, сам знаешь. Ведь недаром же ты в столичного офеню вырядился. А с ним на всю Москву прославишься, мало не покажется.
Между тем внешний вид Ангела опять переменился. Рядом с Никитой теперь стоял настоящий полковник, то есть настоящий римский цезарь или патриций с венком лавра на голове и кадуцеем[32] центуриона в правой руке. Тога у него была охвачена не слишком сильно стянутым золотым поясом, а на правой руке красовалось массивное кольцо с великолепным большим изумрудом.
– Приветствую тебя, всемилостивый, – поднял левую руку с открытой ладонью гость, а правую прижал к сердцу. – Рад снова встрече с тобой. Вижу, ты исполнил мою просьбу и привёл с собой настоящего поклонника музы Эрато. Я же могу поделиться с ним чувством и пониманием пламени онгона, а также всего сгоревшего и сгорающего на земле.
Тувалкаин подошёл к Ангелу, встал перед ним на одно колено и поцеловал перстень на руке всемилостивого.
– Ну, прямо как у сицилийских «мафинов», – вслух усмехнулся Никита. – Вот оказывается, откуда у современных бандитов такая привычка. А то, не успев приехать, ладит себя на трон покровителя и защитителя девяти муз! Даже огнём творчества обещал поделиться!
Никита разохотился было отмочить что-нибудь ещё про воровскую ангельскую долю, да Тувалкаин, не слишком-то прислушиваясь к речам неофита-писателя, полез с ним здороваться в обнимку и вся заготовляемая ехидственность мигом куда-то испарилась. Вернее, даже не испарилась, а переродилась в неприязнь, потому как рядом с Тувалкаином стоять было невозможно: едкая вонь, запах дыма, неперегоревшего угля, потушенного пожарища, прогорклого мяса бил в ноздри, вызывал слёзы и кашель.
Никита, чтобы отвязаться от назойливых объятий и реверансов, спросил первое, что пришло на ум:
– Скажи, Повелитель огня, а почему твоя колесница, слуга, да и ты сам не являете образец или образ огня? Почему оба кажетесь осколками угля, то есть топливом для огня, но никак не самим огнём? Скорее, выглядите чем-то сгоревшим, несвежим и неживым. Разве подобает повелителю одеваться в поношенное тряпьё?
– Эй, раб! – окликнул Тувалкаин возницу. – Ну-ка ответь господину как подобает. Он должен знать, что значит чёрный цвет для огня!
Тот встряхнулся, словно чёрная курица, степенно откашлялся, но вставать в позу оратора не стал, а ровным нравоучительным тоном отбарабанил заученную фразу:
– Чёрная краска в большинстве случаев бывает продуктом огня, и в точках, испытавших живое воздействие огня, всегда остаётся нечто едкое, жгучее. Как утверждают некоторые авторы, в извести, золе, угле, дыме остаются огненные частицы – причём это частицы самого настоящего огня.[33]
– Видал, это он из своего трактата наизусть чешет. Головастый мужик! – похвастался Ангел. – Посмотришь, его мысли вскоре станут для многих мудрецов фундаментом огненной философии.
– Что и требовалось доказать, – пробормотал Никита. – Проблемой огня занимались и уже занимаются миллионы твоих незаменимых поклонников. А то вешаешь мне тут…
– Не ворчи, – оборвал его Ангел, – молод ещё ворчать-то. Лучше запоминай деловые мысли, которые никогда не прочтёшь среди мудрых надписей на московском заборе.
Но, упоённый собственной пинкертоновской проницательностью и умственным превосходством над приехавшими, Никита на мгновенье отвлёкся. Он даже не заметил, откуда у Тувалкаина в руках появился шикарный серебряный поднос с золотыми львиными головами по кромке и затейливым чернёным узором на плоскости. Посредине подноса стояли два золотых кубка, инкрустированных драгоценными каменьями. Слуга Тувалкаина притащил из колесницы чёрную амфору. Но в принесённом кувшине плескалось вовсе не вино. Из амфоры в кубки полилась жидкость, которую можно было назвать сжиженным огнём. Причём, жидкость была фиолетового цвета.
Языки пламени выливались из сосуда по всем физическим законам жидкости и наполняли кубки, над которыми сразу же появлялось голубоватое сияние, будто над пуншем, с той лишь разницей, что здесь из кубков поминутно выпрыгивали облачка разноцветных огненных пузырьков – шаровых молний, то есть шариковых. Зрелище было превосходное, но пить ЭТО!.. Никита даже невольно поёжился, представив, как огненное вино проникает в горло и разливается струйками по всем артериям, сжигая на своём пути исключительно все биологические клетки.
Тем не менее, Ангел с лихостью уланского гусара, то есть гусарского улана осушил предложенную чашу, вытер с губ плясавшее на них облачко шариковых молний, блаженно прикрыв глаза. Видно было, что напиток доставил ему истинное удовольствие.
Тувалкаин со вторым кубком подступил к Никите, поклонился, но Никита медлил. Вернее сказать, ему совсем не хотелось пить пламень, тем более – фиолетовый! Интуитивное чувство самосохранения зазвонило в глубине души тревожным набатом, предупреждая о реальной опасности. Никиту интуиция никогда ещё не подводила, но перед ним сейчас стояла дилемма. А решение надо было принимать сейчас.
– Ты что, Никита-ста? – спросил Ангел мнущегося и нерешительного, – нельзя отказываться от заздравной чаши. Отказ от чаши, от угощения – это значит, кровно обидеть Повелителя огня. Я бы настоятельно не советовал принимать нежелательные решения. Опасно. Впрочем, если не боишься нажить врага, то можешь отказаться. Тебе решать!
– Ага. Хочешь – пей, а не хочешь – тем более пей, – поднял Никита дерзкие глаза. – Видишь ли, я не без основания полагаю, что фиолетовый огонь не разожжёт меня, а потушит ту Божью Искру, что душой величают. Да и причём здесь Тувалкаин? Я его никогда не знал и, вероятно, больше не увижу. Настоящий повелитель этого огня – ты. А он – так, бутафория. Этакий свадебный генерал, на которого и всю ответственность за происходящее свалить можно. Он стерпит, работа у него такая. Я прав?
Неожиданный отпор привёл Тувалкаина в неописуемое неистовство. Из почти чёрного, он за несколько минут превратился в ярко-пунцового с переменным малиновым осадком и переливающейся гаммой красок. Причём вокруг повелителя огня клубилось настоящее грозовое облако, из которого сыпались уже настоящие – величиной с яблоко – шаровые молнии. Повелитель огня схватил кубок с подноса, смаху швырнул его под ноги Никите и рявкнул, да так, что сотряслась скала, на которой они стояли, а огненные кони испуганно захрапели.
– Как ты посмел, мокрица, противиться мне? Мне?! Истинному и неделимому Повелителю онгона! Да я тебя!..
– Да ты меня! – передразнил Никита. – Ничего ты со мной не сделаешь, я его гость, а не твой! – и показал на Ангела, скромно отошедшего в сторонку. – Ты сам здесь в гостях, так что попридержи язык свой, Повелитель, ядрёна вошь…
Тувалкаин от этих слов аж задымился, а кожаная рубаха его и штаны стали лопаться от нестерпимого жара, бушевавшего в нём ядовитого пламени. Сжав кулаки до хруста в суставах, и оббежав пару раз вокруг Никиты, поминутно спотыкаясь, подпрыгивая, ругаясь на инфернальном диалекте, словно в ритуальном танце, он также вприпрыжку кинулся к своей колеснице. С бешенством, выдернув вожжи и плётку из рук слуги, Тувалкаин принялся хлобыстать застоявшихся огненных коней, вымещая на них всю свою неизлитую злобу. Кони рванули с места, но Повелитель огня всё же проорал на прощание, грозя Никите зажатой в кулак плёткой:
– Огня тебе? Огня? Без огня поживи! Сам приползёшь! Поклонишься!.. Я тебе всё припомню!..
Никита никак не мог вникнуть в смысл угроз Тувалкаина – внутренний огонь, питающий человека изнутри, отнять никто не может, даже Ангел. Причём же тут потомок Каина? Хоть ему и удалось стать номинальным Повелителем, но никаких угроз Тувалкаин не сможет выполнить без разрешения настоящего хозяина. Вот только если Ангел разрешит или уже разрешил своему «свадебному генералу» поизмываться над своим гостем, тогда…
Но ведь Никита – гость в этом царстве, значит… А ничего это не значит! Ангел не обещал никакого статуса неприкосновенности и может очень даже запросто разрешить Повелителю огня отвести душу и поиздеваться над непокорным гостем, сломить и сломать его за непочтительность. Ведь князю мира сего поклоняется и стар, и млад, а тут какой-то писатель гордость свою показывает. Но сказано: гордость – самый любимый грех Ангела. Не захочет ли он сыграть на этом?
Колесница Тувалкаина снова превратилась в яркую пульсирующую на прозрачном небосклоне звёздочку, стремительно несущуюся по огненной сфере к полюсу. И вскоре совсем затерялась среди искорок, миллионами вспыхивающих в обозримом огненном пространстве.
Никита хотел было за разъяснением обратиться к Ангелу, да тот обычным манером исчез по-ангельски, оставив гостя наедине с невесёлыми мыслями. Под ногами на не развалившемся ещё обломке планеты догорал синепламенный напиток, выплеснувшийся из золотого бокала, выжигая в базальтовой скале каверны и оспины. Никита попытался представить что может приключиться со внутренностями, если проглотить такое пойло и спину снова обдало холодным огнём интуиции.
Недалеко на камнях валялся сплющенный кубок. Ну и силища! Повелитель огня грохнул бокалом о землю так, что тот сложился почти вдвое, а резная ножка согнулась крючком. Никита хотел подобрать кубок, нагнулся и поначалу не понял, что произошло. Просто стало темно. Темнота свалилась отовсюду и принялась подминать под себя отвоёванное у огня пространство. Значит, Ангел разрешил-таки испытать физическое тело гостя на прочность!
Было холодно.
Холодно и темно.
В замороженном состоянии сомнамбулы окружающее пространство казалось двумерным, сплющенным. Будто кто-то развесил вокруг безразмерные бумажные плакаты с совершенно непрописанной или непропечатанной перспективой. К тому же темень довершила дело, и объём пропал, сплющился, будто кусок металла под кузнечным молотом.
Нет. Кусок металла, даже сплющенный, всегда останется объёмным, потому что он горячий, потому, что полыхает молодым ретивым огнём. От огня нагревается окружающий воздух, начинает фонить, накатываться разогретыми волнами, раздавать полученное тепло, чтобы получить ещё. И тепло от огня снова зажигает тлеющую искру онгона, которая из-за таящихся в ней страстей, из-за ненависти и состраданья, из-за глубокой человечной любви ещё не потухла в глубинах души.
А огонь… нет, его уже нет. Проникает ли в тело пространственное тепло? Ведь у любого воздушного пространства есть собственное тепло. Только пространственное тепло может проникать внутрь любой вещи. Так же, как и холод, умеющий проникать в любые щели гораздо проворнее, чем тепло.
Но сейчас было холодно. Неимоверно холодно. Поэтому оставшиеся в сознании мысли понемногу сворачивались и потухали, ожидая вспышки волшебного пламени онгона. Без него, как ни странно, тело человека теряло жизнь, будто из губки выжимали впитанную воду.
Холод планомерно опутывал не только тело, но и не пропавшее пока сознание.
Вместе с холодом накатывал тягучий липкий сон. Также ровно, также планомерно, словно паук, опутывающий попавшую в сети бабочку. Вот уже ни усиков, ни смешных узоров на крыльях – все сплошная паутина, сплошное ничто, мешочек с продуктами, подвешенный на ниточке.
Этот образ заставил Никиту встряхнуться, пошевелиться. Сразу стало теплее. То ли от непогасшего внутреннего пламени, то ли от внешнего пространственного тепла, но по телу заструились, совсем было закисшие кровеносные шарики. Никита сначала с трудом, но потом всё быстрее и быстрее работал руками, крутил головой, торсом, ногами, будто ехал на велосипеде. Наконец, начал приседать. Это вконец вернуло сознание в норму, зрение обострилось, слух тоже. Пространство стало сжиматься и разжиматься, превращаться в ощутимое, реальное, трёхмерное.
Вскоре стало совсем тепло. Хотя это понятие было пока ещё нереальным. Но Никита вдруг очутился в обыкновенной русской избе, похожей на миллионы других таких же. Действительно, перед глазами ясно проступили очертания бревенчатых стен настоящей русской избы! Если Ангел, либо его дружок-генерал бросили непокорного в русской избе, то никакого наказания смертью или обморожением у них не получится. Брёвна, заготавливаемые для сруба русской избы, сначала вымачивали, как и лыко для лаптей, в болоте без доступа воздуха. Потом три года сушили и лишь после этого брались делать сруб. Но срубленный из таких брёвен дом, никогда не позволял хозяйничать злым отрицательным энергиям.
Стоп! Что-то тут всё же не так. Русская изба – это хорошо! Но внутри было до боли знакомое убранство и деревенская мебель: вон сундук, закованный крест-накрест металлическими полосами; широкие лавки по стене; большой стол, покрытый чистой, вышитой петухами, скатертью; вместительная кровать… Где-то, когда-то картинка эта попадалась на жизненном пути Никиты. Вот только вспомнить бы где?
Наружная дверь с низкой притолокой, меж тем, надсадно скрипнув, медленно открылась. В щель проникла струйка свежего сквозняка, разогнавшего в мгновенье ока кислый межвременный неземной холод.
В дверную щель сначала просунул голову и оглядел избу белобрысый мальчишка. Дверь ещё раз длинно, с противной надсадностью, скрипнула, и в избу вошёл мальчик в сатиновой синей рубашке, шароварах и китайских кедах. В деревне – кеды? Китайские?
Китайские!
Никита узнал их, эти кеды. Воспоминание отпечаталось в графе незабываемых на всю оставшуюся жизнь. Ему было четыре года. Нет, пять. До школы жил у бабушки в деревне. Родители только наведывались. Иногда. У взрослых свои заморочки. В одно из намеченных по родительскому графику свиданий, отец привёз из Москвы подарок – такого в деревне ни у кого не было! – китайские кеды. Тогда это была настоящая диковинка. (Наши младшие братья китайцы – мир-дрючба – принялись после фестиваля в пятьдесят третьем завоёвывать российский рынок). Все деревенские ребята завидовали. Даже Никита сам себе завидовал, но с гордостью щеголял в кедах даже в непогодь.
Мальчик вошёл в избу, покосился на кровать – видимо там кто-то спал. Он на цыпочках, осторожно, чтобы не разбудить, прокрался к кровати и застыл на несколько мгновений в неудобной позе, будто цапля, высматривающая лягушку.
На кровати лежала девочка. Укрытую толстым ватным одеялом, расшитым цветными лоскутками, её можно было запросто не заметить, но мальчик… он шёл именно к ней. Может быть, даже знал, что она сейчас спит.
Постояв ещё несколько мгновений, пацан вдруг порывисто наклонился, поцеловал её в пухлые губы и опрометью кинулся прятаться за спинкой кровати в изголовье. Прошла минута, две. Всё было тихо. Хулиган осторожно выглянул из-за спинки кровати, прислушался. Девочка дышала ровно, спала. Мальчик снова выбрался на исходную позицию, снова застыл перед ней, собираясь с духом. Потом резко нагнулся. Поцеловал! Но так и остался лежать сверху.
Ловкие девичьи руки выскользнули из-под одеяла, обвили его за шею, притянули. Девочка целовала его с ненасытностью взрослой женщины. Несколько минут они барахтались на кровати таким незадачливым бутербродом с прослойкой из лоскутного одеяла. Наконец мальчик вырвался, сел на кровати весь припунцовленный от стыда – застукали! – от смущения, от неожиданности. Неожиданности её поведения.
– Галька, ты чё? – отдувался он. – Чуть не задушила!
– А зачем ты меня целовал? – засмеялась она.
Мальчик тряхнул головой, дескать, всё тебе показалось, нужна ты больно?!
Девочка же поправила маленькой ручкой прядку волос, выбившуюся из-за уха. Поправила кокетливым движением взрослой женщины! Непрошенный гость заворожено смотрел на обнажённую руку.
– Ты чево, – она опять улыбнулась, – любишь, а сказать боишься?
В следующую секунду мальчик пулей вылетел из избы, а вслед ему катился весёлый смех его крали.
Никита стоял посреди избы с бледным лицом, глаза сверкали, грудь учащённо вздымалась, будто он задыхался от увиденного.
– Ангел, зачем ты?
Ангела в избе не было, но только Никита позвал, он тут же высунулся из-за печки, словно только этого и ждал с нетерпением. На этот раз Ангел вырядился в короткую тунику, сандалии, ремешки от которых заплетены до колена, за спиной колчан со стрелами и лук – чистый Купидон.
– Зачем? – нагло улыбнулся посланец богов. – А вот послушай: «Когда Эрос, вне себя от восторга, увидел перед собой спящую Фрею, внезапно раздался оглушительный грохот. От принцессы к мечу пробежала яркая искра… Эрос уронил меч, устремился к принцессе и запечатлел на её свежих устах пламенный поцелуй».[34]
Я тебе всего лишь напомнил момент, когда ты возгорелся, яко кадило. Вспыхнул, как порох. Взорвался, как вулкан. Это тот огонь, который есть в тебе и сейчас, который не даёт спать тебе по ночам, который сделает тебя писателем. Конечно, если ты сам будешь готов принять этот крест. Ведь писателю многое дадено, только многое и спросится. А момент этот необходимо было вспомнить, ведь говорил я тебе когда-то: sor lemahela haschar – возвратись певец к началу. Если не хочешь взять эту фразу вместо девиза, то хотя бы помни смысл, потому что, только оттолкнувшись от начала, ты сможешь найти ту нить Ариадны, которая поможет выбираться из любых проблемных ситуаций. Возвратись, певец, к началу!
– Тогда зачем ты меня заморозить хотел? – взъерепенился Никита. – Сначала трубишь во все трубы, мол, гость, мол, всё тебе позволено! А на деле – чуть живьём не заморозил!
– Я?! – воскликнул Ангел. – Ты за кого меня держишь? Сам обидел Тувалкаина, а потом виноватых ищешь! Заморозили тебя, бедного! Нужен ты мне со своими кучами проблем?! Вот и подумай, для чего мне возиться с тобой: душу я за это не прошу, выслушиваю от тебя постоянные гадости, будто любой ангел только и создан, чтобы гадости человечьи сносить! Не ты меня сотворил, не тебе меня и судить, тем более, осуждать! Слаб ещё в коленках, а туда же – то не так, это не так!
Ангел на несколько минут замолчал, потому как выпускать дальше пар обиды для него было неприятно. Видя, что гость ни слова не говорит, только стоит, насупившись и наклонив голову, Ангел более уже миролюбиво постарался объяснить происшедшее:
– Послушай, Тувалкаин не заслужил такого отношения. Он от чистого сердца налил тебе чашу. Если ты не желал откушать пронзительного огня – никто против и слова не сказал бы. Но своим поведением ты действительно обидел Повелителя огня, и он постарался разделаться с тобой чисто своим способом. Просто я не мешал в этот раз. Видишь ли, человек обязан быть самостоятельным, и обязан никогда не давать погаснуть внутреннему огню. Тем более, доводить до тления его тоже не следует, иначе огонь гореть не будет и вовсе потухнет, остудив тело, душу, разум и заморозив сознание. Ты великолепно справился, сумел выкрутиться из небытия. Значит, большая часть пути уже пройдена. Поздравляю.
Глава 9
Поздравление Ангела неприятным осадком осталось на душе Никиты. Вроде бы, тот искренне радовался успехам подопечного, но в то же время юноша чувствовал себя рыбой, попавшей в сеть, которую рыбак рассматривает с разных сторон, размышляя вслух под каким видом, и с применением каких приправ следует приготовить пойманную живность на обед.
Конечно, Никите хотелось бы увидеть Ангела в числе своих друзей, если это относится к ангельскому чину. Мало ли, что Господь когда-то урезонил взбунтовавшиеся творения. Но ведь Он сам создал ангелов такими. А Денница был его самым любимым и сидел одесную, то есть по правую руку от Отца. Что же в действительности произошло там, в Царских Чертогах?
Если сам Саваоф выбрал в наказание Деннице блюсти землю, встряхивая искушениями и всяческими каверзами насельников этого царства, то, значит, лучше никого не нашлось. Не будь его, человек никогда бы не познал веяний ночи, и не сумел бы низко-низко пасть, чтоб высоко взлететь.
Именно так воспитывает человек свою душу. А, пройдя через сатанинское пламя онгона, познав все человеческие горести и радости самой недостижимой ипостаси развития – мудрости, каждый сын Божий сможет вернуться к Творцу и стать на Его Судилище достойным всяческих похвал и уважения.
Признаться, таким хотелось видеть Никите своего знакомого Ангела, но любой из нас с самого раннего детства хочет чего-то невозможного, таинственного и вкусного. А каким был Ангел на самом деле? Может быть, действительно заслуживал только порицаний, и связываться с инфернальными силами было истинно не по-божески.
С другой стороны Вседержитель никогда бы не разрешил взбунтовавшимся ангелам искушать своих сыновей, не будь у Него уверенности в положительном исходе. Многажды инфернальные силы доводили человека до кровавых и непотребных действий. Но, если ты поддался искушению, соблазнился, не устоял, не справился со своими же страстями – грош тебе цена и получаешь только то, чего стоишь.
Так причём же здесь инфернальные силы? В разных религиях земные священники в один голос утверждают, что именно проклятые ангелы снова начнут войну с Господом, стараясь захватить власть. Но Саваоф итак уже наделил их властью над всей землёй, а стать несотворённым Творцом никакой Ангел никогда не сможет. Уж это ангелы прекрасно понимают.
Только человеки все роли в надвигающемся Армагеддоне расписывают, распределяют и раздаривают по своим идеалам страстей и порочности, поэтому многогрешная земля уже которое тысячелетие ожидает Апокалипсиса. Будет ли он? Да, будет. Но только в том случае, если люди не научатся относиться друг к другу с настоящей Божьей любовью, с пониманием и научатся дарить окружающим радость существования. Если такого не получится, то предсказанный когда-то Иисусом зубовный скрежет услышит каждый из нас.
Христос – часть Бога – приходил на землю только затем, чтобы показать всю пустоту сражений за кусок золота или сиюминутную власть. Всё быстро кончается, всё пропадает. Не пропадёт только радость и любовь. Но они смогут ожить в сознании человека, если тот откажется, наконец, поклоняться Мамоне и требовать «хлеба и зрелищ!».
Вот и сейчас Никита оказался в каком-то уже сотворённом, но ещё не ожившем мире. Наверное, описание в Первой книге Бытия о том, как Саваоф носился в несуществующем мире, но существующий Сам, относились к такому вот состоянию материи, где оказался Никита.
Накатившая жгучими клубами тёмного тумана ночь высверкивала чёрными искрами, рассыпалась вокруг таким же фейерверком или черноносным салютом, прекрасно видимым, ощутимым, с физически ощутимыми вспышками чёрной радости. Где-то далеко, в самой сердцевине клубящегося мрака, будто в центре Вселенной, такими же красками пещерной темноты вспыхивала сверхновая.
Вспышка поражала густым цветом жирной темноты, заглушала реденький с проседью сумерк обволакивающего морока. Потом неожиданно рассыпалась или разливалась во все стороны такой же мерцающей чёрным сажей, будто снежинками или звёздным дождём из углеводородных звёзд с отрицательным бесконечным знаком.
Ворочающееся вокруг мироздание напоминало сцену театра, где темень в какое-то время набрасывалась на рампу, гасила её, и в отвоёванном пространстве подвижная часть сцены начинала крутиться, меняя декорацию. Вспышки чёрных огней прекратились. Вернее, из этих сполохов мелкой разменной монетой посыпались в декорацию Вселенной яркие, режущие глаз, звёзды.
Правда, их света всё равно не хватало, но мрак немного рассеялся.
Под ногами в густой высокой траве завозился ветер, играя тонкими стеблями, и вот уже вся ночь волновалась под его дуновением, будто гладь океана, раздосадованного, что после беспокойного дня поспать не дают. Пустота всё ещё не желала сдаваться, клубясь и наваливаясь всем телом на возникшую звёздную декорацию.
Но пространство ощутило выделенные ему рамки, размещалось в них, высветив самые яркие черты свои, расставив себя по заданным точкам и траекториями комет, отсекая, отвоёвывая у пещерных сгустков незаконно отнятое пространство.
Степь, очерченная тёмным неровным кольцом горизонта, где тёмно-светлое, хмуро-звёздное небо стремится слиться с нежной-грязной-мягкой-безжалостной землёю, пытается стереть проявившийся пояс, разделяющий верхнюю и нижнюю сферу, хочет вывернуть наизнанку, отменить его разделяющую власть.
Бешено ринулся ветер вдоль этой, закусившей свой хвост, змееподобной черты, пытаясь разорвать на части, распылить отпущенную ему частицу Вселенной, но разорвал только длинный тягучий мотив какой-то русско-калмыцкой песни, похожей на такую же нескончаемую линию горизонта. Разбросал слова, закрутил их жгутом стелящейся повилики и уже не понять: то ли степь жалуется кому-то на свою бесконечную кончину, то ли непроснувшийся голос будит степь заунывным отпечатком неотпечатавшейся нигде мелодии.
Вот уже расползаются во все стороны обрывки теней, а меж ними потянулись цепочки из колец времени, связывающие прошлое с будущим: что было? что будет? Только настоящее ещё не исполнилось. Оно зависло между существующим уже прошлым и будущим в инкубационном виде, решив самостоятельно определить время своего возникновения в пространстве.
Набрасываются тени голодной шакальей сварой на пряжу времени, выхватывают аппетитные куски, выгрызают кольца, растаскивают со свирепым урчанием кости столетий.
Тогда вспыхивает пространство, высвечивая будущее, прошедшее, настоящее, которое ещё не исполнилось… Не исполнилось, но решило всё-таки обозначится в Космическом хаосе.
Опять и опять доносятся непонятные звуки: знает ожившая Русская земля горечь, которой наполняют её от века. Которой она уже была и будет ещё наполнена до краёв. Помнит Русь, как тоскливо смотрят бабы вослед ушедшим мужикам, слышит незатихающий плач Ярославны, хранит гром сечи, сквозь который прорывается могутный голос князя Святослава:
«Мёртвые сраму не имут! За Русь!»;
«За Русь!», – подхватывает благоверный князь Александр;
«За Русь!», – вторят ему Ослябя и Пересвет.
Снова и снова набрасываются тени на песню эту полынную, пытаются задушить телами своими возгласы богатырей русских. Ползут, ползут по степи обрывки теней и несть им числа, но не принимает их земля, ибо место там найдётся только родившимся от земли.
Мороки дали волю себе. Или же им попущено кружить, затуманивать голову, бросаясь в ноги сладенькой полуправдой, когда не разобрать уже – что было? что будет? Закрепившееся в отведённых космических рамках пространство всё-таки выдавило из себя несмываемую и неразрывную картинку вечерней степи, когда день приказал долго жить брошенным в неизвестность ковылям, а ночь ещё не заграбастала всех прав на проживание.
И посреди этого тягуче-печального куска географии Никита заметил вдруг пятно животворного огня, отбрасывающего блики по всей, ещё не успевшей окончательно осумериться, степи, по разнослойному разноцветному небу с уже проглядывающими кое-где звёздами. Но живой, разгоняющий мрак, огонь казался в этом, уже сотворённом, но ещё не пробудившемся пространстве частицей будущей жизни, способной дарить человеку настоящую радость существования. И, вместе с познанием огня, каждый насельник этого мира должен прийти к пониманию горечи утрат и надежды обретения.
Начинающаяся ночь разбудила воображение. Но, самое главное, не казалась больше горько-солёной в печальном подвывании незасыпающего ветра. Всё вместе напомнило ожившую графику Дюрера. Даже нет. Скорее, Обри Бердслея или же русского Александра Лаврухина: привкус тления, порочной чувственности, страстного исступления висел в воздухе, пробегал по коже чёрными алмазными мурашками.
Верно, сам художник высмотрел в этом мире вспышки распускающихся чёрно-белых цветов, играющих темнотой бриллиантовых граней, и переносил их на бумагу. Грех и благочестие, альтруизм и стяжательство, соблазн и раскаянье – всё здесь сосуществовало, соприкасалось, возжигая волшебный фиолетовый пламень, взаимопроникало и затягивало, предлагая присоединиться, поднять кисейную завесу, отделяющую сон от реальности.
Blanc et noir – классический фундамент, на котором возгорание рыжего, малинового, голубого огня происходит уже произвольно и с той силой, какую способна принять душа созерцателя.
Лёгкость Габриеля Россетти, красота Пушкина, магнетизм Лермонтова, мистика Данте, чутьё Булгакова, даже закованный в броню Бальзак увидели в этом пространстве своё отражение. Все талантливые, кто получал короткую связь с Зазеркальем, могли видеть создание времён со стороны, тут же сами создавая картины, романы, поэмы и даже простые песни.
Суть творчества приходит незаметно, когда человек находит в себе силы и желание заглянуть за грань видимого отражения в зеркале. Именно тогда восстанавливается и воскресает утраченная связь с Зазеркальем или Потерянным Раем.
Возникающие и рассыпающиеся то тут, то там графические арабески, окроплённые звездами туманности, и прочерченный в небе лёгким пунктиром посвист ветра напоминали рисунки на удивительных греческих вазах, или обворожительную красоту китайского фарфора, или японские нецхе, или помпейские фрески.
Чем дольше смотришь на это богатство красок в blanc et noir, тем яснее понимаешь вульгарную грацию бакстовских танцовщиц или вожделенную капризную истому великосветских дам Константина Сомова.
Разглядывая и окунаясь в утончённый хоровод разноцветных миниатюр, являющихся, словно вспышки зарниц, Никита впервые пожалел о невыпитом кубке. Только сейчас он понял, что Ангел и Тувалкаин предлагали испить ему жидкий пламень онгона не для уничтожения личности. Да и что стоит смерть в этом просыпающемся настоящем? Право слово, Повелитель огня недаром обиделся. Никита тогда совсем забыл, что такое тактичность. Но, что сделано, то сделано. Надо было приспосабливаться к нынешней ситуации.
Фигуры, состоящие из воздуха и огня, возникали, испарялись, возникали снова, кружась, будто образы из известного «Молота ведьм». Ещё эти призрачные, но уже живые существа напоминали гостей, танцевавших на Лысой горе в момент крещения Маргариты. Созданная когда-то Михаилом Булгаковым, эта красивая москвичка уже отвоевала принадлежащее ей пространство. Никите казалось, что она тоже принимает участие в празднике оживания России, оживания всего мира.
Вольно или невольно, но человек каждодневно думает о всевозможных «случайностях», инфернальных видениях, снах, и существует, и вращается среди видимого им, но созданного мыслью. Никита же был уверен, что воспринимаемые его сознанием картины – не выдумка сознания, не оживление мечты, а всё то, что он сейчас видит, происходит в действительности. Просто Ангел в очередной раз предлагает подняться над собой, взглянуть со стороны не только на себя, но на созданный Богом мир. Он возникал, конечно, не сразу. Возможно, даже засыпал несколько раз. И всё же восстал, воскрес и утвердился в рамках Вселенной!
Картины, возникающие в пространстве, не хранили в себе никакой социальной реальности. Но все вместе и каждая из них до самого мелкого мазка содержала такой сгусток окрыляющей радостной энергии, что хотелось изобразить их краской на холсте или же буквами на бумаге не в страшных и отвратительных образах, а светлыми ласковыми ангелами, дарящими человеку радость существования.
Кто же подсказывает эти мысли-образы: демоны Врубеля? злобные духи Босха? – все те, кому на самом деле хотелось бы выглядеть красивыми, добрыми и пушистыми? А, может быть, сам Ангел старается и не оставляет вниманием сеятелей культуры: писателей, музыкантов, художников, артистов? Так принято думать. Так принято, но так ли это? Ведь силу Творчества человек получает только от Бога. И Ангел, что ни говори о нём плохого, просто не в силах напакостить человеку, сыну Божьему, если, конечно, тот сам не согласится на что-нибудь не слишком приличное.
Вполне возможно, всё до абсурдности наоборот: падшие ангелы, владеющие земными соблазнами, искусами, обольщениями, настолько тяготятся одиночеством, изгнанием своим, что змеиной мудростью и хитростью хотят удержать человека от искушения, искушая его. Сказано: не искушай Господа Бога своего, ни брата своего, но ведь они нам не братья. Они могут предостеречь, могут заставить думать о падении, об искуплении греха, о душе и одиночестве человека в их мире.
Ведь этот видимый мир с момента Низвержения вовсе не человеческий, хотя сам человек повсеместно пытается присвоить и обустроить его. С давних времён известно также, что человек сам делает выбор. Сам. Но не тот достоин внимания, кто поддался искушению, а тот, кто смог переступить через него. Искушающий вовсе не обязан вдалбливать в голову безголовому суть существования, как, скажем, писарь или печатник никогда не объяснял на полях Часослова смысла и тайны христианской религии.
Но все изыскано-утончённые, графические, полноцветные видения являлись глазам Никиты только как великолепная театральная декорация. Это ещё больше подчёркивало схожесть видений с графикой Бердслея. «Он был совершенно равнодушен к живописным крестьянам, к красотам „прелестных уголков“, будь то в Англии или во Франции. Хотя сам он был набожным католиком, но звон колоколов не вдохновлял его на изображение полей свеклы в вечерней дымке».[35] Театр и только театр. Во всём, даже в переплетении ветвей деревьев и кустарников, в касаниях рук, в скрещении взглядов.
Почти также о театральной графике Александра Лаврухина отозвался один из русских поэтов:
Всего лишь шаг. Единый шаг вперёд. Но под ногой обломок пустоты. Оступишься – куда-то унесёт и на погосте блёклые цветы. Разбрызгивая капли бытия, шагаешь в беспросветной темноте. И не понять – кто ты? а кто здесь я? И мысли рвутся те или не те? Над прошлым и грядущим причитать уже не стоит. Всё наоборот! Архангелом надломлена печать, и только шаг. Единый шаг вперёд!Перед Никитой опять возникла дилемма: всего лишь шаг, единый шаг вперёд! Сделай, если ты готов принять на себя крест Екклесиаста![36] По сути, Ангел немного требует, весь вопрос, попросит ли он какой расплаты за свои «добрые» дела, или же, как сказал о нём поэт: «Я часть той силы, что хочет зла и совершает благо».[37]
Во всяком случае, перед путешественником по времени в поисках сгоревших и обуглившихся рукописей возник тот мир, из которого он вышел на время скитаний. Более того, всё выглядело, как в настоящем театре. На заднем плане этой театральной графики всё сильнее разгорался, мерцал то ли костёр, разведённый в степи пастухами, то ли жертвенник неизвестно какому идолу и какими жрецами воздвигнутый. Огонь этот звал, как знак спасения от окружающей темноты Космоса.
Но сколько ни шёл к нему Никита, сколько ни прибавлял строевой прыти, зовущий пламень так и оставался далёким вспыхивающим маяком, оставляющим в небе северосиятельные сполохи. Может быть, именно так зарождается Северное сияние и вспыхивает на небе зеркальным отражением всех огней, разгорающихся на земле.
Наконец, решив, что огонь недостижим так же, как призрачно мерцающая лампочка Ильича во тьме Февральской революции, Никита стал озираться, мечтая увидеть в этой, наполненной акынным фольклором местности ещё что-нибудь эдакое, привлекающее к себе не только досужий взор, но и вполне празднолюбное внимание. Ибо решив не стоять на месте, надо было найти тот путь, на котором цель будет всё же достижима.
– Не очень-то вы, молодой человек, стремитесь к достижению своей цели, – услышал Никита за спиной чьё-то сварливое ворчание.
Оглянувшись, он увидел совсем рядом, прямо посреди расплескавшихся ковылей, добротный старый камин в разноцветных изразцовых финтифлюшках, возле которого на стуле с неудобной высокой спинкой, обтянутой зелёным биллиардным сукном, сидел длинноволосый человек в долгополом стёганом халате с атласным отложным воротником и манжетами.
Человек, не переставая – но уже неразборчиво – ворчать, орудовал в камине короткой кочергой. Дымохода у камина не наблюдалось – Никита даже заглянул за его заднюю стенку. Там была ровная поверхность, кирпичик к кирпичику. И от стенок диковинного камина в окружающую степную ночь разливалось спасительное тепло.
Беззаботный огонь в камине весело, ничуть не уставая от дыхания ночи, плясал, посылая наступающей со всех сторон темноте жизнеутверждающие блики, похожие на воздушные поцелуи.
– А для меня ваш камин вовсе не цель и никогда ею не станет, – с ласковой улыбочкой объявил Никита. – Сжигать своё творчество, своих детей – не является ли это явным мазохизмом? А любая боль – не может быть целью. Скорее всего, очень похоже на слабое отражение миража.
– То есть как? – вскинул на него человек глубоко посаженные глаза. – Как это не цель? Горит ведь! И как горит! Где бы вы ещё, сударь, увидели такое восхитительное пламя?! Одно это зрелище будоражит ум, призывает к неизведанной творческой работе, которая обязательно затмит всё сделанное, ведь человек должен делать своё дело, не оглядываясь и не жалея того, что достойно огня и только огня!
Тут только Никита заметил в камине поверх усердно пылающих поленьев шевелящуюся пену сгоревшей бумаги. Каскад воспоминаний, образов и сыгранных собственным воображением обрывочных сцен русской истории секундным вихрем прокатился по всем закоулкам его воспалённой головы. И сам он недавно баловался огоньком, даже сталкивался с жадным пламенем, пожирающим и уничтожающим навсегда только что получивших жизнь героев.
– Это… это рукопись? – у Никиты на секунду перехватило дыхание. – Вы сжигаете свою книгу?
– Страданиями и горем определено нам добывать крупицы мудрости, не приобретаемой в книгах, – ответил человек, не оборачиваясь. – Без выпестованного страдания никакой книги не получится. Есть опасность свалиться в обыкновенную графоманию. Это, к сожалению, достигается легко, но вот назад путь находит не каждый.
Вдруг сидящий на стуле резко выпрямился, застыл, прислушиваясь. Очередной всплеск догорающих в камине мыслей резко обозначил его птичий профиль в плотной, поигрывающей тугими мышцами, темноте. Та же самая песня-плач прокатилась ковыльной волной от горизонта к горизонту, закручивая пространство колесом не доехавшего куда-то экипажа, заплетая потоки времени в толстую косу невесты, не дождавшуюся жениха из заморских стран.
– Слышите? – человек откинулся на тощую зелёную спинку своего диковинного стула. – Это то место в последней главе, когда писатель, на время оставляя своего героя среди столбовой дороги, становится сам на его место и, поражённый скучным однообразием предметов, пустынной бесприютностью пространств наших и грустной песней, несущейся по всему лицу земли русской от моря и до моря, обращается в лирическом воззванье к самой России, спрашивая у неё самой объяснения непонятного чувства, его объявшего, то есть: зачем и почему ему кажется, что будто всё, что ни есть в ней, от предмета одушевлённого до бездушного, вперило в него глаза свои и чего-то ждёт от него. Слова эти были приняты за гордость и доселе неслыханное хвастовство, между тем, как они ни то, ни другое. Это просто нескладное выражение собственного чувства. Мне и доныне кажется то же. Я до сих пор не могу выносить заунывных раздирающих звуков нашей песни, которая стремится по всем беспредельным русским пространствам. Звуки эти вьются около моего сердца, и я даже дивлюсь, почему каждый не ощущает в себе того же. Кому при взгляде на эти пустынные, доселе не заселённые и бесприютные пространства не чувствуется тоска, кому в заунывных звуках нашей песни не слышатся бесполезные упрёки ему самому – именно ему самому, тот или уже весь исполнил свой долг как следует, или он не русский в душе.[38]
Человек замолчал, снова напряжённо прислушиваясь, но дикая заунывная мелодия начала затухать, сливаться с невыразительными всхлипами ветра, и вскоре нельзя уже было понять: звучала ли эта неизбывная русская тоска там, далеко, на страшной высоте среди равнины ровныя, либо ветер устраивал среди себя конкурс художественной самодеятельности.
И всё же подступающую молчаливую пустоту вдруг разогнал голос далёкого колокольчика, который, дарвалдая, разгонял пустоту, скрадывал и свёртывал пространство. Вся широта и бесконечность степи, показалось, живёт только возле этого пылающего камина, который и сам жив только этой степью, этой неизбывной тоской и о-бал-динь-день-дев-шим колокольчиком.
– Не знаю, много ли нас таких, сделавших всё, что им следовало сделать, – снова заговорил человек, – и которые могут сказать открыто перед целым светом о том, кто они, что они и зачем. Кто ни перед кем не постыдится о сделанном ни когда-то, ни сейчас.
– А вы разве знаете – зачем вы? – вставил Никита. – Неужели понимание жизни придёт к вам только после сожжённых мыслей, а с ними и частицы души? Не легшее ли предположить, что, впав в графоманию, вы не можете выбраться на свой путь, на свет Божий?
Человек снова резко повернулся, отчего тени на лице сделались резче, и весь облик его стал каким-то неживым. От него пахнуло тем могильным холодом, которого остерегался Никита.
– Я, милостивый государь, – голос человека вдруг обрёл канцелярскую чёткость и твёрдость. – Я здесь для того, чтобы вы могли плакать о душе моей. Именно это даст вам силы к собственному творчеству… Но горько мне, горько и грустно, что в добре нет добра. Да вот, хоть вы. Сочинение ваше сгорело, превратилось в пыль, труху. Спросите – откуда мне известно сие? О, в своё время вы просто внимания не будете уделять таким мелким откровениям. Но ведь рукопись сгорела? Сгорела безвозвратно? И от непонятного огня, который не повредил больше ничего, кроме рукописи?
Никита кивнул, поражённый проницательностью собеседника:
– Вернее, она не сгорела, а как вы только что изволили заметить, превратилась в труху.
– Отрадно, отрадно, – кивнул странный человек, хотя Никита в сгорании своей или любой чужой рукописи ничего отрадного не видел. – Ваше сочинение спалил внутренний огонь, – человек взял кочергу, но шуровать в камине не стал. Вместо этого он взмахивал иногда кочергой, как дирижёрской палочкой, давая такт своим мыслям.
– Разве может огонь существовать только для сжигания бумаги, на которой был написан сгоревший роман?
– Именно так, сударь, именно так! – кивнул собеседник. – Этим внутренним огнём, то есть, пламенем онгона, вы должны были, обязаны были поделиться с читателем, но не смогли. Огонь так и остался у вас заключённым между строками, словами, буквами. Бумага не вынесла такого напряжения и благополучно разрушилась…, но не стоит об этом сожалеть, поелику будет за сим настоящее сочинение, дарящее пламень живоносный. Попомните моё обещание. Я стараюсь не бросать слова на ветер. А вам… вам надо учиться быть созерцателем огня. Неужто не пробовали?
– Пробовал. Но откуда вы узнали про мою рукопись? – глаза Никиты светились любопытством. – Я даже Ангелу ничего не говорил об этом. Хотя… хотя он без того обо всём знает. Думаю, что у меня была какая-то проба пера, не вынесшая нагрузки. Такое часто происходит и не только со мной. Весь вопрос только в том, не побоишься ли ты проколов. Ведь недаром говорят, что первый блин всегда комом. У меня уже не первый, но всё-таки комом. Но беда в том, что я не писать не могу.
– Это хорошо, – кивнул собеседник. – Пробовать надо всегда, везде, каждую секунду, каждый миг воображения отдавать созерцанию, оценивать, анализировать и описывать под разными ракурсами. Это труд, неимоверный труд, после которого человек чувствует себя, словно до последней капли выжатый лимон, а иногда не хватает сил подняться со стула и доползти до лучшего четвероногого друга – дивана.
Вы до этого, сударь, хотя бы раз задавали себе вопрос: что есть огонь, зачем он человеку и зачем ему человек? Видение говорящее, летучее, поющее, – образ стремительного изменения и наглядного. У огня никогда не будет однообразия воды. Вы случайно не пробовали проследить имманентную связь: очаг – вулкан, кусок дерева – бытие? А ведь она есть! Эта тайная связь всегда и всюду призывает человеков, могущих следовать ей. Могущих посредством её направлять энергию огня в нужное русло!
Я слышу зов огня: в его объятиях смерть умирает. Вернее, не умирает, а исчезает. Это совершенно иная, нечеловеческая философия, которой суждено в недалёком будущем стать самой человеческой и человечной, изменить мировоззрение людей, даже в какой-то мере мышление будущих насельников планеты. А это приведёт к рождению новой цивилизации, быть может, смеющей существовать без уничтожения ближних, без разжигания войн, без ограблений и делёжки награбленного. Умирающий в огне – умирает вместе с Космосом, со всей Вселенной в руках Божьих.
– И вы, поэтому сжигаете свою рукопись, многоуважаемый? – поджал губы Никита, совсем как в меру вредная пожилая старушонка. – Считаете, что только так сможете обратить человека к вере в добро, оставить агрессивность, страсть наживы, поклонение Золотому Тельцу и обессмертить своё имя, слиться со Вселенной?
– Опять писателей обижаешь? – шепнул ему кто-то в левое ухо. – Неужели не научился и не желаешь расстаться с бестактностью?
Никита покосился. Ну да, кому же исполнять роль шибко мудрого наставника, как не Ангелу? Он появился за спиной и с левой стороны, то есть ошуюю, как говорили в старину.
– А что я такого, собственно, сказал? – если бы Никита был волком, то, верно, ощерился бы. Занудным менторством Ангел уже достал его. – Думаешь, специфика ангелов только в наущениях, поучениях и советах, благо, что мы до сих пор в стране Советов живём?
– Вот-вот! Он и меня достал! – выглянул из-за камина вездесущий подсолнух. – Ходют тут, понимаешь, распоряжаются всякие… А я, между прочим, для народа писал свою книгу, значит, и жил только для народа…
– Потише, любезный! – оборвал его воркотню Ангел. – Здесь люди знакомятся, коллеги, можно сказать. Так что не путайся под ногами. Ты совсем из другой оперы.
Подсолнух хрюкнул, но послушно убрался за камин.
– А что бы вы, Николай Васильевич, посоветовали моему молодому другу? – заботливо поинтересовался Ангел. – Смею рекомендовать его вам, как неплохого писателя… в будущем. Правда, и сейчас у него кое-что выходит, но кое-что – это не пища для ума, Вспомните вашего «Ганца Кюхельгартена». Вы примчались покорять столицу, написали сущую дребедень и ждали, что Петербург ринется читать и перечитывать ваш опус. Ан нет! Такие проколы пользительны для всех пишущих, иначе звёздная болезнь тут же искалечит и уничтожит ещё неродившегося писателя.
Сидящий у камина обернулся к Никите, при этом голова его вытянулась из широкого атласного воротника халата, словно шляпка гриба на тонкой ножке. Глаза озорно сверкнули, а на шее обозначился кадык, время от времени дёргающийся в отпущенном ему пространстве. В таком виде Гоголь выглядел также диковинно, как и его нашумевшие произведения.
– Что сказать?.. – писатель снова втянул голову в плечи, обернулся к камину, принялся привычно и проворно орудовать в нём короткой кочергой, – … пока не добудешь медным лбом и не завоюешь силою в душу несколько добрых качеств – мертвечина будет всё, что напишет перо твоё, и, как земля от неба, будет далеко от правды.[39]
Он немного помолчал. Потом снова как-то странно глянул на Никиту и этот косой взгляд глубоко посаженных глаз, брошенный как бы украдкой, блеснул неподдельной беззлобной насмешкой.
– А рукопись не жалей, – кивнул он на чёрное кружево с малиновой искрой по краю – всё, что мне осталось от уничтоженного сочинения. – Не надобно жить тому, что не живёт. Да вот, извольте сами взглянуть.
Глава 10
Никита почувствовал, что стал стремительно уменьшаться, чуть ли не до размеров Пушкинского Гвидона, превратившегося в комара. Но в его сознании, конечно, всё происходило по-другому: человек в кресле и камин вдруг стали непомерно расти, превратились в мифические космические горы, не воспринимаемые как что-то живое, реальное. Ничто непомерно большое в непомерно огромном недосягаемом пространстве не воспринимается за живое существо. Так, например, муравей не воспринимает человека, как нечто существующее на земле. Для любого жителя этой цивилизации всё то, что не вмещается в степень сознания – не существует.
Реальным для Никиты оставался только огонь, занявший пространство от горизонта до горизонта. А по другую сторону, за спиной, как бездонная пропасть, зияла пещерной пустотой ночь. Оказавшись на грани огня и ночи, Никита сам почувствовал себя этой гранью, разделяющей грех и благодать, день и ночь, жизнь и смерть.
Ведь человек всегда являет собой две стороны одной монеты. И многое зависит от него, потому что окружающее пространство всегда реагирует на то, в каком состоянии и каким страстям подвержен человек. Если люди воспринимают природу, как живое существо, то и для неё человек остаётся личностью. А если он мнит себя великим пупом земли или властителем Вселенной – то всенепременнейше им и останется, только неживым, не мыслящим, вместе с постаментом, если не сказать хуже.
В какое-то мгновение Никита почувствовал, что неимоверная сила поднимает его, несёт навстречу пылающему горизонту, туда, где посреди ритуальной огненной пляски раскинулся рутинный чёрный материк сгоревшей бумаги, как что-то уже очень банальное, надоевшее. Навстречу из ставшего огромным камина неслись в небо спиралевидные потоки, вспыхивающие искры которых постепенно увеличивались на взлёте.
Никита вдруг понял, что он превратился в крохотного мотылька, уменьшающегося ещё и ещё при спуске на почти сгоревшую в камине рукопись. А всё, что параллельным потоком поднималось оттуда, наоборот увеличивалось, принимало размеры и статус окружающего пространства. Наблюдение этого эффекта было воистину увлекательным, если бы сам наблюдатель не попал в струях времени на роль подопытного кролика.
Сразу вспомнились фантастические изыски на подобные темы русских писателей, которых эта тема затрагивала на протяжении веков. Но, судя по тому, что временной поток забрасывал его в камин, на клочки ещё недогоревшей рукописи, то по «Стране дремучих трав» Никите побродить не светило.
Более того, надо было постараться увернуться от языков, жадно пожирающих вторую часть «Мёртвых душ». Скорее всего, Гоголь именно этот роман сжигал на фоне возлюбленной им степи. Хотя… хотя именно этот поступок мог стать на все века его «идеей фикс». Не ему одному очищение огнём казалось панацеей от всех человеческих ошибок и проколов.
Впереди до самых краёв горизонта раскинулся огромный Чёрный материк, который в действительности был полем сгоревшей бумаги. Где-то в подсознании этот образ никуда не исчез, но перед глазами предстала безжизненная пустыня, где ветер лениво валял чёрные дюны, перегоняя песок с места на место. Небо здесь было ярко-жёлтого, даже лимонного цвета, по которому временами пробегали красные разряды очень похожие на пылающую спираль электрообогревателя.
Если бы Никита не помнил своего падения по спиралям времени в жерло камина, то, очень возможно, поверил бы в какую-то другую планету. А что! Ангелу ничего не стоило зашвырнуть гостя хоть к чёрту на кулички, хоть в другое измерение или в какую-нибудь иную цивилизацию.
Другая планета?
Другая жизнь?
Эти мысли показались Никите вначале немного дикими, потому что, какая другая жизнь может быть на клочках почти уже сгоревшей рукописи? Пусть параллельные миры существуют как страницы одной книги, а человек – буква этой страницы, путешествующая из строки в строку. Но та же буква в другом слове, тем более на другой странице, станет совершенно не такой, как была раньше, и всё те же одинаковые буквы алфавита, на самом деле оказываются совершенно разными.
Впрочем, в нескольких верстах… (или километрах? – в чём тут меряют расстояния?), был виден город. Если какой-то город существует в этом онгоновом измерении, то и жители должны быть. Ведь не сами же дома выросли, как грибы после дождя! Впрочем, дождя здесь явно не хватало. Но всё-таки жить ещё было можно. Поэтому Никита решил дойти до города, оазисом раскинувшегося посреди жёлто-чёрной пустыни. Кто ж знает, может быть, действительно здесь живут какие-то люди. Ну, если и не люди, то, во всяком случае, цивилизация есть точно. Следовало разведать для чего и куда с позволения Ангела его на этот раз забросило?
Своими большими домами город резко контрастировал пустыне, не обращающей на него, единственного в этом жёлто-чёрном пространстве, особого внимания. Город и пустыня просто соседствовали, не перекрывая друг другу кислород и, видимо, были довольны жизнью. Действительно, каменные громады домов возвышались над окружающей жёлто-чёрной пустыней, как нарыв на гладкой коже. И где-то там, на грани сплошных стен, существовала граница разделения, за которой ни одного строения, ни одного живого существа не было видно. Впрочем, есть ли в городе кто-то живой, Никита ещё не знал, хотя уже в это верил. Ему просто хотелось оказаться не одному в испепеляющем безлюдии бесконечной пустыни.
И ещё один факт поразил путешественника. Из города в пустыню уходила прямая, как проглоченный аршин, дорога, мощенная каким-то ровным и гладким асфальтом. Никита не сразу приметил её, потому что дорога ничем не отличалась от всеобъемлющего цвета чёрной пустыни, с той лишь существенной разницей, что покрытие было жёстким, а пески самопроизвольно перетекали с места на место, догоняя друг друга, словно настоящие морские волны. Жёсткое покрытие, совершенно без каких-либо выбоинок и трещинок, походило при ближайшем рассмотрении на отлитое из прочного, тёмного, но не скользкого, полимера.
От покрытия исходила пульсирующая, похожая на электрическую, невидимая энергия, заряжающая тело экстазом и умиротворением теплого летнего утра, спокойного доброго неба, божественного равновесия. Всего чувства не выразить словами, но переживание это вселяло надежду и веру во всё хорошее, доброе, что ещё может существовать на грешной земле или в этом, заблудившемся огненном царстве.
Во всяком случае, наличие другого мира и себя в нём Никита осознавал уже не как авантюрное приключение, подкинутое в очередной раз неугомонным Ангелом, – так было вначале – а как Путь. Путь к Престолу Всевышнего и вся будущая и прошлая жизнь писателя должна стать прологом Пути – иначе прошедшие годы окажутся бессмысленным прожиганием. А сам путешественник будет сетовать на какой-нибудь своей компостной куче, выделенной тем же Ангелом, о великом писательском даре, о пожертвовании всеми человеческими радостями, ради счастья того же человечества.
Никита шагал по дороге уже несколько минут, размышляя о связи жизненного Пути к Божьему Престолу с дорогами разных стран, ложащихся под ноги непрошенной ниточкой Ариадны. Каждый раз человеку приходится выбирать, куда и зачем идти, но подсказать всегда некому. Да и может ли тебе кто-нибудь что-нибудь подсказать? Никита много видел на своём веку хороших дорог, особенно европейских автобанов, но ни одна, построенная человеком, не могла тягаться со здешней своим качеством.
Вот только для кого здесь дорога, если ни машин, ни пешеходов не видать? Даже птиц никаких не пролетало. Но вместо птиц над головой вспыхивали сразу две спирали, очень похожие на электрические. Они потрескивали, поигрывали накалом, рассыпая вокруг зелёно-голубые искры, которые всё гуще падали на чёрные барханы перекатывающейся пустыни настоящим звёздным дождём. Причём, искры-звёздочки иногда проносились к земле, словно кометы, пробившие, наконец, атмосферу Земли.
Вдруг одна из этих падучих звёзд нечаянно угодила Никите за шиворот. Он взвыл от пронзительной боли и принялся кружиться на одном месте, будто пёс, гоняющийся за собственным хвостом. По косточкам позвоночника пробежала ядовитая огненная волна, наполняя болью все до единой нервные клетки. Не ожидавший такого электрического укуса, Никита взвился в фантастическом прыжке, потом повалился на землю, принялся ёрзать на спине, гася искру, зудящую на позвоночнике и пытаясь заглушить боль.
Наконец, ему всё-таки удалось справиться со «звёздной болезнью» и можно было идти дальше. Весь остальной путь прошел без приключений, только иногда рука непроизвольно тянулась к спине – погладить обожжённое звездой место. Что ни говори, а путешествовать по Ангельским мирам, оказывается, не очень-то безопасно. Хотя никто путешественнику не обещал ровной дороги или знакомства со сгоревшими рукописями, не сходя с кресла, к тому же попивая кофиё с ликёром «Амаретто».
Городские стены надвинулись, выросли, воплотились в ощутимую реальность. Но странное дело, вблизи город вовсе не был большим и помпезным. Здесь он был такой же двухэтажный, захирелый, уездный, как на земле. Только запах кварталов и камня отсутствовал вовсе, будто все постройки были выполнены роботами, не оставившими после себя ни капли пролитого пота. Впрочем, и запаха пролитого мазута тоже в воздухе не чувствовалось. Действительно, кто же на земле возводит такие города?
– На земле? А где всё это находится, разве не на земле? Тьфу-ты, совсем запутался, – сплюнул Никита.
Но пока никого из живых на глаза ещё не попадалось, будто город жил в пустыне сам для себя, а не был построен кем-то и когда-то. Собственно, от неприличного безделья можно было избавить себя, «взирая» на какой-то там памятник или брошенное место обитания. Но Никиту недаром сюда забросили. Ведь город находится на догорающей бумаге, которая вместе с непрошенным гостем скоро превратится в искры, уносящиеся в небо большого мира.
– В общем, так, – определил для себя Никита, – типичный уездный городишко конца девятнадцатого, только всё равно неземной какой-то, потому что нежилой. На современный трансформер смахивает. Вон и дорога: плавно перешла в такую же прямую улицу, а улица выпотрошилась в площадь. Хоть улица уже была вымощена настоящим кирпичом, но от этого ничуть не ожила. Может быть, это тот самый город теней и тень города, куда пришлось спускаться бедному Алладину?
Народу никого. Ни кошек, ни собак. Только дома сами, похоже, передвигаются и жмутся торец к торцу. Впрочем, жёлто-чёрный песок пустыни тоже перекатывал сам себя без ветра и дождя. Может, стены домов слеплены тоже из самосвального песка? Ближе к центру дома облепили площадь, предстали стеной каменною, а поверху меж крышами зданий пущена решётка тюремная. И весь центр города был ничем иным, как огромной тюремной камерой с единственным зарешеченным окном, уставившимся прямо в жёлто-красное небо.
Вдруг меж стен мелькнула всё-таки тень живого человека. Оказалось, мечется внутри каменного двора, прикрытого огромной – от дома до дома решёткой – один единственный человек, господин галантерейный во фраке с отливом пламенным. Слава Богу, хоть кто-то живой в городе теней и в тени города. Может быть, теперь что-то станет ясно? Тем более господин в красивом фраке что-то вещает на настоящем русском языке:
– Батюшка, отец родной, да не хотел же я, вот как есть, ни в жисть не хотел, что ж с меня-то драть потёмную? Я ли сарбазником не был, я ли не с копейки начинал? Я ли чаяний ваших превосходительств не выполнял? – а сам всё плачет…
Никита сначала не понял перед кем или чем причитает единственный живой человек? Может быть, в этом городе теней сами дома являются живыми, поэтому и передвигаются, а попавшегося сюда человека из внешнего мира топчут и ломают, заставляя умолять и выпрашивать прощение?
– Спаситель мой! Бог да наградит вас за то, что посетили несчастного.
Никита пригляделся и увидел ещё одно живое создание города-тюрьмы: галантерейный господин подскочил одной из стен, где стоял перед ним старец и, кажись, довольно почтительный, во всяком случае, по одёжке такого встретят и приветят, да что уж дальше-то? Наш господин галантерейный всё мечется, мечется.
А площадь всё стенами – стенами. И вот уже не площадь совсем, а как есть каземат. Одно отрадно: вместительный каземат. Вон и камин в дальнем углу с давешним знакомцем Никиты. Похоже, он ни в степи, ни в сжигаемой им же рукописи уже не мог расстаться с камином. Впрочем, на этот раз Гоголь оказался у камина не один. Напротив него сидел на таком же стуле с высокой спинкой, обтянутой зелёным сукном, господин во фрачной паре с красной розой в петлице. На голове у него красовался цилиндр с высокой тульёй, надвинутый на глаза. Только эти непроизвольные участники сцены на тюремной площади сидели пока молчаливо, не издавая ни звука. А стоящий у стены старче вздохнул так горестно, как будто сам с этим горем родился:
– Ах, Павел, Павел Иванович! Павел Иванович, что вы сделали!
– Что же делать? Сгубила проклятая! Не знал меры; не сумел вовремя остановиться. Сатана проклятый обольстил, вывел из пределов разума и благоразумия человеческого. Преступил, преступил! Но как же можно этак поступать? Дворянина, дворянина, без суда, без следствия, бросить в тюрьму!..
Дворянина, Афанасий Васильевич! Да ведь как же не дать время зайти к себе, распорядиться с вещами? Ведь там у меня всё осталось теперь без присмотра. Шкатулка, Афанасий Васильевич! Шкатулка, ведь там всё имущество. Потом приобрёл, кровью, летами трудов, лишений… Шкатулка, Афанасий Васильевич! Ведь всё украдут, разнесут! О, Боже!
И не в силах, будучи удержать порыва вновь подступившей к сердцу грусти, он громко зарыдал голосом, проникнувшим толщу стен острога и глухо отозвавшегося в отдалении, сорвал с себя атласный галстук и, схвативши рукою около воротника, разорвал на себе фрак наваристого пламени с дымом.
– Ах, Павел Иванович, как вас ослепило это имущество! Из-за него вы не видели страшного своего положения.
– Благодетель, спасите, спасите! – отчаянно закричал бедный Павел Иванович, повалившись к нему в ноги. – Князь вас любит, для вас всё сделает.
– Кого это я так возлюбил? – раздался насмешливый голос из глубины образовавшегося замкнутого пространства.
Голос донёсся как раз со стороны камина с неизменным своим созерцателем огня. Только в этот раз речь держал уже не Николай Васильевич. На соседнем стуле с высокой спинкой развалился, насколько это было возможно на такой неудобственной мебели, Ангел собственной персоной. Он снял цилиндр, поставил на каминную полку и бросил туда тонкие лайковые перчатки.
Причём в этом амплуа он был солидным господином во фрачной паре и с рубиновой розочкой в петлице, что делало его совсем неузнаваемым. Недаром Никита признал его не сразу. Что говорить, Ангел был бесподобен на этот раз, только вот манеры… манерными изысками этот господин никогда не отличался. Впрочем, так, вероятно, все ведут себя в инфернальной действительности, но в этом ничего удивительного для Никиты не было. Он больше внимания уделял сгоревшим персонажам Николая Васильевича. Разговоры о том, что Чичиков, якобы покаялся, стал самым честным и православным, давно носились в воздухе с тех незапамятных времён сожжения рукописи. Верно, слухи стали расползаться по Петербургу и Москве задолго до сожжения – у сплетен и слухов совсем иное существование.
Но Никита мог спокойно понаблюдать за великосветским ребёнком Гоголя, редкостным пронырой и мошенником. Находясь здесь в весьма неблаговидном положении, на правах то ли гостя, то ли пленника, как и сам Чичиков, Никита простодушно радовался редкостной удаче – увидеть, ещё не успевшую сгореть, сцену покаяния Всероссийского скупщика мёртвых душ!
Меж тем Афанасий Васильевич, на которого так уповал Павел Иванович в бедственном положении своём, прошелся по каменному полу. Вдоль монолитной стены с мерзким писком метнулась пара крыс, так что помещение становилось всё более похожим на каземат, хоть и с некоторым налётом театральности, как, скажем, оперная тюрьма в «Аиде» или мрачноватая декорация из «Калигулы».
– Нет, Павел Иванович, – продолжил старик, – не могу, как бы ни хотел, как бы ни желал. Вы подпали под неумолимый закон, а не под власть какого человека.
– Искусил шельма сатана, изверг человеческого рода!
Но последующее поведение главного героя поразило не только Никиту. Даже Ангел при виде того, что начал вытворять Чичиков, скривил рот и брезгливо фыркнул. Однако Павел Иванович ударился головою о стену, а рукой хватил по столу так, что разбил в кровь кулак; но ни боли в голове, ни жёсткости удара не почувствовал.
– Павел Иванович, успокойтесь, подумайте, как бы примириться с Богом, а не с людьми; о бедной душе своей помыслите.
– Но ведь судьба какая, Афанасий Васильевич! Досталась ли хоть одному человеку такая судьба? Ведь с терпением, можно сказать, кровавым, добывал копейку, трудами, трудами, не то, чтобы кого ограбил, или казну обворовал, как делают. Зачем добывал копейку? Затем, чтобы в довольстве прожить остаток дней; оставить жене, детям, которых намеревался приобресть для блага, для службы отечеству. Вот для чего хотел приобрести! Покривил, не спорю, покривил… что ж делать? Но ведь покривил только тогда, когда увидел, что прямой дорогой не возьмёшь, и что косой дорогой больше напрямик. Но ведь я трудился, я изощрялся. Если брал, так с богатых. А эти мерзавцы, которые по судам, берут тысячи с казны, небогатых людей грабят, последнюю копейку сдирают с того, у кого нет ничего!.. Что ж за несчастье такое, скажите, – всякий раз, что, как только начинаешь достигать плодов и, так сказать, уже касаться рукой, вдруг буря, подводный камень, сокрушение в щепки всего корабля. Вот под триста тысяч было капиталу; трёхэтажный дом был уже; два раза уже деревню покупал… Ах, Афанасий Васильевич! За что ж такая?.. За что ж такие удары? Разве и без того не была жизнь моя как судно среди волн? Где справедливость небес? Где награда за терпение, за постоянство беспримерное? Ведь я три раза сызнова начинал; всё потерявши, начинал вновь с копейки, тогда как иной давно бы с отчаянья запил и сгнил в кабаке.
– Скажите, пожалуйста, какой стойкий оловянный солдатик! – хмыкнул со своего стула Ангел. – С копейки он начинал! Так за копейку же и продался. Люди гибнут за метал! Ещё сам Моисей давал трёпку своему народишку за поклонение Золотому Тельцу. Ведь правильно огнём пробуют золото, золотом женщину, а женщиной обязательно мужчину!
Ангел вдруг громко расхохотался совсем как оперный Мефистофель. От этих утробных звуков у Никиты по спине пробежали отвратительные холодные мурашки.
– А кто ж его подбивал на это, не вы ли, милостивый государь? – Николай Васильевич вдруг резко вскинул голову и устремил на Ангела горящий страстным огнём взгляд. – Не вы ли, сударь, прозябаете в нашем несветлом мире только из-за того, что сеете меж нами склоки и раздоры? Что вы можете кроме пустопорожних скандалов? Право слово, за вами давно наблюдаются повадки шкодливой мартышки!
Ангел посмотрел на Гоголя с нескрываемым чувством сожаления, как родитель на неразумное дитя:
– Вы полагаете, Николай Васильевич? А кто же, позвольте спросить, кающегося мерзавца изображать решился? Ведь у вас он чуть ли не в монастырь пообещает Афанасию Васильевичу, да только как лазейка обнаружится – сразу снова за своё примется. Горбатого только могила исправит. Разве не так? Вам ли пристало, православному христианину, мошенника кающимся грешником представлять? Конечно, никто вас не лишал и не лишит пути покаяния, но каким оно будет и будет ли? Сможете ли вы когда-нибудь сказать при всех: «Господи! Господи! Дай мне хоть миг покаянья, не позволяй нераскаянным в полночь уйти!».
– Господь от всех нас ждёт покаяния, даже от вас, – смиренно ответил его собеседник. – Человека так же, как и ангела, мучает страсть стяжательства. Вы – Ангел Господень, а Вседержитель никогда не забывает детей своих неразумных.
– Это понятно, – Ангел закинул ногу на ногу, – только зачем Ему я – кающийся? Что за бред вы несёте, любезный? Не бывает в мире только чёрного или только белого, как никогда бы не было дня, если б ночи не было. Вы бы просто не знали что это такое! Не будь меня, разве смог бы человек узнать сладость падения и радость воскрешения?
– А, может, это действительно не полезное знание? – Гоголь снова вскинул дерзновенный взгляд на непрошенного покровителя. – Может быть, действительно не полезно играть с онгоновым пламенем?
– Ах, Николай Васильевич, Николай Васильевич! Что вы сделали! – передразнил Ангел гоголевского героя. – Уж кому, как не вам знать судьбы литературные? Да вы себя-то вспомните – кем бы вы были, кабы не помощь вам – от друзей ваших? Да я, ваш покорнейший слуга, тоже руку к талантишку завалящему приложил. А то ходили бы по сю пору, да вопили бы не хуже Павла Ивановича: за что-де? я ли не с копейки? Вот и получается, что писали вы героя с себя самого и продажный он такой же, как и вы, любезный. Но продажная душа к покаянию не готова!
Гоголь сидел, выпрямившись неестественно, просто распластавшись по прямой спинке стула – лицом бледен, глазами чёрен. В побелевших костяшках пальцев кочерга давешняя. Кажется вот ещё мгновение, вот ещё одно только слово гадкое слетит с кривых ехидных губ Ангела, и Николай Васильевич проткнёт кочергой обидчика, заставит его почувствовать боль человека в беспомощности.
– За что ж его так? – решил вступиться Никита. – Не сам ли ты, любезный, писателей обижать не велел? Не сам ли метишь на престол Ангела русской культуры?
– Да за дело я его, Никита-ста, за дело. Вдругорядь будет знать, как мошенников монахами изображать. И не он ли только что молвил, не стоит-де жалеть то, что жизни не достойно? Как он своих детей смерти предаёт, вечно сжигая их в камине, так и я могу познакомить его с дыханием бездыханным, со льдом незамерзающим.
И не писатель тот уже, кто живьём на небеса метит. Недаром Николай Васильевич как-то раз устроил на вершине Везувия камнепад. Правда, тогда он изображал себя Творцом во время сильного дождя – думал, падающие камни никого не зашибут. Однако, зашибли. И наш великий писатель числится теперь рядовым убийцей.
– Врёшь, проклятый! – Гоголь, наконец, замахнулся кочергой, но ударить не успел. Ангел повёл рукой, и писатель застыл, будто параличом скованный. Так же и персонажи гоголевские возле стены – двумя застывшими картинками. Живыми и шевелящимися остались только Никита да Ангел. Но к чему было устраивать этот огненный маскарад?
Никите стало обидно: зачем же тогда в гости звал? Литературный мир показать хотел, а показал свою слабость через расправу над неравным противником? Выходит – притворство всё, блеф. И недаром Ангела кто-то обозвал обезьяной Господа нашего.
– Мне сейчас кажется, что ты, Ангел, сволочь порядочная!
– Работа такая, – пожал тот плечами, как ни в чём не бывало. – Только не зли меня почём зря. Заслужишь – и тебе достанется. Я ведь еду-еду – не свищу, а наеду – не спущу!
– Не думаю, – насупился Никита. – Разве мало в свете христианских художников, православных писателей, музыкантов, наконец? Что ж ты тогда на русских отыгрываться решил? Неужели тебе мало, например, американских писарчуков? Хотя бы того же Дэна Брауна, который в своём романе пророка Даниила сыном царя Соломона изображает. Хоть бы на страницу истории заглянул, прежде чем заведомую галиматью за правду выдавать.
– Ты прав, в Америке вашего брата предостаточно, – согласился Ангел. – Только откуда их писательство взялось? Откуда в Америке, стране, поклоняющейся доллару, время от времени появляются музыканты, писатели, да и всё прочее искусство, ты не задумывался? А напрасно. Скажем, тот же Дэн Браун – мной сделанный, мной воспитанный. Это моё истинное творение! Я в этом случае – настоящий Творец! А писательство его – от гордыни всё. Может, вспомнишь: гордыня-матушка вперёд тебя родилась… Но и тебе я помогу, коли будет согласие…
Никита прикусил губу. Опять уел его нечистый, и в который раз! Но ведь не может, не должно такого быть! Не для соблазна и разврата Господь людей создавал! А с другой стороны… ведь недаром перед человеком вечная дилемма: быть или не быть, вот только нет повести печальнее, чем жизнь!
Как он там выразился: «…откуда их писательство и всё прочее искусство… гордыня-матушка…»? А не однокоренные ли слова Искусство, Искус, Иисус? Не для человеков ли сказано Сыном Человеческим: судите Меня по делам Моим? Так что ошибаешься, бес лукавый. Верно, поставлен ты на соблазн, обман, искушение. Но на то и разум дан людям, что б задумываться.
Тот же Дэн Браун писал под диктовку Ангела свои «сногсшибательные» опусы и наделал таких ляпсусов, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Оказывается, у него не только пророк Даниил превратился в сына царя Соломона, но и сам Соломон всю сознательную жизнь потратил на то, чтобы завести в Америку и зарыть в катакомбах свои драгоценности, которые уже в наше время находят крутые масонские умельцы и найденное золото становится «Сокровищем нации»! Американцам не хватает истории, вот и высасывают всё из пальца.
Глава 11
Никита оглянулся. Но вокруг опять никого. Город исчез, лишь дорога осталась. Берег моря. День солнечный. От дороги прямо к морю пляж песчаный, но песок на нём уже не траурно-пепельный, а настоящий, жёлтый, даже завлекательной красноватинкой отливает. Только опять в пейзаже что-то странное, неживое. Никита сначала за размышлениями своими не очень-то внимание обращал на окружающее. Но песчаный пляж и море отметил боковым зрением.
Он стал уже понемногу привыкать к попаданию в неизвестно какие сгорающие в сумасшедшем огне опусы. От Ангела можно было ожидать чего угодно, только не настоящей помощи в становлении писательского таланта. А есть ли вообще такая помощь? Талант вообще-то имеется, но стоит ли предаваться какому ни на есть учению? Да и чему может научить взявший на себя кураторские обязанности Ангел, который однажды набедокурил и до сих пор не может даже покаяться в содеянном? Куда уж ему в педагоги налаживаться!
Возможно, преподаватель или гуру из Ангела никакой, недаром кроме клюнувшего на его учение Дэна Брауна он ничем похвастаться не может. Даже Гоголь, часто обращающийся в своё время ко многим инфернальным или просто демоническим темам, относился к путающемуся под ногами нелюдю, пытающемуся выставить себя князем земного царства, с нескрываемой неприязнью.
Талант писателя человеку ближе и понятнее любых других человеческих талантов. Поэтому многие из нас пишут стихи во времена Первой любви; поэтому почти каждый пускается в мемуарные воспоминания о прожитой жизни; поэтому и Ангел пытается стать незаменимым литературным агентов русских писарчуков, чтобы чувствовать себя хоть чем-то похожим на Творца.
Тот же Дэн Браун согласился на помощь Ангела и насмешил весь мир своей писаниной. Несмотря на это, киношники тут же принялись экранизировать один из нашумевших опусов, но, сколько ни вбухивали денег в это дело – фильм не получился. Лишний раз подтверждается простая аксиома – талант за деньги не купишь, поскольку это не простой товар, а дар Божий.
Неужели самому Ангелу нравится такая жизнь? Может быть, действительно он выполняет на земле чёрновую работу становления человеческой души? Навряд ли Богу приятно будет видеть сыновей, отказавшихся от воспитания души, а тем более, размещать возле себя графоманов, угробивших жизнь на завоевание власти, денег, сытого старения и философских заумствований о том, что должен Вседержитель человеку и чего не должен.
Никита снова оглядел новый, возникший ниоткуда мир, но отметил для себя, что всё окружающее на сей раз похоже просто на рисунок, даже пастельный набросок, сделанный художником впопыхах на подвернувшемся клочке папиросной бумаги, ибо застывшие в пространстве образы были прозрачны и эфемерны.
Картинка оказалась довольно интересной: пляжные грибки, шезлонги всякие, даже ресторанчик летний. А самое главное, до горизонта перед глазами раскинулось море. В общем, современный морской пляж. Но мёртвый. И волны на море застывшие, будто морозцем прихваченные. Опять ангеловы штучки – понял Никита. Любит он всё замораживать. Надо ему посоветовать: на работу холодильником устроиться, по совместительству. Просто таланты гибнут! Без него-де ни жизни, ни смерти – одно прозябание в замороженном виде. А вот под его отеческим наблюдением сразу все писателями, поэтами, музыкантами и художниками станут. И люди всенепременнейше примутся изумительные шедевры создавать! Всё это, конечно, будет, только в строю всегда в ногу ходить надо и не высовываться, пока не разрешат.
– Стоп! Мне кажется, уже что-то похожее произошло совсем недавно! – воскликнул Никита. – Нынешнее поколение будет жить при коммунизме! Слава труду! Народ и партия Ангела – едины! Мир, труд, май! Да здравствует!.. Чёрт!.. Действительно чёрт! Надо же, целую страну курировал и соблазнял на постройку земного рая. Дескать, зачем тебе, человек, Царствие Божие, когда и здесь ты неплохо проживёшь под шестиугольным знаком: пожрать, поспать, потрахаться, потратить деньги, погадить и помереть! Вот, оказывается, для чего каждый из нас приходит на этот свет, живёт в добром, чудном и непонятном мире.
Эта мысль уже не оставляла Никиту, только осмотреться основательно не помешало бы. Людей на пляже оказалось немного, но тоже все замороженные. Никита подошел к ресторанчику – единственному крупному строению на видимом пространстве. Может быть, там окажется кто-то живой.
На открытой площадке, под тентами, стояли столики, за которыми сидели такие же замороженные: кто, не допив стакан с соком или пивом, кто, не донеся ложку с замороженным мороженым до рта. Человек за одним из столиков показался почему-то знакомым, только где они могли встречаться? Путешествие по инфернальному миру порядком выбило Никиту из привычной жизненной колеи. Он подсел к незнакомцу за стол, всё так же разглядывая его. Сидящий за столиком выглядел приличным серьёзным мужчиной. Странным в первую очередь было то, что одет он был в строгую протокольную тройку. На пляже?! Правда, ослепительно белого цвета, но тройка на пляже казалась чем-то неуместным. На плече у него присела отдохнуть залетевшая сюда муха, да так и заснула.
Никита щелчком сбил муху с плеча элегантно одетого господина, и он тут же ожил! Оказывается, здесь, чтобы оживить замороженных, необходимо было касание живого человека, что Никита и проделал ещё с несколькими посетителями ресторанчика. Те, в свою очередь, так же стали возвращать к жизни оказавшихся на замороженном пляже.
Но Никита вернулся за столик к «протокольному» господину. Этот человек действительно был знакомым из прошлого. Можно было выяснить: где и при каких обстоятельствах они встречались раньше, тем более, человек ожил. И весь ресторанчик затеплился жизнью. Возле столика, где сидел Никита с джентльменом, откуда ни возьмись, появился официант, тоже вполне оживший, и подал меню. Сосед, как ни в чём не бывало, спросил Никиту:
– Вы будете что-то заказывать?
Господин передал ему меню через стол в красивом кожаном переплёте. Никита машинально открыл и увидел, что все названия блюд написаны не по-русски. Знания иностранного сводились у него к нескольким наспех заученным фразам, да и то когда они с Лялькой Париж покоряли. От французского словарного запаса мало что осталось, но и того, что ещё не выветрилось из головы, для беседы с французским кельнером оказалось маловато.
Господин заметил замешательство соседа:
– Это французский ресторан, вы разве не знали?
– Не успел, – признался Никита, – да и не у кого было осведомиться. Признаться, я даже не знаю, как эта местность называется.
– Напрасно, напрасно, – тоном завсегдатая произнёс господин, – очень рекомендую. Кухня у них великолепная, даром что Чистилище.
– Какое Чистилище? – по спине у Никиты опять забегали холодные мурашки неприятного страха.
– Ну, может быть, я и хватил чуть, но чем вам Чистилище не подходит? – поднял господин глаза. – У католиков в любом церковном опусе найдёшь откровения о предбаннике меж реальным миром и Преисподней, то есть, Раем. Хотя это одно и то же. А поскольку у вас, мне кажется, трудности с языком, позвольте я сделаю заказ сам. Мне, право, это доставит удовольствие.
Человек забрал из рук Никиты меню, пробежал глазами. Официант с собачьими бакенбардами, больше похожими на брыли, стоял почтительно рядом, готовясь принять заказ.
– Я предложу вам истинный tour de cuisine,[40] – улыбнулся господин и продолжил официанту:
– Dorade bouilie sause marechale, Ragout aux Langues de carpes, Ramereaux a la charniere, ciboulette de gibier a L'espagnole, pate de cuisses d'oie aux pois de Monsavie, queues d'agneau au clair de Lane, artichauts a la Grecque, charlotte de pommes a la Lacy Waters, hombes a la maree, glaces aux rayons d'or[41] …
Официант всё послушно записал и умчался выполнять заказ.
– Класс! – восхитился Никита. – Вы как будто родились во Франции.
– Класс? – переспросил незнакомец.
– Я хотел сказать, здорово у вас получилось!
– Ну что вы, – незнакомец слегка покраснел то ли от похвалы, то ли от смущения, – это такие мелочи. Мне доставляет истинное удовольствие угощать друзей. Жаль, что не все это понимают, тем более в нашей бедной стране. Это даже не принято теперь. Но вспомните, и у нас иногда в ресторанах увидишь такое, до чего ни Франции, ни Америке не доползти при всём своём желании!
– Но мы, кажется, не знакомы? – спохватился Никита. – Во всяком случае, я никак не могу вспомнить ваше имя.
– Как же, как же! Я – Леонид Фёдорович Глинский, – представился его собеседник. – Последний раз мы с вами виделись во дворе Лубянки. Я сразу обратил на вас внимание, и когда Женя Моргенштерн куда-то последовал за вами, мне подумалось, что поступить так же весьма разумнее, чем дожидаться бесплатного сожжения на инквизиторском костре безбожников.
– Ну, конечно! – вспомнил Никита. – Он же один из «Странников ночи» Даниила Андреева. То-то лицо его показалось знакомым. Утопия построения Храма Солнца Мира на Воробьёвых горах при великосветской совдепии. Красота! Но его экипировка вовсе не походит на серенький советский стиль, к тому же гурман он, кажется, изрядный, вон и брюшко солидное из под жилетки с алмазной искоркой. А это уж совсем с российским тоталитаризмом не совместимо. Хотя в его времена НЭП тоже процветал, именно в эту пору советский рубль стал одной из самых крепких валют мира.
– Вас, мой юный друг, приводит в недоумение мой вид? – поднял брови Леонид Фёдорович. Что говорить, в проницательности ему отказать было нельзя. – Всё дело в том, что я – один из представителей новой советской науки, можно сказать, элитный профессор. Поэтому нас берегли. Не всегда и не всех, но тут кому уж как повезёт. Мой коллега Тимофеев-Ресовский – надеюсь, слышали о таком? – не захотел рисковать, жить на вулкане и попросту эмигрировал. Мы же надеялись на волну перемен у себя на Родине и благоговейно ждали. Но до перемен нашей стране пока ещё далеко. Значит, надо как-то самому выкручиваться, не находите?
– А здесь-то вы как?.. – вопросом на вопрос ответил Никита. – Ах да, сбежали с Лубянки. Неужели это возможно?
– В мире нет ничего невозможного, мой друг, – философски заметил Глинский. – Тем более, когда тебе помогают. А если безвозмездно, так сказать, помогают, то от такой помощи и вовсе грех отказываться!
– Кто? – насторожился Никита. – Судя по вашим рассуждениям, вам кто-то помог сбежать безнаказанно от Лубянского костра и остаться не растерзанным, то есть, не сожжённым?
– Вы правы, мне помогли, – кивнул Леонид Фёдорович. – Так, один знакомый помог. Но, смею уверить, очень приличный и воспитанный человек. А вы разве что-то имеете против, когда люди помогают друг другу просто так, без всяческих личных выгод?
– Здоровый советский альтруизм?
– Да, если хотите, – Глинский вздорно поднял голову. – Но не советский, а общечеловеческий. У этого понятия нет национальности. А люди большей частью не верят в альтруизм, вот как вы, к примеру. Не верят, потому что не понимают всей чистоты этого понятия. Любой выжига, деспот стяжатель всегда понятен: он старается ради своей выгоды, ради собственного сытого брюха. Что же альтруист? Добро ради добра? Безвозмездно? Просто так? «Не верю! – взревёт обыватель, – Так не бывает! Вернее бывает, но в книгах!». А Заповеди Божьи? «Да, они писаны, но не для человеков! А мир этот таков, что на стыке Европ и Америк люпус люпуса всё-таки съест!».
И, поверьте, обыватель прав. Прав своей правдой, пока не столкнётся с другой, диаметрально противоположной по значению. Тогда, как правило, рушатся какие-то идеалы, жизнь – всё псу под хвост. Человек начинает обвинять в несчастиях своих всех и вся, не замечая при этом, что корнем зла было всего лишь неприятие добра, то есть неверие в него.
Пока Глинский предавался философским умозаключениям, на столе стараниями официанта появилось столько кулинарных изысков, и у Никиты по-настоящему разгорелись глаза. Голодный желудок явно напомнил о своём существовании.
Собеседник Никиты жестом пригласил поучаствовать в обеде, да и сам начал оказывать кушаньям должное внимание.
– Так вот, – продолжал он, поддев изрядный кусок отварной рыбы Дориды, – коли не доверять ближним, тем, кто к вам с добром, то можно голодным остаться, можно сгореть в коммунистическом костре или быть проглоченным недоразвитым растением. Много лучше, мне кажется, сидеть за хорошим обедом, необременительно философствуя, понимая, что делаешь добро ближнему, запивая всё добрым глотком настоящего Фалернского.
Никита только-только подцепил дикого голубя на вертеле, мечтая расправиться с ним, но слова собеседника снова заставили насторожиться.
– Вы кушайте, кушайте, – угощал тот, – смею надеяться, что, отведав здешней стряпни, вам вовсе уезжать не захочется. Спросите: почему? Да потому, что исключительно все продукты здесь прошли своеобразную трансгенизацию.
– Что прошли? – закашлялся Никита.
– Трансгенизацию, – Глинский посмотрел на собеседника, словно тот был студенческой аудиторией, посреди которой необходимо посеять разумное, доброе, вечное. – Основой биологического строения продуктов ресторана, как растительного происхождения, так и белкового составляют плазмоиды. Это и агробактерии и клетки живых организмов в одном лице. Более того плазмоиды уничтожают вокруг всё не похожее на них. Допустим, картофель на основе из плазмоидов убивает не только колорадского жука, но и все живые бактерии в окружающей почве. То же самое происходит с живыми организмами, допустим, с теми же рыбами или с голубями, один из которых у вас в руках на вертеле и ждет, не дождётся, что вы оцените старания здешних поваров.
– Признайтесь мне всё же, Леонид э-э Фёдорович, – Никита отложил в сторону голубя, – кто тот ваш знакомый, предложивший безвозмездное добро и, как я понимаю, обеды во французском ресторане, где и платить-то за прекрасно приготовленный обед не надо?
– Да что вы право, друг мой? – отмахнулся Глинский. – Говорю же, достойнейший человек. Причём, он, скорее, ваш знакомый, чем мой. Во дворе Лубянки вы рядом стояли… Я считаю, не станете же вы рядом с незнакомцем стоять и обсуждать нас, как нечто нереальное?
– Так. Чуть не вляпался! – проскочила в голове Никиты ещё не совсем опоздавшая мысль. – А ведь даже древние всё время повторяли: не вкушай в доме врага твоего. Нет сомнения, что вся эта изысканная снедь – всего лишь ритуальная еда, поев которой, никакой декларации о продаже души подписывать не надо будет. Тем более кровью. Просто, как сказал этот жирный боров, сам отсюда уйти не пожелаешь.
Есть сразу расхотелось хотя бы потому, что от блюд явственно запахло тухлятиной с подливкой из свежей мочи. А Глинский угощался за обе щёки, не уставая нахваливать кушанья, не обращая внимания, что сотрапезник не проглотил ни куска.
Никита, продолжая вполуха слушать болтовню профессора о всемирной религии альтруизма, украдкой принялся оглядываться по сторонам. Море проснулось, лениво урча, перекатывало небольшую бирюзовую волну. А на волне качалась самая настоящая русалка! Эта рыб-девица была, пожалуй, самым оригинальным существом на чистилищном пляже, где ожидающие Высшего суда католики вспоминали прожитую жизнь, не забывая при этом перемыть косточки ближним, то есть, соседям по пляжу.
Одно смущало Никиту: ведь он же православный христианин! Как его угораздило примкнуть к чужим? Но на этот вопрос он пока что ответить не мог, и оставалось любоваться настоящей полуголой красой плескающейся на волнах девицы.
В море она чувствовала себя примерно, как на пляже обычный смертный: лежала, заложив правую руку за голову, по мясистой загорелой груди скатывались капли воды, а рыбьим хвостом – верно, от вящего удовольствия или в такт какой-то музыке – она чуть пришлёпывала по морской пене. Этого только не хватало! Сейчас ещё песню запоёт: оставайся, мальчик, с нами – будешь нашим королём. Нет уж!
– Что, моя краля понравилась? – прозвучал рядом ядовитый смешок.
Оказалось, пока Никита любовался рыбьими прелестями русалки, к ним за столик подсел ещё один парень. Про таких говорят, косая сажень в плечах, да и одет в русскую косоворотку красного шёлка с красивым зелёным узором по воротнику и манжетам, а светлые волосы на голове – с пробором посредине. Ещё одного русича сюда занесло!
– Это моя нонешняя жена, – объявил парень.
– Русалка?! – хмыкнул Никита. – Скажешь тоже!
– А чё? Баба она – хоть куда. Только вертихвостка ещё та, – покачал головой парень. – Но какая баба на чужих мужиков-то не заглядывается? В чужом огороде, поди-ко, и лук слаще.
– Как же ты умудрился с рыб-девицей спутаться? – поинтересовался Леонид Фёдорович. – Иль охмурила она тебя?
– Не-е-е, – замотал головой парень. – Не так всё было. Пожалуй, расскажу я вам, только не перебивать! Страсть как не люблю, когда перебивают.
Глинский тут же принялся уверять нового знакомого, что будет слушать внимательно, а Никита просто промолчал. Но это выглядело для парня, как молчаливое согласие и он, откашлявшись, начал свой рассказ.
– Было это или не было, а кроме Аллаха великого и мудрого никого не было…
– Ты что, нерусь что ли? – не вытерпел Никита.
– Наш гость попросил – не перебивать, – сразу повысил голос Глинский. – Коль не нравится, не слушайте, милостивый государь, а нам не мешайте!
Меж тем парень озадаченно почесал себя за ухом:
– Ой, чевой-то я и вправду не так зачал. Вероятно, не так мой сказ и закончится. Причём тут Аллах в русских сказках? Ведь они пока ещё русские. И русские бабы только за наших мужиков замуж выходят. И столицу до сих пор Москвой величают, а не Москвобадом, прости Господи! Ну, да ладно. С присказками проехали, пора бы и за сказку. Только больше не перебивать!
Про моих родителей можно с уверенностью сказать, мол, жил да был дед с бабкой, то есть старик со старухою. Была у них корова ядрёная да три сына впридачу. Двое, как водится, шибко умных, а третий – я. С детства смышлёным дураком считался. В крайнем случае, кое-как в полу-умные можно записать, но никак не иначе. Да я на это ни на братьев моих, ни на родителей не обижался.
Так вот. Сидит старик как-то на завалинке, моршанскую махорку покуривает. А старуха рядышком семечки лузгает. И столько вокруг шелухи! – ни в сказке сказать, ни пером описать. Долго так старик рядышком со старухой просиживал, цельный час, наверное! Потом стряхнул старухину шелуху с колен сверху покрытую махорчатым пеплом, харкнул в сторону и говорит своей половине:
– Уйди, старуха, я в печали!
Та икнула в ответ, да что со старика брать-то? Старпер он и есть ворчун, а ворчун он и есть… А мы все трое в это время почивали, и некому было примирить наших родителей.
– Ну, чё ты, старый? Чё ты? – незлобливо проворчала старуха. – Иль молочка крынку приташшыть? Корову-то я исчо не доила. Аль тебе вечёрнего из погребу надо-ть?
– Ох, хорошо бы. Только чё ты, старая, в слове из трёх букв сложенном четыре ошибки делаешь?
– Ой…
– Вот те «ой», – снова сплюнул старик. – А в русской грамматике нету слова такого, что б «исчо», а все бают «ещё» и все довольны. Да ты не поймёшь, поди, ведь ты же баба. Ну, чё расселась? Иди Бурёнку доить.
Старуха вздохнула, мотнула неубранной головой. Но, ничего не сказав, отправилась навестить корову, поскольку не была в хлеву со вчерашнего дня, да и не надо было. После вечерней дойки она послала младшого почистить бока коровы скребком и засыпать ей комбикорму. Младшой – он послушненький. Ведь косая сажень в плечах и лбом надысь косяк в двери проломил, а что скажешь – то и делает. Старшим у него поучиться бы, да куды там, шибко умными себя считают.
Размышляя, старуха добрела с подойником до хлева, но, переступив порог, охнула, отступила назад к стенке и опустилась на пол, мелко крестясь и причитая. Перед ней в нескольких шагах на полу растянулась Бурёнка, уставившись выпуклым мёртвым глазом на хлевиный потолок, а заодно и на хозяйку.
– Господи помилуй! – поскуливала старуха.
Подойник вывалился у неё из рук, дребезгливо хрястнул об пол и покатился в сторону околевшей Бурёнки.
– Ой, чё делать? Чё делать? – причитала старуха. – Ведь старый-то обухом башку перешибёт за корову. Он разбираться не станет, что не я кормилицу нашу погубила. Он сначала башку проломит! Могет, потом и разберётся, а мне, горемычной, с больной башкой помирать. Нет уж!
И словно вожжа под хвост попала, да не Бурёнке, а самой старухе. Сняла она вожжу эту, у двери на крюке висящую, закинула за стропильную перекладину, махом петлю сварганила на конце. Поставила подойник донышком вверх, забралась на него, всунула в петлю голову, отпихнула ненужный уже подойник, а пока удавка затягивалась вокруг шеи, успела всё-таки подумать:
– Охти-мне! А то ли я делаю?!.
Но ответить старухе уже никто не мог, да и некому было. Судьба такой.
Меж тем старик, на завалинке вдоволь накурившись махорочки, решил поглядеть-таки на задоившуюся старуху. Он прошёл за ограду в хлев, по пути машинально пнув попавшегося под прохоря кота. Тот отлетел с душераздирающим воплем, а старик, в очередной раз смачно сплюнув, переступил порог коровьего анбара, да так и застыл на месте.
Скоро сказка сказывается, ещё скорее дело делается. Стоял старик, стоял, смотрел старик, смотрел на околевшую корову да на достопамятную супругу, наложившую невесть зачем на себя руки.
– Чё ж ты, старая, без топора рубишь? – протянул он к ней ладонью вверх правую руку. – Ты ж меня, стерва, сама под топор загоняешь! – кулак левой руки с недюжинной для старика силой ударил правую ладонь. – Чё ж ты, мракобесина, удумала? Кто ж теперь Бурёнку доить… тьфу ты, – сплюнул он в сторону сдохшей коровы. – Кто ж теперича самогоном потчевать будет?.. А портянки стирать?.. Да я тебе, дура старая, да я тебе, – голос дедка сорвался, превратился в собачье поскуливание. – Да я тебе…
Он долго, может быть, выбирал бы старухе мстительное наказание, если бы не заметил на крюке, вбитом в сруб, второй моток вожжей.
– Уж ты погодь, красавица! Будет тебе, ужо будет!
Дедок схватил вожжи, размотал, ловко перекинул через ту же перекладину, всунул голову в смастерённую им же петлю. Но с первого разу вздёрнуться не удалось: ноги до земли доставали свободно, а руки непроизвольно рвали душивший старика ремень. Тогда дед, заметив в стороне откатившийся подойник, сделал всё так же, как его старая. Сам он ни о чём уже не задумывался. Хотелось только догнать бабку, хоть на том свете, но накостылять ей по шее за такой вот центрофугический пердомонокль.
Долго ли коротко ли, а отправился старый догонять корову и супружницу свою на пути в Царствие Небесное. Всё бы хорошо, да совсем забыли старики, что оставили они сыновей здесь сиротствовать. Вскоре старший проснулся, и ну бабку кликать, мать свою. Мол, неча старой бездельничать, пора сынку опохмеловку в постелю ташшыть. Да где там! Ни старухи, ни стаканчика. Встал мальчонка, да видать не с той ноги, потому как сразу отправился в хлев. А ступив туда!.. В общем, на пол не рухнул, только башкой встряхнул, яко пёс лохматый. Вырос он уже давно, испугался, однако. Выскочил из хлева анбарного, и помчался, куды глаза глядят. А далеко они у него после вчерашнего вовсе не глядели. Добежал парень до озера, рухнул на колени, напился прямо возле берега, вытер губы тыльной стороной ладони и мозгами пораскинул:
– Выходит, корова сдохла! Околела, то есть. Выходит, старики гикнулись! Представились, значит. Что жа выходит? Выходит в Колыму за убивство загонют! Никто ж не поверит, что сами они, гадюки! Никто, как пить дать!.. Пить… а опохмелиться всё-жаки не грех.
И только парень вдругорядь к воде наклонился, а ему оттудова рука с бутылкой, даже с четвертью в кулаке зажатой. Парень поначалу отворотил морду-то, так ведь кто ж от выпивки дармовой отказывается? Да ещё с устатку. Схватил он пузырь, откупорил и приложился к горлышку, да так, что вылакал всё, не отрываясь. Последнюю капельку на ладонь из бутылки вытряхнул, и затылок себе смочил. Глядь! Возле него, будто Алёнушка на камушке русалка пристроилась. Настоящая!
– Ты, – говорит, – старшенький в семье-то будешь?
– Ага.
– А чё летел к озеру, как скипидаром смазанный? Случилось чё?
– Дык, – икнул парень. – Дык, старики-то вздёрнулись! И корова.
– Тоже повесилась?
– Не-а. Сама окочурилась. Чё делать, ума не дам?!
– Ай, не надо мне ума твоего, – хохочет русалка. – Лучше я тебя богатеем сделаю. Хошь аль нет?
– На халяву? – выпучил парень глаза. – Ну, ты, блин, даёшь! Я, типа, утопнуть думал, а ты, блин, в богатые зовёшь. Какой же дурак от денежков-то откажется?
– Будешь, будешь богатым. Ноне же будешь. Только…
– Чё? – насторожился парень.
– Да так, пустяки, – бледные щёки русалки покрылись рыбным румянцем, хвостом она взбаламутила за ночь набежавший ил и, чего никак нельзя было ожидать от водяной нечисти, смущённо потупилась.
– Говори, говори, – приосанился перед бабьей смущённостью кавалер. – Я, блин, типа, всё могу. Тем более опохмелившись.
– Вот это меня и тревожит, – пролепетала русалка и поддала хвостом пустую бутылку. – Я… я мужика хочу поиметь, – снова потупила она глазки. – Я ведь тоже всё могу, и богатым ты будешь. Только…
Русалка не успела досказать, а парень уже на четвереньках полз к ней. Встать на ноги у него не хватило сил: то ли после вчерашнего, то ли после опохмелочной четверти. Во всяком случае, стащить русалку с камня у него ума и дюжести в аккурат хватило, но и только. Как ни билась возле него баба-рыба, как ни изгалялась – всё бестолку. От этакой «игры любовной» русалка пришла в бешенство. Над ней, над озёрной королевой какой-то алканафт издевается! Она отпустила незадачливому любовничку мокрую хвостовую оплеуху пониже спины, отчего тот взлетел на воздух и с шумом рухнул в озеро, пустив по глади множество брызг и пузырей. Разбежались волны, утихомирилось озеро, но утоп старшенький, не смог вынырнуть.
А тут пришло время проснуться второму, среднему братцу.
Этот, не стал, как братуха дожидаться заутреннего лафитника, а сам спустился с сеновала, и поначалу заглянул в погреб, где в тёплом углу дремала холодная бутыль с мутными самогонными внутренностями. Плеснув пойла в ковшик и благополучно его осушив, средненький тоже попёрся в хлев. Вероятно, дорога у всех одна была, то есть не дорога, а судьба такой. Когда парень узрел вздёрнувшихся родителей и почившую Бурёнку, откушанный самогон тут же запросился назад. Метнулся парень из анбарной хлевятины, и тоже к озеру. Подбежал к воде, также бухнулся на коленки, лакнул водички свежей, что б нутрянной огонь погасить. И вдруг голос нежный девичий услышал:
– Не переживай ты так, молодец. Не было ещё в жизни ничего такого, чего исправить нельзя.
Оглянулся паренёк, а совсем недалеко возле камушка русалка на берегу развалилась. Волосы зелёные, очи чёрные, даже губы кармином испачканы. Красота, да и только. Хвостом русалка в прибрежной волне играет, а рукой кокетливо причёску поправляет и многообещающе так улыбается. У парня даже челюсть отвалилась.
– Ты не удивляйся, молодец, – очередной раз улыбнулась белорыбица. – Нравишься ты мне. Очень нравишься. Хочешь, я сказочным богатством тебя одарю? Хочешь, стариков твоих вместе с животиной оживлю? В сказке всё возможно. Пожелай только.
– Ага, – кивнул парень.
– Ага, ага, – передразнила русалка. – А сам-то ты чево подарить можешь?
– А смог бы я чевой-то подарить, – браво ответил парень, – только ты ведь не настоящая баба. А я бы хоть сейчас. За мной не заржавеет. Я, вишь, молодец хоть куда! Тебе все наши деревенские скажут! А вот ты-то, с какой стороны икру мечешь?
– Не волнуйся, милый, не пужайся, – усмехнулась рыб-девица. – Всё у меня, как у настоящей бабы. Тебя вот только не хватает. А постараешься если, так я тебе малька рожу.
Подобрался средненький к девице-водянице и ну её за холодную грудь лапать. Возился он с ней, возился, да как-то ничего у него не получилось. Осерчала русалка, подкинула парня в воздух. Тот сразу же занырнул вслед за брательником. Утоп то есть.
И всё бы ништяк, да что-то тут не так, который «таком» размочить надо. А кому энто, как не младшенькому, полу-умному? Вот он уже по дороге бредёт, к озеру подбирается, да по пути гениальные слёзы проливает – успел уже узреть вздёрнувшихся стариков да сдохшую от несчастья Бурёнку. Вышел на то же место, а там русалка на камушке давно дожидается. Осерчала она шибко на двух женихов несостоявшихся, и на этого тоже с подозрением поглядывает. Двое-де опростоволосились, куды ж этому-то. Тем более, младшенький он, недопёсок.
– Скурвились мужики. Любую бабу на водяру променяют, – ворчала она. – И этот, поди, такой же…
А младшенький горем обиженный, печалью придавленный, согнал бабу-рыбу с камушка, сам уселся, чтобы всласть наплакаться. Ан, нет. Русалка-таки тут как тут. И этому тоже богатство предлагает даже в доларях, за один только разик любовью-лаской одарить. А младшой вовсе не глядит на неё, знай себе, слёзы проливает. Но всё-жаки дошло до его гениального сознания, чево русалке надобно, и за какую грандиозную цену. Это ж надо-ть такому подвернуться!
– Да чево уж там, – промолвил молодец, вытирая горючие слёзы. – Ты ведь баба хоть куда. Тебе, типа, одного-то раза маловато будет, поди?
– А ты и пару раз сумеешь? – ахнула белорыбица.
– Нет проблем. И пару, и, типа, тройку разов. Вот только…
– Что? – навострила уши русалка.
– А если десять? – смутился парень.
– Ой, милай-ай! – захлопала в ладоши красавица. – Ой, да неужто мне с тобой так повезло? Да я тебя за это не только богатством одарю. Я тебе…
– Одаришь, одаришь, – перебил её парень. – А ну как меня на двадцать или двадцать пять разов предостаточно будет? Понравлюсь я тебе такой приставучий?
– Молодец ты мой ненаглядный! – закатила глаза русалка, предчувствуя шикарную поживу. – Да я тебе такой жёнушкой ненаглядной стану, что точно не насмотришься.
– И старуха, и вдова, и замужняя едва любят это дело, так чего ж скрывать, – хмыкнул парень. – Только вот боюсь я, когда ты шибко много разов получишь, то не околеешь ли, как наша коровушка? Видь не кажная животина настояшшего мужика выдюжить могет.
И по его щеке снова пролилась скупая мужская слеза, поминальная…
Рассказанное молодцем произвело впечатление на обоих слушателей. И, если Глинский пытался выдержать какие ни есть приличия, то Никита просто прыснул в кулак. Надо же, какая жёнушка парню попалась! Вернее, он в её лапы угодил.
– Чё ты ржёшь? – обиделся парень. – Моя Камбала – всех баб за пояс заткёт. Только вот ей даже-ть меня мало. Только здеся она чуть утихомирилась. А так – беда мне с ней…
– Да уж, действительно, неприятность, – согласился Леонид Фёдорович.
– Ой, беда! – обхватил голову руками Никита. – Дети-то есть?
– Тоже беда, – вздохнул парень. – У человеко-рыб и размножение какое-то амфибическое, нам так сразу не понять.
– Самое главное, вам хорошо вдвоём, вот и живите здесь, – рассудительно заметил Глинский. – На нашем пляже действительно поспокойнее.
– Вообще-то, не загостился ли я тут? – пробормотал Никита. – Дома, может быть, Лялька давно из своих Палестин прикатила…
В ресторанчике, возле бара, клубились отмороженные девицы – все как на подбор в купальниках, сшитых по случаю из шнурков к солдатским ботинкам. Так что на девицах оставшаяся одежда выглядела довольно условно.
Видать, не одна русалка нашла здесь приют. Бармен за стойкой тоже успел отморозиться и отпускал девицам комплименты, а те очень даже стыдливо хихикали. Заметив, что Никита не на шутку заинтересовался пляжным женским полом, Леонид Фёдорович тут же включился в назревшую тему:
– Вот многие нынче не устают повторять, что сейчас-де век скоростей, прогресса, стресса и секса. Может быть, особенно если понаблюдать за пляжной публикой, – он кивнул на хихикающих девиц. – Правильно, женские ножки многих сводили с ума, но я с остервенением ретрограда скажу, что тайна женщины отнюдь не в оголении доступных и не очень частей тела, а в их умелом сокрытии. Это же вековая прописная истина! Тем не менее, мужики западают как мухи на мёд, на стройные ножки, притуманенный взгляд и прочее, прочее, прочее.
Бывает ли лекарство от любви? Может быть. Мир создан в добром отношении друг к другу, в любви, в Божественной любви. И она должна быть! Вы скажете, что есть ещё и, например, платоническая, физическая, лирическая. Всё так. Но, если этот мир создан в Божественной любви, что же его обитатели постоянно уничтожают друг друга? За примером далеко ходить не надо: вы сами видели моих сожжённых друзей на Лубянском дворе. Так почему это? Зачем? Тоже из любви, только к убийству?
– Вы же сами сказали, господин Глинский, или вас лучше товарищем величать? – саркастически ухмыльнулся Никита. – Так вот, вы сами сказали только, что люпус люпуса всё-таки съест. Поэтому люди и едят друг друга. Причём, каждый едок место себе находит исключительно здесь. Уютно подобному среди подобных. Все тебя понимают, и воевать ни с кем не приходится. Или я что-то не так понял?
– Почему, всё так. Но зачем же…
– Кажется, я задержался здесь немного дольше, чем следует. Пойду, поищу своё место. Спасибо за прекрасное угощение, но мне пора, – Никита церемонно откланялся. – Да и на дороге что-то невообразимое творится…
Действительно, дорога до поры пустая, безлюдная и ровная, ведущая в грядущее НИКУДА, вдруг наполнилась какими-то людьми, повозками, шумом, гвалтом. Видимо, именно по этой дороге самый человечный человек Владимир Ильич Ульянов-Бланк по прозвищу Ленин грозился когда-то провести паломниками всю Россию.
– А с чего вы взяли, что надо куда-то идти, спешить? – удивился Леонид Фёдорович. – Ведь многим здесь хорошо. Может быть, и вам тут понравится. Ну, хотя бы, как следует познакомиться со здешними жителями, никому не помешает.
– Вы правы, возможно, я ошибаюсь, – кивнул Никита, – но не зря ведь мне была явлена эта дорога, допустим, как часть моего Пути? Я и так уже довольно долго с вами беседую.
– Возможно, в ваших умозаключениях есть доля истины, – пожевал губами Леонид Фёдорович, – но в таком случае позвольте составить вам компанию? Я, знаете ли, тоже привык путешествовать, а оставаться здесь, одному… Вот этому молодцу, – Глинский кивнул на соседа по столику, – в самый раз здесь с любимой женой. А мне, признаться, одиноко…
Никита пожал плечами. Вот прицепился философ доморощенный. Что ж, пусть идёт. Если Ангел захотел соглядатая приставить, так пусть уж лучше этот – от него нетрудно будет избавиться. Где-то там, в конце странной дороги, должна быть развязочка, до которой обязательно надо дойти. Что ему опять лукавый приготовил? В пакостности падших ангелов Никита теперь не сомневался, сомневался в другом: сможет ли он свой талант, даденный Господом, от бесовщины избавить?
С дороги послышался хрип, сопение, родной русский матерок. Взглянув туда, Никита увидел плетущегося по дороге мужика с бочонком на плечах. Через каждые десять-пятнадцать метров мужик останавливался, зубами вытаскивал из бочонка деревянную затычку, прикладывался, громко глотая содержимое, играя острым кадыком. Потом сплёвывал, поминал мать, всех святых и тащился дальше.
А за ним какой-то франт с балалайкой: всё приплясывает, коленца выкаблучивает. Спотыкнулся, шлёпнулся прямо в лужу. Встает, отряхивается. Но лужа-то откуда? Никита точно помнит, дорога была ровнёхонькой, что каток в Лужниках. Впрочем, чему удивляться, – опять проделки Ангела.
За плясуном – чернец пристроился. Идёт, чётки перебирает, молится. Только дорога – заметил Никита – снова выровнялась. Ни ложбинки, ни ухаба. Нет, брат, что-то здесь не так. Не может чернец Ангелу милым-дорогим быть! Хотя, каждый идёт путём только ему одному предназначенным.
Потом любопытная повозка обозначилась. Лошади – пара гнедых рысаков, но запряжённых отнюдь не зарёю, а в фургон цирковой. Лошади настоящие, а фургон – будто на ватмане нарисованный. Плюс плакат ещё по верху: «Театр – это то, чего нет, и не может быть в жизни. А то, что есть или может случиться, не театр, не очарование, не волшебство». Так, а зачем, собственно, весь этот театр на дороге?
Тут одна девочка привлекла внимание Никиты. Она шла не с артистами, а держалась чуть позади толпы, шествующей за нарисованным фургоном, неся в руках сказочно разодетую в дорогие парчовые одежды большую куклу. Причём, девочка была одета в заячью шубку и такой же капор! Что-то до боли знакомое пронеслось в памяти. Ведь бабушка Никиты получила от атамана Каледина точно такую же куклу, чтобы не плакала, когда её отца, бывшего полковника государевой ставки повели на расстрел. Весьма примечательная встреча! Ей так и пришлось остаться в этом мире маленькой девочкой, держащей в руках куклу атамана. Только сейчас она не топтала ногами неповинную игрушку. И всё же губы девочки постоянно шевелились, роняя сакраментальную фразу:
– Папочка! Папочка! Я тоже стану настоящим большевиком! Я обязательно отомщу за тебя!
Может быть, именно эта фраза стала жизненным девизом бабушки? Хотя нет, она была до самой смерти очень добрым, чувствительным и понимающим человеком. Недаром, знаменитый поэт-песенник Евгений Долматовский и Яша Шведов, написавший знаменитого «Орлёнка», песню революционной молодёжи, были её лучшими друзьями. Но она в инфернальном мире осталась всё такой же маленькой девочкой, шедшей в нарисованное будущее за нарисованным фургоном.
Причём, юный образ бабушки был ещё не последним. Шествие замыкал мужчина, одетый, как в подрясник, в мешковину. Так себе человечек, не низок, не высок, не широк, не гладок. По улице рядом пройдёт – глаз не задержится. Одно смущало: идет, будто всю тяжесть земли на плечи взвалил, и ноги чуть не по колено в дороге увязают. Только ноша у человека действительно тяжела: огромный дубовый крест. На таком когда-то Христос был распят. Может быть, за нарисованным театром действительно шагал Симон Киринеянин, которого стражники заставили нести крест Иисуса до Голгофы? Почему же святой тоже шёл к нарисованному будущему?
– Гляди-ка, какое чудо-юдо объявилось, – подал голос Леонид Фёдорович, так же с интересом наблюдающий дорогу-трансформер. – Кого только здесь ни увидишь!
Вдруг над всем этим лубочно-плясовым действом послышался Голос. Он возник ниоткуда, но раздавался одновременно отовсюду:
– Не трогайте его! Это писатель. Он может стать каждым из вас и всеми сразу, но никто из вас не может превратиться в него. Пусть он несёт выбранный им крест. У каждого свой Путь!
Ага, вот к чему весь сыр-бор – понял Никита – ответ на сомнения по поводу таланта и по поводу выбранного пути. Что ж, тут есть над чем поразмыслить. Вслух же он сказал:
– Ну что, товарищ Глинский, не передумали ещё за мной тащиться? А то ведь здесь удобней: еда, девочки опять же и сказочник свой отыскался. Оставайтесь, ведь такие сказки, про коров-русалок, многого стоят!
Тот с тоской оглянулся на так полюбившийся ему французский ресторанчик, но упрямо тряхнул головой.
– Я к вашим услугам, мой друг!
«Мой друг» кивнул и, как ни в чём не бывало, направился к дороге, по которой тащились артисты театра-шапито. Глинский старался не отставать.
Глава 12
Выйдя снова на дорогу, Никита отметил, что от недавнего спектакля не осталось ни следа, ни человека. Это снова была ровная дорога, ведущая… а куда? В светлое нерушимое человеческое завтра, в котором будет жить уже нынешнее поколение? Странно, именно так говорил совсем недавно Никита Сергеевич Хрущёв, стуча каблуком правительственной туфли по трибуне и обещая зажиревшим америкосам «показать кузькину мать!». Интересно, Хрущёв лично был знаком с этой матерью или грозился просто для вящей острастки?
Ну, коль решение уже принято – быть или не быть, идти или не идти – то отступать поздно, да и некуда, если честно сказать. Один выход, правда, уже был предложен Ангелом, то есть Леонидом Фёдоровичем: зависнуть на всю оставшуюся жизнь на «Глинском» пляже со всеми удобствами. Признаться мужу русалки там очень нравилось, как понравится большинству населения планеты. Зачем куда-то идти, зачем добиваться Высшего суда? А есть ли он и нужен ли этот Страшный суд, ведь каждый из нас имеет за плечами столько гадостных поступков и нерешённых вопросов, то к чему их ворошить? Кто старое помянет…
Спутник Никиты всё ещё со щемящей тоской и скупой мужской слезой, не замедлившей прокатиться по гладко выбритой щеке, оглядывался на покинутое милое гнёздышко. Никита усмехнулся про себя: ничего, дружок, любишь кататься – люби и саночки возить. Чем-то твоё профессорское и профаническое философствование напоминает Подсолнуха, только у того, пожалуй, мыслишки позаковыристей.
Впереди дорога вздулась пузырём. Никита с Глинским остановились: что же будет? Вдруг пузырь лопнул и оттуда вынырнул Подсолнух. Собственной персоной! Лёгок на помине!
Леонид Фёдорович от неожиданности сел прямо на дорогу, а Никита отметил, что отзывчивый Подсолнух откликается даже на простую мысль о нём, не говоря уже о том, если позовут.
– Вот тебя-то, любезный, нам только и не хватало! – искренне разозлился Никита. – Сейчас никто выслушивать соображения о твоём подвиге во имя человечества не собирается.
– Мне показалось…, – начал оправдываться тот. – Право слово, мне действительно показалось…
– Тебе показалось, – Никита был непреклонен. – Нам в данный секунд шибко некогда, так что расти туда, откуда пришёл. А поговорить ещё успеем. Я думаю, нам предоставят такую возможность. И я, и наш любезный Леонид Фёдорович внимательно выслушаем твои сентенции. Вполне возможно, чем-то сможем внимательно выслушать и всенепременнейше помочь. Только приставать к путникам посреди дороги – это крайняя невоспитанность! Пойми, для того, чтобы тебя выслушали, надо быть, прежде всего, предупредительным и ненавязчивым.
Немного успокоенный этим обещанием, Подсолнух спрятался в полимерное покрытие, и дорога снова стала гладкой, безлюдной, только чуть-чуть светлее, чем раньше. Может быть, Подсолнух перестал источать в неё словесный яд, а, скорее всего, потому, что здесь недавно прошёл один из святых, и сам Всевышний заступился за него, но идти было легко.
Маячившая вдалеке дымка или лучше сказать марево рассеялось то ли от прогретого к этому часу воздуха, то ли от налетевшего с моря кисейного бриза. Перед путниками возник – сначала качаясь в воздухе, будто мираж, потом всё более выкристаллизовываясь – город, белыми довольно высокими домами своими похожий на современный.
– Послушайте, Леонид Фёдорович, – обратился Никита к понуро шагающему рядом спутнику. – Видите, на побережье раскинулся какой-то город? Думаю, очень даже большой. Почему же никто из пляжных насельников туда не стремился? Вы даже не вспоминали, что рядом с вами есть какой-то порт. А, судя по дворцам, здесь проживают довольно именитые люди. Может, я ошибаюсь, но от такого общества вряд ли кто откажется.
– Ошибаетесь, мой друг, – отдуваясь, посипел Леонид Фёдорович. – Город этот – уже не наше царство. Господин Ангел может изменить не только существующие миры, но и временное пространство. Приглядитесь внимательней. Видели ли вы когда-нибудь такой город? Я сам его вижу впервые. И не думаю, что он возник бы, оставайся мы с вами до сих пор на пляже.
Действительно, город, на первый взгляд большой и шумный, а при внимательном знакомстве выглядел как миражный призрак. Кварталы его террасками скатывались к самому морю, то зовущему шумом волн, то исчезающими в розовом мареве. Среди сплошного городского массива стали проглядывать цветные пятна садов, похожие на узорчатые персидские ковры, но тоже окутанные какой-то дымкой.
Далеко в море, через прояснившийся воздух стал виден остров. На острове, соединённым мощной дамбой с берегом, стояла ступенчатая довольно высокая башня. Маяк – догадался Никита. Только странный он какой-то: ступенчатых маяков не бывает. Тем не менее, это был именно маяк, потому что чем ближе подходили наши путники к городу, тем яснее просматривалась наверху площадка, крышу которой держали колонны.
В тонком мире, где даже мысли воплощаются в цвет и звук, жизнь от бренных теней зависит, замыкаясь в порочный круг. В тёмном мире, где блики света не бывают со знаком плюс, превращаются в прах планеты, в вещество, в бесполезный груз. В светлом мире, где правит правда, где не купишь любви за грош, жизнь и смерть мишуру парадов превращает в простую ложь. Странник ищет судьбу по свету, но всегда остается сир. Друг, подай ему, как монету, самый дивный и добрый мир.Именно такой мир искал когда-то Никита. Может быть, Ангел угадал, где его гость сможет отыскать свою правду и, как шубу с барского плеча, решил подарить это неизведанное царство?
– … Александрийский маяк послужил мусульманам прообразом минарета, – услышал Никита. Глинский уже давно что-то увлечённо рассказывал, не слишком заботясь, слушают ли его.
– Что-что? – переспросил Никита. – Извините, я немного отвлёкся и прослушал историю этого сооружения.
– Это знаменитый Александрийский маяк, – повторил Леонид Фёдорович, – следовательно, город, в который мы сейчас войдём, – Александрия. Не знаю уж, каких веков, но, судя по всему, маяк сейчас в рабочем состоянии. Значит, Ангел решил показать нам Древний Египет. Всё-таки в удивительном мире мы находимся: нельзя даже предугадать где очутишься в следующее мгновение, в каком месте и в каком времени. Это восхитительно, этим надо пользоваться, как вы не понимаете!
– В каком времени…, – повторил Никита. – А в каком мы времени?
– Я уже говорил, что, судя по боевым галерам, в порту уж никак не в современной Александрии. Да и город ещё цел. Отсюда виден дворец владык Египта Птолемеев. Вон он, поглядите! Целёхонек!
– А его что, разрушили?
– Да, ещё в 640 году нашей эры! – возмущённо воскликнул Леонид Фёдорович. – Если вы этого не знаете или не помните – грош вам цена! О таком беспрецедентном событии должен знать каждый уважающий себя человек. А это… о, Господи!
– Что? Что ещё?
– Смотрите! Вон там! – схватил Никиту за руку его собеседник и протянул правую руку в направлении города.
– Да что смотреть-то? – досадливо спросил Никита. – Можно толком объяснить мне, не уважающему себя недотёпе?
– Видите, – Леонид Фёдорович снова указал пальцем на город, видимый как на ладони. – По изначальному плану архитектора Динокрита Родосского священная Александрия должна разделяться на четыре равные части двумя главными улицами. Вон они – крест-накрест. Далее: вон там, я уже показывал, дворец владык. А с той стороны – видите большое длинное здание – это, несомненно, Мусейон!
– Мусейон? – переспросил Никита. – Любопытно. Только знать бы, что это такое? Вернее, что в несравненной Александрии носит такое интригующее название?
Леонид Фёдорович как-то странно посмотрел на Никиту. Тому сразу стало ясно, что в глазах профессора он потерял много, если на всё. Наверное, Глинский никогда раньше не общался с ехидствующими недоучками и посматривал теперь на Никиту, как на достойного одной только человеческой жалости и сочувствия.
– Разве можно не знать таких вещей! – воскликнул он. – Мусейон – это же первый в мире университет! В нём учились до четырёх тысяч студентов, там же жили около тысячи преподавателей – несомненно, величайших мудрецов своего времени! При всём том, в Мусейоне была знаменитая Александрийская библиотека!
– И что же с ней приключилось? – для Никиты это было пока не очень интересно, но знания никому ещё не мешали.
– Как что? – воскликнул Глинский. – Я же говорю, последний пожар библиотеки был в 640 году. Тогда же был разрушен и Мусейон. Археологи до сих пор не могут найти места, где он стоял из-за разросшегося города. А он – вот он!
Сзади послышался конский топот.
И лектор, и слушатель едва успели отскочить в сторону: мимо них проскакал лёгкий кавалерийский отряд. Хотя верховые пронеслись очень быстро, Никита успел разглядеть, что всадники одеты были в халаты, поверх которых нацеплены кожаные панцири, а на головах арабские бурнусы, перевязанные ремешками из верблюжьей кожи. Все вооружены кривыми саблями, а у седла приторочен круглый щит.
– В каком, говорите, году сожгли Мусейон? – наморщил лоб Никита.
– В 640-ом, а что?
– Сдаётся мне, наш друг пригласил нас на пожар.
– Какой друг?
– Там увидим, – кивнул Никита на городские ворота, до которых осталось меньше полукилометра. – Дай-то Бог, чтобы я ошибся. Только сдаётся мне, Ангел любит такие штуки устраивать. И если я не ошибся, то скоро будем присутствовать при событии, потревожившим весь существующий свет.
Глинский пытался ещё что-то выспросить, но Никита отмахнулся, прибавил шагу, и его спутнику пришлось вприпрыжку бежать сзади. Отставать он не хотел, а совсем нехилая упитанность не давала вместе с брюшком прибавить прыти. Поэтому профессору пришлось замолчать, Никита слышал только его усердное и обиженное пыхтение за спиной.
Почти у самых ворот наши путники обогнали группу бедняков в набедренных повязках. Тощие, измождённые, они шли цепочкой по окраине дороги, мерно ступая, будто стадо коров на скотобойню. Нищие шагали в тот же город – стражи у ворот почему-то не было, и все паломники беспрепятственно проникали в столицу Египта.
Людей стало значительно больше: во всё сгущающейся толпе, двигающейся к центру города, где находился Мусейон, были даже китайцы, негры и совсем чёрные нубийцы. Стайка женщин в покрывалах свободного покроя, но с открытыми лицами, тоже шла вместе с сотолпниками. Только женщинам почему-то хотелось всех непременно обогнать, как будто там, куда все шли, ожидалась бесплатная раздача подарков, или на худой конец весёлое представление уличных музыкантов.
Одна из них довольно внятно принялась возмущаться:
– Боги, какая толпа! Ах, когда бы и как протесниться Нам через весь этот ужас! Без счёта и впрямь муравейник! Много ты сделал добра, Птолемей, с той поры, как родитель Твой меж богами живёт. Никакой негодяй не пугает Путника мирного нынче по скверной привычке египтян. Прежде ж недобрые шутки обманщики здесь учиняли; Все на один были лад – негодяи, нахалы, прохвосты…[42]Женщина говорила, ни к кому не обращаясь. Просто громко и внятно произносила слова в нехитром гекзаметре, а окружающие слушали. Кто-то даже согласно кивал головой, что женщине и надо было. Может быть, так выглядела в толпе свобода слова, но всем нравилось.
Леонид Фёдорович с Никитой без особых проблем вписались в толчею паломников. Вероятно потому, что толпа, несмотря на преобладание восточных народностей, была довольно пёстрой, поэтому безликой. Со всеми вместе они добрались до центра города.
Мусейон вблизи выглядел ещё более величественно: греческие резные колонны по фронтону поддерживали треугольный портик, на котором ясно были видны барельефы, изображающие, как водится в Египте, сцены из жизни фараонов. Перед зданием посреди огромного цветника был устроен настоящий фонтан. Но проход на площадь перед Первым всемирным университетом заграждали копьеносцы.
– Поразительно! – профессор просто разинул рот, глядя на эти, может быть, первые в мире барельефы. – Описания Мусейона не сохранилось ни в каких манускриптах, ни на глиняных дощечках! Если мы попали сюда по хотению Ангела, то с его стороны это действительно щедрый подарок!
– Может быть и подарок, может быть и щедрый, – откликнулся Никита. – Но моё предположение, кажется, действительно было правильным. Считайте, что это просто предчувствие.
Здание Мусейона было уникальным и красивым, но Никиту же заинтересовало нечто другое. Он наблюдал за всадниками, выстроившимися на площади перед Мусейоном в правильное каре. Внутри, на породистом тонконогом коне, восседал командир воинов – какой-нибудь шах или эмир.
Об этом можно было судить по великолепному изумруду, красовавшемуся на красно-коричневой чалме, венчающей его голову. В тон чалме был и халат: кроваво-красный с золотым узором по краям. Из-за такого же, как чалма, красно-коричневого пояса торчала ручка кинжала. На ней также поблескивали драгоценные камни.
Из здания Мусейона рабы вытаскивали папирусные и пергаментные свитки, глиняные и деревянные дощечки, сваливали всё в центре каре, недалеко от эмира. Куча манускриптов росла. Рабы бросали исписанные свитки в кучу, как скопившийся мусор и возвращались в университет за новой порцией библиотечного архива.
Тут же стояло с десяток пеших воинов, возле ног которых стояли большие козьи мехи шерстью наружу, испачканным жирными пятнами грязного масла. Гора папирусов становилась больше и больше. Эмир дал сигнал: пешие принялись поливать свитки из мехов тёмной и дурно пахнущей жидкостью. По воздуху пополз резкий запах. Он был очень знаком Никите ещё с тех пор, когда по путёвке Союза Писателей ездил выступать на буровых Уренгоя.
– Нефть! Что ж он гад делает? – воскликнул Никита. – Ведь свитки после нефти ничем не восстановишь!
– О чём вы? – не понял профессор.
– Об арабах, захвативших город! Эти неруси собираются спалить все существующие записи земных мудрецов, астрологов, волхвов и алхимиков! – Никита смахнул тыльной стороной ладони пот со лба. – Уникальные знания, собранные здесь, нельзя предавать уничтожению! В библиотечных свитках хранится мудрость познания материи, и, кто знает, возможно, хранится истинная тайна существования человека.
Теперь Никите стало всё ясно. Пожар! Последний пожар Александрийской библиотеки, погубивший тысячи ценнейших текстов древности! Так вот как всё было. А, может, попробовать уговорить этого мусульманского ублюдка, не устраивать вандализма?
Ведь Восток всегда считался колыбелью культуры. Неужели мусульманин захочет позором покрыть своё имя на все времена?
Не совсем соображая, что такая выходка может стоить головы, Никита поднырнул под брюхом у ближайшего коня и кинулся к эмиру. Сзади почти сразу же раздался глухой перестук копыт и свист занесённого для удара клинка. Но эмир на своём аргамаке одним прыжком оказался рядом и семихвостой камчой выбил саблю из руки воина. Потом уже развернулся к Никите.
– Что ты хочешь, чужеземец?
– Эмир, ваше сиятельство, или как там у вас обращаются к правителям, неужели вы хотите предать огню мудрость, накопленную веками? Ведь это преступление перед людьми! Перед учёными всего мира! Эти знания могут принести вечную славу трону самого султана!
Эмир усмехнулся в густую черную бороду:
– Люди говорят, что века бегут, а века отвечают, что люди проходят. Где те знания, которым необходимо уцелеть, и есть ли они?
– Но ведь это же мудрость всей земли! – возразил Никита. – Такой архив нельзя уничтожать!
Эмир достал из-за пазухи спрятанный на груди томик в переплёте из кожи, выкрашенной зелёным цветом. Чёрные глаза всадника благоговейно сверкнули, и он поднял на вытянутой руке эту заветную книгу.
– Смотри, чужеземец! – воскликнул всадник. – Смотри и запоминай. Ты видишь Коран – священную книгу книг. В нём собрана вся мудрость существующего мира. Все заповеди, посланные Аллахом, все законы человеческой жизни, следуя которым каждый найдёт дорогу к Богу. И, если в этих сваленных в кучу папирусах тоже есть эта мудрость, то они не нужны, потому что нельзя искажать мудрость Корана. Если же в них нет этой мудрости, то они тем более не нужны, потому что нельзя хранить человеческую глупость, ибо глупость развращает правоверных.
С этими словами он дал знак воинам, и те принялись факелами поджигать сваленные в кучу папирусы. Никита не знал что делать, как остановить эту казнь человеческого разума, чистоты человеческих душ? Может быть, именно этого поступка ожидал от него и Ангел, и разрешивший Никите путешествовать по иным измерениям, где знакомство с сожжёнными романами, рукописями и папирусами должно было изменить жизнь писателя.
– Послушай, эмир! – снова начал Никита, пытаясь найти хоть какую-то лазейку в непроходимой правде правоверного. – Подумай хотя бы о потомках. Не о наших, о своих! Они будут вечно молиться за тебя, поминать с благодарностью имя твоё, если оставишь для них эти манускрипты! Весь восток станет колыбелью разума, мудрости и любви. Подумай о том, что уничтожить что-нибудь всегда легко, но воскресить уничтоженное не сможешь никак. И Коран не поможет, и золото всего мира окажется бессильным.
– Ты так считаешь? – эмир наклонился в седле, и лицо его оказалось совсем рядом с ухом Никиты. – А что ты можешь дать мне за то, что я не сожгу этот мусор? – прошептал всадник. – Можешь ли ты пожертвовать собой? Отдай мне добровольно свою жизнь, и я прикажу потушить огонь. Неужели твоя грешная жизнь дороже всей мудрости мира? Подумай, всё в твоих руках. Но только добровольное согласие будет на пользу и мудрости, и знаниям, и всем последующим поколениям. Ну, договорились?
– Прямо так, сразу?.. – Никита стоял, опустив голову, не решаясь взглянуть эмиру в глаза.
Сотни скабрёзных мыслей мигом пронеслись в его голове, оставляя за собой огненный след, будто сверкающая вселенская комета ворвалась в сознание, и пересекает его под разными углами, сжигая своим длинным хвостом все умные «за» и «против». Решать надо было сейчас, немедленно! Впрочем, Никита почти готов был согласиться, не задумываясь, ведь жертва явно незначительна перед спасением целого мира. Только в голосе всадника прозвучала плохо скрываемая ядовитая насмешка. Это настораживало.
– Видишь, – эмир распрямился в седле, и в голосе его прозвучала уже не насмешка, а нескрываемое презрение к иноверцу. – Все вы, человечки, одинаковы. Своя шкура дороже. Кто же из вас соберётся весь существующий мир спасать, встать «за други своя» в последней битве, если в самом малом ни ты, ни любой другой не готов собой пожертвовать?
Впрочем, что-то плоховато твоя древняя мудрость разгорается. Эй, нукеры, плесните ещё огненной воды, не жалейте! Вот в восемнадцатом веке книжки шикарно горят – там, в краску много масла добавляют, а здесь… тьфу… Ох, растащило же меня как-то сказать, мол, рукописи не горят. Горят, ещё как горят! И писатели всегда в этом помогают, и помогать будут!
Никита ошарашено взглянул на эмира. И вдруг понял всё.
– Ангел!
– Да, это я, Никита-ста, – ухмыльнулся всадник в чёрную бороду. – Но ты мне уже не интересен. Ты снова оказался перед дилеммой: чем пожертвовать, собой или своим народом? Скромное молчание – это откровенный ответ твой. Но я вместо тебя из двух предложенных выходов выберу третий. Это твой приятель – хорошая добыча для охотника за грешниками! Я таких никуда и никогда не отпускаю!
Эмир сделал знак воинам. Нукеры кинулись в толпу и принялись охаживать плетьми стоящих перед цепью воинов пришедших в столицу паломников. Люди уворачивались, падали под ударами, но напирающие сзади не давали никуда убежать. Наконец нукеры вытащили из толпы зевак профессора Глинского, мигом скрутили ему руки шёлковой удавкой и бросили наземь перед конём эмира. Костёр к тому времени разгорелся с такой силой, что отдельные языки пламени отрывались, улетали в небо. Никита растерянно смотрел на эту картину, но ничего не мог сделать.
Может быть, у него где-то в сознанье проскочила мыслишка встать на защиту одного из «Странников ночи», созданного Даниилом Андреевым, только это был уже не герой. Сотворённый писателем, товарищ Глинский жил уже своей самостоятельной жизнью, с которой его творец навряд ли согласился бы, но профессор и не собирался спрашивать разрешения у создателя. Ведь хватило же у него соображения удрать от костра во дворе Лубянки, а затем пристраститься к пляжному Эдему, предложенному Ангелом?
– Поднимись, – повысил голос эмир. – Встань, если тебе твой господин приказывает.
Когда Леонид Фёдорович поднялся, Ангел схватил его одной рукой за шиворот, перекинул через седло; другой стеганул камчой коня что есть силы. Скакун вздрогнул, встал на дыбы и сделал невероятный прыжок в самый центр кострища. Миг – и ни Ангела, ни коня, ни перекинутого через седло Леонида Фёдоровича не стало.
Никита растерялся, потому как снова остался один. Что его ещё ожидает? Какие новые приключения решить показать инфернальный знакомый? Действительно, работа у него такая. Ведь человек всегда только сам решает: кому поклоняться, а писатель чем делиться и чем забивать голову окружающим, проявившим внимание к его тривиальным человеческим мыслям.
Эпилог
Никита очнулся у себя дома на полу перед столом компьютера. Открыв глаза, он увидел на потолке живую настоящую муху и так обрадовался, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Потому что в той части Зазеркалья, где царствовал Ангел, ни одной живой мухи не было. Да и комната вроде бы не изменилась. Даже запах жилища был всё тот же. Значит, путешествие по сгоревшим романам наконец-то закончилось?!
Ещё не веря глазам, Никита встал. Огляделся. Квартира была такой же знакомой и родной, будто вовсе не уходил никуда. Включив компьютер, Никита сразу влез в почтовый ящик. Кто ж знает, сколько его не было? Может, жена подаст признаки жизни и поделится своими успехами? И действительно в «ящике» лежало письмо от Ляльки.
«Милый мой, дорогой, единственный, я так соскучилась, ты даже не представляешь!».
– Почему же, очень даже представляю, – пробормотал Никита, – если бы соскучилась, давно была бы дома.
Лялька будто подслушивала, потому что следующая строка начиналась:
«Не ворчи, милый Кит, тебе не идёт. Я, правда, соскучилась. Хочу, что б ты знал: я всегда с тобой, даже если меня нет. Я чувствую тебя и знаю, что тебе тоже плохо без меня, поэтому проблемы возникают с твоей работой: хромает стилистика, логистика, философия и прочее.
Просто я ревновала тебя к госпоже Литературе, то есть к музе Эрато, ведь она покровительница писателей. Впрочем, ты тоже меня к археологии ревнуешь. Но поверь, родной мой, сейчас у нас всё наладится. Я это знаю, я это чувствую. Ты очень скоро начнёшь писать (если уже не начал) так, что займёшь довольно заметное место в русской литературе.
По себе знаю, что вещи оживают, если живёшь ими, отдаёшь им часть себя, и веришь в себя. Всё это есть, поверь. Я помогу тебе, как ты помог мне. Можешь за меня порадоваться, вернее, за нас: я очень много сделала здесь, по-моему, даже совершила открытие.
В этом есть и твоя заслуга – ты понимал меня, принимал такую, как есть, помогал познать тот путь, где я обязана сделать своё дело, предназначенное каждому человеку. Так что благодаря тебе, той силе и помощи, что пришла от тебя, я что-то смогла добиться в жизни.
Только не рухни от ожидающей тебя новости, Кит, поскольку тебе тоже придётся стать профессиональным археологом: я везу потрясающий сюжет о пожаре Александрийской библиотеки. Это будет бестселлер века. Все, родной, целую. Скоро буду дома. Твоя Л».
– Да уж, – покачал головой Никита. – Лялька как всегда верна себе: слов много, а по делу только небольшая фраза, которая не говорит ни о чём.
Никита посмотрел на окно. Банка с ангелом стояла чёрная, местами даже с антрацитовым отливом. Казалось, новость не совсем понравилась Ангелу, вернее, совсем не понравилась. Потому что проваливалась в никуда выдвинутая им дилемма пожертвования собой за мудрость манускриптов. Стоит ли соглашаться на предложения Ангела или не мешало бы хоть немного подумать?
– Что, господин хороший, не всегда и не всё в жизни по-твоему выходит? – громко произнёс Никита, обращаясь к антрацитовой банке. – Божию искру не можешь ты подарить человеку, не в твоей это власти, и раздаёшь трансгенизацию? Хочешь хоть чуть-чуть походить на Бога?! Но если получится у тебя задушить человечество, то всё равно ты останешься такой же как и сейчас обезьяной…
Никита подошёл к подоконнику, брезгливо двумя пальцами взял сверкающую чернотой банку, и через несколько мгновений на лестничной площадке с удовольствием слушал как она со вселенским грохотом низвергается вниз по мусоропроводу. Тут же ему представилась картина низвержения Денницы с небес во всём своём великолепии. Неудивительно, что вслед за этим, как цепная реакция, на лестничной площадке прозвучал голос:
«Он человекоубийца бе искони, и во истине не стоит, яко несть истины в нем: егда глаголет лжу, от своих глаголет: яко ложь есть и отец лжи».[43]
Слова, произнесённые на старославянском, прозвучали так явственно, что Никита непроизвольно оглянулся. На площадке, конечно же, никого не было. Но произнесённая фраза повисла в сознанье, как цитата из вердикта присяжных заседателей. Сразу появилось желание заглянуть в Евангелие и внимательнее ознакомиться с высказываниями апостолов на животрепещущую тему, но данной книги в доме не было. Поэтому Никита быстренько собрался и отправился в православную церковь, чтобы купить Евангелие, или, как это звучит в переводе, Благую Весть.
Может подсознательно, а может и не совсем, ноги вынесли Никиту к храму Христа Спасителя, но уже новому, возведённому на месте старого новыми русскими, новыми деревенскими и церковными новоделами.
Никита слыхал, что закладку первого кирпича нового храма делал московский мэр Лужков, размахивая мастерком и обрядившись в масонский передник «вольных каменщиков». Насколько верны эти слухи, Никита сопоставить не мог, но издалека было видно, что крест на центральном куполе окружают двенадцать Моген-Давидов.[44]
Более того, вошедши в обитель, Никита обнаружил такие же шестиконечные звёзды в мозаике пола. К тому же, дополнением к интерьеру и убранству храма служили музей, небольшой конференц-зал и ресторан для важных посетителей.
– Да уж, – крякнул Никита. – Похоже, здесь не хватает только казино и дискотеки. Интересно, чей же это храм: православный, иудейский или масонский?
Ну, за нынешним патриархом Кириллом не заржавеет организовать в храме бар, казино и дискотеку. Недаром он, будучи ещё митрополитом Смоленским, умудрился в девяностых годах прошлого столетия устроить настоящий табачный бум, ибо получил от правительства новой России лицензию на ввоз в государство импортных сигарет и пива. И эти товары без каких-либо запретов продавались малолетнему населению столицы. Если даже нынешний патриарх когда-то способствовал деградации будущего населения Москвы, то стоит ли ждать каких-то поблажек от правительства?
Последние мысли пронеслись в голове Никиты кипучим пламенем онгона. Однако вслух он пробормотал совсем другое:
– Интересно, есть ли тут хоть какая-то книжная лавка?
– Вы что-то ищете, молодой человек? – услышал Никита старческий голос.
И, обернувшись, увидел стоявшего рядом тщедушного старичка в подряснике. Живые пронзительные глаза старичка показались Никите до боли знакомыми, однако он готов был поклясться всеми святыми, что никогда и нигде раньше этого дедка не встречал.
– Где тут у вас можно Евангелие купить?
– Евангелие? – удивился старичок. – Неужто не читали ещё? Ну, это мы враз исправим, да так, что перетакивать не понадобится. Пожалуйте сюда, вон та дверь и есть книжная лавка. Каждый человек должен открыть хотя бы одну дверь.
От этих слов Никиту снова окатила волна онгона, сопровождаемая к тому же почти забытым прогорклым запахом Тувалкаина. Но старичок в подряснике сделал вид, что не заметил состояние посетителя и повёл его в книжную лавку, которая оказалась неподалеку.
– Как же так? – соображал Никита. – Неужели Ангел вылез из банки?!
И тут же голос из-подпространства или из-подсознания ответил:
– А как ты хотел?! Избавиться от Ангела, выбросив его в кучу мусора? Так не бывает. С другой стороны, старичок этот – служитель Храма Господня! Абы кто в подрясниках не ходит! Причём тут Ангел.
– Ну и что? – Никита попытался возразить собственному внутреннему голосу. – Ну и что? Ангел когда-то прикинулся офеней-книгоношей и пытался всучить мне сгоревший роман. Этот священник так же, как и Ангел, хочет продать мне Евангелие!
– Постыдись! – укорял внутренний голос. – Священные книги – это не товар второразрядного офени. К тому же, мало ли кто на Руси одинаковыми поговорками пользуется?! С такой болезненной подозрительностью ты скоро станешь причислять к врагам рода человеческого даже бедных чёрных кошек, хотя они не виноваты в своей черноте. Родились такими!
– Действительно, что это я? – одёрнул себя Никита. – Мало ли кто такой поговоркой пользуется?! Эдак вообще к русскому языку можно всенепременнейше охладеть, потому что именно им пользовался архимудрейший Ульянов-Бланк, произнося с броневичка душеспасительные апрельские тезисы, перемежая их лозунгами с призывом к светлому неизгладимому будущему.
Продавщица в книжной лавке казалась благообразной и набожной. Более того, посоветовала купить Евангелие в кожаной обложке.
– Это такое издание, – пояснила женщина, – где текст напечатан на церковно-славянском и сразу же даётся перевод на современный русский язык.
– Откуда вы знаете, что мне именно такое издание необходимо?
– Догадалась, – снова улыбнулась продавщица. – Пускай эта книга принесёт вам пищу для ума и радость для души.
Никита успокоился и покинул церковь в хорошем расположении духа. Что ни говори, а Евангелие или Благая Весть никого ещё не подводила.
Пройдя Гоголевским бульваром, он непроизвольно свернул на Арбат. Может быть просто пройтись, а, может быть успокоить свою больную душу. Но спокойствие длилось недолго.
Возле театра Вахтангова Никиту ожидала неожиданная встреча с непохожим ни на кого продавцом. Тот был одет в русскую косоворотку с расстёгнутым воротом, подпоясанную затейливым плетёным поясом с кистями, но дело вовсе не в нём, а в товаре. Возле него на булыжной мостовой был расстелен женский цветастый платок, на котором стояли в несколько рядов стеклянные банки!
Увидев это, Никита застыл поодаль, не зная – верить ли своим глазам. Арбатский продавец с банками не вызывал ни у кого удивления ни своим поведением, ни товаром. К тому же, этот тоже продавал банки, но пустые, даже без крышек! А узнать у продавца про товар и прицениться, просто не было сил. Однако из каждого даже самого безвыходного положения можно найти выход. Никита, чтобы получить хоть какую-то подсказку, открыл наугад Евангелие и прочитал первое, что попалось на глаза:
– Рече ему Иисус: аминь, глаголю тебе, яко в сию нощь, прежде даже алектор не возглаголет, трикраты отвержешься Мене.[45]
А рядом на этой же странице был перевод:
– Иисус сказал ему: истинно говорю тебе, что в эту ночь, прежде, нежели пропоёт петух, трижды отречёшься от Меня.
Но ничего толком не поняв, Никита всё же решил узнать у торговца: что за товар – стеклянные банки?
– Банки, как банки, – пожал плечами продавец и мельком посмотрел покупателю в глаза. – Мало ли какие кому нужны? А у меня много и разного калибра. Так что выбирай, если нравится.
Торговец отвернулся от покупателя, будто тот его уже не интересовал и принялся обсуждать арбатские проблемы с художником, расположившимся рядом, который продавал глиняные кружки, горшки, крынки и даже свистульки.
Но Никита не мог сдвинуться с места, поскольку, хоть и мельком, но увидел глаза продавца. Вторых таких быть ни у кого не могло, поскольку одинаковых глаз никогда не бывает, как и одинаковых отпечатков пальцев.
– Ангел?! – полувопросительно прохрипел Никита. – Зачем же ты пустые банки продаёшь?
– Что? – обернулся к нему торговец. – Ангел? Нет, дружок, ангелом мне никогда не стать. Слишком много грехов за мной. А пустые банки в хозяйстве всегда нужны. Если бы не так, то никто не покупал бы. Выбери что-нибудь для себя, глядишь и пригодится.
Торговец снова отвернулся к соседу-горшене и продолжил прерванный разговор. Никита ещё немного постоял с озадаченным видом, но, видя, что больше никто на него внимания не обращает, повернулся и зашагал к станции метро. Продавец в косоворотке покосился вослед Никите и усмехнулся:
– Да, позагорбил басве слемзить: рыхло закурещат ворыханы.[46]
Примечания
1
Екклесиаст (др. евр.) – Проповедник, Пророк.
(обратно)2
Неусыпная Псалтирь – читается безостановочно. Чтецы должны быть рукоположены.
(обратно)3
Хаер (сленг) – причёска волос на голове.
(обратно)4
Мои соболезнования (фр.).
(обратно)5
Еврейский праздник Пурим – нынешнее 8-е марта, советско-еврейский международный день.
(обратно)6
Каледин А. М. застрелился 29 января (11 февраля) 1918 г.
(обратно)7
Прихоти фортуны (фр.).
(обратно)8
papan (фр.) – отец
(обратно)9
Огонь онгона – адское пламя, зачастую сжигающее человека изнутри.
(обратно)10
Яга (ст. рус.) – овечий тулуп мехом наружу.
(обратно)11
Да, не успел тебе сообщить, утром запоют петухи (феня коробейников)
(обратно)12
Заимствовано из неоднократных выступлений Жириновского.
(обратно)13
Стихи Жириновского выдержали неоднократную публикацию.
(обратно)14
Веста (греч.) – огонь.
(обратно)15
Плазмида – агробактерия, несущая в себе искусственный или чужеродный ген.
(обратно)16
Алектор (др. евр.) – петух.
(обратно)17
Первое соб. послание ап. Иоанна (1:9)
(обратно)18
Апостол Павел
(обратно)19
Вы меня понимаете? (англ.)
(обратно)20
Какой ужас! Но почему? (англ.).
(обратно)21
Архантроп – (хомо-сапиенс неандерталиенс – пращур архантропа), обладает инстинктом алчного хищника, самой упрощённой речью и врождённым стремлением к убийству ради убийства.
(обратно)22
ergo (лат.) – следовательно.
(обратно)23
boerhave elemenis de chimie, trad, 2vol, leide, 1752 t.1, p. 144.
(обратно)24
Человек человеку волк (лат.)
(обратно)25
Евангелие от Матфея(8:5-12)
(обратно)26
Ты что, с ума сошёл? (фр.)
(обратно)27
О, это целая история! (фр.)
(обратно)28
Между нами говоря (фр.)
(обратно)29
Символично, не правда ли (фр.)
(обратно)30
М. Ю. Лермонтов, «Демон».
(обратно)31
g. bachelard. l`home du poeme et teoreme Colloque du centenaire. Dijon. 1986.
(обратно)32
Кадуцей – жезл патриция в Римской империи.
(обратно)33
r. p.castel, l’optique des couleurs. Paris. 1740, p. 34.
(обратно)34
novalis, loc. cit.p.237
(обратно)35
Роберт Росс, Лондон. 1898 г.
(обратно)36
Екклесиаст (др. евр.) – проповедник, пророк.
(обратно)37
Гёте. «Фауст».
(обратно)38
Н. В.Гоголь. «Духовная проза».
(обратно)39
Н. В. Гоголь, «Духовная проза».
(обратно)40
Апофеоз стряпни (фр.)
(обратно)41
Отварная рыба Дорида под соусом Марешаль, рагу из языков карпа, дикие голуби на вертеле, дичь по-испански на луке, гусиный паштет в горшочках, хвосты ягнёнка под лунным светом, артишоки по-гречески, шарлотка а-ля Люси Ватэ, свежайшая рыба, мороженое в золотых лучах (фр.)
(обратно)42
Феокрит, Сиракузянки. «Идиллии и эпиграммы», Москва, 1958 с.70
(обратно)43
Он был человекоубийца от начал и не устоял в истине. Когда говорит он ложь, говорит своё; ибо он лжец и отец лжи. *(Ин. 8:44)
(обратно)44
Моген-Давид (евр.) – шестиконечная звезда царя Соломона, ставшая символом иудаизма.
(обратно)45
Евангелие, (Мф., 26:34)
(обратно)46
Да, не успел тебе сообщить, утром запоют петухи (феня коробейников)
(обратно)










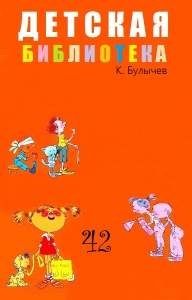


Комментарии к книге «Адамантовый Ирмос, или Хроники онгона», Александр Васильевич Холин
Всего 0 комментариев