1
Позднее Пауэрс часто думал об Уайтби и о странных углублениях, которые биолог выдолбил, казалось, без цели, на дне оставленного плавательного бассейна. На дюйм глубиной и длиной в двадцать футов они складывались в какой-то сложный иероглиф, похожий на китайский. Этот труд занял у нее все лето и, забыв о других занятиях, измученный, он долбил их неустанно долгими послеобеденными часами в пустыне. Пауэрс временами приглядывался к нему, останавливаясь на минуту в окне неврологического блока. Он смотрел, как Уайтби отмерял длину углублений и как выносил в маленьком брезентовом ведерке трудолюбиво отколупываемые кусочки цемента. После самоубийства Уайтби никто не интересовался углублениями, лишь Пауэрс часто брал у администратора ключи, открывал ворота, ведущие к бесполезному уже бассейну и долго приглядывался к лабиринту выбитых в цементе борозд, до половины наполненных водой, вытекавшей из испортившихся труб.
Поначалу однако Пауэрс был занят окончанием своей работы в клинике и планированием своего последнего уже ухода. После первых нервных, панических недель он смирился с ситуацией, с тем самым полным спокойствия фатализмом, с каким до тех пор соглашался на судьбу на судьбу своих пациентов. К счастью, редукция физических и умственных градиентов происходила в нем одновременно, летаргия и бессилие притупляли беспокойство, а слабеющий метаболизм принуждал его к концентрации всего внимания на создании осмысленных конструкций мысли. Все увеличивающиеся изо дня в день периоды сна без сновидений становились даже целебными. Он заметил, что ожидал периоды сна, не пробуя будить себя раньше, чем это было необходимо.
Поначалу он постоянно держал на ночном столике будильник и старался наполнять все более короткие часы бодрствования как можно большим числом занятий. Он привел в порядок в библиотеку, каждый день ездил в лабораторию Уайтби, чтобы просматривать свежие партии рентгеновских пленок, выделял себе каждый час и минуту как последние капли воды. К счастью, Андерсен объяснил ему бессмысленность такого поведения.
Отказавшись от работы в клинике, Пауэрс не забросил еженедельных визитов и медицинских обследований в кабинете Андерсена. Это, правда, было уже обычной формальностью, полностью лишенной смысла. Во время последнего визита Андерсен сделал ему анализ крови; обратил внимание на все большую набряклость мышц лица, слабеющие глазные рефлексы и небритые щеки Пауэрса.
Улыбаясь через ожог, Андерсен некоторое время раздумывал, что ему сказать.
Когда-то он еще пробовал утешать пациентов поинтеллигентней. Но с Пауэрсом, который был способным нейрохирургом и человеком, находящимся в гуще жизни, создававшим оригинальные вещи, разговор не был легким. Мысленно обращался к нему: «Мне чертовски жаль, Роберт, но что же тебе говорить?.. Даже Солнце остывает со дня на день»… Он смотрел, как Пауэрс беспокойно постукивал пальцами по эмалированной поверхности стола, поглядывая временами на схемы скелета, развешанные по стенам кабинета. Помимо запущенного вида – неделю он уже носил одну и ту же не глаженную рубашку и грязные теннисные туфли – Пауэрс производил впечатление человека, владеющего собой и уверенного в себе, как конрадовский охотник, без остатка примирившегося со своим несчастьем.
– Над чем работаешь, Роберт? – спросил он. – Все еще ездишь в лабораторию Уайтби?
– Если только могу. Переправа на ту сторону по дну озера занимает у меня около получаса, а будильник не всегда будит меня вовремя. Может, следовало бы обосноваться там постоянно, – сказал Пауэрс.
Андерсен сморщил лоб.
– Есть ли смысл? Насколько мне известно, работа Уайтби имела абстрактный характер… – он прервался, осознав, что такой комментарий содержит критику неудавшихся исследований самого Пауэрса, но Пауэрс, казалось, этого не замечал, приглядываясь в молчании очертаниям теки на потолке. – Во всяком случае, не лучше бы остаться среди дел и вещей знакомых, перечитать еще раз Тойнби и Шпенглера?
Пауэрс коротко рассмеялся.
– Это было бы последнее дело, на которое мне пришла бы охота. Я хотел бы забыть Тойнби и Шпенглера, а не напоминать их себе. А по правде говоря, я хотел бы забыть все, но мне наверняка не хватит времени. Как много можно забыть за три месяца?
– Вероятно все, если только хочется. И не пробуй соревноваться со временем, – сказал Андерсен.
Пауэрс кивнул головой, повторяя себе мысленно эти слова. Действительно, он пробовал соревноваться со временем. Прощаясь с Андерсоном, он внезапно решил выкинуть будильник и раз и навсегда освободиться от магии времени.
Чтобы помнить об этом, он снял с руки часы и не глядя передвинул стрелки, после чего сунул часы в карман. По дороге к паркингу он осознавал свободу, которую получил после этого простого действия. Он исследует теперь обходы и боковые улочки коридора времени. Три месяца могут быть вечностью.
Он заметил свой автомобиль и пошел к нему, закрывая глаза рукой от лучей Солнца, проходящими через параболическую выпуклость крыши над лекционным залом. Он как раз собирался сесть в машину, когда заметил, что на покрытом пылью окне кто-то выписал 96 688 365 498 721.
Поглядев через плечо, он узнал припаркованного рядом паккарда. Он наклонился, чтобы заглянуть внутрь него, и увидел молодого, светловолосого мужчину с высоким лбом, который приглядывался к нему через темные солнечные очки. Около него за рулем сидела кудрявая девушка, которую он часто видел вблизи факультета психологии. У девушки были интеллигентные, слегка раскосые глаза и Пауэрс припомнил, что молодые врачи называли ее «девушкой с Марса».
– Калдрен, ты все еще следишь за мной? – спросил он.
Калдрен кивнул.
– Почти все время, доктор, – он остро посмотрел на Пауэрса. – Вы не показываетесь последнее время. Андерсон сказал мне, что вы отказались от работы и двери в вашем кабинете постоянно замкнуты.
Пауэрс пожал плечами.
– Я пришел к выводу, что мне нужен отдых. Есть много дел, которые стоит обдумывать вторично.
Калдрен усмехнулся полупрезрительно.
– Мне очень жаль, доктор. Но не впадайте в депрессию из-за временных затруднений. – В этом момент он заметил, что девушка с интересом приглядывается к Пауэрсу. – Кома очарована вами, – добавил он. – Я дал ей прочитать ваши статьи из «American Journal of Psychiatry» и она старательно их проштудировала.
Девушка мило улыбнулась Пауэрсу, уничтожая на момент враждебность между мужчинами. Когда Пауэрс кивнул головой все направлении, она перегнулась через Калдрена и сказала:
Как раз сегодня я закончила автобиографию Ногухи, великого японского медика, который открыл спирохету. В каком-то смысле вы его мне припоминаете – столько вас в каждом из пациентов, которыми вы занимались.
Пауэрс усмехнулся, потом взглянул на Калдрена. Мгновение они уныло смотрели в глаза друг другу, через минуту правая щека Калдрена дернулась нервным тиком. Калдрен с усилием овладел мускулами лица, злой, что Пауэрс был некоторое время свидетелем его замешательства.
– Как пошли у тебя сегодня дела в клинике? – спросил Пауэрс. – Все еще у тебя бывают… головные боли?
Калдрен сильно сжал губы, видимо, раздраженный вопросом.
– Кто в конце концов занимается мной, вы или Андерсон? Есть у вас право задавать мне сейчас такие вопросы?
Пауэрс пожал плечами.
– Нет, скорей всего, – сказал он. Внезапно он почувствовал себя страшно усталым, жара вызывала у него чуть ли не головокружение, ему хотелось расстаться с ними как можно скорей. Он открыл дверцу машины, но осознал, что Калдрен может поехать за ним, чтобы столкнуть его где-нибудь по дороге в кювет, или заблокировать своей машиной дорогу так, чтобы он вынужден был ехать за Калдреном в жаре полудня. Калдрен был способен на любое безумство.
– Ну, я должен уже идти, есть еще кое-какие дела, – сказал он, а потом добавил более резко. – Позвони мне, если Андерсон когда-нибудь не сможет тебя принять.
Он махнул им на прощание рукой и отошел. В стекле окна он еще видел, как Калдрен внимательно приглядывается к нему.
Он вошел в здание отдела неврологии и несколько минут стоял чуть ли не счастливый в холодном вестибюле. Наклонам головы поздоровался с медицинскими сестрами и вооруженными револьвером стражником у столика привратника. По каким-то странным причинам, которые он никогда не мог себе уяснить, спальные залы блока всегда были полны зевак, большей частью чудаков и сумасшедших, которые пришли сюда, чтобы предложить больнице свои магические антинаркотические средства. Часть из них были и нормальными людьми. Многие прибыли с тысячемильных расстояний, гонимые, видимо, странным инстинктом, как мигрирующие животные, чтобы осмотреть место, в котором навеки упокоится их род.
Пауэрс прошел коридором, который вел к конторе администрации, взял ключ и через теннисный корт дошел до бассейна на противоположной стороне двора.
Бассейном уже несколько месяцев не пользовались и замок в дверях действовал только благодаря стараниям Пауэрса. Войдя внутрь, он замкнул за собой дверь и, медленно двигаясь по некрашенным доскам, дошел до самого конца – наиболее глубокой части бассейна. Он остановился на трамплине и минуту смотрел на идеограмму Уайтби. Идеограмма была кое-где прикрыл мокрыми листьями и клочками бумаги, но образ все еще можно было разобрать. Он занимал чуть ли не все дно бассейна и на первый взгляд припоминал как бы огромный солнечный диск с четырьмя радиальными плечами – примитивную юнговскую мандалу.
Раздумывая, что склонило Уайтби выбить незадолго до смерти эту странную фигуру, Пауэрс внезапно заметил что-то движущееся по середине диска. Черное, покрытое скорлупой животное длиной в фут возилось в грязи, с трудом приподнимаясь на задних лапах. Скорлупа животного была изрисована и в какой-то степени напоминала панцирь армадила. Дойдя до края диска, животное на секунду задержалось, заколебалось, после чего отступило обратно к центру, не желая, или не имея возможности перейти узкий ровик.
Пауэрс осмотрелся вокруг, потом вошел в одну из кабин, окружающий бассейн, и сорвал с заржавевших держателей небольшой шкафчик для одежды.
Держа его, он спускался по хромированной лестнице на дно бассейна и приблизился к явно обеспокоенному животному. Оно пробовало бежать, но он схватил его и впихнул в шкафчик.
Животное было тяжелым, весило по крайней мере не меньше кирпича. Пауэрс дотронулся до массивного оливкового панциря, из которого высовывалась треугольная голова, похожая на голову ужа. Он смотрел на ороговевшие конечности, которые видом напомнили ему вдруг шипы птеродактиля. Минуту он приглядывался морганиям глаз с тремя веками, смотревших на него со дня ящика.
– Ожидаешь сильной жары, – сказал он тихо.
– Этот свинцовый зонтик, который на себе носишь, должен тебя охлаждать…
Он закрыл дверку, вылез из бассейна, прошел через контору администратора и направился к своему автомобилю.
«…Калдрен все еще за что-то на меня обижен (написал Пауэрс в своем дневнике). По каким-то причинам не хочет согласиться со своей изоляцией, постоянно вырабатывает новые ритуалы, которые должны заменить ему часы сна. Я должен быть, быть может, сказать ему о своем быстро приближающемся нулевом рубеже, но он наверняка воспринял бы это как последнее, непростительное оскорбление. Я имею в избытке то, чего он так отчаянно жаждет. Неизвестно, что могло бы случиться. К счастью, эти мои ночные кошмары в последнее время пока ослабели…
Отодвинув дневник в сторону, Пауэрс наклонился над столом и некоторое время смотрел через окно на белое дно высохшего озера, тянущееся до самого горизонта. На расстоянии трех миль, на противоположном берегу, в ясном воздухе второй половины дня вращалась чаша радиотелескопа; с его помощью Калдрен неустанно вслушивался в Космос, бродя в миллионах кубических парсеков пустоты, как кочевники, открывающие море на берегах Персидского залива.
За спиной Пауэрса мурлыкал климатизатор и холодная струя воздуха расплывалась на светло-голубых стенок комнаты, едва видных в сумерках.
Снаружи воздух был ясным и тяжелым, из зарослей позолоченных кактусов тут же под окнами клиники выливались волны жара, разливаясь по острым террасам двадцатиэтажного здания неврологии. Там, в молчащих спальнях, изолированных замкнутыми ставнями, неизлечимых спали своим бессонным сном. Было их уже в клиники больше пятисот, обитателей форпоста гигантской армии сомнамбуликов, выполняющей свой последний марш. Едва пять лет минуло с тех пор, как в первый раз распознали симптомы наркомы, но огромные правительственные больницы уже были готовы к приему тысяч. Случаи наркомы становились со дня на день все более многочисленными.
Пауэрс почувствовал себя усталым. Он глянул на руку, туда, где обычно носил часы, задавая себе вопрос, сколько еще времени до восьми, до начала его сна на этой неделе. Он засыпал сейчас всегда перед сумерками, и знал, что вскоре подойдет его последний рассвет.
Часы были в кармане и он напомнил себе, что решил его уже никогда не использовать. Так что он сидел, присматриваясь к книжным полкам, располагавшимся напротив письменного стола. На них был ряд переплетенных в зеленое публикаций Комиссии по Атомной Энергии, которые он принес сюда из библиотеки Уайтби, как и статьи, в которых Уайтби описал свою работу в Тихом океане после взрыва водородной бомбы. Многие из них Пауэрс знал чуть не наизусть, читал их сотни раз, стремясь понять последние открытия умершего биолога. Насколько легче было бы забыть Тойнби!
Черная стена где-то в фоне сознания бросила тень на его мысли и на секунду у него потемнело в глазах. Он вытянул руку за дневником, думая о девушке, которую видел в машине Калдрена (Кома, как назвал ее Калдрен; еще одна сумасшедшая шутка Калдрена) и ее замечанию о Ногухи. Аналогия касалась, вероятно, больше Уайтби, чем его. Чудовища в лаборатории были только порождениями воображения Уайтби, как к примеру, та панцирная жаба, которую он нашел утром в бассейне. Думая о Коме и о дружеской улыбке, которую она ему подарила, он записал в дневнике.
«Проснулся в 6.33 утра. Последний визит у Андерсона. Он дал мне понять, что дальнейшие визиты лишены смысла и лучше буду чувствовать себя в одиночестве. Заснуть в восемь? (Предопределенность сроков меня поражает).
Он остановился на секунду, потом добавил:
«Прощай, Эниветок!»
2
С девушкой он встретился на следующий день в лаборатории Уайтби. Он поехал туда сразу после завтрака, забрав с собой зверька, найденного в бассейне; он хотел заняться им, прежде чем тот умрет. Единственный панцирный мутант, на которого он наткнулся до этого, едва не оказался причиной его смерти. Месяц назад, когда он ехал вокруг озера на автомобиле, то ударил передним колесом в зверька, уверенный, что попросту раздавит его. Но насыщенный свинцом панцирь животного выдержал, хотя внутренности были разможжены, сила удара столкнула машину в кювет. Он взял тогда с собой панцирь, взвесил его позднее в лаборатории и обнаружил, что тот содержал около 600 граммов свинца.
Многие разновидности растений и животных начали производить тяжелые материалы, которые должны были служить вам радиационная защита. В горах, лежащих по ту сторону пляжа, двое старых золотоискателей пробовали заставить работать брошенные восемьдесят лет назад золотодобывающие машины. Они заметили, что растущие вокруг шахты кактусы покрыты желтыми пятнами. Анализ показал, что растения начали поглощать количества золота, оплачивающиеся при переработке, хотя содержание золота в залежи было ниже границы оплачиваемости. Таким образом старая шахта начала в конце концов приносить прибыль.
Проснувшись в то утро в 6.45 на десять минут позднее, чем в предыдущий день (он констатировал это, слушая по радио одну из постоянных утренних программ) – он неохотно съел завтрак, около часа запаковывал книги, после чего адресовал посылки брату.
Получасом позднее он уже был в лаборатории Уайтби. Лаборатория помещалась в геодезическом куполе стофутового диаметра, построенном рядом с квартирой, на западном берегу озера, на расстоянии около мили от летней резиденции Калдрена. Вилла не использовалась со времени самоубийства Уайтби.
Большинство экспериментальных растений и животных вымерло, прежде чем Пауэрс получил разрешение на доступ в лабораторию.
Сворачивая в подъездную аллею, Пауэрс увидел Кому, стоявшую на вершине купола. Ее стройная фигура ярко выделялась на фоне ясного утреннего неба.
Она помахала ему приветственно рукой, соскользнула по стеклянным плитам купола и соскочила на дорогу рядом с машиной.
– Добрый день, – сказала она улыбаясь. – Я пришла посмотреть ваш зоопарк.
Калдрен утверждал, что вы меня не впустите, если он будет сопровождать меня поэтому я ему сказала, что пойду одна.
И пока Пауэрс в молчании рылся в карманах, разыскивая ключи, она добавила:
– Если хотите, я выстираю вам рубашку.
Пауэрс усмехнулся, глядя на свои покрытые пылью, пропотевшие манжеты.
– Неплохая, мысль, – сказал он. Выгляжу я действительно несколько запущенно. – Он открыл двери и взял Кому за руку. Не знаю также, почему Калдрен болтает такие глупости. Он может приходить сюда, когда только захочет.
– Что у вас там, в ящике? – спросила Кома, указывая на шкафчик, который он нес.
– Наш дальний родственник, которого я только что открыл. Очень интересуя особа. Сейчас я его вам представлю.
Передвижные перегородки длили здание на четыре части. Две из них служили складом, наполненным запасными контейнерами, аппаратурой и кормам для животных. Они прошли как раз в третью, в которой размещался гигантский рентгеновский аппарат, 250-мегаперовый ДжЕМакситрон, установленный вблизи подвижного круглого стола. Везде вокруг лежали защитные бетонные блоки, похожие на большие кирпичи.
В четвертой части помещался зоопарк Пауэрса. На скамьях в раковинах были расставлены виварии, на вентиляционных крышках были наклеены графики и записи, разных очертаний и цветов. На полу виднелись электрические провода и резиновые трубы. Пока они шли вдоль контейнеров, за матовыми стеклами двигались тени живущих внутри существ. В глубине ниши, рядом со столом Пауэрса, они услышали шедший из клетки шум.
Поставив ящичек, Пауэрс взял со стола кулек орешков и подошел к клетке.
Маленький, черноволосый шимпанзе в пилотском шлеме приветствовал их, повиснув на решетке, веселым верещанием, после чего, оглядываясь через плечо, отскочил к пульту, установленному на задней стенке клетки. Он начал поспешно нажимать клавиши и клетка наполнилась мозаикой цветных огней.
– Ловкач, – сказал Пауэрс, похлопывая шимпанзе по спине. Потом он высыпал в лапу тому горсть орешков. – Чересчур умен для этого, а? – добавил он, когда шимпанзе ловким движением фокусника, демонстрирующего свое искусство, бросил орешки себе в рот, все время вереща.
Смеясь, Кола взяла несколько орешков и дала их обезьяне.
– Он великолепен. Ведет себя так, словно разговаривает с вами.
Пауэрс кивнул головой.
– Да, он действительно со мной разговаривает. Он располагает двумястами словами, но не может справиться с разделением слогов.
Из холодильника, стоявшего около стола, он вынул полбуханки нарезанного хлеба и вручил ее шимпанзе, который тот час же, словно только того и дожидался, схватил с пола тостер и поставил его на столе посредине клетки.
Пауэрс нажатием кнопки включил ток и через минуту с тостера долетел шелест нагревающейся проволоки.
– Это один из интеллигентнейших экземпляров, какие мы имеем. Уровень его интеллигенции равняется более-менее разуму пятилетнего ребенка, но в определенных отношениях шимпанзе гораздо более автономен, – сказал Пауэрс.
Из тостера выскочили два кусочка хлеба, которые шимпанзе тут же схватил, после чего, словно нехотя ударив лапой в шлем дважды, прыгнул к будке, построенной в углу клетки, где с рукой, с полной свободой свешивавшейся через окошечко, начал спокойно и не спеша есть.
– Он сам себе построил этот дом, – сказал Пауэрс, выключая ток. – Не плохо, а? – он показал одновременно на брезентовое ведро, из которого торчало несколько уже засохших стеблей пеларгонии. – Он следит притом за цветами, сам себе чистит клетку, безустанно щебечет, осыпая нас потоком шуток. В высшей степени, как видите, великолепный и забавный экземпляр.
Кома не могла удержаться от смеха.
– Но для чего этот шлем? – спросила она.
Пауэрс заколебался.
– Это для самозащиты. У него временами болит голова. Все его предшественники… – он прервался и поглядел в сторону. – Пойдемте, поговорим с другими жильцами, – сказал он.
Они в молчании прошли на другой конец зала.
– Начнем сначала, – сказал Пауэрс и снял стеклянную крышку с одного из контейнеров. Кола заглянула внутрь. В мелкой воде среди камешков и ракушек она заметила маленькое, округлое существо, облепленное словно бы сеткой щупалец.
– Морской анемон. А точнее, бывший морской анемон. Примитивное кишечнополостное, – сказал Пауэрс и показал пальцем на отвердевший хребет существа. – Он залепил отверстие и превратил канальчик во что-то, что можно бы назвать зародышем позвоночника. Позднее щупальца переродится в нервную систему, уже сейчас реагирует на цвет. Взгляните. – Он взял фиолетовый платок Комы предложил его над контейнером. Щупальца начали сокращаться и расслабляться, потом свиваться, словно хотели локализовать впечатление.
– Любопытно, что щупальца полностью не реагирует на белый цвет. В нормальных условиях щупальца реагируют на смены давления, как барабанная перепонка в человеческом ухе. И сейчас щупальца словно слышат краски. Это означает, что существо приспосабливается к существованию вне воды, к жизни в статичном мире, полном резких, контрастных цветов.
– Но что все это значит? – спросила Кома.
– Еще минуту терпения, – сказал Пауэрс.
Они прошли вдоль скамьи до группы контейнеров в форме барабанов, сделанных из антимоскитной сетки. Над первым из них висела огромная, увеличительная микрофотография чертежа, напоминавшего синоптическую карту, а над ней надпись: «Дрозофила – 15 ренг./мин.» Пауэрс постучал пальцем в маленькое окошечко барабана.
– Фруктовая мушка. Ее огромные хромосомы прекрасно подходят для исследований, – сказал он, наклонился и дотронулся пальцем до огромного улья в форме буквы «Ъ", висящего на стенке барабана. Из улья выползло несколько мух. – В нормальных условиях каждая из них живет отдельно. Здесь они создали форму общественной жизни и начали выделять что-то вроде разведенной сладковатой жидкости, напоминающей мед.
– А зачем это, – спросила Кола, касаясь пальцем чертежа.
– Схема действия ключевых генов, – сказал Пауэрс. Он провел пальцем по стрелкам, ведущим от центра до центра. Над стрелками виднелась надпись «лимфатические железы», а ниже «запирающие мышцы, темплет».
– Это немного походит на перфокарту пианолы, правда? – спросил Пауэрс.
– Или ленту компьютера. Достаточно выбить рентгеновскими лучами один из центров, и уже меняется черта, возникает что-то новое.
Кома посмотрела на второй контейнер и с отвращением стиснула губы.
Через ее плечо пауэрс увидел, что она смотрит на огромное, похожее на паука насекомое. Оно имело размеры человеческой руки, а волосатые конечности толщиной, по меньшей мере, с человеческий палец. Мозаичные глаза напоминали огромные рубины.
– Это не выглядит приятно, – сказала Кола. – А что это за веревочная лестница, которую он плетет? – Когда она поднесла палец к губам, паук двинулся, залез в глубину клетки и стал выбрасывать из себя спутанную массу нитей, которые продолговатыми петлями повисли под потолком клетки.
– Паутина, – сказал Пауэрс, – с той только разницей, что состоит она из нервной ткани. Те лестницы, которые вы видите, являются наружной нервной системой, словно бы продолженным мозгом, который паук может выкачивать из себя в зависимости от обстоятельств. Мудрое изобретение. Это намного лучше, чем наш собственный мозг.
Кома на несколько шагов отступила от клетки.
– Ужасно. Не хотела бы я иметь с ним дело.
– Он не так страшен, как выглядит. Эти огромные глаза, которые в вас всматриваются, слепы. Их чувствительность уменьшается, зрачок реагирует только на гамма-лучи. Стрелки ваших часов светящиеся. Когда вы двинули рукой перед окном, паук прореагировал. После четвертой мировой войны он действительно окажется в своей стихии.
Когда они вернулись к столу, Пауэрс включил кофеварку и подал стул Коме. Потом он открыл ящичек, вынул из него закованную в панцирь жабу и положил ее на куске бумаги на столе.
– Узнаете? Это товарищ наших детских лет, обычная жаба. Она построила себе, как видите, достаточно солидное бомбоубежище. – Он положил жабу в раковину, открыл кран и смотрел, как вода мягко стекает по панцирю. Вытер руки о рубашку и вернулся к столу.
Кома убрала подальше на глаза волосы и смотрела на него с любопытством.
– Ну скажите же мне наконец, что все это значит, – попросила она.
Пауэрс зажег сигарету.
– Это ничего не значит. Тератологи годами производят чудовищ. Вы когда-нибудь слышали о так называемой «молчащей паре»?
Кома покачала головой.
Минуту Пауэрс задумчиво смотрел на нее.
– Так называемая «молчащая пара» является одной из самых старых проблем современной генетики, не позволяющая себя разгадать тайна двух пассивных генов, которые появляются у небольшого в процентах числа живых организмов и не имеют ни одной ясно определенной функции в строение или развитии этих организмов. Много лет биологи пробовали оживить их, а скорее принудить к действию, но трудность была в том, что эти гены, даже если существуют, не дают себя легко отделить среди других, активных генов, находящихся в оплодотворенных яйцеклетках, а кроме того, нелегко подвергнуть их действию достаточно узкого пучка рентгеновских лучей так, чтобы не повредить остальной хромосомы. И все же, в результате десятилетнего труда биолог по фамилии Уайтби изобрел эффективный метод полного облучения всего организма, базирующийся на наблюдениях, которые он сделал в области радиологических повреждений на островке Эниветок.
Минуту царило молчание.
– Уайтби заметил, – продолжал дальше Пауэрс, – что повреждения, являвшиеся следствием взрыва, были большими, чем это следовало по величине энергии, по непосредственному облучению. Это было результатом того, что протеиновая структура в генах запасала энергию таким же способом, как и колеблющаяся в резонанс мембрана.
– Вы помните аналогию с мостом, распадающимся под влиянием шага полка, идущего в ногу? Уайтби пришло в голову, что если бы ему удалось определить сначала критическую резонансную частоту структуры в каком-то выбранном молчащем гене, он мог бы облучать небольшой дозой весь организм, а не только органы размножения, и действовать лишь на молчащий ген, без повреждения остальных хромосом, структуры которых реагировали бы резонансно на совсем другой вид частоты. – Рукой, в которой он держал сигарету, Пауэрс обвел вокруг, – Вы видите здесь плоды этой изобретенной Уайтби техники «резонансного перемещения».
Кома кивнула.
– Молчащие гены этих организмов были разбужены? – спросила она.
– Да, всех этих. То, что вы тут видит, это лишь несколько из тысяч «экземпляров, которые прошли через эту лабораторию. Результаты, можно сказать, поразительные.
Он встал и опустил противосолнечные жалюзи. Они сидели тут же под выгнутой крышей купола и все более сильное солнце становилось трудно выдерживать. В полумраке внимание Комы привлек стробоскоп, сверкающий в одном из контейнеров. Она встала и подошла туда, присматриваясь мгновение к высокому подсолнечнику с толстым ребристым стеблем и просто невероятно огромным диском. Построенная вокруг цветка так, что видно было только его верхнюю часть, виднелась труба, сложенная грязно-белых, мастерски подогнанных камешков с подписью:
«Мел: 60000000 лет.»
Рядом на скамье были установлены три меньших трубы с этикетками: «Песчаник девонский: 290000000 лет», "Асфальт: 20 лет», "Полихлорвинил: 6 месяцев».
– Вы видите эти влажные белые диски на лепестках? – спросил Пауэрс, подходя к Коме. – В какой-то степени они регулируют метаболизм растения. Оно буквально видит время. Чем старше окружение, тем медленнее метаболизм. В контакте с трубой из асфальта его годовой цикл развития длится неделю, в контакте с полихлорвинилом – два часа.
– Видит время, – повторила за ним Кома. Она взглянула на Пауэрса, в задумчивости прикусывая нижнюю губу. – Это невероятно. Неужели это создания будущего?
– Не знаю, – сказал Пауэрс. Но если и так, то их Ашр будет чудовищно сюрреалистичен.
3
Он вернулся к столу, вынул две чашки из ящика, налил в них кофе и выключил кофеварку.
– Некоторые утверждают, что организм, имеющие молчащую пару генов, – предвестники какого-то всеобщего продвижения кривой эволюции, что молчащие гены – это что-то вроде кода, послания, которое мы, низшие организмы, носим в себе для использования высшими, которые должны появляться после нас. Быть может, мы открыли этот код слишком рано, – сказал Пауэрс.
– Что вы под этим понимаете?
– Потому что, делая выводы из смерти Уайтби, опыты, проделанные тут, в лаборатории, не окончились удачей. Каждый буквально каждый из облучаемых им организмов вошел в фазу полностью некоординированного развития, создавая высокоспециализированные органы чувств, назначения которых мы не можем даже отгадать. Последствия этого развития катастрофические – анемон буквально разлетится на кусочки, дрозофилы пожрут друг друга и так далее. Осуществится ли будущее, заключенное в этих растениях и животных, когда-нибудь, или это лишь наша экстраполяция – кто может сказать? Иногда мне кажется, что эти вновь созданные органы чувств лишь пародия на планированную реализацию.
Экземпляры, которые вы тут видите, пока еще в ранней фазе второго цикла развития. С течением времени их вид будет все более странным и невообразимым.
Кома наклонила голову.
– Так, но что такое зоопарк без надзирателя? Что ждет человека?
Пауэрс пожал плечами.
– Более-менее один человек из ста тысяч имеет молчащие гены. Может, они есть, у вас, может, у меня? Никто еще не отважился поддаться полному облучению. Не упоминая уже о том, что это равносильно самоубийству, опыты, результаты которых мы видим здесь показывают, что самоубийство это было бы жестоким и ужасающим.
Он выпил кофе, чувствуя внезапно огромную усталость и скуку. Изложение результатов многолетней работы очень его утомило.
Девушка наклонилась к нему.
– Вы выглядите очень бледным, – сказала она заботливо. – Вы плохо спите?
Пауэрс принудил себя усмехаться.
– Слишком хорошо, – сказал он. – Сон не доставляет мне никаких трудностей.
– Ох, если бы это можно было сказать о Калдрене, – произнесла Кома. – Спит он слишком мало, я каждую ночь слышу, как он ходит по комнате. Но все же это лучше, чем быть неизлечимым. Как вы думаете, может, следовало применить метод облучения к пациентом, спящим в клетке? Может, это разбудило бы их, прежде чем придет конец. Может, кто-нибудь из них является носителем этих молчащих генов?
– Каждый из них имеет их, – сказал Пауэрс. – Эти два факта в сущности стоят друг с другом в тесной связи. Он был теперь уже чрезвычайно уставшим и раздумывал, не попросить ли девушку оставить его одного. Потом все же перешел на другую сторону стала и вытащил из-под него магнитофон. Включив его, он перемотал пленку и отрегулировал громкость.
– Мы часто говорили друг с другом об этом, Уайтби и я, – сказал он. – В последней фазе этих разговоров я начал их записывать. Уайтби был великим биологом, так что послушаем что он сам мог сказать по этому поводу. Именно в этом суть дела. – Он нажал на клавишу и добавил. – Я проигрывал это уже тысячу раз, так что лента немного попорчена.
Голос пожилого мужчины, резкий и раздраженный, поднимался над помехами и Кома без труда разобрала слова.
Уайтби: ради бога, Роберт, погляди на статистику ФАО. Несмотря пятипроцентного роста продукции с акра в течение последних пятнадцати лет Мировое производство пшеницы падает почти на два процента. Та же самая история повторяется ad nausean. Это касается всех остальных продуктов – корнеплодов и зерновых, молока и сои, мяса – все падает. Сравни это с целой массой параллельных явлений – от изменений в области путей миграции до удлиняющихся год от года периодов зимовки у зверей – и ты увидишь, что общая закономерность неотвратима.
Пауэрс: Естественный прирост в Европе и Южной Америке не показывает никакого снижения.
Уайтби: Конечно, нет, но об этом я уже говорил. Пройдет сто лет, пока такой крошечный упадок плодовитости окажет какое-нибудь влияние в областях, где всеобщий контроль рождаемости создает искусственный резервуар. Посмотри на стороны Дальнего Востока, а особенно на те, где смертность новорожденных держится на одном и том же уровне. Население Суматры, например, демонстрирует спад больше чем на пятнадцать процентов за последние двадцать лет. Это статистически значимый спад! Ты отдаешь себе отчет в том, что еще двадцать или тридцать лет назад последователи неомальтузианства кричали о «взрыве» в естественном приросте населения. Оказывается, что это не взрыв, а наоборот. Добавочным факторам является…
В этом месте лента, видимо была перерезана и склеена. Уайтби более уже спокойным голосом говорил:
…попросту, так как меня это интересует, скажи мне, сколько ты ночью спишь?
Пауэрс: Не знаю точно. Около восьми часов.
Уайтби: Пресловутые восемь часов. Спроси любого, сколько времени отнимает у него сон, и он автоматически ответит, что восемь часов. В действительности спит около десяти часов, как и большинство людей. Я неоднократно проверял это на себе. Я сплю около одиннадцати часов. А еще тридцать лет назад люди посвящали на сон не более восьми часов, а веком раньше шесть или семь. В своих «Жизнеописаниях» Вазари пишет, что Микеланджело спал не дольше четырех-пяти часов в сутки, рисуя весь день, и это в возрасте восьми-десяти лет, а потом еще работал по ночам анатомического стала, с лампой над головой. Сейчас мы считаем это чем-то по разительным, но современники не видели здесь ничего необычного. Как ты думаешь, каким способом древние, от Платона до Шекспира, от Аристотеля до Фомы Аквинского, могли достичь так многого за своего жизнь? Так как у них было шесть или семь часов в сутки дополнительно. Очевидно, кроме фактора времени у нас еще и более низкая степень метаболизма. Добавочный фактор, который никто не принимает во внимание.
Пауэрс: Можно предположить, что этот увеличивающийся период сна является формой компенсации, какой-то массовой попыткой к бегству от огромного стресса городской жизни в конце двадцатого века.
Уайтби: Можно бы, но это было бы ошибкой. Это попросту биохимическая проблема. Темплеты рибонукленовой кислоты, которыми начинается протеиновая цепочка в каждом живом организме, использованы, а матрицы, которые определяют свойства протоплазмы – становятся бесформенными. И ничего удивительного, если принять во внимание, что они работают беспрерывно около миллиардов лет. Самое время на капитальный ремонт. В той самой степени, в которой ограничено время жизни каждого организма, существования колонии дрожжей или любого другого вида, тем же способом ограничена во времени жизнь всего органического мира. Всегда считалось, что кривая эволюции идет в гору, хотя в действительности она давно уже достигла своей вершины и теперь снижается, ко всеобщему биологическому кольцу. Это, признаюсь, ужасающая и трудная для усвоения картина будущего, но эта картина единственная правдивая. Через пол миллиона лет наши потомки, которых сейчас мы воображаем себе как существа с огромным мозгом, путешествующие среди звезд будут скорее всего голыми дикарями с заросшими лбами, с воем бегущими по больнице, абсолютно как неолитический человек попавший в ужасающую инверсию времени.
Поверь, мне жаль их также, как себя самого. Мой полный провал, абсолютный недостаток права на какое-нибудь моральное или биологическое бытование уже сейчас заключен в каждой клетке моего тела…
Лента окончилась, кассета крутилась еще минуту прежде чем остановиться.
Пауэрс выключил магнитофон и инстинктивно потер напрягшиеся мышцы лица. Кома сидела в молчании, смотря на него и слушая стук косточек в коленке, которым забавлялся шимпанзе.
– Уайтби считал, – прервал молчание Пауэрс, – что молчащие гены являются последней отчаянной попыткой живой природы удержаться, как говориться, голову над прибывающей водой. Жизнь всех организмов зависит от количества энергии, излучаемой Солнцем. В момент, когда это количество достигнет критического пункта, мы перейдем линию смерти и ничто не сохранит нас от полной гибели. В защитных целях у живых организмов образовалась аварийная система, которая позволяет приспособиться к радиологически более горячему климату. Мягкокожие организмы создают панцири, содержащие большие количества тяжелых металлов – защитные щиты от излучения. Уайтби утверждал, что все это заранее проигранное дело, но я временами сомневаюсь… – он улыбнулся Коме и пожал плечами. – Ну, поговорим о чем-нибудь другом. Как долго вы знаете Калдрена?
– Более-менее три недели, хотя кажется, чего прошла уже тысяча лет, – сказала Кома.
– Что вы о нем думаете? В последнее время я как-то не контактировал с ним.
Кома улыбнулась.
– Я сама не слишком часто его вижу. Он постоянно приказывает мне спать.
Калдрен способный человек, но живет он только для себя. Вы играете в его жизни значительную роль. Собственно, вы являетесь единственным моим серьезным соперником.
– Я думал, он просто меня не выносит.
– Это лишь видимость. В действительности он неустанно о вас думает.
Потому постоянно следит за вами. – Она внимательно взглянула на Пауэрса. – Мне кажется, он чувствует себя в чем-то виноватым.
– Виноватым? – удивился Пауэрс. – Он чувствует себя виноватым? Я считал, что это мне нужно чувствовать вину.
– Вам? Почему? – Кома заколебалась, но потом спросила. – Кажется, вы провели на нем. Какие-то эксперименты?
– Да, – сказал Пауэрс. – Но эти эксперименты удались не полностью, как и многие другие, к которым я был причастен. Если Калдрен чувствует себя виноватым, то это, быть может, идет от того, что он чувствует себя в какой-то степени ответственным за мое фиаско.
Он поглядел на сидящую девушку и ее интеллигентные темные глаза.
– Да, думаю, следует вам об этом сказать. Вы говорили, что Калдрен целыми ночами ходит по комнате, что не может спать. В действительности эта нехватка сна является у него нормальным состоянием.
Кома кивнула головой.
– Вы… – она сделала движение рукой, словно что-то отрезая.
– Я наркотизировал его, закончил Пауэрс. – С хирургической точки зрения операция прекрасно удалась. За нее можно бы получить Нобелевскую премию. В нормальных условиях периоды сна у человека регулирует гипоталамус; поднимая уровень сознания он дает отдых волосковым структурам мозга и дренирует накопившиеся в них токсины. Однако, когда некоторые из управляющих петель оказываются разорваны, пациент не получает, как в нормальных условиях, сигнал ко сну и дренаж происходит в сознательном состоянии. Все, что он чувствует, это род временного помрачнения, который проходит чрез несколько часов. В физическом смысле Калдрен увеличивает наверняка свою жизнь на двадцать лет. Психе же добивается по каким-то неизвестным причинам сна, что в результате дает бури, временами терзающие Калдрена. Все это дело лишь большая и трагическая ошибка.
Кома нахмурила лоб.
– Я об этом догадывалась. В статьях, опубликованных в журналах нейрохирургов, вы называете своего пациента буквами К.А. Аналогия с Кафкой неоспорима.
– Возможно, скоро я выеду отсюда и наверное никогда уже не вернусь, – сказал Пауэрс. – Не могли бы вы проследить, чтобы Калдрен не забрасывал своих визитов в клинику? Ткани вокруг шрама все еще требуют периодического контроля.
– Попробую. Временами у меня появляется выражение, что я сама – еще один из последних документов Калдрена, – сказала Кома.
– Документов? Каких документов?
– Вы ничего о них не знаете? Это собрание так называемых окончательных утверждений о человеческом роде, которые собирает Калдрен. Собрание сочинений Фрейда, Квартеты, Бетховена, репортажи с Нюрнбергского процесса, электронная повесь и тому подобное… – Кома прервалась видя, что Пауэрс не слушает ее. – Что вы рисуете?
– Где?
Она показала на бумагу, Пауэрс понял, что бессознательно, но с огромной точностью рисовал четырехрукое солнце, идеограмму Уайтби.
– Ах, это… это ерунда, так себе, каракум, – сказал он, почувствовал, что рисунок обладал какой-то странной, непреодолимой силой.
Кома встала, прощаясь.
– Навестите нас когда-нибудь, доктор. Калдрен столько хотел бы вам продемонстрировать. Он достал где-то старую опию последних сигналов, переданных экипажем «Меркурия-7» сразу после их посадки на Луну.
Вы помните эти странные сообщения, которые они записали незадолго до смерти, полные какого-то поэтического бреда о белых садах. Это мне немного напоминает поведение растения здесь, в вашей лаборатории.
Она сунула руки в карманы и вынула из одного из них карточку.
– Калдрен просил, чтобы я при возможности показала вам это, – сказала она.
Это была библиотечная карточка из каталога обсерватории. Посредине виднелось написанное число:
96 688 365 496 720
– Много воды утечет, пока с такой скоростью. Мы дойдем до нуля, – с сарказмом произнес Пауэрс. – Я соберу целую коллекция, пока это окончится.
Когда она вышла, он выбросил карточку в мусорную корзинку, сел у стола и целый час разглядывал вырисованную на бумаге идеограмму.
На полпути к его летнему дому шоссе разветвлялось, ведя налево, среди пустых холмов, к давно неиспользованному военному стрельбищу, расположенному над одним из отдаленных соленых озер. Тут же за подъездными воротами было выстроено несколько малых бункеров и наблюдательных вышек, один или два металлических барака и покрытые низкой крышей здание складов. Вся площадь была окружена белыми холмами, которые отрезали ее от окружающего мира.
Пауэрс любил бродить пешком вдоль стрелковых позиций. Замыкаемых бетонными щитами на линии горизонта. Абстрактная правильность размещения объектов на поверхности пустыни вызывала в нем чувство, что он является муравьем, разгуливающим по шахматной доске, на которой расставлено две армии, одну в форме бункеров и вышек, другую – мишеней.
Встреча с Комой внезапно заставила его осознать, как бессмысленно и не так он проводил несколько своих последних месяцев. Прощай, Эниветок, – написал он в дневнике, но в сущности систематическое забывание было ничем иным как запоминание, каталогизированием вспять, перестановкой книг в библиотеке мысли и установкой их в нужном месте, но корешком к стене.
Взобравшись на одну из наблюдательных вышек, он оперся на балюстраду и стал смотреть в направлении мишеней. Ракеты и снаряды выгрызли местами целые куски бетона, но очертания огромных, стоярдовых дисков, раскрашенных красным и голубым, все еще были видны. Полчаса он стоял, смотря на них, а мысли его были бесформенны. Потом без раздумья он сошел с вышки и прошел к ангару.
Внутри было холодно. Он ходил среди заржавевших электрокаров и пустых бочек, пока в противоположном конце ангара, за грудой дерева и мотками проволоки, не пошел целые мешки с цементом, немного грязного песка и старую бетономешалку.
Получасом позднее он подогнал автомобиль к ангару, прицел к заднему бамперу бетономешалку, нагруженную песком, цементом и водой, которую он вылил из лежащих вокруг бочек, после чего загрузил еще несколько мешков цемента в багажник и на заднее сидение. Наконец он выбрал из груды деревяшек несколько прямых досок, впихнул их в окно автомобиля и двинулся чрез озеро в направлении центральной мишени.
Следующие два часа он работал без передышки посредине огромного голубого диска, вручную приготовляя бетон, перенося его и вливая в примитивные формы, которые соорудил из досок. Потом он формовал бетон в шестидюймовую стенку, окружающую диск. Он работал беспрерывно, размешивая бетон рычагом домкрата и заливая колпаком, снятым с колеса. Когда он кончил и отъехал, оставляя инструменты на месте, стена, которую построил, уже имела немногим более тридцати футов длины.
4
7 июня. В первый раз я осознал краткость дня. Когда я имел еще двадцать часов в сутки, базой моей временной ориентации был полдень; завтрак и ужин сохранили свои давший ритм. Сейчас, когда мне осталось только одиннадцать часов в сознании, они являются постоянный барьером, подобный фрагменту рулетки. Я вижу, сколько еще осталось на катушке, но не могу снизить темпа, в котором развивается лента. Время провожу в медленном паковании библиотеки.
Пачки слишком тяжелые, поэтому не двигаю их. Число клеток стало до 400 000.
Проснулся в 8:10. Засну в 9:15. (Кажется, я потерял часы, понадобилось ехать в город чтобы купить себе новые).
14 июня. Мне осталось девять с половиной часов. Я оставляю время позади как автостраду. Последняя неделя каникул всегда проходит быстрее, чем первая. При этой скорости перемен мне осталось, наверное, еще четыре или пять недель. Сегодня утром я пробовал вообразить себе эту мою последнюю неделю – последние три, два, один, конец – и внезапно меня охватил такой приступ страха, непохожий ни на что из пережитого до сих пор. Прошло полчаса, пока я оказался в состоянии сделать себе поддерживающий укол.
Калдрен ходит за мной как тень. Написал на воротах мелом: 96 688 365 408 702. Доводим почтальона до сумасшествия. Проснулся в 9:05. Засну в 18:36.
19 июня. Восемь и три четверти часа. Утром мне звонил Андерсон. Я хотел положить трубку, по как-то мне удалось до конца сохранить вежливость и обсудить последние формальности. Он восхитился моим стоицизмом, применил даже слово «героический». Этого я не чувствую. Отчаяние прописывает все – отвагу, надежду, дисциплину – все так называемые добродетели. Как трудно сохранить этот внеличный принцип согласия с фактами, который находится в основе научной традиции. Я пробую думать о Галилее перед лицом инквизиции, о Фрейде, терпеливо сносящем боль своей пораженной раком челюсти.
В городе встретил Калдрена. Разговаривали о Меркурии-7. Калдрен убежден, что экипаж корабля сознательно решил остаться на Луне, что это решение они приняли, ознакомившись с «Космической информацией».
Таинственные посланцы Ориона убедили пришельцев с Земли, что всякое исследование пространства никчемно, что за него взялись слишком поздно, когда вся жизнь Вселенной уже подходит к концу. К. утверждает, что некоторые генералы авиации принимают этот бред всерьез, но подозреваю, что это еще одна сумасшедшая попытка Калдрена утешить меня.
Я должен выключить телефон. Какой-то тип непрерывно звонит мне, требуя платы за пятьдесят мешков, цемента, которые я, но его словам, купил у него десять дней назад. Твердит, что помог мне погрузить их на грузовик. Помню, что я ездил на фургоне Уайтби в город, но речь шла ведь о покупке свинцовых экранов. Что я мог бы сделать с этим цементом. Именно эти глупости висят у меня над головой сейчас, когда приближается окончательный конец. (Мораль: не следует слишком усердно забывать Эниветок). Проснулся в 9:40. Засну в 16:15.
25 июня. Семь с половиной часов. Калдрен снова вынюхивал что-то у лаборатории, Позвонил мне. Когда я взял трубку, то услышал какой-то голос, записанный на пленку, захлебывающийся целой цепочкой цифр, как ошалевший компьютер. Эти его шутки становятся утомительны. Вскоре надо навестить ею, хотя бы для того, чтобы объясниться. Это будет, впрочем, и повод увидеться с девушкой с Марса.
Мне хватает теперь еды раз в день, подкрепленной вливанием глюкозы. Сон все время «черный» и нерегенерирующий. Прошлой ночью я сделал 16-миллиметровый фильм о первых трех часах и сегодня утром посмотрел его в лаборатории. Это был первый настоящий фильм ужасов. Я выглядел как полуживой труп. Проснулся в 10:25. Засну в 15:45.
3 июля. Пять и три четверти часа. Почти ничего сегодня не сделал.
Углубляющаяся летаргия. С трудом добрался до лаборатории дважды чуть не съезжая с шоссе. Концентрировался настолько, что накормил животных и сделал запись в лабораторном журнале. Прочитал также записки Уайтби, приготовленные на самый конец эксперимента и решился на 40 рентген в минуту и расстояние – 350 сантиметров.
Все уже готово.
Проснулся в 11:05. Засну в 15:15.
Он потянулся, перекатил голову по подушке, фокусируя взгляд на тенях, которые бросали на потолок оконные занавески. Потом он взглянул на свои пупки и увидел Калдрена, сидящего на кровати и внимательно приглядывавшегося к нему:
– Привет, доктор, – сказал Калдрен, гася сигарету. – Поздняя ночь. Вы выглядите утомленным.
Пауэрс приподнялся на локте и взглянул на часы. Был двенадцатый час.
Мгновение у него мутилось в голове, он перекинул ноги на край постели, оперся локтями о колени и кулаками начал массировать себе лицо.
Он заметил, что комната была полна дыма.
– Что ты тут делаешь? – спросил он Калдрена.
– Пришел пригласить вас на ленч, – сказал Калдрен и показал на телефон.
– Это не действует, потому я приехал. Надеюсь, вы простите мне это вторжение. Я звонил у дверей, наверное, с полчаса. Удивительно, что вы не слышали.
Пауэрс кивнул, встал и некоторое время пробовал разгладить стрелки своих помятых хлопчатобумажных брюк. Неделю уже он не менял одежды, брюки были влажными и издавали легкий запах. Когда он шел в ванную, Калдрен показал на штатив, стоящий около кровати. – Что это, доктор? Вы начинаете снимать драли?
Пауэрс некоторое время смотрел на него, потом на штатив и тогда заметил, что дневник был раскрыт. Раздумывая, прочитал ли Калдрен последние записи, он взял дневник, вошел в ванную и захлопнул за собой дверь. Из шкафчика над раковиной он вынул шприц и ампулу. После инъекции он на минуту оперся о двери, ожидая эффекта.
Калдрен стоял в комнате, забавляясь, чтением наклеек на пачках книг, которые Пауэрс оставил посредине комнаты.
– Хорошо, съем с тобой ленч, – сказал Пауэрс, внимательно смотря на него. Калдрен исключительно владел собой сегодня. Пауэрс разглядел в его поведении даже уважение.
– Прекрасно, – сказал Калдрен. – Кстати говоря, вы решили пересилиться?
– спросил он.
– Какое это имеет значение? Ты же теперь под надзором Андерсона.
Калдрен пожал плечами.
– Приезжайте около двенадцати, – сказал он. – Это позволит вам умыться и переодеться. Что это за пятна у вас на рубашке? Похоже на известь.
Пауэрс пригляделся к пяткам, а потом попробовал стряхнуть с рубашки белую пыль. После ухода Калдрена он разделся, принял душ и вынул из чемодана свежий костюм.
До связи с Комой Калдрен жил в одиночестве в старом летнем домике на северном берегу озера. Это была семиэтажная диковинка, построенная эксцентричным миллионером-математиком, в форме бетонной ленты, которая обвивалась вокруг себя как ошалевший уж. Только Калдрен разгадал загадку строения геометрической модели, и снял его у агента за относительно низкую цену. Из окна лаборатории Пауэрс видел его вечерами, переходящего неустанно с одного уровня на другой, взбирающегося в лабиринте наклонных плоскостей и террас до самой крыши, где он торчал часами как эшафот на фоне неба, следя в пространстве дороги волк, которые ловит завтра.
Когда Пауэрс в полдень подъехал, он увидел его, стоящего на выступе здания на высоте ста пятнадцати футов, с головой драматично поднятой к небу.
– Калдрен! – крикнул он словно в ожидании, что внезапный крик выбьет у того опору из-под ног.
Калдрен глянул вниз и со строгой улыбкой плавно описал рукой полукруг.
– Входите! – крикнул он и снова обратил взгляд к небу.
Пауэрс вылез и оперся на автомобиль. Когда-то, несколько месяцев назад, он принял такое приглашение, вошел и в течение трех минут оказался в каком-то коридоре без выхода. Прошло полчаса, прежде чем Калдрен нашел его там.
Итак, он, он ждал, пока Калдрен спустится со своего гнезда, перескакивая с террасы на террасу, после чего на лифте поднялся вместе с ним наверх.
С коктейлями в руках они вошли на широкую, застекленную платформу-студию; вокруг них вилась белая бетонная лента, словно зубная паста, выдавленная из какого-то огромного тюбика. Перед ними, на перекрещивающихся и параллельных уровнях, видна была серая, геометрическая по форме мебель, гигантские фотографии, повешенные на наклоненных до половины сетчатых клетках или старательно описанные экспонаты, разложенные на низких, черных столах. Выше виднелось одно слово высотой в двадцать футов:
ТЫ
Калдрен указал на него рукой.
– Нелегко было бы, наверное, выдумать что-то более важное? – сказал он и до дна выпил бокал. – Это моя лаборатория, доктор, – сказал он с гордостью. – Намного важнее вашей.
Пауэрс усмехнулся про себя и остановился перед первым экспонатом, старой лентой энцефалографа, там и тут прерываемой бледными чернильными каракулями. Лента была описана. Эйнштейн, А; Волны альфа, 1922.
Обходя вместе с Калдреном экспонаты, он понемногу пил из стакана, наслаждаясь чувством возбуждения, которое давали ему амфетамины. Через час или два это чувство исчезает и мозг снова станет рыхлым как промокашка.
Калдрен ораторствовал, объясняя ему значение так называемых окончательных Документов.
– Это, доктор, последние записи, финальные утверждения, продукты полной фрагментизации. Когда я соберу достаточное их количество, то построю себе из них новый мир. – Он взял со стола толстый том в картонном переплет и начал перелистывать страницы.
– Ассоциативные тесты двенадцати осужденных в Нюрнберге. Я должен включить их в коллекцию…
Пауэрс шел за ним, не слушая. Его внимание привлекло нечто, стоявшее в углу и напоминавшее машину для записей. Из зияющих щелей аппарата свисали длинные, темные ленты. Некоторое время он забавлялся мыслью, что, возможно, Калдрен начал спекулировать на бирже, которая около двенадцати лет постоянно регистрировала спад курсов.
– Доктор, – услышал он вдруг слова Калдрена, – я говорил вам о Меркурии-7? – Калдрен указал на густо исписанные страницы.
– Это описание последних сигналов, переданных по радио на Землю.
Пауэрс с любопытством разглядывал листки. Кое-где он смог прочитать отдельные слова: «Голубые… люди… ужасный цикл… орион… телеметрия.» Он кивнул головой.
– Любопытно, – обратился он к Калдрену. – А что это за ленты там, у телетайпа?
Калдрен усмехнулся.
– Я месяц ждал, пока вы меня о них спросите. Прошу, посмотрите.
Подойдя к машинам Пауэрс поднял одну из лент. Над машиной виднелась надпись: Аургия 225-Ж, Интервал: 69 часов. Он читал:
96 688 365 498 695
96 688 365 498 694
96 688 365 498 693
96 688 365 498 692
– Это мне напоминает что-то, – сказал он и выпустил ленту. – Что значит этот ряд чисел?
Калдрен пожал плечами.
– Никто не знает!
– Как это? Что-то они должны представлять?
– Да, убывающую арифметическую прогрессию. Обратный счет, если хотите, – ответил Калдрен.
Пауэрс поднял другую ленту, свисающую из машины направо и обозначенной: Ариес 44Р951. Интервал: 49 дней. Он читал:
876 567 988 347 779 877 654 434
876 567 988 347 779 877 654 433
876 567 988 347 779 877 654 432
Пауэрс огляделся вокруг.
– Сколько длится отдельный сигнал? – спросил он.
– Несколько секунд, естественно. Они очень сжаты. Их расшифровывает компьютер обсерватории. Первый раз их приняли где-то лет двадцать назад – в Джодрелл Бэнк. Сейчас никто не обращает на них внимания, – сказал Калдрен.
Пауэрс смотрел на последнюю ленту:
6554
6553
6552
6551
– Приближается к концу, – констатировал он. Он прочитал надпись, приклеенную к крышке машины: «Не идентифицированный источник радиоизлучения, Canes Venatici. Интервал: 97 недель». Он подал ленту Калдрен сказал:
– Скоро будет конец.
Калдрен покачал головой. Он взял со стола там толщиной в телефонную книгу и минуту листал страницы. Его лицо вдруг стало серьезным, в глазах виднелась глубокая, печальная задумчивость.
– Сомневаюсь, что это конец, – сказал он.
– Это только четыре последних цифры. Все выражается более чем пятисотмиллионным числом.
Он подал там Пауэрсу, который прочитал название: «Главные последовательности серийных сигналов, принятых радиообсерваторией Джодрелл Бэнк. Манчестерский университет, Англия, время 0012-59, 21 мая 1972 года.
Источник: NJC9743, Canes Venatici» в молчании листал страницы, густо исписанные цифрами, миллионами цифр на тысячах страниц. Пауэрс тряхнул головой, снова взял ленту и задумчиво посмотрел на нее.
– Компьютер расшифровывает только четыре последние цифры, – объяснил Калдрен. – Все число является пятнадцатисекундным пучком. Первый такой сигнал компьютер расшифровал два года.
– Интересно, – сказал Пауэрс. – Но что это все значит?
– Отчет, как видите. NJC9743 где то на Canes Venatici. Их огромные спирали ломаются и шлют нам прощальный привет. Бог весть, знают ли они о нашем существовании, но дают нам знать о себе, подавая сигнал на водородной волне, в надежде, что кто-то в Космосе их услышит, – он прервался. Некоторые объясняют это иначе, но существует довод, свидетельствующий о правомерности лишь одной гипотезы.
– Какой? – спросил Пауэрс.
Калдрен показал ленту с Canes Venatici.
– То, что где-то высчитано, что Вселенная окончится в тот момент, когда цифры дойдут до нуля.
Пауэрс инстинктивно пропустил ленту сквозь пальцы.
– Большая забота с их стороны, что напоминают нам о ходе времени.
– Да, – тихо сказал Калдрен. – Приняв во внимание закон обратной пропорциональности к квадрату расстояния до источника, сигналы передаются с мощностью около трех миллионов мегаваттов, умноженных во сто раз. Это примерно мощностью небольшого созвездия. Вы правы, забота – хорошее слово.
Внезапно он схватил Пауэрса за руку, стиснул его ладонь и поглядел ему в глаза вблизи. У него дергалось горло.
– Ты не одинок, доктор. Это голоса времени, которое шлет тебе прощальный привет. Думай о себе как о части огромного целого. Каждая мелочь в твоем теле, каждая песчинка, каждая галактика носит в себе одно и то же клеймо. Ты сказал, что знаешь о них, как идет время, так что все остальное не имеет значения. Не нужны никакие часы.
Пауэрс взял руку Калдрен и крепко пожал ее.
– Благодарю, Калдрен. Это хорошо, что ты понимаешь, сказал он. Медленно он подошел к окну и поглядел на белое дно озера. Напряженность, существовавшая между ним и Калдреном, исчезла, и он чувствовал, что его долг, наконец, оплачен. Он хотел теперь как можно скорей попрощаться с ним и забыть его лицо, как забывал лица многих других пациентов, обнаженных мозгов которых он касался пальцами. Он подошел к машинам, оторвал несколько витков лент и сунул их в карман.
– Я возьму несколько, чтобы помнить, – сказал он. – Попрощайся от моего имени с Комой, пожалуйста.
Он подошел к дверям и еще глянул на Калдрена, стоящего в тени двух огромных букв, со взглядом, опущенным в пол.
Когда он отъезжал, то заметил, что Калдрен вышел на крышу здания.
Пауэрс наблюдал за ним, стоящим с поднятой рукой, в зеркальце автомобиля, до того момента, пока он не исчез за поворотом.
5
Внешний круг был уже почти готов. Не хватало лишь дуги длиною в десять футов, но кроме этого весь периметр мишени был обрамлен стенкой около шести дюймов высотой, а внутри заключался ребус. Три концентрических круга, самый большой около ста футов в диаметре, отделенные друг от друга десятифутовыми разрывами, образовывали край герба, складывавшегося из четырех частей и разделенных перекладинами гигантского креста. Посредине, на скрещении перекладин была помещена маленькая округлая плита, возвышавшаяся примерно на фут над уровнем мишени.
Пауэрс работал быстро, насыпая песок и цемент в бетономешалку, доливая воды так, чтобы образовывался раствор, после чего поспешно вливал его в деревянные формы и разгонял лопатой в узкие канальчики.
Через десять минут он кончил, снял формы прежде, чем затвердел бетон и погрузил их на заднее сиденье автомобиля. Вытер ладони о брюки, подошел к бетономешалке и перекатил ее на несколько десятков футов, в тень ближнего холма. Не глянув даже на огромный символ, который он так терпеливо строил множество пополуденных часов, он сел в автомобиль и отъехал, поднимая клубы белой пыли, замутившей голубую глубину тени.
В лаборатории он был в третьем часу. Выскочил из машины, зажег в вестибюле все лампы, поспешно задернул все противосолнечные заслоны и крепко привязал их к крюкам, вбитым в пол, превращая все здание в стальную палатку.
Растения и животные, неподвижно дремавшие в контейнерах, понемногу начала оживать, тотчас реагируя на разливающийся вокруг потоп жаркого света ламп. Только шимпанзе не обратил на это внимания. Он сидел на полу клетки, нервно втискивая тестовые кубики в полиэтиленовую коробку и яростным воем возвещая о каждой неудачной попытке.
Пауэрс подошел к клетке и заметил кусочки разбитого стекла из уничтоженного шлема. Вся мордочка шимпанзе была покрыта кровью. Пауэрс поднял с пола остатки пеларгонии, которую шимпанзе выкинул через прутья клетки, потряс цветком, чтобы привлечь на минуту его внимание, а потом быстро закинул в клетку черный шарик, который вынул из коробочки в ящике стола. Шимпанзе быстрым движением подхватил его, минуту развлекался, подбрасывая его вверх, после чего кинул себе в рот. Не ожидая результата, Пауэрс снял пиджак, открыл тяжелые задвигаемые двери, ведущие в рентгеновский зал, скрывающие металлический эмиттер Макситрона, а потом установил свинцовые защитные плиты вдоль задней стены зала.
Немного позднее он включил генератор.
Анемон двинулся. Плавясь в теплом море излучения, поднимающиеся вокруг него и направляемый немногочисленными воспоминаниями морского существования, он двинулся через контейнер, слепо бредя к бледному математическому солнцу.
Щупальца задрожали. Тысячи дремлющих, до тех пор равнодушных клеток начали размножаться и перегруппировываться, каждая черпая освобожденную энергию из своего ядра. Цепочки выползли, структуры нагромоздились в многослойные линзы, концентрируя ожившие спектральные линии дрожащих звуков, танцующих как волны фосфоресценции вокруг темного купола камеры.
Медленно сформировался образ, открывающий огромный черный фонтан, из которого начал бить бесконечный луч ослепительно ясного света. Около него появилась фигура, регулирующая прилив ртом. Когда она ступила на пол, из-под ног ее брызнули краски, а из рук, которыми она перебирала по скамьям и контейнерам, взорвалась мозаика голубых и фиолетовых пузырей, лопающихся в темноте как вспышки звезд.
Фотоны шептали. Непрерывно, словно приглядываясь блестящим вокруг себя звукам, анемон расширялся. Его нервная система объединилась, создавая новый источник стимулов, которые плыли из тонких перепонок хребтовой хорды.
Молчащие очертания лаборатории начали потихоньку набухать волнами звука из дуги света, отбиваясь эком от скамей и устройств. Их острые контуры резонировали теперь сухим, пронзительным полутоном. Плетеные пластиковые стулья бренчали дискантом стаккато, четырехугольный стол отвечал непрерывным двутоном.
Не обращая внимания на эти звуки, так как он их уже понял, анемон обратился к потолку, который звучал как панцирь, одетый в голоса, плывущие из лучащихся ламп. Проникая через узенький краешек неба, голосом чистым и мощным, полным бесконечным числом полутонов, пело Солнце…
Не хватало еще нескольких минут до рассвета, когда Пауэрс покинул лабораторию и завел автомобиль. Позади него осталось в темноте здание, освещенное белым светом Луны, стоящей над холмами. Он вел машину по извилистой подъездной аллеи, бегущей вниз, к дороге вдоль берегов озера, слушал скрежет шин, врезающихся в острый гравий покрытия. Потом он переключил скорость и нажал на педаль акселератора.
Глядя на известковые холмы, вдоль которых он ехал, все еще неразличимые в темноте, он осознал, что хотя не замечал их очертаний, сохранил в мозгу их образ и форму. Это было неопределенное чувство, источником ему служило почти физическое впечатление, он воспринимал его словно прикосновениями глаз непосредственно из котловин и впадин между взгорьями. Несколько минут он поддавался этому чувству, не стараясь даже определить его точнее, создавая в мозгу странные конфигурации очертаний.
Дорога сворачивала сейчас у группы домиков, выстроенных на берегу озера, тут же у подножия холмов он внезапно почувствовал огромную тяжесть массива, возвышающегося на фоне темного неба – острой скалы из блестящего мела – и осознал тождественность этого чувства с зарегистрированным так сильно в его памяти. Ведь смотря на скалы он осознал те миллионы лет, которые прошли с мгновения, когда она впервые поднялась из магмы земной скорлупы. Острые хребты, поднимающиеся в трехстах футов под ним, темные впадины и щели, нагие глыбы, лежащие вдоль шоссе, – все это имело собственное выражение, которое принимал в мозгу тысячью голосов – суммой всего времени, которой проплыло в течение всей жизни массива – было психическим образом так определенным и ясным, словно он его только что увидел.
Бессознательно он сбросил скорость и, отводя взгляд от взгорья, чувствовал, как на него обрушилась вторая волна времени. Картина была шире, но основывалась на более короткой перспективе, она била из широкого круга озера и изливалась на острые, разрушающиеся уже известняковые скалы, как мелкие волны, бьющие о мощный выступ континента.
Он закрыл глаза, оперся о спинку сиденья и направил автомобиль на разрыв, разделяющий два этих течения времени, чувствуя, как картины усиливаются и углубляются в его мозгу. Подавляющий возраст пейзажа и едва слышные голоса, доходящие от озера и белых холмов, казалось, переносили его в прошлое, вдоль бесконечных коридоров к первому порогу мира.
Он свернул на шоссе, ведущее к стрельбищу. На обеих сторонах ложбины лица холмов кричали, отражаясь эхом в непроницаемых полях времени как два гигантских, противоположных полосах магнита. Когда он, наконец, вывел автомобиль на открытое пространство озера, ему казалось, что он чувствует в себе тождественность каждого зернышка песка и кристалла соли, зовущих его с цепи окрестных холмов.
Запарковав автомобиль вблизи мандалы, он медленно приближался к наружному кругу, очертания которого уже проглядывали в свете приближающейся зари. Над собой он слышал звезды, космических голосов, которые наполняли небо, с одного конца по другой, как настоящий небосклон времени. Как накладывающиеся радиосигналы, перекрещивающиеся в пространственных углах неба, падали словно метеор из самых узких щелей пространства. Над собой он видел красную точку Сириуса – и слушал его голос, длящийся много, много миллионов лет – приглушенный спиральной Туманностью Андромеды, гигантскую карусель исчезнувших вселенных, голоса которых были почти так же стары как и сам космос. Он знал теперь, что небосклон был бесконечной вавилонской башней – песней времени тысяч галактик, накладывавшихся друг на друга в его сознании. Когда он приближался к центру мандалы, наклонил еще голову, чтобы взглянуть на сверкающий уступ Млечного пути.
Дойдя до внутреннего круга Мандалы, едва в нескольких шагах от центральной плиты, он почувствовал, что хаос голосов утихает и он слышит один, доминирующий голос. Он взошел на плиту и поднял взгляд к темному небу, смотря на созвездия, на галактические острова и за них, слушая слабые правечные голоса, доходящие до него через миллионолетия. В кармане он чувствовал ленту и направил взгляд к отдаленному Гончему Псу, слыша его мощный голос.
Как нескончаемая река, так широкая, что ее берега даже исчезают за горизонтом, к нему плыл непрерывно огромный поток времени, наполняющего небо и Вселенную и охватывающий все, что в них содержится. Пауэрс знал, что плывущее медленно и величественно время имело свой источник у истоков самого Космоса. Когда поток коснулся его, он почувствовал на себе его гигантскую тяжесть, поддался ей, легко уносимый вверх гребнем волны. Его медленно сносило, поворачивало лицом в направлении прилива. Вокруг затуманились контуры холмов и озера, у него остались только космические часы – неустанно смотрящие ему в глаза образ мандалы. Всматриваясь в нее он чувствовал, как понемногу исчезает его тело, сливаясь с огромным континуумом потока, несущего его к центру великого канала, за надежды, но к отдыху, во все более тихие реки вечности.
Когда тени исчезли, уходя в ложбины холмов, Калдрен вышел из автомобиля и неуверенно приблизился к бетонному наружному кругу. В пятидесяти метрах дальше, в центре мандалы, стояла на коленях у трупа Пауэрса Кома, касаясь руками лица умершего. Порыв ветра пошевелил песок и принес под ноги Калдрена обрывок ленты. Калдрен поднял его, осторожно свернул и сунул в карман. Утро было холодное, поэтому он поднял воротник пиджака, одновременно наблюдая за Комой.
– Уже шестой час, – обратился он к ней через несколько минут. – Пойду вызову полицию. Ты останься с ним. – Он прервался и немного погодя добавил: – Не позволяй им повредить часы.
Кома поглядела на него:
– Ты сюда уже не вернешься?
– Не знаю, – сказал он и кивнул ей на прощание головой. Отвернулся и пошел в направлении автомобиля.
Он доехал до шоссе, тянувшегося вдоль озера и нескольких минутами позднее остановил машину перед лабораторией Уайтби.
Внутри было темно, окна закрыты, а генератор в рентгеновском зале работал. Калдрен вошел внутрь и включил свет. Дотронулся ладонью до генератора. Берилловый цилиндр был нагрет. Круглый лабораторный стол все еще медленно вращался, установленный на один оборот в минуту. Полукругом, в нескольких футах от стола лежала груда контейнеров и клеток, накиданных одна на другого. В одной из них огромное, похожее на паука растение почти смогло выбраться из вивария. Ее длинные прозрачные щупальца все еще цеплялись за края клетки, но тело растекалось в липкую, круглую лужицу слизи. В другой чудовищный паук запутался в паутине и висел посредине гигантского, трехмерного фосфоресцирующего клубка, конвульсивно вздрагивая.
Все экспериментальные животные и растения были мертвые. Шимпанзе лежал на спине посреди руки своей клетки с расколотым шлемом, закрывающим глаза.
Калдрен приглядывался к нему некоторое время, потом сел к столу и поднял телефонную трубку. Набирая номер он заметил кружок киноленты, лежащей на столе. Он всматривался минуту в надпись, потом положил ленту в карман. После разговора с полицейским постом он погасил в доме лампы, сел в машину и медленно отъехал.
Когда он доехал до дома, через вьющиеся балконы и террасы виллы просвечивало солнце. Он въехал лифтом наверх и прошел в свои музей. Там он раздвинул занавесы и приглядывался отражениям солнечных лучей в экспонатах.
Потом он передвинул кресло к окну, сел в него и неподвижно всматривался в полосы света.
Два или три часа позднее он услышал голос зовущей его Комы. Через полчаса она ушла, но потом звал кто-то другой. Он встал и задвинул все занавеси во фронтонных окнах, чтобы его оставили в покое.
Он вернулся на кресло и в полулежащей позиции смотрел на экспонаты. В полусне он то и дело протягивал руку, чтобы уменьшить приток света, попадающего через щели между занавесями, лежал и думал – так же, как потом долгие месяцы – о Пауэрсе и его странной мандале о семи человеках экипажа и их путешествии к белым садам Луны и о голубых людях с Ориона, которые говорили о старых, чудесных мирах, согреваемых золотистыми шарами солнцеотдаленных галактических островов, которые навсегда исчезли в умноженной смерти Космоса.


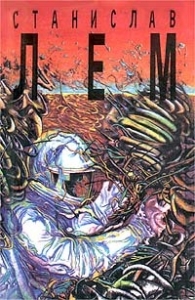
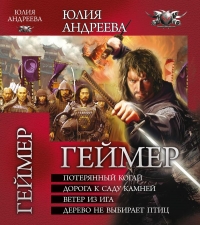
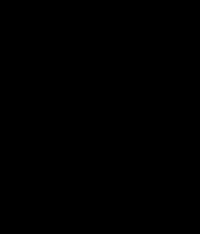
Комментарии к книге «Голоса времени», Джеймс Грэм Баллард
Всего 0 комментариев