Валентинов Альберт Абрамович
ДУЭЛЬ НЕРВНОГО ВЕКА
Фантастическая повесть
Нет на свете таких обстоятель
ств, которые нельзя было бы изме
нить в результате целеустремленных
действий.
Герберт Уэллс
- Вы исчерпали мои возможности, - сказал Координатор. - И я уже перестаю понимать, с какой целью вы стремитесь в прошлое. Вам предложили самых интересных лидеров той эпохи. И в то время, как ваши коллеги...
- Мои коллеги заблудились в ваших кандидатурах, как в трех соснах. Кстати, это поговорка из той эпохи, - усмехнулся Историк. - Они пали жертвой элементарного смешения понятий. Объективно оценивая роль личности в истории, они почему-то уверились, что только через личность можно и понять историю, познать суть эпохи, ее общественное самосознание. А что из этого получилось? Становясь попеременно тенью одного и того же лидера в расцвете его преобразовательской деятельности, они повторили все его шаги, зафиксированные документально. И разошлись в действиях, документами не отмеченных. Действиях локальных, не отразившихся на эволюции общества. И теперь ожесточенно спорят об этих мелочах: кто действовал адекватнее. Тратят время на чепуху. Так ли постигают эпоху?
- Несомненно, вы избрали лучший метод. - В голосе Координатора скользнула ирония.
- Да, я избрал лучший метод, - спокойно сказал Историк, игнорируя выпад собеседника. - Эпоха постигается через обывателей, не подозревающих о тайных политических пружинах и потому воспринимающих зигзаги общественного развития как нечто предопределенное. Стать средним, ничем не примечательным человеком, раствориться в его образе мышления, пережить его повседневные заботы - только так можно постигнуть эпоху. Через повседневность, адаптируясь к ее реалиям. А лидер к эпохе не приноравливается - он ее творит.
- Я предлагал то, что имел, - пожал плечами Координатор. - Большой Мозг проводит титаническую работу, воссоздавая человека по сохранившимся документам, воспоминаниям, видеокадрам. Знаете, сколько уходит энергии на синтез одной личности? Для корабля типа "Центурион" ее хватило бы, чтобы пересечь галактику. Но дело не в этом. Просто материальная память о ничем не примечательных людях на большом отрезке времени, как правило, не сохраняется. Вот почему в нашей мнемотеке одни исторические личности. Они тоже весьма обостренно воспринимают свою эпоху. Хотите артиста?
- Нет, артиста я не хочу, - отказался Историк, разочарованно поднимаясь. - Значит, больше вы ничего не можете предложить?
- Сядьте, - усмехнулся Координатор. - Вам повезло: есть один вариант. Средний чиновник, судьбу которого круто переломил поворот истории. Я бы сказал так; герой эпохи и ее жертва. Поэтому им и заинтересовался Большой Мозг. К сожалению, добытых нами сведений не хватило до адекватной нормы, степень вероятности крайне низка - девяносто восемь процентов. Но других вариантов нет. Возьмете?
- Пожалуй, - нерешительно протянул Историк. - Хотя чиновник, приученный к исполнительности и шаблонному мышлению, это не совсем то, чего бы хотелось. Но поскольку других вариантов нет...
- Решено, - сказал Координатор. - Мы создадим для вас ситуацию. Только не забывайте: девяносто восемь процентов. Возможно, они не повлияют на адекватность, но скорее всего созданная вокруг вас действительность будет несколько отличаться... Какие-то события пойдут по иному руслу.
- Я всегда был слаб в физике, - рассмеялся Историк. - И до сих пор не могу понять, как можно исказить запрограммированную заранее ситуацию. Со школьной скамьи я знаю, что время, подобно свету, отбрасывает тень - не только предметов, но и явлений, - которые оказываются в его поле. Но ведь тень не может быть самостоятельной. Она полностью копирует оригинал.
- Не совсем так. Тень отбрасывается временем в па* раллельное пространство. Да, это копия оригинала, но отстоящая от него на кванты времени. И в определенных условиях получающая некую степень свободы. В данном случае это недостающие два процента, которых невозможно запрограммировать и которые могут ощутимо повернуть ход истории. В свою очередь, копия тоже отбрасывает тень в соседнее пространство, а та свою тень и так далее до бесконечности. Вот почему можно попадать в прошлое. Время идет только в одну сторону, и двигаться против его хода невозможно - это поняли еще в древности. Но нет ничего более легкого, чем передвигаться в пространстве. Ходить, плавать, летать и, свертывая пространство, протыкать его силовым полем. Овладев переходом из одного параллельного мира в другой, мы стали передвигаться и во времени, попадая в любую нужную эпоху. Разумеется, только в прошлое. Путешествия в будущее, вы знаете, запрещены из моральных соображений.
- Не только моральных. Путешествия в будущее опасны для человечества.
- Я думаю, Большой Мозг сумел бы нейтрализовать любую опасность. Но это беспредметный разговор. Вернемся к делу. Имейте в виду: если переход в прошлое с выключенным сознанием проходит безболезненно, то возвращение, когда к теневому сознанию подключается ваше истинное "я", крайне тяжело. И если ваша генная наследственность не в порядке...
- В порядке, - сказал Историк. - Медики обследовали мои гены до седьмого колена, как положено, и дали "добро". Так что выдержу.
- Я обязан предупредить. Что ж, тогда готовьтесь. И не забудьте: в ваших интересах как можно скорее представить после возвращения отчет для Большого Мозга. Тогда мы полностью уберем теневое сознание, и вы войдете в норму. Две недели - оптимальный срок.
- А разве не вы будете читать отчет?
- Я читаю все отчеты, - вздохнул Координатор.
Что-то сдвинулось в сознании. Будто с треском лопнула черная завеса, и хлынувший свет стремительно швырнул мне в глаза незнакомое тесное помещение, заставленное неудобной, с острыми углами мебелью. И я невольно зажмурился и отступил на шаг, не в силах принять эту действительность, которая ждала, чтобы я вошел в нее, растворился в ней без остатка. Будто навязывала мне правила жестокой игры, в которую - никуда не денешься - придется играть.
Так продолжалось мгновение. А потом откуда-то извне начала приходить память, поднимаясь, словно из глубокого колодца, и высвечивая деталь за деталью. Так, наверное, приходит в себя после тяжелой операции больной, медленно выплывая из наркоза и постепенно, явление за явлением, осознавая реальность. И шевельнулось спасительное удивление: как же это я не узнал... Ну конечно, моя квартира - с осени не мытые окна, проходя через которые свет, казалось, обретал тягучую плотность; дурацкая люстра с пыльными, торчащими вверх плафонами, в которых валялись дохлые мухи; лежащий на ковре мужчина... Труп!
Труп был ужасен. Не только лицо - в сине-багровых пятнах с закатившимися под веки зрачками, так что в глазницах тускнели белки, как несвежие облупленные яйца. Ужасна была и фигура - неестественно вывернутая, с выпирающими из-под задранной рубашки ребрами и вдавленным животом. Ноги были скручены, будто их кости размолотили в порошок. Руки, перевитые жилами, вцепились в горло, разорвав воротник. Каждая часть тела словно умирала сама по себе, постепенно теряя привычную форму. Казалось, на полу лежала грубо раскрашенная глиняная статуя, растоптанная взыскательным скульптором.
Мне и раньше приходилось видеть мертвецов. Правда, сейчас я не мог вспомнить ни одного, но твердо знал, как должны они выглядеть в гробу, после наведения приличествующего макияжа - с умиротворенным лицом и благопристойно сложенными руками. Такие мертвецы вызывают минорное почтение и не блещущие новизной мысли о бренности всего земного. Здесь же смерть выступила в своей обнаженной сути - не как логическое завершение бытия, а как торжествующая разрушительница, орудие безжалостного времени, покрывающего мглой забвения судьбы людей и народов.
Я философствовал от страха, потому что этот труп в моей квартире кричал об опасности. Опасности холодной и неотвратимой, как болотный туман. И, привалившись к телефонному столику, сжимая в руке трубку, которую так и не положил на рычаг с тех пор, как вызвал милицию, я упорно старался преодолеть отвратительную дрожь, от которой тошнит, слабеют ноги и чувствуешь себя голым и беспомощным. Словно птенец, вывалившийся из гнезда в неведомый мир, где каждая секунда может оказаться последней. И ты пропускаешь их через себя, эти секунды, - одну за другой...
Я и был в неведомом мире. И одновременно в странно знакомом. Память продолжала выплескивать все новые и новые подробности. И я уже знал, почему так запущена моя квартира, хотя мне все еще казалось, что я впервые распахнул ее двери: из-за событий последних месяцев, полностью выбивших меня из колеи. А направлял события человек, лежащий на ковре. Я еще не мог вспомнить, кто он, этот мертвец, но уже твердо знал, что вся моя жизнь связана с ним.
Считается, что знакомая обстановка помогает обрести душевное равновесие. Но непривычное горизонтальное положение человеческого тела исказило геометрию комнаты. Я блуждал взглядом по стенам, будто и в самом деле впервые попал сюда. Квартира стала чужой, враждебной. Выпятилось неудачное расположение телевизора в углу, старенькой радиолы на табуретке от кухонного гарнитура (до сих пор не удосужился купить тумбочку), книжного шкафа рядом. Эта часть комнаты была перегружена вещами, поэтому противоположная, где был только диван и лежал труп, казалась до неприличия голой. "Надо бы переставить книжный шкаф", - мелькнула неуместная мысль.
Я старался не смотреть на мертвеца - естественная реакция здоровой психики после первого приступа любопытства. Но, даже глядя в сторону, отчетливо видел его. А потом увидел и портрет... Как же я его раньше-то не заметил - карандашный набросок, сделанный бывшей приятельницей, студенткой художественного училища. Она рисовала, лежа на диване, на листе обычной писчей бумаги. Мы как раз окончательно рассорились, и я не мог скрыть облегчения. Это ее взбесило, и, на мой взгляд, без всякой логики, поскольку она пришла с твердым намерением объявить о нашем разрыве и усиленно демонстрировала, как рада от меня избавиться. Очевидно, ей хотелось, чтобы я сыграл сожаление, раскаяние или чего там еще, может быть, уговаривал ее остаться, словом, выдержал джентльменский стиль. Бросая на меня мстительные взгляды, она несколькими штрихами изобразила мое лицо. Строго говоря, это был не шарж - его всегда можно оспорить. Здесь же был вполне реалистический портрет. Но слишком безвольные губы-шлепанцы, слишком круглые наивные щеки, слишком самоуглубленное выражение глаз... Только женщина может так без промаха отомстить. Потом она приколола листок к стене, оделась и ушла, чтобы больше не возвращаться. Кажется, через месяц или полтора я нашел за диваном какую-то часть женского туалета. Случайно или нет, но многие мои приятельницы после ссоры забывали у меня свои вещи, только никогда за ними не возвращались.
Рисунок мне не нравился. Но откалывать его я сначала поленился, а дальше привык и перестал замечать. И вдруг мне показалось, что они смотрят друг на друга - портрет и покойник. Затаенный взгляд одного в смятении погрузился в безумные, выскочившие из орбит глаза другого. Будто, прощаясь, подводят итог давнему спору... О чем они говорили, какое соглашение заключили между собой? Да и было ли соглашение?
Только они двое имели право находиться в этой комнате. Я был здесь лишним.
И словно мало было мне унизительного страха, так еще накинулось щемящее чувство бездомности. Никогда больше квартира не станет той уютной раковиной, в которую прячешься по вечерам, чтобы снова стать самим собой. Я вдруг почувствовал, как она дорога мне с этой неудобной мебелью и дурацкой люстрой, которую пришлось купить, потому что ничего приличного в магазинах не было. А тут еще эти люди - следователь, врач, фотограф и еще два-три человека, роль которых я не мог определить. То, что они делали, было знакомо по детективам, только действовали они как-то не по-книжному: медленно, будто нехотя, без четко видимого плана, без смелых гипотез и мгновенных решений. Так, исполняли рутинную каждодневную работу. Фотограф лениво пощелкал затвором из разных точек, а врач, совсем молодой парень в модных "варенках" и с модной бородкой, мельком оглядел труп, встав на колено, обнюхал губы мертвеца и отрешенно застыл на кухне. С лица его не сходила гримаса, обиженная и брезгливая одновременно. И он уныло барабанил пальцами по стеклу, трамта-ра-раму трам-та-ра-рам, как зубилом по нервам.
На меня они вообще не обращали внимания. Спросили, я ли их вызвал и являюсь ли хозяином квартиры, и тут же забыли обо мне. Впрочем, это к лучшему. Я начал постепенно успокаиваться. Исчезла наконец противная дрожь, и я представил, как глупо выгляжу с телефонной трубкой в руке, будто привязанный к столику. Это был уже признак самообладания, и я обрадовался ему, как хорошей примете. Чтобы еще больше самоутвердиться, не спрашивая разрешения, прошел на кухню, сел на табуретку и с наслаждением закурил. Здесь было легче - все знакомо и не видно мертвеца. Лишь бы унылый доктор перестал барабанить.
Следователь тотчас подошел ко мне, словно только и ждал, когда я расстанусь с телефоном. Был он невысок, худощав, лет под пятьдесят и больше всего походил бы на школьного трудягу-учителя, вечно озабоченного, как бы ребятишки лучше усвоили материал, если бы пиджак не сидел на нем как китель.
- Очухались? - доброжелательно спросил он, прикуривая от моей сигареты. Я кивнул, незаметно ущипнув себя за ногу, в которой опять появилась дрожь. - Ну и отлично. Такое зрелище хоть кого... - Он не закончил фразу и, затянувшись, показал глазами на стенку, за которой лежал труп. - Родственник?
- Избави бог, в первый раз вижу. Пришел вот с работы, а он лежит...
- Вот как! - Он был неподдельно заинтересован. Выдвинул из-под стола еще одну табуретку, плотно уселся на нее и сказал: - Прежде всего давайте познакомимся. Майор милиции Семен Николаевич Козлов.
- Корнев Юрий Дмитриевич, работник министерства...
- Так, так. - Он помолчал, неглубоко затягиваясь. На лицо его набежала тень, но уже через секунду оно не выражало ничего, кроме участливого любопытства. Облокотившись локтем на стол, он глядел мимо меня, но я чувствовал, что ни одно мое движение не остается незамеченным. И ощущение опасности не проходило, пронизывая мозг и сердце. - Так как же могло случиться, Юрий Дмитриевич, что незнакомый человек проникает в вашу квартиру, без взлома замков, заметьте, и гибнет от отравления?
Я пожал плечами.
- Надеюсь, вы мне это и объясните. На то вы и милиция.
Это было здорово сказано, и я обрадовался, что с ходу нашел такой великолепный ответ. Значит, со мной все в порядке.
- Так, так, логично. - Он улыбнулся, ничуть не обидевшись. - Тогда прошу проверить личные вещи. Возможно, просто кража со случайным отравлением...
Вот это он зря. Мне даже стало неловко: совсем дурачком меня считает? Но правила игры здесь устанавливаю не я. И я ответил в тон, по-моему, очень натурально:
- Какие у меня ценные вещи! Часы - на руке, фотоаппарат, пара костюмов - кому они нужны? А потом, мне кажется, грабитель не стал бы оставлять на память свой труп.
Майор засмеялся. Видно было, что он понимал и ценил юмор. Я с пиететом отношусь к таким людям, принимающим шутку в любой ситуации, даже если она направлена против них. И мне стало легко и свободно. Обычно с работниками органов невольно чувствуешь себя скованным, даже если ни в чем не виноват. Так уж воспитаны у нас честные люди, особенно если они прошли страшную школу культа личности. Впрочем, за кем не водится мелких грешков, хотя бы в мыслях! Да и работники правоохранения у нас, как правило, суровы и непреклонны, находясь "при исполнении"... А тут - широкое добродушное лицо, сеть ранних морщинок, маленькие голубые глазки под белесыми бровями, быстрый московский говорок... Ни дать, ни взять душа-мужичок, какой имеется в каждом доме, главный активист на жэковских субботниках, с которым все жильцы запанибрата. Наверное, если бы не этот его распроетецкий вид, я не решился бы так лихо ввернуть про труп на память.
- Преступник свой труп и не оставлял. Он оставил труп своего товарища.
- ?!
- Их было двое.
У меня, очевидно, сделался здорово обалделый вид, потому что майор невольно улыбнулся. Но тут же нахмурился: почему-то мое удивление ему не понравилось. Будто я его в чем-то обманул. Все это длилось несколько мгновений, а потом лицо его снова стало профессионально доброжелательным. Только взгляд изменился - начали в нем проскакивать колючие звездочки.
- Пойдемте, Юрий Дмитриевич, я вам объясню. Пойдемте, пойдемте, на тело можете не смотреть.
Он мягко потянул меня в комнату. Пришлось подчиниться.
- Видите? На столе бутылка коньяка, ваза с яблоками и одна рюмка. Одна, заметьте. Все обставлено так, будто ваш гость, - я вздрогнул, и майор ободряюще похлопал меня по плечу, - ...будто ваш гость выпил в одиночку и почил в бозе. Только этого никак не могло быть, и вот почему: если коньяк отравлен, а я уверен, что это так, то больше одной рюмки он выпить не мог - яд быстродействующий. А судя по бутылке, здесь выпито больше, как раз на одну рюмку больше. Значит, надо искать вторую рюмку.
- Вы уверены, что это единственный вариант?
- Абсолютно. Не будь вы так расстроены, что вполне естественно, вам не надо было бы объяснять, что в случае отравления, если оно не нечаянное, может быть только два варианта - убийство или самоубийство. В данном случае нечаянное отравление исключается, отраву в коньяк подмешивают только с намерением. Самоубийство тоже отпадает: кончать счеты с жизнью не приходят в чужую квартиру. Разве что хотят довести до инфаркта заклятого врага, чтобы вместе направиться на тот свет, но этоуже из области фантастики. Поэтому...
- Поэтому ищите вторую рюмку, - согласился я.
Конечно, это был абсурд. С таким же успехом можно искать единственное антоновское яблоко в вагоне. Но не спорить же с милицией.
Майор пытливо взглянул на меня и сказал очень просто:
- Уже нашли. Она в буфете на кухне.
Он повел меня на кухню, держа за руку, будто я не ориентировался в собственной квартире. Ладонь у него была теплая и неожиданно мягкая. Я вдруг вспомнил, как в детстве, испуганный и трепещущий, плелся в угол за воспитательницей детского сада. Не помню, что я натворил, но в память врезался этот бесконечный мучительный путь. А на самом деле всего-то было несколько шагов.
В дверях мы столкнулись с доктором. Тот направлялся к мертвому, держа впереди себя потертый чемоданчик из тех, которые так и называют докторскими. По крайней мере, я так предполагаю; поскольку никогда таких чемоданчиков не видел, но в детективах они обязательно упоминаются. Еще двое сотрудников сосредоточенно рассматривали мебель - один в комнате, другой в кухне. Остальные куда-то исчезли. Не составляло особого труда сообразить, что они пошли по соседним квартирам.
- Вот где у вас хранятся рюмки, - майор потянул дверцу буфета. - Шесть штук в проволочной подставке. Одной нет, она на столе. А вот эта... - он достал рюмку. - Видите?
Да, разумеется, яблоко отыскать труднее. Не нужно быть Эркюлем Пуаро, чтобы понять, в чем дело. Рюмка была недавно вымыта. Даже капля воды на донышке не успела высохнуть.
- Поскольку вы, придя с работы и наткнувшись на труп, наверняка не поддали для бодрости, то рюмку вымыл убийца. Одно только непонятно: убийца наполнил обе рюмки отравленным коньяком, но как сумел не притронуться к своей? Ладно, придет время - узнаем.
Черт побери, сколько же я проторчал в столбняке у телефона, раз они успели обшарить всю квартиру и даже построить версию драмы, разыгравшейся здесь!
- Сядьте, - майор пододвинул мне табурет, сам сел на второй. - Постарайтесь вспомнить, когда вы потеряли ключи от квартиры?
Я замотал головой.
- Исключено. Деньги терял, ключи никогда.
- Так, может, давали кому-нибудь?
Вот оно! Что ж, рано или поздно, он бы об этом спросил.
- Давал. Сегодня. Своему сослуживцу Борису Сергеевичу Гудимову, - и, предупреждая вопрос, который так и висел на языке майора, торопливо добавил: - Но это не он. Не он. И лицо, и рост... Он гораздо ниже.
Майор не сводил с меня взгляда. Это был спокойный, внимательный взгляд, уже ничем не напоминавший учительский. Я бы сказал, что это был гипнотизирующий взгляд, если бы наша официальная философия не относила гипноз к явлениям сомнительным, ближе к метафизическим, а потому скорее всего ложным. И вообще майор уже не походил на простачка. Так в сказке Иванушка вдруг оказывается умнее всех. Глаза его вынырнули из морщин - уже открыто острые, проницательные, и мне стало неуютно, как человеку в переполненном троллейбусе, забывшему взять билет и нарвавшемуся на контролера.
- Рост кажется больше, когда тело лежит на полу, - медленно проговорил он. - А лицо...
В кухню вошел доктор, все так же неся чемоданчик перед собой.
- Разумеется, отравление, - с гримасой сказал он. - Какая-то бытовая гадость. Работал дилетант, таким количеством яда можно уничтожить роту десантников. Как только его не вырвало...
- Когда наступила смерть? - спросил майор, не отводя от меня взгляда.
- Пять-семь часов назад.
Майор выпрямился, все так же держа меня под прицелом.
- Ну что ж, Юрий Дмитриевич, пойдемте посмотрим, что за птица залетела в ваше гнездо.
И пропустил меня вперед.
Вблизи мертвец был еще страшнее. Правая нога так неестественно вывернулась, что казалась тряпичной, приделанной от огромной куклы. Я как уставился на эту ногу, так и не мог оторваться. Майор ловко распахнул пиджак убитого, полез в карманы.
- Служебное удостоверение, - сказал он, глядя на меня снизу вверх.
И стремительно, будто пружина, распрямившись, на одном дыхании прочитал:
- Гудимов Борис Сергеевич.
Он глядел на меня, а я молчал. Перехватило горло. Я смог только через силу покачать головой. Потом, напрягшись так, что шею свело судорогой, вернул себе голос.
- Не может быть! Это не он.
Майор сел на дивен, у которого лежал мертвец, усадил меня рядом. Я поджал ноги, чтобы не коснуться трупа.
- Возьмите себя в руки, Юрий Дмитриевич, это, конечно, ваш друг. Не сослуживец, как вы сказали, а именно друг. Просто сослуживцу вы бы не дали ключи от квартиры. Но зачем понадобилось вашему другу находиться здесь, в этой квартире, да еще в рабочее время?
То, что он говорил, все было правда и все - ложь. Но не объяснять же ему...
- Видите ли, - я как можно шире развел руками. - Не знаю даже, как сказать, чтобы вы поверили...
- Да уж как-нибудь скажите, - добродушно отозвался он. Глаза его опять нырнули в морщины, но теперь я был настороже.
- К счастью, у меня есть свидетели... Гудимов попросил ключи, чтобы спокойно поработать. Так он сказал по крайней мере при сотрудниках.
- А что он сказал не при сотрудниках?
- Я проводил его немного по коридору. Он был чем-то расстроен. На мой вопрос только раздраженно махнул рукой и пробурчал: "Ох уж это бабье, свяжись только!" Дело в том, что у него была женщина на стороне. Очевидно, им нужно было увидеться в спокойной обстановке и выяснить отношения.
- Кто же эта женщина? - Похоже, майор ничуть не поверил мне. Да и я сам чувствовал, как глупо, по-детски, звучат мои объяснения.
- Понятия не имею. Я слышал о ней, но видеть не привелось. Не настолько мы были близки с Гудимовым, чтобы он представлял мне своих любовниц.
Зря я это сказал, хотя все было правдой. Но такой правдой, которая ничего не объясняет.
- Так, так... - майор с хрустом потер ладони. - Женщина, говорите? Пришла в чужую квартиру и отравила любовника, вы ведь это хотите мне внушить. Что же, она со своим коньякам приходила? Хотя, конечно, современная женщина может... Она и курит, современная женщина. В пепельнице свежие остатки пепла, разных сортов, заметьте. Окурков, правда, нет. Очевидно, их выбросили в унитаз. Значит, курили оба, но... разные сигареты. А женщина не будет курить свои, если рядом близкий человек. Не ради экономии, просто ей так приятнее.
Он рассуждал неторопливо, будто сам с собой, но все это прямо относилось ко мне.
- Ну а мокрую рюмку тоже женщина поставила в буфет? Ведь полотенце-то кухонное рядом висит. А женщина, если она все продумала, такую мелочь не упустит. Это уже рефлекс. Нет, Юрий Дмитриевич, не было тут женщины. Придется вам...
- Семен Николаевич, - позвали из прихожей.
- Извините, - майор поднялся и вышел.
Вернулся он почти тут же, неся в руке носовой платок маленький, розовый, с кружевами. И, словно чтобы не оставалось сомнений, посредине платка шла жирная полоса помады. Честное слово, майор был расстроен. Он явно заподозрил меня. Да и как не заподозрить - одна рюмка чего стоит. И вдруг платок...
- Значит, женщина все-таки была, - сердито сказал майор. - Придется вам, Юрий Дмитриевич, посидеть на кухне, пока мы займемся убиенным. Подглядывать не рекомендую: зрелище не из вдохновляющих.
Они возились около часу. Снова обыскали всю комнату, несколько раз перевернули труп (было слышно, как со страшным стуком ударялись о пол конечности), сняли отпечатки пальцев с буфета, стола, дверных ручек. Потом молодой человек ловко и необидно взял мои отпечатки и любезно проводил меня в ванную, где я долго отмывал пальцы.
Наконец Гудимова унесли на носилках санитары, вызванные майором по телефону. Потом ушли и работники розыска. На прощанье майор спросил:
- Кстати, Юрий Дмитриевич, вы сегодня с работы не отлучались? По служебным делам, разумеется.
- Абсолютно нет. Можете спросить сослуживцев: весь день был у них на глазах.
- Это уж позвольте нам судить, кого спрашивать, - буркнул он. Впервые ему изменила выдержка. - И последний вопрос: как часто вы устраивали из своей квартиры дом свиданий?
- Первый раз в жизни, - сконфуженно признался я. - И то, как видите, неудачно.
Я не солгал. Действительно впервые я дал Борису ключи от своей квартиры. Более того, он вообще впервые был у меня. Первый раз оказался и последним.
- Ну ладно, - сказал майор. - Отдыхайте, если сумеете. А еще лучше - сходите в кино или ресторан. Только ни в коем случае не надирайтесь дома, в одиночку. Это не для вас.
Совет пришелся тем более к месту, что мне и самому невмоготу было оставаться в квартире, где каждая вещь, казалось, причастна к преступлению. Особенно псртрет... Как не обратили на него внимания сыщики? Впрочем, это я уже впадаю в тихое помешательство. При чем здесь портрет? Мало ли что померещится с расстройства. Надо взять себя в руки. Однако перед уходом я содрал рисунок со стены, разорвал в клочья и на лестничной клетке выкинул в мусоропровод. Милиция уехала в одном лифте, едва закрылись его двери, я вызвал другой и провожал взглядом "Волгу" с красной полосой, пока она не скрылась за углом. Весь дом уже знал, что произошло. Жестикулирующие у подъезда женщины разом замолкли и вцепились в меня страждущими взглядами. Они показались мне незнакомыми, все на одно лицо, хотя раньше я с каждой здоровался при встрече. Они и были на одно лицо - одинаково одухотворенные смачным любопытством.
И улица тоже изменилась. Такой я ее не помнил.
Что-то чужое, холодное появилось в ней. Вновь показалось, будто перешагнул я запретную черту и попал в злой мир Зазеркалья, где все похоже на наше, но все - карикатура. Узкие тротуары, крутой изгиб мостовой, исчезающей за серым облупленным домом с колоннами, причудливый узор из трещин на асфальте - все это вдруг повернулось незнакомой стороной, обросло множеством новых деталей и стало неузнаваемым. Так иногда открываешь вдруг новое звучание в с детства знакомом слове, и оно становится совсем другим - загадочным и мудрым, будто пришло из другого, тысячи лет назад умершего языка, и ты мучительно ищешь в нем первозданный сокровенный смысл.
Нет, у меня просто не хватало сил идти по этой улице, как не хватает сил у осужденного пройти последние метры до эшафота. Я поспешно свернул в переулок, потом в другой. Лишь бы подальше отсюда, подальше от дома, где так неожиданно был разрублен клубок, в который сплелись судьбы пяти человек. Я не шел - бежал, размахивая руками и бормоча что-то про эти судьбы. Встречные провожали меня странными взглядами. Я чувствовал эти взгляды спиной и невольно спотыкался.
Выручил троллейбус. Он внезапно возник у кромки тротуара, и я кинулся в его двери, будто там ждало избавление. И действительно, как только машина тронулась, я сразу успокоился. Народу было много. Меня тискали, давили, просили передать на билет, и ощущение, что я растворен в толпе, окутывало призрачным облаком безопасности.
Но чем дальше двигался троллейбус, тем больше пустел. Я стоял на задней площадке, и пассажиры проходили и проходили мимо, исчезая за вечерними стеклами. Когда осталось всего несколько человек, я не выдержал и, подчиняясь внезапному импульсу, выпрыгнул на тротуар.
Около огромного, сверкающего огнями здания в форме раскрытой книги стояла толпа, по большей части молодежь. Наиболее нетерпеливые парочки тискались у всех на глазах, остальные чего-то ждали. Я забился в самую середину и тоже ждал, не зная чего, лишь бы не быть на открытом месте. Потом двери медленно разошлись, все куда-то двинулись, и я со всеми. И, только споткнувшись о ступеньки, я поднял голову и прочитал полыхающую в ультрамариновом небе надпись: "Арбат". Сколько раз я гулял в этом ресторане: почему-то приезжающие из провинции директора заводов предпочитали приглашать министерское начальство именно сюда, где все подавляло безвкусной помпезностью. Вот, значит, куда я бессознательно стремился в толпу, в шум, в музыку, ввино...
Мне повезло: достался столик в самом углу, у окна. Правда, за стеклами сновали люди, но теперь это меня не беспокоило: все-таки между нами была хоть и призрачная, но преграда. Я тянул коньяк, почти не закусывая, пока перестал отличать полуголых танцовщиц варьете от их затянутых в трико партнеров. Потом напротив меня неизвестно как оказалась некая особа, на которой платья было еще меньше, чем на танцовщице, а прическа... Что-то знакомое. Ну да, Женя Левина пришла недавно на работу с такой прической и объявила, что сейчас это - самое, самое. А называется... Я напряг память. Точно: "Я упала с самосвала, тормозила головой". И лицо этой особы было мне смутно знакомо, где-то я определенно ее видел. Такое холеное лицо, капризное. Я пытался выяснить, где мы встречались, но язык у меня заплетался, и никак не удавалось связать слова в толковую фразу. А женщина была чем-то встревожена, что-то пыталась у меня узнать, очень важное для нее, и в гневном отчаянии стучала по столу кулаками. Почему-то меня это очень смешило. Потом она исчезла, а меня будто током ударил ее взгляд, который она бросила, уже отходя от столика, - поток презрения. Я выпил еще немного и сам не знаю, как очутился в вестибюле. Швейцар ласково придерживал меня за плечи и уговаривал быть паинькой, идти домой. И я потащился домой, держась для верности поближе к стенам и распевая на все лады прилипшую почему-то фразу "Шерше ля фам, мистер Шерлок Холмс, шерше ля фам".
Защитная реакция мозга - вот что такое эти мои внезапные провалы памяти. Оберегая себя от перенапряжения в экстремальной ситуации, мозг резко ограничивает приток информации... Я случайно прочитал это в газете, в репортаже о работах Бехтеревой, и мне сразу стало легко: значит, я не свихнулся. Наоборот, мой мудрый мозг делает все, чтобы я остался нормальным человеком. Потому и память до сих пор пошаливает. Нет-нет да и приходится мучительно напрягаться: кто же этот человек, что поздоровался со мной? А через пару секунд вспоминаешь: мой же сотрудник. Интересно, что каждого человека мне приходится вспоминать только один раз - дальше память работает бесперебойно.
Мое алиби доказано. Правда, я в этом не сомневался, но все же на душе становилось легче, когда сотрудники, кто раньше, кто позже, подсаживались к моему столу и, озираясь, шепотом сообщали, что некие посторонние товарищи очень и очень интересовались, не отлучался ли я с работы в гот день. И как эти товарищи упорно сомневались, что я действительно не отлучался.
Министерский коллектив - сложный конгломерат индивидуальностей, где каждый мнит себя личностью, которую судьба в чем-то обделила. Как в театральных труппах, только у нас нет антрактов. Придя в это серое неуклюжее здание с огромных комбинатов и небольших заводов, с шахт и карьеров, мы очень скоро начали понимать, что променяли дело на видимость деятельности, а конкретное руководство производством, где многое зависит от твоих деловых качеств, на призрачную власть, в которой твоя личность не играет никакой роли. Производственники в нас не нуждаются, они свою работу делают. А от нас требуется только одно - дать. Или, если применять обтекаемую бюрократическую технологию, - обеспечить предприятия. Обеспечить всем - фондами на сырье, оборудованием, средствами... Считается, что мы проводим техническую политику в отрасли, финансовую политику, экономическую политику, только, с какой стороны ни глянь, все выливается в одно - дать, дать, дать... Конечно, чтобы правильно дать - кому нужно и сколько нужно, - необходим и опыт, и знания, и способности. Надо быть хорошим инженером или экономистом. Но такого значения, как на производстве, здесь это не имеет. Посидишь год-два в министерских стенах, и, если у тебя за плечами лет десять производственного стажа, ты уже можешь работать кем угодно - хоть старшим инженером, хоть главным специалистом. Может быть, я и ошибаюсь, но в таком случае ошибаются все в "департаменте", ибо это расхожее мнение. А оно определяет и взаимооценку людей, каждый из которых не сомневается, что справился бы и с более высокой должностью, поскольку на любом министерском уровне идет не дело, а видимость... В этом - ключ к нашим отношениям между собой.
Потому так и тронула меня доброжелательность сотрудников. Даже Головко, мой заместитель, а до этого заместитель двух моих предшественников, "вечный зам", как называли его за глаза, сказал мимоходом, криво усмехаясь (он всегда криво усмехался, когда говорил гадости):
- Спрашивали мое мнение о твоей личности, Юрий Дмитриевич. В частности, способен ли ты на поступок. Не обижайся, но я сказал честно: не способен. Друг начальника - вот главное твое достоинство.
И хотя похвала эта звучала весьма двусмысленно, я был благодарен и Головко.
Но особенно умилил меня Иван Афиногенович, наш старейший работник, живая история министерства еще с наркоматовских времен. Родных он давно потерял и, кажется, решил работать до последнего вздоха. Да и что бы он делал на пенсии один-одинешенек? К тому же он страшно боялся перемен. На столе у него царил раз и навсегда установленный порядок, и если вечером уборщица нечаянно сдвигала календарь, то утром он, огорченно вздыхая, первым делом водворял его на положенное йесто. От любого самого незначительного изменения существующего порядка он ожидал самых ужасных последствий. В тридцать восьмом его привлекли по делу соседа, который что-то такое ляпнул на коммунальной кухне. Поначалу следователи и сами не определились, в каком качестве его привлекать: не то свидетелем, не то соучастником. Допрашивали его две сменные бригады двенадцать часов подряд, и все двенадцать часов он упрямо твердил в полуобморочном состоянии, что в этот вечер был в кино и при скандале на кухне не присутствовал. О чем бы его ни спрашивали - какой образ жизни ведет сосед, кто к нему ходит, не цитирует ли троцкистскую литературу, - он твердил про кино... Вряд ли он даже понимал эти вопросы. В конце концов измотанные следователи решили, что такого упорного врага народа лучше оставить свидетелем. Он и в суде на все вопросы твердил, что ходил в кино и ничего не знает. Не лучшие показания дали и другие жильцы, кроме одной стервы. Та твердо заявила, что сосед постоянно включает чужие лампочки в кухне и уборной (в коммуналках это бывало: каждый жилец имел свою лампочку в общественных местах и, разумеется, свой счетчик) и вообще он не наш человек, так как постоянно ворчит про очереди. Этого оказалось достаточным.
Сосед был полностью изобличен как клеветник на советскую действительность и получил десять лет (тогдашняя норма), а Иван Афиногенович так перепугался, что даже выбросил модное в то время пенсне, придававшее ему благородный, несколько старомодный облик. Страх не покинул его и по сию пору.
Когда объявили перестройку, мы боялись, что старику - конец. Ведь перестройка - это сплошные перемены. Но, к нашему изумлению, Иван Афиногенович явно воспрянул духом. Он стал быстрее двигаться, шире улыбаться, вступать в разговоры, не касающиеся работы, я даже выслушивать анекдоты. Раньше он делал каменное лицо и бочком, словно краб, отползал в сторону, едва кто-нибудь начинал: "А вот свежий анекдот..."
Когда на партгруппе обсуждали, как будем перестраиваться, Гудимов неожиданно попросил старика высказать свое мнение. Он любил иной раз выставлять людей на посмешище, а что путного мог сказать Иван Афиногенович о перестройке, раз никто из нас еще не знал толком, что это такое? Но ведь сказал ветеран, не ударил в грязь лицом. Выйдя к столу президиума, он помолчал немного, а потом неторопливо выдал:
- Я так понимаю, товарищи, перестройка - это когда общая цель становится для каждого личной, заветной. И каждый работает с полной отдачей, чтобы эту цель осуществить. Вот как мы работали в первой пятилетке...
Получилось так здорово, что все зааплодировали. Только Борис побледнел: понял, что остался в дураках.
Но и он, помедлив, несколько раз хлопнул в ладоши - а куда денешься?
Вот такой человек работает старшим инженером в моем отделе. И его тоже расспрашивали некие вежливые товарищи. Старик долго крепился, жалобно помаргивая на меня из-за круглых очков в металлической оправе, перевязанной суровыми нитками. Такие носили передовые рабочие в довоенных фильмах. В этих очках он походил на обиженную сову. Я, разумеется, понимал, в чем дело, и пошлейшим образом жалел, что не с кем заключить пари: решится старикан или нет. Все же он решился. Подобрался ко мне в коридоре по-крабьи, бочком, и, запинаясь, подхватывая ускользающие слова, исповедался:
- Есть для вас сообщение, Юрий Дмитриевич. Вот так, строго конфиденциально. С меня, конечно, не брали обязательства не разглашать, но я, конечно, понимаю, что нельзя... Вот так!
- Кажется, я догадываюсь, - сказал я, пожалев старика.
- Вот именно! - обрадовался он. - Я считаю, что вы должны знать, потому как не верю... Не верю... Ну, в это самое.
- В мою виновность, что ли?
- Ну да, ну да! Такой человек, как вы, не мог совершить такое ужасное... Ну, вы понимаете. Легкомыслие с вашей стороны - это да. Как можно было доверять Борису Сергеевичу! Ведь для него люди что винтики, он не жалел... - Старика даже передернуло от ужаса. - Впрочем, о мертвых ничего, кроме хорошего, хотя этого нынче не придерживаются. В общем, да простятся ему прегрешения! Но вы - это совсем другое дело. И я дал вам самую положительную... ээ... ну, вы понимаете.
- Дорогой Иван Афиногенович! - горячо сказал я, по-настоящему расчувствовавшись. - Вы даже представить себе не можете, как я вам благодарен!
Я чуть не расцеловал старика в морщинистые щеки, и он, видимо, это понял, потому что отошел счастливый и гордый. Он даже стал выше ростом, честное слово.
Итак, мое алиби доказано, и мне на мгновение даже стало скучно. Жизнь снова втягивала в привычную тусклую колею, где один день отличался от другого только по количеству вызовов к руководству да по степени нервотрепки, с этим связанной.
Таню я увидел только на похоронах. До этого не мог заставить себя пойти к ней, хотя это было, конечно, свинством. Лучший друг мужа оставил вдову без моральной поддержки... Но ведь я был и ее другом. Я знал ее вдвое дольше, чем Борис. Да, точно, вдвое. Двадцать лет назад в тесный класс маленькой деревянной школы уральского городка вошла девочка с синими глазами и смело уселась на единственное свободное место. А оно было рядом со мной...
На кладбище она пришла в черном, как и положено вдове. Но не пролила ни слезинки. Ее глаза, уже не ярко-синие, как в детстве, а скорее серо-голубые, прятались за ресницами, лицо было спокойное, вернее, застывшее и какое-то отрешенное. На все сочувственные фразы она только наклоняла голову и стискивала переплетенные пальцы. Увидев меня, подошла, постояла минуту, касаясь плечом, и молча отошла к могиле.
Странное, почти сомнамбулическое состояние овладело мной. Я стоял в толпе сотрудников, не подходивших близко к гробу, отмечал выражение их лиц, ловил обрывки разговоров, запечатлевая все как на видеопленку, и в то же время созерцал со стороны это скопление разных людей, колышущихся в тесном проходе между оградами и постепенно, по каким-то сложным, никем не регламентируемым, но психологически обоснованным траекториям подтягивающихся к яме. Даже видел, как осторожно они переступают с места на место, чтобы тише был чавкающий звук, с которым жирная кладбищенская земля отпускает ногу. Разумеется, мне только казалось, что я вижу их со стороны. Скорее, я представлял, как это выглядит, но представлял настолько отчетливо, что не мог отличить реальность от воображения. Наоборот, старался укрыться в воображении от реальности. На меня поглядывали с удивлением, а кое-кто и с брезгливостью: почему это близкий друг покойного не приближается к гробу? Впрочем, не все удивлялись. Некоторые упорно держались мнения, что я и не на такое способен. Я сам вчера слышал через неплотно прикрытую дверь, как наш инспектор Лидия Тимофеевна, исполняющая за полставки еще и обязанности секретарямашинистки, а совершенно бесплатно - главной сплетницы объединения, которую ненавидели и боялись, кажется, все сотрудники, так вот эта Лидия Тимофеевна с наслаждением вещала набившимся в приемную и млевшим от пикантной ситуации женщинам: "Немудрено, что от него ушла жена. Кто же допустит бордель в доме даже для начальника? Вот так-то устраиваются сильные мира сего, а попробуй кто из нас, маленьких... Ох уж эти мне друзья юности! Знают, с кем дружить и как дружить. Так и пролезают в люди..." Тут я распахнул дверь, и она разгневанно замолчала.
Вот до чего дошло: я уже и карьерист! Удивительно, сколько человек слышало, что Борис просил ключи именно, чтобы спокойно поработать, как ни странно выглядела такая просьба. Да и майор, разумеется, не распространялся о женском платочке с полосой губной помады, и здесь уже все знают. И глазеют на меня еще более бесцеремонно, чем женщины у подъезда моего дома. Сказать, что мы распространяем сплетни - значит, ничего не сказать. Просто мы живем в такой особой атмосфере, где не может быть ничего тайного, и ни в какой другой жить уже не можем. Недаром в своей среде мы не говорим "министерство", а употребляем всеобъемлющее и полупрезрительное "контора".
"...Хоть бы приличия ради поближе подошел, друг тоже!" услышал я за спиной пронзительный шепот, явно предназначавшийся для моих ушей. My конечно, это Лидия Тимофеевна, блистающая в похоронной процессии шикарным импортным костюмом ярко-алого цвета. Вот стерва! Все объединение с наслаждением проголосовало бы, чтобы ее пинком под задницу. Только ведь у нас не так просто выгнать мерзавца. Тут и профсоюз, и народный суд... А в Законе о трудовых коллективах о таких - ни слова. Руководителя можем прокатить на вороных, а подонка тронуть не моги. Пор-рядочки! Даже если бы вдруг захотел начальник объединения... Но начальник уже ничего не хочет. Он лежит в гробу, и лицо его прикрыто цветами, потому что врачи так и не сумели придать ему благопристойное выражение для перехода в лучший мир - выражение, которое он носил при жизни, мой лучший друг Борис Сергеевич Гудимов.
...Борис нагрянул на наш завод внезапно. Когда его референт позвонил нашему директору, чтобы подготовили гостиницу, Гудимов уже катил на аэродром. Он любил такие налеты - чтобы не успели подготовиться, причесать документацию, навести глянец. И это работало на его репутацию - самый молодой в министерстве главный инженер главка (тогда еще были главки) внушал не только почтительное удивление своей молниеносной карьерой, но и страх. Он был беспощаден к руководителям, допускающим ошибки, но всегда точно определял виновного. Если авария произошла, скажем, по вине главного механика илиглавного энергетика, то летели с работы только они - ни директор, ни главный инженер даже выговора не получали. "Здесь не детский сад, где за всех отвечает воспитательница, - говорил Гудимов. - Здесь взрослые люди со всей полнотой ответственности". Так он отвечал секретарю обкома или горкома, жаждущему заслушать директора на бюро, чтобы "отреагировать", "принять меры". И это тоже работало на его популярность. И в министерстве, и на предприятиях многие были уверены, что у Гудимова могучая рука в верхах. В самом деле, еще нет тридцати, а уже забрался на такую вершину, держится независимо, строг, но справедлив... Лет через двадцать станет замминистром, а то и в министерское кресло сядет - кто бы мог возразить против такой перспективы? Только в министерском кресле ему уже не бывать, а через двадцать лет и память о нем сотрется... Отдадим ему справедливость: не было у него руки. Только за счет своих личных качеств так стремительно взлетал он по служебной лестнице.
Вряд ли он помнил, что я работал на этом заводе. Уже лет пять, как прекратилась наша переписка, хотя в институте мы были очень дружны. Но, увидев меня в конструкторском бюро за кульманом, Гудимов даже бровью не повел.
- А, Юра, рад тебя видеть. - И, обернувшись к свите, пояснил: - Старый друг по студенческой скамье.
- Товарищ Корнев у нас на хорошем счету, - мило улыбнулся директор завода, чудом вспомнив мою фамилию.
- А иначе и быть не может, Юра очень талантливый человек, - так же мило улыбнулся главный инженер главка и двинулся дальше, бросив мне уже на ходу: - Зайдешь вечером в гостиницу. Часиков в девять.
Не спросил, свободен ли я в это время, хочу ли встречаться с ним. Отдал приказ и не усомнился в его исполнении.
И я пошел. Приказ есть приказ. Гостиница в нашем городе одна, так что ошибки быть не могло. И тем не менее администратор лишь пожала плечами, когда я спросил, в каком номере остановился Гудимов.
- Нету такого.
- Как же нет? - удивился я. - Сегодня прилетел из Москвы. Посмотрите получше.
- Нечего мне смотреть, - обиделась она. - Я всех постояльцев знаю. Говорю нет, значит, нет.
Ситуация получалась дурацкой, и это, должно быть, отразилось на моем лице, потому что женщина что-то сообразила.
- Где он хоть работает, твой Гудимов?
- В министерстве. Главный инженер главка.
- А, чтоб тебя, неграмотный! Да нешто такие люди у нас стоят? В горкомовскую иди, на Кленовую, пять, второй этаж.
До сих пор я и не подозревал об этой гостинице. Да и не гостиница это была - трехкомнатная квартира в доме для партийных работников. Борис ждал меня в том же костюме, в котором ходил по заводу, даже галстука не снял. Была у него такая замечательная черта: при посторонних, хотя бы это был близкий друг, не появлялся иначе как в полном параде.
- Задерживаешься, - коротко бросил он.
- Извини. Искал тебя в обычной гостинице.
Сказал я это с подковыркой, но до него не дошло. Или он сделал вид, что не дошло. Не умел он сразу отвечать на насмешку, терялся.
- Я так и думал. Наивняк ты, Юрка. Ну да ладно, посмотрим, чем нас батюшка Урал привечает.
Он открыл холодильник, битком, как я заметил, набитый, достал бутылку, другую.
- Смотри-ка, "Белый аист"! Ну, молодцы!
- А что это такое - "Белый аист"?
- Не знаешь? Молдавский коньяк, очень мягкий. Надо же, пронюхали, что я предпочитаю молдавские коньяки. Небось досье на каждого министерского чина ведут... Тут и водка есть, но мы ее трогать не будем. Иначе завтра... Ты как насчет этого дела, не пристрастился в провинции?
- Умеренно.
- Молодец! И вообще ты здесь в цене - толковый, трудолюбивый, исполнительный... Исполнительный - это хорошо. Вот только насчет инициативы ничего не сказали, но это не суть важно - инициативы у меня с лихвой хватает.
Он ловко накрывал на стол, резал колбасу, сыр, полосовал на дольки лимон, вскрывал банку шпрот, и все это молча, сосредоточенно. А я ждал, когда он продолжит разговор. За этой фразой об инициативе многое стояло - но что? Долго ждать не пришлось. После второй рюмки он буднично, будто между прочим, сказал:
- Есть у меня вакантное место: начальник техотдела. Думаю, ты мне подойдешь.
Вот так, без подготовки, без расспросов о житье-бытье, сразу в лоб, сразу о деле. В этом был весь Гудимов: дипломатии он не признавал.
- Шутишь, Борис, - пожал я плечами. - Какой из меня начальник техотдела? Рядовой конструктор...
- А мне и нужен рядовой. Зачем мне личности? Я и сам личность. Главное - исполнительный, все остальное придет. Я из тебя еще такого начальника сделаю...
- Но я не собираюсь киснуть в конторе, мне и на заводе хорошо. - Я старался, чтобы голос звучал спокойно. Коньяк уже начал действовать, и меня так и подмывало оборвать этого сноба, поставить его на место, чтобы не распоряжался моей судьбой. Достаточно и того, что он отнял у меня Таню.
- Ну что ж, - согласился он. - Не хочешь киснуть в конторе, кисни за кульманом. Но сначала взвесь все "за" и "против". Во-первых, Москва, где ты получишь отдельную квартиру. Во-вторых, работа - интересная, ответственная, с кругозором. В-третьих, я буду рад принимать тебя дома. И Таня будет рада. Иногда она тебя вспоминает.
Как ни мало я тогда знал Бориса, нового Бориса, каким он раскрылся в министерстве, но понял, что он лжет: не могла Таня вслух вспоминать меня.
А он, словно спохватившись, начал расспрашивать, как я живу. И только вскидывал брови, слыша, что живу в общежитии для молодых специалистов, в комнате на двоих, оклад сто двадцать, премии почти не бывают, так что с удовольствиями туго.
- Девушка хоть есть?
- Откуда? Здесь же староверский край, демидовские места. И старинные традиции в большом почете. Ты не обратил внимания: лето, жара, а ни одна женщина простоволосой из дома не выйдет? А насчет девушки... Пройдешься с ней по улице, даже не под ручку, и уже жених, иначе ее репутация пропала. А если у нее еще братья есть... В общем, тогда от женитьбы не отвертишься, хоть под поезд ложись.
- Не затаил на меня зла за Таню?
Только Гудимов с его отношением к людям мог задать такой опасный вопрос. И коньяк здесь был ни при чем. Как бы ни был он пьян, никогда не терял головы. И сейчас глядел на меня холодно, испытующе, будто эксперимент на лягушке ставил. Я старательно пожал плечами и ответил строчкой из модной тогда песни:
- Если к другому уходит невеста, то неизвестно, кому повезло.
- Молодец, Юра, хорошо сказал. Неизвестно, кому повезло... Да, брат, неизвестно...
Он помолчал, нахмурившись, вспомнив что-то невеселое. Молчал и я. Мы опрокидывали рюмку за рюмкой, курили сигарету за сигаретой и не пьянели. Или нам казалось, что не пьянели. Бутылка кончилась. Борис достал из холодильника еще одну. И опять мы молча опрокидывали рюмки.
- Да, Таня, - внезапно сказал он, когда и эта бутылка подходила к концу. - Она изменилась. Стала спокойная, плавная, строгая. Ты поразишься, когда увидишь.
Обмолвился он или действительно был уверен, что я пойду к нему работать? Лицо его расплылось, отяжелело, взгляд ушел внутрь, губы кривились. И я понял, что он не обмолвился: был уверен, что я возобновлю старое знакомство.
- Как у тебя с Таней? - Коньяк придал мне решимости, выплеснул то, что уже несколько лет копилось в душе. И он будто понял, как все эти годы я беспокоился: хорошо ли ей с ним? На мгновение потеряв выдержку, он зло глянул на меня.
- Все хорошо. Она счастлива, - твердо ответил он совершенно трезвым голосом. - Очень счастлива. Даже детей не хочет, чтобы ничего не менять.
И снова мне стало ясно: он лжет. Весь вечер лжет. Во всем. А Тане плохо, очень плохо.
- Хорошо, Борис, я принимаю твое предложение. Буду у тебя работать.
- Вот и чудесно, - спокойно ответил он, закуривая очередную сигарету. - Я знал, что ты согласишься.
И разлил остатки коньяка.
- Ляжешь в соседней комнате. Нечего в таком виде твоих староверов дразнить, - это прозвучало как приказ.
Через два месяца пришел вызов. Собирался я легко: чемодан да дорожная сумка - вот и все пожитки. И уже через неделю Борис привел меня в технический отдел главка.
- Знакомьтесь, товарищи, ваш новый начальник. Отличный работник. Мой старый и хороший друг.
Сотрудники переглянулись. Мне стало неловко. Ни для кого, разумеется, не секрет, что каждый начальник приводит в руководимые им подразделения своих - друзей, родственников, просто верных людей. Но зачем же так афишировать? Неужели не понимает, что ставит себя и меня в ложное положение? Тогда я еще не знал, что Гудимов ничего не говорит и не делает зря.
Можно ли называть другом человека, которого боишься, как боятся умную, отлично отрегулированную, но беспощадную в слепой рациональности машину? Тем более машину, имеющую над тобой власть, хотя по-своему и расположенную к тебе. Называть не вслух, не на людях, а мысленно для самого себя. Не знаю, Бориса я давно перестал называть другом. И не по моей вине приклеилась ко мне эта кличка - "друг начальника", определяющая для многих мое положение в главке. Положение, прямо скажем, двусмысленное. Ни разу на людях не переходил я грань служебных отношений. Зато переходил он. Чем дальше, тем больше. Дошло до того, что, заходя в отдел, он обнимал меня за плечи - начальник всесоюзного производственного объединения! - и громогласно, чтобы все слышали, вопрошал: "Юра, дружище, в мизере ты сумел меня посадить на пять взяток, а заставить северный завод освоить проектные мощности не можешь. Давай подтягивайся". Получалось фальшиво до неприличия, но Борис абсолютно не обладал музыкальным слухом. Впрочем, он и сам чувствовал, что перегибает палку, но лез напролом, и я знал, в чем дело: отношения у него с Таней не ладились. Разрыв был неминуем. Если к другому уходит невеста, то неизвестно, кому повезло... Мне не повезло, это точно. Тане тоже не повезло. Но больше всего не повезло Борису. Он сделал не тот выбор. Я знал Таню с детства, знал, какая она... Борис тоже знал, только слишком понадеялся на себя и ошибся. Лишь недавно начал он понимать, к каким последствиям может привести эта ошибка, и чем больше понимал, тем ярче демонстрировал нашу дружбу. Теперь почти каждый вечер он буквально силой затаскивал меня в свой дом. И почему-то это тут же становилось известным в объединении. У людей создавалось впечатление, что я сам набиваюсь к нему. Не знаю, как Таня, но недавно я разгадал его замысел...
Перестроение закончилось, и теперь все расположились у могилы, как предписано на официальных похоронах. Впереди вдова, ее родители, руководство министерства и объединений. За ними начальники отделов и дальше все остальные. Родных у покойного не было, и ничто не вносило разлада в этот канонизированный церемониал.
"Во как больших людей-то провожают: сам министр... Некролог в "Вечерке"... А нас, грешных, свалят в яму, и поминай как звали", - шепотом позавидовал кто-то позади. "А червям один черт, кого жрать", - насмешливо отозвался другой. Его, видимо, подтолкнули, и он умолк. У изголовья гроба встал министр. По привычке вытащил из кармана бумажку с текстом, но, вспомнив, что наступили другие времена, сунул ее обратно.
- Товарищи! - приличествующим случаю голосом сказал он. Ушел от нас отличный работник...
Да, тут, как говорится, ни прибавить, ни убавить. Работником Борис был великолепным. Он был рожден для руководящей роли, потому так ошеломляюще быстро выдвинулся. Он мог работать сутки, двое, трое без отдыха, работать горячо, весело, с азартом, заражая своей энергией подчиненных. И это доставляло ему наслаждение - пусть трудности громоздятся одна на другую, пусть прорыв за прорывом, пусть... Когда все шло гладко, он сникал. И не только сам мог работать, но и организовать труд других. А это важнее всего для руководителя. Потому-то в таком бешеном, инфарктном темпе работало объединение. Все воспринимали это как должное: само собой разумелось, что Гудимов иначе не умеет. Один я знал, чего это ему стоило, недаром два года прожил с ним в каморке студенческого общежития. На моих глазах он готовился к руководящей роли, не сомневаясь, что все его далеко идущие расчеты сбудутся. Вот только на Тане он женился не по расчету, о чем и жалел в последние годы... И в том, что я стал хорошим начальником отдела, - его заслуга. Приучил меня работать и, думаю, ни разу не пожалел, что доверил мне, рядовому конструктору, этот пост. Хотя тогда, в уральской гостинице, сам вопрос, подхожу ли я для такой роли, показался ему несерьезным. Он представить себе не мог, что кто-то не находит в административной работе того, что находил он сам.
Недаром министр с этого начал. Впрочем, что он еще мог сказать? Не будешь же превозносить моральные качества покойного, раз такая история... А сказать надо: не куда-нибудь, в последний путь провожаем. Интересно, как он выкрутится?
Я недооценил министра. Головастый мужик. Заговорил о справедливости и принципиальности покойного.
Что ж, и тут, пожалуй, никто не возразит. Борис был справедлив и принципиален во всем, что касалось работы. Каждому точно отмерял по заслугам. Не боялся признать и свои ошибки, причем не на трибуне, где вроде бы положено каяться и никто это особо всерьез не принимает, а в рабочей обстановке, перед подчиненными. Не стеснялся любому работнику, хоть заместителю министра, сказать, что он думает о том или ином решении. И очень редко ругал подчиненных на людях, чаще в своем кабинете, с глазу на глаз. Уважал, или, вернее, понимал, что надо щадить самолюбие человека. Спокойно выслушивал и критику в свой адрес, даже поощрял ее. Впрочем, ошибки начальника всегда почему-то оказывались незначительными, не влияющими на конечный результат, а подчиненные... Подчиненные иногда уходили с работы. У Бориса была замечательная черта: он никогда не пытался задержать сотрудника, подавшего заявление на расчет. Подписывал с ходу. И рассуждал вполне здраво: если человек не хочет здесь работать, то он уже не работник. Так что никто, пожалуй, не скажет, что на работе Гудимов был несправедлив или непринципиален. Впрочем... Я невольно обернулся, ища в толпе Гришу и Женю Левиных. Они могли бы сказать... Но я тут же забыл о них, потому что за мной стоял... майор Козлов. Вот уж кого я не ожидал увидеть! Очевидно, он понял, что я сейчас вскрикну, потому что быстро приложил палец к губам, а потом повернул меня лицом к могиле.
Сколько раз читал, как у людей от неожиданности мысли вихрем кружатся в голове, и если допускал такой факт, раз пишут, то всегда с поправкой на то, что авторы-то сами этого не испытывали, а знают с чужих слов, если просто не придумали. А тут у меня самого мысли закружились в таком хороводе, что я вынужден был на кого-то опереться, чтобы не упасть. Это были даже не мысли, а растерзанные обрывки, и судорожные попытки остановить их дикую пляску, разложить все по полочкам причиняли самую настоящую физическую боль. Но все же мне это удалось, хотя я весь покрылся потом. Почему я раньше не заметил майора? Зачем он здесь? Ведь мое алиби доказано. Неужели все-таки подозревает? Вот сейчас возьмет за плечо, шепнет на ухо: "Следуйте за мной", а там допросы, допросы, допросы... Ледяная волна безнадежности окатила меня с ног до головы. Если бы в этот момент майор действительно взял меня за плечо, я бы грохнулся в липкую кладбищенскую грязь и забился в истерике. Но момент прошел, и та же ледяная волна заострила мои нервы, и только что отошедшие страхи показались детски смешными. Ну почему обязательно я? У меня алиби... Прошло то время, когда можно было безнаказанно сажать невинных, чтобы повысить процент раскрываемости преступлений. Он наверняка ищет ту женщину. "Шерше ля фам, мистер Шерлок Холмс, шерше ля фам", - вспомнилось вдруг. Знать бы, кто она. Но Борис только раз мельком обмолвился, что у него "шикарный романец с дочерью такого человека!". Помню, как меня это удивило: почему-то я думал, что он равнодушен к женщинам. Да и как можно думать о ком-то, если рядом Таня! Я это на себе испытал: два года прожил с женой и каждый раз, когда обнимал ее, обнимал Таню... Потом я сообразил, что Борис не зря сказал мне про свой роман. Неужели он хотел, чтобы я сообщил это Тане? Только я не стал ей ничего говорить. Не знаю, причинил бы этим ей боль, но себе - это уж точно.
Однако такая неопределенность невыносима. Майор за спиной, как гвоздь под лопаткой, - мешает дышать. Я резко обернулся, чтобы покончить с неопределенностью. Он дружески подмигнул.
- Каково разливается, а?
Фраза неожиданно получилась двусмысленной, потому что как раз в этот момент на старой рябине, под которой вырыли могилу Гудимову, громко запела какая-то птица. Министр сбился и недовольно оглянулся, будто хотел приказать референту навести порядок.
- О мертвых, конечно, плохое не говорят, - продолжал майор, - но все-таки... Кое-кто здесь, - он повел головой на задние ряды, - определенно не разделяет такого радужного мнения о покойном.
Смотри, какой глазастый, уже подметил! Я подумал, что мое дальнейшее молчание может быть неверно истолковано.
- Начальник не может угодить всем.
- А угождать не надо, - быстро отозвался он. - Начальник должен вызывать уважение. Это обязательно. Я знавал начальников, больших руководителей, на которых подчиненные смотрели с обожанием, даже когда те в пух и прах разносили их. А девушка, которая стоит позади нас, взявшись за руки с молодым человеком, черненькая такая, только что от души вздохнула: "Есть бог на небе!" И паренек кивнул.
Это он о Левиных. Я стиснул зубы. Не хватало еще, чтобы я рассказал ему эту пакостную историю, воспоминания о которой до сих пор ложатся на мою душу как плевок.
- Я вот все думаю: вдруг в этой толпе между могилами стоит и убийца, такой же, как все, с таким же траурным лицом, доверительно продолжал майор. Он все-таки положил мне руку на плечо, но так, мимоходом, что я сначала даже не заметил. - Кстати, убийцам очень легко дается траурный вид. Представляете: стоит, слушает, и никаких угрызений совести. А ведь должны быть очень серьезные причины, чтобы совесть молчала. Так в чем же эти причины - в личности убитого? В трагическом стечении обстоятельств? Или человек, подмешавший яд в коньяк, был уверен, что выполняет свой гражданский долг?
Я с изумлением уставился на него. Следователь, карающий меч... и философия. Философствующий меч!
Что-то противоестественное. А он, будто не замечая, продолжал:
- Впрочем, все это домыслы. Исхожу из древней теории, что преступника тянет на место преступления. К сожалению, преступники нынче образованные, теорию знают, заранее ходы следствия рассчитывают. И приходится под них подстраиваться. Идти их ходами, чтобы потом сделать неожиданный поворот. Так что, дорогой Юрий Дмитриевич, нам предстоит кропотливая работа.
Я только открыл было рот, чтобы спросить, кому это "нам", как он оборвал сам себя: "Тс-с, последний акт".
Началось прощание с покойным. Кто-то предусмотрительно сдвинул цветы, обнажив лоб, чтобы вдова могла запечатлеть на нем последний поцелуй. Я затаил дыхание: поцелует или... Не поцеловала! На какой-то миг я ужаснулся верности моего предвидения. Вот характер! Подошла, наклонилась низко-низко, но губы подобрала внутрь и не коснулась голубовато-фиолетовой кожи. Девочка с синими глазами никогда не умела прощать. Неужели она тоже догадывалась... Я быстро взглянул на майора: заметил, дьявол. Определенно заметил. Что-то блеснуло в его глазах.
Гроб опустили в могилу, все бросили по комку земли, возложили венки и потянулись к выходу. Министр посадил Таню в свою "Чайку", члены коллегии нырнули в "Волги", остальные, соблюдая приличествующую степенность, полезли в автобусы. В один - кто поедет на поминки, в другой - кто уклонился от приглашения. Списки составлялись заранее. Я направился ко второму автобусу. Пусть болтают, что хотят, но пить за то, чтобы земля была ему пухом...
- Есть к вам разговор, Юрий Дмитриевич, - сказал майор, шагавший рядом. - Я отвезу вас домой, по дороге и поговорим.
Я растерялся, и, пока придумывал, как бы отказаться, он аккуратненько провел меня мимо автобуса и так ловко посадил в машину, что я опомнился, только когда уткнулся носом в ветровое стекло. К счастью, машина была без красной полосы, обыкновенная бежевая "Волга", иначе завтра на работе наверняка собирали бы мне на передачу. И больше всех старалась бы, разумеется, Лидия Тимофеевна.
- Мне нужна ваша помощь, - сказал майор, выруливая на дорогу и обгоняя автобусы. - Дело это необычное, специфическое, мотивы преступления, очевидно, очень сложны. Короче говоря, чтобы отыскать убийцу, необходимо знать жертву. В каждой версии надо безошибочно определять, могли ли события разворачиваться именно так, а не иначе. Я прошу вас принять самое активное участие в следствии. С руководством министерства вопрос согласован.
- Ну, коли так... - только и смог я сказать, захлебнувшись острым подозрением, что он просто морочит мне голову. Нашел помощника! А может, я должен сыграть роль подсадной утки или это настолько ловкий ход, что мне нипочем сейчас не догадаться, а когда пойму, будет поздно? Как бы то ни было, я замолчал с открытым ртом, а он, ничуть не смущаясь, продолжал:
- Кстати, вам не приходилось видеть, чтобы кто-либо из ваших знакомых курил американские сигареты "Кэмел"?
- Представьте себе, приходилось, а что?
- Помните пепел в вашей пепельнице? Так вот, он был от сигарет "БТ" и "Кэмел". Что касается "БТ", то их курите вы, курил Гудимов...
- Я курил и "Кэмел" месяц назад, на дне рождения у Гудимова. Угостила какая-то девушка.
- Что можете сказать о ней?
Голос его оставался на удивление спокойным, а я-то думал, что от такого известия он, во всяком случае, возликует. Но вопрос задан, надо отвечать.
Я покачал головой.
- Боюсь, что очень мало.
Я действительно не запомнил ее. На торжестве у Гудимова было много людей, почти все высокого полета - из Совмина, Госплана. Из старых друзей остались только я и двое наших заместителей министра, явно чувствовавших себя не в своей тарелке: ранг остальных был выше. Я слышал удивленные возгласы гостей, привыкших встречаться друг с другом на ответственных совещаниях и вдруг столкнувшихся здесь. И они уже по-новому глядели на хозяина, сумевшего собрать их под одной крышей. Впрочем, удивлялись не все. Некоторые гости молча обменивались рукопожатиями, будто не сомневались, что встретятся здесь. Однако я заметил, что они тут же расходились по разным углам и друг с другом почти не разговаривали.
Впрочем, мне было не до этого. Я ухаживал за Таней. Ухаживал по просьбе ее мужа.
- Старик! - сказал он, дружески стиснув мне плечо. Татьяне будет очень трудно. Она почти никого не знает, к тому же у нее неприятности на работе, до веселья ли сейчас. Постарайся быть почаще возле нее. Ей это поможет.
Признаться, сначала я встретил его просьбу с недоверием. Тогда у меня возникали уже подозрения насчет его замысла. Но, увидев Таню, я убедился, что он прав. Она казалась какой-то потерянной. Хлопотала на кухне, разносила тарелки, накрывала на стол - все это со спокойным, приветливым лицом. И для каждого гостя находилось у нее нужное слово. Но в глубине ее глаз стыла растерянность и тоска. И по временам она на мгновение замирала, будто наталкивалась на невидимую преграду.
Я и сам чувствовал себя неважно, как бедный родственник на барской свадьбе. Представляя меня гостям, Борис говорил только одно: мой старый друг. Для опытных людей большего не требовалось. Женщины мне еще улыбались, но мужчины равнодушно отводили глаза. И меня все сильнее тянуло к Тане, как и ее тянуло ко мне.
Удивительно, но я почти не помню застолья. Какие тосты провозглашались, какие разговоры вели - все изгладилось из памяти. Очевидно, и вспоминать было нечего: застолье всегда одинаково. Но два момента врезались в память: епростые это были ситуации. Первый - тост Теребенько, хозяина одной из оборонных отраслей. Низенький, расплывшийся, с багровой рожей, он был уже здорово пьян, когда, толкнув соседку толстой задницей, встал с рюмкой в руке. И кое-кто из гостей поморщился: Теребенько здесь хорошо знали. Вот у него действительно была рука, и не где-нибудь, а на самом верху: он был женат на племяннице какого-то лидера. И хотя то время давно уже осудили как застойное, Теребенько прочно сидел в министерском кресле.
- Кажу, громадяне, тост, - гаркнул он, раскачиваясь и мучительно подбирая слова забытого родного языка, об этой его слабости в наших кругах ходили анекдоты. - Здесь усе казали за именинника, найкращего нашего Бориса Сергеевича, окромя наиважнейшего. А я кажу: примем по чарке за майора Гудимова.
- Я не майор, - сдержанно улыбнулся Борис.
- Брешешь, хлопец, майор ты, - упрямо боднул головой Теребенько. - Уси великие дела вершили майоры. Кто первый полетел у космос? Майор. Кто на этом... как его? А, острове Свободы пинком под зад лидера? Майор. А в этой, в Южной Америке, кто все переворачивает? Опять же одни майоры...
Вроде ничего особенного не сказал пьяный, но почему некоторые гости побледнели и обменялись тревожными взглядами? Я буквально кожей ощутил, что вот-вот взорвется каменная тишина, обрушившаяся на праздничный стол.
- Ладно, Трофим, выпьем за майора, - улыбнулся Борис. Только обижаешь, начальник, мало даешь. Я бы и от генерала не отказался.
- Генерал - это чуток погодя. Когда дело сделаешь. Тогда мы тебе не то что генерала - генералиссимуса навесим. - Теребенько вдруг уронил голову на грудь и как-то осел. И стало ясно, что он не просто пьян, а пьян смертельно - в лоскуты.
Не слова его меня поразили. В конце концов чего ждать от пьяного, которого даже собственные референты за глаза обзывают. Но когда один с острым как топор лицом и злыми, глубоко посаженными глазами, уронив стул, кинулся к нему и буквально на руках вынес из комнаты, а большинство присутствующих сделало вид, что ничего не произошло, и наперебой заговорили кто о чем, вот тогда мне стало не по себе. И особенно когда по телефону срочно вызвали машину Теребенько и его тут же отправили на дачу - я сам слышал, как в дверях Гудимов жестким голосом давал наставления водителю: домой не заезжать, мигом на дачу - и под холодный душ.
И второй момент отпечатался в памяти - разговор между мной и Таней на кухне.
Она стояла возле стола, заваленного грязной посудой. Надела белый, с кружевами, фартук, хотела, наверное, мыть тарелки, но руки опустились, и на лице дрожала гримаса. Именно дрожала - гримаса отвращения. Очевидно, Таня хотела согнать ее, натянуть маску доброжелательной хозяйки, но сил уже не было. Увидев меня, она отвернулась к окну: не хотела, чтобы я понял ее состояние.
- Помочь вымыть посуду? - предложил я.
- Спасибо, Юра, не к спеху. Посиди со мной.
Я сел. Она закурила сигарету, отошла в противоположный угол. Ее волосы были безукоризненно уложены, длинное платье с разрезом сбоку подчеркивало изящество фигуры, сохранившей девичью грацию при сложившихся формах зрелой женщины. Ей было тридцать пять - возраст, когда женщина дает беспощадную оценку достигнутому и четко прогнозирует свою дальнейшую судьбу. Таня защитила кандидатскую диссертацию, жила в полном достатке, включая "Жигули", на которых лихо гоняла по московским улицам, но не имела детей... И я уверен: она была несчастна.
- Скажи, Юра, ты доволен своей жизнью?
Я не заметил, как она повернулась ко мне. Теперь в глазах ее горели огоньки - то ли отражался свет люстры, то ли она решилась на поступок, который давно вынашивала. И сейчас в этой роскошной кухне, облицованной багровой плиткой в тон импортному гарнитуру, в который был вмонтирован мягко урчащий "Розенлев", определялась ее судьба.
- Что значит доволен, - сказал я, понимая, что за этим вопросом стоит гораздо большее. - Работа есть работа, а личная жизнь... я уже потерял надежду ее устроить.
- Но все же... Ты занимаешь неплохой пост, с Гудимовым у тебя прекрасные отношения. Есть ли причины для недовольства?
- А ты считаешь, этого достаточно, чтобы быть счастливым?
Что-то в моем тоне придало ей решимости. Что-то, чего она ждала. Она сделала несколько шагов ко мне и теперь стояла совсем близко. Мы почти одного роста, я чуть повыше, и ее губы были где-то рядом с моими.
- А решился бы ты все бросить? - я скорее угадывал, чем слышал ее шепот. - Ради другого человека... Пошел бы простым инженером на завод, на рядовую зарплату?
Я хотел ответить и не мог. Комок застрял в горле. Но она поняла. Закрыв глаза, прикоснулась щекой к моей щеке, постояла так минуту. А когда отступила, была уже прежней Таней спокойной, холодноватой, выдержанной.
- Сейчас намелю кофе, настоящего, из Аргентины привезли, попьем с тобой. А эти, - она кивнула на комнаты, откуда доносились звуки магнитофона и голоса, - перебьются растворимым.
Дальше мы говорили о пустяках, пили кофе, улыбались друг другу, будто между нами все было уже решено. А потом она прогнала меня и занялась кофе для гостей. Я вышел на лестничную площадку покурить. Там было много народа, мужчин и женщин. У всех - безмятежные, довольные лица. Инцидент с Теребенько будто бы прочно забыт. Вот здесь меня и угостили "Кэмел". Какая-то девица протянула пачку и сказала, нагло улыбаясь:
- Угощайтесь по-родственному. Пора бы нам и познакомиться.
Не ручаюсь, что до меня сразу дошел смысл этой фразы: так был занят Таней. И не стал уточнять, что значит "по-родственному"? Да и на нее почти не обратил внимания. Помню, что была она слегка навеселе, в прекрасном настроении, высокая, худая и совсем без бюста, будто его тщательно спрятали. Очевидно, так и было - сейчас в моде плоская грудь. Прическа у нее тоже была какая-то взлохмаченная, но я особенно не приглядывался. И забыл о ней, как только вернулся в квартиру. Пустили пленку, и я танцевал с Таней - один танец, другой, третий... Наверное, это было неприлично: танцевать все время с хозяйкой дома, кое-кто из женщин понимающе перешептывался. Ну и черт с ними! Тем более что Борис в конце вечера пожал мне руку и шепнул:
- Спасибо, старик, ты и не представляешь, как много сделал для меня сегодня.
Только глаза у него были при этом непривычно тревожные.
Это я и рассказал майору. Разумеется, не все - про Таню ни слова. И рассказ получился куцый, в несколько фраз.
- Вот видите, ниточка есть, - сказал майор без особого, впрочем, энтузиазма. - Женщина потеряла платок, женщина угощала вас сигаретами, которые бывают далеко не у каждого, и эта женщина хорошо знала убитого, была в числе приглашенных.
- Шерше ля фам, мистер Шерлок Холмс! - вдруг выпалил я. Получилось здорово глупо, но майор только засмеялся.
- Найдем! - сказал он.
Таня позвонила дня через три после похорон. Я за своим рабочим столом делал вид, будто читаю документ, составленный Гришей Левиным, а сам исподтишка наблюдал за ним. Он тоже делал вид, что работает, уткнулся в бумаги, усердно водил ручкой. Но по тому, как колпачок ручки кивал в разные стороны, словно поплавок на волне, было ясно, что все это - липа. Временами он вскидывал взор к потолку, как бы обдумывая текст, и открывались его глаза - до краев наполненные скорбью. Иногда его взгляд скользил по мне, и я поспешно опускал ресницы: до сих пор не прошло это ощущение боли и бессильный ярости - ощущение червяка, попавшего под безжалостный сапог.
Гришин взгляд бередил душу, будто водил по ней тупой бритвой. Уже который день меня не оставляло ощущение, что теперь, когда Гудимова нет, нужно немедленно куда-то бежать и что-то делать, чтобы отвести то страшное, гнетущее, что нависло над человеком. Неожиданно я вспомнил, что видел уже такой взгляд. Да, точно такой же. И он так же меня разбередил.
Это было месяца три или четыре назад. Я возвращался на метро с работы. Пришлось задержаться на совещании, и в это время, сразу же после часа "пик", в вагоне было относительно свободно. Люди входили и выходили на остановках, молчаливые, озабоченные своими делами, а я, прикорнув на сиденье, блаженно расслабился. И вдруг меня резанул взгляд, как вопль о помощи. У дверей, раскачиваясь, стоял человек. Интеллигент, это было сразу понятно. Не по одежде: он был очень скромно одет. Но было в его лице что-то такое, что сразу выдавало человека, живущего одухотворенной жизнью. Даже то, что он пьян, не могло стереть эту печать одухотворенности. А пьян он был здорово, но водка не заглушила душевную муку этого человека. Когда эмоции доходят до взрыва, алкоголь действует прямо противоположно: обостряет их. Но какие-то тормоза у него отключились. Он плакал, как плачут дошедшие до предела мужчины, не замечая этого. Слезы катились по его лицу, искаженному страданием и, как мне показалось, ужасом перед чем-то страшным, необъяснимым... Он хватал окружающих за руки, за плечи и что-то говорил, говорил, вхлипывая и давясь от слез. Ничего нельзя было разобрать, водка все же сковала его язык, понятна была только одна фраза, которую он все время повторял: "Товарищи, где же правда, где же правда? Ее же обещали..." Очевидно, это больше всего мучило человека. Люди отворачивались, отходили. Не так, как отворачиваются от обычного пьянчуги, а как-то растерянно, с сочувствием. Черт побери, когда же мы научимся открыто сочувствовать человеку? А он снова и снова пытался что-то рассказать, еле ворочая языком, что-то страшно важное не только для него - для всех. Но отчетливо звучал лишь настойчивый рефрен: "Товарищи, где же правда?"
Мне пора было выходить. Я пошел к дверям, мимо него, повернувшись к нему лицом. Я просто не мог пройти отвернувшись, как другие. Он схватил меня за рукав и забормотал, и глаза у него были такие, что я неожиданно для себя погладил его по редким, с густой проседью волосам, как обиженного мальчика, и начал уговаривать успокоиться. Но он не слушал. "Они же обязаны, обязаны, ведь перестройка..." - всхлипывал он, и его расширенные ужасом глаза видели за моей спиной что-то страшное, наползающее, как зловещая тень. И я ощутил, что до боли в сердце понимаю этого человека, раздавленного чудовищным несоответствием между тем, как должно быть, и тем, как есть еще на самом деле.
Точно такой же взгляд - затравленный, потрясенный чудовищной несправедливостью - был у Гриши, и я спрятал его в сердце. В тот затаенный уголок, где копил всю боль и обиду в сладостной надежде когда-нибудь выплеснуть все это в глаза людям, которые в этом виноваты.
Эта мерзкая история произошла два месяца назад, Министерство построило дом, и на наше объединение выделили три квартиры - как водится, однокомнатную, двухкомнатную и трехкомнатную. Левины в нашей очереди стояли третьими. Детей у них не было, и однокомнатная представлялась им волшебной пещерой Али-бабы. У них были жуткие жилищные условия. Коренные москвичи, они практически не имели жилья. И у его, и у ее родителей ютились по две семьи в квартире, но санитарной нормы как раз хватало, чтобы райисполком не ставил на очередь. Женя и Гриша снимали в коммуналке комнату у богомольной старухи, промышлявшей свечами на Ваганьковском кладбище. Какие уж тут дети! А Женя страстно мечтает о ребенке, она создана для материнства. Только время проходит, ей уже под тридцать, еще несколько лет, и будет поздно. Так вот, четвертой в списке была старший инспектор Лидия Тимофеевна.
Меня охватило тревожное удивление, уже когда наши женщины стали оживленно обсуждать перекупку Лидией Тимофеевной у кого-то очереди на кухонный гарнитур. Забеспокоилась и Женя. Лицо ее заострилось, каждая черточка стала резче, взгляд черных глаз сделался колючим и злым. Лишь идеалист Гриша ничего не почувствовал. Да и я недооценил эти зловещие намеки, был занят своими сердечными делами. Иначе, конечно, предупредил бы Гришу, чтобы он был осторожнее. Но кто мог подумать, что он совершит такую вопиющую глупость, которая, теперь я в этом уверен, была хладнокровно инспирирована.
...Все было как положено. Райком прислал разнарядку на овощную базу. Партком министерства распределил ее между подразделениями. Секретарь нашей парторганизации по согласованию с Гудимовым раскидал количество людей по отделам. Мне досталось выделить трех человек.
- Кого пошлешь? - спросил меня Борис накануне.
Помню, я удивился: раньше он никогда не интересовался такими мелочами. Но в конце концов какое это имеет значение?
- У нас трудовая повинность по строгому графику, - рассмеялся я. - Завтра пойдут Головко, Женя Левина и Пискарева.
- Не годится, - мотнул головой Борис. - Что это вы все на бабах выезжаете? Работа тяжелая, тут мужики нужны. Да и Левина завтра будет занята: повезет письмо в Госстандарт. Замени ее мужем, чтобы никому обидно не было.
Вот и все. Что можно было заподозрить из этого разговора? Письмо в Госстандарт составляла Левина - ей и проталкивать его. А о том, что произошло на базе, передаю со слов Гриши.
- У меня и в мыслях ничего такого не было, - стонал он, хватаясь за голову. - Еще в метро встретились с Головко, проехали две остановки, почти не разговаривали - о чем с ним говорить? Выходим из вагона, а он вдруг: "Левин, ты как насчет того, чтобы нарушить Указ о борьбе с пьянством и алкоголизмом?" Я говорю, что вроде бы неудобно, только вчера, мол, собрание провели по этому поводу, в общество трезвости записывались, а он только ухмыляется: "Если у тебя нет при себе пятерки, я тебе, так и быть, займу". И правда, часа через два подходит ко мне с деньгами. "Левин, общественность делегирует тебя как самого молодого и шустрого. Шесть бутылок водки и закусь минимальную сообрази. Да в темпе, очередь надо заранее занимать. Только насчет закуси не проявляй широту натуры: у каждого есть с собой, да и я в соседнем складе бочку с солеными огурцами присмотрел. Кстати, здесь и твоя пятерка, завтра отдашь". Я еще удивился, что это он вдруг с юмором заговорил. От такого дуболома даже приятно было слышать.
- Идиот, как же ты не насторожился? Ведь Головко в жизни никому денег не одалживал, да и пил до Указа всегда на халяву.
- И в голову не пришло, - Гриша чуть не плакал. - Все выглядело так естественно: на складе холодно, сыро, картошка мокрая, склизкая, перебираешь ее, и тошнит... Я и пошел.
Короче говоря, он пошел и купил водки. И вся команда нашего объединения, пятнадцать человек, с удовольствием выпила - мужчины побольше, женщины поменьше. Гриша говорил, что и остальные команды - а там было не только наше министерство втихую пили, и я ему верю. Нельзя же быть ханжами в конце концов. Ну, записались мы накануне в общество трезвости, но бывают же обстоятельства... А после работы на овощной базе полстакана водки - как дар божий.
А на другой день было заседание профгруппы, где утверждалось распределение квартир. Так, формальность, которую давно следовало провести, но почему-то оттянули на последний момент. И перед самым голосованием вдруг слово взял Гудимов.
- Позвольте не согласиться с вами, товарищи, по поводу кандидатуры Левина, - говорил он, и слова его падали на притихших людей глыбами серого шлака. - Квартиры даются не только тем, кто плохо живет. У нас еще, к сожалению, определенный контингент трудящихся обитает в стесненных условиях. Квартиры даются тем, кто вместе с нами самозабвенно работает на перестройку, кто разделяет наш образ мыслей, не держит камня за пазухой. А сегодня я убедился, что Григорий Львович Левин не наш человек.
Наступила жуткая тишина. Такая, наверное, бывает в мрачных глубинах океана, где колоссальное давление расплющивает все живое. Сотрудники со страхом переглядывались. Именно со страхом, я не оговорился: на их глазах крушили гласность и демократию. Все понимали, что Гудимов уничтожает Левина, чтобы не дать ему квартиру. И все знали, кому он хочет ее дать.
- Каждый из нас знает, какое значение придает партия борьбе с пьянством и алкоголизмом, - продолжал Гудимов. Совсем недавно мы провели собрание ва эту тему, многие из нас вступили в общество трезвости. Левин тоже записался и что же? Вслед за этим осуществил прямую провокацию.
Мертвую тишину вдруг прорезали хриплые, задыхающиеся звуки. Это пыталась что-то сказать и не могла Женя.
- Не мешайте проводить собрание, Левина! - обрушился на нее начальник. - Вы, конечно, попытаетесь обмануть общественность, оправдать вашего распоясавшегося супруга, который во время перестройки тянет нас назад, к застойным временам, бросает тень недоверия на новый этап общественного развития, в который вступила наша страна. Не выйдет! Здесь собрались честные люди, настоящие патриоты, и они не позволят вам... Впрочем, не все еще знают, что сделал Левин. А сделал он вот что: дискредитировал важнейшее общественно-политическое мероприятие, каким является участие горожан в осуществлении Продовольственной программы. Во время работы иа овощной базе устроил коллективную пьянку. Организовал сбор средств, лично принес водку и сагитировал всех напиться. Я не буду давать оценку этому поступку, она вам ясна. Так же вам ясно, каким должно быть наказание за пьянство на рабочем месте - а овощная база являлась в тот день рабочим местом. Я перечислю виды наказаний, принятые повсеместно, - лишение квартальной премии, лишение тринадцатой зарплаты, перенос отпуска на зимнее время, перенос очереди на улучшение жилищных условий в конец списка. Поскольку ни квартальной премии, ни тринадцатой зарплаты мы не получаем, а отпуск за этот год Левины успели отгулять, у нас осталась одна мера воздействия квартира...
Он на мгновение замолчал, и все затаили дыхание, пораженные неслыханным бесстыдством, торжествующим на наших глазах. Не знаю, как другим, но мне было невыразимо стыдно, будто весь цинизм, все пренебрежение к людям канувшей в прошлое эпохи вырвались из небытия и сконцентрировались в этом человеке, стоящем перед нами. Казалось, шевельни рукой и все начнет рушиться и разбиваться вдребезги и некуда будет укрыться от зазубренных осколков. Вскрикнула ли в этот момент совесть в Борисе или он просто перевел дыхание? Очевидно, все-таки совесть или страх, потому что он побледнел и глаза его остановились. Но это продолжалось очень короткий миг.
- У нас есть еще один претендент, всеми уважаемая Лидия Тимофеевна. Простая советская труженица, скромно и самоотверженно делающая свое незаметное, но крайне важное дело. Ей квартира нужна больше, чем Левиным, потому что у тех есть семья. А Лидия Тимофеевна одинока. Ей надо создавать семью, и я уверен, что это будет настоящая советская семья. Поэтому предлагаю отдать квартиру ей.
И отдали. Борис никому не дал рта раскрыть, как топором отсекал каждое слово против. На меня цыкнул так, что я ахнул. Он рисковал, здорово рисковал, только с таким железным характером можно было решиться на эту авантюру. К сожалению, это было не профсоюзное собрание, голосовали только члены профгруппы, и когда они в первый раз не подняли рук, их по настоянию Бориса вызывали поименно...
Я догнал Гудимова у дверей его кабинета. Только сейчас я понял, как ненавижу его - режиссера, поставившего спектакль из отринутой историей эпохи. Господи, какими наивными мы были, когда полагали, что те осужденные времена канули в прошлое! Что в наше время невозможно вот так, нагло, идти по трупам. И мы оказались совершенно не подготовленными к торжеству бесчеловечности. Мы просто не знали, как надо бороться с явлением, считавшимся навеки похороненным. И сейчас, схватив Бориса за плечо, я в первую минуту растерялся. Он кинул на меня недобрый взгляд. Знакомый взгляд. Будто он репетировал в уме обвинение, которое так и не успел использовать.
- Немедленно, сейчас же иду в партком, - задыхаясь, сказал я.
- Отлично! - Он испугался, я уверен в этом, только виду не подал, лишь угрожающе прищурился. - За друзей в огонь и воду? Похвально! Только с чем ты пойдешь в партком? Сейчас за пьянство из партии выгоняют, с должности снимают, а уж квартира-то... Считай, что Левин дешево отделался. - Он вдруг схватил меня за галстук, рывком втащил в кабинет, резко захлопнул дверь. - На этом деле меня не подловишь, а вот ты... Ты будешь бегать по Москве, высунув язык, искать работу. И не скоро найдешь, ручаюсь. Или же, еще лучше, тебе предложат почетное право возглавить какой-нибудь задрипанный заводик в глуши, вывести его из прорыва. И я тебя в этой глуши закопаю на веки вечные.
И опять это был монолог из старого репертуара, который мы считали навеки похороненным. И я с трудом нашел, что ему ответить.
- Не те времена, Гудимов. Отстал ты от жизни. Сейчас такие фокусы не проходят. И надо быть последним идиотом...
- Не кричи! - Он грудью оттеснил меня в глубь кабинета. Сядь. Давай покурим и разберемся. - Он говорил быстро, без передышки, и вся моя воля уходила на то, чтобы поймать, усвоить смысл его слов. - Левин твой подчиненный, и ты за него цепляешься. Он прекрасный инженер, не спорю, но таких много. Только свистни, из провинции тысячи набегут. А Лидия одна. Мне нужно - понял? - мне, чтобы она получила квартиру.
- Конечно, кто же еще будет шпионить за нами...
Он досадливо поморщился.
- Любишь ты обличительные определения! Да не шпионит она, пойми это. Неужели я бы унизился до вульгарного доносительства! Но сейчас, когда гласность, перестройка, ускорение... Да еще этот призыв мыслить по-новому... Ты представляешь, до чего может додуматься рядовой инженер, не подозревающий, на каких тонких нитях, каких сложных, зачастую личных связям держится управление отраслью? Так ведь додумываются уже. Вспомни, на последнем партсобрании выступил Куторгин из планово-производственного управления: зачем вообще нужно министерство с его огромным штатом, если отрасль фактически неуправляема? Каково? Крикун, демагог, и такому предоставили трибуну...
- Да, но как зал ему аплодировал!
- Вот это и страшно. Сколько у нас еще безответственных работников, готовых рубить сук, на котором сидят! Не понимающих, что перестройка - это не ломка аппарата. Наоборот, при перестройке аппарат надо всемерно укреплять, потому что появляются новые тенденции, которые необходимо вводить в русло единой политики. А когда любому развязывают язык... Вот здесь и нужен человек, который вовремя предупреждает тебя, в какую сторону понесло Иванова, Петрова, Сидорова, чтобы ты мог остановить, поправить их, а то и уволить... Да, и на это придется пойти, не считаясь с рангами. Потому что вся эта игра в перестройку, в ускорение в конце концов кончится провалом, и к нам же прибегут: помогите ввести жизнь в нормальные рамки. И тогда нам - тебе, мне, другим здравомыслящим работникам - придется восстанавливать разрушенное. Так вот, чтобы меньше было разрушений, мне и нужна Лидия. А подобрать такого человека потяжелее, чем десяток толковых инженеров. Ну и приходится с ним расплачиваться...
Он говорил доверительно, будто искал моего сочувствия и не сомневался в нем. Словно я вместе с ним состою в каком-то тайном обществе, для которого наша справедливость и наши законы не дороже бумаги, на которой написаны, и которое в конце концов повернет эти законы в нужную ему сторону. И, как всегда, безошибочно выбрал тональность.
- До чего ты докатился! - только и смог сказать я и понял, что проиграл. Понял это и он.
...Страх! С него я начал осмысливать жизнь. Я родился в пятидесятом и через полгода осиротел. Мои родители, медики, попали под гребенку "врачей-убийц": наши местные чекисты решили не отставать в бдительности от московских коллег. Они арестовали лучших врачей области. Некоторые потом вернулись, моих родителей и многих других посмертно реабилитировали.
Меня воспитала тетка. В ее доме царили бедность и страх. Она боялась всего - соседа, с которым двадцать лет здоровалась на улице, и незнакомого человека, случайно шедшего за ней два квартала, боялась громкого смеха и тихого слова. Особенно она боялась слова. Ее отец и ее муж сгинули в тридцать седьмом, и оба - за недостаточно патриотичные выступления на собраниях: мало восхваляли вождя. С тех пор она почти не раскрывала рта. Если бы было можно, она бы объяснялась жестами, как глухонемые. И этот свой страх она передала мне с первыми каплями молока, которое для меня сцеживали две сердобольные женщины с нашей улицы.
Я начал лицемерить раньше, чем прочел первую страницу в букваре. Тетка сделала страшное дело, заставив меня скрывать мысли и желания. И всю жизнь страх окутывает меня, как комариное облако. Разумеется, я прячу его лучше, чем Иван Афиногенович: научился соразмерять потенциальную опасность с действительностью. Я сжился со страхом, привык к нему, как привык аплодировать ораторам на трибуне, хотя только что в коридоре они говорили совсем обратное, как привык не задумываться, почему некоторые живут совсем не по тем идеалам, которые они пропагандируют...
- Хватит! - Борис плотно уселся в свое кресло, хлопнул ладонью по столу. Хлопнул уверенно, по-хозяйски. - В будущем году построят еще один дом. Даю слово, что Левины получат там квартиру. А месячишка через два, когда все уляжется, я им персональных подкину, чтобы они могли снимать квартиру получше. Договорились? Не пойдешь в партком?
И я не пошел... Не пошел! И не только потому, что испугался. Не смог справиться с безнадежностью. Уверенный тон Бориса будто околдовал меня. Он высился надо мной, как гранитный монолит, который не прошибешь лбом... Ходили другие. Борис и здесь оказался прав; перестройка изменила людей, и простые инженеры стучали кулаками по столу в парткоме, требуя поставить на место начальника объединения. Еще недавно это было бы немыслимо. Но пока что стучание кулаками действия не возымело. И не только потому, что, покуда разобрались, осмыслили, Лидия Тимофеевна уже получила ордер. Борис и тут организовал все блестяще, как умел только он. Нет, но пьянство на овощной базе! На парткоме разбирали этот случай. Я присутствовал, так как Левины мои подчиненные. Какие были смущенные лица у членов парткома! Особенно у тех, кто был вынужден выступать, а значит, клеймить... И клеймили бы до выговора, если бы не Романов, секретарь парткома.
- Ладно, товарищи, давайте кончать, - сказал он, покусывая губы. - Левины наказаны более чем сурово, не будем усугублять. Наоборот, считаю необходимым отметить неправильное поведение товарища Гудимова. Что это за ярлыки: не наш человек и тому подобное? Не надо из простого недомыслия делать политическую акцию. Предлагаю, товарищи, не наказывать ни Гудимова, ни Левина, просто предложим им осознать свои ошибки.
Ох как разозлился Борис! Романов одним словом высек его прилюдно, и нельзя было даже уйти, хлопнув дверью. Зато это сделала Женя. После парткома Романов оставил их и тоже пообещал, что они вселятся в первую же квартиру в новом доме.
- Отнимите ордер у этой стервы, - потребовала Женя.
- Не могу, - Романов развел руками. - Было бы что другое, но пьянство... Сама понимаешь, время сейчас такое...
Вот тут Женя и хлопнула дверью. Романов только сокрушенно вздохнул, провожая ее глазами, а тюфяк Гришка вместо того, чтобы уйти с ней, жалобно протянул:
- Ладно, подождем. Только уж сделайте так, чтобы первая квартира не оказалась на первом этаже.
И вот с тех пор я ломал голову, как помочь Левиным получить квартиру. Знал, что не успокоюсь, поки не добьюсь этого.
...Документ был составлен ужасно. Автор не только не сумел ясно и четко изложить технические идеи, но даже путался в падежах, будто кончил церковноприходскую школу. Нечего и думать посылать этот лепет в Госплан. Я свирепо схватился за красный карандаш, чтобы перечеркнуть документ крест-накрест и вернуть Грише, как зазвонил телефон.
- Юра! - услышал я, и все важные и неважные дела сразу уплыли далеко-далеко. Голос у нее был такой же, как всегда, - спокойный, тихий, только чуть печальный.
- Таня! - сказал я и замолчал. Горло у меня перехватило.
- Юрий Дмитриевич, к руководству, - проскрипело вдруг издалека. Я беспомощно оглянулся. Лидия Тимофеевна неодобрительно взирала на меня из распахнутой двери.
- Танечка, меня вызывают к начальству. Я сам позвоню тебе через полчаса.
- Хорошо, - сказала она и повесила трубку.
Я встал, и все вокруг изменилось. Солнце заливало комнату, загнав под столы черные тени. Вокруг меня были хорошие добрые люди. Даже Лидия Тимофеевна... Нет, только не она. Эта стерва способна притушить любое светило. И не поможет ей отдельная квартира. Никто на ней не женится, самоубийство нынче не в моде. Я зашагал к дверям, потом, вспомнив, вернулся и забрал со стола письмо, которое так и не успел перечеркнуть.
- Думай, голова, думай, на работе это иногда рекомендуется, - и, бросив бумагу ошеломленному Гришке, выскочил в коридор. Там я несколько раз глубоко вздохнул, чтобы прийти в себя, и машинально одернул пиджак. Перед руководством надо являться в подобающем виде, особенно если в первый раз тебя вызывает новый начальник объединения.
Собственно, не такой уж он новый - бывший главный инженер, отличный парень, с которым я был на короткой ноге. Сколько раз в былые времена забегали после работы в близрасположенную "Рыбную", где водился весьма приличный коньячок, или расписывали у меня дома пульку. Впрочем, весь коллектив, кажется, был с ним на короткой ноге. Как гларчого инженера мы его и не чувствовали: Гудимов всех подминал под себя. Его дьявольской энергии хватало на всю руководящую работу. Даже уходя в отпуск, он решал дела на месяц вперед. Некоторых это устраивало, но не всех. Я сам много раз чувствовал себя оскорбленным ролью механического исполнителя при умном начальнике. Так же и главный инженер, работавший ранее директором крупного завода, чернел лицом и скрипел зубами, когда Борис с ходу отменял его распоряжения. Каким-то теперь окажется Леонид Ефимыч? Сколько раз мне приходилось с горечью наблюдать, как власть преображает человека.
Я знал, зачем он меня вызвал. Происходило естественное перемещение. Главный инженер стал начальником объединения, я как начальник технического отдела котировался на главного инженера. Но... эта история с убийством в моей квартире. Тем более что следствие еще не закончено, убийца не назван, и общественность, которая, по идее, должна негодовать, не получила морального удовлетворения. А с другой стороны, без главного инженера тоже нельзя. Как-то они выкрутятся? С утра замминистра, курирующий наше объединение, секретарь парткома Романов и новый начальник обговаривали эту пикантную ситуацию, искали тонкий ход. Конечно, проще пригласить какого-нибудь директора провинциального завода, но прописка... Сейчас с этим туго. Лимит в Москву закрыт. Да и тенденция нынче другая: смело выдаивать молодых и энергичных. А я как раз в том счастливом возрасте, который считается самым перспективным для выдвижения. Впрочем, какое мне дело. Я вовсе не рвусь в Наполеоны.
- Привет, Леонид, - сказал я, решив не менять привычного обращения. Оборвет, так оборвет.
- Привет, - буркнул он, не поднимая глаза от бумаг. - Садись.
Я сел. Леонид черкнул размашистую подпись на документе и поднял на меня хмурый взгляд.
- Значит, так, Юрий Дмитриевич, прошу к пятнице изложить в письменном виде мнение о перестройке нашей работы.
Так вот зачем он меня вызвал. Вовсе не для того, чтобы поздравить с новой должностью. На миг я почувствовал разочарование и здорово разозлился на себя за это.
- У нас же было партсобрание по перестройке. Два часа говорили, вроде бы все решили.
- А что решили? Ты почитай протокол, вот он, вникни. По сути же, ничего не решили. "Повысить требовательность к руководителям подведомственных предприятий", "Принять дополнительные социалистические обязательства", "Добиться стопроцентного выполнения плана..." - Он с отвращением отбросил бумагу. - Перестройкой здесь и не пахнет. Нужна была Гудимову перестройка, как зайцу, - он фыркнул. - А нам нужна. Сейчас вопрос стоит просто: по какую сторону баррикады ты определяешь свое место. Так вот, наше место - не на той стороне, где был Гудимов. Лицемерить я не буду и вам не дам. Поэтому будем считать, что партсобрания не было, а в пятницу устроим мозговой штурм. Ты, я, начальники отделов будем думать, с чего начать, какие цели поставить. Иначе говоря, начнем с нуля. И тебе здесь - главная роль.
- Это почему же мне?
- Да потому, что испачкан ты с ног до головы и надо отмываться. А отмыться можно только работой. Как тебя угораздило в такую помойку лезть? Баба-то хоть стоящая была, а то, может, зря погиб человек?
- Иди ты к черту! - в сердцах сказал я.
- Нет, вы только посмотрите на этого неблагодарного! - он развел руками. - Почтенные люди два часа ломали заслуженные головы, как бы увеличить ему зарплату, не оскорбляя стыдливого целомудрия общественности, и если бы не Скважина...
Скважиной мы втихомолку называли нашего куратора за преклонный возраст и дотошность, доводящую подчиненных до исступления.
Об этом человеке стоит сказать несколько слов хотя бы потому, что, где бы он ни работал, о нем непременно слагали легенды. Он пришел в промышленность с фронтов гражданской войны и навсегда остался лихим кавалеристом, нацеленным на мировую революцию. Начал с простого рабочего и быстро выдвинулся благодаря острому уму и отличному знанию дела. Но не это отличало его от других руководителей, выросших в годы первой пятилетки. И даже не то, что он не признавал авторитетов - одно время это стало модным. Кстати, в это время он уже начал их признавать. Но то, что в каждой ситуации он поступал так, как считал правильным, не поддаваясь условностям, создало ему репутацию неуживчивого, опасного чудака. Эта репутация и помешала ему продвинуться дальше заместителя министра, хотя по своим деловым качествам он был способен на гораздо большее.
Когда он был еще начальником цеха передового в стране гигантского комбината, директор прислал ему ордера на пальто и костюм. Высокое начальство, приехавшее из центра, собирало производственное совещание, из тех, которые в печати именовались "поворотными", и Скважина, как начальник ведущего цеха, обязан был выступить. То было трудное время, когда все выдавалось по ордерам. Директор получил ордера обратно с запиской, что такие премии выдаются только по решению профсоюза за отличную работу и получение их каким-либо другим путем незаконно. Скважина выступил на совещании в старой выцветшей гимнастерке, другого костюма у него не было. Говорят, он произнес самую толковую речь, но в газетах она не цитировалась, и его фамилия даже не попала в репортаж.
Став директором этого же комбината, он первым делом велел заколотить особый "директорский" вход в комбинатоуправление, а ковры и статуи оттуда передал в детский сад.
Через полмесяца после его назначения заместителем министра, еще в старом министерстве, секретарь со значительным видом положила перед ним плотный конверт.
- Что это? - не понял Скважина.
- Конверт, конечно.
- Вижу, что конверт, не слепой. Что в нем?
- Деньги, конечно, - удивилась она.
- Какие деньги? За что деньги? - нехорошим голесом спросил Скважина, и в глазах его появился блеск, тот самый, что испугал некогда директора комбината. Секретарь чуть не плакала.
- Ну деньги же! Полагается вам.
Скважина протянул руку, щепетильно сложив пальцы. Брезгливо оттолкнул конверт на край стола.
- Отнесите обратно и скажите, что мне вполне хватает зарплаты.
У него были неприятности из-за этого. Его вызывали, втолковывали и наконец обязали брать конверты. Он вынужден был подчиниться, как подчинялся многому.
Года два назад он ездил в Японию, знакомился с промышленностью. С собой взял группу работников министерства, в том числе Бориса. Я тоже должен был ехать, уже оформил документы, но как раз развелся с женой (она потребовала после пятилетнего фактического разрыва), и меня не пустили. По приезде Скважина собрал всех руководителей министерства, директоров заводов и сделал великолепный доклад. И хотя говорил он о Японии, о ее блестящих успехах, у каждого слушателя возникали горькие аналогии. Под конец Скважина что-то вспомнил и неловко, с натугой, сказал:
- Ну и, разумеется, товарищи, не следует забывать, что Япония капиталистическая страна и империалисты жестоко эксплуатируют рабочий класс.
Не знаю почему, мне стало его жалко. Я вдруг ясно увидел, что Скважина уже старик. Нудный, брюзжащий и, в общем, не такой уж счастливый старик.
И вот теперь Леонид сообщил, что Скважина нашел выход, как сделать меня главным инженером, "не оскорбляя стыдливого целомудрия".
- Ну, при его-то опыте... - сказал я.
- Вот-вот. Мы с Романовым и так и эдак крутились, как бы тебя преподнести. Сам понимаешь: обсуждать на парткоме надо? Надо. Выговор будет? Как пить дать, иначе какая же это воспитательная работа! Как же повышать с выговором? Конечно, можно сначала повысить, а потом выговор, но ведь не поймут...
Скважина думал, думал, кряхтел, сопел, всю лысину отшлифовал сначала левой рукой, потом правой. Обматерил и нас, и все эти условности, и министра, и повыше... Наконец просветлел ликом, вздохнул душевно и проканючил:
"Вы того, братцы, попроще. Мы его повышение в наказание превратим. Так бы мы его повысили, и все. А в данной ситуации нет, недостоин. Так в приказе и отметим, что за проступок делается он врио".
- Ловко! - вырвалось у меня.
- То-то и оно! Суровое наказание: временно исполняющий обязанности вместо постоянной должности, Полгодика покантуешься, а там по закону постоянно утвердим.
Я нервно рассмеялся. Полгода! Хорошо, если так.
- В общем, подчищай дела, - бодро продолжал Леонид. Приказ сегодня будет подписан.
- А кому дела-то сдавать?
- Это уме твоя забота. Техотдел - вотчина главного инженера. Но раз ты врио, то с периферии приглашать нельзя: по идее, можешь вернуться на старое место. Значит, кого-то из своих, тоже временно исполняющим.
И тут меня осенило.
- Левин.
Леонид недоуменно поднял бровь, потом нахмурился.
- Ты это брось. Нехорошо! Я знаю твое к нему отношение, но тут надо по-деловому.
Ага, прореэался-таки большой начальник. По-деловому! Ему можно двигать приятелей...
- Левин прекрасный инженер, - настойчиво сказал я.
- Знаю. Но не лучше Головко, Свидригайло, Тарутина.
Это правда. Но у меня в запасе еще козырь. Держись, начальник, начинается первый экзамен!
- Левин, конечно, не лучше, но и не хуже, - медленно, сдерживая дыхание, заговорил я. - Но, во-первых, у него перспектива роста, остальным вот-вот на пенсию. А, во-вторых, у этих всех есть квартиры...
На какой-то миг в кабинете наступила нехорошая тишина. Потом Леонид достал сигарету, сосредоточенно закурил.
- Помнишь, значит. А я, честно говоря, уже забыл. Чужая беда не тянет. Только какая будет атмосфера в отделе? Ведь он самый молодой. Нас просто не поймут.
- Поймут! - убежденно сказал я. - Ну, может, подуются недельку, а жаловаться никто не пойдет. В конце концов преподнесем как выполнение постановления о выдвижении молодых на руководящие должности. Лишняя "галочка" для отчета.
- Да, это, брат, ты в корень копнул, - будто не слыша меня, протянул Леонид. - Конечно, с квартирой это ему мало поможет, хотя чем черт не шутит. А вот атмосферу в конторе мы очистим. И совесть свою очистим: покажем наше отношение к этой истории. А, черт! - он двинул кулаком по столу. - Попробую!
Дверь кабинета приоткрылась, и медовый заботливый голосок, я даже не сразу понял, что это голос Лидии Тимофеевны, промурлыкал: "Леонид Ефимович, чайку с лимончиком".
Леонид побагровел и подпрыгнул, будто в кресле лопнула пружина. Кажется, он еле удержался от искушения запустить в нее телефоном.
- Закройте дверь! - рявкнул он великолепным начальническим басом. - Когда захочу чаю, пойду в буфет.
Дверь испуганно захлопнулась, а начальник объединения вытер лоб и шумно задышал.
- Вот тоже, понимаешь, проблема... Работать надо, из-под бумаг стола не видно, а я только и думаю, как бы избавиться от этой... - он с наслаждением выругался.
- Безнадежно, - сказал я.
- В том-то и дело. Тут и местком, и суд... Все понимают, а как до дела дойдет - в кусты. Что вы, что вы, скажут, ей общественность квартиру дала, за хорошую работу морду ее поганую на Доску почета вывесили... Ну да черт с ней! Все равно уволю. Подыщу ей место с окладом побольше, пусть другие помучаются. - Он швырнул недокуренную сигарету в пепельницу и поднялся. - Пойду к Скважине. Он сейчас в благодушии от того, что тебя пристроил, авось согласится на Левина. Ему-то с его высоты начальник отдела - это чуть ли не старший инженер, простой исполнитель. В крайнем случае покаюсь про квартиру. Мужик отзывчивый... Да, вот еще что. Тут тебя угрозыск затребовал в Шерлоки Холмсы. Сам понимаешь, отказать мы не можем, убийцу отыскать надо. Бог ему простит... Но ты смотри, не увлекайся, работы невпроворот. Мы с тобой не гудимовы, необъятного не обоймем.
Когда я вернулся в отдел и взглянул на часы, оказалось, что прошло ровно тридцать минут. Надо было звонить Тане.
Это был странный разговор. Будто не было той встречи на кухне и фраз, определяющих нашу судьбу. И мига ошеломляющей близости, когда наши лица встретились и я обнимал ее за плечи. Нет, конечно, все это было, потому что сейчас произносились одни слова, а что-то мятущееся в подсознании подставляло на их место другие. И ни я, ни она не были уверены, правильно ли понял собеседник. О том, почему я не зашел к ней после смерти мужа и уклонился от поминок, не было, разумеется, ни слова, но мне постоянно чудились эти вопросы. Я напряженно ловил интонации ее голоса, стараясь угадать, что скрывается за той или иной внешне незначительной фразой, и, судя по ее напряженному тону, она так же ловила мои интонации. Разговор направляла она. "Как живешь?" - "Ничего". "Чем занят по вечерам?" - "Как обычно". - "Заходи как-нибудь". - "Спасибо". - "Когда в отпуск?" - "Не думал еще, работы много". - "А я совсем одна, все оставили. Заходи". "Хорошо, зайду сегодня". - "Часиков в семь, ладно?" - "Ладно".
Однако пришел я к ней не в семь, а гораздо позже. Меня вызвал майор Козлов. Он позвонил минут через десять после разговора с Таней.
- Юрий Дмитриевич, вы не смогли бы забежать ко мне после работы?
- Вообще-то я занят вечером. Но если ненадолго...
- Отлично. Жду без четверти семь. Пропуск вам выпишут. Познакомитесь с дамой, которая угощала вас сигаретами.
- Уже нашли?! - ахнул я.
Он от души рассмеялся.
- Вы же начитанный человек. Неужели не сообразили, что это очень легко?
Тьфу, черт! Майор, оказывается, ехидный мужик. Действительно, все сейчас читают детективы. Насколько милиции, наверное, стало труднее работать, когда авторы художественно показывают преступникам, какие ошибки нельзя совершать. А найти ту девицу, разумеется, пустяковое дело. Спросил, кто был на торжестве, и по ниточке добрался. Стоило ахать!
Опять затрещал телефон. Что за напасть, не дают работать! Я рванул трубку. Это был Леонид.
- Зайди ко мне, - приказал он.
Я даже вздрогнул: так всегда вызывал Борис, Леонид был все такой же хмурый, как и час назад. Но в его глазах, против воли, светилось торжество.
- Согласился! - сухо сказал он, и я сразу понял, о ком речь. - Сначала было заартачился: молодой, мол, нас не поймут, это только в газетах, мол, хорошо призывать молодым дорогу, и так далее. А я ему все толкую: перестройка, мол, инженер, мол, замечательный, неординарный ум. Он ведь любит, чтобы в каждом было что-то эдакое, необычное. Вижу, задумываться начал, уже так, для формы, возражает, чтобы его переубедили. И вдруг смотрю, у него по лысине разводы пошли: вспомнил. Это не тот, спрашивает, кого Гудимов с квартирой обвел? Я, конечно, говорю: тот самый. Как он на меня посмотрел! Со мной, говорит, хитрить не надо, можно в открытую. Ну, если вы, говорит, утверждаете, что это неординарный ум... В общем, все в порядке. Даже с квартирой обещал подтолкнуть, есть у министра пять резервных, да ты знаешь. Эх, теперь только бы эту стерву, которая в моей приемной, выжить!
И я от души пожелал ему успеха в этом хорошем деле.
Выходит, Гришина история задела не только меня и не только работников нашего объединения, непосредственно с ней соприкоснувшихся. Многих в министерстве она выбила из колеи. Вот и Скважина, заместитель министра, живущий совсем другими категориями, отозвался на несправедливость. Впрочем, почему другими категориями? Те времена прошли, сейчас идет стремительное выравнивание уровней. И если подумать, то перестройка не причина, а следствие нынешних процессов в обществе. Неверно связывать ее с волей одного человека. Это историческая неизбежность, наступившая, когда общественное самосознание доросло до необходимого уровня. Долгий это был путь и мучительный, пока люди осознали, что в своем обществе они должны иметь не только равные обязанности, но и равные права. Реальные права, а не на бумаге. И что за эти права надо драться, иначе люди вроде Гудимова быстро сведут их к пустым декларациям. Недаром перестройка немыслима без гласности. Еще года три назад подобная история сошла бы Гудимову с рук: можно ли подрывать авторитет должности? Теперь - нет. Не настигни его смерть, то через месяц, другой, третий к этому бы вернулись и потребовали ответа. Пресловутый авторитет должности рухнул: сколько уж высокопоставленных лиц, как оказалось, необходимо стало выдернуть из руководящих кресел и, как простых смертных, отправить в места не столь отдаленные за "использование служебного положения в личных целях". А ведь то, что сделал Гудимов, неизмеримо хуже примитивного воровства.
Я размышлял об этом по пути на Петровку, 38 - адрес, знакомый каждому москвичу, как бы далек он ни был от всяких темных дел. Но, увидев массивное серое здание, сразу забыл обо всем. Итак, началось. Найдена первая из серии возможных преступников. Интересно, скольких придется майору перебрать?
- А вы точны, - одобрительно сказал майор. - Это хорошо. Садитесь рядом со мной за этот стол, вот сюда. Только не воображайте себя следователем и избави вас бог допрашивать. У нас не допрос, не очная ставка, а просто откровенный разговор без протокола, хотя вроде бы такая форма общения с подозреваемым в наших стенах ни в каких инструкциях не отражена. Но в деле Гудимова я постоянно и причем сознательно нарушаю инструкцию. Некоторые мои коллеги, узнав об этом, сурово осудят меня, потому что они давно изобличили бы убийцу. Я действую иначе. Почему - расскажу через некоторое время. А пока подождем нашу знакомую незнакомку. Она придет через четверть часа. То есть она явится раньше, но впустят ее ровно в семь. Между прочим, интересная деталь: женщины к нам всегда приходят раньше, а мужчины запаздывают. Вот всех остальных случаях бывает наоборот. Почему бы это, а?
Я пожал плечами.
- Эх вы, а еще руководитель! Женщина всегда рассчитывает на личное обаяние, даже пожилая. А обаяние исчезает с волнением. Вот она и спешит, чтобы меньше волноваться. Кстати, знаете, чем отравили вашего друга?
Ох уж эти мне неожиданные следовательские переходы! Я невольно вздрогнул, но, кажется, он этого не заметил.
- Крысиный яд с тиофосом. Представляете смесь? Недаром он, бедняга, так мучился.
Я чуть было не спросил, кто бедняга - Борис или убийца.
Чего-то не хватало в этом сухом, неуютном, подчеркнуто казенном кабинете. Стол, магнитофон, стул для допрашиваемого, еще три стула у стены... Ага, лампы. Той самой пресловутой лампы, свет которой направляется в лицо преступнику.
- Лампу я убрал, - как бы мимоходом пояснил майор. - Не тот случай.
Я опять вздрогнул. Чтоб его... Читает в мыслях и еще улыбается, доволен!
В дверь просунулась голова молоденького милиционера.
- Товарищ майор, впускать?
- Давай. - И когда голова исчезла: - Запомнили, Юрий Дмитриевич? Вы не следователь. Вы просто собеседник. Не вздумайте допрашивать, иначе все испортите. Разговор должен быть доброжелательный и доверительный...
Закончить он не успел: она вошла. Я сразу вспомнил ее, вспомнил даже, в чем она была - в коротком и широком, как ночная рубашка, платье, переливающемся, словно отполированная кольчуга. Эффектная женщина, ничего не скажешь. Архисовременная, самоуверенная и наглая, это уж как пить дать. Сейчас ее наряд гораздо скромнее, но выглядит она все равно великолепно. Потом появилось ощущение, что мы встречались не один раз. Я пытался вспомнить, но обстановка была не из тех, чтобы можно было сосредоточиться.
- Садитесь, - пригласил майор. - Очевидно, вы догадываетесь, в связи с чем вас попросили о встрече.
- Догадываюсь, - холодно процедила она. - Гудимов..
Эту фамилию она будто выплюнула. Я буквально кожей почувствовал, как майор насторожился, подобрался.
- С этим гражданином знакомы? - кивнул он в мою сторону.
До этого она меня словно не замечала. Теперь полоснула взглядом и демонстративно отвернулась.
- Знакома. Дважды встречались. Это любовник жены... в смысле вдовы Гудимова.
Ничего себе выдает! У меня даже дыхание перехватило.
- Вы что, с ума сошли?
- Спокойнее, Юрий Дмитриевич, - майор тронул меня за рукав. - Очевидно, у Вероники Петровны есть основания утверждать это. Другое дело, верные ли основания.
Она дернула плечом, стремительно распахнула сумку и вытащила пачку сигарет "Кэмел". Нервно, ломая спички, закурила:
- Я не желаю копаться в этой грязи. И вообще не вижу, чем могу помочь следствию.
Майор вышел из-за стола, придвинул от стены стул и сел рядом с ней. Проделал он это не спеша, благодушно улыбаясь, с эдаким отеческим видом, от которого просто неудобно было нервничать и горячиться. Теперь я был один на месте следователя и чувствовал себя крайне глупо: впечатление было такое, будто эти двое объединились.
- Ваша помощь может оказаться неоценимой, - мягко сказал майор, касаясь ее пальцев. Он вообще, как я заметил, любил дотрагиваться до людей, с которыми разговаривал. И эти касания, и стереотипная затасканная-перезатасканная фраза казались неожиданно уютными, домашними в этом казенном кабинете. - Я знаю, вы перенесли тяжелое горе, потеряли отца, и поверьте, если бы не крайняя необходимость... - Она нетерпеливо дернулась. - Что касается грязи, так вы все равно прикоснулись к ней, и волей-неволей надо очищаться. Но сначала я должен сказать вам: это не допрос. Мы будем задавать вопросы, это неизбежно. Но вы не свидетель, а так, собеседник. Мы должны расспросить вас, чтобы понять, в какой стороне лежит истина. И на суде, когда найдем убийцу, вы не будете фигурировать, даю слово. Юрий Дмитриевич, - обратился он ко мне, у вас, очевидно, есть вопросы?
- Да, - я не во время закашлялся. - У меня есть два вопроса к Веронике... э...
- Петровне, - подсказал майор.
- К Веронике Петровне. Вы сказали, что мы встречались два раза. Один я помню: на торжестве у Гудимова. Когда же еще?
Она по-прежнему не глядела на меня, и голос ее был жестким, как наждак.
- В ресторане. Я увидела вас сквозь витрину, еле добилась, чтобы меня пропустили, а вы... Вы были пьяны, как тюлень. Бормотали страшные вещи. Вам мерещилось, что кругом одни трупы. Живые мертвецы. Потом начали кому-то доказывать, что в наше время убийство - это дуэль. Способ восстановить справедливость. За соседними столиками оборачивались, официант наклонился ко мне и спросил тоном, каким говорят с девицами известного пошиба, не пора ли вас увести, будто я имела к вам какое-то отношение. А вы тем временем стали описывать труп со всеми подробностями. Он стоял у вас перед глазами, и вы тщетно пытались его прогнать - стискивали веки, мотали головой, били себя по лбу кулаками... Мне стало страшно, и я убежала. А на другой день узнала, что убит Гудимов.
Да, видно, здорово я тогда нализался. Что девушка подсаживалась - помню. А вот что болтал...
- Второй вопрос, - напомнил майор.
- Второй вопрос, Вероника Петровна. Вы сказали, что я любовник Тани, жены... вдовы Гудимова. Это, конечно, чудовищная ложь, но кто вам ее сказал?
- Сам Гудимов, - отрезала она.
Я кивнул. Это было ясно с самого начала.
- Вероника Петровна, может, у вас есть тоже вопросы? сказал майор. - Мы готовы ответить на любой. Вам ведь тоже важно знать истину,
- Я воздержусь, - она скользнула по нему сухим взглядом. - Эта истина больше напоминает копание в нижнем белье,
- Тогда у меня тоже два вопроса, - продолжал майор. - Я задам их сразу. Что вам было нужно от Юрия Дмитриевича, когда он сидел в ресторане, и почему Гудимов посвятил вас в столь интимные отношения своей супруги и лучшего друга?
Вероника Петровна молчала. Щеки у нее пошли пятнами, глаза сузились, веки набрякли. Судорожно вздохнув, она порылась в сумочке, вытащила платок, торопливо промакнула глаза и, не глядя, бросила платок обратно в сумочку.
- Простите, вы уронили платочек.
Майор нагнулся, кряхтя: "Ох, годы, годы!", и подал ей платок. Я сразу узнал его. Это был тот самый платок, который нашли в моей квартире.
- Спасибо.
Она схватила платок, хотела было бросить в сумку и лишь тогда разглядела.
- Ой, нет, это не мой. У меня таких сроду не было. Мой вот, в сумке.
Конечно, ошибиться было невозможно. Ее платок и тоньше, и изящнее, и совсем другого оттенка.
- А может, все-таки ваш? - спросил майор самым простодушным тоном. - Больше вроде ронять некому. Мои милиционеры в такие лепестки не сморкаются.
До чего же здорово он разыграл эдакого простецкого мужичка. Я похолодел: ведь в два счета обведет вокруг пальца, и не заметишь.
- Да нет же, нет, - она нетерпеливо развернула платок. Уж я как-нибудь знаю. У меня и помада совсем другая, французская. Вот посмотрите.
- Ну, ладно, ладно, не хватало еще в ваших помадах разбираться, - проворчал майор, и платок исчез из его рук, как у фокусника. - Так как с моими вопросами, а?
Она сразу сникла. Но атмосфера уже изменилась. Не то чтобы доверие, просто какое-то деловое спокойствие наступило в кабинете, майор сумел-таки установить контакт.
- Я была в плохом настроении, - как-то сконфуженно выдавила Вероника Петровна. - Хотелось с кем-нибудь поцапаться. Увидела его в окно и решила, что вот прекрасный случай отвести душу.
- Какие у вас ко мне могли быть претензии? - удивился я.
- Гудимов спрятался от меня в вашей квартире, и я решила, что вы все знаете и с ним заодно. Так сказать, бескорыстная дружба мужская...
- Кто снабдил вас такой исчерпывающей информацией? быстро спросил майор.
- Моя школьная подруга Женя Левина.
Я почувствовал, что еще один такой сюрприз и я грохнусь со стула. Ничего себе клубочек завязывается!
- Нет, так дело не пойдет! - вдруг решительно сказала Вероника Петровна. - Мы все время кружим вокруг да около. Давайте начнем с главного. И вы все поймете, и для меня, возможно, кое-что прояснится. Так вот, дело в том, что я была невестой Гудимова.
У меня вырвался изумленный возглас. Майор осуждающе приподнял бровь, а женщина бросила на меня раздраженный взгляд.
- Вот именно, невестой. Он обещал развестись с женой, потому что обличил ее в неверности... с вами, - ехидный кивок в мою сторону. - А может, и не уличил, теперь не знаешь, чему верить. Во всяком случае, я была приглашена на семейное торжество, чтобы убедиться, как его жена у всех на глазах кокетничает со своим любовником. Она сразу поняла, что у нас с ее мужем особые отношения: женщин в таких вещах не проведешь, И тем не менее они целовались на кухне, Гудимов сам показал мне это в зеркале в прихожей. Теперь я думаю: а не нарочно ли она это сделала?
Я схватился за голову. И было от чего. Я ведь инстинктивно не поверил Борису, когда он попросил меня побольше уделять внимания Тане, и все же попался. А ее поведение на кухне... Да, она могла знать, что Гудимов видит нас в зеркале, и все же.. Нет, у меня не хватало духа осуждать ее. Неужели я дважды сыграл роль простака из старинного водевиля?
- После этого вечера я дала согласие стать его женой. Вы понимаете, дочь высокопоставленных родителей должна осмотрительно выбирать мужа, чтобы не нарваться на карввряста или проходимца. Ведь нам, как любой женщине, хочется быть искренне любимыми.
- Простите, я вас перебиваю, - вмешался майор. - Юрий Дмитриевич не знает, что вы дочь Огородникова.
Так вот это кто! "Шикарный романец с дочерью такого человека". Огородников работал у нас первым заместителем министра, и его внезапная смерть поразила и опечалила многих. Это был один из тех редких работников, которые великолепно знают всю отрасль и могут решить любой вопрос. Да и его огромные связи в самых высоких инстанциях помогали ему много сделать для отрасли: он мог протолкнуть самое безнадежное дело, пробить фонды, средства, кадры. Недаром его называли вторым министром, а по справедливости надо было бы называть первым.
- Гудимов очень ловко повел себя, ума ему было не занимать. Не стал уверять, что, будь я даже круглой сиротой, он все равно бы на мне женился. Нет, сказал прямо, что я заинтересовала его именно как дочь крупного администратора, имеющего обширные связи... ну и как обаятельная женщина. Сказал, что талант его пропадает зря, что он задумал переворот в промышленности, настолько смелый и необычный, что даже прогрессивных руководителей это поначалу отпугивает. Что же говорить о рутинерах! А будучи женат на мне, сумеет вместе с папой пробить эту идею в Совмине. Но вместе с тем он понастоящему полюбил и никогда от меня не откажется, что бы ни случилось. Ну, еще он говорил, что я рождена быть женой большого человека, сумею помочь его целям.
Я вспомнил, как лет пять назад Таня обмолвилась, что Борис заставляет ее улыбаться совершенно несимпатичным людям и из-за этого у них, как она выразилась, недоразумения. Я невольно подумал, что с Огородниковой у Гудимова недоразумений бы не было.
- Он увлек меня грандиозностью своих проектов, смелостью, способностью перешагнуть условности, а в его положении это непросто. Большие люди рабы условностей. И я... я... Ну, да, впрочем, неважно. Понимаете, я росла в семье, которая всегда как-то возвышалась над другими. Я привыкла, что всегда одета лучше сверстниц, имею больше возможностей, что везде, даже в школе, меня отличают от других, причем не за мои способности, весьма средние, а за то, что я дочь... Что запросто разговариваю с гостями, имена которых то и дело мелькают в газетах. И как-то не мыслилось, что можно выйти замуж за рядового... труженика, что ли. Потому и засиделась, чуть ли не до тридцати. - Она усмехнулась и быстро моргнула несколько раз, сдерживая внезапную слезу. - Само собой разумелось, что мой муж должен входить в тот же круг людей, имеющих... дополнительные блага, скажем так.
И вдруг умирает отец, вернувшись из загранкомандировки. Какую речь произнес Гудимов на похоронах! Я плакала. Все думали, что я скорблю по отцу или по тем привилегиям, которых лишаюсь с его смертью, а я плакала от счастья, что меня любит такой человек. Меня удивило, что он не поехал на поминки, но тогда я не придала этому значения А потом... потом он стал избегать меня. Мне так необходимо было иметь его рядом, а он отговаривался то совещаниями, то ангиной.
Я отказывалась верить: у кого станет сил вынести самой себе приговор? А ведь приходилось еще поддерживать мать, которая совсем опустила крылья. Наконец я не выдержала, позвонила ему и сказала, что сейчас приеду и начну выяснять отношения прямо в его служебном кабинете. Он что-то протестующе залепетал, но я бросила трубку.
Время я выбрала неудачное. Мы собрались с мамой на кладбище устанавливать ограду на могилу, которую сделал один из заводов отрасли. Министерство выделило рабочих и предоставило машину, бывшую папину персональную. В последний раз мы пользовались этой машиной. Ведь мы теперь уже не члены семьи крупного руководителя, - она зло усмехнулась, - и в нашем распоряжении все виды общественного транспорта, включая такси. Шофер торопился и был совсем не так любезен, как раньше, но я уговорила его заехать на полчаса в министерство и, оставив маму в машине, кинулась к Гудимову. Задрыга-секретарша не хотела меня пускать, кричала, что Гудимова нет. Я отпихнула ее, ворвалась в кабинет и убедилась, что она не соврала. Тогда я зашла к Жене Левиной. Она рассказала, что Гудимов взял ключи от квартиры своего друга и ушел к нему писать доклад, а то на работе отвлекают звонки и посетители. Удрал, как провинциальный Дон Жуан! Женя была в курсе моих дел, и я могла говорить с ней свободно. Она, как умела, утешила меня. Мы забежали в туалет - извечное убежище расстроенных женщин - покурили, поплакались. Я подарила ей пачку "Кэмел", я их всем дарю, и немного успокоилась.
Начальник отдела, вот этот самый Юрий Дмитриевич, был на кинопросмотре, и Женя предложила проводить меня к нему на квартиру, где я смогла бы свободно высказать Гудимову все, что я о нем думаю. Иногда женщине это очень нужно, чтобы не потерять к себе уважения. Если бы было время, я, пожалуй, так бы и поступила. Но внизу стояла машина с нетерпеливым шофером и мамой, которая уже у министерства начала плакать, и я поехала на кладбище. Женя проводила меня до машины.
Вернувшись с кладбища вечером, я отправилась бродить по улицам, потому что иначе сошла бы с ума в пустой квартире с мамой. Проходя мимо ресторана, увидела Юрия Дмитриевича, и вот, собственно, и все.
- Еще вопрос, - сказал майор. - Откуда у вас эти сигареты?
- Последний папин подарок. Правда, невольный. Возвращаясь из Японии, он заехал по делам в Америку и привез целый ящик. Не для себя, он не курил, а для иностранцев, которые часто приходили к нему на работу. Ну и мне подарил несколько упаковок, хотя его коробило от того, что я курю. А теперь вот весь ящик достался мне. Закуривайте.
- Благодарю, - майор закурил и расписался на пропуске. Вероника Петровна торопливо провела пуховкой по щекам, тронула помадой губы.
- Так помогла я вам хоть немного в поисках истины?
- Помогли, и очень сильно. Огромное вам спасибо.
- А вот для меня все остается, как в тумане, - она жалко улыбнулась. - Не могу поверить, что я была для него лишь ступенькой на служебной лестнице.
- Не мне вас утешать, Вероника Петровна, - сказал майор. - Это сделает время, простите за избитую истину. Но ключ к разгадке я вам дам. Сумейте только им воспользоваться. Так вот, Юрий Дмитриевич не был любовником Татьяны Вениаминовны.
Она холодно пожала плечами.
- Теперь это не имеет значения.
И все же она поняла. Как женщины быстро разбираются в таких вещах! Уже подойдя к дверям, она вздрогнула и резко обернулась. Щеки ее стремительно заливала краска. Ей стало так стыдно, что слезы навернулись на глаза.
- Боже, - сказала она, - какая мерзость!
И кинулась вон, хлопнув дверью.
После ее ухода мы довольно долго молчали. Я пытался как-то увязать ее рассказ с обликом того Гудимова, которого знал. Конечно, все было так, как она говорила, и все было не так. Беспринципный карьерист, готовый шагать по трупам... Сказать так о Борисе - все равно что пытаться понять сложнейшие явления современной физики, читая школьный учебник. Все было гораздо сложнее... и страшнее. Отнюдь не престиж должности и связанные с этим персональная машина, государственная дача, поликлиника, спецраспределитель заставляли Бориса любыми способами карабкаться по служебной лестнице. К бытовым благам он как раз был равнодушен и пользовался ими постольку, поскольку они трогали работе, помогали не отвлекать мысли и силы от дела.
Дело! Вот единственное, что занимало его в жизни, что наполняло его с утра до вечера и даже во время сна. Некоторые самые смелые и удачные решения приходили к нему во сне. Частенько мне казалось, что Борис не живой человек, а собирательный образ, сошедший с пожелтевших газетных страниц.
У нас почему-то укоренилось мнение, что надо работать на износ, до инфаркта. Чтобы после смерти непременно подчеркнули: "сгорел на работе". И никто еще не осмелился высказать вслух, что цель жизни вовсе не в этом. Не для того создан человек, чтобы, как битюг, тащить на себе непосильный груз. Не жить, чтобы рабоботать, а работать, чтобы жить, - вот нормальное состояние человека. Но сколько лет мы воспевали романтику трудностей - честное слово, у меня даже в юности вызывали недоумение и неосознанную брезгливость трафаретные газетные репортажи со строительных площадок. Жить в палатках при лютом морозе, без элементарных удобств, производить вручную непосильную работу, потому что кто-то не удосужился организовать в достаточном количестве производство механизмов, бить рекорды выносливости, чтобы всю остальную жизнь проводить под наблюдением врачей, - это, по-моему, не героизм. Это унижает человека. К счастью, в последние годы такие репортажи исчезли с газетных страниц. Поняли, что человек создан для легкой, приятной жизни, в которую обязательно входит труд. Но труд разумно организованный, на уровне эпохи, доставляющий удовольствие, а не гнетущий с мрачной неотвратимостью, как пудовые вериги религиозных фанатиков.
А Гудимов был фанатиком труда, ибо больше ни к чему не был пригоден. Не знаю, что его таким сделало, мы познакомились, когда он был уже сложившейся, несмотря на молодость, личностью с твердым взглядом на жизнь. И намертво оторвал от себя все, что, по его представлениям, мешало успеху, мешало стать энергичным руководителем - бытовал довольно долгое время такой термин. Быть энергичным руководителем - значит идти напролом, выполнять задания любой ценой, в том числе и ценой человеческих жизней. Ничто не ценилось в то время так дешево, как человеческие жизни. Тогда твердо помнили, что ручной труд, рабский труд самый дешевый, но забывали, что и наименее производительный. И Гудимов добился своего - стал идеальным руководителем по тем меркам... Но в том-то и была его трагедия, что к тому времени, когда он стал идеальным руководителем, мерки изменились. А к новым требованиям он не сумел приспособиться, да и не захотел. И заплатил страшную цену за то, чтобы мечта стала судьбой. Потому и карабкался с такой одержимостью по служебной лестнице, что сознавал свою ущербность, неполноценность, глухоту души ко всему тому, чем так легко и свободно упиваются другие. Он завидовал им мрачно, до ненависти, и яростно искал наслаждений в единственно доступной ему сфере - административной. Как тот одержимый из древнего мифа, что никак не мог схватить золото, проскальзывающее между пальцами. Успехи в административном кресле были необходимы ему для самоутверждения, что он хоть в чем-то превосходит других. Потому и бросил дочь Огородникова, что не могла она уже помочь в той коренной перестройке отрасли, которую он придумал. Придумал для того, чтобы завалить себя и других напряженной организаторской работой на многие годы вперед. Я знал этот проект - смелый, грандиозный и... абсолютно бесчеловечный. Вот в тридцатые годы его бы, пожалуй, приняли. А сейчас перестройка пошла по другому пути.
Свое мнение я не раз высказывал ему, упирая на то, что условия для осуществления его проекта у нас еще не не созданы, да и вряд ли когда-нибудь будут созданы: после разрушительного удара по экономике в застойный период понадобится не один десяток лет, чтобы накопить необходимые ресурсы...
- Да что условия! - отмахивался он. - А у Петра Великого были условия? Одной железной волей перевернул Россию.
- И костями голодных мужиков.
- А, брось! Мы не на собрании. Ты думаешь, домны Магнитки на фундаментах стоят? На костях они воздвигнуты. А уж про Волгобалт и говорить нечего. Иностранцы удивлялись не только тому, как быстро мы строим, но и какой ценой... Русь все выдержит.
- Но зачем жертвы, если можно без них? Твой план предусматривает огромные капиталовложения, которые надо откуда-то взять. Значит, где-то в чем-то людям опять станет хуже. И это будут неоправданные жертвы, поскольку экономические законы неумолимы, зря ты уверен, что их можно обойти, повернуть туда, куда хочется. А главное, ты стремишься возродить снова командный стиль руководства, который сейчас с таким трудом пытаются изжить. И я думаю, ты даже не представляешь себе всех последствий. Ведь если одна отрасль вырвется вперед, возникнет диспропорция, нарушится плановость, некому будет потреблять нашу продукцию, которой мы завалим рынок. Придется подтягивать всю остальную промышленность - отрасль за отраслью пойдет по цепной реакции, - а это значит на долгие годы посадить страну на голодный паек, потому что на группу "Б" уже средств не хватит.
- Ну и что? Мы работаем для потомков.
- Но ведь ты и потомков обездолишь. На несколько поколении вперед страна не сможет войти в нормальную колею. А уж про наше поколение и говорить нечего - что же, оно по гроб жизни должно существовать от получки до получки? Люди не винтики... - у меня больше не оставалось аргументов. Это был не человек, а лавина, слепая и неукротимая. Однако моя последняя фраза разозлила его.
- Не винтики, говоришь? - Он встал передо мной, широко раздвинув ноги и скрестив руки на груди, словно монумент. Ишь, как вы любите опираться на эту фразу! Мол, вся суть культа вылилась в ней. А если это правда? Если все-таки винтики? Каждый на своем месте делает дело. Незаменимых нет. Если какая-то деталь сломалась, ее выбрасывают и заменяют другой, с конвейера. Бесчеловечная, скажешь, философия? Да нет, именно такая, какая нужна нашему народу с его врожденной неприязнью к дисциплине, к порядку, к повиновению. Ты думаешь, вождь был таким недоумком, каким его сейчас изображают: полуграмотным азиатом, жестоким дикарем, шизофреником, вечно боявшимся заговоров? Нет, брат, он предвидел нынешние времена и сделал все, чтобы максимально отдалить их... И страна должна идти по тому пути, что проложил он, иначе она погибнет.
Нет, не так все это однозначно, как представляет Вероника Петровна.
Голос майора прервал мои размышления.
- Так как, по-вашему, Юрий Дмитриевич, могла она убить?
Я сделал усилие, чтобы вернуться в обычное настороженное состояние.
- Думаю, что нет. К тому же у нее алиби.
- Ах, алиби! Поменьше верьте всяким алиби, Юрий Дмитриевич. Многие из них при внимательном исследовании - увы! лопаются, как гнилой орех, кажущийся снаружи совершенно здоровым. Так что старайтесь понять суть человека. Способен он по своей натуре на убийство или нет? В данном случае все внешние признаки не в пользу Огородниковой. Единственный ребенок ответственного работника, донельзя избалованная, с детства не знающая предела желаниям. Помните, как это она: "Теперь мы не члены семьи..." Трудненько ей будет привыкать... И вот такую женщину оскорбили страшно, жестоко. Может она убить? Нет, категорически нет. Вероника Петровна сильный человек, в отца. Не каждая женщина решится выяснять отношения с любовником на его службе. Гудимов ведь потому и спрятался в вашей квартире, что знал: она может и домой к нему прийти и устроить скандал при жене.
- Что-то я не понимаю: сильная личность как раз и может...
- В том-то и дело, что не может. Не та ситуация. Это убийство, неожиданное, импульсивное, было совершено личностью слабой, безвольной или, лучше сказать, застенчивой. Удивлены?
Я осторожно пожал плечами.
- Нет, отчего же. Очевидно, у вас есть основания для этой теории.
Получилось совсем как у майора недавно. Не только строй фразы, но даже интонации. Что за дурацкая привычка копировать собеседника!
- Не теория это, дорогой Юрий Дмитриевич, а чистейшая практика. Ход событий не допускает иного толкования. В данном случае убийство - способ устранения источника зла. Отсюда и будем исходить. Есть два пути бороться со злом, - задумчиво продолжал он. - Первый, тяжелый, изнурительный вскрывать зло, предавать его гласности. Осаждать партийные и общественные организации, писать в газеты, копить изобличающие факты, выдерживать клевету и месть, прослыть склочником, завистником или идиотом-идеалистом, прошибающим головой стену, и все же через год, два, три... через десять лет, если не посадят в психушку, где подонки-врачи сделают из вас законченного идиота... Через десять лет переломить всех, кто обязан заниматься этим делом, доказать свою правоту так громко, что уже нельзя не отреагировать, и все же покарать мерзавца. И опустошить этой борьбой свою душу, вычеркнуть эти годы из жизни. Это путь сильных людей. И второй путь для слабых. Взорваться неожиданно для самого себя, поскольку на долгую борьбу сил не хватает, и совершить поступок, который еще минуту назад казался немыслимым. Впрочем, об этом мы еще поговорим. Так вот, я с самого начала знал, что не Огородникова убийца. Сами понимаете, не так просто вызываешь человека, готовишься к встрече. Всегда надо быть более готовым, чем он. Я и про алиби знал, железное алиби, ничего не скажешь. Я ведь ее по обязанности пригласил, так полагается. А она взяла да и указала убийцу. Вот ведь как бывает. И сама не подозревает об этом. Так что можно считать следствие законченным.
Холодная скованность разлилась по моему телу. Будто вместо крови в жилы накачали бетон.
- Слушайте внимательно, Юрий Дмитриевич. Убийца - человек не сильного характера, несправедливо обиженный Гудимовым, считающий, что этим поступком он восстанавливает справедливость не только по отношению к себе, но и к другим. Так вот, этим человеком может быть только...
Я невольно зажмурился.
- ...Евгения Михайловна Левина.
Так бывает, когда глубоко нырнешь и рвешься к поверхности, а воздуха не хватает. Уже смертельный ужас подбирается к сердцу, уже губы помимо воли готовы распахнуться, чтобы выдавить предсмертный вопль, и в этот момент по глазам бьет спасительный свет и все твое существо ощущает жизнь. Вот так и со мной: была названа совсем другая фамилия. И если в первое мгновение я был весь во власти животной радости, то во второе, перегнувшись через стол, орал дурным голосом на майора Козлова:
- Да вы что!.. Да как вам такое в голову!... Это самоуправство! Я буду жаловаться!
Он смотрел на меня, как всегда, спокойно, и было в его взгляде что-то такое понимающее, доброжелательное, что я сразу обмяк и, шлепнувшись обратно на стул, только развел руками.
- Н-да! - протянул майор. - Вот, значит, вы как, Юрий Дмитриевич. Самоуправство! Видно, что-то другое ожидали услышать. Невыгодно вам так сейчас себя вести, и вы это знаете. А все же за друзей... Похвально! Но почему, позвольте вас спросить, Левина не может быть убийцей?
- Перестаньте, Семен Николаевич, - взмолился я. - Вы прекрасно знаете, что это не так.
Впервые я увидел на его лице жесткие складки от носа к губам.
- Знаю? Я ничего не знаю. Я обязан найти преступника и найду его. А на Левиной круг смыкается. Были у нее причины ненавидеть Гудимова? Несомненно. Была ли убийцей женщина? Очень вероятно: платок... Кстати, у Левиной, как установлено, такие же. Не замечали? Ну, конечно, вам же не надо было, а мы в первую очередь всех женщин объединения проверили, и у троих - такие платки. Могла Левина носить яд в сумочке до удобного момента? Отнюдь не исключено. В приемной Гудимова постоянно кипел чайник, за день он выпивал по десять-двенадцать стаканов: у него постоянно пересыхало в горле. Чего проще подловить момент, когда секретарша выйдет... Но это опасно: будут искать среди сотрудников. И вдруг такое везение - начальник один в вашей квартире. Шерше ля фам, сказали вы когда-то. Вот она и найдена!
Он не давал слова вставить, говорил и говорил, резко взмахивая рукой, будто вбивал гвозди в мой раскрывшийся для возражения рот. Так на ринге беспощадные удары раз за разом припечатывают к настилу слабейшего, только он соберет силы, чтобы подняться.
- Давайте детально восстановим ход событий. В одиннадцать сорок пять Гудимов берет у вас ключи, заявляя во всеуслышание, что будет в спокойной обстановке работать над докладом. В коридоре он доверительно сообщает вам, что его преследует женщина. В двенадцать вы уходите в конференц-зал на просмотр технических фильмов. В это время приезжает Огородникова, и Левина предлагает проводить ее на вашу квартиру. Выходит, она знает, где вы живете. Огородникова отказывается и уезжает на кладбище. Заметим, что они старые подруги и горе Огородниковой не могло оставить Левину равнодушной. Это горе да плюс своя обида - вот вам и условия для взрыва. Всегда нужен какой-нибудь маленький дополнительный факт, как детонатор. В двенадцать пятьдесят вы возвращаетесь с просмотра. В тринадцать тридцать раздается телефонный звонок. Вы снимаете трубку и говорите: "Привет, Борис. Ничего, все в порядке, а ты как? Ну давай, давай работай... Ладно, сделаю". Этот разговор слышали все сотрудники и запомнили, потому что впервые вы при посторонних говорили с Гудимовым на "ты" и просто по имени, без отчества. - Вы положили трубку и сообщили Левиной, что Гудимов приказал срочно отнести заявку в Союзглавкомплект. В тринадцать пятьдесят Левина ушла с заявкой. Все правильно?
- Да, но...
- Подождите. Подведем итоги. Итак, в тринадцать тридцать Гудимов был еще жив, что не противоречит заключению медэкспертов. Где находились в это время возможные подозреваемые? Вы не покидали кабинета, Огородникова утешала мать на кладбище, жена Гудимова - да-да, приходится думать и о ней - жена Гудимова выступала на ученом совете своего института. А где была Левина?
- В Союзглавкомплекте, - почти закричал я.
- Черта с два! Туда она явилась только в пять вечера, была чем-то расстроена, поскорее отдала заявку и убежала. Что она делала эти три часа?
- В магазине торчала, конечно.
- В каком еще магазине?
- В универмаге, в каком же еще. Простояла в очереди за кофточками или импортными бюстгальтерами, - я старался говорить как можно более убедительней. - Ей не досталось, вот она и расстроилась. Левина известная тряпичница.
- Неубедительно, - майор покачал головой. - В магазин, в рабочее время...
- Да все женщины так делают. А потом врут напропалую, что два часа ждали нужного человека. Что же делать - женщины есть женщины, перестройку они воспринимают по-своему. И мы к этому привыкли: им ведь надо хозяйство вести, а когда? Поэтому закрываем глаза на то, что обедают они в неурочное время, а в обеденный перерыв "законно" бегают по магазинам...
- Нет, - сказал майор, - я буду придерживаться своей версии. - Можно только предполагать, как развивались события. Возможно, она закатила истерику и, пока Гудимов бегал за водой, подмешала яд в коньяк, который принесла с собой и каким-то образом заставила Гудимова выпить. А может, коньяк купил он или вы, ведь на другой день, если не ошибаюсь, у вас было намечено забить пульку в постоянной компании. В общем, все это детали, которые раскроет сама Левина.
Никогда еще не ощущал я в себе такой ярости и решимости биться до последнего. Кого-кого, а Женю Левину я ему не отдам. Впрочем, ей, собственно, ничто не угрожает, но не хватало еще, чтобы ее вызывали, трепали нервы... Да и как это повлияет на получение квартиры?
- Все, что вы здесь нарисовали, - чистейший домысел, построенный на случайном совпадении фактов, - холодно сказал я. - Евгения Михайловна порядочный человек...
- А вы думаете, Гудимова убил не порядочный человек? быстро перебил он.
Я возмущенно развел руками.
- Ну, знаете!
- Думаете, порядочный человек не может быть убийцей? Или, наоборот, убийца автоматически перестает быть порядочным человеком? А если он не видит для себя иного пути бороться со злом? Если у него слабая воля, об этом мы уже говорили, и он знает, что не выдержит ожесточенную многолетнюю борьбу, когда противник к тому же не будет сидеть без дела? Он тоже будет доказывать свою правоту, и у него это получится лучше, потому что он сильнее, наглее и не особенно разбирается в средствах. Законы-то он не нарушает, а что можно сделать с полноправным гражданином без соответствующей статьи кодекса? Что, например, можно было сделать Гудимову за то, что он не дал квартиру Левиным? Или на долгие годы отравил жизнь Огородниковой? У него на все найдется убедительный ответ. Квартиру не дал потому, что, как начальник, имеет право и даже обязан установить, кто из работников ценнее. Ошибся? Ну что ж, с кем не бывает. Да и ошибку найдут не в том, что не дал квартиру Левиным, а в том, что не подготовил заранее общественность. Списки-то утверждал он лично когда-то. Поставил бы сразу Левиных на четвертое место, никто бы слова не сказал. Это вот действительно его ошибка. А Огородникова... Решил остаться с семьей. Опять ошибся? Так у кого поднимется рука ударить за это? Работник-то он отличный, а это главное. Нет, Юрий Дмитриевич, гудимовых голыми руками не возьмешь. И что делать порядочному человеку, когда для него и личное, и общественное, и все мировое зло слилось в одной личности? Ох уж эти мне борцыодиночки за правое дело!
Он метнулся со стула и зашагал по кабинету, часто затягиваясь сигаретой. Впервые я видел его таким взволнованным.
- Вот вы в ресторане что-то такое о дуэли рассуждали, если Огородникова не напутала. Не знаю, что вы имели в виду, но мне это слово тоже приходит на ум, когда здесь, напротив меня, сидит порядочный человек. Редко, к счастью, но сидит. И я не считаю, что он перестал быть порядочным человеком, когда совершил преступление ради других. Чтобы помочь обиженному, отвратить беду от ближнего. Конечно, раньше куда как проще было: дал мерзавцу по морде - и к барьеру. Кто кого. Кровь все смывает. Сейчас сложнее. Дашь по морде, а тебя - на пятнадцать суток. И к барьеру не вызовешь - не поймут. Век не тот, нервный век, а у барьера надо стоять с крепкими нервами. Да и оружие носить запрещено, не на мясорубках же драться. И все-таки дуэли происходят и в наше время. Тихие дуэли, страшные, когда один из противников даже не подозревает, что стоит на смертельном рубеже, а другой постепенно осознает, что для него собственная судьба уже не первостепенное в этом мире. Что он должен, обязан пресечь зло. Как в войну - грудью на амбразуру. Черт побери! - Он с размаху швырнул окурок в пепельницу. - Мы ищем таких людей, мечтаем о них. Нам, в органах, так нужны работники, у которых от рождения заложено чувство справедливости, как у других музыкальный слух. К сожалению, находим их зачастую, когда ничего уже нельзя поправить.
- А вы не ищите, - сказал я. Почему-то мне захотелось созорничать.
Он ошарашенно посмотрел на меня и вдруг рассмеялся. Его лицо опять сделалось спокойным и доброжелательным.
- А помочь им надо, как вы считаете? Кто же это сделает, кроме нас? Ведь угар проходит быстро. В первые день-два у них в душе колокола благовестят, как в первопрестольный праздник. Георгиями-победоносцами себя мнят, хоть икону рисуй. Зато потом... Знаете, что бывает потом?
Я пожал плечами. Откуда, мол, мне знать?
- Потом начинаются муки. Цель-то ведь не достигнута. Мало покарать негодяя, надо еще, чтобы его смерть послужила предостережением другим, чтобы народ одобрил... А его, наоборот, безвинной жертвой считают, сокрушаются, над гробом прочувствованные речи произносят. И вот тут-то происходит переоценка ценностей. Оказывается, жизнь человеческая - она дорого стоит. Дороже, чем, может быть, причиненное этим человеком зло. Теперь уже не кажется, что этот выход был единственно наилучшим. Ночи-то длинные, и сколько за них передумаешь! Значит, надо себя реабилитировать, в глазах своей совести оправдать. А как? И опять человек идет на крайнюю меру: признаться, покаяться, чтобы все знали - за что... Чтобы пожалели, оправдали в душе. Чтобы в зале суда какая-нибудь старушка крикнула: "Правильно, сердешный, туда ему, извергу, и дорога!" Ох, как много значит иногда такой выкрик! А ежели этого не будет, он, пожалуй, руки на себя наложит. Справедливость... Ведь к нам иногда через двадцать лет после преступления приходят. Каются, грех с души снимают. Но ведь эти двадцать лет человек, считай, из жизни собственной рукой вычеркнул. Наказал себя страшнее, чем ему по закону положено. Вот чтобы этого не случилось, мы и помогаем таким людям. Для них наказание как кислота: всю накипь с души снимает. И не спешим мы сразу их арестовывать. До последнего момента даем шанс явиться с повинной: срок меньше. Если уж не созреет, тогда... Поэтому, Юрий Дмитриевич, я и не буду недельки две вызывать Левину. Пусть подумает, попереживает. Сегодня у нас что? Среда. Так вот, я арестую ее через две недели, в четверг. Прямо у дверей министерства.
Не помню, как вышел от него, как отдавал пропуск дежурному. Очнулся только у Эрмитажа, где какой-то бородатый шалопай больно двинул меня под ребра гитарой. Часы показывали десять. По улице ползла сиреневая мгла, и было дико смотреть на джинсовую молодежь, торопливо вливающуюся в сад, будто они боялись куда-то опоздать. Акселераты в потертых куртках небрежно обнимали длинноногих девчонок. Девчонки улыбались и прижимались к ним... Не так, как в наше время,- смелее и откровеннее. Как мне сейчас была необходима женская улыбка! Женщина-утешительница... Плохо, когда некого обнять в такой момент.
И тут я вспомнил про Таню. Она ждала сегодня. Поздновато, но у меня уже разомкнулись сдерживающие центры. Поймав такси, я торопливо назвал адрес. Она не удивилась, словно была уверена, что обязательно приеду. Молча распахнула дверь, приглашая в свою комнату. Они давно уже с Борисом жили в разных комнатах. Я повесил пиджак на стул и с наслаждением возвращенного к жизни повалился на диван.
- Кофе, коньяк?
Коньяк, конечно, лучше, особенно сейчас, но... в доме повешенного не говорят о веревке.
- Кофе, пожалуйста, и покрепче.
Она кивнула, скрылась в кухне и минут через десять принесла две чашки и вазочку с печеньем на маленьком подносе.
Пока ее не было, я пытливо оглядывал комнату, ища изменений. Мне казалось, что со смертью Бориса что-то обязательно должно измениться. Но все вросло в привычные места, будто здесь жил совершенно чужой покойному человек. Впрочем, так оно и было.
Нелегко ей достались эти десять лет. Вот и детей не заимела. Сначала не хотел Борис, боялся, что дети будут отвлекать от работы, помешают служебному росту. А может, боялся оказаться банкротом: ведь детям надо отдавать душу, то эмоциональное богатство, которого у него не было. Потом не захотела она.
А внешне она ничуть не изменилась после похорон. Такая же ровная, спокойная. Наклеенные ресницы, тщательно замаскированные морщинки у глаз... Неужели Борис умер напрасно? Я затряс головой, отгоняя вставший передо мной синий труп. Нет, нет, конечно, не напрасно. Какой дикий клубок развязала эта смерть! Интересно, знает Таня или не знает?
Я исподтишка разглядывал ее, стараясь, чтобы она не заметила. Но она, разумеется, заметила. Взглянула сначала недоуменно, потом сердито и наконец улыбнулась.
- А ты не очень-то тактичен.
Я не нашелся что сказать. Действительно, хорош друг! Нашел когда глазеть на вдову. Мало тебе, что впустили в дом в такое время. Но все же, знает она или не знает?
- Помнишь, как у меня оторвался каблук?
Конечно, помню. Это было после того, как мы окончили второй курс. В парке культуры было традиционное весеннее гулянье, и мы, взявшись за руки и опьяненные восхитительным чувством свободы, протискивались сквозь толпы гуляющих, стараясь из озорства идти против течения. Покачались на качелях, полюбовались Москвой с высоты "Чертова колеса" и, выполнив "обязательную" программу, побежали на массовое поле танцевать под духовой оркестр. Какое это волшебство - летние сумерки! Редкие фонари, парящие над головами светлыми воздушными шариками, залитые огнями пароходики, скользящие по черной воде, и над всем этим могучие, плотно сбитые звуки вальса... Вдруг какой-то увалень саданул ей по каблуку, и я полчаса колотил туфлей о парапет, пока не преисполнился глубочайшего уважения к сапожникам, которые за две минуты сварганили бы эту немудрую операцию. Пришлось потащить ее к себе в общежитие на Шаболовку, где можно было достать гвозди и молоток. В тот вечер она и познакомилась с Борисом... Ну конечно, это было в тот вечер. Я окончил второй курс, а он корпел над дипломом, и, когда она появилась в нашем пенале, независимо вздернув носик, он остолбенел. Потом отобрал у меня молоток и моментально поставил каблук на место. А через минуту они уже ожесточенно спорили о какой-то симфонии какого-то француза из прошлого века, которой кто-то где-то с блеском продирижировал. Я никогда не любил и не понимал серьезную музыку и не стыдился в этом признаться. Но знала бы она, что Борис в искусстве вообще ничего не смыслил. Просто он регулярно читал рецензии в газетах.
- Современный руководитель должен быть интеллектуалом, поучал он меня, уже тогда не сомневаясь, что будет крупным руководителем. - Времена красных директоров от коня и шашки, которые, кроме как через матюки, мир не воспринимали, канули. Теперь требуется поддержать любой разговор, на любом уровне, в том числе и на уровне образованного иностранца. А поскольку ходить на все эти культмассовые мероприятия нет ни охоты, ни денег, читай, брат, рецензии. Тут тебе все разжевано согласно моменту. Главное, не ошибешься.
Теперь Таня, конечно, знает ему цену... Ах, так вот почему она вспомнила тот вечер! Окажись у меня более умелые руки, не произошло бы этой встречи и она была бы моей женой, а не его.
- А помнишь?..
И опять, и опять:
- А помнишь?.. А помнишь?.. А помнишь?..
И каждый раз вспоминала те случаи, когда я мог быть более решительным, встать на пути Бориса, не отдать ему любимую девушку.
И каждый раз я еле сдерживался, чтобы не закричать: да знаешь ли ты, что мы чуть не стали мужем и женой? Еще вчера, позавчера, месяц назад... Борис со страшной целеустремленностью толкал нас друг к другу. Воспитанный на десятилетиями культивировавшемся лицемерии, мыслящий ушедшими в историю категориями, он хотел воздвигнуть еще одну ступеньку своей карьеры моими руками. Он панически боялся пересудов, разговоров, пятна на мундире. И если бы ты сама ушла ко мне, он был бы чист. Только чтобы обязательно ко мне, чтобы все было на виду у общественности. Тогда он даже подал бы заявление в партком, что я разрушил его семью... Потому и демонстрировал так упорно нашу дружбу. Кто же и сделает пакость, как не лучший друг? Тем более друг, который разошелся уже с одной женой, а значит, по недавним понятиям, навеки аморальная личность. И он бы добился своего, он всегда добивался... И это было бы полное торжество зла.
Но я ничего не сказал. Она потому и вспоминала, что знала это.
Гриша Левин сидел напротив меня и бойко излагал положение дел. За две недели он неплохо освоился с ролью руководителя. Мне, например, понадобился больший срок. У Гриши и самостоятельное мышление появилось, и способность быстро решать стихийно возникающие текущие вопросы. И атмосфера в отделе, что более всего беспокоило меня, оставалась, кажется, нормальной. Из-за этого и стараются взять начальника со стороны: трудно подчиняться тому, кто еще вчера был равным тебе. Однако сотрудники довольно спокойно восприняли назначение их молодого товарища. Если и были недовольные, то по крайней мере вслух они не высказывались, и ни одна анонимка не постучалась еще в двери парткома. Только Головко, "вечный зам", очень знающий инженер, заметил мне с горечью:
- Вот ведь, Юрий Дмитриевич, что значит попасть в неудачную полосу. Когда я был в годах Левина, ценились зрелость и опыт. А теперь, когда добрался до руководящего возраста, дорогу молодым.
Что я мог ответить? Отделался шуткой.
За эти дни, на редкость спокойные, произошло два события, заслуживающие внимания. Во-первых, уволилась Лидия Тимофеевна. Каким образом Леониду удалось сплавить ее в подчиненный нам трест - его тайна. Но она подала заявление, которое тут же было подписано, и в три дня ей оформили перевод. Разумеется, ни о каких товарищеских проводах не могло быть и речи. Она тихо и незаметно исчезла из нашей жизни, и не один сотрудник вздохнул с облегчением.
Во-вторых, ко мне заходил майор Козлов. Представительный, в роскошном сером костюме, похожий на директора периферийного завода, вызванного в столицу, он невозмутимо прошествовал мимо новой секретарши, и та постеснялась спросить, кто он и по какому делу намеревается беспокоить главного инженера.
Удивительно, ничто не дрогнуло во мне, когда он вошел. Разумеется, я не забыл о нем, как не забывают о занозе, загнанной глубоко под кожу и потихоньку нарывающей, но я уже привык к этой боли или, может быть, отупел от нее.
Он зорко оглядел стенды с образцами продукции, фотографии заводов, диаграммы, графики, кучу бумаг на столе, и в его глазах, показалось мне, мелькнуло удовлетворение.
- Хороший у вас кабинет, - сказал он, усаживаясь. - Деловой. Настраивает на работу.
Я промолчал. Не за этим же он пришел, чтобы хвалить обстановку. Он закурил, пододвинул к себе пепельницу. Я тоже вынул сигарету и демонстративно поставил пепельницу точно на середину стола. Он не мог сдержать усмешки.
- Я обещал, Юрий Дмитриевич, держать вас в курсе. Вот зашел ознакомить с последними новостями.
- Вы обещали две недели не беспокоить меня, - сказал я сквозь зубы. - Так что еще неделя в запасе.
- Не вас, не вас, а Евгению Михайловну. Так я и не беспокою ее. Правда, не мог отказать себе в удовольствии заглянуть в отдел, куда ее перевели, когда муж стал начальником технического, полюбовался на нее еще раз. Очень симпатичная женщина. Проводила меня до вашей приемной, так мило разговаривала...
Я молчал, еле сдерживаясь, чтобы не запустить в него пепельницей.
- Кстати, Юрий Дмитриевич, вы, помнится, уверяли, что мои подозрения против Левиной вызваны несчастным стечением обстоятельств, роковыми совпадениями фактов. Не так ли?
Я кивнул.
- Прибавьте к этим обстоятельствам еще одно. У вас тут появляются иногда женщины в серых халатах, травят мышей, которые, как это ни прискорбно, весьма ценят деловые бумаги. Так вот, у одной из этих женщин Евгения Михайловна за три дня до убийства Гудимова купила крысиный яд. А?
- Ну и что? А вы знаете, в каких условиях она живет? Дом дореволюционной постройки, там мыши в кастрюли прыгают, хотя деловых бумаг, насколько я понимаю, дома она не держит.
Майор развел руками своим излюбленным жестом мужичка-простака.
- Вы сделались очень нервным, Юрий Дмитриевич. Я ведь просто собираю факты, которые мы потом вместе с вами попросим Евгению Михайловну объяснить. А насчет мышей... Так их, знаете, не рекомендуется выводить собственноручно, можно и отравиться не умеючи. Полагается сообщить в санэпидстанцию, и к вам пришлют специалистов.
Я не ответил. Все это пустые разговоры. До Жени он не доберется, и она никогда не узнает, кого проводила ко мне.
Он посидел еще немного, спросил, чем занимаюсь.
Я ответил, что готовлю доклад на коллегию о работе наших заводов в этой пятилетке. И это совсем не тот доклад о перестройке отрасли, который не закончил Гудимов.
- За неделю управитесь?
- Постараюсь.
Это было неделю назад, и сейчас Гриша как раз докладывал мне о подготовке к коллегии. Хорошо поработал парень, ничего не скажешь.
- Постой, постой, ты что-то зарапортовался, - спохватился я, отгоняя невеселые воспоминания. - С каких это пор станки исчисляются в квадратных метрах?
- Ну? Вот черт! Штуки, конечно.
- Ясно с тобой, - сказал я. - Показывай ордер.
Как он расцвел! Бросил доклад, будто это простая писулька, и торопливо завозился над карманом, откалывая булавку. Из самой глубины бумажника бережно вытащил обернутый в целлофан голубой листок.
- Вот! Двух... - у него перехватило дыхание, - ...комнатная. Целых двадцать четыре метра! И три десятых. Кухня, понимаешь, кухня шесть и шесть! Санузел раздельный. Комнаты смежно-изолированные, одна десять метров, другая четырнадцать.
Ему пошли навстречу: не дали первый этаж, дали последний, двенадцатый.
- Самый лучший! - убежденно сказал Гриша. - Никто не будет громыхать над головой и не зальет из испорченного унитаза.
Вот и все, подумал я. Справедливость восстановлена, а контора потеряла хорошего работника. Через несколько месяцев Женя наверняка уйдет в декрет.
Что-то горячее затопило сердце, жгучим комком стало в горле. Я прижал ладонь к глазам, но предательские слезы все равно находили себе дорогу.
- Юрий Дмитриевич, ты что... Что с тобой?
Перепуганный Гриша тщетно пытался наполнить стакан из заткнутого пробкой графина. Кончилось тем, что пробка вылетела и ему залило брюки.
- Ничего, - сказал я, судорожно напрягаясь, чтобы успокоиться. - Просто я рад за тебя, дурак.
Он неловко отряхивался, не глядя на меня. Лицо его побагровело. Стыдно стало, что забыл поблагодарить.
- Понимаешь, - забормотал он, не зная куда девать глаза и руки. - Мы с Женькой решили, что ты будешь самый дорогой гость на новоселье.
- Ладно-ладно, что-что, а новоселье я отпраздную, - я расхохотался. Все, что еще мучило и пугало, вышло вместе со слезами. - А теперь, Григорий Львович, вернемся к нашим баранам. Я имею в виду членов коллегии, которые будут бодать нас на обсуждении доклада. Вот тебе данные по другим отделам, обобщи все за меня. Боюсь, мне некогда будет этим заниматься.
- Новое срочное задание? - догадался он.
- Вот именно. Новое задание, и даже срочное. Только вот срок неопределенный.
Затем я вызвал по одному начальников отделов, распихал им все дела, входящие в их компетенцию, и остаток дня провел в праздном ничегонеделании, размышляя, зайти или не зайти к Тане.
Мы встречались каждый день. Я приходил к ней домой, и она была рада. Мы всегда сидели в ее комнате, не заходя в остальные, пили кофе, смотрели телевизор, если было что смотреть, неторопливо переговаривались. Того, что произошло когда-то на кухне, больше не повторялось. Мы, словно по взаимному уговору, делали вид, что забыли об этом. Но все равно меня охватывало теплое чувство домашнего уюта, чувство семьи. Я уже упоминал, что в моей холостяцкой квартире бывали женщины, здоровый мужчина без этого не обойдется. Но их посещения вносили струю чего-то скороспелого, недозволенного, чуть ли не ворованного. О том, как было у нас с женой, не хотелось и вспоминать. А у Тани было совсем другое. Если бы Борис мог видеть нас, он бы решил, что его план осуществляется... Но сегодня я не пойду к ней. Сегодня мне нужна вся моя воля.
Разумеется, я не выдержал и позвонил ей в институт перед концом работы. Хоть голос ее услышать. Но какой-то стариковский фальцет ворчливо сообщил, что Татьяна Вениаминовна находится на теоретической конференции.
Ну и ладно. Так даже лучше. Я вышел из министерства, помахал группе сотрудников, украдкой, по одному, просачивающихся в "Рыбную", и, не заходя домой, отправился на Петровку.
- Пропуск для вас выписан, - сообщил дежурный в окошечке.
Значит, майор ждал меня. Головастый мужик, все рассчитал.
Я начал медленно подниматься по лестнице. Каждый шаг будто год - один, другой, третий... Брр, не стоит считать. Вот и эта дверь, ничем не примечательная, похожая на десятки других в коридоре. И однако за ней Начинается новая жизнь... или существование? Я поднял руку, чужую, тяжелую, будто из чугуна. Постучал.
- Входите, входите, Юрий Дмитриевич, - благожелательно закивал майор из-за стола. - Присядьте пока на диванчик. Я быстренько закончу одно дельце, и мы с удовольствием побеседуем.
"Кто с удовольствием, а кто и нет", - подумал я, забиваясь в угол дивана.
Майор кончил писать и блаженно откинулся.
- Вы небось думаете, когда читаете про сыщиков, что они всю дорогу только тем и занимаются, что бегают за преступниками. Бешеная гонка на автомобилях, из пистолетов пиф-паф... Знаю, что не думаете, в детективах теперь наша деятельность отражена более-менее реалистично. И все равно вы не представляете, сколько у нас писанины. Побольше, чем у вас в министерстве, честное слово, и мыши у нас тоже водятся. И ведь не за себя приходится писать - за других. Вот полюбуйтесь, какой эпистолярий я сотворил.
Он перебросил мне лист бумаги и с любопытством следил за выражением моего лица. Я физически ощущал его взгляд и с неожиданным злорадством удержал невозмутимость, хотя это было написанное от моего имени признание в убийстве Гудимова.
- Если подпишите, будет явка с повинной, - сказал майор.
- А если не подпишу?
Он пожал плечами.
- Зачем же вы тогда явились? Вы же знали, что я не буду арестовывать Левину.
- А все-таки: если не подпишу?
- Тогда придется вас изобличать.
- Сумеете ли?
- Нет! - Этот неожиданный ответ заставил меня вздрогнуть. - Представьте себе, Юрий Дмитриевич, не сумею. И никто не сумеет. Чисто вы провели это дело. Бывает такое везение у дилетантов: ни единой зацепки не оставляют. Мелькнула у меня идея тогда на квартире: подвести вас к трупу, гаркнуть: "Признавайся, мерзавец!" Кстати, мой коллега за стенкой так бы и поступил. В двадцать четыре часа отписался бы по вашему делу, быстренько передал бы вас следователю прокуратуры, а если бы и тот такой же дуболом попался, было бы вам совсем плохо: загремели бы на косвенных на всю катушку... Что делать, у нас, как и везде, разные люди работают. Для меня важен весь комплекс - кто убил, за что убил, как созрел для этого. Важно понять человека. Может, есть в нем что-то такое, ради чего стоит и на риск пойти. Посмотрел я тогда на вас у трупа и понял: зациклились вы, не признаетесь. А сказав срарy "нет", будете стоять до конца: совестливый вы человек, неудобно вам от своего слова отказываться. Вот и решил я дать вам время одуматься и этим лет пять свободы сберечь. Более того, ведь я ради вас на служебное нарушение пошел. И других уговорил. Не должен я ваше дело расследовать это обязанность следователя прокуратуры. Он, кстати, и расследует потихоньку... И будут еще у вас с ним долгие разговоры. И не такие уж неприятные: он ведь человек моей школы, когда-то моим учеником был. Потому и отступил пока что в тень, с молчаливого неодобрения начальства. И ожидают нас с ним теперь большие неприятности, потому как нет против вас улик. Я знаю, что вы убили, и вы знаете, что я это знаю. И суд лишит вас свободы: сумеет следователь написать убедительное обвинительное заключение, докажет вашу вину. Но это будет нечистая работа, всегда вызывающая сомнение, - приговор на основании косвенных улик. А ведь нам еще надо главную косвенную улику отыскать: того Бориса, который звонил вам на работу и которого вы, мгновенно сориентировавшись, выдали за Гудимова, когда тот был уже мертв. Так что, если вы сейчас скажете, что невиновны, я подпишу вам пропуск, и ступайте с богом. Только имейте в виду, потом вам будет гораздо хуже. С таким грузом на совести вы не справитесь. Но, в общем, поступайте как знаете.
- Вы даете смелые авансы.
- А что делать? Тут не поможет даже экспертиза, установившая по крошкам табака на платье, что покойный курил "Кэмел", а не "БТ". Это вы ловко сделали, что обменяли пачки, а уж с платком у вас получилось просто гениально. Конечно, меня вы не обманули, я ни на мгновение не поверил, что убийца - женщина. Не по-женски все это выглядело. Но вы заставили следствие заниматься побочным материалом, потому что даже в случае вашего признания мы обязаны были проработать эту версию. И следователь прокуратуры среди всех ваших дам долго искал ту, которой принадлежит платок. Разумеется, он нашел ее, и теперь эта версия отработана. Кстати, это служит ему в некотором роде оправданием: проработал одну версию, другую, теперь вышел на вас. Вот мне только оправдываться нечем.
- Держите! - Я подписал заявление и бросил ему бумагу. Избавлю вас от неприятностей. Только напрасно вы думаете, что я умею так ловко путать следы. С сигаретами получилось случайно. Обе пачки лежали рядом, и он сунул в карман не ту. А платок... Я и не подозревал о его существовании. Кто-то позабыл его у меня. Единственное, в чем я вас обманул, это когда сказал, что Гудимов должен был встретиться с женщиной. Я отлично знал, что он, наоборот, скрывается от нее. Зачем я это сделал? Смешно, как раз в этом хотел запутать следы. Детский сад, теперь понимаю... Но, во-первых, тогда я еще не решил, стоит ли признаваться. А во-вторых... Не стал бы я его убивать, если бы не одна нечаянная встреча. Но об этом я не расскажу: все равно не поверите.
- Расскажете, Юрий Дмитриевич, сами расскажете, без наших вопросов. Это для вас теперь жизненная необходимость. Вы ведь думали, что это так просто: лишить человека жизни. А я уже вам говорил, как будете для себя оправдания искать. Конечно, кое-кто убивает походя, но это же не люди. На них и смотришь иначе. А в вашем деле, кстати, одни смягчающие обстоятельства. Начать с того, что сам убитый отнюдь не вызывает сочувствия. Прокурор, разумеется, на этом не будет акцентировать внимание, а адвокат обязательно скажет... И будь у нас суд присяжных, на манер западного, за который сейчас бьются передовые юристы, журналисты и писатели, вас могли бы и оправдать. К сожалению, при нашем "телефонном" суде этого не случится. Не то чтобы кто-то прикажет судье вас обязательно покарать, просто инерция мышления... А может, и прикажут. Дело-то ваше напрямую с перестройкой связано, и кое-кто воспринял бы оправдательный приговор как сигнал к действию: если, мол, его оправдают, тогда и нам только под охраной из дома выходить. Вы понимаете, о ком я говорю?
- Разумеется. Противников перестройки у нас еще более чем достаточно. Но вы даже не представляете, какие среди них люди...
- Представляю. Они и могут позвонить судье. А может, испугаются: сейчас это опасно. Но в любом случае на первое место выплывут парадоксальные факты. Во-первых, преступление было совершено абсолютно без корыстных целей, оно было для вас просто невыгодным. Ведь покойный тащил вас за собой по служебной лестнице, и вы в конце концов добрались бы до больших чинов. Кроме того, есть еще ряд нюансов в вашу пользу, мы обговаривали их со следователем прокуратуры, и он скрупулезно изложит их в деле. А во-вторых, вы выступили, как бы поточнее выразиться, эдаким Дон Кихотом, борцом за правду и справедливость, что ли. Это тоже произведет на судей впечатление, я уж не говорю о публике, которая своими эмоциями как-то влияет на результаты судебного заседания. Короче говоря, это убийство не вызывает омерзения, не горишь желанием немедленно схватить, покарать...
Что он имел в виду под другими нюансами? Неужели знал, что Борис сводил меня с собственной женой?
- А как вы все-таки догадались, что я убил? И когда?
- Сразу же. Ясно было, что, кроме вас, некому. Рюмка подсказала. Труп уже остыл, а она совсем мокрая. Да и вы сами... Помните, я ввел вас в комнату, показал труп, а потом, когда возвращались на кухню, взял за руку? Вы ведь начитанный товарищ, все предусмотрели. И за лицом, и за голосом следили, только руки не приняли во внимание... И когда вы радовались вашему алиби, я только улыбался. Ну какое, сами посудите, алиби, если сорок пять минут вас никто не видел. Как раз то самое время, когда, как установила экспертиза, умер Гудимов. Ведь из темного зала, где показывали фильмы, так легко выбраться незаметно. Хотелось бы только знать: что вас толкнуло на это внезапное убийство?
Ну вот, начинается допрос. Неужели он не понимает, что сейчас я не в состоянии обсуждать детали той роковой встречи в моей квартире? Все отрезано, начинается новая страшная полоса, и к ней надо как-то подготовиться. А как все произошло... Об этом мы еще успеем поговорить.
Так я ему и сказал. Неожиданно он согласился.
- Ваша правда, Юрий Дмитриевич. Об этом вы и завтра, и послезавтра, и на будущей неделе разговаривать будете. Не со мной, правда. А со мной давайте о насущных делах. Вы дома-то все сделали? А то ведь приходят к нам, и оказывается, что чайник забыли выключить или письмо прощальное написать. Так что, если вам нужно домой, я отвезу.
- Нет, домой мне не надо. Вот ключи от квартиры. Но если бы вы разрешили позвонить...
- Татьяне Вениаминовне?
Удивительно, как он читал мысли. Я молча кивнул.
- Разумеется, позвоните. Я выйду, если стесняю вас.
- Да нет, не стесняете.
Я снял трубку. Безнадежные длинные гудки. Ее не было дома.
- Ничего, подождем, - сказал майор. - Спешить некуда. В камеру вас, наверное, не шибко тянет, да и у меня дел по горло. Так что если потребуется, то и до полуночи продержимся.
Она долго не приходила. Каждые четверть часа я снимал трубку и натыкался на безнадежные гудки. У меня даже задрожали руки: вдруг она вообще не придет!
- Да вы спокойнее, - добродушно сказал майор, покусывая ручку. - Придет, куда денется.
Его поза поразила меня. Вот так же кусал ручку Борис, когда мы в последний раз разговаривали у меня на квартире. И это нетерпеливое покусывание разом разрушило мои надежды. Он будто вынул из меня что-то.
...Фильм начался издалека, как многие технические фильмы. Солнце весело выкатывается из-за горизонта и неестественно быстро поднимается в небо, разгоняя мрак. Розовые лучи падают на заводской поселок, зажигая окна в новеньких многоэтажных домах. Из подъездов дружно выбегают радостные, отлично выспавшиеся рабочие и бодро топают на родйой завод: на работу, как на праздник... А Гриша приходит с синевой под глазами, и Женя украдкой глотает пилюли, потому что никогда не могут выспаться. Каждый из них боится, что другой не выдержит неустроенности, бездетности и уйдет искать лучшую долю. Какой уж тут сон! А ведь у министра есть резерв - пять квартир, которые он еще не раздал. Если Борис попросит... Я почувствовал, что задыхаюсь. Надо сейчас же, немедленно идти к нему. Почему-то показалось, что у меня дома он будет сговорчивее. Я сидел на крайнем стуле, в двух шагах от запасного выхода, и, не успей еще обдумать все как следует, очутился за портьерой. Такси... Светофоры, как орел и решка: зеленый - удача, красный - провал.
Два человека с разных сторон подошли к дому, чуть опередив меня. Они уже скрывались в подъезде, когда я выскочил из машины. Один толстенький, приземистый, в низко надвинутой на глаза кепке. Другой высокий, худой, в старой шляпе с обвислыми полями. На обоих - обтрепанные пиджаки, неглаженые лоснящиеся брюки с бахромой внизу. И походка у обоих была одинаковая - нервная, неуверенная. Видно, с хорошего похмелья мужики. Я нагнал их уже у лифта.
- Какой вам? - спросил высокий, протягивая руку к кнопкам.
- Девятый.
Оба одновременно дернулись ко мне и застыли. У толстяка отвалилась челюсть, а острое лицо высокого начало стремительно бледнеть. И не успел я понять, что где-то уже видел этих оборванцев, они бросились бежать. Лишь прогрохотал и оборвался отсеченный стуком парадной двери панический топот. "Квартирные воры?" - подумал я и тут же забыл про них. Вот и мой этаж. Рыскаю по карманам. Ах да, ключи я отдал. Нажимаю звонок. Бледное лицо Бориса.
- Ты? Какого черта! Сюда нельзя...
- Слушай! - Я почти прыгаю на него, и он отшатывается. У министра есть квартиры. Тебе стоит только попросить...
- И это все? За этим ты и примчался? - Его изумление настолько искренне, что я останавливаюсь, будто натыкаюсь на стену. Он украдкой взглядывает на часы, проходит к столу, нервно грызет ручку, а я стою посреди комнаты как дурак.
Он бросает на меня взгляд, в значении которого невозможно ошибиться. Так препаратор смотрит на кролика, которому через минуту вскроет грудную клетку. И жаль глупое, симпатичное животное, и ничего не поделаешь - надо. Погладим, приласкаем и этой же рукой нанесем удар. Сегодня я еще нужен Гудимову, и он будет со мной разговаривать. Завтра, когда Таня и я не выдержим его натиска, я умру для него как работник, как товарищ. Меня вызовут в партком, объявят выговор или даже исключат из партии за разрушение чужой семьи и переведут в другое подразделение или вообще попросят из министерства. В самом деле, разве может начальник объединения плодотворно работать на благо народа, постоянно видя перед собой предателя, злого разлучника...
- Честное слово, Юра, ты идиот, - насмешливо говорит Борис. - С ума сойти, о чем ты только думаешь! Ты хоть сегодняшние газеты читал?
- Нет. - качаю я головой. До газет ли мне.
- Так прочитай! - неожиданно взрывается Борис, выхватывая из портфеля газету, исполосованную красным карандашом. Подносит вплотную к моему лицу, тыкает пальцем в крупный заголовок.
- "Коренной вопрос перестройки..." Вот что должно тебя волновать, а не какой-то там Левин.
- Но это же несоизмеримые вещи и друг к другу отношения не имеют.
- Как знать. Года три назад и разговоров бы об этой квартире не возникало. А сейчас вон как все на дыбы поднялись. Урок правды! - Он зло усмехается. - Я тебе сейчас другой урок правды преподнесу. Вот, пожалуйста: "Прежде всего необходима коренная перестройка деятельности министерств". Ну, об этом мы и раньше слышали. Но вот дальше: "Новые задачи и функции министерств требуют сокращения и упрощения структуры их аппарата, укрепления его научнотехнических и планово-экономических подразделений и ликвидации той части аппарата, которая занимается оперативно-хозяйственными функциями".
- Не понимаю, что тебя взволновало, - я стараюсь говорить спокойно. - Вопрос этот давно назрел, и необходимость такой реорганизации сомнений не вызывает.
- У тебя не вызывает? А вот у меня вызывает, - Он отшвырнул газету, забегал по комнате, размахивая руками. Никогда еще я не видел его в таком состоянии. - Рушат систему. Ты понимаешь - систему! Выпестованную десятилетиями, отработанную, отлаженную, четко функционирующую...
- И приведшую к полному развалу экономики, - я тоже начал злиться.
- Чепуха! Мы шли вперед, пусть медленно, но шли. И как драгоценное наследство передавали все накопленное подготовленной смене. Централизованное управление, когда все нити сходятся в один штаб, диктующий решения, перебрасывающий резервы, регулирующий отношения, - это гениальное изобретение нашего времени, нашего строя. Без этого социализм немыслим. И соответственно мы воспитали людей, которые иначе просто не смогут работать. А теперь тысячи опытнейших специалистов окажутся не у дел. Да-да, не у дел, даже если они останутся на своих постах. Экономические методы руководства вместо административных! - Он зло выругался. - Ну как я теперь буду руководить предприятиями?
- А ты и не будешь руководить. Они сами справятся. Ты им не нужен.
Он резко оборачивается. Глаза у него бешеные.
- Я буду ими руководить! Понял? Найду такие возможности. Пока фонды в моих руках - я хозяин. А фонды я не отдам. Пусть-ка попробуют отнять! Нас много, и мы пока еще сила. Еще посмотрим, куда страна повернет... А что касается Левина... Интересно, с какой мордой я пойду к министру? Объединение получило три квартиры, столько же, сколько и другие. И нигде всех нуждающихся не удовлетворили. А идти позориться, каяться, что ошиблись, дали не тому, и это сейчас, когда столько поставлено на карту... Нет, ты положительно рехнулся, друг любезный!
- Но резерв, кстати, предназначен и для того, чтобы исправлять ошибки.
- Вот пусть другие и признаются в ошибках, а я обойдусь. Подумаешь, Левин! Да я завтра же приглашу на его место человека с периферии и дам ему квартиру из резерва. Понятно? И вообще, надоела мне эта история!
Голос его срывается на визг, ручка летит в угол. А я вдруг по какой-то таинственной ассоциации вспомнил, как выплескиваю отраву из своей рюмки в это ненавистное лицо. До сих пор мне почему-то стыдно за этот театральный жест.
- Юрий Дмитриевич, Юрий Дмитриевич, очнитесь!
Майор трясет меня за рукав. Я открываю глаза и вскакиваю.
- Никак вздремнули? - смеется он.
- Нет, просто задумался, - неохотно говорю я и иду к телефону. Если ее опять не окажется, больше не буду звонить. Но она дома.
- Таня, я в тюрьме, - говорю быстро, не давая ей закричать. - Дело в том, что это я убил твоего мужа.
Секунда молчания, и спокойный грустный ответ:
- Я это знала, Юра.
Следствие закончено, через несколько дней суд, и мне разрешили свидания.. Узнав об этом, я невольно рассмеялся, правда, не очень весело. Свидания! Кто ко мне придет? Из всей родни осталась лишь престарелая тетка в маленьком городишке на Урале, откуда мы с Таней когда-то приехали в Москву учиться. Не с кем мне видеться.
Я расхаживал по камере, которую делил с двумя веселыми растратчиками, порядком расстроенный: был человек, и нет его. Вычеркнут! В тюрьме будто переносишься на другую планету. Та жизнь, что за стенами, - ненастоящая, нереальная, как на экране. Красивая, сказочная, какой не бывает. Все, что заботит и занимает обитателей той жизни, здесь кажется смешным и несерьезным. Зато среди нас жизнь полна до краев. Здесь чувствуют и ощущают в сотни раз острее, любая мелочь воспринимается как великое событие. Здесь я потерял страх. Тот страх, что жил во мне с детства и мешал вольно дышать, как астма, с которой смиряешься и все-таки дышишь... Я не заметил, как он ушел. Просто вспомнил, кто бежал от меня из лифта - министр Теребенько и тот цековец, что не дал ему закончить тост. Ряженые, пробирающиеся тайком на сговор к Гудимову... Вот для чего ему понадобилась моя квартира... Страшная правда открылась мне. И я вдруг сразу успокаиваюсь. Я так успокаиваюсь, что уже ни о чем не думаю. Согнутая, как для прыжка, фигура Бориса вырастает до потолка, раздувается, заполняет все помещение. Зло! Вот оно, зло, которое мешает дышать, душит, наполняет ночи кошмарами...
Я поворачиваюсь и шагаю на кухню, как лунатик, но делаю все четко. Коньяк, крысиный яд... Почему-то кажется, что этого мало для Бориса, и я добавляю тиофос. Эти яды я выпросил у Жени. Не для себя - для приятеля из Перловки, того самого Бориса, что звонил... Хорошенько взбалтываю, захватываю две рюмки, вазу с яблоками - как уместилось все в руках? - и возвращаюсь в комнату.
- Вот это другой разговор! - радостно восклицает Борис. Он не хочет сориться, я ему еще нужен. И на часы он больше не посматривает. Понял, что что-то помешало его соратникам прийти, и успокоился. - Между прочим, Татьяна сегодня спрашивала о тебе. Видно, старая любовь крепка. - Он грозит мне пальцем, но шутливого жеста не получается. Внезапно я понимаю, как он меня ненавидит. Его буквально корчит от унижения.
Мы закуриваем, оставляя пачки сигарет на столе, и я наполняю рюмки. Если у Бориса мелькнет хоть тень сомнения, я выпью первый. Но нет, он ничего не подозревает. Чокаемся. Он выпивает залпом и привычно причмокивает. Сует пачку сигарет в карман, другой рукой тянется за яблоком. Но движения эти уже наполовину рефлексные, неосознанные. Потом лицо его багровеет, челюсть отвисает и с хрустом уходит куда-то вбок, глаза выкатываются - страшные, мутнеющие глаза, В них ужас последнее человеческое чувство... И я выдержал это.
Хотелось бы мне просто однажды проснулся и почувствовал себя другим человеком. Но одно слово "свидание" выбило меня из колеи.
Растратчики знали мою историю - в тюрьме все обо всех знают - и жалели меня, как в деревнях жалеют дурачков. Так прямо и говорили: большой пост занимал человек, жену ему начальник отдавал, тут только и гужеваться. А он на мокруху пошел, идиот!
В дни свиданий к ним приходили женщины, с которыми они прокучивали казенные деньги, передавали увесистые посылки с продовольствием, и они по-братски делились со мной. И я порядком изумился, когда однажды надзиратель выкрикнул мою фамилию.
Это были Левины. Они стояли за стеклом, почему-то в темной одежде, как на похоронах, и с упрямо-независимым видом оглядывались вокруг, готовые, чуть что, дать отпор, хотя никто не обращал на них внимания. Увидев меня, Гриша не удержался и вытаращил добрые близорукие глаза, а Женя заплакала. Я и сам знал, что вид у меня непрезентабельный - костюм помят, волосы острижены, виски обсыпаны сединой.
- Ну, ну, Женечка, не надо, - сказал я, стараясь, чтобы голос не срывался. - Не так все это страшно. Очень рад, что пришли.
Но она долго не могла успокоиться, то и дело поднося платок к покрасневшим глазам.
- Юрий Дмитриевич, сотрудники просили передать тебе привет, - неловко сказал Гриша, явно не зная, о чем говорить. Очевидно, у них был отработан целый план по дороге, но он, разумеется, все перепутал и начал не с того. Я понял это по тому, как Женя на него взглянула.
- Спасибо, - сказал я. - Как там у нас, пятилетку утвердили на коллегии?
- Утвердили, утвердили, - радостно затараторил он. - Почти один к одному прошло. Так, мелкие добавления внесли. Правда, никто не знает, что от нее останется: теперь ведь новое планирование будет, от предприятий, но пока у нас все по-старому. И в отделе все по-старому, только Иван Афиногенович ушел на пенсию.
Этого не следовало говорить. Женя двинула его кулаком под ребра, но было поздно.
- Иван Афиногенович?! - изумился я. - Чего это он вдруг? А-а, понимаю, понимаю... Испугался старик. Как же так, ручался за мою порядочность следственным работникам - и на тебе!
- Ну что вы, что вы, Юрий Дмитриевич, совсем не так, заговорила Женя, через силу улыбаясь. - Знаете, что он сказал, прощаясь? Ну, выпили, конечно, за закрытыми дверьми, как полагается, старик раскраснелся и выдал речь. Если уж, говорит, такие люди, как товарищ Корнев, вынуждены прибегать к подобным мерам, значит, я так ничего и не понял в этом мире. И просил передать, что, несмотря ни на что, по-прежнему глубоко уважает вас. Честное слово!
- Спасибо! - Я проглотил горячий комок. - Женя не лгала, а значит... Значит, все было не напрасно.
- Юрий Дмитриевич! - Женя придвинулась вплотную к стеклу. - Мы никогда не забудем, что вы для нас сделали. Будем посылать вам посылки. Мы и сейчас принесли кое-что: теплые вещи, покушать... А когда вернетесь, обязательно к нам. В лепешку расшибемся, а поможем.
- Спасибо, Женечка! - Я весь обмяк, так был растроган. Только боюсь, вам тогда будет не до меня: детишки пойдут один за одним...
Ого, как она покраснела! Угадал, честное слово, угадал: наверняка начало положено.
Когда меня уводили, они махали руками, как на вокзале. А я шел в камеру и улыбался. Не так, как улыбаются в тюрьме: с угрозой или наоборот, рабски, льстиво - я улыбался, как человек, выбравшийся к заре из подземелья. Жизнь идет! Жизнь идет, расшвыривая все наносное, устаревшее, отжившее, ненужные условности, искусственно привитые взгляды, смешную допотопную мораль - и к убийце приходят с благодарностью, честные люди к честному человеку. Век обгоняет время, нервный век, интересный век, самый интересный для будущих историков. Век, который стал водоразделом для человечества, создал новую породу людей, и кто знает, не от него ли потомки начнут вести летосчисление...
Почему-то эта мысль о потомках и будущих историках гвоздем засела в голове, и я не сразу уяснил смысл слов, летевших из динамиков, установленных через равные промежутки в коридоре.
"Ряд министров, стремясь сохранить ключевые позиции в своих отраслях, вступили на неверный путь организованной оппозиции перестройке. В связи с этим принято решение о коренном изменении структуры управления народным хозяйством..."
Меня вели по коридору, и слова летели навстречу, нарастая, как каменная лавина. И затихали за моей спиной обессиленные, отдав страшную информацию. А навстречу уже летела другая лавина, еще более грозная.
"...Учитывая тяжесть содеянного, к уголовной ответственности привлекаются бывшие министры, другие руководители различных рангов..."
Среди прочих фамилий была названа и фамилия Теребенько.
И наконец последний лавинный залп.
"...В связи с тем, что организатор и руководитель оппозиции, бывший начальник всесоюзного производственного объединения Гудимов умер, уголовное дело в отношении него прекратить".
Черт побери, так зачем же я... Дурак, куда ты полез. Тоже мне, защитник перестройки! Помог Гудимову уйти от процесса... Но странное дело: ругая себя, я ничуть не жалел о содеянном.
А через несколько дней меня вызвали вновь. Пришла Таня. Вот когда я испугался, даже коленки затряслись.
- Здравствуй, - сказала она и замолчала. Я тоже молчал, не зная, что сказать женщине, мужа которой я убил.
- Как тебя здесь кормят? - спросила она наконец.
Я пожал плечами. Дамский вопрос! Как кормят в тюрьме...
- Пирожные ему здесь дают и какаву с молоком, - захихикал дежурный надзиратель Ерофеич, поганый старик, считавший заключенных врагами народа, из-за которых мы никак не можем прийти к светлому будущему. Зэки платили ему дикой злобой.
- Заткнись, легавый! - заорал я, легко переходя на блатной жаргон. - Твое дело следить, чтобы мне бомбу не передали, а в разговоры не суйся.
- Но, но, ты посмирнее, убивец, а то враз свиданки лишу, - ощерился он.
- Оставь его, - взмолилась Таня, - и так времени мало. Мне устроили прекрасного адвоката, из тех, к кому очередь. Он уверяет, что больше восьми лет не дадут. Это уж при очень сильном давлении на судью. А так, может, и на шесть удастся вытянуть: явка с повинной и смягчающие обстоятельства. Оказывается, Гудимов был...
- Знаю. Я слушал радио.
- Я тоже пойду свидетельницей, - помолчав, сказала она.
- Зачем? Ты еще зачем?
- Так надо. - Она упрямо сдвинула брови. - Обязательно пиши мне оттуда. Слышишь?
- Восемь лет! - Я впервые осознал эту пропасть, перерезавшую мою жизнь. - Мне будет сорок четыре.
- А мне сорок три, - с вызовом сказала она. - Старуха, да?
- Ты же знаешь... - в смятении пробормотал я.
- Знаю, все знаю! Но ведь, - в глазах ее клинком блеснула холодная ненависть, - надо уважать последнюю волю покойного. И кстати, в эти годы еще рожают...
Будто стены обрушились вокруг нас и над развалинами встало солнце, Борис, Борис, как ты просчитался, - робот, на тридцать лет отставший от жизни!
- Одна минута до конца свидания, - прошипел Ерофеич.
- Я передала тебе посылку, - торопливо заговорила Таня. Свитер, теплое белье, кое-что из еды. Все новое, купила в магазине, не думай... И буду еще посылать, только пиши. Обязательно!
Кажется, мне не будет холодно, если даже отправят на Северный полюс.
- Вот ведь люди пошли, от всего норовят хапнуть! - прогундосил Ерофеич, передавая меня другому надзирателю. - Он ее мужика пришил, а она к нему набивается, сука!
И ведь так будет всегда. Ох, Таня, Таня, трудную ты выбрала судьбу!
Прошло время, и они встретились.
- Как самочувствие? - спросил Координатор.
Историк слабо усмехнулся и махнул рукой.
- Теперь почти в норме, а в первые дни... Я даже отдаленно не мог представить, каково это - жить с раздвоенным сознанием. Когда в тебе существуют два совершенно разных человека, два противоположных характера, да к тому же из различных эпох. И страшно потерять себя настоящего, и невозможно расстаться с собой новым, пришедшим из глубины веков.
- Непохожих - это вы ошибаетесь, - задумчиво протянул Координатор. - Тот человек из древности - это все равно вы нынешний, только продукт той эпохи. Понимаете меня?
Историк кивнул.
- Вот почему никогда не удается достичь полной адекватности, - продолжал Координатор. - Личность исследователя искажает ситуацию, которую мы создаем. Вот и вы, став тенью Юрия Корнева из нашей реальности, несколько нарушили ход истории в параллельном пространстве. Да плюс еще два процента, о которых я вас предупреждал. Так что вряд ли ваше путешествие в прошлое кардинально обогатит исследования той эпохи. По крайней мере, читая ваш отчет и сравнивая его с известными историческими фактами, я нашел несколько серьезных расхождений.
- Например?
- Пожалуйста: заговор министров. В нашей действительности его не было.
- Вы уверены в этом? - Историк не сумел, а возможно, и не пытался скрыть иронии. - Чем же иным объяснить то упорное нежелание расстаться с командно-административными методами руководства, то яростное противодействие демократическим принципам самоуправления предприятий, которое вынудило общество в конце концов распустить министерства? Конечно, в нашей действительности министры между собой не сговаривались. Но ведь итоговый результат тот же: новая структура управления народным хозяйством.
- Что ж, возможно, вы и правы, - пожал плечами Координатор. - Два процента неадекватности влияют только на частности, но не на конечный результат. Только ведь ваша наука частностями не пренебрегает. Вот, скажем, этот майор Козлов... Я консультировался с некоторыми вашими коллегами специалистами по той эпохе. Они в один голос заявили: такого нарушения процессуального кодекса... Я правильно запомнил термин?
- Абсолютно правильно.
- Так вот, такого быть не могло.
- Здесь я с вами согласен, - сказал Историк. - В нашей реальности следствие проводилось совсем по-другому. Но опять же, конечный результат... Кстати, известно, сколько дали Корневу?
- Вы имеете в виду, на какое время его принудили жить в условиях, препятствующих гармоничному развитию личности?
- Можно и так сказать, - усмехнулся Историк.
- Шесть лет. Невозможно понять такое отношение к человеку: отнять у него шесть лет, хотя средняя продолжительность жизни в то время была крайне низкой, - втрое меньше нашей.
- Ну что вы, у них это считалось вовсе не таким большим сроком. Но пора вам выполнить свое обещание и рассказать, каким образом до нас дошли данные о Корневе.
- Ах да. Мы взяли их из архива, найденного при раскопках. Это были документы общественного института, который ограничивал свободу граждан, не вписывающихся в общепринятые рамки. И Большой Мозг заинтересовался Корневым - в архиве были его воспоминания, которые он написал в так называемой зоне, вы, наверное, знаете, что это такое, официальные документы, фиксирующие его деяние против общества, и фотографии. Кстати, вы поразитесь, прочитав его воспоминания, настолько они совпадают с вашим отчетом. Большой Мозг попросил разрешения воссоздать Корнева. Совет планеты незначительным большинством голосов постановил выделить энергию, хотя никто не предполагал, что эта личность может заинтересовать специалистов. Как видите, ошиблись.
- И хорошо, что ошиблись, - рассмеялся Историк. - Я получил именно то, что хотел: типичного представителя своей эпохи. В данном случае типичного интеллигента, тонко чувствующего общественные перекосы и мучающегося от невозможности создать гармонию мюкду своей личностью и общественным строем. И я уверен, что достиг максимально возможной адекватности этой личности. Уверен, потому что получил такой взрыв эмоций, о каком мы в нашем благополучном обществе даже не подозреваем. Я понял этих людей и их время. И все, что мы знаем из исследований, из исторических документов этой переломной эпохи, раскрылось для меня неожиданно близкой стороной, наполнилось новым содержанием. Для меня нет больше тайн в тех событиях, повернувших ход истории. И теперь мне хотелось бы узнать только одно: дождалась ли меня... виноват, его Татьяна?
- Мне тоже хотелось бы это узнать, - сказал Координатор.



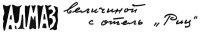
Комментарии к книге «Дуэль нервного века», Альберт Валентинов
Всего 0 комментариев