ГЛАВА I Почему бесполезно искать даже на лучших картах городок Кикандон
Если вы будете искать на старой или новой карте Фландрии маленький городок Кикандон, то, вероятно, его не найдете, Что же, Кикандон — исчезнувший город? Нет. Город будущего? Тоже нет. Он существует вопреки данным географии уже лет восемьсот-девятьсот. В нем насчитывается даже две тысячи триста девяносто три души, если считать по одной душе на каждого жителя. Он расположен в тридцати с половиной километрах северо-западнее Ауденаарде и в пятнадцати с четвертью — юговосточнее Брюгге, в самом сердце Фландрии. Ваар, маленький приток Шельды, течет под тремя его мостами, еще крытыми старинной, средневековой кровлей, как в Турнэ. Там можно любоваться старым замком, первый камень которого был положен в 1197 году графом Болдуином, будущим императором Константинопольским, ратушей с готическими бойницами, увенчанной зубцами и сторожевой башней со шпилями. С этой башни каждый час раздается мелодичный перезвон часов, настоящий воздушный рояль, слава которого превосходит славу перезвона в Брюгге. Иностранцы — если только они когда нибудь попадали в Кикандон — не покидали этого города, не осмотрев зала градоправителей, украшенного портретом Вильгельма Нассауского работы Брандона; амвона церкви св. Маглуара, шедевра архитектуры ХVI столетия; колодца из кованого железа посреди большой площади св. Эрнуфа, восхитительные орнаменты которого созданы художником-кузнецом Квентином Мецисом; гробницы, воздвигнутой некогда для Марии Бургундской, дочери Карла Смелого, почивающей ныне в церкви Божьей Матери в Брюгге, и т. д. Наконец, Кикандон славится производством сбитых сливок и леденцов. Это производство переходит уже несколько столетий от отца к сыну в семействе ван-Трикасс. И все же Кикандон не значится на карте Фландрии! Забывчивость ли это географов, намеренное ли упущение — этого я не могу сказать; но Кикандон существует вполне реально со своими узкими улицами, укреплениями, домиками, рынком и своим бургомистром. И в этом городе недавно произошли события удивительные, необычайные, невероятные, но правдивые, и о них-то будет подробно рассказано ниже.
Конечно, о фламандцах Западной Фландрии нельзя ни сказать, ни подумать ничего плохого. Это люди хорошие, разумные, бережливые, радушные, ровного нрава, гостеприимные, быть может тяжеловатые по языку и уму, но все это не объясняет, почему один из интереснейших городов их территории до сих пор не обозначен на географической карте.
О таком упущении можно только пожалеть. Если бы история, или за отсутствием истории хроника, или, наконец, за отсутствием хроники местные предания говорили о Кикандоне! Но нет, ни атлас, ни путеводители не говорят о нем. Понятно, насколько такое молчание должно вредить торговле и промышленности этого города. Но поспешим прибавить, что в Кикандоне нет ни торговли, ни промышленности и что он прекрасно обходится и без них. Свои сбитые сливки и леденцы он поедает на месте и не вывозит их. Наконец, кикандонцам и не нужна известность. Желания их ограниченны, существование скромно; они спокойны, умеренны, холодны, флегматичны, словом — «фламандцы», какие еще встречаются иногда между Шельдой и Северным морем.
ГЛАВА II, где бургомистр вам-Трикасс и советник Никлосс беседуют о городских делах
— Вы думаете? — спросил бургомистр.
— Я думаю, — ответил советник, помолчав несколько минут.
— Дело в том, что никогда нельзя поступать легкомысленно, — продолжал бургомистр.
— Вот уже десять лет, как мы говорим об этом серьезном деле, — возразил советник Никлосс, — и признаюсь вам, мой достойный ван-Трикасс, что я все еще не могу решиться.
— Я понимаю ваши колебания, — проговорил бургомистр после доброй четверти часа размышлений, — и не только понимаю, но и разделяю их. Мы поступим мудро, если не решимся ни на что, не изучив вопроса более тщательно.
— Без сомнения, — отвечал Никлосс, — должность гражданского комиссара совершенно бесполезна в таком спокойном городе, как Кикандон.
— Наш предшественник, — важно возразил ван-Трикасс, — никогда не осмелился бы сказать о какой-нибудь вещи «без сомнения». Всякое утверждение подвержено неприятным возражениям.
Советник покачал головой в знак согласия, потом замолчал почти на полчаса. По истечении этого времени, в продолжение которого они не пошевелили и пальцем, Никлосс спросил ван-Трикасса, не приходила ли его предшественнику — лет двадцать назад — в голову мысль об упразднении должности гражданского комиссара. Эта должность обходилась городу Кикандону в тысячу триста семьдесят пять франков и несколько сантимов в год.
— Да, конечно, — отвечал бургомистр, с величавой медлительностью поднося руку к своему ясному лбу, — но этот достойный человек умер, не осмелившись принять решения ни по этому вопросу, ни по вопросу о какой-либо Другой административной мере. Это был мудрец. Почему бы и мне не поступать, как он?
Советник Никлосс не смог придумать довода, который противоречил бы мнению бургомистра.
— Человек, который умирает, не решившись ни на что в течение всей своей жизни, — прибавил важно ван-Трикасс, — очень близок к тому, чтобы достичь совершенства в этом мире.
Сказав это, бургомистр нажал кнопку звонка, издавшего скорее вздох, чем звон. Почти тотчас же послышались легкие шаги. Меньше прошумела бы и мышь, пробежав по толстому ковру. Дверь комнаты открылась, бесшумно поворачиваясь на смазанных петлях. Показалась белокурая девушка с длинными косами. Это была Сюзель ван-Трикасс, единственная дочь бургомистра. Она подала отцу набитую трубку и маленькую медную жаровню, не сказав ни слова, и мгновенно исчезла, так же бесшумна, как и вошла.
Достопочтенный бургомистр зажег свою огромную трубку и вскоре исчез в облаке голубоватого дыма, покинув советника Никлосса, погруженного в глубочайшее размышление.
Комната, в которой беседовали эти два почтенных лица, облеченные властью в Кикандоне, была гостиной, богато украшенной темным резным деревом. Высокий камин с огромным очагом, где можно было бы сжечь целый дуб или изжарить быка, занимал всю стену против окна, расписные стекла которого смягчали дневной свет. В старинной рамке над камином виднелся портрет какого-то пожилого человека, приписываемый кисти Гемлинга и долженствующий изображать одного из предков ван-Трикасса, родословная которого неоспоримо вела начало с ХIV века, когда фламандцы должны были бороться с императором Рудольфом Габсбургским.
Эта гостиная составляла часть дома бургомистра, одного из приятнейших домов Кикандона. Построенный во фламандском вкусе, со всеми ухищрениями и неожиданностями готической архитектуры, он считался одним из лучших зданий города. Картезианский монастырь или приют для глухонемых не были молчаливее этого жилища. Шума здесь не существовало; здесь не ходили, а скользили, не говорили, а шептались, а между тем в доме жили и женщины — жена бургомистра госпожа Бригитта ван-Трикасс, его дочь Сюзель и служанка Лотхен Янсхен. Нужно упомянуть такте о сестре бургомистра, тетушке Эрманс, откликавшейся также на имя Татанеманс, данное ей некогда племянницей, когда Сюзель была еще маленькой девочкой. И, несмотря на эту благоприятную для раздора, шума и болтовни среду, дом бургомистра был тих, как пустыня.
Самому бургомистру было лет пятьдесят, он был ни толст ни худ, ни высок ни низок, ни стар ни молод ни румян ни бледен, ни весел ни печален, ни доволен ни недоволен, ни энергичен ни слабохарактерен, ни горд ни принижен, ни добр ни зол, ни щедр ни скуп, ни храбр ни труслив.
Этот человек был умеренным во всем, но по неизменной медлительности его движений, по слегка отвисшей нижней челюсти, по неподвижным векам, по гладкому, как медная пластинка, лбу, по мало выступающим мускулам физиономист без труда определил бы, что бургомистр ван-Трикасс — олицетворение флегмы. Никогда ни гнев, ни страсть не заставляли его сердце биться сильнее, никогда его лицо не покрывалось краской. Он одевался неизменно ю хорошее платье, ни слишком узкое, ни слишком просторное, которое никогда не изнашивалось. Обут он был в большие башмаки с тупыми носками, тройной подошвой и серебряными пряжками. Эти башмаки своей прочностью приводили в отчаяние его сапожника. Его широкополая шляпа относилась к той эпохе, когда Фландрия окончательно отделилась от Голландии. Этому почтенному головному убору было около сорока лет. Но чего вы хотите? Тело, как и душу, и платье, как и тело, изнашивают страсти, а наш достойный бургомистр, вечно невозмутимый, равнодушный ко всему, не знал страстей. Он, не изнашивая ничего, не изнашивался и сам, и именно поэтому был человеком, вполне подходящим для управления Кикандоном и его спокойными обитателями.
Действительно, город был не менее спокоен, чем дом ван-Трикасса. Именно в этом мирном обиталище бургомистр рассчитывал дожить до самых преклонных лет, пережить свою добрую супругу Бригитту ван-Трикасс, которая и в могиле, конечно, не могла бы найти большего покоя, чем тот, которым она наслаждалась на земле вот уже шестьдесят лет.
Это требует объяснения.
Семейство ван-Трикасс справедливо могло бы называться семейством Жанно. И вот почему.
Всякий знает, что нож этого господина так же знаменит, как и его владелец, и так же неизносим благодаря двойной, непрестанно возобновляющейся операции, которая состоит в замене ручки, когда она износилась, и лезвия, когда оно больше ничего не стоит. Такова же была и операция, производимая с незапамятных времен в семействе ван-Трикасс, и сама природа, казалось, принимала в этом благосклонное участие. Начиная с 1340 года каждый ван-Трикасс, овдовев, вступал в брак с девицей ван-Трикасс, которая была моложе его. Она, овдовев, в свою очередь вторично выходила замуж за более юного ван-Трикасса, который, овдовев… и так далее, без конца… Каждый умирал в свою очередь с правильностью механизма. Достойная госпожа Бригитта ван-Трикасс была уже за вторым мужем и, если не хотела нарушать своих обязанностей, должна была переселиться в лучший мир раньше своего супруга, чтобы освободить место новой ван-Трикасс. На это достопочтенный бургомистр непоколебимо рассчитывал, так как вовсе не желал нарушать традиций семьи.
Таков был этот дом, мирный и молчаливый, в котором двери не скрипели, стекла не дрожали, полы не трещали, трубы не завывали, флюгера не визжали, замки не щелкали, а обитатели производили не больше шума, чем их тени.
ГЛАВА III, где комиссар Пассоф появляется столь же шумно, сколь и неожиданно
Приведенный нами выше интересный разговор начался между советником и бургомистром без четверти три пополудни. Было три часа сорок пять минут, когда ван-Трикасс закурил свою огромную трубку, вмещавшую четвертку табаку, а кончил он ее только в пять часов тридцать пять минут.
За все это время оба собеседника не обменялись ни единым словом.
Около шести часов советник проговорил в прежнем тоне:
— Итак, мы решаем…
— Ничего не решаем, — отвечал бургомистр.
— Я думаю, в общем, что вы правы, ван-Трикасс.
— Я тоже так думаю, Никлосс. Мы примем решение относительно гражданского комиссара, когда будем более сведущи… позже… Нам ведь не месяц дан сроку.
— Даже не год, — ответил Никлосс, развертывая свой носовой платок, которым он пользовался с замечательной скромностью.
Наступило снова молчание, продолжавшееся добрый час. Ничто не нарушало этого перерыва в разговоре, даже появление домашнего пса, честного Ленто, не менее флегматичного, чем его хозяин, вежливо пришедшего навестить гостиную. Достойный пес! Образец для всей своей породы! Будь он из картона, с колесиками на лапах, он не произвел бы при своем появлении больше шума.
Около восьми часов, когда Лотхен внесла старинную лампу с матовым стеклом, бургомистр сказал советнику:
— У нас нет больше важных дел для обсуждения, Никлосс?
— Нет, ван-Трикасс, нет, насколько я знаю.
— Не говорили ли мне, однако, — спросил бургомистр, — что башня Ауденаардских ворот угрожает рухнуть?
— Действительно, — отвечал советник, — и я, право, не удивлюсь, если она в один прекрасный день раздавит кого-нибудь.
— О, — возразил бургомистр, — раньше, чем такое несчастье случится, я надеюсь, что мы сумеем принять решение относительно башни.
— Надеюсь, ван-Трикасс.
— Есть и более спешные вопросы?
— Несомненно, — отвечал советник: — вопрос о складе кож, например.
— А он все еще горит? — спросил бургомистр.
— Вот уже три недели.
— Разве мы не решили на совете предоставить ему гореть?
— Да, ван-Трикасс, и по вашему предложению.
— Разве это не лучший способ справиться с пожаром?
— Без сомнения.
— Ну, хорошо, подождем. Это все?
— Все, — ответил советник, потирая себе лоб, словно стараясь припомнить, не забыл ли он какое-нибудь валютное дело.
— А вы ничего не слышали, — продолжал бургомистр, — о прорыве плотины, который грозит наводнением нижнему кварталу святого Иакова?
— Да, как же, — отвечал советник. — И какая досада, что этот прорыв не появился выше склада кож! Вода залила бы пожар, и это избавило бы нас от всяких забот.
— Что ж делать, Никлосс, — возразил достойный бургомистр. — Нет ничего нелогичнее несчастных случаев. Между ними нет никакой связи, и мы не можем, как хотели бы, использовать один, чтобы смягчить другой.
Это тонкое замечание ван-Трикасса потребовало некоторого времени, чтобы советник мог оценить его.
— Да, — начал снова Никлосс, — но мы даже не говорим о нашем большом деле.
— Каком большом деле? У нас есть, значит, большое дело? — спросил бургомистр.
— Несомненно. Речь идет об освещении города.
— Ах да, — ответил бургомистр, — если память не изменяет мне, вы говорите о проекте доктора Окса?
— Вот именно.
— Дело двигается, Никлосс, — ответил бургомистр. — Уже начата прокладка труб, а завод совершенно закончен.
— Может быть, мы немного поспешили с этим делом, — заметил советник, покачав головой.
— Может быть, — отвечал бургомистр. — Но наше оправдание в том, что доктор Окс берет все расходы по своему опыту на себя. Это нам не будет стоить ни гроша.
— Это действительно наше оправдание. И потом, конечно, нужно итти в ногу с веком. Если опыт удастся, Кикандон будет первым городом Фландрии, освещенным газом окси… Так он называется, этот газ?
— Оксигидрический.
— Вот именно — оксигидрическим газом.
В этот момент дверь отворилась, и Лотхен доложила бургомистру, что ужин подан.
Советник Никлосс поднялся, чтобы проститься с ванТрикассом, у которого от всех решенных и нерешенных дел разыгрался аппетит. Затем было условленно, что со временем придется созвать совет именитых людей города, чтобы решить, не принять ли какое-нибудь предварительное решение по вопросу об Ауденаардской башне.
Оба достойных администратора направились к выходной двери. Советник зажег маленький фонарик, так как улицы Кикандона, еще не освещенные газом. доктора Окса, были окутаны непроглядной октябрьской тьмой и густым туманом.
Приготовления советника Никлосса к отбытию потребовали доброй четверти часа; когда фонарь был наконец зажжен, советник обулся в огромные калоши из воловьей кожи и натянул на руки толстые перчатки из кожи бараньей, поднял меховой воротник, надвинул шляпу на глаза, вооружился тяжелым зонтом с изогнутой ручкой и приготовился выйти.
В ту минуту, как Лотхен хотела снять дверной засов, снаружи послышался шум.
Да! как бы невероятно это ни казалось, шум, настоящий шум, какого город не слыхал со времени вторжения испанцев в 1513 году, ужасный шум пробудил глубоко уснувшее эхо старого дома ван-Трикасс. В дверь стучали — в дверь, нетронутую еще никаким грубым прикосновением! Стучали часто и сильно тупым орудием, очевидно узловатой дубиной. Ясно слышались слова:
— Господин ван-Трикасс, господин бургомистр! Откройте, откройте скорее!
Бургомистр и советник, совершенно ошеломленные, глядели друг на друга, не говоря ни слова. Это превосходило их воображение. Если бы выстрелила старая замковая пушка, не стрелявшая с 1385 года, обитатели дома ван-Трикасс не были бы ошарашены более. Да простят нам читатели это слово: его грубость искупается его выразительностью.
Тем временем удары, крики, зов все усиливались. Лотхен, взяв себя в руки, решила заговорить.
— Кто там? — спросила она.
— Это я! я! я!
— Кто вы?
— Комиссар Пассоф!
Комиссар Пассоф! Тот самый, об упразднении должности которого говорилось вот уже десять лет! Но что же произошло? Не напали ли на город бургундцы, как в ХIV веке? Нужно было событие не меньшей важности, чтобы взволновать до такой степени комиссара Пассофа, не уступавшего в отношении спокойствия и хладнокровия самому бургомистру.
По знаку ван-Трикасса — ибо этот достойный человек не мог произнести ни слова, — засов был снят, и дверь открылась.
Комиссар Пассоф ворвался в переднюю, словно ураган.
— Что случилось, господин комиссар? — спросила Лотхен, храбрая девушка, не терявшая головы даже при самых серьезных обстоятельствах.
— Что случилось! — повторил Пассоф, в круглых глазах которого отражалось неподдельное волнение. — Случилось то, что я прямо от доктора Окса, где было собрание, и там…
— Там? — повторил советник.
— Там я был свидетелем таких споров, что… Господин бургомистр, там говорили о политике!
— О политике? — повторил ван-Трикасс, взъерошивая свой парик.
— Да, — продолжал комиссар Пассоф. — Этого в Кикандоне не случалось, может быть, уже сто лет. Там начался спор. Адвокат Андре Шют и врач Доминик Кустос доспорились до того, что дело может дойти до дуэли.
— До дуэли! — вскричал советник: — Дуэль! Дуэль в Кикандоне! Но что же сказали друг другу адвокат Шют и врач Кустос?
— Вот слово в слово: «Господин адвокат, — сказал врач, — вы заходите слишком далеко, как мне кажется, и недостаточно взвешиваете свои слова».
Бургомистр ван-Трикасс заломил руки. Советник побледнел и уронил свой фонарик. Комиссар покачал головой. Чтобы такие ужасные слова произносили столь почтенные люди!
— Этот врач Кустос, — прошептал ван-Трикасс, — решительно опасный человек, горячая голова! Идемте, господа!
Все трое вернулись в гостиную бургомистра.
ГЛАВА IV, где доктор Окс оказывается первоклассным физиологом и смелым экспериментатором
Что же это за человек, известный под странным именем доктора Окса?
Оригинал, конечно, но в то же время смелый ученый, физиолог, работы которого известны и знамениты в Европе, счастливый соперник Дэви, Дальтона, Менци, Годвина, всех этих великих людей, выдвинувших физиологию в первые ряды современной науки.
Доктор Окс был человек не слишком полный, среднего роста, лет… но мы не смогли бы указать точно ни его возраста, ни национальности. Да это и не важно: достаточно знать, что это был странный человек, с горячей и мятежной кровью, как бы соскочивший со страниц Гофмана[1] и удивительно не похожий на жителей Кикандона. В себя, в свои теории он верил непоколебимо. Всегда улыбающийся, с высоко поднятой головой, с походкой свободной и уверенной, с ясным, твердым взглядом, с большим ртом, жадно глотавшим воздух, он производил на всех приятное впечатление. Он был живым, несомненно живым, прекрасно уравновешенным во всех своих частях механизмом, с хорошим ходом, со ртутью в жилах и сотней иголок в пятках. Он не мог ни минуты оставаться спокойным и рассыпался в торопливых словах и бесчисленных жестах.
Был ли он богат, этот доктор Окс, решивший на свои средства осветить целый город?
Вероятно, если он позволял себе такие расходы, и это единственное, что мы можем ответить на этот нескромный вопрос.
Доктор Окс прибыл в Кикандон пять месяцев назад со своим препаратором, отзывавшимся на имя Гедеон Иген, высоким, сухим, тощим, но не менее живым, чем его начальник.
Но почему доктор Окс предпринял на свой счет освещение города? Почему он выбрал именно мирных кикандонцев, этих истых фламандцев, и решил облагодетельствовать их город необычайным освещением? Не хотел ли он под этим предлогом провести какой-нибудь новый физиологический опыт? Что, наконец, пытался сделать этот оригинал? Этого мы не знаем, так как у доктора Окса не было других поверенных, кроме его препаратора Игена, слепо ему повиновавшегося.
Очевидно, доктор Окс взялся осветить город потому, что Кикандон действительно очень нуждался в освещении, «особенно ночью», как тонко замечал комиссар Бассоф. Поэтому и был сооружен завод для выработки осветительного газа. Газометры были готовы к работе, трубы проложены под мостовыми города, и в скором времени газовые рожки должны были ярко загореться в общественных зданиях и в домах некоторых любителей прогресса. Ван-Трикасс в качестве бургомистра, Никлосс в качестве советника и другие знатные лица города сочли своим долгом разрешить провести новое освещение в свои квартиры.
Читатель, вероятно, не забыл, как бургомистр и советник упомянули о том, что город будет освещен не вульгарным светильным газом, полученным при перегонке каменного угля, но новейшим газом, в двадцать раз более ярким, — оксигидрическим газом, получаемым от смешения кислорода и водорода.
Доктор, искусный химик и изобретательный физик, умел получать этот газ в больших количествах и дешево, не пользуясь марганцевокислым натрием, по методу Гессье дю-Мотэ,[2] а просто разлагая слегка подкисленную воду с помощью батареи, построенной из новых элементов, изобретенных им самим. Таким образом, ему не требовалось ни дорогих веществ, ни платины, ни реторт, ни тонких аппаратов для производства газа. Электрический ток проходил сквозь большие чаны, наполненные водой, и жидкая стихия разлагалась на составные части — кислород и водород. Кислород направлялся в одну сторону, водород, — в двойном сравнительно со своим бывшим союзником объеме, — в другую. Оба газа собирались в отдельные резервуары — существенная предосторожность, так как их смесь, воспламенившись, вызвала бы страшный взрыв, — потом трубки должны были подводить их раздельно к рожкам, устроенным так, чтобы предотвратить всякую возможность взрыва. Должно было получаться замечательное пламя, блеск которого не уступает электрическому свету, а свет электрической лампы, как это всем известно, согласно опытам Кассельмана, равняется свету тысячи ста семидесяти одной свечи, ни одной больше, ни одной меньше.
Благодаря этому счастливому изобретению Кикандон должен был получить прекрасное освещение; но доктор Окс и его препаратор меньше всего занимались этим, как будет видно из дальнейшего.
Как раз на следующий день после шумного вторжения комиссара Пассофа в гостиную бургомистра Гедеон Иген и доктор Окс беседовали в своем рабочем кабинете, в главном корпусе завода.
— Ну что, Иген, ну что! — вскричал доктор Окс, потирая руки. — Вы их видели вчера у нас на собраний, этих добрых кикандонцев с холодной кровью, занимающих по живости своих страстей середину между губками и коралловыми наростами! Вы видели, как они спорили, как жестикулировали? Ведь они преобразились физически и морально! А ведь это только начало! Погодите, когда мы дадим им настоящую дозу!
— Действительно, учитель, — ответил Гедеон Иген, потирая свой острый нос, — опыт начался удачно, и если бы я сам не закрыл из осторожности выпускной кран, я не знаю, что произошло бы.
— Вы слышали, что говорили друг другу адвокат Шют и врач Кустос? — продолжал доктор Окс. — Фраза сама по себе не была обидной, но в устах кикандонца она стоит тех оскорблений, которые герои Гомера бросают друг другу, прежде чем обнажить меч. Ах, эти фламандцы! Увидите, что мы из них сделаем в один прекрасный день!
— Неблагодарных, — отвечал Гедеон Иген тоном человека, оценившего род человеческий по достоинству.
— Ба! — вскричал доктор. — Не важно, понравится ли это им или нет, если наш опыт удастся!
— Но я боюсь, — прибавил препаратор, хитро улыбаясь, — что, возбуждая таким образом их дыхательный аппарат, мы можем повредить легкие этим честным жителям Кикандона.
— Тем хуже для них, — отвечал доктор Окс. — Это делается в интересах науки. Что бы вы сказали, если бы собаки или лягушки отказались подчиняться опытам?
Возможно, что если бы спросить собак и лягушек, то эти животные и возразили бы кое-что против вивисекторской практики; но доктор Окс был уверен в неоспоримости своего аргумента.
— В конце концов вы правы, учитель, — произнес Гедеон Иген: — нельзя найти ничего лучшего, чем эти кикандонцы.
— Нельзя, — повторил доктор.
— Вы проверяли пульс этих созданий?
— Сто раз.
— И сколько же у них ударов в среднем?
— Нет и пятидесяти в минуту. Поймите только: город, в котором за целое столетие не было и тени какого ни будь разлада; где грузчики не бранятся, кучера не переругиваются, где лошади не брыкаются, собаки не кусаются, кошки не царапаются! Город, где полицейский суд не находит себе работы с начала года до конца. Город, где никто не горячится ни ради искусства, ни ради дела! Город, где жандармы превратились в миф, где протоколы не составлялись уже сто лет! Город, наконец, где за триста лет не было дано ни одного тумака, ни одной пощечины! Вы понимаете, мэтр Иген, что это не может продолжаться и что мы изменим все это.
— Прекрасно! прекрасно! — повторял восторженно препаратор. — А воздух этого городам? Вы его исследовали?
— Конечно. Семьдесят девять частей азота и двадцать одна часть кислорода, углекислота и водяные пары в переменных количествах. Это обычные пропорции.
— Хорошо, доктор, хорошо, — ответил мэтр Иген. — Опыт будет произведен в большом масштабе и будет решающим.
— А если он будет решающим, — прибавил доктор Окс с торжествующим видом, — то мы преобразуем мир!
ГЛАВА V, где бургомистр и советник навещают доктора Окса, и что из этого получается
Советнику Никлоссу и бургомистру ван-Трикассу пришлось все-таки узнать, что такое тревожная ночь. Важное событие, происшедшее в доме доктора Окса, совершенно лишило их сна. Каковы будут последствия этой истории, они не могли себе представить, Нужно ли будет принять какое-нибудь решение? Будет ли вынуждена вмешаться городская властью Будут ли изданы предписания, чтобы подобный скандал не повторился?
Столько сомнений не могли не потревожить этих почтенных людей, и, расставаясь, они решили увидеться на другой день.
Итак, на следующий день перед обедом бургомистр ван-Трикасс самолично отправился к советнику Никлоссу. Он нашел своего друга более спокойным и сам тоже пришел в обычное настроение.
— Ничего нового? — спросил ван-Трикасс.
— Ничего нового со вчерашнего дня, — отвечал Никлосс.
— А врач Доминик Кустос?
— Я слышал о нем не больше, чем об адвокате Шюте.
После часового разговора, суть которого могла бы уложиться в три строки, советник и бургомистр решили навестить доктора Окса, чтобы незаметно для него узнать кое-какие подробности происшествия.
Против обыкновения, они привели свое решение в исполнение немедленно и направились к заводу доктора Окса, расположенному за городом, близ Ауденаардских ворот, тех самых, башня которых грозила падением.
Бургомистр и советник шествовали медленным, торжественным шагом, продвигаясь вперед не больше чем на тридцать дюймов в секунду. Это была, впрочем, нормальная скорость всех горожан. Никто никогда не видел на улицах Кикандона бегущего человека.
Время от времени на спокойном и тихом перекрестке, на углу мирной улицы, оба нотабля[3] останавливались, чтобы поздороваться с людьми.
— Добрый день, господин бургомистр, — говорил прохожий.
— Добрый день, друг мой, — отвечал ван-Трикасс.
— Ничего нового, господин советник? — спрашивал другой.
— Ничего нового, — отвечал Никлосс.
Однако по любопытному тону и вопросительным взглядам можно было догадаться, что вчерашнее происшествие известно всему городу. По одному направлению пути ван-Трикасса самые тупые кикандонцы отгадали, что бургомистр готовится предпринять некий важный маневр. Дело Кустоса и Шюта занимало все умы, но никто не принимал ни ту, ни другую сторону. И адвокат и врач были уважаемыми людьми. Адвокат Шют, никогда не выступавший в городе, где суд и присяжные существовали только в памяти старожилов, никогда, следовательно, не проигрывал процесса. Что касается врача Кустоса, то это был почтенный практик, который излечивал своих больных от всех болезней, кроме той, от которой они умирали. Досадная странность, общая, впрочем, для врачей всех стран.
Подходя к Ауденаардским воротам, советник и бургомистр предусмотрительно сделали небольшой крюк, чтобы не проходить «в радиусе падения» башни. Зато они внимательно осмотрели ее издали.
— Я думаю, что она упадет, — сказал ван-Трикасс.
— Я тоже, — ответил Никлосс.
— Если только не подпереть ее, — прибавил ван-Трикасс. — Но нужно ли подпирать? Вот в чем вопрос.
— Действительно, вот в чем вопрос, — ответил Никлосс.
Через несколько минут они оказались перед дверью завода.
— Можно видеть доктора Окса? — спросили они.
Доктора Окса всегда можно было видеть первым людям города, и они тотчас же были введены в кабинет знаменитого физиолога.
Возможно, что им пришлось дожидаться доктора добрый час. По крайней мере, бургомистр, чего с ним ни разу в жизни не было, обнаружил некоторое нетерпение, так же как и советник.
Доктор Окс вошел наконец и прежде всего извинился, что заставил себя ждать, но план газометра, который нужно утвердить, ответвление, которое нужно исправить, задержали его.
Впрочем, все было на ходу. Трубопроводы, предназначенные для кислорода, уже проложены. Через несколько месяцев город будет великолепно освещен; уже можно видеть отверстия трубок, введенных в кабинет доктора.
Потом доктор осведомился, чему он обязан чести видеть у себя бургомистра и советника.
— Нам просто захотелось повидать вас, доктор, — ответил ван-Трикасс, — мы уже давно не имели этого удовольствия. Ведь мы в нашем мирном городе так редко куда-нибудь выходим, считаем каждый свой шаг, каждое движение и так счастливы, когда никто не нарушает однообразия…
Никлосс с удивлением смотрел на своего друга. Никогда бургомистр не говорил так много без передышки. Ван-Трикасс объяснялся с совершенно несвойственной ему поспешностью, и сам Никлосс чувствовал неодолимую потребность говорить.
Доктор Окс внимательно и лукаво глядел на бургомистра.
Ван-Трикасс, никогда не разговаривавший иначе как сидя в удобном кресле, на этот раз поднялся. Он еще не жестикулировал, но было ясно, что до этого недалеко. Советник то и дело потирал икры и тяжело дышал. Оживляясь все более, он решил поддержать, если будет нужно, своего начальника и друга.
Ван-Трикасс встал, сделал несколько шагов и снова остановился перед доктором.
— А через сколько же времени, — спросил он, — ваши работы будут закончены?
— Через три или четыре месяца, господин бургомистр, — ответил доктор Окс.
— Ой, как долго! — воскликнул ван-Трикасс.
— Слишком долго! — прибавил Никлосс, который был положительно не в состоянии больше сидеть, и тоже встал.
— Нам нужен этот срок, чтобы закончить работы, — возразил доктор: — кикандонские рабочие не отличаются проворством.
— Как, вы находите, что они непроворны? — вскричал бургомистр, сильно задетый этим замечанием.
— Да, господин бургомистр, — ответил доктор Окс: — французский рабочий один сделал бы за день работу десятерых кикандонцев. Ведь они же истые фламандцы!..
— Фламандцы! — вскричал советник Никлосс, сжав кулаки. — Что вы подразумеваете под этим словом, сударь?
— Ах, любезный советник… то же, что подразумевает весь мир, — ответил доктор улыбаясь.
— Ах, так, сударь!.. — произнес бургомистр, шагал по кабинету из угла в угол. — Я не люблю этих намеков. Рабочие в Кикандоне стоят рабочих в любом другом городе, и ни в Париж, ни в Лондон мы за образцами не пойдем! Что касается работ, относящихся к вам, то я попрошу вас ускорить выполнение. Наши улицы взрыты для прокладки ваших трубопроводов, а это мешает уличному движению. Торговцы начнут, наконец, жаловаться, и я, ответственный управитель, не желаю подвергаться законным упрекам.
Достойный бургомистр! Он говорил о торговцах, об уличном движении, и эти непривычные для него слова срывались так легко с его языка. Удивительно! Что с ним случилось?
— К тому же, — прибавил Никлосс, — город не может больше обходиться без освещения.
— Однако, — сказы доктор, — он ждет его уже восемьсот или девятьсот лет…
— Тем более, сударь, — возразил бургомистр, отчеканивая каждый слог: — другие времена, другие нравы! Прогресс идет своим чередом, и мы не хотим оставаться позади. Если через месяц улицы не будут освещены, вы заплатите за каждый просроченный день. Подумайте, что будет, если в такой темноте произойдет какая-нибудь потасовка!
— Конечно! — вскричал Никлосс. — Ведь фламандец — порох! Достаточно искры, чтобы он вспыхнул!
— И кстати, — перебил своего друга бургомистр, — комиссар Пассоф сообщил нам, что вчера вечером в вашем доме произошел спор. Действительно ли это был политический спор?
— Действительно, господин бургомистр, — ответил доктор Окс, едва сдерживая довольную улыбку.
— И столкновение произошло между Домиником Кустосом и Андре Шютом?
— Да, господин советник, но в их словах не было ничего серьезного.
— Ничего серьезного! — вскричал бургомистр. — Ничего серьезного, когда один человек говорит другому, что тот не взвешивает своих слов! Да из какого теста вы созданы, доктор? Разве вы не знаете, что в Кикандоне подобные выражения могут привести к весьма печальным последствиям? Если бы вы или кто-нибудь другой осмелился сказать это мне…
— Или мне, — прибавил советник Никлосс.
Произнеся эту угрозу, оба друга встали перед доктором, скрестив руки, готовые расправиться с ним, если бы движение или даже взгляд показались им оскорбительными.
Но доктор даже не моргнул.
— Во всяком случае, сударь, — продолжал бургомистр, — я считаю вас ответственным за то, что происходит в вашем доме. Я отвечаю за спокойствие этого города и не желаю, чтобы оно нарушалось. То, что случилось вчера, не должно повторяться, или мне придется исполнить свой долг! Вы слышали? Отвечайте же, сударь!
Говоря так, бургомистр под властью необычайного возбуждения все возвышал голос. Он был разъярен, этот достойный ван-Трикасс, и его, конечно, было слышно и с улицы. Наконец, вне себя, видя, что доктор не отвечает на его вызовы, он крикнул:
— Идемте, Никлосс!
И, хлопнув дверью с такой силой, что гул потряс весь дом, бургомистр вышел, увлекая за собой советника.
Пройдя шагов двадцать, достойные друзья успокоились. Шаг их замедлился, походка изменилась, лица из красных сделались розовыми.
И через четверть часа после того, как они покинули завод, ван-Трикасс спокойно заметил:
— Какой любезный человек этот доктор Окс! Я всегда с удовольствием с ним встречаюсь.
ГЛАВА VI, где Франц Пиклосс и Сюзель ван-Трикасс строят кое-какие планы на будущее
Читателю известно, что у бургомистра была дочь Сюзель, но что у советника. Никлосса; был сын Франц, этого, конечно, читатель предвидеть не мог. А если бы читатель и догадался об этом, то вообразить, что Франц был обручен с Сюзель, ему было бы трудно. А между тем эти молодые люди были созданы друг для друга и любили друг друга, как любят в Кикандоне.
Не нужно думать, что в этом исключительном городе молодые сердца вовсе не бились; они бились, но с известной медлительностью. Там женились и выходили замуж, как и во всех других городах мира, но делали это не спеша. Будущие супруги, прежде чем связать себя страшными узами, хотели изучить друг друга, и это изучение длилось не меньше десяти лет, как с колледже. Редко-редко свадьба совершалась раньше этого срока.
Да, десять лет! Десять лет ухаживания! Но, право, это не слишком много, когда речь идет о том, чтобы соединиться на всю жизнь. Нужно учиться десять лет, чтобы стать инженером или врачом, адвокатом или советником, и разве можно за меньший срок приобрести познания, необходимые для мужа? Это недопустимо; и в силу темперамента или рассудка кикандонцы, как нам кажется, нравы, когда растягивают таким образом свое обучение. Как увидишь, что в других городах, свободных и счастливых, браки заключаются в несколько месяцев, пожмешь плечами и отправишь сыновей в колледж, а дочерей в пансион в Кикандоне.
За полстолетия только один брак был заключен в два года, да и тот чуть не оказался несчастным.
Итак, Франц Никлосс любил Сюзель ван-Трикасс, но любил спокойно, как любят, имея впереди десять лет для приобретения любимого предмета. Раз в неделю, в условленный час, Франц приходил за Сюзель и уводил ее на оберега Ваара. Молодой человек брал с собой удочки, а Сюзель никогда не забывала коврового вышиванья, на котором под ее хорошенькими пальчиками сочетались самые невероятные цветы.
Францу было двадцать два года, на щеках у него пробивался легкий персиковый пушок, и голос его уже перестал соскакивать с одной октавы на другую.
Что касается Сюзель, то она была белокурой и розовой. Ей было семнадцать лет, и она не питала отвращения к рыбной ловле. Это времяпрепровождение очень подходило к темпераменту Франца. Терпеливый, насколько это возможно, он умел ждать, и когда после шестичасового ожидания скромная уклейка, сжалившись над ним, позволяла наконец поймать себя, он был счастлив, но умел сдерживать свою радость.
В этот день будущие супруги сидели на зеленом берегу. У их ног журчал прозрачный Ваар. Сюзель беспечно протягивала иглу сквозь канву. Франц машинально отводил удочку слева направо, потом снова пускал ее по течению, справа налево. Уклейки выделывали в воде капризные круги вокруг поплавка, но ни одна рыба еще не была поймана.
— Кажется, клюет, Сюзель, — говорил время от времени Франц, не поднимая глаз на молодую девушку.
— Вы думаете, Франц? — отвечала Сюзель, на миг оставляя свое рукоделье и следя за удочкой жениха.
— Нет, нет, — продолжал Франц. — Мне показалось, я ошибся.
— Клюнет, Франц, — утешала его Сюзель. — Но не забудьте подсечь во-время. Вы всегда опаздываете, и уклейка срывается.
— Хотите взять удочку, Сюзель?
— С удовольствием, Франц.
— Тогда дайте мне вашу канву. Посмотрим, не лучше ли я управлюсь с иглой, чем с удочкой.
И девушка дрожащей рукой брала удочку, а молодой человек продевал иглу в клетки канвы. Так сидели они долгие часы, обмениваясь кроткими словами, и сердца у них трепетали, когда поплавок вздрагивал на. воде. Восхитительные часы, когда, сидя рядом, они слушали журчанье реки!
Солнце уже низко склонилось к горизонту, но, несмотря на соединенные таланты Сюзель и Франца, ни одна рыба не клюнула. Уклейки только смеялись над молодыми людьми, которые были слишком справедливы, чтобы сердиться, на них за это:
— В другой раз мы будем счастливее, Франц, — сказала Сюзель, когда молодой рыболов снова вколол, свой нетронутый крючок в еловую дощечку.
— Нужно надеяться, Сюзель, — ответил Франц.
Они пошли к дому, не обмениваясь ни словом, безмолвные, как их тени, казавшиеся необыкновенно длинными под косыми лучами заходящего солнца. Особенно тощей была тень Франца, узкая и длинная, как удочка, которую он нес.
Молодые люди подошли к дому бургомистра. Блестящие булыжники были окаймлены пучками зеленой травы, которую никто не выпалывал, так как она устилала улицу ковром и смягчала звук шагов.
В тот момент, когда дверь открывалась, Франц счел нужным сказать своей невесте:
— Вы знаете, Сюзель, великий день приближается.
— Правда, приближается, Франц, — ответила девушка, опуская длинные ресницы.
— Да, — сказал Франц, — через пять или шесть лет…
— До свиданья, Франц, — сказала Сюзель.
— До свиданья, Сюзель, — ответил Франц. И, когда дверь закрылась, молодой человек отправился ровным и спокойным шагом к дому советника Никлосса.
ГЛABA VII, где andante превращается в allegro, а allegro в vivace[4]
Волнение, вызванное случаем с адвокатом Шzтом и врачом Кустосом, улеглось. Дело не имело последствий, Можно было надеяться, что Кикандон, возмущенный на миг необъяснимым событием, вернется к своей привычной апатии.
Прокладка труб для проводки оксигидрического газа в главнейшие здания города подвигалась быстро. Трубопроводы и ответвления понемногу проскальзывали под мостовые Кикандона. Но рожков еще не было, так как их изготовление было сложным делом и пришлось заказывать их за границей. Доктор Окс со своим препаратором Игеном не теряли ни минуты, торопя рабочих, заканчивая тонкие механизмы газометра, наблюдая день и ночь за гигантскими батареями, разлагающими воду под действием мощного электрического тока. Да, доктор уже вырабатывал свой газ, хотя проводка не была еще закончена. Вскоре доктор Окс должен был продемонстрировать в городском театре великолепие своего нового освещения.
В Кикандоне был театр, прекрасное здание, архитектура которого соединяла в себе все стили — и византийский, и романский, и готический, и ренессанс, — с полукруглыми дверями, стрельчатыми окнами, розетками, фантастическими шпилями; одним словом — образец всех жанров, наполовину Парфенон,[5] наполовину «Большое кафе» в Париже. На сооружение театра ушло семьсот лет, и он последовательно приспособлялся к архитектурной моде всех эпох. Тем не менее это было прекрасное здание.
В кикандонском театре играли все понемногу, но чаще всего шли оперы. Однако ни один композитор не узнал бы своего произведения, до того оно было изменено замедленным темпом.
Действительно, так как в Кикандоне ничто не делалось быстро, то драматические произведения должны были применяться к темнераменту кикандонцеы. Хотя двери театра и открывались обычно в четыре часа, а закрывались в десять, не было примеров, чтобы за эти шесть часов было сыграно больше двух актов. «Роберт Дьявол», «Гугеноты» или «Вильгельм Телль» занимали обычно три вечера, настолько медленно исполнялись эти шедевры. Vivасе в Кикандонском театре исполнялись, как настоящие adagio,[6] а allegro тянулись бесконечно. Самые быстрые рулады, исполненные в кикандонском вкусе, походили на церковные гимны. Беспечные трели удлинялись невероятно. Бурная ария Фигаро в первом акте «Севильского цирюльника» продолжалась пятьдесят восемь минут.
Разумеется, заезжие артисты должны были применяться к этой моде, но так как платили им хорошо, то они не жаловались и послушно следовали смычку дирижера.
Но зато сколько аплодисментов выпадало на долю этих артистов, восхищавших, не утомляя, жителей Кикандона! Публика хлопала продолжительно и равномерно, а газеты сообщали на другой день, что артист заслужил «бурные аплодисменты» и если зал не обрушился от криков «браво», то только потому, что в ХII столетии на постройки не жалели ни цемента, ни камня.
Впрочем, для того чтобы не приводить восторженные фламандские натуры в излишнее возбуждение, представления давались только раз в неделю. Это позволяло актерам тщательно углубляться в роли, а зрителям — лучше чувствовать красоты драматического искусства.
Такой порядок существовал с незапамятных времен. Иностранные артисты заключали контракты с кикандонским директором, когда хотели отдохнуть, и казалось, что ничто не изменит этих обычаев, когда через две недели после дела Шюта-Кустоса население было вновь смущено неожиданным инцидентом.
Была суббота, день оперы. Нового освещения еще нельзя было ждать. Трубы уже были проведены в зал, но газовых рожков еще не было, и свечи изливали свой кроткий свет на многочисленных зрителей, наполнявших зал. Двери для публики были открыты с часу пополудни, а в три зал был уже наполовину полон. Был момент, когда образовалась очередь, доходившая до конца площади св. Эрнуфа и до лавки аптекаря Лифринка. По такому скоплению публики легко было догадаться, что спектакль предстоит прекрасный.
— Вы идете сегодня в театр? — спросил в это же утро советник бургомистра.
— Непременно, — ответил ван-Tрикacc, — и госпожа ван-Tрикacc, и дочь моя Сюзель, и наша милая Татанеманс, которая страстно любит хорошую музыку.
— Так мамзель Сюзель будет? — спросил советник.
— Без сомнения, Никлосс.
— Тогда мой сын Франц будет первым в очереди, — ответил Никлосс.
— Пылкий юноша, Никлосс, — произнес бургомистр, — горячая голова! Нужно следить за ним.
— Он любит, ван-Трикасс, любит вашу прелестную Сюзель.
— Ну что ж, Никлосс, он на ней женится. Раз мы решили заключить этот брак, чего еще он может желать?
— Он ничего и не желает, этот пылкий ребенок! Но все же он не будет последним у билетной кассы.
— Ах! Счастливая пылкая юность! — произнес бургомистр улыбаясь. — И мы были такими, мой достойный советник! Мы любили! Мы ухаживали! Итак, до вечера. Кстати, этот Фиоравенти великий артист. Какой прием оказали ему у нас! Он долго не забудет кикандонских аплодисментов.
Речь шла о знаменитом теноре Фиоравенти, вызывавшем благодаря приятному голосу и прекрасной манере петь настоящий энтузиазм у городских любителей.
Вот уже три недели Фиоравенти пользовался огромным успехом в «Гугенотах». Первый акт, исполненный в кикандонском вкусе, занял весь вечер на первой неделе месяца. Второй акт, шедший через неделю, был настоящим триумфом для артиста. Успех возрос еще больше с третьим актом мейерберовского шедевра. Но самые большие ожидания возлагались на четвертый акт, и его-то и должны были исполнять в этот вечер перед нетерпеливой публикой. Ах! этот дуэт Рауля и Валентины, этот гимн любви в два голоса, исполняемый протяжно, нескончаемо! Ах! какое наслаждение!
Итак, в четыре часа зал был полон. Ложи, балкон, партер были переполнены. В аванложе красовались бургомистр ван-Трикасс, мадемуазель ван-Трикасс, госпожа ван-Трикасс и добрейшая Татанеманс в яблочно-зеленом чепце. Недалеко от них была ложа, где сидели советник Никлосс и его семейство, не говоря уже о влюбленном Франце. Виднелись также семьи врача Кустоса, адвоката Шюта, Онорэ Синтакса — главного судьи, директора страхового общества, толстого банкира Коллерта, помешанного на музыке, и других знатных лиц.
Обычно до поднятия занавеса кикандонцы вели себя очень тихо, читая газеты или разговаривая вполголоса с соседями, изредка бросая равнодушный взгляд на красавиц, занимавших ложи.
Но в этот вечер посторонний наблюдатель заметил бы, что еще до поднятия занавеса в зале царило необычайное оживление. Суетились люди, которых никто не видел суетящимися. Дамы необыкновенно энергично обмахивались веерами. Казалось, что все как-то свободнее, сильнее дышали. Взгляды блестели почти так же, как огни люстры, горевшие необычно ярко. Как жаль, что освещение доктора Окса запоздало!
Наконец оркестр собрался в полном составе. Первая скрипка прошла между пюпитрами, чтобы осторожным «ля» дать тон своим коллегам. Струнные инструменты, духовые инструменты, ударные инструменты настроены. Дирижер, подняв палочку, ожидает звонка.
Звонок прозвенел. Начался четвертый акт. Начальное allegro appassionato[7] сыграно, по обыкновению, с величавой медленностью, от которой пришел бы в ужас великий Мейербер.
Но вскоре дирижер почувствовал, что не владеет своими исполнителями. Ему трудно сдерживать их, всегда таких послушных, таких спокойных. Духовые инструменты стремятся ускорить темп, и их нужно обуздывать твердой рукой, так как они могут обогнать струнные, что вызовет полное разногласие. Даже сам бас, сын аптекаря Жосса Лифринка, такой воспитанный молодой человек, проявляет намерение пуститься вскачь.
Тем временем Валентина начинает свой речитатив:
Я одна у себя…Но и она торопится. Дирижер и все музыканты поневоле должны следовать за ней.
Появляется Рауль, и между его встречей с любимой и моментом, когда Валентина прячет его в соседней комнате, проходит не больше пяти минут, тогда как, по традициям кикандонского театра, этот речитатив из тридцати семи таков всегда продолжается как раз тридцать семь минут.
Сен-Бри, Невер, Тавани и католические дворяне появляются на сцене слишком поспешно. На партитуре обозначено: allegro pomposo,[8] но на этот раз всякая торжественность отсутствует, сцена. заговора и благословения мечей проходит в бурном темпе. Певцы и музыканты несутся, как буря. Дирижер уже не старается сдерживать их. Впрочем, публика и не требует этого, напротив: каждый чувствует, что он сам увлечен, что этот темп отвечает порывам его души.
От постоянных смут, несчастья и войны Хотите ли, как я, страну освободить?
Обещания, клятвы. Невер торопливо протестует и едва успевает спеть: «Среди предков моих есть солдаты, но убийц не бывало вовек», как его поспешно схватывают, чтоб заключить под стражу. Вбегают народные старшины и скороговоркой клянутся «ударить разом». В двери врываются три монаха, неся корзину с белыми шарфами и совершенно позабыв, что они должны двигаться медленно и величаво. Уже все присутствующие выхватили свои шпаги и кинжалы, и капуцины благословляют их, отчаянно махая руками. Сопрано, теноры и басы приходят в полное неистовство и превращают драматические места в кадрильные. Наконец все убегают, вопя:
В полночь, Бесшумно! Так хочет бог! Да, в полночь!Вся публика на ногах. В ложах, в партере, на галерке волнение. Кажется, что все зрители во главе с бургомистром ван-Трикассом готовы ринуться на сцену, чтобы присоединиться к заговорщикам и уничтожить гугенотов, чьи религиозные убеждения они, впрочем, разделяют. Аплодисменты, вызовы, крики! Татанеманс лихорадочно размахивает своим яблочно-зеленым чепцом. Лампы разливают жаркий блеск.
Рауль, вместо того чтобы медленно приподнять завесу, срывает ее великолепным жестом и оказывается лицом к лицу с Валентиной.
Наконец! Вот он, великий дуэт, но… Рауль не ждет вопросов Валентины, а Валентина не слушает ответов Рауля. Очаровательная ария «Близка, погибель. уходит время…» превращается в один из веселеньких мотивов, которыми прославились оперетты Оффенбаха.
Ты любишь… любишь… О, повтори!Виолончель забывает, что должна вторить голосу певца. Напрасно Рауль восклицает:
Говори и продли Сердца сон несказанный!Валентина не хочет длить! И Рауль продолжает неистовствовать один, страшно жестикулируя.
Раздаются удары колокола. Но какой задыхающийся колокол! Звонарь, очевидно, не владеет собой. Такого набата еще никогда не слышали в Бикандоне. Он совершенно заглушает оркестр.
Последняя ария: «Этот час роковой я могу ль перенесть!..», напоминает мчащийся экспресс. Набат раздается снова. Все смешивается в страшный рев. Валентина падает без чувств. Рауль выскакивает в окно.
И вовремя. Обезумевший оркестр не в состоянии продолжать. Дирижерская палочка превратилась в обломки. Беспомощно повисли оборванные струны скрипок. Барабанщик пробил свой барабан насквозь. Контрабасист сидит верхом на контрабасе. Первый флейтист подавился флейтой, гобоист жует с ожесточением клапаны своего инструмента, а трубач делает неимоверные усилия, чтобы вытащить руку, которую он в увлечении засунул в недра трубы.
А публика! Публика, запыхавшаяся, разгоряченная, жестикулирует, вопит! С красными лицами, с вытаращенными глазами, все сгрудились у выхода. Суета, давка, мужчины без шляп, женщины без плащей! В коридорах толкаются, в дверях теснятся, споры, драки! Нет больше властей! Нет бургомистра! Все равны в этот миг дьявольского возбуждения…
А через несколько минут, выйдя на улицу, все понемногу успокаиваются, мирно расходятся по домам, смутно вспоминая о пережитом волнении.
Четвертый акт «Гугенотов», раньше продолжавшийся шесть часов, начался в этот вечер в половине пятого и окончился без двенадцати минут пять.
Он продолжался восемнадцать минут!
ГЛАВА VIII, где старинный, торжественный вальс превращается в вихрь
Хотя зрители, выйдя из театра, и вернулись к обычному спокойствию и мирно разошлись по домам, все же они чувствовали последствия пережитого волнения и, совершенно разбитые, словно после веселой пирушки, поспешили улечься в постели.
А на следующий день никого не покидало воспоминание о том, что произошло накануне. К тому же оказалось, что один потерял в сутолоке шляпу, у другого оборваны полы платья. Эта дама лишилась тонкого прюнелевого башмачка, та — праздничной накидки. Почтенные горожане чувствовали некоторый стыд за свое непонятное поведение, точно все принимали участие в какой-то оргии. Они не говорили об этом, они не хотели об этом думать.
Более всех был сконфужен бургомистр ван-Трикасс. Проснувшись на следующее утро, он не смог найти свой парик. Лотхен искала его повсюду. Нет, парика не было, он остался на поле битвы. Послать за ним, чтобы стать посмешищем всего города? Нет, лучше пожертвовать этим украшением.
Достойный ван-Трикасс думал об этом, вытянувшись под одеялом, с ломотой во всем теле и тяжелой головой. Он не испытывал никакого желания вставать, хотя мозг его работал в это утро сильнее, чем в течение сорока лет жизни бургомистра. Уважаемый чиновник возобновлял в памяти все события этого странного представления. Он сопоставлял их с фактами, случившимися недавно на вечере у доктора Окса. Он искал причин этой странной возбудимости, уже дважды проявившейся у самых почтенных горожан.
«Что же происходит? — спрашивал он себя. — Какой мятежный дух овладел моим мирным городом Кикандоном? Не сходим ли мы с ума и не понадобится ли превратить город в один огромный госпиталь? Ведь мы все были там, советники, судьи, адвокаты, врачи, академики, и все, если память не изменяет мне, подверглись этому припадку буйного сумасшествия! Но что же было в этой адской музыке? Это необъяснимо. Я не ел, не пил ничего такого, что могло бы вызвать во мне такое возбуждение. Вчера за обедом кусок вываренной телятины, несколько ложек шпината с сахаром, взбитые белки и два стаканчика слабого пива — это не может броситься в голову! Нет. Здесь есть что-то, чего я не могу объяснить, а так как я отвечаю за действия своих подчиненных, то я должен все это расследовать».
Но расследование не привело ни к чему. Если факты были явными, то причины ускользали от мудрости чиновников. Впрочем, спокойствие уже восстановилось, а вместе с ним пришло забвение. Местные газеты избегали говорить о происшедшем, и в отчете о представлении, появившемся в «Кикандонском памятнике», не было никакого намека на лихорадку, охватившую весь зал.
И все же, если город вернулся к своей обычной флегме, если он и стал опять с виду таким же фламандским, как и раньше, где-то в глубине чувствовалось, что характер и темперамент его жителей понемногу меняются. Поистине можно было сказать вместе с врачом Кустосом, что «у них появились нервы».
Однако это неоспоримое изменение происходило только в известных условиях. Когда кикандонцы ходили по улицам города, на свежем воздухе, на площадях, на берегу Ваара, они оставались теми же добрыми людьми, спокойными и методичными, какими все знали их. Их частная жизнь была по-прежнему молчаливой, инертной, растительной. Никаких ссор, никаких упреков в семействах. Никакого ускорения сердечных движений, никакого возбуждения мозга. Среднее число ударов пульса оставалось таким же, как в доброе старое время, — от пятидесяти до пятидесяти двух в минуту.
Но явление совершенно необъяснимое, которое поставило бы втупик самых остроумных физиологов: обитатели Кикандона совершенно преображались в общественных местах. Стоило им собраться на бирже, в ратуше, в академии, как «дело портилось», по выражению комиссара Пассофа, и странное волнение вскоре овладевало собравшимися. Начинались придирки друг к другу, головы разгорячались. Даже в церкви верующие не могли хладнокровно слушать проповеди каноника ван-Стабеля, который тоже суетился на кафедре и обличал прихожан сурово, как никогда. Наконец такое положение вещей привело к новым столкновениям, более серьезным, чем между врачом Кустосом и адвокатом Шютом, и если они не потребовали еще вмешательства властей, то лишь потому, что поссорившиеся, возвращаясь домой, нашли там вместе с покоем забвение брошенных и полученных оскорблений.
Однако эта особенность не могла поразить умы, неспособные к размышлениям. Один лишь гражданский комиссар Мишель Пассоф, должность которого совет в течение тридцати лет собирался упразднить, заметил, что обычное спокойствие граждан заменялось сильнейшим возбуждением в общественных местах, и с ужасом спрашивал себя, что будет, если это раздражение проникнет в частные дома горожан, если эпидемия распространится по улицам города. Тогда не будет забвения обид, спокойствия, перерывов в горячке, и постоянное нервное напряжение неизбежно бросит кикандонцев друг против друга.
Опасения комиссара начали сбываться.
Первые симптомы эпидемии обнаружились в доме банкира Коллерта.
Этот богач давал бал, или, вернее, танцевальный вечер. Недавно ему блестяще удалась очень выгодная финансовая операция, и он решил устроить праздник.
Известно, что такое фламандские приемы, спокойные и мирные, с пивом и сиропами вместо вина. Беседы о погоде, о видах на урожай, о хорошем состоянии садов, об уходе за цветами, особенно за тюльпанами, время от времени танец, медленный и размеренный, как менуэт; иногда вальс, во время которого танцующие держатся друг от друга на таком расстоянии, какое позволяет им длина их рук. Полька, переделанная на четыре такта, долго пыталась привиться там, но танцоры всегда отставали от оркестра, каким бы медленным ни был его темп, и от нес пришлось отказаться.
Эти мирные сборища, на которых молодые люди и девицы проводили время чинно и благородно, никогда не приводили к досадным вспышкам. Почему же в этот вечер у банкира Коллерта сиропы, казалось, превратились в искристое шампанское, в пылающий пунш? Почему к середине праздника всеми приглашенными овладело какое-то необъяснимое опьянение? Почему менуэт превратился в сальтареллу?[9] Почему музыканты оркестра ускорили темп? Почему, как это было в театре, свечи заблистали необычным блеском? Какой электрический ток охватил салоны банкира? Почему пары сближались, кавалеры обнимали дам сильнее и некоторые из них отважились на кое-какие смелые па во время этой пасторали, всегда такой торжественной, такой величавой, такой благовоспитанной?
Комиссар Пассоф, бывший на празднике, видел приближение грозы, но не мог ее предотвратить, не мог бежать от нее и чувствовал, что опьянение кружит и его голову. Все его способности и страсти возрастали. Он набрасывался на лакомства и опустошал подносы, словно только что выдержал длительную голодовку.
А вечер становился все оживленней. Разговоры напоминали глухое жужжание. Танцы были настоящими танцами. Ноги скользили с небывалой быстротой. Лица разрумянились, глаза сияли.
Когда же разошедшиеся вовсю музыканты заиграли вальс из «Фрейшютца»,[10] все словно обезумели. О! это был не вальс, а какой-то безумный вихрь. Казалось, им дирижировал сам Мефистофель, отбивающий такт пылающей головней! Потом галоп, адский галоп в течение целого часа. Этот галоп через залы, салоны, передние, по лестницам, от погреба до чердака богатого дома увлек молодых людей, девиц, отцов, матерей, лиц всех возрастов, всякого веса, всякого пола — и толстого банкира Коллерта, и госпожу Коллерт, и советников, и судей, и главного судью, и Никлосса, и госпожу ван-Трикасс, и бургомистра ван-Трикасса, и самого комиссара Пассофа, который никак не мог потом вспомнить, с кем вальсировал в эту ночь.
Но «она» не забыла. И с этого дня «она» видела в своих снах пылкого комиссара, страстно обнимающего ее. «Она» была прелестная Татанеманс!
ГЛАВА IХ, где доктор Окс и его препаратор Иген обмениваются несколькими словами
— Ну, Иген?
— Ну, учитель, все готово! Прокладка труб закончена.
— Наконец-то! Значит, мы приступаем к настоящей работе и распространим наши действия на весь город.
ГЛАВА Х, где видно, что эпидемия охватывает весь город, и рассказано, что из этого вышло
В течение последующих месяцев болезнь не только не ослабела, но заметно распространилась. Из частных жилищ она проникла на улицы. Город Кикандон нельзя было узнать.
Поразительно было то, что зараза не пощадила ни животное, ни растительное царство.
Обычно эпидемии, поражающие человека, щадят животных, те, что поражают животных, щадят растения. Лошади никогда не болели оспой, а люди — бычьей чумой, овцы до сих пор не заражались болезнями картофеля. Но здесь все законы природы были опрокинуты. Изменились не только характер, темперамент, идеи жителей и жительниц Кикандона, но и домашние животные, собаки и кошки, быки и лошади, ослы и козы, подпали под это эпидемическое влияние, словно изменилась их жизненная среда. Даже растения «эмансипировались»; если можно так выразиться.
Действительно, сады, огороды, виноградники представляли любопытное зрелище. Вьющиеся растения вились смелее; кустистые усиленно кустились, деревца превращались в деревья. Едва посеянные семена мгновенно показывали свои зеленые головки и росли не по дням, а по часам. Спаржа достигала двухфутовой высоты; артишоки вырастали величиной с дыню, дыни — величиной с тыкву, тыквы доходили до размеров самых крупных сортов, и эти экземпляры были похожи на колокол сторожевой башни, насчитывавший девять футов в диаметре. Кочаны капусты становились кустами, а грибы — зонтиками.
Фрукты не отставали от овощей. За ягоду земляники нужно было браться вдвоем, за грушу — вчетвером. Гроздья винограда не уступали феноменальной грозди, восхитительно изображенной Пуссеном[11] в его «Возвращении из земли обетованной».
То же и с цветами: огромные фиалки разливали в воздухе опьяняющий аромат; розы блистали самыми яркими красками; сирень за несколько дней образовала непроходимую чащу; герань, маргаритки, далии, камелии, рододендроны затопили аллеи, душили друг друга. Коса ничего не могла с ними сделать. А тюльпаны, эти дорогие лилейные, радость фламандцев, какие волнения они причиняли любителям! Достойный ван-Бистром чуть не упал в обморок, увидев в своем саду чудовищный гигантский тюльпан, чашечка которого служила гнездом семейству малиновок.
Весь город сбежался смотреть на этот необычайный цветок.
Но, увы, если все растения, фрукты и цветы росли на глазах, стремились принять колоссальные размеры, если живость их окраски и аромат очаровывали обоняние и взгляд, зато они быстро блекли и умирали, истощенные и обессиленные.
Такова была судьба и знаменитого тюльпана, увядшего после нескольких дней великолепия.
То же происходило и с домашними животными, от дворового пса до свиньи в хлеву, от канарейки в клетке до индюка на птичьем дворе.
В обычные времена эти животные были не менее флегматичны, чем их хозяева. Собаки и кошки скорее прозябали, чем жили. Никогда ни трепета радости, ни движения гнева! Хвосты их были неподвижны, словно отлитые из бронзы. С незапамятных времен никто не слыхал об укусах и царапинах. Что же касается бешеных собак, то их считали чем-то вроде грифов и прочих мифических животных.
Но сколько перемен произошло за эти несколько месяцев! Собаки и кошки начали показывать зубы и когти. Впервые на улицах Кикандона видели лошадь, закусившую удила, дерущихся быков, заупрямившегося осла; даже баран отважно защищался от ножа мясника.
Бургомистр ван-Трикасс был вынужден издать предписание относительно надзора за домашними животными, которые становились опасными.
Но, увы, если животные сошли с ума, то люди были не лучше.
Дети очень быстро стали невыносимыми, и впервые главный судья Онорэ Синтакс должен был высечь своего юного отпрыска.
В колледже произошла целая смута, и словари чертили в воздухе причудливые траектории. Учеников невозможно было держать взаперти. Впрочем, и профессора, охваченные безумием, задавали немыслимые уроки.
Еще одно удивительное явление! Все кикандонцы, столь умеренные до сих пор, питавшиеся главным образом сбитыми сливками, теперь стали настоящими обжорами. Обычный режим не удовлетворял их. Каждый желудок превращался в пропасть, наполнить которую было очень трудно. Потребление продуктов в городе утроилось. Вместо двух раз в день ели шесть раз. Стали наблюдаться желудочные расстройства. Советник Никлосс вечно чувствовал голод. Бургомистр, мучимый жаждой, пил не переставая.
Наконец появились и более тревожные симптомы.
На улицах стали встречаться пьяные, и среди них попадались весьма почтенные лица.
Болезни желудка давали обширную практику врачу Доминику Кустосу. Появилось множество нервных расстройств. Ссоры и столкновения стали обыденным явлением на улицах Кикандона, некогда пустынных, а теперь всегда кишащих народом.
Пришлось увеличить число полицейских, так как они не успевали предупреждать скандалы.
В одном из общественных зданий был устроен участок, переполненный и днем и ночью. комиссар Пассоф выбивался из сил.
Состоялась даже одна невероятная свадьба. Да! Сын учителя Руппа женился на дочери Августины де-Ровер всего через пятьдесят семь дней после того, как попросил ее руки!
Стали торопиться и другие, браки которых в прежнее время долго еще оставались бы в стадии проектов. Бургомистр с трепетом ждал, что прелестная Сюзель ускользнет из его рук.
Очаровательная Татанеманс не могла отрешиться от предчувствия будущих уз, которые должны связать ее с комиссаром Пассофом. Это сулило ей богатство, почет, блаженство.
В довершение всего — о, ужас! — произошла дуэль. Да, дуэль на пистолетах, на больших пистолетах, в семидесяти пяти шагах. И между кем? Наши читатели не поверят. Между Францем Никлоссом, кротким рыболовом, и сыном богатого банкира молодым Симоном Коллертом.
И причиной этой дуэли была дочь бургомистра. Симон воспылал к ней любовью и не хотел уступать претензиям наглого соперника!
ГЛАВА ХI, где кикандонцы принимают героическое решение
Вот в каком отчаянном положении находилось население Кикандона! Жители не узнавали самих себя. Самые мирные люди обратились в забияк. За один косой взгляд можно было нарваться на драку. Некоторые отпустили себе усы, а наиболее отважные победоносно закручивали их кверху.
В таких условиях управлять городом и поддерживать порядок было очень трудно, так как город вовсе не был подготовлен к таким неожиданностям. Бургомистр, которого все знали кротким, неспособным принять какое-нибудь решение, не выходил из состояния гнева. Дом гремел от раскатов его голоса. Он отдавал двадцать распоряжений в день и постоянно бранил своих агентов.
Сколько перемен! Милый, спокойный дом бургомистра, доброе фламандское жилище, где его прежний мир? Какие сцены разыгрывались в нем теперь! Госпожа ван-Трисасс стала желчной, взбалмошной, сварливой. Мужу удавалось иногда перекричать ее, но заставить ее замолчать было невозможно. Эта сердитая дама придиралась ко всему. Все было не по ней — никто не работал, все запаздывало. Она обвиняла Лотхен и даже Татанеманс, свою золовку, которая теперь на придирки огрызалась довольно энергично. Ван-Трикасс обычно заступался за Лотхен, что вызывало новое раздражение его супруги, и опять поднимались попреки, споры, ссоры, нескончаемые сцены!
— Да что же это с нами? — восклицал несчастный бургомистр. — Какое пламя нас сжигает? Не овладел ли нами дьявол? Ах, госпожа ван-Трикасс, госпожа ван-Трикасс! Вы дождетесь, что я умру раньше вас и изменю всем семейным традициям!
Читатель, наверно, не забыл, что, по правилам семьи, ван-Трикасс должен был овдоветь и жениться вторично, чтобы не нарушить цепи приличий.
Тем временем это возбуждение умов привело и к другим последствиям. Стали появляться недюжинные таланты, артисты, писатели, ораторы, с жаром о6суждавшие все современные вопросы и воспламенявшие аудиторию, вполне, впрочем, расположенную воспламеняться. Открылся общественный клуб, и организовалось до двадцати газет: «Кикандонский страж», «Кикандонский беспартийный», «Кикандонский радикал», «Кикандонский крайний», писавших с яростью о всяких злободневных вопросах.
О чем же они писали? Да обо всем и ни о чем. Об Ауденаардской башне, грозившей упасть: одни хотели ее снести, другие выпрямить; о полицейских предписаниях, издаваемых советом, о прочистке речек и сточных труб и о многом другом. И если бы еще эти ярые обличители касались только внутренних дел города! Но нет, увлеченные потоком собственного красноречия, они шли дальше, и оставалось только благодарить провидение, что не вовлекали своих ближних в случайности войны.
Действительно, в течение восьми или девяти сот лет у Кикандона в рукаве был припрятан свой casus belli,[12] но город хранил его бережно, как реликвию, которая начала приходить в ветхость.
Никто не знает, что Кикандон граничит с городом Виргамен и территории их соприкасаются.
В 1185 году, незадолго до отъезда графа Болдуина в Крестовый поход, виргаменская корова, принадлежавшая не жителю города, а общине, забрела на землю Кикандона. Неизвестно, успело ли это несчастное животное объесть зеленый луг «длиной со свой язык», но нарушение, злоупотребление, преступление было совершено и надлежащим образом засвидетельствовано в тогдашнем протоколе, ибо в ту эпоху чиновники уже умели писать.
— Мы отомстим, когда настанет время, — сказал Наталис ван-Трикасс, тридцать второй предшественник теперешнего бургомистра, — и виргаменцы ничего не потеряют, если подождут.
Виргаменцы были предупреждены. Они ждали, думая не без основания, что память об оскорблении со временем сгладится. И действительно, в течение нескольких веков они жили в прекрасных отношениях с кикандонцами.
Но странная эпидемия, которая коренным образом изменяла характер кикандонцев, пробудила в их сердцах дремлющую месть.
В клубе по улице Монстреле пылкий адвокат Шют поднял внезапно этот вопрос, разжег страсти, пользуясь выражениями и метафорами, обычными для таких обстоятельств. Он напомнил о преступлении, об ущербе, причиненном кикандонской общине, о том, что нация, «дорожащая своими правами», не может считаться с юридической давностью. Он доказал, что оскорбление все еще живо, рана все еще кровоточит, обратил внимание на странное покачивание головой, свойственное обитателям Виргамена, доказывающее, насколько они презирают кикандонцев. Он умолял своих соотечественников, которые «бессознательно», быть может, выносили столько веков эту смертельную обиду, забыть все прочие дела и воздать наконец соседям по заслугам.
С каким восторгом эти слова, такие необычные для кикандонских ушей, были восприняты, можно себе представить, но рассказать об этом нельзя. Все слушатели вскочили и, подняв руки, с криками требовали войны. Никогда адвокат Шют не имел такого успеха, и нужно признаться, что он был действительно великолепен.
Бургомистр, советник, все знатные лица города, присутствовавшие на этом знаменитом собрании, не смогли бы, конечно, противодействовать народному порыву. Впрочем, они и не старались сдерживать толпу, так как сами кричали во все горло:
— На границу! На границу!
А так как граница была всего в трех километрах от стен Кикандона, то виргаменцам угрожала немалая опасность: они могли быть застигнуты врасплох.
Тем временем достопочтенный аптекарь Жосс Лифринк, единственный сохранивший рассудок при этих важных событиях, напомнил кикандонцам, что у них нет ни ружей, ни пушек, ни генералов.
Ему ответили, не без нескольких тумаков, что генералов, пушки и ружья можно чем-нибудь заменить и что добрая воля и любовь к отечеству гарантируют победу.
Тут бургомистр сам взял слово и в великолепной импровизации отдал должное тем малодушным людям, которые прячут страх под покровом осторожности, и сорвал этот покров рукой патриота.
В этот момент можно было подумать, что зал рухнет от аплодисментов.
Потребовали голосования.
Все, как один человек, закричали:
— На Виргамен! На Виргамен!
Бургомистр именем города обещал будущим генералам, которые вернутся победителями, триумфальные почести, как это делалось в древнем Риме.
Однако аптекарь Жосс Лифринк был упрям и, не считая себя побитым, попробовал снова сделать замечание. Он сказал, что в Риме триумфа удостаивались только те победители, которые убили. не менее пяти тысяч врагов…
— Ну и что же? — возбужденно закричали слушатели.
— …а население Виргаменской общины насчитывает только три тысячи пятьсот семьдесят пять человек, и никакой генерал не сможет убить пять тысяч, если только не убивать одного человека по несколько раз…
Но несчастному не дали кончить. Избитый, он был выброшен за дверь.
— Граждане, — сказал тогда бакалейщик Пульмахер, что бы там ни говорил этот подлый аптекарь, я сам берусь убить пять тысяч виргаменцев, если вы захотите принять мои услуги.
— Пять тысяч пятьсот! — закричал более решительный патриот.
— Шесть тысяч шестьсот! — возразил бакалейщик.
— Семь тысяч! — вскричал кондитер с улицы Хемлинг, Жан Орбидек, наживавший себе состояние на сбитых сливках.
— Продано! — вскричал бургомистр ван-Трикасс, видя, что никто больше не набавляет.
И таким образом кондитер Жан Орбидек стал главнокомандующим кикандонскими войсками.
ГЛАВА ХII, где препаратор Иген высказывает разумное мнение, отвергнутое, однако, доктором Оксом
— Итак, учитель? — говорил на следующий день препаратор Иген, наливая ведрами серную кислоту в корыта своих огромных батарей.
— Итак, — повторил доктор Окс, — не был ли я прав?
— Без сомнения, но…
— Но?..
— Не находите ли вы, что дело зашло слишком далеко и что не следует возбуждать этих бедняг сверх меры?
— Нет! Нет! — вскричал доктор. — Нет! я дойду до конца!
— Как хотите, учитель; во всяком случае, этот опыт кажется мне решающим, и, я думаю, уже пора…
— Что пора?
— Закрыть кран.
— Вот еще! — воскликнул доктор Окс. — Попробуйте только, и я задушу вас!
ГЛАВА ХIII, где доказывается снова, что с высоты легче управлять человеческими слабостями
— Что вы говорите? — спросил бургомистр ван-Трикасс советника Никлосса.
— Я говорю, что эта война необходима, — твердо ответил советник, — и что настало время отомстить за нашу обиду.
— Ну, а я, — едко ответил бургомистр, — я вам повторяю, что если население Кикандона не воспользуется этим случаем восстановить свои права, оно покроет себя бесчестьем.
— А я вам объявляю, что мы должны немедленно двинуть армию на врага.
— Прекрасно, сударь, прекрасно! — ответил ван-Трикасс. — И вы это говорите мне?
— Именно вам, господин бургомистр, и вам придется выслушать правду, какова бы она ни была.
— Сначала ее выслушаете вы, господин советник, — отпарировал ван-Трикасс вне себя, — ибо она выйдет скорее из моих уст, чем из ваших! Да, сударь, да, всякое промедление было бы позорным. Вот уже девятьсот лет, как город Кикандон ожидает момента отомстить, и что бы вы там ни говорили, подходит это для вас или нет, но мы дойдем на врага!
— Ах, так! — яростно возразил советник Никлосс. — Ну, сударь, мы пойдем и без вас, если вам не хочется идти.
— Место бургомистра в первых рядах, сударь.
— Место советника тоже, сударь.
— Вы оскорбляете меня! Вы противоречите моему приказу! — вскричал бургомистр, сжимая кулаки.
— Это вы меня оскорбляете, вы сомневаетесь в моем патриотизме! — вскричал Никлосс, сам становясь в боевое положение.
— Я вам говорю, сударь, что кикандонская армия выступит не позже чем через два дня!
— А я вам повторяю, сударь, что и сорока восьми часов не пройдет, как мы двинемся на врага!
Нетрудно заметить, что оба собеседника защищали одно и то же: оба хотели битвы; но возбуждение заставляло их спорить. Никлосс не слушал ван-Трикасса, ван-Трикасс — Никлосса. Два старых приятеля обменивались свирепыми взглядами. Они готовы были броситься друг на друга.
К счастью, в эту минуту раздался звон башенных часов.
— Час настал! — воскликнул бургомистр.
— Какой час? — спросил советник.
— Идти на сторожевую башню.
— Верно. И нравится вам это или нет, но я пойду, сударь.
— Я тоже.
— Идем!
— Идем!
Из этих слов можно было бы заключить, что башня — место, назначенное ими для дуэли, но все объяснялось проще. Бургомистр и советник, два главнейших чиновника города, должны были подняться на башню и осмотреть окрестные поля, чтобы выбрать подходящие позиции для войск.
Несмотря на то что оба желали одного и того же, дорогой они не переставали ссориться и осыпать друг друга оскорблениями. Раскаты их голосов были слышны на улицах, но никто не обращал на них внимания, так как в это время в городе спокойный человек показался бы чудовищем.
Когда бургомистр и советник подошли к башне, они разъярились до крайности. Их лица из малиновых превратились в мертвенно-бледные — ведь бледность есть признак гнева, дошедшего до последних пределов.
У подножия узкой лестницы произошел настоящий взрыв. Кто войдет первым? Кто первым поднимется по ступенькам винтовой лестницы? Истина заставляет нас сказать, что здесь произошла драка и что советник Никлосс, забывая все, чем он был обязан своему начальнику, с силой оттолкнул ван-Трикасса и первым устремился наверх.
Оба поднимались, толкаясь, прыгая через четыре ступени и не переставая браниться. Страшно было подумать, что может произойти на вершине башни, возвышавшейся над мостовыми города на триста пятьдесят семь футов.
Однако противники скоро запыхались и на восьмидевятой ступеньке уже еле шли, тяжело дыша.
Но что за странность: они внезапно перестали ссориться и чем выше поднимались, тем молчаливей становились. Возбуждение их уменьшилось и кипение в их мозгу прекратилось, как в кофейнике, отставленном от огня. Почему бы это?
На это «почему» мы не можем дать ответа, но, достигнув одной из площадок, в двухстах шестидесяти шести футах над уровнем города, противники уселись и взглянули друг на друга без всякого гнева.
— Высоко! — сказал бургомистр, вытирая платком красное лицо.
— Очень высоко, — ответил советник. — Знаете, мы на четырнадцать футов выше колокольни святого Михаила в Гамбурге!
— Знаю, — ответил бургомистр с выражением тщеславия, простительным для первого чиновника в городе.
Отдохнув, они продолжали восхождение, кидая любопытные взгляды сквозь бойницы, проделанные в стенах башни. Бургомистр теперь шел впереди, и советник не сделал ни малейшего возражения. На триста четвертой ступеньке ван-Трикасс совсем выбился из сил, и Никлосс любезно подтолкнул его в спину. Бургомистр не противился и, дойдя наконец доверху, благосклонно сказал:
— Благодарю, Никлосс, я отплачу вам за это.
У подножия башни это были дикие звери, готовые разорвать друг друга, на ее вершине они опять стали друзьями.
Погода была превосходная. Стоял май. Воздух был чист и прозрачен. Взгляд улавливал мельчайшие предметы на далеком расстоянии. В нескольких милях ослепительно белели стены Виргамена, его красные крыши, залитые солнцем колокольни. И этот-то город был обречен на сожжение и разгром!
Бургомистр и советник уселись на каменную скамью, как два друга, души которых связаны взаимной симпатией. Все еще отдуваясь, они глядели по сторонам.
— Какая красота! — воскликнул бургомистр.
— Да, восхитительно! — ответил советник. — Не кажется ли вам, мой достойный ван-Трикасс, что человеку гораздо более присуще парить на таких высотах, чем пресмыкаться на земле?
— Я думаю, как и вы, честный Никлосс, — отвечал бургомистр: — здесь лучше чувствуешь природу. Дышится легче в любом смысле! Вот на, каких высотах должны формироваться философы, вот где должны жить мудрецы, чтобы быть выше мирских мелочей!
— Хотите обойти вокруг площадки? — предложил советник.
— С удовольствием, — отвечал бургомистр.
И два друга, взявшись под руку, с длинными остановками в разговоре, как в прежнее время, осмотрели все точки горизонта.
— Я уже лет семнадцать не поднимался на сторожевую башню, — сказал ван-Трикасс.
— А я ни разу не был здесь, — ответил советник Никлосс, — и жалею об этом: вид отсюда великолепный. Взгляните, друг мой, как красиво извивается между деревьями Ваар.
— А дальше горы святой Германдад! Как эффектно они замыкают горизонт! Посмотрите на эту кайму зеленых деревьев. Ах, природа, природа, Никлосе! Может ли рука человека соперничать с ней?
— Это обворожительно, мой превосходный друг, — отвечал советник. — Взгляните на эти стада, пасущиеся в зеленых лугах, на этих быков, коров, овец…
— А земледельцы, идущие в поля! Точно аркадские пастухи! Им недостает только волынки! И над всей этой плодородной равниной чудесное синее небо, без единого облачка! Ах, Никлосс, здесь можно стать поэтом! Знаете, я, право, удивляюсь, почему святой Симеон Столпник не сделался величайшим поэтом мира.
— Может быть, его столп был недостаточно высок, — ответил советник, кротко улыбаясь.
В этот момент начался кикандонский перезвон.
Звуки колокола разнеслись по прозрачному воздуху нежной мелодией.
Оба друга пришли в полное умиление.
— Мой друг Никлосс, — сказал бургомистр, — зачем мы поднимались на эту башню?
— Правда, — отвечал советник, — мы увлеклись своими мечтаниями…
— Зачем мы пришли сюда? — повторил бургомистр.
— Мы пришли, — отвечал Никлосс, — подышать чистым воздухом, не отравленным человеческими слабостями.
— Ну что я, вернемся обратно, друг Никлосс?
— Вернемся, друг ван-Трикасс.
Друзья кинули последний взгляд на роскошную панораму, расстилавшуюся перед их глазами, потом бургомистр, идя впереди, начал спускаться медленным и мерным шагом. Советник следовал за ним на несколько ступенек сзади. Оба дошли до площадки, на которой останавливались при восхождении. Щеки их уже начали багроветь. Они приостановились, потом продолжали прерванный спуск.
Через минуту ван-Трикасс попросил Никлосса умерить шаг, так как ему неприятно чувствовать, как тот идет за ним по пятам.
Очевидно, это было очень неприятно, потому что двадцатью ступеньками ниже он приказал советнику остановиться и дать ему пройти немного вперед.
Советник отвечал, что вовсе не намерен стоять на одной ноге ради удовольствия бургомистра, и продолжал идти.
Ван-Трикасс проворчал что-то довольно грубо.
Советник сделал оскорбительное замечание насчет возраста бургомистра, обреченного традициями своей семьи на вторичный брак.
Бургомистр спустился еще на двадцать ступенек, предупреждая Никлосса, что это ему даром не пройдет.
Никлосс ответил, что, во всяком случае, он выйдет первым, и так как лестница была узка, то между ними в глубоком мраке произошло столкновение.
Слова «скотина» и «неуч» были наиболее мягкими из тех, которыми они обменялись при этом.
— Увидим, глупое животное, — кричал бургомистр, — увидим, какую рожу вы сделаете в этой войне и в каком ряду пойдете!
— Да уж, конечно, перед вами, жалкий дурак! — отвечал Никлосс.
Потом раздались пронзительные крики и шум, словно два тела покатились вниз…
Что случилось? Откуда такая быстрая смена настроений? Почему эти люди, кроткие, как овечки, наверху, превратились в тигров внизу?
Что бы там ни было, башенный сторож, услыхав шум, открыл нижнюю дверь как раз в тот момент, когда противники, избитые, с вылезающими из орбит глазами, вырывали друг у друга волосы — к счастью, на париках.
— Вы мне ответите! — кричал бургомистр, поднося кулак к носу своего противника.
— Когда угодно! — прорычал советник Никлосс, подозрительно тряся в воздухе правой ногой.
Сторож, сам вне себя непонятно почему, нашел этот вызов вполне естественным. Необъяснимое чувство толкало его вмешаться в ссору, но он сдержался и отправился разглашать по всему кварталу, что между бургомистром ван-Трикассом и советником Никлоссом в скором времени состоится дуэль.
ГЛАВА ХIV, где дело заходит так далеко, что зрители Кикандони, читатели и даже автор требуют немедленной развязки
Этот последний инцидент показывает, до какой степени экзальтации дошло население Кикандона. Два самых старинных друга дошли до такой ярости! А ведь несколько минут назад они так любезно, так внимательно относились друг к другу!
Узнав о происшедшем, доктор Окс не мог сдержать радости. Он противился доводам своего препаратора, видевшего, что дела принимают плохой оборот. Впрочем, и они заразились общим настроением и ссорились не меньше других.
Однако сейчас одно решение господствовало над всем и заставляло отложить все намеченные дуэли до исхода виргаменского похода. Никто не смел бесполезно проливать свою кровь, когда она до последней капли принадлежала находящемуся в опасности отечеству.
Действительно, обстоятельства были серьезными, и отступать было уже нельзя.
Бургомистр ван-Трикасс, несмотря на свой воинственный пыл, не считал себя вправе бросаться на врага без предупреждения. Поэтому он устами полевого сторожа Хоттеринга потребовал у виргаменцев возмещения за нарушение прав, происшедшее в 1185 году на территории Кикандона.
Виргаменские власти сначала не могли догадаться, в чем дело, и полевой сторож, несмотря на свой официальный сан, был очень вежливо выпровожен из города.
Ван-Трикасс послал тогда одного из адъютантов генерала-кондитера, гражданина Хильдеверта Шумана, фабриканта леденцов, человека твердого и решительного.
Шуман показал виргаменским властям копию протокола, составленного в 1185 году бургомистром Наталисом ван-Трикассом.
Виргаменские власти расхохотались, и с адъютантом было сделано то-же, что с полевым сторожем.
Тогда бургомистр, собрав знатных лиц города, написал виргаменцам письмо, в котором ясно и решительно объявлялось, что им дается двадцать четыре часа на то, чтобы загладить нанесенную Кикандону обиду.
Письмо было отправлено и через несколько часов было возвращено разорванным на мелкие клочки. Виргаменцам давно была известна медлительность кикандонцев, и потому их послания и угрозы вызвали только смех.
Оставалось: положиться на оружие, призвать бога сражений и кинуться на виргаменцев раньше, чем они приготовятся.
Это и было решено на торжественном заседании, где крики, упреки, проклятия смешивались в невообразимый гул. Клуб буйно помешанных не мог произвести большего шума.
Как только война была объявлена, генерал Жан Орбидек собрал свои войска, то есть две тысячи триста девяносто трех солдат из населения в две тысячи триста девяносто три души. Женщины, дети и старики присоединились к зрелым мужам. Всякий предмет, тупой или острый, стал оружием. Были разысканы городские ружья. Их отыскалось пять, два были без курков; их отдали авангарду. Артиллерия состояла из старой замковой пушки. Это было одно из первых упоминаемых в истории огнестрельных орудий, и оно не стреляло уже пять веков. Несмотря на полное отсутствие снарядов, предполагалось. что пушка одним своим видом будет наводить ужас на врага. Что касается холодного оружия, то его достали в музее древностей — кремневые топоры, шлемы, палицы, алебарды, пики, бердыши, копья, рапиры, а также в частных арсеналах, известных обычно под именем кладовых и кухонь. Но храбрость, сознание права, ненависть к иноземцам, жажда мести должны были заменять более совершенные оружия.
Был произведен смотр. Ни один гражданин не уклонился от переклички. Генерал Орбидек, не очень ловко сидевший на своем коне, лукавом животном, трижды упал. перед армией, но поднялся невредимым, что было принято за доброе предзнаменование. Бургомистр, советник, гражданский комиссар, главный судья, учитель, банкир, ректор, наконец, вся знать города шли во главе. Ни одной слезы не было пролито матерями, сестрами, дочерьми. Они ободряли мужей, отцов и братьев и сами следовали за ними, образуя арьергард под начальством отважной госпожи ван-Трикасс.
Раздалась труба. глашатая Жана Мистроля; армия всколыхнулась, покинула площадь и со свирепыми криками направилась к Ауденаардским воротам.
В тот момент, когда голова колонны готовилась перейти за стены города, навстречу ей кинулся человек.
— Остановитесь! Остановитесь! Сумасшедшие! — закричал он. — Дайте мне закрыть кран! Вы вовсе не кровожадны. Вы добрые, мирные граждане! Всему виной мой учитель, доктор Окс! Это опыт! Под предлогом освещения оксигидрическим газом он насытил…
Препаратор был вне себя. Ему не удалось договорить. В ту самую минуту, как тайна доктора готова была сорваться с его уст, сам доктор Окс в неописуемом бешенстве ринулся на несчастного Игена и заткнул ему рот ударом кулака.
Это была настоящая битва. Бургомистр, советник и все другие, остановившиеся было при виде Игена, кинулись на обоих чужеземцев, не слушая ни того, ни другого. Доктора Окса и его препаратора, истерзанных, избитых, готовились, по приказанию ван-Трикасса, бросить в тюрьму, когда…
ГЛАВА ХV, где разражается развязка
…раздался страшный взрыв. Весь воздух, окружавший Кикандон, казалось, воспламенился. Гигантское пламя, как метеор, взметнулось в самое небо. Случись это ночью, пламя было бы видно за десять миль.
Все кикандонские воины свалились наземь, как карточные солдатики… К счастью, жертв не было: несколько царапин и синяков, вот и все. Кондитер-генерал, по странной случайности, не упал с лошади и отделался только испугом.
Что же произошло?
Просто-напросто, как узнали вскоре, взорвался газовый завод. В отсутствие директора и его помощника, очевидно, была допущена какая-то оплошность. Неизвестно, почему произошло соединение резервуаров для кислорода и водорода. Получилась взрывчатая смесь, подожженная по неосторожности.
Это изменило все, но когда кикандонское войско поднялось на ноги, доктор Оке и препаратор Иген исчезли бесследно.
ГЛАВА ХVI, где догадливый читатель видит, что он не ошибся, несмотря на все предосторожности автора
После взрыва Кикандон немедленно стал снова тем мирным, флегматичным фламандским городом, каким был и раньше.
После взрыва, который почему-то не произвел сильного впечатления, все машинально отправились по домам — бургомистр под руку с советником, адвокат Шют с врачом Кустосом, Франц Никлосс со своим соперником Симоном Коллертом. Все шли спокойно, без шума, не отдавая себе отчета в том, что произошло, забыв уже о Виргамене и о жажде мести. Генерал вернулся к своему варенью, а его адъютант — к своим леденцам.
Все зажило прежней жизнью — люди, животные и растения, даже башня Ауденаардсих ворот, которая после взрыва — эти взрывы бывают иногда удивительными — заметно выпрямилась.
И с тех пор ни одного громкого слова, ни одного спора не было в Кикандоне. Прощай клубы, политика, тяжбы, полицейские! Место комиссара Пассофа снова стало положительно лишним, и если ему не урезали жалованье, то лишь потому, что бургомистр и советник не могли отважиться принять какое-нибудь решение по этому поводу. Впрочем, время ох времени комиссар появлялся, сам не подозревая этого, в снах безутешной Татанеманс.
Что касается соперника Франца, то он великодушно уступил прелестную Сюзель ее возлюбленному, поспешившему жениться на ней через пять или шесть лет после этих событий.
А госпожа ван-Трикасс умерла через десять лет, в надлежащий срок, и бургомистр женился на девице Пелажи ван-Трикасс, своей кузине, при весьма выгодных условиях… для счастливой смертной, которая должна была пережить его.
ГЛАВА ХVII, где объясняется теория доктора Окса
Что же сделал этот таинственный доктор Окс?
Фантастический опыт, и больше ничего.
Проложив свои трубопроводы, он наполнил чистым кислородом, без единого атома водорода, сначала общественные здания, потом частные жилища и, наконец, улицы Кикандона.
Этот газ без запаха и вкуса, распространяясь в больших количествах, вызывает при вдыхании самые серьезные нарушения в организме. У человека, дышащего кислородом, повышается нервная деятельность, но как только он возвращается в обычную атмосферу, он становится тем же, каким был раньше, как советник и бургомистр, переставшие на площадке башни вдыхать кислород, который из-за своей тяжести остался в нижних слоях атмосферы.
Но, постоянно вдыхая газ, изменяющий тело и душу, человек быстро умирает, как те безумцы, которые предаются всяким излишествам!
Поэтому остается нарадоваться за кикандонцев, что благодетельный взрыв прекратил опасный опыт, уничтожив завод доктора Окса.
В заключение остается спросить: неужели храбрость, решительность, талант, воображение — все эти качества зависят только от кислорода?
Такова теория доктора Окса, но мы имеем право не доверять ей, и мы отвергаем ее со всех точек зрения, несмотря на фантастический опыт, которому был подвергнут почтенный городок Кикардой.
Примечания
1
Гофман — немецкий писатель, автор фантастических произведений.
(обратно)2
Тессье дю Мотэ — французский ученый, предложивший способ получения кислорода.
(обратно)3
Нотабли — именитые люди города.
(обратно)4
Andnte — умеренно, allеgro — быстро, vivасе — оживленно (музыкальные термины).
(обратно)5
Парфенон — храм богини Афины, величайший архитектурный памятник Греции.
(обратно)6
Аdagiо — медленно.
(обратно)7
Allegro appassionato — страстно, бурно.
(обратно)8
Allegro pomposo — торжественно.
(обратно)9
Сальтарелла — быстрый танец.
(обратно)10
«Фрейшютц» — опера композитора Вебера.
(обратно)11
Пуссен — знаменитый французский живописец.
(обратно)12
Casus belli — повод к объявлению войны.
(обратно)


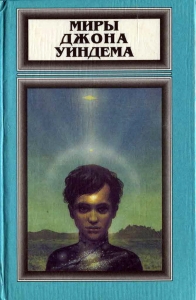

Комментарии к книге «Доктор Окс», Бобырь
Всего 0 комментариев