12 декабря 1452 года
Сегодня я впервые увидел тебя и заговорил с тобой. В тот миг я словно пережил землетрясение. Душа моя перевернулась, разверзлись глубины сердца моего, и я перестал себя узнавать.
Мне исполнилось сорок, и я считал, что наступает осень моей жизни.
Я совершал далекие путешествия, видел немало дорог и прожил много жизней.
Бог взывал ко мне в самых разных обличьях, мне являлись ангелы, но я не верил в них.
Когда я встретил тебя, мне пришлось поверить – если уж со мной свершилось такое чудо.
Я увидел тебя перед храмом Святой Софии, у бронзовых врат. Это случилось в тот миг, когда все вышли из собора в порядке, предписанном церемониалом, после того, как кардинал Исидор провозгласил в ледяной тишине по-латыни и по-гречески весть об объединении церквей. Позже, отслужив великолепную обедню, кардинал прочитал также «Символ веры». А когда добавил к привычным словам «и Сына», многие спрятали лица в ладонях; послышались горькие рыдания женщин. Я стоял в плотной толпе, заполнившей боковой придел храма, у серой колонны. Дотронувшись до нее, я почувствовал, что она влажная, – словно даже камни в этом соборе покрылись от страха холодной испариной.
Потом все вышли из храма в порядке, установленном много столетий назад; в центре процессии двигался василевс, император Константин, прямой и серьезный, с уже тронутыми сединой волосами под золотыми полукружьями короны. Выступали – каждый в одеянии того цвета, как требовал обычай, – военачальники с Влахерна, логотеки и антипаты, сенат в полном составе, а следом род за родом вышагивали архонты Константинополя. Никто не осмелился не явиться, выразив таким образом свое отношение к происходящему. Справа от императора я заметил слишком хорошо знакомого мне советника василевса, Франца, холодные голубые глаза которого внимательно следили за всем вокруг. Среди латинян я увидел венецианского посланника и многих других людей, которых тоже узнал.
Но Луку Нотара, знатнейшего вельможу и командующего императорским флотом, я раньше ни разу не видел. Это был смуглый, рослый мужчина, на голову выше всех остальных. Его глаза светились насмешкой и умом, но лицо этого человека было отмечено печатью той же глубокой меланхолии, что объединяла всех представителей старых греческих родов. Из храма он вышел взволнованным и злым, словно не вынеся чудовищного позора, который довелось пережить его церкви и его народу.
Когда подвели верховых лошадей, поднялось волнение и люди стали громко проклинать латинян. Раздались крики: «Долой еретический постулат! Долой папскую власть!» Я не мог этого вынести. Наслушался всего до тошноты в годы своей юности. Но ненависть и отчаяние народа были подобны грому и землетрясению. Но вот привыкшие к пению голоса монахов возобладали над нестройными воплями – и весь народ, повинуясь этим голосам, начал хором скандировать в такт: «Не Сына, не Сына». Это был день святого Спиридона.
Когда из храма вышла процессия знатных женщин, часть императорской свиты уже смешалась с толпой, которая волновалась, словно море, и раскачивалась в такт напевным крикам. Лишь вокруг божественной особы императора было пусто. Он сидел на своем аргамаке мрачный, с лицом, потемневшим от скорби. Одет он был в расшитый золотом пурпурный плащ – и пурпурные сапоги василевса были украшены двуглавыми орлами.
Итак, я стал свидетелем того, как сбылась многовековая мечта: восточная и западная церкви объединились, ортодоксальная православная церковь покорилась папе и отказалась от изначального, не расширенного символа веры. Союз, который так долго оттягивали, вступил наконец в силу в тот момент, когда кардинал Исидор огласил в храме Святой Софии вердикт о заключении унии. Во флорентийском соборе этот документ прочитал по-гречески четырнадцать лет назад крупный круглоголовый ученый, митрополит Виссарион. Он, как и Исидор, был возведен в сан кардинала папой Евгением IV – в награду за свои заслуги в трудном деле объединения церквей.
С тех пор прошло уже четырнадцать лет… В тот вечер я продал свои книги и одежду, роздал деньги нищим и бежал из Флоренции. Пять лет спустя я стал крестоносцем. Вопли толпы напомнили мне сегодня горную дорогу в Ассизи и поле боя под Варной.
Но когда крики внезапно стихли, я поднял глаза и увидел, что флотоводец Лука Нотар въехал на площадку перед пожелтевшей мраморной колоннадой. Жестом он потребовал тишины, и пронизывающий декабрьский ветер разнес крик Луки: «Лучше турецкий тюрбан, чем папская тиара!» Так же орали когда-то евреи: «Варавву! Освободите Варавву!»
Все военачальники и архонты демонстративно собрались вокруг Луки Нотара, чтобы показать, что поддерживают его и решают открыто противостоять императору. Но вот толпа наконец расступилась, и василевс со своей поредевшей свитой смог уехать с площади. Из мощных бронзовых врат храма все еще выплывала процессия женщин – но тут же растекалась по площади и растворялась в бурлящей толпе.
Мне было интересно, как народ приветствует кардинала Исидора: ведь этот человек многое вытерпел ради унии – и сам он грек. И поэтому он вообще не вышел на улицу. Сан кардинала не прибавил ему дородности. Он по-прежнему остался тем же маленьким худым человечком с глазами, похожими на зернышки перца; теперь, сбрив бороду, как это принято у латинян, он кажется даже еще более тощим, чем раньше.
«Лучше турецкий тюрбан, чем папская тиара!» Возможно, этот крик Луки Нотара шел из глубины души и объяснялся горячей любовью к своему городу, своей вере и ненавистью к латинянам.
Но какие бы искренние чувства ни прибавили пыла его словам, я не мог считать их не чем другим, как только хладнокровным началом политической игры. Он открыл перед бушующей толпой свои карты, чтобы получить всеобщее одобрение. Ведь в глубине души ни один грек не поддерживает этого союза – даже сам император. Он был лишь вынужден подчиниться и скрепить унию, чтобы заключить таким образом договор о дружбе и взаимопомощи, который в нужную минуту должен привести на защиту Константинополя папский военный флот, флот папы уже снаряжается в Венеции. Кардинал Исидор уверяет, что корабли латинян двинутся спасать Константинополь, как только весть об оглашении унии успеет дойти до Рима. Но сегодня люди кричали вслед императору Константину: «Апостата, апостата!» Самое ужасное, самое отчаянное, самое унизительное слово, какое только можно бросить человеку в лицо. Вот та цена, которую василевс должен заплатить за десяток военных кораблей. Если эти корабли вообще придут.
Кардинал Исидор уже привел с собой горстку лучников, которых завербовал на Крите и других островах. Ворота города наглухо заперли. Турки опустошили все окрестности и перекрыли Босфор. Их опорный пункт – крепость, которую султан приказал в прошлом году возвести за несколько месяцев в том месте, где Босфор уже всего. Крепость находится на той же стороне пролива, что и Пера, на христианском берегу. Еще весной тут стоял храм Архангела Михаила. Сейчас каменные колонны храма превратились в опоры стен турецких башен; с этих стен в тридцать футов толщиной пушки султана бьют по проливу.
Я думал обо всем этом, стоя возле огромных бронзовых врат храма Святой Софии. И тут увидел эту женщину. Ей удалось выбраться из толпы и вернуться в храм. Она тяжело дышала, а ее вуаль была разодрана в клочья. У благородных гречанок Константинополя принято закрывать лица при посторонних и жить в уединении в своих домах под присмотром евнухов. Когда знатная женщина садится на коня или в носилки, впереди спешат ее слуги с развернутым полотнищем, чтобы скрыть ее от взглядов прохожих. Лица высокородных гречанок белы, почти прозрачны.
Женщина посмотрела на меня, и время остановилось, солнце перестало двигаться вокруг земли, прошлое слилось с настоящим, и уже не было больше ничего, кроме этого мига, одного этого трепетного мига, который не могло поглотить даже всепожирающее время.
Я видел в своей жизни много женщин. Любил холодно и эгоистично. Знал наслаждение и сам дарил наслаждение другим. Но для меня любовь всегда была достойным презрения плотским желанием, удовлетворение которого оставляло на душе горький осадок. Я прикидывался влюбленным лишь из сострадания – пока у меня хватало на это сил.
Я видел в своей жизни немало женщин, пока наконец не отказался от них, как отказался от многого другого. Женщины были для меня чем-то земным и плотским, а я ненавижу все, что ставит меня в зависимость от моего собственного тела.
Она была почти одного роста со мной. Светлые волосы под расшитой шапочкой. Голубой плащ, затканный серебром. Карие глаза, а кожа – словно золото и слоновая кость.
Но не красота ее пленила меня. Красоту я разглядел позже. А тогда меня поразил взгляд ее очей, ибо очи эти были мне хорошо знакомы, словно я когда-то уже видел их во сне. Темная глубина этих глаз сожгла все суетное и обыденное дотла. Они расширились от изумления, а потом внезапно улыбнулись мне.
Мой восторг был так пылок и чист, что в нем не было ни капли земного желания. Я почувствовал, что тело мое словно бы начало светиться – так же, как виденные мной когда-то хижины святых монахов в Афоне, излучавшие неуловимое обычным глазом сияние, – будто яркие лампады, горевшие в вышине, на гигантских горных кручах. И в сравнении этом нет никакого святотатства, ибо в тот момент я родился заново – и было это святым чудом.
Я не знаю, сколько это продолжалось. Может, не дольше последнего вздоха, вместе с которым в минуту нашей кончины покидает тело душа. Мы стояли в нескольких шагах друг от друга, но в тот миг, когда вырвался этот вздох, оказались на грани бренного и вечного – словно на острие меча. Потом время вновь начало свой бег. Надо было что-то сказать. И я произнес:
– Не бойся. Если хочешь, я провожу тебя до дома твоего отца.
По ее шапочке я видел, что она не замужем. Не то, чтобы это имело в тот момент какое-то значение. Есть у нее муж или нет… Главное, что ее глаза – такие близкие и дорогие мне – смотрели на меня тепло и доверчиво.
Она судорожно вздохнула, словно до этого слишком долго сдерживала дыхание, и сказала, вопросительно глядя на меня:
– Ты латинянин?
– Если тебе угодно, – ответил я.
Мы смотрели друг на друга и были среди вопящей толпы в таком же одиночестве, как если бы проснулись вместе в раю на заре времен. На ее щеках вспыхнул стыдливый румянец, но она не опустила глаз. Мы уже узнали глаза друг друга. Но вот она не смогла дольше сдерживать волнения и дрожащим голосом спросила:
– Кто ты?
И вопрос ее вовсе не был вопросом. Ее слова лишь подтвердили, что сердцем своим она узнала меня – как и я узнал ее. Но чтобы дать ей время прийти в себя, я сказал:
– До тринадцати лет я рос во Франции, в городе Авиньоне. Потом я обошел много земель, побывал во многих странах. Мое имя – Жан Анж. Здесь меня зовут Иоанном Ангелом, если тебе так больше нравится.
– Ангел, – повторила она, – Ангел… И потому ты такой бледный и серьезный? И потому я испугалась, когда увидела тебя? – Она подошла ко мне и коснулась рукой моего плеча. – Нет, ты не ангел, – проговорила она. – Ты – существо из плоти и крови. Почему ты носишь турецкую саблю?
– Я привык к ней, – ответил я. – И сталь эта – крепче той, что куют христиане. В сентябре я бежал из лагеря султана Мехмеда, который как раз закончил строить крепость над Босфором и должен был возвращаться в Адрианополь. Теперь, когда началась война, ваш император не выдает больше турецких рабов, которые укрылись в Константинополе.
Она окинула взглядом мою одежду и сказала:
– Твой наряд не похож на рубище раба.
– Верно, не похож, – согласился я. – Почти семь лет я состоял в свите султана. Султан Мурад возвысил меня, сделав своим псарем, а потом подарил меня своему сыну. Султан Мехмед, испытав мой ум, читал вместе со мной греческие и римские книги.
– Как ты попал в рабство к туркам? – поинтересовалась она.
– Я четыре года жил во Флоренции, – объяснил я. – Был в то время богатым человеком, но мне надоело торговать, и я стал крестоносцем. А турки взяли меня в плен под Варной.
Ее взгляд приказывал мне продолжать.
– Я служил писцом у кардинала Джулио Чезарини. Когда наша армия была разгромлена, его конь завяз в болоте и спасавшиеся бегством венгры закололи кардинала. Ведь в этой битве погиб их молодой король… Мой кардинал уговорил его нарушить мир, который король клятвенно обещал поддерживать с турками. Поэтому венгры решили, что кардинал навлек на них проклятие, а султан Мурад считал нас клятвопреступниками. Но мне он не сделал ничего плохого, хоть повелел казнить всех остальных пленников, не пожелавших признать Аллаха и пророка Магомета. Похоже, я говорю слишком много. Извини. Я долго молчал…
Она покачала головой:
– Ты не утомил меня. Я хочу больше узнать о тебе. Но почему ты не спрашиваешь, кто я?
– Не спрашиваю… – сказал я. – Мне достаточно того, что ты существуешь. Не думал, что со мной еще может произойти такое…
Она не поинтересовалась, что я имею в виду. Оглянулась и заметила, что толпа начала редеть.
– Иди за мной, – шепнула мне, взяла меня за руку и поспешно увлекла обратно в сумрачную тень огромных бронзовых врат. – Ты – сторонник унии? – спросила она.
Я пожал плечами:
– Я – латинянин.
– Переступи порог, – велела она.
Внутри мы остановились у самого входа, на том месте, где подкованные железом сапоги стражников пробили за тысячелетие ямку в мраморном полу. Люди, которые из страха перед толпой остались в соборе, бросали на нас любопытные взгляды. Но несмотря на это, она обвила руками мою шею и поцеловала меня.
– Это – в честь праздника святого Спиридона, – заявила она и перекрестилась на греческий лад. – Только от Отца, а не от Сына! И пусть мой христианский поцелуй скрепит нашу взаимную приязнь и не даст нам забыть друг друга. Скоро за мной придут сюда слуги моего отца.
Ее щеки горели, а поцелуй не был христианским. От нее пахло гиацинтами. Высокие дуги бровей казались тоненькими синими линиями. На губах алела красная помада, как это принято у знатных женщин Константинополя.
– Я не могу вот так с тобой расстаться, – сказал я. – Даже если ты живешь за семью воротами, запертыми на семь замков, я все равно не успокоюсь, пока не найду тебя. И даже если нас разделят время и пространство, я буду искать тебя снова и снова. И ты не сможешь меня остановить.
– А зачем мне тебя останавливать? – спросила она, насмешливо вскинув брови. – Откуда ты знаешь?.. Может, я сама сгораю от нетерпения, мечтая побольше услышать о тебе и твоей удивительной судьбе, господин Ангел?
Ее издевка была восхитительна, а тон говорил больше, чем слова.
– Так назови мне время и место, – настаивал я. Она нахмурилась.
– Ты сам не знаешь, сколь неподобающе звучат твои слова. Но, возможно, таковы обычаи франков.
– Время и место! – повторил я, хватая ее за плечо.
– Как ты смеешь! – уставилась она на меня, побледнев от неожиданности. – Еще ни один мужчина не решился коснуться меня. Ты не знаешь, кто я. – Но она даже не пыталась высвободиться, словно мое прикосновение, несмотря ни на что, было ей приятно.
– Ты – это ты, – ответил я. – И этого мне довольно.
– Возможно, я пошлю тебе весточку, – пообещала она. – Какое значение может иметь в столь неспокойное время, подобающе мы ведем себя или нет. Ты франк, а не грек. Но встреча со мной может оказаться для тебя опасной.
– Когда-то я стал крестоносцем, потому что мне не хватало веры, – проговорил я. – Всего остального я достиг. Поэтому думал, что по крайней мере сумею пожертвовать жизнью во имя Бога. Я убежал от турок, чтобы умереть за Христа на стенах Константинополя. Ты не можешь сделать мое существование более опасным, чем оно есть.
– Молчи! – воскликнула она. – Обещай хотя бы, что не пойдешь за мной. Мы и так уже привлекли к себе слишком много внимания. – Она закрыла лицо разорванной вуалью и повернулась ко мне спиной.
За ней пришли слуги в голубых и белых одеждах. Она двинулась за этими людьми, даже ни разу не взглянув на меня на прощание, а я остался в храме. Но когда она удалилась, я почувствовал себя совершенно обессиленным, словно истекал кровью, которая струилась из открытой раны.
14 декабря 1452 года
Представители разных народов, собравшись во главе с императором Константином в храме Пресвятой Девы Марии возле порта, постановили двадцатью одним голосом – против нескольких голосов венецианцев – конфисковать для обороны города венецианские суда, стоявшие в гавани. Тревизано заявил протест от имени владельцев кораблей. Арматорам позволили оставить за собой все грузы, когда капитаны поклялись, что не предпримут попыток к бегству – и целовали в том крест. Арендная плата за корабли была установлена в размере четырехсот бизантов в месяц. Это совершенно грабительская цена, но Венеция умеет воспользоваться случаем – да и зачем утопающему считать свое золото?..
Император совещался с Григорием Маммасом, которого народ зовет лжепатриархом, с епископами и настоятелями монастырей. Речь шла о переплавке церковных ценностей на монеты. Это ограбление монастырей и храмов и изъятие золотых и серебряных сосудов монахи считают настоящим результатом объединения церквей и принятия унии.
Цены на недвижимость упали до предела. Даже по краткосрочным займам проценты в течение нескольких дней подскочили до сорока. Долгосрочных кредитов не открывают вообще нигде. Драгоценные камни стоят очень дорого. За один маленький бриллиант я купил ковры и мебель; раньше мне пришлось бы выложить за это шестьдесят тысяч дукатов. Я обставляю и украшаю дом, который только что снял. Хозяин готов дешево продать мне его, но зачем мне покупать дом? Этому городу осталось жить несколько месяцев.
Я мало спал две последние ночи. Вернулась моя давняя бессонница. Внутреннее беспокойство гонит меня на улицу, но я не выхожу из дома: вдруг кто-нибудь станет меня искать? Читать не могу. Я уже достаточно начитался, чтобы понять, насколько бесплодна вся эта наука. Мой греческий слуга следит за каждым моим шагом, но это вполне естественно и пока мне не мешает. Как они могут доверять человеку, который столько лет провел у турок? Мой слуга – убогий старик, и мне жаль его. Я охотно позволяю ему подрабатывать, шпионя за мной.
15 декабря 1452 года
Я держу в руке послание. Это лишь крошечная бумажка, свернутая трубочкой. Ее принес мне сюда сегодня утром бродячий торговец овощами.
«В храме Святых Апостолов после полудня». Вот и все, что там было написано. В полдень я сказал, что отправляюсь в порт, и послал моего слугу прибраться в подвале. Уходя, я запер старика в погребе.
Сегодня я не хочу ощущать на себе ничьих пристальных взглядов.
Храм Святых Апостолов находится на самом высоком холме города. Для нежного свидания место было выбрано прекрасное: лишь несколько женщин в черном, погруженных в молитвы, стояло здесь на коленях перед святыми иконами. Моя одежда никого тут не удивила, поскольку в этот храм часто заглядывают моряки-латиняне, желающие увидеть могилы императоров и бесценные реликвии. Прямо у входа, с правой стороны, стоит за небольшим деревянным барьерчиком кусок каменной колонны, к которой был привязан Спаситель, когда его бичевали римские солдаты.
Мне пришлось ждать в храме больше двух часов. Время едва ползло. Но на меня никто не обращал внимания. В Константинополе время уже не имеет никакого значения… Коленопреклоненные женщины отрешились от мира и погрузились в молитвенный экстаз. Очнувшись, они озирались вокруг так, словно пробудились ото сна. И их глаза вновь наполнялись безграничной и невыразимой грустью умирающего города. Женщины закрывали лица вуалями и выходили, опустив очи долу.
После холодной улицы в храме было тепло. Под его мраморным полом проложены трубы с теплым воздухом – по старому римскому образцу. Исчез и ледяной холод, сковывавший мою душу. В горячке ожидания я упал на колени, чтобы помолиться, чего не делал уже очень давно. Я замер перед алтарем – и молился искренне и пылко:
«Боже всемогущий, Ты, который совершил то, что недоступно нашему разумению, снизойдя в образе Сына Своего во плоти на землю и искупив грехи наши, смилуйся надо мной. Смилуйся над моими сомнениями и моим неверием, от которых не смогли избавить меня ни Твое святое Слово, ни сочинения отцов церкви, ни рассуждения всех светских философов. По воле Своей вел Ты меня по миру и дал мне вкусить всех Твоих даров, мудрости и глупости, богатства и нищеты, власти и рабства, страсти и равнодушия, желания и отречения, пера и меча, но ничто не способно было исцелить мою душу. Ты ввергал меня в бездны отчаяния, гнал, как безжалостный охотник, преследующий слабеющую дичь, – пока у меня, охваченного чувством вины, не осталось иного выхода, как только отдать жизнь во славу Твою. Но даже этой жертвы Ты не пожелал от меня принять. Так чего же Ты хочешь от меня, великий и непостижимый Боже?»
Но прошептав эту молитву, я почувствовал, что это говорила лишь моя несмиренная гордыня, – и устыдился я, и снова начал молиться в глубине сердца своего:
«Отче наш, иже еси, смилуйся надо мной. Прости мне грехи мои – не по моим заслугам, но по Твоему милосердию – и освободи меня от груза моей ужасной вины, пока бремя это меня не раздавило».
А помолившись, я снова стал холоден, как камень, как кусок льда. Я почувствовал, что тело мое наливается силой, а шея отказывается сгибаться, – и впервые за многие годы ощутил радость бытия. Я любил – и ждал, и все прошлое обратилось для меня в пепел, словно никогда раньше не ждал я и не любил. Лишь как бледную тень помнил я еще девушку из Феррары, которая украшала волосы жемчугами и бродила по саду философов с птичьей клеткой из золотой проволоки на белой ладони – будто с фонарем, освещавшим путь.
Позже я похоронил неизвестную покойницу, лицо которой обглодали лесные лисы. А та девушка пришла, чтобы найти свою застежку от пояса. Я присматривал за зачумленными в грязном бараке, поскольку бесконечные споры о букве Священного Писания привели меня в отчаяние. Она тоже была в отчаянии – эта прекрасная непостижимая девушка. Я снял с нее пропитавшееся заразой платье и сжег его в печи торговца солью. Потом мы спали вместе и согревали друг друга своими телами, хотя я считал, что этого не может быть. Ведь она – принцесса, а я – лишь толмач при папской канцелярии. С тех пор прошло пятнадцать лет. И теперь ничто во мне уже не дрогнуло, когда я подумал о ней. Приходилось напрягать память, чтобы вспомнить хотя бы ее имя. Беатриче. Принц обожал Данте и читал французские рыцарские романы. Он велел казнить собственных сына и дочь за распутство, а сам тайно сожительствовал с другой своей дочерью. Когда-то в Ферраре… Потому-то я и нашел девушку из сада в чумном бараке.
Женщина, лицо которой было скрыто под вуалью, расшитой мелкими жемчужинками, вошла в храм, приблизилась ко мне и встала рядом. Она была почти одного роста со мной. Холод вынудил ее закутаться в подбитый мехом плащ. Я почувствовал аромат гиацинтов. Она пришла, моя возлюбленная.
– Лицо, – взмолился я. – Покажи мне свое лицо, чтобы я поверил, что ты существуешь.
– Я поступаю неправильно, – проговорила она. Женщина была страшно бледной, в карих глазах застыл испуг.
– Что правильно, а что – нет? – спросил я. – Ведь наш мир доживает последние дни. Разве имеет еще какое-нибудь значение то, что мы делаем?
– Ты – латинянин, – сказала она с укором. – Ты – из тех, кто ест пресный хлеб. Так может рассуждать только франк. Что правильно, а что неправильно, человек чувствует сердцем. Это знал еще Сократ. Но ты язвителен, как Пилат, который спрашивал, что есть истина.
– О Боже! – вскричал я. – Женщина, ты хочешь учить меня философии? Ты действительно гречанка!
От страха и напряжения она разрыдалась. Я дал ей выплакаться, чтобы она успокоилась: она была так напугана, что все время дрожала – несмотря на царившее в храме тепло и свой бесценный меховой плащ. Она пришла – и оплакивала меня и себя саму. Нужно ли лучшее доказательство того, что я взволновал ее душу, – также, как она, подобно землетрясению, раскидала глыбы, закрывавшие доступ в глубины моего сердца?
Наконец я положил руку ей на плечо и сказал:
– Все ценности на земле ничтожны. Жизнь, наука, философия, даже вера… Все лишь вспыхивает, ярко горит несколько мгновений, а потом гаснет. Давай смотреть на вещи как двое взрослых людей, которые чудом нашли друг друга и могут честно разговаривать между собой. Я спешил сюда не для того, чтобы с тобой спорить.
– А для чего? – спросила она.
– Я люблю тебя! – выдохнул я.
– Хоть и не знаешь, кто я, хоть видел меня один-единственный раз? – проговорила она.
Я пожал плечами. Что я мог на это ответить? Она опустила глаза, снова задрожала и прошептала:
– Я совсем не была уверена, что ты придешь.
– О милая моя! – воскликнул я, ибо никогда не слышал ни от одной женщины более прекрасного признания в любви. И еще раз понял, как бесконечно мало способен человек выразить словами. А ведь люди, даже мудрые и ученые, считают, что могут объяснить сущность Бога.
Я протянул ей руки. Без малейших колебаний она позволила мне завладеть ее холодными ладонями. Ее пальцы были тонкими и сильными, но это были руки, которые никогда не знали никакой работы. Мы долго стояли, держась за руки и глядя друг на друга. Слова нам были не нужны. Ее печальные карие глаза рассматривали мой лоб, волосы щеки, подбородок, шею, словно охваченная ненасытным любопытством, она хотела запечатлеть в своей памяти каждую черточку моего лица. Кожа моя была обветренной, щеки запали от постов, уголки губ опустились от разочарований, а размышления избороздили морщинами лоб. Но я не стыдился своего вида. Мое лицо было подобно восковой табличке, на которую жизнь твердой палочкой нанесла свои письмена. И я с радостью позволил этой женщине читать их.
– Я хочу знать о тебе все, – проговорила она, сжимая мои жесткие пальцы. – Ты бреешься. Это делает тебя странным, ты внушаешь страх, как католический священник. Ты – ученый муж или еще и воин?
– Судьба забрасывала меня из страны в страну, от нищеты к богатству, словно искру, подхваченную ветром, – ответил я. – А еще я путешествовал по вершинам и глубинам своей души. Изучал философию с ее идеализмом и материализмом, штудировал сочинения древних авторов. Устав от слов, я обозначал понятия цифрами и буквами, как Раймонд. Но ясности так и не достиг. И потому избрал крест и меч.
Немного помолчав, я продолжил:
– Какое-то время я был и купцом. Научился двойному счету, который делает богатство лишь видимостью. В наши дни богатство стало только строчками в книгах – так же, как философия и святые таинства.
Чуть поколебавшись, я понизил голос и произнес:
– Мой отец был греком, хоть я и вырос в папском Авиньоне.
Она вздрогнула и точно в удивлении выпустила мою руку.
– Я так и думала, – тихо промолвила она. – Если бы ты носил бороду, твое лицо было бы лицом грека. Неужели лишь поэтому ты в первый же миг показался мне таким знакомым, словно я знала тебя всю жизнь и искала твое прежнее лицо под этим, нынешним?
– Нет, – ответил я. – Нет, совсем не поэтому.
Она боязливо огляделась по сторонам и спрятала подбородок и губы в складки вуали.
– Расскажи мне о себе все, – попросила она. – Но давай будем прогуливаться вдоль стен и делать вид, что любуемся храмом, – чтобы не привлекать к себе внимания. Ведь кто-нибудь может меня узнать…
Она доверчиво положила свою руку на мою, и мы начали медленно прохаживаться по храму и осматривать императорские саркофаги, иконы и серебряные ковчежцы с мощами святых. Мы двигались плечом к плечу. Когда ее ладонь коснулась меня, словно огненная струя пронзила мое тело. Но боль эта была приятной. Я принялся вполголоса рассказывать:
– Свое детство я забыл. Оно – точно сон, и я уже сам не знаю, что я выдумал, а что было на самом деле. Но когда я играл в Авиньоне у городской стены или на берегу реки с другими мальчишками, то обычно читал им длинные проповеди по-гречески и по-латыни. Наверное, я запомнил множество вещей, которых не понимал, поскольку с тех пор, как мой отец ослеп, мне приходилось с утра до вечера читать ему вслух.
– Так твой отец ослеп? – спросила она.
– Он совершил долгое путешествие… Мне было тогда восемь или девять лет, – ответил я, копаясь в памяти. Все это я давно изгнал из своей души, словно никогда не переживал ничего подобного, но теперь кошмары детства вернулись, точно дурной сон. – Его не было дома целый год. На обратном пути отец попал в руки грабителей. Они ослепили его, чтобы он уже никогда не смог бы их узнать и обвинить в преступлении.
– Ослепили, – удивилась она. – Здесь, в Константинополе ослепляют только свергнутых императоров или сыновей, восставших против своих отцов. Турецкие властители переняли у нас этот обычай.
– Мой отец был греком, – снова повторил я. – В Авиньоне его звали Андроником Греком, а в последние годы – только Слепым Греком.
– Как твой отец очутился в стране франков? – изумленно спросила она.
– Не знаю, – ответил я, хотя знал. Но рассказывать об этом не стал. – Он провел в Авиньоне всю свою жизнь. Мне было тринадцать лет, когда он, слепой и старый, упал со склона холма за папским дворцом и свернул себе шею. Ты спрашиваешь о моем детстве… Когда я был ребенком, мне часто являлись ангелы – и я принимал эти видения за действительность. Ведь меня же зовут Иоанн Ангел. Сам помню об этом не слишком много, но на суде это сочли отягчающим обстоятельством.
– На суде? – нахмурилась она.
– Когда мне было тринадцать лет, меня обвинили в убийстве отца, – резко бросил я. – На суде доказывали, что я подвел своего слепого родителя к краю обрыва и столкнул вниз, чтобы унаследовать его имущество. Очевидцев не было. Поэтому меня нещадно секли, заставляя признаться в содеянном. Наконец меня приговорили к колесованию и четвертованию. Мне было тогда тринадцать лет. Вот таким было мое детство.
Она быстро схватила мою руку, посмотрела мне в лицо и воскликнула:
– Твои глаза – не глаза убийцы. Рассказывай дальше. Это принесет тебе облегчение.
2 февраля 1453 года
Проспав до самого вечера, я встал и отправился искать Джованни Джустиниани, предводителя генуэзцев. Его не было ни на корабле, ни во Влахернах. В конце концов я нашел его в арсенале, возле пылающих литейных печей. Он стоял, опершись о двуручный меч, широкоплечий грузный мужчина с большим животом; он был на голову выше всех остальных – включая даже меня. Его голос гудел, как из бочки, когда он громко давал указания императорским мастерам. Василевс Константин уже назначил его протостратором, командующим обороной города. Джустиниани был в отличном настроении, поскольку император обещал ему княжеское звание и остров Лемнос в наследное владение, если генуэзцу удастся отразить нападение турок. Джустиниани верил в свои силы и знал свое дело. Это было видно по его распоряжениям и вопросам, по тому, как он выяснял, сколько и каких пушек и баллист может предоставить арсенал, если мастера будут работать день и ночь до прихода турок.
– Протостратор, – обратился я к нему, – возьми меня на службу. Я бежал от турок и неплохо владею мечом и луком.
У него были колючие, безжалостные глаза, хоть на его одутловатом лице и мелькнула улыбка, когда он внимательно разглядывал меня.
– Ты – не простой солдат, – заявил он.
– Нет, я – не простой солдат, – согласился я.
– У тебя тосканский выговор, – заметил он с подозрением. Я обратился к нему по-итальянски, чтобы вызвать его доверие.
– Я несколько лет прожил во Флоренции, – объяснил я. – Но родился я в Авиньоне. Знаю французский и итальянский, латынь и греческий, турецкий – и немного арабский и немецкий. Могу вести учет боеприпасов. Немало знаю о порохе и пушках. Сумею навести баллисту и на ближнюю, и на дальнюю цель. Меня зовут Жан Анж. И еще я способен лечить лошадей и собак.
– Жан Анж, – повторил он, всматриваясь в меня своими бычьими глазами навыкате. – Если все, что ты говоришь, – правда, то ты просто какое-то чудо. Но почему ты не записался в ополчение у вербовщиков императора? Почему хочешь служить у меня?
– Ты – Протостратор, – ответил я.
– Ты что-то от меня скрываешь, – сказал он. – Похоже, ты напрасно искал службы у императора. И теперь пришел ко мне. Но почему я должен доверять тебе больше, чем василевс?
– Мне не нужно вознаграждения, – искушал я его. – Тебе не придется заплатить мне ни единого медяка. Я не беден. Я не охочусь за деньгами. Делаю это во имя Христа. И во имя Константинополя. Я крестоносец, хоть по мне этого и не видно.
Джустиниани расхохотался и хлопнул себя ладонью по бедру.
– Не болтай ерунды! – воскликнул он. – Умный мужик в твоем возрасте не гоняется за мученическим венцом. Кардинал Исидор, конечно, поклялся мне и моим людям всеми святыми, что каждого, кто погибнет на стенах Константинополя, святой Петр втащит за уши в царствие небесное. Но меня вполне устроит, если вместо тернового венца я получу Лемнос и княжеский титул. Так каковы же твои истинные цели? Скажи честно – или убирайся отсюда и не мешай мне. Теперь другие времена.
– Джованни Джустиниани, – принялся я убеждать его. – Мой отец был греком. В моих жилах течет кровь этого города. Если я снова попаду в руки турок, султан Мехмед прикажет посадить меня на кол. Так почему я должен дешево продавать свою жизнь?
Но он мне не верил. В конце концов мне пришлось понизить голос, украдкой оглядеться по сторонам и заявить:
– Убегая от султана, я прихватил у него мешочек с драгоценностями. Я никому не решился рассказать об этом. Теперь ты понимаешь, почему я не хочу снова стать пленником Мехмеда?
Джустиниани был генуэзцем и сразу попался на крючок. Глаза протостратора загорелись зеленоватым огнем. Джустиниани тоже осмотрелся по сторонам, а потом дружески взял меня за плечо. Дыша винным перегаром мне в лицо, он наклонился ко мне и прошептал на ухо:
– Возможно, я больше поверю тебе и избавлюсь от всех своих подозрений, если ты покажешь мне эти драгоценности.
– Дом, который я снял, находится недалеко от порта, – откликнулся я. – А ты ведь все еще ночуешь на своем корабле?..
Он неуклюже сел на огромного боевого коня. Перед нами шагала пара слуг с факелами, освещая дорогу. За нами, гремя доспехами, маршировала дворцовая стража. Я почтительно держался рядом с конем, положив руку на стремя.
* * *
Вскоре солдаты уже колотили в дверь моего домика. На пороге появился мой слуга Мануил, перепуганный до смерти. Джустиниани зацепился за маленького каменного льва и выругался. В руке Мануила задрожал фонарь.
– Подай телятины и огурцов, – распорядился я – Вина – и большие кубки.
Джустиниани громко захохотал и приказал солдатам ждать на улице. Лестница трещала под его весом. Я высек огонь и зажег все свечи, а потом вынул из тайника маленький кожаный мешочек и вывернул его наизнанку. Бриллианты, изумруды и рубины вспыхнули белыми, зелеными и красными искрами в сиянии свечей.
– Матерь Божья! – прошептал Джустиниани, бросил на меня быстрый взгляд и нерешительно протянул свою огромную ручищу, не отваживаясь, однако, дотронуться до драгоценностей.
– Возьми себе какой хочешь, – сказал я. – Это тебя ни к чему не обяжет. Просто в знак моей дружбы. Я вовсе не пытаюсь купить ни твоего доверия, ни твоего расположения.
Некоторое время он с сомнением смотрел на меня. Потом выбрал рубин цвета голубиной крови. Не самый большой, но самый красивый. Генуэзец не первый раз имел дело с драгоценными камнями.
– Ты ведешь себя как принц, – проговорил он, зажав рубин кончиками пальцев и любуясь дивным камнем. Голос Джустиниани изменился. Генуэзец уже не знал, что обо мне думать.
Я не ответил. Он снова испытующе посмотрел на меня блестящими глазами навыкате, потом опустил веки и разгладил ладонью свои поношенные кожаные штаны.
– Мое ремесло требует умения разбираться в людях, – произнес он, – чтобы отделять зерна от плевел. Что-то подсказывает мне, что ты не вор. Что-то заставляет меня доверять тебе. И не только из-за этого рубина. Такое чувство очень опасно.
– Выпьем вина, – предложил я. Вошел Мануил, неся блюдо с мясом, небольшую деревянную кадушку с огурцами, вино и мой самый большой кубок.
Джустиниани отпил вина, потом приподнял кубок и сказал:
– Удачи тебе, принц.
– Ты издеваешься надо мной? – спросил я.
– Ничуть, – ответил он. – Я всегда знаю, что говорю. Даже когда пью. Обычный человек вроде меня может добыть корону, чтобы украсить ею свою голову, но это вовсе не сделает его принцем. А есть люди, которые носят королевскую корону в своем сердце. Твое лицо, твой взгляд, твои манеры – все свидетельствует о том, кто ты такой. Но не волнуйся. Я буду молчать. Так чего ты хочешь от меня?
Я спросил:
– Протостратор, ты действительно веришь, что сможешь защитить Константинополь?
Он ответил мне вопросом на вопрос:
– У тебя есть колода карт, господин Жан Анж?
Я вытащил колоду карт, отпечатанных с гравюр.
Такие карты продаются во всех портах. Джустиниани рассеянно перетасовал колоду и начал выкладывать на стол карты картинками вверх. А потом сказал:
– Я никогда не дожил бы до этих лет и не достиг бы такого положения, какое занимаю, если бы не умел играть в карты. Судьба сдает нам карты. Опытный человек берет их, рассматривает и оценивает, прежде чем решить, принять участие в игре или нет. Не обязательно играть каждую партию. Всегда можно бросить свои карты и подождать лучших. Настоящего игрока не соблазнит даже самая высокая ставка, если он видит, что карты у него скверные. Конечно, нельзя заглянуть в карты противника, но всегда можно просчитать и угадать, какие козыри у него на руках. А кроме хороших карт необходим еще и навык. Но прежде всего – удача. До сих пор удача была на моей стороне, господин Жан Анж!
Да, до сих пор мне везло в игре, – продолжал он, несколькими огромными глотками осушив кубок. – Я сказал: до сих пор. И даже княжеский титул не заставит меня разыгрывать сомнительную партию. Но я обследовал стены. Они веками сдерживали турок. Почему бы им не устоять и на этот раз? Я обошел арсеналы и произвел смотр императорского войска. И лишь после долгих размышлений поставил на карту свою жизнь и честь. Суди сам: по-моему у меня на руках неплохие карты.
– К тому же в твоем распоряжении – твои корабли, – добавил я.
– Верно, – не смутившись, согласился он. – К тому же, мои корабли. Последний козырь, на крайний случай. Но ты можешь не опасаться. Если Джованни Джустиниани решил сражаться, то он будет сражаться. Так велит ему его ум и честь. Буду защищать город до последней возможности. Но не более того. Нет, не более того.
– Жизнь – это высокая ставка, – вновь заговорил он после минутной паузы. – Самая высокая на свете. Даже самые крепкие латы не спасут от свинцовой пули. Копье всегда может попасть в щель между доспехами. Занося меч для удара, открываешь бок. Стрела легко пробивает забрало шлема. Никакая броня не защитит от горящих бревен и расплавленного свинца. Я знаю, во что ввязываюсь. Это мое ремесло. И еще у меня есть собственное понятие о чести – драться до последней возможности. Но не более того. Нет, – повторил он, – не более того.
Я снова налил ему вина.
– Джустиниани, что ты хочешь за то, чтобы затопить свои корабли? – спросил я так, словно рассуждал о самых обычных вещах.
Генуэзец вздрогнул и перекрестился на латинский манер.
– Не болтай глупостей, – сказал он. – Я этого не сделаю.
– Эти камни… – проговорил я, сгребая рассыпанные по столу драгоценности в маленькую сверкающую кучку. – На них ты мог бы купить в Генуе десять новых парусников.
– Возможно, – согласно кивнул он, жадно глядя на мерцающие под моими пальцами рубины и вспыхивающие бело-голубыми искрами бриллианты. – Возможно, – задумчиво повторил он, – если бы эти камни были у меня в Генуе. Нет, Жан Анж. Мы не в Генуе. Если я затоплю свои суда, эти побрякушки, скорее всего, вообще утратят для меня всякую ценность. Даже если бы ты предложил мне в десять или в сто раз больше того, что стоят мои корабли, я все равно никогда на согласился бы затопить их.
– Значит, ты так сильно сомневаешься в своих картах? – осведомился я.
Он покачал головой:
– Нет, не сомневаюсь. Я буду играть. Но я – человек предусмотрительный…
Он провел ладонью по своему одутловатому лицу, раздвинул губы в легкой усмешке и заявил:
– Ну, ну, мы с тобой немножко опьянели, раз болтаем такие глупости. – Но это было неправдой. Он мог влить в свое бычье брюхо целый бочонок вина – и никто не сказал бы, что генуэзец хватил лишку.
Я сгреб камни обеими руками.
– Для меня они не представляют ни малейшей ценности, – проговорил я. – Я сжег свои корабли.
– Мне эти камни не нужны, – хрипло повторил я и швырнул их так, что они застучали, словно град, о пол и стены. – Они твои. Возьми их себе, если хочешь. Ведь это же только камни.
– Ты пьян! – закричал генуэзец. – Не ведаешь, что творишь! Завтра утром будешь рвать на себе волосы и горько сожалеть о том, что наделал!
У меня пересохло в горле. Я не мог выдавить из себя ни слова. Просто покачал головой.
– Возьми их, – удалось мне наконец сказать. – Это – цена моей крови. Прикажи, чтобы меня внесли в список твоих солдат. Позволь мне сразиться плечом к плечу с твоими людьми. Ничего больше не прошу.
Он уставился на меня, разинув рот. Потом в глазах генуэзца промелькнуло сомнение.
– А это настоящие драгоценности? – спросил он тряхнув головой. – Или, может, просто разноцветные стекляшки – вроде тех, что венецианцы обманом всучают маврам?
Нагнувшись, я подобрал с пола неудачно и грубо ограненный алмаз, подошел к окну и провел камнем по зеленоватому стеклу сверху вниз. Раздался душераздирающий скрежет, и на поверхности стекла появилась глубокая царапина. А потом я отбросил бриллиант в сторону.
– Ты сумасшедший, – заявил Джустиниани и снова покачал своей тяжелой головой. – Было бы просто подло воспользоваться твоим безумием. Проспись и приди в себя. Потом мы можем встретиться еще раз.
– Перед тобой возникал когда-нибудь в видениях ты сам – и не во сне, а наяву? – спросил я. Возможно, я немного опьянел, поскольку не привык к вину. – А вот я себя видел. Однажды в Венгрии, перед битвой под Варной, я пережил землетрясение. Кони тогда метались и ломали оглобли. Испуганные стаи птиц взлетали в небо. Шатры рушились. Земля дрожала и качалась под ногами. И тогда мне впервые явился ангел смерти. Он был мужем бледным и темноволосым. Был моим отражением. Точно я смотрел на самого себя, идущего себе навстречу. Он промолвил: «Мы увидимся снова».
На болотах под Варной он явился мне второй раз, – продолжал я. – Он стоял у меня за спиной, когда обратившиеся в бегство венгры закололи кардинала Чезарини. Оглянувшись, я узнал ангела смерти, похожего на меня, как две капли воды. «Мы встретимся снова, – рек он, – встретимся у ворох святого Романа». Теперь я начинаю понимать его
Я вовсе не солдат, – говорил я. – Милость султана может сделать раба богаче многих западных принцев. После боя меня вместе с другими пленниками привели к султану Мураду. Его победа совсем недавно висела на волоске. Оплывшие щеки и мешки под глазами еще дрожали на его лице от напряжения и страха, которые ему пришлось пережить. Мурад был приземистым человеком, на голову ниже меня; праздность и роскошь раньше времени превратили его в дряблого толстяка. Многие пленники простирали к нему руки и громко взывали к его милосердию, обещая заплатить за себя богатый выкуп. Но в глазах Мурада все мы были клятвопреступниками и негодяями, развязавшими войну. Полагаясь на мирный договор, султан уже успел отречься от престола, передать бразды правления Мехмеду и поселиться на старости лет среди садов и парков Магнезии. И теперь он оставил нам лишь один выбор: или ислам, или смерть. Земля пропиталась кровью, когда один за другим, по возрасту и званию, опускались крестоносцы на колени перед палачом. Многих же при виде катящихся голов охватил великий страх. Пленники начинали рыдать и громко славить Аллаха и Магомета, пророка его. Даже некоторые монахи объявили, что отрекаются от Бога, который не помог христианам победить турок.
Но Мурад был усталым, преждевременно состарившимся человеком, – продолжал я свой рассказ. – Его обожаемый сын утонул, и с тех пор султан уже не слишком интересовался государственными делами. Он завел привычку топить свое горе в вине, полюбил беседовать с поэтами и учеными. Его не радовали реки крови. Когда пришла моя очередь, он посмотрел на меня, ему понравилось мое лицо, и он сказал: «Ты еще молод, зачем тебе умирать? Признай, что нет Бога кроме Аллаха, а Магомет – пророк его». Я ответил: «Да, я еще молод, но уже готов предстать перед Всевышним, как когда-нибудь предстанешь и ты, великий султан». Мои слова тронули его сердце. «Ты прав, – кивнул он, – придет день, когда неведомая рука смешает мой божественный прах с землей». И султан показал жестом, что дарует мне жизнь. Это был лишь каприз: мои слова пробудили в его душе поэтическое вдохновение. Хочешь услышать стихи султана, написанные после битвы под Варной, Джованни Джустиниани?
Джованни помотал своей бычьей головой, показывая, что его не слишком волнует поэзия, долил себе вина и впился зубами в кусок холодной телятины. Я пододвинул ему миску с огурцами и прочитал по-турецки эти незабываемые стихи, отбивая пальцами такт, точно касался струн лютни. Потом я перевел эти строки генуэзцу:
Эй, виночерпий, налей мне вина, что мы пили вчера,
Дай мою лютню, забвения требует сердце.
Краткий тот миг, что зовет человек своей жизнью,
Пусть наполняют всегда наслажденья и радость,
Ибо божественный прах мой смешает с землею
В час, что мне был предначертан, неведомая рука.
– Вот таким человеком был султан Мурад, – сказал я. – Он во много раз увеличил могущество турок и вел одну войну за другой, чтобы установить нерушимый мир. Дважды Мурад отдавал трон Мехмеду. Первый раз старого султана вынудили вернуться к власти христиане. Второй раз его призвал великий визирь Халиль, после того как янычары сожгли базар в Адрианополе. С тех пор Мурад смирился с судьбой и правил до самой смерти, больше ни с кем не воюя. Дважды в неделю он напивался с поэтами и философами. В такие минуты имел привычку одаривать друзей халатами со своего плеча, драгоценными камнями и всеми благами земными И никогда не требовал, чтобы на следующий день ему что-то вернули назад. Часть того, что лежало в этом мешочке, – дары султана Мурада. Возьми их себе, если хочешь, Джованни. Мне они не нужны и я тоже не попрошу их у тебя завтра обратно.
Джустиниани сунул в рот пол-огурца, вытер мокрые от рассола руки о кожаные штаны, благочестиво перекрестился и неловко упал на четвереньки у моих ног.
– Я – бедный человек и простой солдат, – проговорил он. – Мне негоже быть слишком гордым. Я с превеликим удовольствием унижусь ради доброго дела.
Он принялся шарить по полу и собирать драгоценности, а я светил ему, чтобы ни один камешек не остался незамеченным. Ползая у моих ног, генуэзец громко пыхтел, но продолжал говорить:
– Только не вздумай мне помогать, я тебя умоляю. Это дело доставляет мне больше наслаждения, чем возня с самой прекрасной женщиной на свете.
Я протянул ему красный кожаный мешочек. Он старательно сложил в него камни, встал наконец с пола, завязал мешочек и осторожно спрятал его за пазуху.
– Я не жадный, – заявил генуэзец. – Какой-нибудь мелкий камешек мог легко завалиться в щель в полу или закатиться под ковер, и его, наверное, найдет твой слуга, когда будет убирать комнату. Благодарю тебя.
Джустиниани склонил голову к плечу и посмотрел на меня преданными глазами.
– На своем веку, – сказал он, – я встречал святых людей, у которых бывали видения, и много разных других безумцев. Я и сам, наверное, был бы ненормальным, если бы не признавал, что на свете порой творятся вещи, которых не в состоянии постичь слабый человеческий разум. И одна из таких вещей – мое знакомство с тобой.
Он протянул мне свою огромную лапу и пожал мою руку, не скрывая благодарности.
– Отныне ты – мои друг, господин Жан Анж, – твердо проговорил генуэзец. – Я не поверю ни одной сплетне о тебе, а услышу их, скорее всего, немало. Завтра утром, как только встану, прикажу внести твое имя в списки моих новобранцев. Но тогда тебе придется явиться ко мне. Получишь коня и доспехи – и можешь быть уверен: я дам тебе столько работы, что ты быстро привыкнешь к дисциплине. Я муштрую солдат более сурово, чем турки.
Но он не шлепнул меня по спине и не хлопнул по плечу, как это, возможно, сделал бы человек, не так хорошо разбирающийся в жизни. Наоборот, уходя, он почтительно склонил голову и сказал:
– Храни свою тайну. Я не любопытен. Ты не вел бы себя так, если бы замышлял что-то недоброе. Я верю тебе.
Греки отвергли меня, латинянин протянул мне руку. Он понимал меня лучше, чем византийцы. Джованни Джустиниани…
5 февраля 1453 года
Я получил скакуна и доспехи. Первые дни Джустиниани испытывал меня и мои способности. Мне приходилось сопровождать генуэзца во время осмотра стен и занятий с необученными новобранцами – греческими ремесленниками и молодыми монахами, Джустиниани качал своей бычьей головой и смеялся, глядя на них.
Генуэзец совещался с императором, с Францем, шкиперами венецианских судов и кораблей с греческих островов, с подестой Перы и венецианским посланником.
Разговор с каждым был неспешным и исчерпывающим; Джустиниани рассказывал своим собеседникам множество историй о военных походах и осадах, в которых участвовал. Он прокладывал себе путь сквозь зависть, неприязнь и пересуды, словно большой тяжелый корабль. Ему верят. Ему нельзя не верить. Он – тот краеугольный камень, тот фундамент, на котором – как все лучше видно с каждым днем – держится оборона города. Он пьет очень много вина, в два глотка осушая самый огромный кубок. И то, что он так много пьет, можно заметить лишь по небольшим припухлостям под блестящими глазами генуэзца.
Его неспешность и бесконечная болтовня, за которыми он прячет свой опыт, мудрость и знание людей, сначала раздражали меня. Но потом я стал видеть дела и события его бычьими глазами навыкате. И теперь мне словно открылся придуманный искусным математиком механизм, который работает с писком и визгом, мучительно скрежеща шестернями, но действует четко и без сбоев, все подчиняя одной цели – так, что каждая деталь поддерживает и приводит в движение все остальные.
Я не могу не восхищаться этим человеком – точно так же, как восхищаются им его люди, готовые слепо исполнять любое его распоряжение, не сомневаясь, что ни один из его приказов не может быть бессмысленным.
Не бессмысленно тут и мое присутствие. Я рассказал Джустиниани о подготовке янычаров, о порядках в их войске, об их вооружении и боевых приемах. Рассказал о характере султана Мехмеда, о его окружении, о сторонниках войны и сторонниках мира в султанском дворце, о пропасти, пролегшей между старыми и молодыми после смерти султана Мурада, пропасти, которую Мехмед сознательно расширяет и углубляет, чтобы подорвать позиции Халиля и лишить его звания великого визиря.
Мехмед не может забыть, как еще мальчиком в возрасте двенадцати и четырнадцати лет, два раза вынужден был уйти с трона, на котором не имел сил удержаться, хотя отец добровольно передал сыну власть, – рассказывал я. – Это объясняет горячность Мехмеда, его фанатизм и непомерное тщеславие. Первый раз, когда рать крестоносцев-христиан неожиданно подошла к Варне, он в Адрианополе не выдержал: плакал, кричал, бился от страха в конвульсиях и, наконец, спрятался в гареме. Так говорят. И если бы старый султан Мурад не вернулся из Магнезии и не раздобыл буквально из-под земли нового войска, турецкое государство было бы уничтожено.
Во второй раз, – продолжал я, – взбунтовались его собственные люди, закаленные в боях ветераны. Янычары отказались повиноваться худенькому нервному мальчику, который явно не годился на то, чтобы вести их на войну. Они разграбили и сожгли базар в Адрианополе. Мехмеду снова пришлось бы искать спасения в неприкосновенном гареме. Халиль по собственной воле послал за Мурадом. Этого Мехмед никогда не смог простить великому визирю.
Ты не знаешь Мехмеда, – проговорил я, повторяя то, что уже столько раз напрасно твердил другим. – Из уязвленного мальчишеского самолюбия может вырасти сила, которая сокрушит королевства. Помни, что случилось с ним два раза. С тех пор Мехмед многому научился. Его тщеславие не имеет границ. Чтобы забыть тот позор, который он пережил, Мехмед должен теперь затмить своих предков. И одна из ступеней к славе – взятие Константинополя. Мехмед начал готовиться к завоеванию этого города уже много лет назад, не давая покоя своему телу и отдыха – глазам. Еще при жизни своего отца он уже знал по картам каждый выступ на наших стенах и мог по памяти нарисовать любую башню. Он сумеет двигаться по улицам Константинополя с завязанными глазами. Я слышал, что он был тут когда-то еще подростком и, переодетый, бродил по городу. Он ведь говорит по-гречески, и ему известны обычаи и молитвы христиан.
Нет, ты не знаешь Мехмеда, – повторил я в который уже раз. – Ему только двадцать два года, но уже в день смерти своего отца он не был наивным юнцом. Эмир Карамании, конечно, тут же поднял мятеж, как водится в таких случаях, и рискнул захватить парочку турецких провинций в Азии. Он же был родственником Мехмеда. Тот собрал войско и через две недели подошел со своими янычарами к границам Карамании. Эмир счел за лучшее сдаться, выехал с большой свитой навстречу Мехмеду и, смеясь, сообщил, что только пошутил, чтобы испытать молодого султана. А Мехмед уже прекрасно умел скрывать свои чувства. Этим искусством он овладел блестяще! И теперь уже не совершает опрометчивых поступков. Он способен бесноваться от ярости. Но делает это продуманно, сознательно – и таким образом, чтобы его гнев произвел на противника как можно более сильное впечатление. Мехмед – лицедей, равного которому я еще не видел.
Мои слова явно заставили Джустиниани задуматься. Он наверняка уже раньше знал большую часть того, что я ему рассказал, но никогда не слышал этого от очевидца.
– А янычары? – спросил генуэзец после небольшой паузы. – Меня интересуют не простые солдаты, а военачальники.
– Янычары, конечно, жаждут войны, – объяснил я. – Ведь это же единственное ремесло, которому они обучены. Это – сыновья крестьян, воспитанные как мусульмане. Они не имеют права жениться и покидать свои казармы, им не разрешается даже заниматься каким-нибудь другим делом. Разумеется, они были страшно злы, когда эмир Карамании покорился султану, и война, на которую они так рассчитывали, не разразилась. Мехмед позволил им подебоширить и попинать ногами походные котлы. Сам он скрылся в своем шатре и не выходил оттуда целых три дня. Какие-то купцы продали ему рабыню-гречанку, похищенную с одного из островов. Это была восемнадцатилетняя девушка, прекрасная как день. Ее звали Ирэна. Султан провел с ней трое суток, никому не показываясь. Янычары, столпившись перед шатром, орали и осыпали Мехмеда оскорблениями. Им не нужен был повелитель, который предпочел войне любовные утехи и даже перестал совершать намаз, не в силах оторваться от своей рабыни. Сотники уже не могли справиться с разъяренными янычарами. А, может, и не хотели их усмирять…
– Я слышал эту историю, – перебил меня Джустиниани. – Она свидетельствует лишь о жестокости и импульсивности Мехмеда.
– О жестокости – да, но не об импульсивности, – откликнулся я. – Это был хладнокровно продуманный жест великого лицедея. Когда взбешенные янычары уже перевернули в слепой ярости все свои котлы, он наконец вышел из шатра с розой в руке и припухшими от сна глазами; в каждом его движении сквозили юношеское смущение и неловкость – и все это была игра… Янычары покатились со смеху, взглянув на него; они начали швырять в Мехмеда комьями земли и конским пометом, внимательно, впрочем, следя, чтобы не попасть в султана; при этом янычары вопили: «Что ты за властитель, если сменил меч на розу?!» А Мехмед крикнул им в ответ: «Ах, братья, братья, вы не ведаете, что говорите. Если бы вы только видели ее, вы бы меня не осуждали!» Янычаров эти слова лишь распалили еще больше, и они стали орать: «Покажи нам свою гречанку, покажи нам ее, и, может, мы тогда тебе поверим!» Мехмед лениво зевнул, вернулся в шатер и выволок оттуда полумертвую от страха и стыда девушку, почти нагую и пытавшуюся в смущении закрыть лицо руками.
Я никогда не забуду этой картины, – продолжал я свой рассказ. – Сотни выбритых черепов, каждый из которых украшала лишь единственная прядь волос… Свои войлочные шапки янычары побросали на землю и растоптали ногами. Чувственное лицо и горящие желтым огнем хищные глаза Мехмеда. Девушка, прекрасная, как весна в Карамании. Мехмед силой отвел ее руки от лица и сорвал с нее остатки одежды, после чего толкнул гречанку к янычарам. Те даже попятились, ослепленные красотой ее лица и белоснежным совершенством ее тела. «Наглядитесь досыта! – крикнул Мехмед. – Наглядитесь – и признайте, что она достойна любви султана». Потом лицо его потемнело от гнева, он отбросил розу и приказал: «Принесите мой меч!» Девушка стояла на коленях, низко опустив голову и прикрывая свою наготу руками. Мехмед, взяв меч, схватил ее за волосы и одним взмахом отсек ей голову – так, что кровь брызнула на стоявших вокруг янычар. Не в силах поверить собственным глазам, воины закричали от ужаса. А потом невольно отшатнулись назад, пытаясь спрятаться за спины своих товарищей, чтобы оказаться подальше от Мехмеда. А тот лишь произнес: «Мой меч может разрубить даже узы любви! Так верьте же в мой меч!» А потом спросил: «Где ваш сотник?» Янычары привели своего сотника, который укрывался в шатре. Увидев этого человека, Мехмед вырвал у него серебряный черпак, символ его звания, и со всей силы ударил им на глазах у янычар сотника по лицу, сломав тому нос и выбив глаз. Но устрашенные янычары молчали: никто даже не двинулся с места, чтобы защитить своего командира.
Больше янычары уже не поднимут мятежа, – заявил я. – Мехмед реорганизовал их отряды и увеличил их войско, влив в него шесть тысяч своих сокольничих, что противоречит всем правилам и законам. Янычары продвигаются по службе, получая чины по старшинству. Поэтому Мехмед не мог сразу избавиться от всего их прежнего командования, хотя и повелел казнить ночью многих военачальников. Но можешь быть уверен, что при штурме Константинополя янычарам будет предоставлено почетное право сыграть решающую роль. Мехмеду это выгодно с самых разных точек зрения. Те сотники и ветераны, которые хорошо знают, чего хотят, и которых Мехмед отлично запомнил, падут под нашими стенами. Мехмед никогда не прощает полученных оскорблений. Но он научился выжидать подходящего момента, чтобы отомстить.
Я не знал, говорить ли мне дальше. Я не был уверен, поймет ли Джустиниани, что я имею в виду Но все-таки я в конце концов сказал:
– Мехмед – не человек.
Джустиниани нахмурился и уставился на меня налитыми кровью глазами. Добродушный, бухающий смех застрял у него в горле.
– Мехмед – не человек, – повторил я. – Может, он – ангел тьмы? Может, – тот, кто грядет? На это указывают все приметы.
Пойми меня правильно, – быстро добавил я. – Если он человек, то – новый человек. Первый в своем роде. С него начинается новая эпоха, время, которое воспитает иных, чем прежде, людей. Властелинов земли, властелинов ночи, которые в своей строптивости и гордыне отвергнут небо и предпочтут землю. Не будут верить ни во что, кроме тех вещей, которые сумеют воспринять их глаза и разум. В душах своих они не будут признавать ни человеческих, ни божественных законов, ибо единственным законом станет для них достижение собственных целей. Эти люди выпустят из преисподней на землю адский жар и холод и заставят служить себе все силы природы. Не испугаются они ни безбрежности морей, ни высоты небес. Подчинив себе всю землю и весь океан, эти люди в страстном стремлении к познанию сделают себе крылья, чтобы летать к звездам и завладеть еще и ими. Мехмед – первый человек этой поры. Неужели ты надеешься, что сможешь противостоять ему?
Джустиниани схватился за голову.
– Иисусе Христе! – застонал он. – Мало того, что монахи этого города с пеной у рта кричат на всех углах о конце света! Так теперь еще и мой помощник, спятивший от видений и откровений свыше, понес какую-то дикую ахинею! Я сам рехнусь, если услышу от тебя еще хоть слово!
Но он уже не называет Мехмеда пылким юнцом, который хочет прошибить лбом стену. Генуэзец стал более осторожным, запретил своим людям слишком много болтать в тавернах и заявил, что не стоит недооценивать силу турок. Джустиниани сходил даже в католический собор, послушал мессу, исповедался и смиренно получил отпущение грехов, хотя кардинал Исидор уже объявил, что Бог простил генуэзцу все прегрешения в тот миг, когда Джустиниани согласился стать протостратором Константинополя. Чтобы быть совершенно уверенным в этом, Джустиниани попросил, чтобы ему выдали официальную бумагу об отпущении грехов, и постоянно носит этот документ с собой.
– Теперь у меня будет что предъявить святому Петру, когда в один прекрасный день я окажусь у врат царствия небесного, – защищался он. – Говорят что старик стал почему-то очень уж суров к нам, генуэзцам. Может, его перекупили венецианцы…
7 февраля 1453 года
В Адрианополе прозвучал пушечный залп, который привел в трепет весь мир.
Венгр Орбано выполнил свое обещание: ему удалось отлить самую большую пушку в мире.
Когда я вернулся домой после изматывающего дня, мне навстречу вышел мой слуга Мануил. У него дергалась щека и дрожали губы. Ломая руки, он спросил меня:
– Господин мой, правда, что у турок есть пушка, которая одним-единственным выстрелом может разрушить стены Константинополя?
Слухи распространяются в этом городе с поразительной быстротой… Джустиниани получил первое достоверное сообщение об испытании нового орудия лишь сегодня утром.
– Это неправда, – ответил я. – Такой пушки никто не сможет сделать. Чтобы рухнули стены Константинополя, нужно по меньшей мере землетрясение.
– Но говорят, что пушечное ядро пролетело расстояние в тысячу шагов, а в том месте, где оно упало, образовалась воронка величиной с дом, – заскулил Мануил. – А земля дрожала на десять тысяч шагов вокруг. Теперь половина Адрианополя в развалинах, а многие женщины выкинули или родили недоношенных младенцев.
– Бабские сплетни, Мануил, – сказал я. – Ты ведь и сам это понимаешь.
– Да нет же, это чистая правда, – стал уверять меня слуга. – Уже та пушка, которую Орбано отлил для крепости султана, могла одним выстрелом потопить целый корабль. Тут приехал купец из Перы… Он был в Адрианополе и сам измерял каменное ядро, приготовленное для новой пушки. Он сказал, что даже самый рослый мужчина не может обхватить ядро руками. Он до сих пор оглушен тем залпом и трясется, как старик, хотя ему нет еще и пятидесяти…
– Он трясется не от пушечного залпа, а с перепоя, – рявкнул я. – Этот человек нашел здесь слишком много благодарных слушателей, которые наперебой угощали его вином. И с каждой новой кружкой пушка становилась все больше и больше. Завтра она уже наверняка будет размером с колокольню.
Мануил упал передо мной на колени. Его борода тряслась… Он попытался поймать мои руки, чтобы поцеловать их, а потом просто сказал:
– Господин мой, я боюсь.
Он уже старый человек. В его водянистых глазах отражается вся бездонная тоска Константинополя. Я понимаю Мануила. Турки убьют его: он слишком дряхл, чтобы продавать его в рабство.
– Встань и будь мужчиной, – проговорил я. – Нам известны размеры этой пушки, и сейчас императорские мастера как раз вычисляют вес ее ядер и силу их ударов о стены. Это, несомненно, страшное орудие, которое может принести много бед, но оно вовсе не такое большое, каким сделали его слухи. Кроме того, Орбано – человек неученый, он не умеет рассчитывать дальность и траектории полета ядер. Императорские мастера уверены, что ему не удастся найти точных соотношений объема порохового заряда, длины дула и веса ядра. Его пушка выдержит, возможно, несколько залпов, но потом ее обязательно разорвет, что произведет гораздо большие опустошения и разрушения в турецком лагере, чем в наших рядах. Орбано ведь состоял раньше на службе у императора. Наши мастера знают его – и им прекрасно известно, на что он способен, а на что – нет. Передай это своим теткам, двоюродным сестрам и всей родне – и попроси их, чтобы они рассказывали об этом везде и всюду. Пусть люди успокоятся.
– Да разве они станут рассказывать о том, чего не понимают? – вздохнул Мануил. – Что они знают об объеме порохового заряда и траектории полета ядра? Будут лучше болтать о том, что им ясно и от чего бросает в дрожь. У одной женщины в городе уже вроде бы случился выкидыш при одном только известии об этой пушке. Так что же будет, когда это орудие загрохочет у наших стен и начнет разносить их в пух и прах?..
– Посоветуй людям искать защиту и утешение у своей Панагии! – буркнул я, чтобы избавиться от него.
Но в душу Мануила уже закрались сомнения.
– Даже Пречистая Дева не покажется теперь, наверное, на стенах Константинополя – и турки не обратятся в бегство, завидев ее голубой плащ, – прошептал старик. – Ведь в прошлый раз у турок не было таких больших пушек. Они могут, пожалуй, напугать даже Пресвятую Богородицу. – Он улыбнулся дрожащими губами. – А правда, что это орудие уже движется сюда из Адрианополя? И что оно лежит на громадной повозке, в которую впряжено пятьдесят пар волов, а тысячи людей расчищают ей путь и строят мосты? Или, может, все это – только преувеличение?
– Нет, Мануил, – признал я. – Это правда. Орудие уже в пути. Скоро весна. Вот-вот начнут ворковать голуби и беспокойные стаи птиц полетят над нашим городом с юга на север. Когда весна войдет в свои права, султан станет у ворот Константинополя. И этому уже не может помешать никакая сила на свете.
– И как ты думаешь, мой господин, – спросил Мануил, – сколько… сколько все это потом продлится?
Зачем мне было обманывать его? Он уже старый человек. Он – грек. А я – не лекарь. Я – просто человек. Его ближний.
– Может быть, месяц, – пожал я плечами. – Или два. Джустиниани – прекрасный солдат. Три месяца, если он все сделает, как надо, – а я верю, что он сделает… Но, думаю, не дольше. Думаю, не дольше трех месяцев, даже в самом лучшем случае.
Мануил уже не дрожал. Он посмотрел мне прямо в глаза.
– А Запад? – спросил он. – А уния?
– Запад? – повторил я. – Вместе с Константинополем утонет во тьме и Запад. Константинополь – это последний светоч и последняя надежда христианства. Если Запад позволит угаснуть этой лампаде, значит, он обречен и сам заслужил свою судьбу.
– И какой же будет судьба Запада? – поинтересовался Мануил. – Прости меня за любопытство, господин мой. В сердце своем я должен подготовиться ко всему, что нас ожидает.
– Тело без души, – ответил я. – Жизнь без надежды, закабаление человека, неволя настолько беспросветная, что рабы уже даже не подозревают о своем рабстве. Богатство без радости, изобилие без возможности им пользоваться. Смерть духа.
10 февраля 1453 года
Я видел всех – но только не флотоводца Луку Нотара. Он словно специально поселился как можно дальше от Влахерн, на другом конце города, в старом квартале, возле храма Святой Софии, прежнего императорского дворца и Ипподрома. Лука отгородился от людей. Оба его юных сына занимают почетные, предписанные церемониалом должности при дворе, но никогда там не появляются. Я видел их на Ипподроме. Они гарцевали на прекрасных скакунах. Сыновья Луки Нотара – статные молодые люди с печатью такой же надменной и угрюмой меланхолии на лицах, какой отмечены черты их отца. Как командующий флотом, Лука Нотар отказывается иметь дело с Джустиниани. На собственные средства он переоснастил пять старых императорских дромонов. Сегодня они ко всеобщему изумлению ощетинились веслами и вышли из порта, проплыв мимо больших западных судов. В Мраморном море дромоны подняли свои новые паруса, выстроились в боевой порядок и взяли курс на азиатский берег. Был серый пасмурный день; дул резкий, порывистый ветер. Неопытные матросы с трудом управлялись с парусами. Гребцы то и дело сбивались с ритма, и весла в основном колотились друг о друга.
Последний флот Константинополя вышел в море. Венецианские и критские шкиперы хохотали и хлопали себя по бедрам.
Но какую цель преследовали эти учения? Это были не просто маневры, поскольку вечером дромоны так и не вернулись в порт.
Джустиниани отправился во дворец, нарушил все правила старого этикета, смел со своего пути дворцовую стражу и евнухов и ввалился в личные покои императора. Он сделал это, чтобы показать, насколько он взбешен. На самом же деле генуэзец просто сгорал от любопытства. Он невысоко ценил императорские суда. Один-единственный мощный западный военный корабль мог без труда пустить их ко дну. Но как протостратор Джустиниани был, конечно, глубоко возмущен тем, что флот не подчиняется его приказам.
Император Константин стал оправдываться перед генуэзцем:
– Флотоводец Лука Нотар не захотел сидеть сложа руки. Турки опустошили нашу страну и осадили наши последние крепости. И потому Лука Нотар решил перейти в наступление и отплатить султану той же монетой, пока нас еще не отрезали от мира с моря.
Выслушав все это, Джустиниани сказал:
– Я велел открыть в стенах все потайные проходы для вылазки. Много раз просил тебя, чтобы ты разрешил мне нанести удар по разрозненным разбойничьим бандам турок. Они уже совершенно обнаглели, рыщут вокруг стен на расстоянии полета стрелы и громко поносят моих людей, угрожая, что скоро превратят их в скопцов. Такие вещи подрывают боевой дух солдат.
Император покачал головой:
– Ты не можешь позволить себе потерять ни единого человека. А что, если турки заманят твой отряд туда, где его будет ждать засада, и перебьют всех твоих людей?
Джустиниани ответил на это:
– Потому я и не ослушался тебя. Но флотоводец Нотар совсем не считается с твоими повелениями.
Император вздохнул:
– Он прислал мне неожиданное сообщение о том, что собирается отправиться на маневры. Не мог же я приказать венецианским и критским судам задержать его дромоны. Но больше такого своеволия я не потерплю.
Канцлер Франц примирительно заметил:
– Лука Нотар сам снарядил дромоны и платит жалованье командам. Мы не можем сердить его.
Но все это были только слова. И все присутствующие знали об этом. Джустиниани ударил жезлом протостратора по столу и воскликнул:
– А откуда ты знаешь, что он вернется со своими кораблями и людьми?
Император Константин опустил голову и тихо произнес:
– Возможно, для всех нас было бы лучше, если бы он не вернулся.
Джустиниани пересказал мне позже весь этот разговор и заявил:
– Я не разбираюсь в запутанной политике греков. До сих пор василевс решительно воздерживался от любых наступательных действий. С безграничным христианским смирением он, получив очередную пощечину от султана, каждый раз немедленно подставлял другую щеку. Ну, я понимаю: он хотел таким образом доказать и Западу, и потомкам, что султан – подлый захватчик, а сам он, василевс, – благородный миролюбец. Но зачем? Каждому здравомыслящему человеку это и так ясно. Теперь же флотоводец Лука Нотар перехватывает у императора инициативу и открывает военные действия. Поверь мне, он вернется со своими судами. Но чего он добивается, я не представляю. Растолкуй мне это – ты ведь знаешь греков.
– Луку Нотара я не знаю, – ответил я. – Кто вообще может знать, что движет гордым и честолюбивым человеком? Может, он хочет смыть со своей репутации какое-нибудь пятно? После волнений у храма Святой Софии Нотару перестали доверять во Влахернах и подозревают его теперь в симпатиях к туркам. Может, поэтому он и хочет быть сейчас первым греком, не побоявшимся ответить ударом на удар, в отличие от нерешительного императора.
– Но какую пользу может принести такой пиратский налет на турецкое побережье? – запричитал Джустиниани. – Именно сейчас, когда дервиши разносят весть о войне по всей Азии, а султан собирает армию. Ничего лучшего Мехмед не мог и желать! Нотар явно играет на руку султану.
– Ты не можешь этого доказать, – возразил я. – Мы можем лишь оценивать каждое событие в отдельности и пытаться понять, кому оно выгодно, – пока действительность не опровергнет все наши построения.
Джустиниани посмотрел на меня своими бычьими глазами навыкате, почесал в затылке и спросил:
– Почему ты защищаешь Луку Нотара? Тебе бы лучше помолчать, – по-дружески предостерег меня генуэзец. – Ведь вот и в этот раз, когда я уже двинулся к двери, Франц отвел меня в сторону и принялся умолять, чтобы я не спускал с тебя глаз. Ты – опасный человек, утверждает он. Ты был вхож к султану, тот принимал тебя в любое время дня и ночи. Осторожность не повредит, сказал канцлер Франц.
Потом Джустиниани вручил мне медные письменные принадлежности и назначил своим адъютантом. С той минуты я получал доступ и к его секретным бумагам.
11 февраля 1453 года
Ночью меня разбудил мой слуга Мануил и испуганно зашептал мне в ухо:
– Господин мой, в городе неспокойно.
На улицах мелькал свет фонарей и факелов. Полуодетые люди выскакивали из домов и замирали у своих дверей. Все смотрели вверх, на луну в ночном небе.
Я накинул на плечи подбитый мехом плащ и двинулся, подхваченный людским потоком, к холму Акрополя. На другом берегу моря темное, затянутое тучами небо освещали далекие пожары. Дул влажный ветер. В воздухе витал сильный запах влажной пыли. Темнота была темнотой весны.
Женщины в черных одеждах падали на колени и молись. Мужчины истово крестились. А потом по толпе пробежал шепот. Из уст в уста передавалось одно имя.
– Лука Нотар, – тихо говорили люди. – Флотоводец Лука Нотар.
На другом берегу моря пылали турецкие деревни.
Но народ не ликовал. Наоборот, людей точно парализовало страшное, безысходное отчаяние. Словно они лишь сейчас поняли, что началась война. Из-за резкого ночного ветра было трудно дышать.
Кто с мечом придет, тот от меча и погибнет. И невинные падут вместе с виновными.
12 февраля 1453 года
Флот еще не вернулся.
Пришло известие о том, что передовые отряды турок взяли башню святого Стефана и вырезали гарнизон, который осмелился сопротивляться.
Страшный град вынудил сегодня всех укрыться в своих домах. Непогода сокрушила множество крыш. Из подземных цистерн доносится по ночам странное гудение, земля содрогается. Немало людей видело, как молнии в полной тишине прорезают небосклон и в вышине летают светящиеся шары.
Из-под Адрианополя к Константинополю движется не только гигантская пушка, но и вся артиллерия султана. Ее охраняет десятитысячный конный отряд.
В Адрианополе султан собрал Диван и произнес перед ним большую речь. Он вдохновил молодых и вынудил поклясться в верности старых и осторожных. Как венецианский баилон, так и подеста Перу получили подробнейшие отчеты о содержании этой речи.
Вот что сказал Мехмед:
– Владычество василевса уже сокрушено. Осталось нанести лишь последний удар, который уничтожит тысячелетнюю империю потомков Константина. Константинополь – это царь всех городов мира. Сейчас эту твердыню можно взять штурмом, и нам наверняка будет сопутствовать успех благодаря нашему новому оружию и высокому боевому духу наших войск. Но мы должны спешить, пока весь христианский мир не встал на защиту Константинополя и не послал на помощь василевсу свой флот. Сейчас – решающий момент. И мы не можем упустить его!
Говорят, что перед тем, как произнести эту речь, Мехмед вызвал к себе посреди ночи великого визиря Халиля, главу партии мира, и имел с ним долгую беседу. И на этот раз Халиль уже не решился сказать ни слова в защиту мира.
Получив доступ к документам, хранившимся в железном сундучке Джустиниани, я смог убедиться, что Халиль все еще тайно переписывается с императором Константином. Иначе мы не знали бы всего того, что нам известно сейчас о вооружении турок и средствах, затраченных на подготовку похода.
После того, как флот вышел в море, император поспешил отправить в Адрианополь свое последнее послание. Он написал его собственноручно, не обращаясь за советом к Францу. В сундучке Джустиниани лежит копия этого документа. Я много раз перечитывал ее со странным волнением и леденящей душу тоской. Это письмо, более чем любое другое деяние Константина, доказывает, что он – истинный император. Вот с какими словами обратился василевс к султану:
«Уже нет сомнения в том, что ты гораздо более желаешь войны, чем мира. Так пусть же будет так, как ты хочешь, ибо мне не удалось убедить тебя в своем миролюбии, хотя я не запятнал себя ложью и выразил готовность именоваться твоим вассалом. Теперь я обращаюсь к Богу и в Нем одном ищу опору и защиту. Если будет воля Его на то, чтобы ты стал владыкой моего города, как смогу я противиться этому? Но если Он в милосердии своем дарует нам мир и покой, я буду безмерно счастлив. Однако освобождаю тебя с сего дня от всех твоих клятв и обещаний – и беру назад все слова, которые тебе давал. Я запер ворота города и буду защищать мой народ до последней капли крови. Да будет твое царствование счастливым до того дня, когда Всемилостивейший Господь, наш высший судья, призовет к себе нас обоих».
Это – холодное, сдержанное письмо, в нем мало цветистой греческой риторики и нет тонких оборотов Франца. Но оно взволновало меня. Это послание императора. И – тщетное, да, совершенно тщетное. Но, возможно, Константин в своем опустевшем дворце хотел лишь одного: чтобы оно дошло до потомков. Возможно, это простое письмо расскажет будущим поколениям о Константине больше, чем все сочинения хронистов. Он не виноват, что родился под несчастливой звездой.
13 февраля 1453 года
Флот не вернулся.
Дворец Луки Нотара хмуро хранит на берегу моря свои тайны.
Я больше не могу вынести эту неопределенность.
Прошло больше двух недель с тех пор, как мы встретились в последний раз. Я ведь даже не знаю, в городе ли она еще – или нет.
Напрасно я ездил верхом по городу и гарцевал вдоль стен. Напрасно старался заглушить снедающее меня беспокойство, с головой уйдя в лихорадочную работу. Эта женщина не отпускает меня. Каждую ночь я вижу во сне ее лучистые глаза. Ее гордость и холодная надменность разрывают мне сердце.
Мне безразлично, что она – дочь знатного вельможи и сербской княжны. Безразлично, что ее род – даже древнее императорского. Я – сын своего отца.
Сорок лет. Я считал, что жизнь моя уже склоняется к закату…
Почему бы мне не попробовать встретиться с Анной? Ведь нам остаются лишь считанные дни. А время уходит безвозвратно. Эти дни пролетают один за другим, словно стрелы. Работа, военные учения, списки боеприпасов. Пустота.
Из темноты своего дома я шагнул этим утром в море света. Ослепительно сияло солнце. Небо простиралось над Константинополем, словно голубой балдахин. Меня охватило глубокое волнение.
Не верхом, а пешком, как самый бедный паломник, я двинулся в путь. Далеко-далеко голубела мраморная башня Золотых Ворот.
Потом я снова увидел гладкую каменную стену и узкие стрельчатые оконца на верхнем этаже дома Луки Нотара. Над воротами – герб. Я постучал.
– Я – Жан Анж, приближенный протостратора, – громко заявил я.
– Флотоводец в море. Оба его сына – с ним. Госпожа больна и лежит в постели. Она никого не принимает, – послышался ответ.
– Хочу видеть дочь вашего господина, Анну Нотар, – сказал я.
Она появилась в сопровождении пожилого евнуха из недоступной для посторонних части дома. Эту женщину воспитывали как императрицу. Она – свободная гречанка. Евнух был сморщенный и бесцветный, словно сушеное яблоко, глухой и беззубый. Но одежды его были очень дорогими.
– Я ждала тебя, – сказала Анна. – Я долго ждала тебя. Но я уже не испытываю гордости оттого, что ты пришел. Сядь, Жан Анж.
Евнух печально покачал головой, в немой мольбе простер руки к небу, закрыл лицо ладонями и опустился на табурет в углу комнаты. Таким образом он снял с себя всякую ответственность…
Вошла служанка с золотым кубком на серебряном подносе. Кубок был очень старым, он помнил древние времена. На нем был изображен сатир, который преследовал несколько убегающих нимф. Это был фривольный кубок. Смочив губы в вине, Анна протянула кубок мне.
– За наше взаимное расположение, – проговорила она. – За нашу дружбу. Надеюсь, ты пришел в наш дом с добром, а не со злом.
Я выпил вино ее отца.
– За отчаяние, – произнес я. – За забвение и мрак. За время и пространство. За наши оковы. За наши драгоценные кандалы. За то, что ты существуешь, Анна Нотар!
На порфировом полу лежали дивные ковры, переливавшиеся всеми красками Востока. За узкими стрельчатыми оконцами блестело Мраморное море. Ее карие глаза сияли. Ее кожа была словно золото и слоновая кость. На губах ее по-прежнему играла улыбка.
– Говори, – потребовала Анна. – Скажи хоть что-нибудь. Говори взволнованно и серьезно, словно сообщаешь мне важные вести. Евнух не может тебя слышать, но ему спокойнее, когда ты о чем-то оживленно рассуждаешь.
Это было трудно сделать. Мне хотелось лишь смотреть на нее.
– Твой гиацинтовый запах, – пробормотал я. – Гиацинтовый аромат твоих щек.
– Ты опять?! – раздраженно накинулась она на меня.
– Да, опять, – кивнул я. – Твое одеяние, в котором мерцают золотые нити, прекрасно. Но сама ты гораздо прекраснее. Этот наряд слишком ревниво скрывает твою красоту. Его что, придумали монахи? Ваша мода изменилась с тех пор, как я был молод. Во Франции очаровательные дамы обнажают к восхищению мужчин даже груди, поступая, как прелестная Аньес Сорель, фаворитка короля Карла. А вы здесь все прячете – даже свои лица.
О, если бы мы смогли когда-нибудь попутешествовать вместе по вольному Западу! – воскликнул я. – Первую женщину, которая открыла мне истинную прелесть плотской любви, я встретил возле купальни у Источника Молодости, на берегу Рейна. Это случилось в тот день, когда утром пел соловей и сестра моя Смерть плясала на кладбищенской стене. Та, у источника, была цветущей женщиной, старше меня, – и вовсе не скрывала своей красоты. Она сидела нагая на краю бассейна, погрузившись в чтение, в то время как благородные дамы и господа резвились в воде и лакомились у плавающих столиков. Ее звали госпожа Доротея. От нее я получил рекомендательное письмо к Энею Сильвию из Базилеи, если тебе известно, кто он такой. Все это случилось после того, как я вышел из братства вольного духа. До этого я занимался любовью только в кустах и в темноте… А эта благородная дама устроила меня на пуховых подушках и зажгла свечи вокруг ложа, чтобы не упустить ни единой мелочи.
Анна Нотар покраснела. У нее задрожали губы.
– Зачем ты рассказываешь мне об этом? – спросила она – Это непохоже на тебя. Я не ожидала от тебя такого…
– Затем, что я жажду обладать тобой, – ответил – Плотское желание, возможно, и не любовь, но нет любви без плотского желания. Но заметь: я не говорил так, когда мы были с тобой наедине и ты находилась целиком в моей власти. Нет, нет, ты не вонзила бы мне в грудь стилет, если бы я тогда коснулся тебя. Ты бы этого не сделала. Я вижу это по твоим глазам. Но мое желание чисто, как огонь. Ты сама подаришь мне свой цветок. Я не буду срывать его силой.
Она молчала.
– Анна Нотар! – вскричал я. – Анна Нотар! О, как я люблю тебя! Не слушай меня, ибо я сам не ведаю, что говорю. Я просто счастлив. Ты делаешь меня счастливым.
Братство вольного духа, – продолжал я. – Они признают только Четвероевангелие. Они отвергают крест. Все их имущество – общее. Члены братства есть и среди бедных, и среди богатых – и даже там, где и представить-то себе невозможно. Они узнают друг друга по тайным знакам. Они живут во всех странах под разными именами. Есть среди них и дервиши… Членам этого братства я обязан жизнью. Потому-то я и сражался во Франции: многие из них встали под знамена Орлеанской Девы. Но когда мне исполнилось двадцать четыре года, я покинул братство. Фанатизм и ненависть его членов хуже любой другой ненависти. С тех пор пройдено много дорог…
– И одна из них привела тебя под венец, – насмешливо заметила она. – Это я уже знаю. А теперь расскажи мне о своем супружестве и о том, как ты был счастлив с женой. Может, даже счастливее, чем в купальне с нагой красавицей, а? Говори! Не стесняйся!
Мне вспомнилась знойная Флоренция, желтые воды реки и коричневые выгоревшие холмы. Моя радость угасла.
– Я ведь уже рассказывал тебе о Флоренции и Ферраре, – вздохнул я. – О том, как ученые мужи самые великие умы нашего времени целых два года пререкались из-за пары букв.
– Не увиливай, Иоанн Ангел, – перебила она меня. – Почему ты не хочешь говорить о своем браке? Что, мысль о нем все еще причиняет тебе боль? О, какое наслаждение – заставить тебя страдать – так же, как ты заставил страдать меня!
– Почему все время надо говорить только обо мне? – неохотно откликнулся я. – Почему бы нам не поговорить о тебе?
Женщина вскинула голову, ее карие глаза сверкнули.
– Я – Анна Нотар, – заявила она. – И этого вполне достаточно. Ничего другого обо мне сказать нельзя.
Анна была права. Она жила своей жизнью под защитой стен, окружающих дворец и сады на берегу Босфора. По городу перемещалась в носилках, чтобы уличная грязь не пристала к ее башмачкам. Она училась у старых философов, рассеянно перелистывала страницы древних фолиантов, разглядывая рисунки, сияющие золотом, лазурью и киноварью. Она – Анна Нотар. Ее воспитывали как будущую жену императора. Ничего другого о ней сказать нельзя.
– Ее звали госпожа Гита, – начал я. – Она жила на улице, которая вела к монастырю францисканцев. В серой стене ее дома было только одно зарешеченное окно и окованная железом дверь. За этим забранным металлическими прутьями оконцем была комната госпожи Гиты – убогая, словно монашеская келья. Целыми днями эта женщина громко молилась. Она распевала псалмы и крикливым голосом из своего окна осыпала оскорблениями прохожих. Лицо ее было ужасно. Она перенесла какую-то болезнь, которая сделала ее кожу рябой и мертвой. Это было не лицо, а кошмарная маска. На лице этом живыми остались лишь глаза.
Чтобы хоть чем-то занять себя, госпожа Гита часто ходила в город за покупками; ее сопровождала черная рабыня с корзиной своей хозяйки в руках, – продолжал я. – Госпожа Гита всегда надевала в таких случаях плащ, сшитый из разноцветных лоскутков; этот ее плащ и головной убор были так густо увешаны картинками и медальонами с изображениями святых что еще издали слышалось позвякивание…
Шагая по улице, она улыбалась и что-то бормотала себе под нос. А когда кто-нибудь останавливался и начинал разглядывать ее, она впадала в ярость и осыпала зеваку страшными проклятиями. Она называла себя шутом Господним. Францисканцы оберегали ее, поскольку она была богатой женщиной. Родственники позволяли ей жить, как она хочет, ибо она была вдовой и за ее деньги опасаться не приходилось: они были вложены в семейную торговлю шерстью и надежно размещены у банкиров. Во Флоренции все знали госпожу Гиту – все, кроме меня, ведь я был здесь чужаком.
Нет, я ничего не знал о ней, когда мы познакомились, – уверял я Анну. – Однажды она увидела меня на Понте Веккио и увязалась за мной. Я думал, что она сумасшедшая. Она хотела всучить мне подарок, маленькую статуэтку из слоновой кости, которой я залюбовался в одной из лавок. Нет, ты не сможешь этого понять. Как мне объяснить тебе, что произошло тогда между нами?..
Я был еще молод. Мне едва исполнилось двадцать пять лет. Я стоял на пороге зрелости, но давно уже распростился со всеми надеждами. Глубоко разочарованный, я начал ненавидеть черные капюшоны и бородатые лица греков. Ненавидел круглую голову и тяжелую тушу Виссариона. Ненавидел запах пергамента и чернил. Там, где я ночевал, я просыпался каждое утро в смраде пота, грязи и испражнений. Стояло знойное, душное лето. В Ферраре я пережил чуму и любовь. Теперь я не верил уже ни во что. Я ненавидел даже самого себя. Ненавидел рабство, цепи, оковы плоти. Но разве ты сможешь это понять?
Она пригласила меня к себе домой, – продолжал я свой рассказ. – В ее монашеской келье был деревянный топчан, на котором эта женщина спала, вода в глиняном кувшине и засохшие остатки пищи на полу. Но за кельей было много прекрасных, роскошно убранных комнат, окна которых выходили в окруженный стеной сад с журчащими ручейками, зеленеющими деревьями и щебечущими птичками в клетках. Точно также и за бормотанием и хихиканьем госпожи Гиты скрывалась мудрость отчаявшейся женщины, которая, страдая от невыносимой душевной боли, превратила себя в шута Господня. В молодости она была прелестной, богатой и счастливой женщиной, – говорил я, выполняя просьбу Анны Нотар. – Но ее муж и двое детей умерли за несколько дней от той самой болезни, которая уничтожила ее красоту. И госпожа Гита осознала, сколь хрупка человеческая жизнь и сколь непрочно и обманчиво самое безоблачное, казалось бы, счастье. Бог, словно в насмешку, низверг ее с небес на землю и швырнул лицом в грязь. Видимо, на какое-то время она действительно лишилась рассудка, но потом, выздоровев, по-прежнему продолжала вести себя как безумная. Она делала это с горя, бросая таким образом вызов Богу и людям. Госпожа Гита богохульствовала, молясь – и молилась, богохульствуя. Глаза ее были колючими – и измученными. Нет, думаю, тебе этого не понять. Ей было не больше тридцати пяти лет, но из-за своего лица она казалась иссохшей старухой. Губы у нее всегда тряслись и когда она говорила, в кровоточащих уголках рта выступала пена. Но ее глаза!
Анна Нотар потупилась и, слушая, крепко стиснула руки; ее переплетенные пальцы побелели.
Солнечные лучи высвечивали красные и черные узоры на коврах. Евнух в углу вытягивал сморщенную, бесцветную шею и вертел головой, глядя то на меня, то на Анну; щурясь, он пытался прочесть у меня по губам, что же я такое говорю. А я продолжал:
– Она накормила и напоила меня – сама же не сводила глаз с моего лица. После того, как я побывал у нее несколько раз и побеседовал с ней, душа моя преисполнилась невыразимого сострадания. Сострадание – не любовь, Анна Нотар. Но любовь порой может быть состраданием – если один человек, сжалившись над другим, дарит тому свою близость. Я хорошо помню, что еще не знал тогда о ее богатстве, Я лишь подозревал, что она должна быть достаточно состоятельной, раз о ней заботятся францисканцы. Она хотела подарить мне новую одежду и велела отнести ее туда, где я жил; и еще прислала кошелек, полный серебряных монет. Но я не желал принимать ее подарков. Даже для того, чтобы доставить ей удовольствие.
Потом она однажды показала мне свой портрет, написанный в годы ее молодости. Я увидел, какой была когда-то эта женщина, и наконец понял ее. Бог полностью разрушил ее счастье, а потом заточил в адской темнице ее собственного тела. И вот, встретившись со мной на мосту, она безумно влюбилась меня и воспылала страстным желанием, хотя и не решилась сначала признаться в этом даже себе самой.
Я замолчал и опустил глаза. А потом вдруг вскричал и волна горячего стыда захлестнула мою душу
– Да, да – и хватит об этом! Я спал с ней, я сжалился над ней и подарил ей свое тело, поскольку сам нимало не ценил его. Я делил с ней ее ад и думал что совершаю доброе дело. Я провел у нее три ночи. А потом продал все, что у меня было, письменные принадлежности и даже своего Гомера, раздал деньги нищим и бежал из Флоренции.
Но разве можем мы противиться Божьей воле? Это я понял той же самой осенью на горной дороге в Ассизи, – закончил я. – Госпожа Гита отправилась вслед за мной в носилках. Ее сопровождали францисканский священник и искушенный законник. Я был заросшим, грязным и всклокоченным. Она велела мне помыться и побриться, одела меня в новый наряд. В Ассизи нас обвенчали. Она ждала от меня ребенка и считала это святым чудом. И лишь тогда я узнал, кто она такая – и какую петлю Бог затянул на моей шее. Никогда в жизни я не чувствовал себя таким растерянным и беспомощным.
Я снова прервал свой рассказ. Мне надо было подняться. Я стал вышагивать по комнате, посматривая сквозь зеленоватое стекло окон на грозные зубцы стены, отделявшей город от Мраморного моря, и на водную гладь, блестевшую за ней.
– Меня предупреждали, чтобы я не пытался встречаться ни с кем из членов вашей семьи, – проговорил я. – Может, за этот мой визит к тебе меня бросят в мраморную башню. Может, меня не спасет даже служба у Джустиниани. Но я ведь и так уже – твой пленник. Хотя об этой стороне моей жизни никто ничего не знает.
…Женившись на госпоже Гите, – вернулся я к моему рассказу, – я стал одним из богатейших людей Флоренции. Мне достаточно было назвать свое имя, и любой заимодавец – от Антверпена до Каира и от Дамаска до Толедо – кланялся мне в пояс.
Я никогда не хотел знать, сколько ей пришлось заплатить монахам и самому папе, чтобы защитить себя и свое состояние от родственников и чтобы наш брак был признан законным. Ведь у меня не было даже имени. Бумаги моего отца, подтверждавшие мое происхождение, хранились у золотых дел мастера Джероламо в Авиньоне. Но Джероламо решительно отрицал, что кто-то когда-то передавал ему нечто подобное. Однако законники все устроили. Я получил новое имя. Жан Анж исчез. Мы сразу поселились в ее особнячке во Фьесоле и жили там, пока не родился наш сын. Когда я отпустил бороду и велел завить себе волосы, когда оделся как подобает дворянину и прицепил к поясу меч, никто уже не мог узнать во мне бедного писаря-француза, состоявшего при церковном синоде.
Я выдержал четыре года. У меня было все, что душе угодно. Ловчие птицы для соколиной охоты, чистокровные скакуны, прекрасные книги. Веселые застолья и ученые беседы. Даже Медичи уважали и ценили меня. Но не за мои собственные достоинства. Я был лишь сыном своего отца. А вот мой сын был одним из Барди.
А госпожа Гита успокоилась и совершенно изменилась после рождения ребенка. Она стала набожной женщиной. И уже не богохульствовала. Она дала деньги на строительство храма. И, видимо, она любила меня. Но больше всего на свете она любила нашего сына.
Я выдержал четыре года. Потом стал крестоносцем и отправился с кардиналом Чезарини в Венгрию. Оставив своей жене письмо, я потихоньку скрылся. Мне часто приходилось потихоньку скрываться, Анна Нотар. Мои жена и сын думают, что я погиб под Варной.
Но я не рассказал Анне всего. Не рассказал ей о том, что перед путешествием в Венгрию я наведался в Авиньон, схватил золотых дел мастера Джероламо за бороду и приставил ему нож к горлу. Нет, я не рассказал об этом и не собираюсь рассказывать никогда в жизни. Эта тайна известна лишь мне и Господу Богу. Ведь Джероламо не умел читать по-гречески и не решился показать мои бумаги никому из тех, кто знал греческий язык. Но кое-что я все-таки добавил.
– Мой брак был предопределен свыше, – проговорил я. – Мне нужно было познать все радости, которые приносит человеку на земле огромное богатство, чтобы я мог потом от него отказаться. Из золотой клетки вырваться еще труднее, чем из-за тюремных решеток книг, разума и философии. В Авиньоне меня заперли ребенком в темную башню. С тех пор жизнь моя была лишь бегством из одной тюрьмы в другую. Но теперь я сбросил почти все оковы. Остались только цепи моего тела. Цепи моих знаний, моей воли, моего сердца. Но мне известно, что очень скоро я освобожусь и от них. Ждать уже совсем недолго.
Анна Нотар мягко покачала головой.
– Странный ты человек, – вздохнула она. – Я тебя не понимаю. Ты пугаешь меня.
– Страх – это лишь испытание, ниспосланное Богом, – ответил я. – От страха человек тоже может освободиться. Может поблагодарить за все, попрощаться и уйти, твердо зная: единственное, что он может потерять – это собственные цепи. А что еще есть у раба?
– А я? – тихо спросила Анна. – Зачем ты пришел ко мне?
– Выбор остается за тобой. Не за мной, – откликнулся я. – Видишь, как все просто.
Женщина крепко стиснула сомкнутые руки и резко замотала головой.
– Нет, нет, – возразила она. – Ты не можешь всерьез предлагать мне такое.
Я пожал плечами.
– Как ты думаешь, зачем я так много рассказывал тебе о себе? – спросил я ее. – Неужели для того, чтобы убить время или покрасоваться перед тобой? Я полагал, что ты знаешь меня лучше. Нет, я просто хотел доказать тебе: ни вера, ни воспитание не имеют никакого значения. Богатство и бедность, власть и страх, честь и позор, ученость и невежество, красота и уродство, добро и зло – ничто не имеет значения само по себе. Единственное, что может что-то значить, – это то, что мы стремимся из себя сделать и кем хотим быть. Единственный подлинный грех – предательство: знать правду и не остаться ей верным до конца. Сам я освободился от всего. Я – никто. Для меня это – самое большее, что может достичь человек. Безмятежное ощущение своей силы – и своего царства. Ничего другого я тебе предложить не могу. Выбор за тобой.
Женщина побледнела от возмущения. Она сжала побелевшие губы. Ее карие глаза наполнились холодной ненавистью. Она даже не была теперь красивой.
– Ну, а я? – спросила она еще раз. – Чего ты, собственно, хочешь от меня?
– Когда я увидел твои глаза, я понял: человеку, несмотря ни на что, необходим другой человек, – ответил я. – Не обманывай себя. Ты тоже это знаешь. Такие вещи случаются лишь раз в жизни. И то не с каждым. Я рассказывал тебе о себе, чтобы объяснить: все, что ты до сих пор имела и чем вроде бы владела, – призрачно и ненадежно. Ты ничего не потеряешь, если откажешься от всего этого. Когда сюда нагрянут турки, тебе придется много потерять. Желаю тебе заранее отказаться в душе от всего, чего ты в любом случае лишишься.
– Слова! – вскричала она и задрожала. – Слова, слова, одни слова!
– Я тоже сыт словами по горло, – заметил я. – Но не могу заключить тебя в объятия: твой достойнейший евнух не сводит с нас глаз. Сама знаешь, что ты поняла бы все, если бы я прижал тебя к себе. Тогда тебе уже не нужно было бы никаких слов.
– Ты сумасшедший, – прошептала она, отступая. Но глаза наши встретились – точно так же так возле храма Святой Софии. Наши обнаженные души взглянули друг на друга.
– Анна, любовь моя! – взмолился я. – Наше время уходит. Песок в часах пересыпается впустую. Когда я впервые увидел тебя, я тебя уже знал. Это должно было случиться. Может, мы однажды уже рождались на свет и встречались в предыдущей жизни. Может быть, родимся еще раз, чтобы встретиться снова. Но мы ничего не знаем об этом. Непреложно лишь то, что мы встретились сейчас. И что это было неизбежно. А может, это вообще единственный случай, когда наши пути пересеклись? Одна крошечная точка во времени и пространстве, в которой мы смогли встретиться. Так почему же ты колеблешься? Почему обманываешь себя?
Анна подняла руку и прикрыла ладонью глаза. Она вернулась в свой дом. К своим коврам, окнам, порфировому полу. К своему собственному времени. К своему воспитанию, к своей учености.
– Между нами стоит отец, – тихо сказала Анна. Я проиграл. И тоже вернулся в сегодняшний день.
– Твой отец вышел в море, – проговорил я. – Зачем?
– Зачем? – возмутилась она. – И ты об этом спрашиваешь? Затем, что его тошнит от обреченной на поражение политики бездарного императора. Затем, что отец не собирается пресмыкаться перед султаном, как Константин. Идет война – и отец воюет. Ты спрашиваешь, зачем? Затем, что он – единственный настоящий мужчина в этом городе, единственный настоящий грек. Он не бежит звать на помощь латинян. Надеется на самого себя и на свои дромоны.
Что я мог ей на это сказать? Права она или нет, но она любит своего отца. Она ведь – Анна Нотар.
– Что ж, ты сделала свой выбор, – кивнул я. – Расскажешь обо мне отцу?
– Да, – отрезала она. – Я расскажу о тебе отцу
Я добровольно сунул голову в петлю. Я не стал больше ничего говорить. Не хотел даже смотреть на эту женщину. Но и это должно было случиться.
15 февраля 1453 год
Вчера вернулся флот. Все пять дромонов. Развевались знамена. Матросы били в барабаны и играли на дудках. Маленькие бронзовые пушечки давали приветственные залпы. Люди бежали в порт. На городских стенах размахивали белыми полотнищами.
Сегодня на базаре продавали турецких рабов: рыбаков, седобородых старцев, худеньких мальчиков, плачущих женщин, которые пытались закрыть лица истрепанными рукавами. Да, блистательную победу одержал над турками флотоводец Лука Нотар.
Он успел захватить врасплох несколько бедных селений, расположенных на азиатском берегу, и взять в плен их жителей. Из остальных деревень люди разбежались, но Лука Нотар сжег их дома. Флот дошел под парусами аж до Галлиполи и сумел потопить турецкий торговый корабль. Когда в море появились турецкие военные галеры, греческие дромоны повернули домой.
Что это был за триумф! Как восторженно встречали греческих моряков жители Константинополя! Каким пылом выкрикивал народ имя флотоводца, когда он ехал верхом к своему дому! О Джустиниани и воинах-латинянах забыли. Лука Нотар стал на один день героем Константинополя.
Но на базаре не нашлось желающих купить турецких рабов. Никто не насмехался и не издевался над пленниками. Зеваки быстро разбежались. Греки пристыженно опускали глаза при виде турецких невольников – беспомощных, бедных людей, в испуге жавшихся друг к другу и искавших утешения в строках Корана, которые они бормотали себе под нос.
18 февраля 1453 года
Как в Константинополе аукнулось – так в Адрианополе откликнулось.
Мехмед приказал читать на площадях письмо императора Константина – как свидетельство греческого коварства, а потом растоптал послание василевса ногами. Султанские гонцы в сандалиях, подбитых железом, разнесли копии письма по всем турецким городам. Дервиши и муллы громко требуют отмщения. Партия мира вынуждена молчать. Мехмед призывает в свидетели даже Запад.
«Раз за разом греки нарушали все свои обещания и при каждом удобном случае изменяли собственным клятвам. Подчинив свою церковь папской власти, император Константин разорвал последние дружеские узы, существовавшие между турками и греками. Единственная цель василевса – натравить Запад на турок. Свои истинные намерения Константин все еще пытается скрыть за лживыми словами и мнимым благородством. Но османские селения, которые пылают сейчас на берегах Мраморного моря, осветили огнями своих пожарищ его кровавые захватнические планы. Стремление Византии к завоеванию соседних земель уже прямо угрожает нашей жизни. Изощренная хитрость и жестокость греков требуют возмездия. Чтобы покончить с постоянной угрозой, чтобы избавить страну от опасности, неизменно исходящей от греков, каждый правоверный обязан встать под знамена священной войны. Тот, кто все еще защищает греков, полностью разоблачает себя, доказывая, что является врагом нашей державы. Да поднимется карающий меч султана, чтобы отомстить за убитых, замученных, заживо сожженных и угнанных в неволю правоверных!»
Чтобы покончить с последними сомнениями, султан повелел зачитать во всех мечетях во время пятничных молитв имена турок, убитых матросами императора.
Маневры греческого флота стали для Мехмеда последним козырем, столь необходимым султану, чтобы сокрушить яростное сопротивление партии мира и великого визиря Халиля. Тот, кто еще осмеливается выступить против осады Константинополя, рискует собственной головой. Даже Халиль – великий визирь и потомок двух великих визирей – не может чувствовать себя в безопасности.
21 февраля 1453 года
В храме Пантократора свершаются чудеса. На росистых рассветах туман оседает каплями воды на святых иконах. Монахи говорят, что на ликах святых проступает смертельная испарина. Какая-то монахиня поклялась, что видела, как Пречистая Дева во Влахернах плакала кровавыми слезами. Люди верят этому, хотя император приказал кардиналу Исидору, лжепатриарху Григорию и ученым философам тщательно осмотреть образ, и те не обнаружили на нем никаких следов крови. Но народ не верит отступникам. Его непросвещенная, фанатичная приверженность изначальному символу веры тверже, чем когда-либо раньше.
Молодые монахи, ремесленники, горожане и купцы, которые не могли еще недавно отличить одного конца меча от другого, дисциплинированно учатся сейчас владеть оружием; они упражняются группами по десять и по сто человек, которыми командуют опытные солдаты Джустиниани. Новобранцы хотят воевать за свою веру. Горят желанием быть в бою не хуже латинян. Они полны решимости отстоять город.
Возможно, они учатся натягивать луки, но их стрелы летят куда угодно – только не в цель. Новобранцы отчаянно бегут, чтобы вонзить копья в подвешенные мешки с сеном. Но неопытность делает этих людей неловкими. Двое-трое из них повредили себе ноги, запутавшись в собственных плащах. Но есть среди них и несколько сильных мужчин. Лучше всего их использовать на стенах, откуда они будут швырять камни в турок, когда те пойдут на штурм.
На добровольцев и на всех тех, кого император призвал в свое войско, не хватает ни шлемов, ни даже кожаных доспехов. А новобранцы, все-таки получившие шлемы, снимают их при первом же удобном случае и жалуются, что эти штуки давят им голову и натирают лоб. Ремни доспехов впиваются им в тело. А в наколенниках вообще невозможно двигаться.
Я не осуждаю этих людей. Они делают, что могут. Они обучались другим ремеслам, твердо веря в надежность своих стен, защищаемых императорскими наемниками. В чистом поле один янычар в мгновение ока справится с десятком таких добровольцев.
Я видел это по их тонким белым пальцам, которые способны вырезать такие дивные вещицы из слоновой кости. Видел глаза, зоркость которых не притупила работа над образками и фигурками святых из сердолика. Я видел мужей, которые умеют читать и писать, мужей, которые тонюсенькими кисточками рисуют сияющие золотом и киноварью заглавные буквы в старательно переписанных богослужебных книгах.
Это они должны теперь учиться рубить и колоть, целиться мечом в незащищенный пах, направлять копье в лицо человека, выпускать стрелу в глаз, который видит небо и землю.
Безумный мир. Безумные времена.
Из арсенала доставили на стены маленькие новоотлитые пищали, а также большие пушки, выкованные из железа, поскольку у императора нет средств на то, чтобы отливать орудия из бронзы. Неопытные новобранцы боятся пушек больше, чем турок. Они бросаются на землю и затыкают уши пальцами, как только раздается залп. Потом жалуются, что их оглушает грохот и ослепляет вспышка огня. В довершение всех несчастий в первый же день разорвалась одна маленькая железная пушечка – и двух человек разнесло на куски.
24 февраля 1453 года
У Джустиниани готов план обороны города. Протостратор распределяет латинян по греческим отрядам, ставит их на самые опасные участки стен и к воротам. Венецианцы и генуэзцы будут состязаться в рыцарской доблести. Даже из Перы прибыло несколько юнцов, которые вступили в ряды войска Джустиниани. Их совесть говорила им, что позорно не участвовать в войне, которая в конечном счете решит судьбы Запада.
Джустиниани надеется только на латинян и на императорских мастеров и пушкарей. Другие греки будут лишь вспомогательной силой на стенах города. Но и это необходимо. Ведь самая большая стена, которая защищает город с суши, насчитывает десять тысяч шагов в длину и сто башен. Морская и портовая стены, составляющие две остальные стороны мощного оборонительного треугольника, – столь же протяженные, но им, видимо, будет угрожать меньшая опасность. Порт охраняют западные военные корабли, которые безусловно превосходят турецкие суда. Стене со стороны моря турки вряд ли сумеют нанести серьезный урон. Греческий огонь может поджечь их легкие суда на расстоянии полета стрелы. У императорских мастеров есть для этого специальные снаряды – вроде маленьких ядер. Но греки ревниво охраняют свои военные тайны и не выдают их латинянам.
Во всяком случае, Джустиниани исходит из того, что настоящий бой закипит вдоль стены, которая защищает город с суши. В центре этой стены, в долине Ликос, расположены ворота святого Романа. Их оборону протостратор взял на себя; здесь он встанет со своими закованными в броню генуэзцами. Отсюда он сможет также быстро посылать подкрепление на те участки стены, где возникнет угроза прорыва. Но окончательное распределение сил будет зависеть от шагов, которые предпримет султан.
Самая большая спешка уже позади. Стены, правда, продолжают укреплять до сих пор, но все идет по плану и каждый получает четкое задание на день. Так же проходит и обучение новобранцев. Но из-за огромных размеров города затягиваются перерывы на завтраки, обеды и ужины. Добровольцы питаются у себя дома.
Джустиниани перестал носить кожаные штаны, велел завить себе волосы и искусно уложить их волнами на греческий манер. Он покрасил бороду хной и заплетает ее в косицы, перевивая золотой нитью. Но он не подкрашивает уголки глаз синей тушью и губы алой помадой, как делают молодые греки из личной гвардии императора. Зато он носит на шее множество разных золотых цепочек и стал хорошо себя чувствовать в обществе греков. Благородные женщины с Влахернского холма оказывают ему лестное внимание. Ведь он – крепкий и рослый мужчина, на голову выше большинства греков. Он теперь до блеска начищает свои доспехи, вечерами заменяет цепь протостратора, которую вручил ему император, на аметистовое ожерелье – в надежде, что аметисты защитят его от опьянения.
Василевс золотой грамотой подтвердил свою клятву в том, что Джустиниани получит остров Лемнос в наследное владение, если сможет спасти город от турок. Одна только печать, которой скреплена грамота, стоит много бизантов, а император собственноручно начертал на документе свой тройной крест.
Флотоводец Лука Нотар, вернувшись из морского похода, заперся в своем доме.
По совету Джустиниани император решительно запретил Нотару выводить впредь дромоны из порта. Лука Нотар со своей стороны столь же решительно утверждает, что поступил правильно, и обвиняет василевса в трусости и раболепии перед латинянами.
Он дал понять, что ждет Джустиниани на совет по поводу обороны города и распределения войск. Как знатный вельможа и командующий императорским флотом Нотар считает себя по меньшей мере равным Джустиниани по рангу – невзирая на то, что генуэзец является протостратором. Прежде всего, Нотару, конечно, любопытно, какое место отвел ему Джустиниани в своих планах защиты Константинополя. Игнорировать флотоводца генуэзец не может. Тот – слишком высокопоставленная и влиятельная особа. Но капитаны-латиняне, несмотря ни на что, совершенно самостоятельно распоряжаются своими судами и получают приказы непосредственно от императора. Таким образом, Нотар командует, в сущности, лишь теми самыми пятью прогнившими, неповоротливыми дромонами. И даже они формально являются императорскими, хотя это флотоводец велел отремонтировать их и переоснастить за собственный счет.
Несмотря на приобретенную популярность, он сейчас очень одинок, этот Лука Нотар. Во всяком случае, судя по известиям, которые доходят с Влахернского холма.
Джустиниани заставляет Нотара ждать. Генуэзец – рыцарь удачи, вознесенный судьбой в протостраторы и потому еще более осознающий высоту своего нынешнего положения, чем наследный аристократ. Так что, возможно, между двумя этими мужами разгорится теперь смешное детское соперничество. В принципе, город уже полностью в руках латинян, и греки не имеют здесь никакой власти, хотя император старается этого не замечать. Порт принадлежит латинским кораблям. Закованные в броню отряды генуэзцев и венецианцев распоряжаются в городе и занимают ключевые позиции на стенах Константинополя.
Возможно ли, что Джустиниани тайно вынашивает большие политические планы? Он завязал отношения – в том числе и через женщин – с наиболее влиятельными греками, настроенными пролатински. Если Константинополь выдержит турецкую осаду и Мехмед потерпит поражение, если папский и венецианский флоты со вспомогательными войсками латинян придут вовремя, этот город превратится, наверное, просто в один из латинских опорных пунктов, откуда будет вестись борьба за торговые пути на Черном море и за покорение расколотых турецких земель. Уния уже провозглашена. Суждено ли Византии еще раз стать латинской – притом, что марионеточному греческому императору будет позволено и дальше занимать свой трон?
Захочет ли победитель покорно удовлетвориться положением вассала на Лемносе?
Моя греческая кровь уже не верит, будто что-то может быть таким, каким кажется. Да, сомнения у меня в крови, впитавшей в себя за тысячу лет яд политических интриг. День за днем спадает с меня лохмотьями латинская оболочка. Я – сын своего отца. Кровь вернулась домой.
25 февраля 1453 года
Похоже, город охвачен страхом. Люди стали неразговорчивыми и подозрительно косятся друг на друга. В храмах – множество молящихся. Богачи прячут свое имущество в сундуки, закапывают ценности в землю, опускают сокровища в колодцы и замуровывают подвалы. Не один архонт ходит с руками, покрытыми мозолями от непривычной работы, с виноватыми глазами и с красноречивыми пятнами строительного раствора на одежде.
– Что-то происходит, – сказал сегодня мой слуга Мануил. – Я это вижу, я это слышу, я это нюхом чую. Но не знаю, в чем дело. Объясни мне, господин мой.
Я и сам ощущаю в воздухе что-то непривычное. В порту царит тревожная суета. От корабля к кораблю шныряют лодки. Венецианский совет двенадцати проводит заседание за закрытыми дверями
26 февраля 1453 года
Я уже успел раздеться, когда мой слуга Мануил сообщил мне, что меня хочет видеть какой-то греческий юнец. Мне не хотелось подниматься с ложа. Я устал.
Молодой грек вошел, не согнувшись в поклоне, и с любопытством огляделся по сторонам, морща нос от запаха кожи, бумаги, сургуча и средств для чистки металла. Я узнал этого юношу. Я видел, как он ездил верхом на Ипподроме. Это был младший из братьев Анны Нотар.
Меня сковал холод. Порывистый ветер на улице громко хлопал ставнями.
– На дворе темно, – заговорил юноша. – Небо затянуто тучами. Собственных рук – и то не разглядишь. – Ему семнадцать лет, он – красивый парень, хорошо сознающий свою привлекательность и знатное происхождение, но выглядящий от этого лишь еще более обаятельно. И он очень заинтересован моей особой.
– Ты ведь бежал от турок, – продолжал он. – В городе о тебе много говорят. Мне тоже однажды показали тебя, когда ты проезжал на коне по улице. Мой отец хотел бы с тобой встретиться – если это не слишком обременительно для тебя.
Он отвел глаза:
– Я уже говорил: ночь темна. На улице – хоть глаз выколи…
– Я не люблю бродить во мраке, – ответил я. – Но, разумеется, не могу ослушаться приказа твоего отца.
– Это вовсе не приказ, – запротестовал юноша. – Как мой отец может приказывать тебе? Ты же служишь Джустиниани. Мой отец не хочет встречаться с тобой как солдат с солдатом. Ты будешь его гостем. А потом, может быть, и другом. Не исключено, что расскажешь ему что-нибудь интересное. Он удивляется, почему ты избегаешь его, – и ему любопытно на тебя взглянуть. Но он, конечно, не хочет доставлять тебе никаких неприятностей, и если ты считаешь, что тебе лучше не ходить, – не ходи.
Он говорил весело и оживленно, чтобы скрыть, насколько его смущала та миссия, с которой он пришел ко мне. Он был открытым и притягательным юношей. И тоже не любил блуждать в темноте. Почему его отец считал это простое приглашение таким секретным, что даже не решился послать ко мне своих слуг, а отправил за мной собственного сына?
«Агнец на заклание, – подумал я. – Хорошо откормленный ягненок на алтаре безудержной жажды власти. Значит, в случае необходимости этот человек готов принести в жертву даже собственного сына».
Юноша был братом Анны Нотар. Я ласково улыбнулся ему и, одевшись, легко потрепал его рукой по плечу. Он вздрогнул и покраснел, но улыбнулся в ответ. Стало быть, он не считал меня простолюдином.
В ночи дул северный ветер, от которого у нас перехватывало дух, а одежда облепляла тело. Было темно, хоть глаз выколи. В разрывах несшихся в вышине туч иногда виднелось черное небо, усыпанное звездами. Желтый пес шел за мной, хотя я и приказал ему остаться дома. Но он выскользнул вслед за мной во мрак. Я взял у Мануила фонарь и протянул его юноше. Молодому аристократу трудно было проглотить такое, но все же он безропотно двинулся вперед, освещая путь. За кого он меня принимал? Всю дорогу нас сопровождал пес – словно для того, чтобы присматривать за мной даже против моей воли.
Во дворце Нотара было темно. Мы вошли через заднюю дверь, расположенную в уголке, у стены. отделявшей город от моря. Никого не было видно. И все же казалось, что в ночи скрывается множество устремленных на меня глаз. Завывающий и стонущий ветер что-то говорил мне, но я не мог разобрать его слов. В голове у меня тоже шумело – точно этот бешеный ветер проник в мой мозг.
В коридорах стояла гробовая тишина. Нас окутала волна теплого воздуха. Мы поднялись по лестнице. В комнате, куда меня привели, я увидел пюпитр писца, перья, бумагу и большие книги в роскошных переплетах. Перед иконой с изображением Волхвов мерцала лампада, наполненная благоуханным маслом.
Он сидел, склонив голову, словно в глубокой печали. Даже не улыбнулся. Он принял мое приветствие как естественное и должное проявление почтения к своей особе. Сыну сказал только:
– Ты мне больше не нужен. – Юноша почувствовал себя обиженным, но постарался этого не показать. Ему было страшно любопытно, о чем мы будем беседовать с его отцом. Но он мило кивнул мне красивой головой, пожелал доброй ночи и вышел из отцовских покоев.
Как только юноша скрылся за дверью, Лука Нотар оживился, пытливо посмотрел на меня и заявил:
– Я знаю о тебе все, господин Иоанн Ангел. И потому буду говорить с тобой прямо.
Я понял, что ему известно о моем греческом происхождении. В этом в общем-то не было ничего удивительного. Однако меня это сильно задело.
– Ты решил говорить прямо? – откликнулся я. – Так заявляет только тот, кто намерен скрывать свои мысли. Отважишься ли ты быть честным хотя бы перед самим собой?
– Ты был советником султана Мехмеда, – сказал он. – Осенью ты бежал из его лагеря. Человек, который занимает такое положение, не поступает так без определенной цели.
– Сейчас речь идет о твоих целях, флотоводец, – ответил я. – Не о моих… Ты не стал бы тайно приглашать меня сюда, если бы не считал, что я могу быть полезен для осуществления твоих целей.
Он нетерпеливо взмахнул рукой. Нотар тоже носил перстень с печаткой размером с детскую ладонь. Рукава верхней зеленой туники доходили ему до локтей. Рукава нижней туники были из расшитого золотом пурпурного шелка, как у императора.
– Ты сам уже давно ищешь встречи со мной, – произнес он. – Но действуешь очень осторожно. Это вполне понятно – и совершенно правильно. Как с моей, так и с твоей точки зрения. Ты очень ловко все устроил, будто случайно познакомившись с моей дочерью. Потом снова проводил ее домой, когда она потеряла свою спутницу. Когда я был в море, ты рискнул прийти сюда средь бела дня. Ты ведь хотел лишь увидеться с моей дочерью… Это весьма умно!
– Она обещала рассказать тебе обо мне, – признал я.
– Моя дочь влюблена в тебя, – усмехнулся он. – Не знает, кто ты, и не догадывается о твоих целях. Она чувствительная и гордая. Ей ничего не известно. Ну, ты понимаешь.
– Она очень красивая, – проговорил я. Флотоводец отмахнулся от моих слов.
– Думаю, что ты выше таких соблазнов. Моя дочь – не для тебя.
– Ты так уверен в этом, флотоводец? – осведомился я.
Он первый раз позволил себе изобразить удивление.
– Время покажет, чем все это кончится, – изрек Лука Нотар. – Твоя игра слишком опасна и трудна, чтобы втягивать в нее женщину. Если только для вида. А иначе – нет. Ты ходишь по острию меча, Иоанн Ангел. Не можешь позволить себе оступиться.
– Ты много знаешь, флотоводец, – заметил я. – Но меня ты не знаешь.
– Да, много знаю, – согласился он. – Больше, чем ты думаешь. Даже шатер султана – не слишком безопасное место для бесед. И там есть уши… Мне известно, что вы расстались с султаном вполне мирно. Известно, что ты получил от него в дар бесценные камни. К сожалению, василевс и хранитель императорской печати, Франц, тоже знают об этом. Потому и следят за каждым твоим шагом с тех самых пор, как ты прибыл в Константинополь. Меня не интересует, сколько тебе пришлось заплатить, чтобы Джустиниани принял тебя на службу. Всех латинян легко купить… Но даже Джустиниани не сможет спасти тебя, если ты совершишь хоть малейшую ошибку.
Лука Нотар снова развел руками.
– Это смешно, – сказал он. – Тебя защищает лишь имя султана Мехмеда. Здесь, в Константинополе. Вот как низко пал последний Рим. Никто не отваживается поднять на тебя руку, поскольку неизвестно, каковы твои истинные цели.
– Ты прав, – кивнул я. – Это действительно смешно. Даже после того, как я бежал от Мехмеда и предал его, могущество султана все еще хранит меня. Я чувствую это каждый миг. Мы живем в безумном мире.
Узкие губы Нотара растянулись в улыбке.
– Я не настолько глуп, чтобы ожидать, что ты решишься посвятить в свои планы даже меня, – заявил он. – Я ведь грек. Да это и не обязательно… Но мой собственный разум подсказывает мне, что после падения Константинополя ты в любом случае займешь при султане еще более высокое положение, чем прежде. Если не открыто, то тайно. Поэтому дружеские чувства и – более того – взаимные услуги – в определенных границах, разумеется, – могли бы принести много пользы нам обоим.
Он вопросительно взглянул на меня.
– Это лишь слова, – осторожно ответил я.
– Существуют только две возможности, – отозвался он. – Либо осада Константинополя увенчается успехом и султан возьмет город штурмом. Либо Мехмеду это не удастся, и тогда мы навеки станем вассалами латинян.
Он поднялся и повысил голос, распрямляя спину:
– Однажды мы уже побывали под властью латинян. Их господство длилось на протяжении жизни одного поколения, и Константинополь даже через триста лет уже не смог потом стать прежним. Латиняне – это разбойники, гораздо более беспощадные, чем турки. Они извратили истинную веру. Турки по крайней мере позволят нам сохранить нашу религию и наши обычаи, унаследованные от дедов. Поэтому сама Панагия теперь – на стороне турок, хоть и плачет кровавыми слезами над нашей слабостью.
– Ты говоришь сейчас не перед толпой, флотоводец, – напомнил я ему.
Он ответил с нажимом:
– Не пойми меня превратно. Главное – не пойми меня превратно. Я – грек. Буду сражаться, защищая свой город, пока останется хоть малейшая надежда на то, что он не попадет в руки врага. Но я никогда не позволю, чтобы власть в Константинополе захватили латиняне. Это не привело бы ни к чему, кроме постоянных кровопролитных войн, которые тянулись бы десятилетие за десятилетием, мы – к большой выгоде латинян – превратились бы в крепостную стену Европы и исчерпали в бесконечных боях свои последние силы. Мы устали от Европы, хватит с нас латинян! По сравнению с латинскими варварами даже турок можно считать культурным народом – благодаря их арабскому и персидскому наследию. Победа султана принесет Константинополю новый расцвет. На границе между Востоком и Западом Константинополь снова будет царствовать над миром. Султан не хочет, чтобы мы отреклись от своей веры, он желает только, чтобы мы жили в мире и согласии с турками. Почему бы нам вместе с ними не покорить весь свет и не облагородить их грубую жизненную силу нашей древней греческой культурой? Так пусть же возникнет третий Рим. Рим султанов, где греки и турки будут братьями, глубоко уважающими веру друг друга!
– Твои мечты благородны и прекрасны, – проговорил я. – Мне совсем не хочется спускать тебя с небес на землю, но все же мечты – это только мечты. Давай взглянем правде в глаза. Ты не знаешь Мехмеда. Но жаждешь, чтобы он захватил твой город и воцарился в нем.
– Я не жажду этого, – возразил Нотар. – Я просто знаю, что Константинополь падет. Недаром являюсь стратегом.
Лучше живой пес, чем мертвый лев, – продолжал он. – Император Константин сам избрал свою судьбу, раз не может действовать иначе. Без сомнения, он будет искать смерти на стенах, когда увидит, что все потеряно. Но каким образом мертвый патриот может принести пользу своему народу? Если мне суждено погибнуть – значит, я погибну, защищая Константинополь. Но я предпочел бы остаться в живых; это дало бы мне возможность действовать на благо своего народа. Время Палеологов прошло. Единственным властелином будет султан. Но для того, чтобы управлять греками и вести греческие дела, ему понадобятся греческие мужи. Это неизбежно случится после захвата города. И тогда Мехмеду придется назначить на высшие должности людей, искушенных в тонкостях управления империей. Вот почему Константинополю нужны патриоты, которые любят свой народ и ценят наследие древней Греции больше собственного благополучия. И если я смогу служить своему народу, как пес, то не хочу пасть, как лев. Мне нужно только суметь убедить султана в своих добрых намерениях. Когда на стенах раздастся крик: «Город взят!», тогда придет мое время: я возьму судьбу народа в свои руки и поведу его в верном направлении. – Лука Нотар замолчал и с надеждой посмотрел на меня.
– Речь твоя была долгой, прекрасной и убедительной. Она делает тебе честь, – сказал я. – Правда, наследие древней Греции включает в себя также Леонида и Фермопилы, но я понимаю, что ты имеешь в виду. Ты хочешь убедить султана в своих добрых намерениях. Но разве ты уже не дал ему этого понять достаточно ясно?
Ты возглавил противников унии, – продолжал я. – Раздувал ненависть к латинянам и другие раздоры в городе, ослабляя таким образом его оборону. Ты вышел в море и, совершив бессмысленный пиратский набег, дал султану в руки тот козырь, в котором он так нуждался. Хорошо. Так почему ты не напишешь султану и не предложишь ему прямо своих услуг?
Лука Нотар ответил:
– Ты прекрасно понимаешь, что столь знатный и высокопоставленный муж, как я, не может так поступить. Я – грек. Я должен сражаться за свой город, даже если вижу, что борьба напрасна. Но я оставляю за собой право действовать сообразно обстоятельствам на благо своего народа. Почему народ мой должен погибнуть или попасть в рабство, если я могу воспрепятствовать этому?
– Ты не знаешь Мехмеда, – повторил я.
Ему казалось, что он никак не может убедить меня, и это, похоже, беспокоило его.
– Я не предатель, – произнес он. – Я только политик. Вы с султаном должны это понять. Перед своим народом, перед совестью своей и Господом Богом я отвечаю за свои поступки и действую, не опасаясь клеветников. Мой ум политика подсказывает мне, что в тот момент, когда будут решаться судьбы Византии, понадобится такой муж, как я. Стремления мои чисты и бескорыстны. Лучше пусть мой народ живет под властью султана, чем погибнет. Дух Греции, ее религия и культура – это не только стены Константинополя, императорский дворец, форум, сенат и архонты. Все это – лишь внешние формы, а формы могут со временем меняться, если останется дух.
Я сказал:
– Воля Божья и ум политика – это две разные вещи.
Лука Нотар поправил меня:
– Если Бог наделил человека способностью к политическому мышлению, значит, Он хотел, чтобы мы пользовались ею.
– Ты высказался вполне ясно, флотоводец Лука Нотар, – с горечью промолвил я. – Когда Константинополь падет, люди твоего склада будут править миром. Могу тебя заверить, что султану Мехмеду известны твои взгляды, и он относится к твоим устремлениям с тем уважением, какого они заслуживают. Без сомнения, когда будет нужно, он так или иначе возвестит тебе свою волю и даст знать, каким образом ты сможешь лучше всего послужить ему во время осады.
Лука Нотар чуть склонил голову, словно принял меня за посланца Мехмеда, а мою речь – за слова самого султана. Вот до какой степени является человек рабом своих желаний.
Он расслабился и дружески простер ко мне руки, когда я собрался уходить.
– Нет, нет, не спеши, – попросил Нотар. – Мы беседовали с тобой сугубо официально. А мне бы хотелось, чтобы мы стали друзьями. Ты ведь служишь господину, перед которым склоняюсь и я, глубоко восхищаясь решительностью и дальновидностью столь юного властелина.
Нотар поспешно подошел к столу, наполнил вином два кубка и протянул один из них мне. Но я отказался от угощения.
– Я уже пил твое вино, – проговорил я. – Вместе с твоей прекрасной дочерью мы осушили кубок вина в твоем доме. Позволь же мне на этот раз сохранить ясную голову. Я не привык к вину.
Он усмехнулся, неправильно истолковав мой отказ.
– Повеления и запреты, содержащиеся в Коране, весьма разумны, – живо заявил Нотар. – Не сомневаюсь, что Магомет был великим пророком. В наше время любой мыслящий человек признает достоинства других религий, даже если твердо придерживается своей. Я могу понять христиан, которые добровольно перешли в ислам. Уважаю любые искренние убеждения в делах веры.
– Я не принял ислама, – возразил я. – Под занесенным над моей головой мечом я остался христианином и не отступился от своей веры. Я – не обрезанный. Но тем не менее хотел бы сохранить сейчас ясный рассудок.
Нотар снова помрачнел.
– К тому же я уже говорил тебе, что бросил службу у султана, и теперь повторяю это еще раз, – мягко сказал я. – Я пришел в Константинополь, чтобы умереть за этот город. Никаких других целей у меня нет. Я благодарен тебе за твое доверие и не стану им злоупотреблять. Каждый имеет право строить политические расчеты. Это вовсе не преступление. Ты сам отвечаешь за то, что творится у тебя в голове. Никто не осудит тебя за твои мысли. Пока они остаются лишь мыслями. Несомненно, император Константин и его советники тоже принимали во внимание возможность таких расчетов. Потому – будь так же осторожен, как и раньше.
Нотар поставил на стол свой кубок, не пригубив вина.
– Ты не доверяешь мне до конца, – бросил он с упреком. – У тебя, разумеется, тут собственные дела, которые меня не касаются. Что ж, будь и ты осторожен. Может, захочешь встретиться со мной еще раз, когда решишь, что время пришло. Мои взгляды тебе известны. Ты знаешь, чего от меня можно ожидать. Но я предупредил тебя и о том, чего от меня ожидать нельзя. Я – грек. Буду сражаться за свой город.
– Так же, как и я, – откликнулся я. – Нас и объединяет с тобой хотя бы это. Мы оба намерены сражаться, прекрасно зная, что Константинополь падет. Мы больше не надеемся на чудо.
– Эпоха состарилась, – вздохнул он. – Время чудес прошло. Бог уже не вмешается… Но от Него не укроются ни мысли наши, ни поступки.
Нотар повернулся к Трем Святым Волхвам и благовонной лампаде. Подняв руку, он проговорил:
– Господом Богом и Сыном Его Иисусом Христом, Духом Святым и Пречистой Девой Марией, всеми святыми клянусь, что стремления мои бескорыстны и что я мечтаю лишь о благе моего народа. Не рвусь к власти. Это мой тяжкий крест. Но ради будущего моего рода, моего племени, моего города я должен нести этот крест до конца.
В словах его звучала такая убежденность, что мне пришлось поверить ему. Он не был только расчетливым политиком. Он действительно не сомневался в том, что поступает правильно. Нотар получил несколько тяжких оскорблений, его гордость была уязвлена, он ненавидел латинян и был отстранен от дел. Поэтому он создал в мечтах собственный мир и страстно верил в него.
– Твоя дочь, – сказал я. – Анна Нотар. Ты позволишь мне еще раз увидеть ее?
– Зачем это тебе? – удивленно спросил он. – Это только вызовет ненужные сплетни. Как она может появляться в обществе человека, которого все подозревают в том, что он – тайный посланник султана?
– Меня еще не заточили в мраморную башню, – ответил я. – Если Джустиниани приятно проводит время со знатными женщинами на Влахернском холме, то почему бы и мне не оказать внимания дочери флотоводца?
– Моя дочь должна заботиться о своей репутации. – Голос Нотара звучал холодно и нелюбезно.
– Времена меняются, – проговорил я. – Вместе с латинянами приходят и более свободные западные нравы. Твоя дочь – взрослая и сама знает, чего хочет. Почему бы мне не нанять певцов и лютнистов, чтобы они развлекали ее? Почему бы мне не сопровождать верхом ее носилки в церковь? Почему бы мне не пригласить Анну солнечным днем в порт – покататься на лодке? Твой дом мрачен. Почему бы тебе не разрешить ей радоваться и смеяться? Ведь грядут дни страшных испытаний… Так почему ты не хочешь, чтобы на долю твоей дочери выпало немного счастья, флотоводец?
Лука Нотар развел руками.
– Поздно, – сказал он. – Со дня на день я отошлю свою дочь из города.
Я опустил голову, чтобы он не увидел моего лица. Я знал о том, что Анна уедет. И все же мысль об этой утрате наполнила мою душу горечью и болью.
– Как хочешь, – произнес я. – Но все же я собираюсь встретиться с твоей дочерью еще раз, прежде чем она покинет Константинополь.
Он бросил на меня быстрый взгляд. Его большие блестящие глаза стали задумчивыми, словно он несколько мгновений оценивал новые возможности, которых раньше не брал в расчет. Но потом Нотар вновь протестующе махнул рукой и повернулся к окну, словно пытаясь увидеть море сквозь запертые ставни.
– Поздно, – повторил он. – Мне жаль – но думаю, что корабль уже отчалил. Этой ночью дует попутный ветер. Сегодня, еще после полудня Анну вместе с ее вещами и служанками тайно доставили на лодке на критское судно.
Я повернулся и выбрался из покоя, полуослепшим от слез, сорвал свой фонарь с крюка у входа, неловко открыл дверь и шагнул в темноту. Выл ветер, по другую сторону стены шумело море, волны заливали укрепленную сваями набережную. Ураган прижимал мне плащ к телу и мешал дышать. Я потерял все свое самообладание. В бешенстве я отшвырнул мерцающий фонарь, который прорезал мрак светящейся дугой, с грохотом упал и погас.
Это спасло мне жизнь. Мой ангел хранил меня. И мой пес тоже. Нож со свистом рассек мне на спине плащ и скользнул под левую руку, к ребрам. Но убийца споткнулся о собаку, вскрикнул, когда та его укусила, и принялся вслепую размахивать ножом. Услышав жалобный визг, я понял, что пес получил смертельную рану. Меня охватила ярость. Я сжал скользкое горло в турецком захвате. Я чувствовал запах чеснока в смрадном дыхании и вонь грязных лохмотьев. Потом я прижал негодяя к земле и вонзил кинжал в трепещущее тело. Бандит страшно закричал и смолк.
Я склонился над псом. Он попытался лизнуть мою руку. Потом его голова упала.
– Зачем ты пошел за мной, хоть я велел тебе остаться дома? – тихо проговорил я. – Меня спас не ты, а мой ангел. Ты зря погиб за меня, друг мой. – Это был лишь желтый пес, простая дворняга. Он прибился ко мне по собственной воле. Он меня знал. И заплатил за это жизнью.
В одном из окон дворца вспыхнул свет. С грохотом отодвинулись дверные засовы. Я побежал, но, ослепнув от слез, врезался прямо в стену и оцарапал себе лицо. Вытерев кровь, я начал ощупью пробираться к Ипподрому. Мой левый бок был мокрым от крови. В разрывах несущихся по небу туч мелькали звезды. Глаза стали постепенно привыкать к темноте. В оглушенной ударом голове билась лишь одна мысль: это Франц, а не Константин, это Франц, а не Константин.
Неужели они и правда считают меня столь опасным, что предпочли подослать ко мне тайного убийцу, а не заточить в мраморной башне? Франц ведь предупреждал меня, чтобы я не приближался к дому Нотара.
Но я перестал строить напрасные догадки, как только обогнул Ипподром и оказался на холме. Миновав гигантский темный купол Святой Софии, я спустился на дрожащих ногах вниз, в порт, зажимая рукой рану в боку. Сердце мое бешено колотилось. Ее нет, ее нет.
Анна Нотар уехала. Она сделала свой выбор. Эта женщина – послушная дочь своего отца. На что же я мог надеяться? Она уехала, не написав, не попрощавшись.
Мой слуга Мануил не спал. Он ждал меня, не давая свечам в моей комнате погаснуть. Старик не удивился, увидев мое расцарапанное лицо и окровавленную одежду. Мгновенно принес чистую воду, куски полотна и целебную мазь. Помог мне раздеться и промыл рану. Порез тянулся от левой лопатки вниз, к ребрам. Рана сильно горела и болела, но это лишь облегчало мои душевные муки.
Я дал Мануилу иглу, какой пользуются лекари, и шелковую нитку – и показал, как надо зашивать рану. Попросил, чтобы он промыл ее крепким вином и приложил к ней плесень и паутину, чтобы предотвратить горячку. И только когда он перевязал меня и помог мне лечь, меня начала бить дрожь. Меня трясло так, что ложе мое ходило ходуном.
– Пес, – дрожащим голосом проговорил я. – Тощий желтый пес, интересно, кем ты был?
Я долго лежал, не двигаясь. Итак, я снова один. Но я никого не просил смилостивиться надо мной. Анна Нотар сделала свой выбор. Кто я такой, чтобы осуждать ее за это?
Но когда пробьет мой последний час, я усну, ощущая аромат гиацинтов, исходивший от твоей кожи. Этого счастья ты не сможешь меня лишить.
28 февраля 1453 года
Во время ночного шторма из порта скрылось немало судов. Большой корабль венецианца Пьеро Давенцо и шесть критских парусников со всем грузом. Клятв, угроз и целования креста оказалось явно недостаточно. Капитаны спасли тысяча двести ящиков соды, меди, индиго, воска, разных мастик и пряностей, сохранив их для Венеции и критских купцов.
Кроме того, капитаны спасли сотни богатых беглецов, которые готовы были заплатить за место на судне любые деньги. Говорят, что подготовка к побегу уже давно была в порту тайной, известной всем и каждому.
Турки в Галлиполи не сделали по этим кораблям ни единого выстрела и не бросили в атаку свои военные галеры. Стало быть, и здесь обо всем договорились заранее. Через посредников из нейтральной Перы. Да и стоило ли султану беспокоиться из-за нескольких сундуков с медью и пряностями, если, пропустив беглецов, он мог сократить количество кораблей, на которые так рассчитывал император, и ослабить таким образом оборону порта?
А флотоводец Лука Нотар, выходит, знал о готовящемся побеге и отправил на одном из кораблей в безопасное место свою дочь. Но и женщины из императорской семьи тоже покинули город. И никто не знал, когда.
От капитанов оставшихся судов василевс потребовал новых клятв и обещаний, что они не выйдут из порта без его соизволения. А что еще ему оставалось делать? В любом случае, венецианцы отказались выгрузить из трюмов на берег ценные товары. А это был, пожалуй, единственный надежный способ удержать корабли в Константинополе.
1 марта 1453 года
Меня пришел проведать сам Джустиниани, поскольку мне пока не хочется выходить из дома. Мои раны зудят, лицо горит, словно охваченное огнем, меня лихорадит.
Когда генуэзец спрыгнул со своего огромного боевого коня, вокруг тут же собралась толпа. Греки восхищаются протостратором, хоть он и латинянин. Мальчишки почтительно ощупывали сбрую скакуна. Император подарил Джустиниани изукрашенное золотом седло и усеянный драгоценными каменьями парадный чепрак. Визит протостратора был для меня большой честью. Мы долго беседовали. Я рассказал ему о своей философии, изложил мысли моего старшего друга и учителя, достопочтенного Николая Кузанского – о том, что верное и неверное, правда и ложь, добро и зло не исключают друг друга. Все в этом мире относительно и обретает равновесие лишь в вечности. Но Джустиниани этого не понял.
Войдя в комнату и увидев мой израненный лоб и ободранный нос, генуэзец покачал головой и восхищенно прищелкнул языком.
– Обычная драка в таверне, – сказал я.
– Ты удержал свои позиции? – поинтересовался он.
– Я перешел в контрнаступление и прорвался к двери, – ответил я.
– Если это правда, то я не стану тебя наказывать, – усмехнулся он. – Пока, во всяком случае, никто не жаловался, что ты напился и учинил публичный скандал. Покажи рану.
Он велел Мануилу снять с меня повязку и принялся бесцеремонно тыкать толстым указательным пальцем во вздувшиеся края раны.
– Удар в спину, – пробормотал генуэзец. – Ты был на волосок от смерти. Нет, драка в таверне тут ни при чем – хотя, глядя на твое лицо, и можно подумать о чем-то в этом роде.
– У меня не слишком много друзей в этом городе, – признался я.
– В таком случае тебе надо носить кольчугу, – заявил Джустиниани. – О легкую кольчугу ломается острие меча; она не дает даже самому тонкому стилету вонзиться в тело слишком глубоко.
– Мне это не нужно, – ответил я. – Мое тело твердо, как камень, – если я полностью владею собой.
Генуэзец заинтересовался.
– Ты и правда такой неуязвимый? – спросил он. – У тебя есть какой-нибудь талисман? Или ты дал себя заколдовать? А может, носишь, в кошеле вербену? Все способы хороши, если только в них верить.
Я взял со столика у ложа длинную серебряную булавку.
– Смотри, – сказал я и начал бормотать вполголоса одно из арабских заклинаний, которому меня научили дервиши. А потом быстро пронзил булавкой мышцы плеча, так что ее кончик вышел с другой стороны. Но не появилось ни одной капли крови.
Джустиниани снова покачал своей большой головой.
– Так почему же твоя рана воспалилась? – с сомнением спросил он. – Почему она не заживает и не затягивается сама по себе, если ты так веришь, что тело твое – твердо, как скала?
– Я потерял самообладание. Забылся, – ответил я. – Будь спокоен. Рана заживет. Послезавтра я снова буду рядом с тобой.
2 марта 1453 года
Припекает солнце. На углах улиц и в садах жгут мусор. Светло-зеленые травинки устремляются вверх изо всех щелей и трещин в пожелтевшем мраморе. Склоны Акрополя пестрят яркими весенними цветами. В порту шум каждый вечер не стихает до поздней ночи. В тихих сумерках музыка доносится даже до моего дома. Никогда, никогда еще не видел я столь великолепных закатов, как этими вечерами, когда купола горят в последних лучах солнца, а окруженный холмами и горами залив становится черным, как смоль. На другом берегу сияют пурпуром стены и башни Перы, отражаясь в темной воде.
Когда я сидел вот так, любуясь закатом, и сердце мое разрывалось от тоски, ко мне подошел мой слуга Мануил и сказал с нажимом:
– Господин мой, пришла весна, а турки все еще не появились. Неразумные птицы хлопают крыльями, призывая к себе подруг. Голубиная воркотня мешает людям спать. Ослы в стойлах у патриаршего дворца ревут так оглушительно, что скотники скоро рехнутся. Господин мой, одиночество не идет человеку на пользу…
– Это еще что такое! – удивленно вскричал я. – Надеюсь, ты не собрался жениться на старости лет? А может, хочешь выудить у меня несколько монет на приданое для дочки одной из твоих двоюродных сестер?
– Господин мой, я думаю лишь о твоем благе, – обиженно ответил Мануил. – Я знаю тебя – и мне известно, какое положение ты занимаешь. Я понимаю, что тебе пристало делать, а чего не пристало. Но весна может зажечь огонь в крови даже у самого высокопоставленного человека, и тут император ничем не отличается от бедного козопаса. Мне и вправду не хочется, чтобы ты еще раз вернулся домой, едва держась на ногах, в окровавленной одежде… У меня тогда едва сердце не разорвалось от жалости и страха. Поверь мне, темные арки ворот и окруженные стенами дворы в этом городе весьма небезопасны.
Мануил потирал руки и прятал от меня глаза, то и дело замолкая и подыскивая слова.
– Но все можно устроить, – многозначительно проговорил он. – Тебя что-то угнетает. Ночами сон твой неспокоен. Это причиняет боль моему сердцу. Конечно, я – не из тех людей, которые хотели бы обманом выведать твои тайны. Знаю свое место. Но от моего внимания не могло укрыться, что тебя давно не навещала та прелестная гостья, при виде которой лицо твое сияло от счастья. Наоборот, ты вернулся домой один, с головы до ног в крови, из чего я делаю вывод, что все открылось, вам пришлось расстаться – и теперь ты страдаешь и томишься… Но время лечит любые раны – и для любых ран существуют целебные средства, даже для ран сердечных.
– Замолчи ты наконец, – сказал я. – Если бы этот закат не заставил меня просто заболеть от тоски, я давно уже дал бы тебе по морде, Мануил.
– Не пойми меня превратно, господин мой, – поспешно ответил старик. – Но мужчине в твоем возрасте необходима женщина, если он не монах и не посвятил себя как-то по-другому служению Господу. Это – голос самой природы. Почему бы тебе не насладиться жизнью за то короткое время, что нам еще осталось? У меня к тебе предложение, и даже два, если ты меня правильно понимаешь.
Он осторожно отодвинулся, стал еще меньше, чем всегда, и продолжил:
– Дочь моей двоюродной сестры, молодая вдова в расцвете лет. Она столь внезапно и быстро потеряла мужа, что, можно сказать, почти невинна. Видела, как ты ехал на коне по городу, и так безумно влюбилась в тебя, что постоянно изводит меня просьбами, чтобы я ввел ее в твой дом и познакомил с тобой. Это добродетельная и благовоспитанная женщина. Она была бы счастлива посетить тебя – и ты бы оказал всей нашей семье большую честь, если бы соизволил провести с нашей родственницей одну или две ночи. Ни о чем больше она не просит, и ты сам решишь, что ей подарить, когда она тебе надоест. Ты таким образом совершишь доброе дело – и в то же время успокоишь свое измученное тело, избавив его от невыносимого напряжения.
– Мануил, – ответил я. – Я ценю твою заботу, но если бы я удовлетворял желания каждой женщины, которая бросает на меня пылкие взгляды, я никогда не вырвался бы из дамских ручек. С молодых лет на мне лежит тяжкое проклятие: женщины всегда хотели меня больше, чем я – любую из них. Но всякий раз, когда я всем сердцем жаждал чего-то, та, другая, особа отнюдь не разделяла моих стремлений. Это мой крест… Поверь, тоска и боль, которые испытывает дочь твоей двоюродной сестры, лишь усилились бы, если бы я, не любя эту молодую женщину, взял ее к себе на ложе, чтобы согреть свое тело.
Мануил тут же согласно закивал:
– Я и сам пытался выбить эти глупости у нее из головы, но ты же знаешь, каковы женщины. До того упрямы… Но у меня есть другое предложение. Одна из моих теток знакома с очень порядочным и деликатным человеком, который охотно помогает людям как высокого, так и низкого звания в разных затруднительных ситуациях. Для этих целей он приказал построить недалеко от Влахернского холма очень скромный снаружи, но прелестный внутри дом. В этом доме живут молодые невольницы со всех концов света. Там можно принять горячую ванну, девушки делают массаж. Даже дряхлые, бессильные старики-архонты выходили оттуда, вполне довольные услугами рабынь, и потом самыми разными способами выражали свою благодарность хозяину этого уютного уголка. Дом вполне соответствует твоему высокому положению, и ты ничего не потеряешь, если поинтересуешься тем, что там предлагают.
Он поймал мой взгляд, сразу оробел и поспешно объяснил:
– Я вовсе не хочу сказать, что ты – дряхлый и бессильный, господин мой. Наоборот, ты – мужчина в расцвете лет. Но о том я и толкую… В этом доме можно также в глубокой тайне очаровательно провести время с благородными женщинами, которые ищут в жизни разнообразия или из-за скупости своих мужей с удовольствием сами добывают небольшие суммы на косметику и наряды. Может, ты мне не поверишь, но даже женщины с Влахернского холма посещали этот дом и не имели никаких неприятностей. Наоборот. Уважаемый друг моей тетки прекрасно разбирается в людях. Он – очень милый и снисходительный человек. Ему удалось подобрать весьма изысканный круг клиентов.
– Не хочу способствовать падению нравов в этом умирающем городе, – вздохнул я. – Нет, Мануил. Тебе меня не понять…
Мануил казался глубоко оскорбленным:
– О каком падении нравов ты можешь говорить, господин мой, если речь идет исключительно о непринужденном дружеском общении образованных, просвещенных и свободных от предрассудков людей, занимающих одно и то же положение? Ты, стало быть, считаешь более естественным и менее предосудительным лазить под покровом ночи через заборы или нашептывать украдкой гнусные предложения порядочным девушкам? Если уж человек должен грешить, то почему не делать этого весело, утонченно и без угрызений совести? Ты с головы до ног – латинянин, даже если этого и не понимаешь.
– Я не тоскую по греху, Мануил, – сказал я. – Я тоскую по утраченной любви…
Старик покачал головой, и на лице его вновь появилось выражение унылой покорности,
– Грех – всегда грех, в какие бы одежды он ни рядился. И неважно, как его называть: любовью или наслаждением. Результат один и тот же. Ты только зря мучаешь себя, господин мой, распаляя свои чувства. Даже самый соблазнительный грех не стоит таких жертв. Ты разочаровал меня, господин мой. Я думал, что ты умнее. Но человек не получает ясной головы в подарок от добрых крестных, даже если рождается в пурпуре.
Тут я схватил его за горло и заставил опуститься на колени в пыль двора. Мой стилет кроваво блеснул в лучах заходящего солнца. Но я быстро овладел собой.
– Что ты сказал? – спросил я. – Повтори, если у тебя хватит смелости.
Мануил жутко перепугался. Его тощая шея дергалась в моих руках. Однако, казалось, что, оправившись от потрясения, он был даже польщен моей дикой выходкой. Старик поднял на меня свои водянистые глаза, и на его лице с всклокоченной бородой появилось выражение хитрого упрямства.
– Я не хотел оскорбить тебя, господин мой, – заверил он меня. – Не думал, что тебя разгневает моя шутка.
Но слова его звучали слишком неискренне, чтобы я мог ему поверить. В конце своих долгих разглагольствований он подбросил мне хитрую наживку, чтобы посмотреть, заглочу ли я ее. Куда делось мое самообладание? Куда испарилось спокойствие духа? С легким стуком вложил я стилет обратно в ножны.
– Ты сам не знаешь, что говоришь, Мануил, – процедил я. – У тебя за спиной только что стоял ангел смерти.
Мануил замер передо мной на коленях, словно наслаждаясь своим унижением.
– Господин мой! – вскричал он. Глаза его заблестели, а на бледных щеках постепенно проступил румянец. – Ты возложил мне на голову десницу. И у меня перестали болеть уши! И ломота в коленях тоже прошла, хотя я стою на сырой земле. Господин мой, разве это не доказывает, кто ты?!
– Ты несешь чушь, – сказал я. – Ты перетрусил, увидев мой стилет. Внезапный испуг заставил тебя забыть обо всех болезнях.
Старик опустил голову, взял горсть земли и просеял ее сквозь пальцы. Голос Мануила был так тих, что я с трудом различал слова.
– Ребенком я много раз видел императора Мануила, – прошептал мой слуга. – Господин мой, я никогда не предам тебя.
Он поднял руку, словно хотел прикоснуться к моим коленям, и уставился, как зачарованный, на мои ноги.
– Пурпурные сапоги, – бормотал он про себя. – Ты возложил десницу на мою голову, и все мои болезни прошли.
Последние отсветы кровавого заката угасли. Наступил вечер – сумеречный и холодный. Я уже не различал в темноте лица Мануила. И ничего не сказал ему. Я был очень одинок. Повернулся и вошел в тепло моего дома.
Чернила и бумага. Раньше я любил сладковатый запах чернил и сухой шелест бумаги. Теперь я их ненавидел. Слова обманчивы, как и все земное. Они – лишь неуклюжие порождения бренности, которые каждый понимает и толкует, как хочет, по собственному усмотрению и потребностям души. Вечность не выразишь никакими словами.
В порту пока стоят корабли. Если чуть-чуть повезет, то западное судно еще может проскользнуть мимо турецких укреплений и выйти в Эгейское море. Нет такого латинянина, которого нельзя было бы купить. Но огонь, полыхающий в моем сердце, заставил меня швырнуть драгоценности генуэзцу. Огонь моего сердца заставил меня снова освободиться от богатства, словно от тесных одежд. Теперь я слишком беден, чтобы нанять целый корабль и помчаться вслед за ней на всех парусах. Боялся ли я именно этого, избавляясь от своих сокровищ? На свете не бывает случайностей! Все свершается так, как должно. Никому не дано избежать своей судьбы. Человек – совсем как лунатик – сам идет ей навстречу, раз и навсегда избрав свой путь.
Значит, я боялся самого себя? И не был в себе уверен? А Мехмед знал меня лучше, чем я сам, – и потому искушал, вложив мне при прощании в руку красный кожаный мешочек? Выходит, именно потому я и должен был освободиться от этого дара?
Султан Мехмед, победитель. Мне достаточно лишь нанять лодку, переправиться в Перу и зайти в дом с голубятней. Предать. Опять предать.
Никогда еще не погружался я в столь глубокое и беспросветное отчаяние. Выбор не бывает окончательным. Его приходится делать каждый день и каждый час. Постоянно. До последнего вздоха. Дверь всегда открыта. Всегда. А за ней – путь к бегству, предательству, самообману.
На болотах под Варной ангел смерти сказал мне: «Мы встретимся у ворот святого Романа».
До сих пор слова эти были мне поддержкой и опорой. Но он не уточнил, по какую сторону ворот я в тот момент окажусь. Он не открыл мне этого…
Нет – и не должен был открывать. Всю свою жизнь я вырывался из одной тюрьмы, чтобы попасть в другую. Из этой последней тюрьмы я не убегу, не убегу из тюрьмы, стенами которой стали для меня стены Константинополя. Я – сын своего отца. Эта тюрьма – мой единственный дом.
7 марта 1453 года
Рано утром, перед восходом солнца к храму монастыря Хора, расположенного близ Влахернского холма и ворот Харисия, двигалась толпа монахов в черных капюшонах, монахинь и бедных женщин с горящими свечами в руках. Эти люди пели, но голоса их тонули в сонной тишине и предрассветном мраке. Я последовал за этой процессией. Потолок и стены храма представляли собой одну огромную мозаику. Разноцветные камешки блестели на золотом фоне в сиянии бесчисленных восковых свечей.
Разливался аромат кадила. Горячие молитвы собравшихся в храме людей растрогали меня и успокоили мою душу.
Зачем я пошел за ними? Почему опустился рядом с ними на колени? Я ведь и раньше видел много монахов и монахинь. Они бродят по двое из дома в дом со своими чашами для пожертвований, чтобы собрать немного денег для бедных беженцев, которые нахлынули в город, спасаясь от турок.
Все монахини похожи внешне одна на другую, и различить их невозможно. Есть среди них и благородные женщины, и простолюдинки. Одинокие женщины из состоятельных семей, купившие себе место в монастыре. Послушницы, трудившиеся во имя Господа, не принимая пострига. Они пользовались большей свободой, чем монахини на Западе. Но греки и своим священникам разрешают жениться и носить бороды.
Все монахини похожи одна на другую. Одинаковые черные одеяния, скрадывающие очертания тела, одинаковые покровы на головах, спускающиеся до бровей. Но бессознательно – хоть ничто явно не бросилось мне в глаза – я обратил внимание на монахиню, которая шла за мной по улице и замедляла шаг, когда я оглядывался. Вместе с другой монахиней она проскользнула мимо моего дома и на миг остановилась возле маленького каменного льва, чтобы посмотреть на мои окна. Но не постучала в дверь и не попросила подаяния.
После этого я стал внимательно приглядываться ко всем монахиням, которых видел. Что-то в посадке головы, в походке, в пальцах, которые эта женщина прятала в широких рукавах, говорило мне, что я узнаю ее в любой толпе. Я сплю, я грежу наяву. Отчаяние ослепило меня. Я верю в невозможное. Надежда, в которой я не решаюсь признаться даже самому себе, горит в моей душе, словно огонек свечи.
10 марта 1453 года
Эти дни я прожил как во сне, как в тумане. Тем утром обе монахини снова прошли мимо моего дом; и остановились, чтобы заглянуть в окна, словно ожидали, что, заметив их, я поспешу на улицу. Я бегом спустился с лестницы и распахнул дверь. Тяжело дыша, я стоял перед ними, не в силах произнести ни слова. Они попятились и склонили головы. Одна монахиня протянула деревянную чашу для пожертвований и пробормотала обычную молитву.
– Войдите в мой дом, сестры, – проговорил я. – Я оставил кошель в комнате.
Вторая женщина держалась за спиной своей старшей спутницы и не поднимала головы, точно пряча от меня глаза. Услышав мое приглашение, святые сестры хотели уйти. Я потерял самообладание. Схватил молодую монахиню за плечо, и она не смогла оттолкнуть меня. Примчался перепуганный Мануил.
– Господин мой, ты сошел с ума! – предостерегающе вскричал он. – Люди забьют тебя камнями, если ты обидишь монахиню!
Пожилая женщина ударила меня костлявым кулаком в лицо и принялась колотить деревянной чашей по голове. Но завопить монашка не решилась.
– Войдите в дом, – произнес я. – Иначе тут соберется толпа.
– Твой командир прикажет тебя повесить, – с угрозой прошипела пожилая монахиня, но повернулась и нерешительно посмотрела на свою спутницу. Та кивнула. Она не могла поступить иначе. Я крепко держал ее за плечо.
Когда Мануил запер за нами дверь, я сказал:
– Я узнал тебя. Узнал бы тебя и в многотысячной толпе. Это действительно ты? Как такое могло случиться?
Дрожа, она вырвалась из моих рук и поспешно обратилась к своей спутнице:
– Это какая-то ошибка или недоразумение. Я хочу выяснить, в чем дело. Останься здесь.
И я понял, что она – не настоящая монахиня, принявшая постриг. Ведь тогда она не смогла бы разговаривать со мной наедине. Я проводил ее в свою комнату и запер дверь на засов. Сорвал с волос женщины покров и заключил ее в объятия.
Я крепко прижал Анну к себе.
И лишь тогда я сам задрожал и разрыдался. Так велики были мое отчаяние, мои сомнения и моя страсть. Теперь все во мне взорвалось. Мне сорок лет. Стою на пороге своей осени. Но я плакал, судорожно всхлипывая, как дитя, пробудившееся от кошмарного сна в спокойном и безопасном доме.
– Любимая моя, – простонал я. – Как могла ты так поступить со мной?
Она позволила покрову упасть на пол и отбросила черный плащ с капюшоном, точно стыдилась этого одеяния. Она была очень бледна. Анна не дала остричь себе волосы. Она больше не дрожала. Глаза ее были прозрачно-золотыми, гордыми и любопытными. Она гладила меня кончиками пальцев по щеке и удивленно смотрела на них, словно не понимая, почему они стали мокрыми.
– Что с тобой, Иоанн Ангел? – спросила она. – Ты плачешь? Почему? Неужели я причинила тебе такую боль?
У меня не было слов. Я мог лишь смотреть на нее. Чувствовал, что лицо мое сияет, как в дни моей молодости. Под моим взглядом она опустила свои карие глаза.
– Я действительно считала, что потеряла тебя, – попыталась продолжить она. Но слова застряли у нее в горле. Шею и щеки залил румянец. Она повернулась ко мне спиной.
Она отвернулась от меня – и сдалась. Я положил руки ей на плечи. Мои ладони скользнули к ней на грудь. Затаив дыхание, я впитывал в себя всю прелесть и очарование этой женщины, ощущая трепетное пробуждение ее нежного тела. Поцеловал ее в губы. И почувствовал, что она отдала мне в этом поцелуе всю свою душу. Светлая, звенящая радость пронизала все мое существо. Ни единого темного уголка не осталось в моем сердце. Страсть моя была чистой, как родник, и ясной, как огонь.
Я сказал:
– Ты вернулась ко мне.
– Отпусти меня, – взмолилась она. – У меня подгибаются колени. Я едва держусь на ногах.
Женщина опустилась на стул, поставила локти на стол и закрыла лицо руками. Но в следующий миг она вскинула голову. И в невыразимо знакомых карих очах Анны, взор которых был прикован к моим глазам, я увидел ее невыразимо обнаженную душу.
– Мне уже лучше, – проговорила женщина дрожащим голосом. – Просто я испугалась, что умру в твоих объятиях. Я не знала… Я даже не подозревала, что можно пережить такое…
А может, и знала, – продолжала она, глядя на меня так, словно не могла насмотреться. – Наверное, потому и не уехала из города. Хотя поклялась, что никогда больше тебя не увижу. Пообещала это себе, чтобы иметь мужество остаться. Вот так по-детски я пыталась обмануть саму себя.
Анна покачала головой. Ее волосы были золотыми. Кожа – будто слоновая кость. Брови – точно высокие синие дуги. А в глазах – золотисто-каряя нежность.
– Я избегала тебя, хотела держаться от тебя подальше, но все равно должна была время от времени видеть тебя, хотя бы издалека. Наверное, скоро я пришла бы к тебе по собственной воле. Я никогда в жизни не была так свободна, как сейчас, в монашеском облачении. Могу свободно ходить по городу, свободно разговаривать с бедными людьми, чувствовать под ногами дорожную пыль, протягивать простую деревянную чашу, собирать милостыню и благословлять добрых и щедрых. Иоанн Ангел, я многому научилась за эти дни. Я готовилась ко встрече с тобой, хоть сама и не знала об этом.
Она чуть приподняла край своего одеяния и показала мне голую ногу, обутую в сандалию, которая состояла из кожаной подошвы и завязанных вокруг щиколотки ремешков. Ремешки оставили на ее белой коже красные отметины. Ногу покрывала дорожная пыль. Это была обычная нога обычной живой женщины. Анна перестала быть только раскрашенным идолом. Она очень изменилась.
– Но как же так? – недоумевал я. – Я же встречался с твоим отцом той самой ночью. Он пригласил меня к себе. И сказал, что ты уехала.
– Отец ничего не знает, – прямо заявила она. – Он по-прежнему считает, что меня нет в городе. Я купила себе место в монастыре, куда благородные женщины удаляются время от времени, чтобы помолиться о спасении души. Я оплачиваю свое пребывание в святой обители и живу там как гостья по имени Анна. Никто не интересуется ни моей фамилией, ни моей семьей. У монастыря было бы множество неприятностей, если бы выяснилось, кто я на самом деле. Поэтому моя тайна – и их тайна. Если бы я захотела остаться там до конца своих дней, то приняла бы другое имя – и никто бы никогда не узнал, кем я была в прошлом. Это известно только тебе. Я не могла этому помешать.
– Но ты не собираешься уйти в монастырь?! – в ужасе вскричал я.
Анна лукаво взглянула на меня из-под ресниц.
– Я совершила тяжкий грех, – проговорила она с напускной грустью. – Обманула отца. Может, мне придется теперь долго каяться…
Но я по-прежнему не мог понять, как Анне, с которой не сводила глаз целая толпа слуг, удалось бежать? Она объяснила, что отец хотел отправить ее на Крит, чтобы она не попала в рабство к туркам или латинянам. Но мать Анны лежала больная и не могла сопровождать ее. Поэтому девушке с самого начала весь этот план страшно не нравился. С вещами и служанками ее посадили в сумерках в лодку и отвезли на корабль. Он был переполнен беглецами, которые заплатили головокружительные суммы за возможность попасть на борт. Воспользовавшись суетой и давкой Анна вернулась в лодку и велела гребцам следовать в порт. Пройдет немало времени, пока отец узнает, что его дочь пропала.
– Я свободна, – проговорила она. – Пусть думают, что я упала за борт и утонула. Отцу будет еще больнее, если он когда-нибудь узнает, что я обманула его. Даже представить страшно, что тогда может случиться…
Мы долго сидели в молчании, глядя друг на друга. Этого нам было достаточно. Я чувствовал, что еще одно движение – пусть даже слабая улыбка или легкое прикосновение – и сердце мое разорвется. Я понял, что имела в виду Анна, говоря, будто боится умереть в моих объятиях.
Потом костлявая рука постучала в дверь. Раздался резкий недовольный голос пожилой монахини:
– Сестра Анна, ты еще здесь?
Я слышал, как Мануил напрасно пытается успокоить ее.
– Я уже иду, – крикнула в ответ Анна Нотар. Потом она повернулась ко мне, коснулась рукой моей щеки и сказала, устремив на меня лучистый взор: – А теперь мне пора. – Но сразу уйти не смогла. Встала на цыпочки, чтобы еще глубже заглянуть мне в глаза, и тихо спросила: – Ты счастлив, Иоанн Ангел?
Я ответил:
– Счастлив. А ты, Анна Нотар? Ты тоже счастлива?
Она проговорила:
– Я очень, очень счастлива.
Открылась дверь – и в комнату влетела пожилая монахиня, грозно размахивая деревянной чашей. Но Анна успокаивающе взяла свою спутницу под руку и вывела из дома.
Я сжал голову Мануила в ладонях и расцеловал его в обе щеки.
– Благослови тебя Господь, – сказал я.
– И тебя тоже – и да пребудет с тобой Его милость, – ответил Мануил, когда вновь обрел дар речи, потерянный от изумления – Монахиня, – добавил он с насмешливым блеском в глазах и покачал головой, – монахиня в твоей комнате… так, может, ты теперь бросишь латинян и перейдешь наконец в истинную веру?
15 марта 1453 года
В городе буйствует весна. Босоногая ребятня продает на каждом углу цветы. Мальчишки, устроившись в развалинах, играют на свирелях. Нет музыки прекрасней и печальней. Я благословляю каждый прожитый день. Благословляю каждый день, дарованный мне Господом.
Пожилую монахиню зовут Хариклея, что означает «прелестная». Ее отец был сапожником и умел читать. Но ее внешность противоречит имени; так говорит мой слуга Мануил. Ибо за столом она охотно открывает перед ним свое лицо. Любит мясо и вино. Она – лишь простая послушница и радуется, что, зайдя к нам, сразу наполняет монетами свою чашу. Мануил объяснил этой женщине, что перед приходом турок я решил отречься от латинской ереси, чтобы не вкушать больше пресных облаток, и готов читать истинный апостольский символ веры без всяких папистских дополнений. Именно этому, сказал Мануил, меня и обучает сестра Анна.
Не знаю, что думает о нас эта пожилая женщина. Но она заботится об Анне и считает ее благородной и ученой дамой, которой послушница не вправе указывать, как себя вести.
Сегодня Джустиниани послал меня к Золотым Воротам, чтобы я последил там за обучением новобранцев. Анна и Хариклея принесли мне корзиночку с едой. Это никого не удивило. Многим доставляют пищу точно так же, поскольку от мраморной башни Золотых Ворот до города путь неблизкий. Молодым монахам приходится подкрепляться в монастыре святого Иоанна Крестителя. Их освободили от соблюдения поста, и, осваивая боевое искусство, они загорели и окрепли. Невольно засучивают рукава и отбрасывают назад черные капюшоны, жадно слушая хвастливые рассказы своих наставников о боях и походах. В минуты отдыха поют на несколько голосов греческие псалмы. Это очень красиво.
Золотые Ворота предназначены исключительно для императорских триумфальных шествий. На людской памяти эти ворота не открывались. Теперь же их вообще замуровали на время осады. Мы устроились на траве в тени стены. Отламывали куски хлеба, ели и пили. Хариклею стало клонить в сон. Она отошла в сторонку и прилегла отдохнуть, прикрыв лицо плащом. Анна сняла сандалии. Жесткая кожа стерла ей ноги в кровь. Женщина с наслаждением погрузила белые пальцы ног в траву.
– Такой свободной и счастливой, как сейчас, я не чувствовала себя с детства, – сказала Анна.
В сияющем весеннем синем небе высоко-высоко кружил сокол. Императорские сокольничие иногда выпускают своих птиц, чтобы те перехватывали турецких почтовых голубей. Как будто это что-то изменит… Медленно, что-то высматривая, кружил сокол в небе.
Анна провела по траве тонким указательным пальцем и проговорила, не глядя на меня:
– Я научилась сострадать беднякам.
Люди доверяют монашеской рясе, – продолжила она, помолчав и по-прежнему не смотря в мою сторону. – Делятся со мной своими печалями и страхами. Говорят со мной как с равной. Раньше я никогда не переживала ничего подобного. К чему все это, спрашивают они. Войско султана неисчислимо. Пушки Мехмеда могут одним выстрелом сокрушить самые толстые стены. Император Константин – отступник, он подчинился папской власти. Продал латинянам право первородства и свой трон за миску чечевичной похлебки. К чему все это? Султан не посягает на нашу веру. В его городах греческим священникам разрешено опекать свою паству. Запрещено лишь звонить в колокола и бить в колотушки. Под покровительством султана наша вера была бы защищена от еретиков-латинян. Турки не трогают бедных людей, пока те покорно платят подати султану. А подати, которых требует Мехмед, гораздо меньше, чем императорские налоги. Почему народ должен гибнуть или попасть в рабство, отстаивая интересы императора и латинян? Только у богачей и вельмож есть причины бояться турок. Вот такие вещи открыто говорит множество недовольных людей.
Анна все еще не смотрела на меня. Я оцепенел.
Чего, собственно, она хочет от меня? Почему так говорит со мной?
– Разве и впрямь необходимо, чтобы наш город был разорен и уничтожен или стал леном латинян? – спросила Анна. – Все эти маленькие люди хотят только одного: жить, работать, растить детей и исповедовать свою веру. Разве император защищает, в конце концов, столь уж великое дело, что ради него стоит идти на смерть? Ведь жизнь у человека одна. Одна скромная земная жизнь. Мне жаль этих людей…
– Ты говоришь как женщина, – заметил я. Анна замерла.
– Я и есть женщина. Что же в этом плохого? – спросила она. – У женщин тоже есть и ум, и мудрость. Были времена, когда этим городом правили женщины. И всегда делали это лучше, чем мужчины. Если бы слово женщин значило что-то и сегодня, мы бы выставили отсюда латинян с их оружием и галерами – и пусть бы они прихватили с собой нашего императора.
– Лучше турецкий тюрбан, чем папская тиара, не так ли? – с издевкой спросил я. – Ты рассуждаешь, как твой отец.
Я посмотрел на нее – и страшное подозрение пронзило меня.
– Анна, – сказал я, – я думал, что знаю тебя, но, возможно, это и не так. Ты действительно осталась в городе против воли отца? А может, твоему отцу известно, что ты здесь? Ты можешь поклясться, что это неправда?
– Ты меня оскорбляешь! – вскричала она. – Зачем мне клясться? Тебе мало моего слова? И если я рассуждаю, как мой отец, то лишь потому, что стала понимать его лучше, чем раньше. Он – более великий государственный муж, чем василевс. Любит свой народ больше, чем те, кто готов, защищая интересы латинян, превратить город в руины и обречь его жителей на смерть. Лука Нотар – мой отец. Никто другой не решился противоречить императору и громко высказать свое мнение в тот день, когда мы с тобой впервые увидели друг друга. Позволь мне гордиться своим отцом!
Мое лицо словно окаменело, даже губы мои ста та жесткими и холодными.
– Это была жалкая, дешевая демагогия, – медленно проговорил я. – Недостойная суета в поисках популярности. Он вовсе никому не противоречил… Наоборот, пошел на поводу у толпы. Извлек из этого временную выгоду, но взял грех на душу. Ибо это был не случайный выстрел, а сознательная попытка поднять мятеж.
Анна уставилась на меня, словно не веря собственным глазам.
– Значит, ты и правда сторонник унии? – спросила она. – Значит, ты латинянин в душе? И, значит, твоя греческая кровь – обман?
– А если бы и так? – произнес я. – Кого бы ты выбрала в этом случае – своего отца или меня?
Она смотрела на меня – и щеки ее были так бледны, а губы так плотно сжаты, что она подурнела на глазах. В какой-то миг мне показалось, что она меня ударит. Но Анна поникла и беспомощно махнула рукой:
– Я тебе не верю. Ты – не латинянин. Но что, в таком случае, ты имеешь против моего отца?
Все мое самообладание моментально исчезло в волнах ревнивых сомнений и бешеной ярости.
– Это интересует тебя – или его тоже? – зло вскричал я. – Это он тебя послал, чтобы испытать меня, поскольку ему не удалось самому перетянуть меня на свою сторону?
Анна вскочила и резко сбросила с руки несколько травинок, словно хотела стрясти с себя все, что имело отношение ко мне. Она с трудом сдерживала слезы. Золотисто-карее презрение в ее глазах обожгло мне душу.
– Этого я тебе никогда не прощу! – крикнула женщина и кинулась прочь, не разбирая дороги и забыв о сандалиях. Она ударилась босой ногой о камень, споткнулась, упала и разразилась рыданиями. Я не побежал за ней. Ее слезы не вызвали у меня ни малейшего сочувствия. Недоверие мутными волнами захлестывало мою душу и подступало к горлу, точно желчь. Может, Анна притворялась. Может, надеялась, что я не выдержу и брошусь к ней, чтобы осушить ее лживые слезы.
Вскоре она встала и, понурив голову, отерла рукавом слезы с лица. Хариклея села и удивленно уставилась на нас.
– Я забыла сандалии, – бесцветным голосом сказала Анна и потянулась за ними. Я поставил на них ногу. Ее стопы кровоточили, и я отвел от них взгляд.
– Подожди, – произнес я. – Мы должны поговорить об этом поподробнее. Ты меня знаешь – но не знаешь обо мне всего и никогда не узнаешь. Я имею право не верить людям – даже тебе.
– Я сама выбрала свою судьбу, – ответила она сквозь стиснутые зубы, пытаясь вытащить из-под моей ноги сандалии. – Я, глупая, сама выбрала такую судьбу. Вообразила, что ты меня любишь.
Я взял лицо Анны в ладони и заставил ее поднять голову, хотя женщина и вырывалась из моих рук. Она была сильнее, чем я думал, но я все же вынудил ее повернуться ко мне. Анна закрыла глаза, чтобы не видеть меня. Так люто ненавидела она меня в этот момент. Наверное, плюнула бы мне в лицо, если бы не была хорошо воспитана.
– Мы должны как следует во всем разобраться, – повторил я. – Итак, ты мне не доверяешь, Анна Нотар?
Она в бессилии зашипела на меня. Из глаз ее хлынули слезы и медленно заструились по щекам. Но она сумела проговорить:
– Как же я могу доверять тебе, если ты не доверяешь мне? Никогда такого от тебя не ожидала!
– А зачем ты только что рассказывала мне все эти вещи? – вскричал я. – Возможно, твой отец и не говорил твоими устами. Я беру свои слова обратно и прошу за них прощения. Но тогда получается, что ты подозреваешь в глубине души, будто я все-таки состою на службе у султана? Думаешь так же, как твой отец. И как считают все вокруг. Кроме Джустиниани, который мудрее всех вас. Иначе бы ты этого не сказала. Хотела меня испытать?
Анна немного смягчилась.
– Я просто поделилась с тобой своими сомнениями, – ответила она. – Хотела разобраться в собственных чувствах. А может, и узнать, как ты сам смотришь на то, что творится вокруг. Я сделала это без всякой задней мысли. Просто повторила то, что говорят люди. А людям рот не заткнешь – даже если бы тебе этого и хотелось.
Я отпустил ее. Уже жалел о своей резкости. Анна нагнулась за сандалиями.
– Этой болтовне надо положить конец, – решительно заявил я. – Тот, кто ведет такие разговоры, – предатель, даже если сам этого не сознает. Такие настроения лишь на руку султану. Ему неведомо милосердие. Не сомневаюсь, что он не скупится на посулы и обещания, о которых по его повелению рассказывают на каждом углу его посланцы.
Мехмед не собирается выполнять никаких клятв, которые расходились бы с его намерениями. Единственное, что он уважает, – это смелость. Уступчивость он считает лишь трусостью, а слабым и робким нет места в его державе. Тот, кто говорит о том, чтобы сдаться на милость султана, и возлагает на него какие-то надежды, сам роет себе могилу.
– Неужели ты не понимаешь, любимая, – вскричал я, тряся eе за плечи, – что он собирается сделать из Константинополя свою столицу, турецкий город, и превратить храмы в мечети?! В его Константинополе не будет места грекам – ну, если только рабам. И потому ему надо полностью уничтожить греческое государство. Именно этого он и хочет. И не остановится на полпути… Да и зачем ему останавливаться? Он хочет быть властелином Востока и Запада. Поэтому у нас нет иного выхода, как только сражаться, сражаться до последней капли крови, сражаться, даже если борьба наша совершенно безнадежна. Если тысячелетняя империя должна погибнуть, так пусть хоть погибнет с честью. Это – единственная правда. Лучше матерям в этом городе разбить детям головы о камни, чем рассуждать о сдаче Константинополя. Тот, кто склонит голову перед султаном, положит ее на плаху, будь он богат или беден. Поверь мне, любимая, поверь мне. Я знаю султана Мехмеда. Потому и предпочитаю искать смерти у вас – но только не идти за ним. Я не хочу пережить греческий Константинополь.
Анна покачала головой. Слезы унижения и гнева все еще блестели в ее карих глазах. Ее щеки пылали. Она была похожа на девочку, которую незаслуженно высек строгий наставник.
– Я тебе верю, – сказала она. – Наверное, тебе надо верить. Но слов твоих я не понимаю.
Она нерешительно вытянула руку. Там, куда она показывала, далеко-далеко, над безбрежным морем серых и желтых домов голубел огромный купол храма Святой Софии. Она обвела рукой вокруг. По другую сторону древних развалин виднелись бесчисленные церковные купола, возносившиеся над морем зданий. А прямо рядом с нами высилась мощная, залитая солнцем стена, золотисто-коричневая от времени; самые большие каменные дома казались рядом с ней низенькими лачужками. Она тянулась на запад, через холмы и долины, и, уходя за горизонт, словно держала весь гигантский город в своих надежных объятиях.
– Я не понимаю тебя, – повторила Анна. – Этот город слишком велик, слишком стар, слишком богат даже в своем убожестве и упадке, чтобы его можно было разорить и уничтожить. Здесь живут сотни тысяч людей. Нельзя же всех убить или продать в рабство. Константинополь слишком огромен, чтобы заселить его одними турками. Сто, двести лет назад они были пастухами и разбойниками. Без нас им не создать прочного государства. Султан – человек просвещенный, он знает греческий и латынь. Почему он должен плохо относиться к нам, если ему удастся взять город? Я этого не понимаю. Ведь времена Чингисхана и Тамерлана давно прошли!
– Ты не знаешь Мехмеда. – Я не мог ответить по-другому – сколь бы малоубедительно ни звучали мои слова. – Он прочитал все об Александре Македонском: греческих историков, арабских поэтов. Гордиев узел был слишком сложным, чтобы его распутать. Константинополь – это гордиев узел турок. Неразрывное сплетение Востока и Запада, греческого мира и латинской Европы, ненависти и коварства, тайных и явных интриг, разорванных и соблюдаемых договоров, всей многовековой лукавой политики Византии. С этим узлом можно справиться, лишь разрубив его ударом меча. И нет ни виновных, ни невиновных. Есть только народ, обреченный на смерть.
Я помню, как пылало лицо Мехмеда и как блестели его отливающие желтизной глаза, когда он читал в сочинениях греческих историков об узле в Гордионе и время от времени спрашивал у меня какое-нибудь слово, которого не понимал. Тогда еще был жив султан Мурад. Толстый, печальный, отекший от вина человечек с синюшными губами и щеками и с сильной одышкой. Он умер на пиру среди своих обожаемых поэтов и ученых. Старый султан был справедлив и милосерден – и прощал же своих врагов, когда уставал воевать. Он взял Фессалоники, был вынужден осаждать Константинополь, одержал победу под Варной, но сам никогда не хотел войны. Испытывал к ней отвращение. Но, зачав своего сына и наследника, Мурад породил зверя. В последние годы своей жизни старый султан и сам это понимал. Ему трудно было смотреть сыну в глаза, настолько чужим был для Мурада Мехмед.
Но как я мог объяснить все это – и рассказать о том, в чем сам варился семь лет?
– Султан Мурад не верил во власть, – проговорил я. – Властелин в его глазах был всего лишь слепцом, который должен вести других слепцов. Орудием, предметом, на который все сильнее давят неведомые силы, инструментом, не способным ни управлять событиями, ни предотвращать их. Мурад наслаждался радостями жизни. Женщины, поэзия, но… В старости он привык бродить с розой в руке; голова его была затуманена вином, и даже красоту он стал считать бессмысленной, суетной и бренной. Верил, что сам он – лишь прах и тлен. Верил, что все мироздание – только пылинка в бескрайней и бездонной пустоте. Однако исправно молился, уважал ислам и его проповедников, повелевал возводить мечети и основал в Адрианополе университет. Современники видели в Мураде благочестивого человека и разумного правителя, истинного созидателя державы. Но сам он только грустно улыбался, когда кто-нибудь начинал расхваливал его мудрую политику и блистательные победы.
– Мурад не верил во власть, – повторил я. – Считал жизнь – даже жизнь властелина – лишь рой, которая летит в темноте и гаснет на ветру. А вот Мехмед – верит. Верит, что может управлять событиями по своей воле. У него больше ума и интуиции, чем у Мурада. Он знает. Для него не существует таких понятий, как «хорошо» и «плохо», «можно» и «нельзя». Для него нет ни правды, ни лжи, Он готов стоять по колено в человеческой крови если это приблизит его к вожделенной цели.
Анна подняла руку.
– Что ты хочешь мне доказать? – нетерпеливо спросила она.
– Милая моя, – проговорил я, – я лишь пытаюсь с помощью жалких и бледных слов объяснить тебе, что люблю тебя больше всего на свете. Люблю тебя отчаянно и болезненно. Ты – моя Греция, мой Константинополь. Придет время – и Константинополь погибнет, так же как обратится в прах тело, когда пробьет твой час. Поэтому земная любовь бесконечно печальна. Когда мы любим друга, сковывающие нас цепи времени и пространства становятся гораздо тяжелее, чем всегда. Глядя на тебя, я с грустью думаю о стремительном бег времени, о бренности всего сущего, о быстротечности жизни.
– Любимая, – продолжал я – когда я смотрю на твое лицо, вижу, что сквозь щеки твои просвечивает череп. Вижу, что под нежной кожей твоей вырисовывается скелет, – такой же, какой я увидел в молодости, когда соловей разбудил меня у кладбищенской стены. Любовь – это медленная смерть. Когда я обнимаю тебя, когда целую твои губы, я целую смерть. Я так безумно, так страшно люблю тебя!
Но она меня не поняла. И тогда я сказал:
– Ты ушибла из-за меня ногу. Я приношу тебе одни страдания и боль. Позволь, я помогу тебе.
Я поднял с земли ее сандалии. Анна оперлась о мою руку, и я отвел женщину к большому резервуару с водой, расположенному неподалеку. Анне трудно было идти, острые стебли кололи нежную кожу ее ног. Я поддерживал женщину, и она приникла ко мне. Ее тело мне верило, хотя строптивые и гордые мысли и восстановили ее против меня.
Я усадил ее на край резервуара и вымыл ей ноги. Смыл кровь с израненной кожи. Ополоснул стопы. Но Анна вдруг страшно побледнела, словно ее пронзила внезапная боль, и отодвинулась от меня.
– Не делай так, – сказала она. – Не делай так. Я этого не выдержу.
Она была целиком в моей власти. Где-то вдалеке играл на свирели какой-то пастух. Тонкие, пронзительные звуки разрывали мне сердце. Немилосердно палило солнце. Я погладил рукой ее белую лодыжку. Ее кожа была живой и теплой. Если бы я прижал Анну к себе и поцеловал, она не сумела бы воспротивиться. Даже если бы и захотела. Но она меня не боялась. Анна не сводила с меня своих карих глаз, в которых я видел ее обнаженную душу.
– Встань, – проговорил я. – Обопрись о мою спину, я завяжу тебе сандалии.
– У меня горят щеки, – пробормотала она. – Кожа покраснела – потому что я не закрывала при тебе лица. И ноги покраснели: ведь я ходила босиком, не обращая внимания на погоду.
Будь благословен каждый день, который мне дано прожить.
Она ушла, а мы продолжали заниматься с новобранцами до вечера. Стреляли из тяжелого орудия с городской стены. Джустиниани хотел приучить робеющих новобранцев к грохоту, свисту ядер и запаху пороха, чтобы новоиспеченные солдаты увидели, что орудийный залп сеет скорее ужас, чем смерть. Один из императорских мастеров велел установить на стене пушку. Потом по всем правилам, в соответствии с точными расчетами дали залп – и пушка выбросила каменное ядро размером с человеческую голову; ядро описало высокую дугу над внешней стеной и рвом, по другую сторону которого и упало – да так, что задрожала земля. Но еще сильнее содрогнулась громадная стена. В ней появилась трещина, и на землю посыпались большие камни. Никого не ранило, и все это даже некоторым образом подтвердило правоту Джустиниани, убежденного, что все орудия представляют гораздо большую опасность для тех, кто их использует, чем для врага. И все же этот залп произвел на новобранцев угнетающее впечатление. Не веря своим глазам, смотрели монахи и ремесленники на щель в стене. Она неопровержимо доказывала, что вера в неприступность городских укреплений – лишь иллюзия и самообман.
Все окрестности за стенами превращены в пустыню. Деревья вырубили, чтобы улучшить обзор, и пни, оставшиеся от кипарисов и платанов, торчат на темных проплешинах и белеют среди зеленой травы. Свели даже плодовые деревья, а все постройки сровняли с землей, чтобы не оставить осаждающим ни одного укрытия. Где-то вдали, за горизонтом, в весеннее небо поднимается черный столб дыма; похоже, там горит дом. В остальном же пустынный пейзаж недвижен и мертв. Никаких признаков жизни…
Разводной мост еще действовал. Потому я велел открыть частично замурованные ворота и послал несколько человек за пушечным ядром. Даже самому сноровистому каменотесу не хватит целого дня, чтобы превратить твердую глыбу в ядро такого размера. Я разместил лучников в башне и за зубцами внешней стены так, будто их товарищи совершали настоящую боевую вылазку. Те, кого я отправил наружу, чувствовали себя неуверенно и, покинув защищенное стенами пространство, тут же начали испуганно озираться вокруг. Но они быстро осмелели, выкопали ядро и притащили его обратно.
Некоторые из них, чтобы освежиться, искупались во рву; его выкопали и наполнили водой совсем недавно, и потому вода эта все еще свежая и чистая. Она поступает в ров, имеющий более тридцати шагов в ширину и столько же – в глубину, по искусно проложенным под землей каменным акведукам из моря и больших резервуаров, расположенных в разных частях города. Ров перегорожен множеством дамб, удерживающих воду во время морского отлива, и отделяет стену и город от материка, словно длинная цепочка прудов. У Влахерн ров кончается: склоны холма слишком круто спускаются там к гавани. Зато стены и башни там более мощные, а дворцовые здания являются частью оборонительных сооружений и образуют единое целое с крепостью, которая тянется до самого берега.
Но эта громадная стена треснула сегодня от одного только выстрела, сделанного из стоявшей на ней пушки.
18 марта 1453 года
Мы больше не разговаривали с Анной о политике. Оставляем свои мысли при себе Ее тело мне верит. Ее сердце – нет.
Я посчитал своим долгом сообщить Джустиниани о том, что говорят люди. Его это совершенно не взволновало. Он посмотрел на меня, как на глупца.
– Конечно, ни один разумный человек не хочет войны, – сказал генуэзец. – Совершенно естественно, что женщины мечтают сохранить своих мужчин, дома и скарб. Если бы я сам был купцом или землепашцем, резчиком или прядильщиком шелка, я не начинал бы войну ни за что на свете. Но на самом деле народ не значит ничего. Десяток закованных в броню мужчин может держать в повиновении тысячу человек. Это нам доказали еще римляне. Народ не играет никакой роли. Если нужно, он кричит то, чему его научили. Он – как скот, который под бичами погонщиков покорно бредет на бойню.
Первое, что я сделал, получив жезл протостратора, – это приказал собрать и переписать все оружие в городе, – продолжал Джустиниани. – Это распоряжение касалось в равной мере как знати, так и простолюдинов. Сыновьям архонтов пришлось сдать инкрустированные слоновой костью арбалеты, а мясникам – топоры. Каждый день у новобранцев после занятий изымают пики и копья. Оружие разрешено иметь только караульным на постах. Все остальные могут упражняться с чем угодно – но не имеют права уносить оружие домой. А безоружный народ неопасен. Я прибыл в город, который кипел ненавистью и недоверием к латинянам. Превратил его в спокойное и законопослушное место, жители которого прилежно осваивают ратную науку, чтобы защищать свои дома и храмы под предводительством латинян. Уже одно это – немалый военный успех, не так ли? Нет, не волнуйся за народ, Жан Анж. Он будет сражаться за свою жизнь, а я прослежу, чтобы ни у кого не было времени подумать об измене, когда начнется война.
Вот наши собственные моряки, которые сейчас бездельничают, представляют собой гораздо большую опасность, – продолжал генуэзец. – Их своеволие приносит немало бед и злит как латинян, так и греков. – Джустиниани бросил на меня веселый взгляд и потер свои огромные лапищи. – Мне стоило больших трудов уговорить императора, чтобы он запряг матросов в работу, – сказал генуэзец. Зачем нанимать бесполезных людей за три тысячи дукатов в месяц? Греческие поденщики хотят, чтобы им платили за каждый камень, который они подносят к стене, и за каждую корзину земли, которую перетаскивают с места на место. Это совершенно правильно и вполне естественно. Они – бедные люди, им надо кормить себя и свои семьи. Но императору приходится платить за каждую лопату, в то время как моряки лишь играют на дудках да колотят в барабаны и день-деньской отплясывают на своих кораблях. Василевс не хочет ссориться с венецианскими шкиперами, а те со своей стороны оберегают своих людей от любой работы вне парусников. Однако теперь я настоял наконец на том, чтобы Алоизио Диего назначили главнокомандующим флотом.
Главнокомандующим всем флотом и портом, – с нажимом повторил новость Джустиниани. – А это означает, что завтра, ранним утром все большие галеры войдут в Золотой Рог и причалят у Влахернского холма, в Кинегионе. Там лежат приготовленные лопаты, кирки и корзины, в которых носят землю. Моряки должны будут выкопать ров от Деревянных ворот до башни Анемаса: там – открытое пространство. С нашей стороны было бы безумием позволить туркам подобраться почти к самым стенам Влахернского дворца. Там же рядом порт! И оттуда ничего не стоит сделать несколько подкопов под дворец. Я узнал, что султан послал не только за сербской конницей, но и за сербскими горняками.
Джустиниани, несомненно, получил и другие известия о султане, раз в последнюю минуту счел необходимым начать такую гигантскую работу, как создание нового рва. Но я не придавал этому слишком большого значения. Самой поразительной новостью было то, что Луку Нотара лишили звания флотоводца. В принципе было ясно, что владельцы и шкиперы латинских судов никогда не согласятся с тем, чтобы ими командовал грек. Но меня удивило то, что император решился именно сейчас нанести Нотару столь жестокое оскорбление.
– Лука Нотар неделю за неделей напрасно ждал разговора с тобой, – сказал я. – Даже не побеседовав с ним, ты сместил его с поста. Как ты посмел это сделать?
Джустиниани развел руками и живо воскликнул:
– Напротив, напротив! В полном согласии с императором Константином его советники и я решили, что такой опытный и мудрый стратег, как Лука Нотар, должен занять при обороне города самое достойное место. Что он будет делать во время осады, имея в своем распоряжении лишь прогнившие дромоны, поскольку латиняне желают сами командовать своим флотом? Нет, Нотар удостоен более высокой чести. Он будет руководить обороной большого участка стены.
Я не поверил своим ушам.
– Вы что, рехнулись? – закричал я. – Зачем вводите его в искушение? Это подло – и по отношению к нему, и по отношению к городу. Нотар же открыто заявил, что лучше покориться султану, чем папе.
Джустиниани весело глянул на меня. Мое возмущенное лицо рассмешило его.
– Делать нечего, – ухмыльнулся генуэзец. – Таково совершенно добровольное и единогласное решение императорских советников. Лука Нотар будет оборонять более четверти всей городской стены. Кто мы такие, чтобы отстранять человека от дел из-за его искренних убеждений? Среди нас не должно быть отныне места недоверию. Мы протягиваем Нотару дружескую руку, чтобы вместе, плечом к плечу, защищать этот чудесный город.
– Ты пьян? – спросил я. – Или император Константин лишился последнего ума?
Джустиниани сделал вид, что утирает слезу. Он никак не мог справиться с собой.
– Удостоенному такой чести Луке Нотару будет конечно, легче проглотить потерю дромонов, – с усмешкой продолжал генуэзец. – Первое, что сделает Алоизио Диего, готовясь оборонять порт, – это избавиться от всех маленьких и непригодных к бою судов. Потому и с императорских галер снимут такелаж, после чего вытащат их на берег. Их команд ждут не дождутся на тех участках стены, защитой которых будет руководить Нотар. Я не думаю, что смогу найти для него какие-то другие отряды.
Не волнуйся, – успокоил меня Джустиниани. – Множество других кораблей затопят или посадят на мель недалеко от берега. Если во время сражения они будут болтаться в порту или загорятся, то смогут повредить военные суда. А затопленные или выведенные из строя, они не соблазнят никого бежать из города, если дела наши будут совсем плохи. Таким образом мы постепенно наведем в порту порядок. Алоизио Диего – мудрый мужик, хоть и венецианец.
– Но вы же толкаете Нотара прямо в объятия султана, – проговорил я. – Выводите его на тот путь, на который он как грек и патриот, возможно, сам бы все-таки ступить не отважился. Отбираете у него порт и суда, которые он снарядил за собственный счет. Наносите уже обиженному человеку еще большее оскорбление. Я не понимаю императора и твоей политики.
– Мы вовсе не отбираем у него порт, – с невинным видом возразил мне Джустиниани. – Наоборот, Нотар как раз и будет защищать портовую стену. От венецианских торговых домов до Влахерн, всю внешнюю стену. По меньшей мере, пять тысяч шагов. Сам я скромно удовлетворюсь, ну, может тысячью шагами той стены, что прикрывает город с суши.
Мне не надо было смотреть на карту, чтобы понять что генуэзец имеет в виду. Если латинские суда будут охранять вход в гавань, то портовой стене, вытянувшейся вдоль Золотого Рога, вообще не будут угрожать турецкие атаки. Весь этот длинный отрезок стены может охранять лишь горстка солдат, которые будут наблюдать за движением в порту. Этот участок будет во время осады самым безопасным – если только у турок не вырастут крылья. Не имеет ни малейшего значения, кто возглавит оборону этого места.
Когда все это наконец дошло до меня, Джустиниани весело расхохотался. Он корчился и стонал, колотя себя кулаками по коленям.
– Ну, теперь понял? – простонал он, вытирая слезы. – Это – огромный кусок оборонительных сооружений. Гораздо больший, чем может быть вверен любому другому полководцу. Нотару приходится делать хорошую мину при плохой игре, даже если он и видит, каково реальное положение вещей. А он, конечно, видит. Он же не глупец!
– Вы проявляете по отношению к нему величайшее недоверие, да еще говорите, что оказываете ему огромную честь… – вздохнул я. – Что ж, может быть, это и мудро… Может быть…
Джустиниани перестал смеяться и вопросительно взглянул на меня.
– Мы лишаем Нотара возможности превратиться в предателя, – сказал он серьезно. – Когда начнется осада, он будет привязан к своему участку и не сможет нанести нам удар в спину, даже если захочет. Чем ты недоволен? Ты же сам предупреждал меня, что Нотару нельзя верить?
Все доводы рассудка говорили, что Джустиниани прав. Все доводы рассудка говорили, что генуэзец сумел самым деликатным способом обезвредить Нотара. Так чем же я все-таки недоволен?
19 марта 1453 года
Итак, большие галеры с развевающимися флажками, под вой рожков и барабанный бой вошли в порт Кинегион. Моряки и солдаты из команд строем сошли на берег, получили кирки, лопаты и корзины, развернули собственные стяги и промаршировали отрядами вдоль стены, остановившись у дворца Гебдомона. Там их ждал император на коне, одетый в золото и пурпур; василевс приветствовал моряков.
На землю были заранее нанесены контуры будущего рва. Линии вытянулись на двести шагов в длину. В обозначенных местах шкиперы вбили в землю стяги. Копать надо было на восемь шагов в глубину – не слишком тяжелая работа для почти двух тысяч человек. По знаку императора слуги выбили днища десятков бочек; каждый моряк мог подойти и напиться вина. Неудивительно, что люди взялись за дело с песнями и принялись наперегонки копать и наполнять землей корзины, которые подхватывали их товарищи, бегом относя к стене, чтобы укрепить ее с внешней стороны. Воцарилось веселое оживление; вскоре собралась большая толпа, чтобы поглазеть на моряков. Присутствие императора так польстило шкиперам, лоцманам и судовладельцам, что они лично приняли участие в работах.
На закате ров был почти готов. Лишь узкая полоска земли отделяла его от воды. Конечно, его нельзя сравнить с большим рвом, мощные стены которого выложены кирпичом, но и здесь края должны быть укреплены кольями и камнями, чтобы их не размыло водой.
25 марта 1453 года
Двое суток назад султан выступил из Адрианополя. Теперь осада – уже только вопрос дней.
26 марта 1453 года
Анна Нотар сказала мне:
– Дальше так продолжаться не может.
Мы уже не ссоримся. Слишком грозные тучи собрались над нашими головами. Всех угнетает ожидание; оно давит на сердце, как камень. Один раз я уже ждал так палача, прикованный к холодной стене. Но тогда мне нечего было терять и некого оплакивать. Теперь я мог потерять Анну.
– Да, это правда, – согласился я. – Рано или поздно кто-нибудь начнет приглядываться к тебе. И тебя могут узнать. У улиц есть глаза, а у стен – уши. Твой отец прикажет забрать тебя домой.
– Отца я не боюсь, – отмахнулась она. – Меня защищает монашеская ряса. Нет, я имела в виду совсем другое.
Мы прогуливались в тени платанов Акрополя и грелись на солнце, растянувшись на пожелтевших мраморных ступенях. По камням пробежала ящерица. Мраморное море блестело, как серебро. Босфор походил на темно-синюю ленту, лежащую меж покрытых весенней зеленью холмов. На другом берегу высились стены Перы. На башне развевался генуэзский флаг с крестом.
Хариклея нас не сопровождала. Она стирала белье и развлекала Мануила потоком благочестивых легенд о святых. В эти дни в моем доме выпито много вина. Но нам с Анной уже не было хорошо в моей комнате. Тревога гнала нас под открытое небо. Мы полагались на судьбу. Ведь Анну в любой момент могли узнать…
– Нет, я думала о другом, – повторила она. – Ты отлично понимаешь, о чем я говорю.
Солнце опалило ей лоб, и он стал красным. Она раскинула бронзовые от загара руки и шевелила погруженными в траву пальцами ног. Щеки Анны пылали, а губы улыбались. Но в ее карих глазах затаилась грусть.
– Я ношу это одеяние только для того, чтобы меня никто не узнал, – проговорила женщина. – Ведь на самом деле никакая я не монахиня. Теперь, отказавшись от своего дома, семьи, привычного уклада и подобающего поведения, я чувствую себя такой здоровой и счастливой, какой никогда не была раньше. Я с удовольствием ем и с наслаждением дышу полной грудью… С радостью подставляю ветру лицо… Я живу. Я существую. У меня есть тело. И оно охвачено волнением.
– Я уважал твое одеяние, – натянуто пробормотал я.
– И даже слишком, – ответила она с упреком. – Ты уважал мое одеяние больше, чем надо. Боишься совершить святотатство. Не смеешь дотронуться до меня.
– Мне хватает и того, что есть, – откликнулся я. – Мы – вместе. Мне сорок лет. Я люблю тебя. А любви без плотских желаний не бывает. Но желание мое светло, как ясный огонь. Мне не нужно к тебе прикасаться.
Она теребила свой рукав.
– Любви без плотских желаний не бывает. Возможно, ты и прав. Возможно, на это и внимания обращать не стоит. Но мое бесстыдное тело отчаянно твердит мне, что все же стоит. Когда ты кладешь руку мне на колено, я дрожу с головы до пят. Почему ты теперь этого не делаешь?
– Я не ангел, – проговорил я. – Не верь в это.
– У тебя поразительное самообладание, – заметила она. – Значит, я больше тебя не волную?
Она подняла ногу и погладила, словно касаясь дорогой ткани, голое колено, поглядывая на меня из-под опущенных ресниц. Но если бы я дотронулся до нее, она бы вырвалась и убежала. Я знал это. Она говорила так только для того, чтобы меня мучить.
– Я совершила великий грех, когда обманула доверие своего отца, – продолжала Анна. – Считала, что сумею искупить вину, надев монашеское облачение и горячо молясь в святой обители. Я не собиралась встречаться с тобой. Обманывала себя, думая, что через некоторое время приму постриг. Скажи мне, любимый, люди всегда лгут себе, чтобы получить то, о чем мечтают?
– Человек – неисправимый лжец, – ответил я. – Верит в то, на что надеется, и считает хорошим то, чего желает. Но сердце свое обмануть не может.
– Иоанн Ангел, – произнесла она задумчиво. – По-моему, лучше всего для нас обоих было бы, если бы ты захотел взять меня в жены. – Она прикрыла мне рот ладонью, не давая заговорить. – Конечно, ты венчался в латинском храме и супруга твоя жива, но это ничего не значит. Если ты пожелаешь отречься от ереси и принять истинную веру, сможешь креститься заново. Есть множество священников, которые охотно признают твой предыдущий брак недействительным и поженят нас – хотя бы для того, чтобы позлить латинян.
– Ну и какое это имело бы значение? – спросил я. – В сердце своем я муж госпожи Гиты. Не хочу нарушать клятв, данных перед Богом. Даже сам папа не освободит моего сердца от брачных уз, которыми я связал себя по доброй воле.
Анна с ненавистью смотрела на меня из-под опущенных ресниц.
– Стало быть, та особа значит для тебя больше, чем я, – процедила она. – Что же я могу поделать, если ты растратил молодость в объятиях другой женщины и тебе это опротивело. Ты даже не можешь смеяться. Нет, ты не умеешь смеяться. Если бы умел, то женился бы на мне. Почему ты не хочешь успокоить мою совесть? Ведь твоя совесть никогда не бывает спокойной, что бы ты ни делал.
– Твоя совесть тоже не была бы спокойной, – ответил я. – Венчание без согласия твоего опекуна, под вымышленным или неполным именем, не имело бы никакой силы. Этот брак в любую минуту могли бы признать недействительным как светские, так и церковные власти.
– Недействительным, да, – кивнула она. – Но это была бы судебная тяжба. А не преступление. Почему мы не можем обвенчаться в храме, где исповедуют истинную веру? Пусть даже брак наш будет тайным… Но тогда я могла бы перебраться к тебе в дом. По утрам просыпалась бы нагая под тем же одеялом, что и ты. Разве ради этого не стоит попросить твою больную совесть чуточку помолчать?
Я пристально смотрел на нее.
– Ты – мой грех, – произнес я. – Мой грех лишь станет еще больше, если я нарушу из-за тебя священные клятвы. Я прелюбодействую в душе, как только заглядываю тебе в очи или касаюсь твоей руки. Уже тогда, когда я впервые увидел твои глаза, я сразу узнал тебя и сердце мое открылось для греха. Почему ты не хочешь меня понять?
– А почему ты не хочешь быть только человеком и немножко поторговаться со своей совестью? – не отступала Анна. Но при этом она краснела все сильнее. Ее шея уже стала пунцовой.
– Каждый раз, когда я смотрю на тебя, сердце мое разрывается от любви, – призналась Анна. – Да. Похоже, так оно и есть… В душе я уже согрешила с тобой, хотя еще не нарушила никаких человеческих законов. Неужели ты не понимаешь, что я хочу обезопасить тебя и себя от любых обвинений и любых судей, если у нас с тобой что-то произойдет?
– Да смилуется Господь над нами! – вскричал я. – Если мы взойдем с тобой на ложе, грех наш, наверное, не станет ни большим, ни меньшим, чем был бы, если бы церковь благословила наш союз. Это лишь наше с тобой дело. И мы отвечаем только друг перед другом. Но пытался ли я хоть раз соблазнить тебя? Хотя бы этого ты не можешь поставить мне в вину.
– Конечно, пытался! Глазами. Руками. И вообще, спор этот – глупый и ненужный, поскольку мы говорим о разных вещах. Ты сразу поднимаешься на пьедестал, как и все мужчины, и вещаешь оттуда о высоких принципах, а я, приземленная женщина, толкую о том, как бы все получше устроить, нарушая приличия и наши представления о добрых нравах не больше, чем необходимо.
Я изумленно уставился на нее.
– И ты думаешь, что после этого дело можно будет считать решенным?
– Конечно, – ответила Анна, косясь на меня из-под ресниц и словно наслаждаясь моим волнением.
– В таком случае, – заявил я, – какое нам, черт возьми, дело до приличий и представлений о добрых нравах. Мы же взрослые люди. Турки вот-вот будут у городских ворот. Потом загремят пушки. А после придут страх и смерть. Это же, наверное, безразлично, встретим мы смерть, считаясь супругами или нет.
– Благодарю тебя, любимый, благодарю тебя! – воскликнула она с наигранной радостью. – Раз тебе это безразлично, то я как женщина в таком случае, разумеется, выбираю брак.
Я бросился на нее, но она откатилась в сторону, увлекая меня за собой на траву. Ее глаза насмешливо улыбались. Она громко хохотала, отбиваясь изо всех сил. А когда я придавил ее к земле, женщина напряглась, прижала руки к моей груди и прошептала, закрыв глаза:
– Нет, Иоанн Ангел, никогда в жизни. Ты никогда не возьмешь меня силой. Только после того, как ты откажешься от своей латинской ереси и нас благословит греческий священник.
Наша борьба была возбуждающей и сладостной. Но Анна вдруг оцепенела и побледнела, открыла глаза и уставилась на меня расширенными черными зрачками. Неожиданно она вонзила зубы мне в плечо, укусив изо всех сил, словно пытаясь вырвать клок из моего тела. Я вскрикнул от боли и отпустил женщину.
– Вот тебе! – пробормотала она. – Теперь ты мне веришь. Хочешь меня мучить?
Анна села, пригладила волосы и тихо замерла, прижав ладони к щекам.
– Неужели это я, – шептала она, устремив взгляд в пространство, – неужели это я, Анна Нотар? Я, валяющаяся в траве с латинянином, словно девка из таверны в конюшне? Никогда, никогда не думала, что способна на такое.
Анна покачала головой. Внезапно женщина ударила меня по лицу и стремительно вскочила на ноги. Я понимал ее. Это была целиком и полностью моя вина.
– Не желаю тебя больше знать! – цедила Анна сквозь стиснутые зубы. – Ненавижу тебя, как никогда и никого не ненавидела. Ненавижу твои глаза и твои губы, твои руки и твои пальцы. Но сильнее всего ненавижу твою совесть. И это чистое пламя. Как ты можешь позволять себе нести такую чушь?
Я привел в порядок свою одежду. И молчал.
– Ты права, Анна, – наконец сказал я. – Так дальше продолжаться не может.
Я ведь написал, что мы больше не ссоримся?
31 марта 1453 года
Последний день этого месяца. Скоро все изменится.
Император не решается больше ждать. Сегодня моряки прокопали последний кусок рва и наполнили его водой. Возможно, временная крепь из кольев и камней продержится, сколько нужно.
Работая, моряки часто поглядывали в сторону холмов. Уже не было слышно ни барабанов, ни дудок. Даже стяги исчезли. Император в серебряном шлеме и доспехах сам поднялся верхом на один из холмов; василевса сопровождал отрад стражников. Но турок не было видно. Их войско огромно – и двигается медленно.
Венецианцы, возглавляемые двенадцатью членами своего Совета, прибыли сегодня в императорский дворец. Василевс доверил им оборону четырех ворот Влахернского дворца и вручил ключи. Сам он формально отвечает за ворота святого Романа. В действительности и их, и всю долину реки Ликос до самых ворот Харисия защищает Джустиниани. С сегодняшнего дня все пребывают в полной боевой готовности. Отряды стражников резко увеличены. Однако большинство воинов все еще живет в городских домах.
После нашей последней встречи Анна Нотар три дня не покидала монастыря. Не знаю, кого она хотела наказать: меня или себя. Третьего дня пришла одна Хариклея со своей деревянной плошкой, удобно устроилась за столом и начала грустно сетовать на капризы молодых женщин. Мануил принес Хариклее еду из таверны напротив, и, изрядно поломавшись, пожилая женщина с удовольствием откушала. Похоже, Хариклея считает, что злоупотребляет нашим гостеприимством, если появляется без Анны. И я собственноручно налил Хариклее вина, чтобы доказать, что рад видеть и ее одну. Она стала испуганно отнекиваться, потом перекрестилась и выпила три больших кубка.
– Сестра Анна молится, чтобы Господь указал ей путь, – призналась Хариклея. – Сестра Анна боится соблазна, который подстерегает ее в твоем доме.
– Тот, кто боится соблазна, уже поддался ему, – ответил я. – Мне очень грустно это слышать, сестра Хариклея. Передай ей мой привет и скажи, что я никоим образом не желал вводить никого во искушение или посягать на чью-то невинность. Скажи ей, что если дело касается меня, то она может обходить мой дом стороной.
– Э-э, вот еще, – фыркнула сестра Хариклея. Мои слова пришлись ей вовсе не по вкусу. – Все это – только капризы. Есть ли женщина, которая знает, чего на самом деле хочет? Удел женщины на этом свете – бороться со всевозможными соблазнами. И лучше смело, с высоко поднятой головой идти им навстречу, чем трусливо бежать от них, не разбирая дороги.
Отец Хариклеи пересказал ей все древнегреческие мифы и легенды, какие только знал. У нее – живое воображение, и она от всего сердца наслаждается новыми поворотами сюжета в поэме об Анне и обо мне. В душе Хариклея – прирожденная сводня, как и все женщины. Но у нее нет никаких задних мыслей.
Не знаю, что она наговорила Анне, но назавтра они пришли к нам вместе. Едва переступив порог моей комнаты, Анна откинула голову назад и сбросила монашеский капюшон. Она снова оделась как благородная женщина, ведущая мирскую жизнь. Подкрасила губы, нарумянила щеки и подвела синим брови и ресницы. Лицо Анны было надменным, и она обращалась ко мне, как к малознакомому человеку.
– Сестра Хариклея утверждает, что ты страдал в разлуке со мной, – холодно произнесла женщина. – Говорила, что ты похудел и побледнел за эти несколько дней и что в глазах твоих даже появился дикий горячечный блеск. Я, разумеется, не хочу, чтобы ты болел из-за меня.
– Видимо, сестра Хариклея тебя обманула, – так же холодно ответил я. – Я не чувствовал никакой потери. Наоборот, впервые за многие дни я наслаждался блаженным покоем. Мне не надо было выслушивать язвительных упреков, ранящих мое сердце.
– Верно, верно, – прошипела Анна сквозь стиснутые зубы. – Что я тут, собственно, делаю? Ты не похож на страдающего человека. Так что мне лучше уйти. Я хотела только убедиться, что ты не болен.
– Не уходи так быстро, – торопливо попросил я. – Мануил приготовил для Хариклеи варенья и пирог. Позволь бедной женщине полакомиться! На монастырских харчах не разъешься… У тебя и у самой запали щеки, а вид такой, словно ты несколько ночей подряд не смыкала глаз.
Анна поспешно подошла к моему венецианскому зеркалу.
– Не вижу на своем лице никаких следов бессонницы, – сказала она.
– У тебя так блестят глаза, – пробормотал я. – Нет ли у тебя горячки? Можно, я дотронусь до твоей щеки?
Женщина отшатнулась от меня.
– Конечно, нельзя, – разозлилась она. – Только попробуй – и я тебя ударю.
В следующий миг Анна лежала в моих объятиях. Охваченные безумным желанием, мы целовались и ласкали друг друга. Мы целовались так, что забыли обо всем на свете. Монашеская ряса не была больше ей защитой. Тяжело дыша, Анна страстно целовала меня, гладила мою голову и плечи, тесно прижималась к моему телу. Но мое желание пылало напрасно. Ее воля и ее девственность бодрствовали даже тогда, когда глаза Анны были крепко закрыты. И лишь когда я начал слабеть, она распахнула их, оттолкнула меня от себя и торжествующе заявила:
– Видишь, я могу тебя по крайней мере мучить, если уж ничего другого мне не остается.
– Ты точно так же мучаешь и саму себя, – ответил я. Глаза мои были еще влажными от страсти.
– Не надейся на это, – усмехнулась Анна. – Пока я знаю, что могу превращать твою радость в боль, я буду наслаждаться тем, что делаю. Увидишь, кто из нас двоих сильнее. Сначала я растерялась из-за своей неопытности, но постепенно немного изучила ваши западные нравы.
Дрожащими руками Анна принялась приводить в порядок свою одежду и укладывать перед зеркалом волосы.
– Не думай, будто я так наивна, что ты можешь распоряжаться мной, как хочешь, – сказала она с непокорной улыбкой. – Вначале я действительно совершила эту ошибку, и ты играл на струнах моей души, как на кифаре. Теперь моя очередь играть тобой. Посмотрим, сколько времени ты выдержишь. Я получила хорошее воспитание – и я взрослая женщина, как неоднократно отмечал ты сам. Меня не соблазнишь, как первую попавшуюся красотку из таверны.
Анну словно подменили. Даже ее голос стал насмешливым и резким. Я все еще не мог унять дрожь. Ничего не сумел ответить. Лишь смотрел на Анну. Она бросила на меня через плечо кокетливый взгляд. Стройная белая шея. Синие дуги бровей. Ее голова казалась цветком в драгоценной вазе. Аромат гиацинтов, которым благоухала кожа Анны, до сих пор сохранился на моих ладонях.
– Я не узнаю тебя, – поговорил наконец я.
– На самом деле я и сама себя не узнаю, – в приливе откровенности ответила она. – Даже не подозревала, что таится в моей душе. Похоже, ты сделал из меня женщину, господин Иоанн Ангел.
Анна подбежала ко мне, обеими руками вцепилась мне в волосы, сильно тряхнула мою голову и поцеловала меня в губы. Потом столь же неожиданно женщина оттолкнула меня.
– Это ты сделал меня такой, – мягко проговорила она. – Пробуждаешь к жизни все скверные свойства моей натуры. Но это – совсем не страшно. Я с интересом наблюдаю за собой.
Анна взяла мою бессильную руку и словно в задумчивости начала поглаживать ее кончиками пальцев.
– Я слышала о нравах, царящих на Западе, – произнесла женщина. – Ты сам рассказывал мне о них. Благородные господа и дамы могут совершенно открыто купаться и резвиться вместе. Прекрасные дамы ходят с обнаженной грудью и разрешают своим друзьям приветствовать их галантным поцелуем в самый сосок. Во время легкомысленных пиршеств влюбленные пары забавляются, слушая музыку и потягивая вино. Даже женатые мужчины позволяют своим супругам делить ложе с добрыми друзьями и отвечать на их ласки, пока ничего худшего не происходит.
– У тебя странное представление о Западе, – заметил я. – Во всех странах люди легкомысленна и порочны, и всюду – свои обычаи. Что у христиан, что у турок. Что в Венеции, что в Константинополе. Потому-то люди такого склада столь охотно путешествуют под разными предлогами из страны в страну. Даже паломничество оказывается для многих лишь предлогом в наши трудные времена всеобщей испорченности, когда вера умерла – и от нее осталась только пустая оболочка. Чем больше человек ищет наслаждения, тем труднее ему найти новые забавы. Людская изобретательность имеет в таких делах свои границы, и человек вынужден довольствоваться узким мирком своих чувственных ощущений. Того, кто не желает ничего иного, терзает вечная неудовлетворенность.
У тебя и правда странное представление о Западе, – повторил я. – Я встречал там немало святых людей. Богачей, которые отдали все свое имущество беднякам и ушли в монастырь. Знатных особ, которые отказались от своего положения, чтобы жить милостыней. Ученых, которые портят глаза, вчитываясь в древние манускрипты. Принцев, которые платят целые состояния за старые, изгрызенные мышами рукописи. Астрологов, которые всю жизнь посвятили тому, чтобы вычислить орбиты небесных тел и постичь влияние звезд на человеческие судьбы. Купцов, которые придумали учетные книги, чтобы в любой момент знать все о своих деньгах. Играющие и поющие глупцы есть в каждой стране. Различаются лишь формы общения мужчин и женщин.
Казалось, Анна почти не слышит моих слов. Она вертелась перед зеркалом. Отстегнула брошь и стянула с плеч платье, обнажив грудь. Чуть склонив голову набок, женщина критически разглядывала свое отражение. Одновременно она внимательно наблюдала в зеркало за мной.
– Нет, – сказала она. – Нет, моя стыдливость не позволяет мне появляться в таком виде перед мужчинами. Мне надо сначала хотя бы посмотреть, как это делают другие женщины. Возможно, тогда я сумела бы быстро привыкнуть и уже не считала бы это чем-то предосудительным.
– Ты меня искушаешь, – проговорил я. В горле у меня пересохло.
– Да Боже упаси, – равнодушно ответила она и быстро натянула платье на плечи. – Разве мне это по силам? Искушать тебя – такого стойкого и чистого? Как такая неопытная женщина, как я, может тебя соблазнить? Ты же сам сказал, что ищешь новые забавы. А какое разнообразие я могу тебе предложить?
Злорадные нотки в ее голосе разозлили меня, хотя я и решил сохранять спокойствие.
– Я никогда этого не говорил! – закричал я. – Я рассказывал не о себе. Наоборот! Я всегда скорее избегал женщин, чем тянулся к ним. Они только мутили мой разум, затемняли ясность мысли. Потому я предпочитал держаться от них подальше. И начал ненавидеть их блестящие глаза и удушающие ласки.
Анна Нотар отвернулась и сцепила руки за спиной.
– Удушающие ласки, – повторила она. – Я тебя ненавижу!
– Но я же не тебя имел в виду! – испуганно воскликнул я. – Господи Боже, конечно, я не думал о тебе!
– Дряхлый латинянин! – прошипела Анна. – Выжатый лимон! – Она схватила свой монашеский плащ, завернулась в него и натянула на голову капюшон, который почти полностью скрыл ее лицо. – Прощай, – сказал женщина. – И благодарю тебя за науку. В следующий раз я буду умнее.
Она не сердилась на меня. Я знал это, хоть она и старалась уязвить меня своими словами как можно больнее. Анна покинула меня не в гневе, а спокойная и довольная. Она ушла с высоко поднятой головой. Сама ведь сказала: в следующий раз. А я-то, бедный, думал, что знаю ее так, точно она – часть меня самого.
1 апреля 1453 года
С раннего утра звонили церковные колокола и гремели колотушки, созывая людей на молитву об избавлении города от напасти. Стояла прекрасная солнечная погода. Дивное весеннее утро… Гигантская заградительная цепь уже лежала наготове возле портовой стены. Колья, на которых будет висеть цепь, обновили, а звенья самой цепи отремонтировали и укрепили. Теперь она лежит на берегу – но, даже свернутая, тянется от башни Евгения до самой башни святого Марка. После молебна большая воскресная толпа гуляющих горожан двинулась на берег, чтобы посмотреть на портовое заграждение. Гладко отесанные колья, которые должны удерживать цепь на поверхности воды и придавать ей устойчивость, столь мощны, что взрослый мужчина не может обхватить ни один из них руками. Звенья цепи толщиной с мою лодыжку, а поставленные на ребро, достают мне до середины бедра. В колья вбиты огромные крючья. Знаменитая заградительная цепь у входа в родосский порт – игрушка в сравнении с константинопольской цепью. Ее не сможет разорвать даже самый большой корабль. Родители показывают цепь детям, которые без труда пролезают сквозь ее звенья. Даже император приехал со своей свитой в порт, чтобы осмотреть заграждение. Один конец цепи прикован к скале возле башни Евгения.
После полудня обе монахини, держась за руки, опять вошли в мой дом. Утренний молебен и вид заградительной цепи снова приободрили Хариклею. Она болтала без умолку и рассказывала Мануилу, что множество святых и сама Богородица веками хранили Константинополь и обращали турок и других врагов, нападавших на город, в бегство. Когда турки построили крепость на Босфоре, сам предводитель небесного воинства архангел Михаил перенесся с пылающим мечом с Босфора в Константинополь, клялась Хариклея. Множество достойных всяческого доверия людей уже видели архангела в облаках над храмом Святых Апостолов. Его одежды сияли столь ослепительно, что людям приходилось закрывать лица и отводить глаза.
– А сколько пар крыльев у него было? – заинтересованно допытывался Мануил, чтобы внести наконец ясность в этот старый вопрос, вызывающий горячие споры.
– Не нашлось ни одного человека, который сумел бы сосчитать, – сердито буркнула в ответ Хариклея. – Огненный меч ослепил людей, и потом никто долго не видел ничего, кроме сияющих кругов, рассыпанных по всему небу.
Так они болтали, и я тоже иногда принимал участие в разговоре, потому что было воскресенье и стояла прекрасная погода. Анна же наотрез отказалась входить в мою комнату. Молча сидела – и снова казалась незнакомкой, закутанной с головы до ног в черное монашеское одеяние, с закрытым лицом и руками, спрятанными в широких рукавах. Когда я ее о чем-нибудь спрашивал, она лишь едва заметно качала головой, словно дала обет молчания. Я смог, понять по ее лицу только одно: она была страшно бледной. Ее огромные карие глаза смотрели на меня с немым укором. Под ними залегли синие тени, а веки покраснели, точно Анна плакала. Короче говоря, она делала все, что в ее силах, чтобы пробудить во мне сочувствие и угрызения совести. Когда я попытался взять Анну за руку, женщина испуганно отпрянула. Я подозревал, что она использовала белую пудру и обвела глаза синим – так неестественно она выглядела.
Выпив чуть больше вина, чем надо, сестра Хариклея время от времени косилась на Анну, с трудом сдерживая смех. Каждый раз Анна бросала на нее гневные взгляды – и Хариклея прикрывала рот ладонью, но вскоре опять начинала хихикать.
Наконец я не выдержал. Подошел к Анне, схватил ее за локти, поднял на ноги и грубо спросил:
– Зачем ты тут кривляешься? И что должно означать это дурацкое представление?
Она сделала вид, что испугалась, приложила палец к губам и предостерегающе произнесла:
– Тсс, слуги услышат.
И словно смирившись с чем-то неизбежным, Анна пожала плечами и двинулась за мной к лестнице, но снова решительно отказалась войти в мою комнату.
– Нет, этой глупости я больше не сделаю, – заявила женщина. – Я должна беречь свою репутацию. Что твой слуга подумает обо мне?
И если уж речь о слугах, – все быстрее говорила Анна, – то ты ведешь себя так, будто мы давно женаты, и оскорбляешь меня в присутствии челяди. И нечего тебе болтать всякую чушь с этой женщиной. Она глупа, как пробка, и ничего не понимает. А может, это я тебя не понимаю? Может, это в нее ты влюбился, а я – лишь прикрытие для ваших тайных встреч, во время которых ты можешь поить ее вином и превращать в жертву твоего вожделения, когда она уже не в силах сопротивляться? Потому я и не решилась отпустить ее сюда одну, хотя сама, конечно, предпочла бы никогда больше не видеть этого дома.
– Ах, Анна, – умоляюще проговорил я. – Ну почему ты такая? Я уже не знаю, что о тебе и думать. То ли ты сошла с ума, то ли я рехнулся?
– Конечно, конечно, оскорбляй меня и называй сумасшедшей, – безжалостно продолжала Анна. – Во всем виновата я сама, раз бросила дом и семью и доверилась тебе. Не могу даже вспомнить, когда я в последний раз слышала от тебя доброе слово. Тебе ничем не угодишь. Если я одеваюсь, как приличествует моему титулу и положению, ты относишься ко мне, как к уличной девке. Если я стараюсь доставить тебе удовольствие и веду себя тихо и скромно, ты проклинаешь и поносишь меня, причиняешь мне боль своими жесткими ручищами и тащишь меня к себе в комнату, чтобы совершить надо мной насилие. Проклинай меня, если уж тебе так хочется, но сначала избавься от бревна в собственном глазу!
– Боже, смилуйся надо мной, угодившим в сети к такой женщине! – простонал я, изнуренный и отчаявшийся. – Наверное, я действительно – латинянин в душе, и мне никогда не понять гречанку.
Анна немного смягчилась, снова широко распахнула свои дивные глаза и сказала:
– Не жалуйся на греков. Ты просто не понимаешь женщин. Возможно, никакой ты не гуляка и не соблазнитель, а наоборот, только очень неопытный мужчина. И потому мне, видимо, придется простить тебя.
– Простить меня? – в ярости вскричал я. – Это еще вопрос, кто и кого тут должен прощать! Но я очень тебя прошу: прости меня. На коленях умоляю тебя об этом – если ты только соизволишь прекратить эти ужасные упреки и невыносимые разговоры. Я больше этого не выдержу. Почему ты так обращаешься со мной?
Анна стыдливо опустила глаза, но поглядывала на меня украдкой из-под ресниц.
– Потому что я люблю тебя, господин Иоанн Ангел, – нежно прошептала она. – Люблю так сильно, что мне хочется плакать, как только я подумаю об этом. И еще потому, что ты ведешь себя так по-детски. Но, может, именно поэтому я и люблю тебя так безумно.
Я уставился на Анну, не веря собственным ушам и ничего не понимая.
– Странная, однако, любовь, – пробормотал я. Она ласково потрепала меня по щеке.
– Друг мой, мой единственный господин и повелитель, – нежно проговорила Анна. – Почему ты так ужасно упрям?
– Я? Упрям? – Я онемел от гнева, и мне пришлось сглотнуть, чтобы суметь что-то сказать. – Во всяком случае, я хотя бы не так дьявольски капризен, как ты.
– Капризен? – спросила она, будто всерьез задумавшись над этим словом. – Разве я и правда капризна? Ну да, я не смотрю на эти вещи так просто, как ты. Женщина обычно относится к таким делам несколько сложнее.
– Так что же ты хочешь от меня? – воскликнул я. – Скажи же наконец!
– Брака – законного настолько, насколько это возможно в таких условиях, – четко и ясно проговорила она, с нажимом произнося каждое слово. – Мне нужно думать о своей репутации, о своем будущем, о своей семье и об отце.
Я сжал кулаки так, что ногти впились мне в ладони.
– У нас нет никакого будущего, – сказал я, с трудом сохраняя самообладание. – Постарайся наконец понять, что твое происхождение и дворец твоего отца, твоя репутация и все остальное не будет скоро иметь ни малейшего значения. Турецкие орудия – в пяти тысячах шагов от города. Их так много, что они просто не поддаются счету. У нас нет никакого будущего, вообще никакого, ясно тебе?
– Почему же ты тогда так упорно отказываешься пойти мне навстречу? – осведомилась Анна, стараясь говорить так же спокойно, как я. – Если нам больше нечего ждать – и ничто не имеет никакого значения, то почему же ты не хочешь исполнить моего желания – такого мелкого и несерьезного? Объясни мне ради Христа!
– Церкви объединились, – вздохнул я. – Постарайся это понять. Уния вступила в силу. Латинское венчание равнозначно греческому. Поэтому я нарушу священные клятвы, если добровольно и сознательно женюсь второй раз. Это – дело принципа. Господи, я не отрекся от своей веры даже под мечом палача. Не менее позорным было бы сделать это сейчас, уступив простому женскому капризу.
– В большинстве храмов до сих пор читают прежний символ веры, – упрямо ответила Анна. – Венчают и отпевают, крестят и причащают по-старому… Георгий Маммас – лжепатриарх, исключенный из святейшего синода. Папа не может возвысить этого человека. Маммас – тень, возвеличенная императором. Истинная греческая церковь скрывается сейчас в этой тени, но придет время – и тень исчезнет… Прими нашу веру – и твой первый брак, находящийся за пределами человеческого разумения, сам собой станет недействительным, словно его никогда и не было.
Я бил себя кулаками в грудь и рвал на себе волосы.
– Зачем я пришел в этот мир, полный мук и страданий! – горько вскричал я. – Почему не могу жить, как хочу и как подсказывает мне совесть! Что за проклятие тяготеет надо мной и моей судьбой? Значит, и тебе надо насылать на меня церковников и законников, хотя я даже не дотронулся до тебя?
– И никогда не дотронешься, даже если это будет стоить мне жизни! – взорвалась Анна. – Для меня это – тоже дело принципа, как ты тут без конца твердил. Живи так, как велит тебе твоя совесть, но тогда ты проведешь свои дни и умрешь в полном одиночестве. Мы находимся на земле, а не на небе. И тот, кто хочет жить среди людей, должен отказаться от частицы себя самого и приспособиться к окружающим. Я бросила ради тебя дом и отца. Ты тоже должен в чем-то уступить мне. Иначе я раз и навсегда пойму, что мы не созданы друг для друга. Нужно выбирать. Ты сам так говорил когда-то. Вот и выбирай. Теперь твоя очередь. Это мое последнее слово!
Глаза мои наполнились злыми слезами. Я влетел в комнату, пристегнул к поясу меч, натянул сапоги и схватил доспехи.
– Прощай, Анна! – крикнул я, пробегая мимо нее по лестнице и устремляясь на улицу. – Отныне ищи меня на стене, а не здесь. Тебе досталось яблоко, но ты не решаешься надкусить его, боясь, что оно окажется червивым.
– Подавись своим яблоком! – завопила она в ответ и запустила в меня первым подвернувшимся под руку предметом. По случайности это оказалась моя бесценная стеклянная лампа. Она разбилась о мою голову, поранив осколками шею и руки. Но в тот момент я этого даже не заметил. Выскочив на улицу, я так хлопнул дверью, что затрясся весь дом.
Анна кинулась вслед за мной, снова распахнула дверь и с тревогой крикнула мне в спину:
– С тобой ведь не случилось ничего плохого?
Я не оглянулся. Я стремительно шагал по улице, а доспехи лязгали у меня под мышкой, словно сам дьявол гнал меня вперед. Да, я любил ее до безумия…
4 апреля 1453 года
В понедельник цепь прикрепили к кольям и перекрыли вход в порт от башни Евгения до Галаты в Пере. Порт на замке. Ни одно судно не может теперь выйти в море. Цепь висит над водой, вытянувшись гигантской змеей от одного берега до другого.
В сумерках всю северо-западную часть небосклона озарили огни турецких походных костров.
Выйдя из дома, я отправился к Джустиниани, который жил рядом с воротами святого Романа. Латиняне бездельничают в башнях и караульных помещениях, варят баранину в котлах, играют в карты и пьют вино. Греки поют многоголосые псалмы и молятся. Стражники не смыкают глаз на стенах. Время от времени кому-нибудь из караульных кажется, что в темноте мелькнула чья-то тень, и тогда они бросают вниз факел или выпускают из лука горящую стрелу, которая летит через ров. Но под стенами города никого нет.
Скоро в котлах уже не будет вариться мясо, а забурлит расплавленный свинец и кипящая смола.
На стенах проложили множество труб и змеевиков и установили изрядное количество тяжелых бомбард, изрыгающих большие каменные ядра, которые должны описывать высокую дугу над рвом. Правда, в деле эти орудия еще не испытывали. Порох берегут для пищалей и мушкетов, стреляющих свинцовыми пулями.
Императорские мастера разместили на внешней стене еще и дедовские баллисты и катапульты. Они могут метать большие каменные блоки, посылая их далеко за ров, но летят эти снаряды медленнее, чем ядра бомбард.
Если защитникам города дать на выбор мушкет и самострел, то лишь один из пятидесяти предпочтет мушкет. Самострел и надежней, и безопасней.
На северо-западе полыхает зарево костров. Латиняне бьются между собой об заклад, будут ли турки у наших ворот уже завтра. Напряжение лишило всех покоя. Никто толком не спит. Наемники постоянно изрыгают проклятия. Это режет слух грекам, которые стараются держаться от латинян подальше.
Горечь и сомнения наполняют мою душу, пока я бодрствую, как и все вокруг. Не могу перестать думать об Анне Нотар. Не могу. Не верю, что только судьба безжалостно и непреклонно толкает меня на этот путь. Почему Анна так настойчиво желает, чтобы нас соединили с ней узы брака? Она же должна понимать: у меня есть причина для отказа. Есть причина. Есть.
Если я заявлю, что отвергаю унию, и женюсь на Анне Нотар, это будет значить лишь одно: я поддался дьявольскому искушению.
Зачем Анна снова встала на моем пути? Не было ли все решено заранее? И правда ли, ее отец не знает, что она не уехала из города? А может, отец и дочь действуют заодно, в тайном согласии? Но ведь Луке Нотару не может быть известно, кто я такой.
Почему, почему я встретил ее у храма Святой Софии? Мой путь был тогда таким прямым и светлым. Теперь разум мой снова замутнен, и мысли путаются у меня в голове. Могу ли я позволить, чтобы душа моя подчинилась желанию тела? Но любовь моя столь же духовна, сколь телесна. Такова моя вера. Такова была моя вера!
Я всего лишь человек, а не ангел. Но боль в колене Мануила прошла, когда я положил ладонь ему на голову.
Разве я не должен ненавидеть эту женщину? Но я ее люблю.
5 апреля 1453 года
Вскоре после восхода солнца над дорогами и тропинками, ведущими к городу, заклубились тучи пыли. А потом показались и первые отряды турок, двигавшиеся россыпью. Увидев перед собой стены Константинополя, турки принялись громко взывать к Аллаху и пророку Магомету и размахивать оружием. Наконечники копий и кривые мечи отливали в клубах пыли кровавым блеском.
Джустиниани послал за мной гонца. Император и генуэзец сидели на застывших в неподвижности конях у ворот Харисия. Около сотни знатных греческих юношей ждало по обе стороны ворот, с трудом сдерживая горячих скакунов, которые били копытами и вскидывали головы. Это были те самые молодые люди, которые издевательски смеялись, когда василевс держал перед латинянами речь. Те самые, что привыкли гарцевать по Ипподрому. Красивые и надменные юнцы, считавшие ниже своего достоинства даже разговаривать с латинянами.
– Ты ведь неплохо держишься в седле, Жан Анж, – обратился ко мне Джустиниани. – Не умеешь ли ты еще и трубить в рог?
Удивившись, я утвердительно кивнул.
– Ты же рвешься в бой, так ведь? – продолжал Джустиниани. – Хорошо. Можешь поучаствовать в бою. Но внимательно следи, чтобы схватка не слишком затянулась и чтобы вас не окружили. Крикни по-гречески этим проклятым глупцам, что я прикажу повесить каждого, кто не обратит внимания на звуки рога и не вернется по этому сигналу назад. Нам нельзя терять ни единого человека. Эта вылазка должна лишь показать нашу силу, а не обратить все турецкое войско в бегство. Мы хотим только внести небольшое замешательство в ряды турок, и ничего более. Внимательно смотри на башню. Я махну флагом, если вам будет грозить опасность с флангов.
Я взял в руки рог и затрубил. Звук был ясным и чистым. Горячие скакуны встали на дыбы. Я крикнул юношам, что никоим образом не желаю им навязываться и греться в лучах их будущей славы. Но по приказу протостратора должен их сопровождать, чтобы дать сигнал к возвращению в город. И еще напомнил, что я старше их и участвовал в конных сражениях еще до битвы под Варной.
Джустиниани ласково заговорил со своим огромным боевым конем, словно объясняя что-то верному товарищу. Потом генуэзец подвел своего скакуна ко мне.
– Мой конь защитит тебя лучше, чем твой собственный меч, – сказал Джустиниани. – Он проложит дорогу передними копытами даже в самой страшной свалке и сможет в случае нужды перекусить турка пополам.
Это и правда был устрашающе свирепый западноевропейский боевой жеребец. Возможно, он был чуть более медлителен и чуть менее изящен, чем греческие скакуны горячих кровей. К счастью, животные хорошо относятся ко мне. Иначе я боялся бы этого жеребца больше, чем турок. Джустиниани так высок ростом, что стремена оказались для меня слишком длинными, но подтянуть их я не успел. Со стуком и скрежетом через ров перекинули разводной мост-ворота.
Ровными рядами греки выехали из города, но уже на мосту пришпорили коней и понеслись галопом, яростно состязаясь друг с другом. Я следовал за ними по гудящей земле. Мой огромный скакун был явно взбешен и оскорблен тем, что оказался последним, – он, привыкший гарцевать во главе отряда. И он старался проявить себя с лучшей стороны, а я чувствовал себя в такой же безопасности, как если бы сидел на спине боевого слона в деревянной башенке.
Мы мчались прямо на отряд пехоты, который шагал по дороге, ведущей из Адрианополя. Заметив всадников, турки расположились по обеим сторонам дороги. Со свистом полетели первые стрелы. Молодые греки рассыпались по полю, словно по арене Ипподрома, и каждый нацелился на какую-нибудь турецкую голову. Мой конь растоптал копытами первый труп. С фланга к нам галопом приближалась группа турецких спаги; их красные плащи развевались на ветру.
Первые турки в страхе побросали оружие и быстро разбежались. Это были отдельные солдаты, шедшие в авангарде турецкого войска. Но потом они сбились в кучку, выставили перед собой пики и вбили их в землю, чтобы задержать лошадей. Греки попытались объехать преграду и подобраться к туркам сбоку, но мой тяжелый конь ринулся прямо на частокол, сломал пики, словно тонкие палочки, о свой металлический нагрудник и принялся топтать копытами перепуганных турок. Я прибыл в Константинополь, чтобы сражаться. И вот – случай вступить в битву. Но на этих людях не было даже кожаных доспехов. Турки громко вопили: «Аллах, Аллах!» Я осознал, что и сам кричу: «Аллах, Аллах!», словно умоляя их Бога смилостивиться над его приверженцами.
Поле устилали трупы. Мой конь прижал к голове уши, вонзил зубы в живот молодого турка, вытряс из него жизнь и отбросил бездыханное тело в сторону.
Турецкие колонны остановились; солдаты кинулись врассыпную. Греки повернули коней и понеслись дальше. Мы домчались до склона холма и вынуждены были придержать своих скакунов. Вокруг нас свистели стрелы, но никто пока не скатился с седла.
Я бросил взгляд в сторону города. Украшенный крестом флаг Джустиниани стремительно поднимался и опускался. Я затрубил в рог. Раз, другой – а потом еще и еще. Греки делали вид, что не слышат сигнала. Если бы крутой холм не вынудил их замедлить скачку, они бы мчались, наверное, до самого Адрианополя.
В конце концов мне удалось собрать отряд, и мы вернулись в город. Когда проезжали мимо раненых турок, которые извивались на земле, обхватив головы руками, то один, то другой молодой грек склонялся с седла, чтобы милосердным ударом положить конец страданиям несчастных. В воздухе стоял удушающий смрад крови и испражнений. Диким галопом, выкрикивая имя Аллаха и размахивая кривыми мечами, к нам приближались спаги; впрочем, они были еще довольно далеко. Неслись на нас подобно красному смерчу. Все больше юнцов оглядывалось назад и незаметно пришпоривало коней.
Я не оборачивался – смотрел на стены и башни Константинополя. Я старался взглянуть на них глазами турок – и уже не удивлялся, почему колонны пехоты замерли, увидев город. Эти желтые и коричневые стены с зубцами и башнями тянулись насколько хватало глаз. Сначала – ров с заградительной стеной. За ними – первые низкие крепостные валы. Потом – внешняя стена с башнями, солдатами и пушками, самая мощная из всех крепостных стен, какие мне доводилось видеть в Европе. На этой стене стояли в полной боевой готовности защитники города. А за внешней стеной над самыми высокими каменными домами возносилась большая стена Константинополя со своими гигантскими башнями. Три могучих пояса оборонительных укреплений Константинополя. Даже если бы врагу удалось прорваться через валы и взять внешнюю стену, он сразу же попал бы в ловушку, запертый в смертоносном ущелье двух стен.
Я смотрел на уходящие в поднебесье башни – и в душе моей впервые появился проблеск надежды. «Только землетрясение может разрушить такие стены», – думал я.
А конь мой уже гарцевал по гулкому разводному мосту. Отряд спаги – перья, доспехи, развевающиеся плащи – остановился на расстоянии полета стрелы от города. Едва мы въехали в ворота, как выбежали плотники, спешившие разобрать мост. Каменщики стояли наготове с кирпичами и раствором, чтобы замуровать ворота. Так же разобрали и четыре еще действовавших разводных моста и замуровали последние большие ворота. Теперь в городской стене остались лишь крохотные дверцы, которые используются для вылазок. Ключи от этих дверей император доверил латинянам.
Со всех сторон наступали турки. Приблизившись к Константинополю, они рассыпались по окрестностям и останавливались на безопасном расстоянии от города. За отрядами солдат гнали большие стада скота. На другом берегу Золотого Рога, на холмах за Перой, тоже появились колонны турок, которым не видно было конца. Это продолжалось целый день. Вечером турки уже стояли между Золотым Рогом и Мраморным морем такой плотной стеной, что и мышь не проскочила бы. Но все войско расположилось в паре тысяч шагов от города. Со стен турки были похожи на муравьев.
Мал, да, ничтожно мал человек рядом с гигантской тысячелетней стеной. Но время пожирает все. Даже самая мощная стена однажды рухнет. В такие дни сменяются эпохи.
6 апреля 1453 года
Пятница, священный день ислама. Утром султан Мехмед в лучах солнца ездил с многолюдной свитой вдоль стены. Держался он на безопасном расстоянии от города, и я не мог разглядеть его лица, но узнал его по фигуре и надменно вскинутой голове. По нарядам и тюрбанам я узнал и высокопоставленных особ из его окружения.
Ни с той, ни с другой стороны не было выпущено ни единой стрелы и ни единого снаряда. Ночью турки унесли тела погибших во время нашей вылазки солдат. Проехав вдоль стены, султан повернул коня и поднялся на холм напротив ворот святого Романа. Там Мехмеда ждал огромный шатер с балдахинами. Бесчисленные землекопы были заняты тем, что создавали вокруг холма укрепления: ров и палисады. Не спешиваясь, султан послал к городским воротам глашатая с символом мира в руке. Певучим голосом глашатай вызвал императора Константина и предложил не начинать войны. Глашатай плохо говорил по-гречески, но никто не смеялся. Император Константин поднялся на башню внутренней стены и показался глашатаю. На голове у василевса сияли золотистые полукружья короны, а рядом с ним стояла предписанная церемониалом свита.
Султан Мехмед, следуя мудрости Корана, предлагал мир и давал слово, что всем будет дарована жизнь, если город сдастся без боя. Это была для великого визиря Халиля и всей партии мира последняя возможность не допустить кровопролития и начать переговоры. Думаю, Мехмед, неподвижно сидевший на коне вдали на холме, больше всего на свете боялся, что его предложение будет принято.
Император Константин велел Францу повторить текст того послания, которое султан уже получил в Адрианополе. Тонкий любезный голос Франца звучал довольно тихо. Латинянам Джустиниани скоро надоело напрягать слух, и они принялись по солдатскому обычаю осыпать глашатая оскорблениями. Греки тоже начали вопить, и в конце концов над всей стеной повис злобный несмолкаемый крик. Услышав собственные голоса, греки осмелели, у них заблестели глаза и вспыхнули щеки. Несколько лучников проворно схватилось за самострелы. Но император Константин поднял руку и строго запретил целиться в султанского посланца, явившегося с символом мира в руках.
Глашатай двинулся обратно; когда он приблизился к султану, солнце уже стояло высоко в небе. Пришло время полуденной молитвы. Мехмед спрыгнул с коня. Перед султаном расстелили коврик и воткнули в землю копье, указывавшее направление, в котором находится Мекка. Султан схватился правой рукой за левое запястье и склонил голову, опустился на колени на ковер и прижал лоб к земле, молясь своему Богу. Предписанного омовения Мехмед совершать не стал, поскольку был в поле, где в любом случае не хватило бы воды на все бесчисленное войско. Много раз прижимался султан лбом к земле, а все турецкие солдаты от Мраморного моря до Золотого Рога, упав на колени, сгибались и распрямлялись в такт движениям Мехмеда. Казалось, это был один огромный живой и шевелящийся ковер, покрывающий землю до самого горизонта.
Словно в ответ зазвонили колокола всех храмов города; в монастырях им вторили колотушки. Этот звон и стук укрепляли дух защитников Константинополя и доносились через поля до турок, мешая им молиться.
Прочитав несколько сур из Корана, Мехмед простер вперед руки и объявил о начале осады. Те, кто слышал его слова, громко повторяли их, радостный вопль катился по рядам турок. Казалось, вокруг города шумит штормовое море.
– Осада началась! – кричали турки; все воины тут же принялись размахивать оружием и побежали к стенам, будто собирались немедленно ринуться на приступ. Пестрые отряды катились огромными волнами, и вскоре со стен уже можно было видеть море лиц с разинутыми в крике ртами. Картина эта была столь впечатляющей и жуткой, что неопытные греки попятились со своих мест и даже латиняне схватились за мечи и луки.
Но турки остановились сомкнутым строем на безопасном расстоянии, примерно в тысяче шагов от стен, и начали копать вокруг города сплошной ров, таскать камни и обносить свой лагерь палисадами. Лишь несколько янычаров подбежало к нашему рву и вызвало греков на поединок. Люди из императорской гвардии горячо просили василевса, чтобы тот позволил им блеснуть боевым искусством. И даже среди закованных в броню солдат Джустиниани нашлись такие, кто хотел помериться силами с янычарами: двуручные мечи против кривых сабель. Но Джустиниани строго-настрого запретил показывать тут пустую удаль.
– Времена турниров давно прошли, – сказал он. – Хорошему солдату незачем рисковать жизнью, отстаивая в бессмысленном поединке свою честь. Я приехал сюда воевать, а не играть в дурацкие игры.
Генуэзец холодно приказал лучшим стрелкам как следует прицелиться и устроить небольшой салют. Четверых янычар сразили стрелы и свинцовые пули. Остальных турецких воинов это нарушение законов чести и старых добрых обычаев привело в ярость. С пеной на губах они громко вопили, называя греков и латинян жалкими трусами, которые, лишь спрятавшись за стены, отваживаются стрелять в настоящих мужчин. Но когда погибли еще два янычара, остальные опомнились, подняли тела павших друзей и попытались унести их с собой. Теперь пули и стрелы сыпались со всех участков стены, и полегло много янычаров. Но постоянно подбегали все новые турецкие солдаты; не обращая внимания на опасность, они бросались подбирать трупы. Вскоре у стены не осталось ни одного погибшего; лишь несколько кровавых пятен алело на траве…
Пока турецкое войско копало рвы и возводило палисады, Джустиниани ездил вдоль внешней стены, пытаясь определить численность неприятельской армии. Янычар, которые встали лагерем вокруг шатра султана, было двенадцать тысяч. Это мы знали и раньше. И по меньшей мере столько же спаги, регулярной конницы. Джустиниани допускает, что количество относительно хорошо вооруженных, частично одетых в доспехи солдат регулярного войска достигает ста тысяч. К этому нужно прибавить еще столько же ополченцев, бедняг, которые по призыву султана присоединились к армии из религиозного фанатизма или в надежде на богатую военную добычу; тела их прикрыты лишь тряпками и лохмотьями, а вооружены эти люди – кто мечом, кто пращой. У некоторых ополченцев есть, кроме того, узкие, обтянутые кожей деревянные щиты. Лишь около четверти людей султана носят кожаную одежду, подбитую хлопком.
Турок устрашающе много, но Джустиниани считает, что боеспособность легковооруженных отрядов невелика. Поездка вдоль стен ничуть его не расстроила. Он лишь недоумевает, где же застряли знаменитые пушки султана.
Чтобы придать мужества защитникам города, император Константин, договорившись с Алоизио Диего, приказал морякам с венецианских галер промаршировать парадным строем, с развернутыми знаменами, по всей внешней стене – из конца в конец. Под звуки дудок и барабанов на ветру развевалась громадная хоругвь со львом святого Марка. Это был, без сомнения, серьезный дипломатический успех василевса, ибо султану недвусмысленно дали понять, что он находится в состоянии войны и с Венецией.
Еще до наступления вечера стало ясно, во что обошелся императору этот демарш. Константин в сопровождении личной охраны покинул Влахерны и разбил лагерь рядом с жилищем Джустиниани, у центральной части стены. В опустевший дворец прибыл венецианский посланник, за которым следовал венецианский гарнизон с присоединившимися к нему добровольцами. Вечером знамя святого Марка развевалось рядом с пурпурным императорским стягом. Таким образом весь прекрасно укрепленный район Влахерн находится теперь в руках венецианцев. Если городу действительно удастся выстоять в борьбе с султаном, то присутствие венецианцев во Влахернском дворце может иметь самые зловещие последствия.
Джустиниани и его закованные в броню воины, во всяком случае, занимают почетное место у ворот святого Романа, где должны будут противостоять янычарам. Джустиниани собрал сюда по меньшей мере три тысячи человек из своих лучших отрядов.
Так каково же, в таком случае, число защитников города? Это известно только императору и Джустиниани. Но генуэзец как-то обмолвился, что половина гарнизона размещена между воротами святого Романа и Харисия. Значит, защитников города, включая ремесленников и монахов, всего чуть больше шести тысяч? Не могу в это поверить. Одних только венецианских моряков – около двух тысяч, хотя часть из них и должна охранять порт и корабли. Поэтому думаю, что на стенах у нас – по меньшей мере десять тысяч человек, хоть едва тысяча из них – наряду с шестьюстами наемниками Джустиниани – полностью вооружена.
Скажем, десять тысяч против двухсот. И еще ведь не прибыли пушки султана и не появился его флот.
Зато после полудня со стороны Селимврии время от времени доносилось что-то вроде грозовых раскатов, хотя небо было чистым. С одного из синеющих в Мраморном море островов поднимаются вверх черные клубы дыма.
7 апреля 1453 года
Ночью перед Селимврийскими воротами турки поставили колья с обнаженными и изуродованными останками тех, кто защищал Селимврию. Греки оборонялись там до последнего человека. Утром мы увидели сорок кольев и сорок трупов.
По слухам, дошедшим из Перы, султанский флот два дня безуспешно штурмовал эту последнюю византийскую сторожевую башню на островах Мраморного моря. Вчера командующий турецким флотом приказал обложить башню дровами до самого верха и сжег укрепление вместе со всем гарнизоном.
Греки умеют умирать за каждую пядь земли своей распадающейся империи.
На востоке – варвары, на западе – варвары. На границе двух миров защищается последний город Христа.
Не надеясь на помощь. Даже не мечтая о славе. Голые, обезображенные трупы, посаженные на колья и облепленные тучами мух.
Закованный с головы до пят в броню, возвышающийся над всеми, Джустиниани смеется, похожий на ходячую башню, с отекшим лицом и холодными глазами. Сегодня увидев защитников Селимврии, я почувствовал к нему ненависть.
Борьба наша безнадежна. У нас нет будущего. Даже если мы победим султана, Константинополь станет лишь мертвым городом под властью латинских варваров.
Никогда в жизни я не поддавался ненависти и фанатизму. Теперь они пылают в моем сердце всепожирающим огнем.
9 апреля 1453 года
Воскресенье было спокойным. А в понедельник девять самых больших галер подошли к портовому заграждению и заняли там оборону. Ждем турецкий флот.
Длинные вереницы волов тащат огромные бронзовые пушки султана.
В тылу у турок бесчисленные стада поднимают тучи пыли. Рев скота доносится даже до наших стен.
Город полностью подготовлен к обороне. Каждый человек знает, где он должен стоять и что делать. Император Константин целый день ездил вдоль стен и разговаривал с командирами разных отрядов, поднимал боевой дух греков и давал новые обещания латинянам.
11 апреля 1453 года
Вдоль всей стены султан приказал установить около ста маленьких пушек и бомбард, разместив их небольшими группами. Его крупные орудия сосредоточены в четырех пунктах: перед воротами святого Романа, перед воротами Харисия и перед Калигарийскими воротами на Влахернах, где, правда, самые толстые стены, но куда зато не доходит ров. Перед Селимврийскими воротами тоже стоят три большие пушки.
Орудия подтащили так близко к стенам, что зоркий человек может разглядеть лица пушкарей. Сейчас они укладывают дула на гигантские кучи бревен и каменных глыб. Вокруг орудий снуют сотни людей, похожих на трудолюбивых муравьев. Пока пушки кажутся неуклюжими и беспомощными, но их чудовищные размеры легко угадываются, если сравнить разверзшиеся жерла орудий с копошащимися поблизости людьми. Круглые каменные ядра, сложенные рядом с пушками в пирамиды, достают мужчине до бедра.
Пушки тоже защищены рвами и палисадами. Никто из латинян никогда еще не видел таких громадных орудий. Они будут пожирать огромное количество пороха, а если их разорвет, то погибнут сотни людей. Так говорит Джустиниани, чтобы приободрить своих солдат.
Самая большая пушка, которую отлил в Адрианополе Орбано и слухи о которой ходили еще в январе, стоит перед Калигарийскими воротами, там, где стены толще всего. Видимо, султан действительно верит, что его орудия способны задать жару любым укреплениям на свете. Джустиниани было любопытно взглянуть на турецкие пушки, и он поднялся на стену, чтобы рассмотреть их получше. Он взял меня с собой, поскольку вокруг все было спокойно. Одновременно он хотел узнать, как венецианцы чувствуют себя во Влахернском дворце и у ворот Харисия, через которые проходит дорога на Адрианополь.
Многие защитники стен покинули свои места и собрались группками, чтобы поглазеть на эти чудища. Из города тоже пришли люди; они влезли на крышу дворца и на башни, чтобы лучше рассмотреть невиданные пушки.
Некоторые показывали на турок пальцами и кричали, что узнают Орбано, хотя он был одет, как турецкий вельможа, и носил головной убор главного оружейника. Греки начали осыпать Орбано руганью и проклятиями, а императорские мастера навели на турок пищали и мортиры и сделали несколько выстрелов, чтобы помешать вражеским пушкарям; а те были заняты изнурительной работой – подъемом и установкой гигантского орудия. Но Джустиниани запретил стрелять, считая это лишь пустой тратой пороха. Многие греки побледнели и заткнули пальцами уши, заслышав эти негромкие залпы.
Венецианский посланник Минотто построил своих людей и выступил вперед, чтобы приветствовать Джустиниани. Рядом с Минотто стоял его сын, который, несмотря на свой юный возраст, был капитаном венецианской галеры. К нам присоединился и один из императорских мастеров, немец Иоганн Грант. Я впервые встретился с этим замечательным человеком, об искусстве и талантах которого был весьма наслышан. Грант – чернобородый мужчина средних лет. Его лоб избороздили морщины – следы напряженных размышлений, а глаза смотрят проницательно и беспокойно. Он обрадовался, когда узнал, что я немного говорю по-немецки. Сам он прекрасно владеет латынью и уже неплохо выучил греческий. Император взял его к себе на службу после Орбано и платит немцу то жалованье, которое Орбано безуспешно выпрашивал у василевса.
Грант сказал:
– Это пушка – чудо литейного искусства, превосходящее все границы возможного. Большего орудия не сумеет создать никто. И если бы я не знал, что из него уже делали пробный выстрел в Адрианополе, то не поверил бы, что оно способно выдержать давление, которое создает внутри такой огромный пороховой заряд. И за сто дукатов я не согласился бы стоять поблизости от этой пушки, когда к ней будут подносить фитиль.
Джустиниани покачал головой:
– Я, бедный, взял на себя ворота святого Романа, поскольку других желающих защищать их не нашлось. А теперь вот как-то не жалею о своем выборе. Охотно уступаю венецианцам право поучаствовать здесь в занятной заварушке.
Венецианский посланник ответил, задетый за живое:
– Я вообще не знаю, кто останется на стене или в башне, когда эта пушка выстрелит. Мы ведь только мирные купцы, и многие из нас изрядно заплыли жиром. Меня самого мучает одышка, когда я взбираюсь на стену, да и сердце пошаливает…
Джустиниани усмехнулся:
– Что ж, за Влахерны надо платить. Но если хочешь, я с удовольствием уступлю тебе свою неудобную башню, займу императорские покои – и обещаю завтра утром выйти за стену. Давай меняться. Я не против.
Багроволицый посланник подозрительно посмотрел на Джустиниани, потом смерил взглядом гигантские стены и башни Влахерн и сравнил их с другими частями стены, защищавшей город с суши. А затем коротко ответил:
– Шутишь?!
Немец Иоганн Грант расхохотался и заметил:
– Мы с императорскими мастерами сделали для развлечения кое-какие расчеты и математически доказали, что такой огромной пушки отлить нельзя. Но даже если кому-нибудь это и удастся, она сможет лишь уронить каменное ядро на землю. Все это мы готовы обосновать с помощью цифр. Так что завтра я просто обязан встать на стене напротив пушки, прикрываясь таблицей умножения, как щитом.
Потом Джустиниани отвел меня в сторону и проговорил:
– Жан Анж, друг мой. Никто не знает, что случится утром, поскольку ни один человек никогда не видел орудий таких размеров. Возможно, они и правда способны несколькими выстрелами пробить брешь в стене, хотя я в этом очень сомневаюсь. Останься тут и наблюдай за этой большой пушкой. Поселись во Влахернах, если венецианцы тебя туда пустят. Мне бы хотелось иметь здесь надежного человека, пока не выяснится, чего можно ожидать от этого орудия.
Иоганн Грант сразу принялся опекать меня, поскольку оба мы чужаки и среди греков, и среди латинян. Грант – человек неразговорчивый, а если и отпускает порой какие-нибудь замечания, то в основном саркастические. Он показал мне пустые мастерские у Калигарийских ворот, где осталась лишь горстка греческих сапожников – перепуганных стариков, ремонтировавших солдатские сапоги. Всех молодых мужчин, в том числе и подмастерьев, отправили на стены. Мы бродили по коридорам и залам императорского дворца, в котором жили теперь венецианские купцы и добровольцы. Посланник Минотто занял опочивальню самого василевса и проводит ночи на пуховых подушках и под пурпурными покрывалами.
Отопительная система дворца, состоящая из проложенных под полами труб с теплым воздухом, пожирает невероятное количество дров. И потому император еще ранней весной запретил обогревать дворец, хотя ночи тогда стояли еще холодные. Василевс хотел сберечь все дерево в городе для пекарен и других полезных дел – и прежде всего для ремонта стен, на тот случай, если туркам и впрямь удастся пробить в них бреши.
Вечером я увидел, как венецианские стражники, пытаясь согреться, разводят костер на отполированном до блеска мраморном полу в самом центре большого церемониального зала. Мрамор трескается, а дым покрывает копотью бесценный мозаичный потолок.
12 апреля 1453 года
Я встал на рассвете. Мало кто спал этой ночью спокойно. Греки молились. Латиняне беспрестанно пили вино. Когда холодным утром я выбирался из дворца, то в коридорах ноги мои скользили на заблеванных полах.
Над противоположным берегом Босфора взошло солнце. Никогда еще оно не сияло так ярко. Холмы Азии казались желто-золотыми. С Мраморного моря дул легкий бриз.
Со стены я мог видеть, как молятся турецкие солдаты. Мысли мои летели вслед за мыслями султана Мехмеда. Наверное, он недолго спал этой ночью. Если весь город замер в напряженном ожидании, то в таком же ожидании трепетало, несомненно, и сердце Мехмеда.
Потом мы увидели султана на белоснежном коне, въезжавшего на холм в окружении полководцев и отряда телохранителей в зеленых одеждах. Бунчуки пашей и визирей развевались на древках. Султан прибыл, чтобы осмотреть самую большую свою пушку, но благоразумно остановился в пятистах шагах от нее. Коней отвели в сторону. Когда турецкие пушкари со всех ног кинулись прочь от гигантского орудия, оставив рядом с ним только полуголого раба, который размахивал дымящимся фитилем на длинной жерди, чтобы тот как следует разгорелся, венецианский посланник не выдержал и приказал своим людям покинуть опасный участок стены. Это распоряжение было принято с восторгом и выполнено незамедлительно: даже самые доблестные воины бросились бежать, как перепуганные зайцы.
Потом всех ослепила яркая вспышка и оглушил грохот, превосходящий самые страшные грозовые раскаты. Стена задрожала, словно во время землетрясения. Я потерял опору под ногами и упал, как и многие вокруг. Пушка скрылась в огромных черных клубах порохового дыма. Позже я узнал, что в близлежащих домах попадала со столов посуда, а из ведер выплеснулась вода. В порту закачались на волнах корабли.
Как только ветер разогнал клубы дыма и тучи пыли, я обнаружил, что турецкие пушкари, подстегиваемые любопытством, подбежали к самой стене, показывая друг другу результаты залпа. Я видел, как они кричат и размахивают руками, но ничего не слышал. Грохот выстрела совершенно оглушил меня. Я тоже кричал, но никто этого не замечал. Лишь когда я встряхнул нескольких ошеломленных лучников за плечи, эти люди вскинули свои самострелы. Но руки лучников дрожали, и ни один турок не был даже ранен, хотя стрелы сыпались из бойниц в стене и башне. Пушкари были так взволнованы, что бросали на стрелы, которые вонзались рядом с ними в землю, лишь рассеянные взгляды, медленно возвращаясь к своей пушке, что-то живо обсуждая и качая головами, словно были недовольны тем, что увидели.
Огромное каменное ядро, несмотря на весь свой вес, оставило в стене лишь небольшую выемку – чуть меньше крохотной каморки – и, конечно, разлетелось на тысячи осколков. Но основание стены не дрогнуло.
Я видел вдалеке самого Орбано с широко открытым ртом; этот человек размахивал своим жезлом и отдавал приказы. Вокруг пушки суетилось множество солдат, которые оборачивали ее громадными кусками толстой шерстяной ткани, чтобы бронза не переохладилась, и вливали целые бочонки пищевого оливкового масла в гигантское орудийное жерло, чтобы смазать металл, выдержавший чудовищную нагрузку.
Издали, со стороны ворот Харисия и святого Романа, тоже донесся страшный грохот. Я видел вспышки и клубы порохового дыма, но звуки залпов показались мне слабыми; я все еще был оглушен.
Только султан Мехмед по-прежнему гордо восседал на своем коне. Вся султанская свита, не исключая и телохранителей, бросилась на землю. Застыв в седле, Мехмед разглядывал стену, пока сопровождавшие его вельможи стряхивали пыль со своих одежд. Возможно, он и правда надеялся, что такая огромная пушка снесет одним-единственным выстрелом стену в двести шагов.
Когда Орбано приказал тщательно укрыть большое орудие, выстрелили две пушки поменьше, стоявшие по бокам от него. Они очень мощные, однако кажутся лишь поросятами, жмущимися с обеих сторон к огромной свинье. Пушкари поднесли к ним фитили, даже не думая спешить в укрытие.
Обе вспышки, последовавшие одна за другой, на миг ослепили меня, а черные, как ночь, столбы порохового дыма, которые, клубясь, взмывали вверх вместе с ядрами, закрыли полнеба и закоптили лица пушкарей. Каменные снаряды ударили в стену почти в том же самом месте, куда попало большое ядро. Стена задрожала, и в облаке поднявшейся пыли во все стороны полетели каменные осколки; один венецианец был ранен. Но когда мы спустились вниз, чтобы осмотреть поврежденную стену, выяснилось, что она пострадала меньше, чем можно было ожидать. Укрепления вокруг Влахерн выдержали испытание. Посланник Минотто облегченно расхохотался и радостно крикнул своим людям:
– Господи Боже, нам нечего бояться! Можно приободриться! Пусть султан швыряет в нас хоть по дюжине таких каменных горошин в день – стену ему не разрушить!
Но пока турки обихаживали свои пушки, как больных телят, Иоганн Грант впряг весь гарнизон в работу. Зная теперь, куда нацелены орудия, он распорядился спустить вниз огромные кожаные мешки, набитые шерстью, хлопком и травой, чтобы заслонить выбоины в стене. Немец тоже был в добром расположении духа и считал, что за ночь можно будет легко устранить все повреждения.
Вскоре грянули новые залпы, и стена снова задрожала у меня под ногами. Теперь открыли огонь и сотни легких орудий султана, а короткие толстые дула бомбард выбрасывали каменные ядра, которые обрушивались на стену, описав высокую дугу надо рвом. Немало ядер перелетало и через стену, падая на город. Было разрушено несколько домов. Это продолжалось до тех пор, пока стрелки не научились правильно рассчитывать количество пороха и не установили бомбарды под нужным углом. Страшный грохот не стихал ни на минуту; ко рву россыпью побежали отряды турок, бивших в медные диски и во все горло выкрикивавших имя Аллаха. Но и защитники города начали постепенно пристреливаться; теперь они целились гораздо лучше, и многие турки погибли у рва, а их товарищи понесли немалые потери, когда собирали трупы.
По внешней стене я двинулся к воротам святого Романа, чтобы сообщить Джустиниани, что большая пушка оказалась на самом деле вовсе не такой страшной, как мы думали. Время от времени мне приходилось пробегать несколько шагов, чтобы укрыться за очередным зубцом от свистящих вокруг стрел и свинцовых пуль.
На участке между дворцом Порфирогенитов и воротами Харисия лица у защитников города были невеселыми. Первые залпы из четырех больших пушек снесли со стены зубцы и превратили трех человек в кровавое месиво. Еще десять было ранено каменными осколками, и пострадавших пришлось нести в город через маленькую дверку в большой стене, чтобы лекари позаботились о несчастных. После этого на площадке стены остались лужи крови, а защитники города с беспокойством смотрели на пушки, которые турки уже успели зарядить снова. Хлопотавшие у каждого орудия пушкари засыпали порох, заткнули отверстие деревяшками, замазали мокрой глиной и размахивали теперь длинными жердями, загоняя в жерло каменное ядро.
Этот участок защищают трое братьев Гуаччарди, молодые венецианские ловцы удачи, которые сами платят жалованье своим людям и согласились пойти на службу к императору. Они вышагивали по стене туда-обратно, останавливаясь то рядом с одним, то рядом с другим солдатом, подбадривали неопытных, хлопали их по плечу и говорили, что опасность не столь велика, как можно подумать. Братьям было интересно, какие разрушения произвела громадная пушка, и я ненадолго задержался с ними, чтобы своими глазами увидеть последствия следующего выстрела турок. Они пригласили меня выпить вина и проводили в башню, где обосновались. Заранее они велели принести туда из Влахернского дворца бесценные ковры, дорогие драпировки и мягкие подушки – и теперь удобно устроились на каменных скамьях.
В ожидании залпа братья лениво рассказывали о своих приключениях с гречанками Константинополя и расспрашивали меня о нравах турецких женщин. Ни одному из них на было еще и тридцати. Было видно, что это просто молодые искатели приключений, Которые стали наемниками в поисках острых ощущений, славы и денег. Они казались готовыми в любой момент предстать перед Всевышним – с беспечными лицами, затуманенными вином головами и сердцами, в которых царило множество прекрасных дам. Ведь получили же они, как и все остальные защитники города, полное отпущение всех прошлых и будущих грехов. Я не собирался укорять этих людей. Наоборот, почти завидовал их буйной молодости, которую еще не отравила своей горечью никакая философия.
Тем временем турки выбили из-под пушек клинья и нацелили орудия ниже, в основание внешней стены. Со стены закричали, что пушкари уже размахивают фитилями, и братья Гуаччарди быстро бросили по очереди кости, чтобы выяснить, кому выпадет честь стоять на стене и подавать защитникам пример мужества и доблести. Младший выкинул одни шестерки и, вдохновленный своей удачей, выбежал на стену с глазами, блестящими от азарта и вина. Оказавшись напротив пушек, юноша быстро встал между двумя зубцами, замахал закованными в стальные доспехи руками, чтобы привлечь к себе внимание турок, и начал выкрикивать по-турецки такие ругательства, что я даже устыдился за него. Но когда пушкари поднесли к орудиям фитили, молодой венецианец предусмотрительно укрылся за зубцом стены, крепко вцепившись в него руками.
Все три пушки выстрелили почти одновременно, залп оглушил нас, и стена задрожала под нашими ногами. Когда ветер развеял дым и пыль, мы увидели юного Гуаччарди: он был цел и невредим. Широко расставив ноги, молодой человек стоял на прежнем месте. Но ядра ударили над самым краем рва, разрушили крепостной вал и выбили большие куски из внешней стены. Было ясно, что обстрел причинит нам со временем очень много вреда и медленно, но верно сокрушит стену.
От пушек даже до нас доносились жуткие вопли и жалобные причитания. Мы увидели, что крепления левого орудия лопнули, и оно сорвалось со своего ложа, разметав далеко вокруг глыбы и колоды. Раздавило по меньшей мере двух пушкарей. Но остальные, не заботясь о своих товарищах, бросились к орудиям, чтобы завернуть их в теплые одеяла и напоить оливковым маслом. Большие пушки были ценнее, чем человеческие жизни.
Когда я шагал по стене дальше, турки непрерывно палили из пушек и пищалей, колотили в цимбалы, дули в рожки, били в барабаны и небольшими группами бросались в атаку, добегая до самого рва и пытаясь подстрелить кого-нибудь из защитников города. Закованные в броню солдаты Джустиниани даже не уворачивались от стрел и вообще не обращали на них никакого внимания – те с треском ломались о металлические доспехи.
Как раз в тот миг, когда я добрался до участка Джустиниани, загремели большие пушки, стоявшие напротив ворот святого Романа. Кусок площадки на внешней стене обвалился; со свистом разлетелись бесчисленные каменные осколки. Известковая пыль набилась мне в рот и в нос, и я едва не задохнулся от кашля; от ядовитого порохового дыма мои лицо и руки стали черными. Со всех сторон неслись стоны и проклятия; многие солдаты взывали по-гречески к Божьей Матери. Прямо рядом со мной упал какой-то несчастный поденщик, который носил на стену камни. Из страшной раны у него в боку хлестала кровь.
– Иисусе Христе, Сыне Божий, смилуйся надо мной! – простонал он и испустил дух. Этот человек отмучился…
Гремя доспехами, ко мне подбежал Джустиниани, чтобы осмотреть произведенные выстрелами разрушения. Он поднял забрало, и я увидел, что в его круглых бычьих глазах зелеными огнями пылает жажда битвы. Он уставился на меня, словно не узнавая, и вскричал:
– Война началась! В твоей жизни был когда-нибудь более прекрасный день?
Джустиниани глубоко втянул в себя воздух, чтобы почувствовать смрадный запах пороха и теплой крови. На мощном теле генуэзца бряцали доспехи, Он совершенно изменился и был теперь ничуть не похож на того трезвого и рассудительного полководца, которого я знал. Он словно лишь сейчас оказался в своей подлинной стихии и наслаждался нескончаемым гулом и оглушительными воплями, которые раздавались вокруг.
Стена снова задрожала у нас под ногами, страшный грохот сотряс небо и землю, дневной свет померк. Это второй раз выстрелила громадная пушка у Калигарийских ворот. С этим грохотом не сравнится ни один звук на свете. Солнце, словно раскаленное ядро, слабо мерцало за черным облаком пыли и дыма. Я прикинул время – и понял: на то, чтобы охладить, прочистить, навести и зарядить чудовищное орудие, требуется около двух часов.
– Ты, наверное, уже слышал, что пришел турецкий флот?! – кричал Джустиниани. – Насчитали триста парусов, но в основном это торговые суда, а военные галеры легкие и хрупкие – не сравнить с кораблями латинян. Венецианцы, трясясь от страха, ждали турок у заградительной цепи, но султанский флот проследовал мимо и встал на якорь у входа в Босфор, по другую сторону Перы.
Генуэзец говорил легко, непринужденно, словно все его заботы исчезли без следа, хотя тяжелые орудия турок чуть не двумя выстрелами стерли с лица земли крепостной вал и повредили внешнюю стену так, что она треснула в нескольких местах снизу доверху. Джустиниани рыкнул на испуганных греческих поденщиков, приказав им убрать мертвое тело их товарища. Поденщики сбились в кучку на улочке между внешней и большой стенами и кричали, чтобы их впустили в город через дверцу для вылазок. Они были простыми трудягами и вовсе не горели желанием сражаться с турками ради латинян.
В конце концов двое из них забрались на внешнюю стену. Опустившись на колени возле останков своего товарища, они громко зарыдали, когда увидели, во что того превратили каменные осколки. Заскорузлыми грязными руками греки стерли с лица и бороды погибшего известковую пыль – и все дотрагивались до застывшего тела, точно не могли поверить, что беднягу так внезапно настигла смерть. Потом потребовали у Джустиниани серебряную монету за то, что отнесут останки в город.
Генуэзец выругался и воскликнул:
– Жан Анж, вот ради таких жадных негодяев я защищаю христианство!
Греческая кровь громко кричала во мне, когда я смотрел на этих беззащитных бедолаг, у которых не было даже шлемов и кожаных доспехов, чтобы хоть как-то прикрыться от турецких стрел, а были лишь плащи, запачканные во время тяжкой работы.
– Это их город, – ответил я. – Ты сам вызвался защищать этот участок стены. Император платит тебе жалованье. Поэтому и ты должен платить греческим поденщикам, если не хочешь, чтобы твои люди сами ремонтировали стену. Таков договор! Ты – жадный негодяй, если заставляешь этих беззащитных людей работать без денег. На что они купят еды себе и своим семьям? Василевс о них не заботится.
И добавил:
– Маленькая серебряная монета значит для них столько же, сколько для тебя – княжеская корона. Ты ничем не лучше их. В погоне за славой и деньгами ты тоже продался императору.
Джустиниани, упоенный начинающейся битвой, не рассердился на меня.
– Можно подумать, что ты грек, так ловко тебе удается перевернуть самые естественные вещи с ног на голову, – буркнул он, однако бросил поденщикам серебряную монету. Те быстро подхватили тело погибшего товарища и понесли его вниз. На истертые ступени лестницы капала кровь…
13 апреля 1453 года
Тревожная ночь. В городе мало кто спал. Среди ночи земля снова содрогнулась от залпа громадной пушки. Мощная вспышка осветила небо. Всю ночь люди работали, чтобы заделать щели в стене и закрыть то место, куда били ядра, мешками с шерстью и сеном.
Турецкие корабли стоят в порту Пелар. Из их трюмов в огромных количествах выгружают на берег бревна и каменные ядра. Большие венецианские галеры по-прежнему находятся возле заграждения; они всю ночь ждут удара турок.
От восхода до заката каждая турецкая пушка может сделать не более шести выстрелов. Похоже, стена у Калигарийских ворот продержится дольше всего, хотя именно ее обстреливает та громадная пушка. Поселившиеся во дворце венецианцы теперь с большим почтением смотрят на икону влахернской Пресвятой Богородицы. Они начали верить грекам, которые утверждают, что чудотворная Панагия хранит стены дворца.
Пока не погиб ни один латинянин, но есть двое тяжелораненых. И все же доспехи хорошо защищают наемников. Зато на участке между Золотыми Воротами и воротами Ресия уже убито множество новобранцев – ремесленников и монахов; оставшиеся в живых наконец поняли, что лучше носить неудобные шлемы и не жаловаться на жесткие ремни доспехов.
Растет боевой опыт людей. Чем больше их гибнет, тем сильнее разгорается ненависть к туркам. Из города на стены приходит много женщин и стариков. Они смачивают края одежд в крови павших, считая их мучениками, принявшими смерть за веру.
Человек легко приспосабливается. Несомненно, он может привыкнуть ко всему. Даже к грохоту больших орудий. Даже к тому, что содрогается земля, рушатся стены, в воздухе свистят осколки, – хоть и сам я еще вчера думал, будто в этом аду существовать нельзя. Но у меня не холодеет в животе, и дышу я глубоко и ровно.
14 апреля 1453 года
Очередной выстрел разорвал одну из турецких пушек – так, что из трещины в дуле повалил дым. Обстрел теперь стал менее интенсивным. Возле своих огневых позиций турки понастроили кузниц и укрепляют орудия железными обручами. Орбано приказал соорудить на склоне холма за турецким лагерем литейную мастерскую. Ночами оттуда поднимается к небу багровое зарево. Турки круглые сутки плавят медь и олово. Торговец-еврей, проходящий через Перу, рассказывал, что видел сотни рабов, трудившихся у огромных ям, в которых установлены формы для отливки пушек. Погода прекрасная, небо чистое. У греков есть все основания молиться о том, чтобы пошел дождь: если на раскаленные формы хлынет вода, они треснут. Так говорит немец Грант.
Он – мечтатель и странный человек. Его не интересуют ни женщины, ни вино. Императорские мастера установили на внешней стене множество дедовских баллист и катапульт, но их мощность невелика – и польза от них будет лишь тогда, когда турки пойдут на штурм. Грант создал чертежи, на которых показал, как можно улучшить эти махины и сделать их более легкими, поскольку их конструкция не менялась со времен Александра Македонского. Каждую свободную минуту Грант проводит в императорской библиотеке, где штудирует древние рукописи.
Седоволосый хранитель библиотеки василевса трясется над книгами, никому не позволяет уносить их с собой и не разрешает зажигать в том покое, где читают манускрипты, ни свечей, ни ламп. Кодексы можно изучать только при дневном свете. Старик прячет от латинян списки книг, которые есть в библиотеке; он лишь покачал трясущейся головой, когда Грант спросил его о сочинениях Архимеда. Их здесь нет, сердито ответил хранитель. Если бы Грант хоть раз изъявил желание заглянуть в труды отцов церкви или греческих философов, его, возможно, ожидал бы более радушный прием. Но немец интересуется лишь математикой и инженерным искусством. Поэтому хранитель императорской библиотеки считает Гранта варваром и относится к нему с глубочайшим презрением.
Когда мы с Грантом разговаривали об этом, немец сказал:
– Архимед и Пифагор умели строить машины, которые могли бы изменить мир. Древние мудрецы владели великим искусством: они знали, как заставить воду и пар работать вместо человека. Но никому ничего такого не было нужно. И ученые не стали совершенствовать это искусство, а обратились мыслями к тайным наукам и идеям Платона, считая сферу сверхъестественного более значительной и важной, чем реальная жизнь. Но в забытых сочинениях Архимеда и Пифагора можно найти подсказки, которые пригодятся и современным мастерам. Я ответил:
– Если древние мыслители были мудрыми людьми – куда мудрее нас – то почему же ты не веришь им и не следуешь их примеру? Разве человеку принесет пользу, если он бросит природу к своим ногам, но забудет при этом о душе?
Грант посмотрел на меня своими беспокойными, пытливыми глазами. Его мягкая борода – цвета воронова крыла; ночные бдения и напряженные размышления избороздили его лицо морщинами. Этот представительный человек занимал и тревожил меня. От грохота огромной пушки здание библиотеки задрожало; из щелей в потолке посыпалась пыль, заплясала в лучах солнца и унеслась легким облачком в узкое окно.
– Ты не боишься смерти, Иоанн Ангел? – спросил Грант.
– Тело мое – боится, – ответил я. – Тело мое страшится физического уничтожения, и при звуках орудийных раскатов у меня дрожат колени. Но дух мой не трепещет.
– Если бы ты повидал в жизни побольше, то боялся бы куда сильнее, – заявил немец. – Если бы ты еще чаще бывал в сражениях и чуял запах смерти, то и твою душу охватил бы ужас. Бесстрашен лишь неопытный солдат. Настоящий героизм – это преодоление страха, а не его отсутствие.
Грант показал на сотни золотых фигурок и выписанных киноварью сентенций на стенах читальни, на огромные фолианты в тяжелых, покрытых серебром и украшенных драгоценными камнями переплетах; книги покоились на пюпитрах, к которым были прикованы цепями.
– Я опасаюсь смерти, – проговорил немец. – Но жажда познания сильнее страха. Моя наука касается земных дел; поскольку проникновение в дела небесные не приносит никакой практической пользы. И у меня разрывается сердце, когда я смотрю на это здание. Здесь лежат, как в могиле, последние невосполненные крупицы мудрости древних ученых. Никто не позаботился хотя бы составить список тех сочинений, которые тут хранятся. Мыши грызут манускрипты в сводчатых подвалах. К философам и отцам церкви относятся с уважением, а математику и инженерное дело скармливают крысам. А этот старый скупец даже не понимает, что ничего бы не потерял, если бы позволил мне покопаться в его подземельях и зажечь там фонарь, чтобы поискать – и обрести ту бесценную и забытую мудрость, которую он стережет. Когда придут турки, это здание тоже погибнет в огне и дыму, а рукописи будут гореть в кострах, которые разведут под котлами с похлебкой.
– Ты сказал, когда придут турки… – перебил я Гранта. – Значит, ты не веришь, что мы выстоим?
Немец улыбнулся,
– Я подхожу ко всему с земными мерками, – ответил он. – И смотрю на вещи реально. Потому и не обольщаюсь напрасными надеждами – в отличие от более молодых и менее опытных людей.
– Но, – изумленно воскликнул я, – в таком случае и тебе принесут гораздо большую пользу сочинения о Боге и о том мире, который стоит за границами земной реальности, чем какие-то рассуждения о математике и инженерном искусстве. Зачем тебе самые удивительные машины, если ты все равно скоро должен умереть?
Грант ответил:
– Ты забываешь о том, что все мы должны умереть Но я совсем не жалею о том, что жажда познания привела меня в Константинополь, на службу к императору. Мне уже посчастливилось увидеть самую большую пушку, отлитую человеком. Взглянув на нее, я понял, что ради одного этого стоило оказаться здесь. А за два листка забытого сочинения Архимеда я бы с радостью отдал все благочестивые произведения отцов церкви.
– Ты – сумасшедший, – с отвращением произнес я. – Твоя страсть к познанию превратила тебя в еще большего безумца, чем султан Мехмед.
Грант протянул руку к солнечным лучам, словно хотел взвесить на ладони танцующие в них пылинки.
– Разве ты не видишь, – сказал он, – что из этой пыли на тебя смотрят прекрасные девичьи глаза, улыбку в которых давно погасила смерть. В этом облачке пыли танцует сердце философа, его утроба и мозги. Через тысячу лет и я, возможно, буду лежать под ногами пришельца пылью на улицах Константинополя. В этом смысле и твое, и мое знание стоят одинаково. Так позволь же мне заниматься той наукой, которую я избрал, и не презирай ее. Откуда ты знаешь, что в глубине души я не презираю того, чем поглощен ты?
Все во мне бушевало, но я постарался ответить немцу спокойно:
– Ты воюешь не на той стороне, Иоганн Грант. Если бы султан Мехмед познакомился с тобой, то принял бы тебя как равного.
Грант покачал головой:
– Нет, нет, я принадлежу Западу и Европе. Сражаюсь за свободу человека, а не за его неволю.
– А что такое свобода человека? – спросил я. Немец посмотрел на меня своими беспокойными глазами, немного подумал и ответил:
– Право выбора.
– Верно, – прошептал я. – Именно то и есть страшная человеческая свобода. Свобода Прометея, наш извечный грех.
Немец усмехнулся, положил мне руку на плечо и сказал со вздохом:
– Ах, греки, греки… Все вы такие…
Этот человек чужд мне, я стараюсь избегать его, но вопреки всему ощущаю родство наших душ. Мы исходим из одного и того же – он и я. Но он выбрал царство тлена и смерти, я же – вечную жизнь в сиянии Творца.
Гремят пушки, с грохотом трескаются стены, гигантские жернова войны, придя в движение, заставляют дрожать землю и небо. Но я холоден и тверд, нет, я пылаю, как факел, и думаю только о тебе, любимая моя. Зачем ты вонзила острый шип мне в сердце? Почему не даешь бестрепетно сражаться и спокойно умереть – мне, уже сделавшему свой выбор?
Я мечтаю лишь о тебе! Только ты мне нужна.
15 апреля 1453 года
Снова воскресенье. Ясным утром по городу разносится радостный колокольный звон и веселый стук колотушек. Но весенняя зелень уже покрыта копотью и пылью. Измученные мужчины работают, как муравьи, ремонтируя стену под защитой временных укреплений. Ночью перед проломами, зияющими во внешней стене, вбили колья. Теперь пустоты снова заполняют землей, фашинами, ветками деревьев и кустов, кучами сена. Жителям города пришлось отдать свои перины, которыми прикрыли стены, чтобы смягчить сокрушительные удары тяжелых каменных ядер. С внутренней стороны стен натянули воловьи шкуры, и постоянно смачивают их водой – для защиты от зажигательных снарядов.
Я знаю и чувствую в глубине души, насколько эта отчаянная борьба нас изменит. Она полностью разрушит сущность каждого из нас.
Из-за усталости, страха и бессонницы человек начинает походить на пьяного и уже не отвечает, как прежде, за свои мысли и поступки. В таком состоянии он верит самым диким слухам. Неразговорчивый делается болтливым, мягкий и кроткий – пляшет от счастья, увидев, как турок со стрелой в горле валится на землю. Война – это опасный дурман. Мгновенные смены настроений, резкие переходы от надежд к отчаянию… Лишь закаленному воину удается сохранить хладнокровие. А большинство защитников Константинополя – необученные и неопытные новички. И Джустиниани считает необходимым распространять по городу обнадеживающие слухи, даже если в них и нет почти ни грана правды.
В войске султана – в два раза больше христиан, чем на стенах Константинополя. Это – вспомогательные отряды из Сербии, Болгарии и Македонии, а также греки из Малой Азии. Из ворот Харисия извлекли турецкую стрелу с привязанным к ней посланием. Оно было написано сербским конником и гласило: «Пока это зависит от нас, султан никогда не возьмет Константинополь».
Великий визирь Халиль тоже не прекращает своей тайной деятельности. Пока ему удалось добиться немногого, но если султана начнут преследовать военные неудачи, старый вельможа скажет свое слово.
Ночи сейчас холодные. Войско султана так огромно, что лишь немногим хватает места в шатрах. Большинство же спит под открытым небом, хотя и не привыкло к этому. Такое не в новинку только янычарам. В ночной тиши хорошо слышно, как турки в своем лагере беспрестанно кашляют и чихают.
Но и наши люди кашляют, ремонтируя стены в темноте. В башнях и сводчатых коридорах холодно и сыро. Все дерево предназначено для фортификационных работ. Дрова и хворост можно использовать только для приготовления пищи и для нагрева котлов со свинцом и смолой. Так что и среди латинян есть немало простуженных, хотя они носят под своими холодными металлическими доспехами теплую одежду.
17 апреля 1453 года
Во Влахерны явился мой слуга Мануил. Он принес мне чистую одежду и новые писчие принадлежности. От недостатка пищи я не страдаю, так как венецианцы пригласили меня делить с ними трапезы, пока я буду жить во дворце. На время осады кардинал Исидор освободил воинов от соблюдения поста. Но император Константин постится и молится так истово, что за несколько дней исхудал и побледнел.
Я не мог удержаться и поинтересовался у Мануила, не справлялся ли кто обо мне. Он отрицательно помотал головой. Я отвел его наверх, на стену я показал ему громадную пушку. Турки как раз кончили ее заряжать. Грохнуло, и Мануил схватился руками за голову. Но тут-то он самолично и убедился, что стена все еще стоит.
Старик испугался гораздо больше, когда увидел, во что латиняне превратили императорский дворец. Мануил сказал:
– Латиняне сохранили свои прежние привычки. Когда двести пятьдесят лет назад крестоносцы захватили Константинополь, они устроили в храме Святой Софии конюшню, разводили на полу походные костры и испражнялись по углам.
Слугам латинян можно свободно ходить по всему дворцу. Поэтому Мануил попросил, чтобы я отвел его в покои Порфирогенитов. Старик покосился на меня и, хитро блеснув глазами, заявил:
– На этот пол веками не ступала нога простолюдина, но я – хотя бы грек, и потому мои сандалии оскверняют эти плиты все-таки меньше, чем грязные сапоги латинских конюхов.
Мы поднялись по древней мраморной лестнице на самый верхний этаж и вошли в покой, стены которого покрывал отполированный до блеска порфир. В покое этом до сих пор стояло инкрустированное золотом ложе с двуглавыми орлами. Но все мелкие вещи были уже украдены. Глядя на холодное, разграбленное помещение, я осознал, что в Константинополе не родится больше ни один император.
Мануил с любопытством открыл узкую дверь и вышел на каменный балкон.
– Я десять раз покорно стоял там, внизу, в громадной толпе и ждал известия о том, что императрица благополучно разрешилась от бремени, – проговорил мой слуга. – У прежнего василевса Мануила было десять детей. Константин – восьмой из них. Только три сына старого императора до сих пор живы, и ни у одного из них нет сыновей. Такова воля Божья.
Мануил все время поглядывал на меня из-под седых кустистых бровей. Он прищуривал покрасневшие глаза, поглаживал редкую бородку – и вид у него был очень таинственный.
– Мне-то что до этого? – недовольно буркнул я.
– Никогда не думал, что в один прекрасный день буду стоять здесь, наверху, – продолжал Мануил, не обратив внимания на мои слова. – Но сам по себе римский порфир еще не делает человека императором. Это – чистый предрассудок. Сколько рассказывали о брошенных женщинах, которые во время родов сжимали для утешения в руках кусочки порфира.
Мануил ткнул пальцем в темный угол покоя. Я увидел, что во многих местах со стены отколупнуты кусочки обшивки. На миг я снова стал ребенком. Маленьким мальчиком в окруженном крепостной стеной Авиньоне. Солнце Прованса пекло мне голову. Я держал в руке крошечный обломок пурпурного камня, который нашел в сундуке отца.
– Ты видишь призраков, господин мой? – тихо спросил Мануил. Он опустился на пол и встал на колени, словно собирался обследовать этот угол, – и в то же время преклонил колена передо мной, обратив ко мне свое морщинистое лицо. Его серые щеки тряслись – то ли от огромного волнения, то ли от сдерживаемых рыданий.
– Я вспомнил своего отца, – коротко сказал я. Теперь меня уже не удивляло, почему его ослепили. Может, он оказался слишком доверчивым в этом мире жестокости и страха.
Мануил прошептал:
– Господин мой, глаза мои помутнели, ибо я уже стар. Может, это сияние пурпура лишает меня разума. Позволь мне коснуться твоих ног.
Он протянул руку и почтительно погладил мои голени.
– Пурпурные башмаки, – проговорил он. – Пурпурные башмаки…
Но в покое, где рождались императоры, царила такая пугающая тишина, что устрашенный Мануил поспешно огляделся по сторонам, словно боясь, что нас кто-то подслушивает.
– Ты опять напился, – резко бросил я.
– От крови не отречешься, – бормотал старик. – Кровь всегда приводит человека на то место, которое он должен занимать по праву рождения. Даже если до этого она проделала немалый путь из тела в тело. Но в один прекрасный день кровь заставляет человека вернуться…
– Мануил, – сказал я, – поверь мне… Мое время прошло. И царство мое – не на этом свете.
Старик склонил голову и принялся целовать мне ноги. В конце концов мне пришлось отпихнуть его коленом.
– Я давно выжил из ума и несу спьяну всякую чушь, – проговорил Мануил. – Голова у меня забита древними легендами. Я грежу наяву. Не хотел сказать ничего плохого.
– Пусть наши грезы и легенды будут погребены под обломками рушащихся стен, – произнес я. – И пусть через много-много лет их найдет какой-нибудь пришелец – когда станет топтать камни, упавшие с этих стен, и прах наш осядет пылью на его ногах.
Когда Мануил побрел домой, я вернулся на стену и отправился обратно к Джустиниани. Страшно смотреть, какие огромные проломы появились за несколько суток в стене по обе стороны ворот святого Романа. Греки насыпали высокий земляной вал и вместо зубцов поставили на верхней площадке стены деревянные сундуки и бочки с песком. Целыми днями небольшие группки турок прорываются ко рву и кидают в него связки фашин, камни и бревна; защитники города не могут этому помешать, поскольку снаряды из пращей и стрелы лучников заставляют их прятаться в укрытиях. Генуэзцы Джустиниани уже понесли потери – несмотря на металлические доспехи. А каждый наемник стоит десяти – да что там, пятидесяти неопытных греков. Любой из людей Джустиниани незаменим.
18 апреля 1453 года
Никто не предполагал, что турки сегодня ночью впервые по-настоящему пойдут на штурм. Видимо, они хотели, ошеломив нас внезапной атакой, захватить участок внешней стены перед воротами святого Романа. Штурм начался совершенно неожиданно через два часа после захода солнца. Под прикрытием темноты турки подобрались ко рву и перекинули через него длинные лестницы. Если бы защитники города не заделывали как раз в это время проломы в стене, оставшиеся после сегодняшнего обстрела, атака турок могла бы закончиться вполне успешно. Но греки вовремя подняли тревогу. На стене запели трубы, вспыхнули смоляные факелы, в городе зазвонили колокола.
Поняв, что застать греков врасплох не удалось, турки тоже принялись трубить в большие и маленькие рожки и ринулись в атаку с дикими воплями, которые разнеслись по всему городу. Длинными крюками нападавшие разметывали временные насыпи и крушили все, что можно, стараясь в то же время поджечь висевшие на стенах мешки с сеном и шерстью. Бой длился четыре часа – без единой передышки. Турки прорвались к стене и в других местах, но главный удар был направлен на участок Джустиниани,
Поднялся страшный переполох; полуодетые горожане в смятении выскакивали из домов на улицы. Когда я бежал из Влахерн к Джустиниани, собственными глазами увидел императора Константина.
Он был смертельно испуган, плакал и считал, что Константинополь уже пал.
На самом деле лишь небольшому числу турок удалось взобраться на внешнюю стену. Там их быстро перебили в короткой рукопашной схватке закованные в броню воины Джустиниани, железной стеной вставшие на пути врага. Штурмовые лестницы оттолкнули длинными шестами, как только турки подтащили эти лестницы к стенам. На большие отряды нападавших, скопившихся под стенами, лили кипящую смолу и расплавленный свинец. Турки понесли тяжелые потери, и утром тела врагов грудами лежали у подножья стены. Но среди трупов было лишь несколько мертвых янычаров, и не приходилось сомневаться, что при этой попытке штурма султан использовал не слишком лихие легковооруженные отряды.
Когда турки отступили, многие люди Джустиниани были так измотаны, что рухнули там, где стояли, и заснули. Императору Константину, который собственной персоной обходил стены вскоре после боя, пришлось самому будить многих солдат, обязанных в это время наблюдать за противником. Джустиниани заставил греческих поденщиков выйти за внешнюю стену и очистить ров от всего того хлама, которым турки пытались завалить его. Немало греков нашло там свою смерть, поскольку турки, мстя за неудачную атаку, принялись в темноте палить из пушек.
Утром тридцать турецких галер из порта Пелар приблизились к заградительной цепи. Но до морского сражения между высокими, как горы, венецианскими судами и легкими парусниками турок дело не дошло. Корабли обменялись несколькими пушечными залпами, после чего турецкие галеры вернулись к себе в порт.
Днем султан приказал установить несколько больших бомбард на холме за Перой. Но первые выпущенные из них снаряды попали в генуэзское судно у причала и потопили этот корабль вместе с грузом и оснасткой стоимостью пятнадцать тысяч дукатов. Поэтому генуэзцы из Перы тут же подали султану жалобу на то, что нарушается их нейтралитет. Бомбарды стоят на территории Перы, и еще пара-тройка ядер угодила в дома, а осколком в городе была убита женщина. Мехмед обещал, что по окончании осады возместит жителям Перы весь понесенный ими ущерб, и уверил их в своей дружбе. Но цели своей он достиг. Венецианским галерам пришлось отойти от заградительной цепи либо к причалам, либо в угол к башням и портовой стене Перы, куда не долетали снаряды, выпущенные из бомбард. На берегу собралась громадная толпа, чтобы поглазеть на этот удивительный обстрел. Ядра бомбард падали в основном в море, поднимая огромные фонтаны воды.
Но несмотря на это в Константинополе царит приподнятое настроение. Сердца людей полны надежд и веры в победу: успешное отражение атаки придало нам всем мужества и отваги. Джустиниани приказал вдобавок распространять слухи, которые сильно преувеличивали потери турок. Но мне он заявил без обиняков:
– Нам не стоит очень уж радоваться одержанной победе. Это – лишь кажущийся успех. Турки провели обычную разведку боем, чтобы прощупать наши силы. В штурме участвовало не больше двух тысяч человек, как я узнал от пленных, которых нам удалось захватить. Но по традиции я как протостратор должен обратиться к горожанам. И если я сообщу, что мы отразили большой штурм и что турки потеряли десять тысяч убитыми и столько же ранеными, в то время как наши собственные потери ограничиваются одним погибшим и одним искалеченным, вывихнувшим ногу, то любой человек, мало-мальски опытный в военных делах, сразу все поймет и не обратит на мои слова никакого внимания. Но для поддержания боевого духа горожан это имеет огромное значение.
Генуэзец с улыбкой посмотрел на меня и добавил:
– Ты отлично сражался, неустрашимый Жан Анж.
– Да? – удивился я. – Там царил такой хаос, что я ничего толком и не помню…
Это было правдой. Утром я обнаружил, что меч мой стал липким от крови, но события этой ночи казались лишь каким-то смутным кошмаром.
В тот же день султан велел подогнать к огромной пушке пятьдесят пар волов. Орудие сняли с ложа и переместили с помощью сотен людей к воротам святого Романа. Стены Влахерн оказались, стало быть, слишком крепкими: султан начал готовиться к долгой осаде.
Я навестил раненых, лежавших на соломе в нескольких пустых конюшнях и домах у стены. Опытные латинские наемники предусмотрительно отложили деньги, чтобы иметь возможность оплатить врача и обеспечить себе таким образом хорошее лечение. А вот за греками ухаживает лишь несколько проворных монахинь, делающих это из милосердия. Среди них я с удивлением заметил Хариклею, которая, скинув с головы покрывало и засучив рукава, ловко промывала и обрабатывала самые тяжелые раны. Она радостно поздоровалась со мной. Я не смог удержаться и сообщил ей, что живу теперь во Влахернском дворце. Так мало у меня твердости… По-моему, женщина отлично поняла, в чем дело, поскольку сама тут же поспешила объяснить мне, что уже много дней не видела сестру Анну.
Раненые твердили в один голос, что турки, нарушая добрые обычаи, используют отравленные стрелы, ибо даже люди, получившие лишь легкие царапины, через несколько суток тяжело заболевают и умирают в страшных судорогах. В одном из углов я своими глазами видел мужчину, окоченевший труп которого был изогнут дугой, а на лице застыла такая ужасная гримаса, что на него страшно было смотреть. Мышцы покойника были твердыми, как доска. Потому многие раненые просили, чтобы их положили под открытым небом или отнесли домой. Я поговорил об этом с Джустиниани, но он не разрешил никому из своих людей покинуть стену и помочь раненым. Когда я назвал его бездушным, он ответил:
– Мой опыт говорит мне, что судьба раненых – целиком в руках Божьих. Один умирает, хотя его лечил врач, а другой поправляется без всякого ухода. Один, оцарапав мизинец, погибает от заражения крови, другому отрывает в бою руку, а он несмотря на это выживает. Обильная пища и мягкое ложе приносят лишь вред и ослабляют человека. Таково мое мнение. Так что не лезь в дела, в которых ничего не понимаешь.
19 апреля 1453 года
Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня, грешного!
Исписав вчера множество листов бумаги, я думал, что ночью смогу наконец заснуть. Я мало спал в последние дни. Пытаясь справиться с сердечной мукой, расхаживал взад-вперед или выводил пером все эти пустые слова.
Но когда я лежал с широко открытыми глазами во мраке холодных влахернских покоев, наслаждаясь одиночеством и в то же время глубоко страдая от него, она пришла ко мне. Пришла сама. По собственной воле. Анна Нотар. Моя любимая.
Я узнал ее по легкой походке, по чуть слышному дыханию.
– Иоанн Ангел, – прошептала она. – Ты спишь?
Анна вложила ледяные пальцы в мои руки и опустилась рядом со мной. Нос и губы у нее были холодными, но щека ее пламенела возле моей щеки.
– Прости, – выдохнула женщина. – Прости меня, любимый. Я не ведала, что творю. Не знала, чего хочу. Ты жив?
– Конечно, жив, – откликнулся я. – Я крепкий. Просто так сорняк не вырвешь.
– Земля дрожит, – проговорила Анна. – Стены трескаются. Смерть, не смолкая, воет по ночам на тысячу голосов. Нет, никто не поймет, что такое война, пока сам не переживет всего этого. Когда турки ночью напали на нас, я молилась за тебя так, как еще никогда не молилась. Обещала переступить через все свое самолюбие, всю свою гордость и злость, если только Бог дарует мне счастье снова увидеть тебя живым.
– Значит, ты меня любишь? – спрашивал я, все еще сомневаясь, хотя ее руки, щека и губы давно рассказали мне обо всем. – Ты же сама кричала, что ненавидишь меня.
– Я ненавидела тебя много дней, может, даже целую неделю, – ответила Анна. – Опомнилась лишь тогда, когда заревели пушки – и от грохота стали трескаться стены монастыря. А до этого я решила – и поклялась себе – что больше никогда тебя не увижу. И не скажу тебе ни слова, если мы встретимся. И поставлю тебя на место. Ну и вот, теперь я здесь. Ночью, в темноте, наедине с тобой. И я тебя целовала. Горе мне. И тебе – горе.
– И я обещал себе то же самое, – признался я и схватил ее за плечи. Под одеждой они были круглые и мягкие. Я чувствовал аромат гиацинтов, исходящий от ее кожи. После пережитого напряжения и страха Анна вдруг облегченно рассмеялась. Хохотала, как маленькая девочка. И не могла остановиться, хотя прижала обе руки к губам.
– Над чем ты смеешься? – сердито спросил я. В душу мою, истерзанную любовью, закралось подозрение, что Анна все время разыгрывала меня, как последнего глупца, и наслаждалась, причиняя мне боль.
– Я смеюсь, потому что счастлива, – хохотала она, напрасно зажимая руками рот. – Просто ужасно счастлива. И не могу удержаться от смеха, когда вспоминаю, как комично ты выглядел, убегая от меня с доспехами под мышкой.
– Я убегал не от тебя, – ответил я. – Я убегал от самого себя. Но от себя не убежишь… Ни на стенах, ни во Влахернах, ни во сне, ни наяву. Невидимая, ты все время стояла рядом со мной.
Ее мягкие губы раскрылись под моими губами. Ее дыхание было наполнено любовью. В своей страсти – да нет, в своей боли – Анна все теснее прижималась ко мне и гладила пальцами мои плечи и спину, словно хотела, чтобы ее руки навсегда запомнили мое живое тело.
Потом я лежал рядом с ней, опустошенный, спокойный, совершенно холодный. Я сорвал ее цветок – и она позволила мне это. Теперь она – обесчещенная женщина. Но я все равно любил ее. Любил такой, какой она была. Любил ее, любил даже ее капризность.
После долгого молчания Анна прошептала мне на ухо:
– Иоанн Ангел, разве сейчас – не лучше всего?
– Лучше всего то, что происходит, – пробормотал я, с трудом борясь со сном.
Анна беззвучно рассмеялась и тихо сказала:
– Все так просто и легко, так ясно и понятно. Это только ты все немыслимо усложняешь для самого себя. Но сейчас я счастлива.
– Не жалеешь?.. – сонным голосом проговорил я, чтобы что-то сказать.
Анна изумилась:
– А что мне жалеть? Теперь ты уже больше никогда не убежишь от меня. И мне очень хорошо. Нет, если бы ты сейчас обвенчался со мной, это не прибавило бы мне уверенности. Ты ведь уже бросил одну жену… Но после того, что ты со мной сделал, совесть не позволит тебе вот так запросто меня оставить. Уж настолько-то я тебя знаю – каким бы твердокаменным ты себя ни считал, мой любимый.
Я погрузился в блаженный покой и не мог заставить себя задуматься над ее словами. Голова Анны лежала на моем плече, ее губы ласкали мое ухо, ее волосы щекотали мне шею, и я чувствовал аромат гиацинтов… Я положил руку на обнаженную грудь женщины и крепко заснул. Впервые за долгое-долгое время я не видел никаких снов.
Спал я долго. И не проснулся, когда уходила Анна. Не проснулся даже тогда, когда на рассвете загремела большая пушка, призывая турок к утренней молитве. Солнце стояло уже высоко, когда я наконец открыл глаза. Я отлично отдохнул и чувствовал себя обновленным и счастливым.
Анна ушла, когда я спал. Но это было лучше всего. Я не хотел, чтобы ее заметили. И знал, что смогу увидеть ее снова. Чувствуя себя таким веселым и свободным, каким не был никогда в жизни, я отправился подкрепиться обильным завтраком. Я не надел доспехов, даже не пристегнул к поясу меча. В своей скромной латинской одежде я смиренно, как пилигрим, двинулся к монастырю Пантократора.
В обители мне пришлось ждать несколько часов, пока монах Геннадий предавался благочестивым размышлениям. Все это время я молился перед святыми образами в монастырской церкви. Просил Господа отпустить мне грехи. Я погружался в мистический мир своей души. Знал, что Бог меряет наши прегрешения совсем иной мерой, чем люди.
Увидев меня, монах Геннадий нахмурился и устремил на меня свой горящий взгляд.
– Что ты хочешь от меня, латинянин? – спросил этот человек.
Я сказал:
– В молодости я встречал в афонском монастыре многих людей, которые отреклись от римской веры и вернулись в лоно греческой церкви, чтобы посвятить жизнь Богу и служить Ему так, как это изначально было принято в христианстве. Мой отец умер, когда я был еще ребенком, но из его бумаг я узнал, что он был греком из Константинополя. Он предал свою веру, женился на венецианке и отправился к папе в Авиньон. Отец мой жил в Авиньоне и до самой смерти получал жалованье из папской казны. В этом городе я и родился. Но, покинув Византию, отец мой впал в ересь. Теперь, когда я пришел в Константинополь, чтобы умереть на его стенах, сражаясь с турками, я хочу вернуться к вере моих предков.
Ослепленный религиозным экстазом, монах не слишком внимательно вслушивался в мои слова, и я был благодарен ему за это, поскольку мне не хотелось отвечать на недоверчивые вопросы, которые обязательно стал бы мне задавать более вдумчивый человек. Геннадий же лишь обвиняюще вскричал:
– Так почему же ты сражаешься против турок плечом к плечу с латинянами? Даже султан – лучше императора, признавшего папу.
– Не будем об этом спорить, – попросил я. – Исполни лучше свой долг. Тебе довелось стать пастырем, который на своих плечах принесет обратно отбившуюся от стада овцу. Вспомни и о том, что однажды ты сам после долгих размышлений подписал унию. Мой грех – не тяжелее твоего.
Левой рукой монах поднял правую, которая, как я только сейчас заметил, была парализована, и торжествующе произнес:
– День и ночь молил я Бога, чтобы в знак прошения Он повелел отсохнуть этой руке, подписавшей во Флоренции дьявольскую бумагу. И когда грянул первый пушечный залп, Всевышний услышал мои молитвы. И теперь на меня снизошел Святой Дух.
Геннадий позвал послушника, велел ему сопровождать нас, отвел меня во двор, к рыбному прудику и приказал мне раздеться. А когда я скинул свой костюм, монах затолкал меня в пруд, погрузил мою голову в воду и заново окрестил меня. Почему-то нарек меня Захарием. Выйдя из воды, я, как положено, исповедался перед монахом и послушником, и Геннадий наложил на меня лишь легкую епитимью, поскольку я добровольно отказался от своих заблуждений. Лицо монаха сияло и лучилось, он явно смягчился, помолился за меня и дал мне свое благословение.
– Теперь ты – настоящий грек, – проговорил Геннадий. – Помни, что наступило роковое время и скоро пробьет последний час. Поэтому Константинополь должен погибнуть. Чем дольше он будет сопротивляться, тем страшнее станет ярость турок и тем ужаснее окажутся страдания, которые выпадут и на долю невинных людей. Если город по Божьей воле должен перейти под власть султана, кто же может помешать этому? Тот, кто воюет с султаном, противится в своем ослеплении Господней воле. Тот же, кто изгонит латинян из Константинополя, совершит богоугодное дело.
– Чьи слова ты повторяешь? – спросил я взволнованный до глубины души.
– Я повторяю те слова, что подсказали мне скорбь страдания и страх за мой город, – резко ответил монах. – Не я, смиренный инок Геннадий, говорю это, но Дух Святой речет моими устами.
Геннадий огляделся по сторонам и заметил серых рыбок в пруду; мы вспугнули их, и теперь они тревожно метались в мутной воде.
– Судный день близок! – вскричал монах, указывая на рыб левой рукой. – И в день тот рыбы сии станут от страха и ужаса красными, как кровь, – и тогда даже неверующие уверуют! Пусть это будет знамением! И если ты тогда не умрешь, то увидишь эту картину. Сам Всевышний, всемилостивейший наш Господь говорит моими устами.
Геннадий произнес это так страстно и убежденно, что я не мог ему не поверить. Потом он устал и замолчал. Когда послушник ушел, я оделся и сказал:
– Отец мой, как ты только что слышал, я согрешил и совершил преступление. Я спал с греческой женщиной и лишил ее невинности. Могу ли я как-то загладить свою вину, обвенчавшись с этой женщиной, хотя у меня уже есть супруга во Флоренции, с которой я вступил в законный брак и связан клятвами, произнесенными в латинском храме?
Монах задумался. В глазах у него появился блеск, сразу выдавший в смиренном иноке бывшего политика. Наконец Геннадий сказал:
– Папа и его кардиналы так страшно поносили и преследовали нашу церковь, наших патриархов, да и наш символ веры, что с моей стороны не будет грехом сделать что-то назло латинянам. Насколько это в моих силах, конечно… После сегодняшнего крещения твой прежний брак теряет силу. Я объявляю его недействительным, ибо мы находимся в таком тяжелом положении, что у нас нет даже настоящего патриарха, который мог бы совершить это, есть лишь отступник, Георгий Маммас, да падет проклятие на его голову. Приходи сюда с этой женщиной, я обвенчаю вас в этих святых стенах – и вы станете мужем и женой.
Поколебавшись, я сказал:
– Это деликатное дело, которое нужно держать в тайне. Возможно, ты ее даже знаешь. Если ты нас обвенчаешь, на тебя обрушится гнев могущественного вельможи.
Монах ответил:
– На все – воля Божья. Грех необходимо искупить. А какой же отец может быть таким негодяем, чтобы помешать своей дочери вернуться на стезю добродетели? Мне ли трепетать перед вельможами и архонтами, если я не убоялся самого императора?
Геннадий предполагал, что я соблазнил дочь какого-нибудь симпатизирующего латинянам придворного, и потому обрадовался моей просьбе. Обещал сохранить все в тайне, если я приду к нему с этой женщиной прямо сегодня вечером. Я не настолько хорошо знаю обычаи греческой церкви, чтобы понять, будет ли такое венчание иметь хоть какую-то силу. Но оно имело силу для моего сердца.
Обрадованный, я поспешил в свой дом возле порта. Предчувствие меня не обмануло. Она была там. Велела принести из монастыря сундук со своими вещами и попереставляла все так, что дома нельзя было узнать. И еще приказала Мануилу выскрести в моих комнатах пол.
– Господин мой, – смиренно проговорил Мануил, выжимая мокрую тряпку, с которой стекала грязная вода, – я как раз хотел отправиться разыскивать тебя. Эта своевольная женщина действительно собирается поселиться здесь и перевернуть . Все с ног на голову? У меня разболелись колени и ломит спину. Разве плохо нам было без женщины в доме?
– Она останется здесь, – ответил я. – Никому не говори об этом ни слова. Если соседи начнут любопытствовать, скажи, что это латинянка, подруга хозяина дома, и что она будет тут жить, пока не кончится осада.
– Ты хорошо подумал, господин– мой? – осторожно спросил Мануил. – Легче посадить женщину себе на шею, чем потом отделаться от нее. – И хитро добавил: – Она рылась в твоих книгах и бумагах.
Я не стал тратить времени на пререкания и разгоряченный, с юношеской легкостью взбежал по лестнице. Анна оделась как простая греческая женщина, но лицо, кожа и вся фигура выдавали ее истинное происхождение.
– Почему ты бежал, почему так запыхался? – спросила она, прикидываясь испуганной. – Надеюсь, не собираешься выгонять меня из дома, как грозил Мануил. Это – злой, себялюбивый старик, который сам не знает, что ему надо, – Анна виновато оглядела комнату, в которой царил страшный беспорядок, и торопливо добавила: – К тому же тут было грязно. Если ты дашь мне денег, я куплю для этих комнат новые ткани. Ну, и не может же человек твоего положения спать на таком жалком тюфяке.
– Деньги? – в замешательстве повторил я и без особой радости подумал, что у меня их почти не осталось. Ведь я давно уже относился к этому с полным безразличием.
– Конечно, – ответила Анна. – Я слышала, что мужчины обычно делают все, что в их силах, чтобы тратить деньги на своих любовниц. А может, ты стал скупым, добившись своего?
Я невольно расхохотался.
– Постыдилась бы говорить о деньгах именно сейчас – сказал я. – Я собираюсь сделать тебя порядочной женщиной. Потому так и бежал.
Она забыла о своих шутках, посерьезнела и долго всматривалась в меня. Я снова увидел в ее карих глазах обнаженную душу – как тогда, в первый раз, возле храма. Я знал эту женщину целые века, словно мы прожили вместе уже много-много жизней.
– Анна, – вновь заговорил я, – не хотела бы ты несмотря ни на что выйти за меня замуж? Именно об этом я и пришел тебя спросить. Пусть святое таинство брака соединит перед Богом наши души, как уже соединились наши тела.
Анна опустила голову. Из закрытых глаз женщины выкатилось несколько слезинок, которые медленно заскользили по щекам.
– Значит, ты меня любишь, по-настоящему любишь, – неуверенно пробормотала она.
– А ты сомневалась? – спросил я. Анна посмотрела на меня.
– Не знаю, – честно сказала она. – Думала: все равно ведь все бессмысленно, если ты на самом деле не любишь меня. Я решила, что должна подарить тебе свой венок, чтобы убедиться, хочешь ли ты только этого. И не пожалела бы о потерянной невинности, если бы выяснила, что так оно и есть. Но тогда я наверняка оставила бы тебя и больше никогда не захотела бы видеть. Здесь я просто играла. Воображала, будто у нас с тобой – общий дом.
Анна обвила руками мою шею и прижалась лбом к моему плечу.
– У меня ведь никогда не было собственного дома, – добавила она. – Наш дом – это дом моего отца и моей матери. Там не было для меня места. Я завидовала нашим служанкам, которые выходили замуж и могли покупать для себя дешевую домашнюю утварь. Я завидовала маленькому счастью простых людей, поскольку считала, что у меня самой никогда не будет ничего подобного. Теперь же у меня все это есть, раз ты и правда хочешь жениться на мне.
– Нет, – покачал я головой, – ничего у нас с тобой нет. Не воображай Бог весть чего. У нас осталось совсем немного времени. Но пока я еще жив – будь моим земным домом. И не удерживай меня когда время истечет. Обещай мне это.
Анна ничего не ответила. Только чуть приподняла голову и бросила на меня взгляд из-под опущенных ресниц.
– Подумать только, – сказала она. – Я, которая должна была когда-то стать женой императора… Порой мне было обидно, что Константин не сдержал слова. А сегодня я счастлива, что не вышла замуж за василевса. Счастлива, что могу обвенчаться с франком, сбежавшим от своей жены.
Анна открыла глаза и лукаво улыбнулась.
– Какое счастье, что я не стала супругой Константина, – продолжала она. – Я наверняка изменила бы ему с тобой, если бы мы встретились. Тогда он приказал бы ослепить тебя, а меня бы заточил в монастырь до конца дней, и мне было бы тебя жалко.
Время от времени у стен города грохотали пушки. Легкие деревянные домики тряслись и трещали по швам. Но мы наслаждались нашим коротким счастьем, забыв обо всем на свете. Вечером я послал Мануила нанять носилки, и мы отправились в монастырь Вседержителя. Узнав Анну Нотар, Геннадий испугался, но выполнил свое обещание. Мануил и монахи во время венчания держали над нашими головами балдахин. Геннадий благословил наш союз и вручил нам брачное свидетельство с большой монастырской печатью.
Передавая мне бумагу, он бросил на меня странный многозначительный взгляд и сказал:
– Я не знал, кто ты. Но Господь говорит мне, что все происходит, как должно… Если это действительно так, то пусть все обернется на благо нашей веры и нашего города.
Когда монах произнес эти слова, меня вдруг потрясла мысль: все, что происходило со мной, свершалось не по моей воле. С тех пор, как я бежал из лагеря султана, я ведь только шел, как лунатик, по тому пути, который предначертала мне судьба. Иначе почему из всех женщин на свете я должен был встретить именно Анну Нотар и узнать ее по дивным очам?
20 апреля 1453 года
Я проснулся в своем доме. Нагая Анна спала рядом со мной. Она была невыразимо прекрасна. Тело ее было как золото и слоновая кость. Так прелестна, так невинна и так чиста была эта женщина, что при взгляде на нее у меня перехватило горло.
В тот же миг монастырские колокола ударили в набат, заглушая грохот пушек. Мимо моего дома бежали толпы людей. Посуда на столе звенела от их топота. Я вскочил с ложа, вспомнив о том, где должен находиться. Анна проснулась и испуганно села, прикрывая одеялом свою наготу.
Я торопливо оделся. Даже меча не было у меня под рукой. Быстро поцеловав Анну на прощание, я сбежал вниз по лестнице. У двери, возле маленького каменного льва стоял Мануил и хватал бегущих людей за руки, пытаясь узнать, что случилось. На прояснившемся лице старика было написано недоверчивое изумление.
– Господин мой! – вскричал он. – Свершилось чудо! Это благословенный день. К городу подходит папский флот. На море уже видны вдали первые суда.
Я побежал вместе со всеми на вершину Акрополя. Там, высоко над портовой стеной, стоял я в толпе задыхающихся, размахивающих руками и громко вопящих людей и смотрел на четыре больших западных корабля, которые, разрезая волны, решительно шли на всех парусах к Константинополю. Суда держали курс прямо на гребень Акрополя, не обращая внимания на беспорядочно суетящиеся вокруг них бесчисленные турецкие галеры. Три парусника плыли под генуэзским флагом с крестом. На мачте четвертого – большого торгового судна – развевалось длинное пурпурное знамя императора. Никаких других христианских кораблей не было видно.
Суда подошли уже так близко, что ветер доносил до нас шум боя, крики, проклятия и выстрелы. Турецкий флагман таранил самый большой латинский парусник и теперь тащился за ним. А к трем остальным кораблям крепко прицепились абордажными крючьями турецкие галеры, и шедшие на всех парусах громадные суда волокли за собой гроздья легких корабликов.
Люди, стоявшие вокруг меня, рассказывали, крича от возбуждения, что битва началась далеко отсюда, в открытом море. Сам султан въехал на коне в воду и с отмели возле Мраморной башни отдавал приказы своему флоту и призывал капитанов уничтожить христианские суда. Вся верхняя площадка береговой стены была битком набита людьми. Из уст в уста передавались новости и слухи. Говорили, что султан оскаливал зубы и рычал, как собака, и что на губах у него выступила пена. И это вполне могло быть правдой. Я ведь видел собственными глазами, как Мехмеда охватила однажды такая ярость, что с ним случился настоящий припадок, хотя с тех пор султан и научился владеть собой.
Медленно, но верно ветер гнал большие корабли к порту, в безопасные воды. Суда волокли за собой турецкие галеры. Так медведь тащит вцепившихся в него охотничьих собак. Галер было так много, что они то и дело сталкивались друг с другом. На высоких волнах алела кровавая пена. Время от времени какая-нибудь галера выходила из боя, отцепляла крюки и отплывала в сторону, уступая место другой. Далеко в море дрейфовало одинокое тонущее турецкое суденышко.
По всей округе разносились звуки барабанов и рожков, дикие крики и предсмертные вопли. В воде плавали трупы и обломки галер. С высоты палуб, на которых отбивались топорами, мечами и пиками закованные в броню воины-христиане, в море падали турки, но их товарищи, облепив гнутые борта кораблей, упорно карабкались вверх. Главнокомандующий турецким флотом стоял с рупором в руке на корме своей галеры и громко отдавал приказы.
Внезапно толпа взревела в один голос:
– Флактанелл, Флактанелл! – Этот ликующий крик разнесся по всему городу. Кто-то узнал капитана корабля с императорским флагом. Это судно еще до осады отправилось на Сицилию за товаром. На палубе парусника был ясно виден огромный мужчина. Хохоча и строя жуткие гримасы, он размахивал окровавленным топором и указывал лучникам на врагов, сидящих высоко на мачтах турецких галер.
Генуэзцы намочили свои паруса, чтобы их не смогли повредить турецкие зажигательные снаряды. Палубу одной турецкой галеры вдруг охватило пламя, и страшные крики обожженных людей заглушили на миг шум битвы. Горящая галера отплыла в сторону, оставляя за собой дымный след.
Глазам зрителей, наблюдавших за этим сражением, открывалась просто невероятная картина. Четыре христианских корабля упорно прокладывали дорогу в порт, окруженные по меньшей мере сорока турецкими военными галерами. Радость толпы была неописуемой. То и дело раздавались крики что идет папский флот. Эти суда, мол, только авангард. Константинополь спасен!
Окутанные дымом корабли прошли мимо Акрополя. Здесь судам нужно было сделать резкий поворот на запад, чтобы достичь заградительной цепи и Золотого Рога. Ветер больше не был попутным. Скорость упала. У высокого холма царило безветрие, паруса кораблей обвисли, и было хорошо видно, что суда потеряли управление. На турецких галерах раздались ликующие вопли. Толпа на стенах онемела. С холмов на противоположном берегу, возвышающихся по другую сторону от Перы, ветер донес до нас победный рев. Там собралось великое множество турок. Они тоже следили за морским боем и теперь громко славили Аллаха.
Христианские корабли стояли борт о борт. Они сражались сомкнутым строем, хотя нос турецкого флагмана так и застрял в обшивке генуэзца, и суденышко, увлекаемое вперед большим кораблем, мешало гиганту маневрировать. Крепко сцепившись крючьями, четыре судна качались на высоких волнах, как одна большая крепость, обрушивая на турецкие галеры камни, пули, стрелы, огонь и расплавленный свинец. Рассыпая искры, взмывали над палубами турецких кораблей фонтаны греческого огня, так что враги были заняты в основном тушением пожаров.
– Флактанелл, Флактанелл! – снова начали кричать люди на береговой стене. Суда были теперь так близко, что можно было ясно видеть даже лица сражавшихся. Но никто не мог прийти к морякам на помощь. За портовым заграждением ждали венецианские суда, готовые в любую минуту вступить в бой, но цепь не позволяла им принять участие в битве. А до порта было еще далеко.
Наблюдая за этим невероятным сражением генуэзских кораблей, я простил Пере всю ее торгашескую жадность. Я видел, какой высочайшей слаженности, какого искусства и мастерства требовала от моряков эта битва. И я понял, почему Генуя веками была владычицей морей, соперничая с самой Венецией. Страшно медленно, пядь за пядью, продвигалась эта ревущая и извергающая огонь крепость из четырех судов к портовому заграждению, из последних сил используя несколько огромных весел и прибой.
На стене и на холмах в городе люди падали на колени. Напряжение было невыносимым – так велико было численное превосходство турецкого флота, с такой быстротой то и дело сменяли друг друга галеры, со свежими силами бросаясь в бой. Турецкий главнокомандующий охрип от крика. По щеке этого вельможи текла кровь. С отсеченными руками падали в воду воины в тюрбанах, но их пальцы все еще судорожно цеплялись за релинги христианских кораблей.
– Панагия, Панагия, Пресвятая Дева, защити свой город! – взывали люди, простирая руки к небу. Греки молились за латинян, воодушевленные мужеством и выдержкой моряков. Может, отчаянно защищать свою жизнь – и не геройство, но несомненным геройством было то, что эти четыре судна, слившись воедино, пытались пробиться через превосходящие силы врага, чтобы прийти на помощь Константинополю.
И вдруг, вдруг словно голубая волна прокатилась по небу. Свершилось чудо. Ветер изменил направление. Он вновь надул тяжелые, мокрые паруса и христианские суда гораздо быстрее двинулись к портовому заграждению. В последний момент турецкий главнокомандующий приказал обрубить таран на носу своей галеры – и этот таран остался в дубовой обшивке христианского корабля. Турецкая галера, команда которой обливалась кровью, развернулась и, признавая свое поражение, поплыла прочь. Словно хромая, с переломанными веслами окутанные клубами дыма, рассыпая искры греческого огня, который невозможно погасить, потянулись вслед за флагманом другие турецкие суда. От оглушительного победного рева жителей Константинополя содрогнулось небо.
О чудесах мне известно немногое. Но то, что ветер изменил направление именно в тот решающий миг, было, несомненно, чудом. В событии этом крылось что-то сверхъестественное, что-то такое, чего человеческим разумом не постичь. Трепет, вызванный этим удивительным явлением, не могли уменьшить ни душераздирающие стоны раненых, ни хриплые проклятия моряков, которые сорванными голосами кричали, чтобы ненадолго убрали заграждение и впустили генуэзские корабли в порт. Но размыкать большую цепь непросто и опасно. Лишь когда турецкие суда исчезли, уйдя в Босфор, Алоизио Диего приказал открыть заграждение и четыре корабля, покачиваясь на волнах, вошли в порт и отсалютовали императору.
В тот же самый день, после полудня моряки во главе со своими капитанами, развернув знамена, промаршировали в сопровождении ликующих толп в монастырь Хора, чтобы поблагодарить константинопольскую Панагию за чудесное спасение. Все раненые, которые могли держаться на ногах, приняли участие в этой процессии, а некоторые другие попросили, чтобы их доставили в храм на носилках; эти люди надеялись, что Богородица исцелит их. Так латиняне славили греческую Пречистую Деву, а глаза их слепила золотая мозаика в монастырском храме.
Но радость и надежды тех жителей города, что были поумнее, моментально померкли, когда выяснилось что три генуэзских корабля вовсе не были авангардом объединенного христианского флота, а всего лишь доставили то оружие, которое император закупил и оплатил еще осенью. Напав на эти суда, султан явным образом нарушил нейтралитет, поскольку направлялись-то корабли в Перу. Капитаны ввязались в сражение с турецким флотом только потому, что груз их являлся военной контрабандой и они боялись лишиться своих судов. Благополучно войдя в порт, капитаны, как и судовладельцы, сразу стали богатыми людьми. Другой вопрос, удастся ли им сохранить свои деньги и корабли, ссылаясь на нейтралитет Перы.
Мой восторг прошел. Я был вынужден вернуться на свой пост во Влахернах и явиться к Джустиниани. Я поцеловал на прощание свою молодую жену. Мысли мои были уже далеко. Я запретил Анне показываться в городе, чтобы ее там не узнали. Велел Мануилу слушаться ее и обещал прийти домой, как только смогу.
У ворот святого Романа пушки повредили уже не только внешнюю, но и большую городскую стену. После захода солнца ко внешней стене нескончаемым потоком движутся люди; они тащат бревна, кожи, корзины с землей и связки фашин, чтобы заделать проломы. Каждый может свободно выйти за пределы большой стены и добраться до стены внешней. Вернуться в город труднее. Джустиниани расставил караульных, которые хватают тех, кто пытается прошмыгнуть обратно, и заставляют всех пойманных отрабатывать лишнюю ночь. Латиняне Джустиниани измотаны обстрелом, который не прекращается с начала осады, и постоянными вылазками к большому пролому, где турки всеми силами стараются помещать ремонту стены. Большинство защитников города уже много дней не снимало доспехов.
Я описал Джустиниани морское сражение, рассказав о том, что видел своими, глазами, и проговорил:
– Победа генуэзцев привела венецианцев в бешенство. Ведь венецианские суда не отличились еще ни в одном бою. Стоят у заградительной цепи да прячутся от каменных ядер, которыми их обстреливают бомбарды султана. Ни чести, ни славы…
– Победа, – произнес Джустиниани, внезапно посерьезнев. – Единственной нашей победой является то, что мы сопротивляемся уже почти две недели. Но прибытие этих судов – наше величайшее поражение. До сих пор мы могли хотя бы надеяться, что папский флот вовремя подоспеет нам на помощь. Теперь мы знаем, что в Эгейском море нет ни одного корабля и в итальянских портах не снаряжают никакого флота. Христианский мир бросил нас на произвол судьбы.
Я возразил генуэзцу:
– Подготовку к такому морскому походу должны держать в тайне до последней минуты.
Джустиниани резко ответил:
– Чушь. Такой большой флот невозможно снарядить без того, чтобы до генуэзских капитанов не дошли хоть какие-то слухи. – Потом он устремил на меня грозный взор своих бычьих глаз и спросил: – Где ты был? Тебя целые сутки никто не видел во Влахернах.
Я ответил:
– День был спокойный, и я занялся своими личными делами. Ты мне больше не доверяешь?
Джустиниани проговорил обвиняющим тоном:
– Ты у меня на службе. Я должен знать, что ты делаешь. – Внезапно он приблизил свое лицо к моему, его щеки набрякли, а в глазах вспыхнул зеленый огонь. – Тебя видели в турецком лагере! – рявкнул генуэзец.
– Ты рехнулся?! – вскричал я. – Это подлая ложь, кто-то просто хочет погубить меня. Сам посуди, как я мог за сутки добраться туда и вернуться в город?
Джустиниани пожал плечами:
– Каждую ночь между Константинополем и Перой снуют лодки. И тебе это отлично известно. Подесту Перы можно подкупить, а тамошние стражники – бедные люди, которые не откажутся от лишней монетки. Не думай, будто я не знаю, что творится у султана. У меня есть там глаза и уши – так же, как у Мехмеда есть глаза и уши здесь.
– Джустиниани, – проговорил я, – ты должен мне верить – хотя бы ради нашей дружбы. Вчера был спокойный день, и я обвенчался с одной гречанкой. Но заклинаю тебя, сохрани это в тайне. Иначе я потеряю эту женщину.
Он разразился раскатистым смехом и, как прежде, хлопнул меня огромной лапищей по плечу.
– Никогда в жизни не слышал ничего более безумного, – заявил генуэзец. – Считаешь, что сейчас самое подходящее время, чтобы думать о женитьбе?
Он мне верил. Возможно, хотел лишь напугать меня, чтобы я признался, что делал, когда он потерял меня из вида. Но сердце мое тревожно сжалось, полное дурных предчувствий. Всю ночь в турецком лагере горели новые огни, а большие пушки, которые раньше обходились одним залпом за ночь, стреляли теперь каждые два часа.
21 апреля 1453 года
Кошмарный день. Ночью турки подтащили к стене новые орудия и увеличили мощь своих батареи. Новый способ, которым они ведут обстрел, не стараясь теперь, чтобы ядра попадали в одно и то же место, уже дал прекрасные результаты. После полудня рухнула одна из башен большой стены возле ворот святого Романа. Вслед за башней обвалился и изрядный кусок каменной кладки. Пролом получился приличный. Если бы у турок были наготове необходимые для штурма отряды, они могли бы ворваться в город. От внешней стены в этом месте остался только временный палисад, который каждую ночь нужно возводить заново. Но турки, к счастью, ограничились тем, что послали в атаку пару сотен человек – да и то в разных местах. Воины султана уже не успевают подбирать погибших. У подножья внешней стены и там, где осыпался ров, лежит множество трупов. Воздух отравлен чудовищным смрадом…
Весь день до позднего вечера с обеих сторон велся непрерывный огонь. Султан приказал повсюду проверить стену на прочность. На холмах за Перой установил новые орудия, которые нацелены на корабли в порту. Выпущенные из этих орудий снаряды, пролетев над Перой, плюхаются в воду. В порту уже упало по меньшей мере сто пятьдесят каменных ядер. Когда венецианские суда отошли от заградительной цепи, чтобы укрыться от обстрела, султанские галеры попытались прорвать ее. Но греки вовремя подняли тревогу, и венецианцы вернулись, чтобы защищать заграждение. Им удалось повредить галеры так серьезно, что те обратились в бегство. Пока длилось это сражение, турки не могли стрелять с холмов за Перой, опасаясь попасть в собственные корабли. Три раза султанский флот безуспешно штурмовал заграждение.
Похоже, что Мехмед собрал все силы, чтобы отомстить за вчерашнее позорное поражение на море. Говорят, вчера вечером султан отправился верхом в порт Пелар и там собственноручно избил командующего флотом, колотя его по груди и плечам железным жезлом эмира. Главнокомандующий флотом Балтоглу, сам тяжелораненый, потерял в битве глаз а на флагманском корабле погибло двести человек, так что он лишь с большим трудом смог собственными силами выбраться из боя. Без сомнения, Балтоглу – человек отважный, но он не способен руководить всем флотом. Об этом свидетельствует вчерашняя неразбериха.
Султан хотел посадить Балтоглу на кол, но все капитаны турецких кораблей умоляли Мехмеда смилостивиться, наперебой превознося мужество главнокомандующего. И султан удовлетворился поркой… И вот, на глазах всего флота главнокомандующего били палками, пока он не потерял сознания. Балтоглу лишили также всего имущества и с позором изгнали из лагеря султана. И поскольку прежний главнокомандующий потерял глаз, богатство и честь, понятно, что султану теперь трудно найти человека, который взялся бы руководить соединениями турецких кораблей. Но во всяком случае, султанский флот уже не бездействует. Целый день он пребывал в движении, ничего, правда, так и не добившись.
Венецианцы опасаются, что бурная активность флота и постоянные стычки, похожие на разведку боем, предвещают скорое наступление по всему фронту. Была объявлена тревога. Целые сутки все пребывали в повышенной боевой готовности. Никому не разрешалось покидать стену. Никому не разрешалось даже ночью расставаться с оружием. Радость вчерашней победы сменилась повсюду в городе мрачной подавленностью. Никто уже не пытается считать орудийных залпов, которые слились в непрерывный грохот. Пороховой дым застилает небо и черной копотью оседает на стенах домов.
Каждый день в лагерь султана прибывают новые отряды солдат и группы добровольцев, привлеченные возможностью заняться грабежами. Едут к туркам и купцы – христиане и евреи; они получают большие деньги, продавая солдатам провиант, и собираются вложить всю выручку в военную добычу, которую за бесценок скупят у турок, когда те захватят город. Говорят, телеги, сани и тягловый скот, ослы и верблюды, резко подскочили в цене – ввиду того, что из Константинополя скоро предстоит вывозить награбленные сокровища. Бедняки надеются захватить в городе столько рабов, что те дотащат на себе добычу до самой Азии.
Все это предвещает последний, решающий штурм. Батареи султана уже научились бить по трем таким точкам, что от каждого выстрела огромные куски внешней стены обрушиваются в ров. В городе, да и на стенах, можно иногда заметить признаки паники.
Резервный отряд Нотара объезжает на конях город и без лишних слов гонит каждого пригодного к работе человека на стены. Только старикам, женщинам и детям разрешается оставаться дома. Даже больных вытаскивают из постелей, поскольку многие со страху прикидываются недужными. Другие опять пускаются в рассуждения о том, что это – война императора и латинян, и что они, простые греки, не желают сражаться за еретиков. Немало людей в испуге попряталось по погребам, подвалам и пересохшим колодцам – на тот случай, если туркам удастся ворваться в город.
22 апреля 1453 года
Ужасное воскресенье. Утром внезапно перестали звонить церковные колокола, и на стене возле порта собралась огромная толпа людей, которые в немом изумлении протирали глаза. Со страхом говорили о фокусах ведьм и о дервишах, которые умеют ходить по воде и использовать вместо паруса плащ. Напротив храма Святого Николая и ворот святой Феодосии расположен порт Перы, битком забитый турецкими галерами. Никто не мог понять, как турецкие суда прошли через заграждение и каким образом оказались теперь в тылу у нашего флота. Многие люди то и дело протирали глаза и доказывали, что турецкие корабли – это мираж. Но на берегу у Перы кишмя кишели турки; они копали шанцы, возводили палисады и устанавливали пушки, которые должны были прикрывать своим огнем галеры.
А потом раздался крик. На вершине холма внезапно появился турецкий корабль, который тут же на всех парусах заскользил вниз под бой барабанов и рев труб. Казалось, он плыл по суше. На самом деле сотни людей тащили его по деревянному скату – и вот судно съехало на берег, плюхнулось в воду и подплыло к другим кораблям. В гавани уже стояло в ряд более пятидесяти парусников. Но все это были не крупные галеры, а суда на восемнадцать-двадцать гребцов, в пятьдесят-семьдесят шагов длиной.
На подготовку этого сюрприза султану и его новому флотоводцу понадобились ровно сутки. Днем выяснилось, что генуэзцы из Перы предоставили Мехмеду огромное количество бревен, канатов, деревянных колод для катков и сала для смазки ската. А потом турки, используя вороты, волов и людей, вытянули суда из Босфора, подняли их на крутой холм за Перой и перетащили на другую сторону, к Золотому Рогу.
Генуэзцы в Пере оправдывались, утверждая, что все произошло так быстро и держалось в такой глубокой тайне, что до сегодняшнего рассвета они и понятия не имели ни о каких приготовлениях. А что касается продажи большого количества сала, заявили генуэзские купцы, то они для сохранения нейтралитета просто вынуждены торговать с султаном так как с Константинополем. И даже если бы они знали, что будет, все равно не смогли бы этому помешать поскольку на холме стоят десятки тысяч турецких солдат, охраняющих галеры.
Алоизио Диего срочно созвал венецианских военачальников на совет с императором и Джустиниани в соборе Святой Марии. Тем временем все новые галеры с поднятыми парусами скатывались с холма возле Перы, кормчие били в барабаны, а гребцы с дружным криком поднимали весла, по-детски радуясь этому плаванию посуху. Наш флот пребывал в полной боевой готовности, но ничего не мог поделать.
Совет был тайным; Алоизио Диего не послал даже за генуэзскими капитанами – и те разозлились на венецианцев пуще прежнего. В доказательство того, насколько трудно в этом городе сохранить что-то в секрете, могу сообщить, что уже вечером многие во Влахернах знали, о чем шла речь в храме Святой Марии.
Некоторые венецианцы предлагали немедленно повести флот в атаку; большие суда и тяжелые орудия должны уничтожить легкие турецкие корабли, пока большая их часть еще лежит на берегу. Галеры не смогут оказать серьезного сопротивления, утверждали венецианцы, хотя турецких кораблей возле Перы – великое множество. Но более осторожные члены совета, среди которых был и сам посланник, с вполне естественным пиететом относились к пушкам, которые султан установил на холме для защиты своих галер, и воспротивились проведению столь рискованной операции; ведь в результате турки могли потопить или повредить прекрасные, драгоценные венецианские суда!
Было предложено также захватить ночью турок врасплох, доставив к Пере на двух-трех легких кораблях несколько отрядов и высадив там солдат на берег. Но Джустиниани решительно отверг этот план. У турок было под Перой слишком много сил, а защитники города не могли себе позволить потерять ни единого человека, способного держать оружие.
На оба плана наложил вето и император Константин – по политическим соображениям. Турецкие галеры стоят на якоре в Золотом Роге возле Перы. Берег принадлежит Пере, хотя и находится за ее стенами. Значит, нельзя предпринимать никаких атак, не испросив предварительно разрешения у перских генуэзцев. Даже если султан откровенно пренебрег нейтралитетом Перы, заняв часть берега возле порта, это не дает Константинополю права так же нарушить все договоры. Франц поддержал василевса и добавил, что Константинополь не может себе позволить ссориться с генуэзцами, даже если султан рискует это делать.
Венецианцы, ругаясь на чем свет стоит, кричали, что если надо извещать генуэзцев – этих предателей христианства – о ночной вылазке, то лучше уж сразу сообщить о ней султану. Многие были уверены, что Мехмеду удалось перетащить свои галеры в Золотой Рог только благодаря тайной поддержке Перы.
Джустиниани обнажил на это свой большой двуручный меч и заорал, что готов сразиться за честь Генуи с одним, двумя – или всеми двенадцатью членами венецианского совета сразу.
– Это несправедливость и позор, – кричал протостратор, – обсуждать план морской атаки, не выслушав сначала генуэзских капитанов. Их суда подвергаются такой же опасности, и точно так же защищают город, как корабли венецианцев. И со стороны венецианцев просто нелепо пытаться таким манером восстановить свою подорванную репутацию.
Императору пришлось с протянутыми руками броситься к Джустиниани, чтобы успокоить его. Потом василевс со слезами на глазах пытался умиротворить взбешенных венецианцев.
Наконец слово взял венецианский капитан Джакомо Коко – тот, что прибыл сюда осенью из Трапезунта и, несмотря на турецкую блокаду, сумел обманом пройти через Босфор, не потеряв ни единого человека. Это – суровый мужчина, который предпочитает меньше говорить и больше делать. Но порой в его глазах появляется насмешливый блеск. Моряки преклоняются перед капитаном Коко и рассказывают бесчисленные истории о его хитрости, лукавстве – и мастерстве, с которым он управляет кораблем.
– Чем больше кухарок, тем хуже суп, – заявил этот человек. – Если нужно что-то предпринять, то надо делать это быстро, внезапно и привлекая не больше людей, чем это необходимо. Хватит одной галеры, обвешанной снаружи мешками с хлопком и шерстью для защиты от пушечных ядер. Под прикрытием этого корабля к берегу Перы может подойти на веслах множество маленьких суденышек и лодок – и поджечь вражеский флот. Турки и опомниться не успеют. Я сам с удовольствием поведу эту галеру – но лишь с одним условием: вы немедленно прекратите спорить – и вылазка состоится этой же ночью.
Предложение было, несомненно, хорошим, но император считал, что нельзя оскорблять генуэзцев. Поэтому совет Коко в принципе приняли, но отложили все предприятие на несколько дней, чтобы подробнее спланировать его вместе с обитателями Перы. Чтобы ублажить Коко, поручили ему командовать операцией. Джакомо Коко пожал плечами и рассмеялся:
– Мне всегда слишком везло, но нельзя же требовать невозможного. Впрочем, я еще успею покаяться в грехах и причаститься… Если мы не организуем вылазки немедленно, значит, пойдем на верную смерть.
Джустиниани ничего мне об этом не рассказывал. Он заявил только:
– Флот примет необходимые меры. Турецкие галеры в Золотом Роге не представляют для венецианских кораблей ни малейшей опасности. Самое большее, что могут сделать турки, – это неслышно подплыть темной ночью к какому-нибудь христианскому суденышку и поджечь его. Гораздо хуже то, что нужно разместить на портовой стене новые отряды… До сих пор там сидела только горстка караульных, которые наблюдали за портом, но теперь потребуются большие силы, чтобы отбить у турок охоту перебрасывать войска через залив.
– Этой ночью султан Мехмед без сомнения стяжал славу Александра Македонского. Деяние Мехмеда намного превзошло все подвиги царя персов Ксеркса в этих водах, – усмехнулся генуэзец. – Конечно, и раньше суда перетаскивали по суше, но не в таких трудных условиях и не в таком огромном количестве. Пусть венецианцы болтают о своих кораблях, что хотят. Меня больше восхищает военный гений Мехмеда. Ведь он без единого выстрела, лишь припугнув нас возможностью нападения с моря, вынудил меня перегруппировать все силы и ослабить оборону других участков крепостной стены.
Джустиниани посмотрел на меня исподлобья и добавил:
– Я случайно не говорил тебе, что мы с императором пришли к одному и тому же выводу: заслуги Луки Нотара в борьбе с турками столь велики, что он достоин занимать еще более высокий пост? Завтра утром Нотар будет назначен главнокомандующим резервными силами, размещенными в центре города, у храма Святых Апостолов. Защищать стену я поручу кому-нибудь другому и сразу пошлю туда новые отряды.
– Джустиниани, – сказал я. – Он тебе этого никогда не простит. Ты оскорбляешь в его лице весь греческий народ, храмы и монастыри, священников и монахов, саму греческую душу!
Джустиниани сверкнул глазами.
– Видимо, ради княжеской короны мне придется выдержать и это, – ответил он. – Я никогда не смог бы себе простить, если бы как-нибудь ночью греческая душа распахнула ворота порта и впустила в город турок с этих их суденышек. – Генуэзец пробурчал что-то себе под нос и повторил: – Греческая душа, да, это хорошо сказано, греческая душа, именно ее мы все и должны остерегаться. И император тоже…
Меня душила ярость, хотя я и понимал его.
Нашей единственной радостью в это грустное воскресенье стало то, что со страшным грохотом разорвало одну из больших турецких пушек. Погибло много народа из обслуги, все вокруг пришли в смятение… Понадобилось около четырех часов, чтобы орудия на этом участке снова открыли огонь.
Многие защитники города измучены лихорадкой и болями в животе. Братья Гуаччарди приказали повесить греческого поденщика, который нарочно отрубил себе пальцы, чтобы не работать на стене.
Неужели это действительно война латинян, а не греков? Я боюсь своего сердца. Боюсь своих мыслей. Во время войны даже самый холодный ум не может оставаться ясным.
25 апреля 1453 года
Сегодня около полуночи Джакомо Коко хотел на двух галерах атаковать турок и поджечь турецкие суда, стоящие у подножья холмов Перы. Но генуэзцы не дали капитану осуществить этот план, обещая что сами примут участие в вылазке, выделив для этого большой отряд, как только удастся лучше спланировать всю операцию.
Меня удивляет только одно: как они могут верить, что сумеют все сохранить в тайне, если об этом уже знает почти каждый человек во флоте – и повсюду оживленно обсуждается план внезапного нападения на турецкие суда?
Обстрел продолжается. Потери растут. То, что мы восстанавливаем ночью, на следующий день сокрушают каменные ядра. На участке большой стены, который защищают братья Гуаччарди, рухнули две башни.
28 апреля 1453 года
Сегодня утром, еще затемно, явился Джустиниани и разбудил меня, тряся за плечи и словно желая убедиться, что я все еще здесь, во Влахернах. Потом он коротко приказал мне следовать за ним. Еще не рассвело. Ощутимо пробирал ночной холод. В турецком лагере лаяли собаки. Это были единственные звуки, нарушавшие тишину.
Мы поднялись на стену напротив того места, где стояли на якоре турецкие суда. За два часа до восхода солнца на высокой башне в Пере внезапно запылал сигнальный огонь.
– Боже Всемогущий, – мрачно прошептал Джустиниани. – Почему я родился генуэзцем? Их правая рука не ведает, что творит левая.
Ночь по-прежнему была тихой. С турецкого берега не доносилось ни звука. Под нами блестели черные воды гавани. Яркий огонь вспыхнул высоко на башне в Галате. Я напряг зрение, и мне показалось, что различаю тени кораблей, скользящих по воде. Потом ночь взорвалась. Вспышки, сопровождавшие залпы орудий на противоположном берегу, ослепили меня. Тяжелые каменные ядра с грохотом врезались в борта кораблей и пробивали дубовую обшивку. В мгновение ока темнота наполнилась страшным шумом и криком. Запылали факелы. Греческий огонь падал в воду и плыл по поверхности горящими пятнами. В неверном свете боя я разглядел, что венецианцы вышли целой эскадрой, чтобы уничтожить турецкие галеры. Недалеко от берега пылали два больших корабля, казавшихся бесформенными из-за мешков с хлопком и шерстью, прикрепленных по бокам. Один из этих гигантов уже начинал тонуть. Все новые ядра непрестанно сыпались на бригантины, шедшие под прикрытием обоих больших парусников. Весь турецкий флот в полной боевой готовности двигался навстречу христианским судам. Западные корабли в воцарившейся сумятице сталкивались друг с другом, а отчаянные крики отдающих команды капитанов разносились далеко вокруг. Время от времени всю эту картину заслоняли густые клубы порохового дыма, и лишь по багровому зареву пожара можно было понять, что загорелась еще одна галера. Христиане подожгли свои брандеры и направили их на турецкие корабли, а сами спрыгнули в воду, ища спасения на других судах.
Сражение длилось до самого рассвета, когда венецианским галерам удалось наконец оторваться от противника и уйти назад в порт. Одна из них – та, которой командовал Тревизано, – пошла бы ко дну, если бы все моряки не разделись догола и не позатыкали бы пробоины своими вещами. Первая галера, которую вел Коко, затонула почти мгновенно, но некоторые моряки сумели спастись, добравшись вплавь до берега Перы.
Когда взошло солнце, мы убедились, что операция полностью провалилась. Сгорела лишь одна-единственная турецкая галера, которая и затонула на наших глазах. Пожары на остальных кораблях постепенно удалось потушить.
Сын венецианского посланника вел вторую из спасенных христианских галер. Проплывая назад мимо Перы, он приказал стрелять из пушек, и мы видели, как ядра, ударяясь о стены Перы, поднимают тучи пыли. Сигнальный огонь, вспыхнувший на башне в тот момент, когда венецианские суда вышли из порта, так явно свидетельствовал о предательстве обитателей Перы, что даже Джустиниани не пытался этого отрицать.
– Хороши генуэзцы или плохи, но Генуя – мой родной город, – сказал он. – Венецианский флот гораздо сильнее генуэзского. Небольшое кровопускание всегда полезно; оно лишь помогает восстановить утраченное равновесие.
Мы уже спускались со стены, когда я бросил последний взгляд на окутанный дымом берег Перы и схватил Джустиниани за плечо. Я увидел султана на белом коне; в лучах восходящего солнца ослепительно сияли драгоценности на тюрбане Мехмеда. Султан спустился на самый берег и въехал на пригорок. К Мехмеду как раз подводили дочиста ограбленных и почти догола раздетых пленников со связанными за спиной руками. Это были моряки, спасшиеся с затонувших галер. Столпившиеся вокруг холма люди показывали пальцами и кричали, что узнают среди пленных Джакомо Коко.
В этот миг из Влахернского дворца прибежала группа венецианцев, покинувших свои посты на стенах. Джустиниани приказал им вернуться, но они ответили, что они исполняют лишь распоряжение посланника, который поехал в порт, чтобы встретить своего сына, и велел им прибыть туда в полном вооружении.
Но вскоре спор прекратился. В безмерном ужасе мы снова устремили взоры на берег Перы. Турки заставляли пленников опускаться на колени – и палач заносил меч… Катились головы, фонтаном била кровь. Но султану и этого было мало. В землю вкопали ряд острых кольев и посадили на них обезглавленные трупы, после чего на верхушку каждого кола водрузили отсеченную голову с оскаленными зубами и искаженным лицом.
Многие из нас закрыли глаза, чтобы не видеть этой страшной картины. Венецианцы плакали в бессильной ярости. Какую-то женщину вырвало, и она, пошатываясь, спустилась со стены.
Пленников было так много, что окровавленные тела первых уже торчали на кольях, а последние все еще стояли перед палачом. Султан не пощадил никого. Когда окончательно рассвело, на кольях торчало сорок изуродованных трупов, а сорок голов взывало к отмщению, хотя уста их и были немы.
Джустиниани сказал:
– Не думаю, что теперь найдется много венецианцев, которые захотят наведаться к туркам.
Тут от заградительной цепи мимо нас прошли на веслах лодки, битком набитые людьми с кораблей. Оружие моряков блестело на солнце. Увидев их, Джустиниани нахмурился.
– Что происходит? – спросил он неуверенно.
Тут мы услышали за спиной цокот копыт. Венецианский посланник пронесся мимо нас на своем жеребце сумасшедшим галопом, забыв о возрасте и тучности. За посланником мчался его сын, размахивая мечом; доспехи юноши все еще были в крови.
– Вперед, венецианцы! – кричали отец и сын. – Отомстим за наших товарищей! Пошли за пленниками!
Джустиниани напрасно требовал коня. Потом генуэзец опомнился и проговорил:
– Я все равно не могу увести своих людей от ворот святого Романа. Пусть венецианцы покроют себя позором. Ты же собственными глазами видел, они бросили два своих корабля и в панике бежали.
Вскоре разъяренные венецианцы, моряки и солдаты, притащили к стене турецких пленных, которых выволокли из башен и подземных темниц. Часть узников, на которых сыпались сейчас пинки и удары, были турками, жившими в Константинополе и схваченными после начала осады, но большинство попало в плен во время ночных разведок боем, когда воины султана атаковали ворота святого Романа и другие участки стены. Многие турки были ранены и едва держались на ногах. В течение часа к портовой стене согнали более двухсот пленников. Венецианцы толпились вокруг; то и дело кто-то из них подходил к пленным, бил какого-нибудь турка по лицу, пинал в живот или, не глядя, протыкал мечом. Немало пленников упало и лежало на земле, другие пытались молиться и взывать в своих страданиях к Аллаху.
Джустиниани крикнул венецианцам:
– Я обращусь к императору. Это мои пленники.
Венецианцы ответили:
– Заткнись, проклятый генуэзец, а то мы и тебя вздернем.
Венецианцев было несколько сотен, и все – вооруженные до зубов. Джустиниани понял, что ничего не может сделать и что его собственная жизнь тоже в опасности. Он подошел к посланнику и попытался воззвать к его разуму:
– Я не чувствую за собой никакой вины и не отвечаю за то, что творят генуэзцы из Перы. Мы все воюем тут во имя Господа нашего за спасение христианства. Вам не принесет славы убийство этих бедняг, многие из которых – отважные воины, лишь тяжелоранеными попавшие в плен. К тому же это просто глупо, поскольку отныне ни один турок не станет сдаваться, а будет сражаться до последнего дыхания.
Посланник начал кричать с пеной у рта:
– Еще не остыла кровь наших земляков и братьев, а ты, подлый генуэзец, не стыдишься защищать турок. Ты что, собираешься получить за них выкуп, да? Ха, генуэзец продаст и родную мать, если ему хорошо заплатят! Что ж, мы покупаем у тебя пленных по сходной цене. Держи!
Он сорвал с пояса кошелек и швырнул его под ноги Джустиниани. Тот побледнел, но овладел собой и пошел прочь, знаком приказав мне следовать за ним.
Венецианцы начали вешать турецких пленников одного за другим на выступах и зубцах стены и на башне напротив места казни моряков. Повесили даже раненых, всего двести сорок турок, по шесть за каждого убитого венецианца. Моряки не побрезговали заняться работой палачей. Сам посланник собственноручно повесил одного раненого турецкого солдата.
Как только венецианцы перестали нас видеть, Джустиниани ускорил шаг. Мы встретили конный патруль – двух всадников из резервного отряда. Джустиниани приказал им спешиться и забрал коней. Мы помчались к императору. Василевс заперся в башне и замер на коленях перед иконой. Оправдываясь перед Джустиниани, Константин заявил, что вынужден был удовлетворить требование венецианцев и дать согласие на казнь, поскольку иначе они завладели бы пленниками силой, подорвав таким образом его, императора, авторитет.
Джустиниани заявил:
– Я умываю руки. Не могу ничего сделать. Не могу забрать своих людей от пролома, хотя множество венецианцев без разрешения покинуло свои посты. Держи наготове резерв. В противном случае я не отвечаю за то, что может случиться.
Но, отправившись на свой участок стены, Джустиниани некоторое время наблюдал за турецким лагерем, а после полудня вернулся с двадцатью людьми в порт.
Вешая беззащитных турок, венецианцы озверели. Правда, многие из них вернулись потом на стены, а посланник заперся во Влахернском дворце, чтобы оплакивать бесславную кончину Джакомо Коко, но остальные шатались небольшими группами по порту, вопя о предательстве и требуя смерти генуэзцев. Завидев какого-нибудь генуэзца, венецианцы сбивали его с ног, вываливали в грязи и пинали так, что у несчастного трещали ребра.
Когда венецианцы начали вышибать дверь и окна в доме одного генуэзского купца, Джустиниани приказал своим закованным в броню людям двинуться шеренгой и очистить улицу от венецианского сброда.
Началась свалка.
Вскоре дрались уже на всех портовых улочках. Звенели мечи, лилась кровь. Городская стража подняла тревогу, и Лука Нотар спустился на коне с холма во главе большого отряда греческих всадников, которые с удовольствием принялись топтать и генуэзцев, и венецианцев.
Греки, которые разбежались в порту по домам, набрались смелости и начали швырять камни из окон и с крыш, а также колотить пробегавших мимо латинян длинными палками.
Когда солнце стало клониться к закату и драка длилась уже два часа, в порт прибыл сам василевс Константин, облаченный в зеленый императорский парчовый плащ, пурпурную тунику и пурпурные сапоги, с золотой полукруглой короной на голове. Рядом с василевсом ехал венецианский посланник, тоже в одеждах, соответствующих его званию Посланник с трясущимися щеками приблизился к Джустиниани и принялся вымаливать прощение за те постыдные слова, которые вырвались у него несколько часов назад в минуты сильнейшего возбуждения. Император ронял слезы и призывал латинян забыть ради Христа о внутренних раздорах в эту страшную минуту общей опасности. Если какой-то генуэзец из Перы и оказался предателем, то ведь все остальные генуэзцы никоим образом в этом не виноваты!
Призывы императора привели к тому, что начались своеобразные переговоры. В них принял участие и Лука Нотар, который протянул руку как посланнику, так и Джустиниани, и назвал их обоих братьями. Все старые дрязги должны остаться в прошлом, заявил он, раз каждый теперь рискует жизнью, чтобы спасти город от турок.
Думаю, что Нотар был в этот момент совершенно искренен и честен, поскольку в греках под влиянием минутного порыва легко просыпается самоотверженность и благородство.
Но как Джустиниани, так и Минотто, политический опыт которых основывался на традициях их родных городов, решили, что все это – лишь ловкая игра и что Нотар счел этот момент подходящим, чтобы завязать дружеские отношения с латинянами.
Во всяком случае, все сели на коней. Люди Нотара окружили портовый квартал, а император, Джустиниани, Минотто и Нотар ездили по улицам, призывая в имя Господа Бога всех успокоиться и забыть о прежних распрях. Официальный наряд императора производил столь сильное впечатление, что самый дерзкий латинянин не осмеливался прекословить василевсу. Моряки постепенно рассаживались по своим лодкам и возвращались на корабли. На улицах осталось лишь несколько венецианцев которые, оплакивая Джакомо Коко, напились до беспамятства. Три генуэзца и два венецианца погибли, но по желанию императора было решено держать эти сведения в секрете и похоронить погибших потихоньку под покровом ночи.
Беспорядки не обошли стороной и моего дома. Когда волнения улеглись, я попросил у Джустиниани разрешения наведаться к супруге. Он добродушно ответил, что и сам не прочь выпить кубок вина после такого постыдного и печального дня, как сегодня. Не думаю, что он хотел пойти со мной только потому, что ему было любопытно взглянуть на мою жену.
Мануил открыл нам дверь и сообщил голосом, звенящим от возбуждения и гордости, что ему удалось угодить камнем в голову венецианскому дуболому и свалить этого детину на мостовую. Джустиниани, ласково улыбнувшись, назвал Мануила славным, мудрым стариком. Устав таскать тяжелое вооружение, генуэзец рухнул на табурет так, что затрясся весь дом, вытянул ноги и Христом-Богом попросил глоток вина.
Я оставил Мануила прислуживать гостю и торопливо отправился к Анне, которая забилась в самую дальнюю комнату. Я весело спросил женщину, не хочет ли она познакомиться со знаменитым Джустиниани или предпочитает по греческому обычаю скромно держаться в стороне?
Убедившись, что во время беспорядков со мной ничего не случилось, Анна с упреком взглянула на Меня и сказала:
– Если ты так стыдишься меня и моей внешности, что считаешь, будто я не могу показаться даже твоим друзьям, то я, конечно, останусь в своей комнате.
Я ответил, что, наоборот, очень горжусь своей женой и с удовольствием представлю ее генуэзцу. Джустиниани наверняка не знал Анну Нотар в лицо и к тому же обещал никому не говорить о моей женитьбе. Поэтому ему можно было показать Анну. Я живо схватил ее за руку, чтобы отвести к гостю, но женщина вырвалась и негодующе прошипела:
– Если ты и впредь собираешься хвалиться мной перед своими приятелями, то хочу надеяться, что ты хотя бы будешь заранее предупреждать меня об этом, чтобы я могла одеться и причесаться, как подобает. Сейчас я не могу показаться никому, как бы мне ни хотелось познакомиться со столь славным мужем, как Джустиниани.
Я наивно воскликнул:
– Ты прекрасна такая, какая есть. Для меня ты – прекраснее всех женщин на свете. Не понимаю, как ты можешь говорить о нарядах и прическах в такой ужасный, такой горький день, как сегодня. На это все равно никто не обратит внимания.
– Ты так считаешь? – резко спросила она. – Ну, ну… В таком случае, ты не очень-то разбираешься в жизни. Я в этом безусловно понимаю куда больше тебя, поскольку я женщина. Так разреши же мне быть женщиной! Ты ведь потому и женился на мне, не так ли?
Ее поведение сбило меня с толку, и я не мог понять, какой каприз заставляет ее быть такой грубой. Я ведь хотел ей только добра. Пожав плечами, я проговорил:
– Поступай, как знаешь. Оставайся в своей комнате, если считаешь, что так будет лучше. Я все объясню Джустиниани.
Она схватила меня за руку и воскликнула:
– Ты совсем сошел с ума, что ли? Оглянуться не успеешь, как я буду готова. Спускайся вниз и пока развлекай его, чтобы он не ушел.
Когда я выходил из комнаты, Анна уже сидела с гребнем из слоновой кости в руке и распускала свои роскошные золотые волосы. Сконфуженный, я залпом вылил кубок вина, что совсем не в моих привычках, а Джустиниани охотно последовал моему примеру.
Наверное, Анна была права: женщина очень непохожа на мужчину и обращает внимание на другие вещи. Я начал понимать, как мало еще о ней знаю, хоть она так близка мне. Даже когда она лежит в моих объятиях, мысли ее далеки от моих, и я никогда не могу постичь ее до конца.
К счастью, Джустиниани делал вид, что считает долгое отсутствие Анны совершенно естественным, и вел себя так, словно ничего не случилось. В моем доме было уютно и спокойно. За окном время от времени мелькали багровые вспышки, сопровождавшие выстрелы больших пушек и отражавшиеся в воде порта. Вскоре после этого до нас докатывался грохот, и дом трясся так, что из кувшина выплескивалось вино. И все же здесь было совсем не так, как на стене. Смертельно уставшие, мы расслабленно полулежали и потягивали вино; от выпитого у меня приятно шумело в голове, и я забыл о своем недовольстве капризами Анны.
И тут распахнулась дверь. Джустиниани бросил на нее рассеянный взгляд, но лицо генуэзца тут же изменилось, он вскочил на ноги, аж зазвенели доспехи, и почтительно склонил голову.
На пороге стояла Анна. Она облачилась во вполне скромный, по-моему, наряд, скрепленный на обнаженном плече усыпанной драгоценными камнями брошью. Золотой и тоже мерцающий огоньками драгоценных камней поясок подчеркивал тонкую талию. Позолоченные сандалии на голых ногах позволяли видеть ярко-красные ногти. На голове у Анны была маленькая крупная шапочка, усеянная такими же камнями, как поясок и брошь. Прозрачное покрывало Анна накинула на плечи, с легкой улыбкой придерживая его подбородком. Лицо ее было бледнее, а губы – ярче и полнее, чем обычно. Она показалось мне невыразимо прелестной и скромной, когда стояла вот так, словно в удивлении вскинув узкие темно-синие брови.
– О, – воскликнула она, – о, прости меня. У тебя гость?
Она смущенно протянула тонкую руку, а Джустиниани согнул бычью шею, поцеловал Анне пальцы и задержал их в своей лапище, не в силах оторвать восхищенного взгляда от лица женщины.
– Жан Анж, – проговорил генуэзец, немного придя в себя, – теперь я понимаю, почему ты так торопился. Если бы она не была твоей законной супругой, я стал бы соперничать с тобой за ее благосклонство. А теперь я могу лишь молить Господа, чтобы у твоей жены была сестра, похожая на нее как две капли воды, и чтобы вы меня с ней познакомили.
Анна улыбнулась:
– Для меня большая честь – приветствовать великого Джустиниани, красу и гордость христианского мира. Если бы меня предупредили о твоем визите, я бы приоделась! – Анна откинула голову и взглянула на Джустиниани из-под длинных густых ресниц. – О, – тихо произнесла она, – возможно, я все же слишком поспешила уступить уговорам Иоанна Ангела. Тогда я еще не видела тебя.
– Не верь ему, Анна, – поспешно вмешался я. – У него уже есть жена в Генуе, еще одна – в Каффе – и подруги во всех портах Греции.
– Какая великолепная борода, – прошептала Анна, поглаживая кончиками пальцев окрашенную бороду Джустиниани, словно не могла устоять перед искушением. Потом женщина налила в кубок, отпила глоток и протянула кубок Джустиниани, неотрывно глядя генуэзцу в глаза. На губах ее играла манящая улыбка. От бешенства и уязвленной гордости я чувствовал себя просто больным. – Если я тут лишний, могу выйти во двор, – сухо заявил я. – По-моему, на стене поднялся какой-то переполох.
Анна посмотрела на меня и так плутовски подмигнула, что сердце мое мгновенно растаяло и я понял, что она только шутит и кокетничает с Джустиниани, чтобы добиться его расположения. Я успокоился и улыбнулся в ответ. Анна продолжала вести игривый разговор, а я не мог на нее налюбоваться. Видя, с какой легкостью она очаровала генуэзца, я запылал от страсти.
Мы вместе поужинали, а потом Джустиниани неохотно поднялся, чтобы распрощаться. Но перед уходом он посмотрел на меня и широким жестом снял со своей шеи цепь протостратора с большим эмалевым медальоном.
– Пусть это будет моим свадебным подарком, – сказал генуэзец и надел цепь на шею Анне, нежно дотрагиваясь при этом губами до обнаженных плеч женщины. – Мои люди называют меня непобедимым. Но стоя перед тобой, я признаю себя покоренным и сдаюсь на твою милость. Эта цепь и этот медальон откроют перед тобой все те двери, которые не вышибешь пушкой и не взломаешь мечом.
Я знал, что Джустиниани может позволить себе этот жест, поскольку как человек тщеславный генуэзец запасся множеством разных цепей и цепочек, которые менял время от времени – в зависимости от настроения. Но слова Джустиниани о том, что он всегда будет рад приветствовать Анну в своем скромном жилище, пришлись мне совсем не по вкусу. Анна же, наоборот, восторженно поблагодарила генуэзца и, обняв его за шею, расцеловала в обе щеки, даже скользнув губами по его большому рту
Джустиниани, взволнованный собственным благородством, смахнул слезу и сказал:
– Я с удовольствием уступил бы твоему мужу жезл протостратора, а сам остался бы с тобой. Но поскольку это невозможно, я разрешаю ему провести эту ночь дома, да и в будущем стану смотреть сквозь пальцы на то, что Жан Анж порой исчезает со своего поста. Главное – чтобы такого не случалось во время сражений. Бывают искушения, перед которыми мужчина может устоять. Но твой муж не был бы мужчиной, если бы устоял перед таким искушением, как ты.
Я учтиво проводил генуэзца до самых дверей, но он, заметив мое нетерпение, нарочно медлил с уходом, чтобы подразнить меня, и болтал без передышки, хотя я уже не понимал ни слова из того, что он мне говорил.
Когда он наконец сел на своего коня, я взбежал по лестнице, прижал Анну к себе и принялся так яростно ласкать и целовать ее, что любовь моя походила более на гнев. Анна разгорячилась, распалилась, она смеялась и хохотала в моих объятиях. Я никогда не видел ее столь прекрасной. Даже на ложе она отказалась расстаться с цепью и медальоном генуэзца, даже когда я попытался отобрать у нее цепь силой.
Потом Анна лежала неподвижно, устремив в потолок мрачный взгляд; я не узнавал и не понимал ее.
– О чем ты думаешь, любимая? – спросил я. Анна чуть пожала плечами.
– Я живу, я существую, – ответила она. – Ничего более.
Усталый, холодный, опустошенный, я смотрел на ее потрясающую красоту, вспоминал венецианские трупы которых торчали на кольях, стоявших вдоль берега Перы, и турок, с почерневшими лицами и вытянутыми шеями, висевших на портовой стене. Вдали, в ночи гремели пушки. Звезды равнодушно взирали на землю. Анна тихо дышала рядом со мной. В глазах ее застыл мрак. И с каждым ее вздохом оковы времени и места все глубже врезались мне в тело.
1 мая 1453 года
Наше положение становится просто отчаянным. Турки как ни в чем не бывало сооружают большой понтонный мост через Золотой Рог; тянут этот мост к берегу Перы. До сих пор отряды на холмах Перы поддерживали связь с основными силами, используя кружные пути вдоль залива. Мост защищают стоящие на якоре громадные плоты с пушками, которые не дают нашим судам разметать все это сооружение. А как только мост будет готов, султанские галеры смогут двинуться на штурм нашей портовой стены под прикрытием плавучих пушек.
Орудийный огонь и нападения турок на временные укрепления, возведенные в проломах, стоят нам ежедневно больших потерь. Ряды защитников города тают на глазах, а в лагерь султана тянутся толпы добровольцев со всей Азии.
Вино в городе на исходе, а цены на хлеб уже превышают возможности бедняков. Поэтому император приказал сегодня собрать всю муку, чтобы распределять хлеб по справедливости. Старшины каждого квартала в городе должны следить, чтобы семьи тех, кто призван на стены, получали за счет василевса необходимые продукты. В обязанности жителей каждого квартала входит также доставка пищи сражающимся и работающим на стенах, чтобы ни один человек не покидал в поисках еды своего места
Командующий резервным отрядом должен каждый день объезжать стены и проверять, все ли в порядке, а также проводить перекличку бойцов. Но только греков. Латинян это не касается.
У ворот Харисия большая стена во многих местах обвалилась. Внешняя стена еле держится, но турки пока нигде не сумели перебраться через нее. Ров тоже до сих пор каждую ночь удавалось очищать а турецкие фашины и бревна очень пригодились при возведении земляных валов и палисадов.
В воздухе стоит тяжелый трупный запах. Многие люди оглохли от грохота пушек.
4 мая 1453 года
В полночь, при сильном встречном ветре и в кромешной тьме из порта вышла бригантина с двенадцатью добровольцами на борту. На людях была турецкая одежда, и они подняли флаг султана, чтобы обманом проскользнуть через пролив. Наши соглядатаи изучили с башни в Пере сигналы, которые турецкие суда подают, входя в порт и выходя из него. Таким образом, есть надежда, что бригантина прорвется в открытое море. Она должна исполнить важную миссию – разыскать венецианские корабли под командованием Лоредано, которые, как утверждает посланник, спешат на помощь Константинополю.
Но большой венецианский флот уже давно прибыл бы в Константинополь, если бы хотел. Может, Синьория опасается, что, придя сюда, их корабли угодят в ловушку? Лишившись защиты флота, венецианские торговые поселения на островах быстро станут жертвами турок. И ведь сейчас здесь уже не было бы ни одного венецианского парусника, если бы император, ссылаясь на договоры и грозя всевозможными карами, не приказал бы судам из Черного моря остаться в константинопольском порту и принять участие в обороне города.
По городу ходят обнадеживающие слухи, будто флот спешащий к нам на помощь, уже недалеко и будто венгры собирают войско, чтобы ударить туркам в тыл. О, если бы это было так! Но Запад отвернулся от нас.
5 мая 1453 года
Легко думается, легко пишется, когда ты одинок. Даже умирать легко, когда стоишь один на стене, а вокруг жернова войны перемалывают людей… Земля за стенами – насколько хватает глаз – черна от копоти и гари. Все вокруг выжжено орудийным огнем. Залы Влахернского дворца сотрясаются от грохота, и большие, гладкие, как стекло, мраморные плиты срываются со стен и обрушиваются на пол. Легко бродить в одиночестве по залам императорского дворца и ждать смерти, ловя в бессмысленных звуках эха отголоски безвозвратно ушедших эпох.
Но сегодня я снова побывал дома. Стоит мне только увидеть сияние ее карих глаз, в которых отражается обнаженная душа, стоит только дотронуться кончиками пальцев до ее кожи – и ощутить живое, восхитительное тепло, стоит только почувствовать всю неземную красоту и прелесть этой женщины, как страсть и желание лишают меня способности мыслить – и все мгновенно меняется.
Так хорошо, когда мы лежим, крепко обнявшись, и губы мои ловят в момент экстаза ее неровное дыхание. Но потом, когда она открывает рот и начинает говорить, мы уже не понимаем друг друга. Мы обретаем друг друга только в близости тел – и постигаем в такие минуты вещи, о которых раньше даже не догадывались. Это знание тел – прекрасно и пугающе. Но мысли наши бегут по разным орбитам и, столкнувшись, стремительно разлетаются. Порой мы раним друг друга резкими словами, как враги. Ее глаза с расширенными зрачками смотрят холодно, презрительно и отчужденно, хотя щеки еще пылают от любви.
Анна не понимает, почему я должен умирать, раз могу остаться в живых, если захочу.
– Честь! – сказала она сегодня. – Самое ненавистное слово в мужских устах! Безумное и глупое слово. А разве блистательный султан Мехмед – человек без чести? Ведь он высоко ценит христиан, которые отреклись от своей веры и приняли ислам. Что значит честь для того, кто потерпел поражение? Он в любом случае опозорен. Честь пристало иметь лишь победителю.
Я ответил:
– Мы говорим о разных вещах и потому не можем понять друг друга.
Но она упрямо стояла на своем. Вонзила мне ногти в плечо и, словно надеясь вопреки всему переубедить меня, заявила:
– Я понимаю, почему ты сражаешься: ты же грек. Но почему ты так стремишься погибнуть в тот день, когда стены рухнут и турки ворвутся в город? Ты – только наполовину грек, если еще не выучил, что своя рубашка ближе к телу.
– Ты не можешь меня понять, – ответил я, – потому что меня не знаешь. Но ты права. Своя рубашка действительно ближе к телу. И свои мысли – тоже. Я способен слушать лишь самого себя.
– А я? – в сотый раз спросила она. – Выходит, ты меня не любишь?
– Я сумею не поддаться на твои уговоры, сумею противостоять соблазну, – вздохнул я, – но не приводи меня в отчаяние. Любимая моя, моя единственная, не ввергай меня в отчаяние!
Она сжала мне ладонями виски и, тяжело дыша, приникла к моим губам. Потом, глядя на меня горящими ненавистью глазами, она зашептала:
– О, если бы я могла понять, что творится у тебя в голове! Если бы могла проникнуть в твои мысли. Ты не тот, кем я тебя считала. Так кто же ты? Мне принадлежит лишь твое тело. Ты сам не принадлежишь мне – и не принадлежал никогда. Поэтому я тебя ненавижу. Ненавижу, ненавижу тебя!
– Дай мне только эти короткие дни, подари эти редкие минуты, – просил я ее. – Может, пройдут целые века, прежде чем я опять увижу твои глаза и снова обрету тебя. Что плохого я тебе сделал? За что ты так мучаешь меня?
– Нет никакого прошлого – и уж тем более будущего, – проговорила она. – Это иллюзии и мечты. Меня совершенно не интересуют эти сказки, эта философия для глупцов. Я хочу, чтобы у меня было настоящее – и в нем ты, Иоанн Ангел; ты что, не понимаешь этого? Я борюсь с тобой за твою Душу. И потому буду терзать тебя до конца. И никогда тебя не прощу. Ни тебя, ни саму себя.
Я утомленно ответил:
– Тяжек мой венец. – Но Анна не поняла, что я имел в виду.
6 мая 1453 года
Целый день сегодня неспокойно. Орудийный огонь не стихает. Содрогаются небо и земля. Каждые два часа грохочет гигантская пушка, и в ее реве тонут все другие звуки. Тогда кажется, что стена сотрясается до основания – от порта до самого Мраморного моря.
В турецком лагере царит оживление. Оттуда постоянно доносятся крики, шум и барабанный бой. Дервиши до такой степени взвинтили себя, что даже нам слышны их хриплые вопли. Многие приближаются к стене, танцуя и кружась; еще не дойдя до рва, эти люди оказываются утыканными стрелами, но все равно продолжают вертеться на пятках, словно и не чувствуют боли. Это зрелище пугает греков, и они зовут священников и монахов, чтобы те отогнали бесов подальше.
Никто не может покинуть стен. На всех четырех участках, которые обстреливают из самых больших пушек, внешняя стена рухнула, а в большой городской стене зияют огромные проломы. Орудийный огонь мешает заделывать их днем, но как только темнеет, на месте прежних стен снова поднимаются земляные валы.
Много ядер значительно отклоняется от цели, а часть пролетает над стеной и падает в городе, не принося никакого вреда, и немец Грант утверждает, что турецкие пушки скоро пойдут на слом. Но по другую сторону холма горят огни плавильных печей Орбано, и каждый день слышен сильный гул, с которым расплавленный металл заливается в гигантские формы. В городе кончилось оливковое масло. Больше всего без него страдают бедняки. А из Перы оливковое масло в огромных количествах ежедневно доставляется в турецкий лагерь. После каждого выстрела раскаленные жерла пушек поглощают целые бочонки этой отборной смазки. В истории еще не было столь дорогостоящей осады. Но Мехмед, не задумываясь, использует и богатства своих визирей и полководцев. В его лагере находятся ростовщики и заимодавцы из многих стран; среди этих людей есть и евреи, и греки. Кредит султана все еще неограничен. Говорят, что и генуэзцы в Пере поспешно скупают векселя Мехмеда, считая это надежным помещением капитала.
7 мая 1453 года
Сразу после полуночи начался ад. По меньшей мере десять тысяч человек участвовало в штурме проломов. Главный удар приняли на себя силы Джустиниани у ворот святого Романа, на том участке, где громадная пушка наиболее серьезно повредила обе стены.
Шедшие на штурм отряды приблизились без крика и шума, в боевом порядке и под покровом темноты успели во многих местах засыпать ров, пока на стенах наконец не подняли тревоги. Турки тут же подхватили десятки штурмовых лестниц. Поденщики кинулись наутек. Только хладнокровие и выдержка Джустиниани спасли ситуацию. Взревев, как бык, он бросился в самую гущу схватки и снес своим двуручным мечом головы рвавшимся вперед туркам. Неприятель уже был на гребне земляного вала. В это время вспыхнули факелы и бочки со смолой и стало светло, как днем.
Рык Джустиниани заглушил крики и барабанный бой турок. Как только генуэзец увидел, что началось большое наступление, он послал гонцов в резервный отряд. Но когда сражение кипело уже два часа, нам пришлось бросить в бой дополнительные силы, сняв людей с других участков стены по обе стороны ворот святого Романа. После первой схватки турки пошли на штурм правильными рядами – по тысяче человек в каждом. Эти шеренги накатывались на нас бесконечными волнами. Пока передовые отряды прорывались к стенам, лучники и пушкари пытались загнать защитников города в укрытия. Но закованные в броню воины Джустиниани вновь встали на пути врага живой железной стеной. Тут и греки принялись отталкивать штурмовые лестницы и поливать турок, которые, прикрываясь щитами, пробивались к подножью внешней стены, смолой и расплавленным свинцом – так, что нападавшие разбегались врассыпную и превращались в удобные мишени для лучников.
Погибло великое множество турок. Джустиниани велел объявить в городе, что горы трупов достигали на рассвете высоты внешней стены, но это была, конечно, только болтовня, призванная поднимать боевой дух защитников города. Но никакие потери неприятеля не могли возместить нам гибели латинян, которые падали ночью с пробитыми доспехами или летели со стен, стянутые вниз турецкими баграми.
По сравнению с этим штурмом все предыдущие казались детскими играми. Этой ночью султан не шутил и бросил в бой значительную часть своих войск. Впрочем, Влахернскому дворцу особая опасность не угрожала. Штурмовые лестницы турок не доставали здесь до гребня стены. Так что венецианский посланник поручил мне отвести целый отряд солдат на помощь Джустиниани, чтобы и венецианцы могли гордиться участием в этой битве.
Как раз в тот момент, когда мы прибыли на место, какому-то огромному янычару удалось ценой неимоверных усилий взобраться на стену. Он радостно завопил, подзывая своих товарищей, и бросился на поиски Джустиниани. Закованные в броню люди расступились перед гигантом с кривой саблей. Джустиниани сражался в проломе, немного ниже, и оказался бы в трудном положении, если бы один из поденщиков, простой грек, у которого даже не было кожаных доспехов, не сумел широким топором отсечь янычару ступни, смело кинувшись на великана с зубца стены. Потом Джустиниани уже с легкостью расправился с гигантом. Генуэзец щедро наградил своего спасителя, но заметил, что предпочел бы обойтись собственными силами.
Я наблюдал за этой сценой в свете факелов и пылающих стрел, среди крика, воя и звона щитов. Потом у меня уже не было времени ни о чем думать: напор атакующих турок был столь сокрушительным, что нам пришлось сомкнуть на стене ряды, чтобы противостоять неприятелю. Вскоре мой меч затупился… Когда турки начали на рассвете медленно отступать, я так смертельно устал, что едва мог шевельнуть рукой. Все тело мое ныло и болело, сплошь покрытое синяками и шишками. Но я не получил ни одной раны. Мне повезло. Даже Джустиниани ткнули копьем в пах, но благодаря доспехам травма оказалась неопасной.
Говорят, какой-то грек у Селимврийских ворот убил знатного турецкого вельможу.
Увидев, в каком я состоянии, Джустиниани благожелательно заметил:
– В огне и пылу боя часто кажется, что силы твои удесятерились. Но даже самая тяжелая атака не так опасна, как расслабление во время внезапного перерыва в битве. Тогда легко можно упасть от усталости – и даже нет сил подняться на четвереньки. И потому опытный воин не выкладывается полностью даже в самом тяжелом сражении, а бережет силы до самого конца. Это может спасти солдату жизнь, если бой разгорится снова.
Генуэзец живо глянул на меня своими глазами навыкате и добавил:
– Тогда человек может хотя бы убежать – и не окажется беспомощной жертвой резни.
Генуэзец был в хорошем настроении; его раздражало только, что приходится разбавлять вино водой. Вино в городе кончалось…
– Так, так, Жан Анж, – проговорил Джустиниани. – Постепенно разгорается истинная война. Султан распалился. Скоро нам наверняка придется отражать настоящие штурмы.
Я недовольно посмотрел на генуэзца.
– Так что же такое настоящий штурм? – спросил я. – Ничего страшнее сегодняшней битвы я не видел и даже не могу себе представить. Янычары дрались, как дикие звери, да мне и самому казалось, что я превращаюсь в дикого зверя.
– Ты еще многое увидишь и узнаешь, Жан Анж, – ласково произнес Джустиниани. – Кланяйся своей прелестной жене. Женщины любят запах крови, исходящий от мужской одежды. Я сам убедился в этом – и никогда женское тело не доставляло мне большего наслаждения, чем в те минуты, когда я, орудуя своим мечом, только что отправил на тот свет множество мужчин и сам чувствовал себя разбитым и раздавленным. Я завидую, что тебе предстоит пережить это ощущение, Жан Анж.
Угнетенный и охваченный чувством отвращения, я не обращал внимания на слова генуэзца. Холодный воздух был пропитан тошнотворным запахом крови, растекавшейся вокруг куч еще теплых трупов. Как же я могу дотронуться до своей жены, до сих пор скованный смертельным ужасом, с кровью на руках и одежде и с мыслями, путающимися от того, что я увидел этой ночью? Наоборот, боюсь, что я буду просыпаться с криком, как только усну, хотя больше всего на свете я хочу сейчас спать.
Но Джустиниани был прав. Пугающе прав. Я воспользовался разрешением сходить домой, мечтая отдохнуть после боя. И никогда еще мое избитое, ноющее тело не пылало такой страстью, как в это утро. Сон мой был крепок и глубок. Глубок, как смерть – когда я заснул, положив голову на белое плечо Анны Нотар.
8 мая 1453 года
Вчера, поздним вечером тайно собрался совет двенадцати. Последнее наступление турок ясно показало, что силы защитников города на исходе. Огромный понтонный мост, который султан повелел перебросить через Золотой Рог, угрожал прежде всего Влахернам. Поэтому венецианцы после долгих споров решили разгрузить три больших корабля Тревизано, а две тысячи человек с них отправить на стены. Товары будут лежать в императорском арсенале, а моряки и солдаты поселятся в Влахернском дворце.
Тревизано протестовал от имени всех капитанов и судовладельцев. Он доказывал, что если грузы, цена которых – десятки тысяч дукатов, очутятся на берегу, их уже невозможно будет спасти в случае победы турок. Кроме того, будут потеряны и сами корабли, а также, вероятно, и матросы.
И все же совет двенадцати постановил разгрузить суда. Но когда моряки узнали об этом, они – со своим капитаном во главе – оказали вооруженное сопротивление и не пожелали сойти на берег.
Положение не изменилось и сегодня: совету двенадцати не удалось сладить с моряками, хотя сам император со слезами на глазах взывал к их совести и чести.
12 мая 1453 года
Моряки не уступают. Все переговоры кончаются ничем.
Но совет двенадцати сумел перетянуть на свою сторону Тревизано и Алоизио Диего. Капитаны судов получили денежные подарки. Для венецианцев ведь очень важно любой ценой удержать Влахерны.
Без сомнения, над Влахернским холмом нависла серьезная опасность. Но кроме всего прочего венецианцы мечтают настолько усилить свой гарнизон во дворце, чтобы оказаться хозяевами города, если султан решит вдруг снять осаду. Поэтому сейчас они считают необходимым отправить моряков на стены. А кроме моряков, на борту кораблей находится еще и четыреста закованных в броню солдат.
А в это время греки ежеминутно проливают свою кровь и умирают на стенах.
Нотар был прав. И у Золотых Ворот, и по обе стороны Селимврийских ворот греки собственными силами отразили все атаки и штурмы. Правда, стены не повреждены там так сильно, как у ворот Харисия и ворот святого Романа. Однако Золотые Ворота и ворота Селимврийские в основном защищают ремесленники и монахи, едва научившиеся владеть оружием. Среди них есть слабые люди, которые страшно пугаются, завидев наступающих турок, и убегают от них со всех ног. Но гораздо больше греков – такого же склада, как те, что сражались в Фермопильском ущелье и на Марафонской равнине.
Война выявляет лучшие качества человека. Так же как и худшие. Чем дольше длится осада, тем сильнее преобладают самые скверные людские свойства. Время работает не на нас, а против нас.
В то время, как латиняне, красномордые и лоснящиеся от жира, препираются между собой, греки худеют день ото дня. Глоток самого дешевого и самого кислого вина – вот и все, что они получают из императорских запасов. Жены и дети этих людей плачут от голода, когда бредут в процессиях с иконами и хоругвями в храмы и соборы. С утра до вечера и с вечера до утра возносятся к небесам горячие молитвы несчастных и покорных. Если бы молитвы могли спасти город, Константинополь стоял бы до Страшного суда.
Так вот, если латиняне совещаются в церкви Пресвятой Богородицы и во Влахернском дворце, император позвал сегодня вечером греков на молебен и военный совет в храм Святой Софии. Джустиниани посылает меня туда вместо себя. Сам он не хочет покидать стену.
13 мая 1453 года
Военный совет начался в атмосфере всеобщей подавленности и почти сразу был прерван сигналами тревоги со стен. Перед храмом мы встретили гонца, который сообщил, что турки штурмуют Влахерны как с берега, так и со стороны Калигарийских ворот. Но главные силы неприятеля сосредоточены у пролома возле ворот Харисия.
Ночью зазвонили колокола и загремели колотушки. Окна домов осветились, и на улицу в испуге выбежали полуодетые люди. В порту суда подошли к заградительной цепи, словно ожидали нападения и оттуда. Была полночь, и гром сражения во Влахернах разносился по всему гигантскому притихшему городу, долетая даже до Ипподрома. Ярко горящие походные костры турок окружали город сплошным кольцом.
Мы пришпорили коней и, освещая себе дорогу фонарем, галопом помчались по улицам. Недалеко от ворот Харисия мы остановились: нам навстречу неслась большая толпа обратившихся в паническое бегство людей; среди них были и мужчины с оружием в руках. Император громким голосом принялся умолять их Христа ради вернуться на стены. Но люди настолько обезумели от страха, что не обращали на слова василевса никакого внимания. Сопровождавшим нас солдатам из императорской гвардии пришлось врезаться на лошадях в толпу и сбить немало бегущих с ног; тогда все прочие наконец остановились и принялись оглядываться по сторонам, словно не понимая, где находятся, а потом медленно и вяло побрели обратно на стену.
Император не стал их ждать. Наш отряд подоспел в последнюю минуту. Возле ворот Харисия обрушилась вся верхняя половина большой стены. Защитники отступили, и многие турки уже прорвались на близлежащие улицы, издавая хриплые вопли и убивая всех, кто попадался им на пути. Наш конный отряд смел турок, как сухие листья. Вскоре выяснилось, что это были остатки рассыпавшейся цепи атакующих. Защитники города пропустили их, но сумели вновь занять свои позиции, прежде чем на стену накатилась новая волна турецких солдат. К пролому прибыл Джустиниани, и мы видели, как он организует оборону этого участка.
Но случай этот показал, на каком тонком волоске висит теперь жизнь города. Впрочем, в других местах туркам не удалось добиться такого успеха.
На рассвете штурм прекратился. Однако это было еще не генеральное наступление, поскольку турецкий флот не ввязывался в бой. Джустиниани считает, что в ночном штурме принимало участие около сорока тысяч турок.
– Султан хочет измотать нас, – заявил генуэзец. – Только не думай, что мы одержали победу. У нас – тяжелые потери. Даже тебе не хочу говорить, сколько человек погибло. Но охотно признаюсь, что и венецианцы в немалой степени восстановили сегодня свою подорванную репутацию.
Когда взошло солнце, турецкие трупы устилали землю от берега до самых ворот святого Романа. Тела тех, кто ворвался в город, выбросили за внешнюю стену, их было более четырехсот.
Увидев, что их земляки сражаются не на жизнь, а на смерть, моряки Тревизано наконец сдались. В течение дня они разгружали корабли, а вечером Тревизано привел во Влахернский дворец четыреста солдат, о чем и доложил посланнику. Их поставили на самые опасные и самые почетные участки – на северной оконечности города, возле Кинегаона, где смыкаются портовая и материковая стены. Моряки тоже обещали прийти завтра утром и сражаться во имя Господа.
Нам необходимо подкрепление. Без него город не отразит следующего ночного штурма. Целый день небольшие отряды турок атаковали нас в разных местах с единственной целью – не дать защитникам города отдохнуть. Наши люди спят по очереди. Но император, обходя сегодня утром стены, увидел, что на многих участках все воины лежат, как мертвые, погрузившись в глубокий сон. Василевс собственноручно будил солдат, тряся их за плечи, и утешал, когда они стонали от усталости. Он запретил на этот раз командирам наказывать тех, кто заснул на посту. Да и как можно было наказать этих людей? Пища и так слишком скудна. Вино кончилось. А пребывание на стенах – уже само по себе тяжкая кара.
Когда багровое солнце стояло над холмами Перы, я увидел, как братья Гуаччарди отсекают своими мечами головы туркам, которые прорвались ночью к стене и погибли у ее подножья. Доспехи трех мужчин были забрызганы кровью от шлемов до наколенников. Юноши с шутками и смехом перекидывались турецкими головами, словно развлекались какой-то чудовищной игрой в мяч. Бились об заклад, кто найдет самую длинную бороду, и вот уже каштановые, черные и седые космы, прицепленные к поясам братьев, развевались на ветру. Соперничая друг с другом, молодые люди делали вид, что их ничуть не утомляют ночные стычки, и давали выход накопившейся усталости и напряжению в непотребных и диких забавах. Среди крови, гари и обломков на стене выросло несколько желтых цветов.
Той ночью я не участвовал в самых жарких схватках, поскольку Джустиниани постоянно посылал меня на разные участки стены, чтобы я передавал защитникам его приказы. Тем не менее я валился с ног от усталости, и все вокруг казалось мне нереальным, будто во сне. Опять загремели турецкие пушки и стена задрожала от ударов каменных ядер, но у меня было такое ощущение, что все это происходит далеко-далеко… Солнце окрасило холмы Перы в красный цвет. Братья Гуаччарди в окровавленных доспехах, смеясь, перебрасывались головами убитых турок. Эти незабываемые мгновения раннего утра пронзили мне сердце. Небо и земля во всех своих цветах и красках, даже гарь и кровь – все это доставляло несказанное наслаждение моим живым глазам в тот миг, когда трупы вокруг меня лежали, вперив погасший взор в пустоту.
Один раз в жизни я уже видел мир вот таким – нереальным, неправдоподобным и неземным. Это было в Ферраре, когда я заболевал, но еще не знал, что заразился. Сумрачный ноябрьский день заглядывал в разноцветные окна часовни, по которой разливался горький аромат целебных трав, гусиные перья скрипели, как обычно, – и вдруг все это отодвинулось от меня далеко-далеко… У меня только шумело в ушах. Я видел тогда мир более ясно и отчетливо, чем когда-либо раньше. Видел, как то желтеет, то зеленеет завистливое лицо императора Иоанна, сидевшего на троне точно такой же высоты, как трон папы Евгения. У ног императора лежал тогда пятнистый черно-белый пес… Я видел, как большое веселое лицо Виссариона становится равнодушным и холодным. А латинские и греческие слова точно куда-то проваливались – и звучали в зеленоватом полумраке часовни глухо и бессмысленно, будто отдаленный собачий лай.
Тогда я впервые познал сущность Бога. Пораженный болезнью…
И тут вдруг меня осенило, что тот миг уже таил в себе сегодняшнее утро, как скорлупа таит ядро ореха. И если бы я тогда заглянул в будущее глазами ясновидца, уже давно узрел и ощутил бы то, что переживаю сегодня. Два этих мгновения были слиты во мне и в вечности, в одно, а то время, что разделяло их, было лишь иллюзией и миражом. Недели, месяцы, годы – только мера счета, придуманная человеком. С настоящим временем, временем Бога она не имеет ничего общего.
В этот миг я знал и то, что опять появлюсь на свет – по непостижимой воле Господа. И родившись однажды снова, я сохраню в своем сердце и этот вот, нынешний момент – и он будет вставать передо мной в видениях, которые начнут преследовать меня в моей следующей жизни. Тогда я вновь узрею обезглавленные трупы на разрушенной стене, сотрясающейся от залпов гигантской пушки. Крохотные цветочки будут желтеть среди гари и копоти, а братья Гуаччарди в окровавленных доспехах станут лихо катать по земле головы врагов.
Но мысль эта не вызвала у меня ни экстатического восторга, ни даже обычной радости, а лишь наполнила мою душу невыразимой печалью. Ведь я был, есть и буду человеком, искрой, которой вихри Бога переносят из одной тьмы в другую. Острее, чем боль и усталость, я ощущал в этот миг душевную тоску по блаженному покою забвения. Но забвения не существует.
Никакого забвения не существует.
15 мая 1453 года
Я ранен в самое сердце. Знал, что меня это ждет. Я это предчувствовал. Человек теряет то, что должен потерять, и даже самое большое счастье не длится вечно. Теперь, по прошествии времени, кажется просто чудом, что нам удалось скрываться так долго. Уже давно все в этом городе обречены терпеть визиты императорских стражников, которые имеют право без предупреждения врываться даже во дворцы вельмож и перетряхивать кладовые и подвалы в поисках дезертиров, еды и денег. Горстка муки, припрятанная бедняком, конфискуется столь же безжалостно, как и мешок пшеницы или бочонок оливкового масла, найденные у богача.
Вечером меня разыскал на стене во Влахернах мой слуга Мануил. В глазах у него стояли слезы; кто-то так дернул его за бороду, что синеватые щеки старика были сплошь покрыты кровавыми точками.
– Господин мой, – выдохнул он, прижимая руку к груди, – случилась беда.
Мануил бежал через весь город – и теперь едва держался на своих больных ногах; он до сих пор был так взволнован, что говорил, не обращая внимания на посторонних. Рассказал, что утром несколько стражников обыскали мой дом. Они ничего не нашли, но один из них внимательно приглядывался к Анне и явно узнал ее, поскольку после полудня стражники вернулись, на этот раз – во главе с одним из сыновей Нотара. Брат тут же обнаружил в доме свою сестру, и Анна, не сопротивляясь, отправилась с ними, так как ее протесты все равно бы ни к чему не привели. Мануил пытался защищать ее, настойчиво объясняя стражникам, что меня нет дома, но они лишь схватили его за бороду, швырнули на пол и отколотили. Брат Анны, забыв о своем высоком положении, даже ударил старика по лицу.
Кое-как поднявшись, Мануил двинулся за ними – на некотором расстоянии, конечно, – и видел, что Анну отвели в дом Луки Нотара.
– Естественно: она ведь его дочь, – деловито заметил мой слуга. – Я знал это почти с самого начала, хотя и притворялся, будто мне ничего не известно, поскольку ты хотел сохранить все в тайне, Но сейчас речь не об этом. Господин мой, тебе надо бежать: ведь Лука Нотар уже наверняка разыскивает тебя, чтобы убить. А его скакуны порезвее моих
– Куда мне бежать? – спросил я. – В этом городе нет такого места, где он не разыщет меня, если захочет.
Мануил настолько не владел собой, что принялся трясти меня за плечо.
– Скоро стемнеет, – горячо заговорил он. – У стены сейчас спокойно. Ты можешь спуститься по веревке и бежать в лагерь султана. Ты же там – как дома. Так сделали уже многие. Хочешь, я помогу тебе и втащу потом веревку обратно, чтобы не остаюсь никаких следов побега? Но ты уж не забудь обо мне, когда вернешься сюда вместе с победителями.
– Не мели ерунды, старик, – ответил я. – Султан прикажет насадить мою голову на кол, если схватит меня.
– Да, да, конечно, конечно, – упрямо твердил Мануил, хитро поглядывая на меня из-под красных век. – Это ведь та твоя история, которой ты хочешь держаться, и мне не пристало сомневаться в ней. Но поверь, в лагере султана ты был бы с сегодняшнего дня в большей безопасности, чем здесь, в Константинополе, и, может, сумел бы замолвить Мехмеду доброе словечко за нас, бедных греков.
– Мануил, – начал я, но остановился на полуслове. Разве удастся мне что-то объяснить этому ограниченному старику?
Он ткнул указательным пальцем мне в грудь.
– Разумеется, тебя послал сюда султан, – заявил мой слуга. – Ты и правда считаешь, что сумеешь обвести вокруг пальца старого грека? Латинян можешь обманывать, сколько угодно, а вот нас – нет. Как ты думаешь, почему все почтительно расступаются перед тобой и едва не бросаются целовать следы твоих ног? Ведь ни один волос не упал тут с твоей головы. Какие доказательства тебе еще нужны? Никто не смеет тебя и пальцем тронуть, и щит твой – султан. В этом нет ничего зазорного: каждый служит своему господину. Даже император заключал при необходимости союзы с турками, добиваясь с их помощью своих целей.
– Замолчи, безумец, – предостерегающе сказал я и огляделся по сторонам. Венецианский стражник приблизился к нам и, едва сдерживая смех, наблюдал за разволновавшимся старичком. В тот же миг грохнул залп и рядом с нами в стену ударилось каменное ядро. Стена задрожала у нас под ногами. Мануил вцепился мне в плечо и лишь теперь посмотрел вниз, туда, где клубился дым и сверкали вспышки огня.
– Надеюсь, мы тут в безопасности? – боязливо спросил он.
– Твои безрассудные речи для меня куда опаснее турецких пушек, – сердито ответил я. – Ради Бога, поверь мне, Мануил. Кем бы я ни был, жизнь и смерть мои принадлежат этому городу. Никакого другого будущего у меня нет. Я не стремлюсь к власти, не мечтаю о пурпуре. Власть мертва. Я хочу отвечать перед Всевышним лишь за самого себя. Пойми же наконец, я один, совсем один. То, что таится в моем сердце, умрет вместе со мной, когда сюда придут турки.
Я говорил так серьезно и убедительно, что Мануил смотрел на меня в полном изумлении. Он не мог мне не поверить. И тогда старик расплакался от разочарования и простонал:
– В таком случае, безумец – ты, а не я. – Мануил долго заливался слезами. Потом он высморкался, взглянул на меня и уже вполне спокойно сказал:
– Ладно, пусть будет так. Бывали у нас и безумные императоры – и никто тут не видел в том особой беды. Только сын Андроника был таким жестоким, что народ в конце концов повесил его на Ипподроме; тело было рассечено мечом от задницы до шеи. Но ты-то не жестокий. Ты скорее мягкий. И потому мой долг – оставаться с тобой даже в твоем безумии, уж коли я тебя узнал.
Старик огляделся по сторонам и, тяжело вздохнув, добавил:
– Не очень-то мне тут нравится, но в твой дом я вернуться не могу, до того боюсь Луку Нотара. Уж лучше мне схватить тесак и ошибиться с бешеным турком, чем встретиться с Нотаром после того, как я помог тебе похитить его дочь. Потому что Анна Нотар, видишь ли, давно предназначена для султанского гарема, если я еще что-то понимаю в тайных политических интригах.
И снова мне оставалось лишь поражаться, сколько простой человек, вроде Мануила, знал и о скольких вещах догадывался. Что могло больше соответствовать планам Луки Нотара, чем свадьба его дочери с султаном? Этот брак укрепит добрые отношения греческого вельможи с Мехмедом. Возможно, Нотар хотел отправить Анну на безопасный Крит только для того, чтобы выторговать за нее у султана побольше? В своих страстях Мехмед всеяден; в этом он тоже походит на своего кумира, Александра Македонского. Женитьба на девушке из самого древнего и знатного рода в Константинополе безусловно польстит непомерному тщеславию молодого султана.
– Откуда ты знаешь все то, что, как тебе кажется, знаешь? – не смог я удержаться от вопроса.
– Это носится в воздухе, – ответил Мануил разводя руками. – Я – грек. Политика у меня в крови. Но я никоим образом не хочу лезть в твои дела с тестем. Разбирайся с ним сам. А я, с твоего позволения, лучше понаблюдаю за этим, стоя в сторонке.
Я понял, что на стене действительно безопаснее, чем у меня в доме. Если Лука Нотар собирается убить меня своими руками или приказать, чтобы меня прикончили, то для надежности он уберет и всех свидетелей нашего с Анной брака. И потому я разрешил Мануилу присоединиться к греческим поденщикам, которых наняли венецианцы, и попросил, чтобы теперь он уж как-нибудь сам позаботился о себе.
Моей первой реакцией на известие о том, что я потерял Анну, было желание кинуться в дом ее отца и потребовать, чтобы мне ее вернули, поскольку она – моя жена. Но какой в этом смысл? Нотар без труда расправится в своих покоях с одиноким чужестранцем. Анна, сидящая сейчас во дворе Нотара под семью замками, для меня недосягаема. Она – моя супруга. Поэтому мне нужно остерегаться Нотара. Для него самый простой способ покончить с нашим браком – это убить меня. А я не хочу пасть от руки грека.
Я бодрствовал и писал. Иногда закрывал глаза и ронял пылающую голову на руки. Но милосердный сон не приходил ко мне. Перед моими слипавшимися от усталости глазами возникало прекрасное лицо Анны. Ее губы, Ее глаза. Я чувствовал, как от прикосновения моих пальцев начинают гореть ее щеки. Как меня охватывает страстный трепет, когда я дотрагиваюсь до ее обнаженного бедра. Никогда я не желал обладать Анной так безумно, как сейчас, когда знал, что потерял ее.
16 мая 1453 года
Итак, я не мог спать, хотя мое положение и позволяло мне такую роскошь. Ведь одиночество и сон – это две большие привилегии во время войны. Звезды еще блестели на небе, словно прелестные серебряные булавочные головки, когда внутреннее беспокойство погнало меня на улицу. Ночь в эти предрассветные часы была тихой и очень холодной.
Недалеко от Калигарийских ворот я остановился и прислушался. Нет, это не кровь пульсировала у меня в висках. Мне казалось, что из-под земли доносится какой-то глухой стук. Потом я увидел немца Гранта, двигавшегося мне навстречу с факелом в руке. Вдоль стены были расставлены кадки с водой. Грант переходил от одной к другой, задерживаясь возле каждой. Я сначала подумал, что он рехнулся или занялся колдовством, поскольку до стены было довольно далеко, да и пожар ей не угрожал.
Немец поздоровался со мной как добрый христианин, осветил факелом одну из кадок и предложил мне взглянуть. Через короткие промежутки времени на темной поверхности воды появлялись круги, хотя ночь была тихой и пушки молчали.
– Земля дрожит, – проговорил я. – Похоже, в этом городе даже земля дрожит в смертельном страхе.
Грант рассмеялся, но лицо его осталось мрачным.
– Ты не понимаешь того, что видят твои собственные глаза, Жан Анж, – вздохнул он. – А если бы понял, то облился бы холодным потом, как я минуту назад. Помоги мне передвинуть кадку: мои люди устали и пошли спать.
Общими усилиями мы оттащили кадку на пару шагов в сторону. В том месте, где она стояла раньше, Грант вбил в землю колышек. Потом мы переносили ее еще несколько раз – и вот по поверхности воды вновь пошли круги. Меня охватил суеверный ужас, словно я стал свидетелем какого-то жуткого колдовства. Если кому и известны тайны черной магии, то именно Гранту. Это видно по его лицу.
Немец показал на извилистый ряд колышков которые воткнул в землю. Они тянулись до самой стены.
– Земля тут каменистая, – сказал Грант. – Сам видишь, роют, как кроты. Интересно, сколько времени они будут тут копать, прежде чем выйдут на поверхность?
– Кто – они? – спросил я, сбитый с толку.
– Турки, – ответил Грант. – Копают у нас под ногами. Ты еще не понял?
– Не может быть! – воскликнул я. Но в тот же миг вспомнил о сербских горняках, которых привезли в лагерь султана. Раньше во время осад турки порой пытались делать под стенами подкопы, но у них никогда ничего не получалось из-за каменистого грунта. Поэтому и теперь греки не восприняли такую угрозу всерьез, хотя караульные на стенах и получили приказ обращать внимание на подозрительные кучи земли. Однако никаких следов земляных работ не было видно, и об этом деле забыли.
Я ненадолго отвлекся от собственных бед и разволновался, как и Грант.
– Ну и хитрецы! – вскричал я. – Наверное, начало подкопа скрыто за ближайшим пригорком, в более чем пятистах метрах от стены. Они выбрали самое удобное место, поскольку здесь, у Влахерн нет внешней стены. Теперь они уже под городом. Что делать?
– Ждать, – спокойно ответил Грант. – Ничего страшного, раз я уже знаю, где проходит их подземный коридор. Пока еще они глубоко под нами. Действовать надо будет тогда, когда они начнут пробиваться на поверхность.
Немец мрачно взглянул на меня.
– Я сам прокладывал такие подземные ходы. Это – адская работа. Не хватает воздуха. Постоянное напряжение. А смерть в такой кротовьей норе, в огне или в воде – это ужасная смерть.
Он отвернулся от своих кадок и повел меня на стену. В разных местах немец расставил барабаны и насыпал на них горох. Но он заметил нечто лишь там, где вода подергивалась рябью.
– Подкоп опасен лишь тогда, когда его не обнаруживают вовремя, – поучал меня Грант. – К счастью, турки пытаются вывести этот ход прямо в город. Если бы они удовлетворились только подкопом под стену, укрепляя своды подземного коридора балками, а потом подожгли бы эти подпорки, им, возможно, удалось бы обрушить изрядную часть стены. Но, видимо, грунт не позволяет провести тут такие работы.
Пока звезды бледнели и гасли, немец объяснил мне, как подводится контрмина, как под землей устанавливается подвижная решетка из копий и как пары горящей серы заполняют коридоры врага.
– Есть много разных способов, – сказал Грант. – Мы можем пустить туда воду из цистерн и утопить этих землекопов, как крыс. Заполненный водой ход уже ни на что не годится. Еще лучше было бы поджарить их на греческом огне. Поджечь одновременно все подпорки, и коридор тогда обвалится. Но самое лучшее – это прокопать свой собственный ход и ждать в засаде за тонкой стенкой, чтобы в нужный момент схватить этих кротов. Тогда, пользуясь случаем, можно узнать, сколько подкопов сделали турки и где эти подкопы расположены.
Хладнокровные слова немца взволновали меня до глубины души. Я думал о людях, работающих у нас под ногами; задыхающиеся, обливающиеся потом, почти ослепшие от осыпающейся сверху земли они надрываются, как скот, даже не подозревая, что каждый удар кирки и каждый взмах лопатой приближает их к неминуемой смерти. Если это действительно сербы, то они ведь – мои братья во Христе, хотя и служат султану, к чему их вынуждает договор о дружбе, заключенный Мехмедом с их престарелым деспотом. Но в темных неподвижных глазах Гранта я не увидел никакого сочувствия.
– Я вовсе не зверь, – проговорил он. – Для меня все это – только математика. Захватывающая задача, которая дает мне возможность проделать самые разные расчеты.
Но когда немец стоял вот так, склонившись над кадкой с водой, он был удивительно похож на черного кота, замершего в ожидании у мышиной норки. Небо над нашими головами посветлело. Холмы вокруг Перы начали розоветь. Громыхнул залп большой пушки, разбудивший турок на утреннюю молитву. Из зданий Влахернского дворца и сводчатых коридоров под стеной стали выбираться по нужде сонные солдаты. Некоторые подходили к нам и пялились с открытыми ртами то на нас, то на кадки с водой. Другие, заспанные, затягивали ремни доспехов и молча плелись на стену, чтобы сменить своих товарищей на постах.
Быстрыми шагами, облаченный в плащ зеленого императорского цвета, ко мне приближался Лука Нотар. За ним с серьезными лицами следовали его сыновья, сомкнув пальцы на рукоятях мечей. Другого эскорта у Нотара не было. Я отступил на шаг, оказавшись рядом с Грантом, за кадкой с водой. Нотар тоже остановился. Его достоинство не дозволяло ему гоняться за мной вокруг кадки с водой. Не мог он и приказать стражникам схватить меня, поскольку во Влахернах распоряжались венецианцы, а Нотар не привел с собой собственных людей.
– Я хочу поговорить с тобой, Иоанн Ангел, – заявил он. – Наедине.
– Мне скрывать нечего, – ответил я. Мрачное надменное лицо Нотара было непреклонным, и у меня не было никакого желания идти за этим человеком, как агнец на заклание.
Он открыл рот, собираясь что-то резко сказать мне, но тут его взгляд упал на воду в кадке. Время от времени раздавались пушечные залпы, но и в промежутках между ними по воде разбегались круги. Нотар соображал быстро – и сразу, без всяких объяснений, понял, в чем дело. Одновременно заработал и его ум политика, производя собственные расчеты. Нотар молча повернулся и ушел так же стремительно, как появился. Сыновья удивленно посмотрели на отца, но покорно двинулись вслед за ним.
О подкопе уже все равно было известно. Значит, Нотар не мог навредить туркам, даже если бы немедленно сообщил об этом императору. Зато, раскрыв коварные замыслы врага, Нотар стяжал бы славу и заслужил доверие василевса. Вскоре и сам император приехал к нам верхом в окружении свиты.
– Нотар присвоил себе твои лавры, – сказал я Гранту.
– Я прибыл сюда не ради славы, – ответил он кисло. – Я мечтаю лишь расширить свои познания.
Но Нотар немедля подошел к ученому, милостиво положил ему правую руку на плечо и принялся расхваливать императору мудрость и проницательность Гранта, любезно называя его человеком чести и благородным немцем. Император тоже одарил Гранта высочайшей лаской, обещал щедро вознаградить его и попросил, чтобы он под руководством Нотара выявил и уничтожил все турецкие подкопы.
Для этого в распоряжение Гранта поступало необходимое количество людей со стен, а также императорские мастера.
Я увидел, что и Джустиниани получил известие об обнаружении подкопа и тоже вскоре примчался на своем коне, чтобы поучаствовать во всеобщем ликовании. Грант тут же взялся за дело и велел тайно отправить гонцов ко всем тем в городе и на стенах, кто имел хоть какой-то опыт в работе под землей. Одновременно немец отобрал несколько человек, которые должны были наблюдать за водой в кадках и за барабанами; но люди эти подняли немало ложных тревог, пока не освоились со своим заданием. Каждый раз, когда поблизости стреляли пушки, вода подергивалась рябью, а горох плясал на барабанах, и насмерть перепуганные караульные со всех ног мчались к Гранту и докладывали, что турки вот-вот выйдут на поверхность.
Взявшись уничтожить подкоп, Грант обратился к императору с такими словами:
– Я поступил к тебе на службу вовсе не ради славы и денег, а для того, чтобы постичь мудрость греческих ученых. Позволь мне посмотреть, что есть в твоей библиотеке, и изучить манускрипты, которые погребены в подвале, а также взять на время сочинения пифагорейцев. Я знаю, там есть труды пифагорейцев и Архимеда, но хранитель стережет их, как бешеный пес, и даже не разрешает зажигать в библиотеке ни свечей, ни ламп.
Императору просьба Гранта явно пришлась не по душе. На худом лице Константина появилось удрученное выражение. Пряча от немца глаза, он ответил:
– Хранитель моей библиотеки лишь исполняет свой долг. Служба эта переходит по наследству от отца к сыну; в ней все до мелочей определено дворцовым церемониалом, так что даже сам хранитель не может изменить порядков в библиотеке. Ты бросаешь вызов Богу, собираясь в критический для города момент разыскивать сочинения языческих философов. Нужно лишь верить в Господа, ты должен это знать. Тебе не поможет ни Пифагор, ни Архимед. Спасет тебя только Иисус Христос, муками своими искупивший грехи наши и воскресший, дабы не были наши души обречены на погибель.
Грант пробурчал:
– Если нужно лишь верить в Господа, то мне, пожалуй, не стоит терять времени на расчеты и изобретения, над которыми я корплю, чтобы удержать турок подальше от города.
Император раздраженно взмахнул рукой и заявил:
– Греческая философия – это наше бесценное наследие, и мы не даем этих трудов варварам, которые наверняка используют их неподобающим образом.
Джустиниани громко закашлялся, а венецианский посланник, тоже стоявший рядом, оскорбленно выкатил налитые кровью глаза. Как только Грант отошел, василевс примирительно сообщил, что, говоря о варварах, совершенно не имел в виду латинян. А вот Грант – немец и потому варвар от рождения.
Целый день не прекращался орудийный огонь; кажется, он стал даже еще более интенсивным, чем раньше. Большая стена во многих местах уже обвалилась. Старики, женщины и дети добровольно пошли в каменщики. Тревога и страх удесятерили их силы – и эти люди таскали глыбы и носили на шанцы корзины, которые даже самому крепкому мужчине показались бы слишком тяжелыми.
Женщины говорили:
– Уж лучше мы умрем вместе с нашими мужьями, отцами и сыновьями, чем станем рабынями турок.
От нечеловеческой усталости осторожность защитников города притупилась, и многие уже не прятались от турецких стрел, если для этого надо было сделать пару лишних шагов. Без всякого прикрытия мужчины с покрасневшими от недостатка сна глазами, пошатываясь, подходили к самому рву, чтобы вылавливать крюками турецкие бревна и вязанки хвороста. Со стены уже не видно ни деревца, ни кустика. Стараясь засыпать ров, турки вырубили все, что было в поле зрения. Даже пригорки возле Перы и на азиатском берегу Босфора лишены теперь всякой растительности.
17 мая 1453 года
Турецкий флот подошел к портовому заграждению, но остановился на некотором расстоянии от цепи. Наши суда дали не меньше ста пушечных залпов, но не нанесли врагу особого вреда. Венецианские моряки похваляются одержанной победой.
– Если все на стенах будут исполнять свой долг столь же неустрашимо, как мы, то с Константинополем ничего не случится, – говорят они.
Видно, впрочем, что султан лишь хочет чем-то занять наш флот, чтобы оттуда больше не приходило подкрепление на стены.
Многие стремились попасть на службу к Гранту – наблюдать за кадками с водой, но он мудро поставил на посты только мужчин, неспособных носить оружие, и сохранивших острое зрение стариков. Я хотел пристроить на эту легкую работу Мануила – имея в виду его седую бороду и больные ноги. Но когда я разыскал старика, выяснилось, что он уже успел отвертеться от службы на стене и добился расположения венецианцев. Он хорошо знает город, и может показать, где находятся лучшие публичные дома, и без труда отыскивает женщин, которые с радостью меняют свою честь на засахаренные фрукты и свежий хлеб венецианцев. Даже совсем юные девочки болтаются у ворот Влахернского дворца, готовые ублажать латинян. Когда я наткнулся на Мануила, он как раз собирался в город, сгибаясь под тяжестью мешка с запретной пищей. Он раздобыл у венецианцев пропуск, который предъявляет стражникам, и хвалится, что сумеет разбогатеть, если осада продлится еще какое-то время.
Когда я стал стыдить его, он оскорбился и заявил:
– Своя рубашка ближе к телу. В городе повсюду идет тайная торговля. При этом используют и императорские грамоты, и венецианские и генуэзские пропуска. Многие люди сколотили себе на этом целые состояния, и лишь немногие свернули себе шеи. Кто не рискует, тот не выигрывает. Так уж устроен этот мир. Зазеваешься – останешься с носом. Да и лучше, по-моему, чтобы венецианские разносолы попадали на столы к грекам, чем исчезали в бездонных утробах этих еретиков. И не моя вина, что крепкие, откормленные молодые мужики полны низменных желаний и в перерывах между боями ищут женщин или юных мальчиков, чтобы удовлетворить свои страсти.
Все больше распаляясь, Мануил вскричал:
– Венецианцы – наши друзья. Рискуя жизнью, они проливают кровь за наш город. Так что ж плохого, если бедная девушка продаст свою невинность, чтобы доставить им удовольствие и принести своим родителям кусок хлеба? Или даже если достойнейшая и верная супруга минутку полежит на спине, чтобы получить за свои скромные услуги горшочек варенья, сладости которого так долго были лишены ее уста? Это делается во славу Божию и на благо всего христианского мира, как обычно говорят венецианцы. Господин мой, не вмешивайся в дела мира, который ты все равно не можешь изменить. Все мы только бедные грешники.
И кто сказал, что Мануил не прав? Кто я такой, чтобы судить его? Каждый – сам кузнец своего счастья и борется за него как умеет.
Напрасно я ждал, что Лука Нотар снова навестит меня. Сегодня я несколько раз видел его издали, но он лишь кинул на меня враждебный взгляд и поспешно прошел мимо. От Анны я пока не получил никакой весточки.
В том горячечном бреду, в котором я живу, я решил совершить по крайней мере какое-нибудь доброе дело. Возможно, Иоганн Грант – и невольник тех времен, что грядут под знаком зверя, но я люблю этого ученого немца как человека, с его неподвижным, цепким взглядом и изборожденным морщинами лбом мыслителя. Почему бы ему и не стать счастливым на свой манер, пока еще есть время? И вот я отправился сегодня в библиотеку, где завел разговор с беззубым, полуглухим хранителем, который, не обращая внимания на осаду и сумятицу войны, каждый день облачается в свое предписанное церемониалом одеяние с цепью и прочими регалиями.
Я показал ему, в каком направлении идут турецкие подкопы, и объяснил, что турки прокладывают ход в подземелье библиотеки, чтобы проникнуть через него в город. Хранитель был настолько убежден в значимости собственной персоны, что мгновенно поверил мне, как только понял, о чем речь.
– О! – в ужасе воскликнул он. – Этого нельзя допустить! Ведь они же могут потоптать и повредить книги – и даже поджечь своими факелами библиотеку, да мало ли еще что! Это будет невосполнимой потерей для всего мира.
Я посоветовал хранителю обратиться к Гранту и попросить, чтобы тот принял необходимые меры для охраны библиотеки. Беда заставила хранителя покориться, он сам отвел Гранта в подземелье и показал немцу каждый уголок. Грант велел принести в подвал кадки с водой и радостно обещал понаблюдать за ними, как только у него выдастся свободная минутка. Немец даже получил разрешение зажигать в подземелье лампу, чтобы следить за поверхностью воды. Хранитель откопал где-то заржавленный меч и воинственно поклялся, что турки доберутся до сокровищ библиотеки только через его, хранителя, труп.
К счастью, старик не знал, что венецианцы уже давно пустили священные книги из дворца на растопку и на пыжи.
Но Грант не мог надолго погрузиться в свои изыскания. Вскоре после наступления темноты его позвали к Калигарийским воротам, где турецкие минеры, похоже, подкопались на этот раз под саму стену. Грант еще раньше велел подвести контрмину, как это обычно делалось в таких случаях, так что турки попали в ловушку и задохнулись в ядовитых серных испарениях. Лишь несколько человек выбралось из-под земли живыми. Грант приказал пробить в нужных местах отверстия, и вот подпорки в турецком подкопе превратились в ревущее море огня. Весь подземный коридор рухнул. Но он был проложен так глубоко, что обвал не причинил стене никакого вреда. Вдали, за холмом, шагах в пятистах от города, из отверстия, ведущего под землю, еще долго поднимались клубы черного, удушливого дыма, пока туркам не удалось заткнуть эту дыру.
18 мая 1453 года
Конец близок. Ничто уже не может отвратить его. И ничто из того, что мы пережили раньше, не может сравниться с ужасом, который нам довелось испытать сегодня.
На рассвете у ворот святого Романа глазам нашим открылось зрелище, наполнившее души смертельным страхом. Всего за одну ночь туркам удалось под покровом темноты невероятно быстро, с помощью злых духов, построить гигантскую движущуюся деревянную осадную башню на самом краю рва, буквально в тридцати метрах от остатков внешней стены, на которой всю ночь работали защитники города. Никто не понимает, как это могло случиться. Эта башня, которую можно передвигать с помощью огромных деревянных катков, имеет три яруса и превосходит высотой внешнюю стену, господствуя над ней. Деревянные стены башни, которые легко поджечь, везде защищены толстым слоем верблюжьих и воловьих кож. Сами же стены – двойные, промежуток между ними заполнен землей, и пробить их не могут даже маленькие пушки. Из бойниц со свистом вылетают стрелы, а с верхнего яруса большая катапульта начала этим же утром осыпать нас громадными каменными глыбами, чтобы разрушить наши временные укрепления. Из турецкого лагеря к башне ведет пятисотметровый, прикрытый досками ров, так что солдаты могут спокойно ходить туда и обратно.
Итак, из катапульты непрерывно вылетают глыбы, свистят стрелы, а множество маленьких баллист ведут огонь по нашим шанцам и палисадам. Из отверстий, то и дело открывающихся в нижнем ярусе башни, в ров потоком извергаются камни, земля, бревна и вязанки хвороста. Когда мы, собравшись, в испуге смотрели на эту громадину, возле которой не видно было ни одного человека и которая, сотрясаясь, работала словно сама по себе, похожая на единый смертоносный механизм или живое чудовище, с грохотом открылся большой кусок среднего яруса и оттуда выдвинулась штурмовая лестница, направленная в сторону внешней стены. К счастью, расстояние было слишком большим.
Грант тоже прибыл, чтобы взглянуть на эту махину. Ничего подобного никому никогда еще не приходилось видеть. Немец на глаз определил размеры башни, запомнил их и сказал:
– Хотя все части этого сооружения турки изготовили заранее и собрали его тут потом из отдельных деталей, все равно возведение башни за одну ночь является чудом инженерного искусства и слаженности действий. Сама по себе эта штука – не новость. Осадные башни применяют с тех самых пор, как научились строить крепостные стены. Поражают лишь ее размеры: они превосходят все, о чем писали греки и римляне. И если бы не ров, турки могли бы подкатить эту махину прямо к стене и использовать как таран.
Осмотрев башню, Грант повернулся и ушел, поскольку не обнаружил в ее конструкции ничего интересного. Но Джустиниани скрипел зубами и качал головой. Его до глубины души потрясло то, что прямо у него под носом можно было возвести такую громадину да еще так, что никто ничего не заметил.
– Дождемся следующей ночи, – угрожающе шипел он. – То, что построили люди, другие люди всегда могут уничтожить.
Но гигантская башня, изрыгающая огонь, ядра, стрелы и камни и содрогающаяся от собственной чудовищной силы, кажется столь устрашающей, что генуэзцу никто не верит. Император в бессильном отчаянии проливал слезы, глядя, как многие греческие поденщики падают, сраженные каменными глыбами. Пока эта махина будет господствовать над внешней стеной, мы не сможем восстанавливать свои укрепления.
После полудня тяжелым орудиям турок удалось снести одну башню большой стены – почти напротив осадной машины. Рухнул и кусок стены, погребая под собой нескольких латинян и греков.
Пока военачальники думали и гадали, как бороться с этой, самой страшной с начала осады опасностью, Джустиниани накинулся на Нотара, требуя, чтобы тот отдал ему оба больших орудия, которые все еще стояли на портовой стене и без особого успеха время от времени обстреливали турецкие галеры, качавшиеся на волнах у противоположного берега Золотого Рога.
– Мне нужны пушки и порох, чтобы оборонять город, – кричал генуэзец, – в порту уже слишком много бесценного пороха извели впустую.
Нотар холодно ответил:
– Это мои пушки, и за порох я плачу сам. Мы пустили ко дну одну галеру и повредили множество других. Если хочешь, я буду беречь порох, но орудия в порту необходимы, чтобы не подпускать турок к берегу. Ты же сам знаешь, что стена у внутреннего порта – самое слабое место города.
Джустиниани заорал:
– Какая, к дьяволу, польза от венецианских кораблей, если они не могут справиться с турками в самом порту?! Твои возражения – это пустые отговорки и полная чушь, а в действительности ты просто хочешь ослабить оборону города в самой критической точке, какая тут есть. Не думай, что я не раскусил тебя! Твое сердце черно, как борода султана.
Император попытался примирить их.
– Ради Господа Бога, дорогие братья, не осложняйте еще больше нашего положения, затевая бесполезные распри. Оба вы печетесь лишь о благе Константинополя. Достойный Лука Нотар спас город от гибели, когда турки пытались сделать подкоп под стены. Если Нотар считает, что пушки в порту необходимы, нам надо прислушаться к этому мнению. Так обнимитесь же, братья, ибо все мы сражаемся с одним общим врагом.
Джустиниани колко ответил:
– Я готов обнять по-братски хоть самого дьявола, если он даст мне пушки и порох. А Лука Нотар не дает мне ничего.
Лука Нотар тоже не проявил ни малейшего желания обниматься с Джустиниани, а с оскорбленным видом удалился, предоставив императору и генуэзцу самим искать выход и создавшегося положения.
Но когда я понял, что конец уже близок, гордость моя смирилась. Я побежал за Нотаром, остановил его и сказал:
– Ты хотел поговорить со мной наедине. Ты что, уже забыл об этом?
К моему удивлению, он дружески улыбнулся. Положил мне руку на плечо и произнес:
– Ты запятнал честь моего рода и заставил дочь пойти против отца, Иоанн Ангел. Но сейчас – трудные времена, и мне некогда заводить с тобой тяжбы. Моя дочь очень дорога мне. Ее мольбы смягчили мое сердце. Лишь от тебя зависит, прощу ли я тебе твое латинское поведение в этой истории.
Не веря собственным ушам, я спросил:
– Ты и правда разрешишь мне снова увидеть твою дочь Анну, мою жену?
Нотар помрачнел.
– Не называй ее пока еще своей женой. Но можешь встретиться и поговорить с ней. Да, лучше пусть она сама изложит тебе мои условия. Анна – дочь своего отца, и я доверяю ее уму, хотя ты на какое-то время сумел покорить ее сердце.
– Благослови тебя Бог, Лука Нотар! – искренне воскликнул я. – Я ошибся в тебе и твоих намерениях. Ты, несмотря ни на что, настоящий грек.
Он смущенно улыбнулся и заявил:
– Верно. Я – настоящий грек. И надеюсь, что ты – тоже.
– Где и когда я могу с ней встретиться? – спросил я, чувствуя, что у меня перехватывает дыхание от одной только мысли об этом.
– Возьми моего коня и, если хочешь, поезжай ко мне домой прямо сейчас, – добродушно проговорил он и громко расхохотался. – По-моему, моя дочь уже несколько дней с нетерпением ждет тебя. Но я подумал, что короткая разлука пойдем вам обоим лишь на пользу и чуть-чуть охладит ваш пыл.
Мне надо было сообразить, что он держится со мной слишком любезно. Но, забыв о пушках и турках, о Влахернах и своих обязанностях, я вскочил на его вороного боевого коня и галопом помчался по городу к Мраморному морю. Пришпоривая лошадь, я громко кричал от радости. Майский день сиял вокруг меня золотом и голубизной небес, хотя стена и порт были окутаны клубами порохового дыма.
Очутившись возле благородного в своей простоте каменного дома, я и сам не помню, как привязал коня. Стремительно – словно юноша, торопящийся на первое любовное свидание – бросился я к двери, чтобы постучать в нее молотком. И только тут подумал о том, как я выгляжу, и попытался стереть с лица сажу и пыль, потом поплевал на ладонь и до блеска отчистил свой панцирь.
Мне открыл слуга в бело-синих одеждах. Но я даже не взглянул на него. Ко мне уже спешила Анна Нотар, стройная и прекрасная, с сиявшими от счастья глазами. В своей привычной обстановке она была так молода и прелестна, что я не решился заключить ее в объятия, а только смотрел на нее, не смея вздохнуть. Шея ее была обнажена, губы и брови подкрашены. От Анны исходил дивный аромат гиацинтов – как при нашей первой встрече.
– Наконец-то, – страстно прошептала женщина. Она сжала мою голову ладонями и поцеловала меня в губы. Щеки Анны пылали.
Никто не стерег ее. Никто не запирал на женской половине. Я ничего не понимал.
Анна взяла меня за руку. Этого было достаточно. Держась за руки, мы поднялись по лестнице в большой зал на верхнем этаже. За узким стрельчатым оконцем отливали серебром волны Мраморного моря.
– Конец близок, Анна, – проговорил я. – Ты не представляешь, что творится сейчас на стене. Я благодарю милосердного Господа за то, что еще раз смог увидеть тебя и заглянуть в твои глаза.
– Только заглянуть в мои глаза? – усмехнулась Анна. – И это все, о чем ты мечтаешь? Хотя я – твоя жена?
Нет, я ничего не понимал. Мне казалось, что я сплю. Может, я уже умер? Может, пушечное ядро так быстро размозжило мне голову, что душа моя все еще пребывает на этом свете, охваченная земными страстями?
– Пей, – прошептала жена моя, Анна Нотар, и протянула мне кубок, который наполнила отливающим бронзой вином. Я заметил, что по турецкому обычаю она добавила в вино амбры. Зачем она хотела разжечь мою страсть? Я и так безумно желал эту женщину.
Ее губы были для меня самым восхитительным кубком. Самым опьяняющим и прекрасным вином на свете было для меня ее тело. Но когда я хотел дотронуться до нее, она удержала меня. Зрачки ее расширились и потемнели. Она сказала:
– Нет. Еще нет. Сядь, любимый мой. Сначала нам надо поговорить.
– Не нужно никаких слов, – в горьком разочаровании взмолился я. – Не произноси ничего, свет моих очей! Все это кончится лишь ссорой и оскорблениями, и нам обоим опять будет больно. Лучше всего мы понимаем друг друга не разговаривая, а занимаясь совсем другим делом.
Глядя в пол, Анна с упреком сказала:
– Значит, ты стремишься лишь увлечь меня на ложе. И ничего более. Стало быть, тебя интересует только мое тело?
– Ты же сама того хотела, – сдавленным голосом ответил я.
Анна взглянула на меня и быстро заморгала. В ее глазах блеснули слезы.
– Возьмись наконец за ум, – воскликнула она. – Ты виделся с моим отцом. Он готов простить нас с тобой, если ты только захочешь. Впервые он разговаривал со мной как с взрослой, поделился со мной своими мыслями, подозрениями, планами. И впервые я его по-настоящему поняла. Ты тоже должен понять его. Он кое-что задумал.
Я помрачнел. Страсть моя остыла. Но Анна продолжала говорить, крепко сжимая мою испачканную руку в своих ладонях.
– Он – мой отец. А мой отец не может сделать ничего плохого. Он – самый высокопоставленный человек после императора. И если император предал свой народ и свою веру и продал город латинянам, ответственность за судьбу этого народа ложится на плечи моего отца. Обязанность Луки Нотара – прежде всего думать о жителях Константинополя, и Лука Нотар не может уклониться от выполнения своего долга, каким бы тяжким и унизительным тот ни был. Надеюсь, ты хорошо это понимаешь.
– Продолжай, – горько сказал я. – Сдается мне, что все это я уже слышал раньше…
Анна вспылила:
– Отец – не предатель. Он никогда не унизится до измены. Он – политик, который, стоя на руинах нашего города, обязан спасти все, что можно.
Она внимательно следила за мной из-под полуопущенных век. В ее глазах уже не было заметно никаких слез, хотя она усиленно моргала. Наоборот, казалось, в глубине души этот разговор льстит ее женскому тщеславию. Анна продолжала:
– После падения города я могла бы стать женой султана Мехмеда. Таким образом султан заключил бы союз с греческим народом. Мой отец был просто потрясен, когда узнал, что мой каприз поставил крест на его планах. Но я же ни о чем таком не подозревала. Он ни разу ни словом не обмолвился о своих замыслах.
– Ты действительно многое потеряла, – язвительно ввернул я. – Сначала должна была стать императрицей. Потом – одной из нескольких десятков жен будущего владыки мира. Но тебе – увы! – не повезло. Я понимаю, что ты жалеешь, но не принимай этого слишком близко к сердцу. Мне ведь недолго осталось жить. И скоро ты снова будешь свободна.
– Как ты можешь разговаривать со мной таким тоном! – резко ответила Анна. – Ты же знаешь, что я люблю тебя. И ошибаешься, рассуждая о смерти. У нас с тобой впереди еще целая жизнь. Вот увидишь! Если только послушаешься совета моего отца.
– Ну так скажи мне, что же это за совет, который Лука Нотар сам мне дать не осмелился, – произнес я горько. – Но поторопись. Мне надо возвращаться на стены.
Анна обеими руками вцепилась в меня, словно пытаясь удержать.
– Ты туда не вернешься! – вскричала она. – Этой же ночью отправишься в лагерь султана. Можешь ничего не рассказывать Мехмеду об обороне города, если это оскорбляет твою честь. Ты должен лишь втайне передать султану слова моего отца. Мехмед знает тебя и верит тебе. Других греков он, возможно, не пожелает слушать.
– И что же это за слова? – осведомился я.
– Отец не может доверить их бумаге, – быстро объяснила Анна. – Хоть он не сомневается ни в тебе, ни в султане, отправлять письмо все же слишком рискованно. Даже в ближайшем окружении султана есть люди, которые вставляют ему палки в колеса и подбивают греков сражаться до последнего. Может, тебе известно об этом. Итак, ты должен сказать Мехмеду, что в городе существует сильная партия мира, которая не признает императора и готова сотрудничать с турками, приняв все условия султана. Передай ему: в Константинополе есть тридцать высокопоставленных и влиятельных персон – отец назовет тебе их имена – которые понимают, что будущее греческого народа зависит от благосклонности султана. Честь не позволяет им открыто перейти на сторону турок, пока город еще может защищаться. Но они тайно действуют в интересах Мехмеда, и когда Константинополь падет, здесь уже будет группа лиц, готовых управлять городом и пользующихся доверием народа. Итак, тридцать человек ищут покровительства султана и покорнейше просят, чтобы Мехмед пощадил их жизни, семьи и имущество, когда город будет взят.
Анна посмотрела на меня.
– И что в этом дурного? – спросила она. – Разве это не почетное и многообещающее политическое предложение? Очутившись между турками и латинянами, мы ведь оказались между молотом и наковальней. Только устранив императора и в возможно более полном согласии сложив оружие, мы спасем будущее города. Мы же не сдаемся на милость победителя. Наоборот, политический расчет должен подсказать султану, что это – самый выгодный для турок исход войны. Ты – не латинянин. Так зачем тебе сражаться за дело латинян?
Я молчал, истерзанный отчаянием. Анна же решила, что я размышляю над ее словами, и заговорила снова:
– Падение города – вопрос лишь нескольких дней. Так утверждает отец. Поэтому тебе надо спешить. Когда султан сломит сопротивление латинян, ты войдешь в город вместе с победителями и введешь меня в свой дом как жену. Породнишься с семьей Нотаров. Ты, наверное, понимаешь, что это значит?
Она обвела рукой мраморные стены, ковры, бесценную мебель – все сокровища, которые нас окружали, и добавила с растущей горячностью:
– Разве все это – не лучше, чем твой бедный деревянный домик, куда ты привел меня? Кто знает, может, в один прекрасный день мы поселимся во Влахернах. Если ты поддержишь моего отца, будешь принадлежать к знатнейшим людям Константинополя.
Анна замолчала. Щеки ее пылали. Мне надо было что-то сказать.
– Анна, – проговорил я. – Ты – дочь своего отца. Так и должно быть. Но я не буду обделывать его дела у султана. Пусть Лука Нотар найдет кого-нибудь другого – из людей, которые разбираются в политике лучше, чем я.
Лицо женщины окаменело.
– Ты боишься? – холодно спросила она.
Я схватил шлем и с грохотом швырнул его на пол.
– Ради доброго дела я немедленно отправился бы к султану, забыв о том, что он тут же посадит меня на кол! – закричал я. – Не о том речь. Поверь мне, Анна, жажда власти ослепила твоего отца. Обращаясь к султану, Лука Нотар сам роет себе могилу. Он не знает Мехмеда. А я его знаю.
Если бы мы жили в стародавние времена, – продолжал я, – планы Мехмеда, возможно, и поддавались бы какому-то логическому объяснению. Но залп гигантской пушки султана возвестил о начале новой эпохи. Эпохи гибели. Эпохи зверей. Наступает время, когда никто уже не сможет доверять самым близким людям и человек превратится в слепое орудие властей. Даже если бы султан, положив руку на Коран, поклялся именем пророка и призвал в свидетели всех ангелов, он все равно издевательски хохотал бы в душе, ибо не верит ни в ангелов, ни в пророка. Отшвырнет твоего отца со своего пути, как только перестанет нуждаться в Луке Нотаре. Впрочем, предостерегать Нотара бесполезно. Он все равно не желает меня слушать.
Но даже если бы султану можно было доверять, – говорил я, – то я и тогда не вернулся бы к нему, умоляй ты меня об этом хоть на коленях. Это мой город. Когда он сражается, я сражаюсь вместе с ним. Когда его стены рухнут, я вместе с ним погибну. Это мое последнее слово, Анна. Не терзай меня больше. И не терзай саму себя.
Анна смотрела на меня, бледная от горечи и разочарования.
– Значит, ты не любишь меня, – заявила она снова.
– Нет, не люблю, – ответил я. – Это была иллюзия и ошибка. Я думал, что ты совсем другая. Но прости меня за это. Скоро ты освободишься от меня. Если хорошенько попросишь, султан, может быть, растрогается и возьмет тебя в свой гарем. Следуй советам своего отца. Он замечательно все устроит.
Я встал и поднял шлем с пола. Волны Мраморного моря сверкали как расплавленное серебро. В гладко отшлифованном мраморе стен отражалась моя фигура. Я так безвозвратно потерял Анну, что был в этот миг холоден, как лед.
– Анна… – сказал я, но голос мой сорвался. – Если захочешь еще встретиться со мной, найдешь меня на стенах.
Она ничего не ответила. Я ушел, оставив ее одну. Но на лестнице она догнала меня и крикнула, красная от унижения:
– Прощай же, проклятый латинянин. Мы никогда больше не увидимся. Я буду день и ночь молить Бога, чтобы он прибрал тебя к себе и избавил меня от тебя. А если я наткнусь на твой труп, то пну тебя ногой в лицо, чтобы от тебя освободиться.
Когда я вышел на улицу, в ушах моих все еще звучало это проклятие. Губы мои дрожали. Трясущимися руками водрузил я на голову шлем. Черный, как ночь, скакун Нотара, заржав, вскинул голову. Я не стал с презрением отказываться от него. Взлетев в седло, я пришпорил коня.
Сейчас – полночь. Эту ночь я провожу в смертельной тоске. Никогда и ни о чем я так не тосковал… Джустиниани позволил мне рискнуть жизнью, поскольку я знаю турецкий язык и могу помочь генуэзцу в его деле. Иисусе Христе, Сыне Божий, смилуйся надо мной!
Ибо я люблю. Люблю ее безумно, а теперь и безответно. Прощай, Анна Нотар, прощай, бесценная моя.
19 мая 1453 года
Итак, мне предстоит испить горькую чашу до дна. Мне не суждено было погибнуть этой ночью. Чтобы произвести впечатление на Джустиниани, я как-то заявил ему, что тверд, как скала. Я имел в виду лишь то, что дух может властвовать над телом и его ощущениями. Но я вовсе не тверд.
И тело мое уже не подвластно моему духу.
Закаленные в боях наемники говорят с завистью:
– Ты счастливец, Жан Анж!
Но я – не счастливец. Просто с еще большей горечью, чем раньше, я убедился, что никто не умирает прежде назначенного срока.
На стенах моего города в эти дни и ночи безумствует смерть; она косит людей, не выбирая, вроде бы случайно и бессмысленно. И все же каждое ядро летит по своей траектории – и траекторию эту определяет Бог.
Итак, сегодня ночью мы сожгли турецкую осадную башню. Многие считают, что это – еще большее чудо, чем ее постройка за одну ночь.
В самый темный час я лежал у подножья башни, одетый в турецкий костюм. Кто-то наступил на меня во мраке, но я притворился мертвым и даже не вздрогнул.
За два часа до рассвета мы ворвались в башню, выломали люки и сумели закинуть внутрь несколько глиняных горшков, наполненных порохом. Иначе нам никогда не удалось бы поджечь ее. Волосы и брови у меня обгорели. Руки сплошь покрыты ожогами и пузырями. Джустиниани не узнал моего лица, когда я прополз по земле, как червяк, и явился обратно в город. Из тех, кто ушел к башне, вернулся я один.
Несколько турок, сидевших в башне, выскочило из огня и убежало. Утром султан приказал казнить их и насадить головы на колья.
В ушах у меня стоит грохот пушек, и пол дрожит у меня под ногами.
Но сильнее, чем боль ожогов, терзает меня сердечная мука.
Впервые – после землетрясения в Венгрии. Потом – под Варной. Тогда он сказал: «Мы встретимся снова у ворот святого Романа». Сегодня ночью я ждал его. Но он не пришел.
21 мая 1453 года
Меня пришел навестить немец Грант, чтобы показать свою опаленную бороду и сгоревшие ресницы. Турки уже научились вести подземную войну и защищать свои подкопы. На людей Гранта, которые подводили контрмину поблизости от Калигарийских ворот, обрушились сегодня потоки жидкого огня. Отряд, поспешивший на помощь, был остановлен стеной рогатин и ядовитым дымом.
Сам Грант вынужден был спуститься под землю, чтобы придать мужества своим людям. Им удалось уничтожить турецкий коридор, но они понесли тяжелые потери. Подземные битвы вызывают в городе суеверный ужас.
Глаза Гранта опухли и покраснели от бессонной ночи и паров серы. Он сказал:
– Я нашел труд самого Пифагора, но буквы пляшут у меня перед глазами. Скачут, как блохи… Я уже не могу читать.
Лицо немца исказилось от бессильной ярости, он грозил кулаками и кричал:
– Что это за слепота, которая поражала даже самых мудрых греческих математиков?! Они могли перевернуть землю, как обещал Архимед, но когда мне уже казалось, что я обрету сейчас новое знание, я выяснил только, что душой наделены и деревья – а, может, и камни. Даже Пифагор. Он мог бы строить машины, которые покорили бы силы природы. Но счел это ненужным. Обратился к душе, ушел в свой внутренний мир, обрел прибежище в Боге.
Я проговорил:
– Так почему ты не веришь греческим мудрецам, если уж не желаешь принять доводы Библии и отцов церкви?
– Да я уже и сам не знаю, – прошептал Грант и протер кулаками глаза. – Может, я уже не в своем уме. Из-за ночных бдений, постоянного напряжения и горячечных поисков научных истин я, кажется, переутомился и заболел. Мои мысли мечутся и разлетаются, как птицы в небе, и я уже не способен направить их в нужную сторону. Ведь должен же иметь какой-то смысл этот страшный путь, который ведет в глубины человеческой души и обрывается в темноте. Пифагор мог создать вселенную из цифр. Так неужели во мраке человеческой души, несмотря ни на что, таилось больше истин, чем нес свет природы и науки?
Я проговорил:
– Дух Божий вознесся над землей, Дух Божий, словно сияющее пламя, низвергся на нас, смертных. Уж в этом-то ты не можешь сомневаться.
Немец разразился жутким смехом, колотя себя кулаками по лбу и крича:
– Божественный огонь распрекрасно уничтожает человеческое тело. Во вспышках орудийных залпов сверкает человеческий разум. Я верю в свободу науки и человека. И ни во что другое.
– Ты примкнул не к тому лагерю, – еще раз повторил я. – Тебе надо бы служить султану, а не последнему Риму.
– Нет, – упрямо ответил Грант. – Я служу Европе и свободе человеческого разума. А вовсе не власти.
22 мая 1453 года
Поблизости от Калигарийских ворот обнаружено два подкопа. Один уничтожен лишь после жаркой схватки. Другой обвалился сам: там были не удачно поставлены подпорки. Грант считает, что большинство опытных рудокопов уже погибло и теперь султану приходится использовать необученных людей.
Перед самой полуночью по темному небу пролетел светящийся диск. Никто не может объяснить этого явления. Император сказал:
– Начинают исполняться пророчества. Тысячелетней империи скоро придет конец. Созданная первым Константином, она погибнет с Константином последним. Я родился под несчастливой звездой.
23 мая 1453 года
Рухнула наша последняя надежда. Константин прав. После своих постов, бдений и молитв он более остро, чем все остальные, чувствует последние слабые удары сердца своей империи.
Бригантина, посланная на поиски венецианского флота, вернулась сегодня утром, не исполнив своей миссии. Благодаря невероятной удаче, а также искусству и отваге мореходов судну удалось проскользнуть обратно мимо турецких сторожевых кораблей.
Двенадцать человек отплыло из Константинополя. Двенадцать человек вернулось. Шестеро из них – венецианцы, шестеро – греки. Двадцать дней кружили они по Эгейскому морю, каждую минуту ожидая нападения турецких сторожевых судов, – но не обнаружили даже намека на христианские корабли.
Когда моряки поняли, что ищут напрасно, они держали совет. Некоторые говорили:
– Мы исполнили свой долг. Больше ничего не можем сделать. Не исключено, что Константинополь уже пал. Зачем нам возвращаться в пекло войны? Гибель города неизбежна.
Другие отвечали:
– Нас послал император. И мы обязаны отчитаться перед ним, хоть плавание наше и было бесплодным. Впрочем – давайте голосовать.
Они посмотрели друг другу в глаза, расхохотались и единогласно решили, что бригантина возвращается в Константинополь.
Во Влахернах я встретил двоих из этих людей. Они все еще широко улыбались, рассказывая о своем напрасном путешествии, а венецианцы подливали им вино и хлопали их по плечам. Но глаза моряков, в которых отражались пережитые в море опасности, не лгали.
– Как вы нашли в себе мужество вернуться на верную смерть? – спросил я.
Они обратили ко мне удивленные, обветренные лица и ответили хором:
– Мы ведь – венецианские моряки.
Может быть, этого и достаточно. Венеция, владычица морей, жадна, жестока и расчетлива. Но она так воспитывает своих солдат, что они живут и умирают за честь и славу родного города.
Но шестеро из этих двенадцати было греками. Они доказали, что и грек может быть верным до последнего вздоха – верным делу, которое уже безнадежно проиграно…
24 мая 1453 года
После полудня к воротам святого Романа приблизилась великолепная процессия. Турки размахивали флагами, трубили в рожки и громко требовали впустить в город султанского посла для переговоров с императором Константином. В это время турецкие пушки прекратили обстрел, а турецкие солдаты отступили в свой лагерь.
Джустиниани подозревал во всем этом какую-то военную хитрость и не хотел, чтобы посланник султана увидел, как сильно повреждена внешняя стена и как ненадежны временные укрепления. Однако император Константин поднялся на стену и узнал в посланнике своего личного друга, синопского эмира Исмаила Гамзу. Его род уже много поколений поддерживал теплые отношения с василевсами Константинополя. Но незадолго до смерти старый Мурад сумел заключить мир и с Гамзой, женив Мехмеда на его дочери. Но Константин все равно благосклонно приветствовал эмира и приказал пропустить его в город. Через дверцу в стене Гамзу ввели в Константинополь.
Едва узнав о прибытии посла, Минотто немедленно созвал совет двенадцати, велел снять часть венецианцев со стен и двинулся во главе двухсот закованных в броню воинов к нынешней резиденции императора. Джустиниани, в свою очередь, приказал выдать своим людям побольше еды и остатки вина, ходил от одного солдата к другому и говорил, грозя им кулаком:
– Смейтесь, смейтесь громче, не то я вам всем шеи сверну!
Когда Исмаил Гамза, поглаживая бороду, внимательно поглядывал по сторонам, он видел лишь хохочущих великанов в стальных доспехах; воины ели мясо, беззаботно швыряя полуобглоданные кости на землю. Император Константин протянул эмиру руку для поцелуя и посетовал, что они встречаются в столь печальных обстоятельствах.
Синопский эмир провозгласил громко и выразительно – так, чтобы его услышали и солдаты:
– Пусть день этот станет благословенным днем, ибо султан Мехмед прислал меня, чтобы предложить тебе мир на самых почетных условиях.
Генуэзцы Джустиниани разразились на это еще более громким хохотом, хотя многие из них едва держались на ногах и не плакали от изнеможения. Джустиниани, зажав между большим и указательным пальцами стилет, расхаживал за спинами солдат и украдкой покалывал в задницу каждого, кто смеялся недостаточно звонко.
Исмаил Гамза попросил императора о беседе с глазу на глаз. Василевс Константин без страха ввел его в свои апартаменты и заперся с ним в маленькой комнатке, не обратив внимания на предостережения советников. Тем временем венецианский посланник приказал своим людям окружить башню, вошел в нее во главе совета двенадцати и потребовал, чтобы императора уведомили о том, что венецианцы не потерпят никаких тайных переговоров с турками.
Василевс ответил, что не собирается принимать никаких решений за спиной своих союзников, созвал своих собственных советников и сообщил им о мирных предложениях султана. Исмаил Гамза заявил серьезным тоном:
– Для твоего собственного блага и блага твоего народа я прошу тебя принять условия султана – лучшие из всех возможных. Константинополь – в критическом положении. Защитников города мало, и они голодают. Народ доведен до отчаяния. Это – твой последний шанс. Если ты не покоришься сейчас, султан убьет всех мужчин, продаст женщин и детей в рабство и отдаст город на разграбление.
Венецианцы завопили:
– Ради Бога, не верь коварному султану. Чего стоят все его клятвы? Турки и раньше нарушали свои обещания. Что же, мы напрасно проливали кровь, а люди наши зря погибли на стенах, защищая твой трон? Нет, нет, султан колеблется, он сомневается, что может одержать победу. Иначе не пытался бы овладеть городом с помощью лживых мирных предложений.
Оскорбленный Исмаил Гамза сказал:
– Если бы у вас была хоть капля ума, вы бы сами поняли, что положение Константинополя безнадежно. Лишь из человеколюбия, желая избежать кошмара последнего штурма, султан предоставляет императору возможность беспрепятственно покинуть город, взяв с собой все свои сокровища, придворных и личную охрану. Жители, которые хотят уйти вместе с василевсом, тоже могут увезти с собой свой скарб. Тем же, кто останется, султан гарантирует жизнь и сохранность имущества. Как союзник султана император может править Мореей, а Мехмед обязуется защищать его от врагов.
Услышав это, венецианцы подняли страшный шум. Они кричали и колотили руками по щитам, чтобы заглушить слова эмира. А василевс вскинул голову и проговорил:
– Твои условия унизительны и несправедливы. Мое императорское достоинство не позволяет мне принять их, даже если бы я и мог это сделать. Но это все равно не в моих силах, поскольку ни я, ни люди, присутствующие здесь, не сумеют убедить жителей города сложить оружие. Мы все готовы умереть – и безропотно жертвуем жизнью во имя Константинополя.
Василевс грустно и брезгливо посмотрел на орущих венецианцев, которые пылко требовали сражаться до «последнего грека». У самих-то венецианцев стоят в порту большие корабли, на которых всегда можно бежать, когда стены города рухнут.
Похоже, султан был уверен, что Константинополь не примет его условий. Но из-за возни партии мира и недовольства армии затянувшейся осадой Мехмед вынужден делать и такие шаги, чтобы показать своим подданным, как непримиримы греки. Султан – только человек, и в глубине души он слаб.
Колебания Мехмеда так же трудно вынести, как мучительную тревогу и подавленность, которые царят в городе в эти дни. Султан поставил на карту все и теперь должен только победить. Иначе он падет. Он ведь борется не только с городом, но и с людьми из собственного лагеря.
Поэтому султан Мехмед в эти дни – самый одинокий человек на земле. Он более одинок, чем император Константин, уже сделавший свой выбор. И потому меня в эти дни объединяет с султаном принадлежность к некоему тайному братству. Мне не хватает Мехмеда. Я хотел бы еще раз увидеть его надменное лицо, упрямый подбородок и отливающие золотом хищные глаза. Я хотел бы поговорить с султаном, чтобы снова убедиться, что я не желаю жить в те времена, когда он и ему подобные станут править миром.
За Мехмедом – будущее. Он победит. Но грядущие года с этим человеком не стоят того, чтобы до них доживать.
– Смейтесь, смейтесь, – велел Джустиниани своим генуэзцам. И когда синопский эмир удалился, они безудержно хохотали, показывая друг другу ввалившиеся щеки, почерневшие от пороха лица, пробитые доспехи, окровавленные повязки на руках и ногах. Хохотали во все горло и ненавидели Джустиниани, который требовал от них того, что не по силам ни одному человеку. Да, они ненавидят его – но в то же время любят. Где-то в глубине каждого солдатского сердца живет мечта о винограднике и белом домике на одном из холмов Лемноса. О греческих невольниках на плодородных полях. О праве первой ночи с красивыми сельскими девушками и о княжеских пирах для княжеских воинов.
Со слезами на измученных глазах солдаты заходились в приступе безудержного веселья, а потом, едва держась на ногах, возвращались на стены. Турецкая процессия с развевающимися знаменами удалялась от города под рев рожков и труб. Когда залпы сотен орудий снова слились в сплошной непрерывный гул, сам Джустиниани нагнулся и поднял с земли кость, на которой осталось немного мяса, стряхнул с нее песок и обглодал дочиста.
– Мне дорого стоит княжеская корона, – ухмыльнулся генуэзец. – Я уже отдал за нее изрядную часть собственной плоти и крови, а победы все не видно.
Да, победы не видно, – повторил он и бросил взгляд на огромный пролом, ширина которого превышала уже тысячу шагов. На этом участке не было теперь ни одной башни, а вместо внешней стены стояли лишь редкие временные укрепления. В основном – валы из бревен, земли, вязанок хвороста и куч камней. И еще – корзин, наполненных гравием, – для защиты от вражеских стрел.
Сегодня – четверг. Завтра – священный день ислама. До следующего четверга я, возможно, уже не доживу. Мехмед исполнил заветы Корана и предложил мир, прежде чем бросить свою армию на последний штурм. Султан готов начать великое наступление ислама: это войско – самое сильное, а его предводитель – могущественнейший из властелинов, и он возьмет Константинополь.
Мы – ворота на Запад. Последний бастион Европы. Когда стены рухнут, их заменят наши живые тела.
25 мая 1453 года
Василевс Константин собрал ранним утром сенат, своих советников и представителей церкви. Известил их о том, что патриарх Григорий Маммас сложил с себя свой сан. Кардинал Исидор тоже не явился на эту встречу, пребывая в башне, обороной которой руководил.
Это – последняя попытка примирить сторонников унии и ее противников. Но и тут император остановился на полпути. Мы избавились от старика, которого ненавидят греки и презирают латиняне, но церковь теперь лишилась патриарха. Невидимый, непримиримый дух Геннадия, возвестившего из своей монашеской кельи о неминуемой гибели Константинополя, правит теперь храмами и монастырями.
Султан объявил в лагере строгий пост и повелел правоверным совершать все положенные омовения и молитвы. Раздраженные голодом и жаждой турки целый день атаковали нас, воя, словно свора псов, каждый раз, когда на их глазах на стене падал замертво христианин. Иногда они кричали хором: «Нет Бога кроме Аллаха, и Магомет – пророк его!» Этот их жалобный и одновременно победный вопль угнетающе действует на греков и латинян. Он лишил душевного покоя многих наивных папистов. «Неужели Господь допустит победу турок?» – спрашивают они. Ведь если так – не доказывает ли это, что турецкий Бог сильнее христианского, а их пророк могущественнее Христа, который дал распять себя на кресте?
Венецианский посланник Минотто сделался благочестивым и принял святое причастие. Он решил соперничать с Джустиниани, чтобы доказать, что венецианцы отважнее генуэзцев. Венецианские солдаты с кораблей с поразительным мужеством защищают северный выступ Влахерн, крепость Пентапиргион. Еще ни один турок не взобрался там на стену.
Вечером в турецком лагере вспыхнули огромные костры. Барабаны и трубы подняли такой шум, что многие на стенах решили, что в неприятельском стане вспыхнул пожар. Но это – лишь обычай, которого турки придерживаются во время поста. С наступлением темноты правоверные могут есть и пить. Пост начинается снова на рассвете, в тот момент, когда можно отличить черную нитку от белой. В озаренном пламенем гигантских костров турецком лагере светло как днем.
Чем ближе решающая минута, тем более косо поглядывают на меня венецианцы. Утверждают, что я шпионю за ними по поручению Джустиниани. Но их грубость лишь доказывает: им действительно есть что скрывать. Видимо, они уже строят планы, как обратить победу на пользу Венеции – в том случае, если штурм не удастся и султан снимет осаду. Выгоды, которые смогли бы извлечь из этого нынешние обитатели императорского дворца, так велики, что ради них стоит побороться и за невозможное. Кроме того, стена вокруг Влахерн все еще так мощна, что турки не смогут вторгнуться здесь в город – во всяком случае, до тех пор, пока этот участок защищают венецианцы.
Там, где внешняя и большая стены соединяются под прямым углом со стеной Влахерн, находится наполовину вросшая в землю калитка, которая ведет на улочку между двумя городскими стенами. Многие поколения обитателей дворца использовали этот выход, чтобы кратчайшим путем попадать в цирк, располагавшийся за стеной Константинополя. Поэтому калитку до сих пор называют Керкопорта; впрочем, ее давно заколотили. А вот теперь снова открыли, как и все прочие дверцы в стенах. Через нее можно быстрее всего добраться из дворца Порфирогенитов до братьев Гуаччарди у ворот Харисия, а оттуда – и дальше, на участок Джустиниани.
У Керкопорты стена не повреждена; турки никогда не пытались нападать в этом месте, поскольку, подбежав к прямоугольному выступу стен, нападающие попали бы под сокрушительный перекрестный огонь. Этим хорошо защищенным путем можно быстро послать подкрепление к воротам Харисия, где стена обвалилась почти полностью – как и у ворот святого Романа. Венецианцы создали специальный резервный отряд, который в случае нужды придет на помощь братьям Гуаччарди. На спокойном участке у Керкопорты внешнюю и внутреннюю стены охраняет лишь горстка греков. К чести латинян надо признать, что они охотно встали в самых опасных местах.
Незадолго до полуночи ко мне явился Мануил. Трясясь от страха, он сказал:
– Базилика горит.
Мы поднялись на крышу дворца, где собралась уже большая толпа зевак. В турецком лагере все еще пылали высокие костры, но посреди темного города возносился к небу гигантский купол храма Святой Софии, разливая вокруг дивный неземной свет. Это был не огонь, а скорее яркое голубоватое сияние. Латиняне, глядя на светящийся купол, шептались между собой и говорили, что это – дурной знак.
Удивительное сияние полыхало над храмом, то ослабевая, то усиливаясь вновь. Я пошел в город, к собору. И был не одинок. Вокруг меня в темноте шумело и волновалось людское море. Все спешили в одном направлении. Я слушал всхлипывания женщин и пение монахов. У храма голубоватое сияние было столь ослепительным, что никто не отваживался приблизиться… Люди падали на колени на влажные плиты и начинали молиться. Бог послал нам знамение. Неземное приняло земной образ. Увидев это собственными глазами, я не могу больше сомневаться в том, что эра Христа закончилась и наступило время зверя.
Купол сиял и горел целый час. Потом свечение стало вдруг быстро ослабевать, минуту померцало и исчезло. Небо было так плотно затянуто тучами, что ночь вокруг нас сделалась внезапно черной, как уголь. Турецкие костры погасли, их зарево уже не освещало город. Ночь была душной, насыщенной запахами земли и гниющих листьев – и человек чувствовал себя так, словно двигался во мраке среди разверзшихся могил.
В темноте в руку мне скользнула тонкая, горячая ладонь. Может, это был лишь самообман, но мне казалось, что я узнаю ее из тысячи. Я не смел ни сжать эти пальцы, ни заговорить. Вдруг это был только заблудившийся ребенок, который нашел опору в моей руке? Или какая-нибудь женщина, выведенная из равновесия темнотой и страхом, захотела ощутить близость мужчины?.. Но я узнал эту руку. Теплая и беззащитная – она словно безмолвно молила о примирении перед смертью.
Женщина тоже ничего не сказала. Во мраке мы слышали лишь дыхание друг друга. Наши руки соприкасались. На наших запястьях болезненно бились жилки – одна возле другой – как немые свидетели единения двух людей. Это было прекрасно. Это было лучше всего на свете. Так мы понимали друг друга. Слова лишь разрывали нити, связывавшие нас.
Так просто, так ясно, так робко и беззащитно. Горячая ладонь в темноте, а вокруг – тяжелый запах гниющих листьев. Над могилами, на пороге смерти мы в знак примирения протянули друг другу руки. А потом женщина исчезла…
И даже если это все было только иллюзией и миражом, боль в моем сердце утихла. Когда я, как лунатик, искал обратную дорогу во Влахерны, горечь уж не переполняла до краев мою душу. Я был свободен, взор мой прояснился. Я стал свидетелем чуда и сжимал руку человека в своей ладони.
26 мая 1453 года
Ночное чудо у храма Святой Софии привело город в такое волнение, что рано утром люди, возглавляемые монахами и монахинями, кинулись на Влахернский холм, забрали из церкви чудотворную икону Божьей Матери и отнесли ее на городскую стену, чтобы святая заступница защищала Константинополь. Богородица, чей узкий лик, обрамленный золотом и драгоценными камнями, был несказанно печален, скорбно взирала на чад своих, Многие видели, как губы ее дрогнули, а из глаз покатились слезы. Несколько человек хотело прикоснуться к образу, и в давке он упал на землю. В тот же миг капли дождя величиной с голубиные яйца, начали падать из низких туч. Дождь мгновенно превратился в ливень, резко потемнело, и по улицам побежали потоки воды. Чудотворная икона, намокнув, налилась свинцовой тяжестью. Лишь самым крепким монахам удалось общими усилиями поднять ее с земли и укрыть в безопасном месте, в монастыре Хора.
Мы думали, что внезапный дождь намочит порох турок. Пустые надежды. Даже во время ливня то и дело гремели орудийные залпы, а когда он кончился и над землей заклубились влажные испарения, турки открыли сокрушительный огонь – словно хотели наверстать упущенное время.
Турки все еще постятся. В этот же день, стоя позже на стене, я видел, как турецкие полководцы собрались на холме у шатра султана. Военный совет продолжался всю вторую половину дня. Потом султанские чауши в зеленых одеждах вскочили на коней и галопом помчались развозить по разным частям лагеря приказы Мехмеда. Вскоре в неприятельском стане поднялся радостный рев. Он разрастался и усиливался. Ликующие вопли людей и оглушительный шум бескрайнего моря. Нетрудно догадаться, что султан назначил день и час последнего штурма.
Увидев, что Мехмед собрал Великий Диван, я отправился к воротам святого Романа и разыскал Джустиниани, который руководил у стены бесконечными работами по ремонту укреплений.
– Во Влахернах все в порядке, – сказал я. – Скоро начнется штурм. Позволь мне сражаться рядом с тобой у ворот святого Романа. Девять лет назад под Варной кое-кто назначил мне тут встречу… Я не хотел бы опоздать на нее.
Джустиниани дружески взял меня под руку, поднял забрало и посмотрел на меня с улыбкой в налитых кровью бычьих глазах. Он словно тихонько посмеивался над чем-то неведомым мне.
– Многие сегодня просились сюда, – проговорил генуэзец. – Мне льстит, что это место кажется всем столь почетным.
Даже султан Мехмед изволил обратить на меня свое внимание, – продолжал Джустиниани, кивнув на бревно, выступавшее из земляного вала. На конце этого бревна, касаясь пятками пожухлой травы, висел труп одного из турецких торговцев с растрепанной бородой; на нем все еще был потертый бараний кожушок. – Султан велел сообщить мне, что восхищен моим мужеством и военным искусством. Он не предлагает мне стать предателем, если это оскорбляет мою честь. Но если я уведу со стены на корабли своих людей, он обещает сделать меня богатым человеком и поставить во главе своих янычар. Он даже разрешит мне сохранить мою веру, поскольку в его войске служат и христиане. Если я согласен, то должен спустить флаг. Вместо этого я приказал повесить султанского посланца. Вот мой ответ – и надеюсь, Мехмед его видит, хоть моим людям и некогда строить сейчас высоких виселиц.
Генуэзец стер пот и пыль и добавил:
– Такие предложения, как это, немного обнадеживают. Судьбу города будут решать наши мечи. Император пришлет сюда элиту своей гвардии и лучших греческих воинов. Мы докажем султану, что живая железная стена куда крепче каменных бастионов.
Но я не доверяю никому и ничему, – продолжал Джустиниани, окинув меня неласковым взглядом. – Особенно подозрительно, что именно ты хочешь сейчас вернуться сюда. Этот купчишка прохрипел на последнем издыхании, что у султана есть много способов избавиться от меня. И потому мне не хотелось бы, чтобы у меня за спиной стоял человек, сбежавший из лагеря Мехмеда, хоть мы с тобой и добрые друзья, Жан Анж.
Радостные вопли, грянувшие в турецком лагере, обрушились на нас подобно штормовой волне.
– Если султан Мехмед принял решение, он осуществит его любыми средствами, – вздохнул я. – Раз ты встал у него на пути, он, не колеблясь ни секунды, подошлет к тебе убийцу, и тот при первом же удобном случае сделает свое дело.
– Значит, ты понимаешь, почему мне не хочется видеть возле себя слишком много чужаков, – ласково проговорил Джустиниани. – Но есть люди, которым добросердечный человек просто не в состоянии отказать. Кроме того, мой долг протостратора – приглядывать за тобой, чтобы в последний момент ты не сделал какой-нибудь глупости. Так что будь у меня на глазах, когда начнется штурм, иначе – поплатишься головой.
В тот же миг мы увидели Луку Нотара, который мчался к нам галопом на вороном скакуне, во главе отряда городской стражи. У калитки в стене Нотар спешился, чтобы пробраться на участок Джустиниани. Генуэзец сложил ладони рупором и крикнул своим людям, чтобы они не подпускали Нотара к земляному валу. Лицо Луки потемнело от гнева. Он рявкнул:
– Я имею право ходить где пожелаю, чтобы выполнять распоряжения императора. Среди греческих поденщиков на стене находятся беглые преступники и контрабандисты.
Джустиниани спустился по обломкам стены и спрыгнул на землю перед Нотаром. Доспехи генуэзца зазвенели.
– Ты не будешь шпионить на моем участке! – заорал он. – Тут я – хозяин! Отдай мне лучше две мои бомбарды. Сейчас они нужны мне, как воздух!
Нотар язвительно засмеялся:
– Ты считаешь, что греки должны защищать порт голыми руками? Именно теперь эти пушки необходимы, чтобы не подпустить к городу турецкий флот.
Джустиниани заскрипел зубами так, что хрустнули челюсти, и прорычал:
– Не понимаю, почему я еще не проткнул тебя мечом, проклятый предатель.
Лицо Нотара посерело. Оглядевшись по сторонам, он схватился за меч… Но у грека хватило ума не бросаться на человека комплекции Джустиниани. Нотар отступил на пару шагов и, убедившись, что прикрыт с тыла своими людьми, попытался улыбнуться. Потом он ответил спокойным тоном:
– Пусть Бог рассудит, кто тут предатель – император или я. Разве не правда, что ты носишь с собой письменное обязательство с тремя печатями, по которому должен получить во владение Лемнос, если сумеешь отстоять город?
– А если и так? – спросил Джустиниани, бросив на Нотара быстрый взгляд и стараясь найти подвох в словах грека.
Но Нотар с самым искренним видом воскликнул:
– Несчастный латинский глупец! Разве ты не знаешь, что император еще до начала осады обещал Лемнос королеве Каталонии – за суда и отряды солдат? Ни один корабль так и не появился, но каталонцы давно заняли остров. Тебе придется отвоевывать его, если ты выйдешь живым из этой бойни.
Джустиниани затрясся, скорчился – и разразился жутким смехом.
– Греки есть и всегда останутся греками! – вскричал генуэзец, тяжело дыша. – Ты готов поклясться на кресте, что не солгал мне?
Нотар вытащил из ножен меч и поцеловал крест на рукоятке.
– Как правда – то, что Бог будет судить всех нас по делам нашим, так верно и то, что император Константин передал Лемнос во владение каталонцам и подтвердил это золотой буллой. Ты заслуживаешь не княжеской короны, а шутовского колпака, Джованни Джустиниани.
Могла ли отравленная стрела попасть генуэзцу в сердце в более подходящий момент? Довольный Нотар вскочил на коня и отбыл. Пройдя через калитку в стене, я приблизился к Джустиниани. Заметив, что я стою рядом с ним, он положил мне на плечо тяжелую руку, словно ища опоры, и сказал:
– Предательство и обман всегда живут среди людей. Может, и в моем собственном сердце тоже притаилась измена. Я сражался больше ради Генуи, чем ради императора. Но сейчас я клянусь, что буду биться до последнего, пока есть хоть какая-то надежда, – только для того, чтобы окружить свое имя немеркнущей славой, чтобы обо мне и моем родном городе вспоминали, пока будет существовать хоть один камень из стен Константинополя.
Слезы горького разочарования заструились по щекам генуэзца. Истово крестясь, он стал молиться:
– Боже, смилуйся надо мной, бедным грешником, и если такова воля Твоя, то лучше уж отдай этот город туркам, чем венецианцам. Пусть корабельные черви сожрут их суда, пусть ураган разорвет их паруса в клочья. А греков я не хочу даже проклинать. Пусть ими займутся турки.
После этой молитвы Джустиниани приказал своим людям спустить пурпурное знамя императора и оставил только свой собственный флаг, развевающийся над грудой развалин, в которую превратилась большая стена.
Снова наступила непроглядная ночь. Турецкие костры взвиваются к тучам. Я не перестаю удивляться загадкам человеческой души и таящейся в ней жажде славы, которая заставляет даже таких закаленных воинов, как Джустиниани, забыть о собственной выгоде и рисковать жизнью лишь во имя чести. Раз император, оказавшись в безвыходном положении, обманом пытался купить себе помощь, Джустиниани без малейшего ущерба для своей репутации мог разорвать договор и увести своих людей на корабли. Султан осыпал бы генуэзца чинами и почестями, если бы по окончании осады Джустиниани согласился служить туркам.
Есть все же в человеке что-то более благородное, чем эгоизм и честолюбие.
Интересно, а в душе Луки Нотара есть что-нибудь еще, кроме жажды власти?
Мой слуга Мануил считает свои деньги. Он беспокойно озирается по сторонам и пребывает в состоянии глубокого душевного разлада, поскольку не знает, где спрятаться от турок.
28 мая 1453 года
Турки готовятся к наступлению. В темноте слышен непрерывный шум: приносят и устанавливают Штурмовые лестницы, наводят мосты, подтаскивают бревна и вязанки хвороста. Костры в лагере вспыхнули лишь на несколько минут и погасли, когда султан велел своим солдатам пару часов отдохнуть перед боем.
Но разве можно заснуть в такую ночь, как эта? Из города сегодня пришло множество добровольцев чтобы в последнюю минуту еще натаскать в проломы земли и камней. Поэтому Джустиниани тоже разрешил своим воинам отдохнуть. Сегодня ночью и завтра от каждого потребуются все силы. Но как я могу спать на смертном одре моего города?
Сегодня никто не жалел ни дров, ни провианта. Император велел опустошить склады и разделить все до последней крошки между жителями города и латинянами.
Меня охватило странное чувство, будто эта ночь должна стать и моей последней ночью, которую я ждал и к которой готовился всю предыдущую жизнь. Я недостаточно хорошо знаю самого себя. Но надеюсь, что сумею сохранить мужество. Мне ведь известно, что смерть не причиняет боли. За последние недели я видел много смертей.
Сегодня ночью я смиренен. Спокоен. Тих. И счастлив – более, чем когда-нибудь раньше.
Может, это странно – чувствовать себя счастливым в такую ночь, как эта. Но я никого не обвиняю и не сужу. Без особого интереса смотрю, как венецианцы битком набивают трюмы своих кораблей императорскими запасами. Даже разрешаю этим людям увозить целые лодки ковров, бесценной мебели и посуды. Не порицаю богатых, знатных и мудрых, которые в последнюю минуту покупают себе жизнь и за огромные деньги попадают со своими семьями на венецианские суда.
Каждый поступает так, как ему подсказывает совесть. Лука Нотар. Геннадий. Император Константин. Джустиниани.
Братья Гуаччарди играют в кости, распевают итальянские любовные песни и маленькими глотками попивают вино в той единственной башне, что еще уцелела у ворот Харисия.
Таким прекрасным, таким счастливым, таким умиротворенным и спокойным выглядит все вокруг. Никогда еще бумага не казалась мне столь чистой и гладкой на ощупь. Никогда еще перо мое не скрипело столь размеренно, скользя по листу. Никогда еще я не видел таких черных чернил. Такое впечатление, что чувства мои обострились до предела и я воспринимаю все гораздо четче, чем раньше. Вот, значит, как обреченный на смерть соприкасается в последний раз с этим суетным миром.
Почему я так счастлив? Почему шучу этой ночью над смертью?
Рано утром я явился к Джустиниани. Он еще спал в своем каземате под большой стеной, хоть все вокруг уже содрогалось от первых в этот день орудийных залпов. Генуэзец храпел в полном вооружении, а рядом с ним лежал греческий юноша в новых блестящих доспехах. Я решил, что это – один из знатных греков, которых император обещал прислать на подмогу Джустиниани. Эти молодые воины поклялись, что встретят смерть у ворот святого Романа.
Юнец проснулся и сел, зевнул, протер глаза грязными кулаками и пригладил взъерошенные волосы. Он бросил на меня надменный взгляд – и я подумал, что передо мной – один из сыновей Луки Нотара. Юноша был похож на отца. Я ощутил укол ревности, увидев, коль милостивый прием оказал мальчишке Джустиниани, и глаза наши встретились. В этот миг пробудился генуэзец и потянулся так, что хрустнули суставы. Я саркастически спросил:
– Ты что, решил предаться старому греху итальянцев, Джустиниани? Разве в городе уже не осталось женщин, которые хотели бы развлечь тебя?
Джустиниани расхохотался, растрепал пареньку волосы и хлопнул его по спине.
– Вставай, лентяй, и принимайся за дело, – сказал генуэзец.
Юноша поднялся, косясь на меня, и направился к бочке с вином, наполнил кубок и подал его Джустиниани, преклонив колено.
Я язвительно бросил:
– Этот мальчик не сумеет даже прикрыть тебя с тыла, если что. Он слишком хилый и слабый. И одет скорее для парада, чем для боя. Вышвырни его и позволь мне занять место рядом с тобой. Венецианскому посланнику во Влахернах я больше не нужен.
Джустиниани покачал бычьей головой и весело зыркнул на меня.
– Ты что, и правда ослеп? – удивился он. – Не узнаешь этого благородного юношу?
Тут я узнал ее и увидел на ее шее протостраторскую цепь Джустиниани.
– Боже мой! – вскричал я, едва не теряя сознания от потрясения. – Это ты, Анна! Как ты сюда попала?
Джустиниани сказал:
– Она пришла еще вчера и заявила, что ищет моего покровительства. Стражники впустили ее, поскольку у нее был мой знак. А что нам с ней делать – это уж тебе решать.
Я недоверчиво посмотрел на Джустиниани, а он отступил на шаг, три раза перекрестился и поклялся Христом Богом, что провел эту ночь в чистоте и целомудрии и что честь не позволяет ему приблизиться к жене друга с грязными намерениями.
– Хоть соблазн был и велик, – добавил он со вздохом, – но я слишком устал от бессонных ночей, боев и тяжкого бремени ответственности, чтобы еще думать о женщинах. Всему свое время.
Анна бесстыдно ввернула:
– Теперь я хорошо понимаю француженку Иоанну, которая облачилась в мужской костюм, чтобы, не подвергаясь опасности, находиться среди солдат.
Анна обвила руками мою шею, расцеловала меня в обе щеки, прижалась головой к моей груди и, тихо всхлипнув, проговорила:
– Стало быть, я так уродлива, что ты даже не узнал меня? Мне пришлось остричь волосы. Иначе я бы не смогла надеть шлем.
Я сжимал ее в объятиях. Она была рядом со мной. И уже не ненавидела меня.
– Почему ты ушла от отца? – спросил я. – И это ты держала меня за руку той ночью возле храма Святой Софии?
Джустиниани кашлянул, потер разболевшийся от доспехов бок и деликатно сказал:
– Мне надо проверить посты. Ешьте и пейте все, что найдете, и даже можете запереть дверь, если хотите уверить друг друга во взаимной склонности и не боитесь орудийных залпов.
И генуэзец вышел, закрыв за собой массивную дверь. По его лицу я видел, что он влюблен в Анну и страшно завидует мне. Анна взглянула на меня из-под упавших на лоб коротких волос, но я так и не решился задвинуть засов. Тогда она сама, словно нехотя, заперла дверь.
– Любимый, – прошептала Анна. – Сможешь ли ты когда-нибудь простить мне то, что я была упряма, эгоистична и не хотела понять тебя?
– Милая, – выдохнул я, – прости меня за то, что я не такой, как ты думала.
Но тебе нельзя оставаться здесь, – добавил я с душевной болью. – Ты должна вернуться в дом своего отца. Там ты будешь в безопасности – насколько можно быть в безопасности в этом городе, когда начнется штурм. Я думаю, что после падения Константинополя султан возьмет вашу семью под свое покровительство.
– Несомненно, – ответила Анна. – Я уже знаю: первое, что сделает султан, – это пошлет чаушей, чтобы они встали на страже у нашего дома. Но я знаю – и по какой причине он это сделает. И поэтому не хочу туда возвращаться.
– Что случилось? – спросил я, предчувствуя недоброе.
Анна подошла ко мне, положила руки мне на бедра и посмотрела на меня невероятно серьезными карими глазами.
– Не спрашивай, – взмолилась она. – Я – дочь своего отца. Не могу предать его. Разве тебе мало, что я пришла к тебе? Тебе мало, что я остригла волосы и надела доспехи своего брата, чтобы умереть на стене, если такова воля Божья?
– Ты не можешь умереть, – проговорил я. – Ты не должна умирать. Этого нельзя допустить. Твой наряд так же безумен, как и твое решение.
Анна ответила:
– Не первый раз за тысячу лет женщина берется за оружие, чтобы защитить наш город. Ты прекрасно знаешь об этом. Однажды, когда император погиб, императрица надела доспехи.
– Ты не можешь, – настаивал я. – Первый же турок, с которым ты столкнешься, собьет тебя с ног и снесет твою прекрасную голову с твоих дивных плеч. Зачем? Кому это нужно? Это же бессмыслица!
Анна со смертельной серьезностью взглянула на меня и проговорила:
– Ты же сам знаешь, что вся оборона города – бессмыслица. Султан победит. Стены уже рухнули. Численное превосходство турок слишком велико. А нас очень мало. Тысячи людей не доживут до следующего рассвета – и гибель их будет напрасной. И если уж рассуждать о пользе, то тебе тоже нечего делать на стенах. Уж позволь мне наконец думать так же, как и ты.
Анна обеими руками сжала мне плечо. Под шапкой коротко остриженных волос лицо ее было бледно.
– Я – твоя жена, – заявила она. – У нас нет никакого будущего. Поэтому я имею право хотя бы умереть рядом с тобой. Я ведь люблю тебя. На что мне жизнь, если ты погибнешь? Лучше уж принять мученическую смерть.
Большое каменное ядро снесло где-то над нами кусок стены, и мы услышали грохот падающих камней. С потолка посыпалась щебенка.
Анна подняла ко мне лицо, скрестила руки на груди и сказала:
– Теперь мне многое стало ясно. Зачем нам терять время, пока мы еще можем быть вместе?
Неловкими руками она начала развязывать ремни доспехов, засмеялась и воскликнула:
– Любимый, помоги мне с этими жуткими застежками на спине. Такое могли выдумать только мужчины.
Я хрипло ответил:
– Благодари Бога, что на тебе – не настоящие рыцарские латы с потайными замками с головы до пят. Бывают такие хитрые замки и такая крепкая сталь, что рыцаря невозможно заколоть, даже если он упал с коня и беспомощно лежит на земле. Под Варной туркам не удалось и молотами пробить доспехи некоторых немецких воинов.
– Как ты много всего знаешь, – нежно прошептала Анна. – Как ты много видел. Но у женщин тоже есть своя броня. И ее не сможет пробить ни один, даже самый сильный мужчина, если женщина сама этого не захочет. Скоро турки убедятся в этом. Но таких женщин немного…
– Только ты, – дрожащим голосом воскликнул я. – Только ты, Анна Нотар.
Осознавая свою красоту, она изгибалась и извивалась, с мальчишеской ловкостью выбираясь из тесных доспехов.
– С этими короткими волосами ты похожа на прелестного парнишку. И стала еще красивее, чем раньше.
– Но я вовсе не парнишка, – игриво ответила Анна, отчаянно кокетничая со мной. – Разве ты не видишь? – Раздался орудийный залп, и стены снова задрожали. Анна обвила мою шею обнаженными руками. – Не бойся пушек, любимый. Я тоже их не боюсь. Наслаждайся мной так, как я наслаждаюсь тобой. Лампада нашей жизни гаснет… Огонек уже догорел до конца. Вечный покой действительно вечен, а бесплотная любовь – это жалкая любовь.
Но наша любовь была жгучей, как соль, которая горит на губах и вызывает жажду. Снова и снова приникали мы друг к другу с неугасающей страстью. В этой каменной комнатушке, пропитанной затхлым запахом кожи, прогорклого оливкового масла, пороха и провонявшей потом одежды, мы любили друг друга, пока смерть кусок за куском перемалывала в пыль стену над нашими головами. И все же любовь наша была не только плотской, ибо каждый раз, когда я смотрел Анне в лицо, я видел ее глаза, широко распахнутые, беззащитные и бесконечно знакомые, – и мне казалось, что сквозь очи эти взор мой проникает в вечность.
– Я вернусь, любимая моя, – шептал я. – Вернусь когда-нибудь в узилище времени и пространства, чтобы снова найти тебя. Люди, империи и народы постоянно изменяются, но из руин константинопольской стены очи твои однажды взглянут на меня, словно коричневые бархатистые цветы. И мы опять обретем друг друга.
Улыбаясь, она ласкала мою шею и плечи, а по ее горящим щекам текли слезы страсти.
– Бесценный мой, – выдохнула Анна. – Может, ничего больше нет. Может, есть лишь этот миг. Но мне и не надо ничего другого. Я счастлива. Я полна тобой. Я стала тобой. Так легко и прекрасно умереть, пережив такое.
Анна оглядела мрачную сводчатую комнату, освещенную мерцающей лампой, и проговорила:
– Как чудесно, как все чудесно! Так чудесно не было еще никогда!
Уткнувшись усталыми губами в ее теплое плечо, я подумал, что все равно не должен открывать ей своей тайны. Эта тайна казалась такой пустой и несущественной, но я уже не хотел и не мог иметь от Анны какие-то секреты. И я произнес:
– Любимая, когда я появился на свет, мать моя сжимала в кулаке кусочек порфира. Я – Багрянородный. Теперь я могу сказать тебе это, поскольку между нами уже все равно ничего не изменится.
Анна резко приподнялась на локтях и уставилась на меня расширившимися глазами.
– Я – Багрянородный, – повторил я. – Мой отец был единокровным братом прежнего императора Мануила. Дедом моим был император Иоанн. Тот самый Иоанн, который отправился в Рим и в Авиньон, отрекся от своей веры и признал папу, не связывая при этом никакими обязательствами ни свою церковь, ни свой народ. Василевс поступил так, чтобы папа в глубочайшей тайне сочетал его браком с одной венецианкой; Иоанн любил эту женщину. Ему было тогда лет сорок. Синьория заплатила его долги и вернула ему драгоценности византийской короны, которые он заложил. Папа и Венеция обещали ему также поддержку Запада и помощь крестоносцев. Но сын Иоанна Андроник восстал позже против отца и поднял мятеж. Также, как и сын Андроника. А когда и Запад отвернулся от Иоанна, он вынужден был заключить мир с султаном и признать наследником престола своего сына Мануила. На самом деле единственным законным наследником был мой отец. И потому Мануил послал своих ангелов, чтобы те разыскали и ослепили сына прекрасной венецианки. После этого отец мой уже не хотел жить. Он бросился со скалы за папским дворцом в Авиньоне. Золотых дел мастер, у которого хранились наши деньги и бумаги, после смерти Слепого Грека обманул меня. Этот негодяй до сих пор прячет документы, которые свидетельствуют о моем истинном происхождении. Насколько мне известно, папская курия и венецианская Синьория тоже знают о моем существовании, хотя и потеряли меня из вида. Я – василевс, но совершенно не стремлюсь к власти. Власть – не для меня. Но у меня есть право умереть на стенах моего города. Теперь ты понимаешь, почему я не могу уйти от своей судьбы?
Анна в испуге смотрела на меня. Потом провела кончиками пальцев по моему лицу. Я уже не брился, чтобы изменить свою внешность, а отпустил бородку.
– Ты теперь веришь, что все свершается, как должно? – спросил я. – Мне было предначертано встретить тебя и твоего отца, чтобы я мог победить и последнее искушение. После того, как Константин огласил унию, я мог во всеуслышание заявить о своем происхождении, поднять с помощью твоего отца в городе мятеж, который поддержал бы весь народ, распахнуть ворота Константинополя перед султаном и править здесь как император-вассал. Но достойно ли это моих предков?
С мукой в голосе Анна сказала:
– Если все это правда, то я узнала тебя только по портрету императора Мануила. И на Константина ты похож. Когда ты сейчас говоришь мне о тайне своего рождения – я лишь удивляюсь, что никто раньше не заметил твоего сходства с василевсом.
– Мой слуга Мануил увидел его сразу, – пожал я плечами. – Голос крови – загадочная вещь. Он влечет человека к истокам… Когда я вернулся в лоно церкви своего отца, отступник Иоанн во мне тоже обрел утраченную веру. Моя судьба – это постоянное примирение.
Анна проговорила:
– Василевс Иоанн Ангел из рода Палеологов и Анна Нотар, дочь флотоводца Нотара. Действительно, примирение будет полным, когда свершатся наши судьбы.
Я уже ни во что не верю! – закричала она. – Не верю, что ты вернешься. Не верю, что я тоже вернусь. Не верю ни во что вечное и неземное. А верю только в сходство, которое прельстило меня, хоть я о нем и не подозревала. Я бессознательно почувствовала в тебе лишь императорскую кровь – а вовсе не мужчину, которого я встречала в какой-то прежней жизни и который показался мне родным и близким, когда я первый раз взглянула ему в глаза. О, зачем ты открыл мне эту тайну? Зачем лишил меня веры, которая несла мне утешение перед смертью?
Смущенный сетованиями Анны, я ответил:
– Я думал, что это польстит твоему женскому тщеславию. По происхождению мы равны друг другу. Выбрав меня, ты не уронила своего достоинства.
Анна воскликнула:
– Да какое мне дело до происхождения и достоинства! Меня интересуешь только ты. Но благодарю тебя за свадебный подарок. Благодарю за невидимую корону. Итак, я – императрица, если тебе это приятно. Я – то, что ты хочешь и что тебе нравится.
Как была, обнаженная, Анна стремительно вскочила и гордо вскинула свою прекрасную голову.
– Так будь же ангелом или василевсом – кем пожелаешь! – вскричала она. – Носись и дальше со своим невидимым и несуществующим императорским достоинством. Я женщина – и только женщина. И ты ничего не можешь мне дать. Ни дома, ни детей, ни даже ночи, когда, старая и дряхлая, я могла бы проснуться в мире и покое рядом с тобой и услышать твое дыхание. Могла бы дотронуться до тебя, поцеловать твой лоб сморщенными губами. Это было бы счастье. Но ты не желаешь мне этого дать из-за своей безумной гордыни. Какой смысл умирать во имя проигранного дела? Кто тебе за это скажет спасибо? Кто сохранит хотя бы память о тебе после того, как ты, окровавленный, рухнешь на землю и твое застывшее лицо покроет пыль? Жертва твоя настолько неразумна, что мысль о ней может довести любую женщину до слез.
Всхлипнув, Анна заговорила громче – и вдруг разразилась отчаянными рыданиями, бросилась мне на шею, обняла меня и принялась горячо целовать.
– Прости меня, – взмолилась она. – Я обещала тебе, что не буду больше тебя мучить, но я такая слабая… Я же люблю тебя. Даже если бы ты был нищим, предателем или подкидышем, я все равно любила бы тебя и мечтала бы всегда быть рядом с тобой. Может, я была бы недовольна и все время ругала бы тебя, но все равно любила бы! Прости меня!
Наши слезы смешались, я пил соленые капли со щек и губ Анны. Тщетность всего и вся жгла мне сердце, словно раскаленное железо. Словно огонь, который взвивается ввысь, прежде чем угаснуть. В этот миг я сомневался в себе, в этот миг я колебался – и это было моим последним искушением, более сильным, чем то, с которым я боролся на столпе Константина. В порту стоят суда Джустиниани, готовые к отплытию, – на тот случай, если генуэзцам придется спешно покидать город. Даже сотни турецких кораблей не смогут задержать эти парусники, если завтра будет дуть попутный ветер.
На закате Джустиниани постучал в дверь и окликнул нас. Я отодвинул засов, и генуэзец вошел в комнату, деликатно не оглядываясь по сторонам.
– У турок тихо, – сообщил он. – Эта тишина – страшнее, чем рев, вопли и костры. Султан разделил своих солдат на отряды – по тысяче человек в каждом и объявил, кому когда идти в атаку. Потом Мехмед произнес речь – и говорил он не о грядущей победе ислама, а о величайшей военной добыче в истории. О сокровищах во дворце, о священных сосудах в храмах, о жемчугах, о драгоценностях. Утверждают, будто султан два часа расписывал все, что можно награбить в Константинополе; не забыл Мехмед упомянуть и о молодых прекрасных греческих женщинах, а также о девушках, которых не видел еще ни один мужчина. Запретил трогать только городские стены и все общественные здания. Турки извели все тряпки в лагере на флажки; ими каждый будет отмечать дома, которые намерен обчистить. Искусные в письме дервиши нанесли на флажки священные буквы и числа. Турки занимались этими приготовлениями гораздо дольше, чем точили мечи и сколачивали штурмовые лестницы.
Днем Джустиниани отправился к цирюльнику; тот подровнял и покрасил генуэзцу бороду и перевил ее золотой ниткой. Латы Джустиниани блестели; на них не было ни единого пятнышка: оружейник полностью привел их в порядок. Уже издали чувствовался исходящий от генуэзца аромат благовоний. В общем, выглядел протостратор просто ослепительно.
– Не пойдете ли вы со мной в храм, дети мои? – спросил он. – Турки вздремнули перед штурмом. То, что еще успеют повредить пушки, смогут починить мои люди. Поторопитесь и оденьтесь поприличнее: вы как благонравные юноши должны в последний раз причаститься и поклясться провести нынешнюю ночь в чистоте и целомудрии.
Генуэзец окинул нас взглядом и, не удержавшись, добавил:
– Вижу по вашим лицам, что вам это будет легче, чем многим другим.
Мы все вместе отправились в храм, когда за турецким лагерем догорел закат, бросив последние кровавые отблески на зеленые купола соборов. Император Константин прибыл в базилику со всем своим двором, сенаторами и архонтами; вся свита двигалась в порядке, предписанном церемониалом, и на каждом вельможе были одежды, соответствовавшие его рангу и положению. Я знал в душе, что Византия, которой уже никогда не возродиться, пришла сюда в последний раз, чтобы возлечь на алтарь смерти.
Венецианский посланник, совет двенадцати и венецианские дворяне тоже были в богатых нарядах. Тех же, кто пришел со стен, украшали не шелка и бархат, а блестящие доспехи. Командующие отрядами генуэзцев собрались вокруг Джустиниани. Потом греческий люд Константинополя заполнил святой храм Юстиниана, уже не вспоминая о религиозных распрях. В этот последний час туда пришли также сотни священников и монахов – невзирая на проклятие. Перед лицом смерти между христианами не было больше раздоров, недоверия и ненависти. Каждый склонял голову перед великим таинством – и молился, как умел.
Сотни лампад разливали вокруг благовонные ароматы и сияли так, что в храме было светло как днем. Огромные, кроткие, несказанно печальные, взирали мозаичные лики с золотистых стен. Когда хоры ангельски чистых голосов запели священные гимны, слезы заструились даже из опухших глаз Джустиниани, и генуэзцу пришлось утирать их обеими руками. Многие отважные воины рыдали в голос.
Перед всеми нами император покаялся в своих грехах; слова его были освящены веками. Люди в храме забормотали молитвы. К этому хору присоединились и голоса латинян.
Греческий митрополит прочел «Символ веры», опустив обидное для греков «и от Сына». Епископ Леонард возгласил римский «Символ веры» для латинян. В греческой молитве уже не было упоминания о папе. Латиняне включили его в свои молитвы. Но этим вечером никого не возмущали такие различия. Служба проходила в тихом согласии, и греки плакали от великого облегчения, видя, что никто больше не покушается на их веру.
После молебна император Константин обратился к народу и сказал прерывающимся от волнения голосом:
– У турок – пушки и несметные полчища солдат, но с нами – Господь Бог. Не будем же терять надежды.
Василевс обнял друзей и родственников, поцеловал каждого из них и попросил прощения за все, в чем перед ними провинился. Потом он целовал и стоявших поблизости простых людей, просил простить его и стискивал в объятиях. Следуя его примеру, латиняне тоже стали обниматься и просить друг у друга прощения, и даже венецианский посланник со слезами на глазах повис на шее у Джустиниани, умоляя не держать на него, Минотто, зла. Венецианцы обнимались с генуэзцами, обещая доблестно сражаться, стремясь превзойти друг друга в отваге и мужестве. По-моему, сегодня все искренне говорили то, что думали.
Когда мы вышли из храма, было уже темно, но во всех домах мерцали лампы, а главную улицу освещали факелы и фонари – от собора Святой Софии до Влахерн и ворот Харисия. Звонили колокола всех монастырей и храмов, и казалось, что люди отмечают этим вечером большой радостный праздник.
А над огнями города на черном небе сияли яркие звезды.
Возле храма Святых Апостолов мы покинули императорскую процессию. Константин еще раз обнял Джустиниани и попросил у него прощения. Многие греки разошлись по домам, чтобы снять праздничные одежды, поцеловать жен и детей, надеть доспехи и поспешить на стены.
В это время я встретил немца Иоганна Гранта и спрыгнул с коня, чтобы обнять ученого и поблагодарить его за дружбу. Лицо Гранта было черным от пороха. Немец с трудом двигался и непрестанно моргал. Но даже в этот последний вечер его сжигала неутолимая жажда познания. Он показал на двух седых, лысых и беззубых старцев, которые, едва держась на ногах, прошли мимо нас. Их сопровождал юноша в одежде императорского мастера, но с особым красным знаком отличия; я ни разу не видел раньше такого знака.
– Тебе известно кто это? – спросил Грант. Я покачал головой. Он сказал: – Они идут из самого тайного подземелья в арсенале, где изготовляется греческий огонь. Ты заметил, какое желтое лицо у этого парня и как поредели уже его волосы? Старики потеряли все зубы, и вся кожа у бедняг шелушится. Я бы с удовольствием потолковал с ними, но их тщательно охраняют и убивают на месте всякого, кто попытается с ними заговорить.
Запас сырья уже кончился, – продолжал немец. – Последние сосуды с этой адской смесью отнесли на стены и на корабли. Я знаю часть ингредиентов, но не все, и мне неизвестно, как их нужно смешивать. Самое удивительное, что этот огонь сам вспыхивает, как только смесь выплескивается наружу. Но это происходит не под воздействием воздуха, поскольку в сосудах, которыми обстреливают врагов катапульты, есть специальные запалы, поджигающие смесь. В ней должно содержаться много нефти, раз она плывет по воде – и вода ее не гасит. Это пламя можно сбить только песком и уксусом. Венецианские моряки утверждают, что в случае необходимости маленькие капли этой смеси можно залить мочой. Те старцы – последние люди, владеющие этой тайной, которая в течение тысячи лет передается по наследству от отца к сыну. Никому никогда не разрешалось записать ее, и раньше всем, кто работал в подземельях арсенала, отрезали языки. Если турки завтра возьмут город, то стража арсенала получит последний приказ – убить стариков, чтобы они унесли эту тайну с собой в могилу. Потому им и позволили сегодня пойти в храм – впервые за несколько десятилетий.
Грант пожал плечами и вздохнул:
– Много секретов умрет вместе с этим городом… Много бесценных научных познаний… И все это обратится в прах. Иоанн Ангел, нет ничего более омерзительного, чем война. Я говорю это сейчас, после того, как уничтожил девятнадцать турецких подкопов и употребил все свое искусство, чтобы помочь императорским мастерам придумывать механизмы для убийства турок.
– Не будем терять надежды, – пробормотал я, хотя отлично знал: надеяться нам уже не на что.
Немец сплюнул и проговорил с горечью:
– Моя единственная надежда – это место на венецианском корабле, в том случае, если мне в последний момент удастся добраться до порта. Других надежд у меня нет. – Грант тихо рассмеялся, нахмурил почерневший лоб и добавил: – Если бы я был более решительным человеком, то сразу после падения города кинулся бы с мечом в руке в библиотеку, очистил бы ее от рукописей, которые мне хочется иметь, и взял бы их с собой на судно. Но ничего такого я не сделаю, ибо я – немец и воспитан в уважении к закону и порядку. Если бы я был итальянцем, то, может, и сумел бы так поступить, поскольку итальянцы свободнее и разумнее нас, жителей севера. И потому я презираю самого себя.
Я сказал:
– Мне жаль тебя, Иоганн Грант. Твоя сумасшедшая страсть извела тебя. Неужели даже святой молебен не смог сегодня вечером внести успокоения в твою смятенную душу?
– Нет, – ответил немец. – Ничто, кроме познания, не может успокоить моей души. Лишь в науке человек обретает свободу.
А когда мы расставались, Гран обнял меня и проговорил:
– Ты не самонадеян и никому не навязываешь своих взглядов, поэтому я любил тебя, Жан Анж.
Когда мы холодной ночью приблизились к воротам святого Романа, в нос нам ударила жуткая вонь разлагающихся трупов, которую люди, постоянно пребывающие на стене, почти перестали замечать.
Анну Нотар охватила дрожь, но, когда мы спешились, Джустиниани произнес:
– Отдохните, дети мои. Вздремните немного, пока есть время. Часа два, а то и три будет тихо. Я обойду посты – и тоже прилягу. Проведу эту безгрешную ночь один на один со своей чистой совестью. Меня обманули, но по милости Господней, а не по собственному благородству мне самому, слава Богу, не пришлось никого обманывать.
И добавил:
– Позже, когда все займут свои места, чтобы защищать то, что осталось от внешней стены, калитки будут заперты, а ключи переданы императору. Так мы решили. Если все будут знать об этом, никто не поддастся искушению спастись бегством. Люди, обороняющие внешнюю стену, должны либо остановить турок, либо пасть в бою. Потому мы сегодня причастились и проведем ночь в целомудрии.
Анна Нотар спросила:
– А где мое место?
Джустиниани ласково рассмеялся:
– Думаю, тебе придется удовлетвориться большой стеной. Мы на передовой будем слишком заняты, чтобы опекать тебя. Откровенно говоря, ты нам будешь только мешать.
– Иди к Керкопорте, – быстро сказал я. – Там ты будешь среди своих земляков, между братьями Гуаччарди и венецианцами, и в крайнем случае сможешь укрыться во Влахернском дворце. Если погибнешь – значит, на то воля Божья, но не будет грехом, если ты проникнешь на какой-нибудь латинский корабль. Тогда мы будем спокойны за тебя.
Услышав мои слова, Анна стала белее мела и с такой силой вцепилась мне в плечо, что я испугался и спросил:
– Что с тобой? Тебе нехорошо?
Женщина прошептала:
– Почему ты заговорил именно о Керкопорте? Что ты имел в виду?
– Лишь то, что сказал, – ответил я, хоть это была и не вся правда. – Что с тобой случилось?
Она пробормотала слабым голосом:
– Это, наверное, из-за трупного смрада… Я чуть не потеряла сознания. Я – скверный солдат и не хочу вам мешать. Пойду к Керкопорте – и мы больше не будем беспокоиться друг о друге. Но до полуночи мы ведь можем побыть вместе? Прошу тебя!
Я обрадовался, что она так охотно приняла мое предложение: у меня был один план – и я боялся, что мне придется долго уговаривать Анну. Когда начнется штурм, у Керкопорты будет безопаснее всего, – а мне вовсе не хотелось, чтобы Анне пришлось спасаться от быстрых, как молнии, мечей янычаров.
Сейчас она задремала, но как я могу спать, когда в последний раз наслаждаюсь ее близостью? Все это время я писал… Даже сюда долетает издали глухой гул: тысячи турок копошатся в своем лагере, сколачивая штурмовые лестницы и готовя для лучников груды стрел.
Скоро наступит полночь и придет Мануил, чтобы забрать мои бумаги. Я пишу быстро. Недаром два года был писцом при Соборе. Джустиниани уже опустошил свой сундучок и сжег документы, которые не должны попасть в руки турок. Из большой трубы на крыше Влахернского дворца тоже поднимается столб дыма, и обгоревшие клочки бумаги кружатся на ветру. А ветер – северный. Это может означать спасение для сотен латинян.
Более сорока юношей из Перы явилось сегодня к Джустиниани, чтобы сражаться вместе со своими земляками.
Честь не позволила этим молодым людям отсиживаться в безопасной Пере, хоть подеста дал султану запугать себя и объявил, что каждому обитателю Перы, который нарушит нейтралитет, грозит смертная казнь. Он велел запереть городские ворота, но юноши перелезли через береговую стену, а стражники закрыли на это глаза и сделали вид, что не слышат скрипа весел в уключинах лодок.
Этой ночью ни один человек не таит зла на ближнего своего, все грехи прощены, и люди позволяют друг другу поступать гак, как каждому подсказывает совесть. Если кто-то платит бешеные деньги венецианскому капитану за место на корабле, решив спастись бегством, – это его дело. Если кто-то в последний момент ускользнет со стены и спрячется в городе – будет отвечать за это лишь перед самим собой. Дезертиров уже не ловят, так как их немного. Их просто неправдоподобно мало. А сколько калек, стариков и десятилетних мальчишек пришло в течение дня на стены, чтобы умереть за свой город!
Это ночь греков. Я видел их глаза, в которых затаилась многовековая печаль. Над городом плывут скорбные звуки. Колокола звонят по последнему Риму.
Скоро придет Мануил. Он – из тех, кто всегда выживает.
29 мая 1453 года.
Алео хе полис.
Город пал.
Этот крик будет звучать, пока стоит мир. И если через несколько веков мне суждено вновь появиться на свет, слова эти будут наполнять ужасом мое сердце и волосы на моей голове будут шевелиться от страха. Я буду помнить и узнавать эти слова, даже если забуду все остальное и душа моя станет подобна восковой табличке, с которой стерты все прежние письмена.
Алео хе полис.
Но я все еще жив. Значит, так и должно было случиться. Мне предстоит испить до дна и эту последнюю чашу – и увидеть, как на моих глазах погибнет мой город и мой народ. И вот я пишу дальше. Но чтобы правдиво рассказать обо всем, мне нужно обмакнуть перо в кровь и окрасить ею каждую букву. У меня не было недостатка в этих страшных чернилах. Сгустившейся клейкой массой кровь медленно ползет по водостокам. Кровь все еще струится из ран умирающих, разливаясь горячими лужами. На главной улице, возле Ипподрома и вокруг базилики лежит столько трупов, что там невозможно пройти, не наступив на мертвое тело.
Снова ночь. Я сижу в своем доме; его охраняет копье с зеленым флажком. Я залепил себе уши воском, чтобы не слышать детских криков и воплей женщин, попавших в руки насильников, звериного рева грабителей, дерущихся между собой за добычу, – этого жуткого смертельного крика, который стоит, ни на миг не стихая, в моем городе.
Я принуждаю себя сохранять хладнокровие. Пишу, хоть рука моя дрожит. Меня всего трясет. Не от страха. Я не боюсь за себя. Жизнь моя не ценнее песчинки на дороге. Но меня приводят в трепет те страдания и боль, которые извергаются вокруг из тысячи источников в эту ночь чудовищного кошмара.
Я видел юную девушку, оскверненную солдатами с окровавленными руками; на моих глазах она бросилась в колодец. Я видел, как какой-то мерзавец вырвал у молодой матери младенца и, смеясь, нанизал его на копье своего приятеля, а потом повалил женщину на землю. Я видел все, что люди могут сотворить друг с другом. Да, я видел слишком многое.
Вскоре после полуночи те, кто решил отдать жизнь, защищая город, заняли свои места на внешней стене. Потом были заперты все дверцы и калитки в большой стене, а ключи переданы людям, руководившим обороной разных участков. Некоторые воины молились, но большинство прилегло на землю отдохнуть, и многие действительно уснули.
В это время легкие турецкие суда начали приближаться к портовой стене. Большой турецкий флот тоже вышел из Босфора и растянулся вдоль приморской стены от Мраморной башни до самого Неориона и портового заграждения. Таким образом султан атаковал городскую стену по всей длине, сковав наши силы и не позволяя нам перебрасывать солдат на наиболее опасные участки. Турки получили приказ везде идти в настоящее наступление, а не отвлекать нас ложными атаками, как это было до сих пор. И потому даже на палубах кораблей лежали штурмовые лестницы, а на мачтах устроилось множество лучников.
Султан обещал, что тот, кто первым окажется на стене, получит бунчук и станет наместником провинции. Каждому, кто отступит или сложит оружие, грозила страшная казнь. Передовые отряды турок были окружены чаушами.
За три часа до рассвета раздался барабанный бой, пронзительно заиграли дудки и поднялся дикий шум, когда головные отряды турок с громким криком бросились в атаку. Пролом, который мы обороняли у ворот святого Романа, был более чем в тысячу шагов шириной. Первыми султан послал в бой свои вспомогательные отряды, состоявшие из одних кочевников и пастухов, которые собрались со всей Азии, чтобы принять участие в священной войне с неверными. Эти кочевники были вооружены только копьями или мечами и прикрывались лишь узкими деревянными щитами.
Когда нападавшие приблизились к стене, турецкие пищали открыли ураганный огонь. Одновременно на нас со свистом обрушилась туча стрел. Потом разом поднялись сотни штурмовых лестниц; их верхние концы уперлись в земляной вал. Выкрикивая имя Аллаха и молясь, ругаясь и ревя от страха, первые отряды – по тысяче человек в каждом – пошли на штурм. Но лестницы были отброшены, вспыхнул греческий огонь, на людское скопище у подножья вала посыпались стрелы, а из черпаков с длинными ручками хлынула горящая смола и полился расплавленный свинец. Вой и крики были столь оглушительными, что вскоре мы уже не слышали друг друга. Турки наступали по всей длине материковой стены, а их пушки грохотали также в порту и на море.
Кое-кто из атаковавших, получив страшные ожоги и завывая от боли, пытался убежать в безопасное место, но чауши, которые стояли на краю рва, сносили раненым головы мечами и хладнокровно заполняли ров трупами. Скоро у подножья вала громоздились горы мертвых тел, доходя в некоторых местах до половины высоты наших укреплений.
Вслед за нерегулярными отрядами султан послал полки своих вынужденных союзников-христиан и алчущих добычи бандитов, которые собрались в лагерь Мехмеда со всей Европы. Они сражались не на жизнь, а на смерть, и многие из них вскарабкались через несколько минут на стены, но потом скатились вниз, на горы трупов. Было страшно слышать, как эти люди на всех европейских языках взывали к Христу и Пресвятой Деве, – а турки в это время выкрикивали имена Аллаха и пророка. Много раз я оказывался лицом к лицу с людьми, в чьих глазах отражался смертельный ужас, а потом тела их исчезали внизу, в темноте.
Немало закованных в броню генуэзцев было ранено или убито осколками турецких ядер, поскольку обстрел из орудий, установленных за рвом, не прекращался ни на минуту. Туркам было безразлично, что их снаряды попадают не только в нас, но и в султанских солдат. Раненые генуэзцы продолжали сражаться, стоя на коленях на краю вала и не пытаясь отползти в безопасное место, пока атакующие не стаскивали их вниз железными крюками.
Примерно через час Мехмед разрешил выжившим отступить и приказал дать залп из наведенных на нас тяжелых орудий. Чудовищные каменные ядра разбили наши брустверы и смели деревянные ящики и бочки с песком на улочке между стенами. Грохот падающих балок заглушил все вокруг. Еще не осела пыль и не растаяли клубы порохового дыма, как на штурм пошли анатолийские турки.
Это были дикие и ловкие люди; с радостным смехом они лезли друг другу на плечи и гроздьями повисали на стене, стремясь взобраться на гребень. Чаушам не приходилось гнать их вперед: анатолийцы были настоящими турками, у которых война – в крови. Они не просили пощады, а умирали с именем Аллаха на устах. Знали, что над ними парит десять тысяч ангелов ислама и что каждый солдат, погибший за веру, отправляется прямым путем в рай.
Атакующие накатывались сплошными волнами по тысяче человек, завывая и осыпая христиан такими страшными ругательствами и проклятиями, что просто невозможно описать. Но защитники города все еще сдерживали натиск врага. Место павших в наших рядах занимали новые бойцы, и как только казалось, что железная стена начинает прогибаться, на помощь бросался Джустиниани, подбадривая своих людей и рассекая турок надвое огромным мечом. Там, где появлялся этот человек, напор турок ослабевал, и они оттаскивали свои лестницы, приставляя их к валу в других местах.
Когда орды анатолийцев откатились от стен, небо на востоке стало мертвенно-серым. Приближался рассвет. Тело мое было сплошь покрыто синяками и страшно болело, а руки настолько онемели от усталости, что после каждого удара мечом я думал, что не смогу больше поднять оружия. Многие закованные в броню генуэзцы едва переводили дух, и было слышно, как хрипит и булькает у них в легких, когда воины просили воды. Но как только турки начали отступать, в сердцах многих из нас возродилась надежда и какой-то несчастный глупец даже крикнул сдавленным голосом: «Виктория!»
Когда уж можно было отличить черную нитку от белой и ночь истаяла, мы увидели высокие белые войлочные шапки янычар. Отборные воины султана ровными рядами стояли напротив нас за рвом. Они были разделены на тысячи и молча ждали приказа штурмовать стену. Султан Мехмед сам появился перед ними с железным жезлом главнокомандующего в руке. Мы поспешно навели на Мехмеда пищали и дали залп, но в султана не попали. Многие янычары вокруг него рухнули на землю, но вся армия осталась тихой и неподвижной. Из задних рядов выступили новые воины, чтобы занять место павших, и я знал: эти люди гордятся тем, что оказались впереди, на глазах самого султана, в той шеренге, находиться в которой молодые солдаты не могли ни по возрасту, ни по сроку службы. Одетые в зеленые чауши быстро окружили Мехмеда, чтобы заслонить его собственными телами.
Женщины и старики на большой стене использовали эту передышку, чтобы спустить нам на веревках огромные бадьи воды, смешанной с вином. Хотя сама большая стена была так разбита ядрами, что во многих местах казалась не выше внешнего земляного вала, забраться на нее все еще было нелегко.
Все, что произошло потом, я могу описать лишь так, как видел. Может, кто-нибудь другой расскажет об этом иначе: ведь человеческое восприятие на редкость несовершенно. Но я находился совсем рядом с Джустиниани и, по-моему, хорошо видел, что случилось.
Я успел услышать предостерегающий крик и броситься на землю, когда турки снова дали мощный залп из четырех своих больших пушек и всех других огнестрельных орудий. Усилившийся ветер быстро развеял повалившие было клубы угольно-черного дыма. Когда грохот и стоны смолкли, я заметил, что Джустиниани медленно оседает на землю. В его панцире с одной стороны зияла дыра размером с кулак. Броню пробила свинцовая пуля: стреляли сзади и чуть сбоку. В один миг лицо протостратора стало свинцово-серым, жизненная сила угасла, и Джустиниани внезапно превратился в старика, хотя накануне покрасил волосы и бороду. Он выплюнул сгусток крови; кровь струилась и из-под его доспехов.
– Ну вот и все, – прохрипел великан. – Это – конец.
Стоявшие рядом генуэзцы окружили его, чтобы на валу не заметили сразу, что Джустиниани ранец. Глаза солдат горели гневом.
– Пуля прилетела сзади, – прорычал один из воинов.
Двое ринулись ко мне, схватили меня за руки и сдернули с них стальные рукавицы, чтобы проверить, нет ли на моих пальцах следов пороха. Потом генуэзцы подошли к греческому оружейнику, который стоял неподалеку и торопливо заряжал пищаль; солдаты сбили его с ног, оттаскали за бороду и попинали железными башмаками. Все генуэзцы смотрели на большую стену и грозили кулаками.
– Ради Бога, братья, – слабым голосом проговорил Джустиниани. – Сейчас не время для раздоров. Совершенно неважно, откуда прилетела эта пуля. Может, я повернулся, чтобы взглянуть на стену, и меня поразил турецкий свинец. Для меня это уже не имеет никакого значения. Позовите лучше лекаря.
Солдаты принялись хором кричать, чтобы прислали врача, но греки со стены ответили, что никто не может прийти, поскольку все калитки заперты. По-настоящему храбрый человек мог бы легко спуститься на веревке, скользя спиной по стене, но было ясно, что ни один врач не согласится этого сделать, даже ради Джустиниани, поскольку как раз в этот момент зазвучали барабаны янычаров и рожки протрубили сигнал к наступлению.
Бросаться в атаку с именем Аллаха на устах было ниже достоинства этих воинов. Они ринулись вперед молча – и каждый упрямо стремился первым оказаться на валу. Во многих местах им даже не понадобились лестницы. Такие огромные кучи трупов громоздились возле остатков нашей внешней стены. Нападение было столь молниеносным, что лишь несколько защитников города успело напиться воды с вином, хотя все мы умирали от жажды.
Бадьи перевернулись у наших ног, а в следующий миг на гребне вала уже кипел рукопашный бой.
Это была уже не просто расправа с врагами, а настоящая битва, поскольку янычары носили чешуйчатые панцири и кольчуги. Мечи султанских воинов разили с быстротой молнии; неприятель всей массой теснил христиан… Генуэзцам Джустиниани и присланным на помощь грекам пришлось сбиться в группки, чтобы общим весом своих тел противостоять тяжести напиравших янычар.
И тогда на гребне большой стены показался император на белом коне. Лицо василевса сияло, когда он радостно вскричал:
– Держитесь, держитесь – и победа будет за нами!
Если бы он побыл среди нас и ощутил, как немеют от усталости наши руки, то помолчал бы…
Джустиниани поднял свою бычью голову, скрипнул зубами от боли и снова выплюнул кровавый сгусток, страшно выругался и громко потребовал, чтобы император послал кого-нибудь отпереть калитку. Василевс крикнул в ответ, что рана протостратора наверняка неопасна. Крайне нежелательно, чтобы в такой момент Джустиниани покидал своих людей.
Генуэзец рявкнул:
– Чертов вероломный грек! Мне все-таки лучше знать, что со мной. Сбрось ключ – или я заберусь наверх и задушу тебя собственными руками.
Его воины расхохотались, не прекращая боя. Немного поколебавшись, император уступил и кинул большой ключ прямо под ноги Джустиниани. Тот поднял ключ и многозначительно показал его своим ближайшим людям. Буквально в нескольких шагах кипела битва. Мечи со звоном обрушивались на латы. Огромный янычар разил всех вокруг добытым в сражении двуручным мечом, пока закованным в броню генуэзцам не удалось обступить великана и свалить его на колени. У него были такие крепкие доспехи, что латинянам пришлось рубить его по кускам.
Когда первые отряды янычар сомкнутым строем отступили, чтобы отдохнуть, в атаку пошли следующие. Джустиниани подозвал меня и сказал:
– Возьми меня под руку и помоги мне выбраться отсюда. Хороший полководец сражается до последней возможности – но не дольше.
Я подхватил его под руку, а один из ближайших его людей – под другую. Нам удалось увести его с вала и через калитку в большой стене доставить в город. Там мы увидели императора, возбужденного и окруженного советниками. Он был без доспехов – чтобы двигаться свободно. Облачился в пурпурную тунику, а на плечи накинул зеленый плащ, расшитый золотом. Василевс снова принялся умолять Джустиниани, чтобы тот превозмог себя и вернулся к своим солдатам; Константин выразил надежду, что рана протостратора вовсе не опасна. Но Джустиниани не ответил василевсу и даже не взглянул на него. Он с трудом переносил мучительную боль, которую причинял ему каждый шаг.
Император отправился обратно на стену, чтобы наблюдать за ходом сражения и своими советами вдохновлять греков на подвиги. Нам удалось снять с Джустиниани панцирь. Когда он упал на землю, в нем хлюпала кровь.
Джустиниани подал знак своему помощнику и прохрипел:
– Ты отвечаешь за людей. – Тот кивнул и поспешил обратно на вал.
День вступал в свои права.
– Джустиниани, – проговорил я. – Я благодарю тебя за дружбу, но теперь мне нужно возвращаться на стену.
Он махнул рукой, скривился от боли и с трудом ответил:
– Не болтай чепухи. Война проиграна. Ты знаешь это так же хорошо, как и я. Разве может тысяча смертельно усталых людей и дальше сдерживать двенадцать тысяч вооруженных до зубов янычар? Для тебя найдется место на моем корабле. Ты честно купил себе право уехать и сполна заплатил за все.
Потом он несколько минут стонал, закрыв лицо руками, и наконец прошептал:
– Ради Бога, отправляйся на стену, а потом вернись и расскажи мне, что там происходит.
Он хотел лишь избавиться от меня, поскольку к нему стали сбегаться генуэзцы, которые по одному проскальзывали в калитку, едва держась на ногах, залитые кровью с головы до пят. Я поднялся на стену и в лучах рассвета увидел султана Мехмеда над засыпанным до краев рвом. Он размахивал железным жезлом и воодушевлял янычар, которые бежали мимо него на штурм. На всем нашем участке кипело сражение на гребне вала. Генуэзцы сбивались во все более тесную группу, и я то и дело видел, как один хлопал другого по плечу, отправлял в тыл, к калитке в большой стене, а сам занимал освободившееся место. Они выбирались из боя по одному. Я понял, что битва проиграна. Барабаны янычар звучали все громче. Музыка смерти над гибнущим городом…
Вдруг кто-то рядом со мной показал на северо-восток, на Влахерны. Старики и женщины, которые только что заламывали руки и испускали громкие стенания, внезапно умолкли и, не веря собственным; глазам, уставились на холм. Но потрясшая греков картина была вполне реальной. В лучах восходящего солнца на обеих неповрежденных башнях у Керкопорты развевались на ветру кроваво-красные знамена султана.
Этого зрелища я не забуду никогда. В следующий миг его уже увидел весь город, потому что вдоль стены пробежал сначала недоверчивый ропот, а потом, нарастая, прокатился вопль ужаса: «Алео хе полис».
К этому крику присоединился хриплый торжествующий рев турок, рвущийся из тысячи глоток. Несколько минут я ничего не мог понять. Не укладывалось в голове, что лучше всего сохранившаяся часть стены была взята штурмом раньше временных укреплений. Ведь даже внешняя стена перед Керкопортой совершенно не пострадала от обстрелов.
Но там развевались на большой стене полотнища с турецкими полумесяцами. В тот же миг новые отряды атакующих янычар смели в проход между стенами греков и оставшихся генуэзцев. Бежавшие впереди солдаты султана, не останавливаясь, тут же принялись с кошачьей ловкостью взбираться на большую стену. Они цеплялись за каждый камень, хватались за край каждой щели… Женщины и дети, которым страх придал сил, начали сбрасывать на врагов огромные глыбы. Металлический зев над воротами стал в последний раз изрыгать огонь, поскольку можно было больше не бояться, что вспыхнут беспорядочно наваленные снаружи бревна. Один из императорских мастеров с силой отчаяния орудовал рычагами этого огнемета. Но горящая струя вскоре иссякла, и последние капли беспомощно упали на гравий. Греческий огонь кончился.
Все это случилось быстрее, чем можно описать. Я крикнул императору и его свите, что сейчас самое время переходить в контрнаступление. А когда понял, что они меня не слышат, бегом спустился со стены и поспешил к Джустиниани. У меня в ушах, не смолкая, звучал предсмертный вопль города: «Алео хе полис». Казалось, кричат даже камни, потому что стена сотрясалась от топота сотен ног.
Генуэзцы уже помогли Джустиниани сесть на огромного коня и окружили его грозной толпой, сверкавшей обнаженными мечами. Джустиниани привел в Константинополь четыреста закованных в броню воинов и триста арбалетчиков. Теперь их осталась сотня – тех, кто собрался вокруг Джустиниани. Я не мог упрекнуть его в душе за то, что он хотел их спасти.
– Удачи! – крикнул я и помахал рукой. – Желаю тебе быстро поправиться и отнять Лемнос у каталонцев. Ты тысячу раз заслуживаешь этого!
Но по свинцово-серому лицу и полуприкрытым глазам Джустиниани я видел, что солдаты увозят с собой в порт умирающего человека. Он даже не смог повернуть головы, чтобы мне ответить. Его люди поддержали его с обеих сторон, чтобы он не упал с седла. Как только отряд латинян исчез за ближайшим углом, началось повальное бегство со стен. Люди повсюду спрыгивали с укреплений, бросали оружие и, не разбирая дороги, пускались наутек: петляли между домами, ныряли в переулки. Император уже не мог никого остановить.
Хотя Джустиниани увезли, его помощник продолжал держать открытой калитку в большой стене, грозя императорским стражникам мечом и не давая им запереть спасительную дверцу. Этот человек впускал одного за другим спотыкавшихся и чуть не падавших с ног генуэзцев, собирал их в десятки и посылал бегом в порт. Так спаслось еще около сорока солдат. Помощник Джустиниани был безобразным рябым детиной. Он еще нашел время, чтобы плюнуть мне под ноги и крикнуть:
– Чтоб тебе провалиться, проклятый грек!



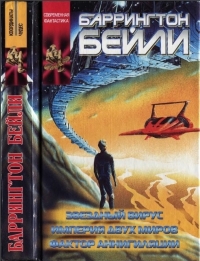
Комментарии к книге «Черный ангел», Максимова
Всего 0 комментариев