Часть первая «Рождение Пищи»
1. Открытие пищи
В середине девятнадцатого века в нашем странном мире стало невиданно расти и множиться число людей той особой категории, по большей части немолодых, которых называют учеными — и очень правильно называют, хоть им это совсем не нравится. Настолько не нравится, что со страниц «Природы» — органа, который с самого начала служит им вечным и неизменным рупором, — слово это тщательно изгоняют как некую непристойность. Но госпожа публика и ее пресса другого мнения, она-то их именует только так, а не иначе, и если кто-либо из них привлечет к себе хоть капельку внимания, мы величаем его «выдающийся ученый», «маститый ученый», «прославленный ученый», а то и еще пышнее.
Безусловно, и мистер Бенсингтон и профессор Редвуд вполне заслужили все эти титулы задолго до своего поразительного открытия, о котором расскажет эта книга. Мистер Бенсингтон был членом Королевского общества, а в прошлом также и президентом Химического общества, профессор же Редвуд читал курс физиологии на Бонд-стрит, в колледже Лондонского университета, и не раз подвергался яростным нападкам антививисекционистов. Оба с юных лет всецело посвятили себя науке.
Разумеется, как и все истинные ученые, с виду оба они были ничем не примечательны. В осанке и манерах любого самого скромного актера куда больше достоинства, чем у всех членов Королевского общества, вместе взятых. Мистер Бенсингтон был невысок, сутуловат и чрезвычайно лыс, носил очки в золотой оправе и суконные башмаки, разрезанные во многих местах из-за бесчисленных мозолей. Наружность профессора Редвуда также была самая заурядная. Пока им не довелось открыть Пищу богов (на этом названии я вынужден настаивать), их жизнь протекала в достойных и безвестных ученых занятиях, и рассказать о ней читателю решительно нечего.
Мистер Бенсингтон завоевал рыцарские шпоры (если можно сказать так о джентльмене, обутом в суконные башмаки с разрезами) своими блестящими исследованиями по части наиболее ядовитых алкалоидов, а профессор Редвуд обессмертил себя… право, не помню, чем именно. Знаю только, что чем-то он себя обессмертил. А слава обычно чем дальше, тем громче. Кажется, славу ему принес обширный труд о мышечных рефлексах, оснащенный множеством таблиц, сфигмографических кривых (если я путаю, пусть меня поправят) и новой превосходной терминологией.
Широкая публика имела об этих джентльменах довольно смутное представление. Изредка в Королевском обществе, в Обществе содействия ремеслам и тому подобных учреждениях ей представлялся случай поглядеть на мистера Бенсингтона или по крайней мере на его румяную лысину, краешек воротничка или сюртука и послушать обрывки лекции или статьи, которую, как ему казалось, он читал вполне внятно; помню, однажды, целую вечность тому назад, когда Британская ассоциация заседала в Дувре, я забрел в какую-то из ее секций — то ли В, то ли С; — расположившуюся в трактире; из чистого любопытства я вслед за двумя серьезными дамами с бумажными свертками под мышкой прошел в дверь с надписью «Бильярдная» и очутился в совершенно неприличной темноте, разрываемой лишь лучом волшебного фонаря, при помощи которого Редвуд показывал свои таблицы.
Я смотрел диапозитив за диапозитивом и слушал голос, принадлежавший по всей вероятности профессору Редвуду — уж не помню, о чем он говорил; кроме того, в темноте слышалось жужжание волшебного фонаря и еще какие-то странные звуки — я никак не мог понять, что это такое, и любопытство не давало мне уйти. А потом неожиданно вспыхнул свет, и тут я понял, что непонятные звуки исходили от жующих ртов, ибо члены научного общества собрались здесь, у волшебного фонаря, чтобы под покровом тьмы жевать сдобные булочки, сандвичи и прочую снедь.
Помню, все время, пока горел свет, Редвуд продолжал что-то говорить и тыкать указкой в то место на экране, где полагалось быть таблице и где мы вновь ее увидели, когда наконец опять стало темно. Помню, он показался мне тогда самой заурядной личностью: смуглая кожа, немного беспокойные движения, вид такой, словно он поглощен какими-то своими мыслями, а доклад сейчас читает просто из чувства долга.
Слышал я однажды в те давно прошедшие времена и Бенсингтона; было это в Блумсбери на конференции учителей. Как большинство выдающихся химиков и ботаников, мистер Бенсингтон весьма авторитетно высказывался по вопросам преподавания, хотя я уверен, что самый обыкновенный класс любой закрытой школы в первые же полчаса запугал бы его до полусмерти; насколько помню, он предлагал усовершенствовать эвристический метод профессора Армстронга, посредством коего, пользуясь приборами и инструментами ценою в триста, а то и четыреста фунтов, совершенно забросив все прочие науки, при безраздельном внимании и помощи на редкость одаренного преподавателя, средний ученик за десять — двенадцать лет более или менее основательно усвоил бы почти столько же знаний по химии, сколько можно было почерпнуть из очень распространенных в ту пору достойных презрения учебников, которым красная цена — шиллинг.
Как видите, во всем, что не касается науки, и Редвуд и Бенсингтон были людьми самыми заурядными. Вот только, пожалуй, сверх меры непрактичными. Но ведь таковы все ученые на свете. Тем, что в них есть подлинно великого, они лишь колют глаза ученым собратьям, для широкой публики оно остается книгой за семью печатями; зато слабости их замечает каждый.
Слабости ученых бесспорны, как ничьи другие, не заметить их невозможно. Живут эти люди замкнуто, в своем узком мирке; научные изыскания требуют от них крайней сосредоточенности и чуть ли не монашеского уединения, а больше их почти ни на что не хватает. Поглядишь, как иной седеющий неуклюжий чудак, маленький человечек, совершивший великие открытия и курам на смех украшенный широченной орденской лентой, робея и важничая, принимает поздравления своих собратьев; почитаешь в «Природе» сетования по поводу «пренебрежения к науке», когда какого-нибудь члена Королевского общества в день юбилея обойдут наградой; послушаешь, как иной неутомимый исследователь мхов и лишайников разбирает по косточкам солидный труд своего столь же неутомимого коллеги, — и поневоле поймешь, до чего мелки и ничтожны люди.
А между тем двое скромных маленьких ученых создали и продолжают создавать нечто изумительное, необычайное, что сулит человечеству в грядущем невообразимое величие и мощь! Они как будто и сами не знают цены тому, что делают.
Давным-давно, когда мистер Бенсингтон, выбирая профессию, решил посвятить свою жизнь алкалоидам и тому подобным веществам, наверно, и перед его внутренним взором мелькнуло видение и его хоть на миг озарило. Ведь если бы не предчувствие, не надежда на славу и положение, каких удостаиваются одни лишь ученые, едва ли хоть кто-нибудь с юности посвятил бы всю свою жизнь подобной работе. Нет, их, конечно, озарило предчувствие славы — и видение это, наверно, оказалось столь ярким, что ослепило их. Блеск ослепил их, на их счастье, чтоб до конца жизни они могли спокойно держать светоч знаний для нас!
Быть может, кое-какие странности Редвуда, который был как бы не от мира сего, объясняются тем, что он (в этом теперь уже нет сомнений) несколько отличался от своих собратьев, он был иным, потому что перед глазами его еще не угасло то давнее ослепительное видение.
«Пища богов» — так называю я субстанцию, которую создали мистер Бенсингтон и профессор Редвуд; и, принимая во внимание плоды, которые она уже принесла и, безусловно, принесет в будущем, название это вполне заслуженно. А потому я и впредь буду так ее называть. Но мистер Бенсингтон в здравом уме и твердой памяти не способен был на столь громкие слова — это было бы все равно, что выйти из дома на Слоун-стрит облаченным в царственный пурпур и с лавровым венком на челе. Слова эти вырвались у него в первую минуту просто от изумления. Он назвал свое детище Пищей богов, обуреваемый восторгом, и длилось это не более часа. А потом он решил, что ведет себя нелепо. Вначале, думая об их общем открытии, он словно воочию увидел необъятные возможности, поистине необъятные, зрелище это изумило и ослепило его, но, как подобает добросовестному ученому, он тотчас зажмурился, чтобы не видеть. После этого название «Пища богов» уже казалось ему крикливым, почти неприличным. Он сам себе удивлялся: как это у него сорвалось с языка подобное выражение!
И, однако, это мимолетное прозрение не прошло бесследно, а вновь и вновь напоминало о себе.
— Право же, — говорил он, потирая руки и нервически посмеиваясь, — это представляет не только теоретический интерес. К примеру, — он доверительно наклонился к профессору Редвуду и понизил голос, — если умело за это взяться, вероятно, ее можно будет даже продавать… продавать именно как продукт питания, — продолжал он, отходя в другой конец комнаты. — Или по крайней мере как элемент питания. При условии, разумеется, что она будет съедобна. А этого мы не знаем, пока не изготовили ее.
Бенсингтон вернулся к камину и остановился на коврике, старательно разглядывая аккуратные разрезы на своих суконных башмаках.
— Как ее назвать? — переспросил он и поднял голову. — Я лично предпочел бы что-нибудь классическое, со значением. Это… это больше подходит научному открытию. Придает, знаете, такое старомодное достоинство. И мне подумалось… Не знаю, может быть, вам это покажется смешно и нелепо… Но ведь иной раз и пофантазировать не грех… Не назвать ли ее Гераклеофорбия? Пища будущих геркулесов? Быть может, и в самом деле… Конечно, если, по-вашему, это не так…
Редвуд задумчиво глядел в огонь и молчал.
— По-вашему, такое название годится?
Редвуд важно кивнул.
— Можно еще назвать Титанофорбия. Пища титанов… Как вам больше нравится?
— А вы уверены, что это не чересчур…
— Уверен.
— Ну вот и прекрасно.
Итак, во время дальнейших исследований они называли свое открытие Гераклеофорбией, так оно именовалось и в их докладе — в докладе, который не был опубликован из-за непредвиденных событий, перевернувших все их планы. Были изготовлены три варианта пищи, и только на четвертый раз удалось создать в точности то, что предсказывали теоретические расчеты; соответственно Бенсингтон и Редвуд говорили о Гераклеофорбии номер один, номер два и номер три. А Пищей богов я буду называть в этой книге Гераклеофорбию номер четыре, ибо решительно настаиваю на том названии, которое сначала дал ей Бенсингтон.
Идея Пищи принадлежала мистеру Бенсингтону. Но подсказала ему эту идею одна из статей профессора Редвуда в «Философских трудах», а потому, прежде чем развивать ее дальше, он посоветовался с автором статьи — и правильно сделал. Притом предстоящие исследования относились не только к химии, но в такой же степени и к физиологии.
Профессор Редвуд принадлежал к числу тех ученых мужей, что жить не могут без кривых и диаграмм. Если вы — читатель того сорта, какой мне по душе, вам, конечно, знакомы научные статьи того сорта, о которых я говорю. Когда их читаешь, ничего понять нельзя, а в конце приложены штук шесть огромных диаграмм; развернешь их — и перед тобою какие-то удивительные зигзаги невиданных молний или непостижимые извивы так называемых «кривых», вырастающих из абсцисс и стремящихся к ординатам, и прочее в том же роде. Подолгу ломаешь себе голову, тщетно пытаясь понять, что же все это означает, а потом начинаешь подозревать, что этого не понимает и сам автор. Но в действительности многие ученые прекрасно понимают смысл своих писаний, да только не умеют выразить свои мысли языком, понятным и для нас, простых смертных.
Мне кажется, профессор Редвуд мыслил именно диаграммами и кривыми. Закончив монументальный труд о мышечных рефлексах (пусть читатель, далекий от науки, потерпит еще немного — и все станет ясно как день), Редвуд принялся выводить кривые и сфигмограммы, относящиеся к росту, и как раз одна из его статей о росте натолкнула мистера Бенсингтона на новую идею.
Редвуд измерял все, что растет: котят, щенят, подсолнухи, грибы, фасоль, и горох, и (пока жена не воспротивилась) собственного сынишку, — и доказал, что рост совершается не равномерно и непрерывно, а скачками.
Ничто не растет постоянно и равномерно, и, насколько он мог установить, постоянный и равномерный рост вообще невозможен: по-видимому, для того, чтобы расти, все живое должно сперва накопить силы; потом оно растет буйно, но недолго, а затем снова наступает перерыв. Туманным, пересыпанным специальными терминами, поистине «научным» языком Редвуд осторожно высказывался в том смысле, что для роста, вероятно, требуется довольно много некоего вещества в крови, а образуется оно очень медленно — и, когда запас его в процессе роста истощается, организм вынужден ждать, чтобы он возобновился. Редвуд сравнил это неизвестное вещество со смазкой в машине. Растущее животное, по его словам, подобно локомотиву, который, пройдя некоторое расстояние, уже не может двигаться дальше без смазки. («Но почему бы не смазать машину извне?» — заметил, прочитав это рассуждение, мистер Бенсингтон.) Весьма вероятно, прибавлял Редвуд с восхитительной непоследовательностью, свойственной всем его беспокойным собратьям, что все это поможет нам пролить свет на не разгаданное доныне значение некоторых желез внутренней секреции. А при чем тут, спрашивается, эти железы?
В следующем своем докладе Редвуд пошел еще дальше. Он устроил целую огромную выставку диаграмм, сильно смахивающих на траекторию летящей ракеты; смысл их — если таковой существовал — сводился к тому, что кровь щенят и котят (а также сок грибов и растений) в так называемые «периоды интенсивного роста» и в периоды роста замедленного различны по своему составу.
Повертев диаграммы и так, и сяк, и даже вверх ногами, мистер Бенсингтон углядел наконец, в чем заключается эта разница, и изумился. Оказалось, понимаете ли, что разница эта, по всей вероятности, обусловлена присутствием того самого вещества, которое он в последнее время пытался выделить, исследуя алкалоиды, особенно благотворно воздействующие на нервную систему. Тут мистер Бенсингтон положил брошюру Редвуда на пюпитр, пристроенный самым неудобным образом к его креслу, снял очки в золотой оправе, подышал на стекла и старательно их протер.
— Вот так штука! — сказал он.
Потом вновь надел очки и повернулся к пюпитру, но едва коснулся его локтем, как тот кокетливо взвизгнул, наклонился — и брошюра со всеми диаграммами полетела на пол.
— Вот так штука! — повторил мистер Бенсингтон, с усилием перегнулся через ручку кресла (он уже привык терпеливо сносить капризы этого новомодного приспособления), убедился, что до рассыпанных диаграмм ему все равно не дотянуться, — и, опустившись на четвереньки, принялся их подбирать. Вот тут-то, на полу, его и осенила мысль назвать свое детище Пищей богов…
Ведь если и он и Редвуд правы, то, впрыскивая или подбавляя в пищу открытое им вещество, можно покончить с перерывами и передышками, и вместо того, чтобы совершаться скачками, процесс роста (надеюсь, вы улавливаете мою мысль) пойдет непрерывно.
В ночь после разговора с Редвудом мистер Бенсингтон никак не мог уснуть. Лишь раз он ненадолго задремал, и тут ему привиделось, будто он выкопал в земле глубокую яму и тонну за тонной сыплет туда Пищу богов — и шар земной разбухает, раздувается, границы государств лопаются, и все члены Королевского географического общества, точно труженики огромной портновской мастерской, поспешно распарывают экватор…
Сон, конечно, нелепый, но он куда яснее, чем все слова и поступки мистера Бенсингтона в трезвые часы бодрствования, показывает, сколь взволнован был сей джентльмен и какое значение придавал он своему открытию. Иначе я не стал бы об этом упоминать, ведь, как правило, чужие сны никого не интересуют.
По странному совпадению в ту ночь Редвуду тоже приснился сон. Ему привиделась диаграмма, начертанная огнем на бесконечном свитке вселенских просторов. А он, Редвуд, стоит на некоей планете перед каким-то черным помостом и читает лекцию о новых, открывающихся ныне возможностях роста, и слушает его Сверхкоролевское общество изначальных сил — тех самых, под воздействием которых до сих пор рост всего сущего (вплоть до народов, империй, небесных тел и планетных систем) шел неровными скачками, а в иных случаях даже и с регрессом.
И он, Редвуд, наглядно и убедительно объясняет им, что эти медлительные способы роста, подчас приводящие даже к спаду и угасанию, очень скоро выйдут из моды по милости его открытия.
Сон, конечно, нелепый! Но и он также показывает…
Я вовсе не хочу сказать, будто эти сны следует считать в какой-либо мере пророческими, или приписывать им какое-то значение, помимо того, о котором я уже упомянул и на котором решительно настаиваю.
2. Опытная ферма
Сначала мистер Бенсингтон предложил, как только удастся изготовить первую порцию Пищи, испробовать ее на головастиках. Научные опыты всегда проделываются над головастиками, ведь головастики для того и существуют на свете. Уговорились, что опыты будет проводить именно Бенсингтон, так как лабораторию Редвуда загромождали в то время баллистический аппарат и подопытные телята, на которых Редвуд изучал частоту бодательных движений теленка и ее суточные колебания; результаты исследований выражались в самых фантастических и неожиданных кривых; пока не закончился этот опыт, присутствие в лаборатории хрупких стеклянных сосудов с головастиками было бы крайне нежелательно.
Но когда мистер Бенсингтон частично посвятил в свои планы кузину Джейн, она тотчас наложила на них вето, заявив, что не позволит плодить в доме головастиков и прочую подопытную тварь. Она не против, пусть он в дальней каморке занимается своей химией (хоть это — занятие пустое и никчемное), лишь бы там ничего не взрывалось; она даже позволила ему поставить там газовую печь, раковину и герметически закрывающийся шкаф — убежище от бурь еженедельной уборки, которую она отменять не собиралась. Пусть уж он старается отличиться в своих ученых делах, ведь есть на свете грехи куда более тяжкие: к примеру, мало ли мужчин, одержимых страстью к выпивке! Но чтобы он развел тут всякую ползучую живность или резал ее и портил воздух — нет, этого она не допустит. Это вредно для здоровья, а он, как известно, здоровьем слаб, и пускай не спорит, она эти глупости и слушать не станет. Бенсингтон пытался объяснить ей, сколь огромно его открытие и какую пользу оно может принести, но безуспешно. Все это прекрасно, отвечала кузина Джейн, но нечего устраивать в доме грязь и беспорядок — ведь без этого не обойдется, а тогда он сам же первый будет недоволен.
Позабыв о своих мозолях, мистер Бенсингтон шагал из угла в угол и решительно, даже гневно внушал кузине Джейн, что она неправа, но все было напрасно. Ничто не должно становиться на пути Науки, говорил он, а кузина Джейн отвечала, что наука наукой, а головастикам в доме не место. В Германии, говорил он, человеку, сделавшему такое открытие, тотчас предоставили бы просторную, на двадцать тысяч кубических футов, идеально оборудованную лабораторию. А она отвечала: «Я, слава тебе господи, не немка». Эти опыты принесут ему неувядаемую славу, говорил он, а она отвечала, что если их и без того тесная квартирка будет полна головастиков, так он последнее свое здоровье погубит. «В конце концов я хозяин в своем доме», — заявил Бенсингтон, а она отвечала, что лучше пойдет экономкой в какой-нибудь школьный пансионат, но с головастиками нянчиться не станет; потом он попробовал воззвать к благоразумию кузины, а она попросила его самого быть благоразумным и отказаться от дурацкой затеи с головастиками; должна же она уважать его идеи, сказал Бенсингтон, но она возразила, что не станет уважать идеи, от которых пойдет вонь по всему дому; тут Бенсингтон не стерпел и (наперекор известным высказываниям Хаксли по этому поводу) выбранился. Не то чтобы уж очень грубо, но все же выбранился.
Разумеется, кузина Джейн была чрезвычайно оскорблена, и ему пришлось извиняться, и всякая надежда испробовать открытие на головастиках — по крайней мере у себя дома — развеялась как дым.
Итак, надо было искать другой выход, ведь как только удастся изготовить Пищу, нужно будет кого-то ею кормить, чтобы продемонстрировать ее действие. Несколько дней Бенсингтон раздумывал, не отдать ли головастиков на попечение какому-нибудь надежному человеку, а потом случайная заметка в газете навела его на мысль об опытной ферме.
И о цыплятах. С первой же минуты он решил разводить на ферме цыплят. Ему вдруг представились цыплята, вырастающие до сказочных размеров. Мысленно он уже видел курятники и загоны — огромные курятники и птичьи дворы, которые день ото дня становятся все больше. Цыплята так доступны, их куда легче кормить и наблюдать, с ними легче управляться при измерениях и исследованиях, они сухие, не надо мочить руки… по сравнению с ними головастики — существа дикие и неподатливые, совсем не подходящие для его опытов! Непостижимо, как это он с самого начала не подумал о цыплятах! Помимо всего прочего, тогда не пришлось бы ссориться с кузиной Джейн. Он поделился своими соображениями с Редвудом, и тот вполне с ним согласился.
Очень неправильно поступают физиологи, проделывая свои опыты над слишком мелкими животными, сказал Редвуд. Это все равно, что ставить химические опыты с недостаточным количеством вещества: получается непомерно много ошибок, неточностей и просчетов. Сейчас ученым весьма важно отстоять свое право проводить опыты на крупном материале. Вот почему и он у себя в колледже ставит опыты на телятах, невзирая на то, что они порой ведут себя легкомысленно и при встрече в коридорах несколько стесняют студентов и преподавателей других предметов. Зато кривые получаются необычайно интересные, и, когда они будут опубликованы, все убедятся, что его выбор правилен. Нет, если бы не скудость средств, ассигнуемых в Англии на нужды науки, он, Редвуд, не стал бы размениваться на мелочи и пользовался бы для своих исследований одними китами. Но, к сожалению, в настоящее время, по крайней мере у нас в Англии, нет настолько крупных общественных вивариев, чтобы получить необходимый материал, это несбыточная мечта. Вот в Германии — другое дело… и так далее в том же духе.
Поскольку телята требовали от Редвуда неусыпного внимания, заботы о выборе и устройстве опытной фермы легли на Бенсингтона. Условились, что и все расходы он возьмет на себя — по крайней мере до тех пор, пока не удастся получить государственную субсидию. И вот, урывая время от трудов в своей домашней лаборатории, он разъезжает по южным пригородам Лондона в поисках подходящей фермы, и его внимательные глаза за стеклами очков, простодушная лысина и изрезанные башмаки пробуждают напрасные надежды в многочисленных владельцах дрянных и запущенных ферм. Кроме того, он поместил в «Природе» и нескольких ежедневных газетах объявление о том, что требуется достойная доверия супружеская чета, добросовестная и энергичная, для управления опытной фермой размером в три акра.
Место, показавшееся ему подходящим, нашлось в Хиклибрау (графство Кент), неподалеку от Аршота. Это был странный глухой уголок в лощине, которую со всех сторон обступали старые сосны, мрачные и неприветливые в вечерних сумерках. Горбатый холм отгораживал лощину с запада, заслоняя солнечный свет; жилой домишко казался еще меньше оттого, что рядом торчал несуразный колодец под покосившимся навесом. Домишко был гол, не принаряжен хотя бы веточкой плюща или жимолости; половина окон выбита; в сарае средь бела дня было темно, хоть глаз выколи. Стояла ферма на отшибе, в полутора милях от деревни Хиклибрау, и тишину здесь нарушало разве только многоголосое эхо, но от этого лишь острее чувствовалось запустение и одиночество.
Бенсингтон вообразил, что все это необыкновенно легко и удобно приспособить для научных изысканий. Он обошел участок, взмахами руки намечая, где именно разместятся курятники и где загоны, а кухня, по его мнению, почти без переделки могла вместить достаточно инкубаторов и брудеров. И он тут же купил участок; на обратном пути он заехал в Дантон Грин, договорился с подходящей четой, отозвавшейся на его объявление, и в тот же вечер ему удалось изготовить такую порцию Гераклеофорбии, что она вполне оправдывала все его решительные действия.
Подходящая чета, которой суждено было под руководством мистера Бенсингтона впервые на Земле кормить алчущих Пищей богов, оказалась не только весьма пожилой, но и на редкость неряшливой. Этого последнего обстоятельства мистер Бенсингтон не заметил, ибо ничто не сказывается так пагубно на житейской наблюдательности, как жизнь, посвященная научным опытам. Фамилия избранной четы была Скилетт; Бенсингтон посетил мистера и миссис Скилетт в их тесной комнатушке, где окна были закупорены наглухо, над камином висело пятнистое зеркало, а на подоконниках торчали горшки с чахлой кальцеолярией.
Миссис Скилетт оказалась крохотной высохшей старушенцией; чепца она не носила, седые, давным-давно не мытые волосы скручивала узелком на затылке; самой выдающейся частью ее лица всегда был нос, теперь же, когда зубы у нее выпали, рот ввалился, а щеки увяли и сморщились, от всего лица только один нос и остался. На ней было темно-серое платье (если вообще можно определить цвет этого платья), на котором выделялась заплата из красной фланели. Миссис Скилетт впустила гостя в дом и сказала, что мистер Скилетт сейчас выйдет, только приведет себя в порядок; на вопросы она отвечала односложно, опасливо косясь на Бенсингтона маленькими глазками из-за огромного носа. Единственный уцелевший зуб не слишком способствовал внятности ее речей; она беспокойно сжимала на коленях длинные морщинистые руки. Она сказала мистеру Бенсингтону, что долгие годы ходила за домашней птицей и отлично разбирается в инкубаторах; у них с мужем одно время была даже своя ферма, только под конец им не повезло, потому что мало осталось молодняка. «Выгода-то вся от молодняка», — пояснила она.
Потом появился и мистер Скилетт; он сильно шамкал и косил так, что один его глаз устремлялся куда-то поверх головы собеседника; домашние туфли его были разрезаны во многих местах, что сразу вызвало сочувствие мистера Бенсингтона, а в одежде явно не хватало пуговиц. Рубаха и куртка разъезжались на груди, и мистер Скилетт придерживал их одной рукой, а указательным пальцем другой обводил золотые узоры на черной вышитой скатерти; глаз же, не занятый скатертью, печально и отрешенно следил за неким дамокловым мечом над головою мистера Бенсингтона.
— Штало быть, ферма вам нужна не для выгоды, шэр. Так, так, шэр. Это нам вше едино. Опыты. Понимаю, шэр.
Он сказал, что переехать они с женой могут немедленно. В Дантон Грине он ничем особенно не занят, так, портняжит помаленьку.
— Я-то думал, тут можно заработать, шэр, а это шамое наштоящее захолуштье. Так что, ежели вам угодно, мы шразу и переберемшя…
Через неделю мистер и миссис Скилетт уже расположились на новой ферме, и плотник, нанятый в Хиклибрау, мастерил курятники и разгораживал участки под загоны, а попутно перемывались косточки мистера Бенсингтона.
— Я покуда мало имел ш ним дела, — говорил мистер Скилетт, — а только, шдаетшя мне, он дурак набитый.
— А по-моему, просто у него не все дома, — возразил плотник.
— Воображает шебя куриным знатоком, — сказал мистер Скилетт. — Его пошлушать, так выходит, кроме него, никто в птице ничего не шмышлит.
— Он сам на курицу смахивает, — сказал плотник. — Как поглядит сбоку через очки — ну чистая курица.
Мистер Скилетт придвинулся поближе, печальным оком своим он уставился вдаль, на деревню Хиклибрау, а в другом глазу зажегся недобрый огонек.
— Велит каждый божий день их измерять, — таинственно шепнул он плотнику. — Каждый день измерять каждого цыпленка — где это шлыхано? Надо, говорит, шледить, как они раштут. Каждый божий день измерять — шлыхали вы такое?
Мистер Скилетт деликатно прикрыл рот ладонью и захохотал, так и согнулся в три погибели от смеха, только одно его скорбное око не участвовало в этом приступе веселья. Потом, не вполне уверенный, что плотник до конца понял, в чем тут соль, повторил свистящим шепотом:
— Из-ме-рять!
— Да, этот, видно, еще почуднее нашего прежнего хозяина, — сказал плотник из Хиклибрау. — Вот лопни мои глаза!
Научные опыты — самое скучное и утомительное занятие на свете (если не считать отчетов о них в «Философских трудах»), и мистеру Бенсингтону казалось, что прошла целая вечность, пока его первые мечты о грандиозных открывающихся возможностях сменились первыми крупицами осязаемых достижений. Опытную ферму он завел в октябре, но проблески успеха стали заметны только в мае. Сначала были испробованы Гераклеофорбия номер один, номер два и номер три — и все неудачно. На опытной ферме приходилось постоянно воевать с крысами, воевать приходилось и со Скилеттами. Был только один способ добиться, чтоб Скилетт делал то, что ему ведено: уволить его. Услыхав, что ему дают расчет, Скилетт тер ладонью небритый подбородок (странным образом, хоть он вечно был небрит, у него никак не отрастала настоящая борода) и, уставясь одним глазом на мистера Бенсингтона, а другим поверх его головы, изрекал:
— Шлушаю, шэр. Конечно, раз вы это шерьезно…
Но наконец забрезжил успех. Вестником его явилось письмо от Скилетта — листок, исписанный дрожащими кривыми буквами.
«Есть новый выводок, — писал Скилетт. — Что-то вид этих цыплят мне не нравится. Больно они долговязые, совсем не как прежние, которые были до ваших последних распоряжений. Те были ладные, упитанные, покуда их кошка не сожрала, а эти растут, что твой бурьян. Сроду таких не видал. И шибко клюются, достают выше башмаков, толком не дают измерять, как вы велели. Настоящие великаны и едят бог знает сколько. Никакого зерна не хватает, уж больно они прожорливые. Они уже покрупнее взрослых бентамов. Если дальше так пойдет, можно их и на выставку послать, хоть они и долговязые. Плимутроков в них не узнать. Вчера ночью я напугался, думал, на них напала кошка: поглядел в окно — и вот, лопни мои глаза, она нырнула к ним под проволоку. Выхожу, а цыплята все проснулись и что-то клюют да так жадно, а кошки никакой не видать. Подбросил им зерна и запер покрепче. Какие будут ваши распоряжения, надо ли корм давать прежним манером? Который вы тогда смешали, уже, почитай, весь вышел, а самому мне смешивать неохота, потому как тогда получилась неприятность с пудингом. Мы с женой желаем вам доброго здоровья и надеемся на вашу неизменную милость.
С уважением — Элфред Ньютон Скилетт».
В заключительных строках Скилетт намекал на происшествие с молочным пудингом, в который попало немного Гераклеофорбии номер два, что весьма болезненно отозвалось на Скилеттах и едва не привело к самым роковым последствиям.
Но мистер Бенсингтон, читая между строк, понял по описанию необыкновенного роста цыплят, что заветная цель близка. На другое же утро он сошел с поезда на станции Аршот, неся в саквояже в трех запечатанных жестянках запас Пищи богов, которого хватило бы на всех цыплят графства Кент.
Стоял конец мая, утро было ясное, солнечное, даже мозоли почти не давали себя знать — и мистер Бенсингтон решил пройтись пешком через Хиклибрау. Всего до фермы было три с половиной мили — парком, потом деревней, а потом зелеными просеками Хиклибрауского заповедника. Поздняя весна сплошь осыпала деревья зелеными блестками, весело цвели кусты живых изгородей и целые чащи голубых гиацинтов и лиловых орхидей; и ни на минуту не смолкал разноголосый птичий гомон: заливались черные и певчие дрозды, малиновки, зяблики и всякие другие птахи, а в одном уголке парка, на пригреве, уже разворачивал свои завитки папоротник и весело прыгали лани.
От всего этого в душе мистера Бенсингтона встрепенулось давно позабытое ощущение — радость бытия; будущее его великолепного открытия представало в самом радужном свете, и вообще казалось, что настал счастливейший день его жизни. А потом он увидел залитую солнцем полянку возле песчаной насыпи, осененной ветвями сосен, увидел цыплят, вскормленных приготовленной им смесью, — огромных, нескладных, ростом уже перегнавших любую почтенную семейную курицу и, однако, все еще растущих, еще покрытых младенческим желтым пухом (только на спине виднелись первые коричневые перышки), — и понял, что этот его счастливейший день и вправду настал.
Мистер Скилетт затащил его в загон, но цыплята тут же больно клюнули его раза два сквозь разрезы в башмаках, и он поспешно отступил и стал разглядывать чудо-птенцов сквозь проволочную сетку. Он близоруко припал к ней лицом и смотрел за каждым их движением так, словно отродясь не видывал живого цыпленка.
— Ума не приложу, какие нее они выраштут, — сказал мистер Скилетт.
— С лошадь, — сказал мистер Бенсингтон.
— Да, видно, вроде того, — отозвался мистер Скилетт.
— Одним крылышком смогут пообедать несколько человек, — сказал мистер Бенсингтон. — Их придется рубить на части, как говядину.
— Ну, они же шкоро перештанут рашти, — сказал мистер Скилетт.
— Разве?
— Яшно, — сказал мистер Скилетт. — Знаю я эту породу. Шперва тянутшя, как дурная трава, а потом перештают. Яшное дело.
Оба помолчали.
— Вот что значит хороший уход, — скромно заметил мистер Скилетт.
Мистер Бенсингтон сверкнул на него очками.
— Мы ш моей хозяйкой и раньше таких выращивали, — продолжал мистер Скилетт, несколько увлекшись, и, словно призывая небеса в свидетели, закатил здоровый глаз. — Разве, может, шамую капельку поменьше.
Мистер Бенсингтон, по обыкновению, обошел всю ферму, но нигде не задерживался и поспешил вернуться к новому выводку. По правде говоря, он и надеяться не смел на подобный успех. Наука развивается так медленно, и пути ее так извилисты; вот выношена блестящая идея, но, пока она воплотится в жизнь, почти всегда тратишь долгие годы труда и изобретательности, а тут… тут не ушло и года на испытания — и вот она создана, настоящая Пища богов! Замечательно, даже не верится! Ему больше не надо питаться одними лишь смутными надеждами — неизменной опорой ученого воображения! По крайней мере так казалось Бенсингтону в тот час. Он вернулся к проволочной сетке и снова и снова во все глаза глядел на свое поразительное создание — на цыплят-великанов.
— Дайте-ка сообразить, — сказал он. — Им десять дней. А ведь они, если не ошибаюсь, раз в шесть-семь больше обыкновенных цыплят…
— Шамое время нам прошить прибавки, — сказал жене мистер Скилетт. — Видишь, он рад до шмерти! Больно мы ему угодили тем выводком, что в дальнем загоне.
Он наклонился к самому уху миссис Скилетт, заслоняя рот ладонью.
— Думает, это они от его дурацкого порошка так вырошли.
И мистер Скилетт хмыкнул, подавляя смешок.
Поистине, в этот день мистер Бенсингтон чувствовал себя именинником. И ему вовсе не хотелось придираться к мелочам. Правда, при свете этого солнечного дня, как никогда, бросалось в глаза, что Скилетты — неряхи и хозяйничают спустя рукава. Но он ни разу не повысил голос. В изгородях загонов кое-где оказались дыры и прорехи, но он удовольствовался объяснением Скилетта, что тут виноваты «лиша или шобака, а может, еще какой зверь». Потом мистер Бенсингтон заметил, что инкубатор давно не чищен.
— Ваша правда, сэр, — со смиренной улыбочкой, скрестив руки на груди, ответила миссис Скилетт. — Только когда ж нам их чистить? Поверите, за все время минутки свободной не было…
Скилетт жаловался, что их одолевают крысы, надо ставить капканы, и мистер Бенсингтон поднялся на чердак; норы и впрямь оказались громадные, и вокруг — грязь и мерзость запустения, а ведь здесь хранили и смешивали с мукой и отрубями Пищу богов! Скилетты принадлежали к той породе людей, что никак не могут расстаться с битой посудой, со старыми пустыми коробками, банками и склянками, — весь чердак был завален этим хламом. В углу медленно гнила сваленная Скилеттом на хранение куча яблок; с гвоздя, вбитого в скошенный потолок, свисало несколько кроличьих шкурок, на которых Скилетт собирался испробовать свои скорняжные таланты («по чашти мехов я первый знаток», — сообщил он).
Глядя на этот хаос, мистер Бенсингтон неодобрительно морщился, но шум поднимать не стал и даже при виде осы, которая лакомилась из аптечной фарфоровой баночки Гераклеофорбией номер четыре, только заметил кротко, что не следует держать этот порошок открытым, не то он отсыреет.
А потом, забыв обо всех этих досадных мелочах, он сказал Скилетту то, что все время было у него на уме:
— Знаете, Скилетт… надо бы зарезать одного из тех цыплят… как образец. Давайте сегодня же и зарежем, и я его захвачу с собой в Лондон.
Он притворился, будто разглядывает что-то в другой аптечной баночке, потом снял очки и тщательно протер.
— Мне бы хотелось, — продолжал он, — очень бы хотелось сохранить что-нибудь на память… такой, знаете, сувенир о сегодняшнем дне… и об этом именно выводке… А кстати, вы не давали этим цыплятам мяса? — спросил он вдруг.
— Что вы, шэр! — обиделся Скилетт. — Не первый день за птицей ходим, видали кур вшякой породы, ш чего бы это нам делать такие глупошти.
— А остатки от своего обеда вы им не бросали? Мне, знаете, показалось, что там в дальнем углу валяются кости кролика…
Они пошли посмотреть и увидели дочиста обглоданный скелет, но не кролика, а кошки.
— Никакой это не цыпленок, — сказала мистеру Бенсингтону кузина Джейн. — Что же, по-вашему, я никогда в жизни цыплят не видела? — Кузина Джейн начинала горячиться. — Во-первых, он слишком большой, а во-вторых, сразу видно, что это не цыпленок. Это больше похоже на дрофу.
— Что до меня, — нехотя сказал Редвуд, поняв по лицу Бенсингтона, что отмолчаться не удастся, — судя по всем данным, я, признаться…
— Ну, конечно… — сказала кузина Джейн. — Умные люди верят собственным глазам, а вы тут с какими-то данными…
— Но позвольте, мисс Бенсингтон!..
— А, да что вас слушать! — сказала кузина Джейн. — Все вы, мужчины, одинаковы.
— Судя по всем данным, эту птицу, безусловно, следует отнести к разряду… без сомнения, она ненормально гипертрофирована, однако же… тем более, что она вывелась из обыкновенного куриного яйца… Да, мисс Бенсингтон, я вынужден признать, что… что иначе, как цыпленком, эту птицу не назовешь.
— Так что же, по-вашему, это цыпленок?
— Думаю, что да, — сказал мистер Редвуд.
— Какая чепуха! — воскликнула кузина Джейн и смерила его гневным взглядом. — Всякое терпение с вами лопается!
Она круто повернулась и вышла из комнаты, хлопнув дверью.
— И, должен сказать, для меня большое облегчение, что он остался просто цыпленком, хоть и очень большим, — сказал Редвуд, когда смолкло эхо захлопнувшейся двери.
Не дожидаясь приглашения мистера Бенсингтона, он уселся в низкое кресло перед камином и признался в поступке весьма опрометчивом даже для человека, далекого от науки.
— Вы, конечно, упрекнете меня в легкомысленной поспешности, Бенсингтон, — сказал он, — но… но неделю тому назад я положил немного Гераклеофорбии… совсем немножко, правда… в бутылочку моему малышу.
— Как! — воскликнул мистер Бенсингтон. — А вдруг бы…
— Да, я знаю, — сказал Редвуд и покосился на огромного цыпленка на столе. — Слава богу, все обошлось, — прибавил он и полез в карман за сигаретами. Потом отрывисто стал рассказывать подробности. — Бедный малыш совсем не прибавлялся в весе… я так беспокоился… Уинклс не врач, а жулик… бывший мой ученик, но такой проныра… Моя жена верит в него, как в господа бога. Бывают, знаете, такие… величественные… важности хоть отбавляй… Ну, а мне в доме никакой веры… И ведь это я его учил… меня даже в детскую не пускают… Не могу же я сидеть сложа руки… Прошмыгнул туда, пока няня завтракала… и подсыпал в бутылочку.
— Но теперь он будет расти, — сказал Бенсингтон.
— Уже растет. За неделю прибавил двадцать семь унций… Вы бы послушали Уинклса! Хвастает, что это все от хорошего ухода.
— Ну, еще бы! Совсем как Скилетт!
Редвуд опять покосился на цыпленка.
— Теперь задача, как его дальше подкармливать. Меня одного в детскую не пускают… помните, еще с тех пор, как я пытался вывести кривую роста Джорджины Филис… Уж не знаю, как я ему дам вторую порцию…
— А надо ли?
— Он уже два дня криком кричит… Ему теперь не хватает обычной еды. Нужно добавлять Пищи.
— А вы скажите Уинклсу.
— К черту Уинклса! — сказал Редвуд.
— Столкуйтесь с ним, и пусть даст ребенку порошок…
— Да, видно, придется, — сказал Редвуд и, подперев кулаком подбородок, уставился на огонь.
Бенсингтон стоял у стола, поглаживая пушок на боку цыпленка-великана.
— Огромные вырастут птицы, — сказал он.
— Да, — отозвался Редвуд, не сводя глаз с пламени.
— Наверно, с лошадь, — продолжал Бенсингтон.
— Больше, — сказал Редвуд. — В том-то и загвоздка.
Бенсингтон повернулся к нему.
— Редвуд, — сказал он, — а ведь эти птицы поразят весь мир.
Редвуд кивнул, по-прежнему глядя в огонь.
— И ваш мальчик тоже! Вот честное слово! — выпалил Бенсингтон, блеснув очками, и шагнул к Редвуду.
— Об этом я и думаю, — сказал Редвуд.
Он со вздохом выпрямился в кресле, швырнул недокуренную сигарету в камин и глубоко засунул руки в карманы.
— Именно об этом я сейчас и думал. Надо будет обращаться с Гераклеофорбией поосторожнее. Этот цыпленок, видно, рос уж с такой быстротой…
— Если мальчик станет расти в таком темпе… — медленно произнес мистер Бенсингтон и уставился на цыпленка. — Да, знаете ли! Это будет настоящий великан!
— Я буду постепенно уменьшать дозы, — сказал Редвуд. — Придется действовать через Уинклса.
— Смелый эксперимент, что и говорить.
— Да.
— Но, знаете, уж если быть откровенным… Рано или поздно ведь пришлось бы испробовать это хоть на одном ребенке.
— Ну, на одном-то ребенке мы это, безусловно, испробуем.
— Вот именно, — сказал Бенсингтон, подошел к камину и, сняв очки, снова принялся их протирать.
— Мне кажется, Редвуд, пока я не увидал этих цыплят, я даже отдаленно не представлял себе, что мы, в сущности, делаем… какие тут открываются возможности. Только сейчас передо мною начинают вырисовываться… возможные последствия…
А между тем, поверьте, даже и в этот час мистер Бенсингтон имел весьма смутное понятие о том, какую бочку с порохом взорвет брошенная им искра.
Было это в начале июня. Потом несколько недель Бенсингтону мешал съездить на опытную ферму воображаемый жестокий бронхит, и вместо него пришлось там побывать Редвуду. Возвратился он еще больше прежнего озабоченный судьбою сына. Растут, непрерывно растут… уже целых семь недель…
А затем на сцене появились осы.
Первая гигантская оса была убита в конце июля, примерно за неделю до того, как куры сбежали из Хиклибрау. Сообщение об этом промелькнуло в нескольких газетах, но я не уверен, что оно попалось на глаза мистеру Бенсингтону, и уж наверно он не подумал, что появление огромного насекомого как-то связано с неряшеством, царившим на его опытной ферме.
Теперь уже не приходится сомневаться, что, пока Скилетт потчевал цыплят мистера Бенсингтона Пищей богов, множество ос так же усердно, а может быть, и еще усерднее таскали ту же снедь своему потомству, выведенному в начале лета среди песчаных холмов, за хвойным лесом, окружавшим ферму. И, бесспорно, на таком питании осиное потомство росло и процветало ничуть не хуже Бенсингтоновых кур. В соответствии со своей природой осы становятся вполне взрослыми быстрее, чем домашняя птица, — и вот из всех живых тварей, которые по милости неряхи Скилетта и его достойной супруги воспользовались благами, предназначенными для кур, осы первыми вошли в историю.
По дошедшим до нас сведениям, первым, кто повстречался с чудовищной осой и кому удалось ее убить, был некто Годфри, лесничий в поместье подполковника Руперта Хика, близ Мейдстона. По колено в зарослях папоротника он переходил полянку в буковой роще — одном из живописных уголков в лесах подполковника Хика; у него было с собой ружье — по счастью, двустволка. И вдруг впереди показалось неведомое чудище — Годфри не мог толком его разглядеть, так как оно летело против солнца, но гудело оно «что твой мотор». По собственному признанию, Годфри порядком струхнул. Чудище было величиной с сову, а то и побольше, но опытный глаз лесничего тотчас заметил, что летит оно как-то странно, не по-птичьи быстро машет крыльями, так что их и не разглядишь. Движимый, как я подозреваю, в равной мере инстинктом самозащиты и давней привычкой, Годфри мигом сорвал с плеча двустволку и выстрелил.
Вероятно, оттого, что мишень была уж очень необычная, он промахнулся: лишь небольшая часть заряда попала в цель; чудище упало было с яростным жужжанием, по которому безошибочно узнаешь осу, но сразу опять взлетело, желтые и черные полосы заблестели в солнечных лучах. И сейчас же оса бросилась на Годфри. С двадцати ярдов он выстрелил из второго ствола, отшвырнул ружье, пробежал несколько шагов и нырнул в густой папоротник, стараясь увернуться от врага.
Оса пролетела в каком-нибудь ярде над ним, ударилась оземь, снова взлетела и, снова упав уже ярдах в тридцати от него, стала корчиться в агонии, извиваясь и пронзая воздух своим жалом. Годфри подобрал ружье, всадил в издыхающую осу еще два заряда и только после этого решился подойти близко.
Потом он измерил мертвую осу: размах крыльев достигал двадцати семи с половиной дюймов, длина жала — трех дюймов. Дробь изуродовала туловище и разорвала брюшко, но Годфри прикинул, что от головы до жала было восемнадцать дюймов, и почти не ошибся. Глаз осы оказался величиной с монету в один пенни.
Таковы первые достоверные сведения о появлении гигантских ос. На следующий день велосипедист, который без педалей катил с холма между Семью дубами и Тонбриджем, едва не наехал на другую осу-великана, она переползала дорогу. Шорох шин, видно, встревожил ее, и она взлетела, гудя, точно механическая пила. Руль в руках перепуганного седока дрогнул, велосипед вильнул и съехал на обочину, а когда седок, осмелев, оглянулся, оса летела над лесом в сторону Уэстерхема.
Велосипедист еще немного проехал, с трудом удерживаясь в седле, потом затормозил, спешился (его так била дрожь, что, слезая, он упал вместе со своей машиной) и сел на обочине, чтобы хоть немного опомниться. Ехал он в Эшфорд, но в тот день добрался только до Тонбриджа…
Как ни странно, после этого целых три дня о громадных осах не было ни слуху, ни духу. Может быть, потому, что, как я обнаружил, сверяясь с метеорологическими сводками, в те дни погода стояла пасмурная и холодная, а кое-где шел проливной дождь. А на четвертый день прояснилось, засверкало солнце, и с этим совпало невиданное нашествие ос-великанов.
Сколько их появилось в тот день, невозможно подсчитать. Сообщалось по меньшей мере о пятидесяти случаях. Была даже одна человеческая жертва: некий владелец бакалейной лавки застиг гигантскую осу в бочонке с сахаром и, когда она взлетела, сгоряча кинулся на нее с лопатой. Первым ударом он свалил ее на пол, а вторым рассек пополам, но она успела ужалить его через башмак — и из них двоих он умер первым.
Больше всего поразило публику появление осы-великана в Британском музее: средь бела дня она ринулась на одного из бесчисленных голубей, которые постоянно кормятся во дворе музея, взлетела с ним на карниз и там без помехи сожрала свою жертву. Затем она некоторое время ползала по крыше, через открытое окно забралась внутрь, жужжа, закружилась под стеклянным куполом читального зала (перепуганные читатели толпами кинулись к выходу) и, наконец, вылетела в другое окно и скрылась из глаз, причем после ее гудения наступившая тишина показалась людям оглушительной.
Почти всех остальных ос видели издали, на лету, большого вреда они не причинили. Одна обратила в бегство компанию гуляющих, которая расположилась закусить на Олдингтонском бугре, и уплела все сласти и варенье; другая, неподалеку от Уитстейбла, убила и растерзала щенка на глазах перепуганной хозяйки.
В тот вечер на улицах газетчики надрывались от крика, всюду бросались в глаза заголовки, набранные самым крупным шрифтом: «Гигантские осы в графстве Кент!» В редакциях люди бегали по винтовым лестницам, выкликая все новые вести о крылатых чудищах. В пять часов вечера профессор Редвуд вышел из своего колледжа на Бонд-стрит, разгоряченный бурной схваткой, которую ему пришлось выдержать с коллегами из-за чересчур больших расходов на телят, и купил газету; развернув ее, он побледнел, мгновенно забыл и о телятах и о коллегах, вскочил в первый попавшийся наемный экипаж и поспешил к Бенсингтону.
С порога его оглушил голос Скилетта: тот вопил на всю квартиру и размахивал руками так, что, кроме него, уже ничего не было видно и слышно. Скилетт то жалобно взвизгивал, то чуть не рычал от злости.
— Мы больше не можем там оштаватьшя, шэр! Мы уж и так терпели, думали, штанет легче, а штановитшя чаш от чашу хуже. Там не одни ошы, шэр, там еще и уховертки завелишь — во-он такие (он вытянул жирную, грязную руку и отмерил на ней длину уховертки — чуть не до локтя). Мишшиш Шкилетт как увидела, чуть в обморок не упала. А крапива у загонов, шэр, штрах как жжетшя, и вше раштет и раштет! И наштурция тоже — заползла в окно и чуть не шпутала мишшиш Шкилетт ноги. А вше ваш порошок виноват, шэр. Где капельку прошыплешь, там вше раштет и раштет, шроду я такого не видал. Не можем мы оштатьшя до конца мешяца, шэр. Нам пока еще жизнь не надоела. А там коли ошы не заедят, так наштурция задушит. Вы и не поверите, шэр, пока швоими глазами не увидите…
Он устремил здоровый глаз куда-то в потолок над головой Редвуда.
— Почем знать, может, крышы тоже добралишь до этого порошка! Вот чего я боюшь, шэр. Пока что больших крыш не видать, но кто его знает. Уховерток-то мы видели и напугалишь до шмерти — их было две, шэр, каждая ш хорошего омара… да еще эта наштурция… уж больно быштро она вырошла. А как я ушлыхал ош, шэр, как ушлыхал, так шразу и понял, что к чему. Шразу шхватилшя — и к вам, только и задержалшя пуговицу пришить, пуговица у меня отлетела. У меня и шейчаш душа не на меште, шэр. Штрах берет за мишшиш Шкилетт. Там эта наштурция вешь дом заплела… вот провалитьшя мне, шэр, надо глядеть в оба, а то шхватит и удавит, как змея… и уховертки раштут, как на дрожжах, и ошы… вдруг ш нею что шлучитшя, шэр, а у нее и завещание не шоштавлено.
— А цыплята? — спросил мистер Бенсингтон. — Как цыплята?
— До вчерашнего дня мы их кормили, шэр, вот чтоб мне провалитьшя. А нынче утром побоялишь. Там ошы так жужжат, прошто штрах. Налетели тучей, да большущие такие. Ш курицу. Я ей и говорю, пришей, говорю, мне парочку пуговиц, не могу же я в таком виде в Лондон ехать. Вот поеду к миштеру Беншингтону и рашшкажу ему вше, как ешть. А ты, говорю, шиди дома и не выходи, пока я не вернушь, да шмотри окна не открывай.
— Если бы не ваша возмутительная неаккуратность…
— Ох, не говорите так, шэр, — возразил Скилетт. — У меня и без того душа болит за мишшиш Шкилетт. Я даже шлушать этого не могу, шэр, вот провалитьшя, не могу. У меня, шэр, одни крышы на уме… я вот ш вами тут разговариваю, а вдруг, они уже шьели мою штаруху?
— Там должны быть такие поразительные кривые роста, а вы не сделали ни единого измерения! — сказал Редвуд.
— До того ли было, шэр! Знали бы вы, какого мы ш женой штраху натерпелишь за этот мешяц! Ума приложить не могли, что же это такое делаетшя. Цыплята раштут, как шумашшедшие, и уховертки, и наштурция. Не припомню, шэр, говорил я вам про наштурцию?..
— Да, да, говорили, — сказал Редвуд. — Что нам делать, Бенсингтон, как, по-вашему?
— А нам-то что делать? — взмолился Скилетт.
— Вы возвращайтесь на ферму, — сказал Редвуд. — Нельзя оставлять миссис Скилетт одну на всю ночь.
— Ну нет, шэр, один я туда не поеду. Будь там хоть дешять мишшиш Шкилетт. Вот ешли миштер Беншингтон…
— Чепуха! — оборвал его Редвуд. — Осы ночью спят. А уховертки вас не тронут…
— Да, а крышы-то?
— Никаких там крыс нет, — сказал Редвуд.
Мистер Скилетт напрасно тревожился за свою супругу. Миссис Скилетт не теряла времени зря.
Настурция, которая все утро, неслышно цепляясь усиками, карабкалась выше и выше по стене, к одиннадцати часам заслонила окно; в комнате становилось все темней и темней, и миссис Скилетт все яснее понимала, что положение скоро сделается невыносимым. Казалось, с отъезда мужа прошла целая вечность. Некоторое время она пыталась сквозь темное окно, сквозь завесу шевелящихся зеленых плетей и усиков рассмотреть, что делается снаружи, потом тихонько отошла, осторожно приотворила дверь спальни и прислушалась…
Ничто не нарушало тишины — и вот, высоко подобрав юбки, миссис Скилетт бросилась в спальню, заглянула для верности под кровать, потом заперлась и быстро и споро, как женщина привычная, стала собираться в путь-дорогу. Постель с утра осталась не застелена, на полу валялись куски настурции. — Скилетту с вечера пришлось обрубить побеги топором, чтобы закрыть окно, — но миссис Скилетт не замечала беспорядка. Она достала более или менее приличную простыню и увязала в нее самое необходимое: все свои платья, белье, вельветовую куртку, которую Скилетт надевал в торжественных случаях, непочатую банку маринада. Все это было вполне законно, но заодно она прихватила и две наглухо закупоренные банки с Гераклеофорбией номер четыре из тех, что привез в последний раз мистер Бенсингтон. (Миссис Скилетт была женщина честная, но она была еще и бабушка, и у нее сердце разрывалось оттого, что такой отличный продукт приходилось скармливать каким-то паршивым цыплятам.)
Связав все свои пожитки в узел, она надела чепец, сняла фартук, новым шнурком для ботинок перевязала зонтик, постояла, прислушиваясь, у окна, потом у двери — и наконец отворила ее и вышла в мир, полный неведомых опасностей. Зонтик она держала под мышкой, а узловатыми руками упрямо сжимала свои драгоценные пожитки. Чепец она надела самый лучший, с лентами, расшитый бисером, а среди всего этого великолепия вздымались и кивали два искусственных мака, словно исполненные того же трепетного мужества, что и их хозяйка.
Над переносьем у нее прорезалась решительная складка. Хватит с нее! Не станет она торчать тут одна! Скилетт, если угодно, пускай возвращается, а она сыта по горло.
Она вышла через парадную дверь, глядевшую на Хиклибрау, — надо ей было в противоположную сторону, в Чизинг Айбрайт, где жила ее замужняя дочь, но дверь черного хода уже невозможно было отворить — так разрослась тут взбесившаяся настурция с того дня, как миссис Скилетт просыпала возле нее порошок. Минуту-другую она прислушивалась, потом с величайшей осторожностью закрыла за собою дверь.
Прежде чем обойти дом, она опасливо выглянула из-за угла и осмотрелась…
Широкая расселина, точно шрам, пересекала песчаный холм за соснами, — там-то и гнездились гигантские осы, и миссис Скилетт испытующе посмотрела туда. Налетавшиеся с утра осы сейчас угомонились, их не было видно, и вокруг стояла тишина, доносилось лишь глухое гудение, как будто работала паровая лесопилка. Не видать было и уховерток. Правда, на огороде, среди грядок с капустой, что-то шевелилось, но, может, это просто кошка подкрадывалась к какой-нибудь пичуге. Несколько минут миссис Скилетт не сводила глаз с этого места.
Потом она завернула за угол, но через несколько шагов при виде загона с цыплятами-великанами снова остановилась. Поглядела на них и со вздохом покачала головой. Цыплята были уже ростом со страуса эму, но куда толще и массивнее. Их оставалось пять, и все курочки; было еще два петушка, но они, подравшись, забили друг друга до смерти. Курочки бродили понурые, и миссис Скилетт задумалась.
— Бедненькие, — сказала она и опустила свой узел наземь. — Со вчерашнего дня не поены, не кормлены! При эдаких-то аппетитах!
И тут эта вечно грязная, неряшливая старушонка совершила, на мой взгляд, истинный подвиг милосердия. Оставив узел и зонтик на вымощенной кирпичом дорожке, она пошла к колодцу, налила в пустое корыто целых три ведра воды и, пока цыплята жадно пили, потихоньку отперла калитку загона. После этого она с удивительным проворством подобрала свои пожитки, перелезла через живую изгородь на краю огорода, зашагала прямиком через некошеный луг, так что осиные гнезда остались в стороне, и дальше направилась извилистой тропкой к Чизинг Айбрайту.
Поднимаясь в гору с тяжелой ношей, она совсем запыхалась, часто останавливалась передохнуть и всякий раз оглядывалась на оставшийся позади, за елями, опустевший домик. Наконец, почти уже с вершины холма, она увидела вдали трех огромных ос: медленно, тяжело они поодиночке летели на запад, и это зрелище сразу заставило ее прибавить шагу.
Скоро она вышла на открытое место, дальше тропинка шла по насыпи (здесь миссис Скилетт почувствовала себя почти в безопасности), а там показалась и долина, ведущая к холмам Хиклибрау. У подножия холма, укрывшись в тени большого дерева, миссис Скилетт посидела немного, переводя дух.
И опять решительно зашагала своей дорогой…
Видели бы вы ее — маленькую, черную, точно вставший на задние лапки муравей, с белым узлом в руке, — как она торопливо семенила по белеющей под жарким полуденным солнцем тропинке, пересекавшей отлогие склоны холмов! Казалось, это решительный, неутомимый нос ведет ее все вперед и вперед; маки, украшавшие чепец, непрестанно дрожали и раскачивались, башмаки на резинках все гуще покрывала белая дорожная пыль. В знойной тишине только и слышались ее шаги — шлеп да шлеп, зажатый под мышкой зонтик упрямо соскальзывал вниз и чуть не падал. Сморщенные, увядшие губы под огромным нависшим носом были поджаты с выражением непреклонной решимости, и старуха все снова вздергивала зонтик повыше — да не падай ты, прах тебя побери! — или мстительно встряхивала накрепко стиснутый в руке узел. И порою бормотала что-то себе под нос в предвкушении какого-то спора со Скилеттом.
А впереди, в дымке голубого неба, постепенно вырисовывалась колокольня, и все яснее виднелся Чизинг Айбрайт — тихий уголок, такой далекий от суеты нашего буйного мира; там никто и не помышлял о Гераклеофорбии, что неотвратимо приближалась к этой обители тишины и спокойствия, притаившись в белом узле.
Насколько я понимаю, куры-великанши нагрянули в Хиклибрау около трех часов пополудни. Должно быть, они ни минуты не теряли даром, хотя очевидцев не оказалось: на улице в ту пору никого не было. О том, что стряслось неладное, первым возвестил отчаянный вопль маленького Скелмерсдейла. Мисс Дар ген, почтмейстерша, по обыкновению от нечего делать глядевшая в окно, вдруг увидела огромную курицу, — та неслась по улице с несчастным ребенком в клюве, а за нею по пятам — еще две такие же громадины. Вы и сами, конечно, знаете, с какой невероятной быстротой враскачку бегут к кормушке выпущенные из курятника крепкие, сильные куры недавно выведенных пород. И знаете, что от голодной курицы никак не отвяжешься, она настойчиво требует своего. Как мне говорили, среди предков Бенсингтоновых цыплят были плимутроки, а они и без Гераклеофорбии долговязы и бегуны первоклассные.
Быть может, мисс Дарген была не так уж изумлена. Как ни просил мистер Бенсингтон Скилеттов держать язык за зубами, а слухи об огромных цыплятах, выведенных на его ферме, ходили по деревне уже не первую неделю.
— Боже милостивый! — воскликнула мисс Дарген. — Так я и знала, что этим кончится!
Однако же она не растерялась. Мигом схватила опечатанный пакет с почтой, приготовленный для отправки в Аршот, и выбежала вон. И сейчас же в другом конце улицы показался мистер Скелмерсдейл, он бежал бледный, как полотно, размахивая лейкой, которую держал за носик. А еще через минуту, конечно, уже все жители деревушки выглядывали из дверей и окон.
Завидев мисс Дарген, которая бежала к ней через дорогу, размахивая всей дневной корреспонденцией всего Хиклибрау, похитительница юного Скелмерсдейла остановилась. Помешкала секунду — и через открытые настежь ворота вбежала во двор к Фалчеру. Эта секунда промедления оказалась роковой. Подскочила вторая курица, нацелившись клювом, выхватила у нее добычу и через ограду перемахнула в сад к приходскому священнику.
В курицу, бежавшую позади, попала лейка, пущенная меткой рукой мистера Скелмерсдейла, и она с отчаянным кудахтаньем перелетела над домиком миссис Глю во двор к доктору, а остальные громадные птицы тем временем мчались по лужайке вдогонку за той, которая тащила ребенка.
— Господи боже! — вскричал священник (некоторые уверяют, что он выразился более мужественно) и, грозно размахивая крокетным молотком, бросился наперерез.
— Стой, негодяйка! — кричал он, словно гоняться за гигантскими курами было ему не впервой.
А затем, видя, что не успеет перехватить воровку, изо всей мочи запустил в нее молотком — и тот, описав изящную кривую в каком-нибудь футе от головы Скелмерсдейла-младшего, угодил в стеклянную стенку теплицы. Дзинь, трах! Новенькая теплица! Так любовно и так недавно отстроенная женой священника!
Звон разбитого стекла напугал курицу — тут бы всякий напугался, — и она уронила свою добычу в куст португальского лавра. Младенца вскоре оттуда извлекли, встрепанного, но целого и невредимого, пострадала только его одежка. Она оказалась не столь прочной, как ее хозяин. Курица подскочила, захлопала крыльями — и очутилась на крыше Фалчеровой конюшни, но неплотно лежавшая в этом месте черепица не выдержала, и беглянка, так сказать, с неба свалилась в закуток, где в тихом уединении пребывал мистер Бампс, паралитик; сейчас уже неопровержимо доказано, что в эту критическую минуту своей жизни мистер Бампс впервые без чьей-либо помощи вскочил, пересек сад, — и только когда он захлопнул за собой дверь и задвинул засов, к нему разом вернулись христианское смирение и беспомощность опекаемого женою инвалида…
Остальным курам преградили дорогу другие игроки в крокет, и они кинулись через огород священника во двор к доктору; туда же явилась и пятая их товарка, горестно кудахтая после неудачной попытки прогуляться по рамам с парниковыми огурцами мистера Уизерспуна.
Куры постояли немного, копаясь в земле и раздумчиво кудахтая, потом одна долго и упорно клевала и долбила клювом улей, стараясь добраться до докторовых пчел, а затем все пять, неуклюже переваливаясь, подскакивая, топорща перья и то ускоряя, то замедляя шаг, двинулись полями к Аршоту, и больше их в Хиклибрау не видели. Неподалеку от Аршота они набрели на подходящую для себя еду — огромное поле брюквы — и принялись жадно клевать. Но скоро они стали жертвами своей славы.
Поразительное вторжение в жизнь человеческую птиц-великанов пробудило в людях буйную, неодолимую жажду вопить, бегать и швырять чем попало, — и очень быстро все мужское население Хиклибрау и даже несколько особ женского пола, вооружась самыми разнообразными предметами, которыми можно размахивать, колотить или кидать в цель, устроили облаву на гигантских кур. Их загнали в Аршот, где как раз было в разгаре гулянье, и жители Аршота встретили их как достойное завершение праздника. Кур преследовали до Финдон Биче, тут кто-то начал в них стрелять из мелкокалиберного ружья. Но, конечно, в птицу такого размера можно сколько угодно палить дробью — она ничего и не почувствует. Где-то близ Семи дубов куры бросились врассыпную, и одну из них чуть погодя видели у Тонбриджа. С громким кудахтаньем она суматошливо бежала по берегу, все время держась немного впереди быстроходного катера и несказанно изумляя пассажиров.
В тот же день около половины шестого двух из этих кур ловко поймал владелец тонбриджского цирка: разбросав по полу куски хлеба и пирога, он заманил их в клетку, которая пустовала после смерти овдовевшей верблюдицы…
Когда злосчастный Скилетт сошел в тот вечер с поезда на станции Аршот, уже смеркалось. Поезд опоздал — правда, ненамного, — и мистер Скилетт поставил это на вид начальнику станции. Быть может, ему почудилось, что начальник станции как-то особенно на него посмотрел, и, помедлив секунду в нерешимости, Скилетт прикрыл рот ладонью и вполголоса осведомился, не случилось ли «чего-нибудь этакого».
— Какого еще «этакого»? — переспросил начальник станции, голос у него был громкий и резкий.
— Ну, может, ошы или еще что…
— Тут было не до «ош», — сказал начальник станции. — Нам и с вашими окаянными курами хлопот хватало.
И он обрушил на Скилетта рассказ о похождениях его цыплят, точно град камней в окно политического противника.
— А как мишшиш Шкилетт, не шлыхали? — все же спросил Скилетт, оглушенный этими новостями и нелестными комментариями.
— Еще чего! — отрезал начальник станции, ясно показывая, что судьба этой дамы его ничуть не занимает.
— Надо мне узнать, как и что, — сказал Скилетт и поспешно ретировался, а вдогонку ему летели не слишком лестные замечания о дураках, которые перекармливают кур и обязаны за это ответить…
Когда Скилетт проходил через Аршот, его окликнул работник из Хэнки и спросил, уж не ищет ли он своих кур.
— А как там мишшиш Шкилетт, не шлыхали? — снова осведомился незадачливый супруг.
Собеседник выразился в том смысле, что его куда больше интересуют куры, но подлинные слова его повторять не стоит.
Было уже совсем темно, во всяком случае, настолько, насколько может быть темно в Англии в безоблачную июньскую ночь, когда мистер Скилетт заглянул в дверь кабачка «Веселые возчики» (вернее, заглянула одна только его голова).
— Эй, друзья! — сказала голова. — Не шлыхали, что там за шказки рашшказывают про моих кур?
— Как не слыхать! — отозвался мистер Фалчер. — Одна сказка проломила крышу моего сарая, а другая вдребезги расколотила парники… то бить, как их… оранживеи у жены священника…
Тут Скилетт вылез из-за двери.
— Мне бы подкрепитьшя, — сказал он. — Горячего бы джину ш водой в шамый раз.
И тогда все наперебой стали ему рассказывать, что натворили его цыплята, а он слушал и только повторял:
— Боже милоштивый!
Потом, улучив минуту, когда все умолкли, спросил:
— А как там мишшиш Шкилетт, вы не шлыхали?
— Не слыхали, — сказал мистер Уизерспун. — Не до нее нам тут было. Да и не до вас тоже.
— А вы разве нынче дома не были? — спросил Фалчер, поднимая голову от пивной кружки.
— Если какая-нибудь из этих подлых кур ее клюнула разок-другой…
Мистер Уизерспун не договорил, он предоставил слушателям вообразить себе ужасную картину.
В эту минуту все охотно пошли бы со Скилеттом поглядеть, не случилось ли и впрямь чего-нибудь с его супругой, — это ли не развлечение на закуску, достойное столь богатого событиями дня! Неожиданности следуют одна за другой, было бы жаль что-нибудь упустить…
Но тут Скилетт (он в это время, устремив один глаз на буфет, а другой в вечность, тянул у стойки свой джин) сам же расхолодил компанию.
— Надо думать, эти большие ошы нынче никого не тревожили? — спросил он с нарочитой небрежностью.
— Нам было не до них, мы с вашими курами возились, — отозвался Фалчер.
— Надо думать, они уже куда-нибудь улетели, — сказал Скилетт.
— Кто, куры?
— Да нет, я больше про ош, — пояснил Скилетт.
А затем, тщательно выбирая слова и делая чуть ли не на каждом многозначительное ударение, он спросил с напускной небрежностью, которая заставила бы насторожиться и грудного младенца:
— Надо думать, про других каких-нибудь больших животных у наш ничего не шлыхать, а? Про шобак, или, шкажем, кошек, или вроде того? Раз уж появляютшя такие большущие куры и ошы…
И он захохотал: мол, сами понимаете, это я так болтаю, для потехи.
Но почтенные жители Хиклибрау разом помрачнели. Фалчер первым высказал вслух общую мысль:
— Ежели кошка да под стать этим курам…
— Н-да-а, — сказал и Уизерспун. — Этакая кошка…
— Это уж будет не кошка, а тигр, — сказал Фалчер.
— А то и побольше… — сказал Уизерспун.
И вот наконец Скилетт зашагал одинокой полевой тропинкой, что вела от Хиклибрау в гору, а потом ныряла в осененную хмурыми соснами ложбину, где в безмолвии и мраке мертвой хваткой сдавили опытную ферму Бенсингтона плети гигантской настурции… Но шагал он в одиночестве.
Его проводили до подножия холма — на большее сочувствия и любопытства не хватило, — видели, как он поднялся на вершину, как мелькнул его четкий силуэт на бледно-золотом фоне согретых закатом небес и снова канул в сумрак, откуда, казалось, ему уже нет возврата. Он ушел в неизвестность. И по сей день никто не знает, что случилось с ним после того, как он скрылся за холмом. Немного погодя у обоих Фалчеров и Уизерспуна разыгралось воображение, и они тоже поднялись на вершину и поглядели на север, куда ушел Скилетт, но тьма уже поглотила его.
Трое провожатых придвинулись ближе друг к другу и молча стояли и смотрели.
— Вроде там все в порядке, — сказал наконец Фалчер-младший.
— Что-то ни одного огонька не видать, — сказал Уизерспун.
— А отсюда их и не увидишь.
— Да еще туман нынче, — сказал Фалчер-старший.
Они еще постояли в раздумье.
— Было бы что неладно, так он бы воротился, — сказал Фалчер-младший.
Это прозвучало вполне убедительно, и еще немного погодя старик Фалчер сказал:
— Ладно, пошли.
И все трое отправились домой спать — правда, на обратном пути они были какие-то притихшие и задумчивые.
В ту ночь пастух, который остановился со своими овцами неподалеку от фермы Хакстера, слышал громкий визг и решил, что это лисицы, а наутро недосчитался барашка — и отыскал его наполовину обглоданные кости на дороге в Хиклибрау…
Самое непонятное, что никаких останков, по которым можно было бы опознать Скилетта, так и не нашли!
Месяца через полтора среди обугленных развалин опытной фермы, в разных концах ее, найдены были кости, похожие, пожалуй, и на человеческие — лопатка и еще одна, длинная, быть может, берцовая, тоже изглоданная до неузнаваемости. А у ограды со стороны Айбрайта, возле перелаза, нашли стеклянный глаз, и тут-то многим стало ясно, что именно этому сокровищу Скилетт был в немалой мере обязан своим обаянием. Стеклянный глаз смотрел на белый свет с тем же отрешенным, суровым и скорбным выражением, которое когда-то придавало значительность весьма заурядной физиономии мистера Скилетта.
После тщательных розысков среди развалин обнаружили металлические ободки двух полотняных пуговиц, еще три такие нее пуговицы, сплющенные, но уцелевшие, и одну металлическую, из тех, которым в нашем туалете отнюдь не полагается быть на виду. Авторитетные лица сочли эти находки неопровержимым доказательством того, что Скилетт был убит и растерзан в куски, но меня это не убеждает. Признаться, памятуя о явном его отвращении ко всяким застежкам, я предпочел бы для верности найти меньше пуговиц, но больше костей.
Правда, стеклянный глаз — как будто доказательство бесспорное, но, если он и в самом деле принадлежал Скилетту (а даже миссис Скилетт и та не знала наверняка, был ли неподвижный глаз мужа стеклянным), то цвет его странным образом изменился и из светло-карего стал небесно-голубым. А лопатка — свидетельство совершенно ненадежное; прежде чем признать этот огрызок частью человеческого скелета, я хотел бы сравнить его для наглядности с изгрызенными лопатками каких-нибудь овец или телят.
А кстати, куда девались башмаки мистера Скилетта? Может быть, у крыс очень странный, даже извращенный вкус, но неужели они, которые бросили недоеденного барашка, пожрали бы Скилетта целиком, не оставив ни волос, ни костей, ни зубов, ни башмаков?
Я тщательно расспросил всех, кто сколько-нибудь близко знал Скилетта, и все в один голос твердили, что не родился еще на свет такой зверь, который бы сожрал Скилетта. Некий отставной моряк, арендатор одного из коттеджей мистера У.У.Джейкобса в Дантон Грин, с загадочным и глубокомысленным видом, обычным для здешних жителей, высказал мнение, что прикончить мистера Скилетта зверь, пожалуй, мог, но съесть — никак: даже у самого лютого отшибло бы аппетит. Окажись Скилетт на плоту посреди океана в числе потерпевших кораблекрушение, уж ему-то не грозила бы смерть от руки изголодавшихся спутников. «Неохота мне про него худо говорить, — прибавил отставной моряк, — но что правда, то правда». А уж надеть сшитый Скилеттом костюм он, моряк, нипочем бы не согласился — для этого надо окончательно рехнуться. Судя по всем этим разговорам, навряд ли какое-нибудь живое существо могло счесть Скилетта лакомым блюдом.
Скажу вам, читатель, прямо и откровенно: не верится мне, чтобы Скилетт возвратился на ферму. Скорее всего он долго бродил в нерешимости по окрестным полям и лугам, а когда поднялся непонятный визг, разбудивший пастуха, избрал простейший выход из затруднительного положения: канул в неизвестность.
Так, в неизвестности — в нашем, а быть может, в каком-то ином, неведомом нам мире — он, вне всякого сомнения, упорно остается и поныне.
3. Гигантские крысы
На третью ночь после исчезновения мистера Скилетта доктор из Подберна ехал в своей двуколке по дороге к Хэнки. Долгие часы провел он в хлопотах, помогая еще одному ничем пока не примечательному гражданину войти в наш странный мир, — и теперь, усталый и сонный, возвращался восвояси. Было уже около двух часов пополуночи, всходил тонкий серп убывающей луны. В эту пору и летом становится прохладно, и вокруг стлался белесый туман, скрадывая очертания предметов. Доктор ехал один, без кучера, — тот накануне слег; вокруг ничего не видно и не слышно, лишь бегут навстречу в желтом свете фонарей двуколки таинственно-темные живые изгороди, да дробно стучат лошадиные копыта и колеса, и им вторит эхо среди кустов. Лошадь дорогу знает, на нее можно положиться, как на самого себя, — не удивительно, что доктор задремал…
Вам, конечно, знакомо это состояние: сидишь и клюешь носом, покачиваясь в лад мерному стуку колес, голова совсем опускается на грудь — и вдруг вздрогнешь и встрепенешься…
Цок, цок, цок… — стучат копыта, стучат колеса.
Но что это?
Совсем близко кто-то пронзительно взвизгнул — или только почудилось? Доктор совсем было проснулся. Выбранил лошадь, которая вовсе этого не заслужила, и огляделся по сторонам. И постарался сам себя успокоить: наверно, это взвизгнула лисица или, может быть, крольчонок, попавший в зубы хорьку.
Цок, цок, цок… — стучат копыта, шуршат кусты живой изгороди.
Что такое?
Опять ему что-то почудилось. Он встряхнулся и прикрикнул на лошадь. Прислушался, но ничего не услышал.
Ничего? Так ли?
Что за странность, кажется, его кто-то подстерегает — над изгородью мелькнула странная голова какого-то животного. Большая, с круглыми ушами! Доктор напряг зрение, но ничего не разглядел.
— Вздор, — сказал он и выпрямился.
Наверно, это привиделось во сне. Доктор легонько тронул лошадь кнутом, велел ей поторапливаться и опять поглядел на кусты. В неверном свете фонарей, в пелене тумана все очертания казались смутными и зыбкими. Но нет, там, за кустами, не может таиться опасность, иначе лошадь почуяла бы и шарахнулась… И все же доктору стало тревожно.
А потом он явственно расслышал шлепанье мягких лап: кто-то вскачь догонял его.
Доктор не поверил своим ушам. Оглянулся, но ничего не увидел за крутым поворотом дороги. Хлестнул по лошади и опять покосился через плечо. И тут луч фонаря попал на такое место изгороди, где кусты были пониже, — и за ними мелькнула изогнутая спина… спина какого-то большого животного, доктор не понял какого; быстрыми, резкими скачками оно нагоняло двуколку.
Тут ему вспомнились старые сказки о колдовстве, рассказывал после доктор, — уж слишком не похож был неведомый зверь на всех известных ему животных; он испугался, что испугается лошадь и понесет, и крепче сжал вожжи. И хоть он человек образованный, но в ту минуту, по собственному признанию, подумал: а вдруг это — привидение, вот оно и явилось ему одному, а лошадь ничего не видит?
Впереди, уже недалеко, черным силуэтом в лучах встающей луны маячила деревушка Хэнки; хоть в окнах не было ни огонька, вид ее успокоил доктора, он щелкнул кнутом и снова крикнул, погоняя лошадь, — и тут крысы кинулись на него!
Мимо мелькнули ворота, и в этот миг передняя крыса одним прыжком перемахнула через изгородь. Прежде она скрывалась в темноте, а теперь вся оказалась на виду: острая, жадная морда, закругленные уши, длинное туловище — вытянутое в прыжке, оно показалось доктору еще огромнее; особенно поразили его розовые передние лапы зверя. И, может быть, самое страшное — что зверь был неведомый, ни на что не похожий. Крысу доктор в этом чудище не признал, сбитый с толку его размерами.
Лошадь в испуге шарахнулась от метнувшегося к ней большого темного тела. На узкой дорожке меж двух живых изгородей поднялся шум, доктор, закричал, захлопал кнутом. Все словно понеслось с головокружительной быстротой.
Цокот копыт, шлепанье мягких лап, шуршанье кустов…
Доктор вскочил, крикнул и что было силы стегнул крысу кнутом. Она вздрогнула и вильнула в сторону — при свете фонаря видна была даже вмятина на шкуре от удара кнута, — и доктор без памяти хлестал снова и снова, не замечая, что еще одна крыса догоняет его с другой стороны. Потом оглянулся и выронил вожжи: третья крыса мчалась за ним по пятам…
Лошадь рванулась вперед. Двуколка подскочила на рытвине. Одно безумное мгновенье доктору казалось, что все вокруг скачет и мчится…
А потом лошадь упала, — по счастью, это случилось, когда доктор уже въехал в деревню, но не успел ее миновать.
Споткнулась ли лошадь, или ее свалила вторая крыса, рванул с налету острыми зубами и повиснув на ней всей своей тяжестью, никто не знает; доктор далее не заметил, что и сам ранен, он обнаружил это только после, в домике каменщика, и никак не мог вспомнить, когда же это случилось, хотя укус был болезненный — две глубокие борозды на левом плече, словно прорезанные взмахом двойного томагавка.
Только что он стоял в двуколке — и вдруг очутился на земле, нога вывихнута, но он этого еще не замечает; третья крыса наскакивает на него, и он отчаянно отбивается кнутом. Должно быть, он выпрыгнул из падавшей двуколки, но в пылу битвы все смешалось у него в голове, и он ничего толком не мог вспомнить. Я думаю, когда крыса впилась в горло лошади, та взвилась на дыбы и рухнула на бок; двуколка опрокинулась, и доктор инстинктивно соскочил на землю. Фонарь при падении разбился, керосин вспыхнул, и яркий свет озарил жестокую схватку.
Ее-то и увидел каменщик.
Он еще раньше услыхал цокот копыт, стук колес и отчаянные крики доктора, хотя сам доктор не помнил, что кричал. Каменщик соскочил с постели, начал поднимать штору, и тут раздался страшный треск и за окном вспыхнул ослепительный свет. По словам каменщика, сделалось светло как днем. Он замер, стиснув в руке шнур, и уставился на дорогу — там все вдруг стало неузнаваемо и страшно, как в кошмарном сне. В свете пламени дергался черный силуэт доктора и плясал кнут в его руке. Едва различимая за слепящим костром, била в воздухе копытами лошадь, в горло ее вгрызалась крыса. Поодаль, у церковной ограды, зловеще сверкали из темноты глаза другой хищницы, и можно было угадать третью — виднелись только налитые кровью глаза да розовые лапы, цеплявшиеся за ограду; должно быть, она прыгнула туда, испугавшись огня, когда разбился фонарь.
Вам, конечно, хорошо знакомы крысиные морды, длинные передние зубы и свирепые глаза. И все это предстало перед каменщиком, увеличенное примерно в шесть раз, да еще внезапно, среди ночи, в неверном свете пляшущего пламени, да еще спросонок мысли его путались… Жутко ему стало…
Тут доктор воспользовался мгновенной передышкой — пламя все же отпугнуло крыс, — кинулся к дому и отчаянно застучал в дверь рукояткой кнута.
Но хозяин впустил его только после того, как зажег лампу.
Потом многие осуждали его за это; не решаюсь к ним присоединиться: как знать, возможно, на его месте я оказался бы не храбрее…
Доктор кричал во все горло и колотил в дверь.
Каменщик утверждает, что, когда дверь наконец отворилась, бедняга просто плакал от страха.
— Запри! — крикнул доктор. — Запри!
Больше он не мог вымолвить ни слова. Хотел было помочь, но руки не слушались. Каменщик запер дверь на засов, а доктор рухнул на стул и долго не мог подняться…
— Не знаю, что это было, — твердил он. — Не знаю, что это было. — Голос его срывался.
Каменщик хотел принести ему виски, но доктор ни за что не соглашался остаться один при тусклой мигающей лампе. Прошло немало времени, пока хозяин уговорил его подняться наверх и лечь…
Когда огонь за окном погас, гигантские крысы вернулись к убитой лошади, уволокли ее через кладбище к кирпичному заводу и глодали до самого рассвета; никто не осмелился им помешать…
На следующее утро часов в одиннадцать Редвуд отправился к Бенсингтону; в руках у него были три вечерние газеты.
Бенсингтон оторвался от унылых размышлений над забытыми страницами самого «увлекательного» романа, какой только сумели для него подобрать в библиотеке на Бромптон-роуд.
— Есть новости? — спросил он.
— Возле Чартема осы ужалили еще двоих.
— Сами виноваты. Почему они не дали нам окурить гнездо?
— Конечно, сами виноваты, — согласился Редвуд.
— А как с покупкой фермы? Ничего нового?
— Наш агент — настоящая дубина да еще и пустомеля, — сказал Редвуд. — Прикидывается, будто на ферму есть еще другой покупатель — вы же знаете, так всегда бывает, — и не желает понять, что мы спешим. Я пытался ему втолковать, что дело идет о жизни и смерти, а он этак скромно потупился и спрашивает: «Так почему же вы торгуетесь из-за каких-то двухсот фунтов?» Нет уж, я скорее соглашусь всю жизнь жить среди гигантских ос, но не уступлю этому наглому болвану. Я… — И он умолк, не желая портить впечатление от своих слов.
— Хорошо бы, какая-нибудь оса догадалась его… — Бенсингтон не договорил.
— В служении обществу осы смыслят ровно столько же, сколько… агенты по продаже недвижимого имущества, — возразил Редвуд.
Он еще немного поворчал насчет агентов, стряпчих и прочей публики, и суждения его были неразумны и несправедливы, — почему-то очень многие отзываются так о представителях этих достойных профессий.
— Ведь это же нелепо: в нашем нелепом мире мы от врача или солдата всегда ждем честности, мужества и деловитости, а вот стряпчий или агент по продаже недвижимости почему-то может быть жадным жуликом, подлецом и тупицей, и это в порядке вещей.
Наконец Редвуд отвел душу, подошел к окну и стал смотреть на улицу.
Бенсингтон отложил «увлекательный» роман на маленький столик, где стояла электрическая лампа. Затем аккуратно соединил кончики пальцев обеих рук и внимательно посмотрел на них.
— Редвуд, — начал он, — много ли о нас говорят?
— Не так много, как я ожидал.
— И ни в чем нас не обвиняют?
— Ни в чем. Но, с другой стороны, и не принимают никаких мер, а я ведь ясно указал, что нужно делать. Понимаете, я написал в «Таймс» и все объяснил…
— Мы читаем «Дейли Кроникл», — заметил Бенсингтон.
— И в «Таймсе» на эту тему появилась большая передовица, отлично написанная, первоклассная передовица, украшенная тремя перлами газетной латыни — вроде статус-кво, — и звучит она, как бесплотный глас некоего значительного лица, которое страдает от простуды и головной боли и вещает сквозь толстый слой ваты, хотя этот компресс и не приносит ему ни малейшего облегчения. Впрочем, между строк можно прочитать, что газета предлагает называть вещи своими именами и действовать немедленно (а как — неизвестно). В противном случае можно ожидать самых нежелательных последствий, — в переводе с газетного языка на общечеловеческий появятся новые гигантские осы и уховертки. Вот уж поистине статья, достойная государственного мужа!
— А пока гиганты множатся самым отвратительным образом.
— Вот именно.
— А вдруг Скилетт был прав, и уже есть гигантские крысы…
— Ну что вы! Это было бы чересчур, — содрогнулся Редвуд.
Он отошел от окна и остановился у кресла, где сидел Бенсингтон.
— Кстати, — начал он, понизив голос, — а как она…
Он указал на закрытую дверь.
— Кузина Джейн? Да она ничего не знает. Она не читает газет и не подозревает, что все эти слухи и разговоры как-то связаны с нами. «Вот еще глупости, — говорит она. — Гигантских ос выдумали! Просто терпенья нет с этими газетами!»
— Нам повезло, — заметил Редвуд.
— Я полагаю, что… миссис Редвуд?..
— Ей сейчас не до газет, — прервал Редвуд. — Она в страшной тревоге за сына. Ведь он все растет.
— Растет?
— Да. За десять дней прибавил почти два с половиной фунта и весит теперь без малого шестьдесят. А ведь ему всего шесть месяцев! Как тут не тревожиться.
— А он здоров?
— На удивление. Нянька просит расчет — уж слишком он больно дерется. И мигом вырастает из всякой одежды, не успеваем шить новую. У коляски сломалось колесо — он для нее слишком тяжел, — и пришлось везти ребенка домой на тележке молочника. Представляете? Собралась толпа зевак… И пришлось отдать ему кровать Джорджины Филис, а она спит в его кроватке. Понятно, мать очень волнуется. Сначала она гордилась таким великаном-сыном и превозносила Уинклса. Ну, а теперь, видно, чувствует, что тут что-то неладно. Вы-то знаете, в чем дело.
— Мне казалось, вы хотели постепенно уменьшать Дозу.
— Пытался.
— Не удалось?
— Поднимает рев. Все дети плачут так, что хоть уши затыкай, говорят, это им даже полезно, а уж тут… ведь он все время получает Гераклеофорбию…
— Да-а. — Бенсингтон повесил голову и еще пристальнее начал разглядывать свои пальцы.
— Все равно нам это не скрыть. Люди прослышат о ребенке-великане, припомнят наших кур и прочих гигантов, и это в конце концов неизбежно дойдет до жены… Что с ней тогда будет, я и вообразить не могу.
— Да, поистине, всего заранее не предусмотришь, — сказал Бенсингтон, снял очки и тщательно их протер. — И ведь это вечная история, — продолжал он. — Мы, ученые, — если мне дозволено претендовать на это звание — всегда трудимся ради результата теоретического, чисто теоретического. Но при этом подчас, сами того не желая, вызываем к жизни новые силы. Мы не вправе их подавлять, а никто другой этого сделать не может. Собственно говоря, Редвуд, все это теперь уже и не в нашей власти. Мы можем только изготовлять Гераклеофорбию…
— А они, — докончил Редвуд, вновь поворачиваясь к окну, — на опыте узнают, что из этого получается.
— Что до событий в Кенте, я больше не намерен из-за них беспокоиться.
— Если только они сами нас не побеспокоят.
— Вот именно. Эта публика до тех пор будет путаться со стряпчими и крючкотворами, ссылаться на законы и важно изрекать благоглупости, пока у них под самым носом не расплодятся новые гигантские паразиты… В нашем мире испокон веков царит великая путаница.
Редвуд чертил в воздухе какую-то сложную кривую.
— Для нас теперь главное — ваш мальчик, Редвуд.
Редвуд повернулся, подошел к своему коллеге и с тревогой заглянул ему в глаза:
— Что вы о нем думаете, Бенсингтон? Вам легче смотреть на все это более трезво. Что мне с ним делать?
— Продолжайте кормить его.
— Гераклеофорбией?
— Да.
— Он будет расти…
— Если судить по цыплятам и осам, он вырастет примерно футов до тридцати пяти… и развиваться будет гармонично.
— Но как он будет жить?
— Вот это и есть самое интересное, — ответил Бенсингтон.
— Черт возьми! С одной одеждой хлопот не оберешься! И потом, когда он вырастет, он окажется единственным Гулливером в мире пигмеев.
Глаза Бенсингтона за золотой оправой очков многозначительно блеснули.
— Почему единственным? — произнес он и повторил еще внушительнее: — Почему же единственным?
— Уж не собираетесь ли вы…
— Я спрашиваю, — перебил мистер Бенсингтон с упорством человека, который наконец-то нашел нужные слова, — почему единственным?
— Вы хотите сказать, что можно и других детей…
— Я ничего не хочу сказать, я только спрашиваю.
Редвуд зашагал из угла в угол.
— Да, конечно, — сказал он, — можно было бы… Но ведь… К чему это приведет?
Бенсингтон, видно, наслаждался своими теоретическими построениями.
— Рассуждая логически, можно предположить, что и мозг его будет футов на тридцать выше обычного уровня, и это — самое интересное… Что с вами?
Редвуд, стоя у окна, взволнованно провожал глазами тарахтевшую тележку, обклеенную афишками, — каковы последние новости?
— Что с вами? — повторил Бенсингтон, вставая с кресла.
Редвуд вскрикнул.
— Да что такое? — спросил Бенсингтон.
— Бегу за газетой! — бросил Редвуд и шагнул к двери.
— За чем?
— За газетой. Что-то там… Я не совсем понял… Гигантские крысы…
— Крысы?
— Да, крысы. Все-таки Скилетт был прав.
— Что вы хотите сказать?
— Черт его знает, надо сперва достать газету. Огромные крысы… Господи! Неужели они его съели!
Он поискал глазами шляпу и с непокрытой головой бросился вон из комнаты. Он сбежал вниз, перескакивая через две ступеньки, а с улицы неслись вопли — мальчишки-газетчики выкрикивали последнюю сенсацию:
«Жуткая драма в Кенте! Жуткая драма в Кенте! Врача съели крысы! Жуткая драма, жуткая драма!.. Крысы! Громадные крысы! Жуткая драма, все подробности!»
Коссар, известный инженер-строитель, наткнулся на них в просторном подъезде дома, где жил Бенсингтон: Редвуд читал экстренный выпуск газеты, далеко отставив от глаз еще сырой розовый листок, а Бенсингтон, поднявшись на цыпочки, заглядывал через его плечо. Коссар был долговязый, несуразный, грубые руки и ноги кое-как прилажены к массивному туловищу; лицо точно вырезано из дерева, но не докончено, ибо резчик быстро понял, что из этой затеи толку не выйдет. Нос так и остался четырехугольным, нижняя челюсть далеко выдавалась вперед. Дышал Коссар шумно, с натугой. Никто не назвал бы его красавцем. Прямые, как палки, волосы торчали во все стороны. Он был немногословен, но высокий, скрипучий голос его всегда звучал обиженно и сердито. На нем красовались неизменная серая пиджачная пара и шелковый цилиндр.
Он пошарил огромной красной ручищей в бездонном кармане, расплатился с извозчиком и, пыхтя, двинулся вверх по лестнице; в руке он сжимал листок того же экстренного выпуска, словно Зевс-громовержец разящую молнию.
— Что Скилетт? — не замечая Коссара, спрашивал в эту минуту Бенсингтон.
— О нем ничего не сказано, — ответил Редвуд. — Конечно, его съели. Их обоих съели. Вот ужас!.. А-а, Коссар!
— Ваша работа? — грозно вопросил Коссар, размахивая газетой. — Почему же вы этого не прекратите? То есть как это не можете, черт возьми! Что? Вздумали купить эту ферму? Чушь! Сожгите ее! Так я и знал, где уж вам тут справиться! Что теперь делать? Да то, что я велю. Что? Как? Очень просто — сейчас же бегите к оружейнику. Зачем? Да за ружьями. Тут поблизости только один оружейный магазин. Купите восемь ружей! Винтовок. Нет, не для охоты на слонов, те чересчур велики. И не армейские винтовки: эти слишком малы. Скажете ему, что вам надо убить… убить быка. Скажете, для охоты на буйволов. Понятно? Что? Крысы? Боже упаси! Он ничего не поймет. Почему восемь? Потому что так надо. Да возьмите побольше патронов, не вздумайте купить одни винтовки, без патронов. Нет! Сложите все на извозчика и поезжайте… Где это? В Аршоте? Значит, на Черинг-Кросс. Есть какой-то поезд… в общем, где-то в начале третьего. Ну как, управитесь? Вот и отлично. Разрешение на оружие? Возьмите восемь штук разрешений на ближайшей почте. Не перепутайте — на винтовки, а не на охотничьи ружья. Почему? Да это же крысы, приятель! Как вас, Бенсингтон! Телефон у вас есть? Отлично. Я позвоню пятерым друзьям в Илинг. Почему пятерым? Потому что вместе нас будет восемь. Куда вы, Редвуд? За шляпой? Глупости, наденьте мою. Вам сейчас нужны ружья, а не шляпы. Деньги есть? Хватит? Ладно. Отправляйтесь… Ну, где ваш телефон?
Бенсингтон покорно отвел Коссара к телефону.
Коссар поговорил и положил трубку.
— Так, теперь осы, — сказал он. — Тут нужны сера и селитра, это само собой разумеется. И жженый гипс. Вы ведь химик, скажите, где можно достать тоннами серу в мешках? Зачем? Господи, неужели непонятно? Конечно, затем, чтобы окурить гнезда. Сера подойдет, верно? Вы ведь химик. Сера лучше всего, а?
— Пожалуй, да.
— Может, есть что-нибудь покрепче? Что ж, вам виднее. Ладно. Добудьте побольше серы и селитры, чтобы лучше горело. Куда послать? На Черинг-Кросс. Да поживее! Присмотрите за этим сами и поезжайте вслед. Как будто все?
Он на минуту задумался.
— Жженый гипс… любой гипс… замажем гнездо… все отверстия, понятно? Этим я, пожалуй, займусь сам.
— Сколько?
— Чего сколько?
— Серы.
— Тонну. Понятно?
Дрожащей рукой Бенсингтон решительно поправил очки.
— Ясно, — коротко сказал он.
— Есть у вас наличные? — спросил Коссар. — К черту чеки, вас могут там не знать. Платить надо наличными. Само собой разумеется. Где ваш банк? Зайдите туда по дороге и возьмите сорок фунтов бумажками и золотом.
Еще минута раздумья.
— Если ждать, пока наши власти раскачаются, весь Кент полетит в тартарары, — сказал Коссар. — Что же еще? Кажется, все. Эй!
Он помахал огромной ручищей проезжавшему мимо извозчику, и тот с готовностью рванулся к подъезду.
— Поехали, сэр?
— Разумеется, — ответил Коссар.
Бенсингтон, тоже с непокрытой головой, спустился по ступенькам и подошел к коляске. Взялся было за полость и вдруг испуганно глянул на окна своей квартиры.
— Все-таки… надо бы сказать кузине Джейн…
— Успеете сказать, когда вернетесь, — отрезал Коссар и мощной дланью подтолкнул Бенсингтона в пролетку.
— Башковитые ребята, а практичности ни на грош, — заметил он про себя, когда извозчик отъехал. — Нашел время думать о кузине Джейн! Знаем мы этих кузин! Надоели! Вся страна ими кишит. Придется мне, видно, всю ночь напролет присматривать за этими мудрецами, иначе толку не будет, хоть они и сами знают, что делать. И отчего это они такие? От учености, от кузин или еще от чего?
Так и не решив эту загадку, Коссар задумчиво поглядел на часы и рассудил, что как раз успеет забежать в ресторан и перекусить, а потом уже разыщет жженый гипс и отвезет на Черинг-Кросс.
Поезд отходил в пять минут четвертого, а он приехал на Черинг-Кросс без четверти три и сразу же увидел Бенсингтона, который горячо спорил с двумя полицейскими и возчиком. Редвуд в багажном отделении тщетно пытался выяснить, как можно провезти ящик патронов. Все служащие делали вид, что ничего не знают и ничего не могут разрешить, — на юго-восточной железной дороге всегда так: чем больше вы спешите, тем неповоротливей становятся чиновники.
— Жаль, что нельзя их всех перестрелять и нанять других, — со вздохом пробормотал Коссар.
Но для таких решительных мер времени оставалось слишком мало, и потому он не стал вступать в мелочные пререкания, а откопал где-то в укромном уголке еще одного чиновника, — может быть, это был даже начальник станции, — провел его по всему вокзалу, отдавая распоряжения от его имени, погрузил на поезд всех и вся и отбыл прежде, чем высокое начальство успело сообразить, что участвовало в серьезном нарушении священнейших правил и порядков.
— Кто он такой? — спросило начальство у носильщиков, потирая руку, еще ощущавшую тяжелое пожатие Коссаровой десницы, невольно улыбаясь и хмуря брови.
— Уж не знаю, кто такой, а только заправский джентльмен, — отвечал носильщик. — Вся его компания покатила первым классом.
— Ну, кто бы они там ни были, мы ловко от них избавились, — с удовлетворением отметило начальство, все еще потирая руку.
И, возвращаясь к благородному уединению, в котором скрываются от назойливой черни высшие чиновники Черинг-Кросса, начальство жмурилось от непривычки к свету дня и улыбалось приятным воспоминаниям о своей бурной деятельности. Рука все еще болела, зато как отрадно сознавать, что способен проявить такую энергию! Поглядели бы на него сейчас кабинетные писаки, которые вечно придираются к постановке дела на железных дорогах!
К пяти часам вечера Коссар — удивительный человек! — без всякой видимой спешки вывез из Аршота все, что нужно было для сражения с мятежными гигантами, и находился уже на пути в Хиклибрау. В Аршоте он купил два бочонка керосина и воз сухого хвороста, а из Лондона доставил большие мешки серы, восемь ружей для крупной дичи и патроны к ним, три дробовика для ос, топорик, два секача, кирку, три лопаты, два мотка веревок, несколько бутылок пива, виски и содовую, целую кучу пакетов с крысиным ядом и запас провизии на три дня. Все это Коссар ухитрился переправить в угольной тележке и на возу, только ружья и патроны пришлось засунуть под сиденье фургона, нанятого в трактире «Красный лев»; в фургоне ехали Редвуд и пятеро отборных молодцов, прибывших из Илинга по зову Коссара.
Коссар провел все эти операции с самым спокойным и невозмутимым видом, хотя весь Аршот был в смятении и страхе из-за крыс, и возчики заломили неслыханную цену. Все магазины в городе были закрыты, на улицах ни души, и, когда он стучал в дверь, хозяева боязливо выглядывали из окна. Но Коссар ничуть не смущался, словно деловые переговоры так и полагается вести через окно. В конце концов они с Бенсингтоном в придачу к фургону раздобыли в «Красном льве» двуколку и отправились следом. Невдалеке от перекрестка они обогнали багаж и первыми добрались до Хиклибрау.
Бенсингтон сидел в двуколке подле Коссара, держа ружье между колен, и никак не мог прийти в себя от изумления. Правда, Коссар уверял, что всякий на его месте сделал бы то же самое, ибо это все само собой разумеется, но — увы! — в Англии так редко делают то, что само собой разумеется… Бенсингтон перевел взгляд с ног своего соседа на его решительные руки, державшие вожжи. Коссару явно никогда прежде не приходилось править лошадью, и он избрал линию наименьшего сопротивления и держался середины дороги, — на его взгляд, это, наверно, само собою разумелось.
«Хорошо, если бы все мы делали то, что само собою разумеется! — думал Бенсингтон. — Как далеко продвинулся бы мир по пути прогресса! Почему, например, я не делаю очень многое, что следует и что я сам хочу сделать? Неужели со всеми так? Или это я один такой?»
И он погрузился в туманные размышления о воле и безволии. Он думал о сложных сплетениях ненужных мелочей, из которых состоит повседневная жизнь, и о делах прекрасных и достойных, — так отрадно было бы посвятить себя им, но мешает какая-то непостижимая сила. Кузина Джейн? Да, кузина Джейн играет здесь какую-то тайную, необъяснимую роль. Почему мы должны есть, пить, спать, не жениться, где-то бывать, а где-то не бывать, и все это из уважения к кузине Джейн? Она превратилась в какой-то символ, оставаясь при этом непостижимой!
Тут на глаза ему попались изгородь и тропинка через поля, и сразу вспомнился другой ясный день, такой недавний и уже такой далекий, когда он спешил из Аршота на опытную ферму, чтобы посмотреть на гигантских цыплят…
Да, все мы игрушки судьбы.
— Ну, пошевеливайся! — покрикивал на лошадь Коссар.
Был жаркий летний полдень, в воздухе ни ветерка, на дороге клубилась густая пыль. Вокруг было безлюдно, лишь олени за оградой парка безмятежно пощипывали траву. И вдруг путники увидели двух огромных ос, объедавших куст крыжовника у самой деревни; еще одна оса ползала перед дверью бакалейной лавчонки в начале улицы: хотела пробраться внутрь. В глубине, за витриной, смутно виднелся лавочник; сжимая в руке старое охотничье ружье, он не спускал глаз с гигантского насекомого. Кучер фургона остановился у трактира «Веселые возчики» и объявил Редвуду, что дальше не поедет. Остальные кучера дружно его поддержали. Мало того, они отказались оставить нашим путникам и лошадей.
— Эти треклятые крысы страсть как охочи до конины, — твердил тот, что правил тележкой.
Коссар с минуту послушал и принял решение.
— Разгружайте фургон! — приказал он одному из своих людей, механику, белобрысому неопрятному верзиле.
Тот повиновался.
— Подайте-ка мне дробовик, — продолжал Коссар.
Затем он подошел к возчикам.
— Обойдемся и без вас, — заявил он. — А вот лошадей не отдадим, они нам нужны, и можете говорить что хотите.
Возчики было заспорили, но Коссар и слушать не стал.
— А полезете в драку — продырявлю вам ноги, и ничего мне за это не будет, потому что самозащита. Лошади пойдут с нами.
На этом он счел разговор оконченным и продолжал командовать.
— Садись на место кучера в повозку, Флэк, — обратился он к коренастому крепышу. — А ты, Бун, займись тележкой.
Возчики подступили к Редвуду.
— Вы сделали, что могли; перед хозяевами ваша совесть чиста, — успокаивал их Редвуд. — Подождите тут, в деревне, мы скоро вернемся. Никто вас ни в чем не обвинит, раз мы вооружены. Очень не хочется прибегать к насилию, но выхода нет, наше дело спешное. Если с лошадьми что-нибудь случится, я вам хорошо заплачу, не беспокойтесь.
— Вот это правильно, — сказал Коссар; сам он не любил ничего обещать.
Фургон оставили в деревне; те, кому не пришлось править лошадьми, двинулись пешком. У каждого за плечом торчало ружье. Зрелище было совершенно необычное для проселочной дороги в Англии и напоминало скорее поход американцев на запад в добрые старые времена покорения индейцев.
Так они брели по дороге, пока не достигли вершины холма, — отсюда видна была опытная ферма. На холме они застали кучку людей, в том числе обоих Фалчеров; впереди всех стоял какой-то приезжий из Мейдстоуна и разглядывал ферму в бинокль; у двоих-троих были ружья.
Все они обернулись и уставились на вновь прибывших.
— Что нового? — спросил Коссар.
— Осы все летают взад-вперед, — ответил Фалчер-старший. — Никак не разберу, тащат они что-нибудь или нет.
— Между сосен появилась настурция, — сказал наблюдатель с биноклем. — Еще утром ее здесь не было. Растет прямо на глазах.
Он вынул носовой платок и сосредоточенно протер стекла.
— Вы, верно, туда? — спросил, набравшись храбрости, Скелмерсдейл.
— Пойдете с нами? — спросил Коссар.
Скелмерсдейл, казалось, колебался.
— Мы идем на всю ночь.
Скелмерсдейла это не соблазнило.
— А крыс не видали? — спросил Коссар.
— Утром одна бегала под соснами, верно, за кроликами охотилась.
Коссар пустился догонять своих.
Только теперь, снова увидев ферму, Бенсингтон понял всю чудодейственную силу Пищи. Сперва ему пришло в голову, что дом на самом деле меньше, чем ему помнилось, гораздо меньше; потом он заметил, что вся растительность между домом и лесом достигла необычайных размеров. Навес над колодцем едва маячил в толще высокой, в добрых восемь футов, травы, а настурция обвилась вокруг дымовой трубы, и жесткие усики ее, казалось, рвались прямо в небо. Ярко-желтые пятна цветов отчетливо виднелись даже на таком далеком расстоянии. Толстый зеленый канат тянулся по проволочной сетке загона для гигантских цыплят; он перекинулся на две соседние сосны и обхватил их могучими кольцами стеблей. Весь двор позади сарая зарос крапивой, поднявшейся чуть ли не до половины сосен. По мере того как люди подходили ближе, им начинало казаться, что они — жалкие карлики и идут — кукольному домику, забытому в заброшенном саду великана.
В осином гнезде кипела жизнь. Огромный черный рой висел в воздухе над ржавым холмом за сосновой рощей; осы одна за другой то и дело отрывались от него, молниеносно взмывали вверх, устремляясь к какой-то дальней цели. Их гудение разносилось на полмили от опытной фермы. Одно желто-полосатое чудище остановилось в воздухе над головами наших охотников и с минуту висело так, разглядывая непрощеных гостей огромными выпученными глазами; Коссар выстрелил, но промахнулся, и оса улетела. Справа, в конце поля, несколько ос ползало по обглоданным костям, — это были останки ягненка, которого крысы приволокли с фермы Хакстера.
Когда отряд подошел ближе, лошади начали беспокоиться, не слушаясь неопытных возчиков; пришлось приставить к каждой лошади еще по человеку, чтобы понукать ее и вести под уздцы.
Наконец подошли к дому; крыс нигде не было видно, вокруг, казалось, царили покой и тишина; только от осиного гнезда доносилось гудение, то нарастающее, то приглушенное.
Лошадей завели во двор, и один из спутников Коссара вошел в дом: всю середину двери выгрызли острые зубы. Никто вначале не заметил его отсутствия, все заняты были разгрузкой бочек с керосином; но вдруг в доме раздался выстрел, и мимо просвистела пуля. Бум-бум! — грянуло из обоих стволов; первая пуля пробила насквозь бочонок с серой и подняла столб желтой пыли. Какая-то тень метнулась мимо Редвуда, и он выстрелил. Он успел заметить широкий зад крысы, длинный хвост и задние лапы с узкими подошвами — и выстрелил из второго ствола. Зверюга сбила с ног Бенсингтона и исчезла за углом.
Все схватились за ружья. Минут пять продолжалась беспорядочная пальба, жизнь всех и каждого была в опасности. В пылу битвы Редвуд совсем забыл о Бенсингтоне и бросился в погоню за крысой, но тут чья-то пуля пробила стену, на него посыпались обломки кирпича, штукатурка, гнилые щепки, и он растянулся во всю длину.
Очнулся Редвуд, сидя на земле, лицо и руки у него были в крови.
Кругом стояла странная тишина.
Потом в доме послышался глухой голос:
— Ну и ну!
— Эй! — окликнул Редвуд.
— Эй! — отозвался голос и, помедлив, спросил: — Крысу убили?
Тут только Редвуд вспомнил о друге.
— А что с Бенсингтоном? Он ранен?
Но человек в доме, видно, не расслышал.
— Сам не знаю, как в меня не попало, — ответил он.
Редвуд понял, что собственными руками застрелил Бенсингтона. Забыв про свои царапины и раны, он вскочил и кинулся на поиски. Бенсингтон сидел на земле и потирал плечо, он поглядел на Редвуда поверх очков.
— Ну и всыпали мы ей, Редвуд! — сказал он. — Она хотела перескочить через меня и сбила меня с ног. Но я успел послать ей вдогонку заряд из обоих стволов. Ф-фу, как болит плечо!
Из дома вышел еще один охотник.
— Я попал ей в грудь и в бок, — сказал он.
— А где наши пожитки? — спросил Коссар, выходя из зарослей гигантской настурции.
К изумлению Редвуда, убить никого не убило, а перепугавшиеся лошади протащили повозку и угольную тележку ярдов за пятьдесят от дома и, сцепившись колесами, остановились в бывшем огороде Скилетта, где теперь все несусветно разрослось и перепуталось. В этих дебрях они и застряли. На полдороге в облаке желтой пыли валялся разбившийся при падении бочонок серы. Редвуд указал на него Коссару и двинулся к лошадям.
— Кто видел, куда девалась крыса? — крикнул Коссар, идя за ним. — Я попал ей между ребер, а потом она повернулась, хотела кинуться на меня, и я попал еще в морду.
Пока они старались распутать постромки и высвободить колеса, подошли еще двое.
— Это я ее убил, — сказал один из них.
— А ее нашли? — спросил Коссар.
— Джим Бейтс нашел, за изгородью. Я выстрелил в упор, когда она выскочила из-за угла. Прямо под лопатку…
Когда повозки и груз немного привели в порядок, Редвуд пошел взглянуть на крысу. Огромное бесформенное тело лежало на боку, слегка свернувшись. Острые зубы алчно торчали над нижней челюстью, но было в этом чудище что-то необыкновенно жалкое. Крыса не казалась ни свирепой, ни страшной. Передние лапы напоминали исхудалые руки. На шее виднелись две круглые дырочки с обожженными краями — пуля прошла насквозь, — а больше никаких ран не было. Редвуд постоял, подумал.
— Видно, их было две, — сказал он наконец, отходя к остальным.
— Наверно. И та, в которую все стреляли, должно быть, ушла.
— Уж я-то ручаюсь, что мой выстрел…
Но тут подвижный усик настурции в поисках опоры ласково склонился к говорившему, и тот поспешно отступил.
Из осиного гнезда по-прежнему неслось громкое гудение.
Все случившееся заставило наших охотников насторожиться, но не сломило их решимости.
Они втащили в дом свои припасы — после бегства миссис Скилетт крысы, видно, здесь основательно похозяйничали, — и затем четверо увели лошадей обратно в Хиклибрау. Дохлую крысу перетащили через изгородь в такое место, где ее видно было из окон, и тут в канаве наткнулись на кучу гигантских уховерток. Уховертки кинулись было наутек, но Коссар успел прикончить несколько штук своими ножищами в грубых башмаках и прикладом ружья. Потом за домом срубили с полдюжины стволов настурции — это были настоящие бревна, два фута в поперечнике, — и покуда Коссар прибирал в доме, чтобы здесь можно было провести ночь, Бенсингтон, Редвуд и один из их помощников, электротехник, осторожно осмотрели все загоны в поисках крысиных нор.
Они далеко обходили заросли гигантской крапивы: ее листья были усеяны ядовитыми шипами длиною не меньше дюйма. Наконец у забора, за изгрызенной и сломанной лестницей, наткнулись на огромную яму, нечто вроде входа в пещеру, откуда несло ужасающим смрадом. Все трое невольно сгрудились вместе.
— Надеюсь, они оттуда выйдут, — заметил Редвуд, бросая взгляд на заросший травою колодец.
— А если нет?.. — отозвался Бенсингтон.
— Выйдут! — повторил Редвуд.
Постояли, поразмыслили.
— Если мы туда полезем, придется взять с собой фонарь, — сказал наконец Редвуд.
Они двинулись по песчаной тропинке через сосновую рощу и скоро очутились невдалеке от осиных гнезд.
Солнце уже садилось, и осы возвращались на ночлег; в золоте заката их крылья казались трепетным ореолом.
Выглядывая из-за толстых сосен — выходить на опушку что-то не хотелось, — три охотника смотрели, как громадные насекомые падали вниз, затем на брюхе медленно вползали в гнездо и исчезали.
— Часа через два они совсем затихнут, — сказал Редвуд. — Будто опять становиться мальчишкой!..
— Отверстия громадные, — сказал Бенсингтон. — Промахнуться невозможно, даже если ночь будет темная. Кстати, насчет освещения…
— Сегодня будет полная луна, — ответил электротехник. — Я нарочно посмотрел.
Они пошли советоваться с Коссаром.
Тот сказал, что серу, селитру и гипс, само собой разумеется, надо пронести через лес засветло; поэтому они вскрыли бочонки, наполнили мешки и потащили. Несколько последних громогласных распоряжений — и больше никто уже не говорил ни слова; и когда замерло гуденье уснувших ос, в мире наступила тишина; ее нарушали только звук шагов да прерывистое дыхание людей, несущих тяжелую ноту, да изредка с глухим стуком падали на землю мешки. Таскали все по очереди, за исключением Бенсингтона, — ясно было, что носильщик из него никакой. С ружьем в руках он стал на вахту в бывшей спальне Скилеттов и не спускал глаз с убитой крысы, а все остальные по очереди отдыхали от таскания мешков и попарно сторожили крысиные норы у зарослей крапивы. Семенные коробочки гигантского сорняка уже созрели и время от времени лопались с треском, громким, точно пистолетные выстрелы, и тогда семена, как мелкая дробь, осыпали часовых.
Мистер Бенсингтон уселся у окна в жесткое кресло, набитое конским волосом и покрытое грязной салфеткой, которая долгие годы придавала светский лоск гостиной Скилеттов. Непривычное ружье он прислонил к подоконнику и то косился из-за очков туда, где в густеющих сумерках темнела туша убитой крысы, то обводил задумчивым взглядом комнату. Со двора тянуло керосином — один из бочонков дал трещину, — к этому запаху примешивался более приятный аромат срубленной настурции.
А в доме еще попахивало пивом, сыром, гнилыми яблоками, над этими обычными, домашними запахами главенствовал затхлый запах старой обуви, и все это остро напомнило Бенсингтону исчезнувшую чету Скилеттов. Он оглядел тонувшую в полумраке комнату. Мебель сильно пострадала — видно, тут потрудилась какая-то любопытная крыса, — но куртка на крючке, вбитом в дверь, бритва, клочки грязной бумаги и давно высохший, обратившийся в окаменелость кусок мыла настойчиво вызывали в памяти яркую личность Скилетта. И Бенсингтон вдруг живо представил себе, что Скилетта загрызло и съело — или, во всяком случае, в этом участвовало — то самое чудовище, которое теперь бесформенной грудой валяется в темноте у забора.
Подумать только, к чему может привести такое, казалось бы, невинное открытие в химии!
Не где-нибудь, а в своей родной, уютной Англии сидит он с ружьем в темном, полуразрушенном доме, ему грозит смертельная опасность, он бесконечно далек от тепла и уюта, и у него адски болит плечо — у этого ружья сильнейшая отдача… Бог ты мой!
Только теперь Бенсингтон понял, как изменился для него извечный порядок мироздания. Очертя голову он кинулся в этот безумный эксперимент и даже не сказал ни слова кузине Джейн!
Что-то она теперь о нем думает?
Бенсингтон попытался представить себе это, но не смог. Странное дело, ему начало казаться, будто они расстались навсегда и больше не увидятся. Стоило ему сделать лишь один шаг, и он вступил в новый мир — необъятный и необозримый.
Какие еще чудища скрываются в густеющей тьме? Шипы гигантской крапивы грозными копьями чернеют на зеленовато-оранжевом фоне закатного неба. И так тихо вокруг… Поразительно тихо. Почему не слышно людей? Ведь они недалеко, за углом дома. В тени сарая теперь черным-черно…
Грянул выстрел… другой… третий…
Прокатилось эхо, кто-то крикнул.
Долгая тишина.
И опять грохот и замирающее эхо.
И тишина…
Наконец-то! Из немого мрака вышли Редвуд и Коссар.
— Бенсингтон! — кричал Редвуд. — Мы пристукнули еще одну крысу. Коссар уложил еще одну!
К тому времени, как охотники поужинали, настала ночь. Ярко сияли звезды, и небо над Хэнки бледнело, возвещая о появлении луны. У крысьих нор по-прежнему стояли часовые, они только поднялись немного по склону холма: стрелять оттуда было безопаснее и удобнее. Они сидели на корточках на мокрой, росистой траве и пытались согреться, прихлебывая виски. Остальные отдыхали в доме, три главных героя держали со своими спутниками совет о предстоящем сражении. К полуночи взошла луна, и, как только она поднялась над холмами, все, кроме часовых, под предводительством Коссара гуськом двинулись к осиным гнездам.
Справиться с гнездами гигантских ос оказалось до смешного легко и просто, ничуть не труднее, чем с обыкновенными осиными гнездами, только это заняло больше времени. Конечно, опасность была смертельная, но она так и не успела высунуть жало. Входы засыпали серой и селитрой, наглухо замуровали гипсом и подожгли фитили. Потом все разом, кроме Коссара, кинулись бежать под укрытие деревьев; но, убедившись, что Коссар не двинулся с места, остановились шагов за сто и сбились в кучку в глубокой лощине. На несколько минут черно-белая ночь, вся в тенях и лунных бликах, наполнилась гудением, оно все нарастало, перешло в яростный рев, потом оборвалось — и в ночи воцарилась такая тишина, что в нее даже трудно было поверить.
— Ей-богу, все кончено! — прошептал Бенсингтон.
Люди напряженно прислушивались. В лунном свете над черными игольчатыми тенями сосен отчетливо, как днем, вставал холм — казалось, он совсем белый, точно снегом покрыт. Затвердевший гипс, которым были замазаны входы в осиное гнездо, так и сверкал. Перед охотниками замаячила нескладная фигура: к ним шел Коссар.
— Кажется, пока что…
Бум… Трах!
Где-то возле дома грянул выстрел, и затем — тишина.
— Это еще что? — спросил Бенсингтон.
— Наверно, крыса высунулась из норы, — предположил кто-то.
— А наши ружья остались там, — спохватился Редвуд.
— Да, у мешков.
Они опять двинулись к холму.
— Конечно, это крысы, — сказал Бенсингтон.
— Само собой разумеется, — отозвался Коссар, грызя ногти.
Трах!
— Что такое? — встревожился кто-то.
Крик, два выстрела, еще крик — почти вопль, три выстрела один за другим и треск ломающегося дерева. Все эти звуки донеслись издалека — отчетливые и все же ничтожные в безмерной тишине ночи. Опять короткое затишье, какая-то приглушенная возня у крысиных нор, и снова отчаянный крик… Все, не помня себя, кинулись за ружьями.
Еще два выстрела.
Когда Бенсингтон опомнился, оказалось, он бежит через лес с ружьем в руке, а среди сосен мелькают спины бегущих впереди! Любопытно, что в эту минуту его занимала только одна мысль — видела бы его сейчас кузина Джейн! Его ноги в шишковатых изрезанных башмаках делали огромные прыжки, лицо скривилось в подобии усмешки — он сморщил нос, чтоб не соскользнули очки. Направив дуло ружья вперед, на неведомую цель, мчался он среди лунного света и черных теней.
И вдруг охотники столкнулись с человеком, опрометью бегущим навстречу. Это оказался один из часовых, но ружья у него не было.
— Эй! — крикнул Коссар, хватая его за плечи. — Что случилось?
— Они вылезли все сразу, — ответил тот.
— Крысы?
— Да. Шесть штук.
— А где Флэк?
— Он упал.
— Что он говорит? — задыхаясь, спросил Бенсингтон, подбегая к ним. — Флэк упал?
— Да.
— Они все вылезли, одна за другой.
— Как это?
— Выскочили прямо на нас. Я сразу выстрелил из обоих стволов.
— Вы оставили Флэка там?
— Они все кинулись на нас.
— Пойдем, — сказал Коссар. — И ты иди с нами. Покажешь, где Флэк.
Все двинулись дальше. Беглец на ходу рассказывал о недавней схватке. Все теснились вокруг него, один Коссар шагал впереди.
— Где же крысы?
— Наверно, опять ушли в норы. Я удрал, а они кинулись назад, в норы.
— Как же это? Вы зашли им в тыл?
— Мы спустились вниз, к норам. Увидели, что они вылезают, и хотели отрезать им путь. Тогда они запрыгали, точь-в-точь как кролики. Мы побежали с холма и давай стрелять. После первого выстрела они разбежались, а потом как кинутся… Прямо на нас.
— Сколько же их было?
— Шесть или семь.
На опушке леса Коссар приостановился.
— Ты думаешь, они сожрали Флэка? — спросил кто-то часового.
— Одна догнала его.
— Что ж ты не стрелял?
— Как же мне было стрелять?
— Ружья у всех заряжены? — крикнул Коссар через плечо.
Ружья были заряжены.
— Как же Флэк… — сказал кто-то.
— Ты думаешь, Флэк…
— Не теряйте времени! — И Коссар бросился вперед. — Флэк! Флэк! — звал он.
Все поспешили за ним к крысиным норам; недавний беглец держался немного позади всех. Они шли сквозь гигантские сорняки; тут валялась вторая убитая крыса, люди обходили ее. Шли, растянувшись извилистой цепочкой, держа ружья наизготовку, и до боли в глазах всматривались в прозрачную лунную ночь, чтобы не пропустить зловещую тень или лежащее на земле тело. Вскоре они нашли ружье, впопыхах брошенное тем, кто сбежал.
— Флэк! — кричал Коссар. — Флэк!
— Он бежал мимо крапивы и там упал, — подсказал беглец.
— Где?
— Где-то там.
— Где он упал?
Беглец нерешительно повел их наперерез длинным черным теням, но вскоре остановился и обернулся, лицо у него было озабоченное.
— Кажется, здесь.
— Но его здесь нет!
— А его ружье…
— Черт возьми! — с сердцем выругался Коссар. — Куда же все подевалось?
Он шагнул по направлению к склону холма, где в густой черной тени скрывались норы, и остановился, вглядываясь. И снова выругался.
— Если они уволокли его в нору…
Некоторое время все стояли, перекидываясь отрывочными словами. Бенсингтон переводил взгляд с одного на другого, очки его сверкали, как алмазы. Лица людей то отчетливо проступали в холодном свете луны, то уходили в тень и таинственно расплывались. Все что-то говорили, но никто не заканчивал свою мысль. Но вот Коссар решился. Несуразно размахивая руками, он отдавал короткие распоряжения. Выяснилось, что ему нужны лампы. Все, кроме него, двинулись к дому.
— Вы полезете в эти норы? — спросил Редвуд.
— Само собой разумеется, — отвечал Коссар.
И повторил: пускай снимут фонари с двуколки и с тележки и принесут ему.
Наконец Бенсингтон понял, что нужно делать, и по дорожке, огибавшей колодец, пошел к дому. Оглянулся и увидел: Коссар — огромный, неподвижный — задумчиво разглядывает крысиные норы. Бенсингтон остановился и чуть было не повернул назад: Коссара оставили одного…
Впрочем, Коссар и без нянек обойдется.
И вдруг Бенсингтон слабо вскрикнул. Из темных зарослей настурции вынырнули три крысы и кинулись к Коссару. Прошла секунда-другая, прежде чем Коссар их заметил, и тут — откуда взялись быстрота и натиск! Он не стрелял — целиться было некогда, некогда и думать об этом. Крыса прыгнула, он пригнулся, увертываясь, и тотчас обрушил на ее голову страшный удар прикладом. Чудовище подскочило в воздух, перевернулось и рухнуло наземь.
Коссар наклонился и исчез в зарослях, но тотчас же появился вновь: он гнался теперь за другой крысой, яростно размахивая ружьем. До Бенсингтона донесся слабый крик, и он увидел, что две оставшиеся в живых крысы со всех ног удирают обратно в нору, а Коссар мчится за ними.
Все это было странно и неправдоподобно, в обманчивом свете луны метались огромные, причудливые тени. Коссар то вырастал до невероятных размеров, то исчезал во мраке. Крысы то делали гигантские прыжки, то пускались бегом, так быстро перебирая ногами, словно катились на колесиках. Вся эта схватка не на жизнь, а на смерть длилась, наверно, полминуты. Бенсингтон был единственным ее свидетелем. Он слышал, как остальные, ничего не подозревая, уходили к дому. Бенсингтон выкрикнул что-то нечленораздельное и побежал к Коссару, но крысы уже исчезли.
Он догнал Коссара у самых нор. В лунном свете лицо инженера было невозмутимо, словно ничего не произошло.
— Ну, что? — спросил Коссар. — Уже вернулись? А где же фонари? Крысы попрятались обратно в норы. Одной я свернул шею, когда она пробегала мимо. Вон там, видите? — И он ткнул длинным пальцем в сторону.
Бенсингтон не мог вымолвить ни слова: он был потрясен.
Фонарей не было целую вечность. Наконец вдали засветился немигающий яркий глаз, перед ним качался желтый сноп света; потом, подмигивая и вновь разгораясь, показались еще два. С ними приближались маленькие фигурки, они негромко перекликались и отбрасывали громадные тени. В бескрайней призрачной лунной пустыне словно двигался крошечный пылающий оазис.
— Флэк… — слышалось оттуда. — Флэк…
Потом донеслось объяснение:
— Он заперся на чердаке.
Бенсингтон с возрастающим изумлением смотрел на Коссара. Тот заткнул уши огромными кусками ваты. Зачем, спрашивается? Потом зарядил ружье тройным зарядом — кто еще до этого додумался бы? И, наконец, — чудо из чудес! — полез в самую большую нору, и вот уже видны только огромные подошвы его башмаков.
Коссар полз на четвереньках, вокруг шеи он перекинул веревку, на которой волочились за ним два ружья. Самому надежному из его помощников — маленькому человечку с мрачным смуглым лицом — велено было идти следом, согнувшись в три погибели, и держать над его головой фонарь. Все это выглядело просто, ясно и понятно, будто так и надо, — прямо как сон сумасшедшего! Вата в ушах понадобилась, видимо, чтобы не оглохнуть от грохота выстрелов. Маленький человечек тоже заткнул уши. Само собой разумеется, покуда крысы убегают от Коссара, они не могут причинить ему вреда, а как только они повернутся, он увидит их горящие глаза — и будет бить между глаз. А поскольку нора узкая, как труба, промахнуться невозможно. Коссар уверял, что это самый верный способ, пожалуй, немного утомительный, зато надежный. Когда помощник нагнулся, чтобы войти в нору, Бенсингтон увидел, что к полам его куртки привязан конец веревки, моток которой остался в руках у кого-то из товарищей. Это на случай, если придется вытаскивать из норы убитых крыс.
Тут Бенсингтон заметил, что держит в руках шелковый цилиндр Коссара.
Как он сюда попал?
Что ж, останется на память.
У остальных нор сторожили по два-три человека, внутренность каждой норы освещал поставленный на землю фонарь, и стрелки, стоя на коленях, целились в черную тьму перед собой, готовые выпалить, как только из этой тьмы вынырнет зверь.
Долгое, томительное ожидание.
И вдруг раздался первый выстрел Коссара, словно взрыв в шахте глубоко под землей…
У всех напряглись нервы и мускулы, и вот опять — бац, бац! Крысы пытались прорваться к выходу, и еще две были убиты. Потом человек, державший в руках моток веревки, объявил, что она дергается.
— Он там убил крысу и хочет ее вытащить, — пояснил Бенсингтон.
Он смотрел, как веревка разматывается и исчезает в норе: казалось, она вдруг ожила и задвигалась сама собой, потому что мотка не видно было в темноте. Наконец она остановилась, и все замерло в ожидании. А потом Бенсингтону померещилось, что из норы выползает какое-то невиданное чудище, но это оказался маленький помощник Коссара, который пятился задом. За ним, прорывая глубокие борозды в земле, вылезли башмачищи Коссара и, наконец, его освещенная фонарем спина…
В живых осталась теперь только одна крыса, несчастное, обреченное существо; она забилась в самый дальний угол норы, и не так-то просто было ее достать. Но Коссар с фонарем полез туда снова и убил ее. А потом этот фокстерьер во образе человеческом облазил все норы и окончательно убедился, что они пусты.
— Мы их уничтожили, — объявил он наконец потрясенным спутникам, смотревшим на него с благоговением. — Эх, безмозглый я осел! Не догадался, надо было раздеться хотя бы до пояса. Разумеется! Пощупайте мои рукава, Бенсингтон! Весь взмок, хоть выжми. Ну, всего не предусмотришь. Надо выпить побольше виски, а то еще схвачу простуду.
В ту удивительную ночь Бенсингтону минутами казалось, что сама природа создала его для жизни, полной приключений. Эта мысль владела им всего сильнее целый час после того, как он хватил изрядную порцию виски.
— Не вернусь я на Слоун-стрит, — доверительно сообщил он неряшливому белобрысому верзиле механику.
— Вот как?
— И не думайте, — подтвердил Бенсингтон и загадочно покачал головой.
Тащить семь дохлых крыс на погребальный костер, разложенный подле зарослей гигантской крапивы, — нелегкая работа. Бенсингтона прошиб пот, и Коссар объявил, что только виски может спасти его от неминуемой простуды. В старой кирпичной кухне на скорую руку устроили походный ужин, а за окном, у загонов, виднелись под луной разложенные в ряд убитые крысы. Коссар дал своему войску полчаса передышки и вновь повел его на приступ: впереди было еще много работы.
— Само собой разумеется, — сказал он, — здесь нельзя оставить камня на камне. Нет следов, нет и шума. Понятно?
Он уверил их, что ферму надо попросту сровнять с землей. Все, что было в доме деревянного, разбили и раскололи на щепки; все гигантские растения обложили хворостом и щепой; наконец, соорудили гекатомбу из дохлых крыс и щедро полили ее керосином.
Бенсингтон работал, как вол. К двум часам ночи он почувствовал прилив восторженной энергии. В упоении он так размахивал топором, сокрушая все вокруг, что даже самые храбрые из его сотоварищей поспешили убраться подальше. Правда, потом он потерял очки, и это несколько охладило его пыл, но вскоре они нашлись в боковом кармане пиджака.
Вокруг сновали люди, хмурые и энергичные, а Коссар повелевал ими, словно некое божество.
Бенсингтон упивался чувством, что и он частица дружного братства, — эту радостную общность знают воины победоносных армий, путешественники в трудных походах, но ее не суждено испытать горожанам, живущим трезвой, размеренной жизнью. Когда Коссар отобрал у него топор и велел носить щепки, Бенсингтон принялся столь же ретиво трудиться на новом поприще, приговаривая, что все они «славные ребята». Он долго не замечал усталости, но и потом все равно не сдавался.
Наконец все было готово, и они откупорили бочку керосина. Уже брезжил рассвет, редкие звезды погасли, высоко в небе светила одинокая луна.
— Жгите все, — приговаривал Коссар, подходя то к одному, то к другому. — Все дотла, подчистую. Понятно?
В бледном свете занимавшегося дня он промелькнул мимо с пылающим факелом в руке, упрямо выпятив подбородок, и тут Бенсингтон заметил, что их бог измучен и страшен.
— Пойдемте отсюда, — сказал кто-то и потянул Бенсингтона за руку.
Предрассветная тишина — ее не нарушало даже щебетание птиц — вдруг сменилась прерывистым треском; быстрое красноватое пламя побежало по основанию гекатомбы, потом голубые языки его лизнули землю и начали карабкаться от листа к листу по стеблю гигантской крапивы. Потом в треск дерева влилась высокая певучая нота…
Охотники похватали свои ружья, стоявшие в углу гостиной Скилеттов, и кинулись бежать. Позади всех тяжело шагал Коссар.
А потом они стояли в отдалении и глядели на опытную ферму. Там все кипело; дым и пламя, словно охваченные ужасом, рвались из всех окон и дверей, из всех многочисленных щелей и трещин в доме и на крыше. Кто-кто, а Коссар умел разводить костер! Огромный столб дыма, разбрасывая во все стороны кроваво-красные языки пламени, устремился к небесам. Казалось, это вдруг поднялся во весь рост невиданный великан, распростер руки и обхватил все небо. Казалось, вернулась ночь, клубы дыма совсем затмили свет восходящего солнца. Гигантский столб дыма вскоре заметили все жители Хиклибрау и полуодетые, кто в чем, высыпали на холм, навстречу охотникам.
Дым, словно сказочный гриб, качался и рос, поднимаясь выше, выше, прямо в небо, и все внизу под ним казалось мелким и ничтожным, а на его фоне виновники этого переполоха во главе с Коссаром — восемь крошечных черных фигурок — устало шагали по лугу, вскинув ружья на плечо.
Бенсингтон на ходу оглянулся, и в его измученном мозгу зазвучали давно знакомые слова… Как, бить, там? «Вы зажгли сегодня… зажгли сегодня…»
Потом он вспомнил, что это такое. Латимер[1] сказал когда-то: «Мы зажгли сегодня в Англии такую свечу, которую никто на свете не в силах будет погасить…»
Но что за человек этот Коссар! Бенсингтон с восхищением смотрел на его спину и гордился тем, что подержал его шляпу. Да, гордился, хотя сам он был выдающийся ученый-исследователь, а Коссар занимался всего лишь прикладными науками!
На Бенсингтона внезапно напала неудержимая зевота, его начало знобить, и он с неясностью подумал о своей квартирке на Слоун-стрит: хорошо бы сейчас очутиться в мягкой постели, под теплым одеялом! (Впрочем, о кузине Джейн лучше и не вспоминать!) Бенсингтон еле волочил ноги, колени его подгибались. Неужели в Хиклибрау никто не угостит их чашкой горячего кофе! Наверно, уже добрых тридцать три года ему не случалось бодрствовать ночь напролет.
Пока восемь отважных охотников сражались с крысами на опытной ферме, в девяти милях оттуда, в деревне Чизинг Айбрайт, носатая старуха при мигающем свете свечи пыталась справиться с иными заботами. Узловатой рукой она сжимала консервный ключ, другой рукой придерживала банку Гераклеофорбии: жива не буду, а банку открою, решила она. И она трудилась, не щадя себя, ворча при каждой новой неудаче, а через тонкую перегородку доносился неумолчный плач маленького Кэддлса.
— Ах ты мой бедняжка! — приговаривала миссис Скилетт и, решительно прикусив губу своим единственным зубом, с новой яростью набрасывалась на банку. — Ну, открывайся же!
Наконец, крышка с треском отлетела, и новый запас Пищи богов вырвался на свет божий, чтобы распространять в мире новые семена гигантизма.
4. Гигантские дети
Теперь забудем хотя бы на время о событиях на опытной ферме и их последствиях, которые все ширились, как круги по воде, ибо гигантские грибы и поганки, травы и сорняки долго еще росли и распространялись вокруг этого выжженного, но не до конца уничтоженного очага зла. Не станем также рассказывать о том, как две уцелевшие гигантские курицы — злополучные старые девы, которым суждено было удивлять мир, — провели остаток дней своих в безрадостной славе, так и не произведя на свет ни одного цыпленка. Читатели, которые жаждут подробностей, могут обратиться к газетам того времени — обширным, бесстрастным отчетам этого современного Летописца. Мы же последуем за мистером Бенсингтоном в самую гущу событий.
Возвратясь в Лондон, он вдруг обнаружил, что стал невероятно знаменит. За одну ночь весь окружающий мир проникся почтением к нему. Все поняли, что он герой дня. Кузина Джейн, видно, уже все знала, и каждый встречный и поперечный тоже все знал, а газеты знали все и даже больше. Конечно, очень страшно было показаться на глаза кузине Джейн, но потом выяснилось, что бояться нечего. Эта милая особа, видно, убедилась, что факты — вещь упрямая и с ними ничего не поделаешь, и примирилась с Пищей как с неким стихийным явлением.
Итак, кузина Джейн стала в позу жертвы долга. Она явно не одобряла происходящее, но ничего не запрещала. Бегство Бенсингтона — а именно так она истолковала его исчезновение, — очевидно, потрясло ее, и она ограничилась тем, что ожесточенно, жертвенно день и ночь выхаживала его от простуды, которую он так и не подхватил, и от усталости, о которой он давно забыл; она купила ему новоизобретенное гигиеническое шерстяное белье, которое очень напоминало высшее общество: оно то и дело выворачивалось наизнанку, и к нему так же трудно было приспособиться, тем более человеку рассеянному. Итак, насколько позволяли вышеуказанные обстоятельства, Бенсингтон еще некоторое время участвовал в совершенствовании Пищи богов — этой новой движущей силы в истории человечества.
Общественное мнение, пути которого неисповедимы, объявило Бенсингтона единственным создателем и производителем этого нового чуда природы. Редвуда оно не признавало и равнодушно предоставило скромному по природе Коссару усиленно заниматься полюбившимся ему делом в тиши и безвестности. А мистер Бенсингтон и оглянуться не успел, как его, что называется, разобрали на части, разложили по полочкам и выставили на самом видном месте для всенародного обозрения. Его лысина, румяные щеки и золотые очки стали всеобщим достоянием. Время от времени к нему заявлялись необыкновенно решительные молодые люди, увешанные большущими и, наверно, очень дорогими фотографическими аппаратами; они хозяйничали в доме недолго, но весьма успешно, ослепляли всех вспышками магния, который надолго заполнял квартиру невыносимым зловонием, и быстро исчезали, чтобы заполнить страницы своих газет и журналов превосходными фотографиями мистера Бенсингтона во весь рост в одном из его лучших пиджаков и в башмаках с разрезами. Нередко на Слоун-стрит заглядывали и другие столь же решительные лица обоего пола и всех возрастов, болтали всякую всячину про Чудо-пищу — первым ее назвал так журнал «Панч», — а затем спешили тиснуть интервью, приписывая мистеру Бенсингтону свои же собственные слова. Известный юморист Бродбим просто помещался на новом открытии. Оно оказалось для него одним из тех «проклятых» вопросов, которых он никак не мог понять, и он лез из кожи вон, силясь уничтожить Пищу богов своими злыми остротами. Грузный и неуклюжий, с одутловатым лицом, носившим явные следы ночных кутежей, он появлялся то в одном, то в другом клубе и внушал каждому, кого удавалось ухватить за пуговицу:
— Да поймите же, все эти ученые начисто лишены чувства юмора. В том-то и дело! Эта окаянная наука убивает юмор!
Его насмешки над Бенсингтоном постепенно превратились в злобную клевету.
Предприимчивая контора газетных вырезок прислала Бенсингтону длиннейшую статью о нем из дешевого еженедельника, озаглавленную «Новый ужас», и предложила снабдить его еще сотней таких развлекательных статеек всего за одну гинею. А однажды к нему явились с визитом две совершенно незнакомые, но неотразимо прелестные молодые, дамы, к немому возмущению кузины Джейн остались пить чай, а потом прислали ему свои альбомы с просьбой написать им что-нибудь на память. Вскоре наш ученый муж перестал обращать внимание на то, что пресса связывает его имя со всякими нелепыми выдумками, а в обзорах появляются статьи о Чудо-пище и о нем самом, написанные в чрезвычайно интимном тоне людьми, о которых он в жизни не слыхал. И если в те давние дни, когда он был безвестен и ничуть не знаменит, он втайне и мечтал о славе и ее радостях, то теперь эти иллюзии рассеялись, как дым.
Впрочем, вначале общественное мнение, если не считать Бродбима, вовсе не было настроено враждебно. Мысль, что Гераклеофорбия снова может вырваться на волю, возникала разве что в шутку. И никому не приходило в голову, что нескольких малюток уже кормят Пищей богов и скоро они перерастут человечество. Широкая публика развлекалась карикатурами на видных общественных деятелей, подкормленных Гераклеофорбией, всякого рода афишками и поучительными зрелищами, вроде выставленных напоказ мертвых ос, избежавших сожжения, и уцелевших кур.
Дальше этого общественное мнение не шло и вперед не заглядывало; и даже когда предприняты были настойчивые попытки заставить его задуматься о дальнейших последствиях удивительного открытия, расшевелить его оказалось нелегко. «Каждый день приносит что-нибудь новенькое, — равнодушно говорила публика, давно пресыщенная новшествами (никто, наверно, не удивился бы, узнав, что земной шар разрезали пополам, как яблоко). — Поживем — увидим».
Однако вне широкой публики нашлись два-три человека, которые догадались заглянуть подальше в будущее и испугались того, что увидели. Так, молодой Кейтэрем, родич графа Пьютерстоуна, весьма многообещающий политический деятель, рискуя прослыть чудаком, опубликовал в журнале «Девятнадцатое столетие и грядущие века» большую статью, в которой призывал окончательно и бесповоротно запретить Гераклеофорбию. Надо сказать, что опасения подчас одолевали и самого Бенсингтона.
— По-моему, они не понимают… — говорил он Коссару.
— Конечно, нет.
— А мы? Как подумаю иной раз, к чему это может привести… Бедный сынишка Редвуда!.. И ваши трое… Ведь они, пожалуй, вытянутся футов до сорока… Да полно, надо ли нам продолжать?
— Надо ли продолжать! — воскликнул Коссар, и вся его нелепая фигура выразила крайнюю степень изумления, а голос зазвучал еще пронзительнее, чем всегда. — Конечно, надо! А для чего вы существуете на свете? Неужели только для того, чтобы зевать от завтрака до обеда и от обеда до ужина?
— Серьезные последствия? — взвизгнул он. — Конечно! Еще какие! Само собой разумеется! Само собой! Да поймите же, раз в жизни выпал вам случай вызвать серьезные изменения в мире! И вы хотите его упустить! — Он запнулся, не в силах выразить свое возмущение. — Это просто грешно! — вымолвил он наконец и повторил с яростью: — Грешно!
Но Бенсингтон работал теперь в своей лаборатории без прежнего увлечения. Нрава он был спокойного и не так уж сильно жаждал серьезных изменений в мире. Конечно, Пища — удивительное открытие, просто удивительное, но… Он уже оказался владельцем нескольких акров выжженной, опустошенной земли возле Хиклибрау; она обошлась ему чуть ли не по девяносто фунтов за акр, и временами ему казалось, что это — достаточно серьезное последствие теоретической химии, с такого скромного человека, пожалуй, хватит. Правда, он еще и знаменит — отчаянно знаменит. Достиг такой славы, что с него вполне довольно, даже с избытком.
Но он был исследователь и слишком привык служить науке… И выдавались такие минуты, правда, редкие, — обычно это бывало в лаборатории, — когда Бенсингтон работал не только в силу привычки или благодаря уговорам Коссара. Этот маленький человечек в очках сидел на высоком стуле, обхватив его ножки ногами в суконных башмаках с разрезами, сжимал в руке пинцет для мелких разновесов — и мгновениями вновь озаряла его мечта юности, и опять верилось, что вечно будут жить и расти идеи, зерно которых зародилось в его мозгу. Где-то в облаках, за уродливыми происшествиями и горестями настоящего, виделся ему грядущий мир гигантов и все великое, что несет с собой будущее, — видение смутное и прекрасное, словно сказочный замок, внезапно сверкнувший на солнце далеко впереди… А потом это сияющее видение исчезало без следа, словно его и не бывало, и опять впереди маячили лишь зловещие тени, пропасти и тьма, и холодные дикие пустыни, населенные ужасными чудовищами.
Среди сложных и запутанных происшествий — отзвуков огромного внешнего мира, создавшего мистеру Бенсингтону славу, — понемногу выступила яркая и деятельная фигура, которая стала в глазах мистера Бенсингтона олицетворением всего, что творилось вокруг. Это был доктор Уинклс, самоуверенный молодой врач, уже упоминавшийся в нашем повествовании, тот самый, через которого Редвуд давал Пищу богов своему сынишке. Еще до того, как мир потрясла сенсация, таинственный порошок очень заинтересовал этого джентльмена, а как только появились сообщения о гигантских осах, он без труда сообразил, что к чему.
Доктор Уинклс был из тех врачей, о которых, судя по их нравственным принципам, методам, поведению и внешности, говорят очень точно и выразительно: «Этот далеко пойдет». Это был крупный белесый блондин с холодными светло-серыми глазами, настороженными и непроницаемыми, с правильными чертами лица и волевым подбородком. Он был всегда безупречно выбрит, держался прямо; движения энергичные, походка быстрая, пружинистая; он носил длинный сюртук, черный шелковый галстук и строгие золотые запонки, а его цилиндры — какой-то особенной формы и с особенными полями — были ему очень к лицу и еще прибавляли солидности и внушительности. Возраст его трудно было определить. А когда вокруг Пищи богов поднялся шум, он присосался к Бенсингтону, к Редвуду и к самой Пище; при этом у него был такой уверенный хозяйский вид, что даже Бенсингтону временами начинало казаться, будто Уинклс и есть первооткрыватель и изобретатель, хотя в газетах и пишут совсем другое.
— Всякие досадные случайности ничего не значат, — сказал Уинклс, когда Бенсингтон намекнул ему, что опасается новой утечки Пищи: как бы не было беды. — Это пустяки. Важно открытие. Если с ним правильно обращаться, осторожно применять и разумно контролировать, то… то наша Пища может стать просто феноменальным средством… Но нам нельзя выпускать ее из поля зрения. Мы должны держать ее в руках, но… но не годится, чтобы она пропадала втуне.
Да, оставлять ее втуне Уинклс явно не собирался. Он бывал теперь у Бенсингтона чуть не каждый день. Выглянет Бенсингтон из окна, а элегантный экипаж Уинклса уже катит по Слоун-стрит; кажется, минуты не прошло — и вот Уинклс уже входит в комнату быстрым, энергичным шагом и сразу же заполняет ее своей персоной, вытаскивает свежую газету и принимается рассказывать новости, приправляя их собственными комментариями.
— Ну-с, — начинал он, потирая руки, — каковы наши успехи? — И, не дожидаясь ответа, выкладывал подряд все, что о них говорили в городе.
— Знаете ли вы, — сообщал он, например, — что Кейтэрем выступал по поводу нашей Пищи в Обществе ревнителей церкви?
— Бог ты мой! — изумлялся Бенсингтон. — Ведь он как будто родня премьер-министру?
— Да, — отвечал Уинклс. — Способный юноша, очень способный. Правда, он ярый реакционер и необыкновенно упрям, но очень способный. И, видимо, намерен составить себе капиталец на нашем открытии. Весьма горячо взялся за дело. Речь шла о нашем предложении испробовать Пищу в начальных школах.
— Как?! Когда мы это предлагали?!
— Да я на днях вскользь упомянул об этом на маленьком совещании в Политехническом. Пытался объяснить им, что Пища в самом деле очень полезна и совершенно безопасна, хотя вначале и случались мелкие неприятности… осы и прочее. Но ведь с этим покончено раз и навсегда. А Пища и в самом деле очень полезна… Ну, он и придрался.
— Что вы еще говорили?
— Так, совершенные пустяки. Но, как видите, он-то все принял всерьез. Считает, что это угроза обществу. Уверяет, что на начальные школы и без того попусту тратятся огромные деньги. Повторяет старые анекдоты об уроках музыки и прочую чепуху. Пускай, мол, дети низших сословий получают образование, какое соответствует их положению, никто у них этого не отнимает, а вот дать им такую Пищу — значит вскружить им головы. Ну, и так далее. Разве, мол, это пойдет на благо обществу, если бедняки будут тридцати шести футов ростом! И знаете, он в самом деле уверен, что они дорастут до тридцати шести футов.
— Так оно и будет, если регулярно кормить их нашей Пищей, — подтвердил Бенсингтон. — Но ведь никто ни о чем таком не заикался…
— Я заикался.
— Но, дорогой мой Уинклс…
— Конечно, они будут большие, — прервал Уинклс с таким видом, словно он все это знает наизусть и наивность Бенсингтона ему просто смешна. — Вне всякого сомнения. Но вы послушайте, что он говорит: станут ли они от этого счастливей? Это его главный козырь. Забавно, правда? Станут ли они от этого лучше? Станут ли больше уважать законную власть? Да и справедливо ли так обращаться с детьми? Забавно, что люди вроде Кейтэрема всегда ратуют за справедливость, но только в отдаленном будущем. Даже в наши дни, говорит он, многим родителям не под силу одеть и прокормить детей, а что же будет, если им позволят дорасти до таких размеров! Как вам это нравится?
Понимаете, каждое мое мимоходом брошенное слово он выдает за деловое предложение. И сразу начинает высчитывать, сколько будет стоить пара брюк для мальчишки футов двадцати ростом. Будто он и в самом деле верит… И приходит к выводу, что если только-только соблюсти приличия — и то не меньше десяти фунтов стерлингов. Забавный этот Кейтэрем! Такой трезвый ум! И, конечно, говорит, расплачиваться за все придется честному труженику-налогоплательщику. И еще, говорит, мы обязаны уважать права родителей. Вот тут все это написано черным по белому. Две колонки. Каждый родитель имеет право требовать, чтобы его дети были такого же роста, как и он сам…
Потом Кейтэрем поднимает вопрос о школьной мебели — сколько, мол, будут стоить огромные классы и парты, а ведь наши школы и без того обходятся государству недешево. И все для чего? Для того, чтобы пролетариат состоял из голодных великанов. А в конце статьи он совершенно серьезно заявляет, что даже если безумное предложение — это мое-то брошенное вскользь замечание, да еще и превратно истолкованное! — даже если это предложение насчет школ и не пройдет, то все равно нужно быть начеку. Мол, Пища эта странная, уж такая странная, чуть ли не греховная. С нею, мол, обращались очень неосторожно, и нет никакой гарантии, что это не повторится. А если вы хоть раз ее отведали, то волей-неволей должны принимать ее и дальше, не то отравитесь.
— Так оно и есть, — вставил Бенсингтон.
— Короче говоря, он предлагает образовать Национальное Общество Охраны Надлежащих Пропорций. Странно звучит, а? Они там сразу ухватились за эту идею.
— Но чем же станет заниматься это Общество?
Уинклс пожал плечами и развел руками.
— Организуется и начнет шуметь, — ответил он. — Они хотят именем закона запретить производство Гераклеофорбии или хотя бы всякие сообщения о ней. Я кое-что написал об этом, доказывал, что Кейтэрем преувеличивает силу воздействия нашей Пищи, просто делает из мухи слона, но это не помогло. Даже удивительно, как все вдруг на нее ополчились. Между прочим, и Национальное Общество Трезвости и Умеренности основало филиал под девизом: Умеренность в росте.
— М-да-а, — протянул Бенсингтон и подергал себя за нос.
— Конечно, после происшествий в Хиклибрау этого следовало ожидать. Непривычных людей Пища просто-напросто путает.
Уинклс походил по комнате, постоял в нерешительности — и отбыл.
Стало ясно, что есть у него что-то на уме, какая-то задняя мысль, и он только и ждет удобной минуты, чтобы высказаться. Однажды, когда у Бенсингтона был и Редвуд, Уинклс приоткрыл им свои тайные планы.
— Ну-с, как дела? — спросил он, по обыкновению потирая руки.
— Составляем нечто вроде доклада.
— Для Королевского общества?
— Да.
— Гм, — глубокомысленно промычал Уинклс и направился к камину. — Гм… А нужно ли это? Вот в чем вопрос.
— То есть?
— Нужно ли публиковать этот доклад?
— Так ведь у нас не средние века, — возразил Редвуд.
— Это я знаю.
— Как говорит Коссар, обмен идеями — вот истинно научный метод.
— В большинстве случаев — конечно. Но… это случай исключительный.
— Мы представим доклад Королевскому обществу, как и положено, — сказал Редвуд.
Позднее Уинклс опять вернулся к этому разговору.
— Все-таки Пища — во многих отношениях исключительное открытие.
— Это неважно, — ответил Редвуд.
— Оно может породить серьезные злоупотребления… Чревато серьезными опасностями, как выражается Кейтэрем.
Редвуд промолчал.
— И даже простая небрежность тоже чревата… А вот если бы нам образовать комиссию из самых надежных людей для контроля над производством Чудо-пищи… то есть Гераклеофорбии… мы могли бы…
Он умолк, но Редвуд, втайне чувствуя себя неловко, все же сделал вид, будто не заметил его вопросительной интонации.
Всюду и везде (только не в присутствии Редвуда и Бенсингтона) Уинклс, хоть и знал для этого слишком мало, выступал в роли главного авторитета по Чудо-пище. Он писал письма в ее защиту, сочинял записки и статьи, в которых разъяснял ее возможности, и совершенно не к месту вскакивал на заседаниях научных и медицинских обществ, чтобы высказаться о ней; словом, всем и каждому старался внушить, что он и Пища нераздельны. Наконец он напечатал брошюру под названием «Правда о Чудо-пище», где постарался представить в самом безобидном свете все, что произошло в Хиклибрау. Нелепо даже думать, утверждал он, будто Чудо-пища может довести рост человека до тридцати семи футов, это — «явное преувеличение». Конечно, люди станут немного повыше, но и только…
Двум ученым друзьям было ясно одно: Уинклс непременно хочет участвовать в изготовлении Гераклеофорбии; он готов был читать любые корректуры для любых газет и изданий, которые печатали материалы о Чудо-пище, — одним словом, всячески старался проникнуть в тайну ее изготовления. Опять и опять он твердил им обоим, что понимает, какая это огромная сила и какие огромные у нее возможности. Но ее создатели непременно должны как-то себя «обезопасить»… В конце концов он напрямик спросил, как они ее изготовляют.
— Я тут обдумывал ваши слова, — начал Редвуд.
— И что же? — оживился Уинклс.
— Вы говорили, что такое открытие может породить серьезные злоупотребления, — напомнил Редвуд.
— Да. Но я не понимаю, какая связь…
— Самая прямая, — ответил Редвуд.
Несколько дней Уинклс обдумывал этот разговор. Потом пришел к Редвуду и заявил, что чувствует себя не вправе давать его сыну порошок, о котором сам ничего не знает; ведь это означает брать на себя чрезмерную ответственность, идти на ничем не оправданный риск. Тут Редвуд, в свою очередь, призадумался.
Между тем Уинклс заговорил о другом:
— Вы заметили? Общество борьбы с Чудо-пищей заявило, что оно насчитывает уже несколько тысяч членов. Они внесли законопроект и уговорили молодого Кейтэрема провести его в парламенте; он охотно согласился. Они так и рвутся в бой. Организуют в округах комитеты, дабы влиять на кандидатов. Хотят добиться, чтобы нельзя было изготовлять и хранить Гераклеофорбию без особого на то разрешения, — это будет караться законом. А если кто-нибудь станет кормить Чудо-пищей (так они ее называют) лицо, не достигшее совершеннолетия, значит, он уголовный преступник и его засадят в тюрьму, и даже нельзя будет отделаться штрафом. Но появились еще и параллельные общества. Состав у них самый пестрый. Говорят, Национальное Общество Охраны Надлежащих Пропорций хочет ввести в правление мистера Фредерика Гаррисона, — он ведь написал этакое изящное эссе, утверждает, что слишком большой рост — это пошло и грубо и в корне противоречит учению Огюста Конта о путях развития человечества. Даже восемнадцатый век — век заблуждений — не докатывался до таких крайностей. Конту мысль о подобной Пище и в голову не приходила, а отсюда ясно, что затея эта дурна и греховна. Ни один человек, говорит Гаррисон, который действительно понимает Конта…
— Но неужели… — прервал Редвуд: он так встревожился, что даже забыл на миг о своем презрении к Уинклсу.
— Ничего этого они не сделают, — ответил Уинклс, — но общественное мнение остается общественным мнением, и голоса избирателей остаются голосами. Все видят, что от вашей выдумки одно беспокойство. А человек — это существо, которое не любит, чтобы его беспокоили. Когда Кейтэрем кричит, что люди будут тридцати семи футов ростом и не смогут войти в церковь, или в молитвенный дом, или в какое-либо общественное здание или учреждение, потому что они там не поместятся, ему вряд ли кто верит, и все-таки всем становится не по себе. Все чувствуют, что тут что-то есть… что это не простое открытие.
— Что-то есть во всяком открытии, — заметил Редвуд.
— Как бы там ни было, люди волнуются. Кейтэрем долбит, как дятел, одно и то же: а вдруг Пища опять вырвется из-под контроля и опять, начнутся всякие ужасы. Я не устаю повторять, что этого быть не может и не будет, но… Вы же знаете, каковы люди!
Уинклс еще некоторое время пружинисто шагал по комнате, словно собираясь опять заговорить о секрете изготовления Пищи, но потом вдруг передумал и откланялся.
Ученые переглянулись. Несколько минут говорили только глаза. Наконец Редвуд решился.
— Что ж, — с нарочитым спокойствием сказал он, — на худой конец я буду давать Пищу моему маленькому Тедди собственными руками.
Прошло всего несколько дней, и, раскрыв утреннюю газету, Редвуд увидел сообщение о том, что премьер-министр намерен созвать Королевскую комиссию по Чудо-пище. С газетой в руке Редвуд помчался к Бенсингтону.
— Я уверен, это все проделки Уинклса. Он играет на руку Кейтэрему. Без конца болтает о Пище и о ее последствиях и только будоражит людей. Если так будет продолжаться, он повредит нашим исследованиям. Ведь даже сейчас… когда у нас такие неприятности с моим малышом…
Бенсингтон согласился, что это очень дурно со стороны Уинклса.
— А вы заметили, что он теперь тоже называет ее только Чудо-пищей?
— Не нравится мне это название, — сказал Бенсингтон, глядя на Редвуда поверх очков.
— Зато для Уинклса в нем вся суть.
— А чего он, собственно, к ней прицепился? Он же тут совершенно ни при чем.
— Понимаете, он старается ради рекламы, — сказал Редвуд. — Я-то плохо понимаю, для чего это. Конечно, он тут ни при чем, но все начинают думать, что он-то ее и выдумал. Разумеется, это не имеет значения…
— Но если они от этой невежественной, нелепой болтовни перейдут к делу… — начал Бенсингтон.
— Мой Тедди уже не может обойтись без Пищи, — сказал Редвуд. — Я тут ничего не могу поделать. На худой конец…
Послышались приглушенные пружинистые шаги, и посреди комнаты, по-обыкновению потирая руки, возник Уинклс.
— Почему вы всегда входите без стука? — спросил Бенсингтон, сердито глядя поверх очков.
Уинклс поспешно извинился.
— Я рад, что застал вас здесь, — сказал он Редвуду. — Дело в том…
— Вы читали об этой Королевской комиссии? — прервал его Редвуд.
— Да, — ответил Уинклс, на минуту растерявшись. — Да.
— Что вы об этом думаете?
— Превосходная мысль, — сказал Уинклс. — Комиссия прекратит весь этот крик и шум. Разрешит все сомнения. Заткнет глотку Кейтэрему. Но я пришел не за этим, Редвуд. Дело в том…
— Не нравится мне эта Королевская комиссия, — сказал Бенсингтон.
— Все будет в порядке, уверяю вас. Могу вам сообщить — надеюсь, это не сочтут разглашением тайны, — что я, возможно, тоже войду в состав комиссии.
— Гм-м, — промычал Редвуд, глядя в огонь.
— Я могу все повернуть, как надо. Могу доказать, что, во-первых, эту самую Пищу совсем нетрудно держать под контролем, и, во-вторых, что катастрофа вроде той, какая произошла в Хиклибрау, просто не может повториться, разве только чудом. А такое авторитетное заявление — это именно то, что нужно. Конечно, я мог бы говорить с большей убежденностью, если бы знал… но это так, к слову. А сейчас я хотел бы с вами посоветоваться, тут встает один небольшой вопрос. М-м… Дело в том, что… Собственно… Я оказался в несколько затруднительном положении, и вы могли бы мне помочь.
Редвуд удивленно поднял брови, но в душе обрадовался.
— Дело… м-м… совершенно секретное.
— Говорите, не бойтесь, — подбодрил Редвуд.
— Недавно моим попечениям вверили ребенка… м-м… ребенка одной… м-м… высокопоставленной особы.
Уинклс откашлялся.
— Мы вас слушаем, — сказал Редвуд.
— Признаться, тут немалую роль сыграл ваш порошок… и ведь широко известно, как я вылечил вашего малыша… Что скрывать, многие сейчас настроены очень враждебно по отношению к Пище… И все же среди наиболее разумных людей… Но действовать нужно осторожно, понимаете? Очень постепенно. И, однако, ее светлость… я хочу сказать, моя новая маленькая пациентка… Собственно, это предложил ее отец… Сам я никогда бы не…
Редвуд с изумлением заметил, что Уинклс смущен.
— А я думал, вы сомневались, следует ли применять этот порошок, — сказал он.
— Это было минутное сомнение.
— И вы не собираетесь прекратить…
— В отношении вашего малыша? Конечно, нет!
— Насколько я понимаю, это было бы убийством.
— Я бы ни за что на это не пошел.
— Вы получите порошок, — сказал Редвуд.
— А не могли бы вы…
— Нет, — сказал Редвуд. — Никаких рецептов не существует. Простите за откровенность, Уинклс, но напрасно вы стараетесь. Я приготовлю порошок сам.
— Что ж, мне все равно, — буркнул Уинклс, метнув злобный взгляд на Редвуда. — Да, все равно. — И, чуть помедлив, прибавил: — Уверяю вас, меня это ничуть не огорчает.
Когда Уинклс ушел, Бенсингтон стал перед камином и посмотрел на Редвуда.
— Ее светлость, — задумчиво сказал он.
— Ее светлость, — откликнулся Редвуд.
— Это принцесса Везер-Дрейбургская!
— Ни много ни мало троюродная сестра самого…
— Редвуд, — сказал затем Бенсингтон, — я знаю, это смешно, но… как, по-вашему, Уинклс понимает?
— Что именно?
— Понимает он, что это такое? — Бенсингтон невидящими глазами уставился на дверь и понизил голос. — Понимает он по-настоящему, что в семействе… в семействе его новой пациентки…
— Ну, ну, — поторопил Редвуд.
— В семействе, где все испокон веку были несколько… несколько ниже…
— Ниже среднего роста?
— Да. И вообще в этой семье все всегда были уж так скромны, решительно ничем не выделялись… а он собирается вырастить августейшую особу совершенно выдающуюся… такого… такого роста! Знаете, Редвуд, боюсь, тут есть что-то… это почти государственная измена.
Он перевел глаза на Редвуда.
— Вот, ей-богу, он ничего не понимает! — воскликнул Редвуд и погрозил камину пальцем. — Этот человек вообще ничего не знает и не понимает. Меня это злило, еще когда он был студентом. Ничего не понимает. Он сдавал все экзамены, запоминал все факты, а знаний у него было ровно столько же, сколько у книжной полки, на которой стоит Британская энциклопедия. Он и теперь ничего не знает и не понимает. Такой Уинклс способен воспринять только то, что прямо и непосредственно касается его великолепной персоны. Он начисто лишен воображения, а потому не способен к познанию. Лишь такой безнадежный тупица и может сдать столько экзаменов, так хорошо одеваться и стать таким преуспевающим врачом. То-то и оно! Он все слышал, все видел, мы ему обо всем говорили, — и, однако, он совершенно не понимает, что натворил. У него в руках Чудо, на Чудо-пище он уже заработал себе чудо-имя, а теперь кто-то допустил его к августейшему ребенку, и он поистине делает чудо-карьеру! И ему, разумеется, не приходит в голову, что перед семейством Везер-Дрейбургов скоро встанет огромной трудности задача — принцесса ростом в тридцать с лишним футов… но где уж ему до этого додуматься!
— Будет страшный скандал, — заметил Бенсингтон.
— Да, примерно через год.
— Как только увидят, что она все растет и растет.
— Разве что постараются это скрыть… Так всегда делается…
— Такое не спрячешь, это не иголка.
— Да уж!..
— Что же они будут делать?
— Они никогда ничего не делают — королевским семействам это не подобает.
— Ну, что-то предпринять все-таки придется.
— Может быть, она сама найдет выход?
— О господи! Вот это да!
— Они ее запрячут подальше. Такие случаи в истории бывали. — И Редвуд вдруг совсем некстати захохотал. — Ее громаднейшая светлость! Резвое дитя в Железной маске! Им придется посадить ее в самую высокую башню родового замка Везер-Дрейбургов, она будет расти все выше и выше, — и они станут пробивать потолки, этаж за этажом… Что ж, я и сам в таком нее положении. А Коссар со своими тремя мальчуганами? А… ну и ну!
Но Бенсингтон не смеялся.
— Будет страшный скандал, — повторил он. — Просто ужасный. Хорошо ли вы все это обдумали, Редвуд? Может быть, разумнее предупредить Уинклса? Может быть, постепенно отлучим вашего малыша от Пищи и… и удовольствуемся чисто теоретическими выкладками?
— Посидели бы вы полчасика у нас в детской, когда Пища чуть запаздывает, по-другому бы заговорили! — с досадой сказал Редвуд. — Предупредить Уинклса — ну нет! Раз уж нас захватило течением, страшно не страшно, а придется плыть.
— Значит, придется, — ответил Бенсингтон, задумчиво уставясь на носки своих башмаков. — Да. Придется плыть. И вашему малышу придется плыть, и мальчикам Коссара — он кормит Пищей всех троих. Коссар не признает полумер — все или ничего. И ее светлости придется. И всем вообще. Мы будем и дальше готовить Пищу. И Коссар тоже. Ведь это только самые первые шаги, Редвуд. Нам еще многое предстоит, это ясно. Впереди величайшие события, невероятные… Я себе и представить не могу, Редвуд… Вот только одно…
Он принялся разглядывать свои ногти, потом сквозь очки кротко поглядел на Редвуда.
— А знаете, — сказал он, — в иные минуты я склонен думать, что Кейтэрем прав. Наша Пища опрокинет все соотношения и пропорции в мире. Она изменит… да она все на свете изменит!
— Что бы она там ни меняла, а мой малыш должен и дальше ее получать, — сказал Редвуд.
На лестнице послышались торопливые тяжелые шаги, и в дверь просунулась голова Коссара.
— Ого! — сказал он, поглядев на их лица, и вошел. — Что у вас тут стряслось?
Они рассказали ему о принцессе.
— Трудная задача? — вскричал он. — Ничего подобного! Она будет расти, только и всего. И ваш мальчик тоже. И все, кому дают Пищу, будут расти. Как на дрожжах. Ну и что же? В чем загвоздка? Так оно и должно быть. Ясно даже младенцу. Что вас смущает?
Друзья попытались объяснить ему.
— Прекратить?! — завопил Коссар. — Да вы что? Даже если бы вы и захотели — шалишь! Вам теперь податься некуда. И Уинклсу податься некуда. Так оно и должно быть. А я-то не мог понять, что надо этому проныре. Теперь ясно. Ну и в чем дело? Нарушит пропорции? Разумеется. Изменит все на свете? Непременно. В конечном счете перевернет всю жизнь, судьбы человеческие. Ясно. Само собой. Они попытаются все это остановить, но они уже опоздали. Они всегда опаздывают. А вы гните свое и делайте больше Пищи, как можно больше. Благодарите бога, что не зря живете на земле.
— А столкновение интересов? — возразил Бенсингтон. — А социальные конфликты? Вы, видно, не представляете себе…
— Мямля вы, Бенсингтон, — сказал Коссар, — размазня. Этакий талантище, даже страшно, а воображает, что все его назначение в жизни — пить, есть и спать. Для чего, по-вашему, создан мир — чтобы в нем хозяйничали старые бабы? Ну, да теперь уж ничего не попишешь, придется вам делать свое дело.
— Боюсь, что вы правы, — вздохнул Редвуд. — Понемножку…
— Нет! — оглушительно крикнул Коссар. — Никаких «понемножку»! Давайте побольше Пищи, да поскорее! Засыпьте ею весь мир!
В своем возбуждении он даже сострил — взмахнул рукой, как бы изображая кривую, вычерченную некогда Редвуд ом.
— Помните, Редвуд? Вот так, только так!
Как видно, и материнской гордости есть предел; миссис Редвуд достигла его в тот день, когда ее отпрыск, едва ему исполнилось шесть месяцев, проломил свою дорогую колясочку и с громким ревом прибыл домой на тележке молочника. Весил он в то время пятьдесят девять с половиной фунтов[2], ростом был сорока восьми дюймов и мог поднять шестьдесят фунтов. Наверх в детскую его тащили вдвоем — кухарка и горничная. После этого случая стало ясно, что не сегодня-завтра разоблачения не миновать.
Однажды, вернувшись из лаборатории, Редвуд застал свою несчастную жену за чтением увлекательнейшего журнала «Могущественный атом»; она тотчас отшвырнула журнал, кинулась к мужу и разразилась слезами.
— Скажи, что ты сделал с ребенком! — рыдала она у него на груди. — Что ты с ним сделал?!
Редвуд обнял ее и повел к дивану; надо было как-то оправдываться.
— Не волнуйся, дорогая, — приговаривал он. — Не волнуйся. Ты немного переутомилась. Просто коляска была дрянная. Я уже заказал для него крепкое кресло на колесах, и завтра…
Миссис Редвуд подняла на мужа заплаканные глаза.
— Кресло на колесах? Для такого крошки? — всхлипнула она.
— А почему бы и нет?
— Как будто он калека!
— Не калека, а юный великан, и ты напрасно этого стыдишься.
— Ты что-то сделал с ним, Денди, — сказала она. — Я по твоему лицу вижу.
— Ну, во всяком случае, это не помешало ему расти, — безжалостно ответил Редвуд.
— Так я и знала! — воскликнула миссис Редвуд и скомкала в руке платок. Взгляд ее стал жестким и подозрительным. — Что ты сделал с нашим ребенком?
— А что тебя беспокоит?
— Он такой огромный. Он просто чудовище.
— Чепуха. Складный, крепкий ребенок. Что тебя тревожит?
— Посмотри, какой он громадный.
— Ну и что же? А ты посмотри, сколько кругом жалких недоростков! Прекрасный ребенок, другого такого поискать…
— Слишком прекрасный, — возразила миссис Редвуд.
— Так будет недолго, — успокоил муж. — Это только начало такое бурное.
Но он отлично знал, что так будет еще долго — ребенок будет расти и расти. Так оно и вышло. Когда мальчику исполнился год, ему недоставало только дюйма до пяти футов роста, а весил он сто пятнадцать фунтов. Теперь он был точь-в-точь херувим на соборе святого Петра в Риме, а после того как он несколько раз играючи ухватил за волосы и за нос любопытных, приходивших на него взглянуть, о его силе заговорил весь Западный Кенсингтон. Поднять его на руки было невозможно, в детскую и обратно его возили на инвалидном кресле, а для прогулок была нанята особая нянька — эта мускулистая, специально обученная девица вывозила его на прогулку в сделанной на заказ моторной коляске мощностью в восемь лошадиных сил, вроде тех, что предназначены для подъема в горы. Хорошо, что Редвуд, в дополнение к своим ученым занятиям, был еще и правительственным техническим экспертом и сохранил кое-какие связи.
Конечно, размеры юного Редвуда в первую минуту поражали, — говорили мне люди, чуть не каждый день смотревшие, как он неторопливо катил в своей коляске по Гайд-парку, — но только опомнишься от удивления — и видишь, что вообще-то он на редкость смышленый и красивый ребенок. Он почти никогда не плакал, и незачем было затыкать ему рот соской. Обычно он сжимал в руках большущую погремушку и время от времени весело и дружелюбно кричал «да-да» и «ба-ба» кучерам проезжавших мимо парка омнибусов и стоявшим на посту полицейским.
— Глядите, вон ребенок-великан, его выкормили Чудо-пищей, — говорили кучера омнибусов пассажирам.
— Видно, парнишка здоровый, — откликался кто-нибудь, сидевший поближе.
— Его кормят из бутылки, — объяснял кучер. — Говорят, в нее влезает целый галлон, на заказ делали.
— Как ни верти, а парнишка, видно, здоровущий, — заключал пассажир.
Когда миссис Редвуд убедилась, что ребенок не перестает расти все так же стремительно — а по-настоящему она это поняла, увидев новую коляску для прогулок, — ее охватило неистовое отчаяние. Она кричала, что отныне ноги ее не будет в детской, лучше бы ей умереть, раз у нее такой ребенок, и лучше бы ребенку умереть, и пускай все на свете умрут, и зачем, зачем она вышла замуж за Редвуда, и вообще зачем только женщины выходят замуж. Потом она немного притихла, и удалилась к себе, и просидела три дня взаперти, питаясь одним куриным бульоном. Редвуд пытался ее урезонить, но она только рыдала, швыряла на пол подушки и рвала на себе волосы.
— Да ведь с малышом ничего плохого не случилось, — уговаривал Редвуд. — Для него же лучше, что он большой. Неужели ты хочешь, чтобы он был меньше других?
— Я хочу, чтобы он был такой, как все дети, ни больше ни меньше. Я хотела, чтобы он был обыкновенным милым и хорошим ребенком, как наша Джорджина Филис, я хотела вырастить хорошего сына, а он вон какой… — Голос несчастной женщины дрогнул. — Уже взрослые ботинки носит… и гулять его возят в этой ужасной ма… машине, и она воняет бе… бензином! Я никогда не смогу его любить, — рыдала она, — никогда! Это уж чересчур! Какая я ему мать!
Наконец ее все-таки уговорили пойти в детскую, где Эдвард Монсон Редвуд (Пантагрюэлем его прозвали позднее) с увлечением раскачивался в специально укрепленном кресле-качалке и весело гукал и улыбался до ушей. Сердце миссис Редвуд не выдержало, она бросилась к сыну, прижала его к себе и заплакала.
— Они что-то сделали с тобой, сыночек, — всхлипывала она, — и ты будешь все расти и расти, но что бы ни говорил твой отец, я все равно постараюсь воспитать тебя как полагается.
И Редвуд (вместе с домочадцами он не без труда привел ее в детскую) вздохнул с облегчением и отправился по своим делам.
Да, вот он, женский характер! Нелегкая это задача — быть мужчиной!
К концу того же года на улицах западной части Лондона появились и еще моторные коляски для детей. Мне говорили, что их было одиннадцать, но достоверные сведения есть только о шести. По-видимому, Гераклеофорбия на различные организмы действовала по-разному. Ее не сразу научились вводить путем подкожных впрыскиваний, а между тем оказалось, что очень многие дети совершенно неспособны усваивать ее обычным путем, как всякую другую пищу. Уинклс, например, пробовал давать ее своему младшему сыну, но тот оказался столь же неспособен к бурному росту, как (по уверениям Редвуда) его отец — к познанию. Были случаи, когда Гераклеофорбия вредила детям, и они умирали от каких-то странных болезней, — так по крайней мере утверждало Общество борьбы с Чудо-пищей. А вот сыновья Коссара мгновенно пристрастились к чудесному порошку.
Конечно, такого рода открытие не может войти в жизнь человечества без всяких осложнений; рост, в частности, — процесс очень сложный, и тут при обобщениях не избежать неточностей. Но в целом действие Пищи можно определить так: если организм ее в том или ином виде усваивает, она во всех случаях стимулирует его развитие примерно одинаково. Рост увеличивается раз в шесть-семь, не больше, сколько бы Пищи вы ни вводили. А избыточное введение Гераклеофорбии, как оказалось, вызывает патологические расстройства пищеварения, рак и другие опухоли, окостенение суставов и иные заболевания. Быстро выяснилось, что если бурный рост однажды начался, замедлить его уже нет возможности, необходимо и впредь постоянно вводить Гераклеофорбию в небольших, но достаточных дозах.
Если же молодой, еще растущий организм вдруг лишить этой пищи, то сначала наступает период смутного беспокойства и подавленности, затем непомерная прожорливость, как было в случае с крысами, напавшими на доктора в Хэнки, потом острое малокровие, слабость и, наконец, смерть. Примерно то же происходит и с растениями. Впрочем, это все относится только к периоду роста. С наступлением зрелости — у растений в эту пору впервые образуются бутоны — потребность в Гераклеофорбии и аппетит уменьшаются, а как только человек, животное или растение достигнут полного развития, Пищи им больше не нужно. Теперь они, так сказать, вполне приспособились к новым масштабам. Например, крапива в Хиклибрау и трава на соседнем холме приспособились настолько, что семена их дали гигантское потомство, и таким образом утвердилась новая порода.
Прошло немного времени, и юный Редвуд, первенец нового племени, раньше всех вкусивший Пищи богов, уже ползал по детской, разбивал в щепки мебель, кусался, как лошадь, щипался, как клещи, и громовым басом призывал няню, маму и виновника всех бед — папу, а тот взирал на дело рук своих в некотором испуге и изумлении.
У ребенка явно были хорошие задатки. «Падда будет хороший», — приговаривал он, когда вокруг него билось и ломалось все, что только можно было разбить и сломать. Он называл себя «Падда» — сокращение от Пантагрюэля (это прозвище дал ему отец). А тем временем Коссар, презрев исконные права соседних домовладельцев, вовсе не желавших, чтобы от них загородили свет (это вскоре привело к неприятным осложнениям), захватил пустырь, прилегавший к дому Редвуда, и вопреки всем местным правилам принялся строить там для всех четырех мальчиков (сына Редвуда и своих троих) удобное, светлое помещение площадью в шестьсот квадратных футов и высотой в сорок; это была одновременно комната для игр, классная и детская.
Редвуд строил эту огромную детскую вместе с Коссаром и положительно влюбился в нее; поглощенный насущными интересами сына, он даже знаменитые кривые на время забросил, — никогда бы он не поверил, что способен на это!
— Хорошо оборудованная детская — это очень важно, очень, — говорил он. — Тут и сами стены, и каждая мелочь — все должно будет более или менее красноречиво взывать к созданному нами новому разуму и более или менее успешно учить его тысяче разных вещей.
— Само собой разумеется, — поддакивал Коссар. И поспешно хватался за шляпу.
Они работали очень дружно и согласно, но теорию воспитания развивал главным образом Редвуд.
Стены детской, двери, оконные рамы выкрасили в веселые тона; преобладали очень светлые, теплые оттенки, но тут и там яркая полоса, цветное пятно оживляли и подчеркивали простоту линий.
— Нам нужны чистые цвета, — говорил Редвуд и вдоль одной стены протянул целую связку квадратов; тут были все оттенки алого и лилового, оранжевого и лимонно-желтого, голубого и зеленого. Предполагалось, что дети будут перебирать и тасовать эти квадраты, как им вздумается. — Украшения — это потом, — рассуждал Редвуд, — сначала пусть разберутся в сочетаниях цветов. Потом мы повесим что-нибудь другое. Совсем незачем приучать их к какому-либо одному цвету или рисунку.
Здесь все должно быть для них интересно, — говорил далее Редвуд. — Интерес — пища для ребенка, а скука — мучение и голод. Пусть будет побольше картин.
Но картины тут не вешали раз и навсегда: постоянными были только рамы, рисунки можно было заменять, как только интерес к ним ослабнет. Из большого окна открывался вид на улицу, уходящую вдаль, а чтобы детям было еще интереснее, Редвуд на крыше детской соорудил камеру-обскуру, через нее видно было Кенсингтон, Хай-стрит и большую часть парка.
В одном углу детской стояли огромные, в четыре квадратных фута, счеты, очень прочные, на железных стержнях, с закругленными углами, — с помощью этого отменного инструмента юным гигантам предстояло познать искусство расчетов и вычислений. Мягких собачек, кошечек и тому подобных игрушек почти не было; вместо этого Коссар однажды без лишних слов доставил три воза всевозможных игрушек такого размера, что проглотить их не могли бы даже дети-гиганты; игрушки эти можно было громоздить одну на другую, выстраивать в ряды, катать, кусать; ими можно было трещать, стучать и хлопать; их можно было бить одну о другую, гладить, таскать за собой, открывать, закрывать — словом, мудрить с ними на все лады сколько душе угодно. Тут было множество кубиков и кирпичиков всех цветов и разной формы: деревянных, из полированного фарфора, из призрачного стекла, из резины; были пластинки, плитки, цилиндры; были конусы, простые и усеченные; были сплющенные и растянутые сфероиды, всевозможные шары из различных материалов, литые и полые, множество ящиков всевозможных размеров и форм, с привинченными, навинченными и съемными крышками и даже несколько шкатулок со сложными замками; были и обручи резиновые и кожаные, и масса грубо выточенных кругляшек, из которых можно было составлять фигурки вроде человеческих.
— Давайте им эти игрушки, — сказал Коссар. — Только не все сразу, а по одной.
Все это Редвуд запер в огромный шкаф, стоявший в углу. На одной стене детской на высоте, удобной для ребенка футов семи ростом, висела классная доска, на ней мальчики могли писать и рисовать белыми и цветными мелками; по соседству помещалось нечто вроде огромного блокнота, с него можно было лист за листом срывать бумагу и рисовать углем; тут же рядом на парте лежали большие плотничьи карандаши различной мягкости и запас бумаги, на которой дети могли, выводя всяческие закорючки, понемногу учиться рисовать. В воображении Редвуд заглянул так далеко вперед, что заказал даже огромные тюбики с акварельными красками и коробки пастели, хотя в них пока еще не было нужды. Поставили в детскую и два-три бочонка пластилина и глины для лепки.
— Сперва мальчишка будет лепить вместе с учителем, а там научится копировать модели, а пожалуй, и лепить животных, — говорил Редвуд. — Да, чуть было не забыл: нужно еще заказать ящик с инструментами.
И книги. Надо приготовить побольше книг, нужен соответствующий размер, крупный шрифт. Теперь вопрос: какие именно книги? Нужно развивать воображение ребенка, в конце концов это и есть цель всякого воспитания. Да, так: воображение — цель, а трезвый ум и разумное поведение — основа. Отсутствие воображения — это возврат к животному состоянию; испорченное воображение — похоть и трусость; но благородное воображение — это бог, вернувшийся на грешную землю. Ребенку надо и помечтать, побывать в мире сказок, порадоваться всяким забавам и чудесам, — на то и детство. Но главной пищей воображению должна стать сама жизнь во всем ее великолепном разнообразии. Пусть ребенок узнает, как люди путешествовали, открывали новые земли и после многих подвигов и приключений завоевали весь мир; нужны рассказы о животных, умно написанные и отлично изданные книги о зверях, птицах и растениях, о пресмыкающихся и насекомых, о заоблачных высях и о тайнах морских глубин; и еще ребенок должен знать историю и географию всех государств, какие когда-либо существовали; нужно дать ему карты и рисунки, пускай узнает историю всех племен, изучит их нравы и обычаи. И еще дадим ему книги и картины, которые развивают чувство прекрасного; тончайшие японские гравюры заставят его полюбить тончайшую прелесть птицы, ветки, опадающих лепестков, а живописцы Запада научат ценить красоту мужчин и женщин, прелесть натюрморта и ширь пейзажа. Нужны книги о зодчестве, пусть учатся строить дома и дворцы, обставлять комнаты и воздвигать города…
Пожалуй, надо устроить небольшой театр.
Ну и, конечно, музыка!
Редвуд обдумал и это: для начала пускай сын научится играть на ксилофоне с одной только октавой, но с безукоризненно чистым звуком, а потом можно будет прибавить и еще октавы.
— Сначала пускай просто забавляется, поет в тон и называет ноты, — рассуждал Редвуд. — А потом…
Он поглядел на подоконник (для этого ему пришлось задрать голову), измерил взглядом комнату.
— Придется собирать для него фортепьяно прямо здесь, — размышлял он вслух. — Вносить по частям.
Он шагал взад и вперед — крохотная темная фигурка совсем терялась в огромной комнате, — обдумывал, прикидывал. Если бы вы увидели его тогда, вам бы показалось, что это гном заблудился среди обычных детских вещей и игрушек. Огромный, в четыреста квадратных футов, турецкий ковер, по которому вскоре предстояло ползать юному Редвуду, доходил до огороженного решеткой электрического радиатора, обогревавшего детскую. Наверху, на лесах, человек, присланный Коссаром, прикреплял громадную раму для будущих сменных картин. У стены прислонен был альбом для гербария величиной с обыкновенную дверь, откуда торчали гигантский стебель, край огромного листа, цветок курослепа, — все это было привезено из Аршота и впоследствии произвело сенсацию среди ботаников…
И вдруг Редвуду показалось, что он грезит.
— Да полно, неужели все это наяву? — спрашивал он себя, глядя на далекий потолок.
Но тут, словно в ответ, издалека донесся громкий крик, напоминавший рев развеселившегося быка.
— Да, это наяву, — сказал себе Редвуд. — Никаких сомнений!
Теперь слышались сокрушительные удары пухлой руки по столу и крики «Гууу!», «Бууу!».
— Пожалуй, я сам буду его учить, это лучше всего, — продолжал Редвуд; мысли его потекли в новом направлении.
Удары по столу сделались настойчивее. Мгновение Редвуду казалось, что это перестук колес, словно какой-то огромный паровоз надвигается на него и влечет за собою цепь неотвратимых событий… Но тут раздался другой стук, быстрый и легкий.
— Войдите! — крикнул Редвуд, сообразив, в чем дело, и огромная, как в соборе, дверь медленно приотворилась. Заскрипели несмазанные петли, и на пороге, сияя ослепительной лысиной, благодушной улыбкой и очками, появился Бенсингтон.
— Вот, позволил себе прийти, посмотреть, как и что, — шепнул он, словно бы извиняясь и робея.
— Входите, — повторил Редвуд.
Бенсингтон вошел и закрыл дверь. Заложив руки за спину, сделал несколько шагов, остановился и, по-птичьи вскинув голову и щурясь, оглядел огромную комнату. Потом задумчиво потер ладонью подбородок.
— Всякий раз, как я сюда вхожу, я просто немею, — благоговейно понизив голос, признался он. — Уж очень все это… большое.
— Да, — подтвердил Редвуд и тоже огляделся, словно хотел увидеть не просто пустую комнату. — Да. Они ведь тоже будут большие, сами знаете.
— Знаю, — ответил Бенсингтон чуть ли не с трепетом. — Очень большие.
Они почти со страхом посмотрели друг на друга.
— Очень, очень большие, — повторил Бенсингтон, поглаживая переносицу и косясь на Редвуда, словно и верил, и не верил, и ждал подтверждения. — Понимаете, они будут… невероятно большие. Я вот смотрю на все это… и все-таки не могу себе представить… какие же они будут?
5. Мистер Бенсингтон стушевывается
Как раз в то время, когда Королевская комиссия по Чудо-пище готовила отчет о своей деятельности, Пища всерьез доказала свою способность ускользать из-под контроля. Случилось это слишком быстро и потому весьма некстати, по крайней мере так думал Коссар. Ибо, как показывает сохранившийся и по сей день первоначальный вариант отчета, Комиссия под руководством самого талантливого своего члена — Стивена Уинклса (члена Королевского общества, доктора медицинских наук, члена Королевского терапевтического колледжа, доктора естественных наук, мирового судьи, доктора прав и прочая и прочая) — уже установила, что случайная утечка Гераклеофорбии совершенно исключена; Комиссия готова была высказаться в пользу Чудо-пищи при условии, что изготовление оной будет поручено авторитетному комитету (разумеется, во главе с Уинклсом) и этот же комитет получит исключительное право контроля над продажей; по мнению Комиссии, эти меры должны были удовлетворить всех, кто выступал против широкого применения Гераклеофорбии. Будущий комитет получал неограниченные полномочия и исключительное право распоряжаться Чудо-пищей. И, конечно, только злая ирония судьбы повинна в том, что первая и самая страшная вспышка новых бесчинств Гераклеофорбии произошла совсем рядом с маленьким коттеджем в Кестоне, где проводил лето доктор Уинклс.
Теперь уже нет сомнений, что, когда Редвуд отказался сообщить Уинклсу состав Гераклеофорбии номер четыре, сей почтенный доктор воспылал страстью к аналитической химии. Экспериментатор он был весьма посредственный и, вероятно, поэтому счел нужным заниматься своими опытами не в превосходно оборудованных лабораториях, которые были к его услугам в Лондоне, а в дрянном сарайчике на задворках своего коттеджа в Кестоне; он ни с кем не посоветовался и держал свою работу в секрете. Ни особого усердия, ни таланта он не проявил и, проработав какой-нибудь месяц, да и то с перерывами, по-видимому, совершенно забросил свои изыскания.
Уинклсова, с позволения сказать, лаборатория была оборудована очень примитивно: туда была проведена вода, которая затем вытекала через трубу в тинистый пруд, по берегам заросший камышом; пруд этот приютился под развесистой ольхой в уединенном уголке луга, за живой изгородью сада. Труба изобиловала трещинами, остатки Пищи богов просачивались наружу и скапливались в лужице среди камыша, а между тем наступала весна, и природа пробуждалась.
С весной в этом маленьком забытом уголке все ожило и зашевелилось. На поверхности лужи плавала лягушачья икра, и крошечные головастики уже разрывали свои студенистые оболочки; маленькие водяные улитки выползли на солнышко, под зелеными стеблями камыша из яичек выбирались личинки большого водяного жука. Не знаю, видел ли читатель когда-нибудь личинку водяного жука, который почему-то называется Dytiscus[3]. Эта личинка выглядит довольно странно: членистая, очень сильная, с неожиданно резкими движениями, она плавает вниз головой, выставив из воды один лишь хвост; она достигает двух дюймов длины — примерно с фалангу большого пальца мужчины (разумеется, такого, кто не отведал Пищи богов) — и вооружена двумя необычайно острыми и мощными челюстями цилиндрической формы с острыми кончиками: ими она высасывает кровь у своей жертвы…
Первыми вкусили плавающих на поверхности лужи остатков Пищи богов крошечные водяные улитки да еще шустрые головастики — эти сразу же особенно к ней пристрастились. Но едва успевал головастик немного подрасти и выделиться в своем головастичьем мирке настолько, что пытался расширить привычную вегетарианскую диету за счет меньшого братишки, как — хлоп! — изогнутые челюсти личинки жука-плавунца уже впились в него и сосут вместе с кровью раствор Гераклеофорбии номер четыре. Кроме этих чудовищ, заполучить хоть малую долю Пищи посчастливилось лишь камышу, зеленой студенистой тине на поверхности воды да водорослям в иле на дне. Вскоре в лаборатории устроили генеральную уборку — и новый запас Пищи переполнил лужу, она разлилась, и теперь зловещая борьба за существование продолжалась уже в соседнем пруду, под корнями ольхи.
Первым обнаружил неладное некий мистер Льюки Керрингтон, учитель математики и естественных наук, который в часы досуга занимался изучением жизни пресноводных, — и его открытию не позавидуешь. Он приехал на денек в Кестон, чтобы наполнить прудовой водой несколько пробирок и затем рассмотреть их содержимое под микроскопом; штук десять пробирок, заткнутых пробками, позвякивали у него в кармане, когда он, помахивая шишковатой тросточкой, спускался с песчаного холма к пруду. А в это время помощник садовника, стоя на заднем крыльце дома мистера Уинклса, подстригал живую изгородь и заметил его; в этот глухой уголок никто никогда не заходил, да и вел себя пришелец непонятно, — и мальчишка с любопытством стал наблюдать.
Мистер Керрингтон склонился над прудом и, опершись рукою о ствол старой ольхи, заглянул в воду, но, конечно, садовник не мог понять, отчего такое удивление и удовольствие выразилось на лице мистера Керрингтона, когда тот увидел на дне какие-то большие, совершенно ему незнакомые нити и пузыри крупных водорослей. Головастиков нигде не было — к этому времени их всех уже съели личинки плавунца, — и потому, кроме буйной растительности, мистер Керрингтон не заметил ничего необычного. Он закатал рукав до локтя, наклонился еще ниже и сунул руку в воду, чтобы вытащить интересный образчик. И тотчас из укромного уголка под корнями ольхи что-то метнулось…
Миг — и острые клещи впились в руку учителя! Непонятное существо было длиной больше фута, коричневое и членистое, точно скорпион.
Отвратительный вид его и острая, жгучая боль ошеломили мистера Керрингтона. Он потерял равновесие, закричал — и, как подкошенный, ничком повалился в пруд!
Мальчишка-садовник видел, как он вдруг исчез, слышал всплеск воды, потом барахтанье. А потом несчастный вновь появился над водой — без шляпы, весь мокрый — и закричал истошным голосом.
Никогда еще мальчишка не слыхал, чтобы взрослые мужчины так вопили.
Этот удивительный незнакомец, видно, пытался оторвать что-то от своего лица. А по лицу ручьями текла кровь. Он размахивал руками, словно в отчаянии, прыгал и скакал, как сумасшедший, потом пустился бежать, но, не пробежав и десяти шагов, упал и стал кататься по земле. Теперь его не было видно. Мальчишка кубарем скатился с крыльца и прямо через изгородь кинулся на помощь; к счастью, он так и не выпустил из рук садовых ножниц. Продираясь сквозь кусты дрока, он подумал было, не вернуться ли, вдруг этот человек сумасшедший, — но мысль о ножницах придала ему храбрости. «В случае чего я бы выколол ему глаза!» — объяснял он потом. Едва мистер Керрингтон заметил мальчика, он повел себя как человек совершенно нормальный, но доведенный до отчаяния: с трудом поднялся на ноги, пошатнулся, но устоял и пошел ему навстречу.
— Смотри! — вскричал он. — Я не могу их оторвать!
И мальчишка с ужасом увидел, что к щеке мистера Керрингтона, к его обнаженной руке и к бедру присосались три устрашающе огромные личинки, их сильные коричневые тела отвратительно извивались, мощные челюсти глубоко впились в тело, и они жадно пили кровь. У этих чудовищ была бульдожья хватка, и все попытки мистера Керрингтона оторвать их от себя только усиливали боль и углубляли раны; его лицо, шея и пиджак были залиты кровью.
— Держитесь, сэр! — закричал мальчишка. — Сейчас я их отрежу!
И с чисто мальчишеским азартом принялся отстригать кровопийцам головы. «Вот тебе! Вот!» — приговаривал он, морщась от омерзения, всякий раз, как отрезанное извивающееся тело падало на землю. Однако хватка у чудовищ была такая свирепая, что головы еще некоторое время продолжали сосать, и кровь текла из перерезанных шей. Но мальчишка снова пустил в ход ножницы, причем нечаянно задел и самого мистера Керрингтона, — и наконец все было кончено.
— Я никак не мог их оторвать! — повторял мистер Керрингтон.
Он постоял минуту, шатаясь, истекая кровью. Ослабевшими руками потрогал свои раны, посмотрел на окровавленные ладони. Потом колени его подогнулись, и он упал в глубоком обмороке к ногам мальчишки, возле своих поверженных врагов, которые все еще шевелились в траве. По счастью, мальчишке не пришло в голову побрызгать его водою из пруда — там, под корнями ольхи, подстерегали другие такие же чудовища; вместо этого он побежал обратно в сад звать кого-нибудь на помощь. Тут ему встретился садовник мистера Уинклса (он же кучер), и мальчик рассказал ему о случившемся.
Когда они вместе подошли к мистеру Керрингтону, тот уже очнулся и, хоть был еще смертельно бледен и очень слаб, тотчас объяснил им, какую опасность таил в себе злополучный пруд.
Таким-то образом мир был впервые предупрежден, что Пища вновь просочилась, куда не следовало.
Прошла всего неделя, и Кестонский луг оказался, как выражаются натуралисты, очагом распространения новых гигантских трав и насекомых. На сей раз это были не осы, не крысы, не уховертки и не крапива, но по меньшей мере три вида водяных пауков, несколько личинок стрекозы (вскоре они превратились в гигантских стрекоз, чьи парящие в воздухе сапфировые тела потрясали весь Кент) и отвратительная студенистая тина, переполнившая пруд и скользкой зеленой слизью доползшая по дорожке почти до самого дома доктора Уинклса. Кроме того, усиленно пошли в рост камыш, хвощ и водяной папоротник; покончить с этим удалось, только когда осушили пруд.
Очень скоро стало ясно, что на этот раз появился не один, а сразу несколько таких очагов. Один был в Илинге — теперь в этом уже нет сомнений, именно отсюда хлынули полчища гигантских мух и красных пауков; из Санбери поползли огромные хищные угри — они вылезали на берег и убивали овец; Блумсбери явил миру новую, устрашающую породу тараканов, — их рассадником стал один старый дом, где водилось множество всякой нечисти. Одним словом, мир опять столкнулся с происшествиями вроде тех, что потрясли однажды Хиклибрау, только вместо цыплят, крыс и ос теперь разрослись до чудовищных размеров другие издавна знакомые твари. Каждый очаг плодил свою собственную живность и растительность…
Теперь мы уже знаем, что все эти очаги возникали только там, где жили пациенты доктора Уинклса, но в то время никто об этом не подозревал. Обвинять самого Уинклса никому и в голову не приходило. Поднялась вполне понятная паника, взрыв негодования, но все это обернулось не против доктора Уинклса, а против Пищи, и даже не столько против самой Пищи, сколько против злосчастного Бенсингтона, ибо общественное мнение с самого начала твердо уверовало, что именно он, и только он один, за нее в ответе.
Попытка линчевать ученого была лишь одной из тех вспышек, которые яркими красками рисует история, а на самом деле рядом со многими другими событиями они бледны и незначительны.
Как это случилось, до сих пор остается тайной. Известно, что толпа нагрянула прямо с митинга, устроенного в Гайд-парке крайними противниками Чудо-пищи из лагеря Кейтэрема; но кто первый предложил, хотя бы намеком, пойти громить дом Бенсингтона, установить так и не удалось. Раскрыть непостижимую психологию толпы — задача по плечу разве что господину Гюставу ле Бон[4].
Как бы то ни было, однажды в воскресенье около трех часов дня огромная, бурлящая толпа разъяренных лондонцев хлынула к дому Бенсингтона с твердым намерением линчевать его, чтобы впредь всяким ученым неповадно было что-то там исследовать и открывать; и она едва не добилась своего, — по крайней мере с тех пор, как давным-давно, в середине царствования королевы Виктории, решетки Гайд-парка были снесены разбушевавшейся толпой, никогда Лондон не видывал ничего подобного. Не менее часа жизнь незадачливого ученого висела на волоске.
Бенсингтон ничего не подозревал до тех пор, пока с улицы не докатился гул приближающейся массы народа. Он подошел к окну и выглянул, все еще не догадываясь, что это имеет какое-то отношение к нему. Минуту-другую он смотрел, как толпа, отбросив десяток полицейских, пытавшихся ей помешать, окружала вход в его дом, — и вдруг понял: это пришли за ним! Он-то и нужен этой ревущей, озверелой толпе! Бенсингтон был совсем один в квартире (пожалуй, это оказалось к лучшему), ибо кузина Джейн отправилась в Илинг к какой-то родне своей матушки пить чай. Как надо себя вести в подобных случаях — это бедняга представлял себе, вероятно, не лучше, чем правила поведения на Страшном суде. Он метался по квартире, вопрошал столы и стулья, как быть, запирал и отпирал все замки, кидался то к окнам, то к дверям, то в спальню, — и тут на выручку явился привратник.
— Нельзя терять ни минуты, сэр, — сказал он. — Они уже углядели в прихожей список жильцов, узнали номер вашей квартиры и идут прямо сюда!
Он вытащил Бенсингтона на площадку лестницы — снизу уже доносился шум и крики, — запер дверь покинутой квартиры и своим ключом отпер дверь квартиры напротив.
— Больше надеяться не на что, — шепнул он.
В чужой квартире привратник распахнул окно, выходившее в узкий внутренний двор; стена снаружи была утыкана железными скобами, образовавшими весьма неудобную и опасную лестницу на случай пожара. Привратник вытолкнул мистера Бенсингтона из окна на одну из таких скоб, показал, как на ней удержаться, и заставил карабкаться вверх, постукивая ученого по ногам связкой ключей всякий раз, как тот останавливался, не решаясь двинуться дальше. Бенсингтону казалось — это навеки, никогда этой ужасной лестнице не будет конца; карниз над головой недостижимо далек, до него еще не меньше мили, а внизу… О том, что ждет его внизу, лучше не думать.
— Осторожно! — вдруг закричал привратник и схватил его за ногу. Это было так страшно, что мистер Бенсингтон изо всех сил вцепился в железную скобу над головой и тихонько взвизгнул от ужаса.
Его провожатый разбил какое-то стекло и, кажется, прыгнул куда-то далеко вбок. Затем послышался скрип, как будто отворилась оконная рама. Привратник что-то кричал, — кажется, ругался.
Мистер Бенсингтон осторожно повернул голову и наконец увидел его.
— Спуститесь на шесть ступенек, — скомандовал тот.
Все это казалось Бенсингтону диким и нелепым, однако же он повиновался и начал осторожно нащупывать ногой нижнюю скобу.
— Не тащите меня! — вскрикнул он, когда привратник, высунувшись из открытого окна, попытался ему помочь.
Добраться до окна с этой страшной лестницы? Да это было бы нелегко и для белки! Не надеясь совершить подобный подвиг, примирившись с мыслью, что это, в сущности, самоубийство, и уже не помышляя о спасении, Бенсингтон шагнул вниз, и тут привратник довольно грубо схватил его и втащил в окно.
— Придется вам побыть здесь, — сказал он. — Этот замок мне не открыть, он американский. У меня таких ключей нет. Я выйду, захлопну за собой дверь и поищу смотрителя с ключом. А вы пока посидите взаперти. Только из окна не выглядывайте. Отродясь не видал этакой кровожадной оравы. Может, они подумают, что вас нет дома, переколотят все в квартире да и успокоятся…
— На моей двери на табличке сказано, что я дома, — вздохнул Бенсингтон.
— Фу ты, черт побери! Ну, мне надо отсюда убраться, а то меня еще застанут…
Он исчез, хлопнула дверь.
Теперь Бенсингтон мог полагаться только на собственную смекалку.
Она загнала его под кровать.
Здесь-то его немного погодя и нашел Коссар.
К этому времени Бенсингтон был ни жив ни мертв от страха, потому что Коссар выломал дверь плечом, наскакивая на нее с разбегу через всю площадку.
— Вылезайте, Бенсингтон! — крикнул он, вломившись в квартиру — Все в порядке. Это я. Надо отсюда выбираться. Они хотят подпалить дом. Все дворники уже удирают. Остальной прислуги и след простыл. К счастью, я поймал одного, и он сказал мне, где вы. Вот, глядите.
Выглянув из-под кровати, Бенсингтон увидел в руках Коссара какие-то странные одеяния и среди прочего — огромный черный чепец!
— Они перетряхивают весь дом сверху донизу, — сказал Коссар. — Если не подожгут, так уж непременно нагрянут и сюда. Вызваны войска, но они подоспеют через час, не раньше. В толпе добрая половина — хулиганы, и чем больше квартир они разгромят, тем больше войдут во вкус… Само собой разумеется. Они здесь все перетряхнут. Вот, надевайте-ка юбку и чепец, Бенсингтон, и давайте уносить ноги.
— Вы хотите, чтобы я… — начал Бенсингтон, высовывая из-под кровати голову, точно черепаха.
— Вот именно. Одевайтесь, и пошли! Само собой разумеется!
Вмиг потеряв терпение, Коссар вытащил Бенсингтона из-под кровати и начал обряжать его старухой из простонародья. Засучил на нем брюки, заставил скинуть шлепанцы; затем стянул с него воротничок и галстук, пиджак и жилет, надел ему через голову черную юбку и красную фланелевую кофту, а поверх всего набросил тальму. И наконец снял с Бенсингтона знакомые всему Лондону очки и нахлобучил ему на голову черный чепец.
— Ну, вы словно родились старухой, — заметил он, наскоро завязывая ленты чепца под подбородком ученого.
Пришел черед башмаков на резинках — жестокое испытание для мозолей! Теперь шаль — и старушка готова.
— Повернитесь-ка кругом! — скомандовал Коссар.
Бенсингтон покорно повернулся.
— Сойдет! — объявил Коссар.
Так, в нелепом одеянии, путаясь и спотыкаясь в непривычных юбках, вторя крикам разъяренных лондонцев, жаждущих его крови, и визгливым фальцетом накликая проклятия на собственную голову, изобретатель Гераклеофорбии спустился по лестнице дома в Честерфилде, смещался с беснующейся толпой и навсегда отошел от событий, которым посвящен наш рассказ.
После этого бегства он, совершивший великое открытие, ни разу больше не пожелал вмешаться в дальнейшую удивительную судьбу своего детища — Пищи богов.
Итак, скромный человечек, который заварил всю эту кашу, уходит из нашего рассказа, а вскоре и навсегда уйдет из мира видимого и осязаемого. Но ведь кашу-то заварил не кто иной, как он, и потому на прощанье уместно будет посвятить ему еще одну страничку. Можно представить себе ученого в последние годы его жизни таким, каким знали его на водах в Танбридже. Именно здесь, у Танбриджских целебных источников, появился он после того, как некоторое время вынужден был скрываться от ярости толпы, — появился, лишь только понял, что ярость толпы случайна, недолговечна и очень быстро остывает. Пребывал он в Танбридже под крылышком кузины Джейн, усиленно лечился от нервного потрясения, ни о чем больше не думал, и его, видимо, ничуть не трогали страсти, бушевавшие вокруг новых очагов распространения Пищи и вокруг вскормленных ею детей-гигантов.
Он поселился в «Маунт Глори» — отеле с водолечебницей, которая славилась превосходными целебными ваннами, — тут были ванны углекислые и креозотные; гальваническое и иное электрическое лечение; массаж; ванны хвойные, с крахмалом, с болиголовом, а также световые, тепловые и лучевые; ванны из отрубей и сосновых игл; ванны из смолы и мха — словом, на все вкусы; и Бенсингтон посвятил себя усовершенствованию этой системы лечения, которая, впрочем, осталась несовершенной и после его смерти. Иногда, укутавшись в шубу с котиковым воротником, он отправлялся на прогулку в наемном экипаже, а иногда, если не очень мучили мозоли, ходил пешком к источнику и под наблюдением кузины Джейн осторожно тянул лечебную железистую воду.
Его сутулая спина, румяные щеки и сверкающие очки стали неотъемлемой принадлежностью Танбриджа. Никто здесь не питал к нему вражды, и все в отеле и вокруг гордились таким почетным гостем. Он был знаменит, и теперь уже ничто не могло лишить его этой славы. Он предпочитал не следить по газетам за успехами своего великого открытия; но где бы он ни появлялся — на дороге ли к источнику или в гостиной отеля, — вокруг слышался шепот: «Вот он! Это он и есть!» — и тогда подобие довольной улыбки мелькало в его глазах и смягчало линию рта.
И подумать только, что такой маленький, ничем не примечательный человечек обрушил на мир Пищу богов! Право, даже трудно сказать, что больше поражает в ученых и философах — их величие или их ничтожность. Представьте себе изобретателя Пищи богов там, у целебного источника: в шубе с котиковым воротником стоит он перед выложенным фарфоровой плиткой фонтанчиком, где плещет струя, и потягивает из стакана железистую воду; блестящий глаз, суровый и непроницаемый, косится поверх золотой оправы очков на кузину Джейн. «Б-рр», — произносит он и делает очередной глоток.
Пусть таким он и запечатлеется навсегда в нашей памяти, этот великий изобретатель Пищи богов, а теперь мы покинем его — крошечную песчинку в нашей повести — и перейдем к более важным событиям: к дальнейшей истории созданной им Пищи; мы расскажем, как день ото дня росли и крепли разбросанные по всей Англии дети-гиганты, как они входили в мир, слишком тесный и скудный для них, и как все туже сжимали их сети законов и ограничений, которые плела вокруг них Комиссия по Чудо-пище, — сжимали до тех пор, пока…
Часть вторая «Вторая Пища в деревне»
1. Появление пищи
Наша тема, что началась так скромно в кабинете мистера Бенсингтона, уже настолько расширилась и разветвилась, что отныне все повествование будет историей о том, как Пища богов разошлась по свету. Ее дальнейшее развитие и движение можно сравнить с тем, как непрестанно растет и ветвится дерево. Прошло совсем немного времени — всего лишь четверть жизни одного поколения — с того часа, как Пища впервые появилась на маленькой ферме возле Хиклибрау, и вот она сама, и слухи о ней, и отзвуки ее силы уже растеклись по всему миру. Очень быстро Пища богов вышла за пределы Англии. Скоро она появилась в Америке, разнеслась по европейскому континенту, потом перекинулась в Японию, в Австралию — словом, распространилась по всему земному шару, стремясь к заветной цели. Двигалась она осторожно, без лишней торопливости, извилистыми путями, и ничто не могло ее остановить. Это было наступление гигантизма. Наперекор предрассудкам, наперекор законам и уставам, наперекор упрямому консерватизму, что лежит в основе всех человеческих установлении, Пища богов, раз появившись на свет, осторожно, но неотвратимо шла своей дорогой.
Дети, вскормленные Пищей, росли и мужали — вот самое главное, самое важное событие того времени. Но шум и сенсацию всегда производили случайные вспышки гигантизма, возникавшие из-за утечки Пищи. А дети росли, их становилось все больше, этих выкормышей чудесного порошка; но даже самые строгие меры предосторожности не могли помешать Пище все снова и снова просачиваться в животный и растительный мир. Пища богов ускользала из-под контроля с упорством живого существа. Подмешанная в муку, она обращалась в мельчайший, почти невидимый порошок — и в сухие ясные дни, как нарочно, разносилась по белу свету при малейшем дуновении ветра. И тотчас же какое-нибудь новое насекомое или растение ненадолго обретало роковую славу и величие, либо вновь появлялись чудовищные крысы и другая нечисть. Так, несколько дней деревня Пэнгбурн сражалась с гигантскими муравьями. Три человека умерли от их укусов. Всякий раз начиналась паника, потом борьба не на жизнь, а на смерть, люди одолевали буйно разросшееся зло, но до конца искоренить его не могли, что-то всегда оставалось, хоть и не так бросаясь в глаза; формы жизни менялись, а потом ошеломляла новая вспышка — где-нибудь вдруг буйно разрастались чудовищные травы, летали семена исполинских сорняков; начиналось нашествие тараканов, в которых приходилось стрелять из ружей, или появлялись тучи громадных мух.
В самых забытых, тихих уголках земли неожиданно вспыхивали отчаянные сражения. Схватки с Пищей порождали даже героев, павших в битве за торжество малого над большим…
Постепенно такие происшествия вошли в привычку, люди научились кое-как справляться с ними и говорили друг другу, что «установленный порядок незыблем». После первого приступа паники, несмотря на все красноречие Кейтэрема, звезда его на политическом горизонте потускнела, и его знали просто как представителя крайних.
Медленно, очень медленно выбрался наконец Кейтэрем на первый план. «Установленный порядок незыблем», — утверждал доктор Уинклс, новоявленный вождь радикального направления общественной мысли, так называемого Прогрессивного либерализма, и его сторонники с лицемерным пафосом славили прогресс. А идеалом их оставались маленькое государство, маленькая культура, маленькие семьи, хозяйствующие помаленьку каждая на своей маленькой ферме. Установилась мода на все маленькое и аккуратненькое. Быть большим считалось просто вульгарным, и лишь крошечное, изящное, утонченное, миниатюрное, малюсенькое удостаивалось похвалы…
А тем временем дети, вскормленные Пищей богов, все росли, росли неспешно, постепенно, как и положено детям, и готовились вступить в мир, который тоже менялся, чтобы их принять. Они мужали, набирались сил и знаний, и каждый, сообразно своим склонностям и способностям, готовился достойно встретить свою великую судьбу. Вскоре они уже стали казаться естественной и неотъемлемой частью нашего мира, да, впрочем, и все всходы гигантизма казались теперь естественными, и люди не могли себе представить, что когда-то было иначе. И, услыхав о разных чудесах, на которые оказывались способны гигантские дети, все говорили: «Удивительно!» — но ничуть не удивлялись. Дешевые газетки сообщали своим читателям о подвигах трех сыновей Коссара: эти необыкновенные мальчики поднимают тяжелые пушки! Бросают на сотни ярдов громадные куски железа! Прыгают в длину на двести футов! Говорили, что они копают глубокий колодец, глубже всех колодцев и шахт на свете: ищут сокровища, скрытые в земных недрах с незапамятных времен.
Ходкие журналы уверяли, что эти дети сровняют горы с землей, перекинут мосты через моря и изроют туннелями вдоль и поперек весь шар земной. «Удивительно! — восклицали маленькие людишки. — Просто чудеса! Это будет очень удобно и всем нам на пользу!» — и продолжали спокойно заниматься своими делами, словно и не существовало на свете никакой Пищи богов. И в самом деле, то были пока лишь первые проблески гения, первые намеки на могущество Детей Пищи. Всего лишь игра, проба сил без всякой определенной цели. Ведь они еще сами себя не знали. Они все еще были детьми, медленно растущими детьми нового племени. Их исполинская сила увеличивалась день ото дня, их могучей воле еще предстояло вырасти и обрести смысл и цель.
Когда мы теперь оглядываемся на эти годы, они кажутся нам единой последовательной цепью событий; но тогда никто не понял, что наступает эра гигантизма, точно так же, как долгие века мир не понимал, что единым и не случайным процессом было падение Римской империи. Современники были слишком тесно связаны с отдельными событиями, чтобы рассматривать их как нечто единое. Даже самые мудрые считали, что Пища богов породила лишь отдельные нелепые явления, кучку своевольных уродов, которые подчас мешают и вносят беспокойство, но не в силах пошатнуть или изменить сложившийся раз навсегда облик мира и человечества.
В этот период накопления сил гигантизма находится все же наблюдатель, которого больше всего поражает непобедимая инерция огромной массы людей, их упорное равнодушие и нежелание признавать существующих рядом гигантов, неспособность понять то огромное, что сулит завтрашний день. Как в природе многие потоки кажутся всего спокойней, тише и невозмутимей как раз тогда, когда они вот-вот низвергнутся водопадом, так и в те последние годы уходящей эпохи словно бы укрепилось все, что было в сознании людей устарелого и косного. Реакционные взгляды стали самыми распространенными: говорили, что наука зашла в тупик, что нет более прогресса, что вновь приходит пора самовластья, — и это говорилось в дни, когда все громче слышалась крепнущая поступь Детей Пищи! Конечно, суетливые, бесцельные перевороты былых времен, когда, к примеру, толпа неразумных людишек свергала такого же неразумного царька, давно уже канули в вечность; но Перемена — это закон, который никогда себя не изживет. Просто изменились сами Перемены: Новое появилось в небывалом обличье, и современникам было еще не под силу осознать его и принять.
Чтобы рассказать о появлении Нового во всех подробностях, пришлось бы создать многотомный исторический труд, но повсюду происходило примерно одно и то же. И если рассказать, как Новое появилось в одной точке земного шара, можно дать понятие о том, что происходило во всем мире. Случилось так, что одно заблудшее зерно гигантизма попало в миленькую маленькую деревушку Чизинг Айбрайт в графстве Кент; странно оно созревало, трагически бесплоден был его рост, — и, рассказывая о нем, мы словно попытаемся по одной нити проследить сложный, запутанный узор на полотне, что выткано Временем.
В Чизинг Айбрайте, разумеется, был священник. Приходские священники бывают разные, и меньше всех мне нравятся любители новшеств — эдакие разношерстные люди, консерваторы по должности, которые не прочь иногда побаловаться и передовыми идейками. Но священник прихода Чизинг Айбрайт не признавал никаких новшеств; это был весьма достойный пухленький, трезвый и умеренный в своих взглядах человечек. Уместно будет вернуться в нашем повествовании немного назад, чтобы кое-что о нем рассказать. Он был вполне под стать своей деревне, и вы легко представите себе пастыря и его паству в тот вечер, на закате, когда миссис Скилетт — помните ее побег из Хиклибрау? — принесла Пищу богов в эту сельскую тишину и благолепие, о чем тогда никто и не подозревал.
В розовых лучах заходящего солнца деревня выглядела олицетворением мира и покоя. Она лежала в долине у подножия поросшего буком холма — вереница домиков, крытых соломой или красной черепицей; крылечки домиков были украшены шпалерами, вдоль фасадов рос шиповник; от церкви, окруженной тисовыми деревьями, дорога спускалась к мосту, и понемногу домиков становилось больше и стояли они теснее. За постоялым двором чуть виднелось меж высоких деревьев жилище священника — старинный дом в раннегеоргианском стиле; а шпиль колокольни весело выглядывал в узком просвете долины между холмами. Извилистый ручеек — тонкая полоска небесно-голубого и кипенно-белого, окаймленная густыми камышами, вербой и плакучими ивами, — сверкал среди сочной зелени лугов, словно прожилка на изумрудном брелоке. В теплом свете заката на всем лежал своеобразный, чисто английский отпечаток тщательной отделанности, благополучия и приятной законченности, которая — увы! — только подражает истинному совершенству.
И священник тоже выглядел благодушным. Он так и дышал привычным, неизменным и непоколебимым благодушием — казалось, он и родился благодушным младенцем в благодушной семье и рос толстеньким и аппетитным ребенком. С первого взгляда становилось ясно, что он учился в старой-престарой школе, в стенах которой, увитых плющом, свято блюлись старинные обычаи и аристократические традиции и, уж конечно, в помине не было химических лабораторий; из школы он, конечно же, проследовал прямехонько в почтенный колледж, здание которого восходило к эпохе пламенеющей готики. Библиотеку его составляли в основном книги не менее чем тысячелетнего возраста — Ярроу, Эллис, добротные дометодистские молитвенники и прочее в том же духе. Низенький, приземистый, он казался еще ниже ростом оттого, что был в ширину почти таков же, как в высоту, а лицо его, с младенчества приятное, сытое и благодушное, теперь, в более чем зрелые годы, приобрело более чем солидность. Библейская борода скрывала расплывшийся двойной подбородок; часовой цепочки он, по причине утонченности вкуса, не носил, но его скромное облачение сшито было у отличного уэстэндского портного.
В тот памятный вечер он сидел, упершись руками в колени, и, помаргивая глазками, с благодушным одобрением взирал на свой приход. Время от времени он приветственно помахивал пухлой ручкой в сторону деревни. Он был покоен и доволен. Чего еще желать человеку?
— Отличное у нас местечко! — сказал он привычно. — Посреди холмов, как в крепости, — продолжал он; и наконец довел свою мысль до конца: — Мы сами по себе и далеки от всего, что там творится.
Ибо священник был не один. Он обменивался со своим другом избитыми фразами об ужасном веке, о демократии и светском образовании, о небоскребах и автомобилях, об американском засилье, о беспорядочном чтении, которое портит нравы, и о безнадежном вырождении вкуса.
— Мы далеки от всего, что там творится, — повторил он.
Не успел он договорить, как послышались чьи-то шаги. Священник с трудом повернул свое пухлое тело и увидел ее.
Теперь представьте себе старуху: она приближается неровным, но упорным шагом; корявой, натруженной рукой она сжимает узел; длинный нос ее (он подавляет и заслоняет все прочие черты лица) морщится, выражая отчаянную решимость. Маки на чепце важно кивают; медленно и неотвратимо переступают ноги — белые от пыли носы старомодных башмаков по очереди показываются из-под обтрепанной юбки. Под мышкой болтается, норовя ускользнуть, старый, рваный и вылинявший зонтик. Нет, ничто не подсказывало священнику, что в образе этой нелепой старухи в его мирную деревню вступил Его Величество Случай, Непредвиденное — словом, та старая ведьма, которую слабые людишки называют — Судьба. А для нас это была, как вы, конечно, уже поняли, всего лишь миссис Скилетт.
Старуха была слишком обременена своей ношей, чтобы учтиво присесть перед священником и его другом, а потому притворилась, что не замечает их, и прошлепала мимо, совсем рядом, направляясь вниз, в деревню. Священник молча проводил ее глазами, обдумывая свое следующее изречение…
На его взгляд, случай был самый пустячный: старуха с узлом — эка невидаль! Старухи aere perennius[5] испокон веку таскают с собой всякие узелки. Что ж тут такого?
— Мы далеки от всего, что там творится, — снова сказал священник. — Мы здесь живем среди вещей простых и непреходящих: рождение, труд, скромный посев да скромная жатва — вот и все. Бури житейские обходят нас стороной.
Священник любил с глубокомысленным видом потолковать о «вещах непреходящих». «Вещи меняют свой облик, — говаривал он, — но человечество aere perennius».
Таков был чизинг-айбрайтский священник. Он всегда находил повод вставить классическую цитату, пусть даже и не очень к месту. А внизу под горой весьма неизящная, но решительная миссис Скилетт, не желая обходить усадьбу Уилмердинга, лезла напролом через живую изгородь.
Никто не знает, что подумал священник о гигантских грибах-дождевиках.
Известно лишь, что он обнаружил их одним из первых.
Дождевики появились на некотором расстоянии друг от друга на тропинке между ближним холмом и деревней — по этой тропинке священник совершал свою ежедневную прогулку. Необыкновенных грибов оказалось ровно тридцать. Священник долго разглядывал каждый гриб и чуть ли не каждый потыкал тростью. Один гриб он даже попробовал измерить, обхватив руками, но тот не выдержал могучего объятия и лопнул.
Священник кое-кому рассказал об этих грибах, назвал их «изумительными» и по меньшей мере семерым из слушателей повторил при этом известную историю о том, как выросшие в подвале грибы приподняли каменную плиту. И даже заглянул в справочник, чтобы определить, были то Lycoperdon coelatum или giganteum[6] — ведь люди его толка всегда занимаются ботаникой, им не дают покоя лавры Гилберта Уайта. Наш священник начал подумывать, что ранее известные giganteum были не такие уж гигантские.
Трудно сказать, заметил ли он, что эти огромные белые шары появились на той самой тропинке, где накануне проходила старуха, и что последний гриб вырос в нескольких шагах от калитки Кэддлсов. Если и заметил, то ни с кем не поделился своими наблюдениями. Его занятия ботаникой относились к числу пресловутых «нацеленных наблюдений» — так выражаются не слишком крупные ученые, и это означает, что ищешь определенный, заранее заданный предмет, а больше ни на что и не смотришь. И священник вовсе не связал появление гигантских грибов с удивительно быстрым ростом младенца Кэддлсов — младенец рос точно на дрожжах, вот уже несколько недель, с тех самых пор, как в одно прекрасное воскресенье Кэддлс отправился навестить тещу и послушать мистера Скилетта (ныне покойного), который вовсю похвалялся своей куриной фермой.
А ведь гигантские дождевики, вслед за неимоверно растущим младенцем Кэддлсов, должны были бы открыть священнику глаза. Последнее обстоятельство уже однажды было положено ему прямо в руки во время крещения и оказалось чрезвычайно веским — священник едва устоял на ногах.
Когда лицо младенца окропила холодная вода, скрепляя таинство его приобщения к церкви и его право на имя Элберт Эдвард Кэддлс, он всех оглушил своим воплем. Мать уже не в состоянии была его поднять, и торжествующий отец, пыхтя, но гордо улыбаясь (не всякий может похвастать таким сыном!), поволок его обратно к скамьям, где ждали родные и друзья.
— В жизни не видел такого ребенка, — заметил тогда священник.
Так было впервые признано на людях, что младенец Кэддлсов, который при рождении не тянул и семи фунтов, еще сделает честь своим родителям. Вскоре стало ясно, что он не только сделает им честь, но и прославит их. А еще через месяц слава стала такой громкой, что при скромном положении четы Кэддлс это выглядело даже неприлично.
Мясник взвешивал младенца Кэддлсов одиннадцать раз. Человек неречистый, он скоро исчерпал весь свой запас слов. В первый раз он сказал: «Вот это парень!»; во второй — «Вот так штука!»; в третий — «Ну, знаете!» — а потом уже только, многозначительно свистнув, скреб в затылке и недоверчиво поглядывал на свои всегда верные весы. Вся деревня ходила смотреть на «большущего парня» — так его прозвали единодушно, — и все говорили: «Да он настоящий великан!» И все диву давались: да где не это видано?! А мисс Флетчер категорически заявила, что она-то сроду ничего подобного не видала — и это была чистая правда.
После третьего взвешивания Кэддлсов посетила леди Уондершут — гроза всей деревни, и через очки так уставилась на необыкновенного ребенка, что он разревелся.
— Ребенок необычайно крупный, — громко и нравоучительно сообщила она матери. — За ним и ухаживать надо не так, как за другими детьми. Разумеется, он не будет и дальше расти так же быстро, раз его кормят из бутылочки, но наш долг — позаботиться о нем. Я пришлю вам еще немного бумазеи.
Приходил и доктор, старательно измерял ребенка рулеткой и заносил цифры в свою книжечку, а старик Дрифтхассок, фермер из-под Верхнего Мардена, нарочно затащил к Кэддлсам заезжего торговца удобрениями взглянуть на младенца, уговорил его ради этого дать добрых две мили крюку. Приезжий трижды переспрашивал, сколько мальчику лет, и в конце концов заявил: «Лопни мои глаза!» Почему и как они должны были лопнуть — осталось невыясненным, вероятно, от одного вида такого огромного младенца. Он сказал еще, что такого ребенка надо бы отправить на какую-нибудь ребячью выставку. А детишки со всей округи, когда не были заняты в школе, толпами сходились к домику Кэддлсов и хором умоляли:
— Можно нам поглядеть на вашего маленького, мэм? Мы только на минуточку, только одним глазком!
И так каждый день, без передышки, пока миссис Кэддлс не положила этому конец. Гости разглядывали младенца, охали и ахали; при этом неизменно появлялась и миссис Скилетт, становилась в сторонке, скрестив на груди тощие узловатые руки с острыми локтями, морщила огромный нос и многозначительно улыбалась.
— Старая карга даже стала как-то благообразнее, — заметила леди Уондершут. — Впрочем, мне очень жаль, что она вернулась в нашу деревню.
Разумеется, обычная благотворительность не обошла своими щедротами и отпрыска Кэддлсов, но оглушительный крик младенца быстро показал, что его бутылочку с молоком наполняют не так усердно, как ему бы хотелось.
Одним словом, младенец Кэддлсов стал восьмым чудом света, и все дивились, как быстро он растет. Но чудеса скоро приедаются, уступая место новым, а этот ребенок все рос и рос, и люди не переставали изумляться.
Леди Уондершут недоверчиво слушала свою экономку, миссис Гринфилд.
— Как, опять Кэддлс пришел? Ребенку есть нечего? Но, милая моя Гринфилд, этого не может быть! Странный младенец — прожорлив, как бегемот. Нет, этого просто не может быть.
— Я так думаю, не посмеют они вас обманывать, миледи, — отвечала миссис Гринфилд.
— С этими людьми никогда не знаешь наверняка, — возразила леди Уондершут. — Вот что, дорогая моя Гринфилд, сегодня же сходите туда сами и посмотрите, как он ест. Хоть он и огромный, я просто не допускаю, чтобы ребенок один выпивал шесть пинт молока в день и ему еще не хватало!
— Да ему это и не полагается, миледи, — ответила экономка.
Руки леди Уондершут дрожали от благородного негодования, какое переполняет дам-благотворительниц при мысли, что низшие классы в конечном счете не уступают высшим в низости, а подчас — вот что возмутительно! — могут их в этом и превзойти.
Однако никакого обмана миссис Гринфилд не углядела, и ее хозяйка распорядилась давать для младенца Кэддлсов больше молока. Но не успели отослать ему дополнительную порцию, как у внушительного крыльца леди Уондершут вновь появился Кэддлс, униженный и виноватый.
— Уж как мы берегли его платье, миссис Гринфилд, как берегли, верьте слову, но мальчишка так растет — все на нем лопается! Одна пуговица как отскочит — бац! — окно вдребезги, а другая стукнула меня вон сюда — сами видите, мэм, какой синячище!
Когда леди Уондершут услышала, что на этом поразительном ребенке мигом лопается по всем швам подаренная ею одежда, она решила поговорить с Кэддлсом сама. Счастливый отец поспешно поплевал на ладонь, пригладил волосы, споткнулся в дверях о ковер и, уже вовсе растерявшийся и сконфуженный, хватаясь, как за соломинку, за собственную шапку, предстал пред очи благодетельницы.
Почтенной леди Уондершут приятно было нагонять страх на Кэддлса. Вот оно, олицетворение низшего сословия, полагала она: жуликоват, предан, унижен, трудолюбив и совершенно неспособен сам о себе позаботиться. И леди Уондершут сказала Кэддлсу, что ребенок растет просто недопустимо.
— Такой уж он едок, миледи, ему все мало, — попробовал защищаться Кэддлс. — Что с ним поделаешь. Лежит в кровати, сучит ногами и орет — прямо хоть беги вон из дому. Ну, как тут его не кормить, миледи, жалко ведь! Да если б мы и не жалели, так соседи вмешаются, им не выдержать такого крика…
Леди Уондершут посоветовалась с приходским доктором.
— Я бы хотела знать, — сказала она ему, — нормально ли, что ребенок поглощает такое невероятное количество молока?
— Детям такого возраста полагается полторы-две пинты молока в сутки, — ответил врач. — Никто не может ожидать, что вы уделите ему больше. А если вы даете больше, это уж верх великодушия. Конечно, можно бы попытаться хоть на несколько дней ограничить его обычной порцией. Но я вынужден признать, что этот ребенок по какой-то непонятной причине физиологически отличается от своих сверстников. Возможно, это то, что называется аномалией. Случай общей гипертрофии.
— Но это несправедливо по отношению к другим детям нашего прихода, — сказала леди Уондершут. — Если так будет продолжаться, люди начнут роптать.
— Никто не обязан давать больше, чем полагается. Мы можем настаивать, чтобы Кэддлсы обошлись двумя пинтами, в противном случае ребенка надо будет поместить в больницу и хорошенько обследовать.
— Но ведь во всем остальном, если не считать размеров и аппетита, ребенок вполне нормален? — поразмыслив, спросила леди Уондершут. — Он как будто не урод?
— Совсем нет. Однако если он будет и дальше так расти, нравственная и умственная отсталость неизбежна. Это можно с уверенностью предсказать, исходя из закона Макса Нордау. Нордау — весьма одаренный и знаменитый философ, леди Уондершут. Он установил, что ненормальность — явление… э-э… ненормальное, и это — ценнейшее открытие, о котором отнюдь не следует забывать. В моей практике я постоянно на него опираюсь. Когда мне случается столкнуться с чем-либо ненормальным, я тотчас же говорю себе: «Это ненормально».
Взгляд доктора сделался многозначительным, голос упал почти до шепота, словно он поверял собеседнице профессиональную тайну. Он торжественно поднял руку.
— Исходя из этого диагноза, я и лечу пациента, — закончил он.
— Ай-я-яй! — заметил священник, обращаясь к своей чашке за завтраком на следующий день после появления в деревне миссис Скилетт. — Ай-я-яй! Это еще что такое! — И он через очки с возмущением уставился на газету.
— Гигантские осы! Что-то будет дальше?.. А может, это просто утка? Что ни день, то сенсация! С меня хватит и гигантского крыжовника. Ерунда все это. — И священник залпом выпил свой кофе, не отрывая глаз от газеты, и недоверчиво причмокнул.
— Чушь! — вынес он окончательный приговор.
Однако назавтра в газетах появились новые подробности, и священник прозрел.
Впрочем, озарение не было мгновенным. Когда в тот день он отправился на свою обычную прогулку, он все еще мысленно посмеивался над нелепой историей, в подлинности которой его пыталась убедить газета. Скажут тоже — осы убили собаку!
Он как раз проходил мимо того места, где впервые появились гигантские дождевики, и заметил, что трава там буйно разрослась, однако никак не связал это с насмешившей его газетной уткой.
— Будь это правдой, мы бы, наверно, уже услыхали, — говорил он себе. — Ведь отсюда до Уитстейбла не будет и двадцати миль.
Но через несколько шагов ему попался новый дождевик, уже второго урожая, — он высился над необычно грубой и жесткой травой, как огромное яйцо сказочной птицы Рух из «Тысячи и одной ночи».
И тут священника осенило.
В то утро он не потел дальше своей обычной дорогой. Вместо этого он свернул по другой тропинке к домику Кэддлсов.
— Где тут ваш младенец? — строго спросил он и, увидев ребенка, воскликнул: — Боже милостивый!
Не переставая изумляться и негодовать, он пошел обратно к деревне и столкнулся с доктором — тот спешил к дому Кэддлсов. Священник схватил его за руку.
— Что все это значит? — в тревоге спросил он. — Вы читали в последние дни газету?
Да, доктор газету читал.
— Что же с этим ребенком? И вообще, что стряслось? Откуда эти осы, дождевики, младенцы?.. Отчего они все так растут? Прямо понять нельзя. Да еще у нас, в Кенте! Будь это в Америке — ну, еще туда-сюда…
— Пока трудно сказать наверняка, в чем тут дело, — ответил доктор. — Насколько я могу судить по симптомам…
— Да?
— Это… гипертрофия, общая гипертрофия.
— Гипертрофия?
— Да. Общая гипертрофия, поразившая все тело… весь организм. Между нами говоря, я в этом почти убежден, но… приходится соблюдать осторожность.
— Ах, вот как! — сказал священник с облегчением, видя, что события не застали доктора врасплох. — Но почему болезнь вдруг разразилась во всей нашей округе?
— Это пока тоже трудно установить, — ответил доктор.
— В Аршоте. Потом здесь. Перекидывается прямо как пожар.
— Да, — ответил доктор. — Да, я тоже так думаю. Во всяком случае, это очень напоминает какую-то эпидемию. Пожалуй, можно это назвать эпидемической гипертрофией.
— Эпидемия! — воскликнул священник. — Так, значит, эта болезнь заразная?
Доктор кротко улыбнулся и потер руки.
— Этого я пока еще не знаю.
— Но ведь… если она заразная… мы тоже можем заболеть! — От страха глаза у священника стали совсем круглые.
Он зашагал было дальше, но вдруг остановился и обернулся к доктору.
— Я только сейчас от Кэддлсов! — закричал он. — Может быть, лучше… Пойду-ка я поскорее домой и приму ванну, да и одежду нужно окурить…
Доктор с минуту глядел ему в удаляющуюся спину, потом повернулся и тоже зашагал восвояси…
Но на полдороге он сообразил, что случай гипертрофии возник в деревне месяц тому назад и никто пока не заразился и, еще поразмыслив, решил быть мужественным, как и надлежит врачу, и идти навстречу опасности, как положено мужчине.
И эта последняя мысль вовсе не толкнула его на безрассудный шаг. Что-что, а вырасти он бы не смог при всем желании. И доктор и священник могли бы преспокойно есть Гераклеофорбию целыми возами. Они бы все равно больше не выросли. Расти они оба были уже не способны.
Дня через два после этого разговора, а значит, и после того, как была сожжена опытная ферма, Уинклс пришел к Редвуду и показал ему анонимное письмо весьма оскорбительного свойства. Я-то знаю, кто его писал, но автор должен хранить секреты своих героев. «Вы ставите себе в заслугу явление природы, которое от вас не зависит, — говорилось в письме. — Пишете в „Таймс“ и пытаетесь создать себе рекламу. Ерунда эта ваша Чудо-пища! Просто совпадение, что ваша дурацкая Пища случайно появилась в одно время с огромными осами и крысами. Все дело в том, что в Англии возникла эпидемия гипертрофии — инфекционная гипертрофия, которая вам подвластна не более, чем Солнечная система. Болезнь эта стара, как мир. Ею страдал еще род Еноха[7]. Вот и сейчас в деревне Чизинг Айбрайт совершенно в стороне от сферы вашей деятельности появился младенец…»
— Почерк дрожащий, видимо, старческий, — заметил Редвуд. — Однако это интересно — младенец…
Он прочел еще несколько строк и вдруг понял.
— Бог ты мой! — воскликнул он. — Да ведь это моя пропавшая миссис Скилетт!
И на другой же день нагрянул к ней как снег на голову.
Миссис Скилетт дергала лук в огородике перед домом дочери. Когда Редвуд вошел в калитку, старуха в первую минуту остолбенела, потом скрестила руки на груди (копья зеленого лука вызывающе торчали под мышкой) и ждала, пока он подойдет ближе. Несколько раз беззвучно открыла и закрыла рот, что-то пожевала единственным зубом и вдруг судорожно присела, будто не книксен сделала, а испугалась, что ее ударят по голове.
— Вот, решил вас проведать, — сказал Редвуд.
— Я уж и то ждала, сэр, — ответила она без всякой радости в голосе.
— Где Скилетт?
— Он ни разу мне не написал, ни разочка, сэр. Как я сюда приехала, он и глаз не кажет.
— И вы не знаете, где он и что с ним?
— Откуда же мне знать, сэр, писем-то нету. — И она сделала осторожный шажок в сторону, надеясь преградить Редвуду путь к сараю.
— Никто не знает, что с ним случилось, — сказал Редвуд.
— Ну, он-то сам, верно, знает, — возразила миссис Скилетт.
— Но вестей о себе он не подает.
— Он смолоду такой, Скилетт-то, если какая беда — только о себе и думает, ни о ком не позаботится, — сказала миссис Скилетт. — А уж хитрец, каких мало…
— Где ребенок? — коротко спросил Редвуд.
Она притворилась, что не поняла.
— Ребенок, о котором я слышал, — пояснил Редвуд. — Которому вы даете наш порошок. Ребенок, который весит уже двадцать восемь фунтов.
Руки миссис Скилетт дрогнули, и она выронила лук.
— Право, сэр, я и в толк не возьму, что вы такое говорите, — пролепетала она. — Оно конечно, сэр, у моей дочери, миссис Кэддлс, и вправду есть ребенок, сэр…
Она опять судорожно присела и склонила нос набок, пытаясь придать своему лицу невинно-вопросительное выражение.
— Покажите-ка мне ребенка, миссис Скилетт, — сказал Редвуд.
Искоса поглядывая на ученого хитрым и трусливым взглядом, миссис Скилетт провела его в сарай.
— Оно конечно, сэр, тогда на ферме я дала его отцу баночку, может, там что и оставалось, а может, я и с собой прихватила самую малость — как говорится, по нечаянности. Собиралась-то второпях, тут не мудрено и ошибиться…
Редвуд пощелкал языком, желая привлечь внимание младенца.
— Гм, — сказал он наконец. — Гм…
Потом он объявил миссис Кэддлс, что ее сын — отличный мальчуган (ничего другого ей и не требовалось), и после этого ее уже не замечал. Видя, что она тут никому не нужна, миссис Кэддлс вскоре совсем ушла из сарая. И тогда Редвуд повернулся к миссис Скилетт.
— Раз уж вы начали, придется продолжать, — сказал он. И прибавил резко: — Только смотрите, на этот раз не разбрасывайте его где попало.
— Чего не разбрасывать, сэр?
— Вы отлично знаете, о чем я говорю.
Старуха судорожно сжала руки — еще бы ей было не знать!
— Вы здесь никому ничего не говорили? Ни родителям, ни господам из того большого дома, ни доктору? Совсем никому?
Миссис Скилетт покачала головой.
— Я бы на вашем месте держал язык за зубами, — сказал Редвуд.
Он подошел к дверям и огляделся. Сарай стоял между домом и заброшенным свинарником и выходил на проезжую дорогу за воротами. Позади возвышалась стена из красного кирпича, утыканная поверху битым стеклом, увитая плющом и заросшая желтофиолью и повиликой. За углом, среди зеленых и пожелтевших ветвей, над пестрыми грудами первых опавших листьев виднелась освещенная солнцем доска с надписью: «Вход в лес воспрещен». В живой изгороди зияла брешь, пересеченная колючей проволокой.
— Гм, — еще задумчивее промычал Редвуд. — Гм-м.
Тут до его слуха донеслось цоканье копыт и стук колес, и из-за поворота появилась пара серых — выезд леди Уондершут. Коляска приближалась, и Редвуд рассмотрел кучера и лакея. Кучер — представительный мужчина, крупный и пышущий здоровьем — правил лошадьми с торжественной важностью. Пускай другие не отдают себе отчета в своем призвании и положении в этом мире — он-то твердо знает, что делает: он возит ее милость, леди Уондершут! Лакей сидел на козлах подле кучера, скрестив руки на груди, и в каменном лице его была такая же непоколебимая уверенность. Потом Редвуд разглядел ее милость; она была одета неряшливо и безвкусно, в старомодной шляпке и мантилье, и сквозь очки смотрела прямо перед собой; с нею в коляске сидели две девицы и, вытянув шеи, тоже всматривались во что-то впереди.
Проходивший по другой стороне улицы священник с головой библейского пророка поспешно снял шляпу, но в коляске этого никто и не заметил.
Коляска проехала, а Редвуд еще долго стоял в дверях сарая, заложив руки за спину. Глаза его блуждали по зеленым и серым холмам, по небу, покрытому легкими облачками, по стене, утыканной битым стеклом. Порой он оборачивался и заглядывал в глубь сарая, — там, в прохладном полумраке, расцвеченном яркими бликами, словно на полотне Рембрандта, сидел на куче соломы полуголый ребенок-великан, кое-как обмотанный куском фланели, и перебирал пальцы у себя на ногах.
— Кажется, я начинаю понимать, что мы наделали, — сказал себе Редвуд.
Так он стоял и размышлял сразу обо всех: о юном Кэддлсе, и о собственном сыне, и о детях Коссара…
Внезапно он засмеялся. «Бог ты мой!» — сказал он себе, пораженный какой-то мелькнувшей мыслью.
А потом он очнулся от задумчивости и обратился к миссис Скилетт:
— Как бы там ни было, не годится, чтобы он страдал от перерывов в кормлении. Этого-то мы можем избежать. Я стану присылать вам по банке каждые полгода; ему должно хватить.
Миссис Скилетт пробормотала что-то вроде «как вам будет угодно, сэр» и «верно, я прихватила ту банку по ошибке… думала, от такой малости вреда не будет…» — а судорожные движения ее дрожащих рук досказали: да, она прекрасно поняла Редвуда.
Итак, ребенок продолжал расти.
Он все рос и рос.
— В сущности, — сказала однажды леди Уондершут, — он съел в нашей деревне всех телят. Ну, если этот Кэддлс еще раз посмеет сыграть со мной подобную шутку…
Но даже такое уединенное местечко, как Чизинг Айбрайт, не могло долго довольствоваться теорией о гипертрофии — хотя бы и заразной, — когда по всей стране день ото дня громче становились толки о Чудо-пище. Очень скоро старуху Скилетт призвали к ответу, и пришлось ей давать объяснения, и так это было тягостно и неприятно, что под конец она вовсе лишилась дара речи и только жевала нижнюю губу своим единственным зубом; ее пытали на все лады, выматывали из нее рушу, — и, преследуемая всеобщим осуждением, она стала в позу безутешной вдовы. Она отерла с рук мыльную пену, выдавила из глаз несколько слезинок и устремила взор на разгневанную владелицу поместья.
— Вы забываете, миледи, какое у меня горе, — сказала она и продолжала уже почти с вызовом: — Я думаю о нем, миледи, денно и нощно. — Она поджала губы, и голос ее сник и задрожал.
— Сами подумайте, миледи, ведь его, бедного, съели!
И, утвердившись на этой почве, вновь повторила прежнее объяснение, которому леди Уондершут с первой минуты не верила:
— Порошок-то я внучонку дала, только уж поверьте, миледи, я и знать не знала, что это за порошок за такой…
Тогда леди Уондершут решила докопаться до истины иными путями, не переставая, конечно, изводить и тиранить Кэддлсов. В бурную жизнь Бенсингтона и Редвуда ворвались еще и вежливые угрозы, которыми пытались их запугать посланцы сей достойной дамы. Они представились как члены приходского совета и, точно попугаи, упрямо твердили одно и то же:
— Мы возлагаем на вас, мистер Бенсингтон, ответственность за ущерб, причиненный нашему приходу. Мы возлагаем всю ответственность на вас, сэр.
Затем вмещалась адвокатская фирма Бангхерст, Браун, Флэпп, Кодлин, Браун, Теддер и Снокстон, — то были известные крючкотворы, великие мастера по части всяких скандальных дел, — и их бессменный представитель, маленький востроносый человечек с хитрым медно-красным лицом, смутно намекал, что придется возместить какие-то убытки… а потом к Редвуду нагрянул еще один посланец леди Уондершут, весьма изысканный джентльмен, и без обиняков спросил:
— Итак, сэр, что вы намерены предпринять?
Редвуд ответил, что, если им с Бенсингтоном будут еще докучать, он перестанет посылать Пищу маленькому Кэддлсу.
— Сейчас я ее посылаю бесплатно, — сказал он. — Если вы не станете давать ему Пищу, он умрет с голоду, а перед этим будет орать так, что вся деревня разбежится. Ребенок живет в вашем приходе — вот и извольте о нем заботиться. Раз уж вашей леди Уондершут угодно слыть щедрой благодетельницей и ангелом-хранителем вашего прихода, так пускай в кои веки исполнит свой долг.
— Что поделаешь, зло уже совершилось, — сказала леди Уондершут, когда ее посланцы передали ей (кое о чем, однако, умолчав) ответ Редвуда.
— Зло уже совершилось, — эхом откликнулся священник.
А между тем зло только начиналось.
2. Гигантская обуза
Священник уверял, что гигантский ребенок — урод.
— И всегда был уродом: чрезмерное всегда уродливо, — говорил он.
Взгляды священника мешали ему быть справедливым. Но хоть ребенок и рос в сельской глуши, его часто фотографировали, и эти фотографии — свидетели нелицеприятные — говорят, что священник был неправ. Юный гигант в младенчестве очень мил, густые кудри падают на лоб, и он всегда приветливо улыбается. Почти на всех снимках позади сына стоит улыбающийся Кэддлс, — щуплый и невысокий, он на фотографиях кажется еще меньше ростом.
На третьем году жизни мальчугана его красота стала тоньше, и теперь уже не всякий ее замечал. Он, как сказал бы его злосчастный дед, стал тянуться вверх, точно дурная трава. Румянец на его щеках поблек, и, несмотря на исполинский рост, он казался худеньким. У него был вид хрупкого ребенка. И его черты и взгляд стали строже, о таких обычно говорят: какое интересное лицо!.. После первой же стрижки его кудрявые волосы уже совсем не слушались гребня.
— Явные признаки вырождения, — говорил по этому поводу приходский доктор. Но еще вопрос, был ли он прав, или здоровье мальчика ухудшилось оттого, что жил он в сарае, выбеленном известкой, и всецело зависел от щедрот леди Уондершут, еще умеряемых ее убеждением, что несправедливо давать ему больше, чем другим.
В возрасте от трех до шести лет, судя по фотографиям, юный Кэддлс был курносым мальчишкой с льняными волосами. Круглые глаза смотрели дружелюбно, губы, казалось, вот-вот расплывутся в улыбке, — судя по фотографиям того времени, та же приветливая улыбка играла на лицах всех гигантских детей. Летом он обычно ходил босиком, в просторной тиковой рубахе, сшитой вместо ниток шпагатом, на голове взамен шляпы — корзинка, в каких рабочие носят инструменты. На одной фотографии он широко улыбается, а в руке у него — большая надкушенная дыня.
Фотографий, сделанных в зимнее время, немного, и они не так удачны. Мальчик обут в огромные деревянные башмаки, носки на нем из мешковины (отчетливо видны остатки надписи «Джон Стиккелс, Айпинг»), штаны и куртка явно скроены из старого ковра с веселеньким рисунком. Из-под них виднеются обернутые вокруг тела куски фланели, ярдов пять-шесть той же фланели обмотано вокруг шеи. На голове — подобие шапки, сделанное, по-видимому, тоже из мешковины. Мальчик глядит прямо в объектив — иногда с улыбкой, иногда печально, уже в пять лет он начинает как-то особенно задумчиво щурить кроткие карие глаза, и от них разбегаются характерные морщинки.
Священник всегда утверждал, что юный Кэддлс сразу стал тяжкой обузой для деревни. Видимо, свойственное всем детям любопытство, общительность и желание играть были у него соразмерны росту, и — вынужден я с прискорбием добавить — он был вечно голоден. Как ни щедро, «сверх всякой меры», по выражению миссис Гринфилд, посылала ему хлеб и еще кое-какое довольствие леди Уондершут, мальчик проявлял — это с первых же дней отметил приходский врач — «преступный аппетит». Подтверждались самые суровые суждения леди Уондершут о низших сословиях: мальчишка получал не в пример больше еды, чем требуется даже взрослому человеку, и, однако, воровал съестное. И сразу же с неприличной жадностью поглощал свою добычу. Его огромная рука тянулась через заборы садов и огородов и даже забиралась за хлебом в повозку булочника. С чердака лавки Марлоу исчезали головки сыра, и не было ни одного свиного корыта, которое не обшарил бы этот мальчишка. Фермеры частенько находили на полях брюквы отпечатки огромных ног и следы вечного голода: то тут, то там выдернута с грядки брюква, и ямку воришка с ребячьей хитростью старательно заровнял. Брюкву он съедал мигом, как мы едим редиску. Если поблизости никого не было, он, стоя под яблоней, обирал с нее яблоки, как обыкновенный ребенок обирает с куста смородину. Но по крайней мере в одном отношении то, что юный Кэддлс был вечно голоден, уберегло Чизинг Айбрайт от многих треволнений: все эти годы он съедал до последней крошки всю Пищу богов, которую ему присылали…
Бесспорно, этот ребенок доставлял множество хлопот и неудобств.
— Вечно он путается под ногами, — говорил священник.
Кэддлс не мог ходить ни в школу, ни в церковь — ни там, ни тут он не помещался. Правда, делались попытки удовлетворить «глупейший и развращающий умы» (подлинные слова священника) закон об обязательном начальном образовании, изданный в Англии в 1870 году: Кэддлса заставляли сидеть во дворе у открытого окна школы, где в это время шли занятия. Но его присутствие отвлекало школьников: они то и дело вскакивали, глядели в окно, и стоило Кэддлсу заговорить, как все дружно смеялись: ведь у него был такой странный голос! И пришлось отказаться от этой затеи.
Не заставляли его и приходить к церкви, ибо его вид не способствовал усердию молящихся; а между тем тут было бы легче добиться успеха — можно догадываться, что в душе этой громадины таились зерна благочестия. Быть может, его привлекала музыка: по воскресеньям он нередко приходил на церковный двор, когда вся паства была уже в церкви, осторожно пробирался между могилами и просиживал всю службу на паперти, прислушиваясь к тому, что делается внутри, — так можно слушать жужжанье пчел в улье.
Вначале он вел себя не очень тактично: молящиеся слышали, как он беспокойно топчется вокруг церкви — и гравий скрипит под его огромными ногами, или вдруг замечали его лицо за цветными стеклами — с любопытством и завистью он заглядывал в окно; подчас безыскусственный напев какого-нибудь псалма захватывал его, и он принимался печально подвывать, изо всех сил стараясь попасть в тон. В таких случаях маленький Слоппет, по воскресеньям помогавший органисту, а заодно исполнявший обязанности церковного служки, сторожа, пономаря и звонаря (в будни он был еще и почтальоном и трубочистом), тотчас же выходил из церкви и решительно, хоть и скрепя сердце, отсылал Кэддлса прочь. Мне приятно отметить, что Слоппет чувствовал при этом угрызения совести, по крайней мере в те минуты, когда успевал задуматься. Как будто идешь на прогулку, а верного пса оставляешь взаперти, рассказывал он мне.
Впрочем, духовное и нравственное воспитание юного Кэддлса, хоть и отрывочное, имело определенную направленность. С самого начала и его мать, и священник, и все остальные дружно внушали бедняге, что ему отнюдь не следует пускать в ход свою огромную силу. Она просто несчастье, уродство, и надо смириться. Надо всех слушаться, делать, что велят, и стараться ничего не ломать и никому не повредить. А главное, внушали ему, смотри, ни на что не наступи, ничего не толкни, не бегай и не прыгай. Почтительно кланяйся господам, будь вечно благодарен за еду и одежду, которую они тебе уделяют от щедрот своих. И мальчик покорно усвоил все эти заповеди, ибо от природы и по воспитанию был послушным ребенком и только волею случая и Пищи — гигантом.
В эти ранние годы Кэддлс благоговел перед леди Уондершут. Она же предпочитала разговаривать с ним во время верховых прогулок — в амазонке, размахивая хлыстом, и всегда тоном пренебрежительным и крикливым. Порою и священник принимался им помыкать — крошечный, пожилой, страдающий одышкой Давид осыпал юного Голиафа упреками, выговорами и приказаниями, точно градом камней. Мальчик был уже чересчур велик, и, видно, просто невозможно было помнить, что это всего лишь семилетний ребенок, что он, как и все дети, хочет повеселиться, поиграть, узнать что-то новое и жаждет ласки, любви и внимания и, как все дети, беспомощен и способен сильно тосковать и страдать.
Погожим утром, во время прогулки, священник не раз встречал на дороге это диво восемнадцати футов ростом, нелепое и отвратительное, на его взгляд, точно некая новая ересь; непонятное существо проходило мимо, несуразно топая ногами и озираясь по сторонам, занятое вечными поисками, — оно искало того, без чего не может обойтись ни один ребенок: что бы съесть и во что бы поиграть.
При виде священника в глазах великана появлялось нечто вроде пугливого почтения, и он застенчиво подносил руку к спутанным кудрям, точно взрослый человек к шапке.
У священника еще сохранилась толика воображения, и при виде юного Кэддлса ему всегда представлялось, каких бед могут натворить эти огромные кулаки. Вдруг парень сойдет с ума! Или просто забудет о почтительности… Однако поистине храбр не тот, кто вовсе не чувствует страха, а тот, кто умеет страх побороть. Священник всегда находил в себе силы подавить разыгравшееся воображение. И всегда отважно обращался к Кэддлсу, стараясь говорить внятно и с выражением, будто проповедь читал.
— Ну, как ты себя ведешь, Элберт Эдвард? Надеюсь, хорошо?
Юный гигант прижимался к стене и отвечал, густо краснея:
— Да, сэр, я стараюсь.
— Смотри же, старайся хорошенько, — говорил священник и проходил мимо, и разве что сердце у него, бывало, заколотится быстрее. Но он взял за правило, что бы ему ни мерещилось, не оглядываться на опасность, когда она уже позади: ведь это недостойно мужчины!
Урывками священник занимался и образованием юного Кэддлса. Читать он его не учил — к чему? — но внушал то, что для такого чудовища, конечно, куда важнее истин катехизиса: пусть не забывает о своем долге перед ближними и о том, что бог беспощадно покарает его, если он когда-либо вздумает ослушаться священника и леди Уондершут. Уроки эти священник давал у себя во дворе, и прохожие слышали, как необыкновенно гулкий голос, еще совсем по-детски шепелявя и путаясь в длинных словах, нараспев повторяет основы учения государственной церкви:
— Буду чтить короля и повиноваться ему и всем власть имущим. Буду слушаться всех старших, моих учителей и наставников, духовных пастырей и господ. Буду смиренно и беспрекословно выполнять приказания всех стоящих выше меня и более меня знающих…
Вскоре выяснилось, что лошади с непривычки пугаются великана и шарахаются от него, точно от верблюда; поэтому ему запретили не только подходить к аллее, обсаженной кустарником (его дурацкая улыбка ужасно раздражала миледи!), но и вообще появляться на дороге. Впрочем, этот приказ он потихоньку нарушал — уж очень интересно было поглядеть на дорогу; но обычная прогулка превратилась для него в запретное удовольствие. В конце концов ему разрешили гулять лишь по заброшенному выгону да по склонам холмов.
Просто не знаю, что бы он стал делать, если бы не добрые старые меловые холмы! Там он мог сколько угодно бродить на просторе — и бродил. Он ломал ветки деревьев и связывал их в немыслимые букеты, пока ему это не запретили; брал овец и выстраивал их в ряды и от души смеялся, глядя, как они тотчас разбегаются, пока ему это не запретили; срезал дерн и рыл глубочайшие ямы в самых неожиданных местах, пока ему это не запретили…
Он бродил по холмам до самого Рекстоуна, но дальше не заходил, потому что там начинались возделанные земли; вид оборванного, нечесаного гиганта наводил страх на людей; притом они боялись, что он вытопчет их поля, — и его травили собаками и гнали прочь. Ему грозили, хлестали его кнутом и далее, как я слышал, иногда стреляли в него из дробовиков. В другую сторону он доходил почти до Хиклибрау. С холмов над Терсли Хэнгер он мог издали разглядеть железную дорогу на Лондон, Четом и Дувр, но ближе подойти боялся: на пути лежали вспаханные поля да еще деревушки, которых надо было опасаться.
А потом появились объявления — огромные доски с большими красными буквами преграждали ему путь, куда бы он ни пошел. Он не умел прочитать эти буквы, из которых складывались слова «Вход воспрещен», но вскоре понял их смысл. Пассажиры поездов часто видели его из окон вагонов, — уткнувшись подбородком в колени, он сидел на земле где-нибудь на склоне холма возле каменоломен Терсли, куда его позднее отправили на работу. Поезд, видно, вызывал в нем смутные дружеские чувства, — иногда великан махал вслед огромной ручищей, а порой и кричал что-то непонятное своим странным, грубым голосом.
— Громадина! — говорил тогда один пассажир другому. — Один из этих чудо-детей. Говорят, сэр, он совершенно беспомощен, идиот идиотом и тяжкая обуза для всей округи.
— Я слыхал, что его родители — бедняки.
— Да, он только и кормится благотворительностью здешних господ.
И все глубокомысленно мерили взглядом сидевшего вдали на корточках великана.
— Хорошо, что этому положили конец, — замечал какой-нибудь философ. — А то еще пришлось бы налогоплательщикам содержать несколько тысяч таких по всей стране! Веселенькое дело, а?
И всегда находился умник, который с жаром поддакивал такому философу:
— Вы совершенно правы, сэр!
Бывали у юного Кэддлса плохие дни.
Вот, например, неприятное происшествие с рекой.
Он мастерил из цельных газет кораблики, напоминавшие огромные треуголки, — научился он этому, глядя, как их делает мальчишка Спендер, — и пускал по течению. Когда они исчезали под мостом (за мостом начинались владения леди Уондершут, и вход туда был строжайше воспрещен), Кэддлс с воплем пускался бежать со всех ног к излучине реки, чтобы перехватить там свои кораблики. Бежал он прямиком через луг Тормета, — и видели бы вы, как бросались врассыпную Торметовы свиньи, а ведь свиньям бегать вредно: от этого драгоценный жир превращается в жесткое мясо! А кораблики плыли мимо дома леди Уондершут, под самыми окнами. Безобразные, намокшие газеты! Нечего сказать, приятное зрелище!
Осмелев от своей безнаказанности, мальчик принялся строить на берегу что-то вроде плотин и запруд. Орудуя вместо лопаты старой дверью от сарая, он выкопал громадную яму, ведь его бумажному флоту нужна была гавань; прорыл самый настоящий канал, благо никто вовремя этого не заметил, и вода затопила ледник леди Уондершут. И, наконец, запрудил реку, перегородил от берега до берега, для этого ему довольно было несколько раз копнуть землю своей дверью от сарая — это напоминало обвал! Началось настоящее наводнение — поток хлынул сквозь кусты и смыл мисс Спинке вместе с ее мольбертом и самой лучшей акварелью. Вернее сказать, вода смыла мольберт, а мисс Спинке промочила ноги до колен и, угрюмо подобрав юбки, убежала в дом, вода же устремилась в огород, залила лужайку и оттуда по канаве вернулась в реку.
Священник как раз беседовал с кузнецом и вдруг ахнул от изумления: река глубиной не меньше восьми футов внезапно обмелела! Там, где только что текли прозрачные холодные воды, валяются на земле комья тины и зеленые водоросли и рыба отчаянно бьется в жалких лужах!
В ужасе от того, что он натворил, юный Кэддлс убежал из дому и не появлялся два дня и две ночи. Но потом голод пригнал его домой, и он стоически выдержал брань и попреки, которыми его осыпали в изобилии, — головомойка была под стать его росту, ничего более соразмерного с его ростом никогда не выпадало ему на долю в этом райском уголке.
После этого случая леди Уондершут в придачу к прежним притеснениям, обидам и несправедливостям издала в назидание провинившемуся новый строгий указ. Прежде всех она объявила его дворецкому, да так неожиданно, что старик даже подскочил. Он убирал посуду после завтрака, а миледи стояла у высокого окна и смотрела на лужайку, где обычно кормили ланей.
— Джоббет, — вдруг сказала она самым резким и повелительным тоном, — Джоббет, этот урод должен зарабатывать свой хлеб.
И она доказала не только Джоббету (это-то было нетрудно), но и всей деревне, в том числе юному Кэддлсу, что и тут, как во всем прочем, слово у нее не расходится с делом.
— Пусть работает, — сказала леди Уондершут. — Вот полезный совет этому молодцу.
— Я полагаю, что такой совет полезен всему человечеству, — ответил священник. — Простые обязанности, размеренная, скромная жизнь: возделывай свое поле да собирай жатву…
— Именно, — подтвердила леди Уондершут. — Я всегда это говорю. Бездельнику занятие сатана подыщет. Конечно, если он низкого звания. Мы всегда внушаем это младшим горничным. К какому же делу его приставить?
Задача оказалась не так-то проста. Перебрали множество должностей, а пока стали приучать его к работе, посылая вместо верхового, если нужно было спешно доставить телеграмму или записку; годился он и в носильщики, для него даже отыскали старую рыбачью сеть, и он без труда таскал в ней чемоданы, пакеты и всякую другую поклажу. Это была новая игра, и она нравилась Кэддлсу, но однажды Кинкл, управляющий, увидал, как он по распоряжению леди Уондершут выворачивает из земли огромный камень, и возымел блестящую идею отправить его в принадлежавшую миледи каменоломню в Терсли Хэнгере, по соседству с Хиклибрау. Идею осуществили, и уже казалось, что задача решена и Кэддлс пристроен.
Он работал в каменоломне — сперва играючи, с детским увлечением, а потом в силу привычки: ломал известняк, грузил, откатывал вагонетки, полные спускал вниз к железнодорожной ветке, а пустые втягивал вверх канатом, крутя огромную лебедку, — короче говоря, управлялся в карьере один.
Я слышал, что Кинкл сделал из него очень выгодного для леди Уондершут работника: ведь обходился он совсем дешево, его только приходилось кормить, и все равно миледи вечно жаловалась, что «этот урод впился в нее, как клещ» и «пользуется ее добротой».
В ту пору юный Кэддлс носил какую-то хламиду из мешковины, залатанные кожаные штаны и деревянные башмаки, подбитые железными подковами. Взамен шапки он порой нахлобучивал нечто совсем нелепое — растрепанное соломенное сиденье от старого стула, но чаще ходил с непокрытой головой. В его неторопливых движениях чувствовалась спокойная сила, а в полдень, проходя мимо карьера во время своей обычной прогулки, священник всегда заставал его за завтраком: застенчиво отвернувшись от всего мира, Кэддлс поглощал огромное количество еды.
Еду доставляли ему каждый день: в самой обыкновенной вагонетке из тех, которые он наполнял глыбами известняка, привозили похлебку из немолотого зерна в шелухе, он разогревал ее в старой печи для обжига извести и с жадностью поедал. Иногда он всыпал туда мешок сахару. Иногда сосал кусок грубой соли, какую обычно дают коровам, или глотал вместе с косточками огромные комки фиников, что в Лондоне продают с лотков. За водой он ходил мимо выжженного участка, где стояла когда-то опытная ферма, к ручью возле Хиклибрау и пил прямо из ручья, окунув лицо в воду. А пил он сразу после еды, — вот как случилось, что Пища богов опять вырвалась на волю: сначала по берегам разрослась высоченная трава, потом появились гигантские лягушки, огромные форели и уж такие карпы, что ручей вышел из берегов, и, наконец, всю долину покрыла невиданно буйная растительность.
Не прошло и года, как на соседнем поле расплодились странные чудовищные гусеницы, а из них вывелись такие страшные кузнечики и жуки — моторные жуки, прозвали их мальчишки, — что перепуганная леди Уондершут поспешила уехать за границу.
Вскоре, однако, Пища стала действовать на юного Кэддлса по-новому. Хотя священник всячески старался воспитать великана послушным земледельцем и поэтому преподал ему лишь самые скромные уроки, ученик начал задавать вопросы, допытываться до сути вещей: он начал размышлять. Мальчик превращался в подростка, и все яснее становилось, что мысль его работает по-своему и священник над нею не властен. Почтенный пастырь всячески силился этого не замечать, но как тут было не тревожиться!
Все вокруг будило мысль юного гиганта. С высоты своего роста он, уж наверно, поневоле многое видел и примечал, — а кругом были люди, и постепенно он должен был понять, что и он тоже человек, только чересчур огромный и нескладный и потому, увы, многого лишен.
Дружный гул голосов, доносившийся из школы, таинственная церковь с ее пышным убранством, источавшая такую чудесную музыку, и веселый хор собутыльников в трактире, приветливые огни свечей и каминов за окнами, в которые он заглядывал из темноты, или шумная, не очень понятная суета нарядных людей на лужайке для крикета — уж наверно, все это громко взывало к его сердцу, тоскующему в одиночестве. Подкрадывалась юность, и его, по-видимому, все больше интересовали влюбленные, их встречи и расставания, их тяга друг к другу, та сокровенная близость, что занимает столь важное место в жизни.
Однажды воскресным вечером, в тот час, когда просыпаются звезды, летучие мыши и страсти сельских жителей, парень с девушкой отправились целоваться на Дорогу Влюбленных — эта укромная прогалина среди густых высоких кустов вела к Верхней Сторожке. Они самозабвенно целовались, в теплых сумерках им было уютно и безопасно — что еще нужно влюбленным? Помешать мог только случайный прохожий, но они увидели бы его первыми; высокая, в два человеческих роста живая изгородь, уходившая к молчаливым меловым холмам, казалась им вполне надежным укрытием.
И вдруг — непостижимо! — какая-то сила оторвала их друг от друга и от земли.
Громадные руки осторожно держали обоих под мышки высоко в воздухе, и карие глаза юного Кэддлса с недоумением вглядывались в их разгоряченные лица. Неудивительно, что оба потеряли дар речи.
— Почему вам нравится так делать? — спросил Кэддлс.
Оторопев, они молчали, но потом парень вспомнил, что он мужчина, и разразился подобающими случаю криками, угрозами и проклятиями, требуя, чтобы Кэддлс опустил их на землю. Тут юный Кэддлс вспомнил, как надо себя вести, очень вежливо и осторожно посадил их на прежнее место, поближе друг к другу, чтобы они опять могли целоваться, помешкал еще немного — и исчез в сумерках…
— Ох и дурацкое положение! — признавался мне после парень. — Сидим, знаете, стыдно друг другу в глаза поглядеть… Принесла его нелегкая… Мы ведь целовались, сами понимаете… И вот смех, по ее выходит — это я во всем виноват! До того разозлилась — как шли домой, и говорить-то со мной не хотела!
Без сомнения, великан принялся изучать жизнь. Пытливый ум задавался все новыми вопросами. Ответа Кэддлс пока искал у немногих, но вопросы эти не давали ему покоя. Похоже, что порой он подвергал мать самому настоящему допросу.
Он приходил к ней во двор, осторожно выбирал место, чтобы не передавить кур и цыплят, медленно опускался на землю и прислонялся спиной к амбару. Тотчас к нему сбегались цыплята и с удовольствием выклевывали свалявшуюся меловую пыль из швов и складок его одежды; а порою несмышленый котенок миссис Кэддлс, ничуть не опасавшийся великана, выгибал спину дугой и начинал стремглав носиться взад и вперед: со двора в дом, в кухне — на печку, снова кувырком вниз, во двор, и по ноге Кэддлса, по боку ему на плечо… мгновенное раздумье… прыг! — и опять все сначала. Иногда, расшалившись, зверек впивался когтями в лицо Кэддлсу, но тот не решался его тронуть — такая кроха, еще раздавишь! Да он и не боялся щекотки… А потом он ставил мать в тупик каким-нибудь неожиданным вопросом.
— Матушка, — говорил он, — если работать — это хорошо, почему же не все работают?
Мать поднимала на него глаза и отвечала:
— Это хорошо только для таких, как мы.
Сын задумывался.
— А почему? — спрашивал он. И, не получив ответа, продолжал: — Для чего люди работают, матушка? Почему я день-деньской ломаю камень, ты стираешь белье, а вон леди Уондершут катается себе в коляске да разъезжает по красивым чужим краям, а нам с тобой их сроду не видать?
— Потому что она леди, — отвечала миссис Кэддлс.
— А-а! — И юный Кэддлс опять погружался в раздумье.
— Благородные господа нам, беднякам, дают работу, — говорила миссис Кэддлс. — А без них на что бы мы жили?
Эту мысль тоже надо было переварить.
— Матушка, — снова начинал сын, — если бы на свете не было господ, наверно, все принадлежало бы таким, как ты и я, и тогда…
— Господи помилуй! Чтоб тебе провалиться, парень! — восклицала миссис Кэддлс (благодаря отменной памяти она после смерти своей мамаши превратилась в такую же красноречивую и решительную особу). — Как прибрал бог твою бедную бабушку, так с тобою никакого сладу не стало! Не лезь с вопросами, не то наслушаешься вранья. Коли мне на твои вопросы всерьез отвечать, так я со стиркой и до завтра не управлюсь, а кто отцу обед сготовит?
Сын смотрел на нее с удивлением.
— Ладно, матушка, — говорил он. — Я ведь не хотел мешать тебе.
И продолжал размышлять.
Так же размышлял он и в тот день, четыре года спустя, когда его в последний раз видел священник — человек уже не просто зрелых лет, а перезрелый. Представьте себе этого почтенного джентльмена: он несколько постарел и расплылся, голос у него немного осипший, память дырявая и речь не очень внятная, уже не столь уверенны его движения и не столь тверды принципы, но, несмотря на все треволнения, которые доставила ему и его приходу Пища богов, глаза его по-прежнему смотрят бодро и весело. Да, немало пережито страхов и тревог, а все-таки он остался жив и здоров и верен себе, а за пятнадцать долгих лет — целая вечность! — и к треволнениям можно притерпеться.
— Достаться-то нам досталось, — говаривал он, — и многое изменилось с тех пор… сильно изменилось. Прежде, помню, любой мальчишка мог прополоть огород, а теперь без лома и топора не обойдешься, — особенно поближе к чащобе. И нам, старикам, по сю пору непривычно, что вся долина и даже старое русло реки засеяны пшеницей, вон она какая этим летом вымахала — двадцать пять футов вышиной! Лет двадцать назад у нас тут жали по старинке, серпами, и то-то радости было, когда урожай заполнял целую телегу… Добрые старые обычаи! Чарка доброго вина да простая, бесхитростная любовь… Бедная леди Уондершут! Она не признавала новшеств… аристократка старого закала. В ней было что-то от восемнадцатого века, я всегда это говорил. А какой язык: сочность, прямота, выразительность!.. К концу жизни она порядком обеднела. Эти огромные сорняки заполонили весь ее сад. Не то чтобы у нее была уж такая страсть к садоводству, но она любила, чтобы там был порядок, чтобы все росло, где полагается и как полагается. А оно как взялось, выше да выше — миледи и растерялась… И еще наш урод ей досаждал, — под конец ей уж стало казаться, будто он вечно глазеет на нее через забор… И досаждало, что он ростом чуть ли Не с ее дом… оскорбляло ее вкус и чувство меры… бедняжка! Не думал я ее пережить. Не вытерпела, сбежала от тех огромных майских жуков, целый год мы не могли от них избавиться. Вывелись из большущих личинок там, в долине… этакая мерзость… с крысу, не меньше…
Да и муравьи тоже ее угнетали…
Все перевернулось, не стало здесь мира и покоя, — ну, она и объявила, что уж лучше жить в Монте-Карло. Взяла и укатила.
Говорили, она там крупно играла. Умерла в гостинице. Печальный конец! На чужбине… Да, не ведает человек, что ему уготовано… Такой был старинный род, всегда повелевали своими соотечественниками… И вот — вырвана из родной почвы… Так-то!
— А все равно, — гнул он свое, — дело-то свелось к пустякам. Мешает, конечно. Детишкам негде побегать, как бывало, — уж очень пошли кусачие муравьи и прочая живность. А вообще-то невелика разница… Помню я, поговаривали, что порошок этот весь мир перевернет… Но, видно, есть на свете такие твердыни, что их никакими новшествами не пошатнешь… Толком-то не скажу, я ведь не из нынешних философов… Эти вам все на свете растолкуют. Эфир да атомы… эволюция… Как бы не так! То, о чем я говорю, никакими вашими науками не объяснишь. Здесь все дело в разуме, а не в знании. Высшая мудрость, Человеческая природа. Называйте как хотите, но это — atre perennius.
И вот наконец настал тот последний раз.
Священник не подозревал о том, что его ожидает. Он совершал свою обычную прогулку среди холмов по той нее дорожке, по которой гулял уже лет двадцать, и направлялся к месту, откуда всегда наблюдал за юным Кэддлсом. Слегка запыхавшись, он поднялся на край карьера. Куда девался молодецкий шаг его юности! Но Кэддлса в карьере не было; священник обогнул заросли гигантских папоротников, чья густая тень уже начинала заслонять Хэнгер, и увидел великана: тот сидел на холме и, казалось, размышлял над судьбами мира. Он облокотился на поднятые колени, склонил голову набок и подпер щеку ладонью. Священник видел только его плечо и не мог разглядеть недоумевающих глаз. Должно быть, юноша глубоко задумался: он сидел так тихо, неподвижно…
И он не обернулся. Он так никогда и не узнал, что священник, сыгравший такую важную роль в его жизни, смотрел на него в самый последний раз; Кэддлс его даже не заметил. (Как часто именно так и расстаются люди!) А священника в тот миг поразила догадка, что никто, в сущности, и понятия не имеет, какие думы бродят в мозгу великана, когда он отдыхает от своих нелегких трудов. Но сегодня старик слишком устал, чтобы обременять себя новой темой, и мысль его опять свернула на проторенную дорожку.
— Aere perennius, — прошептал он, медленно шагая домой по тропинке, которая теперь уже не пересекала луг напрямик, как в былые годы, а извивалась, огибая молодые купы гигантских трав. — Нет, ничто не изменилось. Суть не в размерах. Извечный круг жизни, тот же неизменный путь…
И в ту же ночь, сам того не заметив, он тихо ушел тем же неизменным путем из мира таинственных перемен, которые отрицал всю свою жизнь.
Его похоронили на чизинг-айбрайтском кладбище под самой большой ивой, и скромную могильную плиту с надписью, которая кончалась словами: Ut in Principio nuns est et semrer[8] — мгновенно скрыла от глаз поросль гигантской травы, траву эту не брал серп и не могли сглодать овцы, ее серые пушистые метелки наползали на деревню, как туман, поднимавшийся с тучных влажных низин, оплодотворенных Пищей богов.
Часть третья «Пища приносит плоды»
1. Преображенный мир
Вот уже двадцать лет действовали в мире новые силы. В жизнь большинства людей перемены входили постепенно, час за часом, хоть и заметные, но не столь резкие, чтобы подавлять своей внезапностью. Однако нашелся человек, глазам которого все то новое, что внесла Пища в облик мира за два десятилетия, открылось сразу, в один день. Будет очень кстати, если мы проведем с ним этот день и расскажем обо всем, что он увидел.
То был преступник, осужденный на пожизненную каторгу (за что именно — для нас неважно), но теперь, через двадцать лет, закон счел возможным его помиловать. И вот в одно прекрасное летнее утро бедняга, чьим уделом с двадцати трех лет был унылый, изнурительный труд и жесткие тюремные правила, вновь очутился в изумительном мире свободы. Ему вернули вольную одежду, от которой он давно отвык; за последние недели волосы у него отросли, их уже удается расчесать на пробор; и вот он стоит, весь обновленный и оттого жалкий, растерянный и неуклюжий, глаза ему слепит солнечный свет, душу слепит нечаянная улыбка судьбы. Он снова на воле, он силится постичь непостижимое — он вновь, пусть ненадолго, возвращен к жизни! Даже не верится, он к этому совсем не готов! По счастью, у него был брат, который все еще не забыл об их далеком детстве и сейчас приехал за ним и обнял его; этот бородатый преуспевающий мужчина ничем не напоминает того мальчонку, каким он был двадцать лет назад, даже глаза стали другие. И вместе с этим незнакомцем, близким ему по крови, вчерашний узник приехал в Дувр; дорогой они больше молчали, хотя и думали о многом.
Они посидели часок в трактире; брат отвечал, а узник все расспрашивал о родных и знакомых, удивляя собеседника давно устаревшими взглядами, отмахиваясь от новых понятий и новых воззрений; а потом настало время идти на вокзал, на лондонский поезд. Имена братьев и семейные дела, которые они обсуждали, несущественны для нашей повести. Нам важны лишь перемены да странные новшества, которые бросились в глаза бедной заблудшей овце, вернувшейся в некогда хорошо знакомый мир.
В самом Дувре он почти ничего не заметил, вот только пиво в оловянных кружках было отличное, он никогда не пил такого, и на глазах у него выступили слезы благодарности. «Пиво, как и прежде, хоть куда!» — сказал он, а про себя подумал, что оно стало несравненно лучше…
Лишь когда колеса поезда громыхали уже за Фолкстоуном, он несколько справился с волнением и начал замечать окружающее. Он выглянул в окно. «Солнышко светит, — повторял он в двадцатый раз. — Денек выдался на славу!» И тут впервые он заметил какие-то странные несоразмерности и несообразности.
— Ух ты! — воскликнул он и выпрямился. Лицо его впервые оживилось. — Ну и чертополох же вымахал там на берегу, под ракитами! Неужто и вправду такой огромный чертополох? Или я путаю?
Но это и в самом деле был чертополох, а то, что он принял за ракитовые кусты, оказалось простой травой, в ее чаще рота солдат (как и прежде, в красных мундирах) проводила учения согласно уставу, частично пересмотренному после Бурской войны. И вдруг — бац! — поезд нырнул в туннель и выкатил прямо к Сэндлингскому вокзалу; здесь теперь все утопало в зарослях рододендронов, они добрались сюда из близлежащих садов и заполонили всю долину; от них в Сэндлинге стало так темно, что фонари горели круглые сутки. На запасном пути стоял товарный поезд, груженный рододендроновым кругляком, и здесь наш блудный сын впервые услыхал о Чудо-пище.
Поезд уже снова мчался по знакомым, ничуть не изменившимся местам, а братья все еще говорили на разных языках. Старший жадно расспрашивал, и его вопросы казались младшему бессмысленными. Сам он никогда и не пытался понять и обобщить происходящее, а потому ответы его звучали бессвязно и невразумительно.
— Это все Чудо-пища, — сказал он, исчерпав все свои познания. — Неужто ты не слыхал? И никто тебе даже не обмолвился? Чудо-пища! Понял? Чу-до-пища. Из-за нее и с выборами такая кутерьма. Ученая штука! Неужто так-таки и не слыхал?
И он подумал: как же брат отупел там, в тюрьме, — не знает самых простых вещей.
Так и шла эта игра в вопросы и ответы. Между разговорами старший брат смотрел в окно. Сначала новости интересовали его смутно, лишь в общих чертах. Его больше занимало, что скажет ему при встрече такой-то, как теперь выглядит такая-то и как бы всем и каждому изобразить по возможности благовидно поступок, из-за которого его двадцать лет назад «засадили». Чудо-пища мелькнула сперва невразумительными строчками в газете, потом помешала им с братом понимать друг друга. И вдруг он обнаружил, что этой Пищи не миновать, о чем бы они ни заговорили.
В ту переходную пору мир напоминал собой лоскутное одеяло, и Новое явилось свежему глазу, как цепь поразительных, кричащих контрастов. Перемена совершалась не везде одинаково, очаги распространения Пищи вспыхивали то тут, то там. Страна словно покрылась разноцветными заплатами — большие области, до которых Пища еще не добралась, а рядом — края, где она уже пропитала землю и воздух, внезапная и вездесущая. Она, словно новая, дерзкая мелодия, разливалась среди древних, освященных веками песен.
В то время контраст был особенно разителен на пространстве от Дувра до Лондона. Поезд пересекал места, какие вчерашний узник помнил с детства: полоски полей за живой изгородью, такие крохотные, словно их вспахали карликовые лошади; узенькие дороги, на которых трем повозкам уже, пожалуй, не разъехаться; в полях кое-где пятнышками темнеют вязы, дубы и тополя, вдоль речушек жмутся ивы; стога сена не выше сапога какого-нибудь великана; игрушечные домики с крохотными окошками; кирпичные заводы; кривые деревенские улочки, дома побольше — жилища жалких местных «тузов»; поросшие цветами насыпи и палисадники железнодорожных станций. Вся эта мелкота осталась от ушедшего в прошлое девятнадцатого столетия и еще сопротивлялась наступлению гигантизма. Кое-где виднелись пучки занесенного ветром огромного взлохмаченного чертополоха, не поддающегося топору; кое-где высился десятифутовый гриб-дождевик или торчали обуглившиеся стволы на выжженном участке гигантской травы; но это были единственные признаки наступления Пищи.
На протяжении нескольких десятков миль ничто больше не предсказывало, что в каких-нибудь десяти милях от дороги, за холмами, в чизинг-айбрайтской долине, скрываются чащи гигантской пшеницы и могучих сорняков. И вдруг снова появлялись приметы Пищи. Новый, невиданно огромный виадук протянулся у Тонбриджа, где заросли гигантского тростника задушили реку Мидуэй и превратили ее в болото. Дальше опять пошли маленькие поля и деревушки, но по мере того, как из тумана проступала каменная россыпь громады — Лондона, все явственней и настойчивей бросались в глаза усилия человека сдержать натиск гигантизма.
В те времена в юго-восточной части Лондона, где жили Коссар и его дети, Пища таинственным образом прорвалась сразу в сотне мест; жизнь пигмеев продолжалась тут среди ежедневных знамений Нового, и лишь неторопливость его поступи да сила привычки мешали людям понять их грозный смысл. Но узник, вышедший на свободу, иными глазами увидел этот мир, куда властно вторглась Пища; его поразила изрытая, обугленная земля, большие уродливые валы и укрепления, казармы и склады оружия — все, что поневоле понастроили люди, защищаясь от наступления упорной хитроумной силы.
Опять и опять, только в больших масштабах, повторялось то, что некогда произошло в Хиклибрау. Новые силы и новые формы жизни проявились прежде всего в случайных мелочах — они буквально вырастали под ногами и на пустырях, невзначай и словно бы ни с того ни с сего. В огромных зловонных дворах за высоченными заборами поднимались непроходимые джунгли сорняков: их использовали как топливо для гигантских машин (лондонские мальчишки собирались сюда и совали грош сторожу, чтобы он дал поглазеть на маслянистые, лязгающие металлом громады), там и тут протянулись дороги и рельсовые пути, сплетенные из волокон небывало огромной конопли, и по ним ездили тяжелые повозки и автомобили; на сторожевых вышках были установлены паровые сирены, готовые в любую минуту взреветь, предупреждая людей о нашествии каких-нибудь новых хищников; особенно странно было видеть башни древних церквей, также украшенные механическими гудками. На открытых местах виднелись выкрашенные в красный цвет блиндажи и укрытия, из них можно было вести огонь ярдов на триста, и солдаты ежедневно упражнялись здесь в стрельбе охотничьими патронами по мишеням, изображавшим крыс-великанов.
Со времен Скилеттов гигантские крысы уже шесть раз совершали набеги на Лондон, и всегда из канализационных труб на юго-западе. И к этому тоже все привыкли: ведь никого не удивляет, что в дельте Ганга, под самой Калькуттой, водятся тигры…
В Сэндлинге младший брат машинально купил газету, и под конец она привлекла внимание недавнего узника. Он развернул ее. Ему показалось, что страниц в газете стало больше, а сами они меньше и шрифт не тот. А потом он увидел бесчисленные фотографии вещей, до того непонятных, что даже неинтересно было смотреть, и длинные столбцы статей под заголовками, настолько для него темными, словно они были на чужом языке: «Замечательная речь мистера Кейтэрема», «Законы о Чудо-пище».
— А кто такой Кейтэрем? — спросил он, пытаясь вновь завязать разговор.
— Ну, этот — человек надежный! — ответил младший брат.
— Вон как! Политик, что ли?
— Хочет скинуть правительство. Давно пора!
— Вот как! — Он задумался. — А те, что были при мне — Чемберлен, Розбери, — все, наверно… Чего ты?!
Брат вдруг схватил его за руку и показал пальцем:
— Гляди, Коссары!
Бывший узник посмотрел в окно и увидел…
— О господи!
Вот теперь он был поистине ошеломлен. Он забыл обо всем на свете, газета упала на пол. За деревьями, свободно и непринужденно, расставив ноги и подняв руку с мячом, готовясь его бросить, стоял великан добрых сорока футов ростом. Одежда его, сотканная из нитей белого металла, и широкий стальной пояс так и сверкали на солнце. В первую секунду бывший узник видел только эту сверкающую живую статую, потом заметил поодаль второго великана — тот готовился поймать мяч. Так, значит, вся эта обширная котловина меж холмами к северу от Семи дубов изрыта и изрезана не случайно: тут хозяйничают гиганты!
Огромная укрепленная насыпь окружала известковый карьер, на дне его стоял дом — громадное плоское здание в египетском стиле, которое Коссар выстроил для сыновей, когда гигантская детская отслужила свою службу; за домом, в тени навеса, под которым свободно уместился бы целый собор, то вспыхивали, то гасли пляшущие красноватые блики и гремели оглушительные удары молота…
Но тут исполин кинул в небо огромный деревянный мяч, скрепленный железными обручами.
Братья привстали с мест и смотрели во все глаза. Мяч казался величиной с бочку.
— Поймал! — воскликнул старший.
Великана, кинувшего мяч, заслонило дерево.
Все это лишь на мгновенье мелькнуло в окнах вагона, и тотчас поезд миновал деревья и нырнул в туннель у Чизлхерста.
— О господи! — снова вырвалось у бывшего узника, когда вокруг сомкнулась тьма. — Ну и ну! Этот парень был ростом с дом!
— Это они самые и есть, молодые Коссары, — откликнулся брат и выразительно мотнул головой в ту сторону. — От них-то и пошла вся беда…
Поезд выскочил из туннеля, и снова мимо побежали сторожевые вышки, увенчанные паровыми сиренами, и красные казармы, потом пошли загородные виллы. За двадцать лет искусство рекламы ничуть не забылось, и с бесчисленных рекламных щитов, со стен домов, с заборов и иных видных мест взывали к избирателям пестрые афиши: бурная предвыборная кампания проходила под знаком Чудо-пищи. Опять и опять повторялись слова «Кейтэрем», «Чудо-пища». «Джек-Потрошитель великанов» и огромные карикатуры и шаржи — злые перья и кисти на все лады издевались над сверкающими гигантами, что промелькнули за окнами вагона всего несколько минут назад.
Младшему брату пришла в голову великолепная мысль: достойно отметить возвращение старшего к жизни праздничным обедом в каком-нибудь шикарном ресторане, а затем насладиться всеми волнующими впечатлениями, какими только мог порадовать в те годы мюзик-холл. Отличная программа действий. Предполагалось, что волна радостей жизни омоет вчерашнего узника и унесет воспоминания о тюремных годах; однако вторую часть программы пришлось изменить. После обеда виновником торжества овладело чувство, пересилившее жажду зрелищ и способное отвлечь человека от мрачных воспоминаний куда вернее любого театрального представления, — неуемное любопытство: его слишком поразили Чудо-пища и ее дети — новая, невиданная людская поросль, которая словно возвышалась над всем миром.
— Не пойму я их, — сказал он. — Разбередили они меня.
У младшего брата хватило деликатности: он не стал настаивать на своем плане развлечений. «Сегодня твой праздник, старина, — сказал он. — Что ж, попробуем попасть на митинг в Зал собраний».
Бывшему узнику посчастливилось: хоть и не сразу, но он протиснулся в битком набитый зал и глядел во все глаза на небольшие, ярко освещенные подмостки у дальней стены, под галереей и органом. Пока публика валом валила в зал, органист наигрывал что-то такое, отчего ноги сами начинали топать в такт, но затем музыка прекратилась.
Не успел новоявленный гражданин устроиться поудобнее, осадив несносного соседа, несколько раз заехавшего ему локтем в бок, как появился Кейтэрем. Из темноты на середину ярко освещенных подмостков вышел жалкий пигмей. Издали эта черная фигурка казалась совсем крошечной, вместо лица — розовое пятно, хотя в профиль отчетливо выделялся орлиный нос. И этот карлик вызвал бурю приветствий! Да еще какую! Крики и рукоплескания искорками вспыхнули там, у подмостков, перекинулись дальше, охватили пожаром весь зал и даже толпу, обступившую здание снаружи. Как они кричали! Ур-ра! Ур-ра!
И среди этих восторженных толп горячее всех рукоплескал наш бывший узник. По щекам его струились слезы, и замолчал он лишь тогда, когда совсем задохнулся от крика. Только тот, кто сам двадцать лет провел в тюрьме, способен понять или хотя бы почувствовать, что значит снова оказаться среди людей и единой грудью кричать вместе со всеми. (Кстати, он вовсе не обманывал себя и не прикидывался, будто понимает, отчего все так беснуются.)
— Ур-ра! — вопил он. — Бог ты мой! Ур-ра!
Затем стало почти тихо. Кейтэрем с подчеркнутым терпением ждал, а какие-то незначительные личности что-то бормотали и делали все, что полагается в таких случаях, но никто их не слушал и не обращал на них внимания. Их голоса доносились словно сквозь шелест весенней листы. Бу-бу-бу. Кому это интересно? В зале переговаривались. Бу-бу-бу… — неслось с подмостков. Неужто этот седеющий болван никогда не кончит? Ему мешают? Как не мешать! Бу-бу-бу… А вдруг и Кейтэрема будет так же плохо слышно?
Хорошо, что Кейтэрем тут же, на подмостках, можно стоять и издали вглядываться в лицо великого человека. Оно так и просилось на карандаш, и весь мир давно уже созерцал его на ламповых стеклах, детской посуде, на медалях и флажках противников Чудо-пищи, на кайме простых и шелковых платков и на подкладке добрых старых кейтэремских шляп. Шаржами на Кейтэрема пестрят все газеты того времени. Вот он — матрос — подносит запал с надписью «Законы против Чудо-пищи» к старинной пушке, нацеленной на огромное злобное и безобразное морское страшилище — Чудо-пищу; либо в блестящих доспехах, с крестом св.Георгия на щите и шлеме бросает вызов исполинскому трусливому Калибану, сидящему в гнусной грязи у входа в мерзкую пещеру, и на рыцарской перчатке — надпись: «Новые постановления о Чудо-пище»; либо Персеем на крылатом коне спасает закованную в цепи прекрасную Андромеду (на поясе которой четко написано: «Цивилизация») от алчного морского чудища, на головах и клешнях которого видны надписи «Безверие», «Жестокое себялюбие», «Бездушие», «Уродство» и тому подобное. Но толпа прозвала его «Джек-Потрошитель великанов», и именно таким — сказочным богатырем с предвыборных плакатов — сейчас представлялся вчерашнему узнику человечек на далеких подмостках.
Бу-бу-бу внезапно оборвалось.
Наконец-то кончил. Садится. Теперь он! Нет! Да! Это Кейтэрем! Кейтэрем! И снова зал рукоплещет.
Только в многотысячной толпе возможна такая тишина, которая наступила за этой бурей оваций. Когда ты один в пустыне, конечно, все кругом молчит, но ты слышишь свое дыхание, каждое свое движение, каждый шорох вокруг. Здесь же слышен был только голос Кейтэрема, звонкий и ясный, как алмаз, горящий на черном бархате. Но как слышен! Словно он говорил над самым ухом каждого из толпы.
Вчерашнего узника этот карлик, жестикулирующий в ореоле света, в ореоле красивых, захватывающих слов, просто ошеломил; позади оратора, почти незаметные, сидели его сторонники, и до самых подмостков перед глазами околдованного слушателя раскинулось сплошное море голов и плеч — огромный зал, весь обратившийся в слух. Этот пигмей, казалось, вобрал в себя души людей, все их существо.
Кейтэрем говорил об исконных наших обычаях. «Прравильно! Прравильно!» — ревела толпа. «Правильно!» — подхватывал бывший узник. Кейтэрем говорил об исстари свойственном Англии духе порядка и справедливости. «Пр-р-равильно!» — ревела толпа. «Правильно!» — кричал растроганный узник. Кейтэрем говорил о мудрости наших предков, о постепенном развитии священных государственных установлении, о нравственных и общественных традициях, что вошли в плоть и кровь англичанина. «Правильно!» — стонал вчерашний узник, и слезы умиления катились по его лицу.
Так неужто все это теперь пойдет прахом! Да, прахом! Только из-за того, что двадцать лет тому назад три безумца намешали в бутылках какой-то дряни, теперь наши исконные порядки и все самое святое… (Крики: «Нет! Нет!») Так вот, чтобы все это не пошло прахом, надо напрячь все силы, побороть в себе нерешительность… (Неистовые крики одобрения.) Да, надо побороть нерешительность и покончить с полумерами.
— Джентльмены! — кричал Кейтэрем. — Все вы слыхали о крапиве, которая стала гигантской. Сначала она невелика и не отличается от простой крапивы, ее можно вырвать с корнем, выполоть твердой рукой; но если ее не выполоть, она разрастается, чудовищно разрастается, и волей-неволей нужно браться за топоры и веревки, подвергать опасности руки и ноги и самую жизнь, нужно много и горько трудиться — люди могут погибнуть, срубая ядовитые стволы, да, люди могут погибнуть, срубая ядовитые стволы…
Движение и шум на миг заглушили его слова, потом бывший узник снова явственно услышал звонкий голос:
— Сама Чудо-пища дает нам урок… — Кейтэрем выдержал внушительную паузу. — РВИТЕ С КОРНЕМ ЭТУ КРАПИВУ, ПОКА ЕЩЕ НЕ ПОЗДНО!
Он замолчал и вытер губы.
— Ясно! — крикнул кто-то в зале. — Ясно и понятно!
И опять крики одобрения стремительно переросли в громоподобный рев, словно бесновался и ликовал весь мир…
И вот наш новоявленный гражданин выбрался наконец из зала, чудесно растроганный и с таким просветленным лицом, словно ему только что было ниспослано видение. Теперь он знал, что делать, как знали все; мысли его прояснились. Он возвратился к жизни, когда мир переживает роковые часы; необходимо принять важнейшее решение. И он обязан участвовать в этой великой борьбе, как подобает мужчине — свободному и готовому исполнить свой долг. Он так и видел перед собой враждующие силы. На одной стороне — невозмутимые гиганты в сверкающих кольчугах (теперь они предстали перед ним совсем в ином свете, чем утром), на другой — человечек в черном, размахивающий руками на ярко освещенных подмостках, карлик, извергающий потоки столь убедительных слов, вкрадчивый златоуст с проникновенным голосом, Джон Кейтэрем — «Джек — Потрошитель великанов». Да, надо скорее объединиться и вырвать крапиву с корнем, пока еще не поздно!
Из всех Детей Пищи самыми высокими, самыми сильными и больше всех на виду были три сына Коссара. В целом свете, наверно, не нашлось бы другого клочка земли, так изрытого, перекопанного и перекроенного, как тот, примерно в квадратную милю, участок подле Семи дубов, где прошло их детство и где они, ища выхода могучей силе, строили все новые сараи и ангары с гигантскими действующими моделями машин. Но им давно уже стало здесь тесно. Старший сын Коссара придумывал замечательные быстроходные экипажи, он смастерил себе что-то вроде исполинского велосипеда, но машина эта не умещалась ни на одной дороге и ее не мог выдержать ни один мост. Так она и стояла в бездействии, громада из колес и моторов, способная мчаться со скоростью 250 миль в час, — лишь изредка сам изобретатель, оседлав ее, носился взад и вперед по тесному двору. А он-то мечтал объехать на своем велосипеде всю нашу крошечную планету, ради этой ребячьей мечты и смастерил его еще мальчонкой. Местами, там, где сбита эмаль, спицы уже покрыты бурой ржавчиной и словно кровоточат.
— Прежде чем пускаться в путь, сынок, надо построить дорогу, — сказал Коссар.
И вот в одно прекрасное утро, на заре, молодой исполин вместе с братьями принялся строить дорогу, которая обойдет земной шар. Они словно предчувствовали, что им помешают, и работали с особенным рвением. Люди очень скоро обнаружили их дорогу — прямая, как стрела, она вела к Ла-Маншу, несколько миль были уже проложены, выровнены и утрамбованы. Около полудня братьев остановила возбужденная толпа — тут были землевладельцы, земельные агенты, местные власти, стряпчие, полицейские и даже солдаты.
— Мы строим дорогу, — объяснил старший мальчик.
— И стройте на здоровье! — крикнул снизу самый важный законник. — Но только извольте уважать чужие права. Вы нарушили частное право двадцати семи землевладельцев, не говоря уже об особых привилегиях и собственности одного окружного муниципалитета, девяти приходских советов, совета графства, двух газовых компаний и одной железнодорожной…
— Ой-ой! — воскликнул старший из мальчиков.
— Придется вам это прекратить.
— Но ведь у вас всюду такие скверные узенькие тропинки. Разве вам не хочется ездить по красивой прямой дороге?
— Да, конечно, я бы сказал, у такой дороги были бы свои преимущества, но…
— Но строить ее нельзя, — докончил за него старший мальчик, собирая инструменты.
— Во всяком случае, не так, как это делаете вы, — сказал законник.
— А как?
Ответ важного юриста был путаным и неясным.
Коссар пришел посмотреть, что натворили его дети, строго выбранил их, смеялся до упаду и, видно, был очень доволен всем происшедшим.
— Придется обождать, мальчики! — крикнул он сыновьям. — Рано еще вам приниматься за такие дела.
— Этот стряпчий сказал, что надо сначала составить проект и получить специальное разрешение и еще всякую ерунду. Он сказал, что на это уйдут годы.
— Не бойся, малыш, проект у нас будет очень скоро! — крикнул Коссар, сложив ладони рупором у рта. — А пока играйте да стройте модели того, что вам хотелось бы сделать.
И они повиновались, — они были послушные дети.
Но потихоньку все-таки ворчали.
— Все это прекрасно, — сказал средний брат старшему, — но мне надоело вечно играть и строить планы. Я хочу настоящего дела, понимаешь? Ведь не за тем же мы выросли такими сильными, чтобы просто играть на грязном клочке земли да гулять понемножку, поближе к дому, подальше от городов (к этому времени им запретили подходить к поселкам и пригородам). Бездельничать очень противно. Может быть, мы как-нибудь узнаем, что им нужно, этим карликам, и сделаем это для них? Все-таки веселее, чем сидеть сложа руки!
— У многих из них нет сносного жилья, — продолжал мальчик. — Давайте построим возле Лондона такой дом, чтобы их поместилось много-много, и жить им будет удобно и уютно, и проведем дорожку, чтобы им ездить на работу — хорошенькую, прямую дорожку, и пускай все это будет красивое-красивое. Все для них сделаем чистенькое, хорошенькое, и тогда они не захотят больше жить по-старому, в грязи, ведь сейчас у них очень многие живут по-свински. И воды им наготовим, чтобы мылись: они ведь такие грязнули, эти маленькие вонючки; в девяти домах из десяти даже нет ванны. И знаете, у кого есть ванна, презирают тех, у кого ванны нет! Зовут их «грязная голытьба»! Нет того, чтобы помочь им завести в домах ванны, — только насмехаются! Мы это все переделаем. Проведем для них электричество — пускай им светит, и кормит их, и убирает за ними. Ведь это надо выдумать: они заставляют женщин ползать на коленях и мыть полы! Да еще когда у женщины должен родиться ребенок!
Можно все очень даже хорошо устроить! Тут долина, кругом холмы — можно насыпать плотину, запрудим реку, и выйдет отличный водоем. Построим большую станцию, будет электрический ток. Мы это все очень-очень хорошо устроим. Правда? Может быть, тогда они больше не станут нам мешать…
— Да, — ответил старший брат, — можно для них все очень хорошо устроить.
— Так давайте! — сказал средний.
— Что ж, ладно, — согласился старший и стал искать подходящий инструмент.
И опять началась морока.
Не успели они взяться за работу, как налетела возбужденная толпа и посыпались приказы: прекратить все это по тысяче причин и без всякой вразумительной причины; на них кричали путано, бестолково, кто во что горазд. Ваш дом чересчур высок, говорили им, в нем будет опасно жить; он безобразен; он помешает окрестным владельцам сдавать внаем обычные дома; он нарушает стиль всего квартала, и вообще это не по-соседски.
Оказалось также, что молодые зодчие идут наперекор местным правилам домостроительства и ущемляют права местных властей, кое-как соорудивших свою крохотную и очень дорогую электрическую станцию, и вторгаются в сферу деятельности здешней водопроводной компании.
Местные правительственные чиновники прибегли к помощи закона. Снова появился на сцене маленький стряпчий, теперь он защищал интересы по меньшей мере дюжины ущемленных собственников и фирм; протестовали землевладельцы; какие-то люди предъявляли непонятные претензии и требовали непомерных отступных. Подняли голос и тред-юнионы рабочих всех строительных специальностей; объединение предпринимателей, выпускающих строительные материалы, чинило всяческие препятствия. Какие-то необыкновенные сообщества эстетов стали пророчить гибель красот природы и принялись защищать прелесть тех мест, где предполагалось построить дом и соорудить плотину. Эти, по мнению молодых Коссаров, были всех глупей и несносней. Так и получилось, будто они не прекрасный дом задумали построить, а ткнули палкой в осиное гнездо.
— Ну, такого я не ждал! — сказал старший мальчик.
— Ничего не выйдет, — сказал второй.
— Дрянь эти козявки! — возмутился младший. — Шагу ступить не дают!
— И мы ведь для них же стараемся. Как бы мы им все хорошо устроили!
— Они, видно, всю жизнь только и делают, что мешают друг другу, — сказал старший мальчик. — Куда ни сунься, все какие-то права, законы, правила и прочее жульничество, — прямо какая-то дурацкая игра. Ладно, пускай еще поживут в грязи в своих дрянных лачугах. Строить они нам не дадут, это ясно как день.
И сыновья Коссара бросили большой дом недостроенным (они успели только выкопать огромную яму, заложили фундамент и начали возводить одну стену) и, огорченные, вернулись в свою усадьбу. Яма вскоре наполнилась стоячей водой, затянулась ряской; завелись тут и сорные травы и всякая мелкая вредная живность; попала сюда и Пища — то ли обронили Коссары, то ли занесло с пылью, — и снова пошла расти всякая нечисть. Водяные крысы опустошали всю округу. А один фермер застал своих свиней, когда они вздумали напиться из этой ямы, и в тот же час их всех прикончил, благо человек он был решительный и притом знал, каких бед натворил огромный кабан в Окхеме. И именно в этом болоте вскоре развелись тучи москитов — зловреднейшие были москиты, но одно надо поставить им в заслугу: от них немного досталось и самим Коссарам; мальчики не пожелали этого терпеть — и в одну прекрасную лунную ночь, когда закон и порядок храпели в своих постелях, они пришли и спустили всю воду в соседнюю речку.
Но они не тронули гигантских сорняков, огромных водяных крыс и прочую непомерно разросшуюся нечисть: все это осталось плодиться и размножаться на том самом участке, на котором они могли бы возвести большой прекрасный дом для маленьких людишек…
Все это случилось давно, когда сыновья Коссара были еще детьми, а теперь они стали почти взрослыми. И с каждым годом их все сильней тяготили цепи запретов и ограничений. Год от году они росли, шире распространялась Пища, множились гигантские растения и животные — и год от году труднее и напряженнее становились отношения гигантов с остальным человечеством. Вначале Пища была для большинства людей только легендой о чуде, которое случилось где-то в дальних краях, — теперь она подступала к каждому порогу и угрожала, напирала, опрокидывала весь привычный строй жизни. Она чему-то мешала, что-то переворачивала; она меняла природу, сама земля стала родить не то и не так, как прежде, а из-за этого менялась и человеческая деятельность, отмирали какие-то профессии, сотни тысяч людей лишались работы; Пища не признавала границ, и в торговле между странами воцарился хаос, — не удивительно, что люди ее возненавидели.
Но ведь куда проще ненавидеть живое существо, чем неодушевленные предметы, а потому животных ненавидели больше, чем растения, а своего брата — человека — сильнее, чем любого зверя. И получилось так, что страх и тревога, порожденные гигантской крапивой, лезвиями шестифутовых трав, ужасными насекомыми и тигроподобными крысами, собрались в огромный сгусток ненависти, и вся сила ее обратилась на горстку разбросанных по земле великанов — Детей Пищи. Эта ненависть стала главной движущей силой всей политической жизни. Старые партийные разногласия потускнели и стерлись под натиском новых противоречий, и борьба велась теперь между партией умеренных, предлагавших захватить контроль над производством и распределением Пищи, и партией реакционеров во главе с Кейтэремом, чьи речи становились все более двусмысленными и зловещими; он изъяснялся угрожающими намеками: люди должны «подрезать колючки у шиповника», «найти лекарство от слоновой болезни», — и, наконец, в канун выборов объявил, что «крапиву надо вырвать с корнем!».
Однажды сыновья Коссара — уже не мальчики, а взрослые мужчины, — сидели среди плодов своего бесполезного труда и в сотый раз обсуждали все это. Целый день они копали какие-то очень сложные, глубокие траншеи (отец постоянно поручал им такую работу) и сейчас, перед заходом солнца, присели отдохнуть в садике возле дома, дожидаясь, пока слуги позовут их ужинать.
Представьте себе этих великанов (самый маленький был ростом в добрых сорок футов), расположившихся на лужайке, которая обыкновенному человеку показалась бы зарослями тростника. Младший счищал железной балкой, точно щепкой, землю с огромных башмаков; средний полулежал, опершись на локоть; старший задумчиво строгал ножом сосну, и в воздухе пахло смолой.
Одежда ж была из необычного материала: белье соткано из канатов, верхнее платье — из мягкой алюминиевой проволоки; обувь — из металла и дерева, а пуговицы и пояса — из листовой стали. Их жилище, огромное одноэтажное здание, массивностью напоминавшее египетские постройки, было частью сложено из гигантских плит известняка, частью выдолблено в склоне мелового холма; фасад вздымался вверх на сто футов, а позади, причудливо вырисовываясь на фоне вечернего неба, теснились трубы и колеса, краны и перекрытия мастерских. Сквозь круглое окно в здании можно было разглядеть желоб, откуда в невидимый резервуар мерно и непрестанно падали капли какого-то добела раскаленного металла. Усадьба огорожена была подобием крепостного вала — земляной насыпью огромной высоты; укрепленная железными стропилами, шла эта насыпь кругом, по гребням холмов и по дну долины. Чтобы передать-масштабы этого сооружения, сравним его для наглядности с каким-нибудь привычным предметом: поезд, который с грохотом отошел от Семи дубов и скрылся в туннеле, казался рядом с постройками Коссаров крохотной заводной игрушкой.
— Они объявили все леса по эту сторону Айтема запретной зоной и передвинули на две мили ближе к нам границу у Нокхолта, — сказал один из братьев.
— Это еще не самое страшное, — отозвался младший. — Просто они стараются обезоружить Кейтэрема.
— Для него это капля в море, а для нас, пожалуй, переполняет чашу.
— Они отрезают нас от Брата Редвуда. Когда я был у него последний раз, красные знаки придвинулись с обеих сторон, дорога стала уже на целую милю. Теперь к нему надо пробираться через холмы по такой узенькой тропинке, что еле-еле ногу поставишь.
Он задумался.
— Не пойму, что это нашло на Брата Редвуда.
— А что такое? — спросил старший и обрубил ветку на своей сосне.
— Какой-то он был странный, будто спросонок, — сказал средний. — Я с ним говорю, а он словно и не слышит. А сам сказал что-то такое… про любовь.
Младший постучал балкой о край железной подметки и засмеялся.
— Брат Редвуд любит помечтать.
Минуту-другую они молчали. Старший повернулся и смахнул ладонью кучу обрубленных сосновых веток. Потом сказал:
— Наша клетка становится все теснее и теснее, это просто невыносимо. Подождите, они еще обведут чертой наши подошвы и скажут: так и живите, не сходя с места!
— Это все пустяки, а вот придет к власти Кейтэрем, тогда они себя покажут! — сказал средний.
— Еще придет ли, — возразил младший, с силой ударяя о землю балкой.
— Придет, будь уверен, — сказал старший.
Средний поглядел на окружавший их мощный крепостной вал.
— Что ж, тогда надо будет распрощаться с юностью и стать мужчинами, папа Редвуд нам давно это говорил.
— Да, — откликнулся старший, — но что это, в сущности, значит? Что значит быть мужчиной в трудный час?
Он тоже обвел взглядом кольцо укреплений — казалось, он смотрел сквозь них, далеко за холмы, где притаились бесчисленные полчища врагов. В эту минуту все братья мысленно видели одну и ту же картину: толпы людишек, идущих на них войной, поток козявок, безостановочный, неистощимый, злобный…
— Они малы, но им нет числа, — сказал младший. — Они как песок морской.
— У них есть винтовки… и даже оружие, которое делают наши братья в Сандерленде.
— И потом, мы ведь не умеем убивать, мы воевали только от случая к случаю со всякой вредной нечистью.
— Да, верно, — ответил старший. — Но мы не беспомощные младенцы. В трудный час будем держаться как надо.
Резким движением он закрыл нож — громко щелкнуло лезвие в рост человека — и, опираясь на сосну, как на палку, поднялся с земли. Потом обернулся к серой приземистой громаде дома. Алые лучи заката упали на него, вспыхнули на металлической кольчуге, на стальной пряжке у ворота и плетении рукавов, и братьям почудилось, что он обагрился кровью…
Выпрямившись во весь рост, великан вдруг заметил на валу, тянувшемся по вершине холма, на фоне раскаленного закатного неба маленькую черную фигурку. Она усиленно размахивала руками. Что-то в этих движениях встревожило молодого великана. Он помахал в ответ сосной, окликнул: «Привет!» — и голос его наполнил гулом всю долину. Бросив через плечо: «Что-то случилось», — он двадцатифутовыми шагами поспешил на помощь отцу.
Случилось так, что в это самое время другой молодой человек — невеликан — тоже отводил душу, и рассуждал он о детях Коссара. Он гулял с приятелем по холмам возле Семи дубов и держал речь на эту наболевшую тему. Только что, проходя мимо живой изгороди, друзья услышали жалобный писк и едва успели спасти трех птенцов синицы от нападения двух гигантских муравьев. После этого молодой человек и разразился речью.
— Реакционер! — говорил он в тот миг, когда с вершины холма они увидели крепость Коссаров. — Поневоле станешь реакционером! Посмотри на этот кусок земли — бог создал ее прекрасной и счастливой, а теперь она истерзана, осквернена, разворочена! Чего стоят эти мастерские! А огромный ветряной двигатель! А та безобразная махина на колесах! А эти дамбы! А эти три чудовища — ты только посмотри! Сошлись там и затевают какую-то новую дьявольщину! Нет, ты только посмотри на эту землю!
Друг заглянул ему в лицо.
— Ты наслушался Кейтэрема, — сказал он.
— У меня и у самого есть глаза. Достаточно оглянуться на прошлое — ведь когда-то у нас был мир и порядок! Эта гнусная Пища — последняя ипостась Дьявола, он испокон веку только и добивается нашей погибели. Подумай, каков был мир до нас и даже в те дни, когда матери еще носили нас под сердцем, и посмотри вокруг! Как приветливы были эти склоны, все в золоте налитых колосьев, как цвели живые изгороди, отделяя скромное поле труженика от поля соседа! Всюду пестрели фермы и радовали глаз, а в день субботний раздавался благовест колокола вон той церкви, и весь наш край затихал, погруженный в молитву. А теперь год от году становится все больше гигантских плевел и гигантских паразитов, и вон те чудовища множатся вокруг; они наступают на нас, давят все тонкое и хрупкое, что для нас дорого и свято. Да что говорить… Смотри!
Собеседник посмотрел туда, куда указывала узкая белая рука.
— Вон там прошел один из них! Видишь след? Рытвина глубиной в три фута, не меньше; ловушка, западня для конного и пешего — не дай бог шагнуть неосторожно. Смотри — он затоптал насмерть куст шиповника, вырвал с корнем траву, раздавил цветы ворсянки, проломил дренажную трубу, край тропинки обвалился. Сколько разрушений! И так повсюду и во всем: люди установили в мире порядок и приличие, а эти только разрушают. Они топчут все без разбору! Нет, уж пусть реакция! Что еще остается?
— Но реакция… Гм… Что же вы намерены делать?
— Остановим их! — вскричал молодой человек (он был студент из Оксфорда). — Остановим, пока не поздно.
— Но…
— Это вовсе не так уж невозможно! — кричал студент, голос его зазвенел. — Нам нужна крепкая рука, нам нужен хитроумный план и твердая воля. А пока мы только болтаем и сидим сложа руки. Мы бездействуем и медлим, а Пища между тем все растет да растет. Но и теперь еще не поздно…
Он на секунду умолк.
— Ты просто повторяешь Кейтэрема, — вставил приятель.
Но тот не слушал.
— Да, да. Еще не все потеряно. Есть надежда, и немалая, надо только твердо знать, чего мы хотим и чего больше не потерпим. С нами тысячи и тысячи людей, куда больше, чем несколько лет назад. За нас закон, конституция, установившийся в обществе строй и порядок, любая вера и церковь, нравы и обычаи человечества — все это за нас и против Пищи. Зачем же медлить? Зачем лицемерить? Мы ненавидим ее, мы ее отвергаем, так зачем нам ее терпеть?.. Неужели, по-твоему, хныкать, пассивно сопротивляться и сложа руки ждать? Чего? Чтобы нас перебили?
Он умолк на полуслове и круто повернулся.
— Вон, видишь этот лес крапивы? Там, в чаще, заброшенные дома, в них когда-то жили и радовались жизни честные, простые люди! А теперь взгляни сюда. — Он обернулся в ту сторону, где молодые Коссары тихо жаловались друг другу на несправедливость судьбы. — Вот, смотри! Я знаю их отца, это скотина, грубая скотина, крикун и хам, за последние тридцать лет он совсем распоясался, а все потому, что мы чересчур мягки и снисходительны. Он, видишь ли, инженер! Ему плевать на все, что для нас дорого и свято. Да, плевать! Блистательные традиции нашей страны и нации, благородные установления, веками освященный порядок, медленная, но неуклонная поступь истории, которая шаг за шагом вела англичан к величию и утвердила на нашем прекрасном острове свободу, — для него все это пустая и отжившая сказка. Трескучие фразы о так называемом «Будущем» теперь стоят больше, чем все священные заветы… Такие люди способны пустить трамвай по могиле собственной матери, если этот маршрут им покажется выгодным… А ты предлагаешь медлить, искать компромиссов, как будто компромисс позволит тебе жить по-своему рядом с этой… с этими машинами, которые тоже станут жить по-своему! Говорю тебе, это безнадежно… Безнадежно! Все равно что подписывать мирный договор с тигром. Им нужен мир чудовищный и безобразный, а нам — кроткий и благоразумный. А это несовместимо: либо одно, либо другое.
— Но что вы можете сделать?
— Многое! Все! Покончить с Пищей! Гиганты пока еще наперечет, они разъединены и не вошли в полную силу. Надо заткнуть им рот, заковать в цепи. Остановить их любой ценой. Мир будет принадлежать либо нам, либо им. Покончить с Пищей! В тюрьму всех, кто ее производит! Гром и молния, остановить Коссара! Ты, видно, не помнишь… Существует только одно поколение… Надо подчинить всего одно поколение, и тогда… Тогда мы снесем эти насыпи, заровняем следы, снимем безобразные сирены с наших церквей, разобьем наши огромные пушки и вернемся к старому порядку, к старой, испытанной временем цивилизации, для которой мы созданы.
— Это потребует великих усилий.
— Ради великой цели. А иначе — чем это кончится? Разве ты не видишь, что нас ждет? Эти чудовища расплодятся повсюду и везде и всюду будут распространять свою Пищу. Гигантской травой зарастут наши поля, гигантская крапива заглушит живые изгороди, в лесах разведутся комары и прочая дрянь, в канализационных трубах — крысы. Их будет все больше, больше и больше. И это только начало. Все насекомые и растения обрушатся на нас, и даже рыбы заполонят моря и станут топить наши корабли. Одичалые дебри скроют от нас дневной свет и похоронят наши дома, задушат наши церкви, ворвутся в города, и сами мы, как жалкие козявки, погибнем под пятой новой расы. Человечество будет поглощено и задавлено созданием рук своих! И ради чего? Ради большого роста! Рост, величина — и только! Расти, тянуться еще и еще и da capo[9]. Уже сейчас на каждом шагу мы вынуждены обходить эти первые признаки будущего. А что мы делаем? Только и знаем, что жалуемся: ах, как неудобно! Ворчим — и палец о палец не ударим. Ну, нет!
Он поднял руку, точно для клятвы.
— Пусть люди совершат то, что должно! Я с ними! Я — за реакцию, неограниченную и бесстрашную. Больше ничего не остается, разве что и сам начнешь есть эту Пищу. Мы слишком долго пробавлялись полумерами. Эх, вы! Половинчатость — ваш обычай, ваш образ жизни, воздух, которым вы дышите. Но я не из таких! Я ненавижу Пищу, ненавижу всеми фибрами души!
Он резко повернулся к собеседнику, буркнувшему что-то в знак протеста.
— Ну, а ты?
— Все не так-то просто…
— Эх ты, слабая душа! Тебе только и плыть по течению, — с горечью сказал молодой человек из Оксфорда и махнул рукой. — Половинчатость ни к чему не приведет. Мы или они — третьего не дано. Либо мы — их, либо они — нас. Съешь — или тебя съедят. Что еще нам остается?
2. Влюбленные великаны
В дни перед всеобщими выборами, когда Кейтэрем рвался к власти и выступил в поход против Чудо-детей, в разгар событий трагических и ужасных случилось так, что в Англию по весьма важному поводу прибыла из королевства своего отца ее светлость принцесса-великанша — та самая, чье питание в младенчестве сыграло немалую роль в блестящей карьере доктора Уинклса. По государственным соображениям она была обручена с неким принцем, и свадьба их должна была стать событием международного значения. Однако, неизвестно почему, церемония снова и снова откладывалась. Немало потрудились Сплетня и Фантазия, слухи ползли самые разные. Поговаривали, будто непокорный принц заупрямился, объявил, что не желает выглядеть дураком, — во всяком случае, не до такой же степени! Люди ему сочувствовали. Такова суть этой истории.
Как ни странно, до приезда в Англию принцесса-великанша понятия не имела, что есть на свете и другие великаны. Она выросла в мире, где все помешаны на этикете, где сдержанность у людей в крови. От принцессы скрывали правду, ее тщательно оберегали; до того часа, когда поездку в Лондон уже невозможно было откладывать, она ни разу не видела гигантских растений и животных и не слыхала о них. До встречи с молодым Редвудом она и не подозревала, что, кроме нее, есть на земле еще хоть один великан.
Были в королевстве ее отца пустынные гористые края, где она привыкла бродить свободно в полном одиночестве. Больше всего на свете она любила восходы и закаты и вольную игру стихий под открытым небом; но англичане — такие демократы и одновременно столь ревностные верноподданные — чрезвычайно стеснили ее свободу. Народ валом валил посмотреть на принцессу: приезжали как на экскурсию — целыми компаниями, толпами, в экипажах и поездом, многие проделывали длинный путь на велосипедах, лишь бы поглазеть на гостью; и, чтобы прогуляться спокойно, без свидетелей, ей приходилось вставать спозаранку. Когда она впервые встретила молодого Редвуда, заря только еще занималась.
Дворец, отведенный принцессе, стоял в большом парке, который тянулся миль на двадцать к западу и к югу от ворот. Могучие каштаны аллей были так высоки, что листва их шелестела над ее головой. Когда она проходила между ними, каждое дерево словно спешило щедро одарить ее своими цветами. Сначала она просто любовалась ими и с наслаждением вдыхала их аромат, но потом, покоренная, решила принять дары и начала выбирать и рвать цветущие ветки; она так увлеклась, что заметила молодого Редвуда, только когда он был уже совсем рядом.
Она шла среди каштанов, а тот, кого предназначала ей судьба, подходил все ближе, недоданный и негаданный. Она погружала руки в листву, ломала ветки и подбирала букет. Ей казалось, что она одна в целом мире. И вдруг…
Принцесса подняла глаза и увидела своего суженого.
Чтобы понять, как она была прекрасна, призовем на помощь все свое воображение и постараемся увидеть ее глазами великана. Нас бы она не покорила: отпугнул бы ее гигантский рост; не то для Редвуда. Перед ним, прижимая к груди охапку цветущих каштановых веток, стояла очаровательная девушка, первое существо, которое было ему под пару; она стояла легкая и стройная в своих воздушных одеждах, и складки платья, струясь под дыханием свежего утреннего ветерка, обрисовывали мягкие линии ее сильного тела. Свободный ворот открывал белую шею и округлые плечи. Ветерок, крадучись, растрепал ее локоны и бросил на щеку бронзовую прядь. Глаза сияли голубизной, и губы, когда она тянулась за цветами, словно обещали улыбку.
Она испуганно обернулась, увидела его, и на мгновенье оба замерли, глядя друг на друга. Его появление показалось ей удивительным, невероятным, сначала ей даже стало страшно, так страшно, словно ей явился призрак: рушились все привычные понятия об окружающем мире. В то время молодому Редвуду минул двадцать один год; это был стройный юноша, темноволосый, как его отец, и такой же серьезный. Куртка и штаны из мягкой коричневой кожи плотно облегали гибкое, ладное тело. Голова оставалась непокрытой при всякой погоде. Так они и стояли друг против друга: она, пораженная, не верила своим глазам, у него сильно билось сердце. Эта неожиданная минута была главной и решающей в жизни обоих.
Он был не очень удивлен, ведь он сам ее разыскивал; и все же сердце его колотилось. Он медленно подошел к ней, не сводя глаз с ее лица.
— Вы — принцесса, — сказал он. — Отец мне говорил. Та самая принцесса, которой давали Пищу богов.
— Да, я принцесса, — ответила она в изумлении. — А кто же вы?
— Я — сын того человека, который создал Пищу богов.
— Пищу богов?!
— Да.
— Но… — Она смотрела недоуменно и растерянно. — Как вы сказали? Пища богов? Не понимаю.
— Вы о ней не слыхали?
— О Пище богов? Никогда!
Ее вдруг охватила дрожь. Краска сбежала с лица.
— Я не знала, — сказала она. — Неужели…
Он молча ждал.
— Неужели есть и другие… великаны?
— А вы не знали? — повторил он.
И она ответила, изумляясь все больше:
— Нет!
Весь мир словно перевернулся, и весь смысл бытия стал для нее иным. Ветвь каштана выскользнула у нее из рук.
— Неужели, — повторила она, все еще не понимая, — неужели на земле есть еще великаны? И какая-то пища…
Ее изумление передалось ему.
— Так вы и правда ничего не знаете? — воскликнул он. — И никогда не слыхали о нас? Но ведь через Пищу богов все мы связаны с вами узами братства!
Глаза, обращенные к нему, все еще полны были ужаса. Рука поднялась к горлу и вновь упала.
— Нет, — прошептала принцесса.
Ей показалось, что она сейчас заплачет, лишится чувств. Но еще через минуту она овладела собой, мысли прояснились, и она снова могла говорить.
— От меня все скрывали, — сказала она. — Это как сон. Мне… мне снилось такое не раз. Но наяву… Нет, расскажите, расскажите мне все! Кто вы? Что это за Пища богов? Рассказывайте не спеша и так, чтобы я все поняла. Почему они скрывали, что я не одна?
«Расскажите», — попросила она, и молодой Редвуд, волнуясь до дрожи, принялся рассказывать — поначалу путано, бессвязно — о Пище богов и о детях-великанах, разбросанных по всему свету.
Постарайтесь представить их себе: раскрасневшиеся, растревоженные, они старались понять друг друга, пробиться сквозь недомолвки, повторения, неловкие паузы и постоянные отступления; это был удивительный разговор, девушка пробудилась от неведения, длившегося всю ее жизнь. Постепенно она начала понимать, что она вовсе не исключение среди людей, но частица братства тех, кто вскормлен Пищей и навсегда перерос ограниченных пигмеев, копошащихся под ногами. Молодой Редвуд говорил о своем отце, о Коссаре, о Братьях, раскиданных по всей стране, о той великой заре, что занимается наконец над историей человечества.
— Мы в самом начале начал, — сказал он. — Этот их мир — только вступление к новому миру, который будет создан Пищей. Отец верит — и я тоже, — что настанет время, когда для человечества век пигмеев отойдет в прошлое, когда великанам будет вольно дышаться на земле. Это будет их земля, и ничто не помешает им творить на ней чудеса — чем дальше, тем поразительнее. Но все это впереди. Мы даже еще не первое поколение, мы — всего лишь первый опыт.
— И я ничего этого не знала!
— Порой мне начинает казаться, что мы появились слишком рано. Конечно, кто-то должен быть первым. Но мир был совсем не готов к нашему приходу и даже к появлению менее значительных гигантов, которых породила Пища. Были и ошибки и столкновения. Эти людишки нас ненавидят… Они жестоки к нам потому, что сами слишком малы… И потому, что у нас под ногами гибнет то, что составляет смысл их существования. Так или иначе, они нас ненавидят и не желают, чтобы мы были рядом, — разве что мы сумеем опять съежиться и стать такими же пигмеями — тогда, пожалуй, они нас простят…
Они счастливы в домах, которые нам кажутся тюрьмой; их города слишком малы для нас; мы еле передвигаемся по их узким дорогам и не можем молиться в их церквах.
Мы не замечаем их заборов, оград и охранительных рогаток, а иногда нечаянно заглядываем к ним в окна; мы нарушаем их обычаи; их законы — это путы, которые не дают нам шагу ступить…
Стоит нам споткнуться, как они поднимают страшный крик; и это всякий раз, как только мы нарушим установленные ими границы или расправим плечи, чтобы совершить что-нибудь значительное.
Наш малейший шаг кажется им безумным бегом, а все, что сами они считают великим и достойным удивления, в наших глазах — детские игрушки. Их образ жизни, их техника и воображение мелки, они связывают нас, не дают применить наши силы. У них нет ни машин, достаточно мощных для наших рук, ни средств удовлетворить наши нужды. Мы — как рабы, скованные тысячами невидимых цепей. Встреться мы лицом к лицу — любой из нас в сотни раз сильнее любого из них, но мы безоружны; самый наш рост делает нас их должниками; на их земле мы живем, от них зависит наша пища и крыша над головой; и за все это мы платим своим трудом, орудуя инструментами, которые делают для нас эти карлики, чтобы мы удовлетворяли их карликовые причуды…
Мы живем, как в клетке: куда ни повернись — повсюду решетки. Невозможно существовать, не нарушая их запреты. Вот и сегодня, чтобы встретить вас, мне пришлось преступить их границы. Все, что разумно и желанно для человека, они превратили для нас в запретный плод. Мы не смеем входить в города; не смеем пересекать мосты; не смеем ступить на обработанные поля или в заповедные леса, где они охотятся. Я уже отрезан от всех Братьев, кроме трех сыновей Коссара, но и к ним скоро нельзя будет пройти: дорога становится день ото дня уже. Можно подумать, что они только и ждут повода, чтобы нас погубить…
— Но мы ведь сильны, — сказала она.
— Мы должны быть сильными, да. Все мы — и вы, конечно, тоже — чувствуем в себе необъятные силы для великих дел, силы так и бурлят в нас. Но прежде чем сделать хоть что-либо…
Он взмахнул рукой, словно сметая весь мир.
Оба помолчали.
— Я думала, что я совсем одна на свете, — сказала принцесса, — но и мне все это приходило в голову. Меня всегда учили, что сила — чуть ли не грех, что лучше быть маленькой, чем большой, что истинная религия велит сильным оберегать малых и слабых, покровительствовать им — пусть плодятся и множатся, а потом в один прекрасный день окажется, что весь мир ими кишмя кишит, и мы должны пожертвовать ради них своей силой… Но я всегда сомневалась, правильно ли это.
— Наша жизнь, наши тела созданы не для того, чтобы умереть, — сказал Редвуд.
— Да, конечно.
— И не для того, чтобы прожить весь век впустую. Но всем нашим Братьям уже ясно, что, если мы этого не хотим, столкновения не миновать. Не знаю, может быть, придется выдержать жестокий бой, чтобы эти людишки дали нам жить той жизнью, которая нам нужна. Все наши Братья не раз об этом задумывались. И Коссар — я вам о нем говорил, — он тоже об этом думает.
— Но эти пигмеи такие слабые и ничтожные.
— Да, по-своему. Но все оружие у них в руках и приспособлено для их рук. Мы вторглись в мир этих людишек, а ведь они сотни и тысячи лет учились убивать друг друга. И очень в этом преуспели. Они еще во многом преуспели. И потом, они умеют лгать и притворяться… Не знаю… Столкновение неизбежно. Вы… может быть, вы не такая, как-мы все. Но для нас, бесспорно, столкновение неизбежно… То, что они называют войной. Мы это знаем. И по-своему готовимся. Но, понимаете… они такие крохотные! Мы не умеем убивать, да и не хотим…
— Смотрите! — прервала принцесса, и Редвуд услышал тявканье автомобильного рожка.
Он проследил за ее взглядом — и у самой своей ноги увидел ярко-желтый автомобиль, который жужжал и гудел, упершись в его башмак; шофер в темных защитных очках и одетые в меха пассажиры что-то негодующе выкрикивали. Редвуд отодвинул ногу, машина трижды свирепо фыркнула и суетливо побежала в сторону города.
— Всю дорогу загородил! — донеслось до молодых людей.
А другой голос воскликнул:
— Вот так штука! Смотрите-ка! Вон там, за деревьями, принцесса-громадина! — И лица в дорожных очках разом повернулись и уставились на нее.
— Ну и ну! — откликнулся еще кто-то. — Куда же это годится?
— Все, что вы рассказали, поразительно, — промолвила принцесса. — Я никак не могу прийти в себя.
— А они держали вас в неведении… — Молодой Редвуд не договорил.
— Пока мы не встретились, я знала мир, где большой была я одна. И я создала себе свою собственную жизнь. Я думала, что я просто несчастный урод, что сама природа зло подшутила надо мной. А теперь, за какие-то полчаса, весь мой мир рассыпался в прах, и передо мной иная жизнь, иные условия, широкие горизонты… и я не одинока…
— Не одиноки, — откликнулся он.
— Вы будете мне рассказывать еще и еще! Знаете, мне все это кажется просто сказкой. И даже вы сами… Должно быть, завтра или через несколько дней я поверю, что вы существуете… Но сейчас… Сейчас я только сплю и вижу сон… Слышите?
Издалека донесся первый удар часов на дворцовой байте. Оба невольно считали удары: семь.
— В этот час мне полагается быть уже дома. Они принесут кофе в зал, где я сплю. Эти малыши — чиновники и слуги — начнут хлопотать, суетиться из-за пустяков… Вы не представляете, сколько в них важности!
— Они удивятся, что вас нет… Но мне хочется еще поговорить с вами.
Она задумалась.
— А мне хочется поразмыслить. Мне надо побыть одной и все обдумать, понять, что все переменилось и одиночеству конец, и освоиться с тем, что на свете есть вы и еще другие такие, как мы… Я пойду. Сегодня я вернусь в свой дворец, а завтра… на рассвете я опять приду сюда.
— Я буду ждать.
— Я весь день буду мечтать о новом мире, который вы мне открыли. Еще и сейчас мне не верится…
Она отступила на шаг и оглядела его с ног до головы. Взгляды их на минуту встретились.
— Да, — сказала она и не то засмеялась, не то всхлипнула. — Вы настоящий, живой. Нет, это просто чудо! Неужели правда?.. Вдруг завтра я приду, а вы… а вы карлик, такой же, как все!.. Нет, мне нужно подумать. Итак, до завтра, а пока… как это делают все людишки…
Она протянула ему руку, и они в первый раз коснулись друг друга. Руки их сомкнулись в крепком пожатии, и глаза снова встретились.
— До свидания, — сказала она, — до завтра. До свидания, брат великан!
Он запнулся — какая-то невысказанная мысль смутила его, — потом ответил просто:
— До свидания.
Минуту они стояли, держась за руки, и пристально глядели в лицо друг другу. И когда расстались, она снова и снова оборачивалась и смотрела на него, будто не веря себе, а он все стоял на том месте, где они встретились…
Словно во сне она пересекла просторный дворцовый двор и вошла в свои апартаменты, все еще держа в руке огромную ветку цветущего каштана.
Эти двое встретились четырнадцать раз, прежде чем наступило начало конца. Они встречались то в большом парке, то среди холмов, то на простиравшейся к юго-западу поросшей вереском равнине, исчерченной ржавыми дорогами, прорезанной оврагами и окруженной сумрачными сосновыми лесами. Дважды они возвращались на большую каштановую аллею и пять раз приходили к живописному пруду, вырытому по приказу короля, ее прадеда. Там полого спускалась к самой воде красивая лужайка, обрамленная высокими соснами и елями. Девушка садилась на траву, юноша ложился у ее ног и, глядя ей в лицо, говорил, говорил: о том, как появилась Пища, о том, к каким трудам готовил его отец, и о прекрасном будущем, которое ждет гигантов, о великих делах, которые им предстоят. Обычно принцесса и Редвуд встречались на рассвете, но однажды встретились в полдень — и скоро их окружила толпа зевак: велосипедисты и пешеходы подглядывали и подслушивали из-за каждого куста, шуршали опавшими листьями в соседнем лесу (так воробьи копошатся и прыгают вокруг вас где-нибудь в лондонском парке), скользили на лодках по глади озера, стараясь подплыть поближе, поглазеть на них, послушать, о чем они говорят.
Это был первый признак того огромного интереса, который вызвали во всей округе их встречи. А однажды (это было в седьмой раз и ускорило назревавший скандал) они встретились на вересковой равнине в поздний час, при луне — ночь была теплая, чуть шелестел легкий ветерок — и долго шептались там в тиши.
Очень скоро от рассуждении о том, что с ними и через них на земле возникает новый грандиозный мир, от раздумий о великой борьбе между исполинским и ничтожным, в которой им суждено участвовать, они перешли к темам более личным и более для них всеобъемлющим. И с каждой встречей, пока они разговаривали и смотрели друг другу в глаза, все яснее им становилось и выходило из области подсознания, что между ними возникло и идет рядом и сближает их руки нечто более драгоценное и удивительное, чем дружба. И вскоре они нашли название этому чувству, и оказалось, что они — возлюбленные, Адам и Ева нового рода человеческого.
И рука об руку они пустились в путь по удивительной долине любви, с ее заветными тихими уголками. В душе у них все преображалось — и преображался весь мир вокруг них и наконец превратился в святилище красоты, предназначенное для их встреч, где звезды, как светозарные цветы, устилали путь их любви, а утренние и вечерние зори развешивали в небесах праздничные флаги. Друг для друга они были уже не существами из плоти и крови, но живым воплощением нежности и желания. В дар своей любви они принесли сначала шепоты, затем молчание, под беспредельным сводом небес они были вместе, и каждый близко-близко видел смутно белевшее в лунном свете лицо другого. И недвижные черные сосны стояли вокруг них на страже.
Затих мерный шаг времени, и, кажется, вся вселенная смолкла и замерла. Они слышали только стук собственных сердец. И словно были одни в мире, где нет места смерти, да так оно и было в тот час. Им казалось, что они постигают — и они постигали — сокровенные тайны мироздания, и они открыли здесь такую красоту, какой еще никто никогда не открывал. Ибо даже для самых ничтожных и мелких душ любовь есть открытие красоты. А эти двое влюбленных были гигантами, которые вкусили Пищу богов…
Легко себе представить, какой ужас овладел всем добропорядочным миром, когда стало известно, что принцесса, обрученная с принцем, — ее светлость принцесса, в чьих жилах течет королевская кровь! — встречается (и довольно часто) с громадиной — отпрыском самого обыкновенного профессора химии, личностью без чинов, без положения и состояния, и разговаривает с ним, словно на свете нет ни королей, ни принцев, ни порядка, ни благопристойности, а только карлики и великаны! Да, они встречались и разговаривали, и стало ясно, что он ее любовник.
— Ну, если об этом пронюхают газетчики!.. — ужаснулся сэр Артур Блюд-Лиз.
— Слышал я… — шамкал старый епископ из Злобса.
— Наверху-то опять история, — заметил старший лакей, отщипывая с тарелок кусочки пирожного. — Я так понимаю, эта ихняя принцесса-великанша…
— Говорят… — шептала хозяйка писчебумажной лавки неподалеку от дворца (американские туристы покупали там билеты для осмотра парадных апартаментов).
И наконец:
«Мы уполномочены опровергнуть…» — заявил известный журналист Плут в газете «Сплетни».
Итак, шило в мешке утаить не удалось.
— Они требуют, чтобы мы расстались, — сказала принцесса возлюбленному.
— Это еще почему? — воскликнул он. — Вечно они выдумают какую-нибудь глупость!
— А известно ли тебе, что любить меня — это… это государственная измена?
— Родная моя, да какое все это имеет значение?! Что нам их законы — бессмысленные, нелепые? Что нам их понятия об измене и верности?
— Сейчас узнаешь, — сказала она и повторила ему все, что недавно выслушала сама:
— Явился ко мне престранный человечек с необыкновенно мягким и гибким голоском, двигался он тоже очень мягко и гибко, скользнул в комнату, совсем как кошка, и всякий раз, когда хотел сказать что-то очень важное, воздевал кверху красивенькую беленькую ручку. Не то, чтобы лысый, но лысоватый, носик и щечки кругленькие и розовые и приятнейшая бородка клинышком. Несколько раз он делал вид, что ужасно взволнован, и даже чуть не прослезился. Он, оказывается, очень близок к здешнему царствующему дому, и он называл меня своей дорогой юной леди, и с самого начала был полон сочувствия. Он все повторял: «Моя дорогая юная леди, вы же знаете, что не должны, не должны…» И потом еще: «Вы обязаны исполнить свой долг…»
— И откуда только берутся такие?
— Он просто упивался собственным красноречием.
— Но я все-таки не понимаю…
— Он говорил очень серьезные вещи.
Редвуд резко повернулся к ней.
— Не думаешь ли ты, что в этой его болтовне есть какой-то смысл?
— Кое-какой смысл, безусловно, есть.
— Ты хочешь сказать…
— Я хочу сказать, что, сами того не ведая, мы надругались над священными идеалами этих людишек. Мы, особы королевской крови, составляем особый клан. Мы — праздничные побрякушки, узники, которым поклоняются. За это преклонение мы платим своей свободой, мы не вольны шагу ступить по-своему. Я должна была выйти замуж за принца… Впрочем, ты его все равно не знаешь. За одного принца-пигмея. Неважно, кто он… Оказывается, это событие должно было укрепить союз между моей и его страной. И вашей стране тоже этот брак был бы выгоден. Представляешь? Выйти замуж, чтобы укрепить какой-то союз!
— А теперь?
— Они говорят, что я все равно должна за него выйти… как будто у нас с тобой ничего не было.
— Ничего не было!
— Да. И это еще не все. Он сказал…
— Этот специалист по этикету?
— Да. Он сказал, что было бы лучше для тебя и вообще для всех гигантов, если бы мы оба… воздержались от дальнейших бесед. Так он и выразился.
— А что они могут сделать, если мы не послушаемся?
— Он сказал, что это может стоить тебе свободы.
— Мне?!
— Да. Он сказал очень многозначительно: «Моя дорогая юная леди, было бы лучше и достойнее, если бы вы расстались по доброй воле». Вот и все, что он сказал. Только с ударением на словах «по доброй воле».
— Но… но что им за дело, этим жалким пигмеям, где и как мы любим друг друга? Что общего может быть между их жизнью и нашей?
— Они другого мнения.
— Ты, конечно, не принимаешь всерьез этот вздор?
— По-моему, все это ужасно глупо.
— Чтобы их законы сковали нас по рукам и по ногам? Чтобы в самом начале жизни нам стали поперек дороги их обветшалые союзы и бессмысленные установления? Ну нет! Мы их и слушать не станем.
— Да, я твоя… Пока…
— Пока? Что же нам помешает?
— Но ведь они… Если они хотят нас разлучить…
— Что они могут с нами сделать?
— Не знаю. Нет, правда, что?
— А я знать не хочу, что они могут и что сделают! Я твой, а ты моя. Это самое главное. Я твой и ты моя на всю жизнь. Неужели меня остановят их жалкие правила, мелочные запреты, эти их красные надписи — прохода нет, прохода нет! Неужели что-нибудь удержит меня вдали от тебя?
— Ты прав. Но все же… что они могут сделать?
— Ты хочешь спросить, что делать нам?
— Да.
— Будем жить, как жили.
— А если они попробуют нам помешать?
Он сжал кулаки и обернулся, словно пигмеи уже наступали, чтобы помешать им. Потом обвел взглядом горизонт.
— Да, об этом стоит подумать, — сказал он. — Все-таки, что они могут?
— Здесь, в этой маленькой стране… — Она не договорила.
Он мысленно оглядел всю страну.
— Они повсюду.
— Но можно бы…
— Куда?
— Куда-нибудь. Вместе переплывем море. А там, за морем…
— Я никогда не был за морем.
— Там есть высокие горы, среди которых мы и сами окажемся карликами; там есть далекие пустынные долины, потаенные озера и покрытые снегом вершины, где не ступала нога человека. И вот там…
— Но чтобы добраться туда, нам придется день за днем пробивать себе дорогу сквозь мириады людишек.
— Это наша единственная надежда. В Англии слишком много народу и слишком мало места, здесь нам негде укрыться, негде приклонить голову. Как нам скрыться среди этих толп? Пигмеи могут спрятаться друг от друга, но куда деваться нам? Здесь у нас не будет ни еды, ни крыши над головой, а если мы убежим, они будут преследовать нас по пятам день и ночь.
Вдруг у него мелькнула мысль.
— Для нас есть место, — сказал он. — Даже на этом острове.
— Где?
— В доме, который построили наши Братья, там, за холмами. Они обнесли его огромным валом с севера и юга, с востока и запада; они вырыли глубокие траншеи и тайные укрытия, и даже теперь… Один из них был у меня совсем недавно. Он сказал… Я тогда не очень прислушивался, но он говорил что-то об оружии. Может быть, там и надо искать убежища.
Редвуд помолчал.
— Я так давно не видел наших Братьев… Да, да… Я жил как во сне и обо всем позабыл… Шли дни, а я ничего не делал, думал только о том, чтобы поскорее увидеть тебя… Надо пойти и поговорить с ними, рассказать им о тебе и о том, что нам угрожает. Они смогут помочь нам, если захотят. Да, еще есть надежда. Не знаю, насколько сильны укрепления вокруг их дома, но, уж наверно, Коссар сделал все, что только можно. Теперь я припоминаю — еще до всего… до того, как ты пришла ко мне, в воздухе носилась тревога. Тут были выборы — эти людишки все решают счетом поштучно… Теперь их выборы, наверно, уже кончились. Тогда раздавалось много угроз против нас… против всех гигантов, кроме тебя, разумеется. Я должен повидать Братьев. Я должен рассказать им о нас с тобой и о том, что нам грозит.
В следующий раз ей пришлось долго ждать его. Они условились в полдень встретиться посреди парка, на большой поляне у излучины реки; принцесса ждала, опять и опять поглядывала на юг, заслоняя рукой глаза от солнца, и вдруг заметила, какая кругом тишина — непривычная, тягостная тишина. И потом, хоть час уже поздний, не видно обычной свиты добровольных шпионов. Никто не подсматривает и не прячется в кустах и за деревьями, куда ни глянь — ни души, ни одна лодка не скользит по серебряной глади Темзы. Что случилось, отчего весь мир словно замер?..
Наконец-то! Вдали, в просвете между кронами деревьев, показался молодой Редвуд.
Сейчас же деревья опять заслонили его, он шел напролом через чащу — и вскоре появился снова. Но было в его походке что-то необычное, и вдруг она поняла: он очень спешит и к тому же прихрамывает. Он помахал рукой, и она пошла ему навстречу. Теперь можно было разглядеть его лицо, и она с тревогой увидела, что при каждом шаге он морщится, словно от боли.
Охваченная недоумением и смутным страхом, она побежала к нему. Когда она была уже совсем близко, он спросил, даже не здороваясь:
— Мы должны расстаться?
Он задыхался.
— Нет, — ответила она. — Почему? Что с тобой?
— Но если мы не расстаемся… Тогда пора!
— О чем ты говоришь?
— Я не хочу с тобой расставаться, — сказал он. — Только… — Он оборвал себя и спросил в упор: — Ты от меня не уйдешь?
Она смело встретила его взгляд.
— Что случилось? — настойчиво спросила она.
— Даже на время?..
— На какое время?
— Может быть, на годы.
— Расстаться? Ни за что!
— А ты подумала, чем это грозит?
— Я с тобой не расстанусь. — Она взяла его за руку. — Даже под страхом смерти я не отпущу тебя.
— Даже под страхом смерти, — повторил он и крепко сжал ее пальцы.
Он огляделся вокруг, словно боялся, что маленькие преследователи уже рядом.
— Может быть, это и смерть, — услыхала она. И попросила:
— Скажи мне все.
— Они пытались не пустить меня к тебе.
— Как?
— Вышел я сегодня из лаборатории, — ты ведь знаешь, я делаю Пищу богов, а запасы ее хранятся у Коссаров. Смотрю — стоит полицейский, такой человечек весь в синем и в чистых белых перчатках. Он приказал мне остановиться. «Здесь хода нет!» — говорит. Что ж, нет так нет, я обошел лабораторию кругом и хотел идти другой дорогой, а там — еще полицейский: «Здесь хода нет!» А потом добавляет: «Все дороги закрыты!»
— И что же дальше?
— Я было заспорил. «Эти дороги общие для всех», — говорю.
«Именно, — отвечает, — а вы их портите». «Ладно, — говорю, — я пойду полем».
Тут из-за всех изгородей повыскакивали еще полицейские, а главный заявляет:
«Хода нет, это частные владения».
«Провались они, ваши общие и частные владения! — говорю. — Я иду к моей принцессе».
Наклонился, осторожно взял его — ох, как он кричал и брыкался! — отставил в сторону и пошел дальше. Мигом все поле ожило, повсюду забегали эти людишки. Один скакал на лошади рядом со мной и на скаку читал что-то по бумажке, кричал изо всех силенок. Дочитал, пригнул голову и поскакал назад. Я так ничего и не разобрал. И вдруг слышу — позади залп из ружей.
— Из ружей?!
— Да, они стреляли по мне, как стреляют по крысам. Пули так и свистели, одна попала мне в ногу.
— И что же ты?
— Как видишь, пришел к тебе, а они где-то там бегут, кричат и стреляют… И теперь…
— Что теперь?
— Это только начало. Они непременно хотят нас разлучить. Они и сейчас гонятся за мной.
— Мы не расстанемся.
— Не расстанемся. Но тогда ты должна пойти со мной к нашим Братьям.
— Где это?
— Пойдем на восток. Они за мной гонятся вон оттуда, а мы пойдем в другую сторону. По той аллее. Я пойду первым, и если они устроили засаду…
Он шагнул вперед, но она схватила его за руку.
— Нет! — воскликнула она. — Я обниму тебя, и мы пойдем рядом. Ведь я из королевской семьи, может быть, я для них священна. Я обниму тебя — может быть, тогда они не посмеют стрелять. Господи, если бы мы могли обняться и улететь!..
Она стиснула руку Редвуда, обняла его за плечи и прижалась к нему.
— Может быть, тогда они не убьют тебя, — повторяла она, и в порыве страстной неясности он обнял ее и поцеловал в щеку. Мгновенье он не отпускал ее.
— Даже если это смерть, — прошептала принцесса.
Она обвила руками его шею и подняла к нему лицо.
— Поцелуй меня еще раз, любимый.
Он притянул ее к себе. Они молча поцеловались и еще минуту не могли оторваться друг от друга. Потом рука об руку двинулись в путь, и она старалась идти как можно ближе к нему; быть может, они доберутся до убежища, устроенного сыновьями Коссара, прежде чем их настигнет погоня…
Когда они быстрым шагом пересекали обширную часть парка, расположенную позади дворца, из-за деревьев галопом вылетел отряд всадников, тщетно пытавшихся поспеть за ними. А потом впереди показались дома, оттуда выбегали люди с винтовками. Редвуд хотел идти прямо на них и, если надо, прорваться силой, но она заставила его свернуть к югу.
Они поспешили прочь, и тут над самыми их головами просвистела пуля.
3. Молодой Кэддлс в Лондоне
Молодой Кэддлс даже не подозревал обо всех этих событиях, о новых законах, грозивших братству гигантов, да и о том, что где-то у него есть Братья, — и как раз в эти дни он решил покинуть известковый карьер и повидать свет. К этому его привели долгие невеселые раздумья. В Чизинг Айбрайте не было ответа на его вопросы; новый священник умом не блистал, он оказался еще ограниченнее прежнего, а Кэддлсу осточертело думать и гадать, почему его обрекли на такой бессмысленный труд.
«Почему я должен день за днем ломать известняк? — недоумевал он. — Почему я не могу ходить, куда хочу? На свете столько чудес, а мне к ним и подойти нельзя. В чем я провинился, за что меня так наказали?»
И вот однажды он встал, разогнул спину и громко сказал:
— Хватит!
— Не желаю! — сказал он и, как умел, проклял свою каменоломню.
Но что слова! То, что было на душе, требовало дела. Он поднял наполовину загруженную вагонетку, швырнул на соседнюю и разбил вдребезги. Потом схватил целый состав пустых вагонеток и сильным толчком отправил под откос. Вдогонку запустил огромной глыбой известняка — она рассыпалась в пыль, — и, с маху наподдав ногой по рельсам, сорвал с десяток ярдов подъездного пути. Так началось уничтожение карьера.
— Весь век здесь дурака валять? Нет, это не по мне!
В азарте разрушения он не заметил внизу маленького геолога, и тот пережил страшные пять минут. Две глыбы известняка чуть не раздавили его — бедняга еле успел отскочить, кое-как выбрался через западный край карьера и опрометью кинулся по откосу; дорожный мешок хлопал его по спине, ножки в коротких спортивных штанах так и мелькали, оставляя на траве меловые следы. А юный Кэддлс, очень довольный делом рук своих, зашагал прочь, чтобы исполнить свое предназначение в мире.
— Гнуть спину в этой яме, пока не сдохнешь!.. Думают, сам я огромный, а душонка во мне цыплячья! Добывать этим дуракам известняк, не поймешь для чего! Нет уж!
Вела ли его дорога, или железнодорожные пути, или просто случай, но он повернул к Лондону да так и шагал весь день, по жаре, через холмы, через поля и луга, и честной народ в изумлении пялил на него глаза. На каждом углу болтались обрывки белых и красных плакатов с разными именами, но они ему ничего не говорили; он и не слыхал о бурных выборах, о том, что до власти дорвался Кейтэрем, этот «Джек-Потрошитель великанов». Он и не подозревал, что именно в этот день во всех полицейских участках был вывешен указ Кейтэрема, в котором объявлялось, что ни один гигант, ни один человек ростом выше восьми футов не имеет права без особого разрешения отходить более чем на пять миль от «места своего постоянного жительства». Он не замечал, что полицейские чиновники, которые не могли его догнать и в глубине души очень этим были довольны, махали ему вслед своими грозными бумажками. Бедный любознательный простак, он спешил увидеть все чудеса, какие только есть в мире, и вовсе не собирался останавливаться из-за сердитого окрика первого встречного. Он миновал Рочестер и Гринвич, дома теснились все гуще; он замедлил шаг и с любопытством озирался по сторонам, помахивая на ходу огромным кайлом.
Жители Лондона знали о нем понаслышке: есть в деревне такой дурачок, но он тихий, и управляющий леди Уондершут и священник прекрасно с ним справляются; слыхали также, что он по-своему почитает хозяев, благодарен им за их заботу. И потому в тот день, узнав из последних выпусков газет, что он тоже «забастовал», многие лондонцы решили, что тут какой-то сговор всех гигантов.
— Они хотят испытать нашу силу, — говорили пассажиры в поездах, возвращаясь домой со службы.
— Счастье, что у нас есть Кейтэрем…
— Это они в ответ на его распоряжение…
В клубах люди были осведомлены лучше. Они толпились у телеграфной ленты или кучками собирались в курительных.
— Он не вооружен. Если бы тут было подстрекательство, он пошел бы прямо к Семи дубам.
— Ничего, Кейтэрем с ним справится.
Лавочники сообщали покупателям последние сплетни. Официанты, улучив минутку между блюдами, заглядывали в вечернюю газету. И даже извозчики, проглядев отчеты о скачках, сразу же искали новости о гигантах…
Вечерние правительственные газеты пестрели заголовками: «Вырвать крапиву с корнем!» Другие привлекали читателя заголовками вроде: «Великан Редвуд продолжает встречаться с принцессой». Газета «Эхо» нашла оригинальную тему: «Слухи о бунте гигантов на Севере Англии. Великаны Сандерленда направляются в Шотландию». «Вестминстерская газета», как всегда, предостерегала: «Берегитесь гигантов» — и пыталась хоть на этом как-нибудь сплотить либеральную партию, которую в то время семь лидеров яростно тянули каждый в свою сторону. В более поздних выпусках уже не было разноголосицы. «Гигант шагает по Ново-Кентской дороге», — дружно сообщали они.
— Интересно, почему это ничего не слыхать про молодых Коссаров, — рассуждал в чайной бледный юнец. — Уж без них-то наверняка не обошлось…
— Говорят, еще один верзила вырвался на свободу, — вставила буфетчица, вытирая стакан. — Я всегда говорила, с ними рядом жить опасно. Всегда говорила, с самого начала… Пора уж от них избавиться. Хоть бы его сюда не принесла нелегкая!
— А я не прочь на него поглядеть, — храбро заявил юнец у стойки. — Принцессу-то я видел.
— Как по-вашему, ему худого не сделают? — спросила буфетчица.
— Очень может быть, что и придется, — ответил юнец, допивая стакан.
Таким вот разговорам конца-краю не было, и в самый разгар этой шумихи в Лондон заявился молодой Кэддлс.
Я всегда представляю себе молодого Кэддлса таким, каким его впервые увидели на Ново-Кентской дороге, его растерянное и любопытное лицо, освещенное ласковыми лучами заходящего солнца. Дорога была запружена машинами: омнибусы, трамваи, фургоны и повозки, тележки разносчиков, велосипеды и автомобили двигались сплошным потоком; великан робкими шагами пробирался вперед, а за ним по пятам, дивясь и изумляясь, тянулись зеваки, женщины, няньки с младенцами, вышедшие за покупками хозяйки, детвора и сорванцы постарше. Повсюду торчали щиты с грязными обрывками предвыборных воззваний. Нарастал неумолчный гул голосов. Вокруг плескалось море взбудораженных пигмеев: лавочники вместе с покупателями высыпали на улицу; в окнах мелькали любопытные лица; с криком сбегались мальчишки; каменщики и маляры на лесах бросали работу и глядели на него; и лишь одни полицейские, невозмутимые, точно деревянные, сохраняли спокойствие в этой кутерьме. Толпа выкрикивала что-то непонятное: насмешки, брань, бессмысленные ходячие словечки и остроты, а он смотрел на этих людишек во все глаза — ему и не снилось, что на свете их такое множество!
Теперь, когда он достиг Лондона, ему приходилось еще и еще замедлять шаг, чтобы не раздавить напиравшую толпу. Она становилась все гуще, и наконец на каком-то углу, где пересекались две широкие улицы, людские волны прихлынули вплотную и сомкнулись вокруг.
Так и стоял он, слегка расставив ноги, прислонясь спиной к большому, вдвое выше него, дому на углу — это было шикарное питейное заведение со светящейся надписью по краю крыши. Он смотрел на сновавших внизу пигмеев и, уж наверно, старался как-то связать это зрелище с другими впечатлениями своей жизни, понять, при чем тут долина среди холмов, и влюбленные полуночники, и церковное пение, известняк, который он ломал столько лет, инстинкт, смерть и голубые небеса… Гигант пытался осознать единство мира и найти в нем смысл. Он напряженно хмурил брови. Огромной ручищей почесал лохматый затылок и громко, протяжно вздохнул.
— Не понимаю, — сказал он.
Никто толком не разобрал его слов. Перекресток гудел, звонки трамваев, упорно пробиравшихся сквозь толпу, прорезались в этом шуме, словно красные маки в золоте хлебов.
— Что он сказал?
— Сказал — не понимает.
— Сказал: «Все понимаю!»
— Сказал: «Сломаю».
— Как бы этот олух не сломал дом, еще усядется на крышу!
— Чего вы копошитесь, мелюзга? Что вы тут делаете? Кому вы нужны? Я там, в яме, ломаю для вас известняк, а вы тут чего-то копошитесь, — зачем? На что все это нужно?
При звуке его странного гулкого голоса, который когда-то в Чизинг Айбрайте отвлекал школьников от уроков, толпу взяла оторопь, и она было умолкла, но потом разразилась новой бурей криков.
— Речь! Речь! — завопил какой-то шутник.
Что он такое говорит? — вот что занимало всех; многие уверяли: конечно же, он просто пьян!
Опасливо, гуськом, пробирались в толпе омнибусы. «Эй, с дороги!» — орали кучера. Подвыпивший американский матрос лез ко всем и каждому и слезливо спрашивал: «Ну чего ему надо?» Внезапно над толпой, перекрывая шум, взмыл пронзительный крик: старьевщик с высохшим темным лицом, восседая в своей тележке, голосил:
— Пшел вон, орясина! Убирайся, откуда пришел! Дубина ты стоеросовая, чертово пугало! Не видишь, что ли, от тебя лошади шарахаются! Пшел вон! Порядку не знает, бестолочь, прет, куда не надо, хоть бы кто вбил ему в башку!..
А над всем этим столпотворением растерянно застыл молодой великан: он уже не пытался говорить, только смотрел круглыми глазами и чего-то ждал.
Вскоре из переулка строем в затылок вышел небольшой отряд озабоченных полицейских; они двинулись через дорогу, привычно лавируя среди экипажей.
— Осади назад! — доносились до Кэддлса их голосишки. — Попрошу не задерживаться! Проходите, проходите!
Потом оказалось, что одна из этих темно-синих фигурок молотит его дубинкой по ноге. Он посмотрел вниз — фигурка яростно размахивала руками в белых перчатках.
— Чего вам? — спросил он, наклоняясь.
— Здесь нельзя стоять! — кричал инспектор. — Не стой здесь, — повторил он.
— А куда мне идти?
— Домой, в свою деревню. На место постоянного жительства. Словом, уходи. Ты нарушаешь движение.
— Какое движение?
— На шоссе.
— А куда они все идут? И откуда? Для чего это? Собрались тут все вокруг меня. Чего им надо? Что они делают? Я хочу понять. Мне надоело махать кайлом, и я всегда один. Я ломаю известняк, а они для меня что делают? Я хочу знать, вот вы мне и растолкуйте.
— Ну не взыщи, мы здесь не для того, чтобы разговоры разговаривать. Мое дело следить за порядком. Проходи не задерживайся.
— А вы не знаете?
— Проходи, не задерживайся — честью просят! И мой тебе совет: убирайся-ка ты восвояси. Мы еще не получали специальных инструкций, а только ты нарушаешь закон… Эй, вы! Дайте дорогу! Дайте дорогу!
Мостовая слева от него услужливо опустела, и Кэддлс медленно двинулся вперед. Но теперь язык у него развязался.
— Не пойму, — бормотал он. — Не пойму.
Он обращался к толпе — она валила за ним по пятам, беспрестанно меняясь, подступала с боков. Речь его была отрывиста и бессвязна:
— Я и не знал, что есть на свете такие места! Что вы все тут делаете день-деньской? И для чего это все? Для чего это все, и к чему тут я?
Сам того не ведая, он пустил по свету новые ходкие словечки. Еще долго молодые острословы весело спрашивали друг друга: «Эй, Гарри! Для чего это все? А? Для чего все это непотребство?»
В ответ раздавался взрыв острот, по большей части не слишком пристойных. Из пригодных для общего пользования самыми ходкими оказались: «Заткнись ты!» и презрительное: «Пшел вон!»
Вошли в обиход ответы и похлестче.
Чего он искал? Он стремился к чему-то, чего не мог ему дать мир пигмеев, к какой-то своей цели; пигмеи мешали ему достичь ее или хотя бы разглядеть; ему так и не суждено было ее увидеть. Страстная жажда общения сжигала этого одинокого молчаливого гиганта; он тосковал по обществу себе подобных, по делу, которое полюбил бы и которому мог бы служить, искал близких — кого-нибудь, кто указал бы ему понятную и полезную цель в жизни и кому он рад был бы повиноваться. И поймите, тоска эта была немая, бессловесная; она яростно клокотала у него в груди, и, даже встреть он собрата-великана, едва ли он сумел бы высказать все это словами. Что он знал в жизни? Тупое однообразие деревенских будней, обыденные разговоры немногословных фермеров; все это не отвечало и не могло ответить самым ничтожным из его гигантских запросов. Невообразимый простак, он ничего не знал ни о деньгах, ни о торговле, ни о других хитросплетениях, на которых зиждется общество маленьких людишек и все их существование. Он жаждал… но, чего бы он ни жаждал, ему не суждено было эту жажду утолить.
Весь день и всю ночь напролет он шел и шел, уже голодный, но все еще неутомимый; он видел, как на разных улицах движется различный транспорт, и вновь и вновь пытался постичь, чем же заняты эти крохотные деловитые козявки. Для него все это было лишь сумятицей и неразберихой…
Говорят, в Кенсингтоне он вытащил из коляски какую-то леди в наимоднейшем вечернем платье и внимательно осмотрел ее от шлейфа до голых лопаток, а потом с глубоким вздохом, хоть и довольно небрежно, водворил на место. Но за точность этих слухов я не ручаюсь. Чуть ли не целый час он стоял в конце Пикадилли и наблюдал, как люди дрались за места в омнибусах. К концу дня он какое-то время маячил над стадионом Кеннингтон Овал, глядя на крикет, но тысячные толпы, околдованные этим загадочным для него зрелищем, даже не заметили великана, и он, тяжело вздохнув, побрел дальше.
Незадолго до полуночи он снова попал на площадь Пикадилли и увидел совсем иную толпу. Эти люди явно были очень озабочены, спешили заняться чем-то дозволенным, а может быть, и тем, что не дозволено (а почему — бог весть). Они пялили на него глаза, на ходу глумились над ним, но шли мимо, не задерживаясь. Вдоль запруженного пешеходами тротуара нескончаемым потоком тянулись по мостовой наемные экипажи, извозчики хищным взглядом выискивали себе седоков. Люди входили и выходили из дверей ресторанов, одни солидные, важные, озабоченные, другие веселые или разнеженные, третий уж такие настороженные и проницательные, что их не обсчитал бы и самый продувной официант. Стоя на углу, молодой великан приглядывался ко всей этой суете.
— Для чего это все? — с тоской спрашивал он громким шепотом. — Для чего? Они все такие серьезные, такие занятые, а я ничего не понимаю. В чем тут дело?
Он видел то, чего никто здесь не замечал: как жалки отупевшие от пьянства накрашенные женщины, которые часами маячат на углу, и несчастные оборванцы, что крадутся вдоль водостоков, как невыразимо пуста и никчемна вся эта кутерьма. Пустота и никчемность. Им всем было невдомек, к чему стремится этот великан, этот призрак будущего, ставший у них на дороге.
Напротив, высоко в небе, то вспыхивали, то гасли таинственные знаки; умей Кэддлс читать, они рассказали бы ему, как узки человеческие интересы, как ничтожно все, к чему стремятся и чем живут эти козявки. Сначала появлялось огненное: «В», затем последовало «И»: «ВИ». Затем «Н»: «ВИН» — и наконец в небе целиком загорелась радостная весть для всех, кто подавлен бременем жизни:
ВИНО ТАППЕРА ПРИДАСТ ВАМ БОДРОСТИ!
Миг — и все исчезло во мраке, а потом на месте этой надписи так же постепенно, по одной букве, обозначилось второе всеобщее утешение:
МЫЛО «КРАСОТА»!
Заметьте: не просто моющее химическое средство; но некий, так сказать, идеал.
А вот и третий кит, на котором покоится вся мелочная жизнь пигмеев:
ЖЕЛУДОЧНЫЕ ПИЛЮЛИ ЯНКЕРА!
Больше ничего нового не появлялось. В черную пустоту одна за другой опять выстреливались огненно-красные буквы, выводя те же слова:
ВИНО ТАП…
Уже глубокой ночью молодой Кэддлс, очевидно, пришел под прохладную сень Риджент-парка, перешагнул через ограду и прилег на поросшем травой склоне, неподалеку от зимнего катка. Здесь он часок вздремнул. А в шесть утра видели, как он разговаривал с какой-то нищенкой: вытащил ее из канавы, где она спала, и настойчиво допытывался, для чего она живет на свете…
Утром на второй день скитаний по Лондону настал для Кэддлса роковой час. Его одолел голод. Некоторое время он в нерешительности смотрел, как грузили повозку горячим, душистым хлебом, а потом тихонько опустился на колени — и начался грабеж. Покуда пекарь бегал звать полицию, Кэддлс очистил всю повозку, а затем огромная рука просунулась в булочную и опустошила прилавки и полки. Он набрал побольше хлеба и, не переставая жевать, пошел по другим лавкам, высматривая, чего бы еще перехватить. А тогда как раз (не впервые) пришла для лондонцев плохая пора: работы никакой не найдешь, съестное не по карману, — и жители того квартала даже сочувственно смотрели на великана, который смело брал желанную для всех, но недоступную еду. Они одобрительно хлопали, глядя, как он завтракает, и дружно засмеялись глуповатой гримасе, которой он встретил полицейского.
— Я был голодный, — объяснил он с набитым ртом.
— Браво! — ревела толпа. — Браво!
Но когда он принялся за третью пекарню, уже человек десять полицейских стали дубасить его по икрам.
— А ну-ка, милейший, пойдем отсюда, — сказал ему один. — Тебе разгуливать не полагается. Пойдем, я отведу тебя домой.
Его очень старались арестовать. Говорят, по улицам разъезжала, гоняясь за ним, повозка с якорными цепями и канатами, — они должны были при аресте заменить наручники. Тогда его еще не собирались убивать.
— Он не участвует в заговоре, — заявил Кейтэрем. — Я не хочу, чтобы мои руки обагрила кровь невинного. — И прибавил: — Пока не будут испробованы все другие средства.
Сначала Кэддлс не понимал, чего от него хотят. А когда понял, то предложил полицейским не валять дурака и, широко шагая, пошел прочь — где уж им было его догнать. Булочные он ограбил на Хэрроу-роуд, но в два счета пересек Лондонский канал и очутился в Сент-Джонс-вуд, уселся в чьем-то саду и начал ковырять в зубах; тут на него и напал второй отряд полицейских.
— Да отвяжитесь вы от меня! — рявкнул он и неуклюже затопал через сады, вспахивая ногами лужайки и опрокидывая заборы; однако маленькие рьяные служители порядка не отставали, пробираясь кто садами, кто проезжей дорогой. У двух или трех были ружья, но их не пускали в ход. Потом Кэддлс выбрался на Эджуэр-роуд — здесь толпа была уже настроена совсем по-иному и конный полицейский наехал гиганту на ногу, но в награду за такое усердие тотчас был выбит из седла.
Кэддлс обернулся к затаившей дыхание толпе.
— Отвяжитесь вы от меня! Что я вам сделал?
К этому времени он был безоружен, так как забыл кайло в Риджент-парке. Но теперь бедняга, видно, понял, что ему нужно хоть какое-то оружие. Он вернулся к товарным складам Большой Западной железной дороги, выворотил высоченный фонарный столб и вскинул на плечо, точно гигантскую булаву. Тут он опять завидел своих назойливых преследователей, повернул назад по Эджуэр-роуд и угрюмо зашагал на север.
Он дошел до Уотэма, вновь повернул на запад и опять двинулся к Лондону, миновал кладбища, перевалил через холм Хайгейта — и среди дня передним снова раскинулся огромный город. Здесь он свернул в сторону и уселся в каком-то саду, опершись спиной о стену дома; отсюда ему был виден весь Лондон. Он тяжело дышал, лицо его потемнело — и народ больше не толпился вокруг, как в первый раз; люди попрятались в соседних садах и осторожно поглядывали на него из укрытий. Они уже знали, что дело куда серьезнее, чем казалось сначала.
— Чего они ко мне привязались? — ворчал молодой гигант. — Надо же мне поесть. Чего они никак не отвяжутся?
Так он сидел, грыз кулак и угрюмо глядел на лежащий внизу город. После всех блужданий на сердце накипало: душили усталость, тревога, растерянность, бессильный гнев.
— Делать им нечего… — шептал он. — Делать им нечего. Нипочем не отвяжутся, так и путаются под ногами. А все от нечего делать, — повторял он снова и снова. — У-у, козявки!
Он с ожесточением кусал пальцы, лицо его стало мрачнее тучи.
— Работай на них, маши кайлом! — шептал он. — Они везде хозяева! А я никому не нужен… деваться некуда.
И вдруг горло ему перехватило от ярости: на ограде сада показалась уже знакомая фигура в синем.
— Отвяжитесь вы от меня! — рявкнул гигант. — Отвяжитесь!
— Я обязан исполнить свой долг, — ответил полицейский; он был бледен, но весьма решителен.
— Отвяжитесь вы! Мне тоже надо жить! Мне надо думать. И надо есть. И отвяжитесь вы от меня.
Маленький полицейский все сидел верхом на стене, подступиться ближе он не решался.
— На то есть закон, — сказал он. — Не мы же его выдумали.
— И не я, — возразил Кэддлс. — Это вы, козявки, навыдумывали, меня тогда еще и на свете не было. Знаю я вас и ваши законы! То делай, того не делай. Работай, как проклятый, или помирай с голоду — ни тебе еды, ни отдыха, ни крова, ничего… А еще говорите…
— Я тут ни при чем, — сказал полицейский. — Как да почему — это пускай тебе другие растолкуют. Мое дело исполнять закон. — Он перекинул через стену вторую ногу и приготовился спрыгнуть вниз; за ним показались еще полицейские.
— Послушайте, я с вами не ссорился. — Кэддлс ткнул худым пальцем в полицейского, краска сбежала с его лица, и он крепко стиснул в руке огромную железную булаву. — Я с вами не ссорился. Но лучше отвяжитесь!
Полицейский старался держаться спокойно, как будто все это в порядке вещей, и, однако, понимал: происходит чудовищное и непоправимое.
— Где приказ? — обратился он к кому-то из стоявших сзади, и ему подали клочок бумаги.
— Отвяжитесь вы, — повторил Кэддлс; он выпрямился, весь подобрался, смотрел угрюмо и зло.
— Здесь написано, что ты должен вернуться домой, — сказал полицейский, все еще не начиная читать. — Иди назад в свою каменоломню. Не то будет худо.
В ответ Кэддлс зарычал что-то невнятное.
Тогда бумагу прочитали, и офицер сделал знак рукой. На гребне стены появились четверо вооруженных людей и с нарочитой невозмутимостью выстроились в ряд. На них была форма стрелков из отряда по борьбе с крысами. При виде ружей Кэддлс пришел в ярость. Он вспомнил жгучие уколы от фермерских дробовиков в Рекстоне.
— Вы хотите стрелять в меня из этих штук? — спросил он, показывая пальцем на ружья, и офицер вообразил, что великан испугался.
— Если ты не вернешься в свой карьер…
Он не договорил и кубарем скатился со стены, спасаясь от неминучей смерти: огромный железный столб, вскинутый могучей рукой на высоту шестидесяти футов, с размаху опускался прямо на него. Бац! Бац! Бац! — грохнули залпы из винтовок, рассчитанных на крупного зверя. Трах — рассыпалась стена от страшного удара, полетели комья взрытой, развороченной земли. И еще что-то взлетело вместе с землей, что-то алое брызнуло на руку одному из людей с винтовками. Стрелки бросались из стороны в сторону, увертываясь от ударов, и храбро продолжали стрелять на бегу. А молодой Кэддлс, уже дважды простреленный, топтался на месте и озирался, не понимая, кто так больно жалит его в спину. Бац! Бац! Дома, беседки, сады, люди, что опасливо выглядывали из окон, — все это вдруг страшно и непонятно заплясало перед глазами. Он споткнулся, сделал три неверных шага, взмахнул своей огромной булавой и, выронив ее, схватился за грудь. Острая боль пронзила его насквозь.
Что это у него на руке, горячее и мокрое?..
Один здешний житель, глядевший из окна спальни, видел: великан испуганно посмотрел на свою ладонь — она была вся в крови, — сморщился, чуть не плача, потом ноги его подкосились, и он рухнул на землю — первый побег гигантской крапивы, с корнем вырванный твердой рукой Кейтэрема, но отнюдь не тот, который новому премьер-министру хотелось выполоть прежде всего.
4. Два дня из жизни Редвуда
Едва Кейтэрем понял, что пробил его час и можно рвать крапиву с корнем, он самовластно отдал приказ об аресте Коссара и Редвуда.
Взять Редвуда было нехитро. Он недавно перенес тяжелую операцию, и до полного выздоровления врачи всячески оберегали его покой. Но теперь они избавили его от своей опеки. Он только что встал с постели и, сидя у камина, просматривал кипу газет; он впервые узнал о предвыборной шумихе, из-за которой страна попала в руки Кейтэрема, и о том, какие тучи нависли над принцессой и его сыном. Было утро того самого дня, когда погиб молодой Кэддлс и когда полиция пыталась преградить Редвуду-младшему дорогу к принцессе. Но последние газеты, лежавшие перед старым ученым, лишь глухо и невнятно предвещали эти события. И Редвуд с замиранием сердца читал и перечитывал первые намеки на близкую беду, читал — и все явственней ощущал дыхание смерти, и все-таки снова читал, пытаясь как-то занять мысли в ожидании свежих новостей. Когда слуга ввел в комнату полицейских чиновников, он вскинул голову, полный жадного нетерпения.
— А я-то думал, вечерняя газета, — сказал он, но тотчас изменился в лице и встал.
— Что случилось?
После этого он два дня был отрезан от всего мира.
Они явились в карете и хотели увезти его, но, видя, что он болен, решили еще день-другой его не трогать, а пока наводнили весь дом полицейскими и превратили во временную тюрьму. Это был тот самый дом, где родился Редвуд-великан, дом, в котором человек впервые вкусил Гераклеофорбию; Редвуд-отец уже восемь лет как овдовел и теперь жил здесь совсем один.
Он сильно поседел за эти годы, острая бородка стала совсем белая, но карие глаза смотрели живо и молодо. Он по-прежнему был сухощав, говорил негромко и учтиво, а в чертах его появилась та особенная значительность, которую нелегко определить словами: ее рождают годы раздумий над великими вопросами. Полицейский чин, явившийся арестовать Редвуда, был озадачен — уж очень не вязалась наружность этого человека с чудовищными злодеяниями, в которых его обвиняли.
— Надо же, — сказал чин своему помощнику. — Этот старикан из кожи вон лез, хотел всю землю перевернуть вверх тормашками, а с виду он ни дать ни взять мирный деревенский житель из благородных. А вот наш судья Бейдроби уж так печется о порядке и приличии, а рыло у него, как у борова. И потом — у кого какая манера! Этот вон какой обходительный, а наш знай фыркает да рычит. Стало быть, по видимости не суди, копай глубже — верно я говорю?
Но недолго полицейским пришлось хвалить Редвуда за обходительность. Он оказался очень беспокойным арестантом, и под конец они сказали ему наотрез: хватит приставать да расспрашивать, и газет он тоже не получит. Вдобавок они произвели небольшой обыск и отобрали даже те газеты, которые у него были. Уж он и кричал и пробовал увещевать их — все напрасно.
— Как же вы не понимаете, — повторял он снова и снова, — мой сын попал в беду, мой единственный сын! Меня сын заботит, а вовсе не Пища.
— Ничего не могу вам про него сказать, сэр, — ответил полицейский чин. — И рад бы, но у нас строгий приказ.
— Кто отдал такой приказ?
— Ну, уж это, сэр… — чин развел руками и направился к двери…
— Все шагает из угла в угол, — докладывал потом второй полицейский начальнику. — Это хорошо. Может, малость поуспокоится.
— Хорошо бы, — согласился начальник. — По правде сказать, я про это и не думал, а ведь тот великан, что связался с принцессой, нашему старику родной сын.
Трое полицейских переглянулись.
— Тогда ему, конечно, трудновато, — сказал наконец третий.
Как постепенно выяснилось, Редвуд еще не совсем понимал, что он отрезан от внешнего мира как бы железным занавесом. Охрана слышала, как он подходил к двери, дергал ручку и гремел замком; потом доносился голос часового, стоявшего на площадке лестницы, он уговаривал ученого не шуметь: так, мол, не годится. Затем они слышали, что он подходит к окнам, и видели, как прохожие поглядывают наверх.
— Так не годится, — сказал помощник.
Потом Редвуд начал звонить. Начальник охраны поднялся к нему и терпеливо объяснил, что из такого трезвона ничего хорошего не выйдет: если арестованный станет зря звонить, его оставят без внимания, а потом ему и впрямь что-нибудь понадобится — да никто не придет.
— Если нужно что дельное, мы к вашим услугам, сэр, — сказал он. — Ну, а если вы это только из протеста, придется нам отключить звонок, сэр.
Последнее, что услышал он, уходя, был пронзительный выкрик Редвуда:
— Вы хоть скажите мне — может быть, мой сын…
После этого разговора Редвуд-старший почти не отходил от окна.
Но, глядя в окна, мало что можно было узнать о ходе событий. Эта улица, и всегда тихая, в тот день была еще тише обычного: кажется, за все утро не проехал ни один извозчик, ни один торговец с тележкой. Изредка появится пешеход — по его виду никак нельзя понять, что делается в городе; пробежит стайка детей, пройдет нянька с младенцем или хозяйка за покупками, и все в этом же роде. Случайные прохожие появлялись то справа, то слева, то с одного конца улицы, то с другого, и, к досаде Редвуда, их явно ничто не занимало, кроме собственных забот; они удивлялись, заметив дом, окруженный полицией, оглядывались, а то и пальцем показывали — и шли дальше, в ту сторону, где над тротуаром нависали ветви гигантской гортензии. Иногда какой-нибудь прохожий спрашивал о чем-то полицейского, и тот коротко отвечал…
Дома на другой стороне улицы словно вымерли. Один раз из окна какой-то спальни выглянула горничная, и Редвуд решил подать ей знак. Сначала она с интересом следила, как он машет руками, и даже пыталась отвечать, но вдруг оглянулась и поспешно отошла от окна… Из дома номер 37 вышел старик, хромая, спустился с крыльца и проковылял направо, даже не взглянув наверх. Потом минут десять по улице расхаживала одна лишь кошка…
Так и тянулось то знаменательное, нескончаемое утро.
Около полудня с соседней улицы донесся крик газетчиков; но они пробежали мимо. Против обыкновения ни один не завернул в его улицу, и Редвуд заподозрил, что их не пустила полиция. Он попытался открыть окно, но в комнату сейчас же вошел полицейский…
Часы на ближайшей церкви пробили двенадцать, потом, спустя целую вечность, — час.
Точно в насмешку, ему аккуратнейшим образом подали обед. Он проглотил ложку супа, немного поковырял второе, чтобы его унесли, выпил изрядную порцию виски, потом взял стул и вернулся к окну. Минуты растягивались в унылые, нескончаемые часы, и он незаметно задремал…
Внезапно он проснулся со странным ощущением, словно от далеких подземных толчков. Минуту-другую окна дребезжали, как при землетрясении, потом все замерло. После короткого затишья далекий грохот повторился. И опять тишина. Он решил, что по улице прогромыхала какая-нибудь тяжело груженная повозка. Что же еще могло быть?
А немного погодя он и вовсе усомнился, не померещилось ли.
Другие мысли не давали ему покоя. Почему все-таки его арестовали? Вот уже два дня, как Кейтэрем пришел к власти — самое время ему взяться «полоть крапиву». Вырвать крапиву с корнем! Вырвать с корнем гигантов! Эти слова назойливо, неотступно звенели в мозгу Редвуда.
В конце концов, что может сделать Кейтэрем? Он человек верующий. Казалось бы, уже одно это обязывает его воздержаться от неоправданного насилия.
Вырвать крапиву с корнем! Допустим, принцессу схватят и вышлют за границу. И у сына могут быть неприятности. Тогда… Но почему арестовали его самого? Зачем все это от него скрывать? Нет, видно, происходит нечто более серьезное.
Допустим, они там задумали посадить за решетку всех великанов. Всех их арестуют одновременно. Такие намеки проскальзывали в предвыборных речах. А дальше что?
Без сомнения, схватили и Коссара.
Кейтэрем — человек верующий. Редвуд цеплялся за эту мысль. Но где-то в глубине сознания словно протянулась черная завеса, и на ней то вспыхивали, то гасли огненные знаки и складывались в одно только слово. Он отбивался, гнал от себя это слово. Но огненные знаки вспыхивали вновь, точно кто-то все снова начинал писать и не мог дописать до конца.
Наконец он решился прочесть это слово: «Резня»! Вот оно, жестокое, беспощадное.
Нет! Нет! Немыслимо! Кейтэрем — человек верующий, и он не дикарь. И неужели после стольких лет, после таких надежд!..
Редвуд вскочил и заметался по комнате. Он разговаривал сам с собой, он кричал:
— Нет!!
Человечество еще не настолько обезумело, конечно, нет! Это невероятно, немыслимо, этого не может быть! Какой смысл истреблять людей-гигантов, когда гигантизм неотвратимо овладевает всеми низшими формами жизни? Нет, не могли они настолько обезуметь!
— Вздор, такие мысли надо гнать, — сказал он себе. — Гнать и гнать! Решительно и бесповоротно!
Он умолк на полуслове. Что такое? Стекла опять дребезжат, и это не мерещится. Он подошел к окну. То, что он увидел напротив, тотчас подтвердило, что слух не обманул его. В окне спальни дома № 35 стояла женщина с полотенцем в руках, а в столовой дома № 37 из-за вазы с букетом гигантских левкоев выглядывал мужчина: оба с тревожным любопытством смотрели на улицу. Редвуд ясно видел, что и полицейский у его крыльца слышал тот же далекий гул. Нет, конечно, это не почудилось.
Он отошел в глубь комнаты. Смеркалось.
— Стреляют, — сказал он.
И задумался.
— Неужели стреляют?
Ему подали крепкий чай, точно такой, какой он привык пить. Видно, посовещались с его экономкой. Чай он выпил, но от волнения ему уже не сиделось у окна, и он зашагал из угла в угол. Теперь он мог мыслить более последовательно.
Двадцать четыре года эта комната служила ему кабинетом. Ее обставили к свадьбе, и почти вся мебель сохранилась с того времени: громоздкий письменный стол с множеством ящиков и ящичков; вертящийся стул; покойное кресло у камина, вертящаяся этажерка с книгами; в нише — солидная картотека. Пестрый турецкий ковер, некогда чересчур яркий, и все коврики и занавески поздневикторианского периода с годами немного потускнели, и теперь смягчившиеся краски только радовали глаз; отблески огня мягко играли на меди и латуни каминных решеток и украшений. Вместо керосиновой лампы былых времен горело электричество — вот главное, что изменилось за двадцать четыре года. Но к этой добротной старомодности приметалось и многое другое, свидетельствуя о том, что хозяин кабинета причастен к Пище богов. Вдоль одной из стен, выше панели, висел длинный ряд фотографий в строгих рамках. Это были фотографии его сына, сыновей Коссара и других Чудо-детей, снятых в разные годы их жизни, в разных местах. В этом собрании нашлось место даже для не слишком выразительных черт юного Кэддлса. В углу стоял сноп гигантской травы из Чизинг Айбрайта, а на столе лежали три пустые коробочки мака величиной со шляпу. Карнизами для штор служили стебли травы. А над камином желтоватый, точно старая слоновая кость, зловеще скалился череп гигантского кабана из Окхема, в его пустые глазницы были вставлены китайские вазы…
Редвуда потянуло к фотографиям, и особенно захотелось взглянуть на сына.
Эти снимки вызывали бесконечные воспоминания о том, что уже стерлось в памяти, — о первых днях создания Пищи, о скромном Бенсингтоне и его кузине Джейн, о Коссаре и о ночи великих трудов, когда жгли опытную ферму. Все эти воспоминания всплыли теперь, такие далекие, но яркие и отчетливые, точно он видел их через бинокль в солнечный день. Потом он вспомнил огромную детскую, младенца-великана, его первые слова и первые проблески его детской привязанности.
Неужели стреляют?
И вдруг его ошеломила грозная догадка: где-то там, за пределами этой проклятой тишины и неизвестности, бьется сейчас его сын, и сыновья Коссара, и остальные гиганты — чудесные первенцы грядущей великой эпохи. Бьются насмерть! Может быть, сейчас, в эту самую минуту, сын его загнан в тупик, затравлен, ранен, повержен…
Редвуд отшатнулся от фотографий и снова забегал взад и вперед по комнате, отчаянно размахивая руками.
— Не может быть! — восклицал он. — Не может быть! Не может все так кончиться!
Но что это?
Он остановился как вкопанный.
Опять задребезжали окна, потом тяжко ударило, да так, что весь дом содрогнулся. На этот раз землетрясение, кажется, длилось целую вечность. И где-то совсем близко. Мгновение Редвуду казалось, что на крышу дома рухнуло что-то огромное, от толчка вдребезги разлетелись стекла… и снова тишина, и затем звонкий, частый топот: кто-то бежал по улице.
Этот топот вывел Редвуда из оцепенения. Он обернулся к окну — стекло было разбито, трещины лучами разбежались во все стороны.
Сердце сильно билось: вот она, развязка, долгожданный решительный час. Да, но сам-то он бессилен помочь, он пленник, отделенный от всего мира плотной завесой!
На улице ничего не было видно, и электрический фонарь напротив почему-то не горел; и после первых тревожных отзвуков чего-то большого и грозного слышно тоже ничего не было. Ничего, что разъяснило бы или еще углубило тайну; только небо на юго-востоке вскоре вспыхнуло красноватым трепетным светом.
Зарево то разгоралось, то меркло. И когда оно меркло, Редвуд начинал сомневаться: а может быть, и это просто мерещится? Но сгущались сумерки — и зарево понемногу разгоралось ярче. Всю долгую, тягостную ночь оно неотступно стояло перед ним. Порой ему казалось, что оно дрожит, словно где-то там, внизу, пляшут языки пламени, а в следующую минуту он говорил себе, что это просто отблеск вечерних фонарей. Ползли часы, а зарево то меркло, то вновь разгоралось, и только под утро исчезло, растворилось в нахлынувшем свете зари. Неужели это означало… Что это могло означать? Почти наверняка где-то вдали или поблизости случился пожар, но даже не различишь, что за тень струится по небу — дым или гонимые ветром облака. Но около часа ночи по этому багровеющему тревожному небу заметались лучи прожекторов — и не успокаивались до рассвета. Быть может, и это тоже означало… Мало ли что это могло значить! Но что же это все-таки значило? Всю ночь он глядел на тревожные отблески в небе, вспоминал тот тяжкий грохот — и строил догадки. Не взрыв ли то был? Но ведь потом не слышно было шума, беготни, ничего, только отдаленные крики… Но может быть, просто поскандалили пьяные на соседней улице…
Редвуд не зажигал огня; из разбитого окна дуло, но старик не отходил от него, и полицейский, который то и дело заглядывал в комнату и уговаривал его лечь, видел лишь маленький, скорбно застывший черный силуэт…
Всю ночь напролет стоял Редвуд у окна и смотрел на плывущие в небе странные облака; лишь на рассвете усталость сломила его, и он прилег на узкую кровать, которую ему поставили между письменным столом и угасающим камином, под черепом гигантского кабана.
Тридцать шесть долгих часов Редвуд оставался взаперти под домашним арестом, отрезанный от событий трагических Двух Дней, когда на заре великой новой эры пигмеи пошли войной на Детей Пищи. И вдруг железный занавес поднялся, и ученый очутился в самой гуще борьбы. Занавес поднялся так же неожиданно, как опустился. Вечером Редвуд услыхал стук колес, подошел к окну и увидел, что у дверей остановился извозчик; через минуту приехавший уже стоял перед Редвудом. Это был человек лет тридцати, тщедушный, гладко выбритый, одетый с иголочки и весьма учтивый.
— Мистер Редвуд, сэр, — начал он, — не будете ли вы так любезны отправиться со мной к мистеру Кейтэрему? Он желал бы видеть вас безотлагательно…
— Видеть меня!.. — В мозгу Редвуда вспыхнул вопрос, который ему не сразу удалось выговорить. Он чуть помедлил. Потом спросил срывающимся голосом:
— Что Кейтэрем сделал с моим сыном?
Затаив дыхание, он ждал ответа.
— С вашим сыном, сэр? Насколько мы можем судить, ваш сын чувствует себя хорошо.
— Чувствует себя хорошо?
— Вчера он был ранен, сэр. Разве вы не слыхали?
От этого лицемерия Редвуд вышел из себя. В голосе его звучал уже не страх, а гнев:
— Вы прекрасно знаете, что я не слыхал. Как вам известно, я не мог ничего слышать.
— Мистер Кейтэрем опасался, сэр… Такие события, бунт… И так неожиданно… Нас застали врасплох. Он арестовал вас, чтобы спасти от какой-либо несчастной случайности…
— Он арестовал меня, чтобы я не мог предупредить сына и помочь ему советом. Ну, что же дальше? Рассказывайте. Что произошло? Вы победили? Удалось вам их перебить?
Молодой человек шагнул было к окну и обернулся.
— Нет, сэр, — ответил он кратко.
— Что вам поручили мне передать?
— Уверяю вас, сэр, столкновение произошло не по нашей вине. Для нас это была совершенная неожиданность…
— Что вы хотите сказать?
— Я хочу сказать, сэр, что гиганты в какой-то степени сохранили свои позиции.
Весь мир словно светом озарился. Потрясенный Редвуд чуть не зарыдал, горло сжала судорога, лицо исказилось. Но тотчас он глубоко, с облегчением вздохнул. Сердце радостно заколотилось: значит, гиганты сохранили свои позиции!
— Был жестокий бой… разрушения ужасные. Какое-то чудовищное недоразумение… На севере и в центральных графствах многие гиганты погибли… Это охватило всю страну.
— И они продолжают драться?
— Нет, сэр. Поднят белый флаг.
— Кто поднял, они?
— Нет, сэр. Перемирие предложил мистер Кейтэрем. Все это — чудовищное недоразумение. Потому он и хочет с вами побеседовать, изложить вам свою точку зрения. Настаивают, чтобы вы вмешались.
Редвуд перебил его:
— Вам известно, что с моим сыном?
— Он был ранен.
— Да говорите же! Рассказывайте!
— Он шел с принцессой… тогда еще не был завершен маневр по… м-м… окружению лагеря Коссаров… этой ямы в Чизлхерсте. Ваш сын с принцессой шли напролом сквозь чащу гигантского овса, вышли к реке и наткнулись на роту пехоты… Солдаты весь день нервничали… вот и началась паника.
— Они его застрелили?
— Нет, сэр. Они разбежались. Но некоторые стреляли… С перепугу, наобум. Это было нарушение приказа, сэр.
Редвуд недоверчиво хмыкнул.
— Можете мне поверить, сэр. Не стану кривить душой, приказ был отдан не ради вашего сына, а ради принцессы.
— Да, этому модою поверить.
— Они оба с криком бежали к крепости. Солдаты метались во все стороны, потом кое-кто начал стрелять. Видели, как он споткнулся.
— Ох!
— Да, сэр. Но мы знаем, что рана несерьезная.
— Откуда знаете?
— Он передал, что чувствует себя хорошо, сэр.
— Передал для меня?
— Для кого же еще, сэр.
Минуту Редвуд стоял, прижав руки к груди, и старался осмыслить услышанное. Потом его возмущение вырвалось наружу:
— Так, значит, вы, как дураки, просчитались, не справились и сели в лужу, а теперь еще прикидываетесь, что вовсе и не думали убивать! И потом… Что с остальными?
Молодой человек посмотрел вопросительно.
— С остальными гигантами, — нетерпеливо пояснил Редвуд.
Его собеседник больше не притворялся, что не понимает.
— Тринадцать убито, сэр, — ответил он упавшим голосом.
— И есть еще раненые?
— Да, сэр.
Редвуд задохнулся от ярости.
— И Кейтэрем хочет, чтоб я с ним разговаривал! — крикнул он. — Где остальные?
— Некоторые добрались до крепости еще во время сражения, сэр… Они, видимо, этого ждали…
— Мудрено было не ждать. Если бы не Коссар… А Коссар там?
— Да, сэр. И там все уцелевшие гиганты… Те, что не добрались в Чизлхерст во время боя, уже пришли туда, пользуясь перемирием, или идут сейчас.
— Стало быть, вы разбиты, — сказал Редвуд.
— Мы не разбиты. Нет, сэр. Нельзя сказать, что мы разбиты. Но ваши гиганты ведут войну не по правилам. Они нарушают все законы, так было прошлой ночью и вот теперь опять. Мы уже прекратили атаку, оттянули войска. И вдруг сегодня — бомбардировка Лондона…
— Это их право!
— Но снаряды начинены… ядом…
— Ядом?
— Да, ядом. Пищей…
— Гераклеофорбией?
— Да, сэр. Мистер Кейтэрем хотел бы, сэр…
— Вы разбиты! Теперь ваша игра проиграна! Молодец, Коссар! Что вам остается делать? Как ни старайтесь, толку не будет. Теперь вы будете вдыхать ее с пылью на каждой улице. Какой же смысл драться? Воевать по правилам, как бы не так! И ваш Кейтэрем воображает, что я приду ему на выручку?! Просчитались, молодые люди! На что мне этот пустозвон? Он лопнул, как мыльный пузырь! Довольно он убивал, и врал, и путал, его песенка спета. Зачем я к нему пойду?
Молодой человек слушал внимательно и почтительно.
— Дело в том, сэр, — вставил он, — что гиганты непременно хотят вас видеть. Они не желают признавать никаких других парламентеров. Боюсь, что, если вы к ним не пойдете, сэр, опять прольется кровь.
— Ваша? Очень может быть.
— Нет, сэр, и их кровь тоже. Человечество больше этого не потерпит — с гигантами будет покончено.
Редвуд обвел взглядом свой кабинет. Задержался на портрете сына. Обернулся — и встретил вопрошающий взгляд молодого человека.
— Хорошо, — сказал он наконец. — Я пойду.
Встреча с Кейтэремом вышла совсем не такая, как ожидал Редвуд. Он видел великого демагога всего два раза в жизни: один раз на банкете, второй — в кулуарах парламента — и представлял себе его больше по газетам и карикатурам: легендарный Кейтэрем, Джек-Потрошитель великанов, Персей и прочее. Встреча с живым человеком опрокинула это представление.
Он увидел не то лицо, что примелькалось на портретах и шаржах, но лицо человека, измученного бессонницей и усталостью: морщинистое, осунувшееся, с желтоватыми белками глаз и обмякшим ртом. Конечно, карие глаза были те же, и те же черные волосы, и тот же четкий орлиный профиль, но было и нечто иное, от чего гнев Редвуда сразу погас, и он не разразился приготовленной речью. Этот человек страдал, жестоко страдал: в нем чувствовалось непомерное напряжение. В первую секунду он, казалось, только играл самого себя. А потом один жест, пустячное, но предательское движение — и Редвуд понял, что Кейтэрем подхлестывает себя наркотиками. Он сунул большой палец в жилетный карман и после нескольких фраз, уже не скрываясь, положил в рот маленькую таблетку.
Более того, несмотря на неестественное напряжение, сквозившее во всем его облике, несмотря на то, что он был лет на двенадцать моложе ученого и во многом перед ним не прав, Редвуд сразу почувствовал: еще и сейчас есть в Кейтэреме какая-то особая сила — личное обаяние, что ли, — которая принесла ему славу и губительную власть. Этого Редвуд тоже не предвидел. Кейтэрем сразу взял над ним верх. Он задавал тон и направление разговору. Это произошло как-то само собой. В присутствии Кейтэрема все намерения Редвуда разлетелись, как дым. Здороваясь, Кейтэрем протянул руку — и Редвуд пожал ее, а ведь он решил было отвергнуть эту фамильярность! И с первого слова Кейтэрем разговаривал так, как будто их постигла общая беда и они должны вместе найти выход.
Лишь изредка он сбивался: от усталости забывал о собеседнике, о цели этой встречи — и впадал в привычный ораторский пафос. Но тотчас, почуяв свою ошибку, весь подбирался (во время разговора оба стояли), отводил глаза и начинал вилять и оправдываться. Один раз он даже сказал: «Джентльмены!»
Начал он негромко, но постепенно фразы становились все эффектнее и голос креп…
Минутами разговор превращался в монолог, Редвуду оставалось только слушать. Он имел честь лицезреть необычайное явление. Право, кажется, перед ним существо иной породы, сладкоречивое и сладкогласное — говорит, говорит, завораживает словами… Какой могучий ум — и какой ограниченный! Какая неукротимая энергия, натиск, самоуверенность, — но и непобедимая глухота и невосприимчивость ко всему неугодному! Странный, неожиданный образ предстал перед внутренним взором Редвуда. Кейтэрем не просто противник, такой же человек, как он сам, способный отвечать за свои слова и поступки и выслушать разумные доводы, — нет, это нечто иное, какой-то невиданный носорог, да, цивилизованный носорог, порождение демократических джунглей, чудовище сокрушительное и несокрушимое. В свирепых стычках, что разыгрываются в дебрях политики на каждом шагу, ему нет равных. Ну, а дальше что? Этот человек, кажется, самой природой создан для того, чтобы пробивать себе дорогу в толпе. Для него самый тяжкий грех — противоречить себе, важнейшая из наук — примирять «интересы». Требования экономики, географические особенности страны, почти не тронутые сокровища научных методов и открытий — это для него все равно, что для его толстокожего прототипа в животном царстве — железные дороги, ружья или записки знаменитых путешественников. Он только и признает митинги, предвыборные махинации, подтасовку и давление на избирателей — и голоса, главное, голоса! Он и есть воплощение этих голосов — миллионов голосов.
И даже в час великого кризиса, когда гиганты были отброшены, но не разбиты, он говорил, это чудовище от баллотировки.
Было совершенно ясно, что и теперь он ничего не знает и не понимает. Не знает, что есть на свете законы физики и законы экономики, количественные отношения и качественные реакции, которые нельзя опровергнуть и отменить, даже если все человечество проголосует nomine contradicente[10] и ослушаться их — значит погибнуть. Не знает, что есть нравственные законы, которые невозможно подавить силой одного лишь обаяния: придавленные, они мстительно распрямляются, точно сжатая пружина, и наносят ответный удар. Да, видно, и под пулями и в день Страшного суда этот человек попытался бы спрятаться за какой-нибудь хитроумной парламентской уловкой.
И сейчас его больше всего заботили не грозные силы, что удерживали свою крепость там, на юге, не поражение и не смерть — его тревожило одно: как все это отразится на парламентском большинстве; ничего важнее этого большинства для него не существовало. Он должен победить гигантов или погибнуть! И он вовсе не отчаивался. В этот час рушились все его планы, руки обагрила кровь, он был повинен в страшном бедствии и готов вызвать бедствия еще более страшные. Грядущий мир, великий мир гигантов надвигался на него, грозил опрокинуть его и раздавить, а он все еще верил, что былое могущество можно вернуть, просто-напросто повысив голос, что надо только снова и снова разъяснять, определять, утверждать… Без сомнения, он был озадачен и растерян, этот усталый, страдающий человек, но хотел он только одного: гнуть свою линию и говорить, говорить…
Он говорил, и Редвуду казалось, что собеседник то наступает, то отступает, то делается выше ростом, то съеживается. Редвуд почти не участвовал в разговоре, ему лишь изредка удавалось вставить словечко вроде: «Все это чепуха», «Нет», «Об этом нечего и думать», «Зачем же вы начали?»
Кейтэрем, вероятно, просто не слышал. Его речь обтекала любое возражение ученого, как быстрая речка обтекает скалу. Этот поразительный человек стоял на ковре перед камином в своем министерском кабинете и говорил, говорил без передышки, убедительно, блестяще, неутомимо, словно боялся, что, умолкни он хоть на миг, прерви этот поток доводов, так, а не иначе освещенных фактов, соображений, рассуждении и объяснений, — и тотчас в паузу ворвется какая-то враждебная сила, вернее — враждебный голос, ибо никакой силы и деятельности, кроме словесной, он не понимал и не признавал. Так он стоял среди слегка потускневшей роскоши министерского кабинета, в котором до него сменилось немало людей, столь же свято веривших, будто в управлении империей самое главное — вовремя вставить нужное слово.
И чем больше он говорил, тем острее чувствовал Редвуд, до чего все это бесплодно и безнадежно. Неужели этот человек не понимает, что, пока он разглагольствовал, весь мир пришел в движение, что выше и выше вздымаются волны необоримого гигантского роста человечества, что время существует не только для парламентских дебатов и, кроме пустых слов, есть другое оружие в руках мстителей за пролитую кровь! Лист гигантского плюща стучался в окно, застил свет в кабинете, а Кейтэрем этого и не замечал.
Редвуду не терпелось прервать этот поразительный монолог, бежать отсюда в мир разума и здравого смысла, в осажденный лагерь: там оплот грядущего, зерно будущего величия, там собрались его Сыновья. Ради них он и терпел нелепую болтовню. Но нет, довольно, пусть кончится этот невероятный монолог, иначе, кажется, его унесет потоком слов… Видно, голос Кейтэрема, как наркотик, — ему надо сопротивляться, не то усыпит, околдует. Наслушаешься его — и самые простые, очевидные истины становятся неузнаваемы.
Что же он говорит?
Пожалуй, это все-таки существенно, ведь надо будет пересказать его слова Детям Пищи. И Редвуд стал слушать, стараясь, однако, не терять чувства реальности.
Говорит, как тяжко ему, что на его совести пролитая кровь. Соловьем разливается. Не обращать внимания. Дальше?
Предлагает прийти к соглашению.
Предлагает, чтобы оставшиеся в живых Дети Пищи сложили оружие, отделились и образовали особую общину. Ссылается на прецеденты.
— Мы выделим им территорию.
— Где? — прервал Редвуд, снисходя до обсуждения.
Кейтэрем ухватился за эту возможность. Он повернулся к Редвуду и, понизив голос, заговорил вкрадчиво и очень убедительно. Уточнить можно будет позже. Это вопрос второстепенный. И продолжал перечислять условия:
— Но мы сохраняем полный контроль — гиганты поселятся в одном месте, а во всем остальном мире Пища и все ее плоды будут уничтожены.
Редвуд поймал себя на том, что начинает торговаться.
— А что будет с принцессой?
— На нее это не распространяется.
— Ну нет, — ответил Редвуд, стараясь снова обрести твердую почву под ногами. — Это нелепо.
— Решим потом. Итак, поскольку мы с вами согласились, что изготовление Пищи будет прекращено…
— Я ни с чем не соглашался. Я не сказал ничего такого…
— Но мыслимо ли, чтобы на одной планете уживались два человеческих рода — гиганты и мы! Вдумайтесь в то, что уже произошло! Вдумайтесь, ведь это был лишь намек, репетиция: если дать Пище волю, нам не миновать событий несравнимо более трагических. Подумайте, сколько бедствий вы уже принесли миру! А если племя гигантов станет расти и множиться…
— Я не собираюсь с вами спорить, — прервал Редвуд. — Мне надо идти к Детям. Я хочу видеть сына. Вот почему я здесь. Скажите мне точно, что вы предлагаете.
Кейтэрем произнес длинную речь о своих условиях.
Детям Пищи отведут большую территорию в Северной Америке или, может быть, в Африке; там, в резервации, они смогут прожить свою жизнь по-своему.
— Но это же чушь. Гиганты уже есть и за границей. Они разбросаны по всей Европе.
— Можно подписать международную конвенцию. Это не исключено. О чем-то в таком духе уже шел разговор… А в резервации они могут жить, как им нравится. Пускай делают все что угодно и строят все что угодно. Мы будем только рады, если они станут работать для нас. И пусть живут в свое удовольствие. Обдумайте это!
— И все это при условии, что новых Детей Пищи не будет?
— Совершенно верно. Дети остаются нам и вырастут не больше, чем положено. Таким образом, сэр, мы спасем мир, спасем навеки от плодов вашего страшного открытия. Еще не все потеряно. Но из милосердия мы не хотим начинать с крайних мер. Сейчас мы выжигаем и обезвреживаем все места, где вчера упали бомбы. Мы можем с ними справиться. Поверьте, что можем. Но хотелось бы обойтись без насилия, без несправедливостей…
— А если Дети не согласятся?
Кейтэрем впервые взглянул Редвуду прямо в глаза.
— Должны согласиться!
— Не думаю!
— Но почему же? — спросил Кейтэрем, разыгрывая глубокое изумление.
— Ну, а если они все-таки не согласятся?
— Тогда — только война! Мы не можем допустить, чтобы это продолжалось. Не можем, сэр! Неужели вы, ученые, совсем лишены воображения? Неужели вы чужды милосердия? Мы не можем допустить, чтобы наш мир погиб под пятой племени чудовищ и чудовищных растений — всего, что плодит ваша Пища, не можем, и еще раз не можем! Чем же прекратить все это, если не войной, сэр? И запомните: то, что произошло, — лишь начало. Легкая перестрелка. Полицейская операция. Поверьте, просто полицейская операция, и ничего более. Не обольщайтесь видимым превосходством оттого, что гиганты и все гигантское крупнее и сильнее нас. За нами вся страна, все человечество. На место тысяч убитых встанут миллионы. Мы не желаем кровопролития, сэр; если бы не это, мы бы уже сейчас предприняли новые атаки. Уничтожим ли мы эту Пищу, нет ли, но ваших сыновей мы уничтожим наверняка! Вы слишком полагаетесь на вчерашний день, на события каких-нибудь двадцати последних лет, на итог одного сражения. Вы не чувствуете, что ход истории последователен и нетороплив. Я предлагаю соглашение только потому, что не хочу лишних жертв, но все равно конец может быть только один. Если вы возомнили, будто жалкая горстка ваших гигантов устоит против наших войск и против войск всех других держав, что поспешат нам на помощь, если вы вознамерились вот так, одним махом, за одно поколение изменить человечество, переделать природу и облик человека…
Он картинно вскинул руку.
— Идите же к ним, сэр! Взгляните, как они, которые совершили столько зла, теперь притаились среди своих раненых…
Он остановился, словно взгляд его нечаянно упал на сына Редвуда.
Наступило молчание.
— Идите к ним, — повторил он.
— Только этого я и хочу.
— Так не медлите…
Он повернулся и нажал кнопку звонка; и тотчас где-то захлопали двери, раздались торопливые шаги.
Все слова были уже сказаны. Спектакль окончился. Кейтэрем сразу весь съежился, увял — очень усталый человек, невысокий, немолодой, лицо землистое. Он шагнул вперед, словно выступил из рамы портрета, и с самым дружелюбным видом протянул Редвуду руку, ибо мы, англичане, всегда притворяемся, будто общественные и политические разногласия ничуть не мешают нам прекрасно относиться друг к другу.
И невольно, как будто так и надо, Редвуд второй раз пожал ему руку.
5. Осажденный лагерь
Вскоре поезд уже уносил Редвуда через Темзу на юг. В свете огней блеснула вода, все еще курился дым на северном берегу, куда попали бомбы и куда потом стянули множество народу выжигать Гераклеофорбию на почве. Южный берег тонул во мраке, даже улицы почему-то не были освещены, выделялись лишь четкие контуры сигнальных вышек да темные глыбы зданий побольше; Редвуд с минуту тщетно всматривался в темноту, потом отвернулся от окна и ушел в свои мысли.
До встречи с Сыновьями больше нечего было делать и не на что смотреть…
Напряжение последних двух дней измучило его; как будто уже и не могло остаться никаких душевных сил, но чашка черного кофе перед отъездом подкрепила его, и теперь мысль работала ясно и отчетливо. Он думал о многом. В свете того, что произошло, он снова проследил шаг за шагом, как была открыта Пища и как она распространялась по всему миру.
— Бенсингтон считал, что это будет превосходное детское питание, — прошептал он, слабо улыбаясь.
И тут же вспомнил — так живо, словно они еще не были разрешены, — какие сомнения терзали его, когда он впервые дал Пищу своему сынишке. С того часа, независимо от людей, которые пытались помешать ей или помочь. Пища твердо и неуклонно пробивала себе дорогу, пока не рассеялась по всему миру. А теперь?
— Даже если их всех перебьют, — шептал Редвуд, — назад пути нет.
Секрет изготовления Пищи давно уже известен везде и всюду. И это дело его рук. Каков бы ни был исход сегодняшней битвы, растения, животные, подрастающие во множестве дети-гиганты потребуют своего и неизбежно принудят мир снова обратиться к Пище.
— Назад пути нет, — повторил Редвуд. Но как он ни старался отвлечься, мысль упрямо возвращалась к судьбе сына и других детей. Каково-то им сейчас? Быть может, они измучены борьбой, изранены, голодают и им не устоять? А может быть, тверды, полны надежд и готовы к еще более грозным завтрашним боям?.. Сын ранен! Но ведь он просил передать отцу…
Редвуду снова вспомнилась утренняя встреча с Кейтэремом.
Наконец поезд остановился на станции Чизлхерст, и раздумья Редвуда оборвались. Он узнал городок по огромной сигнальной вышке на вершине Кэмденского холма и по кустам гигантского болиголова, цветущего вдоль дороги.
К нему подошел личный секретарь Кейтэрема, ехавший в соседнем купе, и сказал, что в полумиле отсюда путь поврежден и дальше придется ехать автомобилем. Редвуд вышел на платформу; здесь гулял холодный ночной ветер, было темно, только дежурный посветил им своим фонарем. И тотчас навалилась гнетущая тишина, ибо это деревянное, заросшее сорными травами предместье совсем обезлюдело: еще накануне, едва началась схватка, жители поспешили укрыться в Лондоне. Провожатый вместе с Редвудом спустился с платформы к автомобилю (кроме его сверкающих фар, вокруг не было ни огонька), препоручил ученого шоферу и распрощался.
— Надеюсь, вы сделаете для нас все, что в ваших силах, — сказал он, совершенно в духе своего шефа, пожимая Редвуду руку.
Редвуда закутали пледом, и началось ночное путешествие. Автомобиль рванулся с места и мягко, бесшумно скользнул с холма. Поворот, другой, замелькали по сторонам роскошные виллы, потом впереди легла прямая, ровная дорога. На предельной скорости автомобиль мчался сквозь ночь. Под звездным небом разлилась тьма, весь мир словно сжался в комок и бесшумно исчез. Мимо по обе стороны дороги проносились какие-то немые, неподвижные предметы; мертвенно-белые покинутые виллы с черными провалами неосвещенных окон были точно вереница черепов. Шофер, сидя рядом, не раскрывал рта — то ли всегда был не речист, то ли опасная поездка отбила охоту разговаривать. На короткие вопросы Редвуда он что-то ворчал односложно и угрюмо. Лучи прожекторов, точно взмахи неслышных рук, обшаривали южный небосклон; в этом безлюдье и запустении они одни жили какой-то своей, непонятной жизнью.
Вскоре на дороге стало еще темней: по обе стороны ее поднялись гигантские кусты терновника, высоченные травы и мхи, настоящий лес крапивы; мелькали толстые стволы, причудливые кроны смутными силуэтами скользили в вышине. За Кестоном дорога пошла в гору, и автомобиль замедлил ход. На вершине холма он остановился. Мотор лихорадочно застучал и смолк. «Вон там», — сказал шофер и ткнул вперед черным бесформенным пальцем в кожаной перчатке.
Далеко-далеко (так показалось Редвуду) вздымалась в небо огромная насыпь, гребень ее венчала полоса яркого света, оттуда вырывались лучи прожекторов. Они вновь и вновь бродили над холмом, пробегали по облакам, словно подчиняясь каким-то таинственным заклинаниям.
— Уж и не знаю, — вымолвил наконец шофер, он явно боялся ехать дальше.
Внезапно луч прожектора с высоты упал на них, словно бы вздрогнул и замер, всматриваясь, — слепящий глаз, блеск которого раздробили, но не умерили два или три ствола крапивы, оказавшиеся на его пути. Редвуд, заслонив глаза рукой в перчатке, точно щитком, старался выдержать этот взгляд, шофер последовал его примеру.
— Поедемте дальше, — сказал немного погодя Редвуд.
Шофер все еще колебался; он хотел высказать свои сомнения, но только повторил: «Уж и не знаю».
Наконец он решился.
— Ну, будь что будет, — буркнул он, завел мотор, и автомобиль снова тронулся; огромный сверкающий глаз неотступно следил за ним.
Редвуду казалось, что они едут уже не по земле, а в трепетном беге прорываются сквозь светящееся облако. Автомобиль, пыхтя и урча, рвался вперед, и шофер, право не знаю почему, должно быть от волнения, то и дело нажимал грушу рожка.
Потом они свернули в благодатную тьму какого-то проулка меж двух высоких заборов, спустились вниз, в лощину, миновали какие-то дома и опять въехали в полосу слепящего света. Дорога некоторое время бежала по открытому месту, и им снова казалось, что мотор пульсирует в пустоте без конца и края. Опять справа и слева появились высокие травы и вихрем унеслись прочь. И вдруг совсем рядом возник великан: ноги его сверкали в луче прожектора, голова и плечи смутно угадывались на фоне темного неба.
— Эй! — крикнул он. — Стойте! Дальше дороги нет… Это вы, папа Редвуд?
Редвуд встал и что-то крикнул в ответ, и тут откуда-то появился Коссар, крепко пожал ему обе руки и помог выйти из автомобиля.
— Как мой сын? — спросил Редвуд.
— Все в порядке, — ответил Коссар. — У него-то рана легкая.
— А ваши мальчики?
— Хорошо. Все целы. Но драка была жестокая.
Великан что-то говорил шоферу. Редвуд отошел в сторону, автомобиль развернулся, и внезапно Коссар и все кругом скрылось, и он очутился в непроглядном мраке: луч прожектора провожал автомобиль до вершины Кестонского холма. Редвуд видел, как крохотная машина уносилась вдаль, окруженная белым ореолом. И странно, ему казалось, что движется не она сама, а только ореол. На мгновенье луч выхватил из тьмы купу искалеченных во время перестрелки гигантских кустов бузины; они тянули иссеченные ветви, словно подавали какие-то знаки… Миг, и снова их поглотила ночь… Редвуд повернулся к Коссару, которого едва мог разглядеть в темноте, и стиснул его руку.
— Меня держали взаперти, — сказал он, — целых два дня я ничего не знал…
— Мы стреляли в них Пищей, — сказал Коссар. — Само собой разумеется! Тридцать выстрелов дали. Вот как!
— Меня прислал Кейтэрем.
— Знаю. — Коссар не без горечи засмеялся. — Верно, хочет идти на мировую.
— Где мой сын? — спросил Редвуд.
— О нем не беспокойтесь. Гиганты хотят знать, с чем вы пришли.
— Да, но мой сын…
Они с Коссаром спустились по длинному наклонному туннелю — на секунду здесь вспыхнул красноватый свет и сразу же погас — и вскоре очутились в убежище, построенном детьми Коссара.
Редвуду сначала показалось, что они вышли на огромную арену, окруженную очень высокими крутыми скалами и загроможденную какими-то непонятными предметами. Было темно, только мелькали отблески сторожевых прожекторов, круживших где-то в вышине, да в дальнем углу то вспыхивал, то потухал красноватый свет: там работали два великана и слышался лязг металла. При новой вспышке Редвуд заметил на фоне неба знакомые силуэты мастерских и площадок для игр, которые устроил когда-то Коссар для сыновей. Теперь они словно нависли над выступом скалы, странно перекосившиеся и изувеченные артиллерией Кейтэрема. Там, наверху, смутно виднелись огромные пушки, чуть ближе громоздились штабеля мощных цилиндров, — наверно, снаряды. А внизу, на этой исполинской арене, теснились в беспорядке громадные машины, постройки и еще что-то бесформенное и непонятное. Среди всего этого в неверном свете то появлялись, то исчезали гиганты — огромные, могучие, под стать всему окружающему. Одни работали, другие сидели и лежали, видно, пытаясь уснуть, а совсем рядом, на грубой подстилке из сосновых веток, спал раненый, весь в повязках. Редвуд напряженно всматривался, изучая одну за другой неясные движущиеся фигуры.
— Где мой мальчик, Коссар?
И тут он увидел сына.
Сын сидел в тени, у огромной стены из стали. Лица его не было видно, и отец узнал его только по привычной позе. Он сидел, опершись подбородком на руку, усталый или погруженный в свои мысли. Возле него Редвуд увидел темный силуэт, в котором угадал принцессу, а потом снова вспыхнуло пламя в дальнем углу, где шла работа, и на мгновенье в алом отблеске показалось нежное лицо с выражением бесконечной доброты. Она стояла, опершись рукой о стальную стену, и смотрела на своего возлюбленного. Кажется, она что-то ему шептала.
Редвуд шагнул было к ним.
— Это после, — сказал Коссар. — Сперва расскажите, с чем вы пришли.
— Да, но… — начал Редвуд. И умолк.
Сын поднял голову и что-то говорил принцессе, но так тихо, что слов отец не разобрал. Лицо его было обращено к ней, а она наклонилась, но, прежде чем ответить, на миг отвела глаза.
— Но если мы разбиты… — донесся шепот молодого Редвуда.
Девушка промолчала, и при новой алой вспышке блеснули ее глаза, полные непролитых слез. Она наклонилась ниже и заговорила еще тише. И, глядя на них, слушая их шепот, Редвуд-старший понял: они слишком поглощены друг другом… И он, который два долгих дня думал только о сыне, внезапно почувствовал себя лишним. Его словно вдруг остановили на бегу. И, может быть, впервые в жизни он понял: сын значит для отца несравнимо больше, чем отец — для сына, будущее неизмеримо важнее прошлого. Возле этих двоих ему делать нечего. Он уже сыграл свою роль. Внезапно поняв все это, он повернулся к Коссару. Глаза их встретились. И когда Редвуд заговорил, голос его звучал по-новому — хмуро и решительно.
— Сейчас я передам, что мне поручено, — сказал он. — А уже потом… С этим можно не спешить.
Котлован был настолько огромен и загроможден, что пришлось долго кружить и петлять, пока они добрались до места, откуда Редвуда могли слышать все сразу.
Крутой спуск под аркой из каких-то сцепленных друг с другом машин привел их с Коссаром в глубокую и широкую траншею, которая пересекала дно котлована. Обширная и пустая, она была сравнительно узка для великанов, но, как и все остальные предметы и постройки, заставила Редвуда еще острее ощутить, до чего он мал. Он шел словно по ущелью, но созданному не природой, а разумной силой. Высоко над головой, отделенные от него темными отвесными склонами насыпи, кружили и сияли лучи прожекторов и двигались, сверкая в лучах, гиганты. Перекликались гулкие голоса, Братья звали друг друга на военный совет — выслушать условия Кейтэрема. Траншея вела куда-то еще ниже, в черную пустоту, где скрывались тайны, густые тени, невообразимые и неразличимые предметы; и Редвуд шел медленно, недоверчиво, а Коссар шагал спокойно и уверенно…
Мысль Редвуда лихорадочно работала.
Потом они вступили в такую темень, что Коссар взял спутника за руку. Теперь они поневоле двигались еле-еле.
Редвуд не мог больше молчать.
— Все это так странно, — сказал он.
— Огромно, — поправил Коссар.
— Нет, странно. И странно, что это кажется странным мне… ведь в некотором смысле я сам положил этому начало. Это…
Он остановился, пытаясь найти ускользавшее слово, и жестом, невидимым в темноте, указал на насыпь.
— Раньше я об этом не думал. Я делал свое дело, а годы шли. Но здесь я вижу… Это — новое поколение людей, Коссар, у них другие чувства, другие запросы. Все это…
Теперь Коссар разглядел, что он обводит рукой все вокруг.
— Это Юность мира.
Коссар не ответил: тяжело, вперевалку, он шел вперед.
— Это уже не наша юность, Коссар. Они продолжают то, что мы начали. Но у них свои чувства, свой опыт и своя дорога. Мы создали новый мир, но он не принадлежит нам. Он даже какой-то чужой. Эта огромная крепость…
— Ее строили по моему проекту, — сдержанно заметил Коссар.
— Ну, а теперь?
— Что ж! Я отдал ее Сыновьям.
Редвуд не увидел, скорее ощутил широкий взмах его руки.
— В том-то и суть. С нами покончено или почти покончено.
— А ваша миссия? — напомнил Коссар.
— Конечно. Но потом…
— С нами покончено.
— Вот видите. Значит…
— Ну, конечно, мы вышли из игры, мы, два старика! — В голосе Коссара прорвалось хорошо знакомое Редвуду яростное нетерпение. — Конечно, так. Само собой разумеется. Всякому овощу свое время. А сейчас пришло их время. Так и должно быть. Мы расчистили для них почву. Сделали свое дело и уходим. Понятно? Для этого и существует смерть. Наш маленький мозг и маленькие чувства исчерпываются, и тогда молодые начинают все снова. Снова и снова! Очень просто. Чего ж тут огорчаться?
Он перевел дух и помог Редвуду подняться по каким-то ступеням.
— Да, — начал Редвуд, — но когда чувствуешь…
И не договорил.
— Для того и существует смерть, — настойчиво повторил, поднимаясь следом, Коссар. — Как же иначе? Тогда бы все остановилось! Нет, для того и существует смерть.
После несчетных поворотов и подъемов они, наконец, вышли на выступающую площадку, отсюда был виден почти весь котлован, — отсюда Редвуда могли услышать все гиганты. Они уже собрались вокруг, кто внизу, кто над ним, и додали. Старший сын Коссара стоял наверху, на насыпи, при свете прожекторов зорко оглядывая все окрест: противник мог и нарушить перемирие. Тех, кто работал у огромного механизма в углу, опять и опять озаряли красноватые вспышки. Оба были почти нагие; они тоже смотрели на Редвуда, но все время следили и за раскаленным металлом, который не могли оставить ни на минуту. Даже они, стоявшие к нему ближе других, казались неясными в переменчивых отсветах, а уж остальных Редвуд совсем не мог разглядеть. Они появлялись и вновь тонули в бездонной тьме. Ибо в котловане старались жечь как можно меньше света, чтоб легче заметить врага, если он внезапно нападет, подкравшись во мраке.
Время от времени случайная вспышка выхватывала из темноты то одну, то другую группу великанов — могучие тела тех, кто вырос в Сандерленде, облегала одежда из плотно пригнанных металлических пластинок, на других одежда была кожаная или сотканная из веревок или из тонкой проволоки, смотря по тому, где они жили и чем занимались. Они сидели и стояли среди машин и орудий, таких же мощных, как и они сами; их руки покоились на этих орудиях, и когда свет падал на их лица, видно было, что у всех твердый, решительный взгляд.
Редвуд хотел заговорить — и не мог. И тут горячий отблеск огня на мгновенье озарил лицо его сына… обращенное к нему лицо сына, и в лице этом такая неясность и сила… и тогда отец обрел голос. Стоя над пропастью, он сказал словно бы сыну — и его услышали все:
— Я пришел от Кейтэрема. Он послал меня сообщить вам его условия.
Редвуд-старший чуть помолчал.
— Теперь, когда я вижу вас здесь, всех вместе, я понимаю — это неприемлемые условия; они неприемлемы, но я их принес, потому что хотел видеть всех вас… и моего сына. Я хотел… еще раз увидеть сына…
— Скажите им условия, — напомнил Коссар.
— Вот что предлагает Кейтэрем. Он хочет, чтобы вы ушли отсюда, покинули мир маленьких людей.
— Куда уйти?
— Он сам толком не знает. В каком-нибудь уголке земного шара выделят достаточно места. И вам больше нельзя изготовлять Пищу и нельзя иметь детей. Вы можете прожить свою жизнь по-своему, но больше гигантов не будет.
Он замолчал.
— Это все?
— Да, все.
И стало тихо. Словно сама темнота, окутавшая гигантов, задумчиво глядела на Редвуда.
Кто-то тронул его за локоть, это Коссар предложил ему стул — смешной, точно игрушечный среди всех этих громад. Редвуд сел, скрестил ноги, потом от волнения задрал одну ногу на колено другой и стиснул руками собственный башмак; он чувствовал себя таким маленьким, неловким, нелепо выставленным напоказ.
Потом раздался глубокий голос, и он опять забыл о себе.
— Вы слышали, Братья? — спросил кто-то из темноты.
И другой голос отозвался:
— Слышали.
— Что же мы ответим Кейтэрему?
— Ответим: нет!
— А что дальше?
Несколько секунд длилось молчание.
Потом еще один голос сказал:
— Эти люди правы. По-своему, конечно. Они были правы, истребляя все, что вырастало больше обычного: зверей, и растения, и все остальное. Они были правы, когда пытались перебить нас. И правы теперь, когда требуют, чтобы мы не заключали браков между собой. По-своему они правы. Они понимают — пора и нам понять, — что в мире не могут одновременно существовать великаны и карлики. Кейтэрем давно уже твердит ясно и недвусмысленно: или мы, или они.
— Но нас осталось меньше полусотни, а их — миллионы и миллионы.
— Возможно. Но я сказал то, что есть.
И опять долгая тишина.
— Значит, мы должны умереть?
— Избави бог!
— Значит, они?
— Тоже нет.
— Но ведь это и говорит Кейтэрем! Он хочет, чтобы мы прожили свой век и вымерли один за другим; под конец останется кто-то один, он тоже умрет, а они вырубят все гигантские растения, полезные и вредные, без разбору, уничтожат весь гигантский животный мир, выжгут малейшие следы Пищи… навсегда покончат и с нами и с Пищей. Тогда пигмеям станет легко и привольно. Их пигмейскому мирку нечего будет опасаться. Они преспокойно будут жить карликовой жизнью, творить карликовое добро и карликовое зло, пожалуй, даже устроят на земле свой пигмейский рай: прекратят войны, покончат с чрезмерной рождаемостью, весь мир превратят в один большой город и станут заниматься карликовым искусством и восхвалять друг друга, пока солнце не начнет остывать и шар земной не покроется льдами…
В углу с громом упал лист железа.
— Братья, мы знаем, что делать.
В отсветах прожекторов Редвуд видел, как молодые серьезные лица повернулись к его сыну.
— Сейчас очень легко производить Пищу. Мы можем наготовить столько, что хватит на весь мир.
— Ты думаешь, Брат Редвуд, — спросил из темноты чей-то голос, — что их надо заставить есть Пищу?
— А что еще нам остается?
— Не забудь, нас всего полсотни, а их миллионы.
— Но мы держимся.
— Пока.
— Бог даст, продержимся и дальше.
— Да. Но не забудь, многие погибнут!
Тут вмешался еще голос:
— Да, погибнут. Но не забывайте о тех, кто еще не родился…
— Братья, — снова заговорил Редвуд-младший, — что нам еще остается? Только воевать! И если победим, заставим их примириться с Пищей. Им все равно от нее не избавиться. Допустим, мы откажемся от всего, что нам дано, и согласимся на эти безумные условия. Допустим! Допустим, мы задушим в груди то великое, что нами движет, откажемся от всего, что дали нам отцы, — что сделал для нас ты, отец, — и, когда настанет час, умрем, исчезнем, так ничего и не совершив. Ну, а дальше что? Разве мир пигмеев останется таким, как прежде? Они могут бороться с величием в нас — мы гиганты, но рождены людьми. Но разве они могут победить? Даже если они уничтожат нас всех до единого, что дальше? Спасет ли это их? Никогда! Ибо величие не только в нас, не только в Пище, но и в сущности всех вещей! Оно заключено в природе сущего, оно — часть пространства и времени. Расти, всегда расти, с первого и до последнего часа — таково Бытие, таков закон жизни. Иного закона нет!
— А помогать другим?
— Помогать расти, идти вперед. Это значит, мы и сами растем. Если мы не помогаем им остаться ничтожествами…
— Они будут драться не на жизнь, а на смерть, — сказал кто-то.
— Ну и что же? — возразил другой.
— Да, они будут драться, — сказал Редвуд-младший. — Если мы откажемся принять их условия, они наверняка будут воевать. Я даже надеюсь, что они начнут воевать открыто. Когда после всего, что было, они предлагают мир, это значит только одно: они хотят захватить нас врасплох. Не надо обманывать себя — так или иначе, но они будут драться. Война началась, и мы должны биться до конца. Так будем же осмотрительны, не то окажется, что мы только затем и жили, чтобы выковать оружие, которое обратилось против нас и наших детей, против всех гигантов. Борьба только еще начинается. Вся наша жизнь станет борьбой. Одни будут убиты, другие попадут в плен. Легкой победы быть не может, в любом случае победа нам дорого обойдется. Это бесспорно. Ну и что же? Главное — сохранить какой-то плацдарм, оставить после себя воинство, которое станет множиться и продолжать борьбу, когда мы погибнем!
— Что же будет завтра?
— Начнем рассеивать Пищу, засыплем ею весь мир.
— А если они согласятся принять наши условия?
— Наше условие — Пища. Гигантам и пигмеям не ужиться в мире и согласии. Или мы, или они. Ни один отец не вправе сказать: пусть мой сын знает только тот свет, что светил мне, пусть ни в чем не смеет перерасти меня. Согласны вы со мной, Братья?
В ответ послышался гул одобрения.
— Этого никто не вправе сказать не только будущим мужчинам, но и будущим женщинам, — донеслось из темноты. — Женщинам тем более не вправе: они будущие матери нового человечества…
— Но ведь в следующем поколении еще останутся большие и маленькие, — сказал Редвуд-отец, глядя в лицо сыну.
— Во многих поколениях. И маленькие будут мешать большим, а большие — теснить маленьких. Это неизбежно, отец.
— Значит, будет продолжаться борьба.
— Бесконечная борьба. Бесконечные раздоры. Такова жизнь. Великое и малое не могут найти общий язык. Но в каждом вновь родившемся человеке дремлет зерно величия, дремлет — и дожидается Пищи.
— Значит, я должен возвратиться к Кейтэрему и сказать ему…
— Ты останешься с нами, отец. На рассвете Кейтэрем узнает наш ответ.
— Он грозился пойти на вас войной…
— Да будет так, — сказал Редвуд-младший, и снова Братья ответили негромким согласием.
— Железо остывает! — крикнул кто-то.
Два кузнеца в углу мерно застучали молотами, и этот железный гром могучей мелодией поднялся над лагерем гигантов. Раскаленный металл светился еще ярче прежнего, и Редвуд-старший мог теперь лучше рассмотреть все вокруг. Овальный котлован был виден как на ладони, огромные орудия и машины насторожились, готовые к бою. Поодаль и выше стоял дом Коссаров. Вокруг Редвуда молодые исполины, огромные и прекрасные в своих сверкающих кольчугах, готовились к завтрашней битве. Глядя на них, Редвуд воспрянул духом. Какая спокойная сила! При огромном росте — какая стройность и изящество! Какие уверенные движения! И здесь же его сын и принцесса, первая женщина среди гигантов…
И вдруг — поразительнейший контраст! — ему вспомнился Бенсингтон: вот он перед глазами, крохотная отчетливая фигурка — стоит посреди своей благопристойной и скучной комнаты, погрузив пальцы в пух на груди первого гигантского цыпленка, и растерянно смотрит поверх очков на дверь, которую только что с грохотом захлопнула за собою кузина Джейн…
Это было только вчера, всего лишь двадцать один год прошел.
Внезапно странное сомнение овладело Редвудом: что, если эта крепость и все это величие — только сон! Вот сейчас он проснется у себя в кабинете — узник в той же тюрьме, гиганты убиты, Пища уничтожена. Да ведь и вся жизнь — тюрьма, и человек — вечный узник! Сон достиг зенита, и сейчас настанет конец. Он проснется от шума сражения, среди потоков крови, и увидит, что его Пища — глупейшая фантазия, а все его надежды, вся вера в великое завтра мира — лишь тоненькая радужная пленка на бездонном гнилом омуте. Пигмеи непобедимы!..
Отчаянье, предчувствие неминуемой катастрофы нахлынуло на него с такой силой, что он вскочил. Он стоял, прижав к глазам стиснутые кулаки, оцепенев от страха: вот сейчас откроет глаза, а сновидение уже рассеялось…
Перекликались гиганты, голоса их вторили могучей песне металла. И волна сомнений пошла на убыль. Вокруг по-прежнему слышны могучие голоса, шаги. Это не сон, это все живое, несомненное, такое же подлинное, как злобные действия врагов! И даже более подлинно, ибо великому принадлежит будущее, а ничтожество, звериная жестокость и человеческие слабости обречены на гибель. Редвуд открыл глаза.
— Кончили! — крикнул один из кузнецов, и они опустили молоты.
В вышине раздался голос. Это говорил сын Коссара — стоя на гребне крепостного вала, он обращался ко всем великанам:
— Лишь на одну ступень поднялись мы над ничтожеством пигмеев, и не для того мы хотим изгнать их из этого мира, чтобы завладеть им навечно. Мы боремся не за себя, а за эту новую ступень… Для чего мы живем, Братья? Чтобы служить высокой цели и осуществить великий замысел, нам предначертанный. Мы боремся не ради себя, ибо мы — лишь глаза и рабочие руки Жизни: она вечна, мы же служим ей лишь краткий срок. Так учил нас ты, папа Редвуд. Воплощенный в нас, как прежде в пигмеях, идет вперед, видит и познает новое Дух Человеческий. А мы в словах, делах и в детях своих передадим его людям еще более совершенным. Земля — не место отдыха и не площадка для игр, иначе у нас было бы не больше права на жизнь, чем у пигмеев, а тогда отчего же и не сдаться? Они бы спокойно перерезали нас, а потом и сами без боя уступили бы место муравьям и всякой нечисти. Нет, мы бьемся не ради себя, но ради роста, ради движения вперед, а оно — вечно. И завтра, живые или мертвые, мы все равно победим, ибо через нас совершается движение вперед и выше. Таков закон развития духа на веки веков. Вперед и выше, ибо так мы созданы богом! Выбраться из этих ям и щелей, из тьмы и сумрака, вступить в мир величия и света! Вперед, Братья, вперед! — говорил он, и голос его звучал гордо и торжественно. — Всегда вперед, к истинному величию! Расти, подняться наконец до всеобщего братства и постичь бога… Расти… Пока самая земля наша не станет всего лишь ступенькой… Пока человеческий дух не станет бесстрашен до конца и не овладеет всей Вселенной!.. — Взмахом руки он обвел небосвод.
И умолк. Ослепительный луч прожектора на миг озарил исполина, его руку, воздетую к небесам.
Мгновенье он весь сверкал в этом луче, бесстрашно глядя вверх, в звездные бездны, — молодой, сильный, закованный в сталь, воплощение решимости и спокойствия. Потом луч скользнул дальше, и остался лишь могучий темный силуэт, вычерченный в звездном небе, могучий темный силуэт грозил небесной тверди и неисчислимым звездным мирам.
1
Один из основателей протестантства в Англии, заживо сожженный в Оксфорде в 1555 году.
(обратно)2
27 кг.
(обратно)3
жук-плавунец (лат.)
(обратно)4
Гюстав ле Бон (1841—1931) — французский социолог.
(обратно)5
вечно и неизменно; буквально — прочнее меди (лат.)
(обратно)6
дождевик круглый или гигантский (лат.)
(обратно)7
Книга Чисел, гл.13, ст. 28—29.
(обратно)8
…ныне и присно и во веки веков (лат.)
(обратно)9
Опять все сначала, еще раз (ит.) — старинный музыкальный термин, ставится в нотах и означает, что надо вернуться к началу музыкального произведения.
(обратно)10
единодушно выскажется против (лат.)
(обратно)



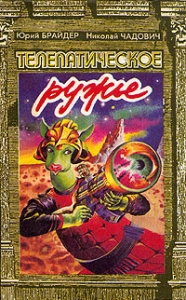


Комментарии к книге «Пища богов», Герберт Уэллс
Всего 0 комментариев