Роберт Янг Срубить дерево Сборник
Robert F. Young
Collection of Short Stories
© Robert F. Young, 1956, 1965, 1982, 1987
© Перевод. А. Иорданский, наследники, 2019
© Перевод. Я. Лошакова, 2019
© Перевод. Н. Виленская, 2019
© Перевод. А. Комаринец, 2019
© Перевод. Г. Веснина, 2019
© Перевод. Р. Облонская, наследники, 2019
© Издание на русском языке AST Publishers, 2019
* * *
Срубить дерево Перевод Н. Виленской
День первый
Стронг развернул лифт так, чтобы подниматься спиной к стволу – чем меньше он будет видеть дерево на первой стадии подъема, тем лучше, – но именуемая лифтом открытая пирамидка на тонком тросе вернулась в прежнее положение, не дойдя и до сотни футов. Дерево желало сопровождать Стронга с самого начала, невзирая на то, чего хотелось ему самому.
Ствол, отстоящий футов на пятнадцать от лифта, напоминал скорее утес – выпуклый живой утес; кора вздымалась буграми восемь-десять футов длиной, глубина трещин составляла не меньше трех-четырех, а вверху виднелось величественное облако кроны.
Стронг не хотел смотреть вверх, но глаза обращались туда сами собой. Он чуть ли не насильно опустил их и стал смотреть на быстро уменьшающуюся деревенскую площадь с фигурами трех его компаньонов. Зухр и Синее Небо, стоя на одном из древних курганов, выкуривали по первой утренней сигарете. Лиц их с такой высоты Стронг не видел, но предполагал, что Зухр, как всегда, набычился, а Синее Небо, как водится, думает о бизонах. Райт, управлявший лебедкой, стоял наособицу и тоже, скорее всего, выглядел как обычно, разве что слегка волновался: Стронг ясно видел перед собой его мягкое и в то же время решительное лицо, сразу почему-то выдающее бесспорного лидера.
Окружавшие площадь дома сверху казались еще красивее, чем там, внизу. Золотисто-красное солнце Омикрона Кита весело играло на хамелеоновых крышах и пряничных фасадах. Все строения в радиусе трехсот ярдов от дерева очистили и огородили канатами, но Стронгу представлялось, что эльфы, занявшие их ночью, заботятся о жилищах, пока хозяев нет дома.
Мысль эта развлекла его ненадолго: ее прогнала длинная очередь мощных лесовозов, выстроившихся на площади.
Стволу на такой высоте полагалось бы стать тоньше, но он не стал – Стронг, во всяком случае, не замечал никаких изменений. Дерево по-прежнему напоминало утес, и он чувствовал себя скорей альпинистом, чем древосеком. Высоко над ним маячила первая ветка – горизонтальная секвойя, произрастающая из древесного Эвереста.
– Дриад не видать пока? – спросил Райт в левом ухе, где помещалась миниатюрная рация.
– Пока нет.
– Скажи, как увидишь.
– Черта с два! Раз я вытянул длинную травинку, то все, что я найду наверху – мое.
– Я просто помочь хотел, – засмеялся Райт.
– Больно мне нужна твоя помощь. На какой я высоте?
Райт, величиной с сигарету, сверился с приборным окном лебедки.
– Сто шестьдесят семь. Еще сто двадцать, и доедешь до первой ветки. Как самочувствие?
– Нормальное.
– Вот и ладно. Дай знать, если хоть что-то пойдет не так.
– Обязательно. – Стронг отключил рацию языком. Вокруг потемнело, вернее позеленело: бледный хлорофилловый свет, сочащийся сквозь толщу листвы, густел по мере подъема.
Испытав первый приступ древостраха, Стронг использовал усвоенный в спецшколе прием: нужно сосредоточиться на чем-то другом, все равно на чем. Он мысленно инвентаризировал все прикрепленное к перекладине лифта: колышки и молоток для забивки, паек, спальник, палатка, обогреватель, ролик для троса, резак, аптечка, пояс верхолаза, страховочная веревка, рабочая веревка (только один конец, другой разматывался из бухты у подножья ствола), набор подшипников, зажим, фляжка…
Вот наконец и крона. Стронг думал, что листья будут огромными, но они оказались маленькими; их изящный рисунок напоминал листву сахарного клена, который когда-то в изобилии рос на Земле. Алые птицы ха-ха на первой ветви встретили Стронга жутким хохотом, покружили над ним, цинично оглядели его глазками-полумесяцами и перелетели повыше.
Ветка походила на горную гряду, нависшую над деревней. От нее ответвлялись другие, каждая с хорошее дерево – если такая рухнет, то вдребезги разнесет любимый дом кого-то из колонистов.
Стронг в который раз задался вопросом, почему коренные жители самого крупного континента Омикрона Кита-18 селились вокруг этих монстров. Даже на своем примитивном уровне, который им приписывает доклад Службы Прогресса (хотя строить они умели красиво), туземцы должны были понимать, как опасно такое соседство во время грозы и какую сырость, предвестник разложения, разводит такая густая тень. Должны были, но явно не понимали: из всех туземных деревень только эта не превратилась в руины, и только это дерево не подцепило загадочную болезнь, от которой засохли на корню остальные.
Прогрессисты полагают, что деревья служили туземцам религиозными символами. Эта теория подтверждалась массовыми переселениями аборигенов в «пещеры смерти» на северных пустошах, когда деревья начали умирать, но Стронгу все же трудно было в это поверить. Тузмцы, судя по их домам, были не только творческой, но и практичной расой, а практичные люди не станут обрекать себя на автогеноцид оттого лишь, что их священные символы оказались такими же смертными, как они сами. Да и прогрессисты, как успел заметить Стронг, валивший деревья на многих новооткрытых планетах, бывают правы далеко не всегда.
Листва теперь окружала его целиком – снизу, сверху, справа и слева. Он перемещался в особом, дымчатом, золотисто-зеленом, цветущем мире (текущий месяц на Омикроне Кита-18 соответствовал июню в северном земном полушарии, и дерево расцвело). Этот мир, кроме Стронга, населяли только птицы ха-ха и насекомые, которыми те питались. Сквозь листья ему порой открывался лишь кусочек окружающей местности: Райт, Зухр и Синее Небо скрылись из виду.
Футах в пятнадцати ниже ветки, где был закреплен трос, Стронг попросил Райта остановить лифт, снял с поперечины тросомет и начал раскачиваться. Выбрав новую цель восьмьюдесятью футами выше, он прижал к плечу приклад и в крайней точке своей амплитуды выстрелил. Снабженный грузилом конец паутинного троса перелетел через ветку и повис в паре дюймов от его растопыренных пальцев. На следующем размахе Стронг поймал его и прижал к верхушке лифта. Когда микроволокна внедрились глубоко в сталь, он обрезал новый трос карманными кусачками и вернул тросомет на перекладину. Потом, продолжая раскачиваться, свил новый трос со старым, дал им срастись и отрезал лишнее.
Из-за слабины нового троса лифт снизился на несколько футов. Дождавшись, когда затихнет качание, Стронг дал Райту команду опять запустить механизм. Лифт пополз вверх по миниатюрным подшипникам в обшивке троса, а Стронг прислонился к поперечине и закурил.
В этот момент он и увидел дриаду – а может, ему почудилось. Все эти разговоры о дриадах просто треп, фантазии мужиков, которые разве что между командировками успевают пообщаться с реальными женщинами. Все они понимают, что ни на каком дереве ни на одной из планет не ждет прекрасная нимфа, чтобы прыгнуть тебе в объятия, но на окраинах разума, куда здравый смысл не заходит, таится мыслишка: а вдруг?
Они трепались об этом всю дорогу от Земли до Кита и от космопорта к деревне. Послушать их всех, на последнем гигантском дереве Омикрона-18 должна жить хотя бы одна дриада, и было бы здорово ее изловить.
Вот же она, лови, сказал себе Стронг, но это был всего лишь миг, всего лишь намек на прелестные лицо и фигуру в листве. Как только поблекло изображение на сетчатке, пропало и убеждение, что он это видел. Поднимаясь к развилке, где мелькнуло видение, Стронг заранее знал, что ничего там не будет – и точно, не было.
Заметив, что у него дрожат руки, Стронг прекратил это усилием воли: смешно же так заводиться от простой игры солнца в зелени.
Но на четыреста семидесяти пяти футах она снова ему померещилась. Сверив высоту с Райтом, он случайно взглянул на ветку, с которой только что поравнялся, и увидел футах в двадцати от себя длинную ногу, тонкое лицо, золотые волосы.
– Стоп, – тихо сказал он Райту, расстегнул страховочный пояс и вылез из остановленного лифта на ветку. Он медленно подбирался к дриаде, которая даже и не думала убегать – стояла себе, прислонясь к стволу, в короткой, сплетенной из листьев тунике и лиственных же сандалиях до середины икры. Стронг начинал уже верить, что ему не чудится и она настоящая, и тут она пропала опять.
Другого слова не подобрать: не ушла, не убежала, не улетела. Даже и не исчезла, строго говоря – просто только что была здесь, а после ее не стало.
Стронг, сделав всего десяток шагов по ветке, непонятно с чего вспотел. Взмокло всё: лоб, шея, спина, грудь; форменная рубашка прилипла к телу.
Стронг вытер лицо носовым платком и сделал осторожный шажок назад. Дриада больше не появлялась, только солнце просвечивало сквозь листья там, где она стояла.
– Ты чего там? – спросил Райт.
– Порядок, – ответил, помолчав, Стронг. – На разведку ходил.
– И как оно?
Стронг не сразу сообразил, что Райт спрашивает про дерево. Он снова промокнул лоб, свернул платок, сунул его в карман и ответил:
– Большое. Просто здоровое.
– Ничего, справимся. Нам и раньше здоровые попадались.
– Не такие.
– Мы все равно его свалим.
– Я свалю, – уточнил Стронг.
– Ясное дело, – засмеялся Райт, – но мы всегда рядом, если понадобимся. Поехали дальше?
– Дай мне минуту. – Стронг вернулся в лифт и скомандовал: – Трогай.
На пятистах и пятистах девяноста футах он снова переместил трос. На шестистах листва поредела; ему удалось стрельнуть вверх на целых полтораста футов, и он проехал этот отрезок как настоящий турист.
Поднявшись до семисот, он установил на крепкой широкой ветви палатку. Отсюда ему местами виднелась деревня. Обработанные химудобрениями поля, протянувшиеся до самого горизонта, щетинились золотистыми ростками посеянной недавно пшеницы. Это местный сорт, равного ему во всей галактике нет. В середине лета колонисты снимут еще один из сказочных урожаев, благодаря которым стали миллионерами первого поколения.
Хозяйки суетились на задних дворах, гиромобили жуками ползли по улицам, детишки величиной с головастиков плескались в искусственных озерах, устроенных в каждом квартале. Картине недоставало только маляров или кровельщиков: крыши в этих домах не протекали, и краска с них не слезала – во всяком случае, до сих пор.
Стронг побывал только в одном местном здании – в туземном храме, который колонисты преобразили в гостиницу, – но владелец, он же и мэр, заверил его, что оно отличается от других домов разве что размерами и богатой отделкой. Такой плотницкой работы Стронг еще никогда не видал: невозможно определить, где фундамент переходит в пол, а пол в стены. Окна образуют одно целое со стенами, лестницы стекают вниз застывшими водопадами, искусственный свет исходит прямо из древесины.
Свой вывод о примитивности здешних туземцев прогрессисты, которых Стронг считал дураками, основывали на том, что они сравнительно поздно научились пользоваться металлами. Вон как ухватились колонисты за их единственную сохранившуюся деревню, как рьяно добивались от Галактического департамента разрешения поселиться в ней. Чудеса, которые туземцы творили с деревом, вполне искупают их неудачные опыты с железом и бронзой.
Забросив трос вверх еще трижды, Стронг вышел из лифта, надел верхолазный пояс, закрепил на нем нужные инструменты, защелкнул на правом бедре верхний конец рабочей веревки. Теперь он находился на высоте примерно девятисот семьдесяти футов; здесь крона сужалась конусом, повторяя пропорции давно вымершего американского вяза. Соорудив из страховочной веревки «пешеходную» петлю, Стронг отклонился назад на сорок пять градусов и обошел вокруг ствола, разглядывая верхние ветви. Для заброса рабочей он выбрал развилку футах в семнадцати над собой. Сделал и на ней петлю, свернул кольцом футов тридцать слабины, повернулся к стволу боком и выполнил бросок безупречно. Веревка зацепилась, кольцо, падая вниз, размоталось. Стронг без труда достал до петли, отвязал страховку и по двойной веревке залез наверх. Гравитация Омикрона-18 снизила 180 фунтов его веса до 157 с половиной – он даже и не запыхался. Уведомив Райта, он снял с пояса футляр с роликовым подшипником, укрепил его в развилке, пропустил вервку через почти не создающий трения желобок и снова закрыл коробку. Он не видел, что происходит на земле, но знал, что Райт сейчас переносит лебедку, заново укрепляет ее и ставит на нее катушку с рабочей веревкой. Не нужный пока лифтовый трос закрепят колышком у подножья ствола.
Убедившись, что веревка движется через подшипник свободно, Стронг прицепил к петле зажим и наметил футах в пятнадцати над собой страховочную развилку. Она обещала хороший доступ к участку на девяносто футов ниже верхушки, где ветви начинали превышать установленный Райтом стофутовый максимум. Стронг сделал заброс, стянул конец вниз и смастерил себе люльку. Выданный в школе справочник предлагает множество вариантов: двойной беседочный узел обеспечивает сиденье, тугой строп повышает маневренность. Еще там показывается, как управлять своим весом, чтобы перемещаться вверх-вниз. Если сделаешь все как надо, люлька станет твоим лучшим другом, говорится в инструкции. Для начала Стронг попытался передохнуть минут десять, но бьющее в глаза солнце мешало расслабиться даже с закрытыми веками. Люлька, похожая на серебристую лиану, покачивалась от легкого ветерка. Высота зашкалила уже за тысячу футов… подумать только. Самые высокие деревья, на которые Стронг до сих пор забирался, дотягивали только до пятисот.
Он ухватился за двойную веревку и опять полез вверх, подтягиваясь и помогая себе ногами – уверенно, не спеша. Энтузиазм придавал ему сил, кровь так и пела в жилах. Вот и развилка, а чуть выше еще одна, самая последняя. Выпустив из сапог шпоры, Стронг охватил ладонями темно-серый ствол толщиной всего с фут и гладкий, как женская шея. Вонзил в кору левую шпору, перенес вес на нее, вонзил правую. Даже с закрытыми глазами ты каждый раз чувствуешь, что вершина недалеко. Дерево под тобой раскачивается, ствол становится все тоньше, солнце пригревает сильнее, сердцебиение учащается.
Он уселся верхом в той, последней, развилке. Зеленое облако листвы, которое он видел теперь не снизу, а сверху, почти полностью закрывало деревню, но «великое пшеничное море», как мысленно окрестил его Стронг, предстало во всей своей необъятности.
В нем встречались архипелаги: разрушенные деревни, где торчали серые маяки погибших деревьев или высились горы упавших сучьев, перемежались складами из листовой стали, где хранились сеялки и комбайны, поставляемые колонистам Галактическим департаментом.
Колония располагала группой собственных островков: водоочистная станция, мусоросжигатель и крематорий. Недавно к ним прибавилась лесопилка, где будет перерабатываться вот это самое дерево.
Еще один ценный урожай, ибо древесина на Омикроне Кита-18 стоит дорого – почти не меньше, чем на Земле. Колонистам, правда, придется отвалить недурную сумму компании «Древоповал».
Стронг не питал симпатии к поселенцам, зная не хуже Синего Неба, что они творят с почвой и как будет выглядеть Омикрон Кита-18 через какие-нибудь полвека. Иногда он их ненавидел, но трудно ненавидеть кого-то, когда ветер раздувает твою рубашку и солнце гладит лицо, когда под тобой весь мир, а выше тебя только небо.
Он выкурил сигарету, наслаждаясь всем этим. Загасив ее о сапог, он заметил кровь на большом и указательном пальцах.
Сначала он думал, что порезался, но никаких ранок на пальцах не было. Ногу повредил, что ли? Вон и на шпоре кровь… Только теперь Стронг увидел кровавый след, оставленный им на стволе: он повредил не себя, а дерево.
Листья трепетали, ствол лениво покачивался. Это просто сок такой, сказал себе Стронг. Сок не обязательно бывает прозрачным, пигменты могут окрашивать его в любой цвет – пурпурный, бурый, синий, кроваво-красный… Нет такого закона, чтобы сок был бесцветным.
Но Райту, когда тот вышел на связь, Стронг не сказал ни слова.
– Ну что, готов? – спросил Райт.
– Нет еще, поразведать надо.
– Ты сегодня только этим и занимаешься.
– И что с того?
– Ну, раз ты всех дриад себе присвоил, не буду мешать. Не по возрасту мне на такую высоту лезть. Я что сказать-то хотел: мы пойдем пожуем, тебе тоже советуем.
– Ладно, – ответил Стронг, но есть не стал, хотя паек лежал у него в кармане. Он выкурил еще сигарету, спустился к люльке, вытер платком красный сок с ладоней.
Потом, уже в люльке, соскользнул до конца рабочей веревки и прицепил зажим к поясу. Немного ниже начиналась первая стофутовая ветвь. Пройдя примерно две трети ее длины, он пристроил зажим так, чтобы тот при натяжении веревки вошел поглубже. Успокоенный этими привычными действиями, он доложил шутейно:
– Готовность номер один, мистер Райт.
– Что-то быстро вы отобедали, мистер Стронг, – отозвался тот.
– Неохота волынить, когда имеешь дело с деревом такого размера.
– Ладно, включаю лебедку. Скажи, когда натянется.
– Слушаюсь, мистер Райт.
Провисшая дугой рабочая веревка вскоре образовала прямую линию. Услышав треск, Стронг скомандовал «стоп» и спустился в люльке ниже намеченной ветки. Там он достал лучевой резак, настроил дальность на десять футов и хотел уже нажать спуск, но тут на периферии его зрения снова мелькнул некий посторонний объект. Он посмотрел туда, где трепетали листья на фоне неба, и увидел дриаду.
– Ждем только вас, мистер Стронг.
Он вытер рукавом заливающий глаза пот. Дриада примостилась на сучке, слишком маленьком для нее. Ее наряд полностью сливался с листвой: если бы не медовая кожа и копна золотых волос, Стронг мог бы поклясться, что она ему снова привиделась. Может, это и вправду видение: лицо – раскрывшийся только что цветок, руки и ноги – золотые полоски пшеницы на поле, волосы – солнечное пятно.
Он снова протер глаза, но она не исчезла. Он помахал ей, чувствуя себя как полный дурак. Включил языком рацию и крикнул: «Уйди отсюда!» Она не обращала на него никакого внимания.
– Ну, чего ты там? – нетерпеливо осведомился Райт.
Слушай, сказал себе Стронг: ты взбирался на сотни деревьев и никаких дриад на них не видал. Их просто не существует, ни на этом дереве, ни на всех остальных. Дриада на ветке? Скажи еще, что у тебя во фляжке шампанское.
Он заставил себя навести на ветку луч. В дереве открылась трещина, и Стронг внезапно ощутил боль.
– Вира, – сказал он. Веревка запела и натянулась, ветвь испустила вздох. – Вира, – повторил Стронг, углубив разрез. – Так держать, мистер Райт. – Невидимый луч резал древесную плоть дюйм за дюймом, ветвь отделялась от родимого дерева и наконец совсем отделилась. – Майна, мистер Райт.
– Есть, мистер Стронг!
Отсекая мелкие сучья, чтобы большая ветвь не застряла, Стронг смотрел во все глаза, но дриаду больше не видел.
Руки снова взялись дрожать, и скоро Стронг увидел такое, от чего они затряслись еще пуще: на срезе, который луч временно заморозил, проступила кровь.
Нет. Не кровь. Красный сок.
Господи, да что с ним такое? Отсеченная ветка плавно шла вниз, не оказывая никакого сопротивления.
– Готово, мистер Стронг, возвращаю конец обратно, – доложил Райт и тут же ахнул: – Ты что, поранился, Том?
– Нет. Это сок.
– Ничего себе сок! Зухр говорит, что он розовый, Синее Небо – что багровый, а по-твоему как?
– По-моему, это похоже на кровь. – Стронг переместился на ту сторону ствола, чтобы не видеть обрубок, и стал ждать, когда подадут конец. При этом он пристально изучал следующую по счету ветку, но и на ней дриады не обнаружилось. Приготовившись к очередному разрезу, он вернул себе часть самообладания и почти забыл про кровавый «сок».
Когда вторая ветка поплыла вниз, из новой раны опять просочилась «кровь», и ему опять стало дурно, но уже меньше: он попривык.
Он отделил и послал вниз еще четыре большие ветви. Ему везло: ни одна из них не застряла. Без везения не обойтись, если ветви обрубаются от верхушки дерева, а не снизу, поэтому верхняя обрубка применяется лишь в тех редких случаях, когда есть риск повредить дома, находящиеся в непосредственной близости от дерева. Нижние, самые толстые и длинные ветви нельзя убрать безопасно, если этому препятствуют верхние, поэтому в данном случае «нижний способ» исключен.
После следующих восьми лебедку пришлось перенести на другую сторону, и Стронг обрубил еще восемь – отличные показатели для одного рабочего дня.
– Не хочешь спуститься вниз на ночь? – традиционно спросил Райт.
– Черта с два, – столь же традиционно ответил Стронг.
– Обычай сидеть на дереве до победного конца не должен применяться к таким вот гигантам, – заметил Райт.
– Не должен, но применяется. Что там на ужин?
– Мэр готовит для тебя фирменное блюдо, сейчас на лифте пришлю. Ты тоже туда залезай: поменяем тросы и спустим тебя к палатке.
– Ладно, давай.
– Мы ночуем в гостинице, но наушник я не сниму: вдруг тебе что понадобится.
Мэр пришел только через полчаса, но блюдо, присланное им, того стоило. Стронг воздал еде должное, сидя по-турецки перед палаткой. Солнце уже закатилось, и птицы ха-ха, пронизывая листву красными бликами, шумно прощались с ушедшим днем. Заметно похолодало – обогреватель пришлось включить сразу же после ужина. Производители позаботились не только о физическом, но и о духовном комфорте пользователя, придав устройству вид маленького костра. Поворотом диска пламени можно было придать желтый, оранжевый или вишневый оттенок. Стронг выбрал вишневый; крошечные атомные батарейки излучали тепло и скрашивали его одиночество.
Вскоре взошли все три луны Омикрона-18: их разнообразный переливчатый свет сквозь ветки, цветы и листья успокаивал, навевая сон. Птицы ха-ха на ночь угомонились, и вокруг, за отсутствием поющих насекомых, настала полная тишина. Когда стал виден пар от дыхания, усталый Стронг переместился в палатку, оставив свой «костерок» у входа. За костром тянулась вдаль серебристая ветвь с недвижными серебристыми листьями.
Дриада показывалась ему по частям: мерцающие серебром рука и нога, серебряный промельк лица, темный промежуток на месте туники. Потом фрагменты слились воедино, и она, представ во всей своей бледной прелести, вышла из тени и села по ту сторону от костра. Стронг наконец-то увидел вблизи ее прекрасное лицо с яркой синевой глаз. Некоторое время оба молчали, окутанные тьмой и серебром тихой ночи, потом он спросил: Это ведь тебя я видел сегодня?
В некотором смысле, – сказала она.
Ты и живешь здесь, на дереве.
На свой лад, – сказала она и спросила: Почему земляне убивают деревья?
Стронг подумал и ответил: По разным причинам. Синее Небо делает это, чтобы использовать то единственное, чего не сумели отнять у его расы белые: пренебрежение к большой высоте. При этом наш коренной американец внутренне корчится от ненависти к себе, ибо творит с другими планетами то же самое, что белые сотворили с его землей. У Зухра душа большой обезьяны, и убиение деревьев для него, как магия слов для писателя, живопись для художника, сочинение музыки для композитора.
А ты сам?
Стронг понял, что солгать ей не сможет. Потому что так и не вырос. Потому что мне нравится, когда мной восхищаются, хлопают меня по спине и ставят мне выпивку. Когда хорошенькие девушки на меня оборачиваются. Потому что компании наподобие «Древоповала», учитывая незрелость сотен таких же, как я, снабжают нас красивой зеленой формой, отправляют в специальные школы и вбивают нам в головы, что примитивные методы валки деревьев делают тебя чуть ли не полубогом для наблюдающих снизу, а сам ты чувствуешь себя настоящим мужчиной.
Ловите нам землян, которые портят виноградники, а виноградники наши в цвету, – сказала она.
Ты украла это из моей головы и повторила неправильно. Не землян, а лис и лисенят[1].
Лисам самоутверждаться не нужно. Я сказала всё правильно.
Да, – согласился он. – Ты сказала всё правильно.
Теперь мне пора – надо готовиться к завтрашнему дню. Я буду на каждой ветке, которую ты отсекаешь. Каждый опавший лист будет моей рукой, в каждом погибшем цветке ты увидишь мое лицо.
Я сожалею, – сказал он.
Знаю, но сожалеющая твоя часть живет только ночью и умирает с рассветом.
Я ужасно устал. Хочу спать.
Так спи же, малютка землянин. Спи у своего костерочка, в своей палаточке, в своей уютной постельке. Сладких тебе снов.
День второй
Его разбудили птицы ха-ха. Он вылез из палатки и увидел, как они кружат в зеленых коридорах и лиственных окнах, розовых от зари. Стронг, стоя на ветке, потянулся, наполнил легкие свежим утренним воздухом, включил рацию.
– Что на завтрак, мистер Райт?
– Оладушки, мы их как раз уминаем. Не волнуйся, жена мэра и тебе напечет. Хорошо спал?
– Нормально.
– Рад слышать, у тебя на сегодня полно работы. Займемся большими девочками. Как там дриады?
– Никак. Забудь про дриад и тащи мне оладьи.
– Сделаем, мистер Стронг.
После завтрака Стронг загрузил палатку, спальник и обогреватель обратно в лифт и поднялся на нем туда, где закончил вчера. Надо было спустить вниз обе веревки: страховочную из-за ее ограниченной длины, рабочую потому, что она висела слишком высоко и не обеспечивала нужной подъемной силы. Управившись с этим, он взялся за первую ветку. Прошел по ней девяносто футов, прикрепил зажим, скомандовал Райту «вира». Далеко внизу виднелись дома и дворы. Лесовозы стояли в ряд, готовые везти на лесопилку сегодняшнее сырье.
Веревка натянулась. Стронг вернулся к стволу, нацелил резак, положил палец на спуск.
Я буду на каждой ветке…
Сон, виденный ночью, нахлынул вновь. Он посмотрел в конец большой ветки, где мерцали на солнце мелкие, и на сей раз удивился тому, что дриаду не видит. Подождав немного, он вернул взгляд куда положено и прицелился заново.
«Ведь каждый, кто на свете жил, любимых убивал»[2], – произнес он мысленно, нажимая на спуск.
– Майна, мистер Райт.
Пока отрубленная ветвь плыла вниз, Стронг отсекал от нее боковые сучья. Большей частью они застрянут в листве, потом упадут на землю. С самыми мелкими он возиться не стал и перенес внимание на следующую цель. Один листок задел его щеку; Стронг отпрянул, как от прикосновения женщины, и яростно вытер лицо.
Он не сразу сообразил, что его пальцы покраснели от крови – то есть не от крови, от сока – еще до того, как он это сделал. От этого ему стало чуть легче, но ненадолго – пока он не увидел «кровь» на новом обрубке, который на один безумный момент показался ему культей женской руки.
– Том! – звучало у него в голове. – Том, ты в порядке? – Стронг, опять-таки не сразу, осознал, что голос Райта идет не из мозга, а из наушника.
– Да?
– Я спрашиваю, в порядке ли ты.
– Да… в порядке.
– Чего ж не отвечаешь тогда? Менеджер лесопилки говорит, что вся древесина, которую они получили от нас, наполовину гнилая – вряд ли они смогут ее использовать. Ты поосторожней там: проверяй развилки, когда пропускаешь веревку.
– По-моему, это вполне здоровое дерево.
– Может, и так, но не слишком на него полагайся. Что-то тут не сходится. Я послал образцы сока в лабораторию тут, в деревне. Результаты такие: в исходной стадии, до фотосинтеза, концентрация питательных веществ необычайно высокая, а после фотосинтеза в нем вдвое больше кислорода и гидроокиси углерода, чем надо для поддержания жизни тысячефутового дерева. Кроме того, там не нашли никакого пигмента, который мог бы окрасить сок в такой цвет. Может, нам просто мерещится, что мы видим кровь.
– А может, это дерево заставляет нас поверить, что мы видим кровь, – сказал Стронг.
– Перебрал ты с дриадами, мистер Стронг, – засмеялся Райт. – Следи за собой.
– Угу, – буркнул Стронг, отключаясь.
По крайней мере, эта «кровь» беспокоит не его одного. Следующий разрез ему дался гораздо легче, хотя «крови» выступило хоть отбавляй. Съехав в люльке на следующий участок, он наступил на что-то мягкое – слетевший сверху цветок. Стронг поднял его: тот, даже раздавленный, сохранил поразительное сходство с женским лицом.
Стронг яростно атаковал дерево, пытаясь притупить свои ощущения. Багровый сок покрывал его с головы до ног, но он принуждал себя не обращать на это внимания. Игнорировал листья и цветы, порой касавшиеся его. К полудню он добрался до ветки, где ночевал, оставив за собой триста футов очищенного от веток ствола.
Он прикинул в уме. Высота верхушки около девяноста футов, от земли до первой ветки двести восемьдесят семь, обработал он триста – стало быть, еще примерно триста пятьдесят остается.
Перекусив сухим пайком, он вернулся к работе. Солнце теперь припекало, а веток и листвы, дававших вчера тень, больше не было. Люльку приходилось переносить все ниже и ниже, но рабочая веревка этого не требовала из-за увеличившейся длины нижних веток: Стронг помимо воли дивился их габаритам. Даже зная, что такая веревка не рвется, страшновато смотреть, как тонкий тросик переводит бревно длиной двести-триста футов из горизонтального положения в вертикальное и бережно опускает наземь.
По мере продвижения Стронга вниз дерево «кровоточило» все больше. «Кровь» из верхних обрубков капала вниз, пачкала руки и одежду, превращая работу в сущий кошмар. Сдаться Стронгу не давало только сознание, что в случае отказа за дерево примется Зухр, вынувший травинку ненамного короче; представлять, как резаком орудует это бесчувственное животное, было по-своему еще хуже «крови». Поэтому Стронг держался, и к концу рабочего дня ему осталось меньше двухсот футов.
Он разбил палатку на самой верхней из оставшихся веток, футов на пятьсот от вершины, и попросил прислать снизу воду, мыло и полотенца. Получив это, он разделся, вымылся, простирнул спецодежду в оставшейся воде и повесил сушиться над обогревателем. Ему сразу же стало лучше. Он сидел в одеяле перед палаткой и ел новое фирменное блюдо, которое ему приготовили. К концу ужина, когда вышли звезды, одежда успела высохнуть. Он оделся, открыл термокружку с кофе и закурил, гадая, придет ли она этой ночью.
Стало холодно. Взошла первая луна, за ней еще две. Их свет преобразил дерево: ветки, включая и ту, где сидел Стронг, сложились в лепестки большого цветка. Иллюзию нарушал безобразный обрубленный ствол в сердцевине, но Стронг почему-то глаз от него не мог отвести. Взгляд уходил все выше, охватывая созданную его трудами карикатуру. Вот и вершина, похожая на женские волосы, а в ней белеет при свете лун одинокий цветок.
Стронг протер глаза, но цветок никуда не исчез. Совсем не похожий на остальные, он распустился над той развилкой, где Стронг впервые увидел кровь. Луны светили все ярче. Стронг ухватился за рабочую, приятную на ощупь веревку и неожиданно для себя полез вверх. Все выше и выше, в лунное волшебство.
Бицепсы под рубашкой вздувались, нижние ветви раскинулись серебряной паутиной внизу. Добравшись до места прикрепления люльки, Стронг отцепил ее и перекинул через плечо. Он не чувствовал ни усталости, ни одышки – они настигли его только у начала рабочей веревки. Стронг стал забрасывать ее вверх раз за разом. На девятом броске он поднялся к развилке, где впервые прикрепил люльку. Грудь сжимало, в мышцах пульсировала боль. Последний отрезок ствола он преодолел в шпорах. Дриада сидела чуть выше, и лунный цветок был ее лицом.
Она подвинулась, и он сел рядом с ней. Дерево внизу выглядело как перевернутый зонтик, огни деревни сквозили в листве разноцветными дождевыми каплями. Стронг заметил, что она похудела и побледнела против вчерашнего, увидел в ее глазах грусть.
Ты хотела убить меня, да? – спросил он, отдышавшись немного. – Не думала, что я смогу взобраться так высоко.
Я знала, что сможешь. Я убью тебя завтра.
Как?
Не знаю пока.
За что ты хочешь меня убить? Есть ведь другие деревья – не здесь, так в других краях.
Для меня есть только одно.
Мы с ребятами всегда шутили насчет дриад. Нам как-то не приходило в голову, что если они существуют на самом деле, то мы для них самые ненавистные существа во вселенной.
Ты не понимаешь, – сказала она.
Нет, понимаю. Что бы я сам чувствовал, если бы кто-то взялся разрушать мой собственный дом?
Все совсем не так.
Почему не так? Это дерево – твой дом, разве нет? И ты живешь здесь одна?
Да. Одна.
Я тоже один.
Не сейчас. Сейчас ты не одинок.
Да, верно.
Лунный свет струился сквозь листья, осыпая их серебром. Великое пшеничное море из золотого тоже стало серебряным; сухое дерево вдалеке казалось мачтой затонувшего корабля, его ветви – реями, где паруса листвы вздувались когда-то от летних гроз, от теплого весеннего ветерка, от холодных дуновений предзимья.
Что делает дриада, когда ее дерево умирает?
Умирает вместе с ним, – ответила она, не успел Стронг спросить.
Почему так?
Тебе не понять.
Утром я подумал, что ты мне приснилась, – помолчав, сказал он. – Уверен был, что приснилась.
Так и нужно. Завтра утром ты опять так подумаешь.
Нет!
Да. Подумаешь потому, что должен так думать. Если бы ты думал иначе, не смог бы убить мое дерево. Не вынес бы вида «крови». Счел бы себя безумным.
Ты, возможно, права.
Знаю, что права. Завтра ты спросишь себя, откуда могла взяться дриада, да еще говорящая по-английски. Как она могла цитировать что-то из твоей головы и каким образом заставила тебя взобраться на высоту пятисот футов с риском для жизни, чтобы поболтать с ней на лунной ветке.
И правда, как? – сказал он.
Вот видишь. Еще и не рассвело, а ты уже сомневаешься. Опять начинаешь думать, что я – всего лишь игра света на листьях, романтический образ, порожденный твоим одиночеством.
Есть способ это проверить. Он потянулся к ней, но она отодвинулась. Он двинулся следом, и сучок прогнулся под ним.
Не делай этого, – попросила она, став такой прозрачной, что он видел сквозь нее звездное небо.
Так и знал, что ты не настоящая. Ты просто не можешь быть настоящей.
Она промолчала. Теперь он видел на ее месте только листву, лунный свет и тени, ничего больше. Подвигаясь обратно к стволу, он услышал треск, но сук отломился не сразу: Стронг успел обхватить ствол руками и запустить в него шпоры.
Он, не шевелясь, прилип к дереву. Сук с шорохом пронизал листву далеко внизу и с легким стуком упал на землю.
Лишь тогда Стронг начал спуск, показавшийся ему бесконечным. Залез в палатку, придвинул поближе искусственный костер. Усталость жужжала в мозгу, как сонный пчелиный рой. Всё, хватит с него. К черту традиции: с ветками он закончит, а остальное пусть Зухр доделывает.
Но зачем врать себе самому? Стронг прекрасно знал, что не даст Зухру в руки резак, не подпустит эту гориллу к своему дереву. Это дерево должен убить человек.
Заснул он, думая о последней ветке.
День третий
Она-то его чуть было и не прикончила. В полдень, разделавшись с остальными, он сделал перерыв на обед, хотя есть ему не хотелось. Дерево с обрубленными ветками, грациозное на первых ста восьмидесяти семи футах, гротескное на следующих шестистах сорока пяти и вновь хорошеющее на девяноста последних, вызывало у него отвращение. Только мысль о Зухре, лазящем по обреченным веткам, позволяла ему продолжать. Если то, что ты любишь, должно умереть, убей его сам: только любящий способен проявить милосердие, убивая.
Первая, она же последняя, ветвь нелепо простиралась футов так на пятьсот. Выйдя на нее после обеда, Стронг прикрепил зажим на расстоянии трехсот тридцати футов от ствола. Зажим, самый большой в инвентаре компании, при всей своей легкости был громоздким; поставив его как надо, Стронг остановился передохнуть.
Ветка, достаточно узкая в этом месте, позволяла заглянуть за ее край. У Стронга собралось порядочно публики кроме Райта, Зухра и Синего Неба: водители лесовозов и колонисты, столпившиеся на улицах за огороженной зоной. Их присутствие не вызвало в нем обычного приятного трепета: он думал, что они станут делать, если он скинет ветку вниз прямо так, без веревки. Домов двадцать она точно накроет, а при аварийном обрушении снесет и все тридцать. Поймав себя на этих еретических мыслях, Стронг включил рацию:
– Трави, мистер Райт.
Натянувшаяся веревка создала эффект подъемного моста, подвешенного лишь на одном канате. Стронг, вернувшись к стволу, наставил резак. Когда луч вошел в дерево, из листвы на конце ветки взмыли птицы ха-ха.
– Еще чуток, мистер Райт.
Ветвь со стоном приподнялась. Птицы, трижды облетев вокруг дерева, поднялись к вершине и скрылись из глаз. Стронг находился на солнечной стороне и хорошо видел сок, проступающий из разреза. Содрогнувшись, он стал резать дальше.
– Так держать, мистер Райт.
Чудовищная ветвь поднималась кверху дюйм за дюймом, фут за футом. Она намного превышала все прочие, тоже огромные.
– Чуть быстрей, мистер Райт, она ко мне клонится.
Ветвь снова откачнулась к стволу. Стронг глянул вниз. Синее Небо с Зухром уже распилили предпоследнюю ветку на чурбаки для погрузки и пристально наблюдали за ним, но Райт, стоя у лебедки, смотрел только на подвешенную в воздухе ветвь. Земля внизу, как и все трое древосеков, была заляпана красным.
Стронг, утершись не менее замызганным рукавом, сосредоточился на резке. Настал критический момент: обрубаемая часть встала почти перпендикулярно к началу. Стронг снова вытер лицо. Господи, как печет, и нет тени, чтобы укрыться. Совсем никакой. Ни пяди. Сколько бы стоила древесная тень, если бы в галактике вдруг обнаружился ее дефицит, и как бы ее продавали? Кубами, по температуре, по качеству?
Доброе утро, мадам. Хочу предложить вам древесную тень. У нас имеются товары всех видов: ивовая, дубовая, яблоневая, кленовая, и это еще далеко не всё. Сегодня у меня спецпредложение: редчайшая тень, только что доставленная с Омикрона Кита-18. Глубокая, темная, освежающая – как раз то, что нужно после целого дня на солнце. Последняя в наличии! Вы думаете, что хорошо рабираетесь в тени, мадам, но такой вы еще ни разу не видели. В ней кружили прохладные ветры, в ней пели птицы, в ней резвились дриады…
– Эй, Стронг! Берегись!
Он всплыл, как ныряльщик из морской глубины. Ветвь, отрезанная неровно, накренилась к нему. Кора скрежетала о кору, «кровь» хлестала ручьем. Стронг хотел отскочить, но будто налившиеся свинцом ноги приросли к месту. Он мог лишь смотреть, как она приближается, и ждать, когда многотонная громада расплющит его в лепешку, смешав его кровь со своей.
Он закрыл глаза. «Я убью тебя завтра», – сказала она. Веревка натянулась до отказа, приняв на себя полный вес груза, дерево содрогнулось, но смертельного удара не последовало. Стронг стоял, зажмурившись, и чувствовал, что время остановилось.
– Стронг! Бога ради, уйди оттуда!
Он решился снова открыть глаза. Ветвь в последний момент отклонилась обратно. Ноги ожили, и Стронг кое-как переполз на другую сторону. Дерево все еще содрогалось; чтобы удержаться в люльке, он цеплялся за кору. Когда шоковые волны затихли, он вернулся назад, где висела на веревке последняя ветвь.
– С тебя достаточно, Стронг. Спускайся немедленно.
Райт стоял, подбоченясь, и смотрел на него сердито. Место у лебедки занял Синее Небо, Зухр надевал страховочный пояс, ветвь опускалась вниз.
Ну вот и всё, сказал себе Стронг. Почему он не чувствует облегчения – он ведь хотел прекратить это? Откинувшись назад в люльке, он посмотрел на свою работу: уродливые обрубки и лишившуюся тела вершину, невыносимо прекрасную. Скорее золотая, чем зеленая, больше похожая на женские волосы, чем на ветки и листья…
– Стронг, слышишь меня? Спускайся!
В эти золотые локоны теперь заберется Зухр, запустит в них свои лапы, изнасилует, уничтожит. Будь это Синее Небо, Стронг не беспокоился бы, но Зухр!
Отрубленная ветвь уже легла наземь, веревка освободилась. Стронг смотал ее и повесил на плечо.
– В последний раз говорю: слезай!
– Иди к черту, Райт. Это мое дерево, – сказал Стронг и полез вверх.
На первых ста футах Райт ругал его почем зря, но сменил гнев на милость, когда Стронг долез до середины ствола.
– Ладно, Том, заканчивай с ним, раз уж начал. Зачем по веревке лезть, садись в лифт.
– Пошел ты со своим лифтом.
Он знал, что ведет себя неразумно, ну и плевать. Ему хотелось прикладывать усилия, хотелось испытать боль. Боль началась футов за двести от блока и стала довольно сильной у самой развилки, но Стронг нашел ее недостаточно сильной. Не останавливаясь, он закинул веревку вверх и продолжил подъем. Еще через три броска он долез до первой верхушечной ветки и с благодарностью пристроился в прохладной тени. Мышцы болели, легкие жгло, в горле точно грязь запеклась. Немного опомнившись, он попил из фляжки и стал отдыхать, не думая, не шевелясь, ничего не чувствуя.
– Ты хоть и дурак, но хороший древосек, мистер Стронг, – сказал ему Райт, но у него не хватило сил для ответа. Вскоре ему полегчало; он встал на ветку, покурил, закинул веревку чуть выше и осмотрел вершину с нового места. Он не ждал по-настоящему, что увидит дриаду, просто хотел удостовериться, что здесь ее нет. Птицы ха-ха смотрели на него глазками-полумесяцами, цветы нежно белели, окропленные солнцем листья трепетали от бриза. Он позвал бы ее, если б знал ее имя. Если оно у нее вообще есть. Взгляд скользил по цветам, по непривычным узорам веток и листьев. Если ее нет здесь, то и нигде нет. Ночью она, правда, могла спрятаться в одном из пустых домов, но Стронг не очень-то в это верил. Дриада, если она настоящая, а не плод его фантазии, ни за что бы не покинула дерево – а если она ему померещилась, то и говорить не о чем. Теперь вот даже и не мерещится: ни лица-цветка, ни туники из листьев, ни длинной руки и ноги пшеничного цвета, ни солнечной массы волос. Стронг вздохнул – то ли с облегчением, то ли разочарованно. Он боялся увидеть ее – что бы он стал тогда делать? – но вдруг понял, что и не увидеть тоже боялся.
– Ты что там делаешь, мистер Стронг? С дриадой своей прощаешься?
Вздрогнув, он посмотрел вниз. Крошечные Райт, Зухр и Синее Небо были почти неразличимы отсюда.
– Просто смотрю на нее, мистер Райт – на верхушку то есть. В ней почти девяносто футов, можно ее скинуть всю целиком?
– Рискнем, мистер Стронг. Но все остальное будешь подавать пятидесятифутовыми отрезками, пока диаметр ствола позволяет.
– Ладно, приготовьтесь тогда.
Вершина отдала поклон небу и поплыла вниз зеленым облаком, роняя листья, как летний дождь. Алая стайка птиц ха-ха унеслась к далекому горизонту. Дерево дрогнуло, как плечи рыдающей женщины.
– Хорошо прошло, мистер Стронг. Теперь за тобой, по моей прикидке, одиннадцать пятидесятифутовых кругляков. Потом диаметр увеличится, и придется срезать два стофутовых. Если спустишь их правильно, они нам хлопот не причинят. Под конец остается около двухсот футов – последние пятьдесят придутся на улицу. Обмозгуем это, когда спустишься. Всего, стало быть, четырнадцать срезов. Успеешь сегодня?
Стронг посмотрел на часы.
– Сомнительно, мистер Райт.
– Сделай, что успеешь, остальное отложим на завтра. Смотри только не рискуй зря.
Первый пятидесятифутовик ткнулся в чернозем, покачался, опрокинулся на бок. За ним последовали второй, третий, четвертый. Не странно ли, что физическая активность так хорошо помогает рассудку. Стронгу не верилось, что всего получасом ранее он высматривал в листьях дриаду, а меньше суток назад говорил с ней.
Пятый кругляк, шестой. На седьмом Стронг немного замедлил темп. Здесь, на середине бывшего дерева, диаметр ствола стал футов на тридцать больше. С такой толщиной шутки плохи: чтобы занять правильную позицию, пришлось вбить три колышка и повесить люльку на них. Это позволило Зухру и Синему Небу, сильно отставшим, распилить для лесовозов накопившиеся отрезки ствола. Колонисты, по словам Райта, утратили надежду извлечь прибыль из некачественной древесины и складывали ее подальше от лесопилки, чтобы потом сжечь.
Ветер, задувший чуть раньше, затих, солнце припекало все больше, дерево кровоточило. Стронг все чаще поглядывал вниз: обагренная «кровью» площадь походила на бойню, но он соскучился по земле под ногами – она манила его даже и «окровавленная».
Посматривал он и на солнце: он пробыл на дереве около двух с половиной суток и не хотел бы провести еще одну ночь на его обрубленном теле. Но последний пятидесятифутовик заставил его признать, что без ночевки все же не обойтись: солнце закатывалось за великое пшеничное море, и Стронг понимал, что с первым стофутовиком до темноты не управится.
На обрубке последней ветви, где он стоял сейчас, можно было поставить двадцать палаток. Райт забросил туда лифтовый трос (сам лифт спустили вниз в середине дня) и прислал Стронгу ужин – опять нечто фирменное. Стронг нехотя ковырялся в еде: вчерашний аппетит бесследно пропал.
Он так устал, что даже и не помылся, хотя воду и мыло Райт тоже прислал. Просто лежал и смотрел, как восходящие луны окутывают звезды серебряным ореолом. Она пришла на цыпочках и села рядом, глядя на него грустными синими глазами. При виде ее худобы и бледности ему захотелось плакать.
Я искал тебя утром и не нашел, – сказал он. – Куда ты деваешься, когда исчезаешь?
Никуда, – сказала она.
Но должна же ты где-то быть.
Ты не понимаешь.
Да… теперь уж, наверно, и не пойму.
Нет, поймешь. Завтра.
Завтра будет поздно.
Сегодня тоже поздно, и вчера было поздно. Поздно стало еще до того, как ты впервые поднялся на дерево.
Скажи: ты из тех, кто построил эту деревню?
На свой лад, – сказала она.
Сколько же тебе лет?
Не знаю.
Ты помогала строителям?
Я построила всё сама.
Ну, уж это ты врешь.
Я никогда не лгу.
Что случилось с коренными жителями этой планеты?
Они выросли. Стали из примитивных цивилизованными, начали высмеивать обычаи предков, как невежество и суеверие, завели собственные обычаи. Стали изготавливать вещи из железа и бронзы и меньше чем за сто лет нарушили природное равновесие, которое не только сохраняло им жизнь, но и придавало ей смысл. Подорвали свою жизненную силу, иными словами. Поняв, что натворили, они пришли в ужас, но ничего уже не смогли исправить.
И погибли?
Ты же видел их деревни.
Да, видел. И читал отчет прогрессистов о пещерах, куда они отправились умирать вместе со своими детьми. А как же эта деревня? Они могли бы спасти ее, вовремя повалив свое дерево.
Ты так ничего и не понял. Чтобы получить что-то, надо дать что-то взамен. Одни нарушили этот закон раньше, другие позже, но от расплаты никто не ушел.
М-да, понять трудновато.
Ты всё поймешь завтра.
Прошлой ночью ты пыталась убить меня. Почему?
Я не пыталась, ты всё делал сам. Я хотела убить тебя сегодня.
Той веткой?
Той веткой.
Но как?
Не важно. Главное, что не убила. Не смогла.
Куда же ты пойдешь завтра?
Что тебе за дело, куда я пойду.
Мне есть дело.
Уж не влюбился ли ты в меня?
Очень может быть.
Нет… не может.
Потому что я не верю в твою реальность?
А ты ведь не веришь, правда?
Не знаю даже. То верю, то нет.
Я такая же настоящая, как и ты, только на свой лад.
Он решительно потрогал ее щеку, мягкую и холодную. Холодную, как лунный свет, мягкую, как цветок. Она заколебалась, превращаясь в светотень, в цветы, в листья, и голос ее стал таким слабым, что Стронг едва разобрал слова.
Напрасно ты это сделал. Надо было поверить в меня, а ты всё испортил. Последнюю свою ночь мы проведем врозь.
Значит, ты все же не настоящая, – сказал он. – И никогда не была настоящей.
Нет ответа.
Ты просто игра моего воображения. Но как же тогда ты могла сказать мне то, чего я не знал?
Нет ответа.
По-твоему, то, что я делаю – преступление, но это не так. Когда дерево представляет угрозу для общины, его убирают.
Нет ответа.
Тем не менее я всё бы отдал, чтобы не делать этого.
Молчание.
Всё на свете бы отдал…
Тихо, и никого рядом. Стронг, полуживой от усталости, залез в палатку, втянул туда же обогреватель, забрался в спальник, охватил онемевшими руками лишенные чувствительности колени, продолжая бормотать:
– Всё на свете.
День четвертый
Его разбудило солнце, светящее сквозь стенку палатки.
Алые птицы больше не встречали рассвет своим пением. Дерево молчало, пустое и мертвое, только на одной обрубленной ветви еще сохранилось немного цветов и листьев. Он старался на них не смотреть.
Утро было прекрасное. С великого пшеничного моря поднимался туман, перистые облачка в небе напоминали свежевыстиранное белье. Стронг посмотрел вниз: Райт смазывал лебедку, Зухр распиливал последний пятидесятифутовик, Синего Неба в поле зрения не было.
– Что ж раньше не разбудил, мистер Райт?
Тот поднял глаза.
– Думал, тебе не повредит придавить еще малость.
– Правильно думал. А индеец наш где?
– Бизоны снова его настигли. Он топит их в баре.
На площадь въехал двухколесный гиромобиль, из него вылез толстяк с корзинкой: мэр привез завтрак. Они со Стронгом помахали друг другу.
Наспех проглотив яичницу с ветчиной и кофе, Стронг свернул палатку и отправил ее вниз на лифте вместе с обогревателем и спальником. Первый сегодняшний кругляк обещал быть значительно ниже ста футов, поскольку обрубок ветки торчал на трехсотфутовой высоте. Выполнив срез идеально, Стронг съехал на люльке вниз. Высота следующего должна быть не меньше ста двадцати, чтобы напоследок осталось двести.
Вымерив расстояние, Стронг сделал отметку на той стороне, куда новый кругляк требовалось свалить, и перешел на другую: выпуклости и трещины коры делали это сравнительно легким. Площадь стала намного ближе, чем в последние дни; дома, улицы и толпы любопытных колонистов смотрелись странно.
Точно напротив отметки Райт дал команду вбить колышек. Мгновенно перевесив на него люльку с верхней зацепки, Стронг откинулся назад, уперся ногами в кору и стал резать.
Сначала потихоньку: он имел дело с тоннами древесины, которые при малейшей промашке могли обрушиться на него. Процесс осложняло то, что резать приходилось выше колышка, держа инструмент в вытянутой руке и направляя луч под нужным углом. Это требовало хорошего глазомера. Обычно зрение Стронга не подводило, но сегодня его затуманивала усталость. Он сам не знал, до чего вымотался, пока не услышал крик Райта.
Его сбили с толку бугры на коре – из-за них луч шел неверно. Осознание своей ошибки мало ему помогло: стодвадцатифутовый кряж уже кренился к нему, и остановить его Стронг не мог.
Все равно что висеть на утесе и видеть, как верхняя его часть рушится на тебя. В данном случае это дерево, а не камень, но разницы никакой: расплющит, как комара.
Стронг ничего пока не чувствовал, даже ужаса. Просто смотрел с интересом, как кругляк заслоняет солнце и трещины в коре разверзаются, как устья черных пещер. Голос, который он слышал, наверняка шел из его собственной головы, но был слишком сладок и мелодичен для этого:
В трещину, быстро!
Не видя ее, не будучи даже уверен, что это она, он отреагировал мгновенно и втиснулся как можно глубже в ближайшую щель. И вовремя: в следующее мгновение кряж с грохотом обрушился вниз, вырвав из ствола стальной колышек.
В трещину тут же проникло солнце: Стронг был там один. Кряж грохнулся оземь и покатился по площади. Стронг чуть ли не с надеждой ждал треска, звона бьющегося стекла и других признаков разрушения, но ничего не услышал.
Дна у трещины не было. Он держался, упершись коленями в одну стенку, спиной в другую. Кое-как выбравшись наружу, он посмотрел вниз.
Кругляк пропахал глубокую борозду, выворотил из земли чьи-то кости и остановился у первого ряда домов. Райт и Зухр бегали вокруг в поисках расплющенного Стронга. Из его глотки слышались странные отрывистые звуки: смеялся, конечно, он сам, ведь здесь никого больше не было. Истерический смех разбирал его, пока грудь не заболела и не стало трудно дышать. Успокоившись, он включил рацию и спросил:
– Не меня ищете, мистер Райт?
Райт замер, поднял голову, посмотрел и молча вытер лицо рукавом рубашки.
– Что тут скажешь, мистер Стронг. Твоя дриада хорошо за тобой присматривает. Давай-ка спускайся, хочу тебе руку пожать.
До Стронга не сразу дошло, что спускаться и правда можно. Его работа закончена, остался только комлевой срез.
Он заново вогнал в дерево болтающийся колышек и съехал вниз по страховочной веревке, притормаживая через каждые пятьдесят футов. На последнем отрезке он выскочил из люльки и спрыгнул. Солнце стояло в зените: он пробыл на дереве трое с половиной суток.
Райт потряс ему руку, Зухр тоже. К ним примкнул мэр, который привез фирменную еду для всех, а также складной стол и стулья.
– Мы никогда не забудем тебя, мальчик мой, – говорил он, качая двойным подбородком. – Вечером я созвал срочное заседание совета, и мы единогласно решили поставить тебе памятник здесь, на площади, когда пень уберут. На постаменте напишем: «Человек, спасший нашу деревню». Ты настоящий герой и заслужил это. Более Материальная награда тоже последует: сегодня ты и твои друзья будете моими гостями – всё за счет заведения.
– Как же я ждал этих слов, – сказал Зухр.
– Не преминем воспользоваться, – сказал Райт.
Стронг промолчал, и все четверо сели обедать. Стейки прибыли из южного полушария, грибы – с Омикрона Кита-14. Им сопутствовали салат, зеленый горошек, свежий хлеб и кофе с абрикосовым пирогом. Стронг ел без всякого аппетита; чего ему хотелось, так это выпить, но было еще слишком рано. Сначала последний кряж, потом выпивка. Поможем Синему Небу топить бизонов за счет заведения. «Человек, спасший нашу деревню». Повтори, бармен. Не в красном был я в этот час, я кровью залит был, бармен. Да, красной кровью и вином я руки обагрил, когда любимую свою в постели я убил.
Зато у мэра аппетит был отменный. Деревня спасена, можно спокойно сидеть у огня и считать бумажки. Не надо больше беспокоиться из-за дерева. Стронг, как тот голландский мальчик, заткнул пальцем течь в плотине и спас бюргерские дома от потопа.
Он порадовался, когда все доели и Райт спросил:
– Ну, мистер Стронг, что скажешь?
– Давай уже прикончим его, мистер Райт.
Они встали. Мэр сложил стол и стулья в гиромобиль и присоединился к другим колонистам за ограждением. Деревня сверкала на солнце: улицы будто только что вымыли, пряничные домики только что испекли. Стронг чувствовал себя уже не голландским мальчиком, а Джеком – победителем великанов. Пора срубить бобовый стебель под корень.
Он сделал глубокую зарубку, чтобы свалить кряж в нужную сторону, и обошел ствол вместе с Райтом и Зухром. Все трое молчали. Он отвык ступать по твердой земле, привык ощущать люльку под собой и натянутую веревку у пояса. Носки сапог покраснели от ходьбы по красной траве. Он поднял лучевик и начал последний срез. Трус – поцелуем, древосек – кинжалом наповал. Разрез наливался красным. Новейшая модель кинжалов, производимая в Нью-Америке на Венере. Никогда не тупятся и не знают пощады.
«Кровь» струилась по коре, обагряя траву. Невидимое лезвие резака ходило туда-сюда. Двухсотфутовый обрубок, бывший ранее гордым высоким деревом, содрогнулся и начал падать – медленно, с хрустом и шорохом. Земля сотряслась, приняв его на себя.
Огромный пень окрасился в алый цвет. Стронг, выронив резак, подошел к исполинскому кряжу, упавшему, как и намечалось, на улицу между двумя рядами домов. Стронгу было наплевать на дома, они его и раньше особо не волновали. Он шел, глядя в землю, и на краю площади увидел ее. Знал, что увидит, если будет смотреть достаточно пристально. Вот она: солнце, и луговые цветы, и колеблемая ветром трава. Не вся, только торс, руки, грудь и прелестное умирающее лицо. Остальное – маленькие ступни в сандалиях из листьев, голени, бедра – раздавлено кругляком.
– Прости меня, – сказал он, а она улыбнулась, кивнула и умерла, но солнце, и луговые цветы, и трава никуда не исчезли.
Эпилог
Человек, спасший деревню, поставил локти на стойку бара, бывшую некогда алтарем, в гостинице, бывшей некогда храмом.
– Вот и мы, мэр. Пришли бизонов топить.
Мэр, заменивший бармена ради такого случая, недоуменно нахмурился.
– Выпить всего лишь, – пояснил Райт.
– Могу предложить наш лучший марсианский бурбон, – просиял мэр, – произведенный из отборнейшего маиса Эритрейского моря.
– Давай, лезь в погреб, тащи обросший паутиной сосуд, – одобрил Стронг. – Отведаем.
– Бурбон отличный, но бизонов в нем не утопишь, – вставил Синее Небо. – Я тут с утра торчу, знаю.
– Иди ты со своими бизонами, – сказал Зухр.
Мэр, поставив стаканы перед Райтом, Стронгом и Зухром, наполнил их золотистой жидкостью.
– У меня тоже пусто, – заметил Синее Небо. Мэр налил и ему.
Колонисты из уважения к древосекам к стойке не лезли, но все столики были заняты. Время от времени кто-то произносил тост: за Стронга в частности, за древосеков в целом – и все, мужчины и женщины, вставали и пили до дна.
– Шли бы лучше домой и оставили меня в покое, – пожелал Стронг.
– Не пойдут, – разуверил Райт. – Ты их новый кумир.
– Еще, мистер Стронг? – спросил мэр.
– И еще, и еще. Надо смыть из памяти это скотство.
– Чье, мистер Стронг?
– Да хоть бы и твое, жирный коротышка-землянин.
– Они надвигались из-за горизонта в облаке пыли, взметаемой их копытами, – изрек Синее Небо, – и были прекрасны в своем косматом могуществе и величественны, как сама смерть.
– Ловите нам ничтожных землян, которые портят виноградники, а виноградники наши в цвету.
– Том, – сказал Райт.
– Можно я подам заявление об уходе? В жизни больше не убью ни одного дерева. Завязываю с нашей вонючей профессией!
– Почему, Том?
Стронг молчал. Пальцы стали липкими от пролившегося бурбона. За стойкой, в бывшей храмовой стене, сохранились резные ниши, где теперь стояли бутылки с вином и виски – всюду, кроме одной.
– Что там за кукла, мэр? – спросил он, чувствуя, как пульсирует кровь в голове.
– Где? А, эта… Туземцы держали такие фигурки над очагами для защиты домов. – Мэр поставил ее перед Стронгом. – Превосходная работа, не правда ли, мистер Стронг? Мистер Стронг!
Стронг, не отрываясь, смотрел на фигурку. Длинные руки и ноги, маленькая грудь, тонкая шея, прелестное лицо в ореоле желтых волос, зеленая туника из тщательно вырезанных листьев.
– Кажется, это называется «фетиш», – продолжал мэр. – Изображение их главной богини. Мы о них мало что знаем, но они будто бы так в нее верили, что даже могли ее видеть.
– На дереве?
– На нем тоже.
Стронг бережно взял статуэтку в руки. Она подмокла снизу от пролитого виски.
– Выходит, это богиня дерева?
– Не дерева – домашнего очага. Прогрессисты ошибаются, видя в деревьях религиозные символы. Мы живем здесь долго и знаем, что туземцы поклонялись дому, а не деревьям.
– Домашнего очага? Что ж она тогда на дереве делала?
– Прошу прощения?
– Я ее там видел. На дереве.
– Вы шутите, мистер Стронг?
– Черта с два! Она-то и была деревом! – Стронг грохнул по стойке кулаком. – Она была этим деревом, и я убил ее.
– Возьми себя в руки, Том, – сказал Райт. – Все смотрят.
– Я убивал ее дюйм за дюймом, фут за футом. Отрезал ей руки-ноги и убил наконец! – Стронг осекся, сознавая, что случилось нечто из ряда вон. А, вот в чем дело: он не почувствовал боли, ударив по стойке. Его кулак провалился в дерево. Гнилое оно, что ли? Ну да, пахнет гнилью.
Богиня очага. Дома. Деревни.
Стронг, пошатываясь, пробрался между столиками к наружной стене и насквозь пробил кулаком полированную панель. Взялся за край дыры, рванул. Оторвался большой кусок, и гнилью запахло еще сильнее.
Колонисты смотрели на него с ужасом.
– Прогнила ваша гостиница, – сказал Стронг. – Вместе со всей вашей треклятой деревней!
Его разбирал смех.
– Прекрати, Том! – крикнул Райт, закатив ему оплеуху.
– Ты разве не понимаешь, Райт? – Стронгу расхотелось смеяться. – Не врубаешься, как эти деревья достигали такого роста и как потом выживали? Им же тонны питательных веществ требуются! Им нужна почва, которую удобряют покойники и орошают водохранилища, доступные только крупным общинам. И что же эти деревья делали? Веками, а то и тысячелетиями привлекали к себе гуманоидов. Как, спросишь ты? Они выращивали дома! Дома, столь привлекательные для нас, произрастали из их корней. Понял теперь, Райт? Понял, почему в соке содержится столько полезных веществ, кислорода и гидроокиси углерода? Это дерево питало не только себя, но и всю деревню, но вечный человеческий эгоизм и вечная глупость пресекли это!
Стронг взял ошеломленного Райта под руку и вернулся с ним к стойке. Мэр все еще таращился на рваную дыру в дереве.
– Ну что, нальешь еще спасителю твоей драгоценной деревни? – спросил его Стронг. Мэр не шевелился.
– Древние определенно знали об этом и передавали из поколения в поколение – но не как знание, а как суеверие, – рассуждал Райт. – Со временем эта раса по примеру всех повзрослевших рас отказалась от суеверий, научилась пользоваться металлами, проложила канализацию, построила мусоросжигатели и крематории. Они отвергли то, что им обеспечивали деревья, превратили в площади древние захоронения у корней. И нарушили экологический баланс.
– Сами о том не ведая, – подхватил Стронг. – Потом они спохватились, но было поздно: деревья уже начали умирать. Когда погибло первое дерево и первая деревня стала гнить на корню, туземцы ужаснулись: похоже, они любили свои дома так, что жить без них не могли. Потому они и уходили на северные пустоши, потому и совершали массовые самоубийства – или просто замерзали в пещерах смерти.
– Пятьдесят миллионов могучих косматых зверей, – вставил Синее Небо, – жили на плодородных равнинах, ставших теперь Великой Североамериканской пустыней. Питавшая их трава вырастала вновь, удобренная навозом. Пятьдесят миллионов! Когда белый человек спохватился и остановил бойню, их осталось пятьсот.
– Эту деревню, как видно, «модернизировали» в последнюю очередь, – продолжал Райт, – но дерево стало умирать задолго до прибытия колонистов. Вот почему дома прогнили так быстро.
– Смерть дерева ускорила разложение, – согласился с ним Стронг. – Через месяц здесь не останется ни одного дома… но дерево могло бы прожить еще сотню лет, если б местные не тряслись так над своей поганой недвижимостью. Дерево такой величины умирает медленно. Теперь я догадался, почему сок был такого цвета – это наша совесть делала его красным. Думаю даже, что она… что оно хотело умереть поскорее.
– Земля будет все так же приносить урожай, но колонистам придется теперь жить в землянках, – подытожил Райт.
– Возможно, я совершил акт милосердия, – сказал Стронг.
– О чем это вы? – спросил Зухр.
– Пятьдесят миллионов! – сказал Синее Небо. – Пятьдесят миллионов.
У начала времен Перевод А. Иорданского
1
Карпентер не удивился, увидев стегозавра, стоящего под высоким гинкго. Но он не поверил своим глазам, увидев, что на дереве сидят двое детей. Он знал, что со стегозавром рано или поздно повстречается, но встретить мальчишку и девчонку он никак не ожидал. Ну, скажите на милость, откуда они могли взяться в верхнемеловом периоде?
Подавшись вперед на водительском сиденье своего трицератанка с автономным питанием, он подумал – может быть, они как-то связаны с той непонятной ископаемой находкой из другого времени, ради которой он был послан в век динозавров, чтобы выяснить, в чем дело? Правда, мисс Сэндз, его главная помощница, которая устанавливала по времяскопу время и место, ни слова не сказала ему про детишек, но это еще ничего не значило. Времяскопы показывают только самые общие очертания местности – с их помощью можно еще увидеть средней величины холм, но никаких мелких подробностей не разглядишь.
Стегозавр слегка толкнул ствол гинкго своей гороподобной задней частью. Дерево судорожно дернулось, и двое детей, которые сидели на ветке, чуть не свалились прямо на зубчатый гребень, проходивший по спине чудовища. Лица у них были такие же белые, как цепочка утесов, что виднелись вдали, за разбросанными там и сям по доисторической равнине магнолиями, дубами, рощицами ив, лавров и веерных пальм.
Карпентер выпрямился в своем сиденье.
– Вперед, Сэм, – сказал он трицератанку. – Давай-ка ему покажем!
* * *
Покинув несколько часов назад точку входа, он до сих пор двигался не спеша, на первой передаче, чтобы не проглядеть каких-нибудь признаков, которые могли бы указать на ориентиры загадочной находки. С не поддающимися определению анахронизмами всегда так – палеонтологическое общество, где он работал, обычно гораздо точнее определяло их положение во времени, чем в пространстве. Но теперь он включил вторую передачу и навел все три рогопушки, торчавшие из лобовой части ящерохода, точно в крестцовый нервный центр нахального стегозавра. «Бах! Бах! Бах!» – прозвучали разрывы парализующих зарядов, и вся задняя половина стегозавра осела на землю. Передняя же его половина, получив от крохотного, величиной с горошину, мозга сообщение о том, что случилось нечто неладное, изогнулась назад, и маленький глаз, сидевший в голове размером с пивную кружку, заметил приближающийся трицератанк. Тут же короткие передние лапы чудовища усиленно заработали, пытаясь унести десятитонную горбатую тушу подальше от театра военных действий.
Карпентер ухмыльнулся.
– Легче, легче, толстобокий, – сказал он. – Клянусь тиранозавром, ты не успеешь опомниться, как будешь снова ковылять на всех четырех.
Остановив Сэма в десятке метров от гинкго, он посмотрел на перепуганных детей сквозь полупрозрачный лобовой колпак кабины ящерохода. Их лица стали, пожалуй, еще белее, чем раньше. Ничего удивительного – его ящероход был больше похож на трицератопса, чем многие настоящие динозавры.
Карпентер откинул колпак и отшатнулся – в лицо ему ударил влажный летний зной, непривычный после кондиционированной прохлады кабины. Он встал и высунулся наружу.
– Эй вы, слезайте, – крикнул он. – Никто вас не съест!
На него уставились две пары самых широко открытых, самых голубых глаз, какие он в жизни видел. Но в них не было заметно ни малейшего проблеска понимания.
– Слезайте, говорю! – повторил он. – Бояться нечего.
Мальчик повернулся к девочке, и они быстро заговорили между собой на каком-то певучем языке – он немного напоминал китайский, но не больше, чем туманная изморось напоминает дождь. А с современным американским у этого языка было не больше общего, чем у самих детей с окружавшим их мезозойским пейзажем. Ясно было, что они ни слова не поняли из того, что сказал Карпентер. Но столь же явно было, что они как будто бы успокоились, увидев его открытое, честное лицо или, быть может, услышав его добродушный голос. Переговорив между собой, они покинули свое воздушное убежище и спустились вниз – мальчик полез первым и в трудных местах помогал девочке. Ему можно было дать лет девять, а ей – лет одиннадцать.
Карпентер вылез из кабины, спрыгнул со стальной морды Сэма и подошел к детям, стоявшим у дерева. К этому времени стегозавр уже вновь обрел способность управлять своими задними конечностями и во всю прыть удирал прочь по равнине. Мальчик был одет в широкую блузу абрикосового цвета, сильно запачканную и помятую после лазания по дереву; его широкие брюки того же абрикосового цвета, такие же запачканные и помятые, доходили до середины худых икр, а на ногах были открытые сандалии. На девочке одежда была точно такая же, только лазурного цвета и не столь измятая и грязная. Девочка была сантиметра на два выше мальчика, но такая же худая. Оба отличались тонкими чертами лица и волосами цвета лютика, и физиономии у обоих были до смешного серьезные. Можно было не сомневаться, что это брат и сестра.
Серьезно глядя в серые глаза Карпентера, девочка произнесла несколько певучих фраз – судя по тому, как они звучали, все они были сказаны на разных языках. Когда она умолкла, Карпентер покачал головой:
– Нет, это я ни в зуб ногой, крошка.
На всякий случай он повторил те же слова на англосаксонском, греко-эолийском, нижнекроманьонском, верхнеашельском, среднеанглийском, ирокезском и хайянопортском – обрывки этих языков и диалектов он усвоил во время разных путешествий в прошлое. Но ничего не вышло: все, что он сказал, звучало для этих детей сущей тарабарщиной.
Вдруг у девочки загорелись глаза, она сунула руку в пластиковую сумочку, висевшую у нее на поясе, и достала что-то вроде трех пар сережек. Одну пару она протянула Карпентеру, другую – мальчику, а третью оставила себе. И девочка и мальчик быстро приспособили себе сережки на мочки ушей, знаками показав Карпентеру, чтобы он сделал то же. Он повиновался и обнаружил, что маленькие диски, которые он принял было за подвески, – это на самом деле не что иное, как крохотные мембраны. Достаточно было защелкнуть миниатюрные зажимы, как мембраны оказывались прочно прижатыми к отверстию уха. Девочка критически оглядела результаты его стараний, приподнялась на цыпочки и ловко поправила диски, а потом, удовлетворенная, отступила назад.
– Теперь, – сказала она на чистейшем английском языке, – мы будем понимать друг друга и сможем во всем разобраться.
Карпентер уставился на нее.
– Ну и ну! Быстро же вы научились говорить по-нашему!
– Да нет, не научились, – ответил мальчик. – Это сережки-говорешки – ну, микротрансляторы. Когда их наденешь, то все, что мы говорим, вы слышите так, как если бы вы сами это сказали. А все, что вы говорите, мы слышим так, как это сказали бы мы.
– Я совсем забыла, что они у меня с собой, – сказала девочка. – Их всегда берут с собой в путешествие. Мы-то, правда, не совсем обычные путешественники, и их бы у меня не было, но получилось так, что, когда меня похитили, я как раз шла с урока общения с иностранцами. Так вот, – продолжала она, снова серьезно заглянув в глаза Карпентеру, – я думаю, что, если вы не возражаете, лучше всего сначала покончить с формальностями. Меня зовут Марси, это мой брат Скип, и мы из Большого Марса. А теперь, любезный сэр, скажите, как вас зовут и откуда вы?
* * *
Нелегко было Карпентеру, отвечая, не выдать своего волнения. Но нужно было сохранить спокойствие: ведь то, что он собирался сказать, было, пожалуй, еще невероятнее, чем то, что только что услышал он.
– Меня зовут Говард Карпентер, и я с Земли, из 2156 года. Это 79 062 156 лет спустя.
Он показал на трицератанк.
– А это Сэм, моя машина времени. Ну, и еще кое-что сверх того. Если его подключить к внешнему источнику питания, то его возможностям практически не будет предела.
Девочка только моргнула, мальчик тоже – и все.
– Ну что ж, – через некоторое время сказала она. – Значит, мы выяснили, что вы из будущего Земли, а я – из настоящего Марса.
Она умолкла, с любопытством глядя на Карпентера.
– Вы чего-то не понимаете, мистер Карпентер?
Карпентер сделал глубокий вдох, потом выдох.
– В общем, да. Во-первых, есть такой пустяк – разница в силе тяжести на наших планетах. Здесь, на Земле, вы весите в два с лишним раза больше, чем на Марсе, и мне не совсем понятно, как это вы умудряетесь здесь так свободно двигаться, а тем более лазить вон по тому дереву.
– А, понимаю, мистер Карпентер, – ответила Марси. – Это вполне справедливое замечание. Но вы, очевидно, судите по Марсу будущего, и столь же очевидно, что он сильно отличается от Марса настоящего. Я думаю… я думаю, за 79 062 156 лет многое могло измениться. Ну ладно. В общем, мистер Карпентер, в наше со Скипом время на Марсе примерно такая же сила тяжести, как и на этой планете. Видите ли, много веков назад наши инженеры искусственно увеличили существовавшую тогда силу тяжести, чтобы наша атмосфера больше не рассеивалась в межпланетном пространстве. И последующие поколения приспособились к увеличенной силе тяжести. Это рассеяло ваше недоумение, мистер Карпентер?
Ему пришлось сознаться, что да.
– А фамилия у вас есть? – спросил он.
– Нет, мистер Карпентер. Когда-то у марсиан были фамилии, но с введением десентиментализации этот обычай вышел из употребления. Но прежде чем мы продолжим разговор, мистер Карпентер, я хотела бы поблагодарить вас за наше спасение. Это… это было очень благородно с вашей стороны.
– К вашим услугам, – ответил Карпентер, – боюсь только, что если мы и дальше будем так здесь стоять, мне придется опять вас от кого-нибудь спасать, да и себя заодно. Давайте-ка все трое залезем к Сэму в кабину – там безопасно. Договорились?
Он первым подошел к трицератанку, вскочил на его морду и протянул руку девочке. Когда она взобралась вслед за ним, он помог ей подняться в кабину водителя.
– Там, позади сиденья, небольшая дверца, – сказал он. – За ней каюта; лезь туда и устраивайся как дома. Там есть стол, стулья и койка и еще шкаф со всякими вкусными вещами. В общем, все удобства.
Но не успела Марси подойти к дверце, как откуда-то сверху раздался странный свист. Она взглянула в небо, и ее лицо покрылось мертвенной бледностью.
– Это они, – прошептала она. – Они нас уже нашли!
И тут Карпентер увидел темные крылатые силуэты птеранодонов. Их было два, и они пикировали на трицератанк подобно звену доисторических бомбардировщиков.
Схватив Скипа за руку, он втащил его на морду Сэма, толкнул в кабину рядом с сестрой и приказал:
– Быстро в каюту!
Потом прыгнул на водительское сиденье и захлопнул колпак.
И как раз вовремя: первый птеранодон был уже так близко, что его правый элерон царапнул по гофрированному головному гребню Сэма, а второй своим фюзеляжем задел спину ящерохода. Две пары реактивных двигателей оставили за собой две пары выхлопных струй.
2
Карпентер так и подскочил на своем сиденье. Элероны? Фюзеляж? Реактивные двигатели?
Птеранодоны?
Он включил защитное поле ящерохода, установив его так, чтобы оно простиралось на полметра наружу от брони, потом включил первую передачу. Птеранодоны кружились высоко в небе.
– Марси, – позвал он, – подойди-ка сюда на минутку, пожалуйста.
Она наклонилась через его плечо, и ее ярко-желтые волосы защекотали ему щеку.
– Да, мистер Карпентер?
– Когда ты увидела птеранодонов, ты сказала: «Они нас уже нашли!» Что ты имела в виду?
– Это не птеранодоны, мистер Карпентер. Я, правда, не знаю, что такое птеранодоны, но это не они. Это те, кто нас похитил, на списанных военных самолетах. Может быть, эти самолеты и похожи на птеранодонов – я не знаю. Они похитили нас со Скипом из подготовительной школы Технологического канонизационного института Большого Марса и держат в ожидании выкупа. Земля – их убежище. Их трое: Роул, Фритад и Холмер. Один из них, наверное, остался на корабле.
Карпентер промолчал. Марс 2156 года представлял собой унылую, пустынную планету, где не было почти ничего, кроме камней, песка и ветра. Его население состояло из нескольких тысяч упрямых колонистов с Земли, не отступавших ни перед какими невзгодами, и нескольких сотен тысяч столь же упрямых марсиан. Первые жили в атмосферных куполах, вторые, если не считать тех немногих, кто женился или вышел замуж за одного из колонистов, – в глубоких пещерах, где еще можно было добыть кислород. Однако раскопки, которые в двадцать втором веке вело здесь Внеземное археологическое общество, действительно принесли несомненные доказательства того, что свыше семидесяти миллионов лет назад на планете существовала супертехнологическая цивилизация, подобная нынешней земной. И конечно, было естественно предположить, что такой цивилизации были доступны межпланетные полеты.
А раз так, то Земля, где в те времена завершалась мезозойская эра, должна была стать идеальным убежищем для марсианских преступников – в том числе и для похитителей детей. Такое объяснение, разумеется, могло пролить свет и на те анахронизмы, которые то и дело попадались в слоях мелового периода.
Правда, присутствие Марси и Скипа в веке динозавров можно было объяснить и иначе: они могли быть земными детьми 2156 года и попасть сюда с помощью машины времени – так же, как попал сюда он. Или, если уж на то пошло, их могли похитить и перебросить в прошлое современные бандиты. Но тогда зачем им было врать?
– Скажи мне, Марси, – начал Карпентер, – ты веришь, что я пришел из будущего?
– О конечно, мистер Карпентер. И Скип тоже, я уверена. В это немного… немного трудно поверить, но я знаю, что такой симпатичный человек, как вы, не станет говорить неправду, да еще такую неправду.
– Спасибо, – отозвался Карпентер. – А я верю, что вы – из Большого Марса, который, по-видимому, не что иное, как самая большая и могучая страна вашей планеты. Расскажи мне о вашей цивилизации.
– Это замечательная цивилизация, мистер Карпентер. Мы с каждым днем движемся вперед все быстрее и быстрее, а теперь, когда нам удалось преодолеть фактор нестабильности, наш прогресс еще ускорится.
– Фактор нестабильности?
– Да, человеческие эмоции. Много веков они мешали нам, но теперь этому положен конец. Теперь, как только мальчику исполняется тринадцать лет, а девочке пятнадцать, их десентиментализируют. И после этого они приобретают способность хладнокровно принимать разумные решения, руководствуясь исключительно строгой логикой. Это позволяет им действовать с наибольшей возможной эффективностью. В подготовительной школе Института мы со Скипом проходим так называемый додесентиментализационный курс. Еще четыре года, и нам начнут давать специальный препарат для десентиментализации. А потом…
* * *
– Скр-р-р-р-и-и-и-и-и!..
Со страшным скрежетом один из птеранодонов прочертил наискосок по поверхности защитного поля. Его отбросило в сторону, и прежде чем он вновь обрел равновесие и взвился в небо, Карпентер увидел в кабине человека. Он успел разглядеть лишь неподвижное, ничего не выражавшее лицо, но по его положению догадался, что пилот управляет самолетом, распластавшись между четырехметровыми крыльями.
Марси вся дрожала.
– Мне кажется… мне кажется, они решили нас убить, мистер Карпентер, – слабым голосом сказала она. – Они грозились это сделать, если мы попытаемся сбежать. А теперь они уже записали на пленку наши голоса с просьбой о выкупе и, наверное, сообразили, что мы им больше не нужны.
Карпентер потянулся назад и погладил ее руку, лежавшую у него на плече.
– Ничего, крошка. Ты под защитой старины Сэма, так что бояться нечего.
– А он… его правда так зовут?
– Точно. Достопочтенный Сэм Трицератопс. Познакомься, Сэм, – это Марси. Присматривай хорошенько за ней и за ее братом, слышишь?
Он обернулся и поглядел в широко раскрытые голубые глаза девочки.
– Говорит, будет присматривать. Готов спорить, что на Марсе ничего подобного не изобрели. Верно?
Она покачала головой – на Марсе это, по-видимому, был такой же обычный знак отрицания, как и на Земле, – и ему на мгновение показалось, что на губах у нее вот-вот появится робкая улыбка. Но ничего не произошло. Еще бы немного…
– Действительно, у нас такого нет, мистер Карпентер.
Он покосился сквозь колпак на кружащихся птеранодонов (он все еще про себя называл их птеранодонами, хотя теперь уже знал, что это такое).
– А где их межпланетный корабль, Марси? Где-нибудь поблизости?
Она ткнула пальцем влево.
– Вон там. Перейти реку, а потом болото. Мы со Скипом сбежали сегодня утром, когда Фритад заснул – он дежурил у люка. Они ужасные сони, всегда спят, когда подходит их очередь дежурить. Рано или поздно Космическая полиция Большого Марса разыщет корабль, и мы думали, что до тех пор сможем прятаться. Мы пробрались через болото и переплыли реку на бревне. Это было… это было просто ужасно – там такие большие змеи с ногами, они за нами гнались, и…
Он почувствовал плечом, что она снова вся дрожит.
– Ну вот что, крошка, – сказал он. – Лезь-ка назад в каюту и приготовь что-нибудь поесть себе и Скипу. Не знаю, чем вы привыкли питаться, но вряд ли это что-нибудь совсем непохожее на то, что есть у нас в запасе. В шкафу ты увидишь такие квадратные запаянные банки – в них бутерброды. Наверху, в холодильнике, высокие бутылки, на них нарисован круг из маленьких звездочек – там лимонад. Открывай и то и другое и принимайся за дело. Кстати, раз уж ты этим займешься, сделай что-нибудь и мне – я тоже проголодался.
И снова улыбка чуть-чуть не показалась у нее на губах.
– Хорошо, мистер Карпентер. Я вам сейчас такое приготовлю!
Оставшись один в кабине, Карпентер оглядел расстилавшийся вокруг мезозойский пейзаж через переднее, боковые и хвостовое смотровые окна. Слева, на горизонте, возвышалась гряда молодых гор. Справа, вдали, тянулась цепочка утесов. В хвостовом смотровом окне были видны разбросанные по равнине рощицы ив, веерных пальм и карликовых магнолий, за которыми начинались поросшие лесом холмы – где-то там находилась его точка входа. Далеко впереди с чисто мезозойским спокойствием курились вулканы.
79 061 889 лет спустя это место станет частью штата Монтана. 79 062 156 лет спустя палеонтологическая экспедиция, которая будет вести раскопки где-то в этих местах, к тому времени изменившихся до неузнаваемости, наткнется на ископаемые останки современного человека, умершего 79 062 156 лет назад.
Может быть, это будут его собственные останки?
Карпентер усмехнулся и взглянул в небо, где все еще кружили птеранодоны. Посмотрим – может случиться и так, что это будут останки марсианина.
Он развернул трицератанк и повел его обратно.
– Поехали, Сэм, – сказал он. – Поищем-ка здесь укромное местечко, где можно отсидеться до утра. А к тому времени я, быть может, соображу, что делать дальше. Вот уж не думал, что нам с тобой когда-нибудь придется заниматься спасением детишек!
Сэм басовито заурчал и двинулся в сторону лесистых холмов.
* * *
Когда отправляешься в прошлое, чтобы расследовать какой-нибудь анахронизм, всегда рискуешь сам оказаться его автором. Взять хотя бы классический пример с профессором Арчибальдом Куигли. Правда это или нет – никто толком не знал; но так или иначе эта история как нельзя лучше демонстрировала парадоксальность путешествия во времени.
А история гласила, что профессора Куигли, великого почитателя Колриджа, много лет мучило любопытство – кто был таинственный незнакомец, появившийся в 1797 году на ферме Недер Стоуи в английском графстве Сомерсетшир и помешавший Колриджу записать до конца поэму, которую он только что сочинил во сне. Гость просидел целый час, и потом Колридж так и не смог припомнить остальную часть поэмы. В результате «Кубла Хан» остался незаконченным.
Со временем любопытство, мучившее профессора Куигли, стало невыносимым, он больше не мог оставаться в неизвестности и обратился в Бюро путешествий во времени с просьбой разрешить ему отправиться в то время и в то место, чтобы все выяснить.
Просьбу его удовлетворили, и он без колебаний выложил половину своих сбережений в уплату за путешествие в то утро. Очутившись поблизости от фермы, он притаился в кустах и начал наблюдать за входной дверью. Никто не шел; наконец он, сгорая от нетерпения, сам подошел к двери и постучался. Колридж открыл дверь и пригласил профессора войти, но брошенного им злобного взгляда профессор не мог забыть до конца своих дней.
Припомнив эту историю, Карпентер усмехнулся. Впрочем, особенно смеяться по этому поводу не приходилось: то, что произошло с профессором Куигли, вполне могло случиться и с ним. Нравилось ему это или нет, но было совершенно не исключено, что ископаемые останки, чьим происхождением он занялся по поручению Североамериканского палеонтологического общества (САПО) и с этой целью отправился в мезозойскую эру, окажутся его собственными.
Но он отогнал от себя эту мысль. Во-первых, как только придется туго, ему нужно будет всего лишь связаться со своими помощниками – мисс Сэндз и Питером Детрайтесом, и они тут же явятся к нему на помощь на тераподе Эдит или на каком-нибудь другом ящероходе из арсенала САПО. А во-вторых, ему уже известно, что в меловом периоде орудуют пришельцы. Значит, он не единственный, кому грозит опасность превратиться в те самые останки.
И в любом случае ломать голову над всем этим бессмысленно: ведь то, чему суждено было случиться, случилось, и тут уж ничего не поделаешь…
Скип выбрался из каюты и перегнулся через спинку водительского сиденья.
– Марси просила передать вам бутерброд и бутылку лимонада, мистер Карпентер, – сказал он, протягивая то и другое. – Можно мне посидеть с вами, сэр?
– Конечно, – ответил Карпентер и подвинулся.
Мальчик перелез через спинку и соскользнул на сиденье. И тут же сзади просунулась еще одна голова цвета лютика.
– Простите, пожалуйста, мистер Карпентер, а нельзя ли…
– Подвинься, Скип, посадим ее в середину.
Голова Сэма была шириной в добрых полтора метра, и в кабине водителя места хватало. Но само сиденье было меньше метра шириной, и двум подросткам уместиться на нем рядом с Карпентером было не так уж просто, особенно если учесть, что все трое в этот момент уплетали бутерброды и запивали их лимонадом. Карпентер чувствовал себя добрым отцом семейства, отправившимся со своими отпрысками в зоопарк.
И в какой зоопарк! Они уже углубились в лес, и вокруг поднимались дубы и лавры мелового периода; среди них в изобилии попадались ивы, сосны и гинкго, а время от времени – нелепые на вид заросли веерных пальм. В густых кустах они заметили огромное неуклюжее существо, похожее спереди на лошадь, а сзади на кенгуру. Карпентер определил, что это анатозавр. На поляне они повстречали и до полусмерти перепугали струтиомимуса, чем-то напоминавшего страуса. Анкилозавр с утыканной шипами спиной сердито уставился на них из камышей, но благоразумно решил не становиться Сэму поперек дороги. Взглянув вверх, Карпентер впервые увидел на вершине дерева археоптерикса. А подняв глаза еще выше, он заметил кружащихся в небе птеранодонов.
Он надеялся, что под покровом леса сможет от них скрыться, и с этой целью вел Сэма зигзагами. Однако они, очевидно, были оснащены детекторами массы – следовало придумать что-нибудь похитрее. Можно было попытаться сбить их заградительным огнем парализующих зарядов из рогопушки, но надежда на успех была невелика, да и вообще он тут же отказался от этой идеи. Конечно, похитители вполне заслуживают смерти, но не ему их судить. Он расправится с ними, если другого выхода не будет, но не станет это делать до тех пор, пока не разыграет все свои козырные карты.
Он повернулся к детям и увидел, что они потеряли всякий интерес к еде и с опаской поглядывают вверх. Перехватив их взгляды, он подмигнул.
– Мне кажется, самое время от них улизнуть, как вы полагаете?
– Но как, мистер Карпентер? – спросил Скип. – Они запеленговали нас своими детекторами. Счастье еще, что это простые марсиане и у них нет самого главного марсианского оружия. Правда, у них есть распылители – это тоже что-то вроде радугометов, но, если бы у них были настоящие радугометы, нам бы всем несдобровать.
– Отделаться от них ничего не стоит – мы можем просто перескочить немного назад во времени. Так что кончайте со своими бутербродами и не бойтесь.
Опасения детей рассеялись, и они оживились.
– Давайте перескочим назад на шесть дней, – предложила Марси. – Тогда они нас ни за что не найдут, потому что в то время нас еще здесь не было.
– Ничего не выйдет, крошка, – Сэм не потянет. Прыжки во времени требуют ужасно много энергии Чтобы такая комбинированная машина времени, как Сэм, могла далеко прыгнуть, нужно к ее мощности добавить мощность стационарной машины. Она перебрасывает ящероход в нужную точку входа, водитель отправляется из этой точки и делает свое дело. А чтобы вернуться обратно, в свое время, у него есть только один способ: снова явиться в точку входа, связаться со стационарной машиной и к ней подключиться. Можно еще послать сигнал бедствия, чтобы кто-нибудь прибыл за ним на другом ящероходе. Собственной мощности Сэму хватит только на то, чтобы перескочить на четыре дня туда и обратно, но и от этого у него двигатель сгорит. А уж тогда никакая стационарная машина времени его не вытащит. Я думаю, нам лучше ограничиться одним часом.
* * *
Парадоксально, но факт: чем короче временной промежуток, с которым имеешь дело, тем больше приходится производить расчетов. С помощью управляющего перстня на своем указательном пальце Карпентер отдал Сэму приказ продолжать движение зигзагами, а сам взялся за блокнот и карандаш. Через некоторое время он начал задавать арифметические головоломки компактному вычислителю, встроенному в панель управления. Марси, наклонившись вперед, внимательно следила за его работой.
– Если это ускорит дело, мистер Карпентер, – сказала она, – кое-какие действия попроще, вроде тех, что вы записываете, я могу производить в уме. Например, если 828 464 280 умножить на 4 692 438 921, то в итоге получим 3 887 518 032 130 241 880.
– Очень может быть, крошка, но я все-таки на всякий случай проверю, ладно?
Он ввел цифры в вычислитель и нажал кнопку умножения. В окошечке загорелись цифры: 3 887 518 032 130 241 880. Карпентер чуть не выронил карандаш.
– Она же у нас гений по части математики, – пояснил Скип. – А я по части техники. Потому-то нас и похитили. Наше правительство очень высоко ценит гениев. Оно не пожалеет денег, чтобы нас выкупить.
– Правительство? Я думал, что похитители требуют выкуп с родителей, а не с правительства.
– Нет, наши родители больше не несут за нас никакой ответственности, – объяснила Марси. – По правде говоря, они, наверное, про нас давно забыли. После шести лет дети переходят в собственность государства. Видите ли, сейчас все марсианские родители десентиментализированы и ничуть не возражают против того, чтобы избавиться от… ну в общем отдать своих детей государству.
Карпентер некоторое время смотрел на два серьезных детских лица.
– Вот оно что, – протянул он. – Ясно.
С помощью Марси он закончил расчеты и ввел окончательные цифры в передний нервный центр Сэма.
– Ну, поехали, ребятишки! – сказал он и включил рубильник временного скачка. На какое-то мгновение у них перед глазами что-то замерцало, и ящероход чуть тряхнуло. Впрочем, он даже не замедлил своего неторопливого движения – так гладко прошел скачок.
Карпентер перевел часы с 16:16 на 15:16.
– Ну-ка, ребята, взгляните наверх – есть там птеранодоны?
Они долго всматривались сквозь листву в небо.
– Ни одного, мистер Карпентер, – отозвалась Марси. Глаза ее горели восхищением. – Ни единого!
– Да, утерли вы нос нашим ученым! – восторженно заявил Скип. – Они считают себя очень умными, но им и в голову не приходило, что можно путешествовать во времени… А как далеко можно перескочить в будущее, мистер Карпентер, – я имею в виду, на настоящей машине времени?
– Если хватит энергии – хоть до конца времен, если он есть. Но путешествовать вперед из своего настоящего запрещено законом. Власти предержащие 2156 года считают – людям ни к чему раньше времени знать, что с ними будет. И тут я, в виде исключения, полагаю, что власти предержащие правы.
Он отключил автоматику, перевел Сэма на ручное управление и повернул под прямым углом к прежнему курсу. Через некоторое время они выбрались из леса на равнину. Вдали, на фоне дымчато-голубого неба, вырисовывалась белой полоской цепочка утесов, которую он заприметил еще раньше.
– Ну а что вы скажете насчет ночевки на открытом воздухе? – спросил он.
Глаза у Скипа стали совсем круглые.
– На открытом воздухе, мистер Карпентер?
– Конечно. Разведем костер, приготовим еду, расстелем на земле одеяла – совсем на индейский манер. Может быть, даже отыщем в скалах пещеру. Как, годится?
Теперь глаза округлились у обоих.
– А что такое «на индейский манер», мистер Карпентер? – спросила Марси.
Он рассказал им про индейцев арапахо, чейенов, кроу, апачей, и про буйволов, и про безбрежные прерии, и про последний бой Кестера, и про покорителей Дикого Запада, и про Сидящего Быка – и все время, пока он говорил, они не сводили с него глаз: как будто он ясное солнышко, которого они еще никогда в жизни не видали. Покончив с Диким Западом, он принялся рассказывать о Гражданской войне и Аврааме Линкольне, о генерале Гранте и генерале Ли, о геттисбергском обращении, битве на реке Булл-Ран и поражении у Аппоматтокса.
Никогда еще он так много не говорил. Ему и самому это показалось странным: на него нашло что-то такое, отчего он вдруг почувствовал себя веселым и беззаботным, все ему стало нипочем, осталось только одно: вот этот день в меловом периоде, затянувшая горизонт послеполуденная дымка и двое детей с круглыми от удивления глазами, сидящие рядом с ним. Но он не стал долго об этом размышлять, а продолжал рассказывать про Декларацию независимости и американскую революцию, про Джорджа Вашингтона и Томаса Джефферсона, про Бенджамина Франклина и Джона Адамса, и про то, как смело мечтали о светлом будущем отцы-основатели, и насколько лучше было бы, если бы чересчур предприимчивые люди не воспользовались их мечтой в своих корыстных целях, и как настало время, когда эта мечта все-таки более или менее сбылась, сколько бы преступлений ни было совершено ее именем.
Когда он кончил, уже наступил вечер. Прямо впереди упирались в потемневшее небо белые скалы.
У подножья скал они нашли отличную, никем не занятую пещеру, где могли с удобствами устроиться все, включая Сэма, и оставалось еще место для костра. Карпентер загнал ящероход в пещеру и поставил его к задней стенке. Потом он выдвинул защитный экран, охватив им всю пещеру, нависавший над входом обрыв и полукруглую площадку подножья. Тщательно осмотрев получившийся палисадник и убедившись, что в нем нет рептилий, если не считать нескольких мелких и неопасных ящериц, он послал детей за хворостом. А сам тем временем наладил у входа в пещеру полупрозрачное поле, которое скрывало от взгляда все, что происходит внутри.
К этому времени дети утратили свою прежнюю сдержанность, во всяком случае Скип.
– Можно я разведу костер? – кричал он, прыгая на месте. – Можно, мистер Карпентер? Можно?
– Скип! – укоризненно сказала Марси.
– Ничего, крошка, – успокоил ее Карпентер, – это можно. И ты тоже можешь помочь, если хочешь.
Маленький огонек вскоре разросся в большое пламя, окрасив стены пещеры сначала в багровый, а потом в ярко-красный цвет.
Карпентер откупорил три банки сосисок и три пакета булочек и показал своим подопечным, как нанизывают сосиски на заостренный прутик и жарят их на костре. Потом он продемонстрировал, как нужно класть поджаренную сосиску на булочку и приправлять ее горчицей, маринадом и нарезанным луком. Можно было подумать, что он настежь распахнул перед этими детьми волшебное окно в страну чудес, которая раньше им и не снилась. От их былой серьезности не осталось и следа, и в следующие полчаса они соорудили и истребили по шесть бутербродов на каждого. Скип так разбушевался, что чуть не свалился в костер, а на губах Марси расцвела, наконец, та самая улыбка, которая пробивалась весь день, и такой ослепительной оказалась она, что пламя костра по сравнению с ней поблекло.
Потом Карпентер приготовил какао в кухонном отсеке Сэма, и теперь для завершения пиршества не хватало только жареных каштанов. Он подумал: а что, если его деловая помощница уложила и этот деликатес в хвостовой отсек Сэма среди прочих запасов? Маловероятно, но он все же решил посмотреть – и, к своей великой радости, обнаружил целую коробку.
Он снова устроил небольшое представление, за которым дети следили, разинув рты. Когда первые каштаны подрумянились до золотисто-коричневого цвета, у Скипа глаза чуть не выскочили из орбит. А Марси просто стояла и глядела на Карпентера так, словно он только что сказал: «Да будет свет!» – и наступил первый в мире день.
Смеясь, он вынул каштаны из огня и роздал детям.
– Скип! – возмущенно сказала Марси, когда тот засунул всю свою порцию в рот и проглотил единым махом. – Как ты себя ведешь?
Сама она ела со всем изяществом, какое предписывают правила хорошего тона.
Когда с каштанами было покончено, Карпентер вышел из пещеры и принес три больших охапки лавровых и кизиловых веток для подстилки. Он показал детям, как разостлать их на полу пещеры и как покрыть их одеялами, которые он достал из хвостового отсека Сэма. Скипу дальнейших приглашений не потребовалось: после бурной деятельности и сытного ужина он свалился на одеяло, едва успев его расстелить. Карпентер достал еще три одеяла, накрыл одним из них Скипа и повернулся к Марси.
– Ты тоже выглядишь усталой, крошка.
– Нет, ничуть, мистер Карпентер. Ни капельки. Я же на два года старше Скипа. Он еще маленький.
* * *
Оставшиеся два одеяла он свернул в некое подобие подушек и пристроил их у огня. На одно уселся сам, на другое села Марси.
Весь вечер из-за защитного экрана то и дело доносились рев, рык и ворчание; теперь их сменили жуткие звуки – казалось, рядом громыхает гигантская асфальтодробилка. Пол пещеры дрогнул, и на стенах отчаянно заплясали отсветы костра.
– Похоже, что это тираннозавр, – сказал Карпентер. – Наверное, проголодался и решил закусить парочкой струтиомимусов.
– Тиранозавр, мистер Карпентер?
Он описал ей этого хищного ящера. Она кивнула и поежилась.
– Ну да, – сказала она. – Мы со Скипом одного такого видели. Это было после того, как мы переплыли реку. Мы… мы притаились в кустах, пока он не прошел мимо. Какие у вас, на Земле, есть ужасные создания, мистер Карпентер!
– В наше время их уже нет, – ответил Карпентер. – Теперь у нас совсем другие создания – от одного их вида тиранозавр пустился бы наутек, как перепуганный кролик. Впрочем, особенно жаловаться не приходится. Правда, наше техническое распутство обошлось нам не дешево, зато благодаря ему мы получили и кое-что полезное. Путешествия во времени, например. Или межпланетные полеты.
В этот момент асфальтодробилке, по-видимому, попался особенно неподатливый кусок асфальта, и к тому же, судя по немыслимым звукам, которыми она разразилась, внутри у нее что-то сломалось. Девочка придвинулась к Карпентеру.
– Не бойся, крошка. Здесь опасаться некого – через наше защитное поле не пробьется даже целая армия ящеров.
– А почему вы зовете меня крошкой, мистер Карпентер? У нас так называется сухой и жесткий маленький кусочек хлеба.
Он рассмеялся. Звуки, доносившиеся из-за защитного поля, стали слабее и утихли вдали – видимо, ящер направился в другую сторону.
– На Земле это тоже называется крошкой, но ничего обидного тут нет. Дело не в этом. Крошками у нас называют еще девушек, которые нам нравятся.
Наступило молчание. Потом Марси спросила:
– А у вас есть девушка, мистер Карпентер?
– Да в общем-то нет. Я бы так сказал: есть одна, но ее я, образно выражаясь, боготворю издали.
– Не похоже, чтобы вам от этого было много радости. А кто она такая?
– Моя главная помощница в Североамериканском палеонтологическом обществе, где я работаю, мисс Сэндз. Ее зовут Элейн, но я никогда не называю ее по имени. Она присматривает за тем, чтобы я ничего не забыл, когда отправляюсь в прошлое, и устанавливает перед стартом время и место по времяскопу. А потом она и еще один мой помощник, Питер Детрайтес, дежурят, готовые прийти мне на помощь, если я перешлю им банку консервированной зайчатины. Понимаешь, это наш сигнал бедствия. Банка как раз такого размера, что ее может перебросить во времени палеонтоход. А заяц в нашем языке ассоциируется со страхом.
– А почему вы боготворите ее издали, мистер Карпентер?
– Видишь ли, – задумчиво ответил Карпентер, – мисс Сэндз – это тебе не простая девушка, она не такая, как все. Она холодна, равнодушна – как богиня, понимаешь? Впрочем, вряд ли ты можешь это понять. В общем, с такой богиней просто нельзя себя вести так же, как с обыкновенными девушками. С ней надо знать свое место – боготворить ее издали и смиренно ждать, когда она вдруг снизойдет до тебя. Я… я до того ее боготворю, что при ней совсем робею и теряю дар речи. Может быть, потом, когда я познакомлюсь с ней поближе, дело пойдет иначе. Пока что я знаком с ней три месяца.
* * *
Он умолк. Сережки-говорешки в ушах Марси блеснули в свете костра – она повернула голову и ласково взглянула на него.
– В чем дело, мистер Карпентер? Заснули?
– Просто задумался. Если уж на то пошло, три месяца – не так уж мало. За это время вполне можно понять, полюбит когда-нибудь тебя девушка или нет. Мисс Сэндз никогда меня не полюбит – теперь я точно знаю. Она даже не взглянет на меня лишний раз без особой надобности, двух слов со мной не скажет, разве что это позарез нужно. Так что если даже я решу, что хватит боготворить ее издали, соберусь с духом и признаюсь ей в любви, она, вероятно, только рассердится и прогонит меня прочь.
– Ну, не совсем же она сумасшедшая, мистер Карпентер! – возмутилась Марси. – Не может этого быть. Как ей не стыдно?
– Нет, Марси, ты ничего не понимаешь. Разве может такой красавице понравиться никому не нужный бродяга вроде меня?
– Ничего себе бродяга, и к тому же никому не нужный! Знаете, мистер Карпентер, по-моему, вы просто не разбираетесь в женщинах. Да если вы скажете ей, что ее любите, она бросится вам на шею, вот увидите!
– Ты романтик, Марси. В настоящей жизни так не бывает.
Он встал.
– Ну ладно, мадемуазель, не знаю, как вы, а я устал. Кончим на этом?
– Если хотите, мистер Карпентер.
Она уже спала, когда он нагнулся, чтобы укрыть ее одеялом. Некоторое время он стоял, глядя на нее.
Она повернулась на бок, и отсвет костра упал на коротко подстриженные ярко-желтые волосы у нее на шее, окрасив их в золотисто-красный цвет. Ему вспомнились весенние луга, усеянные лютиками, и теплое чистое солнце, возвещающее о том, что наступило росистое утро…
Взглянув, хорошо ли устроен Скип, он подошел к выходу из пещеры и выглянул наружу. Как только тираннозавр удалился, из своих укрытий показались попрятавшиеся было существа помельче. Карпентер разглядел причудливые контуры нескольких орнитоподов; у рощицы веерных пальм он заметил неподвижно стоящего анкилозавра; он слышал, как по обе стороны защитного поля шныряют ящерки. С доисторических небес светила луна, чем-то чуть-чуть не похожая на ту луну, к которой он привык. Разница была в числе метеоритных кратеров: 79 062 156 лет спустя их станет куда больше.
Вскоре он обнаружил, что хотя все еще смотрит на луну, но больше ее не видит. Вместо этого у него перед глазами стоял костер, а у костра – девочка и мальчик, которые с увлечением жарят каштаны. «И почему это я не женился и не завел себе детей? – вдруг подумал он. – Почему пренебрег всеми хорошенькими девушками, которые мне встречались, и все только ради того, чтобы в тридцать два года безнадежно влюбиться в красавицу богиню, которой совершенно безразлично, существую я на свете или нет? Откуда это я взял, что острые ощущения, которые получаешь от всяких приключений, лучше спокойного довольства жизнью, когда ты кого-то любишь и кто-то любит тебя? Почему решил, что наводить порядок в исторических и доисторических временах важнее, чем навести порядок в собственной жизни? Почему думал, что одинокая меблированная комната – это и есть крепость, достойная настоящего мужчины, а выпивки в полутемных барах с развеселыми девицами, которых наутро уже не помнишь, – это и есть подлинная свобода? И какой это я могу найти в прошлом клад, чтобы он мог сравниться с сокровищами, от которых я отказался в будущем?..»
Стало прохладно. Перед тем как улечься, он подбросил хвороста в огонь. Он долго лежал, слушая, как трещит пламя, и глядя, как играют отблески на стенах пещеры. Из доисторической тьмы на него золотыми глазками посматривала ящерка.
Вдали послышался вопль орнитопода. А рядом с ним, окруженные глубокой мезозойской ночью, ровно дышали на своих постелях из веток двое детей.
В конце концов он уснул.
3
На следующее утро Карпентер, не теряя времени даром, собрался в путь. Марси и Скип были готовы на все, лишь бы остаться в пещере подольше, но он объяснил им, что если они будут сидеть на месте, похитители в два счета их обнаружат, и поэтому лучше нигде надолго не останавливаться. До сих пор дети прекрасно понимали все, что он говорил, так же как он понимал все, что говорили они; но на этот раз что-то не ладилось – он никак не мог добиться, чтобы до них это дошло. Очень может быть, что они попросту не хотели покидать пещеру. Так или иначе им пришлось это сделать – после того как в крохотной туалетной комнатке Сэма были совершены утренние омовения, а в кухонном отсеке был приготовлен плотный завтрак из яичницы с беконом. Но для того, чтобы они послушались, Карпентеру пришлось дать им понять, что командует здесь он, а не кто другой.
Никакого определенного плана действий у него пока не было. Размышляя, что делать дальше, он предоставил трицератанку самостоятельно выбирать себе дорогу по равнине – сверхчувствительной навигационной аппаратуре ящерохода это было нипочем.
В общем-то у Карпентера были только две возможности. Во-первых, он мог и дальше опекать детей и прятаться вместе с ними от похитителей, пока тем не надоест за ними гоняться или пока не подоспеет подмога в лице Космической полиции Большого Марса. Во-вторых, он мог вернуться в точку входа и дать сигнал мисс Сэндз и Питеру Детрайтесу, чтобы те перебросили трицератанк обратно, в настоящее время. Второй путь был несравненно безопаснее. Он так бы и сделал без всяких колебаний, если бы не два обстоятельства. Первое: хотя Марси и Скип, несомненно, могут приспособиться к цивилизации, столь похожей на их собственную, как цивилизация Земли двадцать второго века, они вряд ли будут чувствовать себя в этих условиях как дома. И второе. Рано или поздно они осознают ужасную истину: их собственная цивилизация, оставшаяся в далеком прошлом, за 79 062 156 лет бесследно исчезла, и из технологических мечтаний, которые они привыкли чтить как святыню, ровно ничего не вышло…
Был, правда, еще и третий путь – взять детей с собой в настоящее время на Землю, переждать там, пока похитители не прекратят поиски и не улетят или же пока не появится Космическая полиция, а потом вернуть их обратно в прошлое Земли. Но для этого понадобилось бы совершить не один рейс в меловой период и обратно, а такие рейсы стоят сумасшедших денег, и Карпентер заранее знал, что даже один рейс, не имеющий отношения к палеонтологии, будет САПО не по карману, не говоря уже о нескольких.
Погруженный в размышления, он вдруг почувствовал, что кто-то тянет его за рукав. Это был Скип – он вошел в кабину и забрался на сиденье.
– А мне можно им поуправлять, мистер Карпентер? Можно?
Карпентер оглядел равнину через переднее, боковые и хвостовое смотровые окна, потом заставил Сэма задрать голову и сквозь колпак кабины внимательно осмотрел небо. Высоко над скалистой грядой, где они были меньше часа назад, кружила черная точка. И пока он смотрел, рядом с ней появились еще две.
– Немного погодя, Скип. Сейчас, по-моему, мы тут не одни.
Скип тоже заметил в небе черные точки.
– Снова птеранодоны, мистер Карпентер?
– Боюсь, что да.
Точки, быстро увеличиваясь, превратились в крылатые силуэты с узкими остроконечными головами. В кабину вошла Марси и тоже внимательно посмотрела на небо. На этот раз ни она, ни Скип не проявили ни малейших признаков испуга.
– Мы снова прыгнем назад, в прошлое, мистер Карпентер? – спросила Марси.
– Посмотрим, крошка, – ответил он.
Теперь птеранодоны были хорошо видны. Не было сомнения, что их интересует именно Сэм. Другое дело – решатся ли они снова на него напасть. Несмотря на то что трицератанк был укрыт защитным полем, Карпентер все же решил на всякий случай направиться к ближайшей роще. Это была пальметтовая заросль примерно в километре от них. Он прибавил скорость и взялся за ручки управления.
– Вперед, Сэм! – сказал он, чтобы ободрить детей. – Покажем Марси и Скипу, на что ты способен!
Сэм сорвался с места, словно старинный паровоз двадцатого века. Его упругие стальные ноги ритмично двигались, копыта из твердого сплава отбивали такт, с громом ударяясь о землю. Однако в скорости Сэму было не сравниться с птеранодонами, и они легко его настигли. Передний круто спикировал в сотне метров впереди, сбросил что-то вроде большого металлического яйца и взмыл ввысь.
Металлическое яйцо оказалось не чем иным, как бомбой. Взрыв оставил такую огромную воронку, что Карпентер еле сумел ее объехать, не опрокинув ящероход. Он тут же прибавил оборотов и перешел на вторую скорость.
– Ну, этим они нас не возьмут, верно, старина? – сказал он.
– Рррррр! – заурчал в ответ Сэм.
Карпентер взглянул на небо. Теперь все птеранодоны кружились прямо у них над головой. Один, два, три – сосчитал он. Три? Вчера их было только два!
– Марси! – возбужденно сказал он. – Сколько всего, вы говорили, там похитителей?
– Трое, мистер Карпентер. Роул, Фритад и Холмер.
– Тогда они все тут. Значит, корабль никем не охраняется. Если только на нем нет экипажа.
– Нет, мистер Карпентер, экипажа нет. Они сами его вели.
Он оторвал взгляд от кружащихся вверху птеранодонов.
– А как вы думаете, ребята, смогли бы вы проникнуть внутрь?
– Запросто, – ответил Скип. – Это списанный военный авианосец со стандартными шлюзовыми камерами – всякому, кто хоть немного разбирается в технике, ничего не стоит открыть их. Поэтому мы с Марси и смогли тогда удрать. Будьте уверены, мистер Карпентер, я это сделаю.
– Хорошо, – сказал Карпентер. – Мы встретим их там, когда они вернутся.
* * *
С помощью Марси рассчитать координаты для скачка во времени было проще простого. Уже через несколько секунд Сэм был готов.
Когда они оказались в рощице карликовых пальм, Карпентер включил рубильник. Снова что-то замерцало у них перед глазами. Сэма слегка тряхнуло, и дневной свет превратился в предрассветную тьму. Где-то позади, в пещере у подножья скал, стоял еще один трицератанк, а на подстилке из веток крепко спали еще один Карпентер, еще один Скип и еще одна Марси.
– А далеко назад мы сейчас перепрыгнули, мистер Карпентер? – поинтересовался Скип.
Карпентер включил фары и принялся выводить Сэма из рощицы.
– На четыре часа. Теперь у нас должно хватить времени, чтобы добраться до корабля и устроиться там до возвращения наших приятелей. Может быть, мы попадем туда еще до того, как они отправятся на поиски, если только они не разыскивают нас круглые сутки.
– А что, если они найдут нас и в этом времени? – возразила Марси. – Ведь тогда мы снова попадем в такой же переплет?
– Не исключено, крошка. Но все шансы за то, что они нас не нашли. Иначе они бы не стали искать нас потом, верно?
Она с восхищением посмотрела на него.
– Знаете что, мистер Карпентер? Вы ужасно умный.
В устах девочки, которая могла в уме умножить 4 692 438 921 на 828 464 280, этот комплимент кое-чего стоил. Однако Карпентер и виду не показал, что он польщен.
– Надеюсь, ребята, что вы теперь найдете корабль? – сказал он.
– Мы уже на правильном курсе, – ответил Скип. – Я знаю, у меня врожденное чувство направления. Он замаскирован под большое дерево.
Взошло солнце – уже во второй раз в это утро. Как и вчера, размеры и внешний вид Сэма нагоняли страх на разнообразных животных мелового периода, попадавшихся им навстречу. Правда, если бы им повстречался тираннозавр, еще не известно, кто на кого нагнал бы страху. Но тираннозавра они не встретили. К восьми часам они уже были в тех местах, куда накануне попал Карпентер, покинув лесистые холмы.
– Смотрите! – вдруг воскликнула Марси. – Вот дерево, на которое мы залезли, когда удирали от того горбатого чудовища!
– Точно, – отозвался Скип. – Ну и струхнули же мы!
Карпентер усмехнулся.
– Оно, наверное, приняло вас за какое-нибудь новое растение, которого еще ни разу не пробовало. Хорошо, что я вовремя подвернулся, а то оно, пожалуй, расстроило бы себе желудок.
Сначала они уставились на него непонимающими глазами, и он подумал: слишком велика пропасть между двумя языками и двумя мирами, чтобы ее могла преодолеть эта немудреная шутка… Но он ошибся. Сначала расхохоталась Марси, а за ней и Скип.
– Ну, вы даете, мистер Карпентер! – заливалась Марси.
А Сэм тем временем двигался дальше. Местность становилась все более открытой – из крупных растений здесь попадались в основном лишь рощицы карликовых пальм и кучки веерных. Далеко справа над горизонтом, и без того затянутым дымкой, курились вулканы. Впереди виднелись горы, вершины которых прятались в мезозойском смоге. Воздух был такой влажный, что на колпаке кабины все время оседали капли воды и скатывались вниз, как в дождь. Вокруг кишели черепахи, ящерицы и змеи, а один раз над головами быстро пролетел настоящий птеранодон.
Наконец они добрались до реки, про которую рассказывала Марси и приближение которой уже давно предвещала все более сырая, топкая почва. Ниже по течению Карпентер впервые в жизни увидел бронтозавра.
Он показал на него детям, и они вытаращили глаза от изумления. Бронтозавр лежал посередине медленно текущей реки. Над водой виднелись только его крохотная голова, длинная шея и часть спины. Шея напоминала стройную гибкую башню – всю картину портило только то, что она то и дело ныряла в папоротники и камыши, окаймлявшие берег. Несчастное животное было до того велико, что ему, чтобы не умереть с голоду, приходилось кормиться буквально день и ночь напролет.
Карпентер отыскал брод и повел Сэма через реку к противоположному берегу. Здесь земля казалась потверже, но это впечатление было обманчиво: навигационные приборы Сэма показывали, что трясины попадаются здесь еще чаще. («Боже правый, – подумал Карпентер. – Что, если бы ребята забрели в такую трясину?») Вокруг в изобилии росли папоротники, под ногами расстилался толстый ковер из низкорослого лавра и осоки. Карликовых и веерных пальм по-прежнему было больше всего, но время от времени стали попадаться гинкго. Один из них, настоящий гигант, возвышался больше чем на полсотни метров над землей.
Карпентер в недоумении разглядывал это дерево. В меловой период гинкго росли обычно на высоких местах, а не в низинах. К тому же дереву таких размеров вообще нечего было делать в меловом периоде.
У гинкго-гиганта были и другие странности. Прежде всего у него был слишком толстый ствол. Кроме того, нижняя часть его, примерно до шестиметровой высоты, была разделена на три самостоятельных ствола – они образовывали нечто вроде треножника, на котором покоилось дерево.
И тут Карпентер увидел, что оба его подопечных взволнованно показывают пальцами на то дерево, которое он разглядывал.
– Оно самое! – вскричал Скип. – Это и есть корабль!
– Вот оно что! Не удивительно, что я обратил на него внимание, – сказал Карпентер. – Ну, не ахти как хорошо они его замаскировали. Я даже вижу гнездо для крепления самолета.
– А они не очень старались, чтобы его не было видно с земли, – объяснила Марси. – Главное – как он выглядит сверху. Конечно, если Космическая полиция подоспеет вовремя, она рано или поздно обнаружит его своими детекторами, но по крайней мере на некоторое время такой маскировки хватит.
– Ты как будто не рассчитываешь на то, что полиция подоспеет вовремя.
– Да нет, конечно. Со временем-то они сюда доберутся, но на это понадобится не одна неделя, а может быть, и не один месяц. Их радарной разведке нужно порядочно времени, чтобы выследить путь корабля, к тому же они почти наверняка еще даже не знают, что нас похитили. До сих пор в таких случаях, когда похищали детей из Института, правительство сначала платило выкуп, а уж потом сообщало в Космическую полицию. Конечно, даже после того, как уплачен выкуп и дети возвращены, Космическая полиция все равно приступает к поискам похитителей и рано или поздно находит, где они прятались, но к тому времени их обычно и след простыл.
– Ну что ж, – сказал Карпентер, – я думаю, давно пора кому-нибудь первому их поймать. Как, по-вашему?
* * *
Спрятав Сэма в ближайшей пальмовой рощице и выключив защитное поле, Карпентер залез под сиденье водителя и вытащил оттуда единственное портативное оружие, которым был снабжен трицератанк, – легкую, но с сильным боем винтовку, которая стреляла парализующими зарядами. Такую винтовку САПО сконструировало специально для своих служащих, чья работа была связана с путешествиями во времени. Перекинув ремень через плечо, Карпентер откинул колпак, вылез на морду Сэма и помог детям спуститься на землю. Все трое подошли к кораблю.
Скип вскарабкался на посадочную стойку, взобрался немного выше по стволу, и через какие-нибудь несколько секунд шлюзовая камера открылась. Скип спустил вниз алюминиевую лестницу.
– Все готово, мистер Карпентер.
Марси оглянулась через плечо на пальмовую рощицу.
– А Сэм – с ним ничего не случится, как вы думаете?
– Конечно, ничего, крошка, – успокоил ее Карпентер. – Ну, полезай.
Кондиционированный воздух внутри корабля имел примерно такую же температуру, как и в кабине Сэма; освещение было холодным и тусклым.
За внутренним люком шлюзовой камеры короткий коридор вел к стальной винтовой лестнице, которая шла вверх, к жилым палубам, и вниз, в машинное отделение. Карпентер взглянул на часы, которые раньше отвел на четыре часа назад, – было 8:24. Через несколько минут птеранодоны начнут атаковать Сэма, Карпентера, Марси и Скипа в «предыдущем» времени. Даже если тогда похитители сразу после этого направились к кораблю, времени еще достаточно – во всяком случае, хватит на то, чтобы послать радиограмму, а потом приготовить задуманную ловушку. Правда, радиограмму можно будет послать и тогда, когда Роул, Фритад и Холмер будут крепко заперты в своих каютах, но если что-нибудь сорвется, такая возможность может вообще не представиться, так что лучше сделать это сразу же.
– Ну вот что, ребята, – сказал Карпентер. – Закройте шлюз и ведите меня в радиорубку.
Первую часть приказания они исполнили с большой готовностью, но выполнять вторую почему-то не спешили. В коридоре Марси остановилась. Ее примеру последовал и Скип.
– Зачем вам радиорубка, мистер Карпентер? – спросила Марси.
– Чтобы вы могли сообщить наши координаты Космической полиции и сказать им, чтобы они спешили сюда. Надеюсь, вы с этим справитесь?
Скип поглядел на Марси, Марси – на Скипа. Потом оба покачали головами.
– Погодите, – с досадой сказал Карпентер. – Ведь вы прекрасно знаете, как это делается. Почему вы делаете вид, что не умеете?
Скип уставился в пол.
– Мы… мы не хотим домой, мистер Карпентер.
Карпентер взглянул в их серьезные лица.
– Но вы должны вернуться домой! Куда же вы еще денетесь?
Они молчали, пряча от него глаза.
– В общем, так, – продолжал он через некоторое время. – Если нам удастся поймать Роула, Фритада и Холмера, все прелестно. Мы продержимся здесь, пока не прибудет Космическая полиция, и сдадим их ей. Но если что-нибудь сорвется и мы их не поймаем, у нас по крайней мере останется еще один козырь – та самая радиограмма, которую вы сейчас пошлете. Теперь дальше. Я примерно представляю себе, сколько времени нужно космическому кораблю, чтобы добраться с Марса на Землю. Но я, конечно, не знаю, за сколько времени это могут сделать ваши корабли. Так что скажите-ка мне, через сколько дней Космическая полиция будет здесь, на Земле, после того как получит вашу радиограмму?
– При нынешнем расположении планет чуть больше чем через четверо суток, – сказала Марси. – Если хотите, мистер Карпентер, я могу рассчитать время с точностью до…
– Не надо, достаточно и этого, крошка. А теперь лезь наверх, и ты тоже, Скип. Нечего терять время!
Дети нехотя повиновались. Радиорубка находилась на второй палубе. Кое-какая аппаратура показалась Карпентеру знакомой, но большая часть представляла для него совершенную загадку. За огромным, от пола до потолка, иллюминатором открывался вид на доисторическую равнину. Взглянув вниз сквозь фальшивую листву, Карпентер увидел пальметтовую рощицу, где был спрятан Сэм. Он внимательно оглядел горизонт – не возвращаются ли птеранодоны. Но в небе ничего не было видно. А отвернувшись от иллюминатора, он увидел, что в рубке появился кто-то четвертый. Карпентер сбросил с плеча винтовку и почти успел вскинуть ее, когда металлическая трубка в руке этого четвертого издала резкий скрежещущий звук, и винтовка исчезла.
Не веря своим глазам, Карпентер уставился на собственные руки.
4
Человек, появившийся в рубке, был высок и мускулист. Одет он был примерно так же, как Марси и Скип, но побогаче. На его узком лице было написано ровно столько же душевных переживаний, сколько на сушеной груше, а металлическая трубка в его руке была направлена Карпентеру точно между глаз. Не требовалось особых объяснений, чтобы понять: сдвинься Карпентер с места хоть на полшага, и с ним произойдет то же, что и с винтовкой. Впрочем, человек снизошел до того, что сообщил ему:
– Если двинешься – распылю.
– Нет, Холмер! – вскричала Марси. – Не смей его трогать! Он просто помог нам, потому что ему стало нас жалко!
– Постой, крошка, ты же как будто говорила, что их только трое? – сказал Карпентер, не сводя глаз с Холмера.
– Их на самом деле трое, мистер Карпентер. Честное слово! Наверное, третий птеранодон был беспилотный. Они нас перехитрили!
Холмер должен был бы ухмыльнуться, но он не ухмыльнулся. Он заговорил, и в его голосе должно было бы прозвучать торжество, но и этого не было.
– Мы так и думали, приятель, – ты из будущего, – сказал он. – Мы тут устроились довольно давно и знали, что ты не можешь быть из настоящего. А раз так, нетрудно было сообразить, что, когда этот твой танк вчера исчез, ты прыгнул во времени или вперед, или назад, и два против одного, что назад. Мы решили рискнуть, предположили, что ты проделаешь то же еще раз, если тебя прижать к стене, и устроили для тебя небольшую ловушку. Мы рассудили, что у тебя хватит ума в нее попасть. И верно – хватило. Я не распыляю тебя прямо сейчас же только потому, что еще не вернулись Роул и Фритад. Я хочу, чтобы они сначала на тебя полюбовались. А потом я тебя распылю, будь уверен. И этих обоих тоже. Нам они больше не нужны.
У Карпентера мороз пробежал по спине. В этих чисто логических рассуждениях было слишком много от самой обыкновенной мстительности. Возможно, птеранодоны чуть ли не с самого начала пытались «распылить» Марси, Скипа, Сэма и его самого, и если бы не защитное поле Сэма, несомненно, так бы и сделали. «Ну ничего, – подумал Карпентер. – Логика – палка о двух концах, и не один ты умеешь ею пользоваться».
– А скоро вернутся твои дружки? – спросил он.
Холмер ответил непонимающим взглядом. И тут Карпентер заметил, что у Холмера в ушах нет сережек.
* * *
Карпентер повернулся к Марси:
– Скажи-ка мне, крошка, если этот корабль упадет на бок, не взорвется ли тут что-нибудь – от изменения положения, например, или от удара о землю? Ответь «да» или «нет», иначе наш приятель поймет, о чем мы говорим.
– Нет, мистер Карпентер.
– А конструкция корабля достаточно прочная? Переборки нас не раздавят?
– Нет, мистер Карпентер.
– А аппаратура в рубке? Она хорошо закреплена? Не упадет на нас?
– Нет, мистер Карпентер.
– Хорошо. Теперь постарайтесь вместе со Скипом как можно незаметнее подвинуться вон к той стальной колонне в центре. Когда корабль начнет валиться, хватайтесь за нее и держитесь изо всех сил.
– Что он тебе говорит, девчонка? – резко спросил Холмер.
Марси показала ему язык.
– Так я тебе и сказала!
Очевидно, способность принимать хладнокровно взвешенные решения, руководствуясь исключительно строгой логикой, отнюдь не сопровождалась способностью соображать быстро. Только в эту минуту десентиментализированный марсианин понял, что из всех присутствующих лишь у него одного нет сережек.
Он полез в небольшую сумку, висевшую у него на поясе, достал оттуда пару сережек и начал одной рукой надевать их, продолжая держать в другой распылитель, нацеленный Карпентеру в лоб. Карпентер нащупал большим пальцем правой руки крохотные выпуклости на управляющем перстне, надетом на его указательный палец, отыскал нужные и нажал на них в нужной последовательности. Внизу, на равнине, из пальмовой рощицы показалась тупоносая морда Сэма.
Карпентер сосредоточился и начал мысленно передавать по телепатическому каналу, который теперь соединил его мозг с крестцовым нервным центром Сэма:
– Сэм, убери рогопушки и включи защитное поле вокруг колпака кабины.
Сэм выполнил приказ.
– Теперь отступи назад, разбегись как следует, упрись в посадочную стойку справа от тебя и вышиби ее. А потом удирай во все лопатки!
Сэм выполз из рощицы, развернулся и рысью пробежал сотню метров по равнине. Потом он снова развернулся, готовясь к предстоящей атаке, и медленно двинулся вперед, а затем переключился на вторую передачу. Его топот превратился в громовые раскаты, которые проникли сквозь переборки в радиорубку. Холмер, который наконец вставил в уши сережки, вздрогнул и шагнул к иллюминатору.
К этому времени Сэм уже несся к кораблю, как таран. Не нужно было иметь семи пядей во лбу, чтобы сообразить, что произойдет дальше.
Холмер имел не меньше семи пядей во лбу. Но иногда лишний ум не менее опасен, чем скудоумие. Так было и на этот раз. Позабыв о Карпентере, марсианин повернул рычажок справа от иллюминатора. Толстое небьющееся стекло скользнуло вбок, в стену. Марсианин высунулся наружу и направил свой распылитель вниз. В то же мгновение Сэм врезался в посадочную стойку, и Холмер пулей вылетел в раскрытый иллюминатор.
Дети уже вцепились в колонну. Сделав отчаянный прыжок, Карпентер присоединился к ним.
– Держись, ребята! – крикнул он и повис на колонне.
Сначала корабль кренился медленно, потом начал падать все быстрее. В такие моменты лесорубы обычно кричат: «Пошел!» На этот раз кричать было некому, что не помешало гинкго благополучно завершить падение. На многие километры вокруг попрятались ящерицы, зарылись в землю черепахи, застыли, разинув рот, зауроподы. «БУММММ!» Карпентера вместе с детьми оторвало от колонны, но он ухитрился обхватить их и смягчить падение своим телом.
От удара о переборку спиной у него перехватило дыхание. И все погрузилось во тьму.
* * *
Через некоторое время у него в глазах посветлело. Он увидел лицо Марси, парящее над ним, наподобие маленькой бледной луны. Ее глаза были как осенние астры после первого заморозка.
Она расстегнула ему воротник и, плача, гладила его щеки. Он улыбнулся ей, с трудом поднялся на ноги и огляделся. В радиорубке ничего не изменилось, но выглядела она как-то странно. Потом он понял: это оттого, что он стоит не на палубе, а на переборке. К тому же он все еще был сильно оглушен.
– Я боялась, что вы умерли, мистер Карпентер! – сквозь слезы говорила Марси.
Он взъерошил ее лютиковые волосы.
– Что, здорово я тебя обманул?
Через дверь, теперь оказавшуюся в горизонтальном положении, в рубку вошел Скип, держа в руках небольшой контейнер. При виде Карпентера лицо его осветилось радостью.
– Я пошел за укрепляющим газом, но, похоже, он вам уже не понадобится. Ну и рад же я, что с вами ничего не случилось, мистер Карпентер!
– С вами, кажется, тоже? – спросил Карпентер и с облегчением услышал утвердительный ответ. Все еще немного оглушенный, он взобрался по плавно изогнутой переборке к иллюминатору и выглянул наружу. Сэма нигде не было видно. Вспомнив, что канал телепатической связи все еще включен, Карпентер приказал трицератанку вернуться, а потом вылез через иллюминатор, спустился на землю и отправился искать тело Холмера. Поиски оказались безуспешными. Карпентер решил было, что Холмер остался жив и скрылся в лесу. Но потом он наткнулся на одну из трясин, которыми изобиловала местность. При виде ее взбаламученной поверхности он содрогнулся. Ну ладно – во всяком случае, теперь он знает, чьи это останки. Вернее, чьи это были останки.
В это время показался Сэм. Он приблизился тяжелой рысью, обогнув трясину, вовремя замеченную его навигационными приборами. Карпентер похлопал ящероход по голове, на которой не осталось ни малейших следов от недавнего столкновения с посадочной стойкой, потом выключил телепатическую связь и вернулся в корабль. Марси и Скип стояли у иллюминатора и не сводили глаз с неба. Карпентер повернулся и тоже посмотрел вверх. Над горизонтом виднелись три темных пятнышка.
Тут в голове у него окончательно прояснилось, он схватил обоих детей в охапку и помог им спуститься на землю.
– Бегите к Сэму! – крикнул он. – Скорее!
Сам он бросился вслед, но, несмотря на свои длинные ноги, не мог за ними угнаться. Они успели добежать до ящерохода и карабкались в кабину, а он не пробежал еще и полпути. Птеранодоны были уже близко – он видел на земле их тени, быстро его настигавшие. Но он не заметил под ногами небольшую черепаху, которая изо всех сил старалась убраться у него с дороги. Он споткнулся об нее и растянулся на земле.
Подняв голову, он увидел, что Марси и Скип уже захлопнули колпак Сэма. А через секунду он оцепенел от ужаса: ящероход исчез!
И вдруг на землю легла еще одна тень – такая огромная, что она поглотила птеранодонов.
Карпентер повернулся на бок и увидел космический корабль – он опускался на равнину, словно какой-то внеземной небоскреб. В то же мгновение из его верхней части вылетели три радужных луча. «ПФФФТ! ПФФФТ! ПФФФТ!» И все три птеранодона исчезли.
Небоскреб грузно приземлился, открыл люки размером с парадный подъезд и выкинул трап шириной с тротуар Пятой авеню. Из люка по трапу двинулась Подмога. Карпентер взглянул в другую сторону и увидел, что Сэм снова появился на том самом месте, где исчез. Колпак откинулся, и из кабины показались Марси и Скип в клубах голубоватого дыма.
Карпентер понял, что произошло, и про себя навсегда распрощался с двадцать вторым веком.
* * *
Дети подбежали к нему в тот момент, когда командующий Подмогой выступил перед фронтом своего войска. Оно состояло из шести рослых марсиан в пурпурных тогах, с суровыми лицами и распылителями в руках. Командир был еще более рослым, в еще более пурпурной тоге, с еще более суровым лицом, а в руке у него было нечто вроде волшебной палочки, какие бывают у фей. Он окинул Карпентера недобрым взглядом, потом таким же недобрым взглядом окинул обоих детей.
Дети помогли Карпентеру подняться на ноги. Не то чтобы он физически нуждался в помощи – просто он был ошарашен стремительной сменой событий и слегка растерялся. Марси плакала.
– Мы не нарочно сломали Сэма, мистер Карпентер, – глотая слова от волнения, говорила она. – Но, чтобы спасти вам жизнь, оставалось только одно – прыгнуть назад на четыре дня, два часа, шестнадцать минут и три и три четверти секунды, пробраться на борт корабля похитителей и дать радиограмму Космической полиции. Иначе они не поспели бы вовремя. Я сообщила им, что вы попали в беду и чтобы у них были наготове радугометы. А потом, как раз когда мы хотели вернуться в настоящее, у Сэма сломался временной двигатель, и Скипу пришлось его чинить, а потом Сэм все равно перегорел. Простите нас, пожалуйста, мистер Карпентер! Теперь вы больше никогда не сможете вернуться в 79 062 156 год, и увидеть мисс Сэндз, и…
Карпентер похлопал ее по плечу.
– Ничего, крошка. Все в порядке. Вы правильно сделали, и я вами горжусь.
Он восхищенно покрутил головой.
– Это же надо было все так точно рассчитать!
Улыбка пробилась сквозь слезы, и слезы высохли.
– Я… я же неплохо считаю, мистер Карпентер.
– А рубильник включил я! – вмешался Скип. – И временной двигатель починил тоже я, когда он сломался!
Карпентер усмехнулся.
– Знаю, Скип. Вы оба просто молодцы.
Он повернулся к рослому марсианину с волшебной палочкой в руках и заметил, что тот уже вдел в уши сережки.
– Я полагаю, что столь же обязан вам, как и Марси со Скипом, – сказал Карпентер. – И я весьма признателен. А теперь мне, боюсь, придется просить вас еще об одном одолжении – взять меня с собой на Марс. Мой ящероход перегорел, и отремонтировать его могут только специалисты, да и то лишь в сверхсовременной мастерской со всеми приспособлениями. Из этого следует, что я лишен всякой возможности связаться с временем, из которого сюда прибыл, или в него вернуться.
– Мое имя Гаутор, – сказал рослый марсианин и повернулся к Марси. – Изложи мне со всей краткостью, на какую ты способна, все, что произошло начиная с твоего прибытия на эту планету и до настоящего момента.
Марси повиновалась.
– Так что вы видите, сэр, – закончила она, – помогая Скипу и мне, мистер Карпентер оказался в очень тяжелом положении. Вернуться в свое время он не может, выжить в этом времени – тоже. Мы просто вынуждены взять его с собой на Марс, и все.
* * *
Гаутор ничего не ответил. Он небрежным жестом поднял свою волшебную палочку, направил ее на лежащий корабль похитителей и повернул рукоятку. Палочка загорелась яркими зелеными и синими огнями.
Через несколько секунд из небоскреба вылетел радужный сноп огня, упал на корабль похитителей, и с кораблем произошло то же, что и с тремя птеранодонами. Гаутор повернулся к своим людям.
– Проводите детей на борт полицейского крейсера и обеспечьте им должный уход.
Потом он повернулся к Карпентеру.
– Правительство Большого Марса выражает вам признательность за оказанную услугу – спасение двух его будущих бесценных граждан. Я благодарю вас от его имени. А теперь, мистер Карпентер, прощайте.
Гаутор отвернулся. Марси и Скип бросились к нему.
– Вы не можете его здесь оставить! – вскричала Марси. – Он погибнет!
Гаутор дал знак двоим марсианам, к которым только что обращался. Они прыгнули вперед, схватили детей и поволокли их к кораблю-небоскребу.
– Погодите, – вмешался Карпентер, несколько озадаченный новым поворотом событий, но не потерявший присутствия духа. – Я не умоляю о спасении моей жизни, но если вы примете меня в свое общество, я могу принести вам кое-какую пользу. Я могу, например, научить вас путешествовать во времени. Могу…
– Мистер Карпентер, если бы мы хотели путешествовать во времени, мы бы давным-давно этому научились. Путешествие во времени – занятие для глупцов. Прошлое уже случилось, и изменить его нельзя. Так стоит ли пытаться? Что же касается будущего – нужно быть идиотом, чтобы стремиться узнать, что будет завтра.
– Ну ладно, – сказал Карпентер, – тогда я не буду изобретать путешествие во времени, буду держать язык за зубами, жить тихо-спокойно и стану примерным гражданином.
– Не станете, мистер Карпентер, и вы сами это прекрасно знаете. Для этого вас нужно десентиментализировать. А по выражению вашего лица я могу сказать, что вы никогда добровольно на это не согласитесь. Вы скорее останетесь здесь, в вашем доисторическом прошлом, и здесь погибнете.
– Раз уж на то пошло, пожалуй, я так и сделаю, – ответил Карпентер. – Даже тираннозавр в сравнении с вами – просто филантроп, а уж все остальные динозавры, и ящеротазовые, и птицетазовые, не в пример человечнее. Но, мне кажется, есть одна простая вещь, которую вы могли бы для меня сделать без особого ущерба для своего десентиментализированного душевного спокойствия. Вы могли бы дать мне какое-нибудь оружие взамен того, что уничтожил Холмер.
Гаутор покачал головой.
– Как раз этого я и не могу сделать, мистер Карпентер, потому что оружие легко может быть обнаружено вместе с вашими останками, и тем самым на меня ляжет ответственность за анахронизм. Один такой анахронизм уже отчасти на моей совести – труп Холмера, который мы не можем извлечь. Я не хочу рисковать и брать на себя новую ответственность. Как вы думаете, почему я уничтожил корабль похитителей?
– Мистер Карпентер! – крикнул Скип с трапа, по которому его с сестрой волокли двое марсиан. – Может быть, Сэм не совсем перегорел? Может быть, у него еще хватит сил хотя бы послать назад банку зайчатины?
– Боюсь, что нет, Скип, – крикнул в ответ Карпентер. – Но ничего страшного, ребята. Не беспокойтесь за меня – я перебьюсь. Животные всегда меня любили, а ведь ящеры – тоже животные. Может быть, и они меня полюбят?
– О, мистер Карпентер, – прокричала Марси, – мне ужасно жаль, что все так вышло. Почему вы не взяли нас с собой в ваш 79 062 156 год? Мы все время этого хотели, только боялись сказать.
– Да, надо бы мне так сделать, крошка, надо бы…
В глазах у него все вдруг расплылось, и он отвернулся. Когда же он снова взглянул в ту сторону, двое марсиан уводили Марси и Скипа в шлюзовую камеру. Он помахал рукой.
– Прощайте, ребята! – крикнул он. – Я никогда вас не забуду!
Марси сделала последнюю отчаянную попытку вырваться. Еще немного – и это бы ей удалось. В ее глазах, похожих на осенние астры, утренней росой блестели слезы.
– Я люблю вас, мистер Карпентер! – успела она прокричать перед тем, как скрылась из виду. – Я буду любить вас всю жизнь!
Двумя ловкими движениями Гаутор вырвал сережки из ушей Карпентера, потом вместе с остальными марсианами поднялся по трапу и вошел в корабль.
«Вот тебе и Подмога», – подумал Карпентер. Парадный подъезд захлопнулся. Небоскреб дрогнул, величественно поднялся в воздух и некоторое время парил над Землей. Наконец, отбросив слепящий поток света, он устремился в небо, взвился к зениту и превратился в звездочку. Это не была падающая звезда, и все-таки Карпентер загадал желание.
– Желаю вам обоим счастья, – сказал он. – И желаю, чтобы они не смогли отнять у вас сердце, потому что уж очень хорошие у вас сердца.
Звездочка поблекла, замерцала и исчезла. Он остался один на обширной равнине.
Земля дрогнула. Повернувшись, он увидел, что справа, рядом с тремя веерными пальмами, движется что-то большое и темное. Через мгновение он различил гигантскую голову и массивное прямостоящее туловище. Два ряда саблевидных зубов сверкнули на солнце, и он невольно сделал шаг назад.
Это был тираннозавр.
5
Ящероход, даже если он сломан, – все же лучше, чем ничего. И Карпентер помчался к Сэму. Забравшись в кабину и захлопнув колпак, он смотрел, как приближается тираннозавр. Было ясно, что хищник заметил Карпентера и теперь направляется прямо к Сэму. Защитное поле кабины было выключено Марси со Скипом, и Карпентер представлял собой довольно-таки легкую добычу. Однако он не спешил убраться в каюту, потому что Марси и Скип оставили выдвинутыми рогопушки. Навести их теперь было невозможно, но стрелять они все еще могли. Если бы тираннозавр подошел на нужное расстояние, то его, может быть, удалось бы на некоторое время вывести из строя парализующими зарядами. Правда, пока что тираннозавр приближался под прямым углом к направлению, куда смотрели рогопушки, но все еще оставалась надежда на то, что, прежде чем напасть, он окажется перед ними, и Карпентер решил выждать.
Он низко пригнулся на сиденье, готовый нажать на спуск. Кондиционер не работал, и в кабине было жарко и душно. К тому же в воздухе стоял едкий запах горелой изоляции. Карпентер заставил себя не обращать на это внимания и сосредоточился.
Тираннозавр был уже так близко, что можно было разглядеть его атрофированные передние ноги. Они свисали с узких плеч чудовища, словно высохшие лапки какого-то другого существа, раз в десять меньшего. Над ними, в добрых семи метрах от земли, на шее толщиной со ствол дерева возвышалась гигантская голова: под ними уродливый торс, расширяясь книзу, переходил в задние ноги. Мощный хвост волочился позади, и треск ломающихся под его тяжестью кустов сопровождал громовые удары, которые раздавались всякий раз, когда на землю ступала огромная лапа с птичьим когтем на конце. Карпентер должен был бы оцепенеть от ужаса – он никак не мог понять, почему ему не страшно.
В нескольких метрах от трицератанка тираннозавр остановился, и его приоткрытая пасть разинулась еще шире. Полуметровые зубы, торчавшие из челюстей, могли сокрушить лобовой колпак Сэма, как бумажный, и, по всей видимости, именно это чудовище и собиралось вот-вот сделать. Карпентер приготовился поспешно ретироваться в каюту, но в самый страшный момент тираннозавру как будто не понравилось выбранное им направление атаки, и он начал приближаться к ящероходу спереди, предоставляя Карпентеру долгожданную возможность. Его пальцы легли на первую из трех спусковых кнопок, но не нажали ее. «Почему же все-таки мне совсем не страшно?» – пронеслось в его голове.
Он взглянул сквозь колпак на чудовищную голову. Огромные челюсти продолжали раскрываться все шире. Вот уже вся верхняя часть черепа поднялась вертикально. Карпентер не поверил своим глазам – над нижним рядом зубов показалась еще одна голова, на этот раз отнюдь не чудовищная, и посмотрела на него ясными голубыми глазами.
– Мисс Сэндз! – выдохнул он и чуть не свалился с водительского сиденья.
* * *
Придя в себя, он откинул колпак, вышел на тупоносую морду Сэма и любовно похлопал тираннозавра по брюху.
– Эдит! – сказал он ласково. – Эдит, милочка, это ты!
– Вы целы, мистер Карпентер? – крикнула сверху мисс Сэндз.
– Вполне, – ответил Карпентер. – Ну и рад же я вас видеть, мисс Сэндз!
Рядом с ее головкой показалась еще одна – знакомая каштановая голова Питера Детрайтеса.
– А меня вы тоже рады видеть, мистер Карпентер?
– Еще бы, Пит, приятель!
Мисс Сэндз выдвинула из нижней губы Эдит трап, и оба спустились вниз. Питер Детрайтес тащил за собой буксирный трос, который тут же принялся прицеплять к морде Сэма и к хвосту Эдит. Карпентер помогал ему.
– А откуда вы узнали, что мне пришлось туго? – спросил он. – Ведь я ничего не посылал.
– Сердце подсказало, – ответил Питер Детрайтес и повернулся к мисс Сэндз. – Ну, у нас все, Сэндз.
– Что ж, тогда поехали, – откликнулась мисс Сэндз. Она взглянула на Карпентера и быстро опустила глаза. – Если, конечно, вы уже покончили со своим заданием, мистер Карпентер.
Теперь, когда первое радостное возбуждение схлынуло, он почувствовал, что снова, как и прежде, совсем теряется в ее присутствии.
– Покончил, мисс Сэндз, – сказал он, обращаясь к левому карману ее куртки. – И вы не поверите, как все обернулось!
– Ну, не знаю. Бывает, самые невероятные вещи на поверку оказываются самыми правдоподобными. Я приготовлю вам что-нибудь поесть, мистер Карпентер.
Она легко поднялась по лестнице. Карпентер последовал за ней, а за ним – Питер Детрайтес.
– Я сяду за руль, мистер Карпентер, – сказал он. – Похоже, что вы порядком измотаны.
– Так оно и есть, – признался Карпентер.
Спустившись в каюту Эдит, он рухнул на койку. Мисс Сэндз зашла в кухонный отсек, поставила воду для кофе и достала из холодильника ветчину. Питер Детрайтес, оставшийся наверху, в кабине, захлопнул колпак, и Эдит тронулась.
Питер был прекрасным водителем и готов был сидеть за рулем день и ночь. И не только сидеть за рулем – он мог бы с закрытыми глазами разобрать и собрать любой ящероход. «Странно, почему они с мисс Сэндз не влюбились друг в друга? – подумал Карпентер. – Они оба такие милые, что им давно следовало бы это сделать». Конечно, Карпентер был рад, что этого не произошло, хотя ему-то от этого было не легче.
А почему они ни слова не сказали о корабле Космической полиции? Ведь не могли же они не видеть, как он взлетает…
Эдит не спеша двигалась по равнине в сторону холмов. Через иллюминатор было видно, как за ней ковыляет Сэм. В кухоньке мисс Сэндз резала ветчину. Карпентер засмотрелся на нее, пытаясь отогнать печаль, навеянную расставанием с Марси и Скипом. Его взгляд остановился на ее стройных ногах, тонкой талии, поднялся выше, к медно-красным волосам, задержавшись на мгновение на шелковистом пушке, который покрывал ее шею под короткой стрижкой. Странно, что с возрастом волосы всегда темнеют…
Карпентер неподвижно лежал на койке.
– Мисс Сэндз, – сказал он вдруг. – Сколько будет 499 999 991 умножить на 8 003 432 111?
– 400 171 598 369 111 001.
Мисс Сэндз вдруг вздрогнула. А потом продолжила резать ветчину.
* * *
Карпентер медленно сел и спустил ноги на пол. У него сжалось сердце и перехватило дыхание.
Возьмите двух одиноких детишек. Один из них гений по части математики, другой – по части техники. Двое одиноких детишек, которые за всю свою жизнь не знали, что такое быть любимыми. Перевезите их на другую планету и посадите в ящероход, который при всех своих достоинствах – всего лишь чудесная огромная игрушка. Устройте для них импровизированный пикник в меловом периоде и приласкайте их впервые в жизни. А потом отнимите у них все это и в то же время оставьте им сильнейший стимул к возвращению – необходимость спасти человека. И при этом сделайте так, чтобы, спасая его жизнь, они могли – в ином, но не менее реальном смысле слова – спасти свою.
Но 79 062 156 лет! 75 000 000 километров! Это невозможно! А почему?
Они могли тайком построить машину времени в своей подготовительной школе, делая вид, что готовятся к десентиментализации; потом, как раз перед тем, как начать принимать десентиментализирующий препарат, они могли войти в машину и совершить скачок в далекое будущее.
Правда, такой скачок должен был бы потребовать огромного количества энергии. Правда, картина, которую они увидели бы на Марсе, прибыв в будущее, не могла не потрясти их до глубины души. Но это были предприимчивые дети – достаточно предприимчивые, чтобы использовать любой значительный источник энергии, оказавшийся под рукой, и чтобы выжить при нынешнем климате и в нынешней атмосфере Марса до тех пор, пока не отыщут одну из марсианских пещер с кислородом. А там о них должны были бы позаботиться марсиане, которые научили бы их всему, что нужно, чтобы они смогли сойти за уроженцев Земли в одном из куполов-колоний. Что же касается колонистов, то те вряд ли стали бы задавать лишние вопросы, потому что были бы счастливы увеличить свою скудную численность еще на двух человек. Дальше детям оставалось бы только терпеливо ждать, пока они вырастут и смогут заработать на поездку на Землю. А там им оставалось бы только получить нужное образование и стать палеонтологами.
Конечно, на все это понадобилось бы много лет. Но они должны были предвидеть это и рассчитать свой прыжок во времени так, чтобы прибыть заранее и к 2156 году все успеть. И этого запаса времени только-только хватило: мисс Сэндз работает в САПО всего три месяца, а Питер Детрайтес устроился туда месяцем позже. По ее рекомендации, разумеется.
Они просто шли кружным путем, вот и все. Сначала 75 000 000 километров до Марса в прошлом; потом 79 062 100 лет до нынешнего Марса; снова 75 000 000 километров до нынешней Земли – и наконец, 79 062 156 лет в прошлое Земли.
Карпентер сидел на койке, пытаясь собраться с мыслями.
Знали ли они, что это они будут мисс Сэндз и Питер Детрайтес? – подумал он. Наверное, знали – во всяком случае, именно на это они рассчитывали, потому и взяли себе такие имена, когда присоединились к колонистам. Получается парадокс, но не очень страшный, так что и беспокоиться об этом нечего. Во всяком случае, новые имена им вполне подошли.
Но почему они вели себя так, как будто с ним незнакомы?
Так ведь они и были незнакомы, разве нет? А если бы они рассказали ему всю правду, разве он бы им поверил?
Конечно нет.
Впрочем, все это ничуть не объясняло, почему мисс Сэндз так его не любит.
А может быть, дело совсем не в этом? Может быть, она так держится с ним потому же, почему и он так с ней держится? Может быть, и она так же боготворит его, как он ее, и так же теряется при нем, как и он при ней? Может быть, она старается по возможности на него не смотреть, потому что боится выдать свои чувства, пока он не узнает, кто она такая?
Все расплылось у него перед глазами.
* * *
Каюту заполнял ровный гул моторов Эдит. И довольно долго ничто больше не нарушало тишины.
– В чем дело, мистер Карпентер? – неожиданно сказала мисс Сэндз. – Заснули?
И тогда он встал. Она повернулась к нему. В глазах ее стояли слезы, она смотрела на него с нежностью и обожанием – точно так же, как смотрела прошлой ночью, 79 062 156 лет назад, у мезозойского костра в верхнемеловой пещере. «Да если вы скажете ей, что любите ее, она бросится вам на шею – вот увидите!»
– Я люблю тебя, крошка, – сказал Карпентер.
И она бросилась ему на шею.
Эмили и великие барды Перевод Н. Виленской
Каждым утром, приходя на работу в музей, Эмили совершала обход своих подопечных. Официально она числилась помощником хранителя Зала Поэтов, но в душе почитала себя счастливейшей из смертных, приобщенной к лику (по словам одного из них) «тех грандиозных поэтов, носителей громких имен, чьи стоны звучат еще эхом в немых коридорах времен»[3].
Поэты располагались не хронологически, а по алфавиту, и Эмили, начиная с А, могла приберечь напоследок (или почти напоследок) своего любимого лорда Альфреда Теннисона.
Она каждому желала доброго утра, и каждый на свой лад отвечал ей, но лорду Альфреду она всегда говорила еще что-нибудь. «Хороший день для сочинительства, правда?» или «Надеюсь, „Идиллии“ вам больше не доставят хлопот». Она, конечно же, знала, что он ничего больше не сочинит, что гусиное перо и бумага лежат на его пюпитре только для вида, что он способен процитировать только то, что написал в позапрошлом веке его двойник из плоти и крови; но почему бы не помечтать под магнитофонную запись, выдающую что-нибудь вроде «По весне кичится голубь блеском радужной каймы, по весне к любовной грезе чутки юные умы»[4] или «Только розы и лилии ради меня / До зари не смыкали глаз»[5].
Эмили пришла в Зал Поэтов, преисполненная великих надежд. Вместе с музейными директорами, учредившими этот зал, она искренне верила, что поэзия не умерла в этом мире. Стоит людям понять, что они, не листая больше пыльные книги, могут услышать волшебные строки из уст точной копии создателя этих строк, от посетителей отбою не будет. Однако ее и директората надежды, к несчастью, не оправдались.
Среднего жителя двадцать первого века модель Браунинга интересовала не больше его печатного наследия, а немногочисленные ценители по старинке предпочитали чтение и публично объявляли музейные манекены профанацией и преступлением против великих мастеров слова.
Но Эмили исправно несла вахту у себя за столом и вплоть до рокового утра верила, что кто-нибудь непременно повернет из украшенного фресками фойе в ее правый коридор (вместо левого, ведущего к Залу Автомобилей, или среднего, к Залу Электроприборов). Повернет, и подойдет к ней, и спросит: «А Ли Хант тоже здесь? Всегда хотел узнать, с чего это Дженни поцеловала его – может, он скажет?»[6] Или: «А Шекспир не занят сейчас? Всегда хотел потолковать с ним о сумрачной Дании». За все эти годы к ней заходили только ее коллеги, уборщик и ночной сторож, зато она близко познакомилась со всеми своими бардами и глубоко сочувствовала им, никому не нужным, а заодно и себе, плывущей в одной с ними лодке.
В то утро, когда поэтические небеса рухнули наземь, Эмили совершала свой обход, не ведая, что ожидает ее в скором будущем. Роберт Браунинг в ответ на ее приветствие изрек свое обычное «Год добрался до весны, день дозрел до утра», Уильям Купер посетовал: «Идет уже двадцатый год, / Как мрачен стал наш небосвод», Эдвард Фитцджеральд объявил: «Чуть ясной синевой взыграет день в окне, / Прозрачного вина желанна влага мне». Эмили в глубине души не соглашалась с решением директоров принять Фитцджеральда в Зал Поэтов: Омара Хайяма он, конечно, переводил блестяще, но это еще не делало его настоящим поэтом – таким, как Мильтон и Байрон, таким, как Теннисон.
К лорду Альфреду Эмили приближалась, зардевшись, как расцветающая роза. Что-то он ей скажет сегодня? В отличие от большинства других, он никогда не повторялся – возможно, потому, что был одной из новейших моделей (хотя Эмили даже мысленно не называла своих подопечных «моделями»).
Подойдя к заветному пьедесталу, она взглянула на молодое лицо (все поэты выглядели, как в свои молодые годы) и сказала:
– Доброе утро, лорд Альфред.
Синтетические губы улыбнулись ей, тихий голос произнес:
Утренний ветер проснулся, И планета любви в вышине, на небесной постели Начала угасать в объятиях света[7].Слова эти так озарили одинокое сердце Эмили, что она забыла даже пожелать мастеру творческих успехов. Постояла, взирая на него с чувством сродни благоговению, и рассеянно двинулась дальше, желая доброго утра Уитмену, Уайльду, Вордсворту, Йейтсу…
Увидев у стола хранителя, мистера Брэндона, она удивилась. Он редко захаживал в этот зал, уделяя все внимание техническим экспозициям и предоставляя поэтов своей помощнице.
– Доброе утро, мисс Мередит! У меня для вас хорошая новость.
Не иначе Перси Биши Шелли, подумала Эмили. Поэт заикался, и она много раз просила мистера Брэндона написать в «Андроид, Инк.», чтобы модель заменили. Возможно, куратор наконец это сделал.
– Да, мистер Брэндон?
– Как вы знаете, мисс Мередит, Зал Поэтов наших ожиданий не оправдал. Я лично думаю, что это с самого начала было бесперспективной затеей, но кто же станет слушать простого хранителя? Захотел совет директоров поставить андроидов-стихоплетов – поставили андроидов-стихоплетов. Счастлив сообщить вам, что дирекция наконец-то пришла в себя и признала, что поэзия в глазах общественности мертва и что Зал Поэтов…
– Общественность скоро поймет, я уверена, – вставила Эмили.
– Зал Поэтов, – неумолимо продолжал мистер Брэндон, – попусту расходует музейные средства, в то время как Зал Автомобилей срочно нуждается в расширении. Совет решил немедля убрать поэтов, чтобы освободить место для экспозиции «Хромовый век». Это важнейший период в…
– Но что же будет с поэтами? – опять перебила Эмили. Небеса рушились, звеня осколками некогда гордых строк.
– Их перенесут в запасник, – с легкой сочувствующей улыбкой ответил хранитель. – Если публика когда-либо заинтересуется ими, мы просто распакуем их и…
– Они же погибнут там! Умрут от удушья!
– Вам не кажется, что это немного смешно, мисс Мередит? Как может андроид умереть от удушья?
Эмили залилась краской, однако не уступила.
– Их удушат не произнесенные ими слова. Поэзия умирает, когда никто не слышит ее.
Раздраженный мистер Брэндон тоже порозовел слегка.
– Нереалистично, мисс Мередит. Вы меня разочаровываете: я-то думал, вы будете рады возглавить прогрессивную выставку вместо мавзолея мертвых поэтов.
– Возглавить? Ваш «Хромовый век»?
Мистер Брэндон смягчился, приняв ее оторопь за почтительный трепет.
– Ну разумеется! Не думали же вы, что я отдам ваш зал кому-то другому. – Он даже передернулся, словно самая эта мысль ему претила, и понятно почему: кто-то другой потребовал бы прибавить ему зарплату. – Вы завтра же приступаете к своим новым обязанностям. Ночью рабочие поставят автомобили, декораторы с утра оборудуют все как надо, и мы сможем открыться уже послезавтра. Знакомы вы с Хромовым веком, мисс Мередит?
– Нет, – прошептала она.
– Я так и думал, поэтому принес вам вот это. – Брэндон вручил ей толстую книгу под заглавием «Хромовый мотив в искусстве двадцатого века». – Отнеситесь к ней как к Святому Писанию!
Небеса обрушились полностью. Эмили беспомощно стояла среди голубых осколков с тяжелым «Хромовым мотивом» в руках.
Она кое-как дотянула до конца дня, попрощалась с поэтами, вышла в электронную дверь и проплакала в аэротакси до самого дома. Квартира выглядела столь же неприглядно, как раньше, когда в жизнь Эмили не вошли еще великие барды, видеоэкран смотрел из полумрака, как злобный глаз морского чудовища.
Эмили поужинала, не чувствуя вкуса, и рано легла спать, глядя в окно на большую рекламу напротив. ПРИМИ СЛАДКИЙ СОН, посоветовала реклама и добавила: зззззззззззззззззззз. Сначала Эмили была леди Шалотт и плыла в белоснежных одеждах по реке к Камелоту, потом ныряла глубоко в пруд и надеялась, что соседским мальчишкам, заставшим ее голой, надоест орать непристойности и они уйдут наконец. Они ушли только после шестого нырка; она, вся синяя, вылезла из воды, натянула дакроновое платье и побежала в деревню – но нет, она не бежала больше, а плыла, плыла по реке в Камелот. «…И в челне / Вдаль заскользила вслед волне / Волшебница Шалотт». Рыцари и простолюдины, выйдя на пристань, прочли на носу челна ее имя, а потом появился Ланселот – или Альфред. Он был то одним, то другим, и оба порой сливались в одно. «Ее прекрасен лик, – сказал он. Эмили, леди Шалотт, слышала его ясно, хотя была определенно мертва. – Господь, во благости велик, / Будь милостив к Шалотт»[8].
За ночь Зал Поэтов сделался неузнаваемым: его заняли произведения искусства двадцатого века. Там, где Роберт Браунинг мечтал об Элизабет Баррет, сверкал «Файрдом-8», а священное место Альфреда Теннисона заняло нечто длинное, низкое и обтекаемое с немыслимым названием «Тандерберд».
Глаза мистера Брэндона сверкали не хуже, чем его любимые хромированные изделия.
– Ну, как вам наша новая экспозиция, мисс Мередит?
Эмили придержала язык. Увольнение разлучит ее с поэтами окончательно – работая в музее, она по крайней мере будет знать, что они где-то рядом.
– Просто ослепительно, – сказала она.
– Послушаем, что вы скажете, когда декораторы закончат свою работу! Я почти завидую вам, мисс Мередит – у вас будет самый посещаемый зал!
– Да, вероятно. А почему… почему они так ярко раскрашены, мистер Брэндон?
– Вижу, что свой «Хромовый мотив» вы даже не открывали, – с укором ответил он. – Даже по суперобложке можно понять, что цвет в американской автомобильной промышленности стал неизбежным сопровождением хромированных деталей. Оба этих фактора создали новую эру автомобильного дизайна, продержавшуюся больше столетия.
– Прямо как пасхальные яйца. Неужели на них действительно ездили?
Глаза мистера Брэндона утратили блеск, энтузиазм сник, как проколотый шарик.
– Разумеется, ездили! Не нравится мне ваш настрой, мисс Мередит. Очень не нравится. – Он повернулся и пошел прочь.
Эмили, не желая его сердить, хотела извиниться – и не смогла. Переход от Теннисона к «Тандерберду» огорчил ее больше, чем она ожидала.
Все утро она праздно наблюдала за декораторами. Стены пастельных тонов стали намного ярче, окна в частом переплете скрылись за хромовыми жалюзи, яркие флуоресцентные лампы сменили скрытое освещение, паркет безжалостно покрыли синтетической плиткой. К полудню зал стал похож на большой общественный туалет – только хромовых унитазов и не хватает, цинично подумала Эмили.
Удобно ли ее поэтам в их ящиках? После ланча Эмили поднялась в чердачный запасник, чтобы это проверить – и не обнаружила их. Терзаемая подозрениями, она опять сошла вниз, отыскала мистера Брэндона и спросила:
– Куда вы дели поэтов?
Вина мистера Брэндона бросалась в глаза, как ржавчина на хромовом бампере, у которого он стоял.
– Послушайте, мисс Мередит, не надо так…
– Где они?
– В подвале. – Лицо мистера Брэндона приобрело оттенок алого грязевого щитка.
– Почему там?
– Вы занимаете неверную позицию, мисс Мередит.
– Почему вы отнесли их в подвал?
– Наши первоначальные планы, боюсь, несколько изменились, – сказал мистер Брэндон, глядя на ламинат у себя под ногами. – Ввиду явного равнодушия посетителей музея к поэзии, а также потому, что реконструкция стоила больше ожидаемого…
– Вы собираетесь продать их на металлолом! – Гневные слезы брызнули на побелевшие щеки Эмили. – Ненавижу! И вас, и директоров! Вы, как сороки, хватаете все блестящее, тащите в свой музей и выбрасываете хорошие вещи, чтобы место освободить! Ненавижу, ненавижу, ненавижу!
– Пожалуйста, мисс Мередит, попытайтесь взглянуть на это реалистичнее… – Но платье Эмили со скромным геометрическим рисунком мелькало уже в конце автомобильного ряда. Мистер Брэндон вспомнил тоненькую девушку с затравленным взглядом и робкой улыбкой, которая когда-то подошла к нему в Зале Электроприборов и спросила, не найдется ли для нее работы. У него сразу возникла мысль – теперь она уже не казалась ему столь удачной – назначить ее ассистентом хранителя (уборщику платили больше, чем этому служащему) и повесить на нее Зал Поэтов, чтобы самому заняться чем-нибудь поприятнее. Вспомнил произошедшую с ней необъяснимую перемену: затравленное выражение исчезло из ее глаз, походка стала уверенной, на лице, особенно по утрам, играла улыбка.
Мистер Брэндон сердито пожал точно свинцом налившимися плечами.
Эмили разрыдалась, увидев своих поэтов. Их свалили в углу, и солнце из подвального окошка бледно лежало на их неподвижных лицах.
Кое-как отыскав Альфреда в общей куче, она усадила его на сломанный стул двадцатого века и села напротив. В его андроидных глазах читался немой вопрос.
– «Локсли-Холл», – сказала Эмили.
– «Здесь останусь я, покуда разгорается восток. Вы ступайте; нужен буду – громко протрубите в рог», – начал Альфред. Когда он закончил читать «Локсли-Холл», Эмили заказала ему «Смерть Артура», а затем «Лотофагов». Стихи занимали ее только наполовину – вторая половина сознания работала над неотложной проблемой.
Лишь на середине «Мод» она осознала, что не видит больше его лица: за окошком начинало смеркаться. Эмили поспешно включила свет и поднялась на первый этаж, оставив Альфреда наедине с его Мод.
В музее было темно, не считая одинокой лампы в фойе. Никто, должно быть, не видел, как Эмили спускалась в подвал; мистер Брэндон подумал, что она ушла домой, и ушел сам, сдав помещение сторожу. Но где же сторож? Надо найти его и попросить открыть дверь, если она в самом деле хочет уйти.
Эмили думала о поэтах, брошенных в темный подвал, о блестящих машинах, занявших их святилище. Здесь, кстати, тоже что-то блестит…
Старая экспозиция демонстрировала снаряжение, которым век назад пользовались пожарные: химический огнетушитель, багор, лестница, свернутый брезентовый шланг, топор – он-то и блестел при электрическом свете.
Эмили почти бездумно взяла его, попробовала на вес – не такой уж тяжелый, вполне ей по силам.
С головой как в тумане она зашагала по коридору к бывшему Залу Поэтов, нашла выключатель… Новые лампы вспыхнули, как сверхновая, осветив вклад двадцатого века в искусство.
Машины стояли широким кругом бампер к бамперу, точно в недвижных гонках. Прямо перед собой Эмили видела старинную модель, серую в отличие от своих ярких собратьев. Ничего, сойдет для начала. Эмили занесла топор, целясь в лобовое стекло – и не смогла его опустить.
Внутри виднелись леопардовые сиденья, приборная доска, руль… Что же здесь не так?
Эмили двинулась по кругу. Машины с разными размерами, цветом, хромовой отделкой, количеством лошадиных сил и вместимостью имели при этом одно общее качество: все они были пусты.
Машина без водителя мертва, как поэт в подвале.
Эмили, выронив топор, устремилась обратно в фойе.
– Никак мисс Мередит? – окликнул ее сторож у самой подвальной двери. – Мистер Брэндон не говорил, что сегодня кто-то задержится.
– Забыл, видимо, – с нежданной для себя легкостью солгала Эмили. Не продолжить ли ей в том же духе? Задуманное потребует больших усилий, даже если использовать грузовой лифт. – Он просил вас помочь мне, если понадобится – и, боюсь, это будет необходимо!
Сторож хотел было процитировать профсоюзный устав, гласящий, что работа как таковая противопоказана ночным сторожам – но холодная решимость, которой он в Эмили раньше не замечал, побудила его смиренно ответить:
– Да, мисс Мередит… хорошо.
– Ну, мистер Брэндон, что скажете?
Глаза хранителя вылезли из орбит, челюсть отвисла, но уста его вполне разборчиво произнесли слово «анахронизм».
– Это потому, что они так одеты. Когда бюджет позволит, переоденем их в деловые костюмы.
Мистер Брэндон попытался представить Бена Джонсона, сидящего за рулем аквамаринового «бьюика», в пастельных одеждах двадцать первого века – и, к своему удивлению, преуспел.
– А знаете, мисс Мередит, в этом что-то есть. Думаю, совету понравится. На самом деле мы не хотели сдавать поэтов в утиль, просто не знали, как их лучше использовать. Но теперь…
Сердце Эмили наполнилось радостью. Когда речь идет о жизни и смерти, практическая польза – не такая уж большая цена.
Когда мистер Брэндон ушел, она совершила свой обычный обход. Роберт Браунинг, несколько приглушенно, сказал из «Паккарда-1958» свое «Год добрался до весны, / День дозрел до утра». «Идет уже двадцатый год, / Как мрачен стал наш небосвод», – откликнулся Уильям Купер с кожаного сиденья. Эдвард Фитцджеральд, якобы несущийся на бешеной скорости в «Крайслере» шестидесятого года, опять возжелал вина. Альфреда, лорда Теннисона, Эмили приберегла напоследок. Он вполне естественно смотрелся за рулем «Форда», выпущенного в шестьдесят пятом году, и, казалось, не отрывал глаз от хромированного заднего бампера передней машины – но Эмили-то знала, что он видит перед собой Камелот, и остров Шалотт, и Ланселота, едущего с Гвиневрой по зеленым британским землям.
Эмили не хотелось вторгаться в его мечты, но она знала, что возражать он не станет.
– Доброе утро, лорд Альфред.
Он повернул к ней свою благородную голову, устремил на нее прояснившийся взор и произнес звучным голосом:
Старый порядок сменяется новым В разных обличьях приходит Господь…[9]Летающая сковородка Перевод Я. Лошаковой
Марианна Саммерс работала на фабрике сковородок. Восемь часов в день пять дней в неделю она стояла у конвейера, и каждый раз, когда мимо нее проезжала сковородка, прикрепляла к ней ручку. Долгое время, стоя у этого конвейера, она мысленно каталась на другом огромном конвейере, над которым вместо ламп дневного света проплывали дни и ночи, а вместо людей выстроились месяцы. Каждый раз, проезжая мимо месяца, она получала или отдавала что-нибудь и с течением времени все более отчетливо ощущала: там, в конце ленты, ее ждет тот решающий месяц, который приделает ручку к ее душе.
Иногда Марианна спрашивала себя, как ее засосало в эту рутину, и тут же одергивала себя: в душе она прекрасно знала ответ. Рутина – удел всех бездарных личностей; если у тебя нет выдающихся способностей, туда тебе и дорога. А если ты к тому же упрямишься и отказываешься признаться себе в своей бездарности, ты застреваешь в ней надолго.
Одно дело – танцевать в телевизоре, и совсем другое – приделывать ручки к сковородкам: можно быть грациозной или неуклюжей, везучей или невезучей, но как ни крути, все сводится к одному – есть у тебя талант или нет. И, кроме того: ты можешь тренироваться сколько угодно, но если у тебя толстые ноги, никто не захочет смотреть твои танцы и ты все равно окажешься на фабрике сковородок. Каждое утро ты идешь на работу, каждый день похож на другой – точно такой же. И когда вечерней порой ты приходишь домой, перед тобой проплывают все те же мысли – как ты едешь на огромном конвейере сквозь беспощадные месяцы, пока не приблизится последний решающий месяц, который окончательно приведет тебя к общему знаменателю, и ты станешь такой же, как все…
По утрам она вставала и готовила завтрак в своей крошечной квартирке, а потом ехала на автобусе на работу. Вечерами возвращалась домой, в одиночестве готовила ужин, а потом смотрела телевизор. По выходным – писала письма и гуляла в парке. Порядок был неизменным, и Марианне казалось, что уже никогда ничего не изменится…
Но однажды вечером она вернулась домой и обнаружила у себя на оконном карнизе летающую сковородку.
Это был ничем не примечательный день – сковородки, начальство, скука и усталость в ногах. Около десяти часов к ней подошел механик и пригласил пойти с ним на танцы. Танцы были запланированы на вечер – каждый год компания устраивала вечеринку на свои средства в канун Дня Всех Святых. Марианна уже успела отказать пятнадцати кандидатам в партнеры по танцам.
Сковорода проехала мимо, и она приделала к ней ручку.
– Нет, скорее всего, я не пойду, – сказала она.
– Почему? – спросил он в лоб.
Вопрос был хороший, но Марианна не смогла дать на него честный ответ – правду она скрывала даже от самой себя. Поэтому повторила ту же невинную ложь, что говорила другим.
– Я… я не люблю танцевать.
– А-а.
Механик наградил ее тем же взглядом, что и остальные пятнадцать его предшественников, и пошел дальше. Марианна пожала плечами. Не все ли равно, что они подумают, сказала она себе. Мимо проехала еще одна сковородка, а за ней еще и еще.
Вскоре настало время обеда, и Марианна вместе с другими работниками поела сосисок с тушеной капустой в столовой компании. Ровно в 12:30 шествие сковородок возобновилось.
После обеда ее приглашали на танцы еще два раза. Можно подумать, она – единственная девушка на фабрике! Порой она ненавидела свои голубые глаза и круглое румяное лицо, даже свои светло-золотистые волосы, которые притягивали мужчин, как магнит. Но ненависть к своему внешнему виду не помогала ей в решении проблемы, а лишь усугубляла ее. К половине пятого у нее разболелась голова, белый свет был не мил.
Когда она вышла из автобуса на углу, дети уже выпрашивали сладости, как и положено в канун Дня Всех Святых. Повсюду были светящиеся тыквы, ведьмы и гоблины, хитро посматривающие по сторонам. Но Марианна ничего не замечала.
Канун Дня Всех Святых – праздник ребятишек, а не «озлобленной старухи» двадцати двух лет от роду, работающей на фабрике сковородок.
Она дошла до своего дома и забрала почту со стойки внизу. Ей пришло два письма, одно от матери, другое…
Сердце Марианны бешено колотилось, пока она поднималась в лифте на шестой этаж и шла по коридору к двери своей квартиры. Но вначале она заставила себя прочесть письмо от матери. Это было обычное, ничем не отличавшееся от предыдущих письмо. Урожай винограда выдался богатым, но после обрезания, подвязывания, дискования и найма конного пропашника, а также выплат сборщикам от чека ничего не останется (и неизвестно, когда он придет и придет ли вообще). Куры несутся лучше прежнего, словно чувствуют, что яйца подешевели. Эд Олмстэд делает пристройку к своему магазину (давно пора!). Дорис Хикетт родила мальчика весом в семь фунтов. Папочка обнимает тебя. Забудь уже, пожалуйста, свою глупую гордость и возвращайся домой. P. S. Марианна, ты должна увидеть, как чудесно Говард Кинг перестроил свой дом. Когда он закончит, выйдет роскошный дворец.
У Марианны комок подступил к горлу. Дрожащими пальцами она распечатала второе письмо:
«Дорогая Марианна,
Я обещал, что больше не буду писать тебе. Много раз в своих письмах я просил тебя вернуться домой и выйти за меня замуж, и все без ответа. Но есть вещи, ради которых стоит поступиться мужским самолюбием.
Думаю, ты уже знаешь, что я перестраиваю дом, и тебе известно, зачем я это делаю. Если ты еще не догадалась, то знай: я делаю это ради тебя, по этой же причине я купил этот дом. В нем будет всего одно панорамное окно, и я не знаю, где его делать – в гостиной или на кухне. На кухне оно было бы в самый раз, но оттуда будет виден только сарай, а ты знаешь, как он выглядит. В гостиной оно треснет первой же зимой, едва подует северо-западный ветер, но зато оттуда открывается чудесный вид на дорогу и ивы над рекой. Ума не приложу, что делать.
Холмы на юге у поляны оделись в золотисто-красные одежды, тебе всегда это нравилось. Ивы словно в огне. По вечерам я сижу на крыльце и представляю, как ты идешь по дороге и останавливаешься у калитки; я поднимаюсь, иду навстречу по тропинке и говорю тебе: „Я рад, что ты вернулась домой, Марианна. Ты же знаешь, что я тебя люблю, как и прежде“. Услышь меня кто-то со стороны, наверняка бы подумал, что я не в своем уме – ведь дорога всегда пустынна, и у калитки никого нет.
Говард»
Это было декабрьским вечером, в морозном воздухе разносились песни, смех, хруст снега под ногами бегущих, пыхтение трактора, везущего сани, груженные сеном. Звезды были такими яркими и близкими, что, казалось, вот-вот заденут верхушки деревьев, едва различимые в темноте. Холмы, покрытые чистым, голубоватым в свете звезд снегом простирались вдаль, все выше и выше, до темной полоски леса. Все разместились в сене на санях, а Марианна ехала на тракторе рядом с Говардом; трактор бросало из стороны в сторону по ухабам, а свет фар прыгал по разбитой сельской дороге.
Говард обнял ее, она ощутила его морозное дыхание, когда их губы слились в поцелуе.
– Я люблю тебя, Марианна.
Она видела, как слова слетали с его губ клубами серебристого морозного воздуха и тонули в темноте. И неожиданно для самой себя заметила, как ее слова, тоже серебристые, несмело выдохнулись в воздух, и тут же с изумлением услышала:
– Я тоже люблю тебя, Гоуи. Тоже люблю…
Она не могла точно сказать, как долго она так сидела и плакала. Ее прервал тикающий звук. Наверное, долго, подумала она, раз ноги и руки затекли. Звук шел из окна ее спальни, и она подумала, что это обычные булавки, привязанные на веревках к окну. Они раскачивались от ветра и издавали стук. В детстве она вместе с другими детьми часто привязывала такие же булавки к окнам старичков, проводивших канун Дня Всех Святых в одиночестве.
Марианна вошла в спальню и зажгла настольную лампу. Мягкий свет проникал в гостиную, весело разлетаясь брызгами по ковру. Но теплый свет не сумел разогнать тени на стенах, сгущавшиеся в дверном проеме спальни. Марианна встала, прислушиваясь к звуку. Чем дольше она слушала, тем больше сомневалась, что стала жертвой проделок соседских ребятишек: тиканье было слишком равномерным – это не булавка, качающаяся на веревке. Сначала несколько отрывистых звуков, потом тишина, еще несколько звуков. Кроме того, она жила на шестом этаже, и рядом с окном ее спальни не было даже пожарной лестницы.
Но если это не детская шалость, то что? Ей в голову пришла отличная идея. Марианна заставила себя сдвинуться с места, медленно подошла к дверному проему, включила верхний свет и вошла в спальню. Еще несколько коротких шагов – и она у окна рядом с кроватью.
Она внимательно смотрела через стекло. Что-то поблескивало на оконном карнизе, но она не могла разглядеть, что именно. Тиканье прекратилось, и снизу послышался шум машин. Светящиеся прямоугольники окон дома напротив складывались в четкий рисунок в темноте, а совсем рядом огромная голубая реклама сообщала: «СТЕЛЬКИ КОМПАНИИ СПРАК – ВАШ ЛУЧШИЙ ВЫБОР!».
Марианна почувствовала себя увереннее. Она отодвинула шпингалет и медленно открыла окно. Сначала она даже не сообразила, что блестящий предмет прямо перед ней – летающая тарелка. Она приняла его за перевернутую сковороду без ручки. И следуя привычке, машинально протянула руку, пытаясь приделать к ней ручку.
– Не трогай мой корабль!
И только тогда Марианна увидела астронавта. Он стоял немного в стороне от корабля, его крошечный шлем поблескивал в свете «СТЕЛЕК КОМПАНИИ СПРАК». На нем был облегающий скафандр серого цвета, увешанный бластерами и кислородными баллонами, и сапоги с загнутыми носами. Ростом он был всего пять дюймов. Пришелец держал в руке один из бластеров (Марианна была не совсем уверена, что это бластеры, но судя по остальной экипировке, чем еще они могли быть?). Он держал бластер за ствол, Марианна поняла, что это он стучал в окно рукояткой.
Ей также стало ясно, что она вот-вот сойдет с ума или уже сошла. Она попыталась закрыть окно…
– Ни с места! Превращу в пепел!
Она отдернула руки от рамы. Голос, казалось, был настоящим – тоненький, но, без сомнения, вполне различимый. Неужели такое возможно? Неужели это крохотное существо не плод ее воображения?
Он переложил бластер в другую руку, и она заметила, что маленькое дуло направлено прямо ей в лоб. Увидев, что она стоит, не двигаясь, он немного опустил ствол и сказал:
– Так-то лучше. Будешь хорошо себя вести и делать, что я скажу, – возможно, оставлю тебя в живых.
– Кто вы? – спросила Марианна.
Казалось, он ждал этого вопроса. Он сунул оружие в чехол и делано шагнул в струящиеся лучи света на окне. Слегка поклонился; его шлем блеснул, как обертка от жевательной резинки.
– Принц Мой Трейяно, – торжественно произнес он (впрочем, величие момента слегка портил его тонкий голос), – Император десяти тысяч солнц, капитан огромного космического флота, находящегося в данный момент на орбите этой жалкой планеты, которую вы называете «Земля»!
– З-зачем?
– Разбомбить вас собираемся, вот зачем!
– Но почему вы хотите нас разбомбить?
– Потому что вы представляете угрозу для галактической цивилизации! Неужели непонятно?
– А-а, – произнесла Марианна.
– Мы разнесем вдребезги ваши города. И оставим после себя столько жертв и разрушений, что вы уже никогда не оправитесь… У тебя есть батарейки?
Вначале Марианне показалось, что она ослышалась.
– Батарейки?
– Батарейки от фонарика вполне сойдут.
Принц Мой Трейяно выглядел смущенным, хотя трудно было сказать наверняка. Шлем с горизонтальной прорезью – предположительно на уровне глаз – почти полностью закрывал его лицо.
– Атомный двигатель барахлит, – продолжил он. – По правде говоря, это была вынужденная посадка. К счастью, я знаю секретную формулу преобразования энергии батарейки с помощью управляемой цепной реакции. Так есть у тебя батарейки?
– Пойду поищу, – ответила Марианна.
– Запомни, никаких фокусов. Если ты попытаешься позвать кого-нибудь на помощь, я сожгу тебя бластером прямо сквозь стену!
– Я… я думаю, фонарик лежит у меня в тумбочке.
Фонарик нашелся. Она отвинтила крышку, вытрясла батарейки и положила их на подоконник. Принц Мой Трейяно принялся за дело. Он открыл маленький люк в боковой части корабля и вкатил батарейки внутрь.
– Стой где стоишь! – бросил он, обернувшись к Марианне. – Я буду наблюдать за тобой через иллюминаторы. – Он вошел внутрь и закрыл за собой люк.
Марианна справилась со своим страхом и попыталась рассмотреть корабль поближе. Он совсем не похож на летающую тарелку, подумала она. Скорее напоминает сковородку… летающую сковородку. Даже крепление для ручки было предусмотрено. И не только это, края снизу предполагали наличие крышки.
Она тряхнула головой, чтобы прогнать эти мысли. Надо сказать, любой предмет напоминал ей сковородку. Она вспомнила, что Принц Мой Трейяно говорил ей что-то про иллюминаторы. И тут же разглядела ряд крошечных неровных окошек, опоясывающих верхнюю часть корабля. Наклонившись поближе, она хотела рассмотреть внутреннее убранство.
– Назад!
Марианна резко отпрянула. Настолько резко, что чуть не упала назад, стоя у окна на коленях. Принц Мой Трейяно выбрался из своей посудины и принял торжественную позу, освещенный «СТЕЛЬКАМИ КОМПАНИИ СПРАК» и светильником, горевшим в спальне.
– Техническое совершенство моей звездной империи не твоего ума дело, – произнес он. – Но в награду за твою помощь в починке атомного двигателя я открою тебе, по каким целям мы собираемся нанести удар. Мы не планируем полное уничтожение человечества. Мы лишь хотим уничтожить вашу цивилизацию и разрушить все города на планете Земля. Деревни и маленькие города с численностью населения менее двадцати тысяч человек мы оставим. Бомбардировка начнется сразу после того, как я присоединюсь к своему флоту, через четыре или пять часов. Если я не вернусь, они все равно начнут в это же время. Поэтому, если тебе дорога твоя жизнь, возвращайся домо… я хочу сказать, тебе следует как можно скорее покинуть город. Это тебе говорю я, Принц Мой Трейяно!
Принц Мой Трейяно вновь поклонился, сверкнув переливающимся шлемом, шагнул в свой космический корабль и захлопнул люк. Раздалось жужжание, и посудину затрясло. Словно на рождественской елке, то тут, то там в иллюминаторах замигали разноцветные огни – красный, синий, зеленый.
Марианна смотрела как зачарованная. Внезапно люк распахнулся, и оттуда высунулась голова принца.
– Назад! Назад! – закричал он. – Ты что: хочешь сгореть в огне реактивных двигателей?
Голова исчезла, и люк снова захлопнулся.
Реактивные двигатели? Летающая тарелка с реактивными двигателями? Даже инстинктивно отпрянув в глубь комнаты, Марианна продолжала думать над этим. Она увидела, как тарелка поднялась с оконного карниза и исчезла в ночном небе. Маленькие язычки пламени вырывались из нижней части корабля. Они больше напоминали пламя зажигалки «зиппо», но если Принц Мой Трейяно сказал, что это реактивные двигатели, то так тому и быть. Спорить Марианна не стала.
Позднее, вспоминая об этом происшествии, она могла бы увидеть много странностей и нестыковок. Во-первых, где Принц Мой Трейяно так хорошо выучил английский язык? Во-вторых, как объяснить его оговорку? – ведь он чуть не посоветовал ей вернуться домой. А потом еще этот атомный двигатель. Если их бомбы столь же примитивны, как и двигатели, размышляла Марианна, земляне могут спать спокойно.
Но в тот момент у нее не возникло желания спорить. К тому же она была слишком занята – укладывала вещи. В обычных обстоятельствах угрозы принца стереть с лица Земли все города не заставили бы ее так торопиться. Но когда тебе до смерти надоели эти узкие голубые полоски, которые горожане называют небом, эти небольшие кусочки аккуратного газона вместо полей, эти скучающие агенты, которые посмеиваются над тобой, потому что у тебя толстые ноги. Когда в глубине души ты ищешь причину, чтобы вернуться домой – тогда это серьезно.
Серьезнее некуда.
На вокзале она задержалась, чтобы отправить телеграмму:
«ДОРОГОЙ ГОУИ, ПАНОРАМНОЕ ОКНО ЛУЧШЕ СДЕЛАТЬ НА КУХНЕ, ПУСТЬ ВЫХОДИТ НА САРАЙ. БУДУ ДОМА С ПЕРВЫМ ПОЕЗДОМ.
МАРИАННА»
Когда огни города растаяли за горизонтом, Принц Мой Трейяно оторвал взгляд от пульта управления и наконец расслабился. Можно считать, что миссия удалась.
Конечно, избежать непредвиденных трудностей не удалось, но тут уж он сам оплошал – не проверил украденные из фонарика батарейки. Он прекрасно знал, что половина товаров пылились годами на складе Олмстэда и что Эд Олмстэд скорее умрет, чем выбросит вещь, которую можно подсунуть доверчивому покупателю. Но он так увлекся постройкой своего корабля, что просто не подумал об этом.
В определенном смысле то, что он попросил Марианну помочь ему в починке самодельного двигателя, сослужило хорошую службу. Если бы он появился ни с того ни с сего и вдруг начал рассказывать ей, что «космический флот» собирается разбомбить земные города и пощадить деревни, это могло бы вызвать подозрения. А так получилось, что он обратился к ней за батарейками и в качестве благодарности пообещал проявить к ней снисхождение. А его импровизация о преобразовании энергии в управляемую цепную реакцию послужила отличным прикрытием. Он был уверен, что Марианна знает об атомных двигателях не больше, чем он.
Принц Мой Трейяно занял более удобное положение в кресле пилота, сделанном из спичечного коробка. Снял шлем из фольги и распустил бороду. Затем выключил рождественскую гирлянду под иллюминаторами, обтянутыми пищевой пленкой, и посмотрел вниз. Сельский пейзаж казался россыпью драгоценных камней.
Утром он будет дома, в своем дворце среди ив, в уюте и безопасности. Но сначала надо будет спрятать сковородку в той же кроличьей норе, где он оставил ручку. После этого он сможет откинуться в кресле и расслабиться; он сделал доброе дело, да и домашних обязанностей, к его великой радости, теперь станет вдвое меньше.
Мимо пролетела ведьма на метле. Принц Мой Трейяно неодобрительно покачал головой. Какое доисторическое средство передвижения! Неудивительно, что люди перестали верить в ведьм. Если хочешь преуспеть, нужно идти в ногу со временем. Будь он таким же старомодным и закостенелым, как его соплеменники, он бы до конца жизни нянчился с беспомощным (по крайней мере, что касается ведения домашнего хозяйства) холостяком. Нет, Говард Кинг – отличный малый, не хуже других. Но он никогда не избавится от пыли и грязи, если так и будет сидеть на крыльце, мечтательно посматривая вдаль, болтать сам с собой и ждать, что его девушка когда-нибудь одумается и вернется домой из этого сумасшедшего города.
И раз уж дошло до такого, приходится быть современным. Марианна не заметила бы его, не говоря уже о том, что не стала бы даже слушать, явись он к ней в своем обычном виде под своим настоящим именем. В двадцатом веке у людей такое же богатое воображение, как в восемнадцатом и девятнадцатом: они продолжают верить в существ, обитающих в темных долинах и морских глубинах, а также в летающие тарелки и космических пришельцев…
Но никто не верит в домовых…
Маленькая красная школа Перевод Н. Виленской
Ронни делал большой крюк всякий раз, как ему попадался город. Эти новые белые города с потоками машин и большими заводами никак не могли быть тем местом, которое искал он. Местом, где были старые домики, и тенистые улочки, и маленькая красная школа…
У самого въезда в его городок росла кленовая роща, а по ней протекал ручей. Его Ронни помнил лучше всего: летом он бродил по воде, зимой катался по льду на коньках, осенью смотрел на листья, плывущие, как лилипутская флотилия, к морю.
Ронни был уверен, что узнает свою долину, но пока не находил ее среди полей, лесов и холмов, по которым шел. Порой он сомневался, правильно ли выбрал железнодорожную ветку. Те ли это рельсы, по которым поезд-аист унес его в большой город к родителям?
Если по правде, из дома он не сбегал. Безликая трехкомнатная квартира, где он прожил месяц, не его дом, а бледные незнакомцы, встретившие Ронни на вокзале, не его отец с матерью.
Настоящий его дом в долине, на самом краю городка, а настоящие родители – Нора и Джим. Они никогда не говорили, что он их сын, но все равно они настоящие. Зачем они посадили его, спящего, в поезд и отправили к незнакомцам, которые выдают себя за его родителей?
Ночью, когда темнота подкрадывалась к костру, Ронни думал о Норе, Джиме и своем городке, но больше всего о мисс Смит, учительнице из маленькой красной школы. Вспоминая о ней, он делался храбрым и ничего не боялся, лежа в летней траве под летними звездами.
На четвертое утро он доел последние концентраты, которые стащил у ненастоящих родителей. Понимая, что долину теперь нужно найти как можно скорее, он быстро шел вдоль путей, высматривая впереди хоть что-то знакомое – дерево, холм, ручеек. Поездку на поезде-аисте он совершил впервые и потому не знал толком, как выглядит родная долина, но был уверен, что узнает ее, как только увидит.
Ноги у него окрепли с тех пор, как он сошел с того поезда, и головокружение накатывало все реже. Солнце больше не слепило глаза и не оставляло на них красных отпечатков, если Ронни долго смотрел на небо.
Ближе к вечеру он услышал свисток и понял, что идет правильно и что долина где-то недалеко: так кричит поезд-аист.
Он спрятался в кустах у насыпи, глядя на несущийся мимо состав. Там сидели дети. Они смотрели в маленькие окошки, как смотрел он сам, удивленный и порядком напуганный, когда проснулся в поезде и мимо его больных глаз помчались неизведанные края.
Какие у них бледные лица. Неужели и он такой был? Да, наверно. Кажется, жизнь в долине как-то влияет на цвет лица, на глаза и на ноги.
Но ведь он ни на что такое не жаловался, пока жил там. Хорошо видел то, что было написано на черной доске в маленькой красной школе, и по учебнику читал без труда. Может быть, потому, что мисс Смит трепала его по спине и говорила, что он самый лучший ее ученик.
Как же он по ней соскучился. Так и видит, как она входит в класс, говорит «Доброе утро, Ронни», усаживается за свой учительский стол. Волосы у нее желтые с аккуратным прямым пробором, щеки розовые. Он, наверно, влюбился в мисс Смит, потому и хочет вернуться в долину.
Нет, не только из-за нее. Ему хочется побродить по ручью в прохладной кленовой тени, и выбраться из рощи на тихую улицу, и прийти домой, где Нора поругает его за то, что опоздал к ужину.
Поезд все еще грохотал мимо. Надо же, какой длинный. Откуда едут все эти дети? Ронни не узнавал никого, хотя прожил в долине всю свою жизнь. И когда сам ехал в поезде, тоже никого не узнал… непонятно.
Когда проехал последний вагон, Ронни снова вылез на рельсы. Смеркается уже, скоро первая звезда выйдет. Найти бы долину еще до наступления ночи! Он даже в ручей не полезет, побежит прямо к дому. Нора и Джим обрадуются ему, Нора приготовит что-нибудь вкусное. Может, и мисс Смит зайдет – она иногда заходит по вечерам, чтобы поговорить о его успехах. Он проводит ее до калитки, пожелает спокойной ночи, и звездный свет будет играть на ее божественно прекрасном лице.
Он шел быстро, неотрывно глядя вперед. Тени сгущались, сырое дыхание ночи ползло по холмам. В высокой траве просыпались сверчки и цикады, в прудах подавали голос лягушки.
Вот и первая звезда… а это что за дом, высоченный такой? Ронни не видел его, когда ехал в поезде, хотя все время смотрел в окно.
Зарешеченные окна на верхних этажах темные, но на первом этаже свет горит, а окна там большие и без решеток.
Рельсы кончались прямо здесь, входя в дом через высокую арку. Наверно, это вокзал, как в городе, но почему же Ронни не заметил, как проехал через него?
А, понятно. В поезд его посадили спящим, и проснулся он только на полдороге. Ронни тогда думал, что он где-то недалеко от долины, а на самом деле ехал уже давно, вот и проспал это здание.
Если это правда, то долина еще далеко, а он так хотел прийти домой еще до ночи. Он ужасно проголодался и ужасно устал. Что же ему теперь делать?
– Здравствуй, Ронни.
Он чуть в обморок не упал со страху. В кустах акации у самых рельсов стоял человек в серой форме. Серое в потемках разглядеть трудно – выходит, он давно уже там стоит?
– Ты ведь Ронни Медоуз, верно?
– Д-да, сэр. – Удрать бы сейчас, но он так ослаб, что этот дядька запросто догонит его.
– Тебя-то я и ждал, – ласково сказал человек, выходя из укрытия. – И очень за тебя беспокоился.
– Беспокоились?
– Беспокоиться за ребят, покидающих долину, – моя работа. Я, видишь ли, школьный контролер.
– Но я не хотел уезжать из долины, сэр. Джим и Нора посадили меня на поезд, пока я спал, пришлось мне ехать до самого города. Я как раз и хочу вернуться в долину… из города я сбежал.
– Понятно. Я отведу тебя обратно туда, в маленькую красную школу, – сказал контролер и взял Ронни за руку.
– Правда? Вот здорово!
– Я просто выполняю свою работу. – Контролер вел Ронни к большому зданию на путях. – Только сначала зайдем к директору школы.
Ронни хотел вырваться, но контролер держал крепко.
– Не бойся, директор тебя не съест.
– Я не знал, что в нашей школе есть директор. Мисс Смит ничего не говорила о нем.
– Как же без него. Иди по-хорошему, иначе мне придется сообщить о твоем плохом поведении. Как по-твоему, понравится это мисс Смит?
– Нет, не понравится, – покорился Ронни. – Хорошо, сэр, идемте.
Ронни знал, что в школах бывают директора, но своего ни разу не видел – в маленькой красной школе он, должно быть, не помещался, да и зачем он нужен? Достаточно и одной мисс Смит. И уж совсем непонятно, почему директор живет не в долине, а на вокзале – если это вокзал.
Ладно, посмотрим. Если вокруг столько непонятного, с директором даже полезно поговорить.
Они уже вошли в здание. Длинный, ярко освещенный коридор с зелеными шкафами по бокам привел их к стеклянной двери с надписью:
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР № 16. Х.Д. КЕРТИН, ДИРЕКТОР.
Контролер открыл дверь, и они вошли в комнату с белыми стенами, освещенную еще ярче, чем коридор. За столом напротив двери сидела девушка, а за ней была еще одна стеклянная дверь с надписью «БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ НЕ ВХОДИТЬ».
Девушка была молодая и почти такая же красивая, как мисс Смит.
– Скажите старику, что ребенок Медоузов наконец объявился, – попросил контролер.
Девушка как-то странно посмотрела на Ронни. Как будто ей стало грустно, как будто она пожалела, что он нашелся.
– Эндрюс привел Ронни Медоуза, мистер Кертин, – сказала она в коробочку у себя на столе.
– Хорошо, – послышалось из коробочки. – Сообщите его родителям, и пусть он войдет.
В огромном кабинете Ронни сделалось неуютно. Лампы дневного света слепили глаза и мешали рассмотреть человека за столом – Ронни удалось различить только лысеющий белый лоб, впалые щеки, очень тонкие губы. Все это почему-то пугало его.
– У меня к тебе всего несколько вопросов, а потом ты отправишься обратно в долину.
– Да, сэр. – Ронни стало немного легче.
– Родители плохо обращались с тобой? Я имею в виду твоих настоящих родителей.
– Нет, сэр, хорошо. Я жалею, что убежал, но мне очень захотелось обратно.
– Соскучился по Норе и Джиму?
Интересно, откуда директор знает, как их зовут.
– Да, сэр.
– И по мисс Смит?
– Очень, сэр!
Ронни беспокойно переминался под устремленным на него взглядом. Он очень устал, но директор не предлагал ему сесть, а лампы, как ему казалось, светили все ярче.
– Ты ее любишь?
Этот вопрос поразил Ронни своей неожиданностью и тем, что директор задал его с нескрываемым отвращением. Ронни вспыхнул, и ему стало стыдно – он не понимал почему.
– Отвечай: ты любишь мисс Смит?
– Да, сэр.
В кабинете сделалось тихо. Ронни с опаской ждал следующего вопроса, но его не последовало.
– Шестой уровень, – сказал директор вошедшему контролеру. – Скажите дежурному технику, чтобы попробовал вариант 24-С.
– Да, сэр. – Контролер снова взял его за руку. – Пошли, Ронни.
– А куда мы идем?
– В долину, куда же еще. В маленькую красную школу.
Какое счастье! Только зачем же тогда в лифт садиться? Может, им надо подняться на крышу, а там на вертолет пересесть? Но лифт остановился на шестом этаже, и они оказались в длиннющем коридоре с сотнями горизонтальных дверей, расположенных очень близко, почти вплотную.
– Где же долина, сэр? – спросил Ронни. – Куда вы меня ведете?
– Обратно в школу, – отрезал контролер. – Иди давай.
Ронни уперся, но контролер был сильный и мигом дотащил его до ниши, где сидела за железным столом худая женщина в белой форме.
– Это мальчик Медоузов. Старик поменял ему сюжет на 24-С.
Видя, что Ронни плачет, женщина устало поднялась с места, достала из стеклянного шкафчика ампулу, закатала ему рукав и ловко загнала иглу в руку.
– Слезы прибереги на потом, они тебе пригодятся. Комплекс вины, я вижу, Кертина совсем задавил – он прописывает 24-С уже третий раз в этом месяце.
– Старик знает, что делает.
– Ему только кажется, что он знает. Еще немного, и этот мир заселят сплошные Кертины. Пора уж кому-нибудь из Комитета Образования пройти курс психологии и выяснить наконец, что к чему с материнской любовью.
– Старик – дипломированный психолог.
– Дипломированный психопат, вернее сказать.
– Зря вы так говорите.
– Говорю, что хочу. Ты-то не слышишь, как они плачут, а я слышу. 24-С – это прошлый век, давно пора его отменить.
Женщина взяла Ронни за руку и повела куда-то. Контролер, пожав плечами, вернулся к лифту, и металлические двери закрылись за ним. Ронни шел как во сне, почти не чувствуя рук и ног, в голове мутилось.
Повернув во второй коридор, а затем в третий, женщина остановилась у открытой горизонтальной дверцы.
– Ну что, узнаёшь свою комнатку?
Глаза у Ронни слипались. В клетушке стояла кровать, чудна́я какая-то, с проводами, трубками и экранами – но Ронни так хотел спать, что сразу в нее забрался.
– Вот и умница, – донесся до него голос женщины. – Возвращайся в свою маленькую красную школу.
– Ронни!
Страшный сон с поездами, незнакомыми людьми, чужими местами никак не желал уходить. Может, это не сон, а правда? Нора много раз ему говорила, что однажды он проснется в поезде-аисте, везущем его к родителям.
Он ворочался и брыкался, силясь открыть глаза.
– Ронни, – опять позвала Нора, – ты опоздаешь в школу.
Глаза открылись сами собой, и он сразу понял, что все в порядке. В его чердачное окошко лился яркий утренний свет, по стеклу шуршали ветки клена, растущего на заднем дворе.
– Иду! – Ронни скинул одеяло, оделся в теплой солнечной лужице, умылся и побежал вниз.
– Ну наконец-то. Совсем обленился, – резко бросила Нора.
Что это с ней, заболела? Раньше она никогда не говорила с ним так. А вот и Джим, небритый, с налитыми кровью глазами.
– Что за дела, где завтрак?
– Сейчас, подождешь. Я уже полчаса этого паршивца бужу, не до завтрака.
Растерянный Ронни сел за стол и молча стал есть. Почему они оба так изменились за одну ночь? И любимые его оладушки внутри все сырые.
Не доев, Ронни вышел в гостиную взять учебники. Там было неубрано и пахло плесенью. На кухне переругивались Нора и Джим.
Ночью определенно что-то случилось. Еще вчера в доме все блестело, Нора была добрая, Джим, чистый и аккуратный, не повышал голоса.
Ну, ничего. Все исправится, как только он увидит мисс Смит. Ронни бежал по солнечной улице вместе с другими веселыми школьниками, мечтая о любимой учительнице.
Волосы мисс Смит сияли на солнце. Пучок у нее на затылке как золотое яблоко, щеки как розы после утренней поливки, голос как летний ветерок.
– Доброе утро, Ронни, – сказала она.
– Доброе утро, мисс Смит. – Он словно в облаке проплыл к своей парте.
Начались уроки – арифметика, правописание, обществоведение, чтение. Мисс Смит вызвала Ронни почитать вслух рассказ из хрестоматии в красной обложке.
Он гордо встал и начал читать про Ахилла и Гектора. Первое предложение он одолел без запинки, на втором стал спотыкаться. Слова точно расплывались; Ронни поднес учебник к глазам, но все равно ничего не смог разобрать. Он видел написанное как сквозь толщу воды и продолжал запинаться.
Мисс Смит стояла рядом с длинной линейкой, и ее лицо вдруг сделалось некрасивым. Она выхватила у Ронни книгу, швырнула на парту, схватила его за руку и обрушила линейку ему на ладонь. Боль прошила его насквозь, а линейка опускалась снова и снова.
Ронни заплакал.
После долгого тяжелого дня директору нисколько не хотелось беседовать с Медоузами. Пойти бы скорее домой, принять ванну, настроить хорошую телеэмпатическую программу и забыть обо всем – но что же делать, беседы с разочарованными родителями входят в его обязанности. Если б он знал о визите Медоузов заранее, попросил бы записать их на завтра, а теперь уже поздно.
– Пусть войдут, – устало бросил он в интерком.
Супруги Медоуз, судя по личному делу Ронни, работали на конвейере. Представителей рабочего класса, производящих к тому же на свет нестабильных детей, директор терпел с трудом. Он хотел даже направить свет им в глаза, но воздержался.
– Вас уведомили, что у вашего сына все хорошо, – сказал он неодобрительно, когда они сели. – Не было нужды приезжать.
– Так мы это… беспокоимся, сэр, – сказал мистер Медоуз.
– О чем, собственно? Как только вы заявили, что он пропал, я сразу сказал, что мы попытаемся подключиться к его эмпатике и перехватим его здесь, как только он явится. Дети такого типа всегда возвращаются, но мы, к сожалению, не можем классифицировать воспитанников до посадки их в доставочный поезд: это значило бы преждевременно нарушить эмпатическую иллюзию. Разрушение иллюзий после интеграции ребенка в реальность – забота родителей. Мы не можем заниматься всем нашим потенциальным браком, пока ребенок не убегает, доказывая тем самым, что мы допустили брак…
Потухшие глаза миссис Медоуз на миг загорелись.
– Ронни не брак, он просто чувствительный мальчик.
– У вашего сына, миссис Медоуз, ярко выраженный эдипов комплекс, – отрезал директор. – Любовь, которую мальчик должен чувствовать к вам, он перенес на вымышленную учительницу. Подобные аномалии, к сожалению, невозможно предугадать, но вполне возможно исправить, когда они обнаружатся. Вернувшись к вам после корректирующего лечения, ваш сын, ручаюсь, больше не убежит.
– А это корректирующее лечение… болезненно? – спросил мистер Медоуз.
– Разумеется, болезненно, но не в смысле объективной реальности.
Директор терял терпение. Правая рука подергивалась, предвещая приступ – все из-за этих чертовых пролетариев. Мало им того, что их избавили от забот по воспитанию детей, еще и на их идиотские вопросы изволь отвечать. Он встал и обошел вокруг стола, стараясь отвлечься.
– В нашей образовательной системе применяются только цивилизованные методы. Мы избавим вашего сына от его комплекса, и он будет жить с вами, как нормальный американский мальчик. Он должен всего лишь возненавидеть учительницу, которую любит – просто, не так ли? Как только это произойдет, долина в его глазах утратит свою извращенную притягательность, и он, как все нормальные дети, будет вспоминать ее лишь как место, где ходил в начальную школу. Воспоминание это будет приятным, но всепоглощающее желание вернуться туда пройдет.
– А не повлияет ли это дурно на мальчика? – робко спросил мистер Медоуз. – Я читал, что всякое вмешательство в естественную любовь ребенка к родителям – или к тем, кто их замещает – может оставить, так сказать, шрамы…
Директор побагровел. Теперь уже и в виске стучало, а рука зудела вовсю: приступа точно не миновать.
– Иногда мне просто интересно: чего вы все, собственно, ждете от системы образования? Мы забираем ваших отпрысков, как только они рождаются, чтобы вы могли работать полный день и пользоваться всеми благами, которыми вас наделила цивилизация. Мы заботимся о них. Дети получают не только начальное образование, но и эмпатическую среду, включающую в себя лучшие элементы «Тома Сойера», «Ребекки с фермы Саннибрук»,[10] «Детского цветника»…[11] Мы используем новейшую автоматику для здорового роста и подсознательного обучения ваших детей. Лучшего образовательного инкубатора попросту нет! Называйте его механической утробой, если угодно – наши противники выражаются именно так, – но нельзя отрицать, что наши учебные заведения вполне успешно готовят детей к средней школе и колледжу.
Мы делаем для вас все, что можем, однако вы, мистер Медоуз, имеете самонадеянность сомневаться в нашей компетентности! Вы просто не понимаете, как вам повезло. Как бы вам понравилось жить в середине двадцатого века, до изобретения учебного инкубатора? Чтобы ваш сын учился в муниципальной школе и весь день задыхался в переполненном классе? Как бы вам это понравилось, мистер Медоуз?
– Да я только… – заикнулся тот.
Но директор уже кричал в голос, и Медоузы испуганно вскочили со стульев.
– Вы не цените своего счастья, вот что! Вы вообще не смогли бы послать сына в школу, не будь у нас инкубаторов! Разве у правительства хватило бы средств на строительство и содержание такого количества школ старого типа? На обучение и зарплату учителей, чтобы охватить всех детей при современной рождаемости? Это обходится дороже всякой войны! А когда у вас появился действенный заменитель, вы только и знаете, что придираться к нему. Мы с вами, мистер Медоуз, тоже учились в маленькой красной школе – и что же, остались у вас шрамы после нее?
– Нет, но я не влюблялся в свою учительницу…
– Молчать! – Директор, унимая нестерпимый зуд, вцепился правой рукой в край стола и сделал огромное усилие, чтобы вернуться к спокойному тону. – Ваш сын скорее всего приедет домой следующим доставочным поездом, а теперь я попрошу вас уйти. Проводите мистера и миссис Медоуз, а мне дайте успокоительное, – сказал он в интерком секретарше.
– Да, сэр.
Медоузы были только рады убраться из кабинета – и хорошо. Зуд, охвативший всю руку до плеча, перешел в пульсирующую боль, возвращающую на сорок лет в прошлое, в маленькую красную школу, к прекрасной и жестокой мисс Смит.
Директор закрыл правую руку левой, но это не помогло. Линейка поднималась раз за разом, хлопая что есть силы по беззащитной ладони.
Когда секретарша принесла таблетки, директор дрожал, и в его выцветших голубых глазах стояли детские слезы.
Дополнительный стимул Перевод Я. Лошаковой
Этот магазин электротоваров был одним из многих, что выросли в городе и его окрестностях будто за одну ночь. На витрине красовались полдюжины на удивление дешевых телевизоров, а во всю ширину витрины располагалась хвастливая вывеска: «МЫ ПОЧТИ ДАРИМ ИХ!».
– Вот, это то, что мы так долго искали, – сказала Дженис и потянула Генри через входную дверь в магазин.
Не пройдя двух шагов, они, подобно другим посетителям, застыли как вкопанные. Прямо перед ними находилась телевизионная стойка с огромным ослепительным 24-дюймовым экраном. Если вы пришли сюда за телевизором, пройти мимо этого телевизора вы не могли точно так же, как голодная мышь не могла бы пройти мимо новенькой мышеловки с любимым сыром.
– Этот нам не по карману, – заметил Генри.
– Но, дорогой, давай хотя бы просто посмотрим.
Этим они и занялись.
Они рассматривали гладкий корпус из красного дерева и хитроумно сделанные двойные дверцы, которые можно закрыть, когда не смотришь передачи; посмотрели на экран и программу, которую показывали, прочитали название фирмы внизу под экраном… «БААЛ»…[12]
– Должно быть, новая модель, – сказал Генри. – Никогда не слышал о такой раньше.
– Это вовсе не значит, что она недостаточно хороша, – сказала Дженис.
…рассмотрели также ряд хромированных ручек настройки под названием фирмы и небольшое круглое окошко прямо под центральной ручкой…
– Для чего это? – спросила Дженис, показывая на окошко.
Генри наклонился вперед.
– Ручка настройки показывает на «попкорн», но этого просто не может быть.
– О, еще как может! – произнес кто-то позади них.
Повернувшись, они увидели невысокого приветливого человека с карими глазами и ярко выраженной особенностью – волосами, растущими треугольным выступом на лбу.
Он был одет в коричневый костюм в тонкую полоску.
– Вы здесь работаете? – спросил Генри.
Коротышка поклонился.
– Я мистер Кралл, а это мое заведение… Вы любите попкорн, сэр?
Генри кивнул.
– Иногда.
– А вы, мадам?
– О да, – ответила Дженис. – Обожаю!
– Позвольте, я покажу вам.
Мистер Кралл шагнул вперед и повернул на пол-оборота центральную ручку настройки. В тот же миг в маленьком окошке зажегся свет, и показалась блестящая встроенная жаровня с несколькими, размером с наперсток, алюминиевыми стаканчиками, подвешенными над ней. Генри и Дженис наблюдали, как один из стаканчиков перевернулся сам собой, и из него в жаровню потекло растопленное масло. Немного погодя другой стаканчик, следуя примеру первого, пролил водопад золотистых зернышек попкорна для лилипутов.
Можно было услышать, как муха пролетит – или, точнее говоря, как лопается зернышко попкорна – так тихо было в зале. И через мгновение Генри, Дженис и мистер Кралл действительно услышали треск лопнувшего зернышка. Затем лопнуло еще одно, и еще, и довольно скоро произошло превращение, зал попал под пулеметный обстрел из попкорна. Окошко теперь напоминало одно из тех стеклянных пресс-папье, которое поднимаешь и переворачиваешь, и начинает падать снег, только это был не снег, а попкорн. Самый белый, свежий, воздушный попкорн, который когда-либо видели Генри и Дженис.
– Ну и ну, подумать только! – задыхаясь, произнесла Дженис.
Мистер Кралл поднял руку. Наступил напряженный момент. Попкорн осел белым подрагивающим холмиком. Мистер Кралл повернул ручку настройки до конца, и жаровня перевернулась. Внезапно под окошком открылась маленькая потайная дверка, замигал крошечный красный огонек и зазвенел звонок. А там оказалась потайная панель, в ней круглая большая чаша, до краев наполненная попкорном, на фарфоровых боках которой были изображены весело порхающие маленькие птички синего цвета.
Генри был потрясен.
– Вот это да, что еще они придумают в будущем!
– Это в высшей степени прелестно! – воскликнула Дженис.
– И попкорн отличного качества, – добавил мистер Кралл.
Он наклонился и взял чашу. Маленький красный огонек погас, и звонок замолчал.
– Хотите попробовать?
Генри и Дженис взяли понемногу, то же самое сделал и мистер Кралл.
Все жевали, взяв паузу для размышления. Но молчание было быстро нарушено.
– Восхитительный вкус! – воскликнула Дженис.
– Изумительно, – произнес Генри.
Мистер Кралл улыбнулся.
– Мы выращиваем свою собственную кукурузу. Мы слишком избирательны в «Баал Энтерпрайсис»… А теперь, если вы позволите, я продемонстрирую другие функции этой модели.
– Я, право, не знаю, – ответил Генри. – Видите ли…
– Ах, дай ему закончить! – перебила его Дженис. – Ничего страшного не случится, если мы просто посмотрим, даже если мы и не можем себе позволить такую дорогую модель.
Заручившись поддержкой Дженис, мистер Кралл продолжил демонстрацию. Он рассказал, из какого дерева сделан корпус, как это дерево спилили, привезли, обработали, просушили, как были изготовлены, отполированы и соединены детали. Затем последовало множество технических подробностей о встроенной антенне, высококачественной акустической системе…
Неожиданно для себя самого Генри обнаружил, что лист бумаги, который каким-то непонятным образом оказался в его левой руке, не что иное, как контракт, а предмет, незаметно скользнувший в его правую руку, – шариковая ручка.
– Погодите, – сказал он. – Минутку! Я не могу себе позволить ничего подобного. Мы зашли только посмо…
– Откуда такая уверенность, что вы не можете себе его позволить? – рассудительным тоном спросил мистер Кралл. – Ведь я еще не называл цену.
– Не утруждайтесь. Я уверен: она заоблачная.
– На первый взгляд она может показаться слишком высокой, но, подумав, вы увидите это иначе. Цена – относительная величина. Но даже если вы найдете ее неприемлемой, я уверен, что наши условия вас заинтересуют.
– Хорошо, – сказал Генри. – Каковы же эти условия?
Мистер Кралл улыбнулся и потер ладони.
– Во-первых, – сказал он, – телевизор имеет пожизненную гарантию. Во-вторых, вы на всю жизнь будете обеспечены попкорном. В-третьих, вам не придется расплачиваться наличными. В-четвертых, никаких еженедельных, ежемесячных, квартальных или годовых платежей…
– Так мы получаем его даром?
В карих глазах Дженис читалось доверие.
– Ну, не совсем. Вам придется платить за него при возникновении определенных обстоятельств.
– Каких обстоятельств? – спросил Генри.
– В том случае, если у вас появится некоторая сумма денег.
– Какая именно?
– Один миллион долларов, – ответил мистер Кралл.
Дженис слегка качнуло в сторону. Генри глубоко вздохнул, затем медленно выдохнул.
– А цена?
– Что вы, сэр. Несомненно, вы уже знаете цену. И конечно, вы уже догадались, кто я.
Некоторое время Генри и Дженис стояли как вкопанные. Казалось, треугольный выступ волос на лбу мистера Кралла стал еще более заметным. А в его улыбке сквозила насмешка. Впервые за весь разговор потрясенный Генри заметил, что уши мистера Кралла заострены.
Наконец, он смог отлепить язык от нёба.
– Вы не… этого не может быть…
– Мистер Баал? Конечно же нет! Я всего лишь один из его представителей, хотя в данном случае я бы назвал себя «агентом по продажам».
Повисла долгая пауза. Затем Генри прервал молчание:
– Обе… обе наши души? – спросил Генри.
– Естественно, – ответил мистер Кралл. – Ну, так что скажете, сэр? По рукам?
Генри начал пятиться к двери. Дженис последовала за ним, хотя и не столь уверенно.
Мистер Кралл пожал плечами и философски произнес:
– Что ж, увидимся позже.
Генри вслед за Дженис зашел в квартиру и запер дверь.
– Я не могу в это поверить, – произнес он. – Этого просто не может быть!
– Но мы видели это своими глазами, – сказала Дженис. – И я все еще чувствую вкус попкорна. Ты просто отказываешься в это верить, вот и все. Ты боишься поверить.
– Может быть, ты и права…
Дженис приготовила ужин. После они уселись в гостиной и смотрели «Стрельбу», «Кровную месть», «Пристрели их, Хеннесси», а потом новости по старому, видавшему виды телевизору, купленному два года назад после свадьбы. Они надеялись, что со временем смогут позволить себе новую современную модель. Новости закончились, и Дженис приготовила на кухне попкорн, а Генри открыл две бутылки пива.
Попкорн был пережарен. Дженис подавилась первой же порцией и отодвинула от себя чашу.
– Знаешь, я почти уверена, что дело стоящее, – сказала она. – Ты только представь себе: просто поворачиваешь ручку – и получаешь попкорн в любое время, не пропустив ни одной любимой передачи!
Генри побледнел.
– Ты же это не всерьез!
– Может, и нет, но мне уже порядком надоел пережаренный попкорн и то, что мы все время пропускаем передачи! К тому же, кто нам даст миллион долларов?!
– Завтра посмотрим другие телевизоры, – ответил Генри. – Возможно, помимо «Баала», есть и другие модели со встроенным аппаратом для попкорна. Нужно просто поискать.
Но они не нашли. По окончании рабочего дня на фабрике по пошиву нижнего белья они пустились на поиски, но все модели со встроенным аппаратом для попкорна были отмечены маркой «Баал» и продавались только в новых магазинах, внезапно появившихся по всему городу.
– Да что же это такое! – сказал продавец в последнем из обычных магазинов, в который они обратились. – За сегодняшний день вы уже пятидесятая пара, которая спрашивает телевизор с окошком и встроенным аппаратом для приготовления попкорна. Впервые слышу о подобном!
– Еще услышите, – пообещал Генри.
Безутешные, они побрели домой. На улице загудел грузовик. На боку у него Генри и Дженис увидели надпись, выведенную большими красными буквами – «Баал Энтерпрайсис». Они успели также заметить три новеньких телевизора, подпрыгивающих на платформе грузовика, и три маленьких окошка, сверкающих в лучах летнего солнца.
Генри и Дженис быстро переглянулись и так же быстро отвели взгляд…
На подходе к дому они увидели, что грузовик стоит у подъезда, в котором находилась их квартира. Два телевизора уже кому-то доставили, а третий везли на тележке к грузовому лифту. Поднявшись на свой этаж, они увидели тележку с телевизором на своей площадке и слегка помедлили, прежде чем открыть дверь квартиры. Им хотелось узнать, кто из соседей приобрел новый телевизор.
– Бетти и Герб! – задыхаясь, произнесла Дженис. – Никогда бы не подумала, что они…
– Хм! – промычал Генри. – Теперь понятно, какие у них ценности.
Они вошли к себе, и Дженис приготовила ужин. Приступив к еде, они услышали шум за дверью и, выглянув на площадку, увидели, что еще один телевизор фирмы «Баал» везут в другой конец площадки.
На следующее утро к ним на этаж доставили еще три телевизора. Приготовив завтрак, Дженис бросила взгляд в окно и обомлела: во дворе стояли два грузовика «Баал», а по дорожке, ведущей к грузовому лифту, ехали тележки с телевизорами. Она кивком подозвала Генри, он подошел и встал рядом с ней.
Она показала вниз, на грузовики.
– Могу поспорить: в нашем доме только мы готовим попкорн на кухне. Мистер и миссис Неандерталец! Вот кто мы такие!
– Зато наши души принадлежат нам, – сказал Генри, но прозвучало это как-то неубедительно.
– Полагаю, ты прав. Но для разнообразия было бы так чудесно готовить попкорн прямо в гостиной. К тому же такой вкусный попкорн…
Прошел еще один тоскливый день на фабрике по пошиву нижнего белья. По дороге домой они проходили мимо магазина мистера Кралла. Снаружи была огромная очередь, а витрину с манящими телевизорами украшала новая вывеска: «ЗАКРЫТИЕ МАГАЗИНА. НЕ УПУСТИТЕ ПОСЛЕДНИЙ ШАНС ПРИОБРЕСТИ КОНСОЛЬ С ТЕЛЕВИЗОРОМ И ПОПКОРНОМ!».
Дженис вздохнула.
– Ну, все, мы будем единственными, – произнесла она. – Единственными людьми во всем городе, кто готовит попкорн на кухне и смотрит любимые передачи на телевизоре каменного века!
Не услышав ответа, она повернулась к мужу. Но он куда-то исчез. Повертев головой, она увидела, что он стоит в конце очереди и машет ей рукой, чтобы она подошла.
Мистер Кралл светился от счастья. Он указал на две короткие пунктирные линии, и дрожащими от нетерпения пальцами Генри и Дженис поставили свои подписи. Затем Генри написал улицу и номер дома в графе «адрес» и протянул контракт мистеру Краллу.
Мистер Кралл взглянул на листок, затем повернулся к двери, ведущей на склад.
– Генри и Дженис Смит, сэр, – произнес он. – 111 Ибид-стрит, местные.
Тогда они заметили высокого мужчину. Он стоял в глубине магазина, помечая что-то в небольшой красной записной книжке. Одного взгляда на него было достаточно, чтобы сказать совершенно определенно – он бизнесмен, и притом успешный. На нем был хорошо пошитый угольно-серый костюм и очки в современной роговой оправе. Черные волосы, но виски уже подернулись сединой, которая ничуть его не портила. Заметив, что Генри и Дженис разглядывают его, он приветливо улыбнулся им и издал короткий смешок. Смех получился довольно странным.
– Ха, ха, ха, ха, – отрывисто прозвучало вначале, а затем резко в нисходящей гамме, – хо, хо, хо, хо…
– Забыл сказать, – продолжил мистер Кралл, – если вам все-таки представится случай получить миллион, вы обязаны воспользоваться этой возможностью, невзирая на то, что не сможете потратить его на свои нужды. Кроме того, вы не имеете права отказаться от миллиона, если получите его в качестве выигрыша, – это тоже оговорено в контракте.
Дженис подавила нервный смешок.
– Послушайте, ну кто в этом мире подарит нам миллион долларов!
Мистер Кралл улыбнулся, а затем нахмурился.
– Иногда я вообще не понимаю людей, – сказал он. – Когда я, представитель мистера Баала, веду переговоры с предполагаемыми клиентами и обещаю им за их душу совершенно новый телевизор – а то и миллион долларов в придачу, – они смеются мне в лицо! Но ведь в наше время в любом деле необходим дополнительный стимул. О-о, доброй ночи, сэр.
Высокий мужчина собрался уходить, но, услышав пожелание мистера Кралла, остановился в дверях и обернулся. Исчезающие лучи полуденного солнца подсвечивали его лицо красным светом. Он слегка поклонился.
– Доброй ночи, Кралл, – произнес он. – Доброй ночи, Дженис и Генри.
Он присоединил к своим словам еще одну порцию странного смеха.
– Но кто… кто это был? – спросил Генри.
– Мистер Баал. Он составляет список участников для своей новой телевизионной программы.
– Своей программы!
– Ну да, – широко улыбаясь, подтвердил мистер Кралл. – Она еще не объявлена, но скоро о ней все услышат… Беспроигрышный конкурс. Единственный в своем роде. Мистер Баал устроил так, что выиграет каждый участник шоу. Каждый получит свой приз.
Дженис уже тянула Генри за руку. Она выглядела бледной.
– Идем, дорогой. Нам пора домой.
Но Генри упирался.
– И как… как называется это шоу? – спросил он.
– «Получи миллион», – сказал мистер Кралл.
Гранитная богиня Перевод Н. Виленской
Добравшись до локтя, Мартен остановился передохнуть. Он не то чтобы устал, но до подбородка было еще далеко, и он хотел приберечь силы для последнего, лицевого этапа.
Он оглянулся на проделанный путь. От кисти шириной в милю уходили в воду ровные мысы-пальцы. В бухте между большим и указательным покачивался его инборд, за бухтой сверкало южное море.
Поправив рюкзак, Мартен проверил свое альпинистское снаряжение: скальный пистолет в самозакрывающейся кобуре, патроны к нему, герметичный пакет с кислородными таблетками. Сделал пару глотков из фляги, спрятал ее обратно в холодильный футляр и закурил, пустив дым в голубое небо.
Здешнее солнце, альфа Виргинис[13], изливало потоки тепла и света на горный хребет в форме женской фигуры, известный как Дева.
Дева лежала на спине, глядя в небеса голубыми глазами-озерами. Со своего места на локте Мартен хорошо видел одинаковые горы ее грудей. Они поднимались примерно на восемь тысяч футов над плато грудной клетки, но поскольку само плато лежало на десяти тысячах, настоящая их высота равнялась восемнадцати. Мартена это, впрочем, не волновало: его целью были не груди.
Не глядя больше на их снежные вершины, он двинулся дальше по округлостям руки выше локтя. Профиль Девы еще не развернулся перед ним полностью, но он уже видел одиннадцатитысячную глыбу щеки и волосы – огромный лес, сбегающий по плечам почти до самого моря. Сейчас они зеленые, осенью позолотеют, зимой станут черными.
Века́ непогоды не нарушили изящных контуров руки – Мартен шел словно по променаду и показывал хорошее время, но до плеча добрался только к полудню и понял, что сильно недооценил размеры хребта.
К плечу стихии были не столь добры, и он сбавил темп, обходя выбоины и трещины. Гранит местами уступал другим вулканическим породам, но цвет оставался тем же беловато-серым с розовыми вкраплениями, поразительно напоминая оттенок человеческой кожи.
Происхождение Девы во многом напоминало земные загадки наподобие египетских пирамид, крепости Саксайуаман[14] и Баальбекского храма солнца. Эта тайна, как и те, скорее всего никогда не будет разгадана: древняя раса, некогда населявшая альфу Виргинис IX, либо вымерла, либо переселилась на другие планеты и никаких письменных источников после себя не оставила.
Но если на Земле прежде всего возникает вопрос, как это было сделано, то здесь напрашивалось зачем. Для чего создатели Девы, приложив поистине геркулесовы усилия, придали естественному геологическому образованию женский облик и установили под скалами автоматическую насосную станцию, чтобы снабжать глаза-озера морской водой?
Возможно, ответ заложен в самом вопросе, подумал Мартен. Возможно, они хотели всего лишь подправить природу. Нет никакой фактической базы, подкрепляющей теософские, социальные или психологические мотивы, выдвинутые полусотней земных антропологов (никто из которых не видел Деву в глаза). Возможно, все очень просто.
Южная часть плеча была повреждена меньше северной и центральной, поэтому Мартен стал продвигаться быстрее. Ему открылся великолепный вид на левый бок Девы – откос, протянувшийся в пурпурной тени до самого горизонта. В пяти милях от плеча он образовывал талию, еще через три переходил в крутой холм бедра и сиреневый изгиб ляжки.
Подъем по плечу был не особенно труден, но на высшей его точке Мартен ощутил стеснение в груди и сухость во рту. Он сел передохнуть, прислонившись спиной к снятому рюкзаку, напился из фляжки, закурил снова.
Отсюда он видел голову Девы гораздо лучше. Черты ее лица, не считая кончика гранитного носа, пока оставались скрытыми, зато щека и подбородок обрисовались четко. Закругленный уступ скулы плавно сливался со щекой, гордый утес подбородка круто (чуть слишком круто, по мнению Мартена) сбегал к грациозной линии шеи.
Все дело в расстоянии. Вблизи Дева, несмотря на все труды ее создателей, далека от совершенной красоты, задуманной ими, поскольку тебе видна только часть ее: щека, волосы, груди, далекий контур бедра. Но если смотреть на нее с нужной высоты, все меняется. Она хороша даже на десяти тысячах миль, прекрасна на семидесяти пяти – но чтобы увидеть замысел ваятелей во всем совершенстве, ты должен найти свою высоту.
Мартен считал себя единственным из землян, достигшим этого уровня и увидевшим Деву такой, как есть – в ее собственной, неповторимой реальности.
Поэтому, возможно, она и произвела на него такое впечатление. И еще потому, что ему было тогда всего двадцать лет. Теперь ему тридцать два, но что такое эти двенадцать лет? Просто занавес, который он сейчас откроет в тысячный раз.
После третьего брака матери Мартен решил стать космонавтом, бросил колледж и нанялся стюардом на звездолет «Улисс», шедший на альфу Виргинис IX для разведки рудных месторождений.
Он, конечно, слышал о Деве, одной из семи галактических чудес, но особо не думал о ней, пока не увидел ее с орбиты в панорамном иллюминаторе. После посадки он «позаимствовал» с корабля спасательный плот и отправился в экспедицию. За это его отправили на неделю в карцер, но он ни минуты не жалел о содеянном.
Когда он приблизился к Деве, альтиметр его плота показывал 55 тысяч футов. Под ним проплывали ее икры, бедра, белый живот с небольшим цирком пупка. Над грудными горами у него возникла мысль подняться повыше.
60 тысяч… 65… 70… 80. Он точно телеэкран настраивал. На 90 тысячах ему стало трудно дышать, хотя датчик показывал нормальное давление кислорода.
100… 101… нет, мало. 102 300… прекрасна ты, возлюбленная моя, как Фирца, любезна, как Иерусалим, грозна, как полки́ со знаменами… 103 211… округление бедр твоих как ожерелье, дело рук искусного художника…[15]
Он вдавил кнопку высоты до отказа и вообще перестал дышать. Тогда, ранней весной, ее волосы были черными, а глаза искрились радостной синевой. Ему казалось, что каменный лик взирает на него милостиво и красные гранитные губы приветливо улыбаются.
Она лежала у моря, как красавица-великанша, вышедшая из воды погреться на солнце. Голые пустоши служили ей пляжем, развалины ближнего городка – сережкой. Плот Мартена парил над побережьем, как чайка, а в прозрачном брюхе птицы сидел микроскопический человек, которому никогда уже не стать прежним.
Мартен задернул занавес, но воспоминание поблекло не сразу. Когда оно ушло окончательно, он осознал, что его взгляд неотрывно прикован к подбородочному утесу.
Мартен прикинул его высоту. Его вершина находилась на одном примерно уровне со скулой – значит, 11 тысяч. Сколько в таком случае остается до лицевого плато? Высота шейной гряды около 8 тысяч, одиннадцать минус восемь равняется трем. Три тысячи футов!
Даже со скальным пистолетом ему столько не одолеть. Подъем там отвесный, и отсюда на нем не видно ни трещины, ни карниза.
Нечего и пытаться, если жизнь дорога. Допустим, он каким-то чудом залезет на этот отполированный до блеска обрыв – а как ему слезть обратно? Да, с пистолетом это сравнительно просто, но останутся ли у него силы на спуск? Атмосфера альфы Виргинис IX становится разреженной на 10 тысячах; кислородные таблетки позволят продержаться какое-то время, а что потом?
Все это он обсуждал с самим собой уже тысячный раз – сколько можно. Мартен решительно вскинул на плечи рюкзак, взглянул напоследок с девятимильного склона на уходящие в море великанские пальцы и зашагал по плоской грудине к началу шейной гряды.
Когда он подошел к ложбине между грудными горами, солнце давно миновало зенит. Здесь дул холодный ветер, пахнущий горными цветами, крокусами или чем-то подобным. Эти горы намного неприступнее и заманчивее лица – почему же он ими пренебрегает?
Потому, что их красота поверхностна, вот почему. Они никогда не дадут ему желаемого, хоть тысячу раз на них поднимись. Ему нужно только лицо с его голубыми озерами, ничего больше.
Он сосредоточился на отлогом, но предательском подъеме к шее. Стоит оступиться, и он покатится вниз, а зацепиться здесь не за что. Откуда эта одышка? Из-за высоты, не иначе, но таблетки глотать еще рано, их надо приберечь на потом.
Солнце перевалило за половину своего дневного пути, но Мартина это не пугало. Он уже понял, что сегодня на подбородок взойти не сможет. Самонадеянно было воображать, что он покорит Деву за один день – хорошо, если за два управится.
Шея, около мили шириной, не представляла трудностей. Подбородок вздымался все выше, но Мартин боялся смотреть на него и взглянул лишь тогда, когда тот заслонил половину неба. Вот оно, его ближайшее будущее.
Отвесная стена не предлагала ни единой опоры, отчего Мартену сделалось даже легче: раз невозможно, стало быть, невозможно. Но какое разочарование, с другой стороны. Взятие лица Девы превратилось у него в навязчивую идею, не считающуюся ни с усилиями, ни с риском.
Можно спуститься тем же путем, по руке. Вернуться в колонию, нанять у суровых молчаливых поселенцев уже не инборд, а флаер и всего через час совершить посадку на желанном лице, но это будет мошенничеством. Не перед Девой – перед собой.
Другой способ восхождения, через макушку, Мартену тоже не подходил. Деревья волосяного покрова скорее всего облегчат подъем, но расстояние там втрое больше, чем высота подбородка, и можно наткнуться на не менее крутой склон.
Нет, подбородок – единственный путь. Сейчас это кажется невозможным, но ведь Мартен видел его только с одной стороны, вдруг что-то с другой отыщется.
Ну да что гадать попусту. Когда отыщется, тогда и будем решать. Альфа Виргинис, как он заметил только сейчас, уже опустилось в море, на востоке взошла первая звезда, и золотистые груди Девы полиловели.
Мартен нехотя отложил осмотр утеса на завтра, что было только разумно. Как только он разостлал спальный мешок, настала ночь, а с ней пришел знаменитый на всю галактику холод.
Поставив термостат, Мартен разделся, залез в мешок и сгрыз на ужин галету, запив ее двумя глотками воды. Обед он пропустил, даже не вспомнив о нем.
В уме маячила какая-то параллель, дежавю, которую он никак не мог ухватить. Потом он, конечно, вспомнит, но природа человеческого разума такова, что это будет связано с новой цепочкой ассоциаций вместо первоначальной.
Лежа здесь, под утесом, заслонявшим ему половину звездного неба, Мартен не чувствовал себя одиноким и не испытывал страха – хотя, казалось бы, должен был. Впервые за много лет он был доволен собой.
Прямо над ним стояло созвездие, похожее на всадника с чем-то длинным на плече – то ли ружьем, то ли посохом, а может, и удочкой. По мнению Мартена, это была коса.
Он повернулся на бок, блаженствуя в своем маленьком теплом оазисе. Звезды омывали утес, ночь плыла предназначенным ей путем… Да это же строчка из его собственного романа «Восстань, любовь моя!», написанного одиннадцать лет назад. Того, что принес ему богатство, славу и Лелию.
Лелия! Как давно это было – а если взглянуть по-другому, только вчера.
Впервые он увидел ее в одном из маленьких ретробаров, столь популярных тогда в Олд-Йорке. Высокая, темноволосая, Юноне подобная; стоит себе одна и пьет из стакана, как будто таких женщин в галактике пруд пруди.
Еще до того, как она повернула голову, он решил, что глаза у нее голубые, и оказался прав. Они были голубые, как горные озера весной, и полнились ожиданием любви. Он смело – теперь или никогда – подошел к ней и спросил, можно ли ее угостить.
К его удивлению, она согласилась, сказав позже, что сразу его узнала. Мартен по наивности своей не думал, что так знаменит, хотя его книга имела бурный успех в Олд-Йорке.
Он состряпал ее предыдущим летом, вернувшись с альфы Виргинис IX и навсегда отказавшись от мечты стать космонавтом. Мать, пока он летал, снова вышла замуж; он снял на лето домик в Коннектикуте, подальше от нее, и начал писать, движимый неведомой силой.
Получилась звездная одиссея о приключениях молодого человека, ищущего Бога и находящего его в женщине. «Современный эпос!» – захлебывались критики. «Стремление к смерти!» – восклицали фрейдисты, так и не отвыкшие за четыреста лет от психоанализа авторов. Столь противоречивые отзывы вызвали к нему интерес в замкнутом литературном мирке и привели ко второму, а там и к третьему изданию книги. За одну ночь Мартен стал самым необъяснимым из всех литературных явлений – знаменитым писателем-дебютантом.
При этом он даже не думал, что его будут узнавать в барах.
– Читала вашу книгу, мистер Мартен, – сказала темноволосая девушка. – Мне не понравилось.
– Как вас зовут? – спросил он. – И почему не понравилось?
– Лелия Вон. Потому что таких, как ваша героиня, в природе не существует.
– Я другого мнения.
– Скажите еще, что у нее прототип есть.
– Может быть, и скажу. – Мартен пригубил холодную голубизну марсианского джулепа. – Почему вы думаете, что таких не бывает?
– Это не женщина, а символ какой-то.
– Что же она символизирует?
– Не знаю, только это не живой человек. Критерий, образец для подражания. Слишком уж совершенна.
– Вы на нее очень похожи.
Лелия помолчала.
– На этом месте обычно принято спрашивать: «Вы это всем девушкам говорите?» Но я так почему-то не думаю.
– И правильно делаете. Здесь так шумно, не прогуляться ли нам?
– Хорошо.
Анахронизм, называемый Олд-Йорком, продолжал жить благодаря горсточке литераторов, приверженцев старых домов, старых улиц, старых традиций. Его считали карикатурой на новый город, что вырос на Марсе, но с годами он обрел ауру парижского Левого берега и весной подходил для влюбленных как нельзя лучше.
По тихим авеню, мимо облагороженных временем зданий, они пришли в пустынный Центральный парк. Небо синело, деревья оделись свежей листвой, а затем прекрасный день сменился прекрасным вечером. Звезды никогда еще не сияли так ярко, луна не была такой полной, часы не летели так быстро. Мартен, как в блаженном сне, проводил Лелию домой и лишь на собственном крыльце вспомнил, что с утра ничего не ел.
Проснувшись в чужой ночи, он на миг испугался незнакомых созвездий, но тут же вспомнил, где он и что здесь делает. Сон подкрался опять, и Мартен, высвободив руку из теплого кокона, дотронулся до утеса, озаренного звездами.
Вслед за робкой зарей в розовом одеянии пришла ее сестра Утро, вся в голубом, украшенная ослепительным медальоном солнца. Опасность и ожидание держали Мартена в напряжении, как туго натянутую струну. Не позволяя себе задумываться, он съел концентрированный завтрак, упаковал спальник и начал систематически исследовать утес-подбородок.
При свете утра тот выглядел далеко не так грозно, как ночью, но оставался все таким же отвесным и неприступным – пока Мартен, разрываясь между облегчением и унынием, не обнаружил на западном краю шеи трубу.
Мелкая трещина, шириной примерно с двух Мартенов, скорее всего образовалась после недавних сейсмических колебаний – их следы он видел еще в колонии, но не додумался о них расспросить. Дюжина разрушенных хибар мало что значит для человека, собравшегося осуществить то, что не давало ему покоя целых двенадцать лет.
Труба, сколько глаз видел, уходила зигзагами вверх и обещала сравнительно легкий подъем на первой тысяче футов. Знать бы еще, хватит ли ее до самой вершины.
Эх, дурак – нет бы бинокль захватить. Руки у Мартена дрожали, сердце стучало о ребра, однако он знал, что все равно полезет наверх, и ничто его не остановит, даже он сам. Если труба закончится тупиком, тем хуже.
Он вставил в пистолет патрон, прицелился, нажал на курок. Долгие часы тренировок, пока он ждал отправки из космопорта в колонию, не прошли даром: колышек с почти невидимым нейлоновым тросом вошел в тот самый карниз, который для начала наметил Мартен. Второй выстрел, слившийся с эхом первого, вогнал стальные корешки глубоко в скалу и гарантировал Мартену безопасность на первых 500 футах.
Мартен спрятал пистолет в кобуру и полез, зная, что трос будет сматываться на катушку автоматически по мере подъема.
Руки больше не дрожали, сердце билось нормально. Что-то пело в нем, наполняя Мартена силой, которой он не знал прежде и, возможно, никогда уже не узнает. Эти 500 футов дались ему до смешного легко: он точно по каменной лестнице шел, то ступая по выбоинам, то держась за стенки трубы. Добравшись до карниза, он даже не запыхался и решил двигаться дальше без передышки. Разреженный воздух скоро начнет оказывать свое действие – лучше подняться как можно выше со свежими силами. Новый колышек внедрился в новый карниз футах в 200 над Мартеном. Пистолет мог стрелять на тысячу футов, но труба, извилистая и узкая, ограничивала дальность.
Уверенность Мартена росла с каждым футом, но вниз он все-таки не смотрел: от шеи прямо под ним уходила вниз восьмитысячная пропасть.
Поднявшись на второй карниз столь же легко, как на первый, он снова не стал отдыхать и забил колышек в третий карниз, примерно на 250 футов выше. Почувствовав на середине подъема тяжесть в конечностях и одышку, он сунул в рот кислородную таблетку и полез дальше.
Таблетка убрала признаки кислородного голодания, но Мартен все же заставил себя посидеть на карнизе, прислонив голову к стенке трубы. Солнце било в глаза, и он осознал, что прошло уже несколько часов с начала подъема: альфа Виргинис перевалила за полдень.
Рассиживаться некогда. Если он не доберется до лица к ночи, может вообще на него не взойти. Мартен встал и стрельнул очередным колышком.
Теперь все стало иначе. Уверенность не оставляла его, и торжествующая песнь все так же звучала внутри, но дремотная одурь в сочетании с тяжестью и одышкой наступала все чаще, сменяясь краткими периодами просветления после приема таблеток.
Когда труба расширялась, Мартен упирался спиной в одну стенку, ногами в другую и взбирался при минимуме усилий.
Раньше он использовал трехточечную подвеску, но теперь осмелел и стал пренебрегать мерами безопасности. Ну, сорвется, и что? Трос удержит его через каких-нибудь пару футов.
Трос действительно удержал бы, не окажись новый патрон дефектным. Мартен второпях не заметил, что трос больше не сматывается; когда камень, на который он оперся, ушел в пустоту, он испытал инстинктивный ужас, но тут же сказал себе, что падение сейчас прекратится.
Оно не прекращалось. Он все падал и падал, медленно, как во сне. Ему слышался чей-то крик – неужели это кричал он сам? Падение ускорялось, труба неслась мимо, потревоженная щебенка сыпалась вниз.
Пролетев так футов двадцать, Мартен ударился о выступ, грохнулся на недавно покинутый им карниз и растянулся на животе. Кровь из рассеченного лба заливала глаза.
Подвигав руками-ногами, он убедился, что ничего себе не сломал – уже легче. Главное, что живой. Открыл зажмуренные глаза, протер их от крови. Они смотрели на древесные волосы Девы в десяти тысячах футов ниже. Мартена замутило, и он вцепился пальцами в гранитный карниз, но тошнота прошла быстро.
Лес, граничащий с шейной пропастью и девятимильным склоном руки, тянулся почти до самого моря. Водная гладь в полукружье зеленого берега золотилась на солнце.
Тут напрашивалась какая-то аналогия. Когда-то Мартен уже лежал на таком же карнизе – или утесе? – и смотрел вниз, на берег.
Миг спустя он вспомнил, устыдился и попытался снова забыть, но не вышло. Воспоминание стояло перед ним во всей своей наготе – пришлось ему, хочешь не хочешь, пережить это заново.
Поженившись, они с Лелией сняли тот же коттедж, где появилась на свет его первая книга, и он начал писать вторую.
Домик стоял на утесе, над самым морем. Вырубленная в скале лестница вела на узкий белый пляж, скрытый от посторонних глаз лесистыми крыльями бухты. Лелия загорала там без купальника, а он трудился, загружая беспомощные фразы в пишущую машину.
Вторая книга не получалась. Вдохновение, с которым создавалась «Восстань, любовь моя», исчезло бесследно. Мысли, если даже и приходили, не желали складываться в слова. Мартен знал, что в этом отчасти повинна его женитьба. В Лелии было все, чего только можно ждать от молодой жены, но чего-то все же недоставало, и это недостающее мучило Мартена и ночью и днем.
Тот августовский день выдался жарким и влажным. Бриз с моря шевелил занавески на окне, но не проникал в штилевую полосу самого кабинета, где маялся за письменным столом Мартен.
Прибой шумел в его ушах, перед глазами неотступно стояла загорелая Лелия. Как она лежит сейчас, на боку? А может быть, на спине, и солнце льется ей на живот, на бедра, на грудь…
В висках запульсировало, пальцы нервно сжали корректирующий карандаш. Лелия неподвижно лежит у моря, раскинув темные волосы, и смотрит голубыми глазами в небо…
Что, если посмотреть на нее сверху, с утеса? Будет ли она похожа на другую женщину, лежащую у другого моря? На ту, благодаря которой он обрел вдохновение?
Пульсация в висках сливалась с ритмичным шумом прибоя, настенные часы показывали 2:45. Скоро Лелия поднимется наверх принять душ. Мартен прошел через гостиную на веранду. За зеленой лужайкой и кромкой утеса мерцало море.
Мягкая трава щекотала ноги, все вокруг нежилось в сонном покое. Мартен, чувствуя себя дураком, дополз на четвереньках до края обрыва, раздвинул высокие стебли и посмотрел на пляж.
Лелия лежала прямо под ним, на спине – левая рука в воде, правое приподнятое колено позолочено солнцем, и живот тоже, и пригорки грудей. Гряда шеи ведет к гордому подбородку и золотому плато лица, голубые озера глаз смежены в сладкой дреме.
Иллюзия и реальность слились воедино, время отступило, пространство исчезло.
Лелия открыла глаза, увидела его, удивилась, но тут же все поняла (ничего на самом деле не понимая).
– Спускайся, милый, – позвала она, протянув к нему руки. – Здесь лучше видно!
Он бежал вниз по лестнице, и стук крови в висках заглушал прибой. Она ждала, как всегда, у моря, ждала его. На бегу он превращался в гиганта, плечи его задевали небо, земля содрогалась под его бробдингнеговскими стопами.
Прекрасна ты, возлюбленная моя, как Фирца, любезна, как Иерусалим, грозна, как полки́ со знаменами…
Бриз, рожденный в лиловой ложбинке между горами, охладил его пылающее лицо и побитое тело. Мартен медленно встал, думая, хватит ли трубы еще на тысячу футов, до сих пор отделяющих его от вершины.
Он выбросил из пистолета негодный патрон, прицелился, нажал на курок. Его тут же одолело головокружение, и он, нашаривая на поясе пакет с кислородными таблетками, понял, что тот при падении оторвался.
Мартен застыл без движения. Логика подсказывала только одно: немедленно спуститься обратно, заночевать под утесом, утром вернуться в колонию, дождаться оказии в космопорт, улететь на Землю, забыть о Деве.
Его разобрал смех. Логика – вещь хорошая, но не все на небе и на земле ей подвластно. Например, Дева.
Мартен возобновил подъем.
На высоте около 2200 футов труба начала меняться.
Мартен заметил это не сразу. Из-за кислородного голодания он двигался как в летаргическом сне, подтаскивая сперва одну, потом другую тяжелую ногу, перемещая грузное тело из одной опасной позиции в другую, столь же опасную – и все же, дюйм за дюймом, приближался к вершине. Когда он наконец спохватился, на страх уже не осталось сил.
Он только что взобрался на узкий карниз и смотрел вверх, ища следующий. Сначала он подумал, что видимость искажают последние лучи заходящего солнца, но нет. Карнизов вверху больше не было, да и трубы как таковой тоже.
Расширявшаяся уже некоторое время, она переходила в вогнутый склон. Строго говоря, трещина, по которой он лез, с самого начала была не трубой, а скорее воронкой. Узкую часть Мартен уже прошел, теперь начиналось горло, не сулившее ему ничего хорошего.
Слишком уж гладко, ни одной зацепки не видно. Может, вблизи они и покажутся, но вряд ли он найдет достаточно большой выступ, чтобы выстрелить в него колышком.
Руки начали дрожать снова. Мартен потянулся за сигаретой, вспомнил, что с утра ничего не ел, достал из рюкзака галету на ужин. Сжевал ее через силу, запил глотком воды из почти пустой фляги. Теперь он поступит вполне логично, двигаясь дальше: надо же пополнить запас воды из голубого озера.
Он сидел на карнизе с поджатыми коленями, курил и мурлыкал что-то, слегка покачиваясь. Старый мотив, застрявший в памяти с раннего детства. Вспомнив, где это слышал и кто это пел, Мартен сердито встал, швырнул сигарету в наползающие сумерки и полез дальше.
Склон оказался точно таким же скверным, как выглядел. Идти по нему вертикально было нельзя, приходилось лавировать между выступами и впадинами шириной с палец – но Мартен, подкрепленный отдыхом и едой, поначалу держался бодро.
Разреженный воздух, однако, оказывал свое действие. Мартен уже еле полз и сомневался, продвигается ли куда-то вообще. Запрокинуть голову и посмотреть вверх он не смел, боясь нарушить хрупкое равновесие, да и темно уже было.
Зря он не оставил рюкзак на последнем карнизе, тот с каждым футом все тяжелей. Скинуть бы его, да руки от скалы нельзя оторвать.
От пота щипало глаза. Попытавшись вытереть лоб, Мартен разбередил свою ссадину, и кровь пополам с по́том лишила его зрения окончательно. Бесконечный он, что ли, этот утес? Он кое-как ухитрился протереть глаза рукавом, но во тьме все равно ничего не увидел.
Время словно остановилось. Взошли ли звезды? Найдя зацепки чуть понадежнее прежних, он осторожно взглянул на небо, но кровь и пот снова застлали ему глаза.
Нащупав ободранными пальцами карниз, Мартен очень удивился – откуда бы ему взяться? С великим трудом закинув на гранитную полку сперва локти, потом правую ногу, он подтянулся и лег.
Карниз был широкий. Мартен лежал навзничь, раскинув руки, слишком вымотанный, чтобы пошевелиться – еле заставил себя глаза протереть. Звезды взошли и усеяли небо во всем своем блеске, а прямо над ним стоял вчерашний всадник с косой.
Лежать бы здесь вечно, подставив лицо свету звезд, в успокоительной близости Девы. Лежать в блаженном покое, в вечном мгновении между прошлым и будущим, вне времени и движения.
Прошлое, однако, не позволило ему такой роскоши. Ксилла, как ни старался он ее удержать, раздернула темный занавес, вышла на сцену – и спектакль начался.
После провала его третьей книги (вторая по следам первой продавалась неплохо и имела определенный успех) Лелия устроилась на работу в парфюмерный концерн. Она сделала это, чтобы Мартен мог и дальше писать, а впоследствии наняла прислугу, чтобы он не отвлекался на хозяйственные заботы.
Ксилла была уроженкой Мизара X. Жители этой планеты известны своим громадным ростом и малым мозгом; росту в Ксилле было семь футов, ай-кью составлял примерно 40 %.
Сложена она при этом была пропорционально, даже изящно, и могла бы считаться привлекательной женщиной, если бы не лицо – плоское, широкое, с коровьими глазами и толстой, отвисшей нижней губой, – а тусклые коричневые волосы портили ее окончательно.
Мартен взглянул на нее мельком, сказал «здрасте» и больше о ней не думал. Хочет Лелия, чтобы хозяйством у них занималась эта великанша вместо него – и прекрасно.
Той же зимой Лелию перевели за Западное побережье, и они, чтобы не жить на два дома, отказались от коттеджа в Коннектикуте и перебрались в Калифорнию, населенную не гуще Олд-Йорка. Обетованные края переместились в космос, на еще не исследованные планеты, но с отлетом искателей тучных пастбищ упрямым домоседам стало куда вольготнее, и Земля после четырехвековой заброшенности утвердилась в своей новой роли культурного центра галактики.
Роскошные виллы двадцать третьего века почти все пустовали. Лелия сняла розовую, поближе к работе, и вернулась к привычному распорядку – только не в утреннюю смену, как раньше, а в вечернюю. Мартен в это время корпел над четвертой книгой.
Он не питал наивных надежд на то, что переезд пробудит его от творческой спячки, хорошо сознавая, что все слова, загружаемые им в пишущую машину, отныне будут исходить лишь от него одного. Надеялся только, что два провала подряд (вторая книга, несмотря на кратковременный финансовый успех, тоже была провальной) раззадорят его так, что третьего он не допустит.
Скоро выяснилось, что и в этом он заблуждался: творческая летаргия только усугубилась. Мартен почти безвылазно сидел у себя в кабинете, занимаясь вместо писания чтением. Он читал Толстого и Флобера, Достоевского и Стендаля, Пруста и Сервантеса. Читал Бальзака и удивлялся: почему этот краснолицый толстячок был так плодовит, а он, Мартен, остается бесплодным, как белый песок на пляже у него под окном?
Часов в десять вечера Ксилла подавала ему бренди в широком бокале, подаренном Лелией на последний его день рождения. Мартен усаживался перед камином, где уже горели сосновые поленья, пил и предавался мечтам. Задремав случайно, он вздрагивал, просыпался и укладывался в постель. Лелия почти всегда работала сверхурочно и редко приходила домой раньше часа ночи.
Ксилла занимала его мысли все больше и больше. Однажды он заметил, что походка у нее для такой громадины легкая, можно сказать, ритмичная. Потом обратил внимание на девственную твердость ее грудей, на бедра амазонки под простой юбкой. В один прекрасный вечер, под влиянием импульса (как ему казалось тогда) он попросил ее присесть и поговорить с ним.
– Как вам угодно, – сказала она, садясь на подушку у его ног.
Он смутился, не ожидая, что она согласится так сразу, но бренди уже согревал его кровь, показывая Ксиллу в новом свете. Оказалось, что волосы у нее не такие уж тусклые: когда на них играет огонь, они сами словно воспламеняются и смягчают топорность ее лица.
Говорили они о разном. О погоде, о море. О единственной книжке, которую она прочла в детстве. Когда речь заходила о Мизаре X, голос Ксиллы смягчался, и в бесцветных глазах сквозила голубизна – вернее, намек на нее, но и это для начала неплохо.
Они беседовали теперь каждый вечер. Ксилла даже сидя возвышалась над Мартеном, но это больше не смущало его – наоборот, успокаивало. Днем он с нетерпением дожидался вечера и ее прихода.
Первое время он волновался за Лелию и уговаривал ее не надрываться так на работе, потом перестал. В ту ночь, когда он впервые взял Ксиллу за руку, Лелия, как нарочно, вернулась раньше.
Он давно хотел этого. Глядя на руку Ксиллы, лежащую у нее на колене, он дивился ее красоте и симметрии, прикидывал, насколько она больше его собственной, интересовался, грубая она или мягкая, теплая или прохладная. В конце концов он не сдержался и переплел свои пигмейские пальцы с ее великанскими. Глаза ее поголубели, как воды горного озера, заросли бровей коснулись его лба, красные карнизы губ врезались в его рот, руки прижали его к грудным горам-близнецам…
– Я ухожу от тебя, – объявила возникшая на пороге Лелия.
Ночь была холодная, иней сверкал, отражая звезды. Мартена била дрожь. Посмотрев на несказанно прекрасные круглые горы внизу, он встал, отыскивая новые зацепки на склоне.
Вместо камня его руки встретили воздух.
Ни зацепок, ни склона. Он стоял не на карнизе, а на плато, на лице Девы, бледном и прекрасном при свете звезд.
Он медленно шел вперед, омываемый потоками этого света. Дойдя до рта, он прижался к нему губами и прошептал:
– Восстань, любовь моя!
Дева безмолвствовала, и он пошел дальше, мимо гордого возвышения носа, отыскивая глазами голубые озера.
Он шел, повесив руки, едва сознавая, что движется. Озера манили его своей глубиной, обещая вечный восторг. Неудивительно, что он так быстро пресытился как Лелией, так и Ксиллой. Что ни одна смертная женщина, с которой он спал, не могла ему дать желаемого. Неудивительно, что после двенадцати пустых лет он вернулся к своей настоящей любви.
Ибо Дева несравненна, и таких, как она, больше нет.
Он поравнялся уже со скулой, но голубого мерцания впереди до сих пор не видел. Напряженно всматриваясь вдаль, он внезапно вышел на край безводной каменной чаши. За ней на фоне неба виднелась полукруглая рощица-бровь, справа пролегала перемычка между двумя бывшими водоемами.
Вода ушла. Систему питания озер повредило, как видно, то самое землятресение, от которого на утесе образовалась трещина.
Мартен, стремясь к любимой, даже не подумал, что она могла измениться.
Нет, он не верит в это! Поверить – значит признать, что он напрасно совершил это кошмарное восхождение, что вся его жизнь прошла зря.
Он посмотрел вниз, втайне надеясь увидеть, как струится в пустую глазницу голубая вода, но увидел лишь голое дно и странный осадок на нем: серые продолговатые образования, то разрозненные, то соединенные вместе. Неужели это…
Мартен зажал рукой рот, повернулся и побежал, но скоро остановился. Не только потому, что дыхание отказало: надо было подумать, что делать дальше.
Инстинкт вел его назад, к подбородку. Не все ли, в сущности, равно: превратиться в груду костей на шейной гряде или утонуть в одном из озер?
Он упал на колени, мучимый отвращением. Как он мог быть таким наивным даже и в двадцать лет? Как мог поверить, что он единственный? Да, из землян здесь больше не было никого, но Дева очень стара и в юности имела многих поклонников, которые покоряли ее всеми доступными способами и символически гибли в голубизне ее глаз.
Их кости – свидетельство ее популярности.
Что делать, если у твоей богини обнаружились глиняные ноги? Если ты понял, что твоя любимая – обыкновенная шлюха?
Спать с ней, во всяком случае, ты не станешь.
На востоке уже брезжил рассвет, звезды бледнели. Мартен стоял на краю подбородка в ожидании утра.
Ему вспомнился один человек, когда-то давно зарывший шоколадку на вершине, которую покорил. Его личный ритуал, непонятный для посторонних. У Мартена тоже найдется, что похоронить здесь. Свое детство. Свою первую книгу. Коттедж в Коннектикуте и виллу в Калифорнии. Под конец – с сожалением, но без колебаний – он схоронил свою мать.
Дождался, когда золотые пальцы солнца лягут ему на лицо, и начал спускаться.
Пиры Джамшида Перевод Н. Виленской
Лев бродит там и ящерка бежит, Где пировал когда-то царь Джамшид.
РубайятСолнце, окутанное облаком красной пыли, стояло низко на западе, когда племя спустилось с предгорий к морю. Женщины разошлись по берегу, собирая плавник, мужчины ставили ловушку для дождевой воды.
По их изнуренным лицам Райан догадывался, что вечером будет Танец. Он знал, что и у него лицо точно такое же – грязное, с запавшими щеками, с голодными тенями вокруг глаз. Слишком много бессобачьих дней им на этот раз выпало.
Дождесборник представлял собой большое полотнище из сшитых вместе собачьих шкур. Райан и другие молодые мужчины держали его на весу, пожилые подпирали шестами и привязывали собачьими кишками так, чтобы в середине оно провисало. Закончив работу, они собрались вокруг большого, разведенного женщинами костра.
У Райана, который последние пять миль тащил это полотнище на себе, болели ноги и плечи. Иногда ему хотелось быть самым старым, а не самым молодым из мужчин. Быть свободным от тяжелых работ, плестись в самом хвосте, праздно сидеть на корточках во время привалов, пока молодые охотятся или лежат с женщинами.
Он стоял спиной к огню. Тепло проникало сквозь шкуры к телу. Женщины готовили ужин: толкли в кашицу собранные днем клубни, скупо подливая воду из собачьих бурдюков. Краем глаза Райан заметил Мериум, но ни молодое лицо ее, ни гибкое тело ничего в нем не шевельнули.
Он вспомнил, как лежал рядом с ней у ревущего костра в день последней собачьей охоты, когда запах жареного мяса еще стоял в воздухе. Живот его был полон, в крови зарождалось желание. Мериум казалась ему красивой еще много дней спустя, но после слилась с другими грязными лицами и понурыми фигурами, бредущими от руин к руинам, от оазиса к оазису в бесконечных поисках пищи.
Райан не понимал этого, как не понимал многих других вещей. Взять хоть Танец. Почему слова, произносимые в такт движениям, доставляют ему удовольствие? Почему ненависть делает его таким сильным?
Танец, пожалуй, самая главная из всех тайн.
Когда Мериум принесла ему ужин, застенчиво глядя на него своими карими большими глазами, Райану почему-то вспомнилась последняя убитая им собака. Он выхватил глиняный горшок у нее из рук и ушел к морю, чтобы поесть в одиночестве.
Солнце уже село. Красные и золотые блики меркли на морской зыби, с холмов наползала тьма вместе с холодным дыханием ночи.
Райан поежился и принялся за еду, но память о той собаке не покидала его.
Собака была маленькая, но вредная. Щерилась, когда он загнал ее в расщелину между скалами – это понятно, но зачем хвостом-то вилять? Зачем скулить так жалобно при виде его дубинки? Лучше всего он запомнил ее глаза, когда дубинка опустилась ей на голову.
Он и других помнил, всех, кого убивал. Почему так? Раньше, он знал, охотились вместе с собаками, а не на них – но это было давно, когда кроме собак существовала другая дичь.
Теперь остались только собаки, и племя без них не выживет.
Он доел невкусную, без мяса, похлебку и даже не оглянулся, услышав тихие шаги за спиной. Мериум подошла, села рядом.
На море лег бледный свет первых звезд.
– Как красиво, – сказала Мериум. Райан молчал. – Будет ли ночью Танец? – спросила она.
– Может быть.
– Хорошо бы.
– Что в нем хорошего?
– Не знаю… После него все делаются другими, почти счастливыми.
Звезды освещали ее детское личико, пряча впалые щеки и темные круги под глазами. Райан снова вспомнил ту ночь, когда в нем зародилось желание, и захотел снова испытать это, только на этот раз довести до конца. Обнять ее, поцеловать в губы, крепко прижать к себе. Но желание не приходило; вместо него пришел стыд, и Райан, едва успев его ощутить, заслонился гневом.
– Мужчины не бывают счастливыми, – сказал он сердито.
– Раньше бывали.
– Ты наслушалась старушечьих сказок.
– Мне нравится слушать о тех временах, когда города еще не превратились в руины, земля была зеленой, а воды и пищи хватало на всех. Ты ведь веришь в это? Слова Танца…
– Иногда мне кажется, что слова Танца – ложь.
– Нет. В них мудрость. Без них мы не выжили бы.
– Ты сама говоришь как старуха. Да ты и есть старуха, старая безобразная карга, – сказал Райан и ушел, оставив Мериум у моря одну.
Племя разбилось на группы. Старики сидели отдельно от молодых мужчин, женщины в стороне напевали хором знакомый мотив.
Райан стоял у костра один. Из мужчин он здесь самый младший. Они с Мериум – последние дети, рожденные в племени. Тогда оно насчитывало несколько сот человек, а собаки не совсем еще одичали, и охотиться на них было легко. Тогда по окутанной пылью земле кочевали и другие племена. Райан порой думал о том, что с ними стало, но в глубине души знал ответ.
Становилось все холоднее. Райан подбросил хворосту в костер. Огонь похож на людей, думал он: пожирает все, что может, и умирает, когда есть становится нечего.
Забил барабан, и женский голос пропел:
– Что есть дерево?
– Это зеленый сон, – ответил кто-то из стариков.
– Что стало с живой землей?
– Она обратилась в прах.
Щеки Райана вспыхнули от гнева, горло свело. Вступительные фразы Танца всегда так на него действовали.
Один старик, лет тридцати, вышел на свет костра, шаркая ногами под бой барабана. Красное зарево осветило его морщинистое лицо и корявый лоб.
Живая земля обратилась в прах, и обратившие ее в прах сами сделались прахом… –возвестил он тонким дрожащим голосом.
В прах обратились наши обжоры-предки, – подхватила одна из женщин.
Другие тоже выходили в круг, обтянутый собачьей кожей барабан ускорял ритм. Кровь Райана все быстрее струилась по жилам, наполняя его свежими силами.
В прах обратились наши обжоры-предки, – слитно пели голоса, – предавшие поруганию холмы и долины, разорвавшие цепи лесов и выпустившие из берегов реки. Предки наши, выпившие колодезь до дна.
Райан не мог больше сдерживаться. Ноги его переступали в такт барабану, голос примкнул к общей песне:
Так порвем же память о них и бросим куски в огонь. Память о наших предках, осквернителях рек и озер, пожирателях, погубителях, убийцах живой земли; о жирных себялюбцах, загребавших все под себя, пожиравших свой мир…Райан притопывал ногами вместе со всеми, руки его рвали воздух и метали куски в огонь. Сила вливалась в тощие члены, наполняла хилое тело. По ту сторону костра он увидел Мериум, и у него захватило дух от ее красоты. Он снова почти желал ее и мог себя убедить, что когда-нибудь пожелает по-настоящему. Что действие Танца не истощится на этот раз: он останется сильным, уверенным и бесстрашным, и найдет много собак, чтобы накормить племя. Быть может, тогда мужчины начнут желать женщин, как раньше, и он сам пожелает Мериум, и племя, расплодившись, снова станет могучим…
Он топал ногами что есть силы и пел во весь голос. Ненависть, как вино, согревала тело, туманила мозг. Пение, переходящее в вой, скорбело и обвиняло, отражалось от мертвых холмов и мертвого моря, летело по окутанной пылью земле:
Свиньи вы, предки наши! Свиньи вы, предки наши…Тридцать дней в сентябре Перевод А. Комаринец
Вывеска в витрине гласила: «ШКОЛЬНАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА ПО СНИЖЕННОЙ ЦЕНЕ. ДЕШЕВЛЕ НЕ НАЙДЕТЕ», а ниже значилось буквами поменьше: «Умеет готовить, шить и полезна по дому».
Дэнби это навело на мысли о партах и ластиках, об осенних листьях и книгах, мечтах и смехе. Владелец магазинчика подержанных товаров нарядил ее в цветастое платье и красные сандалии, и она стояла в выставочной коробке посреди витрины точно кукла в натуральную величину, которая только и ждет, чтобы кто-то пробудил ее к жизни.
Отвернувшись, Дэнби попытался выбросить ее из головы и пойти дальше по весенней улице к стоянке, где держал свой малолитражный «бэби»-«бьюик». Лора скорее всего уже заказала, нажав на нужные кнопки, ужин, через четверть часа заказ будет стыть на столе, и жена придет в ярость, если он опоздает. Но он так и стоял… Высокий, худой, еще не совсем распрощавшийся с молодостью, которая все еще проглядывала в его мечтательных карих глазах и гладкости свежих щек.
Собственная инертность выводила его из себя. Он тысячи раз проходил мимо магазина по пути от парковки к офису и от офиса к парковке, но сейчас впервые остановился и заглянул в витрину.
Но ведь и в витрине впервые стояло нечто, чего ему по-настоящему захотелось.
Дэнби постарался разобраться в себе. Ему что – в самом деле нужна школьная учительница? Едва ли. Но Лоре определенно нужна помощница по хозяйству, а робот-горничная им не по карману, и Билли точно не помешала бы помощь с домашними заданиями, учитывая, что скоро ставить галочки в экзаменационных телетестах, и…
И… и ее волосы наводили на мысль о солнечном свете в сентябре, а лицо – о сентябрьском утре. Сентябрьская дымка окутала его, и сама его нерешительность вдруг развеялась, и он пошел – но не в ту сторону, куда намеревался…
– Сколько за учительницу в витрине? – спросил он.
Магазинчик был заставлен древностями всех мастей. Владелец оказался старичком с шапкой седых волос и глазками пряничного цвета. Он и сам выглядел как антиквариат.
Услышав вопрос Дэнби, старичок просиял.
– Понравилась вам, да, сэр? Она просто красавица.
Дэнби почувствовал, как вспыхнули щеки.
– Сколько? – повторил он.
– Сорок девять девяносто пять, плюс пять долларов за коробку.
Дэнби ушам своим не поверил. Учитывая, как редки учительницы, логично предположить, что цены будут расти, а не падать. И ведь всего год назад, когда он подумывал, не купить ли восстановленную учительницу для третьего класса, чтобы помогала Билли с телевизионными домашними заданиям, он ничего дешевле ста долларов не нашел. Он и за эту цену ее купил бы, если бы Лора не отговорила. Сама Лора никогда в реальную школу не ходила, а потому ничего в этом не понимала.
Но сорок девять девяносто пять! И к тому же умеет готовить и шить! Уж, конечно, Лора не станет отговаривать покупать такую…
Тем более если он не предоставит ей такого шанса.
– А она… она в хорошем состоянии?
Старичок даже обиделся:
– Ее полностью перебрали и настроили, сэр. Новехонькие батареи, новехонькие моторы. Ее еще лет на десять хватит, а объема памяти, возможно, вообще на целую вечность. Погодите, сейчас приведу ее, сами убедитесь.
К коробке прилагались колесики-ролики, но справиться с ней все равно было непросто. Дэнби помог старику выкатить ее из витрины в зал магазинчика. Они поставили ее у двери, там, где свет был поярче.
Старик восхищенно отступил на шаг.
– Возможно, я старомоден, – сказал он, – но я считаю, что телеучителям никогда с реальными не сравниться. Вы ведь в реальную школу ходили, верно, сэр?
Дэнби кивнул.
– Так я и думал. Даже забавно, что всегда можно угадать.
– Включите ее, пожалуйста, – попросил Дэнби.
Активировалась учительница крошечной кнопкой, спрятанной за мочкой левого уха. Старичок повозился немного, пока ее нашел, потом раздался слабый щелчок, за которым последовало тихое, едва слышное жужжание. Наконец на щеках учительницы заиграли краски, грудь начала вздыматься и опускаться, голубые глаза открылись.
Ногти врезались Дэнби в ладони…
– Пусть что-нибудь скажет.
– Она реагирует почти на что угодно, сэр, – продолжал старичок. – На фразы, сцены, ситуации… Если решите ее взять и она вам не подойдет, привозите назад, и я с радостью верну вам деньги. – Он повернулся к коробке. – Как вас зовут? – спросил он.
– Мисс Джонс. – Голос из коробки донесся порывом сентябрьского ветра.
– Ваш род занятий?
– Я учительница четвертых классов, но могу подменять в первых, вторых, третьих, пятых, шестых, седьмых и восьмых, и у меня обширные базовые знания в области гуманитарных наук. Еще я компетентна в хозяйственных делах, имею квалификацию повара и могу выполнять простую работу по дому, например пришить пуговицу, заштопать носки и починить рваную одежду.
– В поздние модели много всяких дополнений встраивали, – углом рта пояснил старик. – Когда наконец осознали, что телеобразование никуда не денется, чего только ни придумывали в попытках конкурировать с производителями овсяных хлопьев. Не помогло. – И добавил: – Выйдите из своей коробки, мисс Джонс. Покажите, как хорошо вы умеете ходить.
Она разок обошла обшарпанный зальчик, ее красные сандалии яркими пятнами сверкали на пыльном полу, а платье казалось игривым водопадом красок. Потом она вернулась и послушно остановилась у двери.
Дэнби поймал себя на том, что язык его не слушается.
– Хорошо, – выдавил он наконец. – Верните ее назад в коробку. Я ее беру.
– Ты мне что-то принес, папа? – крикнул Билли. – Тут что-то для меня?
– А то, – отозвался Дэнби, который, подкатив коробку по дорожке, как раз затаскивал ее на миниатюрное крылечко. – И для твоей мамы тоже.
– Надеюсь, это что-то стоящее. – Скрестив на груди руки, Лора стояла в дверном проеме. – Ужин совсем остыл.
– Всегда можно разогреть, – откликнулся Дэнби. – Осторожно, Билли!
Он перевалил коробку через порог и, чуть задыхаясь с натуги, покатил по короткому коридору в гостиную. В гостиной рекламный зазывала, пробравшийся через большой (целых 120 дюймов!) экран, громко вещал о прелестях новой модели «кабриолетки 2061».
– Поосторожней с ковром! – предостерегла Лора.
– Не волнуйся, ничего я не сделаю с твоим ковром, – откликнулся Дэнби. – Не мог бы кто-нибудь выключить телевизор, пожалуйста? А то собственных мыслей не слышно.
– Я выключу, папа. – Девятилетний Билли пересек гостиную и прикончил зазывалу в розовом пиджаке.
Затылком чувствуя дыхание Лоры, Дэнби возился с защитным кожухом.
– Учительница! – ахнула она, когда коробка наконец открылась. – Столько всего мужчина может подарить жене, а ты учительницу приволок!
– Она не просто учительница, – возразил Дэнби. – Она умеет готовить еду, она может шить, она… она практически все может. Ты же вечно твердишь, что тебе нужна служанка. Теперь она у тебя есть. И будет кому помогать Билли с телеуроками.
– Сколько?
Дэнби впервые заметил, какое узкое у его жены лицо.
– Сорок девять девяносто пять.
– Сорок девять девяносто пять! Ты с ума сошел, Джордж? Я изо всех сил коплю, чтобы мы могли обменять наш «бэби-би» на новенькую «кадиллетку», а ты выбрасываешь деньги на старую школьную учительницу. Что она-то понимает в телеобразовании? Да она на пятьдесят лет от жизни отстала!
– Пусть только попробует помогать мне с телеуроками! – Билли сердито уставился на ящик. – Мой телеучитель говорит, что эти старые андроидные учителя ни на что не годятся. Они… Они детей били!
– А вот и нет! – отрезал Дэнби. – Кому как не мне знать, ведь я аж до восьмого класса ходил в реальную школу. – Он повернулся к Лоре. – И ничего она не отстала, а про реальное образование она знает столько, сколько твоим телеучителям и не снилось! Я же говорил: она может шить, она может готовить.
– Ну так скажи, чтобы разогрела нам ужин!
– И скажу!
Запустив руку в коробку, он нажал кнопку активатора, и когда голубые глаза открылись, сказал:
– Пойдемте со мной, мисс Джонс.
И повел ее на кухню.
Он был в восторге от того, как внимательно она выслушивает его инструкции, какие кнопки нажимать, какие рычаги поднимать или опускать, какие индикаторы указывают на какие цифры…
В мгновение ока ужин исчез со стола и в мгновение ока появился снова – теплый, исходящий паром и вкусный.
Даже Лора смилостивилась.
– Ну… – протянула она.
– Вот тебе и ну! – отрезал Дэнби. – Я же говорил: она умеет готовить. Теперь тебе не придется больше жаловаться, что кнопку заело, или ноготь сломался, или…
– Ладно, Джордж. Не нуди.
Лицо у нее снова стало нормальное, конечно, еще чуток щеки втянуты – но обычно в этом и заключалась ее привлекательность, а еще в черных глазах-угольках и в искусно подведенных губах. Не так давно она снова подправила себе грудь и, правду сказать, потрясающе выглядела в новом красно-золотом неглиже. Дэнби подумал, что ему в общем и целом повезло. Взяв ее пальцем за подбородок, он ее поцеловал.
– Ну же, давайте есть, – предложил он.
По какой-то причине он забыл про Билли. Подняв взгляд от стола, он увидел, что его сын стоит в дверях кухни и злобно смотрит на мисс Джонс, которая готовит кофе.
– Пусть только попробует меня ударить! – сказал Билли в ответ на взгляд Дэнби.
Дэнби рассмеялся. Он уже увереннее себя чувствовал теперь, когда половина битвы выиграна. Второй можно будет заняться позднее.
– Ей и в голову не придет, – сказал он. – Теперь иди сюда, будь паинькой и съешь ужин.
– Да, – согласилась Лора. – И поторопись. По «Часу вестернов» будет «Ромео и Джульетта», и я не хочу пропустить ни минуты.
– Ладно, – смилостивился Билли.
Обойдя сторонкой мисс Джонс, он занял свое место за столом.
Ромео Монтагю ловко крутанул в пальцах сигарету, вставил между укрытых тенью сомбреро губ и прикурил от шведской спички. Потом направил холеного жеребца вниз по залитому лунным светом холму к ранчо Капулетов.
– Туточки ухо востро надо держать, – с чувством возвестил он. – Эти собаки Капулеты – козопасы и лиходеи, враги заклятые семейству моему, а мы – из благородных скотоводов. Дай им волю, на месте меня растерзают, но ради девчонки, что давеча повстречал я на танцах, стоит и волку в пасть сунуться.
Дэнби нахмурился. Он ничего не имел против осовременивания классики, но ему показалось, что с козопасами и скотоводами сценарист чуть перегнул палку. Но Лора и Билли как будто не заметили. Подавшись вперед в своих креслах, они завороженно смотрели в широкоформатный экран. Возможно, на канале все-таки знают, что делают…
Даже мисс Джонс как будто заинтересовалась… но это же невозможно, поспешно напомнил себе Дэнби. Она не способна заинтересоваться. С каким бы разумным выражением ее голубые глаза ни устремились на экран, на самом деле она просто сидит с ними, сидит чуть поодаль на диване, тратит ресурс батарейки. Надо было послушаться Лору и выключить ее…
Но почему-то у него рука не поднималась. Было что-то жестокое в том, чтобы лишать ее жизни – пусть даже временно.
А вот это уже самая что ни на есть нелепая мысль.
Дэнби раздраженно поерзал в своем кресле, и его раздражение лишь усилилось, когда он сообразил, что потерял нить сюжета. К тому времени, когда он разобрался, что к чему, Ромео уже вскарабкался на стену, окружавшую ранчо Капулетов, прокрался через плодовый сад и стоял среди кричаще пестрых клумб под низким балконом.
Джульетта Капулет вышла на балкон через анахроничное французское окно. На ней был белый костюм девушки-ковбоя, или точнее, козопаски: юбка до середины бедра и широкополое сомбреро на обесцвеченных перекисью патлах. Опершись о перила балкона, она выглянула в сад.
– Ты вообще туточки, Ромео? – с техасской гнусавостью протянула она.
– Нелепость какая! – произнесла вдруг мисс Джонс. – Текст, костюмы, манеры, декорации… Все неправильно!
Дэнби уставился на нее во все глаза. Он вдруг вспомнил слова владельца магазинчика подержанных вещей, что она реагирует не только на фразы, но и на сцены и ситуации. Он-то, конечно, предположил, что старик имеет в виду сцены и ситуации, непосредственно связанные с ее обязанностями учительницы, а не вообще все сцены и ситуации. Дэнби начали одолевать дурные предчувствия. Краем глаза он заметил, что Лора с Билли отвернулись от своих визуальных услад и изумленно уставились на мисс Джонс.
Наступал критический момент. Дэнби прокашлялся.
– Нельзя сказать, что пьеса «неправильная», мисс Джонс. Ее просто переписали. Понимаете, никто не стал бы смотреть ее в оригинале, а если бы никто не стал ее смотреть, то зачем кому-то тратить деньги на постановку?
– Но разве обязательно было превращать ее именно в вестерн? И зачем было коверкать имена?
Дэнби опасливо глянул на жену, во взгляде которой изумление сменилось ярой обидой. Он поспешно повернулся к мисс Джонс.
– Вестерны сейчас в моде, мисс Джонс, – объяснил он. – Это своего рода возрождение периода раннего телевидения. Людям они нравятся, поэтому, разумеется, спонсоры их спонсируют, и переписчики из кожи вон лезут, чтобы найти новый материал.
– Но Джульетта в сомбреро! Это ниже стандартов даже самого вульгарного мюзик-холла.
– Все, Джордж, хватит. – Голос Лоры заморозил бы камень. – Я тебе говорила, что она на полвека отстала от жизни. Либо отключай ее, либо я иду спать!
Дэнби со вздохом встал. Почему-то ему было стыдно, и пока он делал несколько шагов до стула мисс Джонс, и пока нащупывал кнопку у нее за левым ухом. Она смотрела на него спокойно, ее руки лежали неподвижно на коленях, воздух ритмично входил и выходил через синтетические ноздри.
Это было все равно что убийство. Когда Дэнби вернулся в свое кресло перед экраном, его передернуло.
– Вечно ты со своими училками! – сказала Лора.
– Заткнись! – отрезал Дэнби.
Он посмотрел на экран, постарался увлечься пьесой. Без толку. По другому каналу показывали другую пьесу: детектив под названием «Макбет». Но и он тоже оставил его равнодушным. Он то и дело поглядывал тайком на мисс Джонс. Грудь ее не вздымалась, глаза были закрыты. Комната казалась ужасающе пустой.
Наконец он не вытерпел и встал.
– Пойду покатаюсь, – сказал он Лоре и вышел.
Сдав задом с подъездной дорожки, он поехал на своем «бэби-би» в центр городка, снова и снова спрашивая себя, почему на него так подействовала антикварная школьная учительница. Он понимал, что это не просто ностальгия, хотя и ностальгия тут сыграла свою роль – ностальгия по сентябрю и реальной школе, и по тому, как входишь сентябрьским утром в класс и видишь, как, едва прозвенит звонок, учительница выходит из своего закутка у грифельной доски, и слышишь, как она говорит: «Доброе утро, дети. Чудесное утро для учебы, не правда ли?»
Но он же никогда не любил школу, во всяком случае, не больше, чем другие дети, зато знал, что сентябрь воплощает нечто большее, нечто еще помимо книг и осенней мечты. Сентябрь воплощал что-то, что он потерял по пути, что-то неопределенное, что-то нематериальное, что-то, в чем отчаянно нуждался сейчас.
Дэнби выкатил на бульвар, где пришлось уворачиваться от юрких автомобилеток, и заметил, что на углу улочки, ведущей к «Дружелюбному Даку», строят новый киоск. Гигантский плакат обещал: «Самые большие в городе! С пылу с жару! Съешьте настоящий хот-дог, поджаренный на настоящем огне! Скоро открытие».
Проехав мимо, он остановился на стоянке у «Дружелюбого Дака», вышел под весенние звезды и толкнул боковую дверь бара. В заведении было битком, но ему удалось найти пустую кабинку. Сев, он опустил в автомат четвертак и выбрал пиво.
Некоторое время спустя из раздаточного окошка выехал запотевший бумажный стакан. В кабинке было душно и пахло предыдущим посетителем – алкашом, решил Дэнби. Он спросил себя, каково это было в прежние времена, когда о личных кабинках в барах слыхом не слыхивали и приходилось стоять плечом к плечу с другими завсегдатаями, и все знали, сколько выпил сосед и кто напился в хлам. Потом его мысли вернулись к мисс Джонс.
Над раздаточным окошком помещался маленький телеэкран, а под ним тянулась надпись: «Проблемы? Поплачься в жилетку бармену! Дружелюбный Дак выслушает твои горести (всего 25 центов за 3 минуты!)».
Дэнби опустил монетку в прорезь. Раздался щелчок, четвертак выпал в выемку возврата монет, и механический, записанный на пленку голос Дружелюбного Дака произнес: «Занят, приятель. Буду через минутку».
«Минутку» и еще стакан пива спустя Дэнби попробовал снова. На сей раз экранчик зажегся, и, моргнув, сфокусировалось розовощекое лицо Дружелюбного Дака:
– Привет, Джордж. Как делишки?
– Да так, неплохо. Наверное.
– Но бывало и лучше, да?
Дэнби кивнул.
– В точку, Дак. В самую точку.
Он посмотрел на кусочек барной стойки, где его бумажный стакан стоял один-одинешенек.
– Я… я купил учительницу, Дак, – сказал он.
– Школьную учительницу!!!
– Ну, довольно странно покупать такие вещи, но я подумал, вдруг моему парню нужна помощь с домашкой. Видишь ли, скоро галочки в тестах ставить, а сам знаешь, как дети расстраиваются, когда ставят не туда и не получают приз. А потом я подумал, она… это особенная учительница, понимаешь, Дак… я подумал, она могла бы помогать Лоре по дому. И все такое…
Его голос пресекся, он поднял глаза на экран. Дружелюбный Дак с самым серьезным видом качал головой. Его розовые брыли ходили ходуном.
– Послушай меня, Джордж, – сказал он, наконец. – Избавься-ка ты от этой своей училки. Слышишь меня, Джордж? Избавься от нее. Эти учителя-андроиды ничем не лучше настоящих, старомодных… Я про тех, которые взаправду дышали. И знаешь что, Джордж? Ты не поверишь, но я-то знаю. Они детей били. Вот именно. Били их… – Раздался гудок, и экран начал мигать. – Время вышло, Джордж. Еще на четвертак хочешь?
– Нет, спасибо.
Допив пиво, Дэнби ушел.
Неужели все кругом ненавидят школьных учителей? И если так, то почему никто не ненавидит телеучителей?
Весь следующий день на работе Дэнби размышлял над этим парадоксом. Пятьдесят лет назад казалось, что учителя-андроиды решат проблему образования так же эффективно, как уменьшение размера и цены престижных автомобилей на рубеже века решило проблему экономики. Но хотя учителя-андроиды, несомненно, покончили с нехваткой учителей, возникла другая проблема – нехватка школ. Что проку в большом числе учителей, если недостаточно классов, где они могли бы преподавать? И как выделить деньги на строительство новых школ, когда стране нужны все более новые и лучшие супершоссе?
Глупо говорить, что строительство государственных школ важнее строительства государственных дорог, ведь если не уделять должного внимания дорогам, это ослабит желание граждан покупать новые автомобили, а следовательно, ослабеет экономика, наступит депрессия, и тем самым строительство новых школ окажется совсем уж непрактичным.
Если уж на то пошло, надо снять шляпу перед производителями овсяных хлопьев. Введя телеобразование и телеучителей, они спасли страну. Одна учительница в одной комнате, по одну сторону от нее грифельная доска, по другую – экран. Такой учительницы хватает на класс в пятьдесят миллионов учеников, а если кому-то из учеников не нравится, как она учит, ему достаточно переключить канал на другую образовательную программу, спонсируемую другой компанией овсяных хлопьев. (Разумеется, в обязанности родителей входит следить, чтобы ученик не пропускал уроки и не подключался к следующему классу, пока не поставит галочки в предыдущих тестах.)
Но самым лучшим в этой гениальной системе был тот счастливый факт, что все это оплачивали производители овсяных хлопьев, тем самым избавив налогоплательщика от одной из самых обременительных обязанностей и открыв его бумажник для оплаты налога на продажи и налога на бензин, платные дороги и выплаты кредитов за машину. И в обмен на свою верную службу на благо общества производители овсяных хлопьев просили только, чтобы ученики – и желательно их родители – потребляли их продукцию.
Выходит, никакого парадокса тут нет. Школьная учительница превратилась в табу, так как стала символом напрасных расходов, а телеучительница – в уважаемого служителя общества, поскольку стала символом оптовой экономики. Но Дэнби знал, что различие коренится гораздо глубже.
Хотя ненависть к училкам была отчасти атавизмом, главным образом она являлась плодом пропаганды, которую производители овсяных хлопьев развернули, когда только начали претворять свою идею в жизнь. Это они в ответе за широко распространенный миф, будто школьные учителя били учеников, и они же время от времени снова вытаскивают его на свет божий – просто на случай, если остался кто-то, кто в нем сомневается. Проблема заключалась в том, что большинство людей получили телеобразование и потому не знали правду. Дэнби был исключением. Он родился в маленьком городке, расположенном в горах, где телеантенны плохо ловили сигнал, и, пока его семья не переехала в поисках работы в большой город, ходил в настоящую школу. А потому он доподлинно знал, что училки не били своих учеников.
Если только корпорация «Андроиды, инк.» не поставила по ошибке одну-две дефектные модели. А такое было маловероятно. «Андроиды, инк.» – довольно компетентная корпорация. Только посмотрите, каких отличных там производят служащих для автозаправок. Посмотрите на прекрасных роботов-стенографисток, роботов-официанток и роботов-горничных, которых они поставляют на рынок.
Разумеется, ни средний бизнесмен, только-только начавший свое дело, ни средний домовладелец не может их себе позволить. Но… Тут мысли Дэнби совершили сложнейший скачок… Разве это не причина, чтобы Лора радовалась тому, что у нее появилась горничная?
Но Лора не радовалась. Ему хватило одного взгляда на ее лицо, на котором было ясно написано, что она не намерена радоваться.
Он никогда не видел, чтобы щеки у нее были такие впалые, а губы, так крепко сжаты.
– Где мисс Джонс? – спросил он.
– В своей коробке. И завтра утром ты отвезешь ее туда, откуда притащил, и получишь назад сорок девять девяносто пять!
– Пусть только попробует снова меня ударить! – буркнул Билли, по-турецки сидевший перед телевизором.
Дэнби побелел.
– Она правда его ударила?
– Ну… не совсем, – сказала Лора.
– Так ударила или нет?
– Скажи ему, что она сказала про моего телеучителя! – выкрикнул Билли.
– Она сказала, что у учительницы Билли не хватит квалификации, чтобы учить даже коров.
– И скажи ему, что она сказала про Гектора и Ахилла!
Лора шмыгнула носом.
– Она сказала, что просто позор превращать эпос «Илиада» в мелодраму про ковбоев и индейцев и называть это образованием.
Всю историю Дэнби вытянул из домашних по частям. С их слов выходило, что мисс Джонс впала в интеллектуальное буйство, как только Лора ее включила, и неистовствовала до тех пор, пока Лора ее не выключила. Если послушать мисс Джонс, то в доме семьи Дэнби все неправильно – от телеобразовательных программ, которые смотрит по маленькому красному телевизору в своей комнате Билли, до утренних и полуденных программ, которые Лора смотрит по большому телевизору в гостиной, от обоев в коридоре (маленькие красные «кадиллетки» на них катались по переплетенным ленточкам шоссе) до панорамного окна на кухне, оформленного как лобовое стекло, и отсутствия книг.
– Представляешь себе? – спросила Лора. – Она взаправду думает, будто книги еще издают!
– Я хочу знать только одно: она правда его ударила? – повторил свой вопрос Дэнби.
– Сейчас я до этого дойду…
Около трех часов дня мисс Джонс вытирала пыль в комнате Билли. Билли, как ему и положено, смотрел свои уроки, сидя за своей партой, как хороший маленький мальчик, поглощенный попытками ковбоев захватить индейскую деревню под названием Троя, как вдруг мисс Джонс пронеслась по комнате как сумасшедшая, отпустила свое кощунственное замечание про переписывание «Илиады» и выключила телевизор прямо посреди урока. Вот тут Билли начал вопить, и Лора ворвалась в комнату и застала мисс Джонс, когда она одной рукой сжимала руку Билли, а другую уже занесла для удара.
– Я как раз вовремя поспела, – сказала Лора. – Кто знает, что она могла натворить. Да она убить его могла!
– Сомневаюсь, – откликнулся Дэнби. – Что случилось потом?
– Я вырвала у нее Билли и велела ей возвращаться в коробку. Потом я ее отключила и закрыла крышку. И поверь мне, Джордж Дэнби, больше ее не откроют. И, как я сказала, завтра ты отвезешь ее назад! Не то ноги нашей с Билли не будет в этом доме!
Весь вечер Дэнби чувствовал себя больным. Он ковырял ужин, вяло просидел часть «Часа вестернов», то и дело поглядывая (когда считал, что Лора не видит) на коробку, безмолвно стоящую возле двери. Героиней «Часа вестернов» была девушка из дансинга – блондинка 90–60–90 по имели Антигона. Похоже, двое ее братьев прикончили друг друга в перестрелке, а местный шериф по имени Креон позволил только одного из них похоронить по-человечески на кладбище Бут-Хилл, вопреки всякой логике настаивая, что второго надо бросить в прериях на потребу стервятникам. Антигона никак не могла этого понять и сказала своей сестре Исмене, мол, если один брат достоин респектабельной могилы, то и другой тоже, и что она, Антигона, об этом позаботится, и не согласится ли Исмена ей помочь. Но Исмена в штаны наложила от страха, поэтому Антигона сказала, мол, ладно, она сама разберется, и когда в город приехал старый старатель по имени Тиресий…
Дэнби тихонько встал, проскользнул на кухню и вышел через заднюю дверь. Сев за руль, он доехал до бульвара, потом долго наматывал по нему круги, открыв все окна и подставив лицо теплому ветру.
Строительство киоска хот-догов на углу близилось к завершению. Он лениво глянул на него, сворачивая в переулок. В «Дружелюбном Даке» была уйма пустых кабинок, и он выбрал наугад. Он выпил довольно много пива, стоя у одинокого и пустынного отрезка стойки, и много думал. Решив, что его жена и сын точно уже спят, он вернулся домой, открыл коробку мисс Джонс и включил училку.
– Сегодня днем вы собирались ударить Билли? – спросил он.
Голубые глаза смотрели на него, не мигая, ресницы ритмично вздрагивали, зрачки, наконец, адаптировались к свету лампы в гостиной.
– Я не способна ударить человека, сэр, – ответила она наконец. – Кажется, такой пункт есть в моей гарантии.
– Боюсь, ваша гарантия уже истекла, мисс Джонс, – откликнулся Дэнби. Собственный голос показался ему гнусавым, слова скомканными. – Впрочем, неважно. Но вы ведь схватили его за руку, так?
– Мне пришлось, сэр.
Дэнби нахмурился. Покачнувшись, он на ватных ногах вернулся в гостиную.
– Подойдите сюда и расскажите, мишш… мисс Джонс, – просипел он.
Он смотрел, как она выходит из ящика, как идет через комнату. Было что-то странное в ее походке. Поступь у нее теперь была не легкая, а тяжелая. Само ее тело утратило изящество и странно скособочилось. Он с удивлением сообразил, что она прихрамывает.
Она опустилась на диван, и он плюхнулся рядом.
– Он вас пнул, верно? – спросил он.
– Да, сэр. Мне пришлось его удержать, не то он пнул бы еще раз.
Комнату перед глазами Дэнби вдруг заволокло тускло-красным, потом эту красноту прорезала внезапная догадка. Вот оно! В его руках теперь то самое оружие, которое ему необходимо: психологическая дубинка, которой он может разбить все возражения против мисс Джонс.
Но толика красноты еще оставалась и была подернута сожалением.
– Мне ужасно жаль, мисс Джонс. Боюсь, Билли чересчур агрессивен.
– Его нельзя винить, сэр. Я сегодня испытала большой шок, узнав, что все его образование состоит из тех ужасных программ, которые он вечно смотрит. Его телеучительница, ничуть не лучше малограмотного коммивояжера, главная задача которого – продавать выпускаемые его компанией овсяные хлопья. Теперь мне понятно, почему вашим писателям приходится в поисках идей обращаться к классике. Клише душат их творческое воображение еще в зародыше.
Дэнби был очарован. Он никогда не слышал, чтобы так говорили. Дело было не столько в словах, сколько в интонациях и в убежденности, звучавшей в ее голосе – невзирая на тот факт, что ее «голос» лишь запись с пленки, идущая через встроенный динамик, подключенный к крайне сложным платам памяти.
Но сидя рядом с ней, глядя, как шевелятся ее губы, видя, как время от времени опускаются на голубые-преголубые глаза ресницы, он вдруг почувствовал, что в комнату вошел и сел рядом с ними сентябрь. Внезапно на него снизошло удивительное спокойствие. Многогранные и мягкие сентябрьские дни чередой прошли у него перед глазами, и он понял, чем они отличались от других дней. Их отличали глубина, красота и безмятежность, потому что их небеса дарили обещание дней еще более насыщенных, еще более мягких…
Они отличались тем, что были наполнены смыслом…
Мгновение было таким мучительно-сладким, что Дэнби хотелось, чтобы оно длилось вечно. Сама мысль о том, что оно пройдет, наполняло его бесконечной тоской, и он инстинктивно сделал единственно возможный физический жест, чтобы его удержать.
Он обнял мисс Джонс за плечи. Она не шевельнулась. Она сидела неподвижно, ее грудь вздымалась и опускалась через равные интервалы, ее длинные ресницы время от времени опускались, как темные, ласковые крылья над голубыми безмятежными водами…
– Мы вчера смотрели пьесу… – произнес Дэнби. – «Ромео и Джульетта»… Почему она вам не понравилась?
– Она была ужасной, сэр. По сути, это был фарс… Вульгарный, дешевый фарс, марающий и коверкающий красоту строк.
– А вы строки знаете?
– Некоторые.
– Прочтите. Пожалуйста.
– Хорошо, сэр, Под конец сцены под балконом, когда влюбленные расстаются, Джульетта произносит: «Прощай, прощай; минуты расставанья исполнены столь сладкого страданья, что я тебе до самого утра готова бы желать спокойной ночи», а Ромео ей отвечает: «Пусть крепкий сон глаза твои закроет, в твоей груди пусть водворится мир. О если б я был этим сном и миром!» Почему они это выбросили, сэр? Почему?
– Потому что мы живем в дешевом мире, – ответил Дэнби, удивляясь собственному прозрению, – а в дешевом мире все драгоценное опошлено. Пшалуста… – Язык у него заплетался, но он постарался взять себя в руки. – Пожалуйста, прочтите еще раз эти строчки, мисс Джонс.
– «Прощай, прощай; минуты расставанья исполнены столь сладкого страданья, что я тебе до самого утра готова бы желать спокойной ночи…»
– Позвольте закончить мне. – Дэнби сосредоточился. – «Пусть крепкий сон глаза твои закроет, в твоей…
– …в твоей груди…
– …пусть водворится мир. О если б я…
– …о если б я был…
– …этим сном и миром!»
Мисс Джонс внезапно встала.
– Добрый вечер, мэм, – сказала она.
Дэнби даже не потрудился подняться на ноги. Ему и с дивана хорошо было видно Лору. Беззвучно спустившись босиком, Лора стояла в дверном проеме в своей новой пижаме с «кадиллетками». Двухмерные машинки, из которых складывался узор на пижаме, проступали ярко-алым на бежевом фоне, и создавалось впечатление, что, ложась, она позволяет им кататься по своему телу, осквернять свои груди, живот и ноги…
Он увидел ее узкое лицо и холодные безжалостные глаза и понял, что бесполезно пытаться объяснить, что она не поймет, не способна понять. И со внезапной ясностью он осознал, что мир, в котором он переживал сентябрь, уже несколько десятилетий как мертв, и мысленно увидел, как утром грузит коробку в «бэби-би» и едет по сверкающим улицам города, и просит владельца магазинчика вернуть его деньги, и… но тут ему пришлось отвести взгляд, а когда он посмотрел снова, то увидел, что мисс Джонс неуместно стоит в вульгарной гостиной, и услышал, как она снова и снова повторяет, как сломанная пластинка:
– Что-то не так, мэм? Что-то не так, мэм?
Прошло несколько недель, прежде чем Дэнби почувствовал себя хотя бы настолько сносно, чтобы поехать к «Дружелюбному Даку» выпить пива. К тому времени Лора снова начала с ним разговаривать, и вообще жизнь, пусть и не вполне такая же, как раньше, все-таки приобрела прежние черты. Он вывел «бэби-би» с подъездной дорожки и некоторое время спустя свернул в пестрый поток машин на бульваре. Стояла ясная июньская ночь, и звезды посверкивали хрустальными булавочными головками над флуоресцентными сполохами города. Киоск с хот-догами на углу достроили, он даже успел открыться. У сверкающего хромом прилавка ждали несколько посетителей, и повариха переворачивала на хромовом гриле венские сосиски. Дэнби почудилось что-то знакомое в цветастом платье, в том, как она двигалась, в том, как мягкие волны волос обрамляли нежное лицо… Ее новый владелец стоял поодаль, облокотившись о прилавок, и болтал с клиентом.
Припарковав «бэби-би», Дэнби пересек бетонную пустыню парковки, у него ныло в груди и пульсировало в висках… Есть вещи, которые нельзя просто так спустить, надо хотя бы попытаться остановить их, неважно, какую придется заплатить за это цену.
Он подошел к владельцу и собирался уже перегнуться через начищенный до блеска прилавок и ударить в самодовольное толстое лицо, как увидел, что к хромированной горчичнице прислонена картонная табличка, которая гласила: «Требуется мужчина…»
Киоску хот-догов очень далеко до классной комнаты в сентябре, а учительница, подающая хот-доги, никогда не сравнится с учительницей, дарящей мечты, но если чего-то хочешь очень сильно, берешь что есть и благодаришь даже за это…
– Я могу работать только по вечерам, – сказал владельцу киоска Дэнби. – Скажем, с шести до двенадцати…
– Да это же просто замечательно! – отозвался владелец. – Но, боюсь, поначалу я не смогу вам много платить. Понимаете, я только разворачиваюсь…
– Не страшно, – сказал Дэнби. – Когда начинать?
– Чем раньше, тем лучше.
Сделав несколько шагов, Дэнби приподнял доску, закрепленную на скрытых петлях, зашел за прилавок и снял пиджак. Если Лоре эта идея не по вкусу, пусть отправляется ко всем чертям… Но он знал, что она будет не против, ведь дополнительный заработок позволит осуществиться ее мечте – мечте о «кадиллетке».
Надев передник, который протянул ему владелец, он присоединился к мисс Джонс у гриля.
– Добрый вечер, мисс Джонс, – сказал он.
Она повернулась, и голубые глаза словно бы вспыхнули, и волосы у нее были как солнце, встающее туманным сентябрьским утром.
– Добрый вечер, сэр, – ответила она, и июньской ночью по киоску пронесся порыв сентябрьского ветра, и это было все равно как вернуться в школу после бесконечного пустого лета.
Начертано в звездах Перевод А. Комаринец
Внезапное отбытие стааидов сбило с толку всех, включая президента Соединенных Штатов Америки. Только что они стояли на лужайке перед Белым домом, дружески болтали с профессором Громли при помощи переносного переводчика и смотрели, как в небе проступают звезды, а потом вдруг, безо всякой видимой на то причины свернули, как шайка разобиженных арабов, прозрачные шатры и гуськом проследовали в сияющий проем телепортатора. Всем стало ясно, что это решение окончательное, когда они втянули за собой трап, не оставив на лужайке Белого дома ни малейшего следа того, что некогда тут стояла лагерем внеземная экспедиция, если не считать спутанных отпечатков ног на снегу, забытого колышка от шатра и удрученной физиономии профессора Громли.
Вполне понятно, что президент Соединенных Штатов был не только сбит с толку, но и разочарован. Ведь если бы стааиды остались и отдали всевозможные чудесные технологические штучки, которые, по их словам, привезли с собой, он удостоился бы таких славы и почестей, которые гремели бы еще много поколений. Следующие выборы были бы у него в кармане, а 1973 год, самый первый год его президентского срока, вошел бы в учебники истории датой столь же значимой и удостоился бы места столь же внушительного, как несгибаемые 1492-й, 1620-й и 1945-й.
Но стааиды отбыли, и теперь президенту оставалось только подвергнуть суровому допросу профессора Громли. Он мрачно сидел за пустым письменным столом, раздраженно поджидая, когда в Овальный кабинет приведут антрополога. Никогда еще ни один президент Соединенных Штатов так не нуждался в козле отпущения, и никогда еще кандидат на роль оного козла не был так очевиден.
– Вы посылали за мной, господин президент? – спросил профессор Громли, представ пред президентские очи и помаргивая глазками в огромных очках в черной оправе, которые придавали его облику нечто совиное.
– Определенно посылал. – Президент тщательно выговаривал каждое слово. – Вы можете предложить более подходящего кандидата, к которому я мог бы обратиться в предлагаемых обстоятельствах?
– Нет, сэр, боюсь, что нет.
– Тогда не будем ходить вокруг да около. Извольте доложить мне, что такого вы сказали нашим гостям там, на лужайке. Отчего они оскорбились и решили убраться туда, откуда явились?
– Они вернулись на двадцать третью звезду дельты Стрельца, – поправил профессор Громли, – но они покинули нашу планету вовсе не из-за того, что я им сказал.
– Надо же, какое поразительное заявление! – язвительно откликнулся первый человек в государстве. – Мы назначили вас нашим представителем на основании ваших прославленных антропологических достижений; можно сказать, поднесли стааидов вам на блюдечке в надежде, что вы, как человек наиболее просвещенный в своей области, с наименьшей вероятностью наступите на их культорологические мозоли. Иными словами, за те двенадцать часов, что они провели на Земле, вы были единственным, кто говорил с ними напрямую. А теперь вы утверждаете, будто они смотались отсюда не из-за вас. Тогда почему они улетели?
Очки в черной оправе снова блеснули в свете президентской настольной лампы, сейчас профессор Громли более, чем-когда либо, напоминал сову – причем крайне смущенную.
– Вам знакомо созвездие Ориона, господин президент? – нерешительно спросил он.
– Конечно, я слышал про созвездие Ориона. Однако, думается, сейчас мы обсуждаем двадцать третью звезду в созвездии Стрельца.
– Да, сэр, – с несчастным видом согласился профессор Громли. – Но понимаете ли, если смотреть на Вселенную с двадцать третьей дельты Стрельца, то Орион – это вовсе не Орион. Иными словами, конфигурация звезд, составляющих это созвездие, весьма отличается от той, что видим мы с нашей планеты.
– Все это крайне интересная астрономическая информация, – сухо откликнулось первое лицо государства. – Полагаю, она имеет какое-то отдаленное отношение к предмету нашей беседы, а именно, – на случай, если вы забыли, – к причине отбытия стааидов.
– Я как раз пытаюсь подвести вас к этому злополучному факту, сэр, – с некоторым отчаянием продолжал профессор Громли. – Дело в том, что стааиды, никогда прежде не ступавшие на Землю, не могли предугадать конфигурацию звезд, которая возникла вечером в восточной части небосклона в то время, что мы беседовали на лужайке перед Белым домом. Если бы они такое предвидели, они бы и близко не подошли к нашей планете.
– Я весь внимание.
Профессор Громли распрямил плечи перед президентским столом, и в его голосе проступила преподавательская назидательность:
– Прежде чем продемонстрировать, почему именно улетели стааиды, господин президент, мне бы хотелось донести до вас некоторые важные факты, которые я узнал за то время, что провел в их обществе. Во-первых, во всем, что касается технологии, они, несомненно, высокоразвитая раса, но далеко не так высоко развиты в прочих областях. Во-вторых, их нынешняя мораль имеет значительное сходство с постулатами иудаизма и христианства, сформировавшими наше западное отношение к сексу. Иными словами, их привлекает и одновременно отталкивает любое упоминание акта продолжения рода. В-третьих, их язык построен на символах, сохранившихся у них с глубокой древности, и настолько примитивен, что даже я, не будучи специалистом, сумел освоить его структуру за те двенадцать часов, что мы общались. В-четвертых, группа, посетившая нашу планету, состояла из миссионеров… А теперь, господин президент, если вы будете так добры и прикажете принести классную доску, я продемонстрирую вам, почему наши несостоявшиеся благодетели покинули планету Земля.
Президент с трудом удержался от того, чтобы напомнить профессору, что Овальный кабинет – не классная комната, а он сам – не отстающий студент, а президент Соединенных Штатов. Но на опущенные плечи профессора Громли вдруг опустилась невидимая мантия, придавшая ему значительность и властность; он по-прежнему напоминал сову, но сову, облеченную властью. Президент вздохнул.
Когда принесли грифельную доску, профессор Громли встал перед ней в позе учителя и взял в руки мел.
– К нашей проблеме имеет отношение лишь одна черта стааидского языка, а именно спряжение глаголов и образование глагольных форм. Происходит это путем комбинации двух существительных. Представляя их пиктографически, я обозначу их звездами – по причине, которая скоро станет вам очевидна. На самом деле в стааидском языке существует множество нюансов и вариаций, но получающаяся в результате пиктограмма – в данном контексте – остается неизменной.
Профессор Громли вскинул руку и вывел в верхней части доски:
– Вот это…
– Стааидская пиктограмма, обозначающая «молодой побег», а вот это
– стааидский символ «дерева». Если соединить две эти пиктограммы вот так…
– мы получим глагол «расти». Я ясно выражаюсь, господин президент?
– Я все еще не услышал…
– Прошу прощения, последний пример. Вот это
– пиктограмма, означающая «птица», а вот это
– символ «воздуха». Соединив их, мы получаем
– пиктограмму глагола «лететь». – Профессор Громли прокашлялся. – Теперь мы готовы перейти к той самой комбинации символов, которая вынудила стааидов улететь. Вот эта пиктограмма
– означает «мужчина», а вот эта
– «женщина». Соединив их, мы получаем
– Теперь вы понимаете, почему они улетели, господин президент?
Последовавшее молчание и пустой взгляд президента ясно сказали профессору о том, что кусочки мозаики не сложились в единое полотно в голове президента.
Профессор Громли отер лоб.
– Позвольте прибегнуть к аналогии. Предположим, это мы перенеслись на двадцать третью звезду дельты Стрельца, установили контакт с местным населением и пообещали им златые горы в обмен на разрешение обратить их в свою веру. И предположим, что в первый же вечер мы обратили взор в небо и увидели, как на востоке встает гигантское слово из трех букв. Какой была бы наша реакция?
– Господь всемогущий! – Лицо президента сделалось багровым – под стать обивке кресла. – Но нельзя ли как-нибудь объяснить… принести официальные извинения? Хотя бы что-то предпринять?
Профессор Громли покачал головой.
– Даже если предположить, что мы сможем с ними связаться, есть лишь один способ заставить их вернуться, а именно – устранить причину афронта… Мы можем стереть слово из трех букв со стен общественных туалетов, господин президент, но мы не можем стереть слово, начертанное в звездах.
Производственная проблема Перевод Н. Виленской
– Пришел человек из «Хронопоиска», сэр, – доложил рободворецкий.
– Пусть войдет.
Человек из «Хронопоиска» топтался на пороге, перекладывая из руки в руку продолговатый сверток.
– Доброе утро, достопочтенный Бриджмейкер…
– Ну что, нашли вы эту машину?
– Боюсь, что нет, сэр… но нам удалось найти еще один из выпущенных ею артефактов. – Человек передал сверток Бриджмейкеру.
– Артефактов у меня уже сотни! – Бриджмейкер обвел гневным жестом всю комнату. – Мне нужна сама машина, чтобы самому выпускать такую продукцию!
– Боюсь, достопочтенный, что такой машины не существовало вообще. Наши агенты обследовали и Дотехнологическую эру, и Первую Технологическую, и ранние годы нашей собственной эры; иногда они наблюдали древних технологов за работой, но самой машины не видели никогда.
– Если древние технологи могли творить без машины, я бы тоже мог – а поскольку я не могу, машина непременно должна быть. Ступайте и продолжайте поиски!
Посыльный поклонился и вышел, а Бриджмейкер, вскрыв доставленную посылку, настроил свой лингводублепреобразователь.
Что за ирония. Он понял, в чем его призвание, еще в детстве, но финансовую независимость обрел благодаря совершенно другому роду занятий. Теперь он делал все, чтобы вернуться к своей первой любви, но получал за это лишь груды древней продукции. Дублирование и распространение этих продуктов способствовало его финансовой независимости, но мечта Бриджмейкера стать первостепенным художником так и не осуществилась.
Подойдя к полкам, он обозрел творения, выходящие под его именем: «Прощай, оружие», «Повесть о пяти Перчиках»[16], «Одиссея», «Айвенго»…
Из лингводублепреобразователя с громким хлопком выпал первый экземпляр, и Бриджмейкер приступил к чтению своего очередного шедевра «Том Свифт и его электровоз»[17].
Звезды зовут, мистер Китс! Перевод Р. Облонской
Хаббарду уже доводилось видеть куиджи, но хромую куиджи он встречал впервые.
Правда, если не считать ее искривленной левой лапки, она, в сущности, не отличалась от прочих птиц, выставленных на продажу. Тот же ярко-желтый хохолок и ожерелье в синюю крапинку, те же прозрачно-синие бусинки глаз и светло-зеленая грудка, так же причудливо изогнутый клюв и то же странное, нездешнее выражение. Она была около шести дюймов длиной и весила, должно быть, граммов тридцать пять.
Хаббард вдруг спохватился, что уже давно молчит. Девушка с высокой грудью, в наимоднейшем полупрозрачном платье вопросительно смотрела на него из-за прилавка.
– Что у нее с лапкой? – спросил он, откашлявшись.
Девушка пожала плечами.
– Сломали во время погрузки. Мы снизили на нее цену, но все равно ее никто не купит. Покупатель желает, чтобы они были первый сорт, без изъянов.
– Понятно, – сказал Хаббард. И стал вспоминать то немногое, что знал о куиджи: родом они из Куиджи, полудикого захолустья Венерианской тройственной республики; с первого или со второго раза запоминают все, что им скажешь; отзываются на сколько-нибудь знакомое слово; легко приспосабливаются к новым условиям, однако размножаются только у себя на родине, поэтому для продажи приходится доставлять их на Землю с Венеры; по счастью, они очень выносливы и выдерживают ускорение и торможение, перелет им не опасен.
Перелет…
– Выходит, она была в космосе! – вырвалось у Хаббарда.
Девушка скорчила гримаску и кивнула.
– Космос – для птиц, я всегда это говорила.
От него, конечно, ждали, что он рассмеется. Он даже и попытался было. В конце концов, откуда девушке знать, что он бывший космонавт. С виду он самый обыкновенный человек средних лет, немало таких слоняется в этот февральский день по магазинам стандартных цен. И все-таки рассмеяться не удалось, хотя он старался изо всех сил.
Девушка как будто ничего не заметила.
– Интересно, почему одни только чокнутые летают к звездам, – продолжала она.
Потому что только они способны справиться с одиночеством, да и то лишь на какое-то время, – чуть не сказал Хаббард. Но вместо этого спросил:
– А что вы с ними делаете, если их никто не покупает?
– С кем, с птицами? Ну, берут бумажный мешок, накачивают туда немного природного газа… совсем немного… а потом…
– Сколько она стоит?
– Вы про хромую?
– Да.
– Значит, вы вивисектор, да?.. Шесть девяносто пять, и еще семнадцать пятьдесят за клетку.
– Я ее беру, – сказал Хаббард.
Нести клетку было неудобно, чехол то и дело сползал, и всякий раз куиджи издавал громкий писк – в аэробусе, а потом и на улице предместья все оборачивались и пялили глаза, и Хаббард чувствовал себя дурак дураком.
Он надеялся проскользнуть в дом и подняться к себе в комнату так, чтобы сестра не углядела его покупку. Напрасная надежда. От Элис ничего не скроешь.
– Ну-ка, на что это ты выбросил свои денежки? – вопросила она, появляясь в прихожей в ту самую минуту, как он переступил порог.
Хаббард покорно обернулся и ответил:
– Это птица куиджи.
– Птица куиджи!
На лице Элис появилось то самое выражение, которое он уже давно определил как «настырно-воинственное и обиженное»: она раздула ноздри, поджала губы и втянула щеки. Сорвала чехол и острым глазом впилась в клетку.
– Ну, как вам это понравится? – воскликнула Элис. – Да еще хромая!
– Но ведь это не чудовище какое-нибудь, – сказал Хаббард. – Просто птица. Совсем маленькая пичуга. Ей не нужно много места, и я позабочусь, чтобы она никому не мешала.
Элис смерила его долгим ледяным взглядом.
– Да уж постарайся! – процедила она. – Прямо не представляю, как к этому отнесется Джек. – Она круто повернулась и пошла прочь. – Ужин в шесть, – бросила она через плечо.
Он медленно поднимался по лестнице. Его охватила усталость, ощущение безысходности. Да, правильно говорят: чем дольше пробудешь в космосе, тем меньше надежды вновь найти общий язык с людьми. Космос большой, и в космосе к тебе приходят большие мысли; там читаешь книги, написанные большими людьми. Там меняешься, становишься другим… и в конце концов даже родные начинают видеть в тебе чужака.
А ведь, право же, стараешься быть точно таким, как все, кто окружает тебя на Земле. Стараешься и говорить то же, что они, и поступать так же. Даешь себе слово никогда никого не называть крабом. Но рано или поздно с языка неизбежно срывается что-нибудь непривычное для их ушей либо поступаешь не так, как у них принято, и в тебя впиваются враждебные взгляды, и всюду враждебные лица, и в конце концов неизбежно становишься отверженным. Разве можно цитировать Шекспира в обществе, чей бог – какой-то розовощекий филантроп за рулем «Кадиллака» с крылышками? Разве можно признаться, что любишь Вагнера, когда твоя цивилизация упивается ковбойскими опереттами?
Разве можно купить хромую птицу в мире, который забыл (а быть может, никогда и не знал), что значат слова «почитай все живое».
Двадцать пять лет, думал Хаббард. Я отдал лучшие свои годы. А что получил взамен? Четыре стены, отгораживающие меня от всего мира, и жалкую пенсию, которой не хватает даже на то, чтобы сохранять чувство собственного достоинства.
И все-таки он не жалеет об этих годах; величественное, неторопливое течение звезд, непередаваемый миг, когда в поле твоего зрения вплывает новая планета – из золотого, зеленого или лазурного пятнышка превращается в шар и заслоняет собою весь космос. И прибытие, когда новый мир доверчиво приветствует тебя, возвещает о красотах – упоительных и пугающих, о неведомых горизонтах, о цивилизациях, что и во сне не снились темному человеку-крабу, который никогда не узнает вдохновения и ползает по дну глубокого океана земной атмосферы, придавленный ее миллионнотонной тяжестью.
Нет, он не жалеет об этих годах, хоть они и дорого ему дались. За все стоящее приходится платить дорогой ценой, а если у тебя не хватает смелости платить, на всю жизнь остаешься нищим. Тогда ты нищий духом и умом.
Господство духа над плотью, глубокий и чистый поток мысли: беспрепятственно проходишь по надежным коридорам знания, с трепетом вступаешь в храмы, воздвигнутые из слов; и в редкие ослепительные мгновения взору открывается звездный лик божества.
И те, другие, мгновения тоже, когда душе, потрясенной одиночеством, открываются бездонные глубины ада…
Хаббард вздрогнул. И вновь медленно опустился на дно океана. Перед ним была унылая дверь его комнаты. Он неохотно взялся за ручку, повернул ее.
Напротив двери – шкаф, битком набитый старыми, очень старыми книгами. Справа – какая-то развалина, которую он искренне почитал за письменный стол, только в ящиках хранились не бумаги, не перья, не бортовой журнал, а нижнее белье, носки, рубашки и прочее снаряжение, все то, что смертный обычно наследует от предков. Кровать, узкая и жесткая, с его точки зрения именно такая, как полагается, стояла у окна, точно несгибаемый спартанец, на полу из-под края покрывала чуть выглядывали запасные башмаки.
Хаббард поставил клетку на стол, снял пальто и шляпу. Куиджи одобрительно оглядел свой новый мир, припадая на левую ногу, соскочил с жердочки и принялся клевать зерна пиви из посудинки, которая продавалась вместе с клеткой. Хаббард некоторое время наблюдал за ним, потом сообразил, что невежливо смотреть, как другой ест, даже если этот другой всего лишь птица; повесил пальто и шляпу в стенной шкаф, прошел через коридор в ванную и умылся. Когда он вернулся, куиджи уже покончил с трапезой и теперь задумчиво себя рассматривал: в клетке было и зеркальце.
– Пожалуй, пора дать тебе первый урок, – сказал Хаббард. – Поглядим, как ты справишься с Китсом. «Красота – это истина, истина есть красота – только это и ведомо вам на Земле, только это вам надобно знать».
Куиджи, склонив голову набок, глядел на него синим глазом. Стремглав убегали секунды.
– Ладно, – сказал наконец Хаббард, – попробуем еще раз: «Красота – это истина…»
– Истина есть красота – только это и ведомо вам на Земле, только это вам надобно знать!
Хаббард отшатнулся. Слова эти сказаны были почти без выражения, довольно скрипучим голосом. Но все равно они звучали четко и ясно, и это впервые в жизни – если не считать разговоров с другими космонавтами – он слышал слова, которые не имели никакого отношения к телесным нуждам или отправлениям. Он провел ладонью по щеке – оказалось, рука слегка дрожит. Ну почему он давным-давно не догадался купить куиджи?!
– По-моему, – сказал он, – прежде чем двигаться дальше, надо дать тебе имя. Пускай будет Китс, раз уж мы с него начали. Или, пожалуй, лучше Мистер Китс, ведь надо же обозначить, какого ты пола. Конечно, я действую наобум, но мне не пришло в голову спросить в магазине, мужчина ты или женщина.
– Китс, – сказал Мистер Китс.
– Прекрасно! А теперь попробуем строчку-другую из Шелли.
(Краешком сознания Хаббард уловил, что к дому подъехала машина, слышал голоса в прихожей, но, поглощенный Мистером Китсом, не обратил на это никакого внимания.)
Скажи, звезда с крылами света, Скажи, куда тебя влечет? В какой пучине непроглядной Окончишь огненный полет?– Скажи, звезда… – начал Мистер Китс.
– Значит, это правда. Только этого не хватало в моем доме – птицы куиджи, которая декламирует стихи!
Хаббард нехотя обернулся. На пороге стоял его зять. Обычно Хаббард запирал дверь. А сегодня забыл.
– Да, – сказал Хаббард. – Она декламирует стихи. Разве это запрещено законом?
– …С крылами света… – продолжал Мистер Китс.
Джек помотал головой. Ему было тридцать пять, выглядел он на все сорок, а соображения – как у пятнадцатилетнего.
– Нет, не запрещено, – сказал он. – А надо бы запретить.
– Скажи, куда тебя влечет?..
– Не согласен, – сказал Хаббард.
– В какой пучине непроглядной…
– И еще нужен бы закон, чтобы запрещалось приносить их в дома, где живут люди.
– Окончишь огненный полет?
– Ты что, хочешь сказать, что мне нельзя держать ее у себя?
– Не совсем так. Но предупреждаю, держи ее от меня подальше! Сам знаешь, они носители микробов.
– Ты тоже, – сказал Хаббард. Он не хотел этого говорить, но не удержался.
Джек раздул ноздри, поджал губы и втянул щеки. Забавно, подумал Хаббард, после двенадцати лет совместной жизни у мужа и жены становится совершенно одинаковое выражение лица.
– Держи ее подальше от меня, вот и все! И от детей тоже. Я не желаю, чтобы она отравляла их мозги трескучей болтовней, которой ты ее учишь!
– Можешь не волноваться, я буду держать ее подальше от детей.
– Мне уйти, что ли?
– Да.
Джек так хлопнул дверью, что в комнате все задрожало. Мистер Китс чуть не проскочил меж прутьев клетки. Хаббард в бешенстве кинулся было из комнаты.
Но сразу остановился. Стоит ли давать им тот самый повод, которого они только и ждут, чтобы выставить его из дому? Пенсия у него ничтожная, с нею никуда не переселишься – разве что в Заброшенные дома, – а наниматься куда попало на работу просто ради денег – это не по нем. Рано или поздно он неминуемо выдаст себя перед сослуживцами, как случалось с ним всегда и везде, и либо оговором и напраслиной, либо насмешками его все равно выживут с работы.
С тяжелым сердцем он шагнул назад, в комнату. Мистер Китс уже немного успокоился, но его бледно-зеленая грудка все еще поднималась и опускалась слишком часто. Хаббард склонился над клеткой.
– Извини, Мистер Китс, – сказал он. – Наверно, и у птиц, как у людей: будь как все, не то плохо тебе придется.
К ужину он опоздал. Когда он вошел в столовую, Джек, Элис и дети уже сидели за столом, и до него донеслись слова Джека:
– Я сыт по горло его наглостью. В конце концов, куда бы он девался, если бы не я? Докатился бы до Заброшенных домов!
– Я с ним поговорю, – сказала Элис.
– Хоть сейчас, – сказал Хаббард, сел к столу и вскрыл свой пакет с синтетическим ужином.
Элис бросила на него оскорбленный взгляд, нарочно приберегаемый для таких случаев.
– Джек только что мне рассказал, как грубо ты с ним обошелся. Не мешало бы тебе извиниться. В конце концов, это ведь его дом.
У Хаббарда внутри все дрожало от напряжения. Обычно, всякий раз как его попрекали, что он живет здесь из милости, он отступал. Но сегодня он почему-то не мог отступить.
– Да, конечно, вы дали мне крышу над головой и кормите меня, и за то и за другое я плачу вам слишком мало, так что от меня нет никакой выгоды. Но подобная щедрость вряд ли дает вам право покушаться на частицу моей души всякий раз, как я пытаюсь отстоять свое человеческое достоинство.
Элис тупо на него поглядела. Потом сказала:
– Кому нужна частица твоей души? Почему ты так странно говоришь, Вен?
– Он так говорит, потому что он был астронавтом, – прервал Джек. – В космосе они все так разговаривают… сами с собой, конечно. Это помогает им не спятить… или не замечать, что они уже спятили!
Восьмилетняя Нэнси и одиннадцатилетний Джим разом захихикали. Хаббард отрезал небольшой кусочек от своего почти настоящего бифштекса. Все внутри дрожало еще мучительнее. А потом он подумал о Мистере Китсе, и дрожь унялась. Он холодно огляделся. Впервые за многие годы он не боялся.
– Если вот это сборище соответствует норме, – сказал он, – тогда мы, наверно, и в самом деле спятили. Слава богу! Значит, еще не все потеряно!
У Джека и Элис лица стали точно туго натянутые маски. Но оба промолчали. Ужин продолжался. Хаббард обычно ел мало. Он редко бывал голоден.
Но сегодня у него был отличный аппетит.
Назавтра была суббота. Субботним утром Хаббард всегда мыл машину Джека. Но нынче он не стал этого делать. После завтрака он ушел к себе и три часа провел с Мистером Китсом. На сей раз занялись Декартом, Ницше и Хьюмом. Правда, с прозой Мистер Китс справлялся не так блестяще. Из каждой темы он запоминал лишь одну-две фразы, не больше.
Его сильным местом явно была поэзия.
Днем Хаббард по обыкновению побывал на космодроме, смотрел, как садятся и взлетают межпланетные гиганты ближних линий. «Пламя» и «Странник», «Обещание» и «Песнь». Хаббард больше всех любил «Обещание». Когда-то он и сам всплывал на нем, – кажется, что это было очень, очень давно, а ведь на самом деле прошло не так уж много времени. Каких-нибудь два-три года, не больше… Переправлял снаряжение и людей на орбитальные сортировочные станции, на Землю доставлял бокситы с созвездия Центавра, руду с Марса, хром с Сириуса и прочие полезные ископаемые, в которых нуждается человек, чтобы питать свою хитроумную цивилизацию.
Сначала ходишь в ближние рейсы, это как бы прелюдия, а потом становишься пилотом орбитальной станции. Тут можно проверить, по силам ли тебе пугающее мгновение, когда всплываешь со дна и начинаешь вольно плыть по усеянному звездными островами океану космоса. Если ты справился с этим, не испугался и не отступил, значит, годишься для работы на больших кораблях, что уходят в дальние и длительные рейсы.
Вся беда в том, что, сколько ни старайся, с годами твой внутренний мир как бы ссыхается. И мало-помалу становится все труднее выносить одиночество дальних перелетов; одиночество растет и подавляет тебя, и тогда уже не спасают ни коридоры знаний, ни храмы, воздвигнутые из слов, оно подавляет тебя, и ты теряешь над собой власть – чем дальше, тем чаще, и в конце концов тебя списывают с корабля и обрекают до конца жизни ползать по дну океана. Если бы водить космический грузовик дальнего следования было сложно и ты все время был бы занят делом, а не просто нес долгую одинокую вахту в кабине, заполненной самоуправляющимися приборами, или если бы перелеты на межзвездных лайнерах и иных космических кораблях стоили не так дорого и каждый грамм груза не был бы на счету… ведь сейчас и думать нечего взять с собой хоть что-нибудь сверх самого необходимого… вот тогда все было бы иначе.
Если бы… думал Хаббард, стоя в снегу у ограды космодрома. Если бы… думал он, глядя, как приземляются корабли, как к ним подкатывают огромные автопогрузчики и наполняют свои прожорливые бункеры рудой, бокситом, магнием. Если бы… думал он, наблюдая, как малые корабли уходят сквозь голубизну ввысь, туда, где по беззвучному океану плывут гигантские орбитальные станции…
Тени становились длиннее, день клонился к вечеру, и он, как всегда, заколебался – не пойти ли к Маккафри, начальнику космодрома. И, как обычно, – и все по той же причине, решил, что не стоит. Причина была та же, что заставляла его избегать общества таких же, как и он сам, бывших космонавтов: встречи эти пробуждали слишком острую, слишком мучительную тоску.
Он повернулся, прошел вдоль ограды к воротам и, дождавшись аэробуса, отправился домой.
Наступил март, зима незаметно перешла в весну. Дожди смыли снег, по канавам побежали грязные ручьи, лужайки обнажились. Прилетели первые малиновки.
Хаббард приколотил для Мистера Китса жердочку у окна. И Мистер Китс сидел там весь день, только время от времени залетал в свою клетку подкрепиться зернами пиви. Больше всего он любил утро: по утрам солнце, золотое, ослепительное, поднималось над крышей соседнего дома, и, когда ослепительная волна ударяла в окно и вливалась в комнату, он принимался стремительно летать, в радостном исступлении выписывал восьмерки, петли, спирали, громко щебетал, садился на жердочку и даже ухитрялся подскакивать на одной ножке – золотая пылинка, крылатая живая частица самого солнца, частица утра, оперенный восклицательный знак, утверждающий каждое новое чудо красоты, которое дарил день.
Благодаря урокам Хаббарда репертуар его становился все обширнее. Стоило произнести фразу, в которой было хотя бы одно уже знакомое ему слово, способное вызвать какой-то отклик, и он отвечал любой цитатой, от Ювенала до Джойса, от Руссо до Рассела или от Эврипида до Элиота. У него было пристрастие к двум первым строкам «Берега у Дувра», и он часто декламировал их сам по себе, без всякого повода.
Все это время сестра и зять не докучали Хаббарду, просто оставили его в покое. Даже о том, что он уклоняется от своей субботней обязанности – перестал по утрам мыть машину, – ничего не сказали, даже о Мистере Китсе ни разу не помянули. Но Хаббарда было не так-то легко провести. Они выжидали, и он это понимал, выжидали какого-нибудь подходящего случая, выжидали, когда он забудет об осторожности, чтобы с ним рассчитаться.
Он не слишком удивился, когда, вернувшись однажды с космодрома, увидел, что Мистер Китс притулился на жердочке в углу клетки – он был весь какой-то несчастный, взъерошенный, и в его синих глазах застыл испуг.
Позднее, за ужином, Хаббард заметил, что по столовой крадется кошка. Но он ничего не сказал. Кошка – психологическое оружие: раз уж хозяин дома позволил, чтобы ты держал милую тебе зверушку, ты вряд ли можешь возразить, если он завел любимчика другой породы. Хаббард просто купил новый замок и сам вставил его в дверь своей комнаты. Потом купил новую задвижку для окна и всякий раз, уходя из дому, проверял, хорошо ли заперты окно и дверь.
И принялся ждать следующего их шага.
Ждать пришлось недолго. На этот раз им незачем было изобретать, как бы избавиться от Мистера Китса, удобный случай сам подвернулся.
Однажды вечером Хаббард спустился в столовую и, едва взглянув на них, понял, что час настал. Это можно было прочесть и по лицам детей – не столько по тому, как они на него смотрели, сколько по тому, как избегали встречаться с ним взглядом. Газетная вырезка, которую сунул ему Джек, словно бы даже разрядила напряжение.
«Куиджи-лихорадка поразила семью из пяти человек, Дитвил, штат Миссури. 28 марта 2043 года.
Сегодня доктор Отис Фарнэм определил заболевание, которое одновременно уложило в постель мистера и миссис Фред Крадлоу и их троих детей, как куиджи-лихорадку.
Недавно миссис Крадлоу купила в местном магазине стандартных цен пару птиц куиджи. Несколько дней назад вся семья Крадлоу стала жаловаться на боль в горле и на ломоту в руках и ногах. Пригласили доктора Фарнэма. То обстоятельство, что куиджи-лихорадка лишь немногим серьезнее обыкновенной простуды, не должно влиять на наше отношение к этому дикому ненужному заболеванию, – сказал доктор Фарнэм в своем заявлении для печати. – Я давно возмущался, что у вас совершенно бесконтрольно продают этих внеземных птиц, и я намерен немедленно обратиться во Всемирную медицинскую ассоциацию с предложением, чтобы во всем мире все птицы, доставленные с Венеры и находящиеся в магазинах стандартных цен, а также купленные разными людьми, которые содержат их у себя дома, были подвергнуты тщательнейшему осмотру. Куиджи не приносят никакой пользы, и без них на Земле будет только лучше».
Хаббард дочитал и невидящим взглядом уставился в стол. В глубине его сознания жалобно пискнул Мистер Китс.
Джек сиял.
– Вот видишь, я говорил, что они – разносчики микробов, – сказал он.
– Доктор Фарнэм – тоже разносчик, – возразил Хаббард.
– Ну что ты говоришь! – вмешалась Элис. – Какие микробы может разносить доктор?
– Те самые, которые разносят все надутые, беспринципные людишки, скажем, вирусы «жажда славы»… «необдуманные действия», «ненависть ко всему непривычному»… Этот провинциал, обыватель на все готов, лишь бы добиться известности. Дай ему волю, он бы собственными руками истребил всех птиц куиджи во всем мире.
– Что ни толкуй, а на этот раз не вывернешься, – сказал Джек. – В статье ясно сказано, что держать птиц куиджи опасно.
– И собак, и кошек тоже… И автомобили. Если ты прочтешь о несчастном случае, об автомобильной катастрофе в Дитвиле, штат Миссури, ты что же, расстанешься со своей машиной?
– Ты про мою машину лучше молчи! – закричал Джек. – И чтоб завтра же утром здесь и духу не было этой паршивой птицы, а не то убирайся отсюда сам!
Элис потянула его за руку.
– Джек…
– Заткнись! Надоели мне его пышные слова. Воображает, что раз он когда-то был космонавтом, так мы ему в подметки не годимся. Задирает перед нами нос оттого, что мы живем на Земле. – Джек повернулся лицом к Хаббарду и продолжал, тыча в него пальцем: – Ну хорошо, скажи мне, раз уж ты такой умник! Долго бы, по-твоему, просуществовали космонавты, если бы не было нас, которые ходят по земле и потребляют и используют все, что вы привозите с этих проклятых планет? Не будь потребителя, во всем небе не летал бы ни один корабль. Цивилизации, и той бы не было!
Хаббард смерил его долгим взглядом. Потом встал из-за стола и произнес то самое слово, которое он обещал себе никогда не бросать в лицо прикованному к Земле смертному – самое страшное ругательство в языке космонавтов, сокровенный смысл которого непостижим для тупых подслеповатых тварей, ползающих по дну океана…
– Краб! – сказал он и вышел из комнаты.
Когда он поднялся по лестнице, руки его все еще дрожали. Он помедлил перед своей дверью, пока дрожь не унялась. Не надо Мистеру Китсу видеть, как он подавлен.
Он поймал себя на этой мысли и задумался. Не следует чересчур очеловечивать животных. Хоть и кажется, что в Мистере Китсе много человеческого, он всего лишь птица. Он может разговаривать, и у него есть характер и свои симпатии и антипатии, но все-таки он не человек.
Ну а Джек разве человек?
А Элис?
А их дети?
Н-ну… разумеется.
Почему же тогда он предпочитает общество Мистера Китса?
Потому что Элис, Джек и их дети живут в другом мире, в мире, который Хаббард давным-давно покинул и в который уже не в силах вернуться. Мистер Китс тоже не принадлежит к тому миру. Он тоже отверженный, и с ним возможно то, в чем больше всего нуждается человек, – общение.
И он весит всего каких-то тридцать пять граммов… Хаббард как раз вставлял новый ключ в новый замок, когда мысль эта пришла ему в голову и словно прозрачным ледяным вином омыла его душу. Руки его вдруг снова задрожали.
Но теперь это было уже неважно.
– Садись, Хаб, – сказал Маккафри. – Тысячу лет тебя не видел.
Хаббард так долго шел по космодрому и так долго ждал в переполненной приемной, в глубине которой холодно мерцало матовое стекло двери, что уже не чувствовал прежней уверенности. Но ведь Маккафри старый друг. Кто же его поймет, если не Маккафри? Кто еще ему поможет?
Хаббард сел.
– Не стану отнимать у тебя время на пустые разговоры, Мак, – сказал он. – Я хочу снова летать.
В руке у Маккафри был зажат карандаш. Рука опустилась, и острый кончик карандаша дробно, отрывисто застучал по столу.
– Наверно, незачем напоминать, что тебе уже сорок пять, и самообладание изменяло тебе много раз, больше, чем допускают правила, и что, если ты полетишь и оно снова тебе изменит, ты лишишься жизни, а я – работы.
– Да, об этом напоминать незачем, – сказал Хаббард, – ты знаешь меня двадцать лет, Мак. Неужели ты думаешь, я просил бы разрешения лететь, если бы не был твердо уверен, что справлюсь?
Маккафри поднял карандаш, снова опустил. Острый его кончик застыл, уткнувшись в одну точку, а в ушах все еще звучало озабоченное постукивание.
– А откуда у тебя такая уверенность?
– Если самообладание мне не изменит, я скажу тебе, когда вернусь. А если изменит, ты скажешь, что я украл корабль. Тебе это нетрудно уладить.
– Все нетрудно… только ведь меня совесть заест.
– А когда ты сейчас смотришь на меня, твоя совесть молчит?
Карандаш снова застучал по столу. Тук-тук-тук… тук-тук…
– Говорят, у тебя есть акции «Межзвездных сообщений», Мак, ты вложил в это дело капитал.
Тук-тук-тук… тук-тук…
– Я оставил на «Межзвездных» кусок души. Значит, ты вложил капитал и в меня.
Тук-тук-тук… тук-тук…
– Я знаю, что доход или убыток может зависеть от каких-нибудь ста или двухсот фунтов. Я не виню тебя, Мак. И я знаю, пилоты – товар дешевый. Чтобы научиться нажимать на кнопки, много времени не требуется. Но все равно, подумай, сколько денег сэкономят «Межзвездные», если пилот сумеет прослужить не двадцать лет, а сорок.
– Ты в первую же минуту сможешь сказать, не ошибся ли, – задумчиво сказал Маккафри. – Как только вынырнешь на поверхность.
– Верно. В первые же пять минут мне все станет ясно. А через полчаса узнаешь и ты.
Маккафри вдруг решился.
– На «Обещании» нет пилота… – сказал он. – Будь здесь завтра утром в шесть ноль-ноль. Секунда в секунду.
Хаббард встал. Дотронулся до щеки и почувствовал, что она мокрая.
– Спасибо, Мак. Я никогда этого не забуду.
– Уж пожалуйста, старый ты журавль! И постарайся вернуться в целости и сохранности, не то не знать мне покоя до конца моих дней.
– До встречи, Мак.
Хаббард поспешно вышел. До шести ноль-ноль еще столько дел. Соорудить специальный ящичек, побеседовать напоследок с Мистером Китсом…
Господи, как давно он не поднимался на рассвете. Он уже забыл этот цвет спелого арбуза, в который окрашивается восточный край неба на заре, забыл, как неторопливо, спокойно и величественно свет заливает землю. Забыл все самое прекрасное, все кануло в прошлое. Это ему только казалось, что он помнит. Чтобы понять, как много утрачено, надо пережить все заново.
В пять сорок пять он сошел с аэробуса у ворот космодрома. Сторож был новый, он не знал Хаббарда. По просьбе Хаббарда он вызвал Мака. Тот сразу же распорядился, чтоб его пропустили. Хаббард пустился в долгий путь по космодрому, стараясь не смотреть на высокие шпили кораблей ближнего следования, которые, точно волшебные замки, возвышались на фоне лимонно-желтого неба. За годы, проведенные на Земле, он отвык от космического комбинезона и неуклюже шагал в тяжелых башмаках. Руки он засунул в глубокие, вместительные карманы куртки.
Мак стоял возле «Обещания» на краю стартовой площадки.
– В шесть ноль девять встретишься с «Канаверал», – сказал он. И больше не произнес ни слова. Что тут было говорить?
Перекладины трапа были просто ледяные, руки сразу онемели. Казалось, трапу не будет конца. Нет, вот и конец. Задохнувшись, Хаббард шагнул в люк. Помахал Маку. Потом закрыл люк и шагнул в тесную кабину управления. Закрыл за собой дверь кабины. Сел в кресло пилота и пристегнулся. Потом достал из кармана куртки ящичек с дырками. Вынул из него Мистера Китса, выдвинул крохотный матрасик, тонкими ремешками пристегнул к нему Мистера Китса и поместил обратно в клетку – теперь можно не бояться ускорения.
– Звезды зовут, Мистер Китс, – сказал Хаббард.
Он включил сигнал готовности, и тотчас башенный техник начал отсчет. Десять… Числа, подумал Хаббард… Девять… Он словно вел счет годам… восемь… словно вел счет прошедшим годам… Семь… Одиноким, беззвездным годам… Шесть… Скажи, звезда… Пять… с крылами света… Четыре… Скажи, куда тебя влечет?.. Три… В какой пучине непроглядной… Два… Окончишь огненный полет?.. Один…
Теперь ты уже знаешь, как будет в полете – по тому, как беспомощно распласталось отяжелевшее тело, как ощущает оно каждой клеточкой нарастающую скорость; знаешь по тошноте, которая подступает к горлу, и по первым, словно бы испытующим уколам страха где-то в мозгу; знаешь по тому, как сгущается тьма в иллюминаторе, и, прорываясь сквозь нее, в тебя впиваются первые колкие лучи звезд.
Но вот наконец корабль вынырнул из глубин и поплыл, словно бы без всяких усилий, по океану Вселенной. Далеко-далеко сияли звезды, точно сверкающие бакены, указывающие путь к каким-то неведомым берегам.
По кабине прошла легкая дрожь – это заработал аппарат искусственного тяготения. Все неприятные ощущения как рукой сняло: Хаббард смотрел в иллюминатор, и ему было страшно. Один, думал он. Один в океане Вселенной. Он впился пальцами в ворот комбинезона, страх распирал его и душил. ОДИН. Слово это белым лезвием ничем не смягченного ужаса все глубже вонзалось в мозг. ОДИН. Скажи это вслух, приказал он себе. Скажи вслух! Пальцы его отпустили воротник, охватили ящик с дырками и принялись неловко расстегивать тонкие ремешки. Скажи!
– Один, – хрипло произнес он.
– Ты не один, – отозвался Мистер Китс, соскочил со своего матрасика и примостился на ящике. – Я с тобой.
И вот уже нет белого лезвия, медленно затихает боль. Мистер Китс взлетел и уселся перед иллюминатором. Синей бусинкой глаза глянул в космос. Бодро взъерошил перышки.
– Я мыслю, значит, я существую, cogito ergo sum, – сказал он.
Любовь на стоянке подержанных машин в двадцать первом веке Перевод Н. Виленской
Мотокостюм в витрине был снабжен надписью:
ПРЕКРАСНАЯ НОВАЯ ЖЕСТЯНКА
ВСЕГО ЗА 6499,99 ДОЛЛАРА!
ХОРОШАЯ СКИДКА, ЕСЛИ СДАДИТЕ СТАРУЮ.
ЦИЛИНДР ПРИЛАГАЕТСЯ БЕСПЛАТНО!
Арабелла не собиралась тормозить, но не смогла удержаться. Такая красота всего за 6499,99!
Была вторая половина апрельского понедельника. Служащие разъезжались по домам, гудя клаксонами. Рядом с магазином Большого Джима помещалась большая стоянка подержанных машин. Красивое здание в колониальном стиле немного портила неоновая вывеска на фасаде, гласящая:
«БЕРНИ, ЧЕЛОВЕК БОЛЬШОГО ДЖИМА»
Гудки усилились. Сообразив, что загораживает движение, Арабелла освободила дорогу старику в бордовом гранрэпидсе и свернула на бетон у витрины.
Вблизи мотокостюм не столь впечатлял, но притягательности своей не утратил. Бирюзовый капот и решетка с золотыми цехинами сверкали в косых лучах солнца, раздвоенный турнюр напоминал половинки катамарана. Красивая вещь, даже по современным стандартам, и сделка выгодная, но Арабелла все равно не стала бы связываться, если бы не цилиндр.
Дилер, предположительно Берни, выехал навстречу в безупречном двухцветном «лансинге».
– Чем могу помочь, мадам? – Говорил он вежливо, но его глаза за чистейшим лобовым стеклом оглядывали костюм Арабеллы с заметным презрением.
Пристыженная Арабелла зарделась. Может быть, ей в самом деле давно следовало поменять костюмчик на что-то новое. Мама, как видно, права: мало она уделяет внимания своему гардеробу.
– К этому костюму в витрине действительно прилагается цилиндр?
– Разумеется. Хотите примерить?
– Да, пожалуйста.
– Говард! – позвал дилер, обращаясь к двойным дверям в конце зала.
– Да, сэр? – отозвался выехавший из них молодой человек в джинсово-синем пикапе.
– Откати костюм с витрины в примерочную и подбери на складе цилиндр ему в тон. Он вас проводит, мадам.
Примерочная помещалась сразу же за дверьми. Говард вкатил костюм и отправился за шляпой. Он немного помедлил, прежде чем вручить цилиндр Арабелле, и посмотрел на нее как-то странно, но промолчал и уехал.
Арабелла заперла дверь и торопливо переоделась. Обивка-подкладка восхитительно холодила тело. Надев цилиндр и посмотревшись в большое трехстворчатое зеркало, Арабелла ахнула.
Турнюр поначалу смутил ее – в привычных ей моделях он не торчал так сильно назад, – но хромовая с цехинами решетка и великолепные крылья сотворили с ее фигурой настоящее чудо. А цилиндр! Не будь у нее наглядного доказательства, она ни за что не поверила бы, что шляпа, хотя бы и твердая, может способствовать подобному превращению. Из умученной служащей она преобразилась в Клеопатру… в царицу Савскую… в Елену Троянскую!
Она робко выехала обратно в торговый зал. Взгляд дилера выразил нечто сродни благоговению.
– Но вы ведь не та девушка, с которой я только что говорил?
– Та самая.
– Знаете, с тех пор, как у нас появился этот костюм, я все жду, что приедет некто достойный его линий, его красоты… его индивидуальности. Спасибо, Большой Джим, – он возвел очи горе, – что послал нам такого покупателя! Хотите опробовать?
– О да!
– Хорошо, но только вокруг квартала. Я тем временем подготовлю все документы; вы, конечно, не обязаны его брать, но если решитесь, у меня всё будет готово.
– Сколько… сколько вы сбавите мне за старый?
– Дайте взглянуть… он у вас двухлетней давности, верно? – Дилер нахмурился и сразу же просветлел. – Вот что мы сделаем. Вы не из тех, кто сильно изнашивает костюмы, поэтому я предоставлю вам хорошую скидку: тысячу два доллара. Как вам это?
– Н-не очень. – (Разве что если год не обедать…)
– Не забудьте, что в придачу вы получаете бесплатный цилиндр.
– Я знаю, но…
– Вы сначала попробуйте, а потом мы вернемся к этому разговору. – Он прикрепил сзади дилерскую табличку. – Вот, порядок. А я пока бумаги оформлю.
Она так нервничала, выезжая на улицу, что чуть не столкнулась с молодым человеком в белом кабриолете, но тут же взяла себя в руки и обогнала его, демонстрируя высокий водительский класс. Он улыбнулся ей, и ее сердце запело. Она с самого утра предчувствовала, что сегодня с ней случится что-то хорошее. Рабочий день, самый обычный, притупил ожидания, но теперь они ожили с новой силой.
На красном свете молодой человек поравнялся с ней.
– Привет! Отличный костюм.
– Спасибо.
– Я знаю хороший кинотеатр, хотите вечером съездить?
– Но я вас в первый раз вижу!
– Меня зовут Гарри Домкрат. Теперь вы меня знаете, а я вас нет.
– Арабелла Бампер. И все-таки мы незнакомы.
– Это можно исправить. Ну что, едем в кино?
– Я…
– Вы где живете?
– Булыжная шесть-одиннадцать, – неожиданно для себя выпалила она.
– Заеду за вами в восемь.
– Но…
Загорелся зеленый, и молодой человек умчался. Значит, в восемь… Теперь хочешь не хочешь придется брать новый костюм, иного выхода просто нет. Что он скажет, увидев ее в старом ведре с гайками после такой шикарной модели?
Когда она припарковалась к столу поужинать, отец, воззрившись на нее сквозь лобовое стекло своего трехцветного «кортеса», сказал:
– Наконец-то. Давно пора было костюм поменять.
– Вот и я говорю, – подхватила мама, носившая в основном фургонетки. – Все жду, когда ты поймешь, что мы живем в двадцать первом веке – в наше время нужно, чтобы тебя замечали!
– Мне всего двадцать семь. Многие девушки еще не замужем в этом возрасте.
– Потому что одеваться не умеют, – стояла на своем мама.
– Вы бы хоть сказали, нравится вам или нет!
– Мне да, – сказал отец.
– Авось и клюнет кто-нибудь, – понадеялась мама.
– Уже клюнул.
– Да что ты! – воскликнула мама.
– Давно пора, – промолвил отец.
– Он заедет за мной в восемь.
– Не проболтайся только, что книжки читаешь, – порекомендовала мама.
– Ладно. Да я давно уже их и не читаю.
– И свои радикальные взгляды тоже не высказывай, – добавил отец. – Насчет того, что люди носят мотокостюмы, потому что стыдятся тел, которые даровал им Господь.
– Ты ведь знаешь, папа, я давно уже об этом не говорю.
С тех пор как мистер Заднимост похлопал ее по багажнику на рождественском корпоративе. Она возмутилась, а он сказал: «Ну так заройся в свои книжки и сиди там, отсталая».
– Хотя, может, не так уж и давно…
Гарри Домкрат приехал ровно в восемь, и Арабелла тут же выкатила навстречу. Бок о бок они проследовали по Асфальтовому бульвару и оставили город позади. Ночь была чудесная: зима оставила весне ровно столько холодка, чтобы посеребрить месяц и до блеска отполировать звезды.
Кинотеатр был битком набит. Они нашли два места сзади, на опушке рощицы, и припарковались там крыло к крылу. Рука Гарри легла на ее шасси и двинулась вокруг талии чуть выше раздвоенного хвоста. Арабелла отпрянула было, но вспомнила мистера Заднимоста, прикусила губу и попыталась сосредоточиться на том, что показывают.
Фильм был про отставного фабриканта вермишели, жившего в съемном гараже. Двух своих неблагодарных дочек он обожал, поклонялся бетону, по которому они ездили, и делал все, чтобы обеспечить им роскошную жизнь, а себе во всем отказывал и носил такие костюмы, что впору в утиль сдавать. В том же гараже проживал молодой студент-инженер по имени Растиньяк, стремившийся проникнуть в высшие эшелоны общества и приобрести состояние. Для начала он купил себе на сестрины деньги новый кабриолет-«вашингтон» и разжился через богатую кузину приглашением на дебютный бал дочери дилера. Потом встретил одну из дочек вермишельщика и…
Тут Арабелла отвлеклась. Рука Гарри переместилась с талии на фары и внимательно их исследовала. Арабелла невольно напряглась и взмолилась шепотом:
– Не надо! Пожалуйста!
Он убрал руку.
– Давай тогда после кино?
– Да, хорошо…
– Я знаю одно классное местечко в горах, ты как?
– Ладно…
Арабелла поправила фары и стала досматривать фильм, только это плохо у нее получалось. Она пыталась найти какой-нибудь предлог, чтобы не ехать в горы, но так ничего и не придумала. Сеанс кончился, и она покорно покатила с Гарри сперва по бульвару, потом по проселку.
Дорога шла мимо местной нудистской резервации. Сквозь колючую проволоку под током мерцали огоньки хижин. Самих нудистов не было видно, но Арабеллу все равно пронимала дрожь. Раньше она им даже сочувствовала, но после инцидента с мистером Заднимостом прониклась к ним отвращением. Большой Джим, по ее мнению, относился к ним чересчур снисходительно; быть может, он надеялся, что кто-то из них раскается и попросит отпущения грехов… пока, правда, ни один не просил.
Гарри молчал, но она чувствовала, что и ему эти отщепенцы противны. Хотя его отвращение проистекало из другого источника, Арабелла на миг ощутила товарищескую близость к нему. Может, он не такой уж плохой. Может, его, как и ее, сбивает с толку современный моральный кодекс: такие-то правила для одних обстоятельств и диаметрально противоположные для других. Все может быть.
Где-то в миле за резервацией Гарри свернул на узкую дорогу в гуще дубов и кленов. Она привела их на большую поляну. Припарковавшись рядом с Гарри под большим дубом, Арабелла тут же пожалела об этом: его рука вновь неумолимо двинулась от шасси к фарам.
– Не надо! – страдальчески вскрикнула девушка.
– Что значит «не надо»? – Его шасси плотно прижалось к ее, пальцы шарили по фарам. Она умудрилась откатиться и поехала прочь с поляны, но он подрезал ее и начал теснить в кювет.
– Пожалуйста!
Он не обращал на ее мольбы никакого внимания. Арабелла инстинктивно дала задний ход; ее правое переднее колесо оторвалось от земли, шасси перекосилось, цилиндр слетел с головы и укатился в чащу, правое крыло смялось о дерево. Гарри сорвался с места, и его задние огни скрылись во мраке.
Трещали древесные лягушки, кузнечики и сверчки. Издали доносился шум Асфальтового бульвара. Ко всему этому примешивались рыдания; постепенно они затихли, но Арабелла знала, что эта рана не заживет никогда, как и травма, нанесенная ей мистером Заднимостом. Она нашла свой цилиндр и выбралась на дорогу. Цилиндр помялся, его бирюзовую гладь прочертила царапина. Арабелла водрузила его на место, и по щеке ее скатилась слеза.
Цилиндр – еще полбеды: что ей делать с помятым крылом? Нельзя же являться утром на работу в таком неприбранном виде. Кто-нибудь непременно заявит Большому Джиму, и он узнает, что все эти годы она втайне нарушала его волю, имея один-единственный мотокостюм, хотя он ясно дал понять, что у каждого индивида должно быть не меньше двух. Что, если он отберет у нее права и отправит ее в нудистскую резервацию? Едва ли, не так уж тяжко она согрешила – но одна мысль об этом наполняла Арабеллу стыдом.
Кроме Большого Джима, есть еще и родители. Как быть с ними? Арабелла наперед знала, что они скажут, когда она спустится к завтраку. Отец: «Так. Сломала уже». Мать: «У меня были сотни костюмов, и я ни одного не сломала, а ты после единственного выезда…»
Арабелла поморщилась. Нет, ни за что. Надо как-то починить костюм до утра, но где? В витрине магазина горела, помнится, надпись, которую новый костюм совсем вытеснил из сознания: «КРУГЛОСУТОЧНЫЙ СЕРВИС».
Прибавив скорость, сколько хватило смелости, она поехала прямо к магазину Большого Джима. В окнах темно, парадная дверь закрыта. У Арабеллы екнуло сердце. Неужели она неправильно запомнила надпись? Она могла бы поклясться, что там было сказано «круглосуточно». Да, верно, так и есть, но внизу мелким шрифтом указано: «После 6 вечера обращайтесь на стоянку подержанных машин».
Там к ней тут же подъехал тот самый молодой человек, который выкатывал костюм из витрины (она вспомнила, что его зовут Говард). В том же джинсово-синем пикапе, и взгляд его, когда он ее узнал, обрел такое же странное выражение. Раньше она подозревала, что он жалеет ее, теперь знала это наверняка.
– Мой костюм испорчен, – выпалила она, когда он притормозил рядом. – Не могли бы вы его починить?
– Починим, конечно. – Он показал на маленький гараж в дальнем углу стоянки. – Можете снять его там.
Арабелла торопливо покатила туда мимо подержанных костюмов и чуть не расплакалась при виде своего старого. Нет бы остаться в нем… надо же было позариться на такую дешевку, как бесплатный цилиндр.
В гараже было холодно и сыро. Она сняла костюм и шляпу и выставила их Говарду, стараясь не показываться ему, но он и не смотрел на нее – привык к женской клиентуре, наверно.
Совсем закоченев без костюма, она выглянула в окошко посмотреть, что делает Говард. Он работал над ее правым передним крылом – сотни таких уже выправил, не иначе. Ночную тишь нарушал только его резиновый молоток. В офисных зданиях за оградой светилась всего пара окон, над центральной площадью горели буквы огромного лозунга. «ЧТО ХОРОШО ДЛЯ БОЛЬШОГО ДЖИМА, ХОРОШО И ДЛЯ ВСЕХ». Заявив об этом, лозунг переключался и вопрошал: «ГДЕ БЫ ВЫ БЫЛИ, ЕСЛИ Б НЕ БОЛЬШОЙ ДЖИМ»?
Тук-тук-тук… Арабелле вспомнился телемюзикл из серии «Осовремененная опера тоже бывает прикольной». Он назывался «Дороги Зигфрида». Там Зигфрид просит своего приемного отца, коротышку-механика Миме, сделать ему модель намного круче Фафнира (тот принадлежит злодею, которого Зигфрид непременно должен побить в предстоящих гонках к Вальхалле). Под стук молота, изображаемого барабанами бонго, Зигфрид спрашивает Миме, спешно кующего крутую модель, чей же он сын на самом деле. Тук-тук-тук…
Говард, устранив вмятину на крыле, работал теперь над цилиндром. По улице, шурша шинами, пронесся кто-то в лимонном «провиденсе». Вот это скорость – сколько же теперь времени? Арабелла посмотрела на часы: 11:25. Родители будут в восторге. Спросят ее за завтраком, когда она домой приехала, а она скажет: «Около полуночи». Они вечно жалуются, что она вечерами дома сидит.
Говард тем временем выправил и цилиндр. Закрасив царапины на нем и на корпусе, он вкатил костюм обратно в гараж. Она быстро оделась и выехала.
Его глаза за лобовым стеклом излучали ласковый голубой свет.
– Как хороша она на колесах, – произнес он.
– Что вы сказали? – не поняла Арабелла.
– Да так, читал недавно один рассказ, вот и вспомнил.
Это ее удивило. Механики – и не только они – чтением обычно не увлекаются. Она чуть не сказала, что тоже любит читать, но спохватилась вовремя и спросила:
– Сколько я вам должна?
– Счет пришлет дилер, я на него работаю.
– Всю ночь?
– До двенадцати. Вечером, когда вы меня видели, я как раз заступил.
– Спасибо за починку. Не знаю, что бы я без вас делала…
Голубой свет погас.
– Кто это был? Гарри Домкрат?
Она, проглотив унижение, заставила себя взглянуть ему прямо в глаза.
– Да… Вы его знаете?
– Немного. – Хватало, как видно, и немногого: лицо Говарда в мишурном сиянии лозунга будто состарилось, в уголках глаз пролегли морщинки. – А вас как зовут? – спросил он отрывисто.
– Арабелла Бампер.
– Говард Шосс.
Они покивали друг другу.
– Мне пора, – сказала Арабелла, снова посмотрев на часы. – Большое спасибо, Говард.
– Всегда пожалуйста. Доброй ночи.
– Доброй ночи.
Она катила домой под апрельскими звездами, и в сердце пело: «Как хороша она на колесах. Как хороша!»
– Ну, как твой длинный сеанс? – спросил отец утром, поглощая яичницу.
– Длинный? – переспросила Арабелла, намазывая тост.
– А что, нет? Короткий?
– Как посмотреть, – вставила мать. – Сначала в кино, потом на природу.
Арабелла подавила дрожь. Мама выражалась с прямотой телевизионной рекламы, что по-своему гармонировало с ее фургонетками. Сейчас на ней была красная, с выпуклым радиатором, стреловидными крыльями и тяжелыми черными дворниками.
– Я отлично провела время, – пролепетала девушка, – и ничего плохого не делала.
– По-твоему, это новость? – сказал отец.
– Доченька наша, – вклинилась мать. – Чиста в свои двадцать семь, почти двадцать восемь, как снег на бездорожье. А все потому, что сидишь вечерами дома за книжками.
– Я же сказала, что не читаю больше!
– Могла бы и читать с тем же успехом, – сказал отец.
– Спорю, что ты отшила его за одну попытку поцеловать тебя, – предположила мать. – Как и всех остальных.
– А вот и нет! – Арабелла дрожала уже с головы до ног. – Вечером мы снова встречаемся!
– Надо же, – подивился отец.
– Тройное ура, – смягчилась мать. – Авось начнешь теперь жить, как Большой Джим учит: выйдешь замуж, повысишь свой потребительский статус, разделишь налоговое бремя со своими ровесниками.
– Может, и начну.
Арабелла откатилась от стола. Раньше она никогда не врала им и злилась на себя, сделав это впервые. К тому же по дороге на работу она вспомнила, что, единожды солгав, надо или сознаваться, или действовать соответственно лжи. Сознаваться немыслимо: придется действовать соответственно или хотя бы притвориться, что действуешь. Вечером она поедет куда-нибудь и вернется не раньше полуночи, чтобы не вызвать никаких подозрений.
Вот только куда? В кино, больше ничего не придумаешь.
Она поехала в другой кинотеатр, не в тот, где была с Гарри. Фильм, полнометражный мультик, только что начался. Это была история хорошенькой девочки-подростка Нагарушки, которая жила с мачехой и двумя безобразными сводными сестрами. Все свое время она проводила в углу гаража, где мыла и полировала их мотокостюмы – шикарные «вашингтоны», «лансинги», «флинты»; самой ей доставались только старые драндулеты и полный утиль. И вот как-то раз сын крупного дилера объявил, что устраивает в дворцовом гараже своего отца грандиозную вечеринку. Мачеха и сестры тут же приказали Нагарушке помыть и отполировать самые роскошные их наряды. Она делала это, глотая слезы: ведь у нее не было ничего приличного, чтобы поехать туда. Настал урочный вечер; мачеха и сестры, блистая хромом, весело покатили в дом дилера, а Нагарушка, упав на колени, залилась слезами в своем углу. Казалось, что Большой Джим окончательно покинул ее, но тут перед ней явилась мотомать-фея в белоснежном «Лансинге-де-милле». Она взмахнула волшебной палочкой, и Нагарушка предстала в розовом «гранрэпидсе» с колпаками такими блестящими, что глазам было больно. Девочка поехала на вечеринку и танцевала с сыном дилера каждый танец, а мачеха и уродки-сестры коптили выхлопом стену. На радостях Нагарушка позабыла, что чары мотоматери истекают в полночь и домой нужно вернуться вовремя, иначе она опять превратится в автомойщицу прямо посреди торгового зала. Когда часы на вывеске дилера начали бить двенадцать, она спохватилась и шмыгнула прочь в такой спешке, что потеряла одно колесо. Сын дилера нашел его и наутро стал объезжать все гаражи во Франшизе, примеряя колесо всем женщинам и девушкам, что были на вечеринке. Маленькое изящное колесико не налезало ни на одну ось, как бы обильно ее ни смазывали. Безуспешно примерив его двум сестрам, сын дилера хотел уже ехать дальше, но тут углядел на мойке Нагарушку, полирующую костюм. Он потребовал, чтобы она тоже примерила колесо, и оно, на глазах у изумленных мачехи и сестер, подошло безо всякой смазки! Нагарушка уехала с сыном дилера, и ездили они вместе долго и счастливо.
Арабелла посмотрела на часы: пол-одиннадцатого. Домой ехать рано, там ее ждет очередной перекрестный допрос. Придется еще раз смотреть «Нагарушку». На афише значилось, что фильм подходит и для взрослой аудитории, но на парковке было столько детей, что Арабелла в своем шикарном наряде заметно выделялась среди детских костюмчиков.
Она еле дождалась одиннадцати часов и уехала, собираясь покататься где-нибудь до двенадцати. Так, вероятно, и вышло бы, но она поехала через город и очутилась рядом со стоянкой подержанных машин. Сетчатая изгородь вызывала приятные ассоциации, и Арабелла инстинктивно замедлила ход – поэтому, увидев у ворот знакомую фигуру в пикапе, сумела тут же остановиться.
– Привет, а что вы здесь делаете?
При виде его улыбки она решила, что остановилась не зря.
– Пропускаю стаканчик апреля.
– И как он на вкус?
– Восхитителен. Люблю апрель. В мае уже жарковато, а июнь, июль, август только разжигают мечту о золотистом вине осени.
– Вы всегда так образно говорите?
– Далеко не со всеми. – Он помолчал и спросил: – Почему бы вам не припарковаться рядышком до двенадцати? А потом мы можем поехать куда-нибудь на пиво с гамбургером.
– Хорошо.
Ее старый костюм исчез со стоянки. Арабеллу это порадовало: ей не хотелось, чтобы к пузырькам шампанского, кипящим в ее груди, примешалась грусть. Ночь для апреля выдалась теплая, и между вспышками лозунга можно было даже разглядеть пару звездочек. Говард сказал, что днем учится, а ночью работает, но на вопрос о школе ответил, что хватит говорить о нем – теперь ее очередь. Арабелла, рассказав про работу, про виденные недавно фильмы, про любимые телепередачи, как-то незаметно перешла к прочитанным книгам.
Тут у них завязался оживленный разговор, и время пролетело как на крыльях. Приехал сменщик, работающий с двенадцати до восьми, и они отправились в «Гравий-гриль».
– Можем завтра вечером опять выпить по бокалу апреля, – сказал Говард, тормозя на Булыжной перед ее гаражом. – Если, конечно, у вас нет других планов.
– Других нет.
– Тогда я вас жду.
Арабелла посмотрела вслед его задним огням. Откуда-то слышалось пение; на улице было пусто, и она не сразу поняла, что это поет ее сердце.
Она думала, что завтрашний день никогда не кончится, а когда он наконец подошел к концу, полил дождь. Интересно, какой вкус у апреля в такую погоду? Арабелла, снова заехав в кино, пришла к выводу, что дождь не имеет значения, если присутствуют другие ингредиенты. Они присутствовали, и она провела еще пару крылатых часов на стоянке, глядя на звезды между вспышками лозунга. Потом они с Говардом выпили пива с гамбургерами, и он проводил ее до самого гаража.
Нужные ингредиенты присутствовали и в следующую ночь, и в две других тоже. В воскресенье Арабелла упаковала завтрак, и они поехали на пикник. Поднялись по извилистой дороге на самый высокий холм, припарковались под искривленным от ветра вязом, ели картофельный салат и сэндвичи, наливали поочередно кофе из термоса, а потом закурили, лениво перебрасываясь словами.
С холма открывался красивый вид на лесное озеро и впадавший в него ручей. На том берегу сверкала на солнце колючая проволока резервации, а за ней виднелись нудисты. Сначала Арабелла едва замечала их, но вскоре они проникли в ее сознание, вытеснив оттуда все остальное.
– Как это, должно быть, ужасно, – сказала она.
– Почему ужасно?
– Ну как же… живут в лесу голые, как дикари какие-нибудь.
Говард устремил на нее взор, синий и глубокий, как озеро.
– Вряд ли их можно назвать дикарями. У них есть машины, как и у нас. Есть школы, библиотеки, коммерция и профессии. Они, правда, могут пользоваться всем этим только в пределах своей резервации, но это не так уж отличается от жизни в маленьком городе и даже в большом. Вполне цивилизованные люди, я бы сказал.
– Но они же голые!
– А что такого ужасного в наготе?
Он поднял свое лобовое стекло и стекло Арабеллы. В лицо ей повеял прохладный бриз. Она видела по его глазам, что он сейчас ее поцелует, но не стала противиться – и хорошо сделала. В этом поцелуе не было ничего от Гарри Домкрата и мистера Заднимоста, ничего от папиных подначек и маминых циничных намеков. Открылась одна дверца, потом другая, и Арабеллу вытащили на солнце, где апрельский ветер гулял вовсю. Солнце грело, ветерок холодил. Было тепло, свежо и чисто, и она не испытала никакого стыда, когда не прикрытая металлом грудь Говарда прижалась к ее груди.
Ей хотелось, чтобы этот блаженный момент длился вечно, но он закончился, как все такие моменты.
– Что это? – вскинул голову Говард.
Арабелла тоже слышала шорох колес. Она посмотрела вниз и успела увидеть хвост белого кабриолета, скрывшегося за поворотом дороги.
– Нас кто-то видел? – испугалась она.
– Не думаю, – после продолжительной паузы сказал Говард. – Кто-то, наверно, просто решил прокатиться в выходной день. Если б он ехал вверх, мы услышали бы шум двигателя.
– С глушителем не услышали бы. – Арабелла юркнула обратно в костюм. – Давай собираться.
– Ладно. – Говард тоже полез в свой пикап, но задержался. – В следующее воскресенье опять поедем?
Его глаза смотрели с мольбой, и она неожиданно для себя ответила:
– Да. Поедем.
Следующее воскресенье было еще теплей и безоблачней первого. Говард снова извлек ее из костюма, прижал к себе и поцеловал, и ей, как и в прошлый раз, было нисколько не стыдно.
– Пошли, покажу тебе кое-что, – сказал он и стал спускаться по склону к озеру.
– Пешком?! – ужаснулась она.
– Какая разница, тут же нет никого. Пошли.
Внизу маняще сверкал ручей.
– Ну ладно…
Вначале ей было трудно, но скоро она привыкла и то шла, то скользила вниз. У подножья холма росли яблони-дички. Ручей бежал между ними, журча на замшелых камнях. Говард лег ничком и стал пить, она сделала то же самое. По-зимнему холодная вода пронизала ее насквозь, кожа покрылась мурашками.
Они лежали бок о бок, глядя в небо через узор веток с набухшими почками. Их третий поцелуй стал еще слаще двух предыдущих.
– Ты уже бывал здесь? – спросила она, когда их губы разомкнулись.
– Много раз.
– Один?
– Конечно, один.
– Не боишься, что Большой Джим узнает?
– Большого Джима не существует, – засмеялся Говард. – Его выдумали автодилеры, чтобы пугать людей. Чтобы все носили их мотокостюмы и меняли почаще. А правительство их поддерживает, потому что без хорошего товарооборота экономика сразу рухнет. Особых усилий им прикладывать не пришлось: люди и так уже бессознательно носили свои машины поверх одежды. Весь фокус был в том, чтобы они делали это сознательно и стыдились появляться без них на публике. Это тоже было нетрудно, хотя автомобили пришлось сильно урезать и подогнать под человеческую фигуру.
– Не говори так. Это кощунство! Могут подумать, что ты нудист.
Он пристально посмотрел на нее.
– По-твоему, это позор – быть нудистом? Дилеры, чтоб ты знала, поступают куда позорнее: нанимают мерзавцев вроде Гарри Домкрата, чтобы те подбивали нерешительных клиенток делать покупки, а потом сами же эти покупки портили, чтобы женщины не воспользовались гарантией, позволяющей вернуть костюм в течение суток. Прости, Арабелла, но я должен был тебе рассказать.
Она отвернулась, чтобы он не видел ее слез, но рука Говарда обвила ее талию и притянула обратно. Когда он стал сцеловывать слезы с ее мокрых щек, вновь открывшаяся рана затянулась бесследно и навсегда.
– Приедешь сюда снова со мной? – спросил он, обнимая ее.
– Да, если хочешь.
– Очень даже хочу. Снимем машины, побегаем по лесу, подразним Большого Джима…
Клик, послышалось на том берегу. Из кустов возникла фигура в форме. Херувимский лик сиял благостной улыбкой, мощная длань сжимала видеокамеру.
– Пожалуйте к Большому Джиму, вы двое.
Судья неодобрительно смотрел на Арабеллу сквозь лобовое стекло черного кортеса.
– Придет же в голову раздеваться и резвиться с нудистом! Нехорошо!
Арабелла побледнела за своим лобовым стеклом.
– Говард не нудист! Не может этого быть!
– Еще как может. Он худший из нудистов, а именно добровольный. Мы понимаем, однако, что вы этого знать не могли. В какой-то мере это и наша вина: ему удавалось вести свою двойную жизнь лишь благодаря прискорбному отсутствию бдительности. Днем он учился в нудистском институте, а вечерами сбегал из резервации, работал на стоянке подержанных машин и пытался внушить свои взгляды благонамеренным гражданам вроде вас. Учитывая все это, мы будем к вам снисходительны. Прав вас на этот раз не лишат; ступайте домой, повинитесь перед родителями и впредь ведите себя хорошо. Благодарите за это молодого человека по имени Гарри Домкрат.
– Как это… почему?
– Если бы не его сознательность и лояльность, мы узнали бы о ваших правонарушениях слишком поздно.
– Гарри Домкрат… Как же он, наверно, меня ненавидит.
– Ненавидит?! Дорогая моя девочка, он…
– И я знаю за что. За то, что открыл мне свою подлинную сущность, которую сам в душе презирает. За это же меня и мистер Заднимост ненавидит!
– После таких слов я могу и пересмотреть свое решение, мисс Бампер…
– Да и родители ненавидят меня за то, что я знаю их с подлинной стороны, которую они тоже в душе презирают. Такую наготу никакие машины не скроют. А вот Говард любит меня. Он не питает ненависти к себе настоящему, как и я не питаю ненависти к настоящей себе. Что… что вы с ним сделали?
– Препроводили обратно в резервацию, что же еще. Могу вас, однако, заверить, что его двойной жизни будет положен конец. Не вижу причины больше вас задерживать, мисс Бампер. Дело ваше закрыто, а я человек занятой…
– Как можно стать добровольным нудистом, судья?
– Совершив злонамеренный акт эксгибиционизма. Всего хорошего, мисс Бампер.
– Всего хорошего… и спасибо.
Она заехала домой собрать вещи. Родители ждали ее на кухне.
– Грязная потаскушка, – сказала мать.
– Чтобы моя дочь… – пробормотал отец.
Арабелла молча въехала по пандусу в свою комнату. Собиралась она недолго: у нее было очень мало всего, кроме книг. Родители опешили, когда она попрощалась с ними.
– Стой, погоди! – вскричали они, но Арабелла уже выкатилась за дверь, ни разу не взглянув в зеркало заднего вида.
Она доехала до площади, где, несмотря на поздний час, было еще немало народу. Скинула цилиндр, сняла костюм и при свете лозунга стала ждать, когда ее арестует патруль из отдела нравов.
Утром ее доставили в резервацию. Вывеску у ворот ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН кто-то замазал черной краской и вывел сверху другие слова: НОШЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ ФИГОВЫХ ЛИСТКОВ ВОСПРЕЩАЕТСЯ.
– Опять выпендриваются, умники поганые! – проворчал конвоир.
Говард встречал ее за воротами. При виде его она поняла, что поступила правильно, бросилась ему на шею, забыв о своей наготе, и оросила его лацкан слезами. Он крепко обнимал ее поверх драпового пальто, и его голос смывал из памяти тусклое прошлое.
– Я знал, что за нами следят, и позволил им взять нас вместе в надежде, что тебя отправят сюда. Но этого не случилось, и я надеялся – молился, – что ты придешь сама, добровольно. Как же я рад, что ты это сделала! Тебе здесь понравится. У меня коттедж с большим задним двором. У нас есть бассейн, женский клуб, театральный кружок…
– А священник? – спросила она сквозь слезы.
– Есть и священник. Надо поймать его до утреннего обхода, – сказал Говард, и они пошли по дороге пешком.
Хмельные нивы земли Перевод Н. Виленской
Нижеследующий рассказ мне прислали по недоступным ранее каналам, раскрыть которые я не вправе. Насколько мне известно, это первый научно-фантастический марсианский рассказ, попавший на Землю. Помимо основного смысла, из него можно извлечь и другое, а именно: 1) марсиане в общем и целом похожи на нас; 2) их цивилизация в целом напоминает нашу; 3) земные фантасты повествуют о земных странностях на примере Марса, а марсианские для той же цели используют Землю; 4) на Марсе, как и на Земле, этот литературный прием себя исчерпал, поэтому одни марсианские фантасты начали писать пародии на других; 5) к этой категории и относится наш рассказ.
Корабль, пришедший из космических бездн, упал подобно темной бескрылой птице в голубые пески Земли.
Капитан Фримпф, выйдя на яркое солнце, наполнил легкие чистым, сладостным воздухом. Голубые пески простирались до самого туманного горизонта, где переливались осколками цветного стекла развалины давно погибшего города. В синем небе гонялись друг за другом легкие облака.
Глаза капитана подернулись влагой.
– Земля… – прошептал он. – Наконец-то Земля.
Трое членов исторического экипажа присоединились к нему, глядя вдаль такими же увлажнившимися глазами.
– Голубая, – выдохнул Бирп.
– Голубая, – пролепетал Фардел.
– Голубая, – всхлипнул Пемпф.
– Разумеется, голубая, – мягко сказал капитан. – Наши астрономы давно пришли к выводу, что голубизну Земли нельзя объяснить одними светопоглощающими свойствами ее атмосферы – почва тоже должна быть голубой!
Опустившись на колени, он зачерпнул пригоршню этой волшебной субстанции. Она прошла между пальцев, как голубой туман.
– Голубые пески Земли! – Капитан встал, снял свой шлем. Ветер, несущий через пески стеклянный перезвон далекого города, шевелил его волосы. Фрипмфу вспомнилось теплое марсианское лето, и долгие дни каникул, и лимонад на веранде бабушки Фрипмф.
– В чем дело, Бирп? – раздраженно обернулся он, почувствовав, что кто-то дышит ему в затылок.
– Прошу прощения, сэр, – откашлялся Бирп. – Не кажется ли вам, что это дело надо отметить? Путешествие было долгим, и мы с Фарделом и Пемпфом не прочь бы… немного снять напряжение.
Презрение в глазах капитана заставило его съежиться.
– Хорошо, – сказал Фримпф. – Откройте ящик кишкогнили, но только один, понятно? И если хоть одна пустая бутылка осквернит этот девственный пейзаж, сядете в карцер все трое!
Бирп галопом припустил к кораблю, но внезапно остановился.
– А куда ж их девать-то, сэр? Если на корабле складывать, получится лишний груз, а горючее у нас на исходе.
Капитан подумал и проронил:
– Закопайте.
Пока экипаж потягивал пиво, капитан любовался далеким городом, представляя, как будет рассказывать жене за обедом о его пастельных башнях и мерцающих шпилях. Особенно ясно представлялась ему жена – как она сидит напротив него за столом, слушает и жует. Теперь она определенно еще толще, чем перед стартом. Почему они все доводят себя до такой степени ожирения, что мужьям порой приходится их в женотачках возить? Почему совсем не желают двигаться и скупают всю домашнюю технику, которую выбрасывают на рынок бессовестные торговцы? Почему все время едят, едят и едят?
Капитан побледнел при мысли о счете на продукты питания, который будет ждать его дома. Со счета мысль естественным образом перекинулась к налогам: дорожному, на добавленную стоимость, на деревья, на газ, на траву, на воздух, на первую, вторую, третью и четвертую мировую войну.
Попробуй тут не запить, платя за войны, на которых сражались твой отец, дед, прадед и прапрадед! Капитан с завистью посмотрел на свой экипаж. Их-то налоги не беспокоят. Ни налоги, ни что-либо еще. Скачут, как варвары, вокруг пустого пивного ящика, сочиняя попутно грязную песню про голубые пески Земли. Капитан вслушался в слова, и уши у него покраснели.
– Хватит, ребята! – решительно сказал он. – Заройте бутылки, сожгите ящик, и спать. Завтра у нас трудный день.
Бирп, Фардел и Пемпф послушно вырыли в голубой почве четыре ряда ямок и погребли своих павших. Сожгли ящик, пожелали капитану спокойной ночи, поднялись на корабль.
Капитан задержался еще немного. Над песками всходила луна, да какая! Она преобразила равнину в синюю скатерть с серебряным канделябром города.
Тайна этих развалин и заброшенных улиц пронимала его до мозга костей. Что же случилось с жителями этого города и других разрушенных городов, которые он видел с орбиты?
Этого он, возможно, никогда не узнает. Не в силах больше выносить мертвенной земной тишины, Фрипмф ушел на корабль и закрыл за собой входной люк. Лежа в своей каюте, он долго думал о благородной цивилизации, оставившей за собой лишь горстку хрустальных развалин, и наконец уснул.
Выйдя утром наружу, он увидел перед собой двадцать четыре пивных деревца.
Название напрашивалось автоматически. Раньше Фримпф пивных деревьев никогда не видал, но как еще назвать группу древовидных растений с бутылками янтарной жидкости на ветвях?
Некоторые плоды уже были сорваны, и посадки, судя по ряду холмиков, продолжались.
Капитан остолбенел. Как возможно, чтобы на какой бы то ни было почве, даже земной, за ночь произросли из пустых бутылок деревья? Он начинал смутно догадываться о том, что случилось с землянами.
– Отведайте, сэр, – предложил Пемпф с бутылками в обеих руках. – Вы такого еще не пробовали!
Капитан испепелил его взглядом.
– Офицеры не пьют пива, Пемпф.
– Да, сэр. Я забыл. Виноват.
– Еще как виноваты, все трое. Кто вам разрешил есть – то есть пить – земные плоды?
Пемпф минимально понурил голову в знак раскаяния.
– Никто, сэр. Увлеклись, так сказать.
– Неужели вам не интересно, как выросли эти деревья? Химик здесь вы – почему пробы почвы не взяли?
– Смысла нет, сэр. Если деревья здесь растут из пустых бутылок, то их наука опережает нашу примерно на миллион лет. Кроме того, я думаю, что дело не в одной только почве. Возможно, солнечный свет, отражаясь от поверхности луны, создает некую радиацию, способную воспроизводить всё, что посажено в грунт.
– Всё, говорите?
– Почему бы и нет, сэр. Мы посадили пивные бутылки и получили пивные деревья, не так ли?
– Хмм. – Капитан ушел на корабль и весь день просидел в каюте, напрочь забыв о плотном графике, составленном на сегодня. Когда солнце село, он вышел и закопал в песок все денежные купюры, которые у него были с собой. Жаль, что больше не захватил, но это не так уж важно: как только денежные деревья дадут плоды, семян у него будет вдоволь.
Ночью, впервые за много лет, ему не снились счета за продукты и налоговые квитанции.
Утром, однако, никаких денежных деревьев позади корабля не обнаружилось – только бугорки от зарытых купюр. Может, с деньгами все иначе, сказал себе горько разочарованный Фримпф. Может, они прорастают столь же трудно, как достаются.
Пивная роща впереди между тем подрастала исправно. Капитан прошелся по дорожкам в сквозной тени, с завистью глядя на янтарные фрукты.
След из пивных крышек привел его на полянку, где предавался гульбе экипаж. Бирп, Фардел и Пемпф, подобно бородатым лесным нимфам, плясали в кругу и горланили, размахивая бутылками. У песни про голубые пески Земли прибавился новый куплет.
При виде капитана они приостановились, но тут же возобновили свой танец. Похоже, они вообще не ложились – дисциплина в любом случае расшаталась недопустимо. Если Фримпф хочет спасти экспедицию, действовать нужно быстро.
Вопрос в том, спасать ее или нет. В случае успеха они вернутся на Марс, где ждет его толстуха жена и кипа счетов. С продуктовых счетов мысль капитана перекинулась на непосильные налоги, а с налогов неким необъяснимым образом на шкафчик с напитками в капитанской каюте и непочатую бутылку бурбона, одиноко стоящую на своей полочке.
Приведение экипажа в чувство Фримпф решил отложить на завтра. Тогда его денежные деревья определенно уже прорастут, и он поймет, когда ждать первого урожая и сажать новый. Обеспечив себе стойкий прирост капитала, он займется проблемой пивных деревьев.
Следующее утро денежных всходов тоже не принесло, зато пивной лес занял половину равнины, и стеклянное позвякиванье плодов напоминало о конвейерной линии пивзавода.
Судьба, постигшая землян, больше не вызывала сомнений, но что же случилось с деревьями, которые насадили они? Капитан и на это нашел ответ. Земляне взяли на себя функцию марсианских пчел: выпивая жидкость, они тем самым опыляли стеклянные оболочки. Опыление вкупе с новыми посадками способствовало бурному росту пивных лесов.
Хорошая была экология, спору нет, но всему хорошему рано или поздно приходит конец. Люди со временем вымерли в результате самоопыления, а деревья, лишившись опылителей, последовали за ними.
Это, безусловно, трагично, но не трагичнее, чем вымирать от налогов.
Капитан снова провел день в каюте, размышляя над способами опыления денег и все чаще обращая взор к дверце-панели, за которой помещался шкафчик с напитками. На закате к нему явились Бирп, Фардел и Пемпф.
– Сэрр, – заявил Фардел от имени всех троих, – мы приняли решение не возвращаться на Маррс.
Капитана это не удивило, но почему-то привело в раздражение.
– Скройтесь в своем лесу и не приставайте ко мне! – рявкнул он. Когда они ушли, он открыл дверцу и взял бутылку. Две ее пустые сестры давно отправились в мусоропровод и кружили где-то между Землей и Марсом. – Хорошо, что я тебя приберег. – Сказав это, капитан открыл ее, опылил, вышел нетвердой походкой наружу и зарыл позади корабля. Потом сел рядом и стал ждать, когда она прорастет.
Неизвестно, взойдут ли денежные деревья. Если нет, он тоже на Марс не вернется, слуга покорный. Ему обрыдла толстуха жена, обрыдли счета за еду, обрыдли налоги: дорожный, на добавленную стоимость, на деревья, на газ, на траву, на воздух, на первую, вторую, третью и четвертую мировую войну. А больше всего обрыдло быть образцовым службистом-трезвенником.
Вместе с луной над голубыми песками Земли взошел первый вископобег.
Девушка-одуванчик Перевод Н. Виленской
Девушка напомнила Марку Эдну Сент-Винсент Миллей[18]. Волосы цвета одуванчиков сияли на полуденном солнце, старомодное белое платье плескалось на ветру вокруг длинных стройных ног. Ему показалось, что она перенеслась в наше время из прошлого, хотя, как выяснилось потом, перенеслась она, напротив, из будущего.
Марк остановился чуть позади нее, тяжело дыша после подъема на холм. Девушка его пока что не видела – как бы дать знать о себе, не напугав ее? Размышляя над этим, он набил и раскурил трубку. Девушка за это время успела обернуться назад и смотрела на него с любопытством.
Он медленно подошел, радуясь близости неба и ветру, дующему в лицо. Надо бы почаще выбираться на такие прогулки. Внизу, за лесами, вспыхнувшими первыми красками осени, виднелось озеро, хижина на берегу и дощатый пирс. Жену неожиданно взяли в жюри присяжных – пришлось проводить две недели, прибереженные от летнего отпуска, в одиночестве. Днем он рыбачил с причала, прохладными вечерами читал у камина. После двух дней такого существования он наугад углубился в лес, поднялся на холм и заметил девушку.
Подойдя, он увидел, что глаза у нее голубые, как небо, служащее ей фоном. Прелестный овал ее юного лица вызвал у Марка столь острое дежавю, что он с трудом подавил желание прикоснуться к ее щеке: рука осталась опущенной, но пальцы так и чесались.
Что это на него нашло, во имя всего святого? Ему сорок четыре, а ей вряд ли больше двадцати.
– Красивый вид, правда? – спросил он.
– Восхитительный! – подтвердила она, охватив широким взмахом сентябрьские леса, ближнюю деревушку и городские окраины. Зубчатые очертания Ков-Сити на горизонте таяли в дымке и казались башнями средневекового замка – скорее мираж, чем реальный город.
– Вы тоже живете в Ков-Сити? – спросил Марк.
– Можно и так сказать, – улыбнулась она. – В Ков-Сити двести сорок лет спустя.
Не обязательно в это верить, говорила ее улыбка, но будет очень мило, если вы притворитесь. Марк улыбнулся в ответ.
– В две тысячи двести первом году, стало быть? Город, должно быть, сильно разросся?
– Да-да. Теперь он входит в большой мегаполис и простирается вот досюда. – Она показала на лес у них под ногами. – Две тысячи сороковая улица проходит прямо через рощу сахарных кленов, а вон те акации видите?
– Вижу.
– Там теперь супермаркет, такой огромный, что обойти его можно лишь за полдня, а купить можно всё, от аспирина до аэрокара. Рядом, в вашей березовой роще, большой магазин одежды, где продаются последние модели от ведущих кутюрье. Утром я купила там это платье – правда, красивое?
Марк из вежливости не стал возражать, хотя красивым платье делала только она. Оно было сшито из незнакомой ему материи, похожей одновременно на сахарную вату, морскую пену и снег. Какой только синтетики нынче не выпускают, и чего только не выдумывают юные девушки.
– Сюда вы прибыли на машине времени?
– Да, ее изобрел мой отец.
Надо же, с каким невинным видом она все это сочиняет.
– И часто вы здесь бываете?
– Да! Это мои любимые координаты пространства-времени. Стою здесь часами и смотрю. Позавчера увидела кролика, вчера оленя, сегодня вас.
– Но как же вы могли быть здесь позавчера, если всегда возвращаетесь в ту же точку времени?
– Дело в том, что внутри машины время идет точно так же, как и везде, и для возвращения в прежние координаты ее каждые сутки нужно перенастраивать. Я этого не делаю, потому что люблю бывать в разных днях.
– А отец ваш не путешествует с вами?
Девушка проводила глазами плывущий в небе гусиный клин.
– Ему очень хотелось бы, но он теперь инвалид. Я ему все рассказываю, – поспешно добавила девушка, – а это почти все равно, как если бы он видел своими глазами, правда?
– Конечно, – подтвердил Марк, тронутый ее дочерней заботой. – Хорошо, должно быть, иметь собственную машину времени.
– Очень. Красивые пейзажи все любят, а в двадцать третьем веке их осталось немного.
– Да и в двадцатом тоже, – признался Марк. – Этот, можно сказать, коллекционный – надо бы почаще бывать здесь.
– Вы живете где-то поблизости?
– У меня сейчас отпуск, и живу я в хижине, милях в трех отсюда. Жена заседает в жюри и не смогла поехать со мной. Откладывать отпуск больше нельзя, вот я и сделался отшельником на манер Торо[19]. Марк Рэндолф меня зовут.
– Джули Денверс.
Имя шло ей, как белое платье, синее небо, вершина холма и сентябрьский ветер. Возможно, она живет в той лесной деревушке, но это не так уж важно. Придумала девочка, что явилась из будущего, и на здоровье. Значение имеет лишь та глубокая нежность, которую он почувствовал к ней с первого взгляда.
– Вы где-то работаете, Джули, или еще учитесь?
– Да, учусь – на секретаря. – Она проделала красивый пируэт и сцепила руки перед собой. – Это так волнительно, работать в большой серьезной конторе и записывать мысли больших людей. Хотите, я буду вашим секретарем, мистер Рэндолф?
– Очень хочу. Я так со своей женой познакомился – она год служила у меня секретаршей, еще до войны. – К чему он, собственно, сказал это?
– Она была хорошей секретаршей?
– Лучшей из лучших. Жаль было ее терять, зато я приобрел ее в другом смысле, так что потерей это, пожалуй, не назовешь.
– Да, наверно. Простите, мистер Рэндолф, но мне пора. Нужно приготовить папе ужин и рассказать ему обо всем, что я видела.
– А завтра вы здесь будете?
– Очень может быть, я каждый день здесь бываю. До свидания, мистер Рэндолф.
– До свидания, Джули.
Она легко сбежала с холма и исчезла в роще сахарных кленов, через которую двести сорок лет спустя пройдет Две тысячи сороковая улица. Очаровательное дитя… какая вера в чудо, какой кипучий энтузиазм. Самому Марку было отказано и в том и в другом. В двадцать он штудировал право, в двадцать четыре приобрел собственную практику, которая поглотила его целиком – впрочем, не совсем целиком. Когда он женился на Анне, высокие заработки временно отодвинулись на второй план; потом началась война, и случился второй промежуток, во время которого высокие заработки казались чем-то отдаленным и даже презренным. Но он вернулся к гражданской жизни, и необходимость зарабатывать на жизнь заявила о себе с новой силой, тем более что у них с Анной родился сын. Лишь недавно он стал себе позволять месяц ежегодного отпуска. Две недели он проводил с Анной и Джеффом там, где хотели они, еще две, когда Джефф возвращался в колледж – с Анной в хижине у озера. На этот раз он жил там один – не совсем, впрочем…
Он даже не заметил, что трубка погасла. Разжег ее снова, затянулся глубоко, чтобы ветер не затушил, и пошел с холма к хижине. После осеннего равноденствия дни стали заметно короче, сквозь дымку уже просачивалась вечерняя сырость.
Шел он медленным шагом и добрался до озера, когда солнце уже закатилось. Озеро было небольшое, но глубокое, деревья подступали к нему вплотную. Хижина стояла чуть поодаль от берега, среди сосен. Извилистая тропинка вела от нее к причалу, гравиевая дорожка – к проселку, выходящему на шоссе. Припаркованный у задней двери универсал мог в любой момент умчать Марка обратно к цивилизации.
Он приготовил себе нехитрый ужин, поел и сел почитать в гостиной. Генератор в пристройке то включался, то выключался, но больше никакие шумы, привычные уху современного человека, не оскверняли вечернюю тишину. Взяв с хорошо укомплектованной полки над камином антологию американской поэзии, Марк отыскал «Полдневный холм» Эдны Миллей и перечитал его трижды. Перед глазами стояла Джули, освещенная солнцем, ее развеваемые ветром волосы, ее платье, крутящееся метелицей вокруг длинных красивых ног. В горле стоял комок, не желающий сглатываться.
Марк вернул книгу на полку, вышел на веранду, закурил трубку. Заставив себя думать об Анне, он и ее увидел перед собой: твердый и в то же время женственный подбородок, любящий взгляд с тенью страха, не поддающегося разгадке, все еще гладкие щеки, ласковая улыбка. И пышные каштановые волосы, и вся ее высокая гибкая стать. В который раз он подивился ее нестареющей красоте. Как ей удается сохраняться такой же, как в то давнее утро, когда она робко вошла в его кабинет? Подумать только, что через каких-нибудь двадцать лет он с таким пылом думает о свидании с юной фантазеркой, годящейся ему в дочери. Нет, довольно! Это было минутное увлечение, минутная утрата душевного равновесия. Теперь он обрел его снова, и мир вернулся на прежнюю устойчивую орбиту.
Он выколотил трубку, вернулся в дом, улегся, выключил свет. Заснул он не сразу, и всю ночь его преследовали соблазнительные сны.
«Позавчера я увидела кролика, вчера оленя, сегодня вас».
На этот раз она была в голубом платье, с голубой лентой в волосах цвета одуванчиков. Марк, взобравшись на холм, постоял, отдышался, потом подошел и стал рядом с ней. При виде мягкой линии ее горла и подбородка у него снова перехватило дыхание.
– А я уже думала, что вы не придете, – сказала она. Он не сразу собрался с силами для ответа и наконец выговорил:
– Но я здесь, и вы тоже.
– Вот и хорошо.
Они сели на широкий выступ гранитного валуна. Марк закурил, пуская дым по ветру.
– Отец тоже курит трубку, – сказала она, – и руки держит так же, когда закуривает, даже если нет ветра. Вы с ним во многом похожи.
– Расскажите мне о нем, – попросил он. – И о себе, конечно.
Ей двадцать один год, поведала Джули. Отец раньше был физиком на государственной службе, теперь он на пенсии. Живут они в маленькой квартирке на Две тысячи сороковой улице. Мать умерла четыре года назад, и хозяйство ведет она, Джули. Марк, в свою очередь, рассказал о жене и сыне. Джеффа он намерен сделать своим компаньоном, у Анны необъяснимый страх перед объективами камер: она даже в день свадьбы не захотела сниматься и до сих пор отказывается. В прошлом году они втроем очень удачно съездили в отпуск.
– Чудесно, – сказала на это Джули. – Как хорошо, наверно, жить в тысяча девятьсот шестьдесят первом году!
– В чем же дело? На машине времени вы можете переместиться куда хотите.
– Все не так просто. Во-первых, я никогда не брошу отца, во-вторых, это нарушение. Путешествовать во времени разрешается только государственным историческим экспедициям, рядовым гражданам это запрещено. Полиция времени строго следит за этим.
– Но вы ведь ухитряетесь как-то?
– Только потому, что отец построил собственную машину, о которой не знает полиция.
– Однако закон вы все-таки нарушаете.
– Да – с их точки зрения, но у отца своя концепция времени.
Слушать ее было так приятно, что содержание Марка не беспокоило.
– Что за концепция? Расскажите.
– Сначала об официальной теории. Пришелец из будущего якобы не может влиять на события прошлого, поскольку одно его присутствие в нем является парадоксом, который невозможно ассимилировать, не изменив будущее. Поэтому департамент путешествий во времени допускает к своим машинам только специалистов, а полиция вылавливает потенциальных нарушителей, выдающих себя за историков.
Но отец думает по-другому. Говорит, что книга времен уже написана. В макрокосмическом масштабе всё, что может случиться, уже случилось, и прибывший из будущего человек становится частью прошлого просто потому, что всегда ею был. И никаких парадоксов.
Марк глубоко затянулся.
– Ваш отец, похоже, замечательный человек.
– Еще какой! – Джули зарумянилась, и глаза у нее стали еще голубее. – Видели бы вы, сколько книг он прочел – у нас их уже ставить некуда. Гегель, Кант, Юм, Ньютон, Вайцзеккер. Я и сама кое-что читала.
– Я тоже.
– Могу поспорить, что у нас с вами куча общих интересов, мистер Рэндолф!
Общие интересы в самом деле нашлись, хотя трансцендентальная эстетика, берклианство и теория относительности не совсем то, о чем хочется говорить с девушкой сентябрьским днем на вершине холма. Даже когда тебе сорок четыре, а девушке двадцать один. Во всем, однако, есть свои хорошие стороны: трансцендентальная эстетика зажигала микрокосмические звезды в ее глазах, слабые места в рассуждениях доброго епископа Беркли подчеркивали ее нежный румянец, а формула, где E неизменно равнялась mc2, демонстрировала также, что знания девичьим чарам только на пользу.
Прекрасное мгновение затянулось куда дольше, чем ему полагалось – Марк и спать лег, пребывая в нем. Теперь он даже не пытался думать об Анне, зная, что ничего не получится. Просто лежал в темноте, и в голове у него проплывали мысли, имеющие прямое отношение к вершине холма и девушке с волосами цвета одуванчиков.
«Позавчера я увидела кролика, вчера оленя, сегодня вас».
Утром он съездил в деревню на почту узнать, нет ли для него писем. Писем, как и следовало ожидать, не было: Джефф не любит писать, Анне переписка сейчас недоступна, секретарше он запретил его беспокоить любыми делами за исключением крайне срочных.
Он хотел спросить пожилого почтмейстера, не живет ли поблизости семья Денверс, но передумал. В сложную фантазию, воздвигнутую Джули, он, конечно, не верил, но ему больно было бы видеть, как она рушится.
Сегодня платье на ней было желтое, как ее волосы, и у Марка снова перехватило горло. Потом он обрел дар речи, и их разговор заструился двумя веселыми ручейками через сухую послеполуденную долину. Теперь уже она спросила при расставании, придет ли он завтра – опередив его, впрочем, всего на секунду. Ее слова пели в его ушах всю дорогу до хижины и убаюкали его после выкуренной на веранде вечерней трубки.
На следующий день она не пришла. Она просто опаздывает, говорил себе Марк, сидя на их гранитной скамье. Еще немного, и появится. Но она так и не появилась. Минуты складывались в часы, лесная тень захватывала холм, становилось холодно. В конце концов он сдался и побрел к себе в хижину.
Не было ее и на второй день, и на третий. Марк не мог есть, не мог спать, рыбалка и чтение ему опротивели. Ведешь себя, как сопливый школьник, говорил он себе. Поймался, как всякий сорокалетний болван, на смазливое личико и пару красивых ножек. Еще недавно ты и не посмотрел бы на других женщин, и на тебе – влюбился по уши всего за три дня.
На четвертый день он, уже без всякой надежды, снова взобрался на холм – и ожил, увидев ее. По черному платью он мог бы догадаться о причине ее отсутствия, но даже слезы на глазах и дрожащие губы ничего не сказали ему.
– Что случилось, Джули? Что с вами?
Она прильнула к нему, спрятала лицо у него на груди.
– Отец умер, – проговорила она, и он почему-то понял, что это ее первые слезы, что во время бдения и похорон она держалась стойко и дрогнула только теперь.
Он обнял ее, коснулся губами ее лба и волос.
– Мне очень жаль, Джули. Я знаю, как много он для вас значил.
– Он знал, что умирает. Знал с того самого эксперимента со стронцием-90. И никому не говорил, даже мне. Не хочу больше жить! У меня ничего теперь не осталось, совсем ничего!
– Что-то непременно найдется, Джули. И кто-то. Вы так молоды, в сущности ребенок еще.
Она откинула назад голову, и поток ее слез внезапно остановился.
– Я не ребенок! Не смейте так говорить!
Он тоже отстранился в испуге, впервые видя, как она сердится.
– Я не хотел…
Ее минутный гнев прошел без следа.
– Я верю, что вы не хотели меня задеть, мистер Рэндолф, но обещайте больше не называть меня так. Я не ребенок, даю вам слово.
– Хорошо, обещаю…
– А теперь мне пора, у меня еще тысяча дел.
– Но завтра… вы придете сюда?
Ее глаза затуманились, как после летнего ливня.
– Машины времени тоже ломаются. Детали изнашиваются, а менять их я не умею. Моей хватит разве что еще на одну поездку.
– Но вы же постараетесь, правда?
– Постараюсь, – кивнула она. – И еще, мистер Рэндолф…
– Да, Джули?
– Если я не смогу прийти, то знайте: я вас люблю.
Она сбежала с холма, скрывшись в роще сахарных кленов. Он дрожащими руками закурил трубку, обжег спичкой пальцы. После он не мог вспомнить, как пришел домой, приготовил ужин, лег спать, но должен был проделать все это, поскольку проснулся в своей постели и увидел на кухне не вымытую накануне посуду.
Он помыл ее, сварил себе кофе и все утро рыбачил на пирсе, гоня от себя все мысли. С реальностью он еще успеет столкнуться. Довольно знать, что она его любит и через несколько часов он снова увидит ее. Даже изношенная машина времени уж как-нибудь перенесет ее из деревни на холм.
Он пришел рано, сел на гранитную скамью и стал ждать, когда она выйдет из леса и станет подниматься на холм. Сердце стучало, руки дрожали – он чувствовал это, даже не глядя на них. «Позавчера я увидела кролика, вчера оленя, сегодня вас».
Он ждал, но Джули не шла. Под вечер следующего дня, когда тени начали удлиняться, Марк спустился в рощу сахарных кленов, нашел там тропинку, пришел через лес в деревню. Писем нет, снова сказал старичок на почте, но Марк не спешил уходить.
– Здесь у вас живет семья Денверс?
– Не слыхал о таких.
– И никого недавно не хоронили?
– Год уж как не случалось.
Марк ходил на холм до конца отпуска, зная в глубине души, что она не вернется, что он потерял ее навсегда. Вечерами он бродил по деревне, отчаянно надеясь, что почтмейстер ошибся, но никто из местных не узнал Джули по его описанию.
В начале октября Марк вернулся в город. Он очень старался вести себя с Анной как ни в чем не бывало, но она сразу почувствовала в нем какую-то перемену. Вопросов она не задавала, но как-то притихла, и необъяснимый страх в ее глазах стал еще заметнее.
По воскресеньям он ездил за город и поднимался на холм. Леса подернулись золотом, небо стало еще синее, чем месяц назад. Марк часами сидел на камне, глядя туда, где исчезла Джули.
В начале ноября, когда начались дожди, он нашел чемодан. Анна ушла играть в бинго, и Марк, оставшись один, не знал, куда себя деть – ни одна из четырех телепрограмм его не устроила. Он полез на чердак за пазлами, купленными еще прошлой зимой, и нечаянно скинул чемодан с полки.
Когда-то Марк привез его вместе с другими вещами Анны на их первую квартиру. Анна всегда держала его запертым и говорила со смехом, что у жены бывают секреты даже от мужа.
При падении замок, заржавевший за долгие годы, сломался. Внутри лежало что-то белое, похожее одновременно на сахарную вату, морскую пену и первый снег.
Марк трясущимися руками достал платье из чемодана. Оно белело в воздухе, как снежная пыль. Он бережно уложил его обратно, закрыл крышку, вернул чемодан на полку. «Позавчера я увидела кролика, вчера оленя, сегодня вас».
Дождь барабанил по крыше, горло сдавило так, что впору заплакать. Он медленно слез с чердака. Часы на камине показывали десять четырнадцать. Через несколько минут автобус, развозящий игроков, высадит ее на углу, и она войдет в дом. Анна. Джули.
Может быть, полностью ее зовут Джулианна? Весьма вероятно. Люди почти всегда сохраняют часть своего настоящего имени, когда хотят назваться как-то иначе. Фамилию она взяла другую, а вот с именем решила не расставаться. Ей еще многое пришлось поменять, чтобы скрыться от полиции времени. Понятно, почему она никогда не соглашалась фотографироваться. Как она, должно быть, боялась, когда много лет назад пришла к нему наниматься! Одна в чужом времени, не знающая, верна ли отцовская теория, не уверенная, что мужчина, влюбившийся в нее на пятом десятке, почувствует то же самое в двадцать с лишним. Обещала, что постарается вернуться к нему, и вернулась.
Все эти двадцать лет она знала, что однажды в сентябре он взойдет на холм, и увидит ее в расцвете юности, и влюбится в нее снова. Знала, потому что пережила этот момент его будущего в своем прошлом. Но почему же она ничего ему не сказала – ни тогда, ни теперь?
Он, кажется, понял, в чем дело.
Дыша все еще не в полную силу, он взял в холле плащ и вышел под дождь. Вода, смешиваясь со слезами, текла по щекам. Как могла такая нестареющая красавица, как Анна – Джули – бояться старости? Как могла не знать, что в его глазах она навсегда останется такой, какой вошла в его кабинет и заставила его влюбиться с первого взгляда? Как не понимала, что девушка на холме показалась ему незнакомой именно по этой причине?
Он дошел до угла. Автобус подъехал, из него вышла девушка в белом плаще. Горло стиснуло так, что Марк вообще перестал дышать. Волосы цвета одуванчиков теперь потемнели, юные чары развеялись, но вся ее прелесть осталась при ней, и стройные ноги в бледном свете ноябрьского фонаря были еще красивее, чем на ярком сентябрьском солнце.
В ее глазах затаился знакомый страх – страх тем более нестерпимый, что теперь Марк разгадал его тайну. Он подошел к ней вслепую, ничего не видя из-за слез, и наконец-то коснулся ее мокрой щеки. Она поняла тогда, что все хорошо; страх ушел навсегда, и они, взявшись за руки, пошли домой под дождем.
Девушка, остановившая время Перевод Н. Виленской
Сидя в парке в то июньское утро, в пятницу, Роджер Томпсон даже представить не мог, что его холостяцкой жизни приходит конец. У него могло бы возникнуть такое подозрение, когда мимо проследовала высокая брюнетка в красном облегающем платье, но о сопряженных с этим искривлениях времени и пространства он, конечно же, не догадывался.
Брюнетка почти уже прошла мимо его скамейки, и начинало казаться, что свободе Томпсона ничего не грозит, но тут произошло то, что так любят авторы нашей лирической прозы: ее высокий каблук попал в трещину и застрял. Наш герой оказался на высоте положения, особенно если учесть, что в тот момент он обдумывал особо заковыристое место научного поэзоанализа и на девушек обращал внимание еще меньше обыкновенного. Он вскочил, обнял девушку за талию одной рукой, высвободил ее ногу из туфли, заметив при этом три узких золотых браслета на голой щиколотке, и довел пострадавшую до скамейки, пообещав:
– Сейчас вытащу.
Миг спустя он, верный слову, вновь надел туфельку на изящную ножку.
– Большое спасибо, мистер…
Слегка хрипловатый голос, тонкий овал лица, полные красные губы. Заглянув в жемчужную глубину ее серых глаз, Роджер почувствовал, что сейчас упадет, и неуклюже плюхнулся рядом с ней.
– Томпсон, Роджер Томпсон.
– Очень приятно, Роджер. Я Бекки Фишер.
– Мне тоже очень приятно, Бекки.
Пока все нормально: молодой человек встретил девушку. Он влюбился с первого взгляда, девушка тоже не против, на дворе июнь – все это неизбежно ведет к роману. Роман в самом деле случится, но в анналы времени не войдет никогда.
Почему, спросите вы?
Подождите, скоро увидите.
Остаток дня они провели вместе. У Бекки, работавшей официанткой в «Серебряной ложке», был выходной, у Роджера, подававшего уже шестую конкурсную заявку после окончания Лейкпортского Технологического, все дни были выходные. Они поужинали в недорогом кафе, потанцевали под музыкальный ящик. Их первый полуночный поцелуй на ступеньках ее дома был столь сладок, что Роджер только в своем гостиничном номере задался вопросом: как мог молодой человек, видящий в любви помеху научной карьере, так мгновенно и бесповоротно влюбиться?
Скамейка в парке преобразилась для него в святыню, к которой он совершил паломничество на следующее же утро. Вообразите себе его горе, когда он увидел на месте своей богини чужую девушку в голубом платье!
Роджер сел на другом конце. Будь она красива, еще бы туда-сюда, так ведь нет. Щуплая, долговязая. Одета в какую-то выцветшую тряпку по сравнению с платьем Бекки, а ее рыжая стрижка – истое оскорбление парикмахерского искусства.
Девушка, записав что-то в красную книжечку, посмотрела на часы, а затем – как будто время дня имело значение – перевела взгляд на Роджера.
Взгляд был довольно испуганный и нисколько не заслуживал злобы, с которой Роджер его вернул. Она снова уткнулась в свою записную книжку, но он успел разглядеть россыпь золотистых веснушек, глаза цвета синей птицы и ротик оттенка листьев сумаха после первого заморозка. Возможно, он отнесся бы к ней по-другому, не будь у него столь совершенного образца.
– Как пифецца «матримониальный»? – внезапно спросила она.
– Матримониальный? – вздрогнул Роджер.
– Да. Как это пифецца?
Он продиктовал ей по буквам.
– Шпасибо. – Она исправила что-то в записной книжке. – У меня плохо ш правопишанием, ошобенно когда шлова иноштранные.
– Так вы иностранка? – Это объясняло ее странный акцент.
– Из Бузенборга. Это маленькая провинсия на юзном континенте шештой планеты нашей шиштемы. Наша жвежда у ваш нажываецца Альтаир. Я прибыла на Жемлю вот только что, утром.
Ее деловой тон предполагал, что южный континент Альтаира VI от Лейкпорта не дальше, чем южный континент Солнца III и что космические корабли – самый обычный транспорт вроде автомобилей. Ученый в Роджере ощетинился и приготовился к бою. Решив изобличить лгунью посредством хитроумных вопросов, он начал издалека:
– Как вас зовут?
– Алайна, а вас?
Он назвался и продолжил:
– А фамилия у вас есть?
– Нет. В Бузенборге от фамилий откажались много веков нажад.
– Допустим. А корабль ваш где?
– Припарковала у жаброшенной фермы жа городом. При включенном зиловом поле выглядит как зилозная башня. Люди не замечают очевидного, если оно зливается с окружаюссим.
– Зилозная?
– Да, то есть силосная. Вечно путаю эти звонкие-глухие-шипящие, надо быть повнимательней.
Синий взор обезоруживал, красивый ротик даже не намекал на улыбку.
– Вам бы логопеда хорошего, – сказал Роджер.
– А где мне его найти?
– В телефонной книге их полно, звоните и договаривайтесь. – Возможно, до знакомства с Бекки он нашел бы ее акцент очень милым и не стал бы советовать логопеда. – Давайте, однако, проясним. Вы сказали, что оставили свой корабль на виду, поскольку люди не замечают очевидного, если оно сливается с окружающим. Это значит, что свой рейс на Землю вы хотите сохранить в тайне, правильно?
– Правильно.
– Почему же вы мне так сразу эту тайну открыли?
– Все то же незамечание очевидного. Если говорить, что я с Альтаира VI, мне никто не поверит.
– Хорошо, пусть так. – Роджер приступил ко второй фазе своего плана. – Поговорим о вашем полете.
Он полагал, что теперь поймал ее, но ошибся. Девушка и не думала тонуть в собственных выдумках – в научных водах, если на то пошло, она плавала лучше самого Роджера.
Для начала он указал, что ни одно движущееся тело вследствие соотношения массы и скорости не может превысить скорость света и потому ее путешествие с Альтаира должно было занять как минимум лет шестнадцать – срок прохождения этого расстояния светом.
– Вы забываете о трансформации Лоренца, – возразила она. – Время в движении замедляется по сравнению со стационарным, поэтому на скорости, близкой к световой, я затратила бы на перелет всего несколько часов.
Роджер заметил, что на Альтаире за это время пройдут те же шестнадцать лет и ее родные и близкие станут значительно старше.
– Вы говорите так, исходя из положения, что скорость света нельзя превысить, но это вполне возможно. И вдвое, и втрое, и вчетверо. Масса тела действительно возрастает пропорционально скорости движения, но наши ученые изобрели демассификатор, аннулирующий массу.
Хорошо, сказал он. Допустим, что скорость света превысить можно – хотя, путешествуя со скоростью вдвое выше световой, она не только переместилась бы назад во времени, но и закончила бы свое путешествие до того, как его начала. Занятный парадокс получается.
– Космический сдвиг времени отменяет все парадоксы, – сказала девушка. – Впрочем, сверхсветовыми двигателями мы больше не пользуемся. Наши корабли до сих пор оснащены ими, но к ним прибегают лишь в чрезвычайных случаях: слишком частые временны́е сдвиги, если они происходят одновременно, могут нарушить пространственно-временной континуум.
Он спросил, как же она в таком случае летела сюда, и она ответила:
– Напрямик, как мы все летаем. Об искривлении космоса даже ваши ученые знают, а наши альтаирские изобрели новый двигатель, чтобы не летать по кривой. Даже любитель может попасть в любую точку вселенной за пару дней.
Классическая отмазка, но возразить на нее нечего. Роджер встал.
– Главное, на астероид не налетите.
– Куда же вы?
– В мой любимый бар. Попью пива, съем сэндвич, посмотрю матч Чикаго – Нью-Йорк.
– А меня не хотите пригласить?
– С какой это стати?
Трансформация, произошедшая с ее глазами, Лоренцу и не снилась: они подернулись дымкой и стали еще синее.
– Ничего не понимаю… – Девушка опять взглянула на свои часики. – Мой вуджет показывает девяносто, а уровень высокой совместимости начинается с восьмидесяти.
Слеза с крупную росинку скатилась по щеке и капнула на голубое платье. Роджер-ученый на это не отреагировал, Роджер-поэт дрогнул.
– Хорошо, пойдемте, если хотите.
Бар находился прямо на Мейн-стрит. Роджер, записав Алайну по ее просьбе на полпятого к логопеду, выбрал кабинку поближе к телевизору и заказал два ростбифа на венской булочке и два пива.
Алайна расправилась со своим сэндвичем очень быстро.
– Хотите еще?
– Нет, спасибо. Вкусная у вас говядина, учитывая низкое содержание хлорофилла в земной траве.
– Выходит, у вас трава лучше? И автомобили тоже, и телики?
– Не намного. Наша техника, не считая космической, почти идентична вашей.
– А бейсбол у вас есть?
– Что такое бейсбол?
– Сейчас увидите. – Притворяться, что ты с Альтаира VI – одно дело, делать вид, что про бейсбол впервые слышишь – другое. Так или иначе она себя выдаст.
Он снова ошибся: альтаирская легенда держалась прочно.
– Почему они кричат «Давай, Апарисио»? – спросила Алайна на второй половине четвертого периода.
– Потому что Апарисио мастер красть базы. Вот, глядите: сейчас попробует вторую украсть. – Апарисио не только попробовал, но и украл. – Видели?
Алайна видела, но явно не поняла.
– А в чем смысл? Если у него так хорошо получается, почему он не украдет первую, вместо того чтобы лупить по этому маленькому сфероиду?
– Да вы что… первую базу нельзя украсть!
– Но если кто-то вдруг украдет, ему разрешат там остаться?
– Это попросту невозможно.
– Нет ничего невозможного во Вселенной.
Роджер надулся и молчал всю игру, но когда «Уайт Сокс», за которых он болел, победили со счетом 5:4, его недовольство мигом рассеялось. В приступе эйфории он предложил проводить девушку к логопеду. По дороге он ввел ее в курс научного поэзоанализа и даже процитировал пару строк из сонета, посвященного атому. Искренний энтузиазм Алайны поднял его эйфорию до небывалых высот.
– Надеюсь, вы хорошо провели день, – сказал он у входа в здание, где практиковал логопед.
– Очень! – Она написала что-то в блокноте, вырвала листок и дала ему. – Это мой земной адрес. Во сколько вас ждать вечером, Роджер?
Эйфория прошла бесследно.
– С чего вы взяли, что вечером у нас будет свидание?
– Но мой вуджет…
– Стоп! Хватит с меня на сегодня вуджетов, демассификаторов и сверхсветовых двигателей. Вечер у меня уже занят. Я иду на свидание с девушкой, которую, сам того не зная, искал всю свою жизнь, а встретил только вчера…
Синие глаза опечалились, ротик задрожал, как листочек сумаха на ноябрьском ветру.
– Я, кажется, поняла. Вуджеты определяют совместимость на основе химии тела и интеллектуальных наклонностей, но не регистрируют поверхностных увлечений. Видимо, я опоздала на один день.
– Ничем не могу помочь. Привет бузенборгцам.
– А в парк вы завтра утром придете?
Нет, собирался отрезать Роджер – но в уголке ее глаза назревала слеза еще крупней предыдущей, и он сказал нехотя:
– Может быть.
– Тогда я буду ждать вас на той скамейке.
Роджер убил три часа в кино и в половине восьмого зашел за Бекки. Черное платье облегало ее, как перчатка, острые носы туфель и браслеты на лодыжке сверкали золотом. Заглянув в глубину ее серых глаз, он понял, что сделает ей предложение еще до ночи.
Сидя с ней за ужином в том же кафе, он вдруг увидел, как туда входит Алайна с Альтаира в сопровождении элегантного молодого человека с худым голодным лицом и длинным конским хвостом. Сразу же заметив Роджера, она подвела к нему своего кавалера и сообщила:
– Это Эшли Эймс. Он пригласил меня поужинать, чтобы продолжить урок, а потом мы пойдем к нему домой посмотреть первое издание «Пигмалиона». – Тут она увидела Бекки, осеклась и воззрилась на ее стройные щиколотки под столиком. Когда Алайна вновь подняла глаза, они стали из синих зелеными. – Три уже есть, остался один. Так и знала, что это одна из вас!
Глаза Бекки, в свою очередь, преобразились из серых в желтые.
– Я первая его увидела, а правила ты знаешь не хуже меня. Отцепись!
– Пойдем отсюда, – надменно сказала Алайна своему хищному спутнику (Роджер, глядя на них, сразу подумал о волке и Красной Шапочке). – На Земле наверняка есть рестораны получше этого.
– Ты ее знаешь? – спросил Роджер у Бекки.
– Да чокнутая она. Бывает у нас в «Серебряной ложке», под инопланетянку косит. Давай сменим тему, а?
Так они и сделали. После ужина Роджер сводил Бекки на шоу и предложил прогуляться в парке. В знак согласия она красноречиво стиснула его локоть. Священная скамья стояла, как остров, в озере чистейшего лунного света, и они добрели по серебряным отмелям до приветливого чугунного берега. По сравнению с ее вторым поцелуем первый показался Роджеру сестринским. Сказав себе «теперь или никогда», он выпалил:
– Ты выйдешь за меня, Бекки?
– Ты правда этого хочешь? – не особенно удивилась она.
– Еще бы! Вот получу работу и…
– Поцелуй меня, Роджер.
У ее дома он повторил свой вопрос.
– Конечно, выйду, – сказала она. – Завтра поедем за город и все подробно обсудим.
– Отлично! Возьму машину, мы пообедаем…
– Можно и без обеда, просто заезжай за мной в два часа. – Она поцеловала его так крепко, что у него свело пальцы ног. – Спокойной ночи!
– До завтра, – произнес он, когда снова обрел дыхание.
– Может быть, выпьем по коктейлю перед отъездом.
Он, как по воздуху, доплыл до отеля, но полученное из рук ночного портье письмо мигом вернуло его на землю. Текст несколько отличался от пяти предыдущих ответов на его заявки, но суть оставалась той же: «Мы вам перезвоним».
Он удрученно разделся и лег. Не стоило бы заикаться о научном поэзоанализе в шестой раз после пяти неудач, но он, как всегда, увлекся. Современным корпорациям нужны приверженцы фактов, а не горе-поэты, ищущие симметрию в микрокосме.
Когда он наконец уснул, ему приснились девушка в голубом, похожая на Алису, волк в костюме от «Брукс бразерс» и сирена в черном вечернем платье.
Алайна с Альтаира, верная слову, ждала его утром на заветной скамье.
– Привет, Родж, – прощебетала она. Он угрюмо сел рядом.
– Как там первое издание?
– Не видала пока. Так устала, что сразу запросилась домой. Он мне покажет книгу сегодня вечером, мы будем ужинать у него при свечах. – Алайна помолчала и выпалила: – Она не для тебя, Родж – я про Бекки.
– С чего ты взяла?
– Есть такой прибор, флеглиндер называется. Позволяет видеть и слышать того, кто тебе нужен – ну, я и навела его вчера на вас с Бекки.
– То есть следила за нами? Шпионка несчастная!
– Пожалуйста, Роджер, не злись. Я волновалась за тебя, потому что ты попал в лапы ведьмы из Мугенворта!
Он счел, что это уж слишком, и встал, но она схватила его за руку и заставила снова сесть.
– Выслушай меня, Родж, это очень серьезно. Не знаю, что она наговорила тебе про меня, только это всё враки. Эти хитрые мугенвортские подлючки способны на что угодно. Они прилетают на Землю, как и мы, бузенборгские, только наши корабли рассчитаны на две персоны, а у них аж на пять. Устраиваются под фальшивым именем туда, где мужчин побольше, и начинают мужей себе подбирать – у них там квота на четырех.
– Ну ты даешь. Значит, девушка, на которой я хочу жениться – ведьма из Мугенворта, прилетевшая на Землю за четырьмя мужьями?
– Именно. Соберет всю четверку и увезет с собой в Мугенворт. Это такая провинция на экваторе Альтаира VI, и у них там матриархат, не то что у нас с вами. Женщине, чтобы быть принятой в обществе, надо иметь четырех мужей, а мужчин у них не хватает, вот и приходится летать на другие планеты. Имей в виду, что мужья там вкалывают на критчевых полях по двенадцать часов в сутки, а жены полеживают в баркеновых бунгало с кондиционерами, смотрят телевизор и жуют рутенстуговые орешки!
Роджер не знал, злиться ему или смеяться.
– А мужья со всем этим мирятся и не против делить свою жену с тремя другими мужчинами?
– Ты не понимаешь, – все больше заводилась Алайна. – Их никто не спрашивает, они околдованы, как и ты. Думаешь, ты по своей воле сделал ей предложение? Она внушила тебе эту мысль под гипнозом! Заглянул в ее серые глаза, и готово. Она ведьма, Роджер, и скоро поработит тебя на всю жизнь. Видно, она крепко в тебе уверена, раз днем везет тебя на корабль!
– Другие будущие мужья тоже с нами поедут?
– Нет, конечно – они уже там. Сидят околдованные и ее дожидаются. Видел три браслета у нее на лодыжке? Значит, трех она уже изловила, в Мугенворте такой обычай. Сегодня, того и гляди, четвертый нацепит. Никогда не задумывался, что происходит с мужчинами, которые каждый год бесследно исчезают с лица Земли?
– Нет, не случалось как-то. Меня другое интересует: зачем ты-то прилетела сюда?
– Я как раз подхожу к этому. – Алайна потупила синий взор. – Видишь ли, в Бузенборге не парни ухаживают за девушками, а девушки за парнями.
– По-моему, это ко всей вашей планете относится.
– Да, мужчин мало не только в Мугенворте, но и на всем Альтаире VI. Как только появились простые в управлении корабли, бузенборгские девушки тоже начали летать по всем известным галактикам. У нас в школах для девочек тоже преподают инопланетные языки и обычаи. Наше правительство уже много лет посылает тайные антропологические экспедиции на Землю и подобные ей планеты. Мы вступим с вами в контакт, когда вы наконец выйдете в космос и сможете претендовать на вступление в Лигу Суперпланет.
– И сколько же мужей полагается девушке в Бузенборге?
– Один. Потому мы и носим вуджеты. Мугенвортским все равно кто, лишь бы крепкие были, а нам нет. Когда мой вуджет показал девяносто, я поняла, что мы идеально подходим друг другу, потому и заговорила с тобой. Откуда мне было знать, что ты уже околдован наполовину.
– Допустим, твой вуджет все правильно показал – что тогда?
– Мы бы, конечно, улетели с тобой в Бузенборг. Тебе бы там понравилось, Родж! Наши корпорации пришли бы в восторг от твоего поэзоанализа, ты получил бы хорошую работу, мои старики нам бы дом построили, и мы завели бы… да только придется мне, видно, Эшли взять на замену. Он всего на шестьдесят тянет, но это все-таки лучше, чем ничего.
– И ты в наивности своей веришь, что он после сегодняшнего на тебе женится и полетит с тобой в Бузенборг?
– Придется рискнуть. Я не какая-нибудь богатая музенвортская ведьмочка и свой корабль только на неделю сняла.
Она вновь подняла глаза, и Роджер, как ни вглядывался, не нашел в них обмана. На чем бы ее еще подловить? Испытание астрофизикой и бейсболом она выдержала успешно…
Стоп! Насчет астрофизики это еще вопрос. Если она говорит правду и если ее звездолет в самом деле сверхсветовой, то в рукаве у нее имеется туз, о котором она не знает.
– Знаешь стишок про мисс Брайт?
– Нет…
– Вот он:
Мисс Брайт была очень крутой, Зажигала на сверхсветовой И как-то раз До того увлеклась, Что до старта вернулась домой[20].Бекки я встретил примерно за сутки до встречи с тобой, сидя на этой самой скамейке. Если ты правду говоришь, никакой проблемы я тут не вижу. Тебе нужно только слетать обратно на Альтаир VI и вернуться сюда за сутки до первоначальной посадки. Ты пройдешь мимо моей скамейки, и если твой вуджет стОит больше ломаного никеля, наше чувство будет взаимным.
– Так я создам парадокс, космический сдвиг, – возразила Алайна. – Как только я наберу необходимую скорость – бзззззз! Ты, я и всё остальное в космосе будет отброшено к началу парадокса, не помня, что произошло за последние пару дней. Как будто ты со мной никогда не встречался…
– И с Бекки тоже. Чего же тебе еще?
– А знаешь, это может сработать, – задумчиво протянула она. – Как если бы Апарисио украл первую базу. До фермы автобусом я доеду примерно за час, и если поставить гроджель на скачок-2, а борк…
– Слушай, хватит уже!
– Тихо. Я думаю.
– Ну и думай себе, а я пойду готовиться к свиданию с Бекки.
Он достал свой лучший костюм, не спеша принял душ, побрился, оделся. Потом взял напрокат машину и без одной минуты два подкатил к дому Бекки. Она открыла ему дверь в одном махровом полотенце и трех – нет, четырех – браслетах.
– Привет, Роджер, заходи.
Он занес ногу через порог и… бззззззззз!
Сидя в парке в то июньское утро, в пятницу, Роджер Томпсон даже представить не мог, что его холостяцкой жизни приходит конец. У него могло бы возникнуть такое подозрение при виде блондиночки в голубом платье, но о сопряженных с этим искривлениях времени и пространства он, конечно же, не догадывался.
Сев на другом конце скамейки, блондинка записала что-то в красную книжечку, взглянула на свои часики, вздрогнула и перевела взгляд на Роджера.
Он, ответив ей тем же, увидел россыпь золотистых веснушек, глаза цвета синей птицы и ротик оттенка листьев сумаха после первого заморозка.
Идущую по дорожке высокую брюнетку в облегающем красном платье он даже и не заметил бы, но тут ее высокий каблук попал в трещину и застрял. Она вынула ногу, вытащила туфлю, снова обулась, злобно посмотрела на Роджера и пошла дальше.
Блондинка вернулась к своим записям, и сердце Роджера проделало антраша.
– Не зкажете, как пифецца «матримониальный»? – спросила она.
Чаша тьмы Перевод Н. Виленской
Ты путешествуешь по улице дураков, говорила Лора, когда он пил, – и права была. Он и тогда знал, что она права, но смеялся над ее страхами и шел себе дальше, пока не споткнулся и не упал. После этого он долго не навещал знакомую улицу. Лучше всего было бы совсем о ней позабыть, но однажды он снова свернул на нее и встретил ту девушку. На улице дураков, помимо спиртного, и женщины есть.
Он гулял по этой улице в самых разных городах и вот увидел еще одну. Улица дураков никогда не меняется и ничем не отличается от других, где бы ты ни был. Те же убогие вывески с рекламами пива в витринах, те же алкаши с бутылками мускателя на тротуарах. И участок, куда тебя заметут, когда свалишься, будет точно такой же. А если небо здесь темнее обычного, так это потому, что дождь зарядил с утра.
Крис зашел в очередной бар и на последний четвертак заказал вина, не сразу заметив вошедшего следом за ним человека. Неведомая прежде жажда снедала его. Он жадно осушил бокал, наполненный барменом, и только теперь разглядел того, кто стоял с ним рядом.
Человек был худ – так худ, что казался выше своего настоящего роста. Бледный, с налитыми невообразимой болью глазами. Двигался он, как ожившая статуя. Радужные капли дождя переливались на его сером плаще, падали с полей черной шляпы.
– Добрый вечер, – сказал он. – Можно вас угостить?
Крис на один мучительный момент увидел себя его глазами: худое нервное лицо в сетке лопнувших сосудов, прилипшие к черепу волосы, мокрое поношенное пальто, мокрая дырявая обувь. Увидел и на миг онемел, но жажда ответила за него.
– Само собой, – сказал Крис и стукнул пустым бокалом по стойке.
– Не здесь, – произнес тощий. – Пойдемте со мной.
Крис вышел с ним на улицу. Его шатнуло, и тощий взял его под руку.
– Тут недалеко. Вот сюда, в переулок… и вниз по лестнице.
Они очутились в длинной серой комнате, тускло освещенной, сырой. Серолицый бармен, неподвижно застывший за стойкой, налил им обоим из пыльной бутылки.
– Сколько с нас? – спросил тощий.
– Тридцать.
Тощий отсчитал деньги.
– Можно бы и не спрашивать. Всегда тридцать, куда ни зайдешь. Тридцать дней, тридцать месяцев, тридцать тысяч лет. – Он поднес к губам свой бокал.
Крис последовал его примеру. Бокал был такой холодный, что пальцы онемели, а содержимое оледенило нутро. Крис выпил все до дна. В памяти всплыло застрявшее когда-то четверостишие, и он понял, кто такой его спутник.
Когда твой ангел за тобой придет И чашу тьмы учтиво поднесет, Пей не ропща и знай, что в этом мире Грехам твоим и дням окончен счет.Ледяные волны нахлынули на него, и тьма сомкнулась вокруг.
«Я умер! – повторяло хриплое эхо в его мозгу. – Умер… умер… умер». В конце концов Крис осознал, что это его собственный голос. Он приоткрыл глаза, увидел равнину под звездным небом, сияющую гору вдали и тут же снова зажмурился.
– Открой глаза, – сказал тощий, – нам еще далеко идти.
Крис нехотя подчинился. Тощий стоял, пожирая глазами дальнюю гору.
– Где мы? Скажи, ради бога!
– Следуй за мной, – приказал тощий, не отвечая.
Крис последовал. Он чувствовал, что здесь очень холодно, но пара от дыхания не наблюдал. Конечно – откуда возьмется пар, если он не дышит. Как и его вожатый.
Равнина преображалась то в детскую площадку, то в озеро, то в окоп, то в летнюю улицу. Крис узнавал все эти места. На площадке он играл ребенком, на озере рыбачил, в окопе едва не погиб, по улице ездил на свою первую послевоенную работу. Теперь он снова переживал все это: играл, рыбачил, плавал, истекал кровью, сидел на рулем.
Возможно ли после смерти управлять временем, чтобы возвращаться в нужные периоды прошлого? Он попытается. Прошлое определенно предпочтительней настоящего, но куда бы ему вернуться? В самое дорогое, конечно, в день встречи с Лорой. Лора, твердил он в уме, пробиваясь назад через часы, месяцы, годы.
– Лора! – выкрикнул он в ночь, и равнина стала солнечной улицей.
Они с Минелли, получив после караульного наряда увольнительную на двенадцать часов, отправились в Ниагара-Фолс. Был золотой октябрьский день в самом начале войны, они только что завершили начальную подготовку, обоих произвели в капралы – новенькие шевроны красовались у них на рукавах и отсвечивали в глазах.
Две девушки в переполненном баре потягивали имбирный эль. Минелли мигом засек их и нацелился на темненькую, которая Крису тоже понравилась. Ее подружка, круглолицая блондинка, была вовсе не в его вкусе. Хоть бы Минелли отвязался от нее, думал он – допьем свое пиво да и пойдем.
Но Минелли не сдавался и уже втиснулся на сиденье рядом с объектом. Крису ничего не оставалось, как подойти. Блондинку звали Патрисия, темненькую Лора.
Они погуляли, посмотрели на водопад, перешли на Гоут-Айленд. Лора была на пару дюймов выше Минелли, а хрупкость еще прибавляла ей роста. Рядом они смотрелись довольно нелепо. Минелли как будто не возражал, но Лора явно испытывала неловкость и постоянно оглядывалась на Криса.
Вскоре она начала говорить, что им с Пат пора домой. Девушки приехали в Фолс на уикенд и остановились в дешевом пансионе на главной улице. Господи, наконец-то, подумал Крис. Караульная служба всегда его утомляла, он так и не привык к двухчасовым пересменкам. Но Минелли не хотел отпускать девушек и уговорил их поужинать вместе. Парни ждали на крыльце, пока они прихорашивались. Выйдя, Лора тут же подошла к Крису и взяла его под руку.
Он опешил, но быстро опомнился, и они с Лорой пошли вперед, а Минелли и Пат за ними.
– Это ведь ничего? – прошептала она ему на ухо. – По-моему, так будет гораздо лучше.
– Гораздо лучше, – подтвердил он.
И точно: его усталость прошла бесследно. Глядя на Лору в профиль, он заметил, что лицо у нее совсем не такое худое, как ему показалось, а вздернутый носик только придает ей пикантности.
После ужина они вчетвером вернулись к Американскому водопаду. Настала ночь, взошли звезды. Крис с Лорой сидели на уединенной скамейке, соприкасаясь плечами, и слушали неумолчный рокот воды. В прохладном воздухе реяла ледяная водная пыль. Крис, предполагая, что Лора тоже замерзла, обнял ее за плечи, она прижалась к нему. Повернув голову, он нежно поцеловал ее в губы, зная, что никогда не забудет этого в общем-то невинного поцелуя. Прощаясь на крыльце пансиона, они снова поцеловались, и Лора дала ему свой адрес.
– Я напишу, – пообещал он.
– Я тоже. Каждый день буду тебе писать.
Каждый день, повторяла равнина. Каждый день, пульсировали звезды. Буду писать тебе каждый день.
И писала ведь! Прислала ему целую кучу писем, как и он ей. Они поженились за неделю до его отправки за океан, он воевал, она ждала, и все это время они писали, писали, писали. Дорогой Крис, Дорогая Лора и так далее, и так далее. Когда он наконец сошел с автобуса в ее городке и увидел ее на платформе, они оба заплакали. Годы лишений и ожидания слились в одно золотое мгновение, от которого теперь ничего не осталось.
Ничего, повторяла равнина. Ничего, пульсировали звезды. Ничего не осталось от твоего золотого мгновения.
Прошлое представлялось Крису улицей, вдоль которой вместо зданий стоят дни и часы – можно открыть любую дверь и войти. Привилегия мертвеца, а может, проклятие: что от них теперь толку, от этих часов?
На этот раз он зашел в бар к Эрни и выпил пиво, заказанное четырнадцать лет назад.
– Как там Лора? – спросил Эрни.
– Отлично.
– А маленький Крис?
– Тоже. В следующем месяце годик исполнится.
Он открыл еще одну дверь, вошел в кухню, поцеловал в затылок Лору, стоящую у плиты.
– Осторожно! – вскричала она в комическом ужасе. – Я чуть соус не пролила!
Следующая дверь – опять Эрни, лучше ее закрыть. Может, вот в эту? Бар, набитый орущей толпой, бумажные гирлянды, воздушные шарики. Крис прижег подвернувшийся шарик сигаретой, поднял стакан.
– С Новым годом! – Грустная Лора сидела за угловым столиком. Он схватил ее за руку, поднял на ноги. – Да все в порядке, чего ты! Когда ж и погулять, как не в Новый год!
– Ты же говорил, милый…
– Говорил, что брошу, и брошу. Завтра. – Его шатнуло, но он выдал это за танцевальное па. – С Новым годом, детка!
– С Новым годом, милый. – Она поцеловала его в щеку, и он заметил, что она плакала.
Он вывалился из бара обратно в полярную ночь. С Новым годом, повторяла равнина. С Новым годом, пульсировали звезды. Забыть ли старую любовь и не грустить о ней…[21] Вожатый неумолимо шагал вперед, сияющая гора занимала уже полнеба. С горя Крис открыл еще одну дверь.
Он сидел за кабинетным столом напротив седого человека в белом халате.
– Взгляните на это вот под каким углом, – говорил тот. – Вы только что выздоровели после долгой болезни, но иммунитета против нее у вас нет – поэтому вы должны избегать любых контактов с вызывающим ее вирусом. У вас низкий алкогольный порог, Крис, и пресловутой первой рюмки вам следует опасаться больше, чем среднему запойному пьянице. Кроме того, ваше второе, алкогольное «я» диаметрально противоположно первому и не желает считаться с реальностью. Оно уже проявило себя так, как и не снилось вам настоящему, и может выкинуть такое, что разрушит всю вашу жизнь. Очень вас прошу, Крис: держите его в руках. Ну вот и всё – до свидания и удачи. Рад, что мы сумели так хорошо вам помочь.
Крис знал, что ждет его за следующей дверью, и не хотел ее открывать. Но она открылась сама по себе, и он помимо воли переступил ее темный порог.
Они с Лорой выгружали из машины пятничные покупки. Стояло лето, на бархатном небе блестели звезды. Он устал, как и следовало ожидать в конце рабочей недели, но напряжение после трех месяцев трезвости пересиливало усталость. Пятница давалась ему особенно тяжело. Вечер пятницы он всегда проводил у Эрни, и если одна его половина помнила, как погано ему бывало в субботу, то другая тосковала по кратковременной эйфории – прекрасно зная, что эйфория эта граничит с животной распущенностью.
Пакет, который он нес, порвался, картошка раскатилась по всему дворику.
– Черт! – Крис, опустившись на колени, стал ее собирать. Одна вредная картофелина понеслась по дорожке, отскочила от трехколесного велосипеда сынишки, закатилась под заднее крыльцо. Он полез за ней и наткнулся на что-то гладкое. Надо же… весной после субботней пьянки он там заначил бутылку виски и совсем про нее забыл.
Бутылка мерцала при свете звезд, сырой земляной холодок проникал в колени. Один глоточек, молила вторая его половина. Только один.
Нет, ответил он. Ни за что. Да, вопили натянутые нервы. Что тебе будет с одного-то глотка? Давай быстро, пакет недаром порвался, это судьба… Пальцы сами собой открутили крышку.
Лора, высокая и стройная, стояла в дверях патио на фоне освещенной гостиной. Он продолжал собирать картошку, и жена, увидев, в чем дело, засмеялась и стала ему помогать, а потом пошла к живущей неподалеку сестре за маленьким Крисом. Когда она вернулась, бутылка опустела наполовину, и Крис расслабился.
Дождавшись, когда она пойдет укладывать сына, он сел за руль и поехал в город.
– Привет, Крис, – удивился Эрни. – Что тебе налить?
– Стопарик и пиво.
На другом конце стойки сидела высокая блондинка с голубыми, как горные озера, глазами. В ее ответном взгляде читался холодный расчет. Виски придало Крису храбрости, только что выпитый ерш добавил. Он сел на табурет рядом с девушкой.
– Выпьете со мной?
– Конечно, почему бы и нет.
Он взмыл орлом над месяцами имбирного эля. Подавленные желания просились наружу, второе «я» выступало на сцену. Он знал, что завтра возненавидит себя, но сегодня любил. Сегодня он бог, перепрыгивающий холмы, шагающий через горы. Он поехал к блондинке домой и вернулся домой под утро, благоухая дешевыми духами. При виде лица Лоры в субботу утром ему захотелось убить себя – и он убил бы, если б не припрятанные полпузыря виски. Заначка спасла его, и он снова пустился в загул.
Масштабный загул получился. Он продал свою машину и вскоре очутился с блондинкой в каких-то меблирашках в Каламазу. Она помогла ему пропить последний доллар, после чего исчезла. К Лоре он больше не вернулся. Прежние его путешествия по улице дураков касались одной только выпивки – теперь он не смог бы смотреть Лоре в глаза. Делать ей больно – одно, растоптать бесповоротно – другое.
Он не вернулся и утюжил улицу дураков годами. Недобрые это были годы: прошлое на поверку оказалось ничем не лучше настоящего.
Сияющая гора нависала над ним. Он готов был принять ее, что бы это ни означало, но ему осталась еще одна дверь, последний горький глоток. Он перешагнул через бездну времени в кабачок на Скул-стрит, допил заказанный шесть лет назад стакан мускателя и подошел к окну.
Среди идущих из школы детей показался мальчик с Лориными глазами. Крис со стиснутым горлом и подернувшимися влагой глазами следил, как он идет мимо, весело болтая с друзьями, размахивая связкой книг и тетрадок. Мальчик прошел и скрылся из глаз. Крис-старший чуть не выскочил наружу с криком: «Это я, Крис! Помнишь меня?» – но дырявые башмаки вовремя напомнили ему о потрепанном костюме, винном перегаре и прочем. Он остался на месте.
– Почему ты не пришел раньше, Ангел Смерти? – крикнул он, вернувшись на ночную равнину. – Почему не явился шесть лет назад, когда я умер по-настоящему?
Вожатый, остановившись у подножья горы, смотрел со щемящей тоской на ее белые как снег склоны.
– Я не Ангел Смерти, – ответил он, повернувшись к Крису.
– Кто же тогда? И куда мы идем?
– Не мы – только ты. Дальше пойдешь один, мне запрещено восхождение.
– А я почему должен взбираться на эту гору?
– Не должен, но будешь. Эта гора и есть смерть, а равнина служит переходом от жизни к ней. Ты возвращался к моментам своего прошлого потому, что настоящее для тебя отныне существует лишь символически. Отказавшись от восхождения, ты так и будешь к ним возвращаться.
– Но что меня ждет на вершине?
– Я знаю только одно: что бы там ни было, оно милосердней того, что ты когда-либо найдешь на равнине.
– Скажи, кто ты.
Вожатый сгорбился, словно под тяжкой ношей.
– Этому нет названия. Я скиталец, обреченный вечно странствовать по равнине. Иногда я возвращаюсь в мир живых, и умираю в очередной трущобе вместе с кем-то другим, и делю с ним его прошлое, и прибавляю его страдания к своим собственным. Я изучил много языков, приобрел много знаний и могу свободно перемещаться в минувшем. Ты хорошо меня знаешь.
Крис вгляделся в тонкое лицо, в страдальческие глаза.
– Я не знаю тебя.
– Знаешь, но лишь понаслышке. Историк не может описать, а художник изобразить того, кого никогда не видел. Не заботься о том, кто я – думай о том, как вернуться к жизни.
– А разве это возможно? – встрепенулся Крис.
– Возможно, но мало кому удавалось. Сейчас ты способен вернуться в любой момент своей жизни, но если ты, делая это, ничего не меняешь в прошлом, дата твоей смерти тоже останется неизменной.
– Не понимаю…
– У каждого человека в жизни бывают критические моменты, когда приходится выбирать между одним и другим. Далеко не все сознают, что выбор такого рода определяет всю их дальнейшую жизнь. Человеку, который ускорил свою смерть, сделав неправильный выбор, дается возможность вернуться в нужный момент и принять другое решение, но для этого нужно знать, в какой именно момент ты должен вернуться.
– Я знаю, в какой. Я…
Вожатый поднял руку.
– Я тоже знаю, поскольку пережил его вместе с тобой. Ты действительно ускорил свою смерть, потому что умер от алкогольного отравления. Дело, однако, в том, что человек, возвращаясь в прошлое, автоматически утрачивает память о будущем. Ты уже дважды делал неверный выбор – что будет, если ты вернешься туда опять? Не предашь ли ты снова жену и сына?
– Я попытаюсь – а если не выйдет, буду пробовать еще и еще.
– Что ж, попытайся, но не надейся особенно. Я возвращался в свой критический момент много раз. Не затем, чтобы отложить свою смерть – с этим я опоздал. Я хотел лишь уйти с равнины, но не сумел ни на йоту ничего изменить. О моем моменте и его последствиях знают все, но у тебя другой случай. Пытайся же! Восстанови в памяти обстановку, вспомни, что тогда чувствовал, и лишь потом открой дверь. На этот раз я буду присутствовать там не через тебя, а отдельно. Я тоже не буду помнить о будущем, но если ты воспримешь меня символически, как теперь, я тебе помогу. Мне не нужны твои муки, довольно, что мучаюсь я и все прочие грешники.
Момент, обстановка, что чувствовал… господи боже.
Летняя ночь. Звезды блестят на темном бархате неба. Я подъезжаю к своему дому, к своей крепости, где я в безопасности, где меня любят. Из окон льется свет. Рядом со мной моя жена, сейчас мы занесем в дом покупки. Она высокая, стройная, темноволосая, с добрыми глазами и нежной улыбкой. Ночь теплая, звезды смотрят ласково, и на душе у меня тепло.
Пакет, который он нес, порвался, картошка раскатилась по всему дворику.
– Черт! – Крис, опустившись на колени, стал ее собирать. Одна вредная картофелина понеслась по дорожке, отскочила от трехколесного велосипеда сынишки, закатилась под заднее крыльцо. Он полез за ней и наткнулся на что-то гладкое. Надо же… весной после субботней пьянки он там заначил бутылку виски и совсем про нее забыл.
Бутылка мерцала при свете звезд, сырой земляной холодок проникал в колени. Один глоточек, молила вторая его половина. Только один.
Нет, ответил он. Ни за что. Да, вопили натянутые нервы. Что тебе будет с одного-то глотка? Давай быстро, пакет недаром порвался, это судьба… Пальцы сами собой открутили крышку, он поднес бутылку к губам… и увидел человека, неподвижно стоящего поодаль. Бледного, с полными боли глазами. Человек не говорил ни слова, просто стоял, но подувший неведомо откуда ледяной ветер выпил ночное тепло. Давно забытые строки скатились с чердачной лестницы и выстроились на самом пороге:
Когда твой ангел за тобой придет И чашу тьмы учтиво поднесет, Пей не ропща и знай, что в этом мире Грехам твоим и дням окончен счет.– Нет! Не сейчас! – Крис вылил виски на землю, зашвырнул бутылку в кусты и посмотрел туда, где стоял незнакомец, но того уже не было.
Дрожа всем телом, Крис встал. Ледяного ветра как не бывало, тепло вновь окружало его. Нетвердыми ногами он поднялся по ступенькам в патио. Лора, высокая и стройная, стояла в дверях на фоне освещенной гостиной. Добрые глаза, нежная улыбка – бокал сладостного вина на стойке уютной ночи.
Крис осушил его залпом. Лора, увидев рассыпанную картошку, засмеялась и вышла помочь.
– Потом, – сказал он и поцеловал ее – не робко, как тогда в Фолс, а жадно. Так целует жену мужчина, осознав внезапно, как много она для него значит.
Она посмотрела ему в глаза и сказала со своей милой улыбкой:
– Да… картошка может и подождать.
Вожатый Криса переступил через бездну лет и возобновил свое странствие под холодными звездами. Успех ободрил его – быть может, он и свое прошлое сможет наконец изменить.
Восстанови в памяти обстановку, вспомни, что тогда чувствовал, и лишь потом открой дверь.
Весна. Таинственные небесные пастбища усеяны звездами. Я иду по извилистым улочкам. Ветерок приносит с полей аромат новых всходов, где-то в земляной печи печется маца. Передо мной вырастает храм, я вхожу и жду у каменного стола. Вот и первосвященник.
Первосвященник высыпал на стол кожаный кошелек.
– Сочти.
Он дрожащими пальцами пересчитал монеты. Они звякали, падая назад в кошелек. Сбросив туда последнюю, он затянул тесемки и спрятал кошель за пазуху.
– Ровно тридцать?
– Да. Тридцать.
– Значит, договорились?
Он кивнул в сотый, тысячный, миллионный раз.
– Да. Пойдем, я провожу вас к нему. Кого поцелую, того и берите. Он за городом, в Гефсиманском саду.
На реке Перевод Г. Весниной
Фаррел уже решил, что, кроме него, на этой Реке никого нет, и тут увидел девушку. Он плыл вниз по течению уже два дня, два – конечно же, по речному времени. Он не знал, откуда к нему пришло это знание, но почему-то был уверен, что время на Реке имеет очень мало общего с реальным. Здесь тоже были свои дни и ночи, и от рассвета до рассвета протекало двадцать четыре часа, но была неуловимая разница между тем, как он ощущал время раньше, и тем, как воспринимал его сейчас.
Девушка стояла у самой кромки воды и размахивала крошечным носовым платком; вероятно, хотела, чтобы он пристал к берегу. Фаррел с усилием вывел плот из плотного течения на мелководье и остановил в нескольких ярдах от берега, почти касаясь дна. Налег на шест, удерживая плот на месте, и вскинул на девушку вопросительный взгляд.
Вопреки ожиданиям, девушка была прехорошенькой. Хотя какой же ей быть, если она – плод его воображения? А если нет, то с чего он взял, будто и ей расхотелось жить накануне тридцатилетия? Только потому, что он сам устал от жизни, дожив до своих тридцати?
Коротко стриженные волосы девушки были почти такие же яркие, как подсвеченный полуденным солнцем песок, на котором она стояла; на переносице и по бокам точеного носика рассыпались нежные веснушки. Фаррел с одобрением отметил довольно высокую гибкую фигуру и голубые глаза.
– Нельзя ли мне присоединиться к вам? – спросила девушка, когда он приблизил к ней плот на расстояние всего нескольких ярдов. – Мой плот развалился сегодня ночью и уплыл вниз по реке; и вот уже с самого рассвета я иду вдоль берега. Вы – первый, кого я встретила.
Желтое платье девушки изрядно поистрепалось, да и легкие сандалии на ремешках, похоже, доживали последние дни.
– Пожалуйста, – сказал он. – Только вам придется пройти по воде, я не смогу подвести плот к самому берегу.
– Ничего страшного, – сказала девушка и вошла в воду – в этом месте она доходила ей почти до колен.
Фаррел помог незнакомке забраться на плот и, сильно оттолкнувшись шестом, вернул его в русло. Девушка тряхнула головой – так, словно когда-то у нее были длинные волосы, и она хотела, чтобы они развевались на ветру, позабыв о том, что отрезала их.
– Меня зовут Джил Николс, – сказала она. – Хотя не знаю – имеет ли это значение?
– Фаррел, – представился он. – Клиффорд Фаррел.
Девушка опустилась на плот, разулась и стянула чулки. Отложив шест, он сел напротив, в нескольких футах от нее.
– Вот уж не думал, что кто-то еще решил совершить это путешествие, – сказал он.
Холодноватый ветер дул против течения, и она снова подставила ему лицо – словно ожидая, что волосы будут струиться в его потоках. Ветер старался изо всех сил, но только и смог, что растрепать короткие завитки, обрамлявшие бледный лоб.
– Я тоже не думала встретить кого-то на этой реке.
– Мне казалось, что по-другому и быть не может: ведь эта река родилась в моем воображении. Но, видимо, ошибался, – если только и вас я тоже не выдумал.
Слабая улыбка тронула губы девушки.
– У меня тоже есть подозрение, что я придумала вас.
Он улыбнулся в ответ. Прошла целая вечность с тех пор, как он улыбался в последний раз.
– Возможно, Река – всего лишь аллегория, созданная нашим воображением. Возможно, мы просто одинаково представляли себе это: что будем плыть по течению темно-бурой реки, по обеим сторонам которой будут деревья, а над ней – голубое небо. Вы так это видели?
– Да, – сказала она. – Я всегда думала, что когда придет время, все будет именно так.
Он вдруг осознал истинный смысл ее слов.
– Я правильно понимаю, что вы сами сделали выбор? Лично я оказался здесь добровольно.
– Да, – подтвердила девушка. – Я тоже приняла решение сама.
– Так, может, из этого следует, что два человека, одновременно представив себе некую аллегорию, могут сделать ее реальностью? Что, если мы с вами, сами того не ведая, на протяжении всех этих лет создавали Реку?
– А потом, когда время пришло, перенеслись на нее, – подхватила она. – Но где она – наша Река? Ведь мы уже не можем быть на Земле.
– Кто знает? У реальности множество граней. Возможно, сейчас мы видим одну из них… Вы давно здесь?
– Чуть больше двух дней. Я потеряла счет времени, когда пришлось идти пешком.
– Я тоже почти два дня, – прикинул Фаррел.
– Значит, я первая решила покон… первая отправилась в путь, – проговорила Джил. Она отжала чулки и разложила их сушиться. Рядом поставила мокрые сандалии и какое-то время смотрела на них.
– Забавно, что даже сейчас мы продолжаем заботиться о таких мелочах, – сказала она. – Ведь мне должно быть совершенно безразлично, что у меня мокрые чулки и обувь.
– Мы остаемся рабами своих привычек, – предположил Фаррел. – И, видимо, близость конца ничего не меняет. Вчера вечером, остановившись на ночь в гостинице, я увидел электробритву и зачем-то побрился.
Она усмехнулась.
– Вчера вечером я тоже остановилась в гостинице и зачем-то приняла ванну. Потом хотела уложить волосы, но подумала, что это бессмысленно. А теперь у меня, наверное, ужасно растрепанный вид.
Фаррел мысленно согласился, но не стал говорить ей этого – так же, как не стал галантно отрицать этот факт.
Время и место совершенно не соответствовали их разговору. Мимо проплыл небольшой островок. На Реке все время попадались такие острова – по большей части крошечные площадки, покрытые галькой и песком, и на каждом всегда росло хотя бы одно дерево. Фаррел взглянул на девушку. Интересно, она тоже заметила остров? Похоже, что да.
И все же сомнения не покидали его. Ну невозможно было поверить, что два совершенно незнакомых человека могли так ярко представить себе аллегорию расставания с жизнью, что она стала неотличимой от реальности! И еще труднее было поверить в то, что оба этих человека смогли одновременно влиться в нарисованную иллюзию и встретиться в ней – в первый и единственный раз.
И как ни странно, все в этом мире кажется абсолютно реальным. Он видит, дышит, может испытывать радость и боль. Он видит перед собой Реку, хотя точно знает, что в реальности ее не существует, и в настоящий момент он находится совсем в другом месте. Он просто физически не может быть на Реке, потому что там, на другой – настоящей – грани реальности, он сидит в машине с включенным мотором в своем гараже. И двери гаража крепко заперты.
И в это же самое время каким-то немыслимым образом он находится здесь, на Реке, на плоту, который он не покупал и не строил, и о существовании которого даже не подозревал до тех пор, пока два дня назад не обнаружил себя сидящим на бревнах. Или то было два часа назад? Две минуты? Секунды?
Нет, этого он не смог бы сказать. Он знал только одно: по его прикидкам он оказался на Реке примерно сорок восемь часов назад. Половину этого времени он провел в пути и столько же – в безлюдных гостиницах. Первую он обнаружил на берегу Реки к концу первого дня, вторую – на исходе второго.
У Реки имелась еще одна странность – по ней нельзя было плыть по ночам. И вовсе не потому, что она погружалась во тьму (хотя тьма, конечно, создавала бы трудности), – проблема была в том, что в нем самом возникало сильнейшее сопротивление, которое он никак не мог одолеть. В этом чувстве смешивались страх и желание прекратить этот путь. Отдохнуть. Обрести покой. Зачем? – удивился он. Ведь покой – окончательный, вечный – он обретет как раз там, куда его доставит Река. И разве небытие не есть идеальное воплощение покоя?
– Вечереет, – заметила Джил. – Скоро должна появиться гостиница.
Чулки и сандалии высохли, и она снова надела их.
– Тогда давайте так: я буду высматривать по правому берегу, а вы наблюдайте за левым.
Гостиница оказалась на правой стороне, почти у самой воды. Небольшой пирс вдавался в воду на дюжину футов. Фаррел пришвартовался, привязав трос к причалу, и, ступив на дощатый настил, помог сойти Джил.
Насколько он мог судить, гостиница ничем не отличалась от тех, в которых он провел две минувшие ночи, – во всяком случае, на первый взгляд. Квадратная, трехэтажная, с ровными прямоугольниками окон, отливающих золотом в сгущающихся сумерках. Внутри гостиница тоже была почти такой же, как две предыдущие, за исключением совсем небольших изменений – здесь, видимо, поработала фантазия Джил. Небольшой холл, бар и просторная столовая; винтовая лестница из полированного клена, ведущая на второй и третий этажи; и всюду электрические лампы, стилизованные под свечи и фонари «летучая мышь».
– Похоже, у нас с вами общая страсть к американскому колониальному стилю, – сказал, осмотревшись, Фаррел.
– У нас вообще много общего, – рассмеялась Джил.
– А вот с этой штуковиной чувство стиля кому-то из нас изменило, – сказал Фаррел, указывая на музыкальный автомат в дальнем углу столовой.
– Это моя вина, – призналась Джил. – Точно такой же был в моих гостиницах.
– Похоже, гостиницы исчезают, как только мы уплываем вниз по Реке. Во всяком случае, ваших я не видел… не перестаю удивляться: неужели все это создано нашим воображением? Вероятно, в тот момент, когда мы ум… когда мы уйдем, все это сразу исчезнет. Разумеется, если принять как данность, что все это действительно существует и может исчезнуть в принципе.
Джил приблизилась к одному из столиков. Он был накрыт безупречно чистой льняной скатертью и сервирован на двоих. Возле каждого прибора горела настоящая свеча в серебряном подсвечнике – настоящая настолько, насколько что-то могло быть настоящим в этом странном мире.
– Интересно, что будет у нас на ужин, – сказала девушка.
– Наверное, то, что мы любим больше всего, – выразил надежду Фаррел. – Например, вчера я мечтал о курице в хрустящей корочке, жаренной по-южному, и именно жареная курица по-южному поджидала меня на столе.
– Забавно, что все эти чудеса происходят по нашей воле, – заметила Джил и добавила: – Я бы, пожалуй, приняла душ. И привела себя в порядок.
– Хорошая мысль.
Они выбрали комнаты по разные стороны холла. Фаррел спустился в столовую первым. За время его отсутствия на столике появились два подноса, накрытые салфетками, и серебряный кофейный сервиз. Он с трудом представлял, каким образом все это могло здесь возникнуть, да, по правде говоря, не очень-то и пытался. После горячего душа его охватило блаженное мечтательное состояние. Он почувствовал, что проголодался, притом что реальность этого чувства тоже вызывала сомнения – как и еда, которая должна была удовлетворить его аппетит. «Да какая мне разница, в конце-то концов?» – подумал Фаррел и перешел в бар.
Там он налил себе полпинты пива и с жадностью выпил. Пиво оказалось холодным и терпким: в самый раз – то, что надо. Вернувшись в столовую, он увидел, что Джил уже спустилась и ждет его в дверях холла. Она, как могла, залатала свое желтое платье и почистила обувь, чуть тронула помадой губы и подрумянила щеки. Фаррел вдруг понял, что она потрясающе красивая женщина.
Когда они сели за стол, свет в комнате стал приглушенным, из автомата полилась приятная тихая музыка. Вдобавок к двум подносам с едой и кофейному сервизу волшебная скатерть материализовала тонкие голубые чашки и тарелку с аппетитными итальянскими закусками. В мерцающих отблесках свечей Джил разлила кофе по чашкам, добавила сахар и сливки. Потом «заказала» себе сладкий картофель и копченый виргинский окорок, а Фаррел выбрал стейк с картофелем фри.
Звуки музыки разливались по комнате, пламя свечей чуть подрагивало в едва уловимых потоках воздуха, просачивавшихся сквозь щели в стенах. Когда они покончили с едой, Фаррел сходил в бар за бокалами и шампанским. Разлив вино, чокнулся с Джил:
– За первый день знакомства.
Потом они танцевали в пустом просторном зале. Джил казалась невесомой, как летний ветер.
– Вы профессионально занимаетесь танцами? – спросил он.
– Занималась.
Он помолчал. Все было, будто во сне – потусторонняя музыка, мягкий свет и бледные тени.
– А я был художником, – сказал он после долгого молчания. – Из тех, что не в состоянии продать свои картины и живут вечной надеждой на будущее признание… Поначалу я был абсолютно уверен, что смогу зарабатывать живописью, но в какой-то момент осознал, что заработка едва хватает на порцию картофельного пюре. Иллюзии развеялись… однако на Реке я совсем по другой причине.
– А я танцевала в клубах. Не стриптиз, конечно, но и приличными эти танцы не назовешь.
– Вы замужем?
– Нет. А вы женаты?
– Да, – улыбнулся он, – на своей работе. Правда, и с ней мы уже в разводе. С тех пор, как я взялся оформлять визитные карточки.
– Забавно, – сказала она. – Ну никогда бы не подумала, что это будет вот так. Встреча со Смертью. Всякий раз, когда я представляла себя на Реке, я думала, что буду на ней одна.
– Я тоже, – сказал Фаррел. – А где вы жили, Джил?
– В Рэпидс-Сити.
– Хм, так ведь и я там живу. Возможно, поэтому Провидение и свело нас здесь, в этом странном месте. Жаль, что я не встретил вас раньше.
– Зато вы встретили меня здесь. А я встретила вас.
– В самом деле – это лучше, чем если бы мы совсем не узнали друг друга.
Какое-то время они молча танцевали. Гостиница спала и видела сны. За окном, во мраке, под звездами, которые не имели права там находиться, несла свои воды Река – задумчивая и темная.
Когда вальс закончился, Джил сказала:
– Наверное, можно сказать, что и день закончился, верно?
– Думаю, да, – сказал он, глядя ей в глаза. – И завтра будет утро. Я знаю, что проснусь на рассвете, здесь я все время встаю с рассветом. А вы?
– Я тоже, – кивнула она. – Это часть здешней жизни – просыпаться с рассветом. Как и шум водопада.
Он поцеловал ее. Джил замерла на мгновение, потом отстранилась.
– Спокойной ночи, – сказала она и торопливо вышла из комнаты.
– Спокойной ночи, – прозвучало ей вслед.
Он постоял в опустевшей комнате; теперь, когда Джил ушла, музыка смолкла и лампы горели холодным ярким светом. Снова стал слышен шепот Реки, навевавший тысячу и одну печальную мысль. Часть этих мыслей принадлежала ему, а другая часть – Джил.
Он поднялся наверх, остановился у двери Джил, хотел постучать… и опустил руку. Он просто стоял, прислушиваясь к звукам легких шагов, шелесту платья и приглушенному скрипу пружин. А за стеной по-прежнему раздавался печальный шепот Реки.
Фаррел еще немного помедлил и пошел в свою комнату. Любить в присутствии Смерти возможно, но – заниматься любовью?..
К утру шум Реки усилился. На завтрак невидимая прислуга приготовила им яичницу с беконом, тосты и кофе. В предрассветном сумраке прозвучали серые бесцветные фразы. С восходом солнца они тронулись в путь, и вскоре гостиница оказалась далеко позади.
После полудня послышался шум водопада. Сначала это был тихий рокот, однако с каждой секундой он становился все громче и громче, река в этом месте сузилась и вилась тонкой лентой меж серых угрюмых скал. Джил придвинулась ближе к Фаррелу, и Фаррел взял ее за руку. Плот нырял в разные стороны, минуя пороги, то и дело возникавшие перед ними по прихоти Реки. Она швыряла в них ледяные волны, но бурные воды не могли опрокинуть плот – Смерть ждала их не здесь, на порогах, а впереди – там, где ревел водопад.
Фаррел не отрывал взгляда от Джил. Она смотрела прямо перед собой, словно не замечая опасности, словно для нее не существовало ничего, кроме них двоих.
Фаррел не ожидал, что смерть наступит так скоро. Теперь, когда он встретился с Джил, ему вдруг показалось, что судьба отсрочит исполнение приговора. Тем тяжелее было осознать, что чудесное избавление не входит в правила игры. Но разве смерть – не то, к чему они оба стремились? И странная встреча в этом странном мире ничего не меняет – ни для него, ни для нее. Внезапная мысль пронзила его, и, перекрывая рев водопада и волн, он вдруг прокричал:
– Как ты это сделала, Джил?
– Открыла газ, – ответила она. – А ты?
– Закрылся в гараже с включенным мотором.
Больше они не проронили ни слова.
Ближе к вечеру Река стала шире, а отвесные скалы сменились пологими склонами. Вдали от берега показались холмы, и даже небо стало голубее. Они знали, что где-то там, впереди, их по-прежнему ждет водопад, но сейчас его голос звучал тише. Возможно, это все же не последний их день.
Точно не последний. Фаррел понял это сразу, как только увидел гостиницу. Она возникла на левом берегу перед самым заходом солнца. Течение здесь было сильным и быстрым, и им понадобились совместные усилия, чтобы пришвартоваться у небольшого пирса. Задохнувшиеся, в насквозь промокшей одежде, они прижались друг к другу и так стояли какое-то время, пока не восстановилось дыхание. Потом молча вошли в гостиницу. В доме их сразу окутало теплом, и они с благодарностью окунулись в него. Выбрав себе комнаты на втором этаже, наспех привели себя в порядок, подсушили одежду и снова встретились в столовой. Джил заказала ростбиф, Фаррел – корейку с запеченным картофелем. Он никогда в жизни не ел ничего вкуснее и никогда еще не испытывал такого наслаждения от еды. Господи, как хорошо жить!
Потрясенный этой мыслью, он уставился в пустую тарелку. Жить? Тогда зачем он сидит в запертом гараже, в машине с включенным мотором? Зачем ему тогда умирать? Что он делает здесь, на Реке? Он поднял взгляд на Джил. В ее глазах застыло такое же выражение; он видел, что все предстало для нее в новом свете, и знал, что это из-за него, точно так же, как для него все изменила она.
– Почему ты это сделала, Джил?
Она опустила взгляд.
– Я говорила тебе, что танцевала в клубах. Непристойные танцы. Не стриптиз – в общепринятом понимании слова. Есть девушки, которые делают и более ужасные вещи, но для меня и этого оказалось достаточно. Ради этих танцев мне приходилось вытаскивать из себя такое, о чем я даже подумать не могла. В конце концов я поняла, что больше не могу продолжать заниматься этим, и сбежала, а спустя какое-то время подалась в монастырь.
Она помолчала, потом снова заговорила, глядя ему в лицо:
– Когда я танцевала, у меня были очень длинные волосы, и на этом был построен весь номер – вернее, самая скромная его часть. Я укрывалась волосами как плащом, это было единственное, что позволяло мне сохранить остатки самоуважения. А когда мне пришлось их отрезать, я вдруг почувствовала, что не могу принять себя такой. Мне казалось, что такая женщина не достойна жить. И я снова сбежала – на этот раз в Рэпидс-Сити. Там устроилась в магазин и сняла квартиру. А потом зимой подхватила грипп; у меня совсем не осталось сил… Все стало вдруг безразлично и…
Она смотрела на свои руки. Они лежали перед ней на столе, очень тонкие белые руки. Печальный говор Реки вдруг наполнил комнату. Сливаясь с музыкой, он напоминал шум водопада.
– Пожалуй, можно сказать, что я тоже был болен, – медленно сказал Фаррел. – Смотрел вокруг и видел одну пустоту. Меня одолела скука. Ты знаешь, что такое настоящая скука? Это огромное всепоглощающее ничто, которое всегда и повсюду с тобой, куда бы ты ни пошел. Оно накатывает на тебя огромными серыми волнами, топит и душит. Я сказал, что оказался на Реке не потому, что потерпел фиаско в карьере, и это близко к правде. Когда я перестал рисовать, на меня навалилась тоска. Все вокруг потеряло смысл. Я чувствовал себя так, словно всю жизнь прождал Рождества, а в рождественское утро обнаружил в руках пустой носок. Если бы в нем было хоть что-нибудь – ну хоть что-нибудь! – я бы, наверное, смирился. Но там не было ничего. Совсем. Теперь-то мне ясно, что дело было во мне. Чтобы в носке оказался подарок, нужно накануне положить его туда, и вся эта пустота, окружавшая меня, была отражением моей собственной пустоты. Но тогда я этого не понимал.
Он поднял взгляд и посмотрел на девушку.
– Неужели для того, чтобы встретиться и снова полюбить жизнь, мы должны были умереть? Почему мы не могли познакомиться, как все нормальные люди – где-нибудь в летнем парке или на тихой улочке? Почему мы встретились только на этой Реке, Джил? Почему?
Уже не сдерживая слез, Джил поднялась из-за стола.
– Давай танцевать, – сказала она. – Мы будем танцевать всю ночь напролет.
Они закружились по комнате в медленном танце, и музыка заключила их в свои объятия. Она наигрывала мелодии – веселые и грустные, и пела им песни, от которых сжималось сердце, напоминая о жизни, от которой они отказались.
– Под эту песню я танцевала на выпускном, – сказала Джил. – Я была совсем юной и думала, что влюблена. А ты когда-нибудь влюблялся?
– Нет. До этой минуты – ни разу.
– И я полюбила тебя, – улыбнулась Джил.
Музыка стала тише, и время замедлило бег.
Ближе к рассвету она сказала:
– Река снова зовет. Ты слышишь ее?
– Конечно.
Какое-то время он старался не замечать шум Реки, и Джил тоже противилась, сколько могла. Продержались они недолго. С восходом солнца их тени остались танцевать в пустом зале гостиницы, а сами они вышли на пирс и отвязали плот от причала. Течение с жадностью втянуло его, и в грохоте водопада послышался ритм победного марша. Впереди, в бледных лучах утреннего солнца, клубился туман над стремниной.
Они опустились на бревна и сидели молча, крепко обнявшись. Казалось, уже сам воздух был пропитан грохотом водопада. Сплошной туман и шум падающей воды. Вдруг впереди показались неясные очертания… Еще один плот? Фаррел вгляделся: невысокие деревья, песчаная кромка берега… остров.
Внезапно он понял, что означали острова на Реке. Они оба не хотели по-настоящему умереть и своим воображением создавали эти лазейки. Должно быть, это возможность вернуться назад.
Вскочив, он ухватился за шест и попытался направить плот к острову.
– Помогай, Джил! – крикнул он. – Это наш последний шанс, другого не будет.
Она тоже заметила остров и догадалась, что он означает. Теперь они вместе налегли на шест, сражаясь с осатаневшим течением. Река крутила, вертела, швыряла их на порогах, окатывая ледяной водой. Остров все отчетливей проступал сквозь туман.
– Давай, Джил, давай! – выдохнул Фаррел. – Мы должны перебраться туда, слышишь? Должны!
Но он уже видел, что у них ничего не получится, что, несмотря на все их усилия, течение протащит их мимо. И все-таки один – единственный – шанс оставался.
Он сбросил ботинки.
– Продолжай работать шестом, Джил! – крикнул он. Сжав зубами швартовочный трос, он бросился в волны.
Плот резко дернулся у него за спиной, да так, что Джил упала на доски и чуть не выпустила из рук шест. Но в тот момент Фаррел этого не увидел. Он увидел это, только когда достиг острова и оглянулся назад. К этому времени натяжение троса ослабело, и он смог забросить его на ближайшее дерево и закрепить. Дерево вздрогнуло, когда трос натянулся, и плот внезапно резко остановился, всего в нескольких футах от водопада. Джил, стоя на четвереньках, из последних сил пыталась удержаться на палубе. Вцепившись в трос обеими руками, Фаррел попробовал втащить плот на остров, но течение было настолько сильным, что с тем же успехом он мог бы пытаться втащить остров на плот.
Деревце зашаталось; казалось, его вот-вот вырвет с корнями. Рано или поздно оно упадет, и плот накроет ревущая масса воды. Оставалось только одно.
– Номер твоей квартиры, Джил! – раздался его крик над белыми бурунами стремнины. – Адрес?
Ее голос был едва слышен:
– Дом двести двадцать девять на Локаст-авеню. Триста первая квартира.
Фаррел мысленно ахнул. Джил живет в соседнем доме! Они могли десятки раз столкнуться на улице; возможно, и сталкивались, только не помнят об этом. В большом городе люди все время пересекаются и тут же забывают друг друга. Но только не на Реке.
– Держись крепче, Джил! – крикнул он. – Мне понадобится время.
Фаррел и глазом моргнуть не успел, как снова оказался в своем гараже. Он сидел за рулем, голова раскалывалась от боли. Он выключил зажигание и выбрался из машины. С трудом передвигая ноги, подошел к дверям гаража, распахнул их и вдохнул обжигающе холодный зимний воздух. Смутно припомнил, что на заднем сиденье лежат пальто и шляпа.
Время. Он набрал полные легкие свежего воздуха, растер лицо снегом и побежал вниз по улице, к соседнему зданию. Лишь бы успеть. По всему выходило, что он просидел в гараже не больше десяти минут; значит, время на Реке течет еще медленнее, чем он думал. Из чего следует, что с тех пор, как он покинул остров, на Реке прошло несколько часов и плот уже, возможно, сорвался в водопад.
Если только он на самом деле есть, этот плот. А Река? А девушка? Что, если это был только сон, сотканный его подсознанием, чтобы вернуть его к жизни?
Мысль об этом была невыносимой, и он тут же отбросил ее. Он забежал в подъезд ее дома – холл был пустой, лифт – занят. Бегом преодолел три лестничных пролета и, выкрикнув имя Джил, вышиб дверь.
Она лежала в гостиной, на диване; на бледное, как воск, лицо падал свет от торшера. На ней было то самое желтое платье, но без заплат. И сандалии совсем новые. А волосы – точно такие, как там, на Реке – короткие легкие завитки.
Он выключил газ в обогревателе, стоявшем у стены, и распахнул окна. Потом взял Джил на руки и поднес к самому большому окну, под живительные струи свежего воздуха.
– Джил! – шептал он. – Джил!
Веки дрогнули, и она открыла глаза. Голубые испуганные глаза смотрели ему в лицо, потом страх рассеялся, и на смену ему пришло узнавание. И в этот миг Фаррел понял, что Река отпустила их. Навсегда.
Происхождение видов Перевод А. Комаринец
Он отправился на миллион лет в прошлое, чтобы найти свое будущее.
1
Мохнатый мамонтомобиль, лежавший на боку в сосновом леске, как две капли воды походил на тот, в котором ехал сейчас Фаррел: точная копия доисторического мастодонта с блестящими бивнями-пушками, с виду – аутентичный до последнего волоска. Даже если бы Фаррел не шел по его четкому следу от самого плацдарма входа, все равно сразу понял бы, что это и есть транспортник двух сотрудников МПО, на поиски которых его отправили в верхний палеолит.
Хмурясь, он поглубже завел в лесок собственный мамонтомобиль, активировал выдвижную лесенку и спустился на землю. Убедившись, что электрошокер надежно закреплен в кобуре на правом бедре, он осторожно подошел к палеонтологическому транспортному средству. Похожий на косматую шерсть материал, покрывающий стальную обшивку, в некоторых местах был сорван, а на правой ляжке зияла пренеприятная дыра размером с серебряный доллар. Ухо-люк вскрыли изнутри, и его дверца сейчас жалко свисала на одной петле.
Вскарабкавшись по бивню-пушке к виску, Фаррел заглянул в кабину. И в этот момент в ноздри ему ударила едкая вонь. Вызвать ее могло только одно – выгоревшие аккумуляторные батареи. По всей очевидности то, что прожгло дыру в ляжке мамонтомобиля, достигло своей цели.
С возрастающим недоумением Фаррел протиснулся через люк в кабину. Панель управления, автоматический калькулятор ретрокоординат, панель светомаскировки – все приборы были разбиты вдребезги, судя по всему, каким-то тупым инструментом. Обивка двух глубоких кресел была порвана в клочья. Через люк позади кресел он пробрался в тесный жилой отсек.
Одеяла и простыни со спальных кушеток были сорваны, запирающийся холодильник вскрыт и опустошен, шкаф с запчастями опрокинут. В гардеробный отсек тоже вломились, повсюду валялась помятая и порванная одежда – по большей части женская.
Вандалы-подростки каменного века?
Сомнительно. Фаррел скорее бы поверил, что это дело рук взрослых – взрослых кроманьонцев. Небольшое число неандертальцев еще обитало в этих краях, но их племена были на грани вымирания.
Но это никак не объясняло дыру в обшивке палеонтологического транспортника.
Активировав карманный фонарик, чтобы рассмотреть кабину, Фаррел направил луч на самый дальний отсек, где полагалось находиться батареям. Батареи действительно перегорели, да так, что уже не починишь. По какой-то причине жар был настолько сильным, что местами они просто расплавились.
Вернувшись в рулевую кабину, он выбрался через ухо-люк и встал во весь рост на виске, чтобы осмотреться. Сосны были лишь одной из разновидностей флоры, покрывавшей огромное плато, которое со временем получит название Центрального Французского массива. К востоку от Фаррела уже вырастали новорожденные горы. К югу и западу плато тянулось в зеленеющие туманные дали. С севера обзор ему сейчас закрывали деревья, но он знал, что там поблескивает белизной отступающий ледник. Он прямо-таки на языке чувствовал сладкий и чистый холодок снега и льда.
Он всмотрелся в лесок. Там, вон там, что это – из теней торчит мужская ступня в ботинке?
Спустившись с массивной головы, он отправился взглянуть поближе. Теперь надо быть осторожнее – здесь могут быть саблезубые тигры. Или дикие псы. Или гигантский живущий на земле ленивец – милодон или какой-нибудь из мегатериев. А то и сам мистер Косматый Мамонт.
Ступня крепилась к ноге, нога – к туловищу, туловище – к голове. Затылок у головы был размозжен, а мозги извлечены.
Фаррел узнал в мертвеце профессора Ричардса – узнал по фотографии, которую показал ему чиновник МПО, отвечающий за спасательные операции. Господи ты Боже! Хотелось бы надеяться, что секретаршу профессора, мисс Ларкин, не постигла та же участь. Он обследовал весь лесок, но никаких следов ее не обнаружил. Возможно, те, кто напал на мамонтомобиль, взяли ее в плен.
Он никогда не встречался с мисс Ларкин лично, но тот же чиновник МПО, что показал ему фотографию профессора Ларкин, позволил ему просмотреть видеозапись резюме, которую мисс Ларкин подала в отдел кадров Международного палеонтологического общества и в результате которой ее немедленно приняли на работу. На видео она присматривала за соседскими детьми, занималась мелкими делами по дому, каталась на лыжах по девственно-белому склону, шла на работу в опрятном голубом костюме, печатала на машинке в большом офисном помещении, выступала в женском деловом клубе, посещала церковь – проще говоря, занималась разными похвальными делами, рисуя образ милой, порядочной, жизнелюбивой американки. На протяжении всей своей бурной жизни Фаррел мечтал встретить именно такую милую, порядочную, жизнелюбивую американку, и потому мысль о том, чтобы потерять ее как раз в тот момент, когда он почти нашел ее, казалась вдвойне невыносимой.
Бог ты мой! Он очень надеялся, что, взяв девушку в плен, неандертальцы не причинили ей вреда. Конечно, это были неандертальцы. А кто еще? Кроманьонцы тоже охотились на мамонтов, но размозжить череп и съесть мозги – явный почерк неандертальцев.
Наконец, на дальней опушке он различил отпечатки ее остроносых сапожек среди других следов, оставленных лапищами охотничьего отряда. Значит, ее все-таки захватили в плен, хотя он не мог взять в толк зачем. Мисс Ларкин, конечно, красотка с головы до пят, но представление мужчины о женских прелестях всегда определяется габаритами и телосложением женщин, которые его окружают, и средний неандерталец, вероятно, так же поддался бы чарам американской богини двадцать первого века, как Фаррел – чарам самки орангутанга.
Конечно, он понимал, что ему придется иметь дело не с одними только неандертальцами. Мустьерская эпоха подарила человечеству огонь, дубинку и копье с каменным наконечником, но, насколько ему было известно, тогда еще не изобрели орудие, способное повалить косматый мамонтомобиль. Без сомнения, тут не обошлось без третьих лиц – либо из временного периода самого Фаррела, либо из еще более позднего. По всей вероятности, именно эти третьи лица приказали захватить мисс Ларкин.
Перед тем, как покинуть лесок, он наспех похоронил профессора Ричардса и произнес несколько слов над могилой. Потом отправил отчет о случившемся в МПО по одностороннему радио своего мамонтомобиля. Из-за сопротивления временного потока потенциальным парадоксам он сумел попасть в прошлое не раньше, чем через три часа после прибытия первого мамонтомобиля. Времени он зря не терял, а следовательно, если охотничий отряд не задержался в леске надолго, он опережает его приблизительно на два часа. Он глянул на самоадаптирующийся хронометр. Десять минут четвертого. Скорее всего, он без труда нагонит врагов до темноты.
Один мертв, осталась еще одна, горько подумал он, выводя свой мамонтомобиль из леска и разворачивая его в сторону гор. И что вообще движет такими, как профессор Ричардс? Зачем треклятому идиоту понадобилось прыгать в верхний палеолит? Ну и что, что он откопал артефакт, не укладывающийся в Ориньякскую эпоху? Перед тем, как отбыть в прошлое, Фаррел осмотрел означенный артефакт и сам признал, что ни материал, из которого он был изготовлен, ни уровень мастерства не свойственны Ориньякской эпохе. И все равно: статуэтка, даже изысканно вырезанная, не стоит того, чтобы отправляться на тридцать тысяч лет вспять и выяснять, откуда она там появилась. Но, с другой стороны – чего он жалуется? Ведь без таких идиотов-палеонтологов профессиональные прошлоспасатели остались бы без работы.
II
Весна одела нижние склоны далеких гор нежными цветами, но на вершинах все еще правила бал зима.
Над травянистым покровом плейстоценского плато высились спорадические рощи дубов, елей, каштанов, берез и сосен, и голубизна кайнозойских небес была расцвечена перистыми узорами разбросанных тут и там облачков. Палеонтологическое транспортное средство, выданное Фаррелу чиновником МПО, – модель, одобренная для периода каменного века, – было с иголочки новым. Среди ученых и спасателей эта модель получила прозвище «Саломея», и Фаррел уже успел в нее влюбиться. «Саломея» брела по плато с обманчивой неуклюжестью, прозрачный изнутри неосплав, из которого был изготовлен «череп», давал обзор практически на триста шестьдесят градусов. Ее кабина мягко покачивалась, как паланкин на спине слона, вот только этот «паланкин» был встроен внутрь транспортника и помещался на целой подушке из гироскопов, которые нивелировали малейшие толчки.
Справа мирно паслось стадо овцебыков, дальше в высокой траве мелькнула стая диких собак. Гигантский глиптодонт исчез, шаркая, среди узловатых дубов. Распахнув двадцатифутовые крылья, парил в вышине на восходящих потоках плейстоценовый кондор. Фаррел миновал туши двух овцебыков, убитых охотничьим отрядом, и по ним заключил, что едва они с «Саломеей» отойдут подальше, кондор спустится и пообедает. Но он не видел никаких следов смилодонов. Впрочем, саблезубые тигры к сему времени практически вымерли, поскольку отрастили клыки такие длинные, что уже не могли открыть пасть достаточно широко, чтобы сожрать добычу.
На горизонте замаячили и постепенно приблизились холмы. Пускай, «Саломее» они нипочем. Тут и там из земли выступали валуны. Скоро начнутся предгорья.
Пещеры…
– Полегче, старушка, – пробормотал Фаррел вполголоса. – Мы уже почти у них на хвосте.
Следы стали менее четкими, поскольку почва сделалась каменистой, но все равно читались без труда. Наконец, показалась узкая долина, обрамленная справа сосновым бором, а слева – сверкающей на солнце рекой. Далеко впереди замаячила гора, гораздо шире и выше тех, какие до сих пор доводилось видеть Фаррелу. Следы вели прямиком к ней. Ее поверхность была испещрена сотнями отверстий, не оставалось сомнений, куда направлялась его добыча. Наверное, охотники уже дома. Во всяком случае, на равнине их не было видно.
Он завел «Саломею» в сосновый бор и дальше к горе приближался под покровом деревьев. Сквозь стволы деревьев ему было видно, как выстроившиеся в колонну фигуры направились через равнину на запад. Остановив «Саломею» за завесой игольчатых веток, он смотрел, как они проходят мимо. Поначалу он решил было, что это очередной охотничий отряд неандертальцев, но теперь с изумлением увидел, что по тропе бок о бок шагают неандертальцы и кроманьонцы. Собственно колонной шли кроманьонцы, причем там были и мужчины, и женщины – все голые и безоружные. По его прикидкам, их было около тридцати. Они шли в колонну по двое, а по обе стороны от них шагало с десяток неандертальцев, вооруженных копьями с каменными наконечниками.
Фаррел еще долго смотрел вслед колонне. Он многого не знал о своих доисторических предках, но одно ему было известно наверняка: у кроманьонцев не было в заводе заглядывать по-соседски к неандертальцам, и неандертальцы едва ли стали бы по-братски провожать кроманьонцев.
Может, те тридцать мужчин и женщин были пленниками, а неандертальцы их охраняли?
Отмахнувшись на некоторое время от загадки, он продолжил свой путь. Лес подступал совсем близко к южному склону. Отыскав у кромки деревьев подходящую лощинку, Фаррел завел «Саломею» поглубже в тень и решил отобедать. Остановив мамонтомобиль в удлиняющихся сумеречных тенях, он достал и активировал саморазогревающиеся консервы с курицей в кляре и картофелем и такую же упаковку кофе и за едой рассматривал подступы к горе.
Вдоль всего основания горы горели костры, вокруг которых сновали лохматые женщины в косматых шкурах. Приземистые и волосатые мужчины отрезали куски и полосы мяса с туш овцебыков, добытых охотничьим отрядом. Повсюду носились грязные детишки, путались у всех под ногами и всем мешали. Сцена была залита предвечерним светом, который подчеркивал наползающие с равнины тени, и все казалось размытым странной дымкой, которую Фаррел приписал поднимающемуся от костров дыму.
Он не увидел никаких следов мисс Ларкин. Скорее всего, ее упрятали в какую-то пещеру или же она лежит где-то связанная и ее не видно за дымом костров. Впрочем, был еще один вариант, но его рассматривать не хотелось. Пока не появятся свидетельства обратного, он будет считать, что она жива.
Кайнозойское солнце спустилось за далекие холмы и деревья, и небо на востоке украсилось первыми поблескивающими сережками ночи. Перед Фаррелом встал выбор: либо открыто подойти к горе в «Саломее» и попробовать напугать туземцев, либо оставить «Саломею» в лесу и попытаться спасти мисс Ларкин, не привлекая излишнего внимания. По зрелом размышлении он выбрал второй вариант – и не потому что не желал мозолить кому-то глаза, а потому что понимал, что при виде «Саломеи» пещерные люди бросятся искать укрытия в своих пещерах и уже оттуда начнут бросать копья. Если мисс Ларкин лежит где-то возле костров, она может пострадать, а если спрятана в пещерах, ему и подавно не удастся добраться до нее.
Он отвел «Саломею» подальше в лес и мысленно запрограммировал так, чтобы когда он спустится на землю, она закрыла за ним ухо-люк и втянула лесенку. Потом набрал на панели светомаскировки «ГРАНИТНЫЙ ВЫСТУП» и перевел переключатель в положение «Включено». Когда, наконец, он крадучись вышел из леса, ночь уже полностью вступила в свои права, и небо усыпали звезды. По счастью, ночь выдалась безлунная.
Он ожидал, что в нос ему ударит вонь пещер, но нет. Не уловил он и запаха от догорающих кухонных костров. В высокой жесткой траве он теперь полз по-пластунски. Внезапно его голова уткнулась в невидимую преграду. Когда он поднял руку, чтобы ее коснуться, то ощутил покалывание в пальцах.
Силовое поле!
Наверное, не стоило бы так удивляться. Но он удивился. Осторожно встав на ноги, он взялся исследовать барьер. Он поднимался выше его роста, выше, чем он мог достать рукой, и как будто шел полукругом от самого южного отрога горы до самого северного. Снова опустившись на четвереньки, он пополз вдоль барьера. Наконец, к немалому своему облегчению, он увидел мисс Ларкин. Она лежала связанная по рукам и ногам возле кухонного костра и как будто была невредима.
Поудобней устроившись в высокой траве, Фаррел достал из патронташа картридж электрошокера, удалил крошечный капсюль и высыпал электрокристаллы в ладонь. Опустошив так еще шесть картриджей, он ссыпал кристаллы в носовой платок и завязал концы узлом. Земля еще не просохла после недавнего дождя, во всяком случае, была еще достаточно сырой для его целей. Выкопав небольшую ямку, он положил туда свой узелок и присыпал травой.
Ужин закончился, и пещерные люди начали расходиться по своим жилищам на ночлег. Фаррел испугался было, что мисс Ларкин утащат в какую-нибудь пещеру, но обошлось. Похитители оставили ее лежать у костра под охраной заросшего бородой малого с такой физиономией, словно в нос ему ударил задним копытом овцебык. Одурев от огромного количества недоваренного мяса, которое успел сожрать, малый понемногу задремал, наконец его голова свесилась к узловатым коленям, которые он – на манер эмбриона – подтянул к волосатой груди.
Фаррел выждал, чтобы убедиться, что остальные члены племени крепко заснули. Тогда он выкопал свой самодельный пьезоэлектрический коктейль и швырнул его в силовое поле. Поле пошло голубыми искрами, раздалось едва слышное потрескивание, слабо потянуло озоном. Прощай, силовое поле.
На четвереньках Фаррел прополз мимо того места, где стоял повергнутый барьер, и вонь пещер обрушилась на него со всей силой. Еще как обрушилась! Оказалось, что мисс Ларкин в сознании. Когда Фаррел возник в круге света от затухающего костра, глаза у нее расширились.
– Уходите… Уходите! – хрипло прошептала она. – Они меня тут оставили, чтобы вас подманить… Разве вы не видите?
А он увидел только, что глаза у нее голубые, а загорелое лицо – нежное, как у ангела. Воистину никогда еще мужчине не доводилось спасать более прекрасную деву в беде. Он разрезал путы, связывающие ей запястья и лодыжки, и ее темные роскошные локоны скользнули по его щеке, когда он поднимал ее на ноги.
Стягивавшие ее ноги веревки, вероятно, немного нарушили кровообращение, ведь, едва встав, она снова упала, и он снова ее поднял.
– Идиот несчастный! – воскликнула она. И добавила: – Да бегите же… Может, еще есть время!
Но времени уже не было.
Только Фаррел собрался рвануть к лесу, как из теней выступили три дюжих неандертальца. Один, одетый в шкуру саблезубого тигра, явно был их главарем. Рот у него был как медвежий капкан, и не успел Фаррел изумленно моргнуть, как этот рот открылся, и из него вылетела голубая молния, от удара которой Фаррел рухнул наземь, а сверху на него упала мисс Ларкин.
III
Хотя мисс Ларкин и нельзя было счесть худышкой, этот груз едва ли кто-то назвал бы неприятным или невыносимым. Нет, невыносимым грузом казалась голова Фаррела. У него было такое ощущение, что она увеличилась вдвое и весила втрое больше нормального, и он едва мог ее приподнять, чтобы посмотреть на трех своих противников.
Тот, который выпустил голубую молнию, наклонился и избавил его от электрошокера, патронташа, хронометра, карманного фонарика и охотничьего ножа, – все эти предметы он внимательно рассмотрел в свете костра. Некоторое время спустя он издал серию односложных уханий, и один из его подручных рывком поднял девушку на ноги. Другой рывком поднял Фаррела, и их с мисс Ларкин подтащили к зеву ближайшей пещеры и толкнули внутрь.
Когда ноги под ним подломились, Фаррел поначалу решил, что это побочное следствие попавшего в него разряда. Но нет, это было следствием двенадцатифутовой разницы между входом в каменную пещеру и ее полом. Падение стоило ему ушибленного уха и ободранного локтя, а еще выбило из него дух, когда сверху приземлилась мисс Ларкин. От его спины она отскочила, как резиновый мячик. Едва продышавшись, он начал ощупью искать ее в кромешной темноте.
– Ой! – раздалось из темноты.
Он отдернул руку.
– Прошу прощения… Я ничего такого не имел в виду. Вы в порядке, мисс Ларкин?
Последовало недолгое молчание, так что у него возникло четкое ощущение, что она перебирает в уме то немногое, что успела про него узнать, и пытается прийти к какому-то выводу.
– Да, да, наверное, – раздалось наконец из темноты. – А вы?
– Жить буду. Меня зовут Алан Фаррел, МПО послало меня за вами и профессором Ричардсом, когда вы не вышли на связь.
– Очень благородно с вашей стороны, мистер Фаррел, попытаться меня спасти. Извините… извините, что назвала вас идиотом.
– Бросьте, мисс Ларкин. Я профессиональный спасатель с опытом экспедиций в прошлое. Спасать людей – моя работа.
Даже ему самому показалось, что эта фраза прозвучала напыщенным идиотизмом, и его кольнула догадка, что он уже где-то ее слышал – например, в кинофильме.
– Совсем скоро я придумаю, как вытащить вас отсюда и вернуть в настоящее, – продолжал он, – но сперва давайте разберемся. Едва увидев меня, вы сказали, что вас оставили на виду, чтобы меня подманить. А это значит, что Голубая Молния и его приятели знали, что я приду. Откуда они это узнали?
– Сомневаюсь, что они знали наверняка, – ответила мисс Ларкин. – Скорее всего, догадались, что моим исчезновением заинтересуются. – Ее голос пресекся. – Я… наверное вы знаете, что случилось с бедным профессором Ричардсом?
Фаррелу хотелось найти в темноте ее руку и утешающе сжать, но он вспомнил свою промашку минуту назад и решил воздержаться и не шарить в темноте.
– Я похоронил его, как полагается, мисс Ларкин…
Мисс Ларкин вздохнула.
– Он был таким милым стариканом. Двадцать этих ужасных существ напали на наш мамонтомобиль, и мерзавец в тигровой шкуре прожег дыру той самой молнией, которой вас ударил, только в тысячу раз сильнее. Сначала они схватили профессора, потом меня. Они… я думала, что и со мной то же сделают, и сделали бы, но только Голубая Молния и его подручные их остановили. Кажется, они тут вожаки, только главный все-таки Голубая Молния. Как, по-вашему, мистер Фаррел, они из будущего?
– Не иначе. Скорее всего, воры, которые изначально были настолько похожи на неандертальцев, что хватило лишь толики грима, чтобы сойти за своих. Но ума не приложу, что они надеялись украсть в этом временном периоде. Может, они из нашего будущего. Это объяснило бы энергетический луч изо рта. – Фаррел поднялся на ноги. – Ну, мисс Ларкин, мы попусту теряем время. Я сказал, что вытащу вас, и я это сделаю.
– Я рада, что вы появились, мистер Фаррел. Бог услышал молитвы одинокой девушки.
От этих слов он почувствовал себя могучим и смелым, и приятно было знать, что она безоговорочно ему доверяет. Он принялся исследовать пещеру, ощупывая стены пальцами. Голова у него еще гудела от удара голубой молнией, но, похоже, невосполнимого вреда удар не причинил, и некоторое время спустя тяжесть начала спадать.
Пещера оказалась природной темницей – округлой формы и диаметром около пятнадцати футов. Он ощупал каждый дюйм вертикальных стен – или во всяком случае каждый дюйм, до которого смог дотянуться, и, наконец, нашел то, что искал – расщелину. Поскольку в горе имелось много пещер (а ее изрытый отверстиями склон не допускал иных предположений), любая трещина подразумевала наличие тонкой перегородки.
Нашлось место, в котором она расширилась настолько, что он смог просунуть руку. Всего в футе за стеной расщелина расширялась еще больше, и его пальцы уперлись в пустоту. Он был уверен, что за стеной примыкающая пещера, и равно уверен, что сможет туда протиснуться.
– Мисс Ларкин, – шепнул он. – Дайте мне руку, ладно? Кажется, я нашел, как нам выбраться.
Вместе они начали расширять расщелину. Камни встречались крупные и мелкие, но расшатывать и вынимать приходилось медленно, а необходимость соблюдать тишину еще больше замедляла работу. Его окутал аромат духов мисс Ларкин, хотя подсознательно он ощущал их с тех самых пор, как увидел ее. Духи были из тех, что пробуждают ассоциации, и все время, пока они трудились бок о бок, ему чудились яблоневые сады в летнем цвету и луга, усеянные одуванчиками и маргаритками. Бог ты мой, как же приятно в кои-то веки побыть рядом с милой, порядочной девушкой. Он никогда в жизни не станет больше захаживать в стрип-бары и «клубы белых кроликов»!
Шли часы. Время от времени они отдыхали, сидя бок о бок в темноте. Из отверстия, над которым они трудились, временами доносились порывы свежего воздуха, доказывая, что где бы ни находилась соседняя пещера, это был не тупик. Наконец, когда, по прикидкам Фаррела, перевалило за полночь, отверстие расширилось настолько, чтобы в него можно было пролезть.
– Я пойду первым, мисс Ларкин, – сказал он. – Так будет безопаснее. Когда я позову, следуйте за мной.
Пещера, в которую он выбрался, его разочаровала. На самом деле она больше напоминала кротовую нору, чем настоящую пещеру. В лучшем случае ее можно было назвать узким туннелем. Но даже это лучше, чем ничего.
– Хорошо, мисс Ларкин, – сказал он через плечо. – Держитесь поближе ко мне.
Насколько он мог определить, туннель шел параллельно склону горы. Поскольку свежим воздухом тянуло слева, он на четвереньках направился в том направлении. Мисс Ларкин двинулась следом. Неопределенно долгое время они двигались вдоль туннеля. По правде сказать, туннель становился все уже, поворачивал то в одну, то в другую сторону, и Фаррел начал тревожиться.
– Все идет к тому, – весело сказала мисс Ларкин, – что мне еще по меньшей мере год не придется садиться на диету.
По счастью, через несколько десятков футов туннель резко пошел под углом вверх, потом вдруг расширился, и Фаррел обнаружил, что может выпрямиться во весь рост. Мисс Ларкин встала рядом с ним.
– Думаю, нам лучше взяться за руки, – сказал он. – Тут могут быть провалы.
Ее рука первой нашла его. Он крепко ее стиснул. Ох, как же ему хотелось сказать, как приятно быть с ней, как он устал от всяких стрип-баров и «клубов белых кроликов», от девушек, для которых снять одежду все равно что выкурить сигарету. Но он сдержался. Она, вероятно, вообще не подозревает о существовании подобных девушек.
Туннель все еще поворачивал то в одну, то в другую сторону. Они медленно пробирались, держась за стену. Фаррелу пришло в голову, что они скорее в лабиринте, чем в едином туннеле, но он промолчал, чтобы не пугать мисс Ларкин.
Наконец, туннель – будь то исходный или нет, откуда ему было знать? – сузился и снова пошел вверх. Довольно скоро им с мисс Ларкин снова пришлось опуститься на четвереньки.
– Кажется… кажется, земля дрожит, – сказала мисс Ларкин. – Может… может, нам стоит вернуться?
IV
Фаррел тоже ощутил дрожь. Мгновение спустя он уловил слабое гудение, в котором распознал приглушенную пульсацию мощного генератора. Очевидно, гора служила домом не только для племени неандертальцев – впрочем, к этому его уже подготовило наличие силового поля.
– Все в порядке, мисс Ларкин, – не оборачиваясь, ответил он. – Мы на верном пути. Очень скоро мы отсюда выберемся.
Извиваясь ужом, он прополз за поворот и обнаружил, что смутно различает стены туннеля, а чуть дальше – неровный кружок слабого света.
– Выше голову, мисс Ларкин, – прошептал он. – Мы почти выбрались.
Отверстие было уже совсем близко. Фаррел стал двигаться медленнее и тише. Гудение теперь стало гораздо громче, дрожь – отчетливее. Наконец он выбрался на широкий уступ, с которого открывался вид на гигантскую, наполовину естественную пещеру. Одну ее стену целиком занимала огромная сверкающая машина.
Мисс Ларкин выбралась на уступ рядом с ним. На правой щеке у нее было пятнышко грязи, темные локоны прилипли ко лбу, блузка цвета хаки в нескольких местах порвалась, а некогда безупречные штаны-кюлоты были безвозвратно загублены. Но глаза у нее были все еще восхитительные, а лицо – по-прежнему ангельское. Больше, чем когда-либо, Фаррел был уверен, что она – Его Девушка.
Увидев, что находится внизу, она слабо охнула. Фаррел уже успел насмотреться. Машина состояла из многоцветных рядов компьютеров, светящегося лабиринта шнуров и переплетений поблескивающих проводов. У подножия стены напротив уступа нашелся и источник гудения – гигантский генератор. Насколько смог определить Фаррел, работал он на топливе, которое Голубая Молния и его подручные, по всей видимости, перегоняли из добытой из местной скважины нефти. Освещалось все это батареей суперфлуоресцентных ламп, повернутых таким образом, чтобы их свет заливал машину и все, что находилось перед ней, ярчайшим светом, оставляя остальные закоулки огромной пещеры в тени. В стене напротив машины зияла широкая арка в естественный коридор, который вел, если можно полагаться на сквозняк, во внешний мир.
Фаррел насчитал в пещере пятнадцать неандертальцев. Впрочем, трое из них были скорее неандерталоидами – иными словами, Синяя Молния и два его подручных. Остальные были самыми обычными неандертальцами. Их вооружение составляли копья с каменными наконечниками, сами они лениво расселись по пещере. Трое вожаков изучали перемигивающуюся лампочками панель управления в основании машины. В хитросплетения проводов рядом с панелью было встроено нечто, на первый взгляд напоминавшее ростовое зеркало. Проблема заключалась в том, что оно не отражало свет, а скорее поглощало его. В результате возникала своего рода инфернальная тьма, много чернее обычной темноты. От одного ее вида у смотрящего начинала кружиться голова.
Наконец, до Фаррела дошло, что зеркало и есть главный компонент машины, raison d’etre[22] открывшейся перед ними фантастической сцены.
Ближайший к арке край уступа заканчивался чередой каменных ступеней, которые были как будто вырублены в стене пещеры. Грубая винтовая лестница завершалась на полу в каких-то десяти футах от арки и, пусть скудно освещенная, представляла собой идеальный путь к спасению, если бы рядом с выходом не привалились к стене три неандертальца, и если бы не окружавшее гору силовое поле. (Фаррел не сомневался, что барьер еще с вечера починили.)
– Знаете, что я думаю? – жизнерадостно подала голос мисс Ларкин. – Я думаю, раньше тут был зал для каких-нибудь церемоний. Мы же практически в том самом месте, где профессор Ричардс раскопал артефакт Шато дю Буа. – Тут она вдруг нахмурилась. – Но что-то не сходится, да? По оценкам экспертов, артефакт был создан приблизительно в этом году, а значит, никак не мог играть роли в церемониях прошлого. А впрочем, – безмятежно продолжала она, – тут все равно мог быть зал для церемоний, а Голубая Молния просто приспособил его для собственных целей, и с этого самого уступа шаман мог следить за жертвоприношениями, а в туннеле, по которому мы сюда попали, было его тайное убежище.
Фаррел воззрился на нее. Она лепетала так, словно ничегошеньки не смыслила в палеонтологии. Но опять же, нельзя забывать, что она не палеонтолог. И все же, работая секретаршей видного члена МПО, она должна была обладать хотя бы какими-то начатками знаний. Впрочем, наверное, несправедливо с его стороны так думать.
– Полагаю, вы правы, мисс Ларкин, – лояльно сказал он. – На сто процентов правы. И должен вам сказать, – продолжал он, уже не в силах сдерживаться, – так здорово в кои-то веки поговорить с такой девушкой, как вы. Я видел запись вашего резюме в отделе кадров и еще до того, как отправился вас спасать, знал, какая вы замечательная. Но, Боже ты мой, я и представить не мог, насколько вы замечательная в жизни!
Она покраснела, как и полагается милой, порядочной девушке.
– Вот вы и вознесли меня на пьедестал, мистер Фаррел. Нехорошо так поступать с девушкой, если не готовы собирать и склеивать осколки, когда она упадет. – По какой-то причине ей явно хотелось сменить тему. – МПО представило вам полеа… палео… – транспортное средство?
Он кивнул.
– Мамонтомобиль. Он спрятан в лесу, ярдах в ста от горы, на него наложена светомаскировка, и он выглядит как выступ гранитной породы. Если сумеем до него добраться, мы спасены. Проблема в том, как это сделать.
Он снова перевел взгляд на происходящее внизу. Ситуация за эти пару минут несколько переменилась. Голубая Молния тыкал в кнопки на контрольной панели, а два других неандертолоида расположились по обе стороны «зеркала». Неандертальцы поплоше расхватали копья и выстроились между «зеркалом» и аркой, образуя своего рода коридор. По их позе и минам было очевидно, что намерения у них серьезные.
– Смахивает на приветственный комитет, – заметила мисс Ларкин.
По сути, так оно и было. Фаррел едва поверил своим глазам, когда из «зеркала» вышел первый кроманьонец. Но нет, это был не обман зрения, потому что вскоре из черноты появился второй и встал рядом с первым. Оба были высокими и загорелыми. На обоих не было ни одежды, ни украшений. Лившийся сверху флуоресцентный свет с такой четкостью высвечивал их лица, что их можно было разглядеть даже с уступа. И тут Фаррела ожидало второе потрясение. Лица были типично кроманьонскими – крепкий подбородок, орлиный нос, глубоко посаженные глаза – но все это отступало на второй план, ведь эти лица были обезображены такой злобой, что она казалась почти материальной.
Неужто это его предки?
Один неандертолоид возле зеркала подал знак левой рукой, и два кроманьонца сделали десяток шагов по проходу между неандертальцами и остановились в нескольких футах от выхода. Из «зеркала» вышли еще двое – на сей раз мужчина и женщина, и с не менее злобными физиономиями, чем пара их предшественников, после чего весь процесс повторился снова. До Фаррела дошло, что он присутствует при формировании колонны, похожей на ту, какую он видел днем раньше. И до него дошло еще кое-что.
– Боже ты мой! – охнул он. – Это же передатчик материи! Перед нами миграция с другой планеты!
Голубые глаза мисс Ларкин округлились.
– Но почему с другой планеты, мистер Фаррел? Разве они не могут мигрировать из какой-то другой области нашей?
– Но как раз этот регион считается местом происхождения кроманьонцев, мисс Ларкин.
Неужели она вообще ничего в палеонтологии не смыслит?
– Они распространились именно отсюда. Все сходится, неужели вы не понимаете? Внезапное появление кроманьонцев в доисторическую эпоху. Их явственное отличие от всех прочих рас. Вообще все.
– А на мой взгляд, не сходится, – возразила мисс Ларкин. – Если они с другой планеты, то Голубая Молния и его громилы должны быть оттуда же. Тогда почему они выглядят иначе?
– Вероятно, потому, что они представители какой-то иной расы. И опять же, чтобы сойти за неандертальцев, Голубая Молния и его приятели, вероятно, чуток подправили свою внешность. Либо до того, либо после того, как их перенесли на Землю, чтобы создать принимающий портал передатчика материи. Им требовалась помощь, а самый лучший способ ее получить – подольститься к местному племени пещерных людей, пообещав им защиту и постоянные поставки свежего мяса. Чтобы построить тюремную колонию, требуются не только мозги, но и грубая сила.
– Тюремную колонию? Вы хотите сказать, кроманьонцы – заключенные?
– Выглядит уж точно так. Отъявленные негодяи, если судить по их физиономиям. Полагаю, как только их отводят подальше, то отпускают на все четыре стороны, но Земля для них, по сути, Чертов Остров (* Крошечный остров в архипелаге Иль-дю-Салю у побережья Французской Гвианы, в 1852–1952 гг. служил тюрьмой для самых опасных преступников. – Прим. переводчика.) в планетарном масштабе. Этот передатчик, наверное, уже несколько месяцев функционирует.
Пока они разговаривали, все новые кроманьонцы выходили из «зеркала». Женщин было почти столько же, сколько мужчин, и все они – и мужчины, и женщины – выглядели так, словно в любой момент способны порешить лучшего друга. Наконец, колонна была сформирована (Фаррел прикинул, что в ней около тридцати человек), и охранники-неандертальцы повели ее вон из залы.
Внезапно он сообразил, что никакие охранники колонну не замыкают.
Вот тут-то его и осенило. Прямо-таки громом поразило.
Интересно, неандертальцы умеют считать?
Согласится ли мисс Ларкин, если того потребуют обстоятельства, снять одежду?
Ей придется ее снять, порядочная она девушка или нет. В противном случае его план не сработает. И ему тоже придется раздеться.
Он очень надеялся, что у нее загар по всему телу.
V
Краснея, он объяснил, что у него на уме и какой страшной жертвы потребует его план. Она только моргнула, ее правая рука рассеянно потянулась к молнии блузки.
– Нет, нет… Не сейчас, мисс Ларкин! – охнул он. – Подождем, пока они сформируют следующую колонну.
Пока формировалась колонна, он сосредоточенно изучал машину. Он не знал, сумеет ли мысленно перепрограммировать компьютеры, как не знал, допустит ли в данном случае временной поток вмешательство извне. Но он знал, что некое вмешательство все же имело место, ведь в масштабе всей планеты кроманьонцев разом возникло не так уж и много. Вероятно, кто-то все-таки повредил передатчик. Так почему не он?
Но прежде всего надо было создать некое реле, которое сработало бы как бомба замедленного действия. Пожалуй, пока они там внизу собирают колонну, он как раз успеет. Он мысленно нарисовал себе восемь подобных устройств, потом визуализировал, как последовательно они создают перегрузку в трансформаторах, как затем эта перегрузка выплескивается в передатчик. Наконец, он мысленно нарисовал себе, как передатчик вспыхивает ярким пламенем, как распадаются контуры, как из компьютеров валит черный дым. По сути, он приказал машине совершить самоубийство – часа через три в будущем.
Когда он закончил, вторая колонна уже на две трети сформировалась. Мисс Ларкин теребила бегунок молнии. Он никогда не оскорбил бы ее подозрениями, но мог бы поклясться, что ей не терпится снять одежду.
– Сейчас? – спросила она.
Он кивнул.
– Сейчас.
Уступ был достаточно широким, чтоб она могла выпрямиться во весь рост и ее не заметили бы снизу. Встав, она расстегнула молнию на блузке и медленно спустила ее с плеч, мягко поводя бедрами, словно в такт лишь одной ей слышной музыке. У Фаррела глаза вылезли на лоб.
Блузка мягко опустилась на уступ и легла холмиком цвета хаки. Теперь глаза мисс Ларкин были полузакрыты, на ее лице возникло мечтательное выражение. Она сделала шажок вправо, шажок влево и скинула туфли. Потом наступил черед кюлотов. Фаррел постарался отвести взгляд, но просто ничего не смог с собой поделать. Потом бюстгальтер: мисс Ларкин подбросила его в воздух, и он едва-едва успел его поймать, чтобы он не полетел в зал под ними. Теперь ее бедра двигались ритмично, а верхняя часть тела поворачивалась то вправо, то влево. Бедный Фаррел сполз по стене. Он чувствовал себя полным идиотом. Ну, хотя бы загар по всему телу…
Как, впрочем, и у него. Подобрав свою и ее одежду, он свернул ее в ком и зашвырнул подальше в туннель. Мисс Ларкин, глаза которой были теперь совершенно закрыты, все еще исполняла танец у воображаемого шеста. И эта непорочная девица в беде исполняла его просто отлично! Уж он-то умел распознать профессионализм. Он прокашлялся.
– Не хотелось бы вас прерывать, мисс Ларкин, – ледяным тоном сказал он, – но колонна почти сформирована, нам лучше поторопиться.
Вздрогнув, она открыла глаза. Она как будто удивилась, увидев его, и оглядела пещеру так, точно забыла, где находится. Потом она снова посмотрела на него и покраснела.
– Я… я готова, мистер Фаррел.
Он пошел первым, двигался медленно и ей велел не делать резких движений. Они оставались почти невидимы на фоне стены пещеры, но любое внезапное движение могло их выдать.
Фаррел приглядывал и за неандертальцами, и за кроманьонцами, но первые были поглощены своими обязанностями охранников, а вторые смотрели прямо перед собой. Что до Голубой Молнии и его подручных, то они целиком и полностью были заняты машиной.
Когда Фаррел с девушкой спустились на дно пещеры, колонна уже пришла в движение. Они выжидали до последней секунды и, когда охранники повернулись к ним спиной, проскользнули в конец колонны.
Пока все шло по плану.
Изначально просторный коридор был во многих местах дополнительно расширен, чтобы придать ему одинаковую высоту и ширину. Неверный и слабый свет исходил от факелов по стенам. От порывов свежего воздуха пламя время от времени колебалось, и по стенам танцевали длинные тени. Кроманьонцы иногда переговаривались друг с другом на языке, мертвом вот уже много тысячелетий. Ни они, ни охранники-неандертальцы не догадывались, что колонна стала чуть длиннее, чем полагалось.
– Ну и танец же вы станцевали только что! – углом рта промолвил Фаррел.
Мисс Ларкин смотрела прямо перед собой.
– Я… я себя выдала, да?
– Уж точно, – откликнулся Фаррел. – В каком стрип-баре вы подвизались, пока не решили начать с чистого листа?
– В «Грудастой Анне» в Старом Йорке. Я в любой момент могу получить мое старое место, стоит мне только захотеть.
– А почему вы вообще оттуда ушли?
– Девушка устает от… от определенных вещей. И этот разобиженный тон совсем ни к чему. Я же говорила: не стоит возводить девушку на пьедестал, если не готовы, когда она упадет, собирать осколки.
– Я вот чего в толк не возьму, – не унимался Фаррел, – что подтолкнуло вас на профессиональное выступление? Я же всего-навсего попросил вас снять одежду.
– До… до работы в «Грудастой Анне» я по вечерам репетировала у себя в комнате. Я так много репетировала, что снимание одежды перед сном и профессиональный стриптиз практически слились воедино, и теперь, делая одно, я делаю заодно и другое, просто привычка. Там, на уступе я даже не сознавала, что танцую стрип-танец.
Колонна огибала поворот. Вдалеке показалось рассветное небо.
– И вот чего еще я не пойму, – продолжал Фаррел. – Как вам удалось подделать свое резюме?
– Вы в каком мире живете, мистер Фаррел? Такое сплошь и рядом делается. Практически любое агентство по найму сварганит вам резюме – только платите.
– Те кадры, где вы катаетесь на лыжах с горного склона, были просто фантастика. Весь этот непорочный снег!
– Ваша проблема, мистер Фаррел, в том, что вы самодовольный напыщенный романтик. Никто не просил вас меня идеализировать. Мне неприятно это говорить – ведь вы рисковали жизнью, чтобы меня спасти и все такое, но это правда. Знаете, почему Грудастая Анна и люди вроде нее ездят на «кадиллаках»? Потому что мужчины вроде вас несут им денежки. Вам же на самом деле не нравятся девушки, которых вы силком возводите на пьедестал, вы же только и ждете, когда они упадут, чтобы с ними поразвлечься, а если они не падают, отправляетесь в ближайший стрип-бар и пристаете к какой-нибудь несчастной девушке вроде меня, которая пытается заработать на жизнь единственным доступным ей способом. Именно из-за таких, как вы, я решила стать секретаршей, пусть даже мне пришлось для этого солгать.
– Я почему-то не сомневался, что рано или поздно вы возложите всю вину на меня, – откликнулся Фаррел.
К тому времени колонна вышла на свет раннего утра. У входа в туннель сидела, держа на коленях глиняную миску, неандерталка. Рядом с ней высилась горка округлых камешков, и всякий раз, когда мимо проходила пара кроманьонцев, она бросала два камешка в миску. Вот этого-то и боялся Фаррел. Без сомнения, передатчик был оснащен автоматическим счетчиком, и, по всей вероятности, обязанность женщины была всего лишь синекурой, тем не менее, если численно каждая следующая партия совпадала с предыдущей, она может заметить разницу.
Уголком глаза он следил за ней, когда они с мисс Ларкин выходили из пещеры. Она взяла еще два камешка, начала опускать их в миску… и помедлила. Она уставилась на Фаррела и мисс Ларкин так, словно не верила, что они взаправду тут, потом, очевидно, заключив, что они наверное тут, добавила два камушка к остальным. Фаррел вздохнул с облегчением.
Бодрящий ветерок нес холодок с ледника. Он осознал, что уже замерзает, и, искоса глянув на мисс Ларкин, заметил, что она покрылась мурашками. Однако на кроманьонцев холод как будто никак не подействовал. И мужчины, и женщины были худощавыми и закаленными. Скорее всего, они уже какое-то время провели в заключении и привыкли к тяготам. Интересно, на какой ступени развития их цивилизация? Просто поразительно, как далеко орудиям, которые им еще только предстоит изобрести, до передатчика материи, который перенес их через космос! Впрочем, поскольку они преступники, едва ли они слишком уж сведущи в технических чудесах своей эпохи. И в любом случае они мало чего могли бы добиться без надлежащих инструментов. Они были обречены стать тем, чем в каком-то смысле уже стали – дикарями каменного века, гораздо более компетентными и умелыми, чем те дикари, что были до них, но не намного выше их по эволюционной лестнице.
Его пробрал холодок при мысли о том, что современный человек произошел от подобных существ, впрочем, это его не слишком удивило. Он только обрадовался, что хотя бы попытался вывести из строя передатчик и положить конец этой постыдной практике. И кто знает, возможно, он преуспел.
Силовое поле временно дезактивировали, и колонна теперь выходила на равнину. Сосновый лес казался маняще близким. Через несколько минут они с мисс Ларкин поровняются с тем местом, где спрятана «Саломея».
– Приготовьтесь, – шепнул он, – когда я скажу «Бегом», бегите в лес.
Она кивнула.
Он не сомневался, что они легко обгонят неуклюжих неандертальцев и без особого труда увернутся от их копий; в конце концов, эти копья не предназначены для метания. Но оказалось, что все не так просто. О случившемся он догадался, когда услышал за спиной крик и увидел, как к колонне во весь опор несутся Голубая Молния и двое его подручных: по всей очевидности, женщина с камешками все-таки поделилась своими подозрениями, отдала миску, и разницу обнаружили. Голубой Молнии, вероятно, хватило одного взгляда на пустую пещеру-темницу, чтобы понять, откуда взялись два лишних «кроманьонца».
– Бегом! – крикнул Фаррел и, схватив мисс Ларкин за руку, плечом врезался в ближайшего неандертальца, оттолкнул его и бросился в лес.
Махнув охранникам присматривать за заключенными, Голубая Молния и его подручные устремились в погоню.
Фаррела поразила скорость этой троицы. Они бежали так быстро, что их ноги практически слились в единое пятно. Внезапно изо рта Голубой Молнии вылетела голубая молния.
Молния ударила мимо, но запахло озоном и сам воздух затрещал так, что стало очевидно: больше он пленных брать не намерен.
Прибавив скорости, Фаррел вынудил и мисс Ларкин сделать то же самое – просто потащил ее за собой. Только некоторая фора позволила им вовремя добраться до «Саломеи». Ему пришлось на бегу отключать ее светомаскировку, чтобы найти ухо-люк.
Мысленно приказав «Саломее» открыть люк и опустить лесенку, он потащил мисс Ларкин за собой наверх и поскорей задраил люки.
Голубая Молния и его подручные были уже в каких-то двадцати футах, они практически летели к мамонтомобилю. Голубая Молния снова открыл рот. С такого короткого расстояния он никак не мог бы промахнуться, а силовые щиты «Саломеи» не смогли бы выдержать подобный удар. Оставалось лишь одно, и Фаррел это сделал: он совершил скачок на массивном палеонтологическом транспортнике в будущее.
VI
Как бывает обычно при прыжке, мир вокруг на несколько мгновений стал совершенно серым, несколько раз дернулся, а потом за «окнами» «Саломеи» снова возник знакомый лес и за игольчатыми ветками показались знакомые равнина и гора. Фаррел собирался прыгнуть на час вперед, и расположение солнца в небе подсказывало, что прыжок прошел по плану. По всей очевидности, никаких потенциальных парадоксов в ближайшем будущем не предвиделось.
На равнине не было ни кроманьонцев, ни неандертальцев. И ни следа Голубой Молнии и его подручных.
Порывшись в шкафах в жилом отсеке, Фаррел нашел себе запасной комбинезон и второй поменьше, который подошел бы мисс Ларкин. Бросив комбинезон мисс Ларкин, он оделся сам. К тому времени, когда он ползком вернулся в кабину с двумя парами мягких, натягивающихся как носок сапог, она снова обрела благопристойный вид.
Устроившись в креслах, они натянули сапоги.
– Ну вот, если они не устроили нам засаду, – начал Фаррел, – мы выбрались. Вот черт…
Он осекся, изумленно уставившись перед собой. Там, где только что были одни лишь деревья, стояли Голубая Молния и его подручные. Голубая Молния открыл рот.
Фаррел начал отчаянно нажимать кнопки калькулятора ретрокоординат, чтобы прыгнуть еще на час вперед. Мир снова посерел, снова дернулся. Перед ними снова возник лес, а за ним – равнина и гора, освещенные солнцем, которое стояло еще выше в небе.
– Они тоже способны путешествовать во времени! – изумленно выдохнул он. – И что хуже, они сумели нас запеленговать!
Поспешно активировав «Саломею», он вывел ее на позицию в тридцати ярдах впереди, развернул, потом зарядил бивень-пушку и стал ждать. Прошла минута.
Две.
Наконец, поначалу неуверенно, начали складываться три силуэта, которые быстро уплотнились. Но на сей раз они стояли к ним спиной. Убей или будешь убит. Фаррел выпустил три снаряда в тот самый момент, когда неандерталоиды обернулись. Все три попали в цель.
Бух, бух, бух! И в трех телах возникли три рваные дыры.
Но по какой-то причине неандерталоиды не рухнули как подкошенные. Напротив, они остались стоять на месте. Как статуи. Наконец из их ртов, носов и ушей повалил дым. А потом на глазах у изумленных Фаррела и мисс Ларкин в виске Голубой Молнии открылся крошечный люк, опустилась крошечная лесенка, и по ней спустились два крошечных человечка-кузнечика. В полнейшей панике они порскнули в сторону горы и мгновение спустя исчезли в высокой траве.
Секунду спустя открылись люки в головах подручных Голубой Молнии, и еще четверо крошечных человечков побежали к горе.
– Да будь я проклят! – воскликнул Фаррел. – Мы-то думали, что имеем дело с собратьями-кроманьонцами, а на самом деле это были инопланетяне-лилипуты в палеонтологических транспортниках. Ну уж нет, никак это не местная, это межгалактическая операция! Что угодно поставлю, эти человечки – межгалактическая полиция!
Ангельское личико мисс Ларкин порозовело от возбуждения.
– Да нет же, мистер Фаррел. Они как две капли воды похожи на ту статуэтку, тот артефакт, который раскопал профессор Ричардс. Знаю, это камень, но я все равно готова поспорить, что это один из них. Почему-то мне показалось, что они выглядят так, словно они из какого-то камня. Как по-вашему, такое возможно?
Он кивнул.
– Возможно, не совсем камень, а скорее комбинация элементов, которые за тридцать тысяч лет превратились в камень. Нет сомнений, это какая-то кремниевая форма жизни. И эти их траспортники – не просто транспортное средство, а еще и скафандры. Вероятно, их сконструировали специально для использования на Земле. Вполне возможно, эти существа не способны дольше четверти часа функционировать в нашей атмосфере.
– Давайте попробуем их найти, – предложила мисс Ларкин.
– Это было бы пустой тратой времени. Они уже добрались до своего передатчика и…
Он замолк. До его ушей донесся хор полных ужаса воплей, и, посмотрев на гору, он увидел, как из отверстий пещер валят клубы черного дыма и потоки перепуганных неандертальцев. Его вмешательство сделало свое дело: инопланетный передатчик материи подчинился его психопрограммированию и совершил самоубийство.
Он объяснил мисс Ларкин, что случилось.
– Не знаю, построили ли они позднее еще один или нет, но очень в этом сомневаюсь. По всей очевидности, все они успели пройти на свою сторону, за исключением одного, а поскольку тот один уже в штаб-квартире МПО, нам незачем дольше мешкать.
Мисс Ларкин задумчиво посмотрела на равнину.
– Да… Пожалуй, вы правы.
К тому времени пламя уже практически уничтожило подручных Голубой Молнии, но сам Голубая Молния был из более крепкого теста. Скорее всего, более новой модели. Так или иначе, дым перестал валить у него из всех щелей, и Фаррел смог приторочить его к спине «Саломеи» для последующего изучения в МПО. Но прежде он заглянул в люк на виске. Он увидел два крошечных кресла перед лилипутской и невероятно сложной панелью управления, маленький громкоговоритель и крошечный телеэкранчик. Между креслами выпирало дуло спрятанной в заднем отсеке энергетической пушки.
Вернувшись в мамонтомобиль, он сел рядом с мисс Ларкин и активировал палеонтологический транспортник.
– Пойдем, старушка, пора домой.
В плацдарме входа его ожидало сообщение из МПО. Оно возникло на электронной доске оповещений «Саломеи», как только мамонтомобиль вошел во временное поле. «МИСС ЛАРКИН ПОЛУЧИЛА СВОЕ МЕСТО ПУТЕМ ПОДЛОГА И УВОЛЕНА. МПО БОЛЕЕ НЕ НЕСЕТ ЗА НЕЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ. ВАМ ПРИКАЗАНО НЕМЕДЛЕННО ВЕРНУТЬСЯ В НАСТОЯЩЕЕ».
Мисс Ларкин еле слышно вздохнула.
– Ну вот, похоже, пора назад на стрип-галеры. Кстати… я думаю, пока еще не поздно, мистер Фаррел, мне следует сказать вам, что не все стрип-бары … не все… ну, они не совсем то, что вы, наверное, думаете. – Она посмотрела на него печально, и он заметил в ее глазах слезы. – Э… Ну и надеюсь, вы придете повидать меня в «Грудастую Анну».
Как же, придет он ее повидать! Держи карман шире! Та еще девица в беде! Втирала ему очки, заставила питать надежды и снова поверить в женщин, а потом, когда он практически в нее втюрился, прямо у него на глазах устроила стриптиз! Тот еще будет денек, когда он отправится повидать такую!
– До свиданья, – сказал он, когда они прибыли на терминал времени, и ушел не оглянувшись.
– Что будете, сэр? – спросила женщина с бюстом чудовищных размеров.
Фаррел затравленно опустился на табурет у бара.
– Пиво, – сказал он, а потом: – В котором часу выступает мисс Ларкин?
– Вы про Лори? Да через пару минут.
Прихлебывая пиво, Фаррел не спускал глаз с большой сцены в конце переполненного бара. Наконец свет потускнел, и платформу залило бледно-голубое сияние от прожектора в потолке. Мгновение спустя показалась мисс Ларкин. На ней была золотая сорочка, чулки в сеточку и прозрачные туфельки. Зазвучала музыка, и она начала танцевать.
Фаррел позволил ей дойти до первого слоя белья. Потом рванул через весь бар, поднял руку, схватил ее за щиколотку и стащил вниз к себе. Узнав его, она охнула и перестала брыкаться и кусаться, и в глазах у нее заиграли смешинки. Он перебросил ее через плечо – в духе пещерного человека.
– Если хочешь для кого-то танцевать, будешь танцевать для меня, – сказал он, вынес ее из бара и потащил по улице к ближайшему бракозаключательному автомату.
Подглядывающий Томми Перевод Н. Виленской
Томми Тейлор? У него все в порядке. Я навещал его на днях, долго с ним говорил. Будет как новенький, когда бинты снимут. Бывает же так: родится прозвище по ошибке и прилипнет на веки вечные.
Знаете, из клуба ведь он ушел. Сказал, что не хочет больше иметь с нами ничего общего, как будто это клуб повинен в том, что с ним приключилось! Не зря мы в свое время сомневались, принимать его или нет. Мы, любители старины, люди серьезные. Каждый из нас специалист в своей области, и мы не слишком рады профанам, даже очень богатым и говорящим на шести языках. Но, как верно заметил Хогглуэйт (его специальность – пермский период), путешествия в прошлое стоят чертовски дорого, и деньги лишними не бывают.
Ну а Томми, как всякий плейбой, унаследовавший большое состояние, охотно швырял тысячные бумажки на ветер. Нам будет сильно его не хватать, тем более что с нами он, вопреки ожиданиям, своих шуточек не рызыгрывал.
Не знали, что он любит розыгрыши? Плохо же вы его знаете в таком случае. Одни люди, вроде меня, любят записывать на пленку древние битвы. Другие, как старина Хогглуэйт, собирают пермские камни. Третьи, вроде вас, выспрашивают за кофе таких, как мы, чтобы потом настрочить статейку в журнал, а Томми живет ради розыгрышей. Жил, вернее – до недавнего времени.
Сначала он их устраивал в настоящем, но потом сообразил, что в прошлом это куда легче и куда веселее. Именно тогда он вступил в Клуб Старины и снял у нас хронобайк на два года (срок, кстати, еще не вышел, осталось два месяца).
До последнего ужасного приключения он прилежно крутил педали, наведывался во все мыслимые века и разыгрывал там кого ни попадя. Я не защищаю его, но бывают развлечения и похуже. Никто не может сотворить в прошлом то, что в каком-то смысле не сотворил уже в настоящем. Иными словами, если он не сделал чего-то раньше, то и не сделает, а если сделал, то сделает, хочет он того или нет. Томми действовал по воле судьбы – как и все, кто когда-либо ездил в прошлое.
Многие его шалости, надо сказать, безобидны, и особого вреда от них не было. Приехал, к примеру, в Чарлстаун в ночь на 18 апреля 1775 года и спрятал куда-то коня Пола Ревира. Бедный Пол чуть не спятил, пока искал, но нашел ведь и свою историческую скачку свершил[23]. Или, скажем, налил невидимые чернила в чернильницу Континентального конгресса накануне подписания Декларации независимости. Джона Хэнкока[24] связать было впору, так он бесился, но вреда опять-таки никакого. Шалость (но не шалуна) разгадали, чернильницу вылили, наполнили заново и подписали исторический документ.
Томми не только владел шестью языками, но и переодевался мастерски. Посмотрите как-нибудь картину Брейгеля Старшего «Крестьянская свадьба» – хорошая репродукция тоже сойдет. Музыкант в красном, голодный такой и небритый – это Томми. Я, кажется, не сказал, что к музыке у него тоже талант. Брейгель изобразил его прямо-таки фотографически. Томми любит свадьбы, вернее любил. Идеальная ситуация для всяческих розыгрышей.
Некоторые его шутки, однако, мне уже меньше нравятся, даже если допустить, что шутил он не по своей воле. Так, он много раз сообщал кредиторам Бальзака, где прячется несчастный писатель. Перехватил единственное письмо, которое Данте написал Беатриче (думаю, за «Божественную комедию» нам следует благодарить Томми). Или вот: сжег первый черновой вариант «Французской революции» Карлейля, как только Джон Стюарт Милль его дочитал. У бедного Карлейля это был единственный экземпляр, и пришлось ему переписывать все по памяти. Милль вместе с историками винил в этом свою служанку, но нам, членам Клуба Старины, лучше знать.
А самую дьявольскую шутку он, пожалуй, сыграл с царем Соломоном. Нанялся на царскую кухню накануне приезда царицы Савской и все то время, что она гостила в Иерусалиме, подсыпа́л в Соломонову чашу с козьим молоком шесть граммов антиафродизиака. Исследователи Библии испытали бы шок, узнав, что Песнь Песней – всего лишь плод неосуществленной фантазии.
Учтите также, что роль Томми в прошлом всем этим не ограничивается. Он не просто мастер розыгрышей – он Подглядывающий Том.
Одно естественно произросло из другого. Мы присутствовали при развязке многих его розыгрышей, но на некоторые приходится смотреть чужими глазами.
Вы, должно быть, уже догадываетесь, что Томми Тейлор, то есть Портной – тот самый портняжка, что подсматривал за леди Годивой и за это ослеп. Всё, однако, было не совсем так, как говорится в легенде. Историческую точность легенд можно приравнять к старым фильмам на библейские темы.
Томми думать не думал, что ковентрийский розыгрыш так печально ему аукнется: сходство собственной фамилии с родом занятий легендарного Подглядывающего Тома почему-то от него ускользнуло. Не предполагая, что он и знаменитый портной – одно и то же лицо, Томми переоделся согласно эпохе, приехал в древний Ковентри, спрятал свой хронобайк и снял комнату, окно которой выходило на самую узкую улицу города. Когда леди Годива на белом коне поравнялась с домом, Томми распахнул ставни, и она в самом деле чуть не выцарапала ему глаза.
Минутку, минутку. Не надо поспешных выводов. Обозлилась она не за то, что он выглянул – может, ей даже хотелось, чтобы кто-то на нее посмотрел. Но Томми не просто выглянул: он свесился из окна с большими ножницами цирюльника и обстриг ей волосы, которыми она прикрывалась.
Глиняный пригород Перевод Я. Лошаковой
«Я беру на себя смелость предсказать, что, в конце концов, человек запомнится всего лишь общиной, состоящей из многообразных, несхожих и независимых друг от друга обитателей».
Роберт Льюис Стивенсон. Странная история доктора Джекила и мистера Хайда.Суббота, 20:51; Роджер Норбрук С:
Я снова ощутил, как проваливаюсь сквозь последовательные слои все более и более прозрачной дымки. (Я сказал «снова», хотя подобное я чувствовал впервые.) Это длилось один миг – всего-навсего уловка разума, чтобы смягчить потрясение от мгновенного ретроперемещения – и я появился в переулке, ставшем уже родным. Взглянув по сторонам, я убедился, что никто не заметил мое появление (ни души, как всегда, – такой уж это был переулок). Я направился к улице, пересек ее и зашел в кафе «Тысяча и одна ночь». Отчасти благодаря своей близости к нексусу, это кафе возглавляло список вакханальных маршрутов моей жертвы еще со времен ее первого путешествия в прошлое.
Поначалу я не рассматривал переулок в качестве возможной mise en scène[25]. Даже несмотря на то, что он был безлюдным и очень мрачным, и свет от ближайших уличных фонарей сюда не попадал.
По очевидным причинам, улица тоже не подходила. Приезд моей жертвы в прошлое, в сущности, гарантировал, что меня не схватят, но для меня риск ареста мог означать нарушение правил. Правда, возможно, они больше не соблюдались, но на всякий случай я намеревался играть по правилам – так, словно они все еще в силе.
(Роджер Норбрук D: Если будущие поколения и будут вспоминать моего хозяина, то не потому, что он нашел способ путешествовать в прошлое. Его будут помнить как создателя множественной личности и в конечном счете ее оригинального использования.)
(Не так давно, ради собственного душевного благополучия, я придумал обозначения для его двойников: A, B и C; где A – это Роджер Норбрук собственной персоной, а В и С – его вторые «я». По иронии судьбы, это привело к тому, что я вообразил себя D – и впрямь бессовестное искажение имени!)
Роджер Норбрук C: Я вошел в кафе и тотчас же направился к свободной кабинке, откуда можно было вести наблюдение одновременно за баром и входной дверью. Старомодные очки в роговой оправе давили на переносицу, и я не мог избавиться от чувства, что выгляжу нелепо в поношенном коричневом костюме из ткани в тонкую полоску. Но было крайне важно, чтобы я хоть немного изменил свою внешность.
Я присел и стал ждать.
Я ждал и тщательно просеивал мысли, чтобы исключить даже намек на безнравственность. Его не было, но я и не ожидал его отыскать.
Войдя в поле, я был убежден, что мое хладнокровие сделает меня невосприимчивым к побочным эффектам ретроперемещения, благодаря которому моя жертва считает себя свободной.
Вскоре, заметив меня, официантка подошла к моей кабинке. Я заказал пива. Она принесла заказ, я заставил себя сделать маленький глоток, а затем поставил его обратно на стол. Зал плохо освещался: в нем царило серое уныние.
С минуты на минуту моя ничего не подозревавшая жертва могла войти в кафе. Пока он будет здесь, он у меня под колпаком, а когда уйдет, я последую за ним.
Рано или поздно он предоставит мне идеальную возможность завершить дело.
Мой взгляд был прикован к входной двери.
Я ждал.
Суббота, 21:00; Роджер Норбрук B:
Это мимолетное ощущение падения сквозь прозрачную дымку, это сладкое чувство свободы, когда трансвременные силы, открытые моим переходом, высвободили мои раскаяния, в которых я замерз зимой. Я родился заново, ощущая безумный восторг…
Я покинул переулок, пересек улицу и зашел в светящийся неоном оазис – кафе «Тысяча и одна ночь». Для Роджера Норбрука уже стало традицией начинать субботний вечер на этом уединенном курорте.
Раньше ретроперемещение оставляло меня с ощущением дрожи внутри. Но это прошло. Шесть благополучных путешествий в прошлое – это было седьмым – и вот я уже ветеран. И все же первый раз незабываем. Тогда я не знал, что два конца индуктивной световой петли или искривление пространства-времени соединились в пространстве в подходящей точке материализации. Я знал только, что они сошлись вместе в радиусе около двух или трех миль от жилого комплекса, в котором находилась моя мастерская, и что гравитационные волны, зарегистрированные в появившемся поле, были расположены на уровне земли. Я должен был рискнуть, и я это сделал. (Пространство и время существуют независимо друг от друга – факт, доказанный мною в ходе целого ряда экспериментов в Институте изучения Времени; однако в последнем есть небольшое боковое смещение.)
(Роджер Норбрук D: В никогда не отличался от A, даже во время своих путешествий в прошлое. По своей природе он всегда был беспечен и не знал о существовании C. Конечно же, С был хорошо осведомлен о существовании А и В. Иногда A ощущал присутствие C, принимал это за сильную потребность в саморазрушении и все равно отказывался принимать его всерьез.
Само собой разумеется, что ни A, ни B, ни C не подозревали о моем существовании.)
Роджер Норбрук B: Я зашел в кафе, подошел к стойке бара и сел на высокий табурет рядом с одинокой домохозяйкой. Там было достаточно много народу, несколько постоянных посетителей расположились в плохо освещенных кабинках вдоль стены. Перед домохозяйкой на стойке стояла водка с апельсиновым соком. Я попросил бармена, имени которого не знал, но лицо которого было мне знакомо по прошлым моим посещениям, принести виски «Сиграмс & 7».
Я не спеша потягивал первую порцию – слишком мало времени прошло после завтрака, чтобы выпивать все залпом. В этом-то и беда путешествий в прошлое (в моем представлении единственная беда): они сбивают ритмы тела. Сегодня вечером по какой-то причине я чувствовал, что они сбиты сильнее обычного. Мало того, я так устал, что все тело болело. И это странно. Я знал, что не выспался, но мне удалось вздремнуть.
Ну и ладно, после пары бокалов мне будет уже все равно.
Я опустошил первый и только собрался, верный привычке, сделать следующий бросок ко второму, как вдруг заметил, что домохозяйка, сидящая рядом, многозначительно смотрит на меня. Я ничего не имею против домохозяек, в особенности, если они находятся рядом и такие же мягкие и пушистые, как эта, а потому обрадовался, что подстрелил «куропатку» в самом начале охоты. Я подал знак бармену, чтобы он сделал мне еще одну порцию «Сиграмс & 7».
Домохозяйка прятала ладонь левой руки за своей сумочкой, будто не желая показывать осязаемый символ своего супружества. Словно большая проворная кошка, она лакала свою «Отвертку». Это запросто могла быть уже десятая. Как оказалось, ее звали Саломея. Меня затрясло от молчаливого смеха. Саломея встает пораньше и готовит ему завтрак; Саломея покорно штопает его носки; Саломея, как важная мурлычущая кошка, приносит ему тапочки, когда он возвращается вечером домой, уставший и раздраженный после изнурительной и скучной работы в офисе…
Саломея, без спутника, поглощает коктейли «отвертка» в кафе «Тысяча и одна ночь»…
Дикая non sequitur[26] придала живости моему молчаливому циничному смеху. Но это оказалось формальностью: ее дражайший супруг в отъезде. Торговый представитель, не иначе! Дай им Бог здоровья, всем без исключения. Пойдем, Саломея, заберемся в твою машину и поедем в кабаре! Будем угощаться, танцевать, а потом займемся любовью. А назавтра я преподнесу тебе себя на блюдечке, если пожелаешь, но сегодня будь само совершенство!
Суббота, 20:57; Роджер Норбрук A:
У себя дома, высоко в горах, над пестрым городом, я сделал последний визуальный осмотр поля деформации, работе над которым я отдал три драгоценных года своей жизни, получив взамен лишь жестокое разочарование.
Пульсирующий портал загадочно смотрел на меня, ослепляя бесконечными вспышками.
Уже шесть раз в воскресное утро я проходил сквозь эти деактивирующиеся световые панели, веря, что они представляют собой путь в прошлое; шесть раз в воскресное утро я совершал мгновенное падение, меня небрежно бросало в другую реальность настоящего, меня, вымотанного, изможденного, потерянного, переполняла необъяснимая ненависть к самому себе.
(Роджер Норбрук D: Дедушка Роджера A пустил себе пулю в лоб в тридцать семь лет. Отец Роджера A, будучи ревностным членом секты ессеев[27], презирал секс, а восемнадцатую поправку[28] считал Божьей милостью и провалом деяний Люцифера. Оба постулата вбивались в голову A ежедневно, пока отец не скончался от инфаркта в сорок два года. Спустя некоторое время A вместе с матерью въехали в квартиру, в которой теперь он проживал один. Он получил ученую степень в Р… университете, расположенном неподалеку, а затем должность в Институте изучения Времени и вел степенный благопристойный образ жизни. Все это время он держал B в заточении в мрачной потайной подземной темнице с люком в готическом замке своего подсознания. Его мать скончалась от уремии, когда ему было тридцать восемь лет. Вскоре после этого он начал работу над своей машиной времени. Только после того, как он усовершенствовал ее и предпринял свое первое путешествие, B покинул свою темницу. Само собой разумеется, его поведение было отражением его чувств, другими словами, он вел себя как моряк в увольнении, любитель женщин и выпивки, и само собой, продолжал вести себя так же в каждом следующем путешествии. И все-таки, в отличие от С, B не был полностью самостоятельным; при этом эффект получился таким, словно разделение было полным. A отказывался воспринимать еженедельные отлучки B из замка и вычеркнул все свои воспоминания о путешествиях в прошлое. Конечно, он не мог убрать ни физических последствий разгульной жизни B, ни ненависти к самому себе из-за того, что подсознательно знал об этом.
Роджер Норбрук A: Завтра ровно в 9:00 утра я снова стану «подопытным кроликом». Я не хочу, но какая-то внутренняя сила вынуждает меня сделать это.
Как и раньше, нексус составит минус двенадцать часов. Потенциал поля значительно повысился, но вряд ли мои труды скорее увенчаются успехом, если я попробую более долгую петлю. По тем же причинам маловероятно, что более короткая сослужит мне добрую службу. (Так или иначе первоначальные координаты нексуса останутся примерно такими же, но это вряд ли можно рассматривать в качестве коэффициента безопасности, пока я не узнаю первоначальных координат.)
Синхронные часы на стене в мастерской показывали 22:07. Я деактивировал поле и, уставший, повернулся к двери. Мне больше нечего было там делать. Я уже сделал все возможное для достижения успеха. Нечего сказать, успех! Я с понурым видом вышел из небольшой комнаты (первоначально это был просторный стенной шкаф), погасив свет и закрыв за собой дверь. Я сел в кресло в гостиной и продолжил смотреть телевизор.
Я бесцельно переключал каналы: ни одна из унылых передач не достигла моего разума.
И не потому, что они были неинтересными. Причина в том, что мой мозг с мазохистским упорством возвращался к неудачным попыткам достичь ретроперемещения, в каждой из которых я сбивался с пути, попадая в щекотливые положения. Однажды, к своему ужасу, я обнаружил себя в постели рядом со странной и абсолютно голой женщиной, без сомнения – проституткой; в другой раз я оказался в отвратительной сточной канаве, и мой костюм был безвозвратно испорчен; в третьей я колотил в дверь бара, незаконно торгующего спиртными напитками. А ненависть к самому себе! Боже мой! Эта ненависть!
В последнее время я страдал от депрессии – порой она была такой острой, что граничила с отчаянием. Я без колебаний связал бы ее возникновение с моими систематическими неудачами путешествий во времени, но в какой-то степени я был в подавленном состоянии еще до начала моих экспериментов; если уж на то пошло – даже до того, как я задумался о пространственно-временных искривлениях и проходах. Так что, хотя мои провалы и усиливали мрачные мысли, они не могли быть их единственной причиной.
В последнее время я был доведен до изнеможения и страдал от кратковременных провалов в памяти. Во время одного из них я купил себе пистолет и коробку с патронами.
Я понимаю, что мне следовало бы знать, откуда они взялись, но у меня не было ни малейшего воспоминания об этом действии, и лишь вчера я обнаружил опасное оружие и пугающую маленькую коробку в своем архивном шкафу. В другой раз я, должно быть, откопал где-то коричневый костюм из ткани в тонкую полоску, который не носил уже много лет. Я понимаю, что, наверное, это сделал я, потому что только сегодня утром я видел его висящим в гардеробной.
Я чувствовал, как мои руки трясутся настолько сильно, что электронный пульт управления выскользнул у меня из рук и упал на пол. Нет уж, никогда этому не бывать.
Так или иначе я должен был взять себя в руки и обратить в бегство уродливую тень, что продолжала стоять у меня за спиной. Я сосредоточил все свои душевные силы на цветном, но почему-то тусклом уменьшенном мире вокруг себя. Наконец, мои старания окупились: до меня дошел смысл на первый взгляд бесцельных действий игроков; я стал понимать избитые реплики, снова и снова слетавшие с их губ.
Я с облегчением откинулся на спинку кресла. Позднее тем же вечером я включил какой-то старый фильм и смотрел его до тех пор, пока мог бодрствовать. Потом приготовил себе стакан теплого молока и пошел спать.
Суббота, 23:55; Роджер Норбрук B:
Мы лежали в кровати (супружеское ложе, не иначе), утолив на время плотский голод, и болтали. Никаких виски «Сиграмс & 7» и никаких «Отверток», хотя сообразительная Саломея сходила за бутылкой бургундского вина из запасов в кухонном буфете, так что в возлияниях в честь Бахуса мы не нуждались. У нее есть ребенок – подросток, учится в школе, но она отправила его к тетушке Джейн или Марне до понедельника. Красное вино. Ее одиннадцатилетний сын за городом. Бордовое. На стене напротив нашего пружинного Эдема висит портрет клоуна. Красное вино, бордовое.
Это трагикомичное, уродливое, разноцветное лицо. Портрет рогатого супруга? Она смеется над моей шуткой, и я вслед за ней. Мы покатываемся со смеху, лежа в кровати.
Еще вина. Бордовое, бордовое, красное вино, как та роза, что ты подарила мне, любимая, самая красная роза, я буду вспоминать, как ласкал тебя тогда, и мы лежали рядом в розовом свете твоего ночника, как два влюбленных подростка в ночи. Бордовое, красное вино, красная роза… Три долгих года я работал до изнеможения, Саломея, сооружая портал, чтобы наступила эта ночь и другие, похожие на нее; я резал текстуру света и латал ее снова и снова сто тысяч раз и наконец-то заставил ее искривиться; и потом я сказал: «Сезам, откройся!» – и вот он! яркий и ослепляющий портал, казалось, он раздвинулся, и я шагнул в него и быстро упал в прошлое. Снова и снова, и снова. Семь – я посчитал – раз. И каждый раз, Саломея, когда я возвращаюсь, мой переход случайно высвобождает меня и трансвременные силы, разрывая на куски мою пуританскую смирительную рубашку, что я обычно надеваю на работу, в церковь и в кровать. Ацетилен плавит викторианские решетки моей холодной железной камеры, пока они не растают в лужу расплавленного металла у моих ног, и я делаю шаг вперед в когда-то запретные лозы и с жадностью поглощаю сахарные грозди жизни. Бордовое, бордовое, красное вино.
Воскресенье,12:07; Роджер Норбрук С:
Мне открывался чудесный вид на пригородный дом (в американском колониальном стиле) в тени высокой ограды, за которой я исчез, после того как кэб высадил меня и умчался прочь. К тому времени примыкавший к дому гараж на две машины уже проглотил микроавтобус женщины. Свет на нижнем этаже, который зажегся несколько минут спустя, все еще горел. Свет в окне наверху, который включили немного позднее, тоже еще горел. Последний был тусклым и еле пробивался сквозь закрытые жалюзи.
Лучше всего, пожалуй, будет зайти с тыльной стороны дома. Но прежде чем забраться через какое-нибудь окно, надо попробовать заднюю дверь. Люди всегда прячут ключи от дома в самых «оригинальных» – и самых очевидных – местах: в козырьке крыльца, в корзине для бутылок молока, под половиком. Тем не менее я немного подождал. Сейчас он, по всей видимости, восстанавливает силы после первого вечернего совокупления; через некоторое время он перейдет ко второму. Он уже не так молод. После второго, если не будет никаких неожиданностей, он уснет. Это должно произойти часа в три. До этого времени я подожду.
Потом я сниму с него все, что может способствовать его немедленному опознанию; а затем, на обратном пути в квартиру, выброшу в урну для мусора или на дно коллектора. Конечно, остается свидетельница преступления, но тут уж ничего не поделаешь. Я надеюсь, что моя жертва не назвала «наложнице» свое полное имя.
Посреди лужайки на боку лежал шезлонг. Я оттащил его в укрытие и удобно устроился на нем. В правом кармане пальто нащупал рукоятку коротконосого «смит-вессона» 38-го калибра. Зевнул. Где-то по соседству, должно быть, был пруд: до меня доносилось кваканье лягушек.
Воскресенье, 1:10; Роджер Норбрук A:
Старый фильм, который я смотрел, наконец-то, подошел к концу. За ним последовала серия 30-секундных рекламных роликов.
Пора спать. Завтра тяжелый день…
Сон после тяжелого дня.
В случае, если сценарий повторится и в 9:00 я перенесусь в пространстве вместо ретроперемещения, я, должно быть, устану так же, как и при последнем; если же все будет иначе и я совершу перемещение во времени, а не в пространстве, я, должно быть, все равно буду чувствовать себя измочаленным.
Существует некая связь между исчезновением денег из моего кошелька и отклонением от пути в другую часть настоящего, но я не способен уловить ее.
Возможно, мой мозг окутан туманом в столь поздний час. Возможно, вечернее электрохимическое путешествие притупило его.
(Роджер Норбрук D: Морально-нравственные метаморфозы, которые испытывает A при каждой попытке путешествия в прошлое, абсолютно не связаны с трансвременными силами, присутствующими там. Просто каждый раз, когда он попадает в прошлое, он понимает, что формально его не существует, что перед ним простираются двенадцать часов абсолютной свободы. Важность, самодовольство, самообман, страх – все отпадает: он «сдирает» с себя свою личность и становится B.)
(Роджер Норбрук A: Я выключил телевизор и отправился на кухню, чтобы подогреть стакан молока. Я отнес его в спальню, разделся и снял контактные линзы. И снова меня одолели мысли о моих повторяющихся неудачах достичь прошлого. Может, ошибка в том, что я не решился довериться коллегам и проводил эксперименты не в Институте? Бремя не было бы таким тяжелым, раздели я его с другими людьми.
А вдруг они не согласились бы принять в них участие?
Не стали бы они, как я и опасался вначале, отмахиваться от меня и называть глупцом за спиной? Меня, с развязанными шнурками? Того, кто сидит дома, пока они гуляют и пьют джин? Того, кто спит один, пока они прелюбодействуют с женами друг друга?
Нет, я поступил правильно. Великие подвиги совершаются благородными людьми в одиночку.
Воскресенье, 3:01; Роджер Норбрук B:
– Давай, наполни Кубок, Саломея, И пусть растают твои зимние раскаяния в огне весны: Птице Времени недолго осталось порхать – И она готова отправиться в Путь!Воскресенье, 3:10; Роджер Норбрук C:
Ага! В корзине для бутылок молока, как я и думал.
Воскресенье, 3:23; Роджер Норбрук A:
Что-то разбудило меня! Кто-то.
Я чувствую его присутствие в комнате.
Нет, не в комнате. Внутри меня.
Депрессия, с которой я ложился спать, улетучилась. На смену ей пришла ненависть. Ненависть, настолько холодная и бесчеловечная, что ее даже трудно назвать чувством…
Боже! Что со мной происходит? Словно кто-то завладел моими мыслями, разумом, телом – со всеми…
Роджер Норбрук С: Потрохами. Я включил ночник, поднялся, снял с себя его пижаму и облачился в его нижнее белье и носки. Не обратив внимания на его контактные линзы, я вышел из спальни и направился в рабочий кабинет.
Я хорошо выучил свою роль…
Воскресенье, 3:26: Роджер Норбрук B:
Мы с Саломеей слились по второму кругу. Клоун потупил взор, в его глазах грусть и тоска. У него Weltschmerz[29]. Он уже видел подобные зрелища. Моя любимая всего лишь увядшая красная роза…
Клоун в Пафкипси, успокоила меня Саломея. Очень-очень далеко. Мы задремали бок о бок. Сквозь посткоитальный сон я услышал звук его шагов на лестнице с ковровым покрытием. Рядом со мной зашевелилась Саломея, она повернулась и закинула свою гладкую нежную ляжку мне на живот. Послышался едва различимый шорох, как будто открылась дверь; спустя вечность раздался короткий щелчок, и в комнату ворвался яркий свет. Но тот, кто вошел в комнату, направив на нас револьвер, был не клоун. Это… был… Боже правый! Нет! Этого не может быть! Но почему? Почему?
Саломея закричала. Я постарался перемахнуть через нее на другую половину кровати. Раздалось странное кряканье, и что-то тяжелое ударило меня в левую лопатку. Потом второй, похожий звук, и второй удар, приводящий в оцепенение. Я не мог двигаться.
Краснота и наступающий мрак… Неожиданно стало светло, свет становился ярче. О чудный свет! О, каверза Времени: Время – и есть Свет, Свет Времени – это все, что ты знаешь на Земле, и все, что тебе надо знать… Иди сквозь свет, сквозь свет и тьму и накатывающую красную волну, иди сквозь нее на ту сторону, иди сквозь свет! …Ну вот, теперь лучше – я посплю…
Воскресенье, 3:29; Роджер Норбрук C:
Зайдя в рабочий кабинет, я надел старомодные очки в роговой оправе, которые обнаружил вчера в ящике письменного стола, загроможденного вещами. К счастью, разница в диоптриях с его контактными линзами была минимальной.
Я вернулся в спальню и достал из комода рубашку и галстук коричневого цвета.
Я надел их, взял из шкафа коричневый костюм из ткани в тонкую полоску, который два дня назад вытащил на свет божий из чемодана в пыльной комнате, принадлежавшей его любимой матери. Теперь он использовал ее как склад. Я надел костюм.
Его повседневные ботинки подойдут.
Одевшись, я снова вошел в спальню и переложил содержимое его карманов в свои. Потом я положу все назад, верну костюм в шкаф, а очки в роговой оправе – в ящик письменного стола. Он и не вспомнит о том, что я завладел всем этим, независимо от того, сколько улик я оставлю, но для достижения наилучшего результата я должен играть по правилам.
Я возвратился в рабочий кабинет, открыл архивный шкаф, достал «смит-вессон» 38-го калибра, который приобрел на прошлой неделе, зарядил его и сунул в правый карман пальто. Я положу на место револьвер и неиспользованные гильзы (если они останутся) после того, как закончу это дело сегодня ночью.
Из кабинета я сразу направился в мастерскую, вошел и запер дверь. Небольшая комната наполнилась свечением, я выставил время 15:31 минус семь часов на ретролокаторе и активировал поле. Это позволит мне прибыть в прошлое во временной отрезок приблизительно за девять минут до моей жертвы. При формировании световое искривление войдет в такую компенсацию, которая будет необходима для поддержания постоянства нексуса в пространстве.
Выключив свет, я расположился перед полем. Через мгновение появились первые световые частицы. Они стремительно размножились, и едва различимый гул начал раздаваться из преобразователя энергии.
Я сосредоточил свой взгляд на светящемся циферблате синхронных часов на стене напротив.
И принялся ждать.
Я нисколько не тревожился, что еще не вернулся со своего дела. Более того, я волновался, если бы уже вернулся, ведь я не планировал возвращаться в квартиру традиционным способом до того, как отправлюсь оттуда с помощью поля. Количество парадоксов, которое способно выдержать Время в заданный временной отрезок, ограничено: еще один, и их будет уже слишком много.
Когда я на самом деле вернусь, я повешу костюм на место в шкаф, положу очки в роговой оправе в ящик письменного стола, оружие и неиспользованные гильзы в архивный шкаф и потом сразу отправлюсь в кровать. Утром я должен буду проснуться, изображая его. Только когда он пересечет поле, мое дело будет по-настоящему завершено.
Настенные часы показывали 15:51. Я без колебания отправился в свое путешествие.
(Роджер Норбрук D: Упрямство, с которым С спланировал убийство B, сбило его с толку и в итоге A, а совсем не B был и стал его предполагаемой жертвой. Но C, при всем своем хладнокровии, был чересчур педантичен, чтобы сделать все мгновенно, так как в этом случае он бы просто взял в рот дуло пистолета или приставил бы его к виску и нажал на курок. К счастью, наличие современного технического устройства позволило ему обойти эту неприятность. Стало быть, в некотором смысле машина времени Роджера Норбрука могла бы относиться к безликим в своем роде, но совершенно гуманным устройствам для самоуничтожения сродни «петле висельника», гильотине и электрическому стулу.
(Любопытно поразмышлять, не могло ли это быть истинным мотивом для ее изобретения.)
Воскресенье, 8:25; Роджер Норбрук А:
Я проспал! Мне нужно поторопиться!
Крайне важно, чтобы я вошел в поле ровно в 9:00.
(Почему это так важно? И почему я чувствую себя настолько опустошенным? И почему я так сильно зарос, что нуждаюсь в бритье?
А-а, не все ли равно.)
Я поставил кофейник на огонь, пока одевался. Радиоприемник с будильником, который не разбудил меня раньше, без устали болтал сам с собой на тумбочке. Что-то про убийство. Я рассеянно слушал, одеваясь. Незадолго до 3:30 миссис Альфред Хьюитт, проживающая в доме номер 86 по Сент-Джеймс, подверглась нападению двух подозрительных типов, один из которых ограбил и застрелил насмерть второго, который, по всей видимости, совершил изнасилование и умудрился снять с себя одежду и залезть к ней в постель, не разбудив ее. Полиция не склонна доверять ее истеричным показаниям.
На данный момент они не смогли установить личность жертвы или получить сведения о его сообщнике, убийце, но… Я не уловил окончание фразы, потому что был уже в ванной и орудовал электробритвой.
(Роджер Норбрук D: С не убивал B. Это сделал я.
Да, преступление было совершено руками С – я не это имел в виду. Но я мог его предотвратить.
Достаточно было всего лишь уничтожить C.
Если уж на то пошло, я мог бы его уничтожить давным-давно. Но я этого не сделал.
Даже сейчас я могу отменить убийство B. Просто не допустить, чтобы C стал его мишенью. Все, что мне надо было сделать, это обогнать A и не дать Роджеру Норбруку войти в поле. Я мог бы стереть это происшествие целиком со страниц Времени.
Я мог бы, но не стану.
Я хочу, чтобы Роджер Норбрук пересек поле.
Эта переполненная людьми землянка, в которой я жил всю свою жизнь, не совсем обычная в своем роде, и, по всей видимости, она была не лучше и не хуже таких же землянок моих собратьев. Но для меня она стала тюрьмой, как, вероятно, и для них.
И я не смогу покинуть ее еще долго.)
Роджер Норбрук A: Вернувшись на кухню, я проглотил обжигающий кофе так быстро, как только смог. Бросил взгляд на часы над плитой: 8:47.
Я поспешил в мастерскую, отпер дверь, вошел и закрыл ее за собой. Включил свет и выставил время 9:00 минус двенадцать часов на ретролокаторе. Я активировал поле, проверил его и встал перед ним.
Появились первые слабые частицы света. 8:54.
Я почувствовал, что потею. Холодный, липкий пот.
8:56. Гул преобразователя энергии наполнил комнату. Световой портал превратился в искрящийся водопад. Казалось, он манит меня к себе.
8:58.
Где-то в глубине души поднималось предчувствие. Я бы назвал это добрым знаком, если бы не испытывал похожее обманчивое предчувствие ранее.
9:00.
Господи, только бы опять не провалить все!
Роджер Норбрук B:
Сезам, откройся!
Роджер Норбрук C:
Задание выполнено.
Роджер Норбрук D:
Когда душа, вдруг сбросив тлен с себя, уж выгорит И воспарит, открывшись, в небесах, Как не покинуть ей тот глиняный пригород? Совсем одной, забыв про стыд и страх.(Уходят.)
Повелитель света Перевод Я. Лошаковой
Когда командир корабля, лейтенант Гест, заметил Необычный Орбитальный Объект, оставалось меньше пяти часов до планируемого схода «Гелиоса-5» с солнечной орбиты и отправки домой. Или туда, где дом будет находиться к концу следующего года. Два часа отделяло его от последнего орбитального Схода.
Гест похоронил своего второго пилота, командора Эйвери, на другой стороне Солнца. Эйвери скончался от уремии. Не зная, что предпринять, Гест сидел и смотрел, как тот умирает. К тому времени, как лунная база поставила по симптомам диагноз и передала соответствующие инструкции, было уже поздно.
Надо полагать, времени не хватило бы в любом случае.
Так что Гест похоронил Эйвери в Солнечном море. Эйвери, напарничек. С тех пор как он ушел, все ночи стали серыми. Напарник.
Вообще-то он терпеть его не мог. Да, поначалу они быстро сошлись и даже подружились, но уже через полгода полета к Солнцу в сознании Геста укоренились первые ростки неприязни, которые быстро разрослись и заполонили его целиком, словно ядовитый сорняк. О чем бы они ни говорили, каждое слово Эйвери вызывало у него гневное отторжение.
По прошествии времени он понял, что просто не мог не возненавидеть Эйвери, так же, как и Эйвери не мог не возненавидеть его. Экипаж корабля должен состоять из трех человек, но экономия энергии и пространства сказали свое веское «нет», и полетели только двое.
С того дня, как умер Эйвери, Гест стал ненавидеть себя. Других объектов рядом не было.
НОО двигался со стороны Солнца на расстоянии примерно одной восьмой мили от носовой части «Гелиоса-5». Гест вывел изображение на экран панели управления и описал его лунной базе как неопознанный объект длиной тридцать футов и около восьми шириной; оба конца изогнуты кверху, как у персидской туфли с двумя мысками. Скорее всего, деревянный. (Дерево?) В средней части корабля видна скамья с лежащей фигурой в маске. Две другие фигуры – очевидно статуи, одна – в головах покоящейся фигуры, другая – в ногах. Орнамент: буйство красных, желтых, синих оттенков.
ЛУННАЯ БАЗА: Подойди ближе, Энди. Зафиксируй на нем одну из камер.
ГЕЛИОС-5: Порядок.
Гест перешел на ручное управление. Он снизил орбиту «Гелиоса-5» с помощью короткого включения тормозного двигателя и подвел корабль к объекту, оказавшись на расстоянии менее пятидесяти футов позади НОО. Он включил автопилот, чтобы поддерживать дистанцию, затем перебрался к передней панели пульта управления и сфокусировал носовую телевизионную камеру, переведя ее в автоматический режим. Снаружи корпус «Гелиоса-5» напоминал зеркало Гезелла; внешняя поверхность была зеркальной, затемненная внутренняя – прозрачное стекло. За счет вращения вокруг своей оси на заданной скорости температура с внешней стороны корабля поддерживалась на отметке 65 градусов по Фаренгейту[30].
Изображение с носовой камеры было отправлено радиолучом на лунную базу. Несмотря на ослепительно сверкающее Солнце, оно получилось четким и детальным. Фигура, лежащая на скамье, была завернута в белые полоски ткани или что-то подобное. Это был человек, мертвый. Очевидно, скамья представляла собой похоронные носилки, а статуи по обе стороны изображали молодых женщин в простых платьях вроде туник. У обеих были темные волосы с челкой, спадавшие ниже плеч.
Пара громоздких деревянных весел свисали под углом в 45 градусов с похоронных носилок, между ними была установлена третья статуя, изображавшая кормчего.
Харон?
Гест взял себя в руки. Это космос, а не Стикс.
ЛУННАЯ БАЗА: Мы подумали, что у тебя начались галлюцинации, Энди. По-видимому, это не так. Продолжай снимать эту хреновину – мы постараемся связаться с толковым египтологом.
ГЕЛИОС-5: Зачем нужен египтолог?
ЛУННАЯ БАЗА: Мы тут все сошлись во мнении, что изображение на наших экранах – египетская солнечная ладья. Ты, наверное, помнишь – лодки, которые они ставили в гробницы фараонов, чтобы старики сопровождали бога солнца Ра в его путешествиях по царству теней.
ГЕЛИОС-5: Но это абсурд!
ЛУННАЯ БАЗА: Совершенно верно. Со всех мыслимых точек зрения. Мы скоро свяжемся с тобой.
Гест вернулся в жилой отсек «Гелиоса-5». Он называл его «главный оперативный пункт». Там были сосредоточены датчики, регистраторы, компьютерные базы данных и приборы для изучения Солнца; но привинченный болтами штурманский столик создавал уют, а основной иллюминатор, выходивший на солнечную сторону, чем-то напоминал цветной телевизор. Но вот проблема – всего один канал. Кроме того, иллюминатор был устроен хитрым образом: его сильно затемненное стекло уменьшало объект настолько, что целиком его можно было увидеть, как на 24-дюймовом экране. Это имело практическую и психологическую цели – с такого близкого расстояния открывался потрясающий вид на Солнце, и его можно было изучать целиком только с помощью приборов, находящихся снаружи на корпусе. Таким образом, Гест мог видеть звезду целиком и в то же время не испытывать тревоги от опасного сближения с ней.
Он сел в свое «кресло», на свою половину ложа для астронавтов (о том, чтобы занять половину Эйвери, не могло быть и речи) и включил монитор пультом управления. И снова НОО проплыл перед его взором. Гест, нахмурившись, стал пристально всматриваться в него. Удивительный объект сулил ему избавление от монотонных дней, и ночей, и, по идее, Гест должен был испытывать воодушевление. Но энтузиазма не было: так сильно его затянуло в депрессию.
Тяжелое гнетущее состояние не отпускало его с тех самых пор, как умер Эйвери. Хотя нет, оно появилось задолго до этого. Смерть Эйвери лишь обострила его, и Гест снова направил ненависть внутрь себя. Пару раз он пытался переадресовать это чувство в сторону лунной базы: но та была слишком далекой и безличной.
На черном стволе космического звездного дерева кто-то вырезал огромное бесформенное сердце, а внутри оставил надпись: «Э.Г. ненавидит Э.Г.».
Гест, сгорая от ненависти, бросил беглый взгляд в сторону «цветного телевизора». Облик единственного действующего лица слегка изменился. Теперь это был простой диск золотистого цвета, великолепный золотой диск с четкими и выразительными лучами, два нижних луча изгибались книзу и заканчивались парой крошечных рук…
– Приветствую тебя, о Диск, о Повелитель Света. Приветствую тебя, о священный Атон! Разве могу я быть в заточении в гробнице, разве не могу я вернуться назад? Пусть все члены моего тела возродятся, когда я узрею твою красоту, ибо я один из тех, кто почитал тебя на Земле…
Потрясенный, Гест впился руками в подлокотники своего ложа. Эти странные слова сами вылетели из его рта, зародились в его голове.
Повелитель Света. Священный Атон.
В ужасе он снова бросил взгляд на «цветной телевизор». Бог Солнца убрал свои маленькие ручки и вернулся в прежнее состояние.
Надолго ли?
Гест пристально взглянул на НОО.
– Гори в аду! – произнес он. – Сгори, как должно гореть дерево в таком дьявольском пламени! – кричал Гест. – Прочь! – завопил он.
НОО безмятежно продолжал свой путь по орбите, как если бы у него было столько же причин находиться там, сколько у «Гелиоса-5».
Естественно, он не смог бы сгореть, даже если бы захотел. Но под воздействием такого сильного жара дерево должно было усохнуть, деформироваться, развалиться на части – словом, видоизмениться. Конечно, если лодка на самом деле сделана из дерева. А статуя, лежащая на скамье, вероятно, не смогла бы выдержать такой накал больше пары секунд, не претерпев изменений.
Гест уставился на статую. Не нужно быть египтологом, чтобы хоть немного представлять себе, как в Древнем Египте проходили похоронные церемонии. Гесту приходилось читать о мумиях – о фараонах и более низшей знати, замурованных в своих гробницах вместе с дурацкими солнечными ладьями, об их наивной вере в жизнь после смерти и о переходе туда посредством ка. О воссоединении с богом Ра. Статуя, лежащая на скамье, была точной копией мумий, которые ему приходилось видеть. А вот ее ка что-то не видно, хотя она и должна быть где-то поблизости.
Чувствуя закипающую ярость, Гест постарался привести мысли в порядок. Вероятнее всего, это имитация солнечной ладьи, которую вывели на орбиту не варвары бронзового века, не знавшие колеса, а шутники из века высоких технологий, умудрившиеся каким-то образом опередить МСА (Международное Солнечное Агентство) в использовании энергии Солнца.
Он поел на скорую руку, принял легкий транквилизатор и задремал.
ЛУННАЯ БАЗА: Энди, ты здесь?
ГЕЛИОС-5: Где же еще мне быть, черт побери?
ЛУННАЯ БАЗА: Полегче, старина. До последнего Схода остается меньше часа. Ты даже не заметишь, как будешь на пути к дому. А пока кое-какая информация: мы связались с одним египтологом, ознакомили его с твоей программой космических исследований, и он подтвердил наши опасения. Твой НОО – солнечная ладья, нет никаких сомнений.
ГЕЛИОС-5: Но он не может быть настоящей солнечной ладьей!
ЛУННАЯ БАЗА: Может или нет, но нам придется исходить из этой версии – во всяком случае, до тех пор, пока мы не найдем лучшего объяснения. А пока наш египтолог утверждает, что статуя на скамье изображает жреца времен Эхнатона, отца Тутанхамона. Он допускает, что это предположение основано на том, что Эхнатон отверг генотеизм в пользу монотеизма, который олицетворял Ра-Хорахте или Атон, и что именно во времена правления этой династии – Восемнадцатой – поклонение Солнцу, так и не снискавшее популярности у народа, было официально принято государством. По его мнению, совершенно исключено, что это ладья Эхнатона – в этом случае она была бы больше по размеру и богаче украшена. И еще: на статуе надета маска Осириса, ее ношение было стандартной процедурой для перехода в жизнь после смерти. Две женские статуи – Исида и Нефтида. Исида была сестрой и супругой Осириса; Нефтида лишь сестрой. И теперь, когда эта проклятая лодка тут оказалась…
ГЕЛИОС-5: У меня есть только одно объяснение этому! Банда шутников забросила ее сюда, чтобы посмеяться над нами!
ЛУННАЯ БАЗА: Ты же прекрасно понимаешь, Энди. Теоретически она могла быть выведена на орбиту с помощью обычного корабля. С помощью обычного земного космического корабля. Но так близко к Солнцу подходили только «Гелиосы» – 1, 2, 3 и 4, и все они были, во-первых, беспилотными, а во-вторых, недостаточно грузоподъемными и мощными. Не говоря о том, что МСА не стало бы играть в подобные игры. Это исключено.
ГЕЛИОС-5: Значит, вы не знаете, как она тут оказалась?
ЛУННАЯ БАЗА: В настоящий момент – нет, не знаем. Но у нас есть команда онтологов, они сейчас думают над этим.
ГЕЛИОС-5: Почему онтологов?
ЛУННАЯ БАЗА: Мы столкнулись с явлением, которое требует нового подхода к реальности. Ладья есть как факт; ее присутствие на орбите невозможно объяснить, исходя из общепринятой парадигмы; следовательно, мы должны искать другие объяснения. Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим технологиям.
Как только мы что-нибудь обнаружим, мы сразу же сообщим тебе. А пока – держи камеру включенной. И будь настороже.
Гест встал со своего «кресла». Он полушел, полуплыл к отсеку, в котором хранились записи развлекательных передач. Но, черт возьми, он не смог отыскать ни одной, хотя бы отдаленно связанной с Древним Египтом.
Неудивительно.
В его жилах текла египетская кровь, всего частичка, по материнской линии. Могло ли это объяснить те странные слова, которые он произнес? Скрытые коды ДНК пробудились при виде солнечной ладьи?
Гест не верил в такое. Настоящие трудности никогда не решаются так просто. Чтобы справиться с ними, нужно сразиться с тысячами научных священных коров.
Возможно, лунная база права в том, что пытается обойти это «вездесущее стадо».
Вернувшись в оперативный пункт, Гест обнаружил там гостя. Это был худощавый мужчина с бронзовым оттенком кожи, в замысловатом головном уборе, короткой белой юбке и сандалиях из тростника на шнуровке. Он держал перед собой развернутый папирус, зачитывая его вслух. Казалось, что он не замечает Геста. Язык, на котором он говорил, даже отдаленно ничего не напоминал Гесту, хотя облик незнакомца говорил о том, что языку не менее тысячи лет, а манера чтения наводила на мысль о заклинании. Посетитель почитал еще немного, потом свернул папирус и исчез.
Гест доложил о происшествии на лунную базу, и ответа на этот раз пришлось ждать втрое дольше обычного. Затем:
ЛУННАЯ БАЗА: Энди, мы проконсультировались с нашим египтологом. Он говорит, что ты только что дал довольно точное описание одного из главных действующих лиц «Книги мертвых».
ГЕЛИОС-5: Звучит чертовски ободряюще!
ЛУННАЯ БАЗА: Мы и не старались приободрить тебя, Энди. Мы говорим тебе все как есть, потому что прошлый опыт космических полетов говорит о том, что худший враг астронавта – неизвестность. Как только что-то перестает быть загадкой, у астронавта появляется пусть минимальный, но шанс справиться с проблемой. Допустим, мы не знаем, как твой гость попал на борт, не говоря уже о том, каким образом он преодолел миллионы миль пространства и тысячи лет времени; но мы, по крайней мере, знаем, откуда и из какого времени он появился, и теперь ты тоже знаешь это. Благодаря нашему египтологу мы также знаем, что папирус гостя представляет собой древнеегипетскую «Книгу мертвых», и мы практически уверены: отрывок, который он прочитал, предназначен для безопасного входа усопшего на борт Ладьи Ра.
ГЕЛИОС-5: Но вы знаете, зачем он его прочитал?
ЛУННАЯ БАЗА: Нет. Но наша команда онтологов работает над этим. Просто держись, Энди. Мы свяжемся с тобой как можно скорее.
Гест держался. За подлокотники своего ложа. Он держался крепко, потому что его неудержимо тянуло подняться из кресла и улечься на гладкую поверхность штурманского столика.
Он взглянул на хронометр на приборной доске. Сорок две минуты до последнего Схода.
Он взглянул на «цветной телевизор». Лучше бы он этого не делал. Бог Солнца снова превратился в золотистый диск с человеческими руками.
Атон.
– Приветствую тебя, о Диск, о Повелитель Света, – услышал он свой голос. – Приветствую тебя, о Великий Бог, создавший эту ладью и принесший меня на нее.
Тридцать шесть минут до Схода.
В конце концов он понял, что крепко держаться за подлокотники бесполезно; он сейчас встанет и ляжет на стол. Он полушел, полуплыл. Осторожно улегся на свою скамью. Он понял, что гость вернулся и теперь возвышался над ним, держа «Книгу мертвых». На этот раз Гест понял слова, хотя язык, на котором они произносились нараспев, был по-прежнему ему незнаком. Несколько минут назад он сам начал читать отрывок нараспев; теперь его передали Гесту, так как он был понятен:
– Приветствую тебя, о Великий Бог, создавший эту ладью и принесший меня на нее. Позволь мне выбирать курс этого плавания и позволь мне служить Тебе и быть среди тех, кто безустанно странствует среди звезд. То, что вызывает у Тебя отвращение, и то, что вызывает отвращение у меня, я отведывать не стану, и то, что Тебе неприятно, неприятно и мне, ибо оно есть грязь, и я ее отведывать не стану, но отведаю священной еды погребального приношения, и да не буду отвергнут посему…
Дочитав заклинание, главный распорядитель свернул папирус, возложил его на грудь Геста и удалился.
ЛУННАЯ БАЗА: Привет, Энди. Теперь слушай внимательно. Наша команда онтологов пришла к выводу, что орбита «Гелиоса-5» в настоящее время представляет собой некий интерфейс – в данном случае общую границу двух реальностей, Первая Реальность – наш материальный мир, Вторая Реальность – нематериальное царство теней, порожденное воображением древних египтян. Вторая Реальность, как настаивают онтологи, существует наравне с Первой Реальностью, поскольку обе они – субъективная интерпретация ноумена. Ты в опасности, и есть два возможных варианта развития событий. Первый: поскольку в интерфейсе находятся составляющие обеих реальностей, Вторая Реальность может в любой момент взять верх над Первой Реальностью. Второй вариант: согласно орбитальной траектории «Гелиоса-5», корабль может полностью покинуть Первую Реальность и войти во Вторую Реальность. В любом случае, результат будет одинаков: твое человеческое естество изменится.
К счастью, до последнего Схода остается меньше получаса; ускорение двигателей унесет тебя в безопасное место. Но до тех пор тебе нужно продержаться, Энди; если ты не дождешься Схода, ты навсегда останешься на орбите, и будет уже неважно, в какой из реальностей.
Лучшее, что ты можешь предпринять – это отвлечься. Займи чем-нибудь голову. Посмотри развлекательные передачи, порнофильмы (я знаю, что вы с Эйвери пронесли несколько на борт); думай о Земле; вспомни, как мальчишкой лазил по деревьям за яблоками. Делай что хочешь, только не смотри на солнечную ладью, и что бы ни случилось – не смотри на Солнце!
Энди?
ЛУННАЯ БАЗА: «Гелиос-5», ты слышишь нас?
ЛУННАЯ БАЗА: «Гелиос-5», ответь.
ЛУННАЯ БАЗА: Ответь, «Гелиос-5».
ЛУННАЯ БАЗА: Энди! Энди! Ради Бога, возвращайся домой!
Любопытное происшествие с Генри Диккенсом Перевод А. Комаринец
Исхудалая личность в потрепанном деловом костюме и лоснящейся черной шляпе, тащившая старинный черный чемодан, существование которого впоследствии решительно отрицал контролер на посадке, была зарегистрирована на орбитальный рейс № 54 как Генри Диккенс из Салема, штат Массачусетс. Если не считать небольшой дисгармонии, которую внес его архаичный вид в пестроту цветастых юбок и шорт, рубашек и слаксов, он не слишком выделялся среди прочих толпящихся на трапе экскурсантов, хотя старшая стюардесса мисс Шоу позднее вспомнила, что заметила в нем некое высокомерие, какое, по ее словам, «редко встречаешь у людей среднего класса».
Оказавшись в пассажирском отсеке ЭОС, он уселся ровно посередине двойного сиденья в самом заднем ряду по правому борту. «Точно хотел, чтобы люди подумали, будто это сиденье одиночное и он вправе занимать его один», – как выразилась экскурсантка миссис Голлоран, которая вошла сразу за ним. Возможно, миссис Голлоран была права, а возможно, и нет. Однако, представляется маловероятным, что зная, как трудно заполучить даже одно такое место – а после двух месяцев в списке ожидания «Небесных экскурсий, инк.» он не мог этого не знать, – так вот, трудно поверить, что, зная об этом, Генри Диккенс был настолько наивен, чтобы надеяться сохранить за собой целый ряд при помощи такой детской уловки.
Как известно любому, кто когда-либо отправлялся в экскурсионный полет на орбиту, пассажирский отсек Экскурсионного Орбитального Судна прискорбно напоминает изнутри некую разновидность наземного транспорта, давно уже канувшую в прошлое и известную как автобус «Грейхаунд». Хотя верно, что «место водителя» (читай «кабина пилота») расположено не «спереди», а «сзади», тут все те же ряды двойных кресел и все тот же узкий проход между ними. И хотя верно, что мужская и женская уборные располагаются не в хвосте, а на носу, аварийный шлюз занимает практически то же место, что и аварийный выход в автобусе. Инстинктивное ощущение, что, войдя в пассажирский отсек, ты попал в прошлое, усиливают квадратные иллюминаторы, расположенные через равные интервалы вдоль стен – по одному на каждый ряд кресел. Они не только похожи на окна, они и называются «окнами».
Но тут твердо заявляет о своих правах наша космическая эпоха, и поразительное впечатление производят прямоугольные обзорные экраны, вмонтированные в палубу перед каждым двойным сиденьем, и несомненно изумляет потолок, который от носа до кормы и от правого до левого борта представляет собой единый гигантский обзорный экран, который, едва ОЭС выходит на орбиту, показывает Небеса и все их чудеса с такой невероятной точностью, что благоговеющий экскурсант на время пяти витков, составляющих экскурсионный полет, забывает, что над ним на самом деле потолок.
Вопрос о том, намеревался ли Генри Диккенс захватить одновременно место у окна и место у прохода, в любом случае не имеет смысла. Он занимал оба кресла, пока не вошел последний экскурсант и за неимением свободных мест дал понять, что собирается сесть рядом с ним. Диккенс с готовностью освободил место, но припозднившемуся – мистеру Артемусу Солницу из Питтсбурга, штат Пенсильвания, – сразу стало очевидно, что его сосед по натуре одиночка – «первостатейный мизантроп», как он выразится позднее. (Мистер Солниц – вышедший на пенсию инженер канализационных служб, который проживает со своей матерью и посвятил лучшие годы своей жизни собиранию неизбежных и разнообразных отходов жизнедеятельности цивилизации (по его собственному выражению) и который сейчас коллекционирует редкие книги. Он член Общества святой паствы новой реформированной пресвитерианской церкви и каждое воскресенье поет в хоре.
Вскоре после появления мистера Солница в отсек вошла мисс Шоу, произнесла положенную речь о Райском обеде, который скоро все вкусят, объяснила, как в (маловероятной) чрезвычайной ситуации развернуть и надеть облегченные скафандры, спрятанные под подушками сидений, щелкнула тумблером возле аварийного шлюза, от чего спинки сидений откинулись назад, превратившись в кушетки, и приказала всем расслабиться, пока властвует «Большая Г», пообещав, что совсем скоро «ее» заменит «Послушная Искусственная Г». После она вернулась в кабину, задернула занавески из гибкостали и подобающе расположилась на своей половине сдвоенной кушетки ускорения, которую делила с младшей стюардессой мисс Найсли и которая стояла бок о бок с мягкими откидными сиденьями, занимаемыми космопилотом Арчи Мердоком и вторым космопилотом Биксом Брэкстоном. Несколько минут спустя из диспетчерской поступила команда «Старт», и ЭОС взял курс на звезды.
Ионный двигатель функционировал безупречно, и буквально через минуту «Большая Г», иначе говоря, сила земного притяжения, отступила, и все испытали на себе слабую и довольно приятную тягу, когда взяла свое «Послушная Искусственная Гравитация». Мисс Шоу вернулась в пассажирский отсек и перевела тумблер в первоначальное положение, благодаря чему кушетки снова трансформировались в кресла.
– Ух ты! – воскликнул мистер Солниц, человек довольно корпулентный, а потому часто страдающий от одышки. – Это было круто!
Генри Диккенс не ответил.
Он пристально смотрел в окно.
«Он даже не затаил дыхания, а словно бы вообще перестал дышать, – сообщил позднее мистер Солнитц. – В статую превратился».
По всему отсеку раздавались изумленные возгласы по мере того, как все новые взоры узревали Чудеса, обещанные в издании «Небесные Экскурсии» известного путеводителя «Бедекер»: и те, что открывались в обзорном экране в потолке, и те, что были видны в «окна», но больше всего восторгов вызывало голубое с зеленым чудо, которое вдруг вспыхнуло у них под ногами.
– Ну надо же, совсем как пляжный мяч! – раздался чей-то возглас.
Все рассмеялись.
Все, кроме Генри Диккенса.
Он по-прежнему смотрел в окно. Смотрел, не отрываясь.
– Хотя я не видела непосредственно его лицо, – заявила на дознании мисс Шоу, – по отражению в стекле я могла определить, что взгляд его был направлен под небольшим углом вниз – недостаточно большим, чтобы рассматривать Землю, нет, скорее у меня возникло впечатление, что нечто, завладевшее его вниманием, расположено немного ниже траектории, по которой ЭОС поднимался на околоземную орбиту. Более того, скорость, с которой мы двигались, равно как и неподвижность его взгляда, заставляли предположить, что его взгляд притягивает не отдельный объект, а некая панорама. Проследив за его взглядом, – добавила она, – я не увидела ничего, то есть ничего, кроме горстки далеких звезд, в которых – во всяком случае для меня – нет ничего необычного и им никак нельзя приписать подобного жгучего интереса.
Мисс Шоу – не только весьма привлекательная, но также исключительно наблюдательная юная леди. Мы многим ей обязаны. Мисс Найсли не единожды прошлась на ее счет, ехидно намекая, что старшая стюардесса поочередно спит то с космопилотом Арчи Мердоком, то со вторым пилотом Биксом Брэкстоном, за вычетом вторников, когда у нее выходной, и по вторникам она, предположительно, спит со своим женихом. Возможно, это и правда, однако беспорядочная личная жизнь мисс Шоу никоим образом не умаляет ее надежности как свидетеля, и вообще эти введения вполне могут оказаться злобными домыслами мисс Найсли, способность которой отталкивать мужчин уступает лишь способности мисс Шоу их притягивать.
Именно мистеру Солницу, который, будучи соседом Диккенса, имел больше всего шансов наблюдать его с близкого расстояния, мы обязаны подробным описанием этой странной и пугающей личности.
– Я бы сказал, ему за сорок, – сообщил на дознании мистер Солниц, в коллекции редких книг которого среди прочих имеются полные собрания сочинений Уорвика Дипинга, Сомерсета Моэма и Джона Голсуорси. – Но временами, когда я искоса на него поглядывал, у меня возникало адское ощущение, что он либо гораздо моложе, либо чудовищно старше, чем я поначалу предположил. Видел я его исключительно в профиль, так как он ни разу не посмотрел в мою сторону. Кстати, он не посмотрел на меня, даже когда встал и шагнул мимо меня в проход.
– А когда он это сделал, – спросил Дж. П. Мод, коронер, проводивший дознание, – вы по его манере или выражению лица могли заподозрить, каковы могут быть его истинные намерения?
– Ну, конечно же нет! – ответил мистер Солниц. – Я счел само собой разумеющимся, что он идет в «комнату для мальчиков».
Траектория ЭОС по орбите всегда пролегает над экватором и имеет перигей приблизительно в сто тридцать миль и апогей – в сто сорок. Иными словами, небесный курс, которым двигался ЭОС и который привел Генри Диккенса к гибели, был заранее известен. А потому то, что он увидел и что в конечном итоге побудило его к подобному поступку, невозможно объяснить тем, что судно случайно оказалось в неизведанном секторе околоземного пространства. А, кроме того, все экскурсанты – за вычетом мистера Солница – считали и по сей день считают, что он вообще ничего не мог увидеть.
– Да боже ты мой, – заметила позднее Дженнифер Гросси, симпатичная юная девушка, занимавшая место прямо перед ним, – там вообще не на что было смотреть! Только уйма дурацких звезд, надоевшая Луна и огромная старушка Земля! Если бы там что-то было, я бы тоже увидела!
Ее мнение, пусть и не способ его выражения, оказалось типичным для всех экскурсантов до, во время и после дознания – опять же за вычетом мнения мистера Солница.
От последнего нам известно, что за временной промежуток чуть менее полутора витков, когда он имел возможность наблюдать за своим соседом, Диккенс ни на секунду не отвел глаз от окна, но каждые четверть часа или около того поворачивал голову на сорок пять градусов – предположительно, чтобы размять затекшую шею. А когда мистер Солниц привлек его внимание к особенно красивому виду на Гималаи в начале второго витка, то в ответ услышал лишь сварливое ворчание: «В тудыть долбаные Гималаи! В тудыть долбаную Землю!»
Вполне понятно, что больше мистер Солниц не предпринимал попыток завязать беседу.
– Мне и незачем было, – заявил он в ходе допроса, – поскольку вскоре после этой вспышки Диккенс завел сбивчивую беседу с самим собой. В его бормотании сплелись языки всего лингвистического спектра – или так показалось на мой непросвещенный слух. Я, конечно, владею азами латыни и французского, кои изучал в студенческой юности, но мое понимание ограничивалось лишь теми частями его монолога, которые он произносил на английском. Однажды на этом языке он произнес: «Я мог бы поклясться, что трон побольше!» А в другом случае он сказал: «Ленивые подонки в помойку все превратили. Вот они у меня попляшут! Помяните мое слово, когда я возьмусь за дело, они у меня попляшут!» А в третьем: «Готов поспорить, он удивится, увидев меня после стольких лет! Как снег на голову… ха-ха! На космическую эру он и не рассчитывал… Посмотрим, кто кого на сей раз выставит!»
Все эти странные высказывания подтвердила Дженнифер Гросси, которая также слышала их краем уха.
Мы уже упоминали о своем восхищении наблюдательностью мисс Шоу. Избавленная ex officio[31] от таких докучных обязанностей, как приготовление закусок в кухонном отсеке возле кабины экипажа и составление описи припасов в примыкающей к нему кладовой, она могла провести и действительно провела большую часть своего времени в пассажирском отсеке, со знанием дела описывая то или иное небесное чудо и показывая экскурсантам Плеяды, галактику Андромеды, Магелланово облако и прочие небесные достопримечательности своей уважительно внимающей – за одним исключением – аудитории.
– Его поза, равно как и безразличие к тому, что я говорила, – сказала она впоследствии о Диккенсе, – напомнили мне время, когда я была маленькой и меня отослали в частный пансион – как казалось, на мой незрелый взгляд, на целую вечность. Когда я возвращалась по монорельсовой дороге в наш загородный дом, я весь обратный путь прижималась носом к стеклу и неотрывно смотрела, как мимо проносятся знакомые дома и торговые центры, решительно пропуская мимо ушей реплики старшей сестры, пытавшейся завести легкую беседу. Я не замечала ничего, помимо тех милых сердцу вех, которые некогда беспечно принимала как должное и которые теперь казались мне столь дорогими. И всякий раз, когда перед моим взором представало здание, нуждающееся в ремонте, или торговый центр, газон которого зарос, я воспринимала это как личное оскорбление, пылко возмущаясь, что из чистого небрежения местные власти позволили поблекнуть такой красоте. Однако, – добавила она, – последующий самоанализ открыл мне, что к такому сентиментальному путешествию в детство меня подтолкнули не поза или безразличие к моим словам Диккенса, а чувство одиночества, которое охватывает порой юную девушку в космосе – пусть даже на борту безопасного судна, в окружении членов экипажа и пассажиров.
Незадолго до середины второго витка, когда Генри Диккенс извлек из-под кресла чемодан и протиснулся мимо мистера Солница в проход, по всей очевидности, направляясь в «комнату для маленьких мальчиков», коллекционер редких книг получил возможность рассмотреть лицо соседа. Особенно его поразили размеры и форма носа Генри Диккенса.
– Это был не нос, а скорее уж настоящее рыло, – сказал он коронеру. – Красноватое, точно у него уже давно простуда и он часто сморкался, и испещренное рытвинами как от оспы. Его лицо и шея, по крайней мере, те их части, которые были мне видны, также были испещрены отметинами, как от оспы. Я не смог разглядеть его уши – или точнее то ухо, которое было обращено ко мне (другого я, разумеется, при всем желании не смог бы увидеть). Из него не только росли кустики рыжеватых волос, но его скрывали рыжеватые патлы, торчавшие из-под шляпы. Однако в этот момент я наконец определил источник запаха, который смутно донимал меня с тех пор, как я сел рядом с ним, и который я автоматически приписал неприятным испарениям от какого-нибудь механизма или части ЭОС.
Это последнее замечание (вкупе с несколькими последующими заявлениями, сделанными мистером Солницем) было удалено из протокола дознания по требованию коронера Дж. П. Модда.
– Ввиду того факта, что больше ни один из пассажиров или членов экипажа не уловил этой «слабой серной эманации», – сказал коронер, – по моему взвешенному мнению, единственным ее источником является воображение самого мистера Солница.
Оказавшись в проходе, Генри Диккенс направился в сторону уборных и поначалу был замечен только еще двумя экскурсантами (в дополнение к мистеру Солницу, разумеется), и оба они, как и коллекционер редких книг, инстинктивно предположили, что его целью является «комната для маленьких мальчиков» (хотя один позднее вспомнил, что ему уже тогда показалось странным, что незнакомцу потребовалось взять с собой чемодан). К несчастью, на протяжении странной череды событий, которые последовали затем, мисс Шоу находилась в кабине (где, если верить мисс Найсли, «обжималась с пилотами»), что лишает нас показаний нашей лучшей свидетельницы. Однако сложив воедино рассказы экскурсантов и «поделив на два» рассказ мистера Солница, можно с некоторой долей достоверности реконструировать последние мгновения Генри Диккенса на борту ЭОС.
Он не попал в «комнату для маленьких мальчиков», даже не приблизился к ней. Он дошел только до аварийного шлюза, возле которого остановился и изо всех сил дернул рычаг, запирающий внутреннюю дверь. Ничего не произошло.
Аварийный шлюз приблизительно на три фута выдавался в пассажирский отсек. Сразу за ним располагались кресла миссис Мэри Генц и ее малолетнего сына Винни.
– Мама, мама! – крикнул маленький мальчик. – У злого дядьки глаза горят!
Поначалу Мэри Генц только смотрела, не веря своим глазам. Потом, когда изо рта Генри Диккенса полился поток «самой грязной, самой мерзкой брани, какую я когда-либо слышала», она схватила своего сына и, «защищая, прижала к груди».
Генри Диккенс еще раз со всей силы дернул рычаг. И еще. Проклятия, срывавшиеся с его языка, становились все громче и разнообразнее, приковывая все взоры к этой исхудалой, ужасающей и облаченной в черное фигуре, яростно сражающейся со строптивым техническим приспособлением, «которое способно вывести из себя даже святого».
– Учитывая, какая суматоха поднялась в пассажирском отсеке, – вопросил Дж. П. Модд, когда давал показания космопилот Арчи Мердок, – как вышло, что, находясь в кабине, вы ничего не слышали?
Присутствовавшие на дознании видели, как слабый румянец проступил на мальчишеских щеках Арчи Мердока.
– Мы были очень заняты, сэр. Мы с Биксом высчитывали точку входа в атмосферу и пили кофе, который мисс Найсли нацедила из кофеварки в кухонном отсеке и который любезно доставила мисс Шоу, а кроме того, занавески из гибкостали не пропускают звук. А еще…
– Давайте вернемся к рычагу шлюза, – оборвал его коронер. – Опустим неуместность столь примитивного технологического приспособления на борту ЭОС в эпоху миниатюризации, но будьте так добры, скажите мне, как подобное устройство, от успешного функционирования которого зависит жизнь пассажиров ЭОС, могло так заклинить, что взрослый мужчина не смог его даже сдвинуть?
Космопилот Арчи Мердок пожал плечами:
– Я не строю ЭОС, сэр, я управляю судном. И вообще он в конце-то концов раскачал рычаг.
Когда рычаг поддался и дверь распахнулась, Генри Диккенс нырнул в шлюз и захлопнул ее за собой. И тут же прямо над ней замигала красная лампочка.
– О Боже! – завопила миссис Мэри Генц. – Он это сделает!
Огромными черными буквами над дверью зажглись слова «НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛСТВАХ НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ВОЙТИ В ШЛЮЗ, ПОКА МИГАЕТ КРАСНАЯ ЛАМПОЧКА». Возможно, поэтому никто не попытался помешать безумному поступку, который явно вознамерился совершить Генри Диккенс.
Более вероятно, что случилось это потому, что все экскурсанты как по правому, так и по левому борту уставились в окна правого борта.
Со временем массовое бдение было вознаграждено: в поле зрения вплыл Генри Диккенс.
«Вплыл» тут самое подходящее слово. Ибо невзирая на то, что он катапультировался с борта орбитального судна, он все равно двигался по его траектории. Собственно говоря, согласно законам логики, он должен был оставаться на ней до конца полета или по меньшей мере до момента входа в атмосферу. То, что этого не произошло, являет собой еще один докучный аспект и этого без того докучного дела.
Некоторое время он действительно парил перед зачарованными зрителями. Видимость была не самая оптимальная, поскольку в этой фазе полета Земля заслоняла от ЭОС солнце, и его фигуру освещал лишь тусклый свет звезд. И потому, хотя Генри Диккенс был уже, без сомнения, мертв, никаких следов крови, то есть разрыва легких нельзя было различить у него на губах. Если уж на то пошло, он как будто плыл в пустоте в свое удовольствие. Некоторое время он парил на спине – или, во всяком случае, спиной к Земле – положив чемодан себе на живот. В тот момент он напоминал довольную крупную выдру. Затем в силу какой-то аномалии или, возможно, в результате незначительного колебания орбиты ЭОС он перекатился на бок, чудесным образом не потеряв своего чемодана, быстро поплыл прочь под углом к Земле и уже через несколько мгновений исчез из виду.
В том, что касается обстоятельств выхода из ЭОС и исчезновения Диккенса, показания мистера Солница разительно отличаются от сообщений прочих экскурсантов, как раз они и вызвали неуместный ажиотаж и чрезмерное освещение в прессе, которыми сопровождалось дознание.
– Я не мог оторвать глаз от этой картины, – засвидетельствовал мистер Солниц, – ведь внезапно у него за спиной развернулись огромные кожистые крылья. Лениво взмахнув ими, он совершенно буднично и деловито полетел прочь от ЭОС, пока не добрался до места своего назначения, где естественным образом сделался невидим для смертных взоров, ибо невидим сам эфирный мир, в котором он приземлился. Я вполне сознаю, – продолжал мистер Солниц (возможно, в ответ на недоуменно взметнувшиеся брови Дж. П. Модда), – что в вакууме крылья функционировать не могут. Но, по моему глубокому убеждению, крылья Генри Диккенса не обычной разновидности, а того типа, который функционирует исключительно в вакууме, и более того, чтобы даже явить себя, они нуждаются именно в вакууме. Далее я убежден, что на высоте приблизительно в сто двадцать девять с половиной миль планету Земля окружает некая сфера, которую мы не способны воспринять физически, но о существовании которой знали всю нашу жизнь, однако помещали – если вообще давали себе труд поместить – гораздо ближе к поверхности земного шара. Как правило, сразу над облаками.
В этот момент Дж. П. Модд задал довольно странный вопрос:
– Нет ли, случайно, в вашем собрании редких книг, мистер Солниц, издания «Утерянного рая» тысяча восемьсот шестьдесят шестого года с иллюстрациями Гюстава Доре?
– Есть, ваша честь, – ответил мистер Солниц. – Это одно из моих сокровищ.
– Благодарю вас, мистер Солниц. И спасибо вам за содействие. Вы свободны.
– Не имеет значения, видел ли мистер Солниц то, что, по его мнению, он видел, или в его сознании реальность была замещена широко известной иллюстрацией Гюстава Доре, – сказал, подводя итог дознанию, коронер. – «Теория падшего ангела», которую он подразумевает в своих показаниях, просто не выдерживает критики. Сама логика ее опровергает. Вдумайтесь. Если у падшего ангела есть функционирующие, пусть и невидимые крылья, зачем ему космический корабль, чтобы попасть в Рай? И даже если бы ему понадобился корабль, даже если бы, как уверяет нас мистер Солниц, его крылья функционировали бы только в вакууме, неужели ему понадобилось бы ждать тысячи лет, пока простые смертные вроде нас создадут транспортное средство, которое он – просто применив свои прославленные сверхъестественные способности – смог бы создать в мгновение ока? Более того, зачем ему понадобилось ждать еще многие годы, когда разработают двигатель, потребляющий достаточно мало энергии, что сделает подобные путешествия доступными для широкой публики, а потом еще ждать целых два месяца, чтобы получить место на борту?
По моему мнению, он не стал бы так поступать. По моему мнению, причина, по которой Генри Диккенс поступил именно так, исключительно проста: он устал от жизни. Как и все мы. В отсутствии доказательств обратного никакого иного ответа быть не может. Почему он решил обставить свой уход столь зрелищным образом, мы никогда не узнаем, как никогда не узнаем, почему он счел необходимым взять с собой свое личное имущество или, если уж на то пошло, как он исхитрился пронести его на борт ЭОС без ведома посадочного контролера. Однако нам нет необходимости это знать.
Думается, следует указать также на то, что следственные органы не сумели найти ни малейшего подтверждения тому, что Генри Диккенс когда-либо проживал в Салеме, штат Массачуссетс, а собранные ими свидетельства не могут считаться доказательством того, что Салем, штат Массачусетс, был или не был местом его проживания. В этой стране не найдется города, где не было бы по меньшей мере одного отшельника, который засел в какой-нибудь норе, ни в каких официальных реестрах не значится и о котором практически ничего не известно.
Мой вердикт таков. Рассмотрев все аспекты дела, я постановляю, что Генри Диккенс был самым обычным, пусть и несколько эксцентричным человеком, который умер, наложив на себя руки, по собственной воле. Об этом я сообщу в соответствующие инстанции.
Разумеется, коронер был прав. Так же как мы, как раса людей, были правы, взяв на себя инициативу в нынешней Конфронтации. Разумеется, есть те, кто утверждает, будто мы ее на себя не брали. Будто минибомба, стершая с лица Земли Москву, упала Свыше. Надо полагать, всегда найдутся романтики и мистики. Будь они прокляты!
Шатры кидарские Перевод А. Комаринец
Истклифф шел вверх по реке уже три дня, когда заметил, что далекие берега стали сближаться. Но и тогда он не был уверен, начала ли сужаться река или его подводит зрение. Ему требовалось непреложное доказательство, что катер не стоит на месте, борясь с течением, а действительно движется вперед, ведь зачастую мы видим то, что хотим видеть – особенно, когда жизнь висит на волоске.
Временами Истклифф ловил себя на том, что река кажется ему скорее озером. Эту иллюзию поддерживало почти незаметное течение, становившееся сильнее в середине русла, – именно такой курс он ввел в автопилот, чтобы держаться как можно дальше от лесистых берегов и редких деревушек эбенцев. Тяга к уединению в значительной мере определялась его характером, но была и практическая причина. Хотя экваториальный пояс Серебряного Доллара нельзя было назвать примитивным и диким краем, буш, через который бежала река и на южной окраине которого находились плантации Истклиффов, представлял собой сравнительно неизведанную территорию. За неимением традиционных местных органов власти их функции отправлял так называемый «Орден лекарей», а добровольно подчинявшиеся ему черноспинники мало чем отличались от дикарей.
Долгие жаркие дни Истклифф проводил за чтением, а еще предавался воспоминаниям, упрятав за темными очками от безжалостного отблеска воды сверхчувствительные больные глаза. По вечерам он не читал, а сидел на корме, расчерчивая черноту тлеющим кончиком сигареты, – курил он непрерывно, слушая гул мотора и шелест кильватерной волны, глядя, как колеблются и складываются во все новые узоры на воде созвездия. В последнее время он все чаще находил красоту в обыденности – в симметричных зубчиках листа, в несмелой предрассветной розовости неба, в серых туманах, окутывавших по вечерам далекие берега.
На четвертый вечер, когда катер проходил мимо небольшого мыска – слишком незначительного, чтобы заставить автопилот изменить курс, из расступившегося тумана вынырнула туземная дриуха. Четверо черноспинников ритмично взмахивали деревянными веслами, а пятый стоял за примитивным рулевым веслом. На носу стояла женщина. Она была высокой и худой и обладала прямой, почти несгибаемой осанкой представительниц своей расы. Ее черные как ночь волосы были собраны под ярко-красный платок, в правой руке она держала красный узелок. На ней была хлопчатобумажная юбка с запахом и короткая кофточка, ступни охватывали высокие сандалии из местной разновидности вымоченного ротанга.
Она помахала Истклиффу, который курил, облокотившись о перила по левому борту. Он никак не отреагировал, только смотрел холодно на дриуху и плывших в ней эбенцев, стараясь проанализировать иррациональное дежавю, которое почему-то возникло у него при виде туземки. Катер двигался медленно, и худощавые мускулистые гребцы без труда его нагнали и удерживали дриуху с ним вровень, – один даже схватился за нижнюю планку перил.
– Мне нужен транспорт до клиники, – крикнула Истклиффу туземка. – Вас щедро наградят.
Он не удивился, что ей известно, куда он направляется. На плантанциях Истклиффов работали черноспинники со всех регионов Эбена, а потому она была опутана местным «лесным телеграфом», соединявшим все до единой деревушки, все байяу, все фермы на этой территории. Истклиффу, его недужной матери, его сестре или зятю достаточно было чихнуть, и за каких-нибудь пару часов об этом узнавал каждый черноспинник на много миль окрест. Но хотя туземка знала, что он держит путь в клинику, ей никак не могло быть известно, зачем. И лекари ордена, и местные знахари джунглей и буша строго придерживались местного эквивалента клятвы Гиппократа, а знахарю, к которому обратился Истклифф и который, поставив ему диагноз, связался по рации с клиникой, и во сне бы не приснилось нарушить врачебную тайну пациента.
– Вас щедро вознаградят, – снова крикнула туземка, не дождавшись ответа Истклиффа. – И я вам не помешаю.
По-английски она говорила безупречно, а ведь многим черноспинникам английский язык не давался. У нее были высокие, широкие скулы, которые только подчеркивала впалость щек. Кожа у нее была настолько чистая, что сама ее чернота казалась прозрачной.
– У меня нет места для пассажиров, – холодно ответил Истклифф.
– Я с радостью устроюсь на палубе.
Истклифф вздохнул. Перспектива, что в его уединение вторгнется туземка, не слишком радовала. Но он не мог нанести оскорбление явно уважаемой представительнице той самой расы, которая поставляла работников для плантаций и слуг для большого дома, – без них империя Истклиффов зачахнет и умрет.
– Ладно, – сказал он наконец. – Можете подняться на борт.
Она швырнула свой красный узелок, и, поймав его, Истклифф опустил его на палубу. Потом, изо всех сил скрывая отвращение, протянул руку и помог туземке перебраться через перила.
– Спасибо, – сказала она, поправляя юбку с запахом. – Меня зовут Сефира.
Дриуха быстро отстала, развернулась и направилась назад к мыску. Истклифф не потрудился назваться. Зачем? Она же и так знает. Подобрав с палубы ее узелок, он повел ее вниз, в единственную каюту.
– Можете спать здесь. У меня есть удобный шезлонг, который разворачивается в кровать, и вообще я предпочитаю спать под открытым небом.
Его тон пресекал любые возражения. Тон и почти материальная аура властности, окутывавшая его как плащ. Та самая знаменитая властность Истклиффов, подкрепляемая высокомерием и напором, оппортунизмом и неотразимостью, обратила в звонкую монету никчемный на первый взгляд буш, от которого пренебрежительно отвернулись более удачливые колонисты с Андромеды VI, и дала планете ее нынешнее название.
Достав из рундука одеяла (ночи ведь на реке прохладные), он бросил два на койку, а одно перекинул через плечо. Потом, затылком чувствуя взгляд Сефиры, неохотно повернулся к ней лицом. И поймал себя на том, что смотрит ей в глаза. Глаза у нее были черные, но такой черноты он никогда в жизни не видел. Это была даже не трехмерная, а – если такое возможно – четырехмерная чернота, и у него возникло ощущение, что он заглядывает в бесконечный космос, и пусть там не видно ни единой звезды, тысячи их ярко сияют где-то за периферией его зрения. Но и эта аналогия не удовлетворяла. Космос подразумевает абсолютный ноль – холод и безразличие. Но во тьме этих глаз сияли, смешавшись с жгучей мировой скорбью, теплом в ночи его жизни сострадание и человеческая доброта такие, о существовании каких он даже не подозревал. И полускрытое чернотой было еще кое-что, что-то прекрасно ему знакомое, что-то, чего он не мог распознать.
И пока он глядел ей в глаза, его вновь пронзило ощущение дежавю, на сей раз с такой силой, что он едва не пошатнулся. И внезапно он понял, что стало его причиной: эта женщина, иссиня-черная, чернее ночи туземка из буша в нелепой одежде и с примитивными духами напоминает ему покойную жену. Это было невероятно, это было омерзительно. И это было так.
Он гневно отвернулся.
– Доброй ночи, – только и сказал он. Потом, вспомнив ее впалые щеки, добавил: – Если вы голодны, камбуз к вашим услугам.
– Спасибо. Я приготовлю кофе к вашему пробуждению.
Всякую ночь, когда Истклифф засыпал, это было сродни умиранию, так велики были шансы, что он вообще не проснется. Но он привык умирать, он умирал уже много недель, и сейчас, пока он лежал в шезлонге под звездами, если это и тревожило его больше обычного, то только потому, что до клиники оставалось всего ничего. А еще потому, что за долгие дни путешествия вверх по реке он разобрал по косточкам скептицизм, с которым относились к искусству лекарей колонисты, и пришел к выводу, что этот скепсис – порождение скорее апартеида и слухов, нежели фактов. Потому что за неизменной дымкой скептицизма маячил шанс, что достопочтенные знахарки из буша, эти черные изольды с их магическими отварами, сумеют совершить то, на что не способна традиционная медицина.
Когда он умер и звезды погасли, ему приснились (как это было всегда) лето его жизни и Анастасия, которая явилась словно бы на крыльях легкого ветерка, впорхнувшего в окно большого дома, и окутала его теплом, наполнив его жизнь радостью и смягчив суровость его бытия.
По утрам она приносила ему во внутренний дворик апельсиновый сок, по вечерам, когда с дневными заботами было покончено, смешивала мартини. В пять часов подавали чай – так заваривать умела только она одна – нежный, как роса, ароматный и как солнце золотой.
Когда она только приехала на плантацию, она благоговела перед ним. Его полное имя было Улисс Истклифф Третий. Он владел (или будет владеть после смерти матери) ста тысячами акров плодородной, удобренной речным илом земли, на которой благоденствовали, давая четыре урожая в год, тучные зерновые – основа экономики Серебряного Доллара. Откуда ей было знать, что ее благоговение перед ним уступало лишь его страху перед ней. Колонисты на Эбене по праву, хотя и несколько агрессивно, гордились новой страной, которую создали так далеко от дома, и памятуя о прошлых обидах, постоянно напоминали всем, что их общество – вершина демократии. Но кому, как не ему было знать, что они беззастенчиво лгут, ведь он, Истклифф, здесь король. И как королю, ему следовало бы оставаться совершенно безучастным к красавице простолюдинке, невосприимчивым к ее обаянию, так, словно она – глиняный истукан.
Но нет. Глядя в ее золотисто-карие глаза, глядя, как играет солнце в завитках темно-рыжих волос, он ловил себя на нелепой мысли: неужто к ее появлению в его кабинете причастно нечто столь приземленное, как агентство по найму? Она же сошла со склонов Олимпа, дщерь современного Зевса, рожденная девой в одеянии из звезд. И она была такой юной, такой мучительно, обжигающе юной. Он испугался, впервые увидев свои загрубевшие руки на ее гладкой безупречной коже, и боялся, что ее оттолкнет далеко уже не юношеское тело. Но нет. У нее не было на то причин. Ему тогда исполнилось сорок, он был худощавым и крепким и еще не превратился в рассадник смертоносных бактерий-шизомецитов, обезумевших от синдрома Мейскина.
Поначалу его страдающая атеросклерозом мать недолюбливала Анастасию. Девушка невесть откуда родом, без семейных связей. Такая совершенно не подходит на роль продолжательницы рода Истклиффов. И сестра Истклиффа тоже поначалу ее невзлюбила, а ее муженек отпускал оскорбительные шуточки, – до тех пор, пока Истклифф не позвал его прогуляться за конюшню и не избил до полусмерти. Но не прошло и месяца, как Анастасия завоевала их сердца. Сам же Истклифф рухнул к ее ногам как высокий, загрубевший от времени дуб. В его жизни были женщины, много женщин, но то были случайные связи, а истинная его любовь принадлежала плантации. Но теперь все изменилось. Через два месяца после того, как Анастасия поступила к нему личной секретаршей, она стала его женой, и ночь его жизни превратилась в яркий солнечный день.
От «смерти» Истклифф очнулся на рассвете. Оказалось, что Сефира уже встала. Она сварила на камбузе кофе и, когда увидела, что он проснулся, принесла ему с робкой улыбкой дымящуюся чашку.
– Добре утро.
По вкусу кофе и близко не походил на тот, что варил он сам. За это он испытал прилив благодарности. Кофе был крепким, но нисколько не горьким, и молока она добавила ровно столько, сколько нужно.
– Как вы узнали, что я пью без сахара? – спросил он, садясь боком на шезлонге и поставив чашку на колено.
– У вас вид человека, который пьет без сахара.
– И что же это за человек?
Она улыбнулась.
– Такой, как вы.
Упав внезапно на реку и позолотив серую палубу катера, первые лучи восходящего солнца только подчеркнули черноту туземки, выявив не поддающийся анализу выверт пигментации, из-за которой представители туземной расы Эбена казались не просто черными, а синеватыми. Кожа Сефиры влажно поблескивала, и он сообразил, что, пока он спал, она искупалась в реке. И ее черные волосы тоже блестели, теперь их не стягивал платок и они падали ей на плечи. Она недавно их расчесала.
Он заметил, что берега приблизились: за ночь река сузилась до половины прежней ширины, а течение бежало с удвоенной силой. Он понял, что до клиники уже недалеко. Поставивший ему диагноз и условившийся о визите знахарь, услышав от Истклиффа, что тот намерен отправиться на катере, сказал: «Вскоре после сужения река делает резкий поворот. Клиника сразу за поворотом. Ко времени вашего прибытия вам уже назначат лекаря».
Теперь в этой информации отпала нужда, теперь проводником послужит Сефира. Ему пришло в голову, что он не спросил, зачем она направляется в клинику. И сделал это теперь.
– Я там работаю.
– Понятно.
– А вы?
Он не видел причин скрывать правду.
– У меня синдром Мейскина, – ответил он и быстро добавил: – Это не заразно.
– И не неизлечимо.
– Почему вы так говорите?
– Потому что вы ведете себя как обреченный.
Некоторое время он молча рассматривал ее, потом допил кофе и пошел вниз умываться.
Когда он вышел из душевой кабины, Сефира уже спустилась в камбуз.
– Что бы вы хотели на завтрак?
– Ничего. Я предпочел бы встретиться с лекарем на пустой желудок и с ясной головой.
– Думаю, вы увидите, что они не такие уж страшные.
– В клинике бывает много колонистов?
– Вы будете первым.
Это его удивило.
– Верится с трудом.
– Отнюдь. Любому человеку, даже если он умирает, очень трудно искать помощи у представителя расы, которую он считает – вопреки бесспорным доказательствам обратного – ниже своей собственной. Даже вы, наш первый пациент, без сомнения, возлагаете надежды не на медицинские познания наших лекарей, а на магию, которую они якобы используют в своей практике.
– Но они же знахари!
– Как скажете. Но знахари с медицинскими дипломами. Порт Д’Аржан – не единственный космопорт на Серебряном Долларе.
– Но они же впадают в транс. Они…
– Прискорбно, что вы употребляете столько неверных эпитетов.
– Но они же сами себя называли тем туземным словом, под которым стали известны! Единственное английское слово, которое тут подходит, взято из Средневековья на Земле, когда за ранеными рыцарями ухаживали высокородные, но невежественные дамы, применявшие бог знает какие методы и лекарства!
– Эбенские лекари не невежественны. Жаль, что вы не смогли найти более подходящее слово.
– Я даже слышал, – сардонически бросил Истклифф, – что они будто бы носят маски.
– Сами увидите.
Его снова пронзило ощущение дежавю, и он стремительно поднялся из камбуза на палубу. Теперь река была не больше полумили в ширину, а сила течения снова удвоилась. Катер боролся с течением, пыхтя как беременная бегемотиха. Повинуясь автопилоту, мотор прибавил оборотов и ритмично ухал. Истклифф не любил путешествовать по воздуху и катер выбрал не за скорость, а за комфорт. В сущности ему не было дела, доберется ли он до клиники, он не верил, что снадобья лекарей лучше справятся с шизомицетами Мейскина, чем мощные антибиотики, прописанные терапевтом. Он не сообщил о своей болезни семье и, отправляясь в клинику, сказал, что едет на рыбалку. Когда он в последний раз был у своего терапевта, тот дал ему три месяца. Это было десять недель назад. По всей вероятности, катер станет ему погребальной ладьей.
Река все сужалась, вот-вот должен был появиться поворот. Сефира тоже вышла на палубу. Истклифф мог бы спросить у нее, далеко ли еще плыть, но промолчал. Облокотившись о перила по левому борту, она молча смотрела на берег. Однажды она помахала группе черноспинников, которые шли гуськом по тропе вдоль реки. Очевидно, они были знакомы, потому что все помахали в ответ.
Утро близилось к концу, вступал в свои права день, когда она вдруг сказала:
– Уже совсем близко.
Посмотрев вверх по реке, Истклифф увидел поворот. Но испытал не облегчение, а стыд. Синдром Мейскина – эндемическое заболевание и существует только на планете Эбен, известной также как Серебряный Доллар, но до сих пор им заразились лишь несколько колонистов. И у всех, очевидно, хватило мужества посмеяться над суевериями местных жителей и их клиникой и умереть с достоинством в собственных постелях. У всех, кроме него.
Все еще держась строго середины реки, катер начал входить в поворот. По обеим сторонам – высоченные деревья, расцвеченные тут и там радугами длиннохвостых попугаев, тянули бородатые от мха сучья, точно хотели коснуться катера. Деревья, высившиеся за ними, смотрелись почему-то иначе, походили на батальоны, выстроившиеся на плацу, уходившем вдаль, к поросшим травой холмам. За поворотом река стала шире, холмы отступили в туманную дымку. На правом берегу раскинулась деревня черноспинников, от пристани выдавался в воду крепкий причал, ощетинившийся дриухами. По сути она походила на десятки и сотни туземных деревень, какие видел Истклифф: жалкие хижины, наспех возведенные из стволов, камней и лиан и покрытые пальмовыми листьями, лабиринт узеньких улочек, среди которых не нашлось бы двух, которые вели бы в одном направлении. Единственное, что ее отличало, – здание клиники, маячившее позади хаоса примитивных построек.
«Клиника» – неверное название. По размерам это была скорее больница. По туземным меркам, это было, вероятно, современное величественное здание. По меркам Истклиффа – архитектурное убожество. Возведено оно было почти исключительно из синей глины, которую подняли со дна реки и отлили в большие прямоугольные блоки. Само строение казалось достаточно крепким, и естественная окраска блоков радовала глаз, но Истклиффу было мучительно очевидно, что строители взялись за работу, не имея ни малейшего плана. По всем признакам, начали они с квадратной одноэтажной постройки, достаточно просторной, чтобы вместить первых пациентов. Но по мере того, как пациенты множились, возникали пристройки, прибавлялись новые этажи. Потребность во все новых площадях росла, и пристройки лепились к пристройкам, а там, где фундамент мог выдержать дополнительную нагрузку, надстраивали новые этажи. Результатом стала мешанина из накладывающихся друг на друга разновысотных строений, которая затмевала размерами деревню и терялась из виду в буше.
Истклифф без особого труда пришвартовался между двумя дриухами. Сефира в это время была внизу, но сейчас поднялась – в ярко-красном платке на голове, с красным узелком в руках. На фоне деревни ее хлопковая юбка с запахом и короткая кофточка казались менее гротескными.
На причале начала собираться толпа. Помедлив у поручня, Сефира заглянула в глаза Истклиффу, точно искала там что-то. Что бы она ни искала, она явно этого не нашла.
– Спасибо, что подвезли меня, – сказала она.
Потом ее взгляд скользнул в сторону, к людям на причале. Ему почудилось, что сейчас он услышит «Черна я, но красива, как шатры Кидарские, как завесы Соломоновы». Она смотрела в толпу.
– Мой народ так любопытен. Это потому что они пусты. Полые внутри… – Она снова встретилась с ним взглядом. – Еще раз спасибо за доброту.
Она помедлила, потом быстро повернулась, перебралась через перила и ступила на причал.
– Прощайте, – крикнул он ей вслед, смутно удивленный, что она не предложила платы за проезд.
Он смотрел, как она пробирается в толпе и исчезает в устье деревенской улочки, и пока он смотрел, дежавю обрушилось на него с такой силой, что у него сжалось горло и все поплыло перед глазами. Точно он только что попрощался не с туземкой из черноспинников, которую скорее всего завтра уже забудет, а с Анастасией.
К тоске примешивалась привычная ирония, от которой боль становилась еще острее. Он ведь так и не попрощался с Анастасией. Однажды ночью они заснули, обнявшись, а проснувшись, он обнаружил, что она исчезла. Исчезла из его постели, исчезла из большого дома, исчезла с плантации. Сходя с ума от беспокойства, он связался с губернатором колонии и приказал, не афишируя, начать поисковую операцию. Выяснить местонахождение Анастасии не удалось, зато вскрылся ряд неаппетитных подробностей о ее прошлом. Она приехала на Серебряный Доллар чуть больше года назад и в одночасье стала самой дорогостоящей и желанной шлюхой в кварталах вокруг космопорта Порт Д’Аржан. За два месяца до того, как она объявилась в конторе Истклиффа, она ни с того ни с сего бросила свою профессию, прошла курсы секретарш, обзавелась фиктивной и расплывчатой биографией и подала заявление в единственное агентство по найму Порта Д’Аржана. Она словно бы заранее знала, что освободится место личной секретарши Истклифа.
Ошарашенный этими ударами Истклифф получил еще один, когда пришли выписки с банковских счетов. Сразу после свадьбы он открыл на имя Анастасии счет на сто тысяч долларов: из банковских документов следовало, что она выписала единственный чек ровно на эту сумму и сняла ее наличными. С той же почтой он получил письмо от Анастасии без обратного адреса, но с требованием, чтобы он внес на этот счет еще сто тысяч. Он сделал это сразу же, а сам уселся в вестибюле банка ждать, когда она появится. Он приходил каждый день на протяжении недели. Тщетно. Следующие известия о ней пришли в официальном отчете, который ему переслали из офиса губернатора. Она поселилась с двумя черноспинниками в буше и однажды ночью была случайно убита, когда они подрались из-за нее. Прочитав это, Истклифф достал винтовку, с которой ходил на крокодилов, выследил туземцев и снес им головы. Свидетелей не было, а потому инцидент не попал в «лесной телеграф». Зато о нем узнали в офисе губернатора – от самого Истклиффа, и губернатор решил ради доброго имени Истклиффов и межзведной репутации Эбена «причесать» дело Анастасии. Тела двух черноспинников тайно кремировали, тело Анастасии было передано Истклиффу для похоронной церемонии в узком кругу семьи, а в файлы полицейского управления Порта Д’Аржана была занесена та же информация, которую передали в городскую «Космо-Таймс», а именно, что, получив документы об аннулировании брака, Анастасия покинула Серебряный Доллар на корабле, следующем курсом на Землю.
Но хотя Истклифф избежал наказания в рамках судебной системы, судьба вынесла ему свой приговор. Меньше чем через месяц после того, как он убил двух любовников Анастасии, ему диагностировали синдром Мейскина.
Из толпы возник и приблизился к катеру высокий черноспинник в длинной синей хламиде с капюшоном и красных сандалиях. Его морщинистое лицо было исхудавшим, а черные глаза – холодными и безучастными.
– Улисс Истклифф?
Истклифф кивнул.
– Ваша палата готова, и вам уже назначен лекарь. Прошу вас следовать за мной…
Спустившись в каюту, Истклифф собрал в небольшую сумку немногие личные вещи, вернулся наверх, запер люк и перелез к черноспиннику в синей хламиде на причал. Черноспинник провел его через толпу к деревенской улочке. Под ногами крутились голые ребятишки, полуголые матери с обвисшими грудями следили за ними из темных дверных проемов, некоторые кормили грудью младенцев.
Вблизи клиника казалась еще более невзрачной, чем издали. Вымощенная плитами дорожка вела через выжженную солнцем лужайку к porte-cochere[32], столь же непривлекательным, сколь и ненужным, а примитивные двойные двери распахивались в безликое фойе. Однако дальше обстановка разительно поменялась. Коридоры, по которым вел Истклиффа черноспинник в синей хламиде, были отмыты так, что пол и потолок сияли каким-то голубоватым свечением. Собственно свет исходил от примитивных флуоресцентных трубок в потолке. Через регулярные промежутки в стенах белели безупречно чистые двери. Большинство было открыто, и можно было видеть опрятные квадратные палаты, обставленные одинаково: кровать, шкаф и стул. Практически все палаты были заняты: одни пациенты лежали пластом на кроватях, другие сидели, последние, вероятно, были на пути к выздоровлению.
Молодые чернокожие туземки в зеленых колпаках и зеленых халатах до колен совершали утренний обход, некоторые разносили подносы с медикаментами. Медикаменты казались современными и, без сомнения, таковыми и являлись; скорее всего продукция фармацевтических лабораторий из соседней провинции. Но они не произвели на Истклиффа большого впечатления. Современные лекарства не обязательно подразумевают современную больницу.
Так или иначе сейчас это не имело значения. Синдром Мейскина не поддавался лечению даже сверхсовременными медикаментами.
Они разминулись с высокой иссиня-черной женщиной в голубом одеянии, и Истклифф инстинктивно понял, что это лекарь. На ней был не колпак, а капюшон, и одеяние доходило ей до лодыжек. Марлевая повязка наподобие чадры покрывала ее нос, рот и подбородок, безупречная белизна повязки резко контрастировала с цветом кожи и странным одеянием. Так, значит, про маски слух был верным, подумал про себя Истклифф. Только они не имели ни малейшего отношения к маскам гротескных чудовищ, которые были в ходу у африканских знахарей и шаманов в глубокой древности.
В конце коридора крутая лестница поднималась на второй этаж. Потолок тут был таким низким, что Истклиффу пришлось пригнуться, чтобы войти в палату, в которую привел его туземец в синей хламиде. Как и во всех прочих, тут стояли кровать, шкаф и стул. Рядом с кроватью – контейнер для мусора. Истклифф устало опустился на стул, а когда снова посмотрел на дверь, увидел, что мужчину в хламиде сменила робкая туземка в зеленом чепце и зеленом халатике.
Девушка застенчиво попросила его снять одежду и надеть больничный халат, который она ему принесла. Он подчинился, изо всех сил стараясь скрыть, какое отвращение вызывает у него ее присутствие. Ее эти попытки не обманули так же, как и Сефиру. Он сел на край кровати, и она взяла у него кровь на анализ из правой руки. Он заметил, что у нее дрожат руки, и сообразил, что она до смерти его боится. Закончив, она сказала дрожащим голосом:
– Прикрепленный к вам лекарь придет, как только анализ будет готов.
Она практически выбежала из палаты.
Истклифф закурил, затянулся несколько раз, потом бросил окурок на пол. Он лег на кровать, накрылся единственной простыней и сцепил за головой руки. Он уставился в отмытый голубой потолок, осознав вдруг, насколько устал, насколько вымотан. Путешествие по реке отняло те немногие силы, какие оставили ему шизомицеты. Яркий свет еще прохладного утра лился в единственное окно, а потолок отражал свет ему прямо в глаза, пронзая крошечными стрелами боли хрусталики. Войдя в клинику, он снял темные очки, но не потрудился достать их из кармана пиджака, оставленного на стуле у кровати. Вот и сейчас он продолжал мазохистски пялиться в потолок. Гиперчувствительность к свету – прелюдия к слепоте, а та в свою очередь – к смерти, которая наступает секунду спустя. Изолировав свою бесценную бактерию, Мейскин любовно проследил неудержимое развитие заболевания в пространной статье в научном журнале, на который подписывались образованные люди вроде самого Истклиффа. Его участь предрешена. Как участь Рейно, Эдисона, Паркинсона…
Вероятно, Истклифф заснул. Когда он проснулся, утренняя прохлада сменилась удушливым жаром полдня, и в палате он был уже не один. В дверном проеме стояла статуя – высокая, облаченная в голубое и в белую маску. А над маской – черные омуты глаз, в которые он уже заглядывал.
Сефира.
Ступая с природной грацией, она подошла к кровати и длинными прохладными пальцами коснулась его руки, чтобы пощупать пульс.
– Почему? – вскинулся он. – Почему вы мне не сказали, что вы мой лекарь?
Она не встретилась с ним взглядом.
– Если бы я сказала, вы бы продолжили свой путь?
– Нет.
– Поэтому я вам не сказала.
– Что вы делали в буше?
– Все лекари живут в буше. Это наш дом. Я живу неподалеку от того места, где вы взяли меня на борт.
– Вы ездите на дриухах?
– Мы ночуем в клинике, уезжаем только на выходные, а тогда, да, приходится плыть на попутных дриухах. Вчера у меня был выходной. И так получилось, что мимо проплывал ваш катер.
– Так вы знали, что я приеду?
– Конечно, знала. Меня же к вам прикрепили. А теперь у меня для вас хорошие новости. Взятый у вас утром анализ крови однозначно показывает, что вакцинация прошла успешно.
– Какая еще вакцинация?
Не ответив, она достала из кармана халата ампулу и с нажимом провела ею по его правому бицепсу. Он ощутил легкий укол, мгновение спустя она бросила пустую ампулу в мусорный контейнер у кровати.
– Это была первая из вспомогательных инъекций. Остается еще семь, их вам будет вводить моя ассистентка через каждые два с половиной часа. Затем возьмем пункцию спинного мозга, но это просто рутинная проверка. К завтрашнему утру вы окончательно исцелитесь.
– Это смехотворно! Нельзя излечить за ночь синдром Мейскина!
– Если верить вашим колониальным врачам, его вообще нельзя излечить. Кроме того, я никогда не говорила, что его можно излечить за ночь. Имейте терпение. Утром администратор вам все объяснит. А теперь мне надо идти.
В дверях она оглянулась. Впервые с тех пор, как вошла в палату, она посмотрела ему в глаза. Встретившись с ней взглядом, Истклифф снова ощутил – за краткий миг перед тем, как она повернулась и исчезла в коридоре, – их глубину, скорбь и безграничное сочувствие. И, да, любовь, которую она к нему питала. И он понял кое-что еще. Это были глаза святой.
Мужчина в синей хламиде сидел один в комнате на первом этаже, куда направили Истклиффа. Только письменный стол и прямоугольник солнечного света свидетельствовали о том, что это не палата, а офис. Не вставая, туземец знаком указал Истклиффу на стул напротив.
– Как вы себя чувствуете?
– Словно заново родился.
Черноспинник протянул ему небольшой запечатанный конверт.
– Письмо от Сефиры. Вам незачем читать его сейчас. Будет лучше, если вы вскроете его после того, как отплывете.
– Где она?
– Она вернулась к себе домой, в буш. Кодекс лекарей исключительно строг. Он не допускает ситуации, чтобы лекарь влюбился в пациента. Когда такое случается, лекарь обязан сообщить о своем проступке вышестоящим, после чего его дисквалифицируют. Вы – последний, кого исцелила Сефира.
– Да где это видано, чтобы женщина влюбилась в мужчину, едва увидев его? – холодно спросил Истклифф.
– Все было не совсем так. После моих слов вам станет яснее. Постигший вас недуг мы называем «Слепящий свет». Здесь, в буше, мы уже много поколений успешно с ним боремся, хотя все еще не знаем, что является его возбудителем. Не будь последствия столь трагичны, мы сочли бы весьма забавным, что глупый ученый с Земли имел наглость назвать его своим именем и объявить неизлечимым. Все эбенцы от пяти до двадцати лет проходят поэтапную вакцинацию. Вакцина вводится оральным путем. Разумеется, существует небольшой процент таких, кто из суеверного страха скрывается от наших знахарей и подхватывает заболевание в более зрелом возрасте, но даже тогда оно не приводит к смерти, поскольку, хвала небу, у нас есть лекари. Лекарь переносит себя в тело жертвы, если позволяет ее пол, или, если пол не позволяет, в тело кого-то из близких жертве людей и проводит серию прививок до того, как жертва подхватывает заболевание. Заражение все равно имеет место – не только потому, что, если бы этого не произошло, возник бы временной парадокс, но и потому, что вакцинация, которая длится всего несколько месяцев, значительно слабее той, что проводится обычным порядком на протяжении пятнадцати лет. Тем самым вакцинацию в зрелом возрасте необходимо дополнить серией инъекций, вы бы назвали эти препараты стимуляторами. Иными словами, заражение действительно имеет место, симптомы заболевания по-прежнему налицо, но причиненный ущерб оказывается незначительным.
Эта способность лекарей мысленно – или если хотите, духовно – проецировать себя назад во времени – врожденный дар. Он никогда не встречается у эбенских мужчин и проявляется лишь у немногих местных женщин. И тем не менее у него есть некоторые ограничения. Во-первых, лекарь способна «реинкарнировать» только в тело представительницы своего пола, а во-вторых, временной промежуток подобной «реинкарнации» ограничивается периодом чуть меньше годичного цикла Андромеды VI. Тем не менее это позволяет лекарю ретроактивно исцелять целый ряд заболеваний, включая «Слепящий свет». В вашем случае, как это часто случается, диагноз поставил один наш знахарь. Задача Сефиры с того момента, как она была за вами закреплена, заключалась в том, чтобы «реинкарнировать» в тело представительницы своего пола, достаточно вам близкой, чтобы иметь возможность поместить вакцину в ваши еду и питье. Саму вакцину ей доставлял курьер клиники. По сути, вы излечились еще до того, как прибыли сюда, хотя симптомы еще продолжали вас беспокоить. Вчера и прошлой ночью вам были сделаны инъекции стимулятора.
– Чье это было тело? – хрипло спросил Истклифф.
– В этом отношении задача Сефиры оказалась довольно сложной. Ваша мать не подходила по причине слабого здоровья. Сестру пришлось исключить из-за требований, налагаемых на нее супружескими обязанностями. Поэтому Сефире пришлось «перенестись» в тело женщины, не принадлежавшей к членам вашей семьи. В конечном итоге ей пришлось воспользоваться проституткой по имени…
– Нет! – выкрикнул Истклифф, приподнимаясь со стула.
Черноспинник в синей хламиде пожал плечами.
– Хорошо, я не стану упоминать имени вашей покойной жены, это не так уж важно. Важно то, что «реинкарнация» возможна лишь в ограниченный отрезок времени. Подобные «трансы», как упорно называет их наш народ, требуют огромного напряжения сил. В объективной реальности они длятся всего несколько часов, но субъективно лекарь проживает тот же период времени, что и тело, в котором она находится. Поэтому, даже если бы кодекс лекаря позволил Сефире остаться в теле вашей жены, она не смогла бы этого сделать. Лекарь обязан вернуться в настоящее. Мы не боги и не способны изменить прошлое. Что было, то прошло. Что есть, то есть. Тем не менее перед тем как лекарю разрешают «переместиться» в тело другого человека, мы проверяем, что происходило с данным человеком в период после «реинкарнации», а потому нам было известно, что после ухода Сефиры из тела вашей жены ваша жена добилась расторжения брака и покинула планету. Прискорбная ситуация, но к нам она не имеет никакого отношения.
Вскочив, Истклифф вцепился в край стола.
– Ничего вы не знаете! – выкрикнул он. – Ничего! Все – ложь!
– Мы получили информацию из архивов губернатора провинции, – невозмутимо продолжал черноспинник в синем. – Если с вашей женой случилось что-то, о чем в них не говорится, едва ли можно возлагать ответственность за это на нас. И мы в любом случае не могли бы ее нести, поскольку то, что случилось, уже случилось. Как я и сказал, мы не боги. Мы – целители. Ни больше ни меньше. Сефира совершила ошибку, позволив своей носительнице выйти за вас замуж. Но, сами понимаете, она не могла поступить иначе, поскольку в некоем смысле ее носительница уже вышла за вас. Истинная ее ошибка, если это можно так называть, заключалась в том, что она полюбила вас и не смогла этого предвидеть. Она планировала войти в тело вашей секретарши и позднее – жены, ввести вакцину и тем самым спасти вам жизнь.
– Но почему она мне не сказала? – крикнул Истклифф.
– Надо же, почему! Если бы она сказала: «За этим этнически приемлемым фасадом, столь милым вашему этноцентричному сердцу, кроется личность черноспинницы-знахарки, которая пришла исцелить вас от недуга, которым вы еще не заразились», как бы вы отреагировали?
Истклифф швырнул стул о стену.
– Да будь проклята ваша ханжеская клиника! Да будь проклята ваша ханжеская душонка!
Бросив на стол несколько пригоршней банкнот, он ушел.
Отчалив по не рассеявшемуся еще утреннему холодку, проплывая под свисающими плетями серо-зеленого мха, Истклифф почувствовал, что его горе стихает, превращаясь в слабую пульсирующую боль. Он вскрыл письмо Сефиры.
«Теперь тебе все разъяснили. Кроме одного, а именно – почему мы встретились на реке. Я хотела в последний раз увидеть тебя не как целительница, а как женщина, – я ничего не могла с собой поделать. Ты должен простить меня – ведь я целый месяц была твоей женой. Я – та ее часть, что любила тебя, но не та, которую любил ты.
На мыске, у того места, где ты взял меня на борт своего катера, есть причал. От него тропинка ведет через буш к моему дому. Если тебе захочется остановиться по пути домой, тебя будет ждать на плите горячий кофе.
Сефира»
Тропка была узкой и бессмысленно петляла среди деревьев и ежевичных зарослей с ярко-красными ягодами. Истклифф улавливал запахи лесных цветов, утренней сырости в подлеске. Потом до него донесся запах дыма, и наконец через листву низко свисающих веток он увидел маленький домик, практически хижину. На своем веку он повидал тысячи таких. Внутри окажутся дровяная печь, стол и стул. Возможно, два стула. Пол будет земляным. Он остановился на опушке.
Он вообразил, как она сидит у окна в дешевой хлопковой юбке с запахом и коротенькой кофточке. Ждет. Он увидел дымящийся на плите кофейник. Он вдруг понял, что руки у него дрожат, и сунул их в карманы пиджака.
«Черна я, но красива, как шатры Кидарские, как завесы Соломоновы… Не смотрите на меня, что я смугла, ибо солнце опалило меня…»
К хижине вела тропинка, присыпанная гравием и обложенная белыми камнями. В хижине он найдет то, что осталось ему от Анастасии. Он скажет матери, сидящей в теньке величавой веранды Истклиффов: «Смотри, я привел ее назад. Оказывается, она не умерла». И сестре: «Узри! Вот истинная Анастасия!» И они наморщат широкие аристократичные носы, и на кладбище позади сада его отец перевернется в черной земле, заскрипят иссохшие кости, в пустых глазницах черепа полыхнет яростью гордыня. И слуги-черноспинники будут заглядывать в окна в восторженном недоумении, и сам «лесной телеграф» завибрирует от поразительных известий.
Развернувшись, он прошел по своим же следам к причалу.
Заложив в автопилот курс, он мрачно сидел, уставившись на бурую воду. Есть не хотелось. День прошел незаметно. Берега окутал туман. Спустилась ночь, а он все сидел, и из темноты его лицо вырывал лишь отсвет тлеющего кончика сигареты, которые он курил одну за одной.
У него нет сына. Скоро лучшие его годы останутся позади. Вероятно, Улисса Истклиффа Четвертого так никогда и не будет. Пусть так. Он не допустит, чтобы род Истклиффов продолжила черноспинница.
Даже если она подарила ему жизнь и любила его так же глубоко, как он сам все еще любил бедную мертвую шлюху, в теле которой обитала другая душа.
Катер гладко скользил в черноте ночи, тихо шептала река. С высоты холодно светили звезды.
Темная зона Перевод А. Комаринец
Я живу в пещере.
У меня нет имени. По большей части я сплю.
На мне всегда одна и та же одежда: красная ковбойка, штаны цвета хаки, черные сапоги.
Меня разбудил перестук камней, катившихся вниз с крутого склона, который ведет ко входу в пещеру. Такое уже много раз случалось.
Я лежу навзничь на полу пещеры. Я перекатываюсь на живот, встаю на карачки и ползу ко входу. Странно, сколько бы раз я это ни проживал, я никогда не знаю, кто меня потревожил. А потом вижу ее. Девушку. Нет, это не девушка, это женщина, но про себя я называю ее девушкой. Мы рассматриваем друг друга в упор, и она так же удивлена, что видит меня, как я – что вижу ее. Потом она кричит и убегает вниз по склону.
Я бегу за ней следом.
Спуск с холма очень крутой, а долина внизу поросла лесом. Когда девушка ныряет в лес, я ныряю за ней следом. Она все еще кричит.
Лес по большей части кленовый, но встречаются также акации и ореховые деревья. Вначале я не знал названий деревьев, но одно за другим они заползли мне в голову.
Я бегу за девушкой, но не могу ее догнать. Никогда не могу. Наконец, мы оказываемся возле узкого ручья, и она с плеском перебегает его вброд. И исчезает. Я тоже пробую перейти через ручей, но это своего рода барьер, и я даже ступить в него не могу. В этот момент на меня накатывает слабость, я едва способен добраться назад в пещеру. Я падаю на землю и засыпаю.
В общем и целом история никогда не меняется.
На сей раз, когда девушка меня будит и мы оказываемся лицом к лицу у входа в пещеру, я пытаюсь ее схватить. Она отшатывается, но моя рука все же касается ее плеча. У нее привлекательное лицо. Глаза у нее светло-голубые, скулы высокие. Щеки у нее впалые, а губы – бантиком. У нее золотистые волосы, концы которых загибаются внутрь к щекам и шее. От талии и ниже на ней обтягивающий небесно-голубой предмет одежды. На ней всегда такие странные вещи. Иногда они не светло-голубые, а светло-зеленые, иногда – светло-желтые. Материал такой тонкий, что сквозь него видно тело. Но тело меня никогда не интересует. Я гонюсь за ней лишь по одной причине – чтобы ее убить.
Отшатнувшись от моего прикосновения, она кричит и сбегает с холма. Я опять бегу за ней. Я уже совсем близко и чувствую ее запах. От нее пахнет духами и потом. Но сексуального желания эти запахи у меня не вызывают. Да и с чего бы мне ее желать, спрашиваю я себя. Я не знаю. Я знаю только, что хочу ее убить.
Она забегает в лес. Волосы развеваются у нее за спиной. Я стараюсь схватить их, и мои ногти почти касаются концов. Но я не могу подобраться достаточно близко, чтобы схватить ее за волосы. Мы бежим через лес. Лес мертвый. В нем нет ничего живого, кроме девушки и меня. Откуда тут взяться жизни, спрашиваю я себя. Какую жизнь я имею в виду? Приходят слова. Птицы. Насекомые. Мелкие зверьки. Тут ничего такого нет. Да, лес мертвый.
Неважно. Я прибавляю скорости. Впереди я вижу ручей. Надо догнать ее, пока она туда не забежала. Я еще быстрее двигаю ногами. Но без толку. Она входит в ручей, пересекает его и исчезает. Я тоже пытаюсь его пересечь, хотя и знаю, что не могу. Я никогда не могу даже ступить в него.
Теперь я очень устал, и лес словно бы кружится вокруг меня. Спотыкаясь, я карабкаюсь на холм, с трудом забираюсь к себе в пещеру. Я заползаю поглубже. Усилием воли стараюсь отогнать сон, и некоторое время мне это удается. Потом стены вокруг меня сдвигаются и крутятся, как до того лес, и перед глазами все тускнеет.
Сегодня, после того, как опять гнался за девушкой и опять не смог ее поймать, я умудрился не спать дольше обычного.
«Сегодня» – новое слово в моем словарном запасе, но оно не совсем подходит к периодам времени, когда я бодрствую. «День» у меня ассоциируется с ясным небом, в котором высоко стоит солнце, с полями, деревьями и домами, распростершимися в долине. Но в небе над долинкой нет солнца, и само небо вечно серое. И нигде не видно ни домов, ни полей. Маленький мирок, в котором я живу (где бы он ни находился), не меняется от одного моего пробуждения до другого.
Но я не могу придумать лучшего слова, чем «день».
Пока я сижу у себя в пещере и стараюсь не заснуть, я вдруг понимаю, что знаю девушку, которую хочу убить. Но я никак не могу сообразить, ни как ее зовут, ни почему я хочу ее убить.
После того как опять гнался за девушкой до ручья и она исчезла за ним, я стою у бегущей воды и смотрю на недостижимый противоположный берег. Наконец я вижу, что кто-то стоит там и тоже смотрит на меня. Это худощавый мужчина в красной ковбойке, штанах цвета хаки и черных сапогах. Шляпы у него нет, и волосы у него такие же тускло-русые, как у меня. Лицо мне знакомо. Где-то я его видел много раз. Я, не отрываясь, смотрю на этого другого, а этот другой смотрит на меня, и наконец до меня доходит, что у него мое лицо, только правая и левая половины поменялись местами, как в зеркале, и что этот другой я.
Опять девушка. Опять погоня через лес. Я смотрю, как она исчезает. Она исчезает, как только ее нога касается противоположного берега. Алиса в Зазеркалье. А память-то у меня, оказывается, работает!
Я смотрю на себя на другом берегу.
Теперь мне ясно, что моя долина только половина долины.
Как далеко она простирается направо от меня? А налево? Что лежит за холмом, в котором притаилась моя пещера?
Когда я возвращаюсь на холм, то прохожу мимо зева пещеры и карабкаюсь дальше. Я карабкаюсь, карабкаюсь, карабкаюсь… наконец, до меня доходит, что я уже не карабкаюсь, а спускаюсь. Внезапно я оказываюсь у другой пещеры. Я внимательно ее рассматриваю. Нет, это не другая пещера. Это моя пещера. Я едва успеваю заползти внутрь, как на меня обрушивается сон.
Мои периоды бодрствования я называю «днем», а периоды сна – «ночью», так что получаются сутки. Но верно ли это? Возможно, от одного моего пробуждения до другого проходит много дней. У меня нет способа определить. Мои пробуждения целиком и полностью зависят от прихода девушки. Только она способна вернуть меня к жизни. Интересно, зачем она это делает? Ведь она уже должна была понять, что в пещере кто-то живет? Тогда зачем она раз за разом лезет на холм? Она как будто всякий раз при виде меня изумляется и пугается? Значит, между визитами она о моем существовании забывает? По всей очевидности, да, не то держалась бы подальше.
Теперь мои периоды бодрствования гораздо длиннее и с каждым пробуждением все удлиняются. Я стараюсь выбраться из долины. Сегодня, после того, как девушка опять от меня убежала, я не пошел сразу назад в пещеру, а повернул направо и двинулся вдоль ручья. Я шел и шел. Наконец, вокруг меня стали появляться знакомые деревья, уверен, я уже видел их раньше. Я подходил все ближе к склону. Вскоре сквозь ветки деревьев я уже увидел черный зев пещеры. Я поспешил к ней вверх по склону. Вход в нее показался мне знакомым. Я забрался внутрь. Да, это моя пещера. Сон набросился на меня из теней.
Я не пытаюсь выбраться из долины, пойдя в другом направлении. Я знаю, что если попробую, то просто вернусь к тому месту, откуда начал. В голову мне приходит странный термин. «Лента Мёбиуса». Да, искривление пространства. Вот что представляет собой долина – искривление пространства. Трехмерная лента Мёбиуса. Безжалостный тупик, из которого невозможно выбраться и ключ к которому есть только у девушки.
Я вспомнил пищу. Люди едят пищу, чтобы выжить. Я – человек. Почему мне не нужна пища?
Почему мне не нужна вода? Человеку, чтобы выжить, нужна вода.
Почему мне никогда не бывает жарко или холодно?
Я вспомнил свое имя. Оно пришло ко мне, пока я гнался за девушкой через лес. Уишмэн. Чарльз Уишмэн.
Это имя потянуло за собой другие. Джон Рэнч. Карл Юнг. Иммануил Кант. Пол Кюрен. Дженис Роулин. Черил Уишмэн…
Так девушку зовут Черил?
У нее моя фамилия. Может, она… моя жена?
Я сосредотачиваюсь на слове «жена». Проходит некоторое время, прежде чем я осознаю – вспоминаю – его смысл. А когда вспоминаю, я совершенно сбит с толку. Если Черил Уишмэн – моя жена, то почему я хочу ее убить?
Сегодня мне так невтерпеж поймать девушку, что я сразу на нее бросаюсь. Она отшатывается, но я хватаю ее за ноги. Она падает, отбрыкивается, и каким-то образом ей удается освободиться. Она босиком, и одна ее ступня ударяет меня в горло. Но я даже не чувствую прикосновения.
Поднявшись на ноги, она оглядывается через плечо. Ее лицо искажено страхом, но за маской страха я различаю знакомые черты и отчетливо понимаю, что она была моей женой. Была? Почему я говорю «была»? Она, наверное, все еще моя жена. Но если она моя жена, то почему я хочу ее убить? Наконец, приходит ответ: «Потому что она убила меня».
Но это неверный ответ. Теперь я знаю, что она меня убила, хотя не помню, как или почему, но я не поэтому хочу ее убить. Я хочу ее убить потому, что она считает, что я хочу.
Я уже на ногах и бегу за ней через лес. Но, как всегда, она оказывается у ручья прежде, чем я успеваю ее догнать, пересекает его и исчезает.
Я сижу на полу пещеры и думаю. Периоды бодрствования становятся все длиннее и длиннее.
Почему моя жена меня убила?
Почему я не мертв?
На ум мне приходит новое слово. Эндоаналитик.
Это слово – ключ, и оно открывает многое из того, что я пытаюсь вспомнить.
Я был эндоаналитиком. Я изучал кюренизм в Школе эндопсихологии Джона Рэнча. Я открыл практику на Бич-стрит в пригороде Форествью. Я купил дом на холме за городом и поселился там с моей женой Черил. У нас было много друзей. Мы устраивали вечеринки и ходили на вечеринки, которые устраивали наши друзья. Моя практика процветала. В олений сезон мы с Черил часто ходили охотиться.
Но я никак не могу вспомнить, что такое кюренизм.
Сегодня девушка… нет, я буду звать ее Черил, потому что она ведь Черил… Сегодня Черил, сбегая с холма, падает. Но когда я пытаюсь прыгнуть на нее, она уворачивается, я не нахожу, за что бы ухватиться, и кубарем качусь до середины склона. Она первой оказывается на дне долины, и, ныряя за ней в лес, я слышу, как сам снова и снова выкрикиваю слово «убийца». Она словно бы вложила это слово мне в рот.
Вот оно! Кюренизм – теория Пола Кюрена о природе снов.
О природе реальности.
Но это не просто теория. Давным-давно он превратил ее в факт. Но психоаналитики-фрейдисты отказались принимать ее как факт. Они пытались отмахнуться от Кюрена.
Они так и не сумели.
В конце XIX века Кюрен совместил некоторые положения трансцендентной эстетики и теории коллективного бессознательного Юнга и получил в результате Пространство Света и Пространство Тьмы. Он постулировал, что Пространство Света – это реальность, данная нам в наших ощущениях, а Пространство Тьмы – область снов. Он говорил, что вместе они составляют кантианскую вещь в себе, и ни одно из них не имеет времени или, невзирая на названия, которые он им дал, пространства. По его мнению, время и пространство привносит тот, кто их воспринимает.
Свои усилия он сосредоточил на исследовании Пространства Тьмы – или, как его стали называть позднее, Темной зоны. Разработав препарат, который устанавливал психоэмоциональную связь между ним и его пациентом (препарат он назвал кюренум), он обнаружил, что может входить в чужие сны. Он сосредоточился на повторяющихся снах и начал исцелять пациентов, уничтожая или изменяя их сны. Он называл себя эндоаналитиком. Позднее его лучший ученик Джон Рэнч построил в Катскильских горах Школу эндопсихологии Джона Рэнча.
Я входил в тысячи снов.
Повторяющихся снов.
Компетентный эндоаналитик не утруждает себя ординарными снами. Даже так называемые кошмары безвредны. Эндоаналитик же берется за сны, которые постоянно мучают пациента.
Ко мне приходили пациенты с навязчивыми снами, и я входил в те сны и их исцелял. Я не понаслышке знаю, что такое Темная зона. Если рассматривать ее с точки зрения юнгианских архетипов, она может иметь самые разные ипостаси, но для практикующего эндоаналитика она всего лишь то, во что ее превращает сознание спящего. Два уровня реальности всегда разделены символическим барьером. Просыпаясь, спящий проходит через этот барьер. Содержимое сна преодолеть этот барьер не может.
Я теперь в Темной зоне. Но не как эндоаналитик. Я – часть сна, я – то, о чем сон.
Спящий разум Черил создал в Темной зоне лесок, который замыкается на себя, и горную гряду без вершины. Барьером ей служит лесной ручей.
Она убила меня и теперь все время видит сон о том, что я прячусь в пещере, выжидая, когда подвернется возможность ее убить. Но ее спящий разум всякий раз забывает, что я тут, и, не зная о моем присутствии, ее спящее я всякий раз поднимается по склону к моей пещере.
Почему она меня убила?
Как она меня убила?
Я не могу вспомнить. Пока я стараюсь думать, стены пещеры сдвигаются все ближе. Отверстие пещеры темнеет. Перед тем, как мое сознание рассеивается, его пронзает молния страха. Если она перестанет видеть этот сон, я умру окончательно и бесповоротно!
В тот день мы пошли на охоту. Да, теперь я вспомнил.
Черил только что исчезла за ручьем-барьером. Я сижу на полу своей пещеры.
Да, в тот день мы пошли на охоту.
Она и я.
Дальнейшее расплывается. Мои мысли перескакивают с одного на другое, уводят меня дальше. Я снова становлюсь тем, кем был до моего убийства. Практикующим эндоаналитиком. Я сижу в моем кабинете на Бич-стрит, слушаю, как пациенты пересказывают свои сны. С каждой минутой я становлюсь все богаче. В профессиональных кругах поговаривают, что плату за часы приема я беру запредельную. Так или иначе я оправданно запрашиваю такие деньги. Я пять долгих лет потратил, чтобы набраться опыта. Даже с кюрен нельзя вот так запросто зайти в чужой сон. Каждый сон самобытен, и нужно многое узнать у пациента, прежде чем рискнуть вторгнуться на неизведанную территорию, и нужно заранее понимать, что и как надо сделать, чтобы уничтожить или изменить сон так, чтобы он больше не являлся и чтобы пациент исцелился от вызвавшего сон недуга.
В какие сны я только не входил!
Женщина идет по улице. Она замечает, что мимо марширует колонна детей, и останавливается посмотреть. Она видит, что каждый ребенок несет копье. Когда середина колонны оказывается напротив нее, заводила кричит: «Стой!» и марширующие останавливаются. «Налево!» – кричит заводила, и дети разом поворачиваются к женщине. Половина среди них девочки, половина – мальчики. Девочки в розовой форме, мальчики – в голубой. На шее у каждого ребенка большой золотой крест на золотой цепочке. Солнца нет, но кресты сияют так, как солнце сияет над головой. «Разойтись на фаланги!» – кричит заводила, и второй, четвертый и шестой ряды делают полшага вправо. «Сомкнуть ряды, опустить копья и наступать!»
Фаланги приближаются к женщине, наконечники копий сверкают в несуществующем свете. В ужасе она отступает от надвигающихся копий и тут же натыкается спиной на фасад здания. Тогда она пытается убежать по улице, но фаланга заступает ей дорогу. Я стою рядом в дверном проеме. Еще до того, как вошел в сон, я узнал, что символизируют дети. Они – те, кого бы она родила, если бы не пошла против церкви и не принимала противозачаточные таблетки. Я знаю, что она проснется до того, как они насадят ее на копья, но мне нужно помешать ей и дальше видеть о них сны. Я снимаю ремень, подхожу к ней, опускаюсь на одно колено, ее перебрасываю через другое. Я задираю на ней юбку, спускаю с нее трусы и начинаю лупить ремнем по голым ягодицам. Она кричит от боли. Фаланга останавливается, дети опускают копья и начинают хохотать. Мгновение спустя сон заканчивается. Он никогда больше не вернется.
Молодой человек взбирается на скалу. Он не скалолаз, и ему ужасно страшно. Он добрался до того участка, где не может найти, за что уцепиться. Он в опасном положении, и вскоре он упадет. Тогда он проснется. По его описанию повторяющегося сна я вычислил, что сон – это университет, в котором он учится на врача, и пришел к выводу, что у него нет качеств, необходимых для того, чтобы стать врачом. Он не может вскарабкаться выше потому, что не хочет, – вот в чем он должен себе признаться.
Я расположился на значительном расстоянии над ним, и теперь я бросаю ему веревку.
– Вам нужно сильно отклониться вправо, – кричу я. – Там есть уступ.
Он в отчаянии хватается за веревку, отталкивается от скалы и, как маятник, качается в поисках уступа. Это внушительный уступ, и оттуда широкая расщелина ведет к самой вершине скалы.
И теперь молодой человек не просыпается, а карабкается по расщелине. Подниматься так легко, что он понимает, что это самый логичный путь наверх, что ему вообще следовало бы отказаться от прошлого маршрута, пусть даже новый путь приведет его на совсем другую вершину. Когда он достигает вершины, его очаровывает вид. Он свободен, он нашел выход из тупика.
Такие разные сны.
Когда-то я входил во многие сны моей жены…
Я снова за ней гнался и снова вернулся в мою пещеру. На сей раз, когда я проснулся, кажется, что я проспал целую вечность.
Поначалу я входил в ее сны из любопытства. Я просто хотел знать, что ей снится. Перед тем как лечь, я принимал кюренум, а потом, лежа рядом с ней в темноте, проскальзывал в ее разум.
Сны у нее были такие простенькие, что от них становилось скучно. Но мне и так было скучно. Она мне наскучила. И меня выводило из себя то, что она действительно была такой невинной, какой казалась.
Ее простота всегда была афронтом моему интеллекту. На вечеринках она ставила меня в неловкое положение, когда говорила что-нибудь невпопад, смеялась над шуткой, когда не надо было, или не смеялась, когда следовало бы. И мой роман с Дженнис Роулин… Все мои пациенты были богаты, ну конечно, а как иначе они могли бы себе меня позволить? Но Дженнис была неимоверно, чудовищно богата. Ее родители выстроили себе замок на реке Гудзон. Как это часто случается с пациентками, она в меня влюбилась. Она была единственным ребенком, и ей предстояло унаследовать состояние родителей. Но и это было не главное. Она была образованной, утонченной, проницательной, – у нее были все те качества, которых мне не хватало в Черил. Я хотел жениться на ней, но Черил была старомодной, и я знал, что просто так она со мной не разведется, понимал, что мне предстоит схватка, и боялся, что огласка повредит моей практике.
Есть два диаметрально противоположных способа, какими эндоаналитик может кого-то убить. Он может сделать это снаружи – или изнутри.
Черил часто снилась вода. Ей снилось, что она стоит на берегу моря и видит, как к ней приближается огромная волна. Цунами. Тогда она поворачивается и бежит. Я начал ставить ей подножки, увеличивая ее мучения. Она растягивалась на песке, перекатывалась на спину, видела, что огромная волна почти настигла ее, и кричала. Она и меня тоже видела, но я всегда предполагал, что она думает, что я ей снюсь. Она поднималась на ноги и бежала снова – все еще с криком. Разумеется, она всегда просыпалась до того, как волна ее настигала. Тогда она лежала, скрючившись в кровати рядом со мной, и еще долго всхлипывала, прежде чем заснуть.
Был у нее еще один возвращавшийся раз за разом сон, я считал его сном из детства. Его нельзя было считать навязчивым в обычном смысле слова, потому что он не причинял ей психологического вреда. На самом деле, пока я не начал в него входить, он даже ей помогал.
Сон был про ее плюшевого мишку. В этом сне она была маленькой девочкой, и она входила в детскую, где на обоях были картинки с игрушками, песочницами, качелями и колясками, и начинала искать своего плюшевого мишку. Когда она не могла его найти, ей становилось страшно. Она искала его повсюду. Под кроватью, за комодом, в платяном шкафу, за занавесками. Наконец, она находила его под подушкой на своей кроватке, брала его и обнимала, а потом ложилась с ним в кровать, и когда она засыпала, то не просыпалась, а продолжала спать в реальной кровати рядом со мной. Наутро она просыпалась оживленная, веселая и счастливая, и, одеваясь, мурлыкала любимые песенки.
Первые несколько раз, когда я входил в этот сон, я держался вне поля ее зрения, и она не знала, что я рядом. Потом однажды ночью я последовал за ней в детскую и, когда она нашла своего медведя, выхватил его у нее из рук и вырвал ему глаза. Потом я отдал его ей, и она легла с ним на кровать и все это время рыдала. Когда сон закончился, я слышал, как она плачет рядом со мной в темноте.
Я вырывал мишке глаза несколько ночей подряд, потом изменил тактику. Теперь, отобрав у нее медведя, я держал его за задние лапы и раскачивал так, что он бился головой о стену. Всякий раз, когда я так делал, Черил просыпалась с криком. Я повторял это снова, снова и снова. Во всех ее снах про мишку я трансформировал себя в старика с крючковатым носом и подлыми глазками и был уверен, что она считает старика лишь очередным элементом сна. Но в снах о воде я выдал себя, войдя в них в собственном облике. Наутро после снов о мишке она просыпалась осунувшаяся и с опухшими глазами. Не могла есть, на завтрак с трудом проглатывала чашку кофе. Думаю, она весь день не могла есть. Она все худела и худела. Она все больше уходила в себя. Я был уверен, что она покончит с собой. Но нет. Она покончила со мной.
Похоже, я спал целую вечность, прежде чем ей снова приснился сон про пещеру. Но точно я определить не могу. Она карабкается по склону к пещере, мы смотрим друг на друга, потом она с криком бежит в лес. И даже если теперь я понимаю, что мне никогда ее не поймать, прежде чем она добежит до ручья и исчезнет, я все равно ее преследую. Она встроила этот инстинкт в мой конструкт во сне, и против него я бессилен.
Если между этим сном и его предшественником действительно был большой интервал, то вполне возможно, что она пошла лечиться. Но я так не думаю. Не только потому, что не видел никаких признаков другого эндоаналитика, но и потому, что не верю, что она станет искать помощи, ведь тогда ей придется рассказать психоаналитику, что она меня убила. Но иногда навязчивые сны тускнеют и исчезают сами по себе. Такое случается, если вызвавший их недуг утратил свою хватку. Если именно так обстоят дела, скоро я буду мертв.
Разумеется, я уже мертв, но только в реальном времени. В безвременьи Темной Зоны я и жив, и мертв одновременно. Согласно теории Кюрена, если пациент достаточно часто видит один и тот же сон, содержимое этого сна может обрести существование, независимое от того, кому оно снится, а тогда уже будет неважно, жив он или мертв в реальном времени. Я – доказательство его теории.
Как Черил меня убила?
Оказывается, я уже не способен ясно мыслить. Я снова довольно долго бодрствовал, но я не могу даже попытаться не исчезнуть на весь тот период, что разделяет ее сны. Я вот-вот снова засну. Я стараюсь бороться, противостоять тьме, которая на меня наползает. Без толку. Мое сознание тускнеет, я исчезаю.
В тот день мы пошли на охоту. Да, мы с Черил пошли на охоту. Мы пошли охотиться на оленя. Мы взяли с собой старомодные карабины шестнадцатого калибра. Винтовки при охоте на оленя все еще табу. Был ноябрь. Конец ноября. Я прекрасно это помню. Я усиленно вспоминаю, сидя у себя в пещере после тщетной погони. Был конец ноября, и выпал легкий снежок. Идеальный снег для охоты на оленя.
Мы шли по оленьим следам через лес. Мы вышли на прогалину. Мы знали, что олень близок, и остановились на опушке. Потом мы увидели, как справа от нас из лесу вышел олень. Это был крупный самец, и ветер дул в нашу сторону, так что он не мог нас учуять. Мы оба подняли карабины. Я уложил оленя выстрелом в горло, но видел, что он все еще жив. Черил не выстрелила. Вторая моя пуля попала оленю в голову и его прикончила. Я видел облачка от дыхания Черил. Я видел облачка от собственного дыхания. Приклад ее карабина еще упирался ей в плечо.
– Ты не хочешь удостовериться, что он мертв? – спросила она.
– Я знаю, что он мертв, – ответил я, но все равно пошел к животному.
Ее первая пуля попала мне в плечо и развернула меня на сто восемьдесят градусов. Падая, я видел ее лицо. Холод в ее глазах меня потряс.
– Нет, – произнес я.
Ее тело чуть дернулось, потом наступила великая белизна. После я ничего не помню.
Слава Богу, что у нее снова был сон про меня!
Прошла уйма времени с моего последнего пробуждения. Нет, не просто уйма, а чудовищная уйма времени. Я умею улавливать течение реальных дней и недель. Мне нужно выбраться из сна. Нужно!
Возможно ли, чтобы тот, кто снится, сам видел сны? Смогу ли я, если увижу во сне реального себя, стать реальным собой?
Я еще не видел здесь снов, но, возможно, сумею.
Из этого тупика нет иного выхода.
Если я смогу увидеть себя во сне таким, каким был в реальной жизни, стать реальным собой, я смогу предотвратить свою смерть в Пространстве Света. Зная все наперед, я буду знать, когда придет время, что я не должен поворачиваться к жене спиной, не должен выходить на прогалину.
Возможно, нужно увидеть во сне мгновение до того, как я застрелил оленя. Я пущу ему пулю в горло, потом выстрелю снова, а потом не выйду на прогалину. И Черил будет стоять рядом со мной, уперев приклад в плечо, а я посмотрю на нее и скажу:
– Сама пойди посмотри, мертв ли он.
И когда она пойдет, я ее застрелю.
Несчастный случай на охоте. Если получилось у нее, почему не получится у меня?
Когда сон приближается, я сосредотачиваюсь на самом важном мгновении. Я мысленно рисую себе прогалину. Я рисую себе оленя, который вот-вот на нее выйдет. Я вижу стоящую рядом со мной Черил. Два человека. Прогалина. Олень.
Я увидел деревья!
Да, деревья!
Я не видел ни Черил, ни прогалины. Но это начало.
На сей раз я знаю, что с тех пор, как я ей снился, прошла целая вечность. У меня такое ощущение, что я весь одеревенел и мысли у меня в голове еле-еле ворочаются. Но мне снова снились деревья. И присыпанная снежком палая листва. Я так близко, так близко! Когда надо мной смыкается сон, я изо всех сил сосредотачиваюсь на мгновении. Мы с Черил стоим на краю прогалины. На нее вот-вот выйдет из леса олень. На сей раз я обязательно сбегу!
Земля под ногами покрыта палой листвой. Под ней – наслоения листьев, опавших в прошлые годы. С каждым шагом я глубоко погружаюсь в наслоения листьев. Со всех сторон меня обступают деревья. Я смотрю налево, но не вижу никаких признаков Черил. Кругом только деревья.
Вот-вот я выйду на прогалину. Но что-то не так. Мне бы следовало стоять на краю прогалины, стоять рядом с женой. Я оглядываюсь по сторонам. Странно, но для этого мне не нужно поворачивать голову. Я все равно не вижу следов жены. Я втягиваю носом воздух, я выхожу на прогалину. Тут я вижу мою жену. И меня самого. Я наставляю на меня ружье. Нет! Я пытаюсь закричать, но не могу произнести слов. Я делаю прыжок. Ружье выстреливает, и мое горло пронзает боль. Я падаю наземь. Ружье у меня в руках все еще нацелено на меня. Нет! Я пытаюсь закричать снова, но у меня нет голоса. В последние секунды жизни я понимаю, что вырвался не просто из Темной зоны, но и вовсе с этого Света.
Приглашение на вальс Перевод А. Комаринец
Возникшая на экранах космическая станция выглядела чужеродной, неуместной и невозможной, как на этом краю галактической линзы, так и в просвещенную эпоху самого Д’Этуаля. И тем не менее она преспокойно и неспешно вращалась всего в сотне километров. На взгляд человека двадцать пятого века, то есть самого Д’Этуаля, в ней было что-то от затерявшегося во времени средневекового замка. Д’Этуаль совершал рутинный патрульный полет с заданием искать признаки t-семпи – С-флуктаций, иногда порождавших страшные фотонные бури, от которых его родная планета могла защититься, только заранее зная об их приближении. В этом секторе звезды перемигивались редкими точками, словно бы сходили на нет, исчезая в пропасть метагалактического пространства, а в миллиардах световых лет размытыми мазками в необъятной темноте маячили три внегалактические туманности.
Станция, выступавшая четким силуэтом на слепящем фоне далекого звездного облака, находилась так далеко от ближайшего светила, что вполне могла и сама считаться полноправной звездой. Судя по показаниям инструментов на контрольной панели патрульного судна, она тихонько дрейфовала к краю галактики – то ли своим ходом, то ли по инерции от гипотетического ускорения или целой череды ускорений, некогда столкнувших ее с орбиты и отправивших лететь неведомым курсом, чем и объяснялась ее независимость. Что до ее происхождения, то в ней явно угадывался невидимый штамп «материнская планета», а значит, к краю галактики она дрейфовала вот уже пару столетий. Не получив ответа на радиовызов, Д’Этуаль не удивился, но испытал легкое раздражение. Протокол требовал подняться на станцию и проверить, что там и как, а ему не хотелось. Было в ней что-то отталкивающее; возможно, из-за жутковатой конструкции.
По мере сближения станция быстро разрасталась на экране. В просвещенный век самого Д’Этуаля подобные космические станции считались ненужным расточительством, но так было не всегда. До введения в эксплуатацию двигателя транспереноса Свейка, благодаря которому колонизация других галактик стала экономически оправданной, с материнской планеты Земля вывели на орбиту тысячи подобных объектов. Поначалу они были довольно примитивными, но постепенно усложнялись – по мере того, как технологии освоения космоса переходили, условно говоря, из детского сада в первый класс школы. Со временем подключился частный бизнес, и на орбите стали появляться «звездопоместья», «астрозамки», «спутникоборы» и «звездобары». По современным меркам, это были огромные и неуклюжие сооружения, эдакие стальные замки, привлекательные разве что сказочной атмосферой.
Когда станция заполнила экран целиком, Д’Этуаль запрограммировал автопилот на определение местонахождения входного шлюза и швартовку. Затем надел скафандр, немного подумал и перед тем, как закрыть отсек со снаряжением, повесил на пояс устройство для «взламывания» замков, – едва ли на станции остались люди, которые откроют ему шлюз. Еще он прихватил с собой дезинтегратор средней дальности; впрочем, это был стандартный алгоритм по протоколу.
К тому времени станция была уже так близко, что он разглядел мириады щербин, которые оставили на ее корпусе многочисленные рои метеоров. Что-то в ней внушало дурные предчувствия… И ни малейших признаков шлюзового отсека… Может, перепрограммировать автопилот, чтобы сдал назад? Но страхи оказались напрасными. Вскоре на экране возник старомодный шлюз модели Дженкинсона, и автопилот без труда завел в него нос патрульного судна. Когда замигала лампочка, указывающая, что стыковка завершена, Д’Этуаль прошел через внутренний и внешний шлюзы собственного корабля, миновал внешний и внутренний шлюзы станции и ступил в раздвинувшиеся створки.
И очутился в выстланном алым ковром коридоре, залитом к тому же красноватым светом. Издали доносились звуки музыки.
Красноватый свет не имел очевидного источника и словно бы исходил от стен и потолка, которые были одного цвета с полом. Но Д’Этуаль не дал себя так просто обмануть. В курсе психоистории много говорилось о фрейдистском конфликте, будто бы лежавшем за потребностью жителей материнской планеты скрывать и маскировать источники освещения, равно как и за тягой к образу жизни, взятому с темных страниц прошлого. Что до музыки, то это была, разумеется, запись, которая, как и свет, активировалась открытием и/или смыканием створок внутреннего шлюза.
Показатели на мини-панели, проецируемые чуть ниже уровня глаз на визор шлема, показывали, что атмосфера сносная, температура тоже, а гравитация вдвое больше той, что воссоздана на патрульном судне. Приблизительно это он и предположил по конденсату (уже испарившемуся) на визоре шлема и по тому, какими тяжелыми стали вдруг руки и ноги. Тем не менее он не торопился освободиться от скафандра. Показания приборов не всегда безупречны, да и вообще ему незачем снимать скафандр. Несмотря на музыку, приемлемую температуру и атмосферу, он ни на секунду не верил, что на станции есть кто-то живой.
Оглянувшись по сторонам, он пошел на звуки музыки. Из-за красноватого свечения все казалось призрачным, нереальным. Д’Этуаль различил мерное гудение и догадался, что, наверное, включились древние вентиляторы, которые теперь гоняют по кругу мертвый воздух, восстанавливая уровень кислорода из скрытых где-то в недрах станции гидропонных баков. Как большинство станций материнского мира, эта была полностью автономной и самодостаточной.
Наконец, коридор закончился, и Д’Этуаль очутился на пороге гигантской залы с балконами вдоль стен. С высоченного потолка свисала огромная вращающаяся люстра в форме решетчатой спиральной галактики. Вероятно, в такт музыке менялись светофильтры всех цветов радуги, поскольку залу и танцоров омывало попеременно красным, оранжевым, желтым, зеленым, синим и фиолетовым сиянием. Завороженно глядя на кружащиеся пары, подмечая отточенные па и элегантные повороты, Д’Этуаль сообразил, что музыкальная композиция, под которую они двигаются, на самом деле вальс – вальс, написанный за много столетий до того, как они родились на свет, возрожденный услаждать слух в эпоху, когда истинное искусство атрофировалось и вымерло.
При всей своей реалистичности танцоры были всего лишь голографической проекцией, взятой, по всей видимости, из архива аудиовизуальных записей. Скорее всего, людей записали одновременно с вальсом, и теперь они стали неотъемлемой его частью. Не исключено, что это были ожившие в голограмме версии мертвецов, которые сидели сейчас за столиками под балконами и наблюдали за танцем.
Нет, неверно было бы сказать, что все они «наблюдали». Одни попадали со стульев и мешками костей лежали на полу. Другие опрокинулись на стол, их костлявые пальцы сжимали ножки пыльных бокалов.
Большинство столов были пусты.
Д’Этуаль пробежал глазами по балкону, тянувшемуся вдоль залы, по дверям, которые на него выходили. При мысли, что может таиться за этими резными панелями, его передернуло.
Вальс закончился, танцоры исчезли. И тут же начался другой вальс, и появились другие танцоры, а может, те же самые. С невольным отвращением, но не в силах оторвать глаз, – он сам едва отдавал себе отчет в этой раздвоенности – он смотрел на разыгрывающуюся перед ним фантасмагорию. Женщинам – на самом деле девушкам – было лет восемнадцать-девятнадцать или чуть за двадцать. На них были экстравагантные длинные декольтированные платья, к тому же кричащих цветов. Их волосы были уложены в гротескные прически, лица – неестественно нарумянены. Мужчины были разных возрастов: одни молодые, другие старые, большинство – средних лет. И все – в вечерних костюмах: черные фраки, черные галстуки, черные лаковые туфли.
Мертвые танцевали с мертвыми.
Это ведь Уайльд, да?
Да. Оскар Уайльд. Который сам, как привидение, рыскал по темным улицам после своего позора. И написал балладу Редингской тюрьмы.
Больная, тошнотворная планета, больная цивилизация, подумал Д’Этуаль. Кем надо быть, чтобы подобно ворам разорять свое собственное прошлое? Строить спутникоборы и собороспутники вместо настоящих соборов?
Старая продажная Матушка-Земля.
Он снова поднял глаза к балкону, к загадочным дверям. Он проследил изгиб перил и нашел то место, где их изгиб ведет вниз, где ступени спускаются в бальную залу. Он не помнил, как пересек залу, но поймал себя на том, что нехотя поднимается по ступеням. Где-то наверняка есть бортовой журнал, в котором содержится вся необходимая информация для доклада в центр, однако болезненное любопытство подталкивало Д’Этуаля посмотреть на все своими глазами.
Д’Этуаль толкнул первую дверь. Заперто. Он толкнул вторую и третью. Наконец нашел такую, которая поддалась под его рукой, и переступил порог. Он очутился в небольшой комнатке, залитой все тем же красноватым свечением, что и коридор. Там стояли затейливое бюро, стул, стойка с тазиком и кувшином и кровать. Кровать была пуста. В потолок прямо над ней было встроено большое прямоугольное зеркало.
Вернувшись на балкон, он толкнул следующую дверь. Когда она не поддалась, он достал дезинтегратор, выжег замок и вошел. Представшая перед ним картина была точной копией той, которую он только что видел. Вот только со спинки стула свисала истлевшая одежда…
Вот только в кровати лежали кости…
Это были два сплетенных скелета. Ребра верхнего, того, что побольше, провалились в ребра нижнего поменьше. Два черепа лежали бок о бок на истлевшей подушке, один – лицом вниз, другой скалился в зеркало, точно увиденное там его позабавило.
Д’Этуаль попробовал еще три двери. Две были не заперты и вели в комнаты, которые ничего ему не сказали. Он выжег замок третьей и нашел еще два скелета. Эти лежали на кровати лицом друг к другу. Правые берцовая и большая бедренная кости меньшего лежали поверх левой безымянной кости более крупного, в красном полумраке словно бы покачивалась скелетная рука.
Старая продажная Матушка-Земля.
После долгих поисков Д’Этуаль нашел капитанскую рубку. Она располагалась над алым коридором, в конце узкой винтовой лестницы, которая начиналась справа от внутреннего шлюза. Он не сразу ее заметил, потому что ведущая к лестнице дверь на первый взгляд была неотличима от стены.
Войдя в рубку, он увидел еще один скелет – скорее всего, пилота. Стараясь не коситься в его сторону, Д’Этуаль поискал бортовой журнал. Наконец нашел и представил себе жуткую картину случившегося.
Подавив позывы к тошноте, он спустился по лестнице и вышел в коридор. В бальной зале начался новый вальс. Он знал, что ему следует немедленно покинуть станцию, но почему-то вернулся в залу и снова, с каким-то двойственным чувством, наблюдал за вальсирующими.
И почему-то не удивился, когда из сумрака в дальнем конце залы возникла она. Вероятно, он с самого начала знал, что она там. Ждет.
Теперь она шла к нему через зал.
Высокая, статная, в белом платье. На черные волосы, собранные в высокую прическу, ложились радужные блики. Ее кроваво-красные губы подчеркивали белизну лица. В глазах чернела тьма межгалактического пространства.
Она протянула к нему руки.
– Танцуете?
И они танцевали. Под вальс Штрауса «Вино, женщина и песня».
Они кружились среди призраков, проскальзывая сквозь них: он – неуклюжий в своем скафандре, она – легкая, как воздух, из которого и была создана, и одновременно сладко весомая в его объятиях.
– Меня зовут Трепонема Паллидум[33], – сказала она, смеясь.
– Знаю, – ответил он, и его передернуло.
– В космосе я обрела мощь, – сказала она.
– Знаю, – ответил он.
Светофильтры в решетчатой спиральной галактике над ними сменились с фиолетового на красный. Она сказала, кружась с ним в бордовом полумраке:
– Я мутировала. Я становилась все сильнее, все опаснее. Я обрела способность за день совершать то, на что раньше требовались годы. Я научилась переходить из тела в тело. Я обрела способность засыпать на тысячи лет.
– Знаю, – ответил он.
– Какие-то чиновники поставили станцию на карантин и отправили эпидемиолога, который должен был найти и уничтожить меня. Он испробовал все известные ему антибиотики и препараты. Он даже пытался применить ртуть и салварсан.
– Знаю, – повторил он.
– А когда все его попытки провалились, он приказал пилоту увести станцию с орбиты и уничтожить. Но я уже завладела пилотом, а после добралась и до эпидемиолога. Но перед самой смертью пилот все же исхитрился увести станцию с орбиты. Эпидемиолог катапультировал себя в открытый космос. – Она усмехнулась. – Всех, кто остался, я пригласила на вальс. А теперь я пригласила тебя.
– Тебе до меня не добраться! – выкрикнул он. – Мой скафандр герметичен!
С кроваво-красных губ сорвался звенящий смех, пронзивший переливчатую мелодию Штрауса. Д’Этуаль отшатнулся, но длинные алые ногти полоснули его по груди. В ужасе он повернулся и бросился прочь из залы, но на пороге коридора все же помедлил и оглянулся. Его взгляд успел выхватить ее, прежде чем она исчезла среди теней в дальнем конце комнаты. Или растворилась среди теней в закоулках его сознания.
Он целый час простоял в абсолютном вакууме стыковочного отсека. Ритуал очищения. Едва ступив на патрульное судно, он стащил с себя скафандр и одежду и выбросил все с борта через мусоросборник. Возможно, это была чрезмерная предосторожность, но он не собирался рисковать. За одеждой последовал дезинтегратор, а сам он отправился прямиком в душ, где намылился самым мощным антибактериальным мылом, какое нашлось в аптечке. Смыв пену и вытершись досуха полотенцем, он с ног до головы намазался изопропилом. Надев чистый комбинезон, устроился в своем кресле и наконец позволил себе один-единственный вздох облегчения. И тут же принялся за работу.
Он отвел патрульное судно на пятьсот километров, развернул бортом к станции и терпеливо ждал, пока далекий силуэт сказочного астрозамка не появился в перекрестье прицела бортовой пушки. Первый удар превратил станцию в алый цветок, второй – в космическую пыль. Он позволил себе еще один вздох облегчения. Потом запрограммировал автопилот вернуться на первоначальный курс и начал диктовать доклад по протоколу «Инцидент и принятые меры». К тому времени, когда он закончил, на корабле наступила «ночь».
Д’Этуаль проспал семь часов – максимальное время, дозволенное по протоколу, но, проснувшись, не испытывал бодрости. Встав, он поймал себя на том, что нетвердо стоит на ногах и ему трудно натянуть на себя одежду. Уже одевшись, он вдруг забыл, где находится, а вспомнив, пошел на крошечный камбуз и приготовил кофе. Некоторое время он смотрел, как знакомое трио межгалактических туманностей бледно светится на экране камбуза, а потом вдруг вспомнил, что на камбузе нет экрана. Он в ужасе попятился из отсека.
Он услышал слабый шорох, словно бы женского платья. Повернувшись, он увидел ее.
Она стояла в узком коридоре.
Она усмехалась. Кожа и плоть сползли с правой половины ее лица. Забранные в высокую прическу волосы свалялись, некоторые пряди выбились и падали теперь на разлагающиеся плечи. Она протянула костлявую руку, намереваясь коснуться лица, но он лишь смутно различил это движение – через липкую пелену, застилавшую взор. Он обнаружил, что лежит на палубе, вслушиваясь в ее смех. В последние мгновения его жизни этот смех потонул в звуках вальса «Вино, женщина и песня».
Потерянный землянин Перевод Я. Лошаковой
В начале, слушая его доклад, они были поражены выражением его глаз. Это были глаза человека, побывавшего на том свете и потом воскреснувшего. В некотором смысле это было правдой, хотя смерть в физическом смысле миновала Роува. Когда поврежденный метеоритом двигатель «Деметры» развалился на куски, обрекая космический корабль вечно вращаться по орбите Марса, Олмс и Стейси погибли при попытке починить его снаружи, а Роув находился в модульном отсеке и не получил ни царапины. Физически он был жив, но живым себя уже не чувствовал.
Повреждения самого модуля были незначительными, но АУДИОРБ, новейшая система связи, вышла из строя, а у Роува не хватало опыта и знаний, чтобы починить ее. Месяцы одиночества, разговоров с самим собой, покрытый рубцами и потрескавшийся лик Марса в одном иллюминаторе, безучастные глубины космоса – в другом; время от времени леденящие кровь мимолетные видения и черепа марсианских лун; облаченные в скафандры трупы его коллег-астронавтов, летящие чуть поодаль от «Деметры», – скрытые от глаз, но не забытые. Несомненно, в каком-то смысле Роув был уже мертв.
Но выражение его глаз не шло ни в какое сравнение с теми словами, что слетали с его губ. Все, кто проводили с ним собеседование, раз за разом подвергали сомнению его слова. Раз за разом они пытались найти объяснение его «откровению». Но все безуспешно. Потому что Роув был убежден, Weltansicht[34], к которому он пришел, и есть сама Истина. Его путь был долог и труден, но он дошел до конца и, завершив его, пришел к Истине.
В конце концов его слова приняли как данность. Вне всякого сомнения, он находился в здравом уме, если не считать его одержимости Истиной. Кроме того, он стал национальным героем. Роува оставили в покое, но предупредили, что до поры до времени «отпечаток» и «Всемирный потоп» должны оставаться конфиденциальной информацией (тот факт, что он не поделился своим открытием с членами спасательной команды, говорил о том, что ему можно доверять). По завершении всех стандартных процедур ему предоставили годичный оплачиваемый отпуск.
Бог свидетель, он его заслужил.
Вечеринка в пентхаусе на крыше небоскреба Роберта Мозеса в Новом Нью-Йорке, организованная леди Джейн Кэстрел, так и не смогла стать главным светским мероприятием, как мечтала хозяйка дома. Катализатор, который она ввела человеку под именем «Потерянный землянин» (газетное прозвище накрепко приклеилось к нему, хотя уже и не соответствовало действительности), способствовал лишь еще большей его изоляции.
Сейчас он стоял в стороне, словно прокаженный, в дальнем углу гостиной, перелистывая какую-то книгу, которую взял из задвинутого вглубь книжного шкафа. Там хранились всемирно известные éditions vieilles[35] леди Джейн. Рассредоточенные, словно спутники, в просторном зале передвигались группки очень важных гостей из разных деловых кругов, и предполагалось, что Роув будет развлекать их.
В соседнем павильоне царило ночное веселье. Там смешанные и однополые пары с упоением извивались в танце под аккомпанемент гитар группы «Децибелы», но, как и водится на вечеринках такого масштаба, веселье было всего лишь вишенкой на торте. Сам же торт осел.
Леди Джейн была вне себя от ярости. Почему ее не предупредили, что «Потерянный землянин» лишился языка перед тем, как его навязали миру после столь долгого отсутствия? Почему ей не сказали, что одного его взгляда, словно из преисподней, было достаточно, чтобы заморозить самую теплую беседу?
Была ли она в ярости? Да. Но она не позволила себе продемонстрировать это. Она была профессионалом в своем деле, и какой бы катастрофичной ни была ситуация, ничто не могло нарушить ее внешнего спокойствия. Более того, леди Джейн содержала целый штат антикризисных сотрудников для исправления социальных провалов, подобных тому, с которым она только что столкнулась.
Одна из сотрудниц – новенькая девушка, к счастью, находилась рядом с ней.
– Мишель, этот мертвец вон там запустил свои лапы в мои éditions vieilles. Сегодня вечером он твой. Воскреси его, если сможешь, и отведи туда, где он не будет привлекать внимание. Желательно, куда-нибудь на Луну.
– Интересно, что в этой книге заставило вас так нахмуриться?
Роув оторвал взгляд от «Преступления и наказания». Он начал выпивать уже в начале вечера, но его взгляд оставался совершенно ясным. Он увидел перед собой девушку в белом платье, изящную, словно бокал шампанского, пузырьки которого поднимались вверх, озаряя ее лицо. Они плясали в ее игривом взгляде, улыбке с ямочками на щеках и выразительном изгибе бровей. Длинные черные волосы спускались по ее плечам, словно заиндевевшие ветки деревьев на заснеженных склонах.
– Иван собирается вернуть входной билет, – ответил Роув.
– Чудеса, да и только.
Роув нахмурил брови.
– В этом нет ничего чудесного.
– Я имела в виду – это нелепость. Стоит ли переживать из-за какого-то несчастного билета.
Бесполезная трата слов!
Роув закрыл книгу и поставил ее обратно в книжный шкаф.
– Достоевский вас не увлекает, судя по всему.
– Мне трудно воспринимать Достоевского серьезно. Он бредил, а не писал. Возможно, это следствие эпилептических припадков… как вы думаете? В любом случае мои мысли занимает космонавт, чьи глаза – квинтэссенция утраченных иллюзий.
– Это леди Джейн отправила вас на спасательную операцию?
– Да.
– Меня не нужно спасать.
– Вас – нет, вечеринку нужно.
Роув улыбнулся. Его улыбка выделялась на лице как отдельный элемент, она была сама по себе. Он окинул взглядом гостиную, круг особо приближенных – очень важных гостей из разных деловых кругов. Люди, украдкой разглядывавшие его, смущенно отвели взгляды. Жребий брошен: этого Лазаря больше не пригласят ни на один прием.
– Я хочу танцевать, – сказала Мишель.
– …давайте.
Она взяла его за руку, и они пробрались, минуя особо приближенных, к французским дверям, ведущим в павильон. Двери были открыты, но децибелы «Децибелов» не были слышны, пока они не вошли в невидимое акустическое поле. Громкая, резкая, пульсирующая музыка теперь со всех сторон окружала их, струясь из дюжины невидимых глазу колонок. Казалось, она не имеет отношения к самим музыкантам. Все они были обнажены, а их тела выкрашены в голубой цвет. Музыканты стояли на сцене у парапета и били по струнам своих гитар.
Мишель повернулась к нему, и их тела погрузились в ритм. Совершая волнообразные движения, она произнесла, перекрикивая музыку:
– Вы танцуете так, будто никогда и не отсутствовали на Земле.
– Тело помнит движения.
Они продвинулись вглубь, оказавшись среди извивающихся тел.
– Вам не хватало танцев? – спросила Мишель.
– Нет. Когда смотришь на танцующего человека, кажется, что мы произошли не от обезьян, а от змей.
– Возможно. Но где еще так звучит язык тела, не считая любовной постели?
Роув промолчал. Музыка внезапно атаковала его со всех сторон, ударив по барабанным перепонкам, хотя ему казалось, что она находится за многие сотни световых лет от него. Мишель тоже отделяли сотни световых лет. Но почему? Он ведь не шизофреник. Они были бы счастливы признать его душевнобольным. Но у них ничего не вышло. Он психически здоров, как и они. Даже более здоров. Так как он один смог принять Истину. Он единственный, кто видел отпечаток. Он единственный разглядел его на марсианском лике и единственный понял, что он собой представляет.
Но он может понять их нежелание верить ему. Чтобы осознать суть отпечатка, надо смотреть на него со строго определенной высоты, при строго заданных условиях и в течение продолжительного времени.
«Децибелы» объявили перерыв между песнями.
– Вы уже успели посетить гастрономический буфет леди Джейн? – спросила Мишель.
– Нет.
– Ее гурманские блюда славятся своим разнообразием и изысканностью. Там есть экзотические яства на любой вкус. Мне кажется, человек, на протяжении почти двух с половиной лет сидевший на космическом пайке, должен был изголодаться по деликатесам.
– Леди Джейн даже не взглянет на то, что для меня является деликатесом. Я происхожу из очень бедной семьи; у нас бифштекс раз в месяц был как праздник. Мое любимое блюдо – салат из молодых листьев одуванчика со шпиком.
Они покинули павильон и вернулись в гостиную.
– В гастрономическом буфете леди Джейн Кэстрел стать гурманом очень легко, всего один урок.
– Для меня «гурман» и «обжора» – синонимы, – произнес Роув.
– Кажется, я догадываюсь, – сказала с улыбкой Мишель, – почему леди Джейн так волнуется за успех своей вечеринки.
– Я не напрашивался на приглашение. Но пойдемте, – добавил он, – если вы хотите посетить буфет, я составлю вам компанию.
– Я тоже привыкла к более простой пище. Может, вместо этого прогуляемся по саду?
Леди Джейн издали наблюдала за тем, как они вышли. Она была обрадована тем, что «Потерянный землянин» хотя бы на время покинул ее вечеринку. И отметила про себя, что надо не забыть повысить жалованье новенькой девушке. А она еще сомневалась, стоит ли ее нанимать!
– Я не думаю, что ты справишься, – сказала она Мишель, когда увидела ее в первый раз. – Ты, несомненно, очень мила. Но ты не выделяешься из толпы. В наше время сексуальность должна быть кричащей, а твоя говорит вполголоса. Нежность утратила свою силу, если когда-то и была в ходу. – Но тут Мишель взглянула на нее своими небесно-голубыми глазами, и все сомнения рассеялись. – Но я возьму тебя в штат, вопреки моим убеждениям.
И теперь она была довольна, что сделала это.
По мнению Роува, сад леди Джейн Кэстрел был под стать ее буфету. В тех краях, откуда он был родом, дом окружали леса и луга. Его любимыми цветами были горечавки и аквилегии, а осенью его пленяли астры и золотарники. Здесь же гибридные розы свисали с затейливых решеток; ночной воздух был тяжелым от их удушающего аромата. Повсюду раскинулись клумбы с кричащими и безвкусными бутонами цветов, названия которых он даже не знал. Подстриженные кусты представляли собой огромное количество сатиров, единорогов и нимф. Дорожки, усыпанные белой галькой, извивались подобно лабиринту, ведя к невысокой ограде, за которой вздымались в небо огни авиамаяка воздушных такси.
Небо было усыпано драгоценными камнями звезд. Бегущие огни воздушного транспорта перемигивались, напоминая рой светлячков.
– Какой уродливый сад, – произнесла Мишель. – Ему не хватает стиля.
Они отыскали скамью и присели в полумраке, наполненном ароматами. Роув поднял глаза к небу, пытаясь отыскать среди других звезд Марс. Но его там не было, в этом месяце на небе можно было увидеть Венеру. Ему вспомнилось, как бессчетное количество раз на орбите он всматривался в темноту в поисках сапфирового блеска далекой Земли, и каждый раз рыдал, отыскав ее. Но это было до откровения. После откровения он больше не плакал.
Сначала он решил, что это было случайное откровение, но поразмыслив, пришел к противоположному мнению. Гончар может оставить неопровержимые доказательства своего существования, если его сосуд получится с дефектом, но вряд ли он станет привлекать к этому внимание. Но даже после этого Роув больше не плакал. Для чего ему было проливать слезы?
ВОПРОС: Отпечаток, о котором вы говорите. Он находится прямо к северу от горы Олимп?
ОТВЕТ: На самом деле, там два отпечатка. Один – сразу на север, другой – на северо-западе. Последний, вне всякого сомнения, отпечаток Его большого пальца. Другой, возможно, отпечаток Его указательного пальца. К западу от вулкана есть похожий контур, вероятнее всего, оставленный краем Его ладони, но это всего лишь мое предположение.
ВОПРОС: Ведь все это ваши догадки, не так ли, коммандер? Игра необузданного воображения. Разломы и горные хребты, составляющие ваши так называемые «отпечатки», уже давно объяснили эрозией почвы и вулканическими потоками. Они образуют в точности такой же рельеф, который можно увидеть поблизости от такого крупного вулкана гавайского типа, как гора Олимп. Они и правда смотрятся как макрокосмические отпечатки пальцев; но вы не находите странным тот факт, что геологи, проводившие исследования, не признали их таковыми?
ОТВЕТ: Ни в коей мере.
ВОПРОС: Вы не могли бы объяснить, почему вы в этом уверены?
ОТВЕТ: Во-первых, ни один геолог не способен взглянуть и на дюйм дальше своего геологического носа. Как и большинство других специалистов, они работают в тесных комнатках, заваленных данными по своей узкой специальности, и не желают высунуть свой нос в окно. Во-вторых, геологи, о которых мы говорим, работали с фотографиями в высоком разрешении, смонтированными после аэрофотосъемки и присланными «Маринером-9», а затем орбитальными спутниками «Викинг-1» и 2. Фотографии получились отличные, в особенности со спутников, но даже самые лучшие фотографии – не что иное, как точное воспроизведение того, что запечатлела камера. Сама объективность камеры создает подобный результат. Человеческий глаз все же не камера, сколько бы ни проводилось сравнений. Когда человек смотрит на что-то, он не просто видит, он воспринимает это. Если восприятие не задействовано, он не может идентифицировать увиденное и соотнести с собственным мировоззрением.
ВОПРОС: Вы хотите сказать, что субъективность совершенно необходима для истинного толкования реальности?
ОТВЕТ: Для той реальности, к которой мы привыкли, – да. Кант поспорил бы с этим, но я не вижу причин сомневаться в моей точке зрения.
ВОПРОС: Значит, вы настаиваете, что подвергшийся эрозии рельеф к северу от горы Олимп является отпечатком большого пальца Создателя?
ОТВЕТ: Да. Он был оставлен там случайно во времена сотворения мира.
ВОПРОС: До или после Всемирного потопа?
ОТВЕТ: Понятия не имею.
– До… всего, что вам пришлось пережить, Вы были таким же неразговорчивым? – произнесла вполголоса Мишель. Ее плечо слегка коснулось его плеча.
– Думаю, что нет.
– Леди Джейн возлагала на вас большие надежды сегодня. Она рассчитывала, что вы будете центром притяжения на ее праздничном вечере.
– Леди Джейн ввели в заблуждение.
Легкий ветерок пробежал по саду. Волосы Мишель поднялись и упали, легко скользнув по щекам.
– Вы ведь не всегда будете молчать, правда?
– Нет. Однажды я поведаю Истину. Прокричу с крыши какого-нибудь дома. С вершины горы. Или холма.
– Истину?
Он не стал объяснять дальше. Вместо этого повернулся и посмотрел на нее. Ее лицо было подобно цветку в свете звезд, одинокой розе. Белой розе, немного печальной. Он спросил себя, почему бы ему не наклониться и не поцеловать лепестки ее губ. У него не было женщины два с половиной года. Сейчас он должен жаждать женщин. Желать вот эту, по счастливой случайности упавшую ему на колени. Он смотрел на нее и находил затруднительным ассоциировать ее хрупкую красоту с сексом. Трудно, хоть и возможно. Он почувствовал едва заметное возбуждение внутри. И услышал, как его голос произнес:
– Вы живете в Новом Нью-Йорке?
– Пока что здесь.
– Леди Джейн сделает вам выговор, если вы ненадолго отлучитесь?
Мишель улыбнулась.
– Обязанность решать проблемы для леди Джейн подразумевает недолгие отлучки. Я схожу за сумочкой.
Она вернулась, и они приблизились к невысокой ограде. Роув включил авиамаяк воздушных такси. Он замигал, а они стояли и ждали, пока один из «светлячков» не покинет рой и не спустится к ним на крышу дома. Через некоторое время воздушное такси прибыло.
– К тебе или ко мне? – спросил Роув.
– К тебе.
Воздушное такси взмыло высоко над городом. Это был самый обыкновенный плот.
Заполненный гелием, с пропеллером на аккумуляторах. Ночь выдалась теплой, и поднимать складной верх не было необходимости. Ветер дул им в лицо, а позади пропеллер рассекал летний воздух. Волосы Мишель развевались и парили на ветру, переливаясь. Волосы Роува, в космосе отросшие до плеч, струились, оставляя позади темный вихревой след.
Его квартира находилась в одном из обновленных зданий в старой части города.
Там была кухня с обеденным уголком, ванная, спальня и гостиная. Он приехал в Новый Нью-Йорк сразу же после доклада по возвращении с задания. И еще не был готов вернуться в родные края. Полей, ручьев и лесных опушек его детства – их уже нет, жилищное строительство все поглотило. Но дом, в котором он родился, еще стоит. В нем живет его отец с этой вавилонской блудницей. А мать умерла, когда ему было девятнадцать.
Может, он никогда больше не вернется домой. Может, Волф был прав.
В Новом Нью-Йорке он направо и налево бросал испепеляющие взгляды на сотрудников СМИ, атаковавших его. Даже если бы он не поклялся хранить молчание, он все равно не стал бы с ними разговаривать. Пока еще он не готов. Не готов открыть Истину. Но однажды он все расскажет. Радио- и телевизионные сети, так жаждущие его откровений, получат их, и Истина прогремит во всем мире, пронесется могучим ветром и сядет на шпили соборов и храмов, и залетит в окна научных учреждений с их размеренной жизнью. «Смотрел я, и воистину! На меня снизошло знамение о жизни Его и отмщении».
– Сделаешь нам по коктейлю? – попросил он Мишель, включая свет. – В буфете – крепкое, в холодильнике – имбирный эль.
Она направилась на кухню. Он сел на диван и включил голографический пол, который вместе с диваном и другими предметами интерьера уже был в квартире до того, как он туда въехал. Через минуту вернулась Мишель и поставила перед ним на журнальный столик два бокала. И присела рядом с ним.
– Вот, готово.
– Я не понимаю, – произнес он внезапно. – Ты не похожа на тех девиц.
– О каких девицах ты говоришь?
– Тех, к числу которых ты, судя по всему, не относишься.
Он включил «ностальгическую» волну. Как и многое другое, это была музыка на все времена. Бессмертный Куинн Мартин. К сожалению, обновленная версия не улучшила оригинал.
Он сделал большой глоток своего напитка. Потом еще один.
– После того, как меня отпустили, я пытался напиться. Но не смог. Я и сейчас трезвый. Я все время вижу… вижу…
– Что?
Взгляд ее небесно-голубых глаз устремился на него, стал сосредоточенным.
Что же скрывалось за этим взглядом – беспокойство или профессиональное любопытство? Шестеренки его мыслей, вращающиеся независимо, вдруг зацепились одна за другую. За всю свою жизнь он был знаком всего с несколькими женщинами, но этого было достаточно. Интуиция не обманывала его. Эта девчонка не из тех. И это означает… что же она забыла в конюшне леди Джейн?
– Что же? – повторила она. – Что вы все время видите?
– Ничего.
Потом:
– Я даже не знаю твоего имени.
– Мишель.
– Мишель… а дальше?
– Просто Мишель.
Зацепившиеся шестеренки, бешено вращавшиеся, начали замедляться. Он глотнул еще напитка и постарался заставить их набрать скорость.
– Ты работаешь на НАСА или на ЦРУ? – внезапно спросил он.
– О чем ты? – ответила она, но по ее глазам было видно, что она поняла.
Он торопливо продолжил.
– Я не верю, что организация, которая никому не доверяет – они просто не могут себе этого позволить, – сделала для меня исключение. Даже если у меня мозги и набекрень от долгого одиночества. В любом случае ты можешь передать им, что я не заговорил. По крайней мере, пока.
– Не заговорил о чем? Я по-прежнему ничего не понимаю.
– Черта с два ты не понимаешь! – прокричал Роув.
Он хотел было встать, но почувствовал, что ноги онемели. Он снова утонул в диванных подушках, тьма подступала, застилая глаза. Шестеренки его мыслей, еще недавно двигающиеся так слаженно, стали громоздкими и неуклюжими. Он почувствовал руку Мишель у себя на лбу. И попытался отвернуться. Голова не слушалась его.
ВОПРОС: Какие доказательства вы можете предоставить, коммандер Роув?
ОТВЕТ: «Полярные шапки». Они состоят из морского льда, а не из твердой углекислоты, как считалось ранее. И наличие воды в коре и реголитах.
ВОПРОС: Морской лед, даже в большом количестве, не свидетельствует о произошедшем потопе. У вас есть другие доказательства?
ОТВЕТ: Долины Маринера. Так называемые «канделябры». Долина Ниргал. Долина Мангала…
ВОПРОС: Доподлинно известно, что Долины Маринера явились результатом разлома, произошедшего после оттока магмы. С другой стороны, многие марсианские каналы, без сомнения, появились в результате притока воды, но едва ли они появились после потопа.
И уж, конечно, не такого масштаба, как вы описываете. Подведем итоги. Вы всерьез ждете, что мы поверим в то, что Бог в дни сотворения мира оставил свои отпечатки на Марсе? Что Марс некогда населяла раса разумных существ, марсиан? Что Господь настолько невзлюбил свое творение, что решил отречься от него и стереть с лица планеты марсиан и все живое, вплоть до мельчайших микроорганизмов, и без предупреждения обрушил Потоп, который, надо сказать, не исполнил Его волю?
ОТВЕТ: Я не жду, что вы поверите хотя бы одному моему слову. Вы погрязли в научных дебрях и не видите дальше своего носа, как и геологи.
ВОПРОС: Все дело в том, коммандер Роув, что обычные люди вовсе не «погрязли», как вы образно выразились. Они вам поверят. Потому что вы – астронавт. Потому что вы были там. А мы просто не можем этого допустить. Это поставит под угрозу всю программу космических исследований.
Так что давайте пока оставим эту проблему в стороне и посмотрим на вашу реакцию на совершенное «открытие». Эта Истина, как вы ее называете, которую вы, проведя шестнадцать месяцев на орбите, обнаружили незадолго до того, как вам показалось, что равнина к северу от горы Олимп не что иное, как «отпечаток» – почему она вас так расстроила? Вы нашли доказательство Бога, верно? В вашем досье указано, что вы – убежденный последователь пресвитерианства. Почему же вы не испытываете радости, воодушевления?
ОТВЕТ: Я склоняюсь к мысли, что Господь, всеведущий и всемогущий, не способен совершать ошибки. И все же Марс, бесспорно, был ошибкой – вопиющей Его ошибкой. Что приводит меня к мысли о несовершенстве Бога, мысли, которую я не мог и до сих пор не могу принять. Представьте себе следующее: если Он ошибся однажды, возможно, было множество других ошибок? А что, если вся Вселенная – это ошибка? Что, если…
ВОПРОС: Вы хотите сказать, что Земля, а вместе с ней и все человечество – были ошибкой?
ОТВЕТ: Мне кажется, это вытекает из всего вышесказанного.
Руки Мишель осторожно массировали его виски. Ее лицо было совсем рядом.
Он с усилием прошептал:
– Что ты подсыпала мне в коктейль?
– Я ничего не подсыпала. Мне незачем использовать яд.
Она прикоснулась губами к его лбу.
– Спи, маленький землянин… спи.
Черная завеса, опустившаяся на его глаза, почти мгновенно взмыла ввысь. Он лежал посреди бескрайней равнины. Громадное крылатое существо стояло над ним. Он узнал Мишель. Диадему на ее голове украшали тысячи и тысячи звезд. Вертикально над ним она держала огромный меч. Его блестящее острие горело огнем, опускаясь над ним, но страха не было. Он слишком долго не мог найти себя. И с радостью принял острие меча, пронзающее его грудь.
Чернота похмелья охватила его, но мрак не имел отношения к смерти.
Рассвет наполнил комнату, облачившись в тускло-серые одежды. Мишель ушла. Лампа на столике рядом с диваном излучала слабый, еле теплящийся свет. В кубах голографического пола падал снег.
Наверное, он потерял сознание, но память оставалась ясной. События прошлого вечера, обостренные увиденным сном, живо воскресли перед его глазами. Вспомнив все, он почувствовал себя глупцом.
Он встал, отправился на кухню и сварил себе кофе. Оно не избавило его от нестерпимой головной боли, но после трех чашек он протрезвел. Впервые за много дней он был трезв…
А возможно – годы.
Теперь, когда он сбросил ее с себя, масштабы собственной одержимости потрясли его. «Отпечаток», «Всемирный потоп» – это было уже серьезно, но как он мог поверить, даже пусть это был всего лишь сон, что одна из шикарных девок леди Джейн – апокалиптическое существо, явившееся покарать его за отступничество?
Он и вправду слишком долго чувствовал себя потерявшимся.
Позднее, придя в себя, он позвонит в НАСА и положит конец делу об «отпечатке», «Всемирном потопе».
А пока он упакует вещи и приготовит все для возвращения домой, которое он столько времени откладывал.
Первые лучи утреннего солнца свободно струились сквозь кухонное окно, рисуя золотой прямоугольник на плитке. Золото дураков. … Эта мысль шепотом пронеслась в его голове. Она исчезла в ту же секунду, как появилась, и на губах, породивших его, заиграла блуждающая улыбка.
– Мадам, начиная с сегодняшнего дня я вынуждена оставить службу у вас.
Леди Джейн отвлеклась от наблюдения за уборкой гостиной. На мгновение разочарование промелькнуло во взгляде ее холодных голубых глаз.
– Мне очень жаль, дорогая. Я не ожидала, что задание, которое ты получила прошлым вечером, окажется настолько неприятным.
– Оно не показалось мне неприятным. Просто мне пора уходить.
– Уходить? Но куда?
Мишель не ответила.
– Мне не нужно вознаграждения за работу, – продолжила она. – Вы можете пожертвовать эти деньги на нужды церкви, выбор храма – на ваше усмотрение.
– Хорошо. Я пожертвую их церкви Святой Анжелики.
– Как вам угодно. Прощайте, мадам.
Леди Джейн смотрела вслед Мишель, легкой походкой удаляющейся в глубь сада.
Какая странная девушка! Под влиянием внезапного порыва леди Джейн, минуя цветники, решетки и живые изгороди, вышла в арку и долго смотрела вслед Мишель. Та ожидала воздушное такси у невысокой ограды. Леди Джейн обернулась и бросила взгляд в гостиную, чтобы проследить за ходом уборки. В этот момент, должно быть, и прибыло такси, потому что когда она снова взглянула на ограду, там уже никого не было.
Такое унылое место Перевод А. Комаринец
Сегодня утром мне позвонил бригадир из строительной компании, которую я нанял строить наш новый дом. Бригадир сказал, что, выравнивая место на вершине холма, на котором будет стоять дом, его люди нашли какой-то ящик. Будто бы латунный и с приваренной крышкой. Поскольку внутри может быть что-то ценное, он решил, что мне следует присутствовать, когда его будут открывать. Я пообещал приехать.
Возможность делать, что пожелаешь и когда пожелаешь, – преимущество пенсионного возраста. А еще это недостаток. У тебя масса времени для того, чтобы делать все, что угодно, но делать-то по большей части и нечего.
На пенсию я вышел не так давно. На самом деле всего полгода назад. Как правило, пенсионеры из наших мест стараются перебраться во Флориду, чтобы там провести свои «золотые годы», но я не из таких. Много лет назад, когда мы с сестрой продавали землю, которую завещал нам отец, я оставил себе самый высокий холм. Это красивый холм, с которого открывается вид на равнины и озеро, а на его склонах растут клены, дубы и акации. Я берег его все эти годы и теперь, отойдя от дел, собираюсь жить на его вершине.
Я только однажды уехал от него далеко. Это было во Вторую мировую, когда, стремясь извлечь из моих способностей как можно больше, армейское начальство гоняло меня с места на место по всем Штатам, а под конец даже сплавило за море. После войны я поступил на работу в «Хоудейл индастриз» и перебрался поближе к месту работы, даже купил там жилье. Но теперь я намерен жить на своем холме. Как только построят дом. Я буду жить там со своей женой Клэр. Обязательств и забот у нас нет никаких, дети давно выросли, завели собственные семьи и переехали. Летом склоны будут пестреть маргаритками и пастушьей сумкой, камнеломкой и ромашкой. Осенью их украсят золотарник и астры. Зимой они побелеют от снега. На закате моих лет я, возможно, стану ворчливым и косным, но произойдет это не из-за бесконечной череды жарких, ясных, скучных дней, похожих один на другой как две капли воды.
Я спросил у Клэр, не хочет ли она поехать со мной. Она ответила, мол, нет, ей надо за покупками. Я выехал на трассу и уже час спустя сворачивал на Фейрсберг. Через городок я ехал, отгоняя воспоминания. От него до моего холма не более мили. Я миновал комплекс многоэтажек, выросший на земле, некогда принадлежавшей моему отцу. Холм возник передо мной как зеленое, спустившееся на землю облако.
Тяжелая строительная техника проложила колею вверх по склону, но мне не хотелось рисковать подвеской своей «Ауди Каприс», поэтому я вышел из машины и начал взбираться наверх в окружении кленов, дубов и акаций. Июльское солнце, пробиваясь сквозь листву, грело мне спину, и, добравшись до вершины, я основательно вспотел.
Наверху взад-вперед елозил бульдозер, выравнивая упрямые бугры и заполняя впадины. Стоя у своего пикапа, бригадир Билл Симмс разговаривал с дюжим толстяком. Еще двое рабочих копались в моторе экскаватора. Увидев меня, Симмс шагнул мне навстречу.
– Хорошо, что вы смогли выбраться, мистер Бентли. Нам не меньше вашего интересно, что в этом ящике. – Он указал на перекопанный участок у края выровненной площадки. – Он там.
Мы направились в указанном направлении. Дюжий толстяк потянулся за нами.
– Это Чак Блейн, он старший на вашей стройке, – пояснил Симмс.
Мы кивнули друг другу. Двое рабочих, возившихся с мотором, бросили экскаватор и тоже последовали за нами.
Под моим присмотром ящик, позеленевший от времени и ржавчины, подняли из перекопанной земли. В длину он был около шестнадцати дюймов, двенадцать в ширину и шесть в высоту, и действительно был отлит из латуни. Как и сказал по телефону Симмс, крышка была приварена.
Я никогда в жизни не видел этого ящика, однако глядя на него, испытывал нечто вроде дежавю.
– Давайте вскроем его и посмотрим, что там за сокровища, – предложил я.
Блейн принес лом. Отыскав местечко, где металл плохо схватился, он подсунул лом под крышку. Нажал со всей силы, и крышка отскочила. Опустившись на колени, я приподнял ее.
Увидев содержимое ящика, я сразу понял, что он принадлежал Роуну.
Роун… Только под такой фамилией мы его и знали. Если и было у него имя, нам он его не называл, а мы никогда и не спрашивали. Впервые увидев его, я счел само собой разумеющимся, что он просто очередной бродяга. Он и выглядел бродягой: высокий, исхудалый и потрепанный, лицо – серое от грязи и угольной копоти. И мама сочла его бродягой, когда в ответ на его стук открыла заднюю дверь дома. Я в тот момент рубил дрова во дворе.
К нам часто заходили бродяги. Пенсильванская и Нью-йоркская железные дороги (теперь они называются Северо-Восточным коридором) шли через Фейрсберг и огибали нашу ферму, и, когда товарняки останавливались на перевалочной станции, чтобы оставить там часть вагонов или прихватить новые, путешествовавшие на них бродяги иногда спрыгивали на окраине городка и приходили к задним дверям домов клянчить еду. Они старались поменьше попадаться на глаза и держались окраин, а поскольку наша ферма находилась довольно далеко от городка и близко к путям, мы были первыми, к кому они обращались.
Стучавшие в нашу дверь, как правило, нерешительно стояли на крыльце, держа в одной руке узелок с пожитками (я никогда не видел, чтобы бродяги носили узелок, привязав к концу палки, как иногда рисовали в комиксах), и когда мать открывала, они снимали шляпу и говорили:
– У вас не найдется для нас еды, мэм?
Моя мать никому не отказывала. Ей было жаль бездомных. Иногда они предлагали выполнить какую-нибудь работу в уплату за объедки. Но чаще просто забирали еду и уходили.
Мать приготовила Роуну сэндвич и налила стакан молока, и, поблагодарив, он сел на заднем крыльце. По тому, как жадно он откусывал от сэндвича и хлебал молоко, я заключил, что он изголодался. Узелка с пожитками у него не было, а обтрепанный и грязный костюм выглядел так, словно еще недавно был новым.
Стоял теплый сентябрьский день, и я только что вернулся из школы. Рубить дрова было жарко, и я больше отдыхал, чем махал топором. Закончив есть, Роун приоткрыл заднюю дверь ровно настолько, чтобы поставить внутрь пустой стакан, потом снял пиджак, подошел ко мне и, забрав у меня топор, начал рубить дрова. У него было узкое лицо, довольно длинный нос и серые глаза. По тому, как он замахивался топором, я рассудил, что он никогда раньше этим не занимался, однако быстро сообразил, как это следует делать. Я просто стоял в сторонке и смотрел.
Мать тоже смотрела от задней двери. Он рубил и рубил. Некоторое время спустя мать сказала:
– Вам незачем рубить еще. Вы с лихвой отработали свой хлеб.
– Все в порядке, мэм, – откликнулся Роун и поставил новую чурку.
Вернулся отец, уезжавший в город за кормом для кур, и подогнал задом к двери сарая старенький грузовик, который купил за двадцать пять долларов. Я помог ему выгрузить два мешка корма. Отец был высоким и худым, но на самом деле был вдвое сильнее, чем выглядел, и в моей помощи не нуждался. Но делал вид, будто она ему необходима.
Он глянул на Роуна.
– Неужто все он нарубил?
– Я тоже рубил, – сказал я.
– Мать его покормила?
– Она дала ему сэндвич и стакан молока.
Мы вошли в дом. Мать как раз дочистила картошку и ставила ее на плиту. Готовила она на дровяной плите.
– Черт! – сказал отец. – Наверное, надо предложить ему остаться на ужин.
– Я поставлю еще тарелку.
– Пойди скажи ему, Тим. И забери у него наконец топор.
Поэтому я пошел и сказал, как велено, и встал поближе, чтобы помешать ему рубить дальше. Роун прислонился к поленнице. Глаза у него были такие, что мне вспомнилось суровое зимнее небо.
– Меня зовут Роун, – сказал он.
– А я Тим. Я учусь в школе. В шестом классе.
– А…
Волосы у него – насколько я мог видеть те, что выбивались из-под шапки, – были русыми. Их не мешало бы постричь.
– Можно мне помыть руки? – Он говорил медленно, словно отмеряя каждое слово.
Я показал, где у нас кран во дворе. Он вымыл лицо и руки, потом снял шапку и причесал волосы расческой, которую выудил из кармана рубашки. Следовало бы еще и побриться, но тут уж он ничего не мог поделать.
Снова надев пиджак, он затолкал в карман шапку. Я заметил, что он смотрит куда-то мне за спину.
– Это твоя сестра?
Посреди дороги остановился новенький «Форд-А», из него вышла Джулия и теперь шла через двор. Взревев мотором, автомобиль умчался прочь. Джулия дружила с Эми Уилкенс и после школы частенько заходила к Эми, и иногда отец Эми подвозил ее домой. Он работал на почте. Мы всегда считали Уилкенсов богатыми. В сравнении с нами они и были богатыми.
– Как вы узнали, что она моя сестра? – спросил я у Роуна.
– Вы похожи.
Проходя мимо, Джулия окинула Роуна долгим взглядом. Его присутствие ничуть ее не встревожило, поскольку она привыкла к бродягам, но ей было всего девять, и она была очень худой, поэтому я разозлился, когда Роун сказал, что мы похожи, – я-то ведь считал ее невзрачной соплячкой. И мне было уже одиннадцать.
Когда она вошла в дом, мы с Роуном сели на ступеньки заднего крыльца. Вскоре мать позвала нас ужинать.
Роун ел не как бродяга. Наверное, сэндвич, который он проглотил, и молоко немного приглушили его голод, и теперь он ел без всякой спешки. На ужин у нас были котлеты, и под конец жарки мама долила воды, чтобы разбавить мясной сок и получившимся соусом полить картошку. Роун то и дело посматривал на маму. Я не понимал почему. Мне она казалась красавицей, но я считал, что это потому, что она моя мать. Темные волосы она стягивала в узел. Зимой кожа у нее была молочно-белой, но с весной, когда она возилась в огороде, на щеках появлялся румянец, а летом ее кожа превращалась в чистое золото.
Роун еще до ужина представился ей и моему отцу.
– Вы из каких краев? – спросил отец.
После минутной заминки Роун ответил:
– Я жил неподалеку от Омахи.
– У вас в Небраске тоже несладко?
– Вроде того.
– Наверное, всюду так.
– Передай, пожалуйста, соль, – сказала Джулия.
Мать протянула ей солонку.
– Хотите еще картофеля, мистер Роун?
– Нет, спасибо, мэм.
Джулия задумчиво его рассматривала.
– Вы по железке едете?
Он как будто не понял, о чем она говорит.
– Она хотела сказать: вы ездите под товарными вагонами, чтобы железнодорожная полиция не поймала? – объяснил я.
– А-а… Да, ехал.
– Ты же знаешь, что это не твое дело, Джулия, – сказала мама.
– Я просто спросила.
На десерт мама испекла пирог с кокосовым кремом. Когда мы съели котлеты с картофелем, она положила каждому по большому куску. Роун попробовал и поднял на нее взгляд.
– Можно задать вам вопрос, мэм?
– Конечно.
– Вы испекли этот пирог в дровяной печи?
Печь он увидел, когда мы проходили через кухню.
– Наверное, да, – сказала мама, – раз уж это единственная печь, какая у меня есть.
– На мой взгляд, – сказал Роун, – главная беда человечества в том, что люди ищут чудеса где-то далеко, а чудес, что творятся прямо у них под носом, не замечают.
Кто бы ожидал таких слов от бродяги? Наверное, все мы воззрились на него с недоумением. Потом мама улыбнулась.
– Спасибо, мистер Роун. Это самый милый комплимент, какой мне когда-либо говорили.
Ужинать мы закончили молча. Доев, Роун посмотрел сначала на мать, потом на отца.
– Я никогда не забуду вашу доброту. – Отодвинув стул, он поднялся. – А теперь я с вашего позволения удалюсь.
Мы промолчали. Думаю, мы просто не знали, что на это ответить. Мы сидели и слушали, как он идет через кухню, как открылась и закрылась входная дверь. Потом мама сказала:
– Наверное, бродяжничество у них в крови.
– Похоже на то, – отозвался отец.
– Ну что ж, рада, что в тебе этого нет. – Мама посмотрела на нас с Джулией. – Поможешь мне с посудой, Джулия. А тебе, Тим, полагаю, надо делать уроки.
– Нам мало задали.
– Чем скорее возьмешься, тем скорее закончишь.
Я мешкал за столом. И Джулия тоже. Мы всегда старались быть в курсе происходящего. Я услышал гул товарного поезда. Прислушался, выжидая, когда он замедлит ход, но нет – дом чуть содрогнулся, когда товарняк пронесся мимо. Возможно, следующий подберет или оставит вагоны во Фейсберге, и Роун сможет на него пробраться.
– В понедельник на заводе снова начнут принимать виноград, Эмма, так что я вернусь на работу.
– Опять долгие смены.
– Я не против.
– Мистер Хендрикс сказал, в этом году я снова могу у него собирать. Он хочет начать на следующей неделе.
– Возможно, в этом году мы накопим достаточно, чтобы купить тебе газовую плиту.
– Нам много чего другого нужно, а детям надо покупать одежду.
Осенью у нас всегда было много денег, ведь отец работал на заводе, где производили виноградный сок, а мама – на сборе винограда. Отец работал на заводе и в сезон бутилирования, но в сезон бутилирования в работе случались большие перерывы, и в общей сложности получалось девяносто рабочих дней за десять месяцев. В основном мы перебивались за счет того, что он выручал за выращенные на ферме фасоль, кукурузу и помидоры. Ферма была маленькая, а земля слишком холмистая, но того, что отец выращивал на ровных участках, хватало, чтобы не умереть с голоду. А кроме того у нас были корова и куры.
Я старался посидеть у стола еще чуточку, и Джулия тоже, но не вышло, потому что мама сказала:
– Домашние задания, Тим. А ты, Джулия, начинай убирать со стола.
До того, как отец купил грузовичок, мы с Джулией ходили в школу пешком. Теперь он возил нас каждое утро в город на машине, однако в погожие дни мы возвращались домой пешком – отец считал, что нам необходима физическая нагрузка. До того, как он купил грузовичок, единственным нашим средством передвижения был старый «Форд» модели «Т»; он постоянно ломался, и отец опасался возить на нем детей.
На следующее утро был черед Джулии сидеть в машине у окна, поэтому именно она заметила Роуна. Приблизительно на полпути между фермой и городом она вдруг воскликнула:
– Папа! Смотри, там под деревом человек лежит!
Отец сбросил скорость и посмотрел в окно.
– Не слишком далеко он ушел, а?
Он поехал дальше. Потом все-таки затормозил и съехал на обочину.
– Вот черт… Нельзя же просто оставить его там лежать.
Потом он сдал немного назад, мы выбрались из грузовичка и подошли к дереву. Трава была мокрой от росы. Роун лежал на боку, натянув на уши шапку и подняв воротник пиджака. Он дрожал во сне, так как земля была холодной.
Отец тронул его носком ботинка, и Роун проснулся и сел, все еще ежась. К тому времени ему следовало бы уже пробраться в товарняк и быть на полпути неведомо куда.
– Планируете остаться в наших краях?
Роун кивнул.
– На какое-то время.
– Хотите работать?
– Хотел бы… если бы работа нашлась.
– Ну, работа тут есть, – сказал отец. – На три или четыре недели. В это время года соковый завод многих нанимает. Там платят тридцать центов в час, и смены длинные. Завод на другой стороне города. Почему бы не попробовать сходить и спросить насчет работы?
– Схожу, – откликнулся Роун.
С минуту отец молчал. По выражению его лица я видел, что он пытается принять какое-то решение.
– Знаю, вам негде жить, поэтому, если хотите, до первой получки можете спать у нас в сарае.
– Э-э… вы очень добры.
– Возвращайтесь на ферму и скажите Эмме, что я прошу ее приготовить вам завтрак. Я отвезу детишек в школу, а после подброшу вас на завод.
Мой отец был мягкосердечным. Другие просто проехали бы мимо, не обращая внимания на Роуна. Наверное, из-за его добросердечия мы всегда были так бедны.
Вот так и вышло, что той осенью Роун поселился у нас.
Работу Роун получил без труда. В сезон отжима завод нанимал любого, кто подворачивался. В те первые выходные дни он ел с нами и спал в сарае, а утром в понедельник они с отцом сели в грузовик и поехали на работу. Мама собрала каждому с собой ланч и разыскала где-то запасной термос, чтобы Роун мог брать с собой кофе. В воскресенье она испекла праздничный пирог, а в понедельник дала каждому с собой по большому куску.
Домой они вернулись в тот вечер после девяти. Лица и руки до плеч были красные от виноградного сока, рубашки в пятнах. В сезон отжима отец всегда возвращался в таком виде. Его обычно ставили «делать сыр», и он сказал, что в этом году старший смены назначил Роуна ему в помощники. За такую работу платили не обычные тридцать центов в час, а все тридцать пять, такая она была тяжелая.
Я много знал про эту работу, потому что в прошлые годы носил отцу ланч по субботам, а иногда и по воскресеньям, и болтался на заводе, рассматривая, что там и как. В сезон сбора урожая виноград из ящиков вываливали на ленту конвейера и поливали водой, после чего он уезжал по ленте в чаны. Там ягоды кипятили, пока они не превращались в густую смесь сока, кожицы, мякоти и плодоножек, ее и называли «сыром». По толстым резиновым шлангам «сыр» спускали на нижний этаж, где мой отец и прочие «сыроделы» открывали и закрывали заглушку каждый своего шланга. Смесь плюхалась из шланга на специальные куски материи, которые помощник расстилал на поддонах. Когда вырастала достаточно большая гора «сыра», углы материи связывали, и весь узел тащили под пресс, где понемногу отжимался сок. Неудивительно, что на заводе платили целых тридцать пять центов в час!
Роун с отцом поужинали на кухне. Мы с Джулией стояли в дверном проеме и смотрели, как они едят. Они вымыли руки и умылись, но ладони и пальцы у них так и остались красными. На ужин мама потушила мелко порубленную говядину с уймой подливки и сварила много картошки. И еще один пирог испекла.
Закончив есть, Роун пожелал всем доброй ночи и ушел в сарай. Отец соорудил там ему кровать на чердаке – если можно назвать кроватью одеяла, брошенные на сено. Еще он одолжил Роуну бритву, и, поскольку они с Роуном были примерно одного роста и телосложения, свои старые рабочие штаны и рубашку.
На следующий день мама пошла на сбор винограда, поэтому после школы у нас с Джулией было много работы по дому. Джулии это не нравилось, потому что она не могла больше бить баклуши у Эми. Ей полагалось кормить кур, а мне – доить корову. Я думал, что следовало бы наоборот, потому что, на мой взгляд, доить корову – девчачья работа. Но правила установила мама.
Первую получку отец с Роуном получили только через две недели. Когда они вернулись с работы вечером той пятницы, Роун положил на кухонный стол две десятидолларовые бумажки.
– Это за две недели, что я тут, – сказал он маме.
– Не собираетесь же вы платить мне десять долларов в неделю за стол? – откликнулась мать. – Пять долларов и то было бы много. – Она взяла одну бумажку. За время сбора винограда кожа у нее стала темно-золотистой. – Вот так. Теперь вы заплатили за две недели вперед, если захотите остаться.
– Но даже десяти долларов в неделю недостаточно! – возразил Роун. – Я дал бы вам больше, но мне нужно купить одежду.
– Мне и во сне бы не приснилось брать с вас десять долларов.
Роун пытался спорить, но мама осталась непреклонна. Она посмотрела на отца и сказала:
– Нед, раз у нас есть свободная комната, то почему, скажи на милость, мы заставляем Роуна спать в сарае?
– Понятия не имею.
Она повернулась к Роуну.
– Комната очень маленькая, и матрас на кровати довольно жесткий, но это лучше, чем спать в сарае. После ужина Тим вам ее покажет.
Роун просто стоял и смотрел на нее во все глаза. Он сел не раньше, чем она поставила на стол запеканку, которую разогревала на плите.
Когда он доел, я отвел его наверх. Как и сказала мама, комната взаправду была очень маленькая, и из мебели там стояли только комод и кровать. Роун осторожно коснулся кровати. Потом сел на нее.
– Довольно жесткая, да? – спросил я.
– Нет, – возразил он, – мягкая, как гагачий пух.
Две недели спустя, получив плату за сбор винограда, мама в воскресенье утром повезла нас с Джулией в город и купила новую одежду для школы. А еще она купила нам пальто и калоши. Отец был занят осенней пахотой, поэтому за руль грузовика сел Роун. Сезон отжима закончился, но ни его, ни моего отца пока не уволили, и они работали пять дней в неделю: убирали на хранение ящики, которые завод одалживал фермерам и которые сейчас вернули.
На одежду, пальто и калоши ушла значительная часть маминой получки, а школьный налог и выплаты по закладной на ферму проделали большую брешь в семейном бюджете, так что мы оказались почти так же бедны, как раньше.
Раз в месяц мама стригла нас с отцом, а заодно подравнивала волосы Джулии. Но сбор винограда сбил ее график, и волосы у нас с папой начали наползать на воротник. Поэтому я не удивился, когда вечером в воскресенье, помыв вместе с Джулией посуду после обеда, она позвала нас с отцом в кухню и сказала, что пора «остричь двух медведей».
Поставив посреди кухни стул, она достала свои ножницы и щипчики.
– Ты первый, Нед, – велела она.
Отец сел, она обернула его старой простыней и заколола ее, чтобы не спадала. После чего взялась за работу.
Когда-то, в самом начале, она ужасно нас стригла, и дети в школе смеялись над моей стрижкой. Но потом перестали, потому что она так наловчилась, что стригла лучше заправского парикмахера в городе. Когда она закончила, отца было не узнать.
– Ты следующий, Тим.
Закончив со мной, она подровняла волосы Джулии. Хотя я считал Джулию некрасивой, я всегда восхищался ее волосами. Они были такого же цвета, как у мамы, и такие же гладкие, – чистый шелк. На сей раз они отросли такие длинные, что маме пришлось отрезать по меньшей мере два дюйма, чтобы они доходили Джулии только до плеч.
И все это время Роун наблюдал за ней с порога кухни. В его обычно серые, как суровое зимнее небо, глаза вкралась толика голубизны. Закончив с Джулией, мама посмотрела на него.
– Теперь вы, мистер Роун.
Волосы у него были вдвое длиннее моих. Когда волосы у меня становились такими длинными, мама всегда говорила, что я выгляжу как музыкант, но Роуну она такого не сказала. Волосы у него были волнистые, и она постригла его так, чтобы сверху волны остались видны. Увидев его постриженным, я с трудом мог поверить, что он когда-то был бродягой.
– Спасибо, мэм, – сказал он, когда она убрала простыню, и добавил: – Почему бы вам не посидеть в гостиной, пока я подмету?
И мама пошла сидеть в гостиной. Тем вечером она приготовила тянучки, и мы все сидели у радиоприемника и слушали Джека Бенни и Фреда Аллена.
В начале ноября начало подмораживать. Мы с Джулией стали ходить в школу в наших новых пальто. Потом ударил мороз, и с деревьев пооблетали последние листья. Я не мог дождаться, когда же выпадет первый снег.
Джулия взяла в школьной библиотеке книжку, которая называлась «Машина времени». Она вечно читала книжки не по возрасту, поэтому я не удивился, когда однажды вечером она показала «Машину времени» Роуну и спросила, читал ли он ее и может ли ей объяснить. Почему-то я не удивился, услышав, что он действительно ее читал.
Мы сидели в гостиной. Мама штопала носки, отец дремал. Джулия пристроилась на подлокотнике кресла Роуна.
Он перелистнул страницы книги.
– Понимаешь, Джулия, – сказал Роун, – Уэллс использовал образы капиталистов и рабочих своего времени как некий трамплин, вот как он придумал элоев и морлоков. Можно сказать, он взял классовые различия за рога и развел их еще дальше, сделав богатых богаче, а бедных – еще беднее. Условия работы на фабриках в его время были еще хуже, чем сейчас в этой стране. Разумеется, не все заводы находились под землей, но значительная их часть, что и навело писателя на мысль перенести под землю свое повествование.
– Но он превратил рабочих в каннибалов!
Роун улыбнулся.
– Думаю, тут он перегнул палку. Но он же не пытался предсказать будущее, Джулия. Книгу он написал для того, чтобы привлечь внимание к тому, что происходит в настоящем.
– А каким, по-вашему, будет будущее, мистер Роун? – спросила мама.
Роун некоторое время молчал.
– Если бы мы с вами, мэм, попытались прогнозировать будущее, нам сперва пришлось бы забыть слово «экстраполяция». Мы можем говорить о войнах – да, войны будут всегда. Но в остальном возникнет слишком много непредсказуемых факторов. Невозможно предсказывать будущее, исходя лишь из знаний о современном нам мире.
– И какие, по-вашему, могут возникнуть факторы?
И снова Роун некоторое время молчал.
– Возьмем вас, вашего мужа, Тима и Джулию, вы – семья из четырех человек. На некоторое время я, человек извне, тоже стал ее частью. Семейная жизнь практически неотделима от уклада сегодняшнего общества. Если бы мы начали строить догадки, исходя из одного этого факта, у нас получилось бы будущее, в котором семейная жизнь сохранилась бы. Но предположим, что вмешаются силы, о которых люди сегодня даже не подозревают, и что эти силы ослабят патриархально-матриархальную гармонию, которая лежит в основе вашей и прочих семей. Что, если они ослабят ее настолько, что семьи начнут распадаться? В «Машине времени» Уэллс связывает распад семьи с исчезновением опасностей. Он полагал, что семья имеет смысл только потому, что вместе легче преодолевать трудности. Однако, на мой взгляд, семья может исчезнуть совсем по другим причинам. Предположим, что нравственные ценности, которыми руководствуются люди сегодня, уйдут в прошлое? Возникнут новые отношения и новая мораль? Я не хочу сказать, что сегодняшние мужчины и женщины святые, отнюдь. Но факт остается фактом, разводы случаются редко. Отчасти это можно приписать тому обстоятельству, что во многих случаях люди, которые хотели бы развестись, не могут себе этого позволить, но очень часто это не так. Люди остаются в браке, потому что хотят иметь семью. Но, предположим, дух времени изменится. Предположим, люди сочтут, что обрели новую степень свободы, и развод станет обычным делом. Все больше и больше детей будут воспитываться одинокими родителями или – в случае повторных браков – сначала в одной, потом в другой семье. Подумайте, как это скажется на их отношении к семейной жизни.
– Но в настоящем нет никаких предпосылок к подобным предсказаниям.
– Именно это я и имел в виду, когда говорил о возникновении непредсказуемых факторов. Если развить мое допущение, распад семейной жизни мог бы со временем привести ко все возрастающему цинизму как в родителях, так и в детях. Институт брака может вообще исчезнуть, а с ним и семейная жизнь. Тогда их роль возьмет на себя государство, и детей будут воспитывать не родители, а государственные учреждения, мысли и поступки подрастающего поколения будут формировать наставники, не способные на любовь и привязанность. Совместное времяпрепровождение, сцены домашнего уюта, которые принимаете как должное вы, ваш муж и дети, будут практически позабыты в новом обществе или им будет отведено место в истории не более значительное, чем нынешние цены на яйца.
Мама поежилась.
– Унылая у вас получается картина, мистер Роун.
– Да. Она действительно весьма унылая. Но подобное случится не за год и не за два, и даже после того, как процесс будет запущен, пройдет еще очень много времени, прежде чем возникнет новое общество.
Он вернул «Машину времени» Джулии.
– Я еще вот чего не понимаю, Роун, – сказала она, – как Путешественник во Времени двигался во времени?
Роун улыбнулся.
– Так ты тоже заметила, что Уэллс об этом умолчал, да? Он и сам не знал, поэтому просто напустил туману болтовней о том, что время – это четвертое измерение. Ну, в каком-то смысле так и есть, Джулия, а в каком-то – нет. Путешественник во Времени прибыл в будущее в то самое место, откуда начал путешествие. Но пока он двигался, земля под ним продолжала вращаться, хотя, конечно, сдвиг был незначительный, ведь он двигался очень быстро. Например, если бы он начал свое путешествие из вашего дома, то в будущее мог бы прибыть в точку в пятистах милях от вашего дома в сторону запада. Поэтому, если бы он захотел вернуться назад во времени к тому месту, откуда отбыл, ему пришлось бы проделать путь в пятьсот миль на восток, а потом еще столько же в том же направлении, чтобы компенсировать расстояние, на которое он отклонится, когда будет возвращаться. Но затруднения этим не ограничиваются. Путешествие сквозь время с огромной скоростью может создать завихрение в потоке времени, и тогда Путешественнику перед возвращением придется ждать, пока в прошлом или в будущем не пройдет ровно столько же времени, сколько прошло в настоящем. Путешествие во времени, Джулия, задача настолько трудная, что человек вряд ли сможет осилить его в одиночку, а простенькая машина времени Уэллса попросту не сработает. Если время привязано к свету, то настоящему Путешественнику потребовалось бы фотонное поле, но сам он управлять им не сможет – он же уйдет в другое время, а значит, это должен делать кто-то другой. Так вот, сначала эти другие люди должны забросить его в прошлое или в будущее, а потом, когда он уравняет время и пространство, потерянные при перемещении, при помощи все того же фотонного поля вернуть его назад.
Из его объяснений я практически ничего не понял, а еще знал, что и Джулия тоже ничего не поняла, но вид у нее был удовлетворенный.
Роун поднялся на ноги.
– А теперь, если вы не против, я пойду спать.
Встав на стул, Джулия поцеловала его на ночь.
– Спокойной ночи, мистер Роун, – сказала мама, и я тоже пожелал ему доброй ночи. Отец по-прежнему дремал в своем кресле.
Первый снег выпал в начале ноября. Мы с Джулией надели в школу новые калоши. Роун попросил у мамы фотоаппарат, купил пленку и в последовавшие затем дни делал много снимков. Ни его, ни моего отца пока не уволили, но я знал, что уже недолго осталось. Я беспокоился, что тогда Роун уйдет, и знал, что Джулия тоже беспокоится.
На одном ее уроке учительница дала задание смастерить открытки ко Дню благодарения и велела написать, за что ученики благодарны больше всего. Джулия принесла свою домой показать маме, а мама показала ее остальным. Там говорилось:
Я благодарна за:
Мою маму
Моего папу
Моего брата Тимоти
И Роуна.
С другой стороны открытки она нарисовала индейку, которая больше походила на кита, чем на птицу, и раскрасила ее ярко-красным. Мама повесила картинку на стене на кухне.
В тот День благодарения мои бабушки с дедушками – со стороны папы и со стороны мамы – обедали с нами. Они друг друга не любили, но мама была уверена, что раз это День благодарения, они не станут пререкаться. Они и не стали, но, думаю, не потому, что это был День благодарения, а потому что выступили единым фронтом. Они не одобряли, что мы позволили жить у нас бродяге, и весь обед и после него смотрели на Роуна свысока.
Утром в субботу на той же неделе во двор к нам въехал грузовик из скобяной лавки мистера Хайби. Мама вышла узнать, что нужно мистеру Хайби. Всю ночь шел снег, мягкий влажный снег, и мы с Джулией лепили на заднем дворе снеговика. Отца дома не было. Он поехал в город за мукой, поскольку мама собиралась печь хлеб.
Во двор вышел Роун, чинивший в сарае трактор. Мистер Хайби, отдуваясь, выбрался из грузовика. Он был низеньким и пузатым.
– Доброе утро, мистер Роун. Мне нужна ваша помощь. Нам надо кое-что занести внутрь.
– Сначала, – сказал Роун, – нам надо вынести старую. Придержи нам дверь, Тим, ладно?
Я придержал. Они поставили дровяную печь на снег, и на фоне его она показалась еще чернее, чем была на самом деле. Мама наблюдала за ними с заднего крыльца. Джулия стояла рядом с ней.
Мистер Хайби откинул заднюю дверцу грузовика. И тогда мы увидели.
– Придержи нам дверь, Тим, – попросил Роун.
Они внесли и поставили ее на то место, где стояла старая плита. Пробравшийся в окно солнечный луч залил ее светом, она была такая белая, что от нее по всей кухне словно бы разлетались частички света. Мама с Джулией вошли за мной в дом. Обе не произнесли ни слова.
Мистер Хайби вышел на двор и отключил газ. Вернулся он с гаечными ключами, трубами и заглушками, и они с Роуном подключили плиту. Потом мистер Хайби вышел и снова включил газ. Он попрощался с нами, и Роун помог ему загрузить инструменты в грузовик. Мы услышали, как грузовик уехал. Мы услышали, как поднялся на крыльцо Роун.
Мама стояла у кухонного стола. За все это время она ни разу не пошевелилась.
– Не сочтите это за намек, что вы плохо готовите, мэм, – сказал Роун.
– Не сочту, – сказала мама.
– Переднюю правую конфорку надо подтянуть. Я схожу в сарай за ключом.
Когда он вышел в заднюю дверь, я повернулся к маме. Я собирался сказать: «Ух ты, теперь мне не придется колоть дрова!» Но не сказал, потому что увидел, что она плачет.
В следующую пятницу и папу, и Роуна уволили. Наутро мы с Джулией спустились к завтраку с унылыми лицами. Мама сварила овсянку. Накладывая нам кашу, она на нас не смотрела. Отец стоял у задней двери и смотрел в маленькое окошко.
– Где Роун? – спросила Джулия. Она боялась, что он уже ушел. Я тоже боялся.
– Поехал на грузовике в город. Он заказал что-то в мастерской при плавильне и хотел это забрать.
– Что он заказал? – спросил я.
– Не знаю. Он не сказал.
Мы так и не узнали, что это было, потому что когда Роун вернулся, он нам не сказал. Наверное, он спрятал это в сарае.
Миновали выходные, и началась новая неделя, а Роун даже не заикнулся про уход, и мы начали думать, что он останется. А в четверг вечером он пришел в гостиную и сказал:
– Мне пора отправляться.
Какое-то время мы молчали.
– Вам незачем уходить, – сказал наконец отец. – Можете остаться у нас на зиму. Уверен, как только начнется сезон бутилирования, я смогу подыскать вам работу.
– Дело не только в том, что я не работаю. Есть… есть другая причина.
– Вы прямо сейчас уходите? – спросила мама.
– Да, мэм.
– Но там же метель.
– Нет, мэм. Снег уже прекратился.
– Мы… Нам бы хотелось, чтобы вы остались.
– Мне бы тоже хотелось.
Толика синевы исчезла из его глаз, но они были уже не такими сурово-серыми, как раньше.
Свистнул поезд, и этот звук словно бы пронзил дом насквозь.
– Я приготовлю вам сэндвичи в дорогу, – сказала мама.
– Спасибо, мэм. В этом нет необходимости.
На нем был его старый костюм.
– Где ваша новая одежда? – спросила мама. – Разве вы не заберете ее?
Роун покачал головой.
– Нет, мэм. Я путешествую налегке.
– Но вы же купили куртку… Вы должны взять куртку. Вы же замерзнете в пиджаке!
– Нет, мэм. Там не так уж холодно. Я хочу поблагодарить всех вас за вашу доброту. Я… – У него надломился голос. – Я… Я не знал, что существуют такие люди, как вы. Я… – Он замолчал снова, но так и не смог больше ничего сказать.
Встав, мой отец пожал ему руку. Мама поцеловала его в щеку и отвернулась.
– Вам еще должны за целую неделю работы, – сказал отец. – Можете дать адрес, куда переслать деньги?
– Я переписал их на вас.
– Я их не возьму!
Улыбка тронула уголки губ Роуна.
– Если не возьмете, сделаете богатых еще богаче.
И все это время мы с Джулией сидели молча на диване, не в силах пошевелиться. От своего странного оцепенения Джулия очнулась первой. Вскочив, она бросилась на шею Роуну. Тогда и я побежал через комнату. Роун поцеловал нас обоих.
– Прощайте, ребята.
Джулия разревелась. Но я не плакал. Ну, почти. Роун быстро-быстро вышел из комнаты. Мы услышали, как открылась задняя дверь. Мы услышали, как она закрылась. А потом слышны были только рыдания Джулии.
Той ночью я долгое время лежал в кровати, выжидая, когда услышу, как замедляется товарный поезд, но все товарняки грохотали мимо. Пассажирские поезда у нас вообще по ночам не останавливались, только утром. В полусне я услышал, как один такой пронесся мимо.
Утром я встал еще до того, как взошло солнце, и одевшись, натянул новое пальто, потому что на улице было холодно, и новые галоши. Я пошел по отпечаткам ног Роуна в снегу. Я отчетливо видел их в лиловом предрассветном сумраке. Он направился не к железнодорожным путям, нет, он пошел через поля к городу. Приблизительно в сотне ярдов от дерева, под которым мы его нашли, следы оборвались.
Я стоял на холоде, а первые лучи солнца заливали поля розовым. Там, где следы обрывались, отпечатки ботинок как будто указывали, что он остановился. Возможно, постоял там какое-то время. Выглядели они так, словно снег вокруг них подтаял, а потом замерз снова.
Сначала я почему-то подумал, что он, наверное, прыгнул на несколько футов вперед, а потом снова пошел. Но после последних отпечатков не было вообще ничего, снег казался нетронутым. Потом я подумал, а вдруг он пошел задом наперед по собственным следам? Но если так, то я обязательно заметил бы еще одну вереницу следов, сворачивающих вправо или влево, а ведь я ничего такого не видел. А кроме того, зачем ему делать такие странные вещи?
Каким-то образом он исчез в ночи.
Я еще немного постоял, потом вернулся в дом. Я ничего не сказал про следы маме. Пусть лучше думает, что Роун запрыгнул в товарный поезд. Я ничего про них не рассказал ни Джулии, ни отцу. Я похоронил следы в своей памяти, и там они оставались все эти годы, и, только заглянув в ящик, я выкопал их снова.
Первым я вынул альбом. На первой странице была фотография поразительно красивой женщины, моей мамы. Затем фотография красивой девочки и мальчика с волосами цвета спелой кукурузы.
Под фотографией мамы был снимок высокого худого мужчины, моего отца.
На следующих страницах были другие снимки мамы и нас с Джулией. Там были фотографии дома, и была фотография сарая. Была фотография укутанных снегом полей и фотография самого высокого холма.
Под альбомом я нашел открытку, на которой была изображена похожая на кита индейка. Я вспомнил, что открытка пропала со стены нашей кухни. Перевернув ее, я прочитал:
Я благодарна
За мою маму
За моего папу
За моего брата Тимоти
И Роуна.
Там была пара носок, которые мама для него заштопала. Я нашел бритву, которую подарил ему отец. Я наткнулся на блокнот. Никаких записей в нем не было, но между страниц лежали пряди волос. Одна была темно-русой и мягкой, как шелк. Другая – цвета спелой кукурузы.
Наверное, когда он только прибыл, его ограбили. Уверен, его не послали бы в прошлое без специально напечатанных денег. Оставшись без гроша, он был вынужден «ехать по железке». А потом ему надо было переждать, пока не уляжется завихрение, которое он вызвал в потоке времени, переждать, пока в будущем не пройдет ровно столько времени, сколько прошло в прошлом.
Возможно, если бы мы не взяли его к себе, он умер бы от голода.
Вероятно, они ему приказали не брать с собой ничего в будущее. И, наверное, в прошлое его отправили по какой-то причине. Или, может, просто, чтобы узнать, как жилось в тридцатые годы. Скажем, как Армстронга, Олдрина и Коллинза послали на Луну посмотреть, каково там.
Я смотрел на альбом и открытку на День благодарения. На бритву и заштопанные носки. На блокнот, который все еще держал в руках.
В какое унылое место ты возвращался, Роун, что память о нас стала тебе так дорога?
Уложив содержимое ящика в точности в том порядке, в каком я его нашел, я закрыл крышку. По рельсам Северо-Восточного загрохотал длинный товарняк.
– У вас в грузовике есть сварочный аппарат? – спросил я у Симмса.
– Хотите приварить крышку назад?
Я кивнул. Он не спросил почему.
– Аппарата нет, есть небольшая газовая горелка. – Он повернулся к механикам, возившимся с экскаватором. – Сходи за горелкой и газовым баллоном, Дик. Они не тяжелые.
Когда Дик вернулся с горелкой, за дело взялся Чак Блейн. Всего пара минут ушла у него на то, чтобы снова запечатать ящик. Симмс окликнул другого механика:
– Ларри. Снеси ящик к машине мистера Бентли.
– Нет, – остановил его я.
Я опустил ящик в яму, из которой его извлекли. «Надеюсь, никто больше его не потревожит, Роун». Выпрямившись, я указал на бульдозер.
– Скажите, пусть заровняет, – попросил я.
Примечания
1
См. Песнь песней, 2:15
(обратно)2
О. Уайльд, Баллада Редингской тюрьмы. Здесь и далее в переводе Н. Воронель.
(обратно)3
Генри Лонгфелло, «Дня уж нет». Пер. И. Анненского.
(обратно)4
«Локсли-Холл». Пер. Д. Катара.
(обратно)5
«Мод». Пер. Г. Кружкова.
(обратно)6
Джеймс Генри Ли Хант (1784–1859) – английский поэт. «Поцеловала меня Дженни» – его программное стихотворение.
(обратно)7
Альфред Теннисон. Поэма «Мод».
(обратно)8
А. Теннисон, «Волшебница Шалотт». Пер. С. Лихачевой.
(обратно)9
Альфред Теннисон. «Смерть Артура».
(обратно)10
Детская повесть Кейт Дуглас Уигген (1903).
(обратно)11
Сборник детских стихов Р. Л. Стивенсона.
(обратно)12
Баал (Ваал) – Финикийское и западносемитское божество или демон, изображавшийся иногда в виде трехголового чудовища с человеческой головой посредине и с головами жабы и кошки по бокам. По-семитски его имя означало «господин, владыка». – Примеч. пер.
(обратно)13
Созвездие Девы.
(обратно)14
Сооружение древних инков в г. Куско (Перу).
(обратно)15
Песнь Песней, 6.
(обратно)16
Серия детских книг (1881–1916) американки Маргарет Сидни.
(обратно)17
Юный изобретатель Том Свифт – герой многочисленной серии в жанре юношеской научной фантастики, начавшей выходить в 1910 г.
(обратно)18
Американская поэтесса и драматург (1892–1950).
(обратно)19
Генри Дэвид Торо (1817–1862) – американский писатель, автор культовой книги «Уолден, или Жизнь в лесу».
(обратно)20
Лимерик Артура Буллера. (Прим. Р. Янга).
(обратно)21
Песня на стихи Р. Бернса, с которой встречают Новый год в англоязычных странах.
(обратно)22
Смысл существования
(обратно)23
Во время Войны за независимость Пол Ревир оповестил жителей Бостона и окрестностей о выступлении английских солдат.
(обратно)24
Хэнкок поставил самую крупную подпись под Декларацией независимости.
(обратно)25
Мизансцена (франц.). – Прим. пер.
(обратно)26
Несуразица (лат.). – Прим. пер.
(обратно)27
Ессеи – еврейская религиозная секта конца эпохи Второго храма (2 в. до н. э. – конец 1 в. н. э.), известная главным образом по описаниям Иосифа Флавия, Филона Александрийского и Плиния Старшего. Ессеи имели много общего с фарисеями: как те, так и другие верили в необходимость личного благочестия и удаления от скверны повседневной жизни, а также в посмертное воздаяние. – Прим. пер.
(обратно)28
Восемнадцатая поправка к Конституции США была принята Конгрессом 17 декабря 1919 года. Данной поправкой в законодательство был введен «Сухой закон», который в итоге продлился более 10 лет и оставил яркий отпечаток на культурной жизни и образе американцев. – Прим. пер.
(обратно)29
Мировая скорбь (нем.) – Примеч. пер.
(обратно)30
18,3 градуса по Цельсию. – Прим. пер.
(обратно)31
В силу своей должности (лат.). – Примеч. пер.
(обратно)32
Ворота (фр.).
(обратно)33
Treponema Pallidum – бледная трепонема – бактерия, являющаяся возбудителем сифилиса.
(обратно)34
Мировоззрение (нем.).
(обратно)35
Старинные издания (фр.).
(обратно)


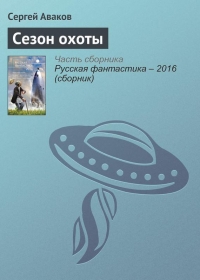

Комментарии к книге «Срубить дерево», Роберт Франклин Янг
Всего 0 комментариев