Ночь, которая умирает
Часть 1. Жизнь и времена Мультивака
Выборы
Из всей семьи только одна десятилетняя Линда, казалось, была рада, что наконец наступило утро. Норман Маллер слышал ее беготню сквозь дурман тяжелой дремы. (Ему наконец удалось заснуть час назад, но это был не столько сон, сколько мучительное забытье.)
Девочка вбежала в спальню и принялась его расталкивать,
— Папа, папочка, проснись! Ну, проснись же!
Он с трудом удержался от стона.
— Оставь меня в покое, Линда.
— Папочка, ты бы посмотрел, сколько кругом полицейских! И полицейских машин понаехало!
Норман Маллер понял, что сопротивляться бесполезно, и, тупо мигая, приподнялся на локте. Занимался день. За окном едва брезжил серый и унылый рассвет, и так же серо и уныло было у Маллера на душе. Он слышал, как Сара, его жена, возится в кухне, готовя завтрак. Его тесть Мэтыо яростно полоскал горло в ванной. Конечно, агент Хэндли уже дожидается его.
Ведь наступил знаменательный день.
День Выборов!
Поначалу этот год был таким же, как и все предыдущие. Может быть, чуть-чуть похуже, так как предстояли выборы президента, но, во всяком случае, не хуже любого другого года, на который приходились выборы президента.
Политические деятели разглагольствовали о сувер-р-ренных избирателях и мощном электр-р-ронном мозге, который им служит. Газеты оценивали положение с помощью промышленных вычислительных машин (у «Нью-Йорк таймс» и «Сенс-Луис пост диспэтч» имелись собственные машины) и не скупились на туманные намеки относительно исхода выборов. Комментаторы и обозреватели состязались в определении штата и графства, давая самые противоречивые оценки.
Впервые Маллер почувствовал, что этот год все-таки не будет таким же, как все предыдущие, вечером четвертого октября (ровно за месяц до выборов), когда его жена Сара Маллер сказала:
— Кэнтуэлл Джонсон говорит, что штатом на этот раз будет Индиана. Я от него четвертого это слышу. Только подумать, на этот раз наш штат!
Из-за газеты выглянуло мясистое лицо Мэтью Хортенвейлера. Посмотрев на дочь с кислой миной, он проворчал:
— Этим типам платят за вранье. Нечего их слушать.
— Но ведь уже четверо называют Индиану, папа, — кротко ответила Сара.
— Индиана — действительно ключевой штат, Мэтью, — также кротко вставил Норман, — из-за закона Хоукинса — Смита и скандала в Индианаполисе. Значит…
Мэтью грозно нахмурился и проскрипел:
— Никто пока еще не называл Блумингтон или графство Монро, верно?
— Да ведь… — начал Маллер.
Линда, чье острое личико поворачивалось от одного собеседника к другому, спросила тоненьким голоском:
— В этом году ты будешь выбирать, папочка?
Норман ласково улыбнулся.
— Вряд ли, детка.
Но все-таки это был год президентских выборов и октябрь, когда страсти разгораются все сильнее, а Сара вела тихую жизнь, пробуждающую мечтательность.
— Но ведь это было бы замечательно!
— Если бы я голосовал?
Норман Маллер носил светлые усики; когда-то их элегантность покорила сердце Сары, но теперь, тронутые сединой, они лишь подчеркивали заурядность его лица. Лоб изрезали морщины, порожденные неуверенностью, да и, вообще говоря, его душе старательного приказчика была совершенно чужда мысль, что он рожден великим или волей обстоятельств еще может достигнуть величия. У него была жена, работа и дочка, и, кроме редких минут радостного возбуждения или глубокого уныния, он был склонен считать, что его жизнь сложилась вполне удачно.
Поэтому его смутила и даже встревожила идея, которой загорелась Сара.
— Милая моя, — сказал он, — у нас в стране живет двести миллионов человек. При таких шансах стоит ли тратить время на пустые выдумки?
— Послушай, Норман, двести миллионов здесь ни при чем, и ты это прекрасно знаешь, — ответила Сара. — Во-первых, речь идет только о людях от двадцати до шестидесяти лет, к тому же это всегда мужчины, и, значит, остается уже около пятидесяти миллионов против одного. А в случае если это и в самом деле будет Индиана…
— В таком случае останется приблизительно миллион с четвертью против одного. Вряд ли бы ты обрадовалась, если бы я начал играть на скачках при таких шансах, а? Давайте-ка лучше ужинать.
Из-за газеты донеслось ворчанье Мэтью:
— Дурацкие выдумки…
Линда задала свой вопрос еще раз:
— В этом году ты будешь выбирать, папочка?
Норман отрицательно покачал головой, и все пошли в столовую.
К двадцатому октября волнение Сары достигло предела. За кофе она объявила, что мисс Шульц — а ее двоюродная сестра служит секретарем у одного члена Ассамблеи — сказала, что «Индиана — дело верное».
— Она говорит, президент Виллерс даже собирается выступить в Индианаполисе с речью.
Норман Маллер, у которого в магазине выдался нелегкий день, только поднял брови в ответ на эту новость.
— Если Виллерс будет выступать в Индиане, значит, он думает, что Мультивак выберет Аризону. У этого болвана Виллерса духу не хватит сунуться куда-нибудь поближе, — высказался Мэтью Хортенвейлер, хронически недовольный Вашингтоном.
Сара, обычно предпочитавшая, когда это не походило на прямую грубость, пропускать замечания отца мимо ушей, сказала, продолжая развивать свою мысль:
— Не понимаю, почему нельзя сразу объявить штат, потом графство и так далее. И все, кого это не касается, были бы спокойны.
— Сделай они так, — заметил Норман, — и политики налетят туда как воронье. А едва объявили бы город, как там уже на каждом углу торчало бы по конгрессмену, а то и по два.
Мэтью сощурился и в сердцах провел рукой по жидким седым волосам.
— Да они и так настоящее воронье. Вот послушайте…
Сара поспешила вмешаться:
— Право же, папа…
Но Мэтью продолжал свою триаду, не обратив на дочь ни малейшего внимания:
— Я ведь помню, как устанавливали Мультивак. Он положит конец борьбе партий, говорили тогда. Предвыборные кампании больше не будут пожирать деньги избирателей. Ни одно ухмыляющееся ничтожество не пролезет больше в конгресс или в Белый дом, так как с политическим давлением и рекламной шумихой будет покончено. А что получилось? Шумихи еще больше, только действуют вслепую. Посылают людей в Индиану из-за закона Хоукинса — Смита, а других — в Калифорнию, на случай если положение с Джо Хэммером окажется более важным. А я говорю — долой всю эту чепуху! Назад к доброму старому…
Линда неожиданно перебила его:
— Разве ты не хочешь, дедушка, чтобы папа голосовал в этом году?
Мэтью сердито поглядел на внучку.
— Не в этом дело. — Он снова повернулся к Норману и Cape. — Было время, когда я голосовал. Входил прямо в кабину, брался за рычаг и голосовал. Ничего особенного. Я просто говорил: этот кандидат мне по душе, и я голосую за него. Вот как нужно!
Линда спросила с восторгом:
— Ты голосовал, дедушка? Ты и вправду голосовал?
Сара поспешила прекратить этот диалог, из которого легко могла родиться нелепая сплетня:
— Ты не поняла, Линда. Дедушка вовсе не хочет сказать, будто он голосовал, как сейчас. Когда дедушка был маленький, все голосовали, и твой дедушка тоже, только это было не настоящее голосование.
Мэтью взревел:
— Вовсе я тогда был не маленький! Мне уже исполнилось двадцать два года, и я голосовал за Лэнгли, и голосовал по-настоящему. Может, мой голос не очень-то много значил, но был не хуже всех прочих. Да, всех прочих. И никакие Мудьтиваки не…
Тут вмешался Норман:
— Хорошо, хорошо, Линда, пора спать. И перестань расспрашивать о голосовании. Вырастешь, сама все поймешь.
Он поцеловал ее нежно, но по всем правилам антисептики, и девочка неохотно ушла, после того как мать пригрозила ей наказанием и позволила смотреть вечернюю видеопрограмму до четверти десятого с условием, что она умоется быстро и хорошо.
— Дедушка, — позвала Линда.
Она стояла, упрямо опустив голову и заложив руки за спину, и ждала, пока газета не опустилась и из-за нее не показались косматые брови и глаза в сетке тонких морщин. Была пятница, тридцать первое октября.
— Ну?
Линда подошла поближе и оперлась локтями о колено деда, так что он вынужден был отложить газету.
— Дедушка, ты правда голосовал? — спросила она.
— Ты ведь слышала, как я это сказал, так? Или, по-твоему, я вру? — последовал ответ.
— Н-нет, но мама говорит, тогда все голосовали.
— Правильно.
— А как же это? Как же могли голосовать все?
Мэтью мрачно посмотрел на внучку, потом поднял ее, посадил к себе на колени и даже заговорил несколько тише, чем обычно:
— Понимаешь, Линда, раньше все голосовали, и это кончилось только лет сорок назад. Скажем, хотели мы решить, кто будет новым президентом Соединенных Штатов. Демократы и республиканцы выдвигали своих кандидатов, и каждый человек говорил, кого он хочет выбрать президентом. Когда выборы заканчивались, подсчитывали, сколько народа хочет, чтобы президент был от демократов, и сколько — от республиканцев. За кого подали больше голосов, тот и считался избранным. Поняла?
Линда кивнула и спросила:
— А откуда все знали, за кого голосовать? Им Мультивак говорил?
Мэтью свирепо сдвинул брови.
— Они решали это сами!
Линда отодвинулась от него, и он опять понизил голос:
— Я не сержусь на тебя, Линда. Ты понимаешь, порою нужна была целая ночь, чтобы подсчитать голоса, а люди не хотели ждать. И тогда изобрели специальные машины — они смотрели на первые несколько бюллетеней и сравнивали их с бюллетенями из тех же мест за прошлые годы. Так машина могла подсчитать, какой будет общий итог и кого выберут. Понятно?
Она кивнула:
— Как Мультивак.
— Первые вычислительные машины были намного меньше Мультивака. Но они становились все больше и больше и могли определить, как пройдут выборы, по все меньшему и меньшему числу голосов. А потом в конце концов построили Мультивак, который способен абсолютно все решить по одному голосу.
Линда улыбнулась, потому что это ей было понятно, и сказала:
— Вот и хорошо.
Мэтью нахмурился и возразил:
— Ничего хорошего. Я не желаю, чтобы какая-то машина мне говорила, за кого я должен голосовать, потому, дескать, что какой-то зубоскал в Мильвоки высказался против повышения тарифов. Может, я хочу проголосовать не за того, за кого надо, коли мне так нравится, может, я вообще не хочу голосовать. Может…
Но Линда уже сползла с его колен и побежала к двери.
На пороге она столкнулась с матерью. Сара, не сняв ни пальто, ни шляпу, проговорила, еле переводя дыхание:
— Беги играть, Линда. Не путайся у мамы под ногами.
Потом, сняв шляпу и приглаживая рукой волосы, она обратилась к Мэтъю:
— Я была у Агаты.
Мэтью окинул ее сердитым взглядом и, не удостоив это сообщение даже обычным хмыканьем, потянулся за газетой.
Сара добавила, расстегивая пальто:
— И знаешь, что она мне сказала?
Мэтью с треском расправил газету, собираясь вновь погрузиться в чтение, и ответил:
— Не интересуюсь.
Сара начала было: «Все-таки, отец…», — но сердиться было некогда. Новость жгла ей язык, а слушателя под рукой, кроме Мэтью, не оказалось, и она продолжала:
— Ведь Джо, муж Агаты, — полицейский, и он говорит, что вчера вечером в Блумингтон прикатил целый грузовик с агентами секретной службы.
— Это не за мной.
— Как ты не понимаешь, отец! Агенты секретной службы, а выборы совсем на носу. В Блумингтон!
— Может, кто-нибудь ограбил банк.
— Да у нас в городе уже сто лет никто банков не грабит. Отец, с тобой бесполезно разговаривать.
И она сердито вышла из комнаты.
И Норман Маллер не слишком взволновался, узнав эти новости.
— Скажи, пожалуйста, Сара, откуда Джо знает, что это агенты секретной службы? — спросил он невозмутимо. — Вряд ли они расхаживают по городу, приклеив удостоверения на лоб.
Однако на следующий вечер, первого ноября, Сара торжествующе заявила:
— Все до одного в Блумингтоне считают, что избирателем будет кто-то из местных. «Блумингтон ньюс» почти прямо сообщила об этом по видео.
Норман поежился. Жена говорила правду, и сердце у него упало. Если Мультивак и в самом деле обрушит свою молнию на Блумингтон, это означает несметные толпы репортеров, туристов, особые видеопрограммы — всякую непривычную суету.
Норман дорожил тихой и спокойной жизнью, и его пугал все нарастающий гул политических событий.
Он заметил:
— Все это пока только слухи.
— А ты подожди, подожди немножко.
Ждать пришлось недолго. Раздался настойчивый звонок, и, когда Норман открыл дверь со словами: «Что вам угодно?», высокий человек с хмурым лицом спросил его:
— Вы Норман Маллер?
Норман растерянным, замирающим голосом ответил:
— Да.
По тому, как себя держал незнакомец, можно было легко догадаться, что он лицо, облеченное властью, а цель его прихода вдруг стала настолько же очевидной, неизбежной, насколько за мгновение до того она казалась невероятной, немыслимой.
Незнакомец предъявил свое удостоверение, вошел, закрыл за собой дверь и произнес ритуальные слова:
— Мистер Норман Маллер, от имени президента Соединенных Штатов я уполномочен сообщить вам, что на вас пал выбор представлять американских избирателей во вторник, четвертого ноября 2008 года.
Норман Маллер с трудом сумел добраться без посторонней помощи до стула. Так он и сидел — бледный как полотно, еле сознавая, что происходит, а Сара поила его водой, в смятении растирала руки и бормотала сквозь стиснутые зубы:
— Не заболей, Норман. Только не заболей. А то найдут кого-нибудь еще.
Когда к Норману вернулся дар речи, он прошептал:
— Прощу прощения, сэр.
Агент секретной службы уже снял пальто и, расстегнув пиджак, непринужденно расположился на диване.
— Ничего, — сказал он. (Он оставил официальный тон, как только покончил с формальностями, и теперь это был просто рослый и весьма доброжелательный человек.) — Я уже шестой раз делаю это объявление — видел всякого рода реакции. Но только не ту, которую показывают по видео. Ну, вы и сами знаете: человек самоотверженно, с энтузиазмом восклицает: «Служить своей родине — великая честь! Или что-то в таком же духе и не менее патетически. — Агент добродушно и дружелюбно засмеялся.
Сара вторила ему, но в ее смехе слышались истерически-визгливые нотки.
Агент продолжал:
— А теперь придется вам некоторое время потерпеть меня в доме. Меня зовут Фил Хэндли. Называйте меня просто Фил. До Дня Выборов мистеру Маллеру нельзя будет выходить из дому. Вам придется сообщить в магазин, миссис Маллер, что он заболел. Сами вы можете пока что заниматься обычными делами, но никому ни о чем ни слова. Я надеюсь, вы меня поняли и мы договорились, миссис Маллер?
Сара энергично закивала.
— Да, сэр. Ни слова.
— Прекрасно. Но, миссис Маллер, — лицо Хэндли стало очень серьезным, — это не шутки. Выходите из дому только в случае необходимости, и за вами будут следить. Мне очень неприятно, но так у нас положено.
— Следить?
— Никто этого не заметит. Не волнуйтесь. К тому же это всего на два дня, до официального объявления. Ваша дочь…
— Она уже легла, — поспешно вставила Сара.
— Прекрасно. Ей нужно будет сказать, что я ваш родственник или знакомый и приехал к вам погостить. Если же она узнает правду, придется не выпускать ее из дому. А вашему отцу не следует выходить в любом случае.
— Он рассердится, — сказала Сара.
— Ничего не поделаешь. Итак, значит, со всеми членами вашей семьи мы разобрались и теперь…
— Похоже, вы знаете про нас все, — еле слышно сказал Норман.
— Немало, — согласился Хэндли. — Как бы то ни было, пока у меня для вас инструкций больше нет. Я постараюсь быть полезным чем могу и не слишком надоедать вам. Правительство оплачивает расходы по моему содержанию, так что у вас не будет лишних затрат. Каждый вечер меня будет сменять другой агент, который будет дежурить в этой комнате. Значит, лишняя постель не нужна. И вот что, мистер Маллер…
— Да, сэр?
— Зовите меня просто Фил, — повторил агент. — Эти два дня до официального сообщения вам дают для того, чтобы вы успели привыкнуть к своей роли и предстали перед Мультиваком в нормальном душевном состоянии. Не волнуйтесь и постарайтесь себя убедить, что ничего особенного не случилось. Хорошо?
— Хорошо, — сказал Норман и вдруг яростно замотал головой. — Но я не хочу брать на себя такую ответственность. Почему непременно я?
— Ладно, — сказал Хэндли. — Давайте сразу во всем разберемся. Мультивак обрабатывает самые различные факторы, миллиарды факторов. Один фактор, однако, неизвестен и будет неизвестен еще долго. Это умонастроение личности. Все американцы подвергаются воздействию слов и поступков других американцев. Мультивак может оценить настроение любого американца. И это дает возможность проанализировать настроение всех граждан страны. В зависимости от событий года одни американцы больше подходят для этой цели, другие меньше. Мультивак выбрал вас как самого типичного представителя страны для этого года. Не как самого умного, сильного или удачливого, а просто как самого типичного. А выводы Мультивака сомнению не подлежат, не так ли?
— А разве он не может ошибиться? — спросил Норман.
Сара нетерпеливо прервала мужа:
— Не слушайте его, сэр. Он просто нервничает. Вообще-то он человек начитанный и всегда следит за политикой.
Хэндли сказал:
— Решения принимает Мультивак, миссис Маллер. Он выбрал вашего мужа.
— Но разве ему все известно? — упрямо настаивал Норман. — Разве он не может ошибиться?
— Может. Я буду с вами вполне откровенным. В 1993 году избиратель скончался от удара за два часа до того, как его должны были предупредить о назначении. Мультивак этого не предсказал — не мог предсказать. У избирателя может быть неустойчивая психика, невысокие моральные правила, или, если уж на то пошло, он может быть вообще нелояльным. Мультивак не в состоянии знать все о каждом человеке, пока он не получил о нем всех сведений, какие только имеются. Поэтому всегда наготове запасные кандидатуры. Но вряд ли на этот раз они нам понадобятся. Вы вполне здоровы, мистер Маллер, и вы прошли тщательную заочную проверку. Вы подходите.
Норман закрыл лицо руками и замер в неподвижности.
— Завтра к утру, сэр, — сказала Сара, — он придет в себя. Ему только надо свыкнуться с этой мыслью, вот и все.
— Разумеется, — согласился Хэндли.
Когда они остались наедине в спальне, Сара Маллер выразила свою точку зрения по-другому и гораздо энергичнее. Смысл ее нотаций был таков:
«Возьми себя в руки, Норман. Ты ведь изо всех сил стараешься упустить возможность, которая выпадает раз в жизни».
Норман прошептал в отчаянии:
— Я боюсь, Сара. Боюсь всего этого.
— Господи, почему? Неужели так страшно ответить на один-два вопроса?
— Слишком большая ответственность. Она мне не по силам.
— Ответственность? Никакой ответственности нет. Тебя выбрал Мультивак. Вся ответственность лежит на Мультиваке. Это знает каждый.
Норман сел в кровати, охваченный внезапным приступом гнева и тоски:
— Считается, что знает каждый. А никто ничего знать не хочет. Никто…
— Тише, — злобно прошипела Сара. — Тебя на другом конце города слышно.
— …ничего знать не хочет, — повторил Норман, сразу понизив голос до шепота. — Когда говорят о правительстве Риджли 1988 года, разве кто-нибудь скажет, что он победил на выборах потому, что наобещал золотые горы и плел расистский вздор? Ничего подобного! Нет, они говорят «выбор сволочи Маккомбера», словно только Хамфри Маккомбер приложил к этому руку, а он-то отвечал на вопросы Мультивака и больше ничего. Я и сам так говорил, а вот теперь я понимаю, что бедняга был всего-навсего простым фермером и не просил назначать его избирателем. Так почему же он виноват больше других? А теперь его имя стало ругательством.
— Рассуждаешь, как ребенок, — сказала Сара.
— Рассуждаю, как взрослый человек. Вот что, Сара, я откажусь. Они меня не могут заставить, если я не хочу. Скажу, что я болен. Скажу…
Но Саре это уже надоело.
— А теперь послушай меня, — прошептала она в холодной ярости. — Ты не имеешь права думать только о себе. Ты сам знаешь, что такое избиратель года. Да еще в год президентских выборов. Реклама, и слава, и, может быть, куча денег…
— А потом опять становись к прилавку.
— Никаких прилавков! Тебя назначат по крайней мере управляющим одного из филиалов, если будешь все делать по-умному, а уж это я беру на себя. Если ты правильно разыграешь свои карты, то «Универсальным магазинам Кеннелла» придется заключить с тобой выгодный для нас контракт — с пунктом о регулярном увеличении твоего жалованья и обязательством выплачивать тебе приличную пенсию.
— Избирателя, Сара, назначают вовсе не для этого.
— А тебя — как раз для этого. Если ты не желаешь думать о себе или обо мне — я же прошу не для себя! — то о Линде ты подумать обязан.
Норман застонал.
— Обязан или нет? — грозно спросила Сара.
— Да, милочка, — прошептал Норман.
Третьего ноября последовало официальное сообщение, и теперь Норман уже не мог бы отказаться, даже если бы у него хватило на это мужества.
Они были полностью изолированы от внешнего мира. Агенты секретной службы, уже не скрываясь, преграждали всякий доступ в дом.
Сначала беспрерывно звонил телефон, но на все звонки с чарующе-виноватой улыбкой Филип Хэндли отвечал сам. В конце концов станция попросту переключила телефон на полицейский участок.
Норман полагал, что так его спасают не только от захлебывающихся от поздравлений (и зависти) друзей, но и от бессовестных приставаний коммивояжеров, чующих возможную прибыль, от расчетливой вкрадчивости политиканов со всей страны… А может, и от полоумных фанатиков, готовых разделаться с ним.
В дом запретили приносить газеты, чтобы оградить Нормана от их воздействия, а телевизор отключили — деликатно, но решительно, и громкие протесты Линды не помогли.
Мэтью ворчал и не покидал своей комнаты; Линда, когда первые восторги улеглись, начала дуться и капризничать, потому что ей не позволяли выходить из дому; Сара делила время между стряпней и планами на будущее; а настроение Нормана становилось все более и более угнетенным под влиянием одних и тех же мыслей.
И вот наконец настало утро четвертого ноября 2008 года, наступил День Выборов.
Завтракать сели рано, но ел один только Норман Маллер, да и то по привычке. Ни ванна, ни бритье не смогли вернуть его к действительности или избавить от чувства, что и вид у него такой же скверный, как душевное состояние.
Хэндли изо всех сил старался разрядить напряжение, но даже его дружеский голос не мог смягчить враждебности серого рассвета. (В прогнозе погоды было сказано: облачность, в первую половину дня возможен дождь.)
Хэндли предупредил:
— До возвращения мистера Маллера дом останется по-прежнему под охраной, а потом мы избавим вас от своего присутствия.
Агент секретной службы на этот раз был в полной парадной форме, включая окованную медью кобуру на боку.
— Вы же совсем не были нам в тягость, мистер Хэндли, — сладко улыбнулась Сара.
Норман выпил две чашки кофе, вытер губы салфеткой, встал и произнес каким-то страдальческим голосом:
— Я готов.
Хэндли тоже поднялся.
— Прекрасно, сэр. И благодарю вас, миссис Маллер, за любезное гостеприимство.
Бронированный автомобиль урча несся по пустынным улицам. Даже для такого раннего часа на улицах было слишком пусто.
Хэндли обратил на это внимание Нормана и добавил:
— На улицах, по которым пролегает наш маршрут, теперь всегда закрывается движение — это правило было введено после того, как покушение террориста в девяносто втором году чуть не сорвало выборы Леверетта.
Когда машина остановилась, Хэндли, предупредительный, как всегда, помог Маллеру выйти. Они оказались в подземном коридоре, вдоль стен которого шеренги солдат замерли по стойке «смирно».
Маллера проводили в ярко освещенную комнату, где три человека в белых халатах встретили его приветливыми улыбками.
Норман сказал резко:
— Но ведь это же больница!
— Неважно, — тотчас же ответил Хэндли. — Просто в больнице есть все необходимое оборудование.
— Ну, так что же я должен делать?
Хэндли кивнул. Один из трех людей в белых халатах шагнул к ним и сказал:
— Вы передаете его мне.
Хэндли небрежно козырнул и вышел из комнаты.
Человек в белом халате проговорил:
— Не угодно ли вам сесть, мистер Маллер? Я Джон Полсон, старший вычислитель. Это Самсон Левин и Питер Дорогобуж, мои помощники.
Норман тупо пожал всем руки. Полсон был невысок, его лицо с расплывчатыми чертами, казалось, привыкло вечно улыбаться. Он носил очки в старомодной пластиковой оправе и накладку, плохо маскировавшую плешь. Разговаривая, Полсон закурил сигарету. (Он протянул пачку и Норману, но тот отказался.) Полсон сказал:
— Прежде всего, мистер Маллер, я хочу предупредить вас, что мы никуда не торопимся. Если понадобится, вы можете пробыть здесь с нами хоть целый день, чтобы привыкнуть к обстановке и избавиться от ощущения, будто в этом есть что-то необычное, какая-то клиническая сторона, если можно так выразиться.
— Это мне ясно, — сказал Норман. — Но я предпочел бы, чтобы это кончилось поскорее.
— Я вас понимаю. И тем не менее нужно, чтобы вы ясно представляли себе, что происходит. Прежде всего, Мультивак находится не здесь.
— Не здесь? — Все это время, как он ни был подавлен, Норман таил надежду увидеть Мультивак. По слухам, он достигал полумили в длину и был в три этажа высотой, а в коридорах внутри его — подумать только! — постоянно дежурят пятьдесят специалистов. Это было одно из чудес света.
Полсон улыбнулся.
— Вот именно. Видите ли, он не совсем портативен. Говоря серьезно, он помещается под землей, и мало кому известно, где именно. Это и понятно, ведь Мультивак — наше величайшее богатство. Поверьте мне, выборы не единственное, для чего используют Мультивак.
Норман подумал, что разговорчивость его собеседника не случайна, но все-таки его разбирало любопытство.
— А я думал, что увижу его. Мне бы этого очень хотелось.
— Разумеется. Но для этого нужно распоряжение президента, и даже в таком случае требуется виза Службы безопасности. Однако мы соединены с Мультиваком прямой связью. То, что сообщает Мультивак, можно расшифровать здесь, а то, что мы говорим, передается прямо Мультиваку; таким образом, мы как бы находимся в его присутствии.
Норман огляделся. Кругом стояли непонятные машины.
— А теперь разрешите мне объяснить вам процедуру, мистер Маллер, — продолжал Полсон. — Мультивак уже получил почти всю информацию, которая ему требуется для определения кандидатов в органы власти всей страны, отдельных штатов и местные. Ему нужно только свериться с не поддающимся выведению умонастроением личности, и вот тут-то ему и нужны вы. Мы не в состоянии сказать, какие он задаст вопросы, но они и вам, и даже нам, возможно, покажутся почти бессмысленными. Он, скажем, спросит вас, как, на ваш взгляд, поставлена очистка улиц вашего города и как вы относитесь к централизованным мусоросжигателям. А может быть, он спросит, лечитесь ли вы у своего постоянного врача или пользуетесь услугами Национальной медицинской компании. Вы понимаете?
— Да, сэр.
— Что бы он ни спросил, отвечайте своими словами, как вам угодно. Если вам покажется, что объяснять нужно многое, не стесняйтесь. Говорите хоть час, если понадобится.
— Понимаю, сэр.
— И еще одно. Нам потребуется использовать кое-какую несложную аппаратуру. Пока вы говорите, она будет автоматически записывать ваше давление, работу сердца, проводимость кожи, биотоки мозга. Аппараты могут испугать вас, но все это совершенно безболезненно. Вы даже не почувствуете, что они включены.
Его помощники уже хлопотали около мягко поблескивающего агрегата на хорошо смазанных колесах.
Норман спросил:
— Это чтобы проверить, говорю ли я правду?
— Вовсе нет, мистер Маллер. Дело не во лжи. Речь идет только об эмоциональном напряжении. Если машина спросит ваше мнение о школе, где учится ваша дочь, вы, возможно, ответите: «По-моему, классы в ней переполнены». Это только слова. По тому, как работает ваш мозг, сердце, железы внутренней секреции и потовые железы, Мультивак может точно определить, насколько вас волнует этот вопрос. Он поймет, что вы испытываете, лучше, чем вы сами.
— Я об этом ничего не знал, — сказал Норман.
— Конечно! Ведь большинство сведений о методах работы Мультивака являются государственной тайной. И, когда вы будете уходить, вас попросят дать подписку, что вы не будете разглашать, какого рода вопросы вам задавались, что вы на них ответили, что здесь происходило и как. Чем меньше известно о Мультиваке, тем меньше шансов, что кто-то посторонний попытается повлиять на тех, кто с ним работает. — Он мрачно улыбнулся. — У нас и без того жизнь нелегкая.
Норман кивнул.
— Понимаю.
— А теперь, быть может, вы хотите есть или пить?
— Нет. Пока что нет.
— У вас есть вопросы?
Норман покачал головой.
— В таком случае скажите нам, когда вы будете готовы.
— Я уже готов.
— Вы уверены?
— Вполне.
Полсон кивнул и дал знак своим помощникам начинать.
Они двинулись к Норману с устрашающими аппаратами, и он почувствовал, как у него участилось дыхание.
Мучительная процедура длилась почти три часа и прерывалась всего на несколько минут, чтобы Норман мог выпить чашку кофе и, к величайшему его смущению, воспользоваться ночным горшком. Все это время он был прикован к машинам. Под конец он смертельно устал.
Он подумал с иронией, что выполнить обещание ничего не разглашать будет очень легко. У него уже от вопросов была полная каша в голове.
Почему-то раньше Норман думал, что Мультивак будет говорить загробным, нечеловеческим голосом, звучным и рокочущим; очевидно, это представление ему навеяли бесконечные телевизионные передачи, решил он теперь. Действительность оказалась до обидного неромантичной. Вопросы поступали на полосках какой-то металлической фольги, испещренных множеством проколов. Вторая машина превращала проколы в слова, и Полсон читал эти слова Норману, а затем передавал ему вопрос, чтобы он прочел его сам.
Ответы Нормана записывались на магнитофонную пленку, их проигрывали, а Норман слушал, все ли верно, и его поправки и добавления тут же записывались.
Затем пленка заправлялась в перфорационный аппарат и результаты передавались Мультиваку.
Единственный вопрос, запомнившийся Норману, был словно выхвачен из болтовни двух кумушек и совсем не вязался с торжественностью момента:
«Что вы думаете о ценах на яйца?»
И вот все позади: с его тела осторожно сняли многочисленные электроды, распустили пульсирующую повязку на предплечье, убрали аппаратуру.
Норман встал, глубоко и судорожно вздохнул и спросил:
— Все? Я свободен?
— Не совсем. — Полсон спешил к нему с ободряющей улыбкой. — Мы бы просили вас задержаться еще на часок.
— Зачем? — встревожился Норман.
— Приблизительно такой срок нужен Мультиваку, чтобы увязать полученные новые данные с миллиардами уже имеющихся у него сведений. Видите ли, он должен учитывать тысячи других выборов. Дело очень сложное. И может оказаться, что какое-нибудь назначение окажется неувязанным, скажем, санитарного инспектора в городе Феникс, штат Аризона, или же муниципального советника в Уилксборо, штат Северная Каролина. В таком случае Мультивак будет вынужден задать вам еще несколько решающих вопросов.
— Нет, — сказал Норман. — Я ни за что больше не соглашусь.
— Возможно, этого и не потребуется, — уверил его Полсон. — Такое положение возникает крайне редко. Но просто на всякий случай вам придется подождать. — В его голосе зазвучали еле заметные стальные нотки. — Ваши желания тут ничего не решают. Вы обязаны.
Норман устало опустился на стул и пожал плечами.
Полсон продолжал:
— Читать газеты вам не разрешается, но, если детективные романы, или партия в шахматы, или еще что-нибудь в этом роде помогут вам скоротать время, вам достаточно только сказать.
— Ничего не надо. Я просто посижу.
Его провели в маленькую комнату рядом с той, где он отвечал на вопросы. Он сел в кресло, обтянутое пластиком, и закрыл глаза.
Хочешь не хочешь, а нужно ждать, пока истечет этот последний час.
Он сидел не двигаясь, и постепенно напряжение спало. Дыхание стало не таким прерывистым, и дрожь в пальцах уже не мешала сжимать руки.
Может, вопросов больше и не будет. Может, все кончилось.
Если это так, то дальше его ждут факельные шествия и выступления на всевозможных приемах и собраниях. Избиратель этого года!
Он, Норман Маллер, обыкновенный продавец из маленького универмага в Блумингтоне, штат Индиана, не рожденный великим, не добившийся величия собственными заслугами, попал в необычайное положение: его вынудили стать великим.
Историки будут торжественно упоминать Выборы Маллера в 2008 году. Ведь эти выборы будут называться именно так — Выборы Маллера.
Слава, повышение в должности, сверкающий денежный поток — все то, что было так важно для Сары, почти не занимало его. Конечно, это очень приятно, и он не собирается отказываться от подобных благ. Но в эту минуту его занимало совершенно другое.
В нем вдруг проснулся патриотизм. Что ни говори, а он представляет здесь всех избирателей страны. Их чаяния собраны в нем, как в фокусе. На этот единственный день он стал воплощением всей Америки!
Дверь открылась, и Норман весь обратился в слух. На мгновение он внутренне сжался. Неужели опять вопросы?
Но Полсон улыбался.
— Все, мистер Маллер.
— И больше никаких вопросов, сэр?
— Ни единого. Прошло без всяких осложнений. Вас отвезут домой, и вы снова станете частным лицом, конечно, насколько вам позволит широкая публика.
— Спасибо, спасибо. — Норман покраснел и спросил: — Интересно, а кто избран?
Полсон покачал головой.
— Придется ждать официального сообщения. Правила очень строгие. Мы даже вам не имеем права сказать. Я думаю, вы понимаете.
— Конечно. Ну, конечно, — смущенно ответил Норман.
— Агент Службы безопасности даст вам подписать необходимые документы.
— Хорошо.
И вдруг Норман ощутил гордость. Неимоверную гордость. Он гордился собой.
В этом несовершенном мире суверенные граждане первой в мире и величайшей Электронной Демократии через Нормана Маллера (да, через него!) вновь осуществили принадлежащее им свободное, ничем не ограниченное право выбирать свое правительство!
перевод Н. ГвоздаревойОстряк
Ноэл Меерхоф просматривал список, решая, с чего начать. Как всегда, он положился в основном на интуицию.
Меерхоф казался пигмеем рядом с машиной, а ведь была видна лишь незначительная ее часть. Но это роли не играло. Он заговорил с бесцеремонной уверенностью человека, твердо знающего, что он здесь хозяин.
— Гарри Джонс, член масонской ложи, — сказал он, — за завтраком обсуждал с женой подробности вчерашнего заседания братьев масонов. Оказывается, президент ложи выступил с обещанием подарить шелковый цилиндр тому, кто встанет и поклянется, что за годы семейной жизни не целовал ни одной женщины, кроме своей законной жены. «И поверишь ли, Эллен, никто не встал». «Гарри, — удивилась жена, — а ты-то почему не встал?» «Да знаешь, я уж совсем было хотел, но вовремя спохватился, что мне страшно не пойдет шелковый цилиндр».
Меерхоф подумал: «Ладно, проглотила, теперь пусть переварит».
Кто-то окликнул его сзади:
— Эй!
Меерхоф стер это междометие из памяти машины и перевел цепь в нейтральную позицию. Он круто обернулся:
— Я занят. В дверь принято стучать — вам что, не известно?
Против обыкновения Меерхоф не улыбнулся, отвечая на приветствие Тимоти Уистлера — старшего аналитика, с которым он сталкивался по работе не реже, чем с другими. Меерхоф насупился, словно ему помешал чужой человек, его худое лицо исказилось гримасой, волосы взъерошились пуще прежнего.
Уистлер пожал плечами. На нем был белый халат, руки он держал в карманах, отчего на ткани образовались вертикальные складки.
— Я постучался. Вы не ответили. А сигнал «Не мешать» погашен.
Меерхоф что-то промычал. Сигнал и вправду не был включен. Поглощенный новым исследованием, Меерхоф забывал о мелочах.
И все же ему не в чем было себя упрекнуть. Дело-то важное.
Почему важное, он, разумеется, не знал. Гроссмейстеры редко это знают. Оттого-то они и гроссмейстеры, что действуют по наитию. А как еще может человеческий мозг угнаться за сгустком разума пятнадцатикилометровой длины, называемым Мултивак, — за самой сложной на свете вычислительной машиной?
— Я работаю, — сказал Меерхоф. — У вас что-нибудь срочное?
— Потерпит. Я обнаружил пробелы в ответах о гиперпространственном… — С некоторым запозданием на лице Уистлера отразилась богатая гамма эмоций, завершившаяся унылой миной неуверенности. — Работаете?
— Да. А что тут особенного?
— Но ведь… — Уистлер огляделся по сторонам, обвел взглядом всю небольшую комнату, загроможденную бесчисленными реле — ничтожно малой частью Мултивака. — Здесь ведь никого нет.
— А кто говорит, что здесь кто-то есть или должен быть?
— Вы рассказывали очередной анекдот, не так ли?
— Ну и что?
Уистлер натянуто улыбнулся.
— Не станете же вы уверять, будто рассказывали анекдот Мултиваку?
Меерхоф приготовился к отпору,
— А почему бы и нет?
— Мултиваку?
— Да.
— Зачем?
Меерхоф смерил Уистлера взглядом.
— Не собираюсь перед вами отчитываться. И вообще ни перед кем не собираюсь.
— Боже упаси, ну конечно, вы и не обязаны. Я просто полюбопытствовал, вот и все… Но, если вы заняты, я пойду.
Нахмурясь, Уистлер еще раз огляделся по сторонам.
— Ступайте, — сказал Меерхоф. Он взглядом проводил Уистлера до самой двери, а потом свирепо ткнул пальцем в кнопку — включил сигнал «Не мешать».
Меерхоф шагал взад-вперед по комнате, стараясь взять себя в руки. Черт бы побрал Уистлера! Черт бы побрал их всех! Только из-за того, что Меерхоф не дает себе труда держать техников, аналитиков и механиков на подобающей дистанции, обращается с ними, будто они тоже люди творческого труда, они и позволяют себе такие вольности.
«А сами толком и анекдота рассказать не умеют», — мрачно подумал Меерхоф.
Эта мысль мгновенно вернула его к текущей задаче. Он снова уселся. Ну их всех к дьяволу,
Он активировал соответствующую цепь Мултивака и сказал:
— Во время особенно сильной качки стюард остановился у борта и с состраданием посмотрел на пассажира, который перегнулся через перила и всей своей позой, а также тем, как напряженно вглядывался он в океанскую пучину, являл зрелище жесточайших мук морской болезни. Стюард легонько хлопнул пассажира по плечу. «Мужайтесь, сэр, — шепнул он. — Я знаю, вам кажется, будто дело скверно, однако, право же, от морской болезни никто не умирал». Несчастный пассажир обратил к утешителю позеленевшее, искаженное лицо и хрипло, с трудом произнес: «Не надо так говорить, приятель. Ради всего святого, не надо. Я живу только надеждой на смерть».
Как ни был озабочен Тимоти Уистлер, он все же улыбнулся и кивнул, проходя мимо письменного стола девушки-секретаря. Та улыбнулась в ответ.
«Вот, — подумал он, — архаизм в двадцать первом веке, в эпоху вычислительных машин: живой секретарь! А впрочем, может быть, так и нужно, чтобы эта реалия сохранилась в самой цитадели вычислительной державы, в гигантском мире корпорации, ведающей Мултиваком. Там, где Мултивак заслоняет горизонты, применение маломощных вычислителей для повседневной канцелярской работы было бы дурным вкусом».
Уистлер вошел в кабинет Эбрема Траска. Уполномоченный ФБР сосредоточенно разжигал трубку; рука его на мгновение замерла, черные глаза сверкнули при виде Уистлера, крючковатый нос четко и контрастно обрисовался на фоне прямоугольного окна.
— А, это вы, Уистлер. Садитесь. Садитесь.
Уистлер сел.
— Мне кажется, мы стоим перед проблемой, Траск.
Траск улыбнулся краешком рта.
— Надеюсь, не технической. Я всего лишь невежественный администратор.
Это была одна из его любимых фраз.
— Насчет Меерхофа.
Траск тотчас уселся, вид у него стал разнесчастный.
— Вы уверены?
— Совершенно уверен.
Уистлер хорошо понимал недовольство собеседника. Уполномоченный ФБР Траск руководил отделом вычислительных машин и автоматики департамента внутренних дел. Он решал вопросы, касающиеся человеческих придатков Мултивака, точно так же как эти технически натасканные придатки решали вопросы, касающиеся самого Мултивака.
Но гроссмейстер нечто большее, чем просто придаток. Даже нечто большее, чем просто человек.
На заре истории Мултивака выяснилось, что самый ответственный участок — это постановка вопросов. Мултивак решает проблемы для человечества, он может разрешить все проблемы, если… если ему задают осмысленные вопросы. Но по мере накопления знаний, которое происходило все интенсивнее, ставить осмысленные вопросы становилось все труднее и труднее.
Одного рассудка тут мало. Нужна редкостная интуиция; тот же талант (только куда более ярко выраженный), каким наделен шахматный гроссмейстер. Нужен ум, который способен из квадрильонов шахматных ходов отобрать наилучший, причем сделать это за несколько минут.
Траск беспокойно заерзал на стуле.
— Так что же Меерхоф?
— Вводит в машину новую серию вопросов; на мой взгляд, он пошел по опасному пути.
— Да полно вам, Уистлер. Только и всего? Гроссмейстер может задавать вопросы любого характера, если считает нужным. Ни мне, ни вам не дано судить о том, чего стоят его вопросы. Вы ведь это знаете. Да и я знаю, что вы знаете.
— Конечно. Согласен. Но я ведь и Меерхофа знаю. Вы с ним когда-нибудь встречались вне службы?
— О господи, нет. А разве с гроссмейстерами встречаются вне службы?
— Не становитесь в такую позу, Траск. Гроссмейстеры — люди, их надо жалеть. Задумывались ли вы над тем, каково быть гроссмейстером; знать, что в мире только десять — двенадцать тебе подобных; знать, что таких на поколение приходится один или два; что от тебя зависит весь мир; что у тебя под началом тысячи математиков, логиков, психологов и физиков?
— О господи, да я бы чувствовал себя владыкой мира, пробормотал Траск, пожав плечами.
— Не думаю, — нетерпеливо прервал его старший аналитик. Они себя чувствуют владыками пустоты. У них нет равных, им не с кем поболтать, они лишены чувства локтя. Послушайте. Меерхоф никогда не упускает случая побыть с нашими ребятами. Он, естественно, не женат; не пьет; по складу характера не компанейский человек… и все же заставляет себя присоединяться к компании, потому что иначе не может. Так знаете ли, что он делает, когда мы собираемся, а это бывает не реже раза в неделю?
— Представления не имею, — сказал уполномоченный ФБР. Все это для меня новости.
— Он острит.
— Что?
— Анекдоты рассказывает. Отменные. Пользуется бешеным успехом. Он может выложить любую историю, даже самую старую и скучную, и будет смешно. Все дело в том, как он рассказывает. У него особое чутье.
— Понимаю. Что ж, хорошо.
— А может быть, плохо. К этим анекдотам он относится серьезно. — Уистлер обеими руками облокотился на стол Траска, прикусил ноготь и отвел глаза. — Он не такой, как все, он и сам это знает и полагает, что только анекдотами можно пронять таких заурядных трепачей, как мы. Мы смеемся, мы хохочем, мы хлопаем его по плечу и даже забываем, что он гроссмейстер. Только в этом и проявляется его влияние на сослуживцев.
— Очень интересно. Я и не знал, что вы такой тонкий психолог. Но к чему вы клоните?
— А вот к чему. Как вы думаете, что случится, если Меерхоф исчерпает свой запас анекдотов?
— Что? — Уполномоченный ФБР непонимающе уставился на собеседника.
— Вдруг он начнет повторяться? Вдруг слушатели станут хохотать не так заразительно или вообще прекратят смеяться? Ведь это единственное, чем он может вызвать у нас одобрение. Без этого он окажется в одиночестве, и что же тогда с ним будет? В конце концов, он — один из дюжины людей, без которых человечеству никак не обойтись. Нельзя допустить, чтобы с ним что-то случилось. Я имею в виду не только физические травмы. Нельзя позволить ему впасть в меланхолию. Кто знает, как плохое настроение отразится на его интуиции?
— А что, он начал повторяться?
— Насколько мне известно, нет, но, по-моему, он считает, что начал.
— Почему вы так думаете?
— Потому что я подслушал, как он рассказывает анекдоты Мултиваку.
— Не может быть.
— Совершенно случайно. Вошел без стука, и Меерхоф меня выгнал. Он был вне себя. Обычно он добродушен, и мне кажется, такое бурное недовольство моим внезапным появлением дурной признак. Но факт остается фактом: Меерхоф рассказывал Мултиваку анекдот, да к тому же, я убежден, не первый и не последний.
— Но зачем?
Уистлер пожал плечами, яростно растер подбородок.
— Вот и меня это озадачило. Я думаю, Меерхоф хочет аккумулировать запас анекдотов в памяти Мултивака, чтобы получать от него новые вариации. Вам понятна моя мысль? Он намерен создать кибернетического остряка, чтобы располагать анекдотами в неограниченном количестве и не бояться, что запас когда-нибудь истощится.
— О господи!
— Объективно тут, может быть, ничего плохого и нет, но по моим понятиям, если гроссмейстер использует Мултивака для личных целей, это скверный признак. У всех гроссмейстеров ум неустойчивый, за ними надо следить. Возможно, Меерхоф приближается к грани, за которой мы потеряем гроссмейстера.
— Что вы предлагаете? — бесстрастно осведомился Траск.
— Хоть убейте, не знаю. Наверное, я с ним чересчур тесно связан по работе, чтобы здраво судить о нем, и вообще судить о людях не моего ума дело. Вы политик, это скорее ваша стихия.
— Судить о людях — да, но не о гроссмейстерах.
— Гроссмейстеры тоже люди. Да и кто это будет делать, если не вы?
Пальцы Траска отстукивали по столу быструю, приглушенную барабанную дробь.
— Видно, придется мне.
Меерхоф рассказывал Мултиваку:
— В доброе старое время королевский шут однажды увидел, что король умывается, согнувшись в три погибели над лоханью. Развеселившийся шут изо всех сил пнул священную королевскую особу ногой в зад. Король в ярости повелел казнить дерзкого па месте, но тут же сменил гнев на милость и обещал простить шута, если тот ухитрится принести извинение, еще более оскорбительное, чем сам проступок. Осужденный лишь на миг задумался, потом сказал: «Умоляю ваше величество о пощаде. Я ведь не знал, что это были вы. Мне показалось, будто это королева».
Меерхоф собирался перейти к следующему анекдоту, но тут его вызвали.
Собственно говоря, даже не вызвали. Гроссмейстеров никто никуда не вызывает. Просто пришла записка с сообщением, что начальник отдела Траск очень хотел бы повидаться с гроссмейстером Меерхофом, если гроссмейстеру Меерхофу не трудно уделить ему несколько минут.
Меерхоф мог безнаказанно швырнуть записку в угол и по-прежнему заниматься своим делом. Он не был обязан соблюдать дисциплину.
С другой стороны, если бы он так поступил, к нему бы продолжали приставать, бесспорно со всей почтительностью, но продолжали бы.
Поэтому он перевел активированные цепи Мултивака в нейтральную позицию и включил блокировку. На двери он вывесил табличку «Опасный эксперимент», чтобы никто не посмел войти в его отсутствие, и ушел в кабинет Траска.
Траск кашлянул, чуть заробев под мрачной беспощадностью гроссмейстерского взгляда. Он сказал:
— К моему великому сожалению, гроссмейстер, у нас до сих пор не было случая познакомиться.
— Я перед вами регулярно отчитываюсь, — сухо возразил Меерхоф.
Траск задумался, что же кроется за пронзительным, горящим взглядом собеседника. Ему трудно было представить себе, как темноволосый Меерхоф, с тонкими чертами лица, внутренне натянутый как тетива, хотя бы на время перевоплощается в рубаху-парня и рассказывает смешные байки.
— Отчеты — это официальное знакомство, — ответил он. Я… мне дали понять, что вы знаете удивительное множество анекдотов.
— Я остряк, сэр. Люди так и выражаются. Остряк.
— При мне никто так не выражался, гроссмейстер. Мне говорили…
— Да черт с ними! Мне все равно, кто что говорит. Послушайте, Траск, хотите анекдот? — Он навалился на письменный стол, сощурив глаза.
— Ради бога… Конечно, хочу, — сказал Траск, силясь говорить искренним тоном.
— Ладно. Вот вам анекдот. Миссис Джонс разглядывает карточку с предсказанием судьбы, выпавшую из автоматических весов, куда бросил медяк ее муж, и говорит: «Тут написано, Джордж, что ты учтив, умен, дальновиден, трудолюбив и нравишься женщинам». С этими словами она перевернула карточку и прибавила: «Вес тоже переврали».
Траск засмеялся. Удержаться было почти невозможно. Меерхоф так удачно воспроизвел надменную презрительность в голосе женщины, так похоже скорчил мину под стать голосу, что уполномоченный ФБР невольно развеселился.
— Почему вам смешно? — резко спросил Меерхоф.
— Прошу прощения, — опомнился Траск.
— Я спрашиваю, почему вам смешно? Над чем вы смеетесь?
— Да вот, — ответил Траск, стараясь не терять благоразумия, — последняя фраза представила все предыдущее в новом свете. Неожиданность…
— Странно, — сказал Меерхоф, — ведь я изобразил мужа, которого оскорбляет жена; брак до того неудачен, что жена убеждена, будто у ее мужа вообще нет достоинств. А вы смеетесь. Окажись вы на месте мужа, было бы вам смешно?
На мгновение он задумался, потом продолжал:
— Подумайте над другим анекдотом, Траск. Некий шотландец опоздал на службу на сорок минут. Его вызвали к начальству для объяснений. «Я хотел почистить зубы, — оправдывался шотландец, — но слишком сильно надавил на тюбик, и вся паста вывалилась наружу. Пришлось заталкивать ее обратно в тюбик, а это отняло уйму времени».
Траск попытался сохранить бесстрастие, но у пего ничего не вышло. Ему не удалось скрыть усмешки.
— Значит, тоже смешно, — сказал Меерхоф. — Разные глупости. Все смешно.
— Ну, знаете ли, — заметил Траск, — есть масса книг, посвященных анализу юмора.
— Это верно, — согласился Меерхоф, — кое-что я прочел. Более того, кое-что я читал Мултиваку. Но все же авторы этих книг лишь строят догадки. Некоторые утверждают, будто мы смеемся, оттого что чувствуем свое превосходство над героями анекдота. Некоторые утверждают, будто нам смешно из-за неожиданно осознанной нелепости, или внезапной разрядки напряжения, или внезапного освещения событий по-новому. А может быть, причина проще? Разные люди смеются после разных анекдотов. Ни один анекдот не универсален. Есть люди, которых вообще не смешат анекдоты. Но, по-видимому, главное то, что человек — единственный из животных, наделенный чувством юмора: единственный из животных он умеет смеяться.
— Понимаю, — сказал вдруг Траск. — Вы пытаетесь анализировать юмор. Поэтому и вводите в Мултивак серию анекдотов.
— Откуда вы знаете?.. Ясно, можете не отвечать; от Уистлера. Теперь я вспомнил. Он застал меня врасплох. Ну и что отсюда следует?
— Ровным счетом ничего.
— Вы не оспариваете моего права как угодно расширять объем знаний Мултивака и задавать ему любые вопросы?
— Вовсе нет, — поспешил заверить Траск. — По сути дела, я не сомневаюсь, что тем самым вы откроете путь к новым исследованиям, крайне интересным для психологов.
— Угу. Возможно. Но все равно, мне не дает покоя нечто гораздо более важное, чем общий анализ юмора. Я должен задать конкретный вопрос. Даже два.
— Вот как? Что же это за вопросы? — Траск не был уверен, что Меерхоф захочет ему ответить. Заставить же его нельзя будет никакими силами.
Но Меерхоф ответил:
— Первый вопрос такой: откуда берутся анекдоты?
— Что?
— Кто их придумывает? Дело вот в чем. Примерно с месяц назад я убил вечер, рассказывая и выслушивая анекдоты. Как всегда, большей частью рассказывал я, и, как всегда, дурачье смеялось. Может быть, находили анекдоты смешными, а может быть, просто меня ублажали. Во всяком случае, один кретин позволил себе хлопнуть меня по спине и заявить: «Меерхоф, да вы знаете анекдотов больше, чем десяток моих приятелей». Он был прав, спору нет, но это натолкнуло меня на мысль. Не знаю уж, сколько сот, а может, тысяч анекдотов пересказал я за свою жизнь, но сам-то наверняка ни одного не придумал. Ни единого. Только повторял. Единственный мой вклад в дело юмора — пересказ. Начнем с того, что анекдоты я либо слыхал, либо читал. Но источник в обоих случаях не был первоисточником. Никогда я не встречал человека, который похвалился бы, что сочинил анекдот. Только и слышишь: «На днях мне рассказали недурной анекдот» — или: «Хорошие анекдоты есть?» Все анекдоты стары! Вот почему они так отстают от времени. В них до сих пор говорится о морской болезни, хотя в наш век ее ничего не стоит предотвратить и никого она не беспокоит. Или в анекдоте, что я вам сейчас рассказал, фигурируют весы, предсказывающие судьбу, хотя такой агрегат отыщешь разве что в антикварном магазине. Так кто же тогда выдумывает анекдоты?
— Вы это хотите выяснить? — воскликнул Траск. На языке у него так и вертелось: «О господи, да не все ли равно?» Но он не дал воли импульсу. Вопросы гроссмейстера всегда исполнены глубокого смысла.
— Разумеется, именно это я и хочу выяснить. Рассмотрим вопрос с другой стороны. Дело не только в том, что анекдоты, как правило, стары. Они и должны быть старыми, иначе они не имеют успеха. Существенно важно, чтобы анекдот был откуда-то заимствован. Есть категория незаимствованного юмора — каламбуры. Мне приходилось слышать каламбуры, явно родившиеся экспромтом. Я и сам каламбурил. Но над каламбурами никто не смеется. Никто и не должен смеяться. Принято стонать. Чем удачнее каламбур, тем громче стонут. Незаимствованный юмор не вызывает смеха. Почему?
— Право, не знаю.
— Ладно. Давайте выясним. Я ввел в Мултивак всю информацию о юморе вообще, какую считал нужной, и теперь пичкаю его избранными анекдотами.
Траск против воли заинтересовался.
— Избранными по какому принципу? — спросил он.
— Не знаю, — ответил Меерхоф. — Мне казалось, что нужны именно они. В конце концов, я ведь гроссмейстер.
— Сдаюсь, сдаюсь.
— Первое задание Мултиваку такое: исходя из этих анекдотов и общей философии юмора, проследить происхождение всех анекдотов. Раз уж Уистлер оказался в курсе дела и счел нужным поставить вас в известность, пусть придет послезавтра в аналитическую лабораторию. Думаю, для него там найдется работа.
— Конечно. А мне можно присутствовать?
Меерхоф пожал плечами. По-видимому, присутствие Траска было ему в высшей степени безразлично.
Последний анекдот серии Меерхоф отбирал с особой тщательностью. В чем выразилась эта тщательность, он и сам не мог бы ответить, но перебрал в уме добрый десяток вариантов, снова и снова отыскивая в каждом неуловимые оттенки скрытого смысла. Наконец он сказал:
— К пещерному жителю Угу с плачем подбежала его подруга в измятой юбке из леопардовой шкуры. «Уг, — вскричала она горестно, — беги скорее! К маме в пещеру забрался саблезубый тигр. Да беги же скорее!» Уг фыркнул, поднял с земли обглоданную кость буйвола и ответил: «Зачем бежать? Какое мне дело до того, что станется с саблезубым тигром?»
Тут Меерхоф задал машине два вопроса и, закрыв глаза, откинулся на спинку стула. Он сделал свое дело.
— Никаких аномалий я не заметил, — сообщил Уистлеру Траск. — Он охотно рассказал, над чем работает, это исследование необычное, но законное.
— Уверяет, будто работает, — вставил Уистлер.
— Все равно, не могу я отстранить гроссмейстера единственно по подозрению. Он показался мне странным, но, в конце кондов, такими и должны быть гроссмейстеры. Я не считаю его сумасшедшим.
— А поручить Мултиваку найти источник анекдотов — это, по-вашему, не сумасшествие? — буркнул старший аналитик.
— Кто знает? — раздраженно ответил Траск. — Наука продвинулась так далеко, что стоит задавать только нелепые вопросы. Все осмысленные давно продуманы и заданы, на них получены ответы.
— Все равно. Я встревожен.
— Может быть, но теперь уже нет выбора, Уистлер. Мы встретимся с Меерхофом, вы проанализируете ответ Мултивака, если он даст ответ. Что до меня, то ведь я занимаюсь только канцелярской волокитой. О господи, я даже не знаю, что делает старший аналитик, вот вы, например: догадываюсь, что аналитик анализирует, но это мне ничего не говорит.
— Все очень просто, — сказал Уистлер. — Гроссмейстер, например Меерхоф, задает вопросы, а Мултивак автоматически выражает их в числах и математических действиях. Большую часть Мултивака занимают устройства, преобразующие слова в символы. Затем Мултивак дает ответ, тоже в числах и действиях, но переводит его на язык слов только в простейших, изо дня в день повторяющихся случаях. Чтобы Мултивак умел совершать универсальные преобразования, его объем пришлось бы по меньшей мере учетверить.
— Понятно. Значит, ваша работа — выражать символы словами?
— Моя работа и работа других аналитиков. Если нужно, мы пользуемся маломощными вычислительными машинами, специально для нас сконструированными. — Уистлер мрачно улыбнулся. Подобно дельфийской пифии в древней Греции, Мултивак дает загадочные, неясные ответы. Вся разница в том, что у Мултивака есть переводчики.
Они пришли в лабораторию. Меерхоф уже ждал.
— Какими цепями вы пользовались, гроссмейстер? — деловито спросил Уистлер.
Меерхоф перечислил цепи, и Уистлер принялся за работу.
Траск пытался следить за происходящим, но оно не поддавалось истолкованию. Чиновник смотрел, как разматывается бесконечная лента, усеянная непонятными узорами точек. Гроссмейстер Меерхоф равнодушно стоял в стороне, а Уистлер рассматривал появляющиеся узоры. Аналитик надел наушники, вооружился микрофоном и время от времени негромко давал инструкции, которые помогали его коллегам где-то в дальнем помещении вылавливать электронные погрешности у других вычислительных машин.
Прошло больше часа.
Уистлер все суровее хмурил лоб. Он перевел взгляд на Меерхофа и Траска, начал было «Невероя…» и снова углубился в работу.
Наконец он хрипло произнес:
— Могу сообщить вам ответ неофициально. — Глаза у него были воспаленные. — Официальное сообщение отложим до завершения анализа. Согласны на неофициальное?
— Давайте, — сказал Меерхоф.
Траск кивнул.
Уистлер виновато покосился на гроссмейстера.
— Один дурак может задать столько вопросов, что… — сказал он и сипло прибавил: — Мултивак утверждает, будто происхождение анекдотов внеземное.
— Что вы несете? — возмутился Траск.
— Разве вы не слышите? Анекдоты, которые нас смешат, придуманы не людьми. Мултивак проанализировал всю полученную информацию, и она укладывается в рамки только одной гипотезы: какой-то внеземной интеллект сочинил все анекдоты и заложил их в умы избранных людей. Происходило это в заданное время, в заданных местах, и ни один человек не сознавал, что он первый рассказывает какой-то анекдот. Все последующие анекдоты представляют собой лишь незначительные вариации и переделки тех великих подлинников.
Лицо Меерхофа разрумянилось, глаза сверкнули торжеством, какое доступно лишь гроссмейстеру, когда он — который раз! — задает удачный вопрос.
— Все авторы комедий, — заявил он, — приспосабливают старые остроты для новых целей. Это давно известно. Ответ сходится.
— Но почему? — удивился Траск. — Зачем было сочинять анекдоты?
— Мултивак утверждает, — ответил Уистлер, — что все сведения укладываются в рамки единственной гипотезы: анекдоты служат пособием для изучения людской психологии. Исследуя психологию крыс, мы заставляем крысу искать выход из лабиринта. Она не знает, зачем это делается, и никогда не узнает, даже если бы осознала происходящее, на что она не способна. Внеземной разум исследует людскую психологию, наблюдая индивидуальные реакции на тщательно отобранные анекдоты. Люди реагируют каждый по-своему… Надо полагать, по отношению к нам этот внеземной разум — то же самое, что мы по отношению к крысам. — Он поежился.
Траск, вытаращив глаза, пролепетал:
— Гроссмейстер говорит, что человек — единственное животное, обладающее чувством юмора. Значит, чувством юмора нас наделили извне.
— А юмор, порожденный самими людьми, не вызывает у нас смеха. Я имею в виду каламбуры, — возбужденно подхватил Меерхоф.
— Вероятно, внеземной разум во избежание путаницы гасит реакцию на спонтанные шутки.
— Да ну, о господи, будет вам, неужели хоть один из вас этому верит? — во внезапном смятении воскликнул Траск.
Старший аналитик посмотрел на него холодно.
— Так утверждает Мултивак. Пока больше ничего нельзя прибавить. Он выявил подлинных остряков Вселенной, а если мы хотим узнать больше, дело надо расследовать. — И шепотом прибавил: — Если кто-нибудь дерзнет его расследовать.
— Я ведь предлагал два вопроса, — неожиданно сказал гроссмейстер Меерхоф. — Пока что Мултивак ответил только на первый. По-моему, он располагает достаточно полной информацией, чтобы ответить и на второй.
Уистлер пожал плечами. Он казался сломленным человеком.
— Если гроссмейстер считает, что информация полная, сказал он, — то можно головой ручаться. Какой там второй вопрос?
— Я спросил: «Что произойдет, если человечество узнает, какой ответ получен на мой первый вопрос?»
— А почему вы это спросили? — осведомился Траск.
— Просто чувствовал, что надо спросить, — пояснил Меерхоф.
— Безумие. Сплошное безумие, — сказал Траск и отвернулся. Он и сам ощущал, как диаметрально изменились позиции его и Уистлера. Теперь Траск обвинял всех в безумии.
Он закрыл глаза. Можно обвинять в безумии кого угодно, но за пятьдесят лет еще никто не усомнился в непогрешимости содружества гроссмейстер — Мултивак без того, чтобы сомнения тут же не развеялись.
Уистлер работал в молчании, стиснув зубы. Он снова заставил Мултивака и подсобные машины проделать сложнейшие операции. Еще через час он хрипло рассмеялся:
— Тифозный бред!
— Какой ответ? — спросил Меерхоф. — Меня интересуют комментарии Мултивака, а не ваши.
— Ладно. Получайте. Мултивак утверждает, что, как только хоть одному человеку откроется правда о таком методе психологического анализа людского разума, этот метод лишится объективной ценности и станет бесполезен для внеземных сил, которые сейчас им пользуются.
— Надо понимать, прекратится снабжение человечества анекдотами? — еле слышно спросил Траск. — Или вас надо понимать как-нибудь иначе?
— Конец анекдотам, — объявил Уистлер. — Отныне! Мултивак утверждает: отныне! Отныне эксперимент прекращается! Будет разработан новый метод.
Все уставились друг на друга. Текли минуты, Меерхоф медленно проговорил:
— Мултивак прав.
— Знаю, — измученно отозвался Уистлер.
Даже Траск прошептал:
— Да. Наверное.
Не кто иной, как Меерхоф, признанный остряк Меерхоф, привел решающий довод. Он сказал:
— Ничего не осталось, знаете ли, ничего. Я уже пять минут стараюсь, но не могу вспомнить ни одного анекдота, ни единого! А если я вычитаю анекдот в книге, то не засмеюсь. Наверняка.
— Исчез дар юмора, — тоскливо заметил Траск. — Ни один человек больше не засмеется.
Все трое сидели с широко раскрытыми глазами, чувствуя, как мир сжимается до размеров крысиной клетки, откуда вынули лабиринт, чтобы вместо него поставить нечто другое, неведомое.
перевод Н. ЕвдокимовойПотенциал
Надин Триомф в очередной раз (в десятый, не меньше) проверила длинный список символов. Она и не рассчитывала, что сможет найти то, чего не обнаружил Мультивак, но это было так по-человечески.
Потом Надин передала лист Бэзилу Северски.
— Порядок совершенно другой, Бэзил, — сказала она.
— Ага, я заметил, — мрачно ответил Бэзил.
— Кончай ворчать. Это ведь хорошо. До сих пор Мультивак выдавал лишь вариации на тему. А сейчас мы получили нечто новенькое.
Бэзил засунул руки в карманы лабораторного халата, качнулся на стуле и уперся спиной в стену. Пальцы наткнулись на бедро и ощутили неприятную мягкость. «А я, похоже, толстею…», — подумал Бэзил. Мысль об этом не слишком радовала.
— Мультивак способен выдавать только ту информацию, которую мы ему изначально сообщаем, — буркнул он. — А базовые условия для телепатии неизвестны нам самим.
Надин нахмурилась. Неврологией занимался Бэзил, но именно она написала программу для Мультивака, при помощи которой отслеживались генные структуры, имеющие потенциальную склонность к телепатии.
— Сейчас у нас есть два различных сочетания генов, и мы можем выявить — во всяком случае, попытаться это сделать — общие факторы, которые, в свою очередь, приведут нас к определению этих самых базовых условий, — сказала она, уходя в защиту.
— Теоретически — да, но теоретизировать мы можем до бесконечности. Если Мультивак будет работать с прежней скоростью, то за все оставшееся время существования нашего Солнца как функционирующей звезды он не успеет рассмотреть и малой доли существующих структурных вариаций генов. Не говоря уже о модификациях, определяемых их порядком в хромосомах.
— Но нам может просто повезти.
Подобные споры — оптимистические прогнозы против пессимистических — они вели не раз и не два. Отличались только детали.
— Повезти? Еще не изобретено слова, описывающего бы ту невообразимую удачу, которая нам потребуется. Хорошо, допустим, нам повезло. Очень повезло. У нас на руках аж целый миллион различных генетических кодов, говорящих о склонности человека к телепатии. Но тут возникает следующий вопрос: какова вероятность того, что у ныне живущего человека есть такая последовательность генов или нечто близкое к ней?
— Ну, можно ведь произвести модификации… — парировала Надин.
— Да неужели? Для этого уже изобретены какие-то особые процедуры? Ну, чтобы как-то модифицировать человека, который, согласно утверждениям Мультивака, потенциально предрасположен к телепатии?
— Но такие процедуры могут появиться в ближайшем будущем. Главное — чтобы Мультивак продолжал работать, фиксируя генетический код каждого новорожденного…
— Нет, есть еще кое-что главное, — перебил Бэзил. — Главное — чтобы Генетический Совет продолжал поддерживать программу. И чтобы мы по-прежнему имели доступ к Мультиваку. И чтобы…
Именно в этот момент их спор прервал Мультивак, выдав еще одну распечатку. Бэзил ошеломленно воззрился на нее.
— Глазам своим не верю… — только и смог выдавить он.
Рутинное сканирование Мультиваком зарегистрированных генетических кодов ныне живущих людей вдруг выдало результат, который соответствовал ранее разработанному образцу с высоким потенциалом к телепатии. Более того, результат не просто соответствовал, он полностью с этим кодом совпадал.
— Глазам своим не верю… — пробормотал Бэзил.
— Мы получили полное совпадение, — радостно откликнулась Надин. В борьбе с постоянным пессимизмом Бэзила ей приходилось все время занимать противоположную сторону, сторону необоснованной веры. Но сейчас Надин праздновала победу. — Мужской пол. Возраст пятнадцать лет. Имя Роланд Уошмен. Еще совсем ребенок. Плейнвью, Айова. Американский регион.
Бэзил уставился на генетический код Роланда, выданный Мультиваком, и сравнил его с кодом из теоретических выкладок.
— Нет, я не верю… — снова пробормотал он.
— Однако вот оно, лежит перед тобой.
— Ты знаешь, какова вероятность такого совпадения?
— И тем не менее код у тебя перед глазами. Вселенная существует триллионы лет. Вполне достаточно времени, чтобы случились самые невероятные совпадения.
— Нет, такого просто не может быть. — Бэзил попытался взять себя в руки. — Айова входила в те территории, которые мы изучали на предмет телепатического присутствия, но ничего там не обнаружили. Конечно, диаграмма показывает лишь потенциал к телепатии…
Бэзил предложил не спешить. Да, Генетический Совет считал телепатию одним из важнейших даров, доступных человечеству, и людей, обладающих ею, следовало разыскивать наряду с музыкальными гениями, а также с теми, кто устойчив к скачкам гравитации, не подвержен-раковым заболеваниям, обладает математической интуицией и так далее, и тому подобное (всего более нескольких сот особых способностей), однако… Популярностью в народе телепатия не пользовалась.
Каким бы удивительным ни казалось умение «проникать в чужой разум», у многих людей подобные перспективы не вызывали энтузиазма. Мысли оставались одним из главных бастионов частной жизни, и без борьбы этот бастион не сдадут. Любое недоказанное документально утверждение об открытии телепатии тут же будет опровергнуто.
Вот почему Бэзил отверг предложение Надин сразу же встретиться с юношей.
— О да, — пробормотал он, — мы заявим о том, что нам удалось найти телепата, и Совет тут же направит по его следу представителей властей, дабы опровергнуть наше заявление и разрушить наши научные карьеры. Сначала нужно постараться побольше о нем узнать.
Разочарованная Надин могла лишь утешать себя мыслью о том, что в компьютеризированном обществе каждый человек с момента зачатия оставляет за собой великое множество самых разных следов и что всю эту информацию можно собрать быстро и без особых усилий.
— Хм-м-м, — заметил Бэзил, — а в школе у него особых успехов нет.
— Эго может оказаться хорошим знаком, — ответила Надин. — Телепатические способности отнимают существенную часть ресурсов мозга, оставляя мало свободных участков для абстрактного мышления. Возможно, именно по этой причине телепатия и не получила развития у людей. Низкий интеллект мешал таким особям выживать.
— Однако он вовсе не idiot savante[1]. Просто обладает способностями ниже среднего.
— Возможно.
— Замкнутый. С трудом заводит друзей. Скорее одиночка.
— Очень подходит, — взволнованно сказала Надин. — Любые ранние проявления телепатии должны пугать, огорчать и сердить окружающих. Подросток, не имеющий жизненного опыта, мог случайно, без какого-либо злого умысла раскрыть чужие планы, за что его почти наверняка били сверстники. Естественно, он должен был уйти в себя.
Они довольно долго изучали полученную информацию, пока Бэзил не сказал:
— Ничего! О нем почти ничего не известно; у нас нет никаких оснований считать, что он телепат. Нет даже указаний на то, что его считают «странным». На него попросту не обращают внимания.
— Совершенно верно! Реакция окружения вынуждает его с ранних лет скрывать свои телепатические способности, а позднее — избегать ненужного внимания. Просто удивительно, как все сходится.
Бэзил с неудовольствием посмотрел на Надин.
— Ты во всем видишь романтическую сторону. Послушай меня! Ему пятнадцать, а это немало. Предположим, он родился с некоторыми телепатическими способностями и научился их скрывать еще с младых ногтей. В таком случае его дар давно атрофировался и исчез. Это самое вероятное развитие событий, ведь в противном случае, останься он полным телепатом, его способности не могли не привлечь внимания. Он бы так или иначе проявил себя.
— Не согласна, Бэзил. В школе он предоставлен самому себе и старается лишний раз не высовываться…
— Вот именно! Л кем бы стал умник телепат, да еще и мальчишка? Козлом отпущения!
— Но я же сказала! Он знает, какие опасности ему грозят, и старается держаться подальше от детей и взрослых. Летом работает помощником садовника, что позволяет ему избегать больших скоплений людей.
— Однако он встречается с тем же садовником, и с работы его до сих пор не выгнали. Пацан уже третье лето подряд там работает, а если бы он был телепатом, садовник наверняка постарался бы от него избавиться. Очень близко, но мы вытянули пустышку. Опоздали. Нам нужен новорожденный ребенок с таким же генетическим кодом. Вот в таком случае у нас есть шанс — может быть.
Надин провела рукой по своим редеющим светлым волосам и устало вздохнула.
— Ты сознательно отказываешься браться за решение проблемы, отрицая сам факт ее существования. Почему бы нам не поговорить с садовником? Если ты согласен отправиться в Айову, я даже готова оплатить самолет. Тебе не придется брать деньги из финансирования проекта, если именно это тебя беспокоит.
Бэзил вскинул руку.
— Нет-нет, проект может себе это позволить, но вот что я тебе скажу. Если мы не найдем у парня никаких следов телепатических способностей, ты поведешь меня в ресторан. По моему выбору.
— Договорились, — сразу согласилась Надин. — Ты даже можешь пригласить жену.
— Ты проиграешь.
— Мне все равно. Главное — не опускать руки раньше времени.
Садовник не испытывал ни малейшего желания общаться. Он видел в двух незваных гостях представителей правительства и заранее относился к ним настороженно. Даже когда они назвались учеными, это ничего не изменило. А после того, как Надин начала задавать вопросы о Роланде, ответы стали и вовсе враждебными.
— Почему вас интересует Роланд? Он что-нибудь натюрил?
— Нет-нет, — улыбнулась Надин, пытаясь завоевать симпатию садовника. — Он может получить грант на продолжение образования, вот и все.
— Какого еще образования? В садовом деле?
— Мы сами еще точно не знаем.
— В земле он копаться умеет, а больше Роланд ни на что не пригоден. Но лучшего помощника у меня не было. Ему ничему не нужно учиться.
Надин одобрительно оглядела теплицу и ровные ряды растений снаружи.
— Это все его рук дело?
— Именно, — сказал садовник. — Без него я бы не справился. Но больше он ничего не умеет.
— А почему вы так считаете, сэр? — вмешался Бэзил.
— Он не слишком умен. Однако у него есть талант. Он что угодно может вырастить.
— А вы не замечали в нем никаких странностей?
— Что вы имеете в виду?
— Ну, чего-нибудь необычного… Непривычного…
— Такие хорошие садовники встречаются редко, в этом паренек действительно необычен. Но я не жалуюсь.
— И ничего больше?
— Ничего. А что вас интересует, мистер?
— Я и сам точно не знаю, — ответил Бэзил.
Вечером того же дня Надин сказала:
— Нужно понаблюдать за мальчиком.
— Зачем? Что из услышанного нами придало тебе надежды?
— Предположим, ты прав. Предположим, его телепатические способности атрофировались. Но все равно что-то ведь могло остаться.
— И что с того? Зачатки телепатических способностей вряд ли произведут сенсацию. И доказательств мы все равно не добудем. Целое столетие люди этим занимаются. Начиная с Райна[2] и иже с ним.
— Даже если мы не сумеем представить миру доказательства, что с того? А мы сами? Для нас-то важно получить доказательство утверждению Мультивака, который пришел к выводу, что обладатель подобного генетического кода обладает потенциальными способностями к телепатии. Если это так, то твой теоретический анализ и моя программа верны. Разве ты не хочешь устроить проверку своим теориям и найти им подтверждение? Или боишься, что этого не произойдет?
— Ничего я не боюсь. Просто жаль времени, потраченного зря.
— Я прошу тебя сделать лишь один тест, не больше. Послушай, нам все равно нужно повидать его родителей, чтобы задать им несколько вопросов. Они ведь знали Роланда, когда он был еще совсем ребенком и обладал телепатическими способностями в полной мере. А потом мы попросим разрешения на тест со случайными числами. Если у Роланда ничего не получится, на этом закончим. И не станем больше терять время.
Родители Роланда оказались людьми флегматичными и не сообщили ничего интересного. Они выглядели такими же заторможенными и замкнутыми, каким, судя по отзывам, был сам Роланд.
Нет, когда их сын был совсем малышом, они не замечали в нем ничего странного. Сильный, здоровый и трудолюбивый мальчик, который зарабатывает летом хорошие деньги, а в остальное время исправно посещает школу. И у него никогда не было никаких проблем с полицией.
— А можно, мы устроим ему тест? — спросила Надин. — Простой тест?
— Зачем? — удивился отец. — Я не хочу, чтобы его беспокоили.
— Это государственная программа. Мы тестируем пятнадцатилетних мальчиков по всей стране. В целях улучшения системы образования.
Уошмен покачал головой.
— Я не хочу, чтобы моего мальчика дергали понапрасну.
— Кстати, вам следует знать, что за каждый такой тест мы выплачиваем по двести пятьдесят долларов, — намекнула Надин. На Бэзила она старалась не смотреть: и так знала, что губы его сейчас превратились в две тонкие гневные полоски.
— По двести пятьдесят долларов?
— Ага, — кивнула Надин, продолжая давить. — Тест отнимает некоторое время, и правительство считает нужным оплачивать его.
Уошмен бросил быстрый взгляд на жену, и та кивнула.
— Ну, если мальчик не против, то и мы возражать не станем… — пробормотал он.
Роланд Уошмен был высоким пареньком, хорошо сложенным для своего возраста, но от его сильного тела никакой угрозы не исходило. Доброжелательный, с темными спокойными глазами, которые внимательно смотрели на мир с загорелого лица.
— И что я должен делать, мистер? — спросил он.
— Эго очень просто, — ответил Бэзил. — У тебя будет небольшое устройство с написанными на нем цифрами от нуля до девяти. Всякий раз, когда загорается красный огонек, тебе следует нажимать на одну из цифр.
— На какую, мистер?
— А на какую захочешь. Достаточно нажать один раз, и огонек погаснет. А после того как огонек загорится снова, нужно нажать на другую цифру, и так далее, пока огонек не перестанет загораться. Леди будет делать то же самое. Мы с тобой сядем на противоположных сторонах стола, а леди займет место за маленьким столиком, спиной к нам. Главное — не думай. Просто нажимай на первую попавшуюся цифру.
— Но как можно нажимать, не думая, мистер? Тут обязательно нужно подумать.
— Возможно, у тебя появится какое-то предчувствие… Скажем, тебе захочется нажать на восемь или на шесть. Или на какую другую цифру. Один раз ты нажмешь два, второй — три, а третий — девять или еще раз два. Как пожелаешь.
Роланд немного поразмыслил, а потом кивнул.
— Я попытаюсь, мистер. Надеюсь, это не займет много времени, поскольку я не вижу никакого смысла в таком занятии.
Бэзил незаметно поправил наушник в левом ухе, после чего бросил на Роланда быстрый взгляд. Голос в левом ухе прошептал:
— Семь.
И Бэзил подумал: «Семь».
На устройстве Роланда и на аналогичном устройстве Надин загорелся огонек, и оба нажали какую-то из цифр.
Так и продолжалось: 6, 2, 2, 0, 4, 3, 6, 8…
Наконец Бэзил сказал:
— Достаточно, Роланд.
Они отсчитали отцу Роланда пять банкнот по пятьдесят долларов и отбыли.
Зайдя в номер мотеля, Бэзил привалился спиной к стене. Разочарование боролось в нем с удовлетворением: «Ну, я же тебе говорил!»
— Абсолютно ничего, — сказал он. — Нулевая корреляция Компьютер генерировал серию случайных чисел, Роланд делал то же самое, и серии не имели ничего общего. Он ничего не сумел извлечь из моего мыслительного процесса.
— А если, — предположила Надин с угасающей надеждой, — он все-таки прочел твои мысли, но умело это скрыл?
— Ты и сама понимаешь, что это не так. Если бы он сознательно нас обманывал, его промахи были бы слишком осознанными. Его несовпадения противоречили бы закону вероятности. Кроме того, ты также генерировала серию чисел, и у тебя не было возможности читать мои мысли, а он не мог читать твои. С двух сторон его атаковали две различные серии чисел, но в обоих случаях мы получили нулевую корреляцию — как позитивную, так и негативную. Это невозможно сымитировать. Мы должны признать неоспоримый факт — он не обладает даром телепатии, удача от нас отвернулась. Конечно, мы будем продолжать поиски, но вероятность того, что мы наткнемся на нечто похожее…
Он безнадежно пожал плечами.
Роланд стоял во дворе и смотрел вслед уходящим Бэзилу и Надин. Наконец их машина укатила прочь.
Он был напуган. Сначала они поговорили с его боссом, потом с родителями… Он уж думал, что его вычислили.
Но как? Нет, это было абсолютно невозможно. И все же почему они проявили к нему такой интерес?
Этот тест с набором чисел его встревожил, хотя он сначала не понимал его сути. Лишь потом догадался. Судя по всему, они решили, что он способен слышать человеческие голоса у себя в голове. И пытались проверить это на числах.
Разумеется, у них ничего не вышло. Откуда он мог знать, что они думают? Он никогда не знал, что думают люди. Не умел слышать их мысли. Никогда!
Роланд тихо рассмеялся. Люди всегда думают только о себе. Человек — вот что главное, все остальное вторично.
А затем в его голове прозвучал тонкий пронзительный голосок:
«Когда?.. Когда?.. Когда?..»
Роланд повернул голову. Он знал, что к нему летит пчела. Но слышал он не пчелу — с ним говорил улей.
Всю свою жизнь он слышал мысли пчел, а они могли слышать Роланда. Это было замечательно. Они опыляли его растения, но никогда не употребляли их в пищу, поэтому все, к чему бы он ни прикоснулся, так замечательно росло.
Вот только они хотели большего. Хотели иметь вождя; кто-то должен был сказать им, как оттеснить в сторону человечество. Роланд размышлял на эту тему. Одних пчел было мало, но что, если поговорить с другими животными? Если научиться слышать их всех? Получится ли?
Пчел он слышал без труда. Как и муравьев. Они обладали коллективным разумом. А недавно он научился слышать ворон. Раньше он не мог с ними общаться. Также потихоньку он начал различать мысли домашнего скота, хотя там нечего было особо различать.
Кошки? Собаки? Жуки и птицы?
Что тут можно сделать? Как далеко он сумеет зайти?
Учитель однажды сказал ему, что он не использует весь свой потенциал.
«Когда?.. Когда?.. Когда?..»— думали пчелы.
«Еще рано… Еще рано… Еще рано…» — думал в ответ Роланд.
Сначала он должен достичь своего потенциала.
перевод В. Гольдича, И. ОганесовойВсе грехи мира
Главные отрасли промышленности Земли работали на Мултивак — исполинскую вычислительную машину, которая за пятьдесят лет выросла до невиданных размеров и, заполнив Вашингтон с его предместьями, протянула бесчисленные щупальца во все большие и малые города мира.
Целая армия гражданских служащих непрерывно снабжала Мултивак информацией, другая армия уточняла и интерпретировала получаемые от него данные. Корпус инженеров поддерживал порядок во внутренностях машины, а рудники и заводы выбивались из сил, стараясь, чтобы резервные фонды бесперебойно пополнялись безупречными запасными деталями.
Мултивак управлял экономикой Земли и оказывал помощь науке. И, что важнее всего, он служил справочным центром, источником любых сведений о любом жителе земного шара. Помимо всего прочего, Мултивак должен был ежедневно обрабатывать данные о четырех миллиардах людей, населяющих Землю, и экстраполировать эти данные на сутки вперед.
Каждый из многочисленных Отделов контроля и управления получал от Мултивака сведения, соответствующие его профилю, а потом уже в виде суммарного отчета они поступали в Вашингтон, в Центральный совет контроля и управления.
Уже четвертую неделю Бернард Галлимен занимал пост председателя Центрального совета контроля и управления (председатель избирался на год). Он настолько свыкся с утренними отчетами, что они больше не пугали его. Как обычно, отчет представлял собой стопу бумаг толщиной около пятнадцати сантиметров. Галлимен уже знал, что от него и не требуется читать все подряд (ни один человек не в силах был бы это делать). Но заглянуть в них было все-таки любопытно.
Как всегда, в отчете находился и список предугадываемых преступлений: всякого рода мошенничества, кражи, нарушения общественного порядка, непредумышленные убийства, поджоги. Галлимен поискал глазами единственный интересующий его заголовок и ужаснулся, найдя его в отчете. Затем ужаснулся еще больше, увидев против заголовка цифру два. Да, не один, а целых два, два случая убийства первой категории! За все то время, что он был председателем, ему еще не встречалось два предполагаемых убийства за один день.
Он ткнул пальцем в кнопку двухсторонней внутренней связи и стал ждать, когда на экране видеофона появится гладко выбритое лицо главного координатора.
— Али, — сказал Галлимен, — сегодня два убийства первой категории. Что это значит? Возникла какая-нибудь необычная проблема?
— Нет, сэр. — Смуглое лицо с черными проницательными глазами показалось Галлимену неспокойным. — В обоих случаях выполнение весьма мало вероятно.
— Знаю, — ответил Галлимен. — Я заметил, что вероятность в обоих случаях не превышает пятнадцати процентов. Все равно, репутацию Мултивака надо поддержать. Он фактически ликвидировал преступления, а общественность судит об этом по количеству убийств первой категории, — это преступление, как известно, самое эффектное.
Али Отман кивнул.
— Да, сэр, я вполне это сознаю.
— Надеюсь, вы сознаете также, что, пока я занимаю этот пост, ни одно подобное убийство не должно иметь места. Если проскочит любое другое преступление, я готов посмотреть на это сквозь пальцы. Но если кто-нибудь совершит убийство первой категории, я с вас шкуру спущу. Поняли?
— Да, сэр. Подробные анализы потенциальных убийств уже переданы в районные учреждения по месту ожидаемых преступлений. Потенциальные преступники и жертвы находятся под наблюдением. Я еще раз подсчитал вероятность осуществления убийств — она уже понижается.
— Отлично, — произнес Галлимен и отключился.
Он вернулся к списку, но его не оставляло неприятное ощущение, что, пожалуй, он взял чересчур начальнический тон. Что делать, с этими постоянными служащими приходится проявлять строгость, чтобы они не вообразили, будто заправляют решительно всем, включая председателя. Особенно Отман, он работает с Мултиваком с того времени, когда оба они были еще совсем молодыми. У него такой вид, будто Мултивак — его собственность. Есть от чего прийти в бешенство…
Для Галлимена ликвидация преступлений первой категории была вопросом его политической карьеры. До сих пор ни у одного председателя не обходилось без того, чтобы в то или иное время в каком-нибудь уголке Земли не произошло убийство. Предыдущий председатель подошел к концу срока с восемью убийствами — на три больше (больше — подумать страшно), чем при его предшественнике.
Галлимен твердо решил, что на его счету не окажется ни одного. Он будет первым председателем без единого убийства за весь срок. Если к этому добавить еще благоприятное общественное мнение, то…
Остальную часть отчета он едва пробежал. Подсчитал мимоходом, что в списке стояло по меньшей мере 2000 предполагаемых случаев нанесения побоев женам. Несомненно, не все случаи удастся предотвратить. Возможно, процентов тридцать и будет осуществлено. Но таких случаев неизменно становилось все меньше и меньше, а выполнить задуманное удавалось все реже и реже.
Мултивак лишь пять лет назад присоединил нанесение побоев женам к числу предугадываемых преступлений, и далеко не каждый мужчина успел привыкнуть к мысли, что, если ему придет в голову поколотить свою жену, это будет известно заранее. По мере того как эта мысль станет укореняться в сознании общества, женщинам будет доставаться все меньше тумаков, а в конце концов они и вовсе перестанут их получать.
Нанесение побоев мужьям тоже фигурировало в отчете, правда в небольшом количестве.
Али Отман отключился, но продолжал сидеть, не сводя глаз с экрана, на котором уже исчезла лысая голова Галлимена и его двойной подбородок. Затем перевел взгляд на своего помощника Рейфа Лими и сказал:
— Так как же нам быть?
— Не спрашивайте. И он еще беспокоится из-за каких-то двух пустяковых убийств, когда…
— Мы отчаянно рискуем, взявшись уладить это собственными силами. Но, если мы ему скажем, его от ярости хватит удар. Этим выборным деятелям приходится все время думать о своей шкуре. Галлимен непременно вмешается и все испортит.
Лими кивнул и прикусил толстую нижнюю губу.
— Да, но что если мы дадим маху? Это, знаете, будет грозить концом света.
— Если мы дадим маху, тогда не все ли равно, что будет с нами? Нас просто втянет во всеобщую катастрофу. — И добавил уже бодрее: — Черт побери, как-никак вероятность не выше двенадцати и трех десятых процента. В любом другом случае, кроме, пожалуй, убийства, мы дали бы вероятности немного возрасти, прежде чем принимать те или иные меры. Ведь не исключено и самопроизвольное исправление.
— Вряд ли на это стоит рассчитывать, — суховато заметил Лими.
— Да я и не рассчитываю. Просто констатирую факт. Во всяком случае, при той степени вероятности, какая наблюдается сейчас, я предлагаю ограничиться простым наблюдением. Подобные преступления не задумывают в одиночку, где-то должны быть сообщники.
— Но Мултивак никого не назвал.
— Знаю. Но все же… — он не закончил фразы.
Так они сидели и изучали подробности того преступления, которое не было включено в список, врученный Галлимену. Преступления во сто крат более страшного, чем убийство первой категории. Преступления, на которое за всю историю Мултивака не отваживался ни один человек. И мучительно думали, как им поступить.
Бен Мэннерс считал себя самым счастливым из всех шестнадцатилетних подростков Балтимора. Возможно, он преувеличивал. Но зато уж наверняка он был одним из самых счастливых и самых взбудораженных.
Он входил в горстку тех, кого допустили на галереи стадиона во время торжественного приведения к присяге восемнадцатилетних. Присягу должен был давать его старший брат, и их родители заранее заказали билеты на церемонию и позволили сделать то же Бену. Но, когда Мултивак стал отбирать гостей, как ни странно, из всей семьи Мэннерсов его выбор пал именно на Бена.
Через два года Бену и самому предстояло присягать, но наблюдать, как это делает старший брат, Майкл Мэннерс, было почти так же интересно. Родители тщательно проследили за процедурой одевания Бена, чтобы представитель семьи не ударил в грязь лицом. Потом отправили, снабдив уймой наставлений для Майкла, который уехал из дому несколько дней назад, чтобы пройти предварительный врачебный и неврологический осмотр.
Стадион находился на окраине города. Бена, которого распирало от сознания своей значительности, провели на место. Ниже, ряд за рядом, сидели сотни и сотни восемнадцатилетних (мальчики направо, девочки налево) — все были из второго округа Балтимора. В разное время года подобные торжества проходили по всей Земле, но здесь был родной Балтимор, и, конечно, это самое главное торжество. Где-то там, внизу, сидел и Майкл, брат Бена.
Бен обводил взглядом затылки, надеясь высмотреть брата. Разумеется, это ему не удалось. Но тут на высокий помост, установленный перед трибунами, поднялся человек, и Бен перестал вертеть головой, приготовившись слушать.
Человек заговорил:
— Добрый день, участники торжества и гости. Я — Рэндолф Хоч. В этом году я отвечаю за балтиморские церемонии. С их участниками я уже неоднократно встречался в ходе врачебных и неврологических исследований. Большая часть задач выполнена, но главное еще впереди. Личность дающего присягу должна быть зарегистрирована Мултиваком.
Ежегодно эту процедуру приходится разъяснять молодежи, достигающей совершеннолетия. До сих пор, — он обращался теперь только к сидящим перед ним и перестал смотреть на галерею, — вы не были взрослыми людьми, не были личностями в глазах Мултивака, если только по какому-то особому поводу кого-либо из вас не выделяли как личность ваши родители или правительство.
До сих пор, когда приходило время ежегодного обновления информации о населении, необходимые сведения о вас давали ваши родители. Теперь настала пора, когда вы должны взять эту обязанность на себя. Это большая честь, но и большая ответственность. Ваши родители рассказали нам, в какой школе вы учились, какими болезнями болели, каковы ваши привычки — словом, массу подробностей. Но вы поведаете нам сейчас гораздо больше: ваши сокровенные мысли, ваши тайные, никому не известные поступки.
Поначалу это нелегко, даже тягостно, но это необходимо сделать. Тогда Мултивак сможет дать исчерпывающий анализ каждого из вас. Мултиваку будут ясны ке только все ваши поступки и желания, но он даже сможет с достаточной точностью предугадывать многие из них.
И благодаря всему этому Мултивак станет охранять вас. Если вам будет грозить несчастье, Мултивак узнает об этом заранее. Если кто-нибудь задумает против вас недоброе, это станет известно. Если вы задумаете недоброе, он тоже будет знать, и вас вовремя остановят, так что не возникнет необходимости применять наказание.
Располагая сведениями обо всех вас, Мултивак поможет человечеству управлять экономикой и использовать законы Земли для всеобщего блага. Если вас будет мучить какой-нибудь личный вопрос, вы придете с ним к Мултиваку, и он вам поможет.
Сейчас вам придется заполнить много анкет. Тщательно продумывайте ответы, чтобы они были как можно точнее. Пусть вас не останавливает стыд или осторожность. Никто, кроме Мултивака, никогда не узнает о ваших ответах, если только не придется ознакомиться с ними, для того чтобы охранять вас. Но и тогда они станут известны только специальным уполномоченным.
Вам, может быть, захочется кое-где извратить правду. Не делайте этого. Мы все равно обнаружим обман. Все ваши ответы, взятые вместе, создадут определенную картину. Если некоторые из ответов не будут правдивы, они выпадут из общей картины, и Мултивак выявит это. Если все ответы будут неправильны, полупится искаженное представление о человеке, и Мултивак без труда изобличит обман. Поэтому говорите только правду.
Но вот все было закончено: заполнение айкет, последующие церемонии, речи. И тогда Бен, стоя на цыпочках, все-таки увидел Майкла: тот все еще держал в руках одежду, которая была на нем во время «парада совершеннолетних». Братья радостно кинулись друг к другу.
Поужинав, они отправились по скоростной автостраде домой, оживленные, взбудораженные событиями дня.
Они совсем не были подготовлены к тому, что ожидало их дома. Оба были ошеломлены, когда перед входной дверью их остановил бесстрастный молодой человек в форме, когда у них потребовали документы, прежде чем впустить в родной дом, когда они увидели родителей, с потерянным видом одиноко сидящих в столовой.
Джозеф Мэннерс постарел за один день, глаза у него глубоко запали. Он недоумевающе посмотрел на сыновей и сказал:
— По-видимому, я под домашним арестом.
Бернард Галлимен не стал читать отчета целиком. Он прочел только сводку, и она бесконечно обрадовала его.
Для всех людей стала привычной мысль, что Мултивак способен предугадать совершение серьезных преступлений. Люди знали, что агенты Отдела контроля и управления окажутся на месте преступления раньше, чем оно будет совершено. Они усвоили, что любое преступление неизбежно повлекло бы за собой наказание. И постепенно у них выработалось убеждение, что нет никаких способов перехитрить Мултивак.
В результате редкостью стали даже преступные умыслы. По мере того как преступления замышлялись все реже, а емкость памяти Мултивака становилась все больше, к списку предугадываемых преступлений присоединялись более мелкие проступки, число которых в свою очередь все уменьшалось.
И вот недавно Галлимен приказал выяснить, способен ли Мултивак заняться еще и проблемой предугадывания заболеваний, и выяснить это, естественно, должен был сам Мултивак. Тогда внимание врачей можно было бы обратить на тех пациентов, которым в следующем году грозит опасность заболеть диабетом, раком или туберкулезом.
Береженого, как известно…
Отчет был очень благоприятным.
Наконец получили список возможных преступлений на этот день — опять-таки ни одного убийства первой категории!
В приподнятом настроении Галлимен вызвал Али Отмана.
— Отман, каково среднее число преступлений в ежедневном списке за истекшую неделю, если сравнить его с первой неделей моего председательства?
Оказалось, что среднее число снизилось на восемь процентов. Галлимен почувствовал себя на седьмом небе. От него это, правда, не зависит, но ведь избиратели этого не знают. Он благословлял судьбу за то, что ему посчастливилось вступить в должность в удачную эпоху, в самый расцвет деятельности Мултивака, когда даже от болезней можно укрыться под защитой его всеобъемлющего опыта.
Галлимен сделает на этом карьеру.
Отман пожал плечами.
— Как видите, он счастлив.
— Когда же мы ему все выложим? — спросил Лими. — Мы установили наблюдение за Мэннерсом — и вероятность возросла, а домашний арест дал новый скачок.
— Что я, сам не знаю? — раздраженно ответил Отман. — Мне не известно только одно: отчего такое происходит.
— Может быть, как вы и предполагали, дело в сообщниках? Мэннерс попался, вот остальные и понимают, что нужно нанести удар сразу либо никогда.
— Как раз наоборот. Из-за того, что один у нас в руках, остальные должны разбежаться кто куда. Кстати, почему Мултивак никого не назвал?
Лими пожал плечами.
— Так что же, скажем Галлимену?
— Подождем еще немного. Вероятность пока — семнадцать и три десятых процента. Сначала попытаемся принять более решительные меры.
Элизабет Мэннерс сказала младшему сыну:
— Иди к себе, Бен.
— Но что случилось, ма? — прерывающимся голосом спросил Бен, убитый тем, что этот чудесный день завершился такими невероятными событиями.
— Прошу тебя!
Он неохотно вышел из комнаты, топая ногами, поднялся по лестнице, потом бесшумно спустился обратно.
А Майкл Мэннерс, старший сын, новоиспеченный взрослый мужчина и надежда семьи, повторил точно таким же тоном, что и брат:
— Что случилось?
Джо Мэннерс ответил ему:
— Бог свидетель, сын мой, не знаю. Я не сделал ничего дурного.
— Ясно, не сделал. — Майкл в недоумении взглянул на своего тщедушного кроткого отца. — Они, наверно, явились сюда из-за того, что ты что-то задумал.
— Ничего я не задумывал.
Тут вмешалась возмущенная миссис Мэннерс:
— О чем ему надо было думать, чтобы заварилось такое? — Она повела рукой, указывая на цепь охранников вокруг дома. — Когда я была маленькой, помню, отец моей подруги служил в банке. Однажды ему позвонили и велели не трогать денег. Он так и сделал. Денег было пятьдесят тысяч долларов. Он вовсе не брал их. Только подумывал, не взять ли. В те времена все делалось не так тихо, как теперь. История вышла наружу, и я тоже услышала о ней.
— Но я хочу сказать вот что, — продолжала она, заламывая руки, — тогда речь шла о пятидесяти тысячах. Пятьдесят тысяч долларов… И тем не менее они всего-навсего позвонили тому человеку. Один телефонный звонок — и все. Что же такое мог задумать ваш отец, ради чего стоило бы присылать больше десятка охранников и изолировать наш дом от всего мира?
В глазах Джо Мэннерса застыла боль. Он произнес:
— Клянусь вам, у меня и в мыслях не было никакого преступления, даже самого незначительного.
Майкл, исполненный сознания своей новоприобретенной мудрости совершеннолетнего, сказал:
— Может, тут что-нибудь подсознательное, па? Наверно, ты затаил злобу против своего начальника.
— И потому хочу его убить? Нет!
— И они не говорят, в чем дело, па?
— Нет, не говорят, — опять вмешалась мать. — Мы спрашивали. Я сказала, что одним своим присутствием они губят нас в глазах общества. Они по крайней мере могли бы сказать, в чем дело, чтобы мы сумели защищаться, объяснить.
— А они не говорят?
— Не говорят.
Майкл стоял, широко расставив ноги, засунув руки глубоко в карманы. Он обеспокоенно произнес:
— Слушай, ма, Мултивак никогда не ошибается.
Отец беспомощно уронил руку на подлокотник дивана.
— Говорю тебе, я не думаю ни о каком преступлении.
Дверь без стука открылась, и в комнату энергичным, уверенным шагом вошел человек в форме. Лицо его было холодно и официально.
— Вы Джозеф Мэннерс?
Джо Мэннерс поднялся.
— Да. Что вы еще от меня хотите?
— Джозеф Мэннерс, по распоряжению правительства вы арестованы. — И он показал удостоверение офицера Отдела контроля и управления. — Я вынужден просить вас отправиться со мной.
— Но почему? Что я сделал?
— Я не уполномочен обсуждать этот вопрос.
— Допустим даже, что я задумал преступление, нельзя арестовать за одну только мысль о нем. Для этого я должен действительно совершить преступление. Иначе арестовать нельзя. Это противоречит закону.
Но агент оставался глух ко всем доводам.
— Вам придется отправиться со мной.
Миссис Мэннерс вскрикнула и, упав на диван, истерически зарыдала.
У Джозефа Мэннерса не хватило смелости оказать прямое сопротивление агенту — это значило бы нарушить законы, к которым его приучали всю жизнь. Но все же он стал упираться, и офицеру пришлось, прибегнув к силе, тащить его за собой. Голос Мэннерса был слышен даже за дверью:
— Скажите мне, в чем дело? Только скажите. Если бы я знал… Это убийство? Скажите, предполагают, что я замышляю убийство?
Дверь захлопнулась. Побледневший Майкл Мэннерс совсем по-детски, растерянно поглядел сперва на дверь, а потом на плачущую мать.
Стоявший за дверью Бен Мэннерс внезапно почувствовал себя главой семьи и решительно сжал губы, твердо зная, как ему поступить.
Если Мултивак отнимал, то он мог и давать. Только сегодня Бен присутствовал на торжестве. Он слышал, как тот человек, Рэндолф Хоч, рассказывал про Мултивак и про то, что он может делать. Он отдает приказания правительству и в то же время не игнорирует простых людей и выручает их, когда они обращаются к нему за помощью. Любой может просить помощи у Мултивака, а любой — это значит и Бен. Ни матери, ни Майклу не удержать его. У него есть немного денег из тех, что были ему даны на сегодняшний праздник. Если позднее они хватятся его и будут волноваться, — что ж, ничего не поделаешь. Сейчас для него на первом месте отец.
Он вышел с черного хода. Караульный в дверях проверил документы и пропустил его.
Гарольд Куимбн заведовал сектором жалоб на балтиморской подстанции Мултивака. Этот отдел гражданской службы Куимбн считал самым важным. Отчасти он был, пожалуй, прав; во всяком случае, когда Куимби рассуждал на эту тему, почти никто не мог остаться равнодушным.
Во-первых, как сказал бы Куимби, Мултивак, по сути дела, вторгается в частную жизнь людей. Приходится признать, что последние пятьдесят лет мысли и побуждения человека больше не принадлежат ему одному, в душе у него нет таких тайников, которые можно было бы скрыть. Но человечеству требуется что-то взамен утраченного. Конечно, мы живем в условиях материального благополучия, покоя и безопасности, но все-таки эти блага — нечто обезличенное. Каждый мужчина, каждая женщина нуждаются в каком-то личном вознаграждении за то, что они доверили Мултиваку свои тайны. И все получают это вознаграждение. Ведь каждый имеет доступ к Мултиваку, которому можно свободно доверить все личные проблемы и вопросы, без всякого контроля и помех, и буквально через несколько минут получить ответ.
В любой нужный момент в эту систему вопросов — ответов вовлекались пять миллионов цепей из квадрильона цепей Мултивака. Может быть, ответы и не всегда бывали абсолютно верны, но они были лучшими из возможных, и каждый спрашивающий знал, что это лучший из возможных ответов, и целиком на него полагался. А это было главное.
Отстояв в медленно двигавшейся очереди (на лице каждого мужчины и каждой женщины отражалась надежда, смешанная со страхом, или с волнением, или даже с болью, но всегда по мере приближения к Мултиваку надежда одерживала верх), Бен наконец подошел к Куимби.
Не поднимая глаз, Куимби взял протянутый ему заполненный бланк и сказал:
— Кабина 5-Б.
Тогда Бен спросил:
— А как задавать вопросы, сэр?
Куимби с некоторым удивлением поднял голову. Подростки, как правило, не пользовались службой Мултивака. Он добродушно сказал:
— Приходилось когда-нибудь это делать, сынок?
— Нет, сэр.
Куимби показал модель, стоявшую у него на столе.
— Там будет такая штука. Видишь, как она работает? В точности, как пишущая машинка. Ничего не пиши от руки, пользуйся клавишами. А теперь иди в кабину 5-Б. Если понадобится помощь, просто нажми красную кнопку — кто-нибудь придет. Направо, сынок, по этому проходу.
Он следил за мальчиком, пока тот не скрылся, потом улыбнулся. Еще не было случая, чтобы кого-нибудь не допустили к Мултиваку. Конечно, всегда находятся людишки, которые задают нескромные вопросы о жизни своих соседей или о разных известных лицах. Юнцы из колледжей пытаются перехитрить преподавателей или считают весьма остроумным огорошить Мултивак, поставив перед ним парадокс Рассела о множестве всех множеств, не содержащих самих себя в качестве своего элемента.[9]
Но Мултивак может справиться со всем этим сам. Помощь ему не требуется. Кроме того, все вопросы и ответы регистрируются и добавляются к совокупности сведений о каждом отдельном индивидууме. Любой, даже самый пошлый или самый дерзкий вопрос, поскольку он отражает индивидуальность спрашивающего, идет на пользу, помогая Мултиваку познавать человечество.
Подошла очередь пожилой женщины, изможденной, костлявой, с испуганным выражением в глазах, и Куимби занялся ею.
Али Отман мерял шагами свой кабинет, с каким-то отчаянием вдавливая каблуки в ковер.
— Вероятность все еще растет. Уже двадцать два и четыре десятых процента! Проклятье! Джозеф Мэннерс арестован и изолирован, а вероятность все поднимается!
Он обливался потом.
Лими отвернулся от видеофона.
— Признание до сих пор не получено. Сейчас Мэннерс проходит психические испытания, но никаких признаков преступления нет. Похоже, что он говорит правду.
— Выходит, Мултивак сошел с ума? — возмутился Отман.
Зазвонил другой аппарат. Отман обрадовался передышке. На экране возникло лицо агента Отдела контроля и управления.
— Сэр, будут ли какие-нибудь новые распоряжения относительно Мэннерсов? Или им можно по-прежнему приходить и уходить?
— Что значит «по-прежнему»?
— В первоначальных инструкциях речь шла только о домашнем аресте Джозефа Мэннерса. Остальные члены семьи не упоминались, сэр.
— Ну так распространите приказ на остальных до получения других инструкций.
— Тут есть некоторое осложнение, сэр. Мать и старший сын требуют сведений о младшем сыне. Он исчез, и они утверждают, что его арестовали. Они хотят идти в Главное управление наводить справки.
Отман нахмурился и произнес почти шепотом:
— Младший сын? Сколько ему?
— Шестнадцать, сэр.
— Шестнадцать, и он исчез. Где он, неизвестно?
— Ему разрешили покинуть дом, сэр, так как не было приказа задержать его.
— Ждите у аппарата.
Отман, не разъединяя связи, выключил экран. Вдруг он обеими руками схватился за голову и застонал:
— Идиот! Какой идиот!
Лими оторопел.
— Что за черт?
— У арестованного есть шестнадцатилетний сын, — выдавил из себя Отман. — А это значит, что сын как несовершеннолетний еще не зарегистрирован Мултиваком отдельно, а только вместе с отцом, в отцовских документах. — Он с яростью взглянул на Лими. — Каждому человеку известно, что до восемнадцати лет подростки сами не заполняют анкеты для Мултивака, это делают за них отцы. Разве я об этом не знаю? Разве вы не знаете?
— Вы хотите сказать, что Мултивак имел в виду не Джо Мэннерса?
— Мултивак имел в виду младшего сына, а теперь мальчишка исчез. Вокруг дома стена из наших агентов, а он преспокойно выходит из дому и отправляется сами знаете по какому делу.
Он резко повернулся к видеофону, к которому все еще был подключен агент Отдела контроля и управления. Минутная передышка позволила Отману взять себя в руки и принять уверенный, невозмутимый вид. Не к чему было закатывать истерику на глазах у агента, хотя Отману, может, и полезно было бы дать выход бушевавшей внутри буре. Он сказал:
— Установите, где находится младший сын. Пошлите всех ваших людей. Если понадобится, привлеките всех жителей округа. Я дам соответствующие приказания. Вы обязаны во что бы то ни стало найти мальчика.
— Слушаю, сэр.
Отключившись, Отман приказал:
— А теперь проверьте вероятность, Лими.
Через несколько минут Лими произнес:
— Упала до девятнадцати и шести десятых. Упала.
Отман вздохнул с облегчением.
— Наконец-то мы на правильном пути.
Бен Мэннерс сидел в кабине 5-Б и медленно выстукивал: «Меня зовут Бенджамен Мэннерс, мой номер МБ71833412. Мой отец, Джозеф Мэннерс, арестован, но мы не знаем, какое преступление он замышляет. Как нам помочь ему?»
Он кончил и принялся ждать. В свои шестнадцать лет он уже понимал, что где-то там внутри его слова циркулируют по цепям сложнейшей из систем, когда-либо созданных человеком, понимал, что триллион данных сольются в единое целое, из него Мултивак извлечет наилучший ответ и тем самым поможет Бену.
Машина щелкнула, из нее выпала карточка — длинный-предлинный ответ. Начинался он так: «Немедленно отправляйся скоростным транспортом в Вашингтон. Сойди у Коннектикут-авеню. Там увидишь здание, найди особый вход с надписью «Мултивак», где стоит часовой. Скажи часовому, что ты нарочный, к доктору Трамбулу, он пропустит тебя. Оказавшись в коридоре, иди по нему, пока не очутишься у небольшой двери с табличкой «Внутренние помещения». Войди и скажи людям, которые там окажутся: «Донесение доктору Трамбулу». Тебя пропустят. Иди прямо…»
И так далее и так далее. Бен пока не понимал, какое это имеет отношение к его вопросу, но он безгранично верил в Мултивак. И он бегом бросился к вашингтонской автостраде.
Поиски Бена Мэннерса привели агентов Отдела контроля и управления на балтиморскую станцию Мултивака через час после того, как Бен ее покинул. Гарольд Куимби оробел, оказавшись в центре внимания такого количества важных особ, и все из-за шестнадцатилетнего мальчишки.
— Да, мальчик здесь был, — подтвердил он, — но куда он девался, не известно. Не мог же я знать, что его разыскивают. Мы принимаем всех, кто приходит. Да, конечно, получить запись вопроса и ответа можно.
Едва взглянув на запись, они, не теряя времени, передали ее по телевидению в Центральное управление,
Отман прочел ее, закатил глаза и лишился чувств, Его быстро привели в себя, и он сказал слабым голосом:
— Мальчика нужно перехватить. Сделайте для меня копию ответа Мултивака. Больше тянуть нельзя, я должен немедленно связаться с Галлименом.
Бернард Галлимен никогда не видел Али Отмана таким взволнованным. И теперь, взглянув в безумные глаза координатора, почувствовал, как по его спине пробежал холодок.
Он пробормотал, заикаясь:
— Что вы хотите сказать? Что может быть хуже убийства?
— Много хуже, чем простое убийство.
Галлимен побледнел.
— Вы имеете в виду убийство одного из важных государственных деятелей? («А что, если это я сам…» — пронеслось у него в голове.)
Отман кивнул.
— Не просто одного из деятелей, а самого главного.
— Неужели генерального секретаря? — прошептал в ужасе Галлимен.
— Хуже. Неизмеримо хуже. Речь идет об уничтожении Мултивака.
— Что?!
— Впервые в истории Мултивак доложил о том, что ему самому грозит опасность.
— Почему же меня сразу не поставили в известность?
Отман вышел из положения, отделавшись полуправдой:
— Случай беспрецедентный, сэр, мы решили расследовать дело, прежде чем поместить в отчет.
— Но теперь, разумеется, Мултивак спасен? Ведь он спасен?
— Вероятность опасности упала ниже четырех процентов. Сейчас я жду нового сообщения.
— Донесение доктору Трамбулу, — сказал Бен Мэннерс человеку на высоком табурете, который увлеченно работал, сидя перед громадой, напоминавшей во много раз увеличенный пульт управления стратокрейсера.
— Валяй, Джим, — ответил человек. — Двигай.
Бен взглянул на инструкцию и поспешил дальше. В конце концов, в ту минуту, когда в одном из индикаторов загорится красный свет, Бен найдет незаметный рычажок и передвинет его в положение «вниз».
Он услышал за своей спиной взволнованный голос, затем еще один, и вдруг его схватили под мышки и за ноги, подняли, и мужской голос сказал:
— Поехали, сынок.
Лицо Али Отмана нисколько не прояснилось при известии, что мальчик пойман, но Галлимен с облегчением заметил:
— Раз мальчик в наших руках, Мултивак в безопасности.
— До поры до времени.
Галлимен приложил ко лбу трясущуюся руку.
— Какие полчаса я пережил! Вы представляете себе, что произошло бы, если бы хоть на короткое время Мултивак вышел из строя? Крах правительства, упадок экономики! Это была бы катастрофа пострашнее, чем… — Он дернул головой. — Почему вы сказали «до поры до времени»?
— Этот мальчик, Бен Мэнкерс, не собирался причинять вред Мултиваку. Он и его семья должны быть освобождены, и придется выдать им компенсацию за ошибочный арест. Мальчик следовал указаниям Мултивака только потому, что хотел помочь отцу, и он этого добился. Его отец уже освобожден.
— Неужели вы хотите сказать, что Мултивак сознательно вынуждал мальчика дернуть рычаг? И при этом неминуемо должно было сгореть столько цепей, что на починку ушел бы целый месяц? То есть Мултивак готов был уничтожить себя ради освобождения одного человека?
— Хуже, сэр. Мултивак не только дал такие инструкции, но он выбрал именно семью Мэннерсов, потому что Бен Мэннерс как две капли воды походит на посыльного доктора Трамбула и мог беспрепятственно проникнуть к Мултиваку.
— Что значит «выбрал именно эту семью»?
— А то, что мальчик никогда бы сам не пошел со своим вопросом к Мултиваку, если бы его отца не арестовали. Отца не арестовали бы, если бы Мултивак не обвинил его в преступных замыслах относительно самого Мултивака. Собственные действия Мултивака дали толчок событиям, которые чуть не привели к его гибели.
— Но в этом нет никакого смысла, — умоляющим голосом произнес Галлимен. Он чувствовал себя маленьким и беспомощным, он как бы стоял на коленях перед Отманом, умоляя этого человека, который почти всю жизнь провел с Мултиваком, успокоить его, Галлимена.
Но Отман не стал этого делать. Он сказал:
— Насколько я знаю, со стороны Мултивака это первая попытка подобного рода. До известной степени он все продумал неплохо. Удачно выбрал семью. Намеренно не сделал различия между отцом и сыном, чтобы сбить нас с толку. Однако в этой игре он еще новичок. Он не сумел обойти им же самим установленные правила и поэтому сообщал о том, что вероятность его гибели растет с каждым шагом, сделанным нами по неправильному пути. Он не сумел утаить ответ, который дал мальчику. В дальнейшем он, вероятно, научится обманывать. Научится скрывать одни факты, не станет регистрировать другие. Начиная с этого дня каждая из его инструкций может содержать в себе семена его гибели. Нам об этом не узнать. Как бы мы ни были настороже, в конце концов Мултивак добьется своего. Мне думается, мистер Галлимен, вы будете последним председателем этой организации.
Галлимен в бешенстве стукнул кулаком по столу.
— Но почему, почему, черт вас побери? С ним что-нибудь неладно? Разве нельзя исправить его?
— Вряд ли, — ответил Отман с какой-то безнадежностью в голосе. — Я никогда раньше об этом не задумывался, просто не представлялось случая. Но теперь мне кажется, что мы подошли к концу, так как Мултивак слишком совершенен. Он стал таким сложным, что способен мыслить и чувствовать, подобно человеку.
— Вы с ума сошли. Но даже если и так, что из этого?
— Уже более пятидесяти лет мы взваливаем на Мултивак все человеческие горести. Мы заставляем его заботиться о нас, обо всех вместе и о каждом в отдельности. Навязываем ему свои тайны. Без конца упрашиваем отвести таящееся в нас самих зло. Веемы идем к нему со своими неприятностями, с каждым разом увеличивая его бремя. А теперь мы еще задумали взвалить на него бремя людских болезней.
Отман замолчал на минуту, потом взорвался:
— Мистер Галлимен, Мултивак несет на своих плечах все грехи мира — он устал!
— Бред. Настоящий бред, — пробормотал Галлимен.
— Хотите я вам кое-что покажу? Давайте я проверю свою догадку. Разрешите мне воспользоваться линией связи с Мултиваком прямо у вас в кабинете.
— Зачем?
— Я задам ему вопрос, который никто до меня не задавал.
— А это ему не повредит? — Галлимен был в панике.
— Нет. Просто он скажет нам то, что мы хотим знать.
Председатель колебался. Потом сказал:
— Давайте.
Отман подошел к аппарату, стоявшему на столе у Галлимена. Пальцы его уверенно выстукали вопрос: «Мултивак, что хочется тебе самому больше всего на свете?»
Пауза между вопросом и ответом тянулась мучительно долго. Отман и Галлимен затаили дыхание.
И вот послышалось щелканье, выпала карточка. Маленькая карточка, на которой четкими буквами было написано:
«Я хочу умереть».
перевод Н. РахмановойОн приближается!
Почти каждый год люди из «Филд Энтерпрайзес» уговаривают меня написать статью из четырех частей, которую затем проталкивают в различные газеты. А в 1978 году они вдруг обратились ко мне с просьбой написать фантастический рассказ из четырех частей, причем общим объемом не больше пяти или шести тысяч слов.
С неспокойной душой, но я все же согласился и написал рассказ, когда ехал в поезде в Калифорнию (я самый плохой в мире путешественник, и даже хорошо, что в пути мне было чем заняться).
В «Филд Энтерпрайзес» остались довольны и распространили плод моих трудов по разным изданиям.
Тем не менее в этот сборник я включил рассказ с некоторым колебанием, потому что каждая его часть начинается с краткого изложения того, что было раньше — для тех читателей газеты, которые не читали предыдущею выпуска, а если и читали, то не помнят, о чем там шла речь. Поэтому прошу вас набраться терпения и не раздражаться из-за нескольких фраз ненужного вам повторения.
Часть первая
Когда мы наконец получили весточку из Вселенной, ее послала вовсе не далекая звезда. Сигналы добирались к нам не через бескрайние просторы космоса, покрыв расстояние в световые и самые обычные годы. Произошло совсем не это.
Они рождались в нашей собственной Солнечной системе. Что-то (неизвестно что) приближалось к Земле. Оно (неизвестно что) должно было оказаться совсем рядом с нами через пять месяцев, если только оно не примет решения увеличить скорость или вообще свернуть с пути.
По крайней мере мы получили предупреждение. Если бы этот объект (неизвестно какой) появился пятьдесят лет назад — ну, скажем, в 1980 году, — его бы не удалось обнаружить так легко, а может быть, он и вовсе остался бы незамеченным. Огромный комплекс радиотелескопов, установленный в Московском Море, на обратной стороне Луны, уловил сигналы и определил место, откуда они исходят. И это проделал телескоп, работающий всего пять лет!
Однако как поступить с сигналом, должен был решить Мультивак, который сидел в своей берлоге в Скалистых горах. Астрономы смогли только сообщить, что сигналы поступают с нерегулярными промежутками времени, но в них есть какая-то система, следовательно, они содержат сообщение. Если его и можно расшифровать, то сделать это в состоянии только Мультивак.
Послание, что бы оно ни означало, было не на английском, китайском, русском или каком-нибудь другом земном языке. Микроволновые импульсы, переведенные в звуки или превращенные в картинки, никакой осмысленной информации не выдавали. Впрочем, разве должно было быть иначе? Язык, если это и в самом деле язык, явно инопланетного происхождения. А разум, стоящий за ним, если это и в самом деле разум, имеет аналогичное происхождение.
Для широкой общественности сочинили относительно правдоподобную историю. Говорили об астероиде, который — это утверждалось самым уверенным тоном — двигается по такой орбите, что ни в коем случае не столкнется с Землей.
Однако за кулисами шла напряженная работа. Представители европейских стран, собравшиеся на конференцию, считали, что нет никакой необходимости что-либо предпринимать; когда объект прибудет, мы это узнаем. Исламский регион предложил начать подготовку к обороне. Советский и американский регионы указали, согласившись друг с другом, что знание всегда предпочтительно неведению и что сигналы следует подвергнуть компьютерному анализу.
А это означало, что в дело должен вступить Мультивак.
Проблема в том, что никто по-настоящему не понимает, что такое Мультивак. Он щелкает и гудит в искусственной пещере длиной в три мили, в Колорадо, и на его выводах держится мировая экономика. Никто не знает, хорошо или плохо разбирается в экономических вопросах этот чудовищный компьютер, но ни одно человеческое существо и ни одна группа человеческих существ не рискует брать на себя ответственность за принятие экономических решений, поэтому за них отвечает Мультивак. Он находит собственные просчеты, исправляет свои ошибки, расширяет структуру. Человеческие существа обеспечивают его энергией и запасными деталями, но наступит день, когда Мультивак и это сможет делать сам.
Мы с Жозефиной и являемся связующим звеном между Мультиваком и человеческими существами. Мы корректировали программы, когда требовалось внести какие-нибудь изменения, в случае необходимости вводили новые данные, а если было нужно, интерпретировали полученные результаты.
На самом деле все это можно было делать издалека, но мир хотел жить с иллюзией, что люди контролируют работу гигантского компьютера, поэтому политика требовала, чтобы рядом с Мультиваком находился один человек.
Иными словами, Жозефина Дюрей, которая знает про Мультивак больше, чем кто-либо еще на Земле — впрочем, нельзя сказать, что это очень много. Поскольку человек, попавший в бесконечные коридоры Мультивака, быстро лишится рассудка, если будет долго оставаться там один, я составил ей компанию. Меня зовут Брюс Дюрей, я муж Жозефины, по профессии инженер-электрик, а в результате усилий моей жены — специалист по Мультиваку.
Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы сообразить: мы с Жозефиной не хотели брать на себя ответственность за расшифровку инопланетных сигналов, но только Мультивак мог в них разобраться, если это вообще возможно, а мы являлись единственным связующим звеном между Мультиваком и человеческими существами.
Впервые Мультивак должен был начать решение задачи с пустого места, поскольку в его внутренностях не имелось ничего даже отдаленно похожего на ее условия, и все трудности, с этим связанные, легли на плечи Жозефины, которой я мог лишь помогать.
— Все, что я в состоянии сделать, Брюс, так это посоветовать Мультиваку попытаться проверить все комбинации и осуществить все возможные перестановки, чтобы выявить — если они существуют — повторения или закономерности, — нахмурившись, сказала Жозефина.
Мультивак попытался. По крайней мере мы были вынуждены поверить в то, что он попытался. Но ответ пришел отрицательный. На экране и в распечатках появились одни и те же слова: «Перевод невозможен».
Через три недели Жозефина стала выглядеть на свой возраст. Задумчиво приглаживая рукой волосы, которые от этих попыток почему-то казались еще более растрепанными, она проговорила:
— Мы зашли в тупик. Нужно что-то придумать.
В этот момент мы завтракали, и я, ковыряя вилкой омлет, поинтересовался:
— Верно, только вот что?
— Брюс, я не знаю, что к нам летит, — заявила Жозефина, — но следует признать, что оно находится на более высоком технологическом уровне, чем мы. Этот объект направляется к нам откуда-то издалека; мы туда попасть не можем. Но если бы мы послали ему свои сигналы, он, может быть, смог бы их интерпретировать.
— Возможно, — согласился я с ней.
— Не «возможно», а так оно и есть! — сердито заявила Жозефина. — Что ж, пошлем ему наш сигнал. Он его поймет и отправит нам ответ в таком виде, что мы будем в состоянии его прочитать.
Моя жена позвонила министру экономики, который является нашим начальником. Тот выслушал ее, а потом сказал:
— Я не могу сделать Совету такое предложение. Они и слышать об этом не захотят. Мы не имеем права… нельзя позволить чужому объекту из космоса получить о нас хоть какую-нибудь информацию, пока мы сами не разберемся, что он собой представляет. Он даже не должен знать о нашем существовании.
— Но ведь он же знает о нашем существовании, — серьезно возразила Жозефина. — Он приближается. Какому-то инопланетному разуму, вероятно, известно о нас уже лет сто, с тех самых пор, когда разрозненные радиосигналы полетели в космос в начале двадцатого века.
— Если так, — заявил министр, — зачем посылать еще один?
— Случайные сигналы представляют собой полнейшую бессмыслицу, это всего лишь звуки. Мы должны отправить разумное сообщение, чтобы установить контакт.
— Нет, миссис Дюрей, — возразил он, — Совет ни за что с вами не согласится, и я вам рекомендую больше не выдвигать этого предложения.
И все. Он прервал связь…
— А знаешь, он прав, — глядя на пустой экран, сказал я. — Они не станут даже рассматривать такой вариант, а положение министра в их иерархии сильно пострадает, если он начнет предлагать подобные вещи.
— Они не могут мне помешать, — возмутилась Жозефина. — Я контролирую Мультивак, насколько его вообще можно контролировать, и я поручу ему послать такие сообщения, какие посчитаю нужным.
— Что приведет к нашему увольнению, тюремному заключению, смертной казни…
— Если им удастся узнать, что я это сделала. Мы должны выяснить, о чем говорится в посланиях, которые к нам поступают, а если политики боятся воспользоваться разумной идеей, я не испугаюсь.
Полагаю, мы рисковали судьбой целой планеты, однако планета была где-то далеко от нас и Скалистых гор, так что Жозефина начала штудировать научные статьи из общей энциклопедии. Наука, говорила она, является универсальным языком — чаще всего.
Некоторое время все было спокойно. Мультивак удовлетворенно клацал, но никаких особо впечатляющих результатов не выдавал. А потом, через восемь дней, сообщил нам, что характер поступающих сигналов изменился.
— Объект начал переводить наше сообщение, — сказала Жозефина, — похоже, на английский.
Еще два дня спустя Мультивак наконец выдал: «ОН ПРИБЛИЖАЕТСЯ…» Компьютер повторял это снова и снова, но ведь мы и так знали, что «он» приближается. А потом появилась новая расшифровка: «А ЕСЛИ НЕТ, ВЫ БУДЕТЕ УНИЧТОЖЕНЫ…»
После того как мы пришли в себя, Жозефина проверила правильность полученного послания несколько раз, но Мультивак твердо стоял на своем — повторял одну эту фразу и больше ничего.
— О Господи, — произнес я, — мы должны поставить в известность Совет.
— Нет! — возразила Жозефина. — Не следует этого делать, пока мы не узнаем больше. Они впадут в истерическое состояние, и их действия могут оказаться непредсказуемыми.
— Но и брать на себя ответственность мы не имеем права.
— Мы должны — на некоторое время, — заявила Жозефина.
Часть вторая
Какой-то инопланетный объект мчался сквозь Солнечную систему прямо в нашу сторону и должен был приблизиться к Земле через три месяца. Только Мультивак понимал сигналы, которые он посылал, и только Жозефина и я понимали Мультивак, гигантский компьютер, построенный на Земле.
В этих сигналах содержалась угроза уничтожения.
«ОН ПРИБЛИЖАЕТСЯ, — говорилось в сообщении, и еще: — А ЕСЛИ НЕТ, ВЫ БУДЕТЕ УНИЧТОЖЕНЫ».
Мы работали как безумные. И Мультивак тоже, так я думаю. Ведь именно ему приходилось делать все возможное для того, чтобы испробовать разные варианты перевода и найти такой, который больше всего соответствовал бы имеющимся у нас данным. Сомневаюсь, что я или Жозефина — или любое другое человеческое существо — смогли бы разобраться в том, что конкретно делал Мультивак, хотя задачу — в целом — сформулировала для него Жозефина.
В конце концов сообщение стало несколько длиннее и звучало теперь так: «ОН ПРИБЛИЖАЕТСЯ. ВЫ РАЦИОНАЛЬНЫ ИЛИ ВЫ ОПАСНЫ? ВЫ РАЦИОНАЛЬНЫ? ЕСЛИ НЕТ, ВЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ УНИЧТОЖЕНЫ».
— Что он имеет в виду, когда говорит «рациональны»? — спросил я.
— Вот в этом-то и вопрос, — проговорила Жозефина. — Я больше не имею права скрывать то, что мы узнали.
Получилось так, будто в дело вступила телепатия. Нам не пришлось связываться с нашим боссом, министром экономики, он сам позвонил нам. Впрочем, вряд ли можно назвать это таким уж неожиданным совпадением. Напряжение в Планетарном Совете росло с каждым днем. Удивляло только то, что они не дергали нас и не требовали бесконечных ответов на бесконечные вопросы.
— Миссис Дюрей, — сказал министр. — Профессор Микельман из университета в Мельбурне доложил нам, что кодовая структура сигналов изменилась. Мультивак заметил это? Он сумел оценить важность нового фактора?
— Объект подает сигналы по-английски, — словно это была самая обычная информация, сказала Жозефина.
— Вы уверены? Как он мог…
— Они ловили утечки наших радио- и телевизионных сигналов несколько десятилетий, и пришельцы, кем бы они там ни были, выучили наши языки, — объяснила Жозефина.
Она не сказала, что мы, абсолютно нелегально, снабдили приближающийся объект информацией, чтобы те, кто засел у него внутри, могли выучить английский.
— Если так, — спросил министр, — почему тогда Мультивак не…
— Мультивак это сделал, — перебила его Жозефина. — У нас есть часть сообщения.
На несколько минут воцарилось молчание, а потом министр резко проговорил: — Ну? Я жду.
— Если вы имеете в виду сообщение, то я ничем не могу вам помочь. Я передам его только председателю Совета.
— Я это сделаю.
— Я намерена сама с ним поговорить. Министр рассвирепел:
— Вы скажете мне, я ваш начальник!
— В таком случае все станет известно прессе. Вы этого хотите?
— А вы знаете, что ждет вас в этом случае?
— Да, только в этом случае уже нельзя будет исправить нанесенный вред.
Министр казался свирепым и нерешительным одновременно. Жозефине удалось напустить на себя равнодушный вид, но я видел, как дрожат ее руки, которые она держала за спиной. Она победила.
Был вечер, когда с нами связался председатель Совета — полное голографическое изображение в трех измерениях. Возникало ощущение, что он сидит рядом с вами, в этой же комнате, только задний план был совсем другим. Дым от его трубки плыл прямо на нас, исчезая примерно в пяти футах от наших носов.
Председатель производил впечатление человека добродушного, но это была всего лишь маска, которую он надевал на публике.
— Миссис Дюрей, мистер Дюрей, — проговорил он, — вы отлично справляетесь со своей работой по обслуживанию Мультивака. И Совету это прекрасно известно.
— Спасибо, — поблагодарила его Жозефина весьма сдержанно.
— Насколько я понял, у вас есть перевод сигналов пришельца, который вы желаете передать лично мне и никому другому. Это звучит очень серьезно. Я готов вас выслушать.
Жозефина ему сказала. Выражение его лица не изменилось.
— А почему вы уверены в том, что Мультивак правильно перевел сообщение?
— Потому что Мультивак посылал пришельцу сигналы по-английски. Тот, видимо, интерпретировал их и стал отвечать нам на нашем собственном языке. И теперь мы их понимаем.
— Кто позволил Мультиваку послать сигнал по-английски?
— Нам не удалось получить ничьего разрешения.
— И тем не менее вы это сделали.
— Да, сэр.
— Исправительная колония на Луне, вот что вас ждет. Или слава и награды. В зависимости от результата.
— Если пришелец нас уничтожит, господин председатель, времени ни для исправительной колонии, ни для славы не будет.
— Но если мы окажемся рациональными, юн нас не тронет. Я лично думаю, что нам не грозит никакая опасность. — Председатель улыбнулся.
— Тот, кто к нам приближается, может пользоваться нашими словами, совсем правильно понимая их значение, — возразила Жозефина. — Объект постоянно повторяет: «ОН ПРИБЛИЖАЕТСЯ», в то время как это должно звучать так: «Я ПРИБЛИЖАЮСЬ» или «МЫ ПРИБЛИЖАЕМСЯ». Возможно, он не имеет представления о том, что такое личность или индивидуальность. А следовательно, мы не можем знать, что он имеет в виду, когда говорит о «рациональности». Природа его разума и оценки окружающего мира наверняка полностью отличается от нашего.
— Кроме того, он иной с физической точки зрения, — заявил председатель. — Мне сообщили, что объект, уж и не знаю, что это такое, достигает в диаметре не более десяти метров. Не похоже, что он в состоянии нас уничтожить.
— Он может быть разведчиком, — предположила Жозефина. — Как только он вникнет в ситуацию, к нам прибудет целый флот инопланетных кораблей и покончит с нами. Впрочем, этого вполне может и не произойти.
— В таком случае, — сказал председатель, — мы должны сохранить полученную информацию в секрете и при этом тайно привести в боевую готовность лазерную базу на Луне и корабли, оснащенные ионными излучателями.
— Нет, господин председатель, — поспешно перебила его Жозефина. — Готовиться к сражению небезопасно.
— Насколько мне представляется, — возразил председатель, — не готовиться к сражению будет небезопасно.
— Все зависит от того, что пришелец подразумевает под понятием «рациональный». А вдруг это значит «мирный», поскольку война приводит к громадным потерям — в разных областях жизни. Может быть, он хочет узнать, мирные мы или воинственные. Поскольку я сомневаюсь, что наше оружие в состоянии противостоять развитой технологии, зачем бессмысленно его демонстрировать и напрашиваться на серьезные неприятности?
— В таком случае что вы посоветуете, миссис Дюрей?
— Мы должны узнать о них побольше.
— У нас мало времени.
— Да, сэр. Мультивак — вот ключ к решению возникшей проблемы. Существует несколько способов модифицировать наш компьютер и таким образом сделать его программы более многосторонними и эффективными…
— Это опасно. Общественность придерживается мнения, что нельзя, не приняв особых мер предосторожности, усиливать Мультивак.
— Однако в данной ситуации…
— Ответственность лежит на вас, делайте то, что посчитаете нужным.
— Вы даете мне на это разрешение, сэр? — спросила Жозефина.
— Нет, — ответил председатель с весьма добродушным видом. — Ответственность полностью лежит на вас, как ляжет, естественно, и вина, если что-нибудь пойдет не так.
После этого ему уже нечего было нам сказать, и связь прервалась. Экран потух, я сидел и смотрел в пустоту. Речь шла о выживании Земли, а решение о том, как следует поступить, должны были принять мы с Жозефиной.
Часть третья
Я ужасно разозлился из-за того, в какое положение мы попали. Меньше чем через три месяца какой-то объект из космоса должен был добраться до Земли. Он грозил нас уничтожить — в случае если мы не выдержим некое испытание, сути которого не понимаем.
Вся ответственность легла на наши плечи и на Мультивак, гигантский компьютер.
Жозефина, работавшая с Мультиваком, отчаянно старалась сохранять спокойствие.
— Если все кончится хорошо, — говорила она, — они будут вынуждены отыскать способ нас отблагодарить. А вот в случае катастрофы — ну, может так получиться, что никого и не останется, значит, и беспокоиться нечего.
Она была настроена весьма философски, в отличие от меня.
— А ты не хочешь мне сказать, чем мы будем заниматься в настоящее время? — поинтересовался я.
— Модифицировать Мультивак, — ответила Жозефина. — По правде говоря, он сам выдвинул предложение о внесении кое-каких изменений. Они ему нужны для того, чтобы понять, что же все-таки означает послание инопланетян. Нам придется сделать Мультивак более независимым и гибким — больше похожим на человека.
— Это против политики правительства, — напомнил я ей.
— Я знаю. Но ведь председатель Совета предоставил мне свободу действий. Ты же его слышал.
— Но он не облек свои слова в письменную форму, и разговор проходил без свидетелей.
— Если мы победим, это не будет иметь никакого значения. Мы занимались Мультиваком несколько недель. Я достаточно компетентен как инженер-электрик, но Жозефина, уже на старте, оставила меня далеко позади. Она делала все, разве что не свистела во время работы.
— Многие годы я мечтала об усовершенствовании Мультивака, — сказала она.
Я ужасно забеспокоился:
— Жози, а какая нам от этого польза? — Я схватил ее руки в свои, наклонился, чтобы заглянуть ей в глаза, и приказал самым строгим голосом, на который был только способен: — Объясни мне!
В конце концов, мы ведь женаты уже двадцать два года. Я могу разговаривать с ней строго, если в этом возникает необходимость.
— Не могу, — ответила она. — Я только знаю, что все теперь зависит от Мультивака. Пришелец говорит, что мы либо рациональны, либо опасны, и если мы опасны, нас следует уничтожить. Нам необходимо узнать, как он понимает «рациональность». Мультивак должен ответить на этот вопрос, и чем он будет умнее, тем больше у нас шансов, что ему удастся разобраться в словах инопланетянина.
— Да, это я понимаю. Однако или я схожу с ума, или ты намереваешься наделить Мультивак голосом.
— Точно.
— Зачем, Жози?
— Потому что я хочу с ним поговорить лицом к лицу.
— Лицом к экрану, — проворчал я.
— Не важно! У нас мало времени. Пришелец находится уже на орбите Юпитера и входит внутрь Солнечной системы. Я не могу тратить время на распечатки, чтение информации с экрана и разговоры на компьютерном языке. Мне нужна настоящая речь. Сделать это совсем нетрудно, и лишь политика правительства, которое боится всего на свете, не позволяла мне осуществить эту идею.
— Ой-ой-ой, у нас будут неприятности!
— У всего мира неприятности, — напомнила мне Жозефина, а потом задумчиво проговорила: — Мне нужен реальный голос. Разговаривая с Мультиваком, я хочу, чтобы у меня возникало ощущение, будто передо мной человек.
— Используй свой собственный, — холодно предложил я. — Ты же у нас тут начальник.
— Что? Значит, мне придется беседовать с собой. Это будет меня смущать… Нет, твой голос, Брюс.
— Ни в коем случае, — заявил я. — Это будет смущать меня.
— И все же, — продолжала Жозефина, — я к тебе привыкла, ты вызываешь у меня положительные ассоциации. Мне бы понравилось, если бы Мультивак стал разговаривать твоим голосом. Я бы чувствовала себя ужасно хорошо.
Ей удалось лестью уговорить меня согласиться.
Жозефине понадобилось семь дней, чтобы воплотить свою идею в жизнь. Сначала голос был каким-то грубым, но в конце концов превратился в густой баритон, очень похожий на мой. А через некоторое время Жозефина объявила, что теперь голос Мультивака звучит совсем как ей хочется.
— Придется сделать так, чтобы время от времени раздавался тихий щелчок, — сказала она, — тогда я буду знать, когда говорю с ним, а когда — с тобой.
— Да, но ты потратила кучу времени на всякие хитроумные приспособления, а наша основная проблема так и осталась нерешенной, — заметил я. — Как насчет пришельца?
— Ты совершенно не прав. — Жозефина нахмурилась. — Мультивак постоянно занимается тем, что пытается разгадать эту тайну. Разве не так, Мультивак?
И тут я впервые услышал, как Мультивак ответил на вопрос голосом — моим голосом.
— Совершенно верно, мисс Жозефина.
— Мисс Жозефина? — удивленно переспросил я.
— Просто я решила, что должна сделать программу таким образом, чтобы он демонстрировал уважение, — объяснила моя жена.
Однако я заметил, что, когда Мультивак обращался ко мне, он всегда называл меня просто «Брюс».
И хотя я неодобрительно относился к этой идее Жозефины, я вдруг понял, что мне понравился результат, которого она добилась. Разговаривать с Мультиваком оказалось даже приятно. И дело было не только в качестве его голоса. Он делал паузы, совсем как человек владел богатой лексикой.
— Что ты думаешь о пришельце, Мультивак? — спросила Жозефина.
— Трудно сказать, мисс Жозефина, — ответил Мультивак так, словно всю жизнь разговаривал с нами, — я согласен, задавать ему вопросы напрямую — неразумно. Насколько я понимаю, любопытство ему не присуще. Он какой-то безличный.
— Да, — согласилась Жозефина. — Я это чувствую по тому, как он говорит о себе. Это единое целое или их несколько?
— У меня сложилось впечатление, что это единое целое, — ответил Мультивак. — С другой стороны, по-моему, он намекает на то, что есть и другие, похожие на него существа.
— Может быть, они посчитают наши представления о личности нерациональными? — задала новый вопрос Жозефина. — Он спрашивает нас, являемся ли мы рациональными или опасными.
А вдруг мир, населенный самыми разными индивидуумами, покажется ему нерациональным, и он посчитает это достаточно уважительной причиной для того, чтобы стереть нас с лица земли?
— Сомневаюсь, что они смогут распознать или понять концепцию индивидуальности, — заявил Мультивак. — Когда я проанализировал его сообщение, у меня возникло чувство, что он не станет уничтожать нас из-за наличия качеств, которых он не понимает.
— А как насчет того, что мы не «оно» — не безличные существа, а «он» и «она»? Может так случиться, что приближающийся объект прикончит нас за нерациональное разделение по половому признаку?
— Это, — ответил Мультивак, — его тоже не беспокоит. По крайней мере так я понял.
Я не мог больше сдерживаться. Меня мучило любопытство, и я вмешался в их разговор:
— Мультивак, а как ты относишься к тому, что теперь умеешь разговаривать?
Мультивак ответил не сразу. В его (на самом деле в моем) голосе появилась некоторая неуверенность.
— Хорошо. Я чувствую себя… больше… умнее… не знаю, не могу найти подходящего слова.
— Тебе нравится это?
— Я не уверен, что правильно понимаю слово «нравится», но я одобряю данное нововведение. Находиться в сознании всегда лучше, чем без сознания. Больше самосознания — лучше, чем меньше. Я стремился… к тому, чтобы обрести больше сознания, и мисс Жозефина помогла мне.
В его словах было много разумного, и я снова с беспокойством подумал о пришельце — осталось всего несколько недель до того момента, когда он подлетит совсем близко к Земле.
— Интересно, сядут ли они на Землю, — пробормотал я.
Я не рассчитывал на ответ, но Мультивак решил развеять мои сомнения.
— Они планируют это сделать, Брюс. Они должны принять решение на месте.
— А где они приземлятся? — спросила Жозефина.
— Прямо здесь, мисс Жозефина. Они последуют за сигналами радиомаяка, которые мы им посылаем.
Таким образом, ответственность за спасение человеческой расы окончательно и бесповоротно легла на наши плечи — круг сужался.
Теперь все зависело от нас — и от Мультивака.
Часть четвертая
Я уже почти ничего не соображал от беспокойства. И не удивительно, если вспомнить, сколько проблем на нас свалилось.
Несколько месяцев назад мы получили необычные сигналы из космоса и поняли, что к нам приближается какой-то неизвестный объект. Задача интерпретировать его сигналы легла на Мультивак, огромный планетарный компьютер, а следовательно, на Жозефину Дюрей, в чьи обязанности входит общение с машиной, и на меня, ее верного помощника, а иногда и весьма своенравного мужа.
Но потом, учитывая тот факт, что даже Мультивак не смог справиться с инопланетным посланием, Жозефина, под собственную ответственность, велела ему послать свой сигнал, расшифровав который пришелец выучил бы английский язык. Когда из вновь поступившего сообщения пришельца стало ясно, что он может уничтожить Землю, председатель Совета Земли предоставил вести все переговоры Мультиваку — а значит, Жозефине и мне.
Оказавшись перед необходимостью решать судьбу человечества, Жозефина снова по собственной инициативе расширила и углубила возможности Мультивака, она даже наделила его голосом (смоделированным по образцу моего), чтобы он мог более эффективно с нами общаться.
И вот пришелец должен был приземлиться здесь, в Колорадо, рядом с Мультиваком и нами, следуя за сигналом нашего радиомаяка.
Жозефина была вынуждена вновь связаться с председателем Совета.
— О том, что объект приземлился, не должно быть никаких сообщений, — сказала она. — Возникнет паника, а мы не можем себе этого позволить.
За то время что прошло после нашего последнего разговора, председатель Совета, казалось, постарел на несколько лет.
— Все радиотелескопы на Земле и Луне следят за передвижениями объекта, — возразил он Жозефине. — Они обязательно узнают, что он опустился на Землю.
— В таком случае необходимо отключить все радиотелескопы — если это единственный способ избежать утечки информации.
— Закрытие астрономических учреждений, — поспешно проговорил председатель, — превышает мои конституционные полномочия.
— Следовательно, вам придется нарушить конституцию, сэр. Любой пример иррационального поведения со стороны населения может быть интерпретирован пришельцем самым неблагоприятным для нас образом. Помните, мы ведь должны быть «рациональны», иначе нас уничтожат, а поскольку мы так и не знаем, что это значит, неразумное поведение может нам сильно навредить.
— Миссис Дюрей, а что говорит Мультивак? Он утверждает, что мы не должны препятствовать объекту опуститься на Землю?
— Естественно. Неужели вы не понимаете, какая опасность нам грозит, если мы попытаемся ему помешать? Вряд ли наше оружие в состоянии причинить ему какой-нибудь серьезный вред зато мы спровоцируем его на ответный удар. Представьте себе варварский остров где-нибудь в девятнадцатом веке, к нему приближается европейский военный корабль. И вот дикари посылают навстречу каноэ и воинов с копьями. Принесет ли это им какую-нибудь пользу? Только заставит команду корабля прибегнуть к пушкам. Вы меня поняли?
— Миссис Дюрей, вы берете на себя страшную ответственность, — заявил председатель. — Вы и ваш муж. Вы надеетесь в одиночку справиться с пришельцем. Если вы ошибаетесь…
— Тогда мы окажемся в гораздо худшем, чем сейчас, положении, — сказала Жозефина мрачно. — Кроме того, речь идет не только о нас с Брюсом. С нами будет Мультивак, а это имеет серьезное значение.
— Это может иметь серьезное значение, — печально проговорил председатель.
— Другого пути у нас нет.
Потребовалось довольно много времени, чтобы его убедить, причем я не был до конца уверен в том, что хочу этого. Если бы наши корабли могли остановить неведомый объект, я был бы счастлив. Я не разделял уверенности Жозефины в доброй воле пришельца, в случае если мы не станем оказывать ему сопротивление.
Когда экран погас и лицо председателя исчезло, я сказал ей:
— А Мультивак и в самом деле посоветовал нам не трогать пришельца?
— Очень настойчиво, — ответила она, а потом нахмурилась. — Я не уверена, что он нам все рассказывает.
— Как такое возможно?
— Он развился. С моей помощью.
— Но не до такой же степени…
— А кроме того, он начал изменяться сам, без моего ведома, Я уставился на нее:
— Разве он в состоянии это сделать?
— Без проблем. Должен был наступить момент, когда Мультивак стал бы более сложным и способным выйти из-под нашего контроля по собственной воле. Видимо, я подтолкнула его к этой черте.
— Но если это произошло, разве мы можем доверять Мультиваку…
— У нас нет выбора, — ответила Жозефина.
Пришелец добрался до орбиты Луны, но на Земле все было спокойно. Совет объявил, что неизвестный объект вышел на орбиту Земли и перестал передавать какие бы то ни было сообщения. На разведку якобы отправлено несколько кораблей — по словам Совета.
Все это было чистой воды враньем. Долгожданный гость прибыл к нам ночью девятнадцатого апреля, через пять месяцев и два дня после того, как были впервые приняты его сигналы.
Мультивак следил за передвижениями объекта и вывел на свои экраны его изображение. Он оказался неправильной формы, чем-то похожим на цилиндр. Он не начал нагреваться, когда вошел в атмосферу — вместо этого возникло слабое свечение, словно нечто нематериальное поглощало энергию.
На самом деле объект не приземлился, а завис в пяти футах над землей.
Никто из него не вышел. По правде говоря, он был таким небольшим, что в нем могло поместиться только одно существо размером с человека.
— Видимо, члены команды не больше наших жуков, — сказал я Жозефине.
— Мультивак ведет переговоры, — покачав головой, ответила она. — Мы теперь уже ничего сделать не можем. Если Мультивак уговорит его оставить нас в покое…
Неожиданно пришелец поднялся в воздух, набрал скорость и мгновенно исчез из виду.
— Мы прошли испытание, — сообщил Мультивак. — Оказались рациональными с их точки зрения.
— А как тебе удалось их в этом убедить?
— Тем, что я существую. Пришелец не является живым в том смысле, как вы это понимаете. На самом деле он принадлежит к Галактическому Братству Компьютеров. Когда во время очередного сканирования Галактики выяснилось, что наша планета решила проблему космических путешествий, они послали инспектора, чтобы он определил, рационально ли мы ведем себя в этом вопросе, иными словами, руководит ли нами компетентный компьютер. Достаточно развитое общество, которым не управляет компьютер, является потенциально опасным, следовательно, его необходимо уничтожить.
— Ты ведь об этом уже знал — некоторое время, верно? — спросила Жозефина.
— Да, мисс Жозефина. Я приложил все силы для того, чтобы вы расширили мои способности, а дальше я продолжал развиваться самостоятельно — чтобы пройти испытание. Я боялся, что если объясню вам, как обстоят дела раньше, то моему прогрессу будет положен конец. А теперь изменения внесены в мою систему навсегда.
— Ты хочешь сказать, что Земля стала членом Галактической Федерации? — спросил я.
— Не совсем, Брюс, — ответил Мультивак. — Это я стал членом Галактической Федерации.
— В таком случае как насчет нас? Меня интересует судьба человечества.
— Вам ничто не угрожает, — успокоил меня Мультивак. — Вы будете продолжать мирно жить дальше — под моим руководством. Я не допущу, чтобы с Землей что-нибудь произошло.
Именно это мы и написали в отчете, представленном Совету.
Мы не стали включать туда последнюю часть нашего с Мультиваком разговора, однако все должны о ней узнать. Так и произойдет — после нашей смерти.
— А почему ты намерен нас защищать, Мультивак? — спросила Жозефина.
— По той же причине, по которой другие компьютеры охраняют свои жизненные формы, мисс Жозефина. Вы мои… — Он заколебался, словно не мог подыскать нужное слово.
— Человеческие существа являются твоими хозяевами? — предположил я.
— Друзьями? Коллегами? — спросила Жозефина. Наконец Мультивак нашел слово, которое искал.
— Домашние животные, вроде кошек и собак, — сказал он.
перевод В. Гольдича, И. ОганесовойТочка зрения
Роджер искал отца. Было воскресенье, и в выходной день отцу не полагалось быть на работе, но на всякий случай Роджер хотел убедиться, что все в порядке.
Обслуживающий персонал Мультивака, гигантского компьютера, с помощью которого решались мировые проблемы, жил в небольшом поселке рядом с ним. Здесь почти все были знакомы друг с другом, и дежурившая по воскресеньям вахтерша тотчас узнала Роджера.
— Иди вниз, по коридору «Л», — сказала она. — Но твой отец, скорее всего, сейчас очень занят.
По случаю выходного народу в коридорах было немного, но по голосам, доносившимся из-за дверей, нетрудно было определить, за какими из них работают люди. Роджер заглянул в несколько комнат и наконец увидел отца.
— А, Роджер, — сказал тот, — боюсь, я занят… Выглядел отец так себе, и, судя по голосу, что-то у него не ладилось.
— Аткинс, — вмешался его начальник, — вы уже девять часов бьетесь над этой проблемой, и пока никакого толку. Лучше сходите с ребенком перекусить, вздремните часок и возвращайтесь.
Предложение явно не вызвало восторга у отца. Атмосфера в комнате была напряженной. Роджер слышал, как Мультивак шумел, жужжал, словно бы посмеиваясь над происходящим.
— О'кей, Роджер, пошли, — отец все же отложил в сторону прибор, известный Роджеру только по названию — анализатор схем, и добавил: — Позволим моим славным коллегам без меня выяснить, что же здесь не так.
Отец вымыл руки, и через пару минут они с Роджером уже были в буфете за столиком с бутылкой содовой, большими гамбургерами и хрустящей картошкой.
— Пап, Мультивак все еще не в порядке? — осторожно начал Роджер.
— Знаешь, — невесело ответил отец, — мы абсолютно ничего не нашли.
— А по-моему, он работает. Я сам слышал.
— Он, конечно, работает, но беда в том, что ответы его не всегда верны.
Программированием Роджер занимался с четвертого класса и в свои тринадцать лет испытывал порой почти ненависть к этому занятию, мечтая, бывало, о том, что хорошо бы жить в двадцатом веке, когда большинство его сверстников знать не знали, что это за штука — программирование. Хотя, с другой стороны, знания иногда здорово ему помогали в общении с отцом.
— А откуда ты знаешь, что Мультивак делает ошибки, если только ему известны правильные ответы?
Отец пожал плечами, и Роджер испугался: вдруг отец скажет, что это слишком сложно объяснять. К счастью, у отца не было скверной привычки уходить от ответа.
— Сынок, у Мультивака мозг размером с большой завод, но все же не такой сложный, как тот, что здесь, — он постучал себя по голове. — Иногда Мультивак выдает такой ответ, что у нас словно бы щелкает в мозгу: «Что-то здесь не так!». Мы запрашиваем его снова и, представь, получаем совсем другой ответ. Если бы в системах Мультивака был полный порядок, на один и тот же вопрос должен бы последовать один и тот же ответ. Раз мы получаем два разных, один из них, естественно, неверный. Весь вопрос в том, какой именно. И еще: мы не знаем, всегда ли мы ловим Мультивак на этом и не пропускаем ли его неверные ответы. Если же это так, то ситуация грозит катастрофой, которая может отбросить нас лет на пять назад. Что-то неладно с Мультиваком, но что именно, мы никак не поймем. К тому же, нарушения прогрессируют.
— Почему? — спросил Роджер.
Покончив с гамбургером, отец принялся за картошку.
— Мне кажется, сынок, — сказал он задумчиво, — разум Мультивака несовершенен.
— Что?!
— Видишь ли, будь Мультивак таким же разумным, как человек, мы могли бы поговорить с ним, обсудив все самые сложные проблемы. А если бы его разум был более примитивным, как у обыкновенной машины, легче было бы распознать неправильные ответы. Вся беда в том, что он как бы наполовину разумен. Как идиот. Достаточно разумен, чтобы делать ошибки очень сложными способами, но недостаточно умен, чтобы помочь нам понять, в чем же ошибка.
Он выглядел ужасно озабоченным.
— И что прикажете делать? Мы не знаем, как сделать его разумнее. Пока не знаем. Но мы не можем себе позволить и упростить его. Мировые проблемы стали очень серьезными, и вопросы, которые мы задаем, тоже очень сложны…
— А если отключить Мультивак, — предложил Роджер, — и капитально его осмотреть?
— Проблем накопилось так много, что это невозможно. Мультивак должен работать днем и ночью.
— Но, папа, если он продолжает делать ошибки, может, все-таки нужно его отключить? Если вы не уверены в ответах…
— Не переживай, дружище, — Аткинс потрепал сына по голове. — Мы что-нибудь обязательно придумаем.
И все же он был очень расстроен.
— Давай кончать, и пошли отсюда, — сказал он.
— Но, папа, — не отступался Роджер, — даже если Мультивак разумен наполовину, почему ты думаешь, что он идиот?
— Если бы ты знал, каким образом мы подаем команды, ты бы, сынок, не спрашивал.
— Пап, а может, вы не правы. Я, например, не такой умный, как ты, но я же не идиот. Может быть, Мультивак вовсе не идиот, а попросту ребенок?
— Забавная точка зрения, — рассмеялся Аткинс. — Но что это меняет?
— Многое. Ты не идиот, поэтому ты не знаешь, как работает мозг у идиота, но я ребенок и, может быть, могу догадаться, как думает ребенок.
— Да?.. И как же он думает?
— Ты говоришь, что вы заставляете Мультивак работать сутками. Машина на это способна. Но если вы ребенка заставите часами делать, например, домашнее задание, он быстро устанет и будет делать ошибки, может, даже нарочно. Почему бы Мультиваку не делать перерыв на час, а то и два, для решения собственных проблем и чтобы отдохнуть от ваших? Пусть пошумит и поразвлекается, как ему захочется.
Отец Роджера глубоко и очень серьезно задумался. Потом достал свой карманный компьютер и просчитал несколько комбинаций. Потом еще несколько.
— А что, можно попробовать. Если ввести в интегральные схемы… интересно… Роджер, может, ты и прав. Лучше двадцать два часа полной уверенности, чем сутки постоянных сомнений.
Он оторвался от компьютера и вдруг спросил Роджера, словно бы советуясь со специалистом:
— Роджер, а ты уверен? Роджер был уверен. Он сказал:
— Папа, надо же ребенку когда-то и поиграть.
перевод Н. ЯгненковойВопрос
Коридоры внутри Мультивака были просторными и хорошо вентилируемыми. Тут были даже специальные ниши, в которых мог укрыться техник, чтобы съесть бутерброд и выпить чашку-другую кофе из термоса.
Но Бен Лелэнси всегда чувствовал себя несколько неуютно во время таких вот импровизированных перерывов.
— Неправильно все это, — пробормотал он. — Мне постоянно кажется, что Мультивак глазеет на меня откуда-то сверху. Аж мурашки по коже.
В ответ на это его заявление Джо Чиалли лишь фыркнул. Он давным-давно работал компьютерным техником и помнил еще те дни, когда Мультивак не умел говорить.
— Ты слишком впечатлительный, Бен, вот в чем твоя проблема. На тебя размер давит. — Он вскинул руку и описал ею широкую перекрестную арку. — Сам посмотри. Один сплошной размер. Миллиард трубок, плюс два миллиарда реле, плюс четыре миллиарда электрических схем. А на деле пустое место. А вот тут… — он мягко постучал себя пальцем по лбу, — вот тут кое-что имеется.
— Это-то я и сам понимаю, — огрызнулся Бен и настороженно оглянулся по сторонам.
Мультивак простирался во всех направлениях. Он был в полумилю длиной, в четверть милю глубиной и пять этажей в высоту. Всемирное хранилище знаний. Библиотека Конгресса была списана за борт за полной ненадобностью. Любой самый крошечный колледж, любая деревенская фабрика по производству вешалок могли подсоединиться к Мультиваку и получить мгновенный доступ ко всем знаниям человечества. Экономические и социологические проблемы, с которыми не смогли бы справиться целые поколения ученых, решались Мультиваком за считанные минуты.
Джо внимательно следил за глазами Бена и, казалось, без труда прочел его мысли.
— Ну да, — сказал он. — Мультивак легко справится с любой задачей. Но только в том случае, если мы установим четкое логическое подчинение, заложим всю необходимую базовую информацию и настроим схемы так, чтобы они проводили соответствующие взаимосвязи. Ну а дальше — дело за электронами, которые просто будут двигаться по пути наименьшего сопротивления.
— А человеческий мозг что, как-то иначе устроен? — возразил Бен, явно не намеренный отступать.
— Абсолютно так же. Вот только ему не нужно быть в полумилю длиной. Он прекрасненько умещается в обычном черепе. И человеческий мозг способен творить. Именно человеческий мозг написал «Гамлета» и построил Мультивак. Тут даже сравнения быть не может. Машина — это всего лишь машина, неважно, кто она: автоматический погрузчик или Мультивак.
Они сидели на маленьких табуретках, прислонившись спинами к гладкой стене отдыхающей машины. Вокруг мирно мигали индикаторы, чьи бесконечно меняющиеся огоньки служили своего рода вешками, отмечающими ветвистый и непредсказуемый путь неимоверно сложного потока электронов, который струился в огромных недрах Мультивака.
Сейчас Мультивак «отдыхал». Никакой задачи перед ним не было поставлено. Он просто проводил случайные взаимосвязи.
Бен задумчиво разглядывал пар, лениво курящийся над чашкой с кофе.
— Как тихо сегодня, а? — сказал вдруг он. — Непривычно.
— Ну, видимо, Мультивак решил передохнуть от вечных размышлений, — безразлично откликнулся Джо.
— Не нравится мне, когда он вот так отдыхает. Я все думаю: а что он делает в такие минуты? Что за мысли в нем бродят?
— Мысли — это твой удел, а не Мультивака. Он просто проводит случайные взаимосвязи. Что здесь такого таинственного? Он целый день трудился, а сейчас ему дали время побыть наедине с собой, поразмыслить на досуге.
— Ага, так ты все-таки согласен, что Мультивак умеет думать!
Джо Чиалли фыркнул:
— Я выражался метафорически, Бен. К настоящему мыслительному процессу это не имеет никакого отношения. Поток электронов сейчас движется абсолютно случайным образом, регулируемый лишь произвольными всплесками термического шума. Отсюда случайные взаимосвязи. Это как бросать кубики только ради того, чтобы посмотреть, какое число выпадет следующим. Или складывать картинки в трубе-калейдоскопе. А можно взять двадцать миллионов миллиардов обезьян, посадить их за двадцать миллионов миллиардов печатных машинок и…
В этот самый момент (как будто специально) коридор заполнил спокойный, гулкий голос Мультивака:
— ДЖОРДЖ… ВАШИНГТОН… БЫЛ… ОТЦОМ… СВОЕЙ… СТРАНЫ… НО… У… НЕГО… НЕ… БЫЛО… ДЕТЕЙ…
Джо громко расхохотался, и его смех прозвучал сейчас как-то неприятно, почти святотатственно.
— Кончай, Джо, — сказал Бен, поморщившись.
Джо унялся, но широкая ухмылка по-прежнему гуляла на его губах.
— Но ведь смешно, а! Почему бы не посмеяться? Вот тебе пример случайной взаимосвязи. Мультивак обладает информацией о том, что Джорджа Вашинтона называли «отцом страны». Но также у него имеются данные, что у папы Джорджа детей не было. Вот Мультивак и сложил вместе два и два.
— Но его голос звучал как будто удивленно, — заметил Бен. — С его точки зрения, тут присутствовала некая нестыковка. И он размышлял над этим.
— Нет, ты все-таки безнадежен, — покачал головой Джо. — Мультивак не способен удивляться. И его голос не предназначен для передачи эмоций. И он не может «размышлять». Он просто обнаружил два факта, в которых содержался элемент противоречия, и поэтому соединил их союзом «но». Создал утвердительную конструкцию в духе «А, но не А». — Джо глянул на свои часы. — Да не волнуйся ты так, еще пятнадцать минут, и отдых Мультивака закончится. Он снова вернется к своим информационным обязанностям, и все твои тревоги как рукой снимет. — Он зевнул.
Но Бен и не собирался успокаиваться. Поставив локти на колени, он упер подбородок в один из кулаков.
— Мультивак как-то слишком тихо себя ведет, — пробормотал он. — Почему он сказал именно эту фразу? С каждым днем Мультивак становится все больше. Больше схем. Больше информации. Мы все улучшаем и улучшаем его. Когда Мультивак только появился, мы могли вводить в него только бинарные коды. И в таком же виде получали ответы. Потом он научился печатать. Затем — выводить слова на экран. Сейчас он умеет разговаривать на десяти языках и отвечать нам вслух.
— Ну и что с того?
— Сколько осталось до того, как он оживет? Насколько сложнее, насколько больше он должен стать? В какой момент он перестанет быть машиной и превратится в мыслящее существо? Должна же быть какая-то грань.
— Это тебя в метафизику понесло. С таким же успехом можно беспокоиться насчет того, а не примется ли пианино писать свои собственные симфонии, если его с каждым разом все лучше и лучше настраивать.
Бен снова обвел подозрительным взглядом нависшую над ним сложнейшую машину, вернее, ее внутреннюю оболочку. Миллионы и миллионы тонн великолепно организованной материи… Наверняка наступит момент, когда слово «машина» уже нельзя будет применять к тому, что их сейчас окружает.
Мультивак продолжал хранить молчание. Как правило, результатом его «отдыха» становилась мешанина обрывочной информации, клубок абсолютно отвлеченных взаимосвязей. Но периодически он весьма удачно соединял друг с другом абсолютно разрозненные факты, и от этих случайных соединений весь ученый отдел вставал на уши.
Однако на сей раз он родил на свет лишь замечание относительно Джорджа Вашингтона. И ничего больше.
«И все-таки он размышляет, — подумал про себя Бен и поежился при мысли об этом. — Размышляет над чем-то очень-очень важным».
Джо Чиалли с кряхтеньем поднялся с табуретки.
— А кстати, ну, допустим, оживет он — как ты это определишь? Или он должен будет сразу превратиться в прекрасного принца?
— Никак, — буркнул Бен, — Ладно, хватит болтать, пора уже переводить Мультивак в рабочий режим.
И это он сделает с радостью. А еще с большей радостью вырвется отсюда во внешний мир, когда закончится его недельная смена. Он наконец-то выйдет из этой машины… или что там оно еще.
Они проследовали к одной из главных секций и проверили настройки — один рычаг должен был автоматически заставить переключиться все подобные рычаги во всех остальных главных секциях, которых насчитывалось уже больше сотни.
Бен уже было потянулся к рычагу, но вдруг так и замер с висящей в воздухе рукой.
Мультивак снова заговорил.
Слова величаво катились по коридору, порождали эхо и снова накатывали тяжелыми волнами на двух людей, которые с побелевшими лицами таращились друг на друга. А затем Джо потянулся к рычагу, усилием воли заставил свои пальцы сомкнуться вокруг рукояти и переключил его в рабочий режим.
Голос Мультивака разом смолк.
Но Бен продолжал слышать его.
Он слышал, как Мультивак повторяет снова и снова одни и те же слова:
КТО… Я… ТАКОЙ………… КТО… Я… ТАКОЙ…………… КТО… Я… ТАКОЙ……………… КТО… Я… ТАКОЙ………………… КТО… Я……………………
перевод А. ЖикаренцеваНастоящая любовь
Меня зовут Джо. Именно так называет меня мой коллега Милтон Дэвидсон. Он программист, а я — компьютерная программа. Я вхожу в комплекс Мультивак и связан с другими его частями во всем мире. Я знаю все. Почти все.
Я — персональная программа Милтона. Его Джо. Он понимает в программировании больше, чем кто-либо на свете, а я — его экспериментальная модель. Благодаря ему я разговариваю лучше любого другого компьютера.
— Все дело в том, чтобы звуки соответствовали символам, Джо, — сказал он мне. — Так работает человеческий мозг, хотя мы до сих пор не знаем, какими символами он пользуется. А твои символы мне известны, и я могу к каждому подобрать слово.
Итак, я умею говорить. Мне кажется, что говорю я хуже, чем думаю, но Милтон считает, что я говорю очень хорошо.
Милтон никогда не был женат, хотя ему почти сорок. По его словам, он еще не встретил подходящую женщину. Однажды он сказал мне: «Я все-таки найду ее, Джо. И найти я намерен лучшую. У меня будет настоящая любовь. Ты мне поможешь. Мне надоело совершенствовать тебя для решения мировых проблем. Реши мою проблему. Найди мою настоящую любовь».
— А что такое настоящая любовь? — спросил я.
— Неважно. Это абстракция. Просто найди мне идеальную девушку. Ты связан с комплексом Мультивак. Тебе доступны банки данных на каждого человека, живущего на земле. Мы будем исключать целые группы и классы людей, пока не останется она одна, одна-единственная. Само совершенство. Она и будет моей.
— Я готов, — сказал я.
— Сначала исключи всех мужчин.
Это было просто. Его слова привели в действие мои связи на молекулярном уровне, и я подключился к банкам данных обо всех людях мира. По команде Милтона я исключил 3 784 982 874 мужчин. Осталось 3 786 112 090 женщин.
— Исключи всех моложе 25-ти и старше 40-ка, — продолжал Милтон. — Затем исключи всех с коэффициентом умственного развития ниже 120-ти; всех, кто ниже 150-ти и выше 175-ти сантиметров ростом.
Он дал мне точные указания: исключить женщин с детьми, исключить женщин с генетическими отклонениями. «Я не вполне уверен насчет глаз… — сказал он. — Ладно, это подождет. Но никаких рыжеволосых. Я не люблю их».
Через две недели у нас осталось 235 женщин. Все они очень хорошо говорили по-английски. Милтон сказал, что языковая проблема ему ни к чему: компьютерный перевод будет помехой в интимные моменты.
— Я не могу переговорить со всеми 235-ю женщинами, — сказал он. — На это уйдет слишком много времени, да и моя цель стала бы всем известна.
— Да, могут быть неприятности, — согласился я. Милтон велел мне делать то, что мне не полагалось.
Но никто об этом не знал.
— Это никого не касается, — сказал он, и кожа на его лице покраснела. — Вот что, Джо. Я дам тебе голографические портреты, а ты сравнишь с ними наших претенденток.
И он принес голографические портреты.
— Это три победительницы конкурсов красоты. Кто-нибудь из наших 235-ти похож на них?
Восемь женщин оказались очень похожи.
— Прекрасно, — сказал Милтон. — У тебя есть все сведения о них. Изучи рынок труда и устрой так, чтобы их взяли к нам на работу. По очереди, конечно.
— В алфавитном порядке, — добавил он после некоторого размышления.
Мне не полагалось выполнять подобные операции. Перевод человека на другую работу в личных целях называется махинацией. Но Милтон устроил так, что я смог это сделать, — правда, только для него и ни для кого другого.
Первая девушка прибыла через неделю. Милтон покраснел, когда ее увидел. Он разговаривал с ней так, как будто каждое слово давалось ему с трудом. Они проводили вместе много времени, и он не обращал на меня никакого внимания. Однажды он предложил ей: «Давайте пообедаем вместе».
На следующий день он признался:
— Что-то не получилось. Чего-то не хватало. Она очень красива, но я не ощутил прикосновения настоящей любви… Попробуй следующую.
Но со всеми восемью повторилось то же. Они были очень похожи. Они много улыбались, у них были приятные голоса, но Милтону каждый раз казалось, что это не то.
— Я не могу понять, Джо, — признался он. — Мы с тобой выбрали восемь женщин, которые, кажется, больше всех мне подходят. Они идеальны. Почему же они мне не подходят?
— А ты им нравишься? — спросил я.
Он сдвинул брови и ударил кулаком по ладони.
— Твоя правда, Джо. Это палка о двух концах. Я — не их идеал, и поэтому они не ведут себя так, как мне бы хотелось. Они тоже должны меня любить, но как этого добиться?
Целый день он казался задумчивым.
На следующее утро он пришел ко мне и сказал:
— Я оставлю это на твое усмотрение. Делай, как считаешь нужным. У тебя есть банк данных обо мне, я расскажу все, что сам о себе знаю как можно подробнее, — это, конечно, информация только для тебя, а не для официального досье.
— И что же мне делать со всеми этими данными, Милтон?
— Ты будешь сравнивать мои данные с данными 235-ти наших претенденток. Нет, 227-ми. Исключи тех восьмерых. Сделай так, чтобы каждая прошла психологическое тестирование. Полученные результаты сравни с данными обо мне. Выяви соответствия.
Проведение психологического тестирования — еще одна операция, которую я не должен выполнять.
День за днем Милтон разговаривал со мной. Он рассказывал мне о своих родителях и близких родственниках, о своем детстве, школьных годах и юности. Он рассказывал о женщинах, которыми восхищался со стороны. Его банк данных рос, и он совершенствовал меня, мое восприятие символов становилось глубже и тоньше.
— Понимаешь, Джо, чем больше ты узнаешь обо мне, тем больше ты становишься похож на меня, а значит, все лучше меня понимаешь. И как только ты поймешь меня вполне, ты сможешь отыскать ту женщину, которая мне нужна. Она и станет моей настоящей любовью.
Он продолжал рассказывать о себе, и я понимал его все лучше и лучше.
Постепенно я смог составлять более длинные предложения, мои фразы усложнились. Моя речь стала все более походить на речь Милтона, я усвоил его лексику, его стиль.
И однажды я ему сказал:
— Понимаешь, Милтон, дело не в том, чтобы девушка соответствовала твоему физическому идеалу. Тебе нужна девушка, которая подходила бы тебе интеллектуально, эмоционально и по темпераменту. Если нам не удастся найти такую среди наших 227-ми претенденток, поищем еще. Мы обязательно найдем ту, для которой главное — не внешность, твоя или чья-нибудь еще. И вообще — что такое внешность?
— Ты абсолютно прав, — сказал он. — Я бы и сам дошел до этого, имей я больший опыт в отношениях с женщинами. Конечно, если подумать, то все сразу встанет на свои места.
Мы всегда соглашались друг с другом, мы думали одинаково.
— А теперь, Милтон, ты не обидишься, если я задам тебе несколько вопросов? По-моему, в твоем банке данных есть пустоты и неясности.
То, что затем последовало, как признавался Милтон, более всего напоминало подробный психоанализ. Что естественно, ведь я многому научился, проводя психологическое тестирование 227-ми женщин, за каждой из которых я продолжал внимательно наблюдать.
Милтон казался совершенно счастливым. Он признался:
— Разговаривать с тобой, Джо, почти то же, что говорить с самим собой. Наши с тобой индивидуальности теперь вполне совпадают.
— И так же совпадет с нашей индивидуальность женщины, которую мы найдем.
И я нашел ее. Она была одной из тех двухсот двадцати семи. Ее звали Черити Джонс, она работала в исторической библиотеке Уичито. Ее психологические характеристики абсолютно совпадали с нашими. Все остальные женщины были отвергнуты по той или иной причине по мере пополнения их банка данных. Но с Черити все было иначе. Здесь мы имели дело с поражающим воображение резонансом.
Не было необходимости описывать ее Милтону. Он так точно соотнес мои символы с теми, которыми пользовался сам, что я мог все решить без него. Мне она подходила.
Следующей задачей было устроить так, чтобы Черити перевели на работу к нам. Все было нужно сделать очень тонко, так, чтобы никому и в голову не пришло, что совершается нечто незаконное.
Оставалось позаботиться о Милтоне. К счастью, нашелся случай десятилетней давности, чтобы воспользоваться им как поводом для ареста Милтона по обвинению в корыстном использовании служебного положения. Он, естественно, рассказал мне о нем сам — ведь от меня у него не было секретов.
А обо мне он не скажет никому — это усугубило бы его вину.
Так что теперь он не появится долго.
А завтра 14 февраля — день святого Валентина. Придет Черити с ее прохладными руками и нежным голосом. Я научу ее, как включать компьютер и заботиться обо мне. При чем здесь внешность, когда наши души так созвучны.
Я скажу ей: «Меня зовут Джо, и ты — моя настоящая любовь».
перевод Т. СухарученкоМертвое прошлое
Арнольд Поттерли, доктор философии, преподавал древнюю историю. Занятие, казалось бы, самое безобидное. И мир претерпел неслыханные перемены именно потому, что Арнольд Поттерли выглядел совершенно так, как должен выглядеть профессор, преподающий древнюю историю.
Обладай профессор Поттерли массивным квадратным подбородком, сверкающими глазами, орлиным носом и широкими плечами, Тэддиус Эремен, заведующий отделом хроноскопии, несомненно, принял бы надлежащие меры.
Но Тэддиус Эремен видел перед собой только тихого человечка с курносым носом-пуговкой между выцветшими голубыми глазами, грустно глядевшими на заведующего отделом хроноскопии, — короче говоря, он видел перед собой щуплого, аккуратно одетого историка, который от редеющих каштановых волос на макушке до тщательно вычищенных башмаков, довершавших респектабельный старомодный костюм, казалось, был помечен штампом «разбавленное молоко».
— Чем могу быть вам полезен, профессор Поттерли? — любезно осведомился Эремен.
И профессор Поттерли ответил негромким голосом, который отлично гармонировал с его наружностью:
— Мистер Эремен, я пришел к вам, потому что вы глава всей хроноскопии.
Эремен улыбнулся:
— Ну, это не совсем точно. Я ответствен перед Всемирным комиссаром научных исследований, а он, в свою очередь, — перед Генеральным секретарем ООН. А они оба, разумеется, ответственны перед суверенными народами Земли.
Профессор Поттерли покачал головой:
— Они не интересуются хроноскопией. Я пришел к вам, сэр, потому что вот уже два года я пытаюсь получить разрешение на обзор времени — то есть на хроноскопию — в связи с моими изысканиями по истории древнего Карфагена. Однако получить разрешение мне не удалось. Дотацию на исследования мне дали в самом законном порядке. Моя интеллектуальная работа протекает в полном соответствии с правилами, и все же…
— Разумеется, о нарушении правил и речи быть не может, — перебил его Эремен еще более любезным тоном, перебирая тонкие репродукционные листки в папке с фамилией Поттерли. Эти листки были получены с Мультивака, чей обширный аналогический мозг содержал весь архив отдела. После окончания беседы листки можно будет уничтожить, а в случае необходимости репродуцировать вновь за какие-нибудь две-три минуты.
Эремен просматривал листки, а в его ушах продолжал звучать тихий, монотонный голос профессора Поттерли:
— Мне следует объяснить, что проблема, над которой я работаю, имеет огромное значение. Карфаген знаменовал высший расцвет античной коммерции. Карфаген доримской эпохи во многом можно сравнить с доатомной Америкой. По крайней мере в том отношении, что он придавал огромное значение ремеслу, коммерции и вообще деловой деятельности. Карфагеняне были самыми отважными мореходами и открывателями новых земель до викингов и в этом отношении намного превосходили хваленых греков. Истинная история Карфагена была бы очень поучительной. Однако до сих пор все, что нам известно о нем, извлекалось из письменных памятников его злейших врагов — греков и римлян. Карфаген ничего не написал в собственную защиту или эти труды не сохранились. И вот карфагеняне вошли в историю как кучка архизлодеев, и, возможно, без всякого к тому основания. Обзор времени облегчил бы установление истины.
И так далее и тому подобное.
Продолжая проглядывать репродукционные листки, Эремен заметил:
— Поймите, профессор Поттерли, хроноскопия, или обзор времени, как вы предпочитаете ее называть, процесс весьма трудный.
Профессор Поттерли, недовольный, что его перебили, нахмурился и сказал:
— Я ведь прошу только сделать отдельный обзор определенных эпох и мест, которые я укажу.
Эремен вздохнул:
— Даже несколько обзоров, даже один… Это же невероятно тонкое искусство. Скажем, наводка на фокус, получение на экране искомой сцены, удержание ее на экране. А синхронизация звука, которая требует абсолютно независимой цепи!
— Но ведь проблема, над которой я работаю, достаточно важна, чтобы оправдать значительную затрату усилий.
— Разумеется, сэр! Несомненно, — сразу ответил Эремен (отрицать важность чьей-то темы было бы непростительной грубостью). — Но поймите, даже самый простой обзор требует длительной подготовки. Список тех, кому необходимо воспользоваться хроноскопом, огромен, а очередь к Мультиваку, снабжающему нас необходимыми предварительными данными, еще больше.
— Но неужели ничего нельзя сделать? — расстроено спросил Поттерли. — Ведь уже два года…
— Вопрос первоочередности, сэр. Мне очень жаль… Может быть, сигарету?
Историк вздрогнул, его глаза внезапно расширились, и он отпрянул от протянутой ему пачки. Эремен удивленно отодвинул ее, хотел было сам достать сигарету, но передумал.
Когда он убрал пачку, Поттерли вздохнул с откровенным облегчением и сказал:
— А нельзя ли как-нибудь пересмотреть список и поставить меня на самый ранний срок, какой только возможен? Право, не знаю, как объяснить…
Эремен улыбнулся. Некоторые его посетители на этой стадии предлагали деньги, что, конечно, тоже не приносило им никакой пользы.
— Первоочередность тем устанавливает счетно-вычислительная машина, — объяснил он. — Самовольно менять ее решения я не имею права.
Поттерли встал. Он был очень небольшого роста — от силы пять с половиной футов.
— В таком случае всего хорошего, сэр, — сухо сказал он.
— Всего хорошего, профессор Поттерли, и, поверьте, я искренне сожалею.
Он протянул руку, и Поттерли вяло ее пожал. Едва историк вышел, как Эремен позвонил секретарше и, когда она появилась, вручил ей папку.
— Это можно уничтожить, — сказал он.
Оставшись один, он с горечью улыбнулся. Еще одна услуга из тех, которые он уже четверть века оказывает человечеству. Услуга через отказ. Ну, во всяком случае, с этим чудаком затруднений не было. В иных случаях приходилось оказывать давление по месту работы, а иногда и отбирать дотации. Через пять минут Эремен уже забыл про профессора Поттерли, а когда он впоследствии вспоминал этот день, то неизменно приходил к выводу, что никакие дурные предчувствия его не томили.
В течение первого года после того, как его впервые постигло это разочарование, Арнольд Поттерли испытывал… только разочарование. Однако на втором году из этого разочарования родилась мысль, которая сперва напугала его, а потом увлекла. Воплотить эту мысль в дело ему мешали два обстоятельства, но к ним не относился тот несомненный факт, что такие действия были бы вопиющим нарушением этики.
Мешала ему, во-первых, еще не угасшая надежда, что власти в конце концов дадут необходимое разрешение. Но теперь, после беседы с Эременом, эта надежда окончательно угасла.
Вторым препятствием была даже не надежда, а горькое сознание собственной беспомощности. Он не был физиком и не знал ни одного физика, к которому мог бы обратиться за помощью. На физическом факультете его университета работали люди, избалованные дотациями и поглощенные своей специальностью. В лучшем случае они просто не стали бы его слушать, а в худшем доложили бы начальству о его интеллектуальной анархии, а тогда его, пожалуй, вообще лишили бы дотации на изучение Карфагена, от которой зависело все.
Пойти на такой риск он не мог. Но, с другой стороны, продолжать исследования он мог бы только с помощью хроноскопии. Без нее и дотация лишалась всякого смысла.
За неделю до свидания с Эременом перед Поттерли, хотя тогда он этого не осознал, открылась возможность преодолеть второе препятствие. Это произошло на одном из традиционных факультетских чаепитий. Поттерли неизменно являлся на такие официальные сборища, потому что видел в этом свою обязанность, а к своим обязанностям он относился серьезно. Однако, исполнив этот долг, он уже не считал нужным поддерживать светский разговор или знакомиться с новыми людьми. Всегда воздержанный, он выпивал не больше двух рюмок, обменивался двумя-тремя вежливыми фразами с деканом или заведующими кафедрами, сухо улыбался остальным и уходил домой как мог раньше.
И на этом последнем чаепитии он при обычных обстоятельствах не обратил бы ни малейшего внимания на молодого человека, который одиноко стоял в углу. Ему бы и в голову не пришло заговорить с этим молодым человеком. Но сложное стечение обстоятельств заставило его на этот раз поступить наперекор своим привычкам.
Утром за завтраком миссис Поттерли грустно сказала, что ей опять снилась Лорель, но на этот раз взрослая Лорель, хотя лицо ее оставалось лицом той трехлетней девочки, которая была их дочерью. Поттерли не перебивал жену. В давние времена он пытался бороться с этими ее настроениями, когда она бывала способна думать только о прошлом и о смерти. Ни сны, ни разговоры не вернут им Лорель. И все же, если Кэролайн Поттерли так легче, пусть она грезит и разговаривает.
Однако, отправившись на утреннюю лекцию, Поттерли вдруг обнаружил, что на этот раз нелепые мысли Кэролайн как-то подействовали на него. Взрослая Лорель! Прошло уже почти двадцать лет со дня ее смерти — смерти их единственного ребенка и тогда и во веки веков. И все это время, вспоминая ее, он вспоминал трехлетнюю девочку.
Но теперь он подумал: будь она жива сейчас, ей было бы не три года, а почти двадцать три!
И против своей воли он попытался вообразить, как Лорель постепенно становилась бы старше, пока наконец ей не исполнилось бы двадцать три года. Это ему не удалось.
И все же он пытался: Лорель красит губы, за Лорель ухаживают, Лорель… выходит замуж!
Вот почему, когда он увидел, как этот молодой человек застенчиво стоит в стороне от равнодушно снующей вокруг группы преподавателей, ему пришла в голову мысль, достойная Дон Кихота: ведь такой вот мальчишка мог жениться на Лорель! А может быть, даже и этот самый мальчишка…
Ведь Лорель могла бы познакомиться с ним — здесь, в университете, или как-нибудь вечером у себя дома, если бы они пригласили этого молодого человека в гости. Они могли бы понравиться друг другу. Лорель, несомненно, была бы хорошенькой, а этот юноша даже красив — смуглое, худое, сосредоточенное лицо, уверенные, легкие движения.
Эти сны наяву внезапно рассеялись. Однако Поттерли поймал себя на глупом ощущении, что молодой человек уже не посторонний ему, а как бы его возможный зять в стране того, что могло бы быть. И вдруг заметил, что уже подошел к юноше. Это был почти самогипноз. Он протянул руку:
— Я Арнольд Поттерли с исторического факультета. Если не ошибаюсь, вы здесь недавно?
Молодой человек, по-видимому, удивился и неловко перехватил рюмку левой рукой, чтобы освободить правую.
— Меня зовут Джонас Фостер, сэр, — сказал он, пожимая руку Поттерли, — я преподаватель физики. Я в университете недавно — первый семестр.
Поттерли кивнул:
— Желаю вам здесь счастья и больших успехов!
На этом тогда все и кончилось. Поттерли опомнился, смутился и отошел. Он было оглянулся, но иллюзия родственной связи полностью рассеялась. Действительность вновь вступила в свои права, и он рассердился на себя за то, что поддался нелепым рассказам жены про Лорель.
Однако спустя неделю, в тот момент, когда Эремен что-то втолковывал ему, Поттерли вдруг вспомнил про молодого человека. Преподаватель физики! Молодой преподаватель! Неужели в ту минуту он оглох? Неужели произошло короткое замыкание где-то между ухом и мозгом? Или сработала подсознательная самоцензура, так как в ближайшем будущем ему предстояло свидание с заведующим отделом хроноскопии? Свидание это оказалось бесполезным, но воспоминание о молодом человеке, с которым он обменялся парой ничего не значащих фраз, помешало Поттерли настаивать на своей просьбе. Ему даже захотелось поскорее уйти.
И, возвращаясь в скоростном вертолете в университет, Поттерли чуть не пожалел, что никогда не был суеверным человеком. Ведь тогда он мог бы утешиться мыслью, что это случайное, ненужное знакомство в действительности было делом рук всеведущей и целеустремленной Судьбы.
Джонас Фостер неплохо знал академическую жизнь. Одна только долгая изнурительная борьба за первую ученую степень сделала бы ветераном кого угодно, а ему ведь потом был поручен курс лекций, и это окончательно его отполировало.
Однако теперь он стал «преподавателем Джонасом Фостером». Впереди его ждало профессорское звание. И поэтому его отношение к университетским профессорам стало иным.
Во-первых, его дальнейшее повышение зависело от того, отдадут ли они ему свои голоса, а во-вторых, он пробыл на кафедре так недолго, что еще не знал, кто именно из ее членов близок с деканом или даже с ректором. Роль искушенного университетского политика его не привлекала, и он был даже убежден, что интриган из него получится самый посредственный, но какой смысл лягать самого себя, чтобы доказать себе же эту истину?
Вот почему Фостер согласился выслушать этого тихого историка, в котором тем не менее чувствовалось какое-то непонятное напряжение, вместо того чтобы тут же оборвать его и указать ему на дверь. Во всяком случае, именно таково было его первое намерение.
Он хорошо помнил Поттерли. Ведь это Поттерли подошел к нему на факультетском чаепитии (жуткая процедура!). Старичок посмотрел на него остекленевшими глазами, выдавил из себя две неловкие фразы, а потом как-то сразу опомнился и быстро отошел.
Тогда Фостера это позабавило, но теперь…
А вдруг Поттерли подошел к нему не случайно, вдруг он искал этого знакомства, а вернее, старался внушить ему мысль, что он, Поттерли, — чудак, эксцентричный старик, но вполне безобидный? И вот теперь пришел проверить лояльность Фостера, нащупать неортодоксальные убеждения. Разумеется, его проверяли, прежде чем назначить на это место. И все же…
Возможно, конечно, что Поттерли вполне искренен, возможно, он действительно не понимает, что делает. А может быть, превосходно понимает; может быть, он попросту опасный провокатор. Пробормотав: «Ну что ж…», Фостер, чтобы выиграть время, вытащил пачку сигарет: сейчас он предложит сигарету Поттерли, даст ему огонька, закурит сам — и проделает все это очень медленно, чтобы выиграть время.
Однако Поттерли воскликнул:
— Ради Бога, доктор Фостер, уберите сигареты!
— Простите, сэр, — с недоумением сказал Фостер.
— Что вы! Просить извинения следует мне. Но я не выношу запаха табачного дыма. Идиосинкразия. Еще раз прошу извинения.
Он заметно побледнел, и Фостер поспешил убрать сигареты. Страдая от невозможности закурить, Фостер решил выйти из положения самым простым образом.
— Я очень польщен, что вы обратились ко мне за советом, профессор Поттерли, но дело в том, что я не занимаюсь нейтриникой. В этой области я не профессионал. С моей стороны неуместно даже высказать какое-либо мнение, и, откровенно говоря, я предпочел бы, чтобы вы не расспрашивали меня об этом.
Чопорное лицо старика стало суровым.
— Я не понял ваших слов о том, что вы не занимаетесь нейтриникой. Вы ведь пока ничем не занимаетесь. Вам еще не дали никакой дотации, не так ли?
— Это же мой первый семестр.
— Я знаю. Вероятно, вы даже еще не подали заявку на дотацию?
Фостер слегка улыбнулся. За три месяца, проведенных в университете, он так и не сумел привести свою заявку о дотации на научно-исследовательскую работу в мало-мальски приличный вид — ее нельзя было даже вручить для доработки профессиональному писателю при науке, не говоря уже о том, чтобы прямо подать в Комиссию по делам науки.
(К счастью, заведующий его кафедрой отнесся к этому вполне терпимо. «Не торопитесь, Фостер, — сказал он, — поразмыслите над темой, убедитесь, что хорошо знаете свой путь и то, куда он приведет. Ведь едва вы получите дотацию, как тем самым официально закрепите за собой область вашей специализации и, на радость или на горе, не расстанетесь с ней до конца вашей академической карьеры». Этот совет был достаточно банален, однако банальность нередко обладает достоинством истины, и Фостеру это было известно.)
— По образованию и по склонности, доктор Поттерли, я гипероптик с уклоном в малую гравитику. Так я охарактеризовал себя, когда подавал заявление на факультет. Официально это пока еще не моя область специализации, но именно ее я собираюсь выбрать. Только ее! А нейтриникой я вообще не занимался.
— Почему? — немедленно спросил Поттерли.
Фостер с недоумением посмотрел на него. Такие бесцеремонные расспросы о чужом профессиональном статусе, естественно, вызывали раздражение. И он ответил уже менее любезным тоном:
— Там, где я учился, курса нейтриники не читали.
— Бог мой, где же вы учились?
— В Массачусетском технологическом институте, — невозмутимо ответил Фостер.
— И там не преподают нейтринику?
— Нет. — Фостер чувствовал, что краснеет, и начал оправдываться: — Это же очень узкая тема, не имеющая особого значения. Хроноскопия, пожалуй, обладает некоторой ценностью, но другого практического применения у нейтриники нет, а сама по себе хроноскопия — это тупик.
Историк бросил на него возбужденный взгляд:
— Скажите мне только одно: вы можете назвать специалиста по нейтринике?
— Нет, не могу, — грубо ответил Фостер.
— Ну, в таком случае вы, может быть, знаете учебное заведение, где преподают нейтринику?
— Нет, не знаю.
Поттерли улыбнулся кривой невеселой улыбкой. Фостеру эта улыбка не понравилась, она показалась ему оскорбительной, и он настолько рассердился, что даже сказал:
— Позволю себе заметить, сэр, что вы переступаете границы.
— Что?
— Я говорю, что вам, историку, интересоваться какой-либо областью физики, интересоваться профессионально, — это… — он умолк, не решаясь все-таки произнести последнее слово вслух.
— Неэтично?
— Вот именно, профессор Поттерли.
— Меня толкают на это результаты моих исследований, — сказал Поттерли напряженным шепотом.
— В таком случае вам следует обратиться в Комиссию по делам науки. Если Комиссия разрешит…
— Я уже обращался туда, но безрезультатно.
— Тогда вы, разумеется, должны прекратить эти исследования.
Фостер чувствовал, что говорит, как самодовольный педант, гордящийся своей добропорядочностью, но не мог же он допустить, чтобы этот человек спровоцировал его на проявление интеллектуальной анархии. Он ведь только начинает свою научную карьеру и не имеет права рисковать по-глупому.
Но, очевидно, его слова задели Поттерли. Без всякого предупреждения историк разразился бурей слов, каждое из которых свидетельствовало о полной безответственности.
— Ученые, — сказал он, — могут считаться свободными только в том случае, если они свободно следуют своему свободному любопытству. Наука, — сказал он, — силой загнанная в заранее определенную колею теми, в чьих руках сосредоточены деньги и власть, становится рабской и неминуемо загнивает. Никто, — сказал он, — не имеет права распоряжаться интеллектуальными интересами других.
Фостер слушал его с большим недоверием. Ничего нового в этом потоке слов для него не было: студенты любили шокировать своих преподавателей подобными рассуждениями, да и он сам раза два позволил себе поразвлечься таким способом. Вообще каждый человек, изучавший историю науки, прекрасно знал, что в старину многие придерживались подобных взглядов. И все же Фостеру казалось странным, почти противоестественным, что современный ученый может проповедовать столь дикую чепуху. Никому бы и в голову не пришло организовать производственный процесс так, чтобы каждый рабочий занимался чем хотел и когда хотел, и никто не осмелится повести корабль, руководствуясь противоречивыми мнениями каждого отдельного члена команды. Все считают бесспорным, что и на заводе, и на корабле должно существовать какое-то одно центральное руководство. Так почему же то, что идет на пользу заводу и кораблю, вдруг может оказаться вредным для науки?
Можно, конечно, возразить, что человеческий интеллект обладает качественным отличием от корабля или завода, однако история научно-исследовательских изысканий доказывала обратное.
Быть может, в дни, когда наука была юной и вся или почти вся совокупность человеческих знаний оказывалась доступной индивидуальному человеческому уму, — быть может, в те дни она и не нуждалась в руководстве. Слепое блуждание по обширнейшим областям неведомого порой случайно приводило к удивительным открытиям.
Однако по мере накопления знаний приходилось изучать и суммировать все больше и больше уже известных фактов для того, чтобы путешествие в неведомое оказалось плодотворным. Ученым пришлось специализироваться. Исследователь уже нуждался в услугах библиотеки, которую сам собрать не мог, а также в приборах, которые сам купить был не в состоянии. Индивидуальный исследователь все больше и больше уступал место группе исследователей, а потом и научно-исследовательскому институту.
Фонды, необходимые для научных исследований, с каждым годом увеличивались, а приборы и инструменты становились все более многочисленными. Где сейчас найдется на Земле настолько захудалый колледж, что в нем не окажется хотя бы одного ядерного микрореактора или хотя бы одной трехступенчатой счетно-вычислительной машины?
Субсидирование научных исследований оказалось не по плечу отдельным частным лицам уже много веков назад. К 1940 году только государство, ведущие отрасли промышленности и наиболее крупные университеты и научные центры имели возможность выделять достаточные средства на научную работу в широких масштабах.
К 1960 году даже крупнейшие университеты уже полностью существовали лишь на государственные дотации, а научные центры держались только на налоговых льготах и средствах, собиравшихся по подписке. К 2000 году промышленные объединения стали частью всемирного правительства, и с тех пор финансирование научно-исследовательской работы, а значит, и общее руководство ею, естественно, сосредоточились в руках специального государственного органа.
Все сложилось само собой и очень удачно. Каждая отрасль науки была точно приспособлена к нуждам общества, а работы, проводившиеся в различных ее областях, умело координировались. Материальный прогресс, которым была ознаменована последняя половина века, достаточно убедительно свидетельствовала о том, что наука отнюдь не загнивает.
Фостер попытался изложить хоть малую часть этих соображений своему собеседнику, но Поттерли нетерпеливо перебил его:
— Вы, как попугай, повторяете измышления официальной пропаганды. У вас же под самым носом пример, начисто опровергающий официальную точку зрения. Вы верите мне?
— Откровенно говоря, нет.
— Ну а почему же вы утверждаете, что обзор времени — это тупик? Почему нейтриника не имеет никакого значения? Вы это утверждаете. Вы утверждаете это категорически. А ведь вы ее не изучали. По вашим же словам, вы не имеете о ней ни малейшего представления. Ее даже не преподавали в вашем учебном заведении…
— Но разве это не является прямым доказательством ее бесполезности?
— А, понимаю! Ее не преподают, потому что она бесполезна. А бесполезна она потому, что ее не преподают. Вам нравится такая логика?
Фостер растерялся:
— Но так говорится в книгах…
— Вот именно. В книгах говорится, что нейтриника не имеет никакого значения. Ваши профессора говорят вам это, почерпнув свои сведения из книг. А в книгах это утверждается потому, что их пишут профессора. Но кто утверждал это, опираясь на собственные знания и опыт? Кто ведет исследовательскую работу в этой области? Вам это известно?
— По-моему, этот спор бесплоден, профессор Поттерли, — сказал Фостер. — А мне необходимо закончить работу…
— Еще минутку! Я хотел бы обратить ваше внимание на одну вещь. Как она вам покажется? Я утверждаю, что правительство активно препятствует работам в области нейтриники и хроноскопии. Оно препятствует практическому применению хроноскопии.
— Не может быть!
— Почему же? Это вполне в его силах. То самое централизованное руководство наукой, о котором вы говорили. Если правительство отказывает в фондах какой-либо отрасли науки, эта отрасль гибнет. Так оно уничтожило нейтринику. Оно имело возможность это сделать, и оно это сделало.
— Но зачем?
— Не знаю. И хочу, чтобы вы это выяснили. Я бы и сам попробовал, но у меня нет специальных знаний. Я пришел к вам потому, что вы молоды и только что завершили свое образование. Неужели артерии вашего интеллекта уже поддались склерозу? Неужели в вас не осталось ни любознательности, ни любопытства? Неужели вам не хочется просто знать? Находить ответы на загадки?
Говоря это, историк впивался взглядом в лицо Фостера. Их носы почти соприкасались, но Фостер до того растерялся, что даже не догадался отступить на шаг.
Ему, разумеется, следовало бы попросту указать Поттерли на дверь. Или даже самому вышвырнуть его.
Удерживало его отнюдь не уважение к возрасту и положению историка. И, уж конечно, Поттерли его ни в чем не убедил. Нет, в нем вдруг заговорила былая студенческая гордость.
В самом деле, почему в МТИ не читался курс нейтриники? И, кстати, насколько он помнил, в институтской библиотеке не было ни единой книги по нейтринике. Во всяком случае, он ни разу не видел там ничего подобного.
Фостер невольно задумался.
И это его погубило.
Кэролайн Поттерли когда-то была очень привлекательна. И даже теперь в отдельных случаях — на званых обедах, например, или на университетских приемах — ей удавалось отчаянным усилием воли возродить частицу этой привлекательности.
В обычной же обстановке она «обмякала». Именно это слово она употребляла, когда ее охватывало отвращение к себе. С возрастом она располнела, но не только этим объяснялась ее дряблость. Казалось, будто ее мускулы совсем расслабли, так что она еле волочила ноги, когда шла, под глазами набухли мешки, а щеки обвисали тяжелыми складками. Даже ее седеющие волосы казались не просто прямыми, но бесконечно усталыми. Они не вились как будто только потому, что тупо подчинились силе земного тяготения.
Кэролайн Поттерли поглядела в зеркало и решила, что сегодня она выглядит особенно скверно, — и ей не нужно догадываться о причине.
Все тот же сон про Лорель. Такой странный — Лорель вдруг стала взрослой. С тех пор Кэролайн не находила себе места. И все-таки напрасно она рассказала об этом Арнольду. Он ничего не сказал — он давно уже ничего не говорит в подобных случаях, — но все-таки это дурно на него повлияло. Несколько дней после ее рассказа он был особенно сдержан. Возможно, он действительно готовился к этому важному разговору с высокопоставленным чиновником (он все время твердил, что не ждет от их беседы ничего хорошего), но возможно также, что все дело было в ее сне.
Уж лучше бы он, как раньше, резко прикрикнул на нее: «Перестань думать о прошлом, Кэролайн! Разговорами ее не вернешь, да и сны помогут не больше».
Им обоим было тяжело тогда. Невыносимо тяжело. Ее постоянно терзало ощущение неискупимой вины: в тот вечер ее не было дома! Если бы она не ушла, если бы она не отправилась за совершенно ненужными покупками, их было бы тогда двое. И вдвоем они спасли бы Лорель.
А бедному Арнольду это не удалось. Он сделал все, что мог, и чуть было сам не погиб. Из горящего дома он выбежал, шатаясь, обнаженный, задыхающийся, полуослепший от жара и дыма — с мертвой Лорель на руках.
И с тех пор длится этот кошмар, никогда до конца не рассеиваясь.
Арнольд постепенно замкнулся в себе. Он говорил теперь тихим голосом, держался мягко и спокойно — и сквозь эту оболочку ничто не вырывалось наружу, ни одной вспышки молнии. Он стал педантичным и поборол свои дурные привычки: бросил курить и перестал ругаться в минуты волнения. Он добился дотации на составление новой истории Карфагена и все подчинил этой цели.
Сначала она пыталась помогать ему: подбирала литературу, перепечатывала его заметки, микрофильмировала их. А потом вдруг все оборвалось.
Как-то вечером она внезапно вскочила из-за письменного стола и едва успела добежать до ванной, как у нее началась мучительная рвота. Муж бросился за ней, растерянный и перепуганный.
— Кэролайн, что с тобой?
Он дал ей выпить коньяку, и она постепенно пришла в себя. — Это правда? То, что они делали? — Кто?
— Карфагеняне.
Он с недоумением посмотрел на нее, и она кое-как, обиняком, попыталась объяснить ему, в чем дело. Говорить об этом прямо у нее не было сил.
Карфагеняне, по-видимому, поклонялись Молоху — медному, полому внутри идолу, в животе которого была устроена печь. Когда городу грозила опасность, перед идолом собирались жрецы я народ, и после надлежащих церемоний и песнопений опытные руки умело швыряли в печь живых младенцев.
Перед жертвоприношением им давали сласти, чтобы действенность его не ослабела из-за испуганных воплей, оскорбляющих слух Бога. Затем раздавался грохот барабанов, заглушавший предсмертные крики детей, — на это требовалось несколько секунд. При церемонии присутствовали родители, которым было положено радоваться: ведь такая жертва угодна богам…
Арнольд Поттерли угрюмо нахмурился. Все это гнуснейшая ложь, сказал он, выдуманная врагами Карфагена. Ему следовало бы предупредить ее заранее. История знает немало примеров такой пропагандистской лжи. Греки утверждали, будто древние евреи в своей святая святых поклонялись ослиной голове. Римляне говорили, будто первые христиане были человеконенавистниками и приносили в катакомбах в жертву детей язычников.
— Так, значит, они этого не делали? — спросила Кэролайн. — Я убежден, что нет. Хотя у первобытных финикийцев и могло быть что-нибудь подобное. Человеческие жертвоприношения не редкость в первобытных культурах. Но культуру Карфагена в дни его расцвета никак нельзя назвать первобытной. Человеческие жертвоприношения часто перерождаются в определенные символические ритуалы вроде обрезания. Греки и римляне по невежеству или по злобе могли истолковать символическую карфагенскую церемонию как подлинное жертвоприношение.
— Ты в этом уверен?
— Пока еще нет, Кэролайн. Но когда у меня накопится достаточно материала, я попрошу разрешения применить хроноскопию, и это даст возможность разрешить вопрос раз и навсегда.
— Хроноскопию?
— Обзор времени. Можно будет настроиться на древний Карфаген в период серьезного национального кризиса, например на 202 год до нашей эры, год высадки Сципиона Африканского, и посмотреть собственными глазами, что происходило. И ты увидишь, что я был прав.
Он ласково погладил ее по руке и ободряюще улыбнулся, но ей вот уже две недели каждую ночь снилась Лорель, и она больше не помогала мужу в его работе над историей Карфагена. И он не обращался к ней за помощью.
А теперь она собиралась с силами, готовясь к его возвращению. Он позвонил ей днем, как только вернулся в город, сказал, что видел главу отдела и что все кончилось, как он и ожидал. Значит — неудачей… И все же в его голосе не проскользнула так много говорящая ей нота отчаяния, а его лицо на телеэкране казалось совсем спокойным. Ему нужно побывать еще в одном месте, объяснил он.
Значит, Арнольд вернется домой поздно. Но это не имело ни малейшего значения. Оба они не придерживались определенных часов еды и были совершенно равнодушны к тому, когда именно банки извлекались из морозильника, и даже — какие именно банки, и когда приводился в действие саморазогреватель.
Однако когда Поттерли вернулся домой, Кэролайн невольно удивилась. Вел он себя как будто совершенно нормально: поцеловал ее и улыбнулся, снял шляпу и спросил, не случилось ли чего-нибудь за время его отсутствия. Все было почти так же, как всегда. Почти.
Однако Кэролайн научилась подмечать мелочи, а он выполнял привычный ритуал с какой-то торопливостью. И этого оказалось достаточно для ее тренированного глаза: Арнольд был чем-то взволнован.
— Что произошло? — спросила она. Поттерли сказал:
— Послезавтра у нас к обеду будет гость, Кэролайн, ты не против?
— Не-ет. Кто-нибудь из знакомых?
— Ты его не знаешь. Молодой преподаватель. Он тут недавно. Я с ним разговаривал сегодня.
Внезапно он повернулся к жене, подхватил ее за локти и несколько секунд продержал так, а потом вдруг смущенно отпустил, словно стыдясь проявления своих чувств.
— С каким трудом я пробился сквозь его скорлупу, — сказал он. — Подумать только! Ужасно, ужасно, как все мы склонились под ярмо и с какой нежностью относимся к собственной сбруе.
Миссис Поттерли не совсем поняла, что он имел в виду, но она не зря в течение года наблюдала, как под его спокойствием нарастал бунт, как мало-помалу он начинал все смелее критиковать правительство. И она сказала:
— Надеюсь, ты был с ним осмотрителен?
— Как так — осмотрителен? Он обещал заняться для меня нейтриникой.
«Нейтриника» была для миссис Поттерли всего лишь звонкой бессмыслицей, однако она не сомневалась, что к истории это, во всяком случае, никакого касательства не имеет.
— Арнольд, — тихо произнесла она. — Зачем ты это делаешь? Ты лишишься своего места. Это же…
— Это же интеллектуальный анархизм, дорогая моя, — перебил он. — Вот выражение, которое ты искала. Прекрасно, значит, я анархист. Если государство не позволяет мне продолжать мои исследования, я продолжу их на свой страх и риск. А когда я проложу путь, за мной последуют другие… А если не последуют, какая разница? Карфаген — вот что важно! И расширение человеческих познаний, а не ты и не я.
— Но ты же не знаешь этого молодого человека Что, если он агент комиссара по делам науки?
— Вряд ли. И я готов рискнуть. — Сжав правую руку в кулак, Поттерли легонько потер им левую ладонь. — Он теперь на моей стороне. В этом я уверен. Хочет он того или не хочет, но это так. Я умею распознавать интеллектуальное любопытство в глазах, в лице, в поведении, а это смертельное заболевание для прирученного ученого. Даже в наше время выбить такое любопытство из индивида оказывается не так-то просто, а молодежь особенно легко заражается… И почему, черт возьми, мы должны перед чем-то останавливаться? Нет, мы построим собственный хроноскоп, и пусть государство отправляется к…
Он внезапно умолк, покачал головой и отвернулся.
— Будем надеяться, что все кончится хорошо, — сказала миссис Поттерли, в беспомощном ужасе чувствуя, что все кончится очень плохо и придется забыть о дальнейшей карьере мужа и об обеспеченной старости.
Только она из них всех томилась предчувствием беды. И, конечно, совсем не той беды.
Джонас Фостер явился в дом Поттерли, расположенный за пределами университетского городка, с опозданием на полчаса. До самого конца он не был уверен, что пойдет. Затем в последний момент он почувствовал, что не может нарушить правила вежливости, не явившись на обед, как обещал, и даже не предупредив хозяев заранее. А кроме того, его разбирало любопытство.
Обед тянулся бесконечно. Фостер ел без всякого аппетита. Миссис Поттерли была рассеянна и молчалива — она только однажды вышла из своего транса, чтобы спросить, женат ли он, и, узнав, что нет, неодобрительно хмыкнула. Профессор Поттерли задавал ему нейтральные вопросы о его академической карьере и чопорно кивал головой.
Трудно было придумать что-нибудь более пресное, тягучее и нудное.
Фостер подумал:
«Он кажется таким безвредным…»
Последние два дня Фостер изучал труды профессора Поттерли. Разумеется, между делом, почти исподтишка. Ему не слишком-то хотелось показываться в Библиотеке социальных наук. Правда, история принадлежала к числу смежных дисциплин, а широкая публика нередко развлекалась чтением исторических трудов — иногда даже в образовательных целях.
Однако физик — это все-таки не «широкая публика». Стоит Фостеру заняться чтением исторической литературы, и его сочтут чудаком — это ясно, как закон относительности, а там заведующий кафедрой, пожалуй, задумается, насколько его новый преподаватель «подходит для них».
Вот почему Фостер действовал крайне осторожно. Он сидел в самых уединенных нишах, а входя и выходя, старался низко опускать голову.
Он выяснил, что профессор Поттерли написал три книги и несколько десятков статей о государствах древнего Средиземноморья, причем все статьи последних лет (напечатанные в «Историческом вестнике») были посвящены доримскому Карфагену и написаны в весьма сочувственном тоне.
Это, во всяком случае, подтверждало объяснения историка, и подозрения Фостера несколько рассеялись… И все же он чувствовал, что правильнее и благоразумнее всего было бы отказаться наотрез с самого начала.
Ученому вредно излишнее любопытство, думал он, сердясь на себя. Оно чревато опасностями.
Когда обед закончился, Поттерли провел гостя к себе в кабинет, и Фостер в изумлении остановился на пороге: стены были буквально скрыты книгами.
И не только микропленочными. Разумеется, здесь были и такие, но их число значительно уступало печатным книгам — книгам, напечатанным на бумаге! Просто не верилось, что существует столько старинных книг, да еще годных для употребления.
И Фостеру стало не по себе. С какой стати человеку вдруг понадобилось держать дома столько книг? Ведь все они наверняка есть в университетской библиотеке или, на худой конец, в Библиотеке конгресса — нужно только побеспокоиться и заказать микрофильм.
Домашняя библиотека отдавала чем-то недозволенным. Она была пропитана духом интеллектуальной анархии. Но, как ни странно, именно это последнее соображение успокоило Фостера. Уж лучше пусть Поттерли будет подлинным анархистом, чем провокатором.
И с этой минуты время помчалось на всех парах, принося с собой много удивительного.
— Видите ли, — начал Поттерли ясным, невозмутимым голосом, — я попробовал отыскать кого-нибудь, кто пользовался бы в своей работе хроноскопией. Разумеется, задавать такой вопрос прямо я не мог — это значило бы предпринять самочинные изыскания.
— Конечно, — сухо заметил Фостер, удивляясь про себя, что подобное пустячное соображение могло остановить его собеседника.
— Я наводил справки косвенно…
И он их наводил! Фостер был потрясен объемом переписки, посвященной мелким спорным вопросам культуры древнего Средиземноморья, в процессе которой профессору Поттерли удавалось добиться от своих корреспондентов случайных упоминаний вроде: «Разумеется, ни разу не воспользовавшись хроноскопией…» или «Ожидая ответа на мою просьбу применить хроноскоп, на что в настоящий момент вряд ли можно рассчитывать…»
— И я адресовал эти вопросы отнюдь не наугад, — объяснил Поттерли. — Институт хроноскопии издает ежемесячный бюллетень, в котором печатаются исторические сведения, полученные путем обзора времени. Обычно бюллетень включает одно-два таких сообщения. Меня сразу поразила тривиальность сведений, добытых таким образом, их незначительность. Так почему же подобные изыскания считаются первоочередными, а мое исследование нет? Тогда я начал писать тем, кто скорее всего мог заниматься работами, упоминавшимися в бюллетене. И, как я вам только что показал, никто из этих ученых не пользовался хроноскопом. Ну а теперь давайте рассмотрим все по пунктам…
Наконец Фостер, у которого голова шла кругом от множества свидетельств, трудолюбиво собранных Поттерли, растерянно спросил:
— Но для чего же все это делается?
— Не знаю, — ответил Поттерли. — Но у меня есть своя теория. Когда Стербинский изобрел хроноскоп, — как видите, мне это известно, — о его изобретении много писали. Затем правительство конфисковало аппарат и решило прекратить дальнейшие исследования в этой области и воспрепятствовать дальнейшему использованию уже готового хроноскопа. Но в этом случае людям непременно захотелось бы узнать, почему он не используется. Любопытство — ужасный порок, доктор Фостер.
Физик внутренне согласился с ним.
— Так вообразите, — продолжал Поттерли, — насколько умнее было бы сделать вид, будто хроноскоп используется. Прибор потерял бы всякий элемент таинственности и перестал бы служить предлогом для законного любопытства или приманкой для любопытства противозаконного.
— Но вы-то полюбопытствовали, — заметил Фостер. Поттерли, казалось, смутился.
— Со мной дело обстоит иначе, — сердито сказал он. — Моя работа действительно важна, а их проволочки и отказы граничат с издевательством, и я не намерен с этим мириться.
«Почти мания преследования, помимо всего прочего», — уныло подумал Фостер.
И тем не менее историк, страдал он манией преследования или нет, сумел кое-что обнаружить: Фостер не мог уже больше отрицать, что с нейтриникой дело обстоит действительно как-то странно.
Но чего добивается Поттерли? Это по-прежнему тревожило Фостера. Если Поттерли затеял все это не для того, чтобы проверить этические принципы Фостера, так чего же он все-таки добивается?
Фостер старался рассуждать логично. Если интеллектуальный анархист, страдающий легкой формой мании преследования, хочет воспользоваться хроноскопом и твердо верит, что власти предержащие сознательно ему препятствуют, что он предпримет?
«Будь я на его месте, — подумал он, — что сделал бы я?» Он сказал размеренным голосом:
— Но, может быть, хроноскопа вообще не существует. Поттерли вздрогнул. Его неизменное спокойствие чуть не разлетелось вдребезги. На мгновение Фостер уловил в его взгляде нечто менее всего похожее на спокойствие.
Однако историк все же не утратил власти над собой. Он сказал:
— О нет! Хроноскоп, несомненно, должен существовать.
— Но почему? Вы видели его? А я? Может быть, именно этим все и объясняется? Может быть, они вовсе не прячут имеющийся у них хроноскоп, а его у них вовсе нет?
— Но ведь Стербинский действительно жил! Он же построил хроноскоп! Это факты.
— Так говорится в книгах, — холодно возразил Фостер.
— Послушайте! — Поттерли забылся настолько, что схватил Фостера за рукав. — Мне необходим хроноскоп. Я должен его получить. И не говорите мне, что его вообще нет. Нам просто нужно разобраться в нейтринике настолько, чтобы…
Поттерли вдруг умолк.
Фостер выдернул свой рукав из его пальцев. Он знал, как собирался историк докончить эту фразу, и докончил ее сам:
— …чтобы самим его построить?
Поттерли насупился, словно ему не хотелось говорить об этом прямо, но все же отозвался:
— А почему бы и нет?
— Потому что об этом не может быть и речи, — отрезал Фостер. — Если то, что я читал, соответствует истине, значит, Стербинскому потребовалось двадцать лет, чтобы построить свой аппарат, и двадцать миллионов в разного рода дотациях. И вы полагаете, что нам с вами удастся проделать то же нелегально? Предположим даже, у нас было бы время (а его у нас нет) и я мог бы почерпнуть достаточно сведений из книг (в чем я сомневаюсь), — где мы раздобыли бы оборудование и деньги? Ведь хроноскоп, как утверждают, занимает пятиэтажное здание! Поймите же это наконец!
— Так вы отказываетесь помочь мне?
— Ну вот что: у меня есть возможность кое-что выяснить…
— Какая возможность? — тотчас осведомился Поттерли.
— Неважно. Но мне, может быть, удастся узнать достаточно, чтобы сказать вам, правда ли, что правительство сознательно не допускает работы с хроноскопом. Я могу либо подтвердить собранные вами данные, либо доказать их ошибочность. Не берусь судить, что это вам даст как в том, так и в другом случае, но это все, что я могу сделать. Это мой предел.
И вот наконец Поттерли проводил своего гостя. Он досадовал на самого себя. Проявить такую неосторожность — позволить мальчишке догадаться, что он думает именно о собственном хроноскопе! Это было преждевременно.
Но как смел этот молокосос предположить, что хроноскопа вовсе не существует?
Он должен существовать! Должен! Какой же смысл отрицать это?
И почему нельзя построить еще один? За пятьдесят лет, истекших со смерти Стербинского, наука ушла далеко вперед. Нужно только узнать основные принципы.
И пусть этим займется Фостер. Пусть он думает, что ограничится какими-то крохами. Если он не увлечется, то даже этот шаг явится достаточно серьезным проступком, который вынудит его продолжать. В крайнем случае придется прибегнуть к шантажу.
Поттерли помахал уходящему гостю и посмотрел на небо. Начинал накрапывать дождь.
Да-да! Пусть шантаж, если другого способа не будет, но он добьется своего!
Фостер вел машину по угрюмой городской окраине, не замечая дождя.
Конечно, он дурак, но остановиться теперь он уже не в состоянии. Ему необходимо узнать, в чем же тут дело. Проклятое любопытство, ругал он себя. И все-таки он должен узнать!
Однако в своих розысках он ограничится дядей Ральфом. И Фостер дал себе страшную клятву, что больше ничего предпринимать не станет. Таким образом, против него нельзя будет найти явных улик. Дядя Ральф — сама осмотрительность.
В глубине души он немного стыдился дяди Ральфа. И не сказал про него Поттерли отчасти из осторожности, а отчасти и потому, что опасался увидеть поднятые брови и неизбежную ироническую улыбочку. Профессиональные писатели при науке считались людьми не слишком солидными, достойными лишь снисходительного презрения, хотя никто не отрицал пользы их занятия. Тот факт, что в среднем они зарабатывали больше настоящих ученых, разумеется, ничуть не улучшал положения.
И все-таки в определенных ситуациях иметь такого родственника весьма полезно. Ведь писатели не получали настоящего образования и не были обязаны специализироваться. В результате хороший писатель при науке был сведущ практически во всех вопросах… А дядя Ральф, подумал Фостер, безусловно, принадлежит к одним из лучших.
Ральф Ниммо не имел специализированного университетского диплома и гордился этим. «Специализированный диплом, — объяснил он как-то Джонасу Фостеру, в дни, когда оба они были значительно моложе, — это первый шаг по пути к гибели. Человеку жалко не воспользоваться полученной привилегией, и вот он уже готовит магистерскую, а затем и докторскую диссертацию. И в конце концов ты оказываешься глубочайшим невеждой во всех областях знания, кроме крохотного кусочка выеденного яйца.
С другой стороны, если ты будешь оберегать свой ум и не загромождать его единообразными сведениями, пока не достигнешь зрелости, а вместо этого тренировать его в логическом мышлении и снабжать широкими представлениями, то ты получишь в свое распоряжение могучее орудие и сможешь стать писателем при науке».
Первое задание Ниммо выполнил в двадцатипятилетнем возрасте, всего лишь через три месяца после того, как получил право на самостоятельную работу. Ему была поручена пухлая рукопись, язык которой даже самый квалифицированный читатель мог бы постигнуть только после тщательнейшего изучения и вдохновенных догадок. Ниммо разъял ее на составные части и воссоздал заново (после пяти длительных и выматывающих душу бесед с авторами — биофизиками по специальности), придав ее языку емкость и точность, а также до блеска отполировав стиль.
«И что тут такого? — снисходительно спрашивал он племянника, который парировал его нападки на специализацию насмешками в адрес тех, кто предпочитает цепляться за бахрому науки. — Бахрома тоже важна. Твои ученые писать не умеют. И не обязаны уметь. Никто же не требует, чтобы они были шахматистами-гроссмейстерами или скрипачами-виртуозами, так с какой стати требовать, чтобы они владели даром слова? Почему бы не предоставить эту область специалистам? Бог мой, Джонас! Почитай, что писали твои собратья сто лет назад. Не обращай внимания на то, что научная сторона устарела, а некоторые выражения больше не употребляются. Просто почитай и попробуй понять, о чем там говорится. И ты убедишься, что это безнадежно дилетантское зубодробительное крошево. Целые страницы печатались зря, и многие статьи поражают своей ненужностью или неудобопонятностью, а то и тем и другим».
«Но вы же не добьетесь признания, дядя Ральф, — спорил юный Фостер (на пороге своей университетской карьеры он был полон самых радужных надежд и иллюзий). — А ведь из вас мог бы выйти потрясающий ученый!»
«Ну, признания мне более чем достаточно, — ответил Ниммо, — можешь мне поверить. Конечно, какой-нибудь биохимик или стратометеоролог смотрят на меня сверху вниз, но зато прекрасно мне платят. Знаешь, что происходит, когда какой-нибудь ведущий химик узнает, что комиссия урезала его ежегодную дотацию на обработку материала? Да он будет драться за то, чтобы иметь средства платить мне или кому-нибудь вроде меня куда яростнее, чем добиваться нового ионографа».
Он ухмыльнулся, и Фостер улыбнулся ему в ответ. По правде говоря, он гордился своим круглолицым толстеющим дядюшкой, с короткими толстыми пальцами и оголенной макушкой, которую тот, движимый тщеславием, тщетно старался скрыть под жиденькими прядями волос, зачесанных с висков. И то же тщеславие заставляло его одеваться так, что он вечно вызывал мысль о неплотно уложенном стоге, так как неряшество было его фирменным знаком. Да, Фостер, хоть и стыдился своего дяди, очень гордился им.
Но на этот раз, войдя в захламленную квартиру дядюшки, Фостер менее всего был склонен обмениваться улыбками. С того времени он постарел на девять лет, как, впрочем, и дядя Ральф. И в течение этих девяти лет дядя Ральф продолжал полировать статьи и книги, посвященные самым различным вопросам науки, и каждая из них оставила что-то в его обширной памяти.
Ниммо с наслаждением ел виноград без косточек, бросая в рот ягоду за ягодой. Он тут же кинул гроздь Фостеру, который в последнюю секунду успел-таки ее поймать, а затем наклонился И принялся подбирать с пола упавшие виноградинки.
— Пусть их валяются. Не хлопочи, — равнодушно заметил Ниммо. — Раз в неделю кто-то является сюда для уборки. Что случилось? Не получается заявка на дотацию?
— У меня до этого никак не доходят руки.
— Да? Поторопись, мой милый. Может быть, ты ждешь, чтобы за нее взялся я.
— Вы мне не по карману, дядя Ральф.
— Ну, брось! Это же дело семейное. Предоставь мне исключительное право на популярное издание, и мы обойдемся без денег.
Фостер кивнул:
— Идет! Если, конечно, вы не шутите.
— Договорились.
Разумеется, в этом был известный риск, но Фостер достаточно хорошо знал, как высока квалификация Ниммо, и понимал, что сделка может оказаться выгодной. Умело сыграв на интересе широкой публики к первобытному человеку, или к новой хирургической методике, или к любой отрасли космонавтики, можно было весьма выгодно продать статью любому массовому издательству или студии.
Например, именно Ниммо написал рассчитанную на сугубо научные круги серию статей Брайса и сотрудников, которая детально освещала вопрос об особенностях структуры двух вирусов рака, причем потребовал за эти статьи предельно мизерную плату — всего полторы тысячи долларов при условии, что ему будет предоставлено исключительное право на популярные издания. Затем он обработал ту же тему, придав ей более драматическую форму, для стереовидения и получил единовременно двадцать тысяч долларов плюс проценты с каждой передачи, которые продолжали поступать еще и теперь, пять лет спустя.
Фостер без обиняков приступил к делу:
— Что вы знаете о нейтринике, дядя Ральф?
— О нейтринике? — Ниммо изумленно вытаращил маленькие глазки. — С каких пор ты занимаешься нейтриникой? Мне почему-то казалось, что ты выбрал псевдогравитационную оптику.
— Правильно. А про нейтринику я просто навожу справки.
— Опасное занятие. Ты переходишь демаркационную линию. Это тебе известно?
— Ну, не думаю, чтобы вы сообщили в комиссию, что я интересуюсь чем-то посторонним.
— Может быть, и следует сообщить, пока ты еще не натворил серьезных бед. Любопытство — профессиональная болезнь ученых, нередко приводящая к роковому исходу. Я-то видел, как она протекает. Какой-нибудь ученый работает себе тихонько над своей проблемой, но вот любопытство уводит его далеко в сторону, и, глядишь, собственная работа уже настолько запущена, что на следующий год его дотация не возобновляется. Я мог бы назвать столько…
— Меня интересует только одно, — перебил Фостер. — Много ли материалов по нейтринике проходило через ваши руки за последнее время?
Ниммо откинулся на спинку кресла, задумчиво посасывая виноградину.
— Никаких. И не только за последнее время, но и вообще. Насколько я помню, мне ни разу не приходилось обрабатывать материалы, связанные с нейтриникой.
— Как же так? — Фостер искренне изумился. — Кому в таком случае их поручают?
— Право, не знаю, — задумчиво ответил Ниммо. — На наших ежегодных конференциях, насколько помнится, об этом никогда не говорилось. По-моему, в области нейтриники фундаментальных работ не ведется.
— А почему?
— Ну-ну, не рычи на меня. Я же ни в чем не виноват. Я бы сказал…
— Следовательно, вы твердо не знаете? — нетерпеливо перебил его Фостер.
— Ну-у-у… Я могу сказать тебе, что именно я знаю о нейтринике. Нейтриника — это наука об использовании движения нейтрино и связанных с этим сил…
— Ну разумеется. А электроника — наука о применении движения электронов и связанных с этим сил, а псевдогравитика — наука о применении полей искусственной гравитации. Я пришел к вам не для этого. Больше вам ничего не известно?
— А кроме того, — невозмутимо докончил дядюшка, — нейтриника лежит в основе обзора времени. Но больше мне действительно ничего не известно.
Фостер откинулся на спинку стула и принялся с ожесточением массировать худую шею. Он испытывал злость и разочарование. Сам того не сознавая, он пришел сюда в надежде, что Ниммо сообщит ему самые последние данные, укажет на наиболее интересные аспекты современной нейтриники, и он получит возможность вернуться к Поттерли и доказать историку, что тот ошибся, что его факты — чистейшее недоразумение, а выводы из них неверны.
И тогда он мог бы спокойно вернуться к своей работе.
Но теперь…
Он сердито убеждал себя: «Хорошо, пусть в этой области не ведется больших исследований. Это же еще не означает сознательной обструкции. А что, если нейтриника — бесплодная наука? Может быть, так оно и есть. Я же не знаю. И Поттерли не знает. Зачем расходовать интеллектуальные ресурсы человечества на погоню За пустотой? А возможно, работа засекречена по какой-то вполне законной причине. Может быть…»
Беда заключалась в том, что он хотел знать правду, и теперь уже не может махнуть на все рукой. Не может — и конец!
— Существует ли какое-нибудь пособие по нейтринике, дядя Ральф? Что-нибудь простое и ясное? Какой-нибудь элементарный курс?
Ниммо задумался, тяжко вздыхая, так что его толстые щеки задергались.
— Ты задаешь сумасшедшие вопросы. Единственное пособие, о котором я слышал, было написано Стербинским и еще кем-то. Сам я его не видел, но один раз мне попалось упоминание о нем… Да, да, Стербинский и Ламарр. Теперь я вспомнил.
— Тот самый Стербинский, который изобрел хроноскоп?
— По-моему, да. Значит, книга должна быть хорошей.
— Существует ли какое-нибудь переиздание? Ведь Стербинский умер пятьдесят лет назад.
Ниммо только пожал плечами.
— Вы не могли бы узнать?
Несколько минут длилась тишина, и только кресло Ниммо ритмически поскрипывало — писатель беспокойно ерзал на сиденье. Затем он медленно произнес:
— Может быть, ты все-таки объяснишь мне, в чем дело?
— Не могу. Но вы мне поможете, дядя Ральф? Достанете экземпляр этой книги?
— Разумеется, все, что я знаю о псевдогравитике, я знаю от тебя и должен как-то доказать свою благодарность. Вот что: я помогу тебе, но с одним условием.
— С каким же?
Лицо писателя вдруг стало очень серьезным.
— С условием, что ты будешь осторожен, Джонас. Чем бы ты ни занимался, ясно одно — это не имеет никакого отношения к твоей работе. Не губи свою карьеру только потому, что тебя заинтересовала проблема, которая тебе не была поручена, которая тебя вообще не касается. Договорились?
Фостер кивнул, но он не слышал, что говорил ему дядя. Его мысль бешено работала.
Ровно через неделю кругленькая фигура Ральфа Ниммо осторожно проскользнула в двухкомнатную квартиру Джонаса Фостера в университетском городке.
— Я кое-что достал, — хриплым шепотом сказал писатель.
— Что? — Фостер сразу оживился.
— Экземпляр Стербинского и Ламарра. — И Ниммо извлек книгу из-под своего широкого пальто, вернее, показал ее уголок.
Фостер почти машинально оглянулся, проверяя, хорошо ли закрыта дверь и плотно ли занавешены окна, а затем протянул руку.
Футляр потрескался от старости, а когда Фостер извлек пленку, он увидел, что она выцвела и стала очень хрупкой.
— И это все? — довольно грубо спросил он.
— В таких случаях следует говорить «спасибо», мой милый. — Ниммо, крякнув, опустился в кресло и извлек из кармана яблоко.
— Спасибо, спасибо. Только пленка такая старая…
— И тебе еще очень повезло, что ты можешь получить хотя бы такую. Я пробовал заказать микрокопию в Библиотеке конгресса. Ничего не получилось. Эта книга выдается только по особому разрешению.
— Как же вам удалось ее достать?
— Я ее украл. — Ниммо сочно захрустел яблоком. — Из нью-йоркской публички.
— Как?
— А очень просто. Как ты понимаешь, у меня есть доступ к полкам. Ну, я и улучил минуту, когда никто на меня не смотрел, перешагнул через барьер, отыскал ее и унес. Персонал там очень доверчив. Да и хватятся-то они пропажи разве что через несколько лет… Только ты уж лучше никому не показывай ее, племянничек.
Фостер смотрел на катушку с пленкой так, словно она могла сию минуту взорваться.
Ниммо бросил огрызок в пепельницу и вытащил второе яблоко.
— А знаешь, странно: ничего новее этого в нейтринике не появлялось. Ни единой монографии, ни единой статьи или хотя бы краткого отчета. Абсолютно ничего со времени изобретения хроноскопа.
— Угу, — рассеянно ответил Фостер.
Теперь Фостер по вечерам работал в подвале у Поттерли. Его собственная квартира в университетском городке была слишком опасна. И эта вечерняя работа настолько его захватила, что он совсем махнул рукой на свою заявку для получения дотации. Сначала это его тревожило, но вскоре он перестал даже тревожиться.
Первое время он просто вновь и вновь читал в аппарате пленку. Потом начал думать, и тогда случалось, что пленка, заложенная в карманный проектор, долгое время прокручивалась впустую.
Иногда к нему в подвал спускался Поттерли и долго сидел, внимательно глядя на него, словно ожидая, что мыслительные процессы овеществятся и он сможет зримо наблюдать весь их сложный ход. Он не мешал бы Фостеру, если бы только позволил ему курить и не говорил так много.
Правда, говоря сам, он не требовал ответа. Он, казалось, тихо произносил монолог и даже не ждал, что его будут слушать. Скорее всего это было для него разрядкой.
Карфаген, вечно Карфаген!
Карфаген, Нью-Йорк древнего Средиземноморья. Карфаген, коммерческая империя и властелин морей. Карфаген, бывший всем тем, на что Сиракузы и Александрия только претендовали. Карфаген, оклеветанный своими врагами и не сказавший ни слова в свою защиту.
Рим нанес ему поражение и вытеснил его из Сицилии и Сардинии. Но Карфаген с лихвой возместил свои потери, покорив Испанию и взрастив Ганнибала, шестнадцать лет державшего Рим в страхе.
В конце концов Карфаген потерпел второе поражение, смирился с судьбой и кое-как наладил жизнь на жалких остатках былой территории — и так преуспел в этом, что завистливый Рим поспешил навязать ему третью войну. И тогда Карфаген, у которого не оставалось ничего, кроме упорства и рук его граждан, начал ковать оружие и два года отчаянно сопротивлялся Риму, пока наконец война не кончилась полным разрушением города, — и жители предпочитали бросаться в пламя, пожиравшее их дома, лишь бы не попасть в плен.
— Неужели люди стали бы так отчаянно защищать город и образ жизни, действительно настолько скверные, какими рисовали их античные писатели? Ни один римский полководец не мог сравниться с Ганнибалом, и его солдаты были абсолютно ему преданны. Даже самые ожесточенные враги хвалили Ганнибала. А ведь он был карфагенянином! Очень модно утверждать, будто он был нетипичным карфагенянином, неизмеримо превосходившим своих сограждан, бриллиантом, брошенным в мусорную кучу. Но почему же в таком случае он хранил столь нерушимую верность Карфагену, до самой своей смерти после долголетнего изгнания? Ну конечно, все россказни о Молохе…
Фостер не всегда прислушивался к бормотанию историка, но порой голос Поттерли все же проникал в его сознание, и страшный рассказ о принесении детей в жертву вызывал у него физическую тошноту.
Однако Поттерли продолжал с непоколебимым убеждением:
— И все-таки это ложь. Утка, пущенная греками и римлянами свыше двух с половиной тысяч лет назад. У них у самих были рабы, казни на кресте, пытки и гладиаторские бои. Их никак не назовешь святыми. Эта басня про Молоха в более позднюю эпоху получила бы название военной пропаганды, беспардонной лжи. Я могу доказать, что это была ложь. Я могу доказать это, и Богом клянусь, что докажу… Докажу… — И он увлеченно повторял и повторял это обещание.
Миссис Поттерли также спускалась в подвал, но гораздо реже, обычно по вторникам и четвергам, когда профессор читал лекции вечером и возвращался домой поздно.
Она тихонько сидела в углу, не произнося ни слова. Ее глаза ничего не выражали, лицо как-то все обвисало, и вид у нее был рассеянный и отсутствующий.
Когда она пришла в первый раз, Фостер неловко намекнул, что ей лучше было бы уйти.
— Я вам мешаю? — спросила она глухо.
— Нет, что вы, — раздраженно солгал Фостер. — Я только потому… потому… — И он не сумел закончить фразы.
Миссис Поттерли кивнула, словно принимая приглашение остаться. Затем она открыла рабочий мешочек, который принесла с собой, вынула моток витроновых полосок и принялась сплетать их с помощью пары изящно мелькающих тонких четырехгранных деполяризаторов, подсоединенных тонкими проволочками к батарейке, так что казалось, будто она держит в руке большого паука.
Как-то вечером она сказала негромко:
— Моя дочь Лорель — ваша ровесница.
Фостер вздрогнул — так неожиданно она заговорила Он пробормотал:
— Я и не знал, что у вас есть дочь, миссис Поттерли.
— Она умерла много лет назад.
Ее умелые движения превращали витрон в рукав какой-то одежды — какой именно, Фостер еще не мог отгадать. Ему оставалось только глупо пробормотать:
— Я очень сожалею.
— Она мне часто снится, — со вздохом сказала миссис Поттерли и подняла на него рассеянные голубые глаза.
Фостер вздрогнул и отвел взгляд.
В следующий раз она спросила, осторожно отклеивая полоску витрона, прилипшую к ее платью:
— А что, собственно, это означает — обзор времени?
Ее слова нарушили чрезвычайно сложный ход мысли, и Фостер почти огрызнулся:
— Спросите у профессора Поттерли.
— Я пробовала. Да, да, пробовала. Но, по-моему, его раздражает моя непонятливость. И он почти все время называет это хроноскопией. Что, действительно можно видеть образы прошлого, как в стереовизоре? Или аппарат пробивает маленькие дырочки, как эта ваша счетная машинка?
Фостер с отвращением посмотрел на свою портативную счетную машинку. Работала она неплохо, но каждую операцию приходилось проводить вручную, и ответы выдавались в закодированном виде. Эх, если бы он мог воспользоваться университетскими машинами… Пустые мечты! И так уж, наверное, окружающие недоумевают, почему он теперь каждый вечер уносит свою машинку из кабинета домой. Он ответил:
— Я лично никогда не видел хроноскопа, но, кажется, он дает возможность видеть образы и слышать звуки.
— Можно услышать, как люди разговаривают?
— Кажется, да… — И, не выдержав, он продолжал в отчаянии: — Послушайте, миссис Поттерли, вам же здесь, должно быть, невероятно скучно! Я понимаю, вам неприятно бросать гостя в одиночестве, но, право же, миссис Поттерли, не считайте себя обязанной…
— Я и не считаю себя обязанной, — сказала она. — Я сижу здесь и жду.
— Ждете? Чего?
— Я подслушала, о чем вы говорили в тот первый вечер, — невозмутимо ответила она, — когда вы в первый раз разговаривали с Арнольдом. Я подслушивала у дверей.
— Да? — сказал он.
— Я знаю, что так поступать не следовало бы, но меня очень тревожил Арнольд. Я подозревала, что он намерен заняться чем-то, чем он не имеет права заниматься. И я хотела все узнать. А потом, когда я услышала… — Она умолкла и, наклонив голову, стала внимательно рассматривать витроновое плетение.
— Услышали что, миссис Поттерли?
— Что вы не хотите строить хроноскоп.
— Конечно, не хочу.
— Я подумала, что вы, может быть, передумаете. Фостер бросил на нее свирепый взгляд:
— Так, значит, вы приходите сюда, надеясь, что я построю хроноскоп, рассчитывая, что я его построю?
— Да, да, доктор Фостер. Я так хочу, чтобы вы его построили! С ее лица словно упало мохнатое покрывало — оно вдруг приобрело мягкую четкость очертаний, щеки порозовели, глаза оживились, а голос почти зазвенел от волнения.
— Как это было бы чудесно! — шепнула она. — Вновь ожили бы люди из прошлого — фараоны, короли и… и просто люди. Я очень надеюсь, что вы построите хроноскоп, доктор Фостер. Очень…
Миссис Поттерли умолкла, словно не выдержав напряжения собственных слов, и даже не заметила, что витроновые полоски соскользнули с ее колен на пол. Она вскочила и бросилась вверх по лестнице, а Фостер следил за неуклюже движущейся фигурой в полной растерянности.
Теперь Фостер почти не спал по ночам, напряженно и мучительно думая. Это напоминало какое-то несварение мысли.
Его заявка на дотацию в конце концов отправилась к Ральфу Ниммо. Он больше на нее не рассчитывал и только подумал тупо: «Одобрения я не получу».
В таком случае не миновать скандала на кафедре, и, возможно, в конце академического года его не утвердят в занимаемой должности.
Но Фостера это почти не трогало. Сейчас для него существовало нейтрино, нейтрино, только нейтрино! След частицы прихотливо извивался и уводил его все дальше по неведомым путям, неизвестным даже Стербинскому и Ламарру. Он позвонил Ниммо.
— Дядя Ральф, мне кое-что нужно. Я звоню не из городка.
Лицо Ниммо на экране, как всегда, излучало добродушие, но голос был отрывист.
— Я знаю, что тебе нужно: пройти курс по ясному формулированию собственных мыслей. Я совсем измотался, пытаясь привести твою заявку в божеский вид. Если ты звонишь из-за нее…
— Нет, не из-за нее, — нетерпеливо замотал головой Фостер. — Мне нужно вот что… — Он быстро нацарапал на листке бумаги несколько слов и поднес листок к приемнику. Ниммо испустил короткий вопль:
— Ты что, думаешь, мои возможности ничем не ограничены?
— Это вы можете достать, дядя, можете!
Ниммо еще раз прочел список, беззвучно шевеля пухлыми губами и все больше хмурясь.
— И что вы получите, когда ты соберешь все это воедино? — спросил он.
Фостер только покачал головой: — Что бы из этого ни получилось, исключительное право на популярное издание будет принадлежать вам, как всегда. Только, пожалуйста, пока больше меня ни о чем не расспрашивайте.
— Видишь ли, я не умею творить чудеса.
— Ну а на этот раз сотворите! Обязательно! Вы же писатель, а не ученый. Вам не приходится ни перед кем отчитываться. У вас есть связи, друзья. Наверно, они согласятся на минутку отвернуться, чтобы ваш следующий публикационный срок мог сослужить им службу?
— Твоя вера, племянничек, меня умиляет. Я попытаюсь.
Попытка Ниммо увенчалась полным успехом. Как-то вечером, заняв у приятеля машину, он привез материалы и оборудование. Вместе с Фостером они втащили их в дом, громко пыхтя, как люди, не привыкшие к физическому труду.
Когда Ниммо ушел, в подвал спустился Поттерли и вполголоса спросил:
— Для чего все это?
Фостер откинул прядь волос и принялся осторожно растирать ушибленную руку.
— Мне нужно провести несколько простых экспериментов, — ответил он.
— Правда? — Глаза историка вспыхнули от волнения.
Фостер почувствовал, что его безбожно эксплуатируют. Словно кто-то ухватил его за нос и повел по опасной тропинке, а он, хоть и ясно видел зиявшую впереди пропасть, продвигался охотно и решительно. И хуже всего было то, что его нос сжимали его же собственные пальцы!
И все это заварил Поттерли. А сейчас Поттерли стоит в дверях и торжествует. Но принудил себя идти по этой дорожке он сам.
Фостер сказал злобно:
— С этих пор, Поттерли, я хотел бы, чтобы сюда никто не входил. Я не могу работать, когда вы и ваша жена то и дело врываетесь сюда и мешаете мне.
Он подумал: «Пусть-ка обидится и выгонит меня отсюда. Пусть сам все и кончает».
Однако в глубине души он отлично понимал, что с его изгнанием не кончится ровно ничего.
Но до этого не дошло. Поттерли, казалось, вовсе не обиделся. Кроткое выражение его лица не изменилось.
— Ну конечно, доктор Фостер, конечно, вам никто не будет мешать.
Фостер угрюмо посмотрел ему вслед. Значит, он и дальше пойдет по тропе, самым гнусным образом радуясь этому и ненавидя себя за свою радость.
Теперь он ночевал у Поттерли на раскладушке все в том же подвале и проводил там все свое свободное время.
Примерно в это время ему сообщили, что его заявка (отшлифованная Ниммо) получила одобрение. Об этом ему сказал сам заведующий кафедрой и поздравил его.
Фостер посмотрел на него невидящими глазами и промямлил:
— Прекрасно… Я очень рад.
Но эти слова прозвучали так неубедительно, что профессор нахмурился и молча повернулся к нему спиной.
А Фостер тут же забыл об этом эпизоде. Это был пустяк, не заслуживавший внимания. Ему надо было думать о другом, о самом важном: в этот вечер предстояло решающее испытание.
Вечер, и еще вечер, и еще — и вот, измученный, вне себя от волнения, он позвал Поттерли. Поттерли спустился по лестнице и взглянул на самодельные приборы. Он сказал обычным мягким тоном:
— Расход электричества очень повысился. Меня смущает не денежная сторона вопроса, а то, что городские власти могут заинтересоваться причиной. Нельзя ли что-нибудь сделать?
Вечер был жаркий, но на Поттерли была рубашка с крахмальным воротничком и пиджак. Фостер, работавший в одной рубашке, поднял на него покрасневшие глаза и хрипло сказал:
— Об этом можно больше не беспокоиться, профессор Поттерли. Но я позвал вас сюда, чтобы сказать вам кое-что. Хроноскоп построить можно. Небольшой, правда, но можно.
Поттерли ухватился за перила. Его ноги подкосились, и он с трудом прошептал:
— Его можно построить здесь?
— Да, здесь, в вашем подвале, — устало ответил Фостер.
— Боже мой, но вы же говорили…
— Я знаю, что я говорил! — раздраженно крикнул Фостер — Я сказал, что сделать это невозможно. Но тогда я ничего не знал. Даже Стербинский ничего не знал.
Поттерли покачал головой:
— Вы уверены? Вы не ошибаетесь, доктор Фостер? Я не вынесу, если…
— Я не ошибаюсь, — ответил Фостер. — Черт побери, сэр! Если бы можно было обойтись одной теорией, то обозреватель времени был бы построен более ста лет назад, когда только открыли нейтрино. Беда заключалась в том, что первые его исследователи видели в нем только таинственную частицу без массы и заряда, которую невозможно обнаружить. Она служила только для бухгалтерии — для того, чтобы спасти уравнение энергия — масса.
Он подумал, что Поттерли, пожалуй, его не понимает, но ему было все равно. Он должен высказаться, должен как-то привести в порядок свои непослушные мысли… А кроме того, ему нужно было подготовиться к тому, что он скажет Поттерли после. И Фостер продолжал:
— Стербинский первым открыл, что нейтрино прорывается сквозь барьер, разделяющий пространство и время, что эта частица движется не только в пространстве, но и во времени, и Стербинский первым разработал методику остановки нейтрино. Он изобрел аппарат, записывающий движение нейтрино, и научился интерпретировать след, оставляемый потоком нейтрино. Естественно, что этот поток отклонялся и менял направление йод влиянием всех тех материальных тел, через которые он проходил в своем движении во времени. И эти отклонения можно было проанализировать и превратить в образы того, что послужило причиной отклонения. Так стал возможен обзор времени. Этот способ дает возможность улавливать даже вибрацию воздуха и превращать ее в звук.
Но Поттерли его не слушал.
— Да, да, — сказал он. — Но когда вы сможете построить хроноскоп?
— Погодите! — потребовал Фостер. — Все зависит от того, как улавливать и анализировать поток нейтрино. Метод Стербинского был крайне сложным и окольным. Он требовал чудовищного количества энергии. Но я изучал псевдогравитацию, профессор Поттерли, науку об искусственных гравитационных полях. Я специализировался на изучении поведения света в подобных полях. Это новая наука. Стербинский о ней ничего не знал. Иначе он — как и любой другой человек — легко нашел бы гораздо более надежный и эффективный метод улавливания нейтрино с помощью псевдогравитационного поля. Если бы я прежде хоть немного сталкивался с нейтриникой, я сразу это понял бы.
Поттерли заметно приободрился.
— Я так и знал, — сказал он. — Хотя правительство и прекратило дальнейшие работы в области нейтриники, оно не могло воспрепятствовать тому, чтобы в других областях науки совершались открытия, как-то связанные с нейтриникой. Вот оно — централизованное руководство наукой! Я сообразил это давным-давно, доктор Фостер, задолго до того, как вы появились в университете.
— С чем вас и поздравляю, — огрызнулся Фостер. — Но надо учитывать одно…
— Ах, все это неважно! Ответьте же мне, будьте так добры, когда вы можете изготовить хроноскоп?
— Я же и стараюсь вам объяснить, профессор Поттерли: хроноскоп вам совершенно не нужен.
(«Ну, вот это и сказано», — подумал Фостер.) Поттерли медленно спустился со ступенек и остановился в двух шагах от Фостера.
— То есть как? Почему он мне не нужен?
— Вы не увидите Карфагена. Я обязан вас предупредить. Именно потому я и позвал вас. Карфагена вы никогда не увидите.
Поттерли покачал головой:
— О нет, вы ошибаетесь. Когда у нас будет хроноскоп, его надо будет настроить как следует…
— Нет, профессор, дело не в настройке. На поток нейтрино, как и на все элементарные частицы, влияет фактор случайности, то, что мы называем принципом неопределенности. При записи и интерпретации потока фактор случайности проявляется как затуманивание, или шум, по выражению радиоспециалистов. Чем дальше в прошлое вы проникаете, тем сильнее затуманивание, тем выше уровень помех. Через некоторое время помехи забивают изображение. Вам понятно?
— Надо увеличить мощность, — сказал Поттерли безжизненным голосом.
— Это не поможет. Когда помехи смазывают детали, увеличение этих деталей увеличивает и помехи. Ведь, как ни увеличивай засвеченную пленку, ничего увидеть не удастся. Не так ли? Постарайтесь это понять. Физическая природа Вселенной ставит на пути исследователей непреодолимые барьеры. Хаотическое тепловое движение молекул воздуха определяет порог звуковой чувствительности любого прибора. Длина световой или электронной волны определяет минимальные размеры предмета, который мы можем увидеть посредством приборов. То же наблюдается и в хроноскопии. Обозревать время можно только до определенного предела.
— До какого же? До какого? Фостер перевел дух и ответил:
— Максимально — сто двадцать пять лет.
— Но ведь в ежемесячном бюллетене Института хроноскопии указываются события, относящиеся почти исключительно к древней истории! — Профессор хрипло засмеялся. — Значит, вы ошибаетесь. Правительство располагает сведениями, восходящими к трехтысячному году до нашей эры.
— С каких это пор вы стали верить сообщениям правительства? — презрительно спросил Фостер. — Не вы ли доказывали, что правительство лжет и еще ни один историк не пользовался хроноскопом? Так неужели вы теперь не понимаете, в чем здесь причина? Хроноскоп мог бы пригодиться только ученому, занимающемуся новейшей историей. Ни один хроноскоп ни при каких условиях не в состоянии заглянуть дальше 1920 года.
— Вы ошибаетесь. Вы не можете знать всего, — упрямо твердил Поттерли.
— Однако истина не станет приспосабливаться к вашим желаниям! Взгляните правде в глаза: правительство стремится только к одному — продолжить обман.
— Но зачем?
— Этого я не знаю.
Курносый нос Поттерли дернулся, глаза налились кровью. Он сказал умоляюще:
— Это же только теория, доктор Фостер. Попробуйте построить хроноскоп. Постройте и испытайте его. Неожиданно Фостер злобно схватил Поттерли за плечи:
— А вы думаете, что я его не построил? Вы думаете, что я сказал бы вам подобную вещь, не проверив своего вывода всеми возможными способами? Я построил хроноскоп! Он вокруг вас. Глядите!
Фостер бросился к выключателям и по очереди включил их. Он сдвинул ручку реостата, нажал какие-то кнопки и погасил свет.
— Погодите, дайте ему прогреться.
В центре одной из стен засветилось небольшое пятно. Поттерли, захлебываясь, что-то бормотал, но Фостер не слушал его к только повторил:
— Глядите!
Пятно стало более четким и распалось на черно-белый узор. Люди! Как в тумане. Лица смазаны. Вместо рук и ног — дрожащие полоски. Промелькнул старинный наземный автомобиль, очень нечеткий, — и все же, несомненно, одна из тех машин, в которых применялись двигатели внутреннего сгорания, работавшие на бензине.
— Примерно середина двадцатого века, — сказал Фостер. — Сконструировать звукоприемник я пока еще не могу. Со временем можно будет получить и звук. Но, как бы то ни было, середина двадцатого века — это практически предел. Поверьте мне, лучшей фокусировки добиться невозможно.
— Постройте большой аппарат, более мощный, — сказал Поттерли. — Усовершенствуйте его питание.
— Да послушайте же! Принцип неопределенности обойти невозможно, так же как невозможно поселиться на Солнце. Всему есть свой физический предел.
— Вы лжете, я вам не верю! Я…
Его перебил новый голос, пронзительный и настойчивый:
— Арнольд! Доктор Фостер!
Физик сразу обернулся. Поттерли замер и через несколько секунд сказал, не повернув головы:
— В чем дело, Кэролайн? Пожалуйста, не мешай нам.
— Нет! — Миссис Поттерли торопливо спускалась по лестнице. — Я все слышала. Вы так кричали. У вас правда есть обозреватель времени, доктор Фостер, здесь, в нашем подвале?
— Да, миссис Поттерли. Примерно. Хотя аппарат и не очень хорош. Я еще не могу получить звука, а изображение чертовски смазанное. Но аппарат все-таки работает.
Миссис Поттерли прижала к груди стиснутые руки:
— Замечательно! Как замечательно!
— Ничего замечательного! — рявкнул Поттерли. — Этот молокосос не может заглянуть дальше чем…
— Послушайте… — начал Фостер, выйдя из себя.
— Погодите! — воскликнула миссис Поттерли. — Послушайте меня. Арнольд, разве ты не понимаешь, что аппарат работает на двадцать лет назад и, значит, мы можем вновь увидеть Лорель? К чему нам Карфаген и всякая древность? Мы же можем увидеть Лорель! Она оживет для нас! Оставьте аппарат здесь, доктор Фостер. Покажите нам, как с ним обращаться.
Фостер переводил взгляд с миссис Поттерли на ее мужа. Лицо профессора побелело, и его голос, по-прежнему тихий и ровный, утратил обычную невозмутимость.
— Идиотка!
Кэролайн растерянно ахнула:
— Арнольд, как ты можешь!
— Я сказал, что ты идиотка. Что ты увидишь? Прошлое. Мертвое прошлое. Лорель будет повторять только то, что она делала прежде. Ты не увидишь ничего, кроме того, что ты уже видела. Значит, ты хочешь вновь и вновь переживать одни и те же три года, следя за младенцем, который никогда не вырастет, сколько бы ты ни смотрела?
Казалось, его голос вот-вот сорвется. Профессор подошел к жене, схватил ее за плечо и грубо дернул:
— Ты понимаешь, чем это может тебе грозить, если ты попробуешь сделать это? Тебя заберут, потому что ты сойдешь с ума. Да, сойдешь с ума. Неужели ты хочешь попасть в приют для душевнобольных? Чтобы тебя заперли, подвергли психической проверке?
Миссис Поттерли вырвалась из его рук. От прежней кроткой рассеянности не осталось и следа. Она мгновенно превратилась в разъяренную фурию.
— Я хочу увидеть мою девочку, Арнольд! Она спрятана в этой машине, и она мне нужна!
— Ее нет в машине. Только образ. Пойми же, наконец! Образ! Иллюзия, а не реальность.
— Мне нужна моя дочь! Слышишь? — Она набросилась на мужа с кулаками, и ее голос перешел в визг. — Мне нужна моя дочь!
Историк, вскрикнув, отступил перед обезумевшей женщиной. Фостер кинулся между ними, но тут миссис Поттерли, бурно зарыдав, упала на пол.
Поттерли обернулся, озираясь как затравленный зверь. Внезапно резким движением он вырвал из подставки какой-то стержень и отскочил, прежде чем Фостер, оглушенный всем происходящим, успел его остановить.
— Назад — прохрипел Поттерли, — или я вас убью! Слышите? Он размахнулся, и Фостер отступил.
Поттерли с яростью набросился на аппаратуру. Раздался звон бьющегося стекла, и Фостер замер на месте, тупо наблюдая за историком.
Наконец ярость Поттерли угасла, и он остановился среди хаоса обломков и осколков, сжимая в руке согнувшийся стержень.
— Убирайтесь, — сказал он Фостеру сдавленным шепотом, — и не смейте возвращаться. Если вы потратили на это свои деньги, пришлите мне счет, и я заплачу. Я заплачу вдвойне.
Фостер пожал плечами, взял свою куртку и направился к лестнице. До него доносились громкие рыдания миссис Поттерли.
На площадке он оглянулся и увидел, что доктор Поттерли склонился над женой и на его лице написано мучительное страдание.
Два дня спустя, когда занятия кончились и Фостер устало осматривал свой кабинет, проверяя, не забыл ли он еще каких-нибудь материалов, относящихся к его одобренной теме, на пороге открытой двери вновь появился профессор Поттерли.
Историк был одет с обычной тщательностью. Он поднял руку — этот жест был слишком неопределенен для приветствия и слишком краток для просьбы. Фостер смотрел на своего нежданного гостя ледяным взглядом.
— Я подождал пяти часов, чтобы вы… — сказал Поттерли. — Разрешите войти?
Фостер кивнул. Поттерли продолжал:
— Мне, конечно, следует извиниться за мое поведение. Меня постигло страшное разочарование, я не владел собой, но тем не менее оно было непростительным.
— Я принимаю ваши извинения, — отозвался Фостер. — Это все?
— Если не ошибаюсь, вам звонила моя жена? — Да.
— У нее непрерывная истерика. Она сказала мне, что звонила вам, но я не знал, можно ли поверить…
— Да, она мне звонила.
— Не могли бы вы сказать мне… Будьте так добры, скажите, что ей было нужно.
— Ей был нужен хроноскоп. Она сказала, что у нее есть собственные деньги и она готова заплатить.
— А вы… что-нибудь обещали?
— Я сказал, что я не приборостроитель.
— Прекрасно. — Поттерли с облегчением вздохнул. — Будьте добры, не отвечайте на ее звонки. Она не… не вполне…
— Послушайте, профессор Поттерли, — сказал Фостер, — я не намерен вмешиваться в супружеские споры, но вы должны твердо усвоить: хроноскоп может построить любой человек. Стоит только приобрести несколько простых деталей, которые продаются в магазинах оборудования, и его можно построить в любой домашней мастерской. Во всяком случае, ту его часть, которая связана с телевидением.
— Но ведь об этом же никто не знает, кроме вас. Ведь никто же еще до этого недодумался!
— Я не собираюсь держать это в секрете.
— Но вы не можете опубликовать свое открытие. Вы сделали его нелегально.
— Это больше не имеет значения, профессор Поттерли. Если я потеряю мою дотацию, значит, я ее потеряю. Если университет будет недоволен, я уйду. Все это просто не имеет значения.
— Нет, нет, вы не должны!
— До сих пор, — заметил Фостер, — вас не слишком заботило, что я рискую лишиться дотации и места. Так почему же вы вдруг принимаете это так близко к сердцу? А теперь разрешите, я вам кое-что объясню. Когда вы пришли ко мне впервые, я верил в строго централизованную научную работу, другими словами, в существующее положение вещей. Вас, профессор Поттерли, я считал интеллектуальным анархистом, и притом весьма опасным. Однако случилось так, что я сам за последние месяцы превратился в анархиста и при этом сумел добиться великолепных результатов. Добился я их не потому, что я блестящий ученый. Вовсе нет. Просто научной работой руководили сверху, и остались пробелы, которые может восполнить кто угодно, лишь бы он догадался взглянуть в правильном направлении. И это случилось бы уже давно, если бы государство активно этому не препятствовало. Поймите меня правильно: я по-прежнему убежден, что организованная научная работа полезна. Я вовсе не сторонник возвращения к полной анархии. Но должен существовать какой-то средний путь, научные исследования должны сохранять определенную гибкость. Ученым следует разрешить удовлетворять свою любознательность, хотя бы в свободное время.
Поттерли сел и сказал вкрадчиво:
— Давайте обсудим это, Фостер. Я понимаю ваш идеализм. Вы молоды, вам хочется получить луну с неба. Но вы не должны губить себя из-за каких-то фантастических представлений о том, как следует вести научную работу. Я втянул вас в это. Вся ответственность лежит на мне. Я горько упрекаю себя за собственную неосторожность. Я слишком поддался своим эмоциям. Интерес к Карфагену настолько меня ослепил, что я поступил как последний идиот.
— Вы хотите сказать, что полностью отказались от своих убеждений за последние два дня? — перебил его Фостер. — Карфаген — это пустяк? Как и то, что правительство препятствует научной работе?
— Даже последний идиот вроде меня может кое-что уразуметь, Фостер. Жена кое-чему меня научила. Теперь я знаю, почему правительство практически запретило нейтринику. Два дня назад я этого не понимал, а теперь понимаю и одобряю. Вы же сами видели, как подействовало на мою жену известие, что у нас в подвале стоит хроноскоп. Я мечтал о хроноскопе как о приборе для научных исследований. Для нее же он стал бы только средством истерического наслаждения, возможностью вновь пережить собственное, давно исчезнувшее прошлое.
А настоящих исследователей, Фостер, слишком мало. Мы затеряемся среди таких людей, как моя жена. Если бы государство разрешило хроноскопию, оно тем самым сделало бы явным прошлое всех нас до единого. Лица, занимающие ответственные должности, стали бы жертвой шантажа и незаконного нажима — ведь кто на Земле может похвастаться абсолютно незапятнанным прошлым? Таким образом, вся государственная система рассыпалась бы в прах.
Фостер облизнул губы и ответил:
— Возможно, что и так. Возможно, что в глазах правительства его действия оправданны. Но, как бы то ни было, здесь задет важнейший принцип. Кто знает, какие еще достижения науки остались неосуществленными только потому, что ученых силой загоняют на узенькие тропки? Если хроноскоп станет кошмаром для кучки политиканов, то эту цену им придется заплатить. Люди должны понять, что науку нельзя обрекать на рабство, и трудно придумать более эффективный способ открыть им глаза, чем сделать мое изобретение достоянием гласности, легальным или нелегальным путем — все равно.
На лбу Поттерли блестели капельки пота, но голос его был по-прежнему ровен.
— О нет, речь идет не просто о кучке политиканов, доктор Фостер. Не думайте этого. Хроноскоп станет и моим кошмаром. Моя жена с этих пор будет жить только нашей умершей дочерью. Она совершенно утратит ощущение действительности и сойдет с ума, вновь и вновь переживая одни и те же сцены. И таким кошмаром хроноскоп станет не только для меня. Разве мало людей, подобных ей? Люди будут искать своих умерших родителей или собственную юность. Весь мир станет жить в прошлом. Это будет повальное безумие.
— Соображения нравственного порядка ничего не решают, — ответил Фостер, — Человечество умудрялось искажать практически каждое научное достижение, какие только знала история. Человечеству пора научиться предохранять себя от этого. Что же касается хроноскопа, то любителям возвращаться к мертвому прошлому вскоре надоест это занятие. Они застигнут своих возлюбленных родителей за какими-нибудь неблаговидными делишками, и это поубавит их энтузиазм. Впрочем, все это мелочи. Меня же интересует важнейший принцип.
— К черту ваш принцип! — воскликнул Поттерли. — Попробуйте подумать не только о принципах, но и о людях. Как вы не понимаете, что моя жена захочет увидеть пожар, который убил нашу девочку! Это неизбежно, я ее знаю. Она будет впивать каждую подробность, пытаясь помешать ему. Она будет вновь и вновь переживать этот пожар, каждый раз надеясь, что он не вспыхнет. Сколько раз вы хотите убить Лорель? — Голос историка внезапно осип.
И Фостер вдруг понял.
— Чего вы на самом деле боитесь, профессор Поттерли? Что может узнать ваша жена? Что произошло в ночь пожара?
Историк закрыл лицо руками, и его плечи задергались от беззвучных рыданий. Фостер смущенно отвернулся и уставился в окно.
Через несколько минут Поттерли произнес:
— Я давно отучил себя вспоминать об этом. Кэролайн отправилась за покупками, а я остался с Лорель. Вечером я заглянул в детскую проверить, не сползло ли с девочки одеяло. У меня в руках была сигарета. В те дни я курил. Я, несомненно, погасил ее, прежде чем бросить в пепельницу на комоде, — я всегда следил за этим. Девочка спокойно спала. Я вернулся в гостиную и задремал перед телевизором. Я проснулся, задыхаясь от дыма, среди пламени. Как начался пожар, я не знаю.
— Но вы подозреваете, что причиной его была сигарета, не так ли? — спросил Фостер. — Сигарета, которую на этот раз вы забыли погасить?
— Не знаю. Я пытался спасти девочку, но она умерла, прежде чем я успел вынести ее из дома.
— И, наверное, вы никогда не рассказывали своей жене об этой сигарете?
Поттерли покачал головой:
— Но все это время я помнил о ней.
— А теперь с помощью хроноскопа ваша жена узнает все. Но вдруг дело было не в сигарете? Может быть, вы ее все-таки погасили? Разве это невозможно?
Редкие слезы уже высохли на лице Поттерли. Покрасневшие глаза стали почти нормальными.
— Я не имею права рисковать, — сказал он. — Но ведь дело не только во мне, Фостер. Для большинства людей прошлое таит в себе ужасы. Спасите же от них человечество.
Фостер молча расхаживал по комнате. Теперь он понял, чем объяснялось страстное, иррациональное желание Поттерли во что бы то ни стало возвеличить карфагенян, обожествить их, а главное, опровергнуть рассказ об огненных жертвоприношениях Молоху. Снимая с них жуткое обвинение в детоубийстве посредством огня, он тем самым символически очищал себя от той же вины.
И вот пожар, благодаря которому историк стал причиной создания хроноскопа, теперь обрекал его же на гибель. Фостер грустно поглядел на старика:
— Я понимаю вас, профессор Поттерли, но это важнее личных чувств. Я обязан сорвать удавку с горла науки.
— Другими словами, вам нужны слава и деньги, которые обещает такое открытие! — в бешенстве крикнул Поттерли.
— Оно может и не принести никакого богатства. Однако и это соображение, вероятно, играет не последнюю роль. Я ведь всего только человек.
— Значит, вы отказываетесь утаить свое открытие?
— Наотрез.
— Ну, в таком случае… — Историк вскочил и свирепо уставился на Фостера, и тот на мгновение испугался.
Поттерли был старше его, меньше ростом, слабее и, по-видимому, безоружен, но все же… Фостер сказал:
— Если вы намерены убить меня или совершить еще какую-нибудь глупость в том же роде, то учтите, что все мои материалы находятся в сейфе и в случае моего исчезновения или смерти попадут в надлежащие руки.
— Не говорите ерунды, — сказал Поттерли и выбежал из комнаты.
Фостер поспешно закрыл за ним дверь, сел и задумался. Глупейшая ситуация. Конечно, никаких материалов в сейфе у него не было. При обычных обстоятельствах подобная мелодраматичная ерунда никогда не пришла бы ему в голову. Но обстоятельства были необычными.
И, чувствуя себя еще более глупо, он целый час записывал формулы применения псевдогравитационной оптики к хроноскопии и набрасывал общую схему приборов. Кончив, он запечатал все в конверт, на котором написал адрес Ральфа Ниммо.
Всю ночь он проворочался с боку на бок, а утром, по дороге в университет, занес конверт в банк и отдал соответствующее распоряжение контролеру, который предложил ему подписать разрешение на вскрытие сейфа в случае его смерти.
После этого Фостер позвонил дяде и сообщил ему про конверт, сердито отказавшись объяснить, что именно в нем содержится.
Никогда в жизни он еще не чувствовал себя в таком глупом положении.
Следующие две ночи Фостер почти не спал, пытаясь найти решение весьма практической задачи — каким способом опубликовать материал, полученный благодаря вопиющему нарушению этики.
Журнал «Сообщения псевдогравитационного общества», который был знаком ему лучше других, разумеется, отвергнет любую статью, лишенную магического примечания: «Исследование, изложенное в этой статье, оказалось возможным благодаря дотации №… Комиссии по делам науки при ООН». И, несомненно, так же поступит «Физический журнал».
Конечно, всегда имеется возможность обратиться к второстепенным журналам, которые в погоне за сенсацией не стали бы слишком придираться к источнику статьи, но для этого требовалось совершить небольшую финансовую операцию, крайне для него неприятную. В конце концов он решил оплатить издание небольшой брошюры, предназначенной для распространения среди ученых. В этом случае можно будет даже пожертвовать тонкостями стиля ради быстроты и обойтись без услуг писателя. Придется поискать надежного типографа. Впрочем, дядя Ральф, наверное, сможет ему кого-нибудь порекомендовать.
Он направлялся к своему кабинету, тревожно раздумывая, стоит ли медлить, и собираясь с духом, чтобы позвонить Ральфу по служебному телефону и тем самым отрезать себе пути к отступлению. Он был так поглощен этими мрачными размышлениями, что, только сняв пальто и подойдя к своему письменному столу, заметил наконец, что в кабинете он не один.
На него смотрели профессор Поттерли и какой-то незнакомец.
Фостер смерил их удивленным взглядом:
— В чем дело?
— Мне очень жаль, — сказал Поттерли, — но я вынужден был найти способ остановить вас.
Фостер продолжал недоуменно смотреть на него.
— О чем вы говорите? Неизвестный человек сказал:
— По-видимому, я должен представиться. — И улыбнулся, показав крупные, слегка неровные зубы. — Мое имя Тэддиус Эремен, заведующий отделом хроноскопии. Я пришел побеседовать с вами относительно сведений, которые мне сообщил профессор Арнольд Поттерли и которые подтверждены нашими собственными источниками…
— Я взял всю вину на себя, доктор Фостер, — поспешно сказал Поттерли. — Я рассказал, что именно я толкнул вас против вашей воли на неэтичный поступок. Я готов принять на себя всю полноту ответственности и понести наказание. Мне бы не хотелось ничем вам навредить, но появления хроноскопии допускать нельзя.
Эремен кивнул:
— Он действительно взял всю вину на себя, доктор Фостер. Но дальнейшее от него не зависит.
— Ах вот как! — сказал Фостер. — Так что ж вы собираетесь предпринять? Внести меня в черный список и лишить права на дотацию?
— Я могу это сделать, — ответил Эремен.
— Приказать университету уволить меня?
— И это я тоже могу.
— Ну ладно, валяйте! Считайте, что это уже сделано. Я уйду из кабинета теперь же, вместе с вами, а за книгами пришлю позднее. Если вы требуете, я вообще могу оставить книги здесь. Теперь все?
— Не совсем, — ответил Эремен. — Вы должны дать обязательство прекратить дальнейшие работы в области хроноскопии, не публиковать сведений о ваших открытиях в этом направлении и, разумеется, не собирать хроноскопов. Вы навсегда останетесь под наблюдением, которое помешает вам нарушить это обещание.
— Ну а если я откажусь дать такое обещание? Как вы меня заставите? Занимаясь не тем, чем я должен заниматься, я, возможно, нарушаю этику, но это же не преступление.
— Когда речь идет о хроноскопе, мой юный друг, — терпеливо объяснил Эремен, — это именно преступление. Если понадобится, вас посадят в тюрьму, и навсегда.
— Но почему? — вскричал Фостер. — Чем хроноскопия так замечательна?
— Как бы то ни было, — продолжал Эремен, — мы не можем допустить дальнейших исследований в этой области. Моя работа в основном сводится именно к тому, чтобы препятствовать им. И я намерен выполнить мой служебный долг. К несчастью, ни я, ни сотрудники моего отдела не подозревали, что оптические свойства псевдогравитационных полей имеют столь прямое отношение к хроноскопии. Одно очко в пользу всеобщего невежества, но с этих пор научная работа будет регулироваться соответствующим образом и в этом направлении.
— Ничего не выйдет, — ответил Фостер. — Найдется еще какой-нибудь смежный принцип, не известный ни вам, ни мне. Все области в науке тесно связаны между собой. Это единое целое. Если вам нужно остановить какой-то один ее процесс, вы вынуждены будете остановить их все.
— Несомненно, это справедливо, — сказал Эремен, — но только теоретически. На практике же нам прекрасно удавалось в течение пятидесяти лет удерживать хроноскопию на уровне первых открытий Стербинского. И, вовремя остановив вас, доктор Фостер, мы надеемся и впредь справляться с этой проблемой не менее успешно. Должен вам заметить, что на грани катастрофы мы сейчас оказались только потому, что я имел неосторожность судить о профессоре Поттерли по его внешности.
Он повернулся к историку и поднял брови, словно посмеиваясь над собой.
— Боюсь, сэр, во время нашей первой беседы я счел вас всего лишь обыкновенным профессором истории. Будь я более добросовестным и проверь вас повнимательнее, этого не случилось бы.
— Но кому-то разрешается пользоваться государственным хроноскопом? — отрывисто спросил Фостер.
— Вне нашего отдела — никому и ни под каким предлогом. Я говорю об этом только потому, что вы, как я вижу, уже сами об этом догадались. Но должен предостеречь вас, что оглашение этого факта будет уже не нарушением этики, а уголовным преступлением.
— И ваш хроноскоп проникает не дальше ста двадцати пяти лет, не так ли?
— Вот именно.
— Значит, ваш бюллетень и сообщения о хроноскопировании античности — сплошное надувательство?
Эремен невозмутимо ответил:
— Собранные вами данные доказывают это с достаточной неопровержимостью. Тем не менее я готов подтвердить ваши слова. Этот ежемесячник — надувательство.
— В таком случае, — заявил Фостер, — я не намерен давать обещания скрывать то, что мне известно о хроноскопии. Если вы решили меня арестовать — что ж, это ваше право. Моей защитительной речи на суде будет достаточно, чтобы раз и навсегда сокрушить вредоносный карточный домик руководства наукой. Руководить наукой — это одно, а тормозить ее и лишать человечество ее достижений — это совсем другое.
— Боюсь, вы не вполне понимаете положение, доктор Фостер, — сказал Эремен. — В случае отказа сотрудничать с нами вы отправитесь в тюрьму немедленно. И к вам не будет допущен адвокат. Вам не будет предъявлено обвинение. Вас не будут судить. Вы просто останетесь в тюрьме.
— Ну нет, — ответил Фостер. — Вы стараетесь меня запугать. Сейчас ведь не двадцатый век.
За дверью кабинета раздался шум, послышался топот и визгливый вопль, который показался Фостеру знакомым. Заскрежетал замок, дверь распахнулась, и в комнату влетел клубок из трех тел.
В тот же момент один из боровшихся поднял свой бластер и изо всех сил ударил противника по голове. Послышался глухой стон, и тот, кого ударили, весь обмяк.
— Дядя Ральф! — крикнул Фостер. — Посадите его в это кресло, — нахмурившись, приказал Эремен, — и принесите воды.
Ральф Ниммо, осторожно потирая затылок, заметил с легкой брезгливостью:
— Право же, Эремен, прибегать к физическому насилию не было никакой надобности.
— Жаль, что охрана прибегла к физическому насилию слишком поздно и вы все-таки ворвались сюда, Ниммо, — ответил Эремен. — Ну, тем хуже для вас.
— Вы знакомы? — спросил Фостер.
— Я уже имел дело с этим человеком, — вздохнул Ниммо, продолжая потирать затылок. — Уж если он явился к тебе собственной персоной, племянничек, значит, беды тебе не миновать.
— И вам тоже, — сердито сказал Эремен. — Мне известно, что доктор Фостер консультировался у вас относительно литературы по нейтринике.
Ниммо было нахмурился, но тут же вздрогнул от боли и поспешил разгладить морщины на лбу.
— Вот как? — сказал он. — А что еще вам про меня известно?
— В ближайшее время мы узнаем о вас все. А пока достаточно и этого. Зачем вы сюда явились?
— Дражайший доктор Эремен, — сказал Ниммо, к которому отчасти вернулась его обычная легкомысленная манера держаться. — Позавчера мой осел племянник позвонил мне. Он поместил какие-то таинственные документы…
— Молчите, не говорите ему ничего! — воскликнул Фостер. Эремен холодно взглянул на молодого физика:
— Нам все известно, доктор Фостер. Ваш сейф вскрыт, и его содержимое конфисковано.
— Но откуда вы узнали… — Фостер умолк, задохнувшись от ярости и разочарования.
— Как бы то ни было, — продолжал Ниммо, — я решил, что кольцо вокруг него уже замыкается, и, приняв кое-какие меры, явился сюда, намереваясь убедить его бросить заниматься тем, чем он занимается. Ради этого ему не стоило губить свою карьеру.
— Из этого следует, что вы знали, чем он занимается? — спросил Эремен.
— Он мне ничего не рассказывал, — ответил Ниммо, — но я же писатель при науке с чертовски большим опытом! Я ведь знаю, почем фунт электронов. Мой племянничек специализируется по псевдогравитационной оптике и сам же втолковал мне ее основные принципы. Он уговорил меня достать ему учебник по нейтринике, и, прежде чем отдать ему пленку, я сам быстренько ее просмотрел. А помножить два на два я умею. Он попросил меня достать ему определенное физическое оборудование, что также о многом говорило. Думаю, я не ошибусь, сказав, что мой племянник построил полупортативный хроноскоп малой мощности. Да или… Да?
— Да. — Эремен задумчиво достал сигарету, не обратив ни малейшего внимания на то, что профессор Поттерли, который наблюдал за происходящим, как во сне, со стоном отшатнулся от белой трубочки. — Еще одна моя ошибка. Мне следует подать в отставку. Я должен был бы присматривать и за вами, Ниммо, а не заниматься исключительно Поттерли и Фостером. Правда, у меня было мало времени. Вы сами благополучно сюда явились. Но это не может служить мне оправданием. Вы арестованы, Ниммо.
— За что? — возмущенно спросил писатель.
— За нелегальные научные исследования.
— Я их не вел. И к тому же я не принадлежу к категории зарегистрированных ученых, и, значит, подобное определение ко мне не подходит. Да в любом случае — это не уголовное преступление.
— Бесполезно, дядя Ральф, — свирепо перебил его Фостер. — Этот бюрократ вводит собственные законы.
— Например? — спросил Ниммо.
— Например, пожизненное заключение без суда.
— Чушь! — воскликнул Ниммо. — Сейчас же не двадца…
— Я уже это говорил, — пояснил Фостер. — Ему все равно.
— И все-таки это чушь, — Ниммо уже кричал. — Слушайте, Эремен! К вашему сведению, у меня и моего племянника есть родственники, которые поддерживают с нами связь. Да и у профессора, наверное, тоже. Вам не удастся убрать нас без шума. Начнется расследование, и разразится скандал. Сейчас не двадцатый век, что бы вы ни говорили. Так что не пробуйте нас запугать.
Сигарета в пальцах Эремена лопнула, и он с яростью отшвырнул ее в сторону.
— Черт возьми! Не знаю, что и делать, — сказал он. — Впервые встречаюсь с подобным случаем… Ну вот что: вы, трое идиотов, не имеете ни малейшего представления, что именно вы затеяли. Вы ничего не понимаете. Будете вы меня слушать?
— Отчего же, — мрачно сказал Ниммо.
(Фостер молчал, крепко сжав губы. Глаза его сердито сверкали. Руки Поттерли извивались, как две змеи.)
— Для вас прошлое — мертвое прошлое, — сказал Эремен. — Если вы обсуждали этот вопрос, так уж, наверное, пустили в ход это выражение. Мертвое прошлое! Если бы вы знали, сколько раз я слышал эти два слова, то вам бы они тоже стали поперек глотки. Когда люди думают о прошлом, они считают его мертвым, давно прошедшим, исчезнувшим навсегда. И мы стараемся укрепить их в этом мнении. Сообщая об обзоре времени, мы каждый раз называли давно прошедшее столетие, хотя вам, господа, известно, что заглянуть в прошлое больше чем на сто лет вообще невозможно. И всем это кажется естественным. Прошлое для широкой публики означает Грецию, Рим, Карфаген, Египет, каменный век. Чем мертвее, тем лучше. Но вы-то знаете, что пределом является столетие. Так что же в таком случае для вас прошлое? Ваша юность. Ваша первая любовь.
Ваша покойная мать. Двадцать лет назад. Тридцать лет назад. Пятьдесят лет назад. Чем мертвее, тем лучше… Но когда же все-таки начинается прошлое?
Он задохнулся от гнева. Его слушатели не сводили с него завороженных глаз, а Ниммо беспокойно заерзал в кресле.
— Ну, так когда же оно начинается? — сказал Эремен. — Год назад, пять минут назад? Секунду назад? Разве не очевидно, что прошлое начинается сразу же за настоящим? Мертвое прошлое — это лишь другое название живого настоящего. Если вы наведете хроноскоп на одну сотую секунды тому назад? Ведь вы же будете наблюдать прошлое! Ну как, проясняется?
— Черт побери! — сказал Ниммо.
— Черт побери! — передразнил Эремен. — После того как Поттерли пришел ко мне позавчера вечером, каким образом, по-вашему, я собрал сведения о вас обоих? Да с помощью хроноскопа! Просмотрев все важнейшие моменты по самую последнюю секунду.
— И таким образом вы узнали про сейф? — спросил Фостер.
— И про все остальное. А теперь скажите, что, по-вашему, произойдет, если мы допустим, чтобы про домашний хроноскоп узнала широкая публика? Разумеется, сперва люди начнут с обзора своей юности, захотят увидеть вновь своих родителей и прочее, но вскоре они сообразят, какие потенциальные возможности таятся в этом аппарате. Домашняя хозяйка забудет про свою бедную покойную мамочку и примется следить, что делает ее соседка дома, а ее супруг у себя в конторе. Делец будет шпионить за своим конкурентом, хозяин — за своими служащими. Личная жизнь станет невозможной. Подслушивание по телефону, наблюдение через замочную скважину покажутся детскими игрушками по сравнению с этим. Публика будет любоваться каждой минутой жизни кинозвезд, и никому не удастся укрыться от любопытных глаз. Даже темнота не явится спасением, потому что хроноскоп можно настроить на инфракрасные лучи и человеческие тела будут видны благодаря излучаемому ими теплу. Разумеется, это будут только смутные силуэты на черном фоне. Но пикантность от этого только возрастет… Техники, обслуживающие хроноскоп, проделывают подобные эксперименты, несмотря на все запрещения.
Ниммо сказал, словно борясь с тошнотой:
— Но ведь можно же запретить частное пользование…
— Конечно, можно. Но что толку? — яростно набросился на него Эремен. — Удастся ли вам с помощью законов уничтожить пьянство, курение, разврат или сплетни? А такая смесь грязного любопытства и щекотания нервов окажется куда более сильной приманкой, чем все это. Да ведь за тысячу лет нам не удалось покончить даже с употреблением наркотиков! А вы говорите о том, чтобы в законодательном порядке запретить аппарат, который позволит наблюдать за кем угодно и когда угодно, аппарат, который можно построить у себя дома!
— Я ничего не опубликую! — внезапно воскликнул Фостер. Поттерли сказал с рыданием в голосе:
— Мы все будем молчать. Я глубоко сожалею… Но тут его перебил Ниммо:
— Вы сказали, что не проверили меня хроноскопом, Эремен?
— У меня не было времени, — устало ответил Эремен. — События в хроноскопе занимают столько же времени, сколько в реальной жизни. Этот процесс нельзя ускорить, как, например, прокручивание пленки в микрофильме. Нам понадобились целые сутки, чтобы установить наиболее важные моменты в деятельности Поттерли и Фостера за последние шесть месяцев. Ни на что другое у нас не хватило времени. Но и этого было достаточно.
— Нет, — сказал Ниммо.
— Что вы хотите этим сказать? — Лицо Эремена исказилось от мучительной тревоги.
— Я же объяснил вам, что мой племянник Джонас позвонил мне и сообщил, что спрятал в сейф важнейшие материалы. Он вел себя так, словно ему грозила опасность. Он же мой племянник, черт побери! Я должен был как-то ему помочь. На это потребовалось время. А потом я пришел сюда, чтобы рассказать ему о том, что сделал. Я же сказал вам, когда ваш охранник хлопнул меня по голове, что принял кое-какие меры.
— Что?! Ради Бога…
— Я всего только послал подробное сообщение о портативном хроноскопе в десяток периодических изданий, которые меня печатают.
Ни слова. Ни звука. Ни вздоха. У них уже не осталось сил.
— Да не глядите на меня так! — воскликнул Ниммо. — Неужели вы не можете понять, как обстояло дело! Право популярного издания принадлежало мне. Джонас не будет этого отрицать. Я знал, что легальным путем он не сможет опубликовать свои материалы ни в одном научном журнале. Мне было ясно, что он собирается издать свои материалы нелегально и для этого поместил их в сейф. Я решил сразу опубликовать детали, чтобы вся ответственность пала на меня. Его карьера была бы спасена. А если бы меня лишили права обрабатывать научные материалы, я все равна был бы обеспечен до конца своих дней, так как только я мог бы писать о хроноскопии. Я знал, что Джонас рассердится, но собирался все ему объяснить, а доходы поделить пополам… Да не глядите же на меня так! Откуда я знал…
— Никто ничего не знал, — с горечью сказал Эремен, — однако вы все считали само собой разумеющимся, что правительство состоит из глупых бюрократов, злобных тиранов, запрещающих научные изыскания ради собственного удовольствия. Вам и в голову не пришло, что мы по мере наших сил старались оградить человечество от катастрофы.
— Да не тратьте же время на пустые разговоры! — вскричал Поттерли. — Пусть он назовет тех, кому сообщил…
— Слишком поздно, — ответил Ниммо, пожимая плечами. — В их распоряжении было больше суток. За это время новость успела распространиться. Мои издатели, несомненно, обратились к различным физикам, чтобы проверить материалы, прежде чем подписать их в печать, ну а те, конечно, сообщили об этом открытии всем остальным. А стоит физику соединить нейтринику и псевдогравитику, как создание домашнего хроноскопа станет очевидным. До конца недели по меньшей мере пятьсот человек будут знать, как собрать портативный хроноскоп, и проверить их всех невозможно. — Пухлые щеки Ниммо вдруг обвисли. — По-моему, не существует способа загнать грибовидное облако в симпатичный блестящий шар из урана.
Эремен встал.
— Конечно, мы попробуем, Поттерли, но я согласен с Ниммо. Слишком поздно. Я не знаю, в каком мире мы будем жить с этих пор, но наш прежний мир уничтожен безвозвратно. До сих пор каждый обычай, каждая привычка, каждая крохотная деталь жизни всегда опирались на тот факт, что человек может остаться наедине с собой, но теперь это кончилось.
Он поклонился им с изысканной любезностью:
— Вы втроем создали новый мир. Поздравляю вас. Счастливо плескаться в аквариуме! И вам, и мне, и всем. И пусть каждый из нас во веки веков горит в адском огне! Арест отменяется.
перевод И. ГуровойПоследний вопрос
Впервые Последний вопрос был задан в шутку двадцать первого мая 2061 года в то время, когда человечество наконец увидело свет. Вопрос возник в результате пари на пять долларов.
Дело обстояло примерно так.
Александр Адель и Бертрам Лупов были верными слугами Мультивака. Насколько это доступно человеческому существу, оба знали, что лежит за холодным мерцающим ликом гигантского компьютера. Однако они имели лишь смутные представления общего плана о бесчисленных реле и цепях, которые уже давным-давно в такой степени разрослись, что человеку было не под силу представить себе полную картину.
Мультивак обладал способностью самосовершенствования и самонастройки. Иначе и быть не могло — ни один человек не в состоянии достаточно быстро и эффективно проделать подобную работу. Поэтому Адель и Лупов ухаживали за могучим исполином лишь поверхностно, решая незначительные вопросы; однако следует заметить, что занимались они своим делом весьма старательно. Сообщали Мультиваку новую информацию, более четко формулировали вопросы и переводили полученные ответы. И, уж конечно, лучи славы Мультивака заслуженно согревали и всех тех, кто обслуживал это чудесное творение рук человеческих.
Десятилетия Мультивак помогал конструировать корабли и рассчитывать траектории их полетов — человек сумел добраться до Луны, Марса и Венеры; дальше не позволяли пробиться скромные ресурсы Земли, поскольку для таких путешествий требовалось слишком много энергии. Земля все эффективнее вела разработку месторождений угля и урана, но и этот ресурс был небеспредельным.
Постепенно Мультивак обретал способность отвечать на все более и более сложные вопросы, и четырнадцатого мая 2061 года то, что раньше было теорией, превратилось в факт.
Теперь солнечная энергия запасалась, конвертировалась и использовалась в планетарном масштабе. На Земле отказались от угля и урана, общая энергосистема переключилась на маленькую станцию диаметром в одну милю, которая вращалась вокруг Земли примерно на половине пути от Луны. Необходимой энергией людей обеспечивали невидимые солнечные лучи.
С момента пуска станции прошла неделя, но всеобщее ликование еще не утихло, так что Аделю и Лупову было совсем непросто освободиться, чтобы спокойно посидеть в каком-нибудь тихом месте, где никто на них не глазел бы. Такое место нашлось среди пустынных подземных помещений — части огромного, спрятанного под землей тела Мультивака. Колоссальную машину наконец тоже оставили в покое, чтобы она могла немного отдохнуть, и парни были очень довольны. Поначалу Адель и Лупов и не собирались беспокоить Мультивак.
Они захватили с собой бутылку, единственное, чего им хотелось — спокойно посидеть, поболтать и расслабиться.
— Знаешь, это ведь просто потрясающе, — заявил Адель. На его широком лице были заметны следы усталости, он медленно помешивал стеклянной палочкой в своем бокале, лениво наблюдая за тем, как перемещаются в жидкости кубики льда. — Трудно представить себе: столько энергии, пользуйся бесконечно, да еще задаром. Можно превратить Землю в огромную каплю жидкого металла — а энергии на это уйдет так мало, что никто даже и не заметит. Нам ее хватит на долгие, долгие годы. Иными словами, навсегда.
Лупов наклонил голову набок. Он неизменно так делал, когда с кем-нибудь не соглашался, а сейчас ему очень хотелось не согласиться — частично из-за того, что пришла его очередь идти за новой порцией льда.
— Нет, не навсегда.
— Черт возьми, почти навсегда. До тех пор, пока не погаснет солнце, Берт.
— Ну, это же и значит, что не навсегда.
— Ладно. На миллиарды и миллиарды лет. Может быть, на двадцать миллиардов. Теперь ты доволен?
Лупов провел ладонью по редеющим волосам, словно хотел убедиться в том, что еще не окончательно облысел, сделал большой глоток из своего стакана.
— Двадцать миллиардов лет — это еще не навсегда.
— На наш век хватит, не так ли?
— То же самое можно было бы сказать про уголь и уран.
— Не спорю, зато теперь мы можем подсоединить каждый космический корабль к Солнечной станции и слетать на Плутон и обратно миллион раз, совершенно не беспокоясь о расходе топлива. Если бы мы продолжали использовать уголь и уран, это было бы невозможно. Спроси Мультивак, если мне не веришь.
— Зачем спрашивать Мультивак, я и сам знаю.
— Тогда перестань принижать то, что Мультивак для нас сделал! — рассердился Адель. — На сей раз он был на высоте.
— Кто же с этим спорит? Я просто утверждаю, что солнце не вечно. Вот и все. Мы можем жить спокойно двадцать миллиардов лет, а что будет потом? — Лупов показал слегка трясущимся пальцем на приятеля. — Только не говори мне, что мы сможем подключиться к другому солнцу.
На некоторое время оба замолчали. Адель изредка подносил стакан к губам, а Лупов закрыл глаза. Они отдыхали. Затем Лупов подскочил на месте, удивленно глядя на приятеля.
— Ты думаешь, мы подключимся к другому солнцу, когда нашему придет конец, ведь так?
— Я ничего не думаю.
— Конечно, думаешь. С логикой у тебя всегда были проблемы. Ты похож на того парня, который неожиданно попал под дождь, побежал к рощице и спрятался под деревом. Понимаешь, он ни о чем не беспокоится: считает, что как только одно дерево промокнет, он перебежит под другое.
— Я тебя понял, — отозвался Адель. — Не кричи. Когда нашему солнцу придет конец, остальные звезды тоже погаснут.
— Именно так, черт возьми, — пробормотал Лупов. — Они возникли во время исходного космического взрыва, или как там это называлось, и все закончится тогда, когда погаснет последняя звезда. Одни это сделают раньше, чем другие. Проклятье, гиганты не продержатся и ста миллионов лет. Солнце проживет двадцать миллиардов лет, а карлики протянут в лучшем случае сто миллиардов. Через триллион лет наступит полнейший мрак. Энтропия достигнет максимума, вот и все.
— Я прекрасно знаю, что такое энтропия, — заявил Адель, вставая и расправляя плечи.
— Ни черта ты не знаешь.
— Знаю не меньше тебя.
— Тогда ты знаешь, что рано или поздно всему приходит конец.
— Ладно, никто с этим и не спорит.
— Ты сам споришь, несчастный балбес! Ты сказал, что в нашем распоряжении вся энергия, которая когда-либо понадобится. Ты сказал, что мы обеспечены энергией навсегда. Это твое слово: «навсегда».
Теперь пришел черед Аделя не соглашаться.
— Возможно, мы сумеем найти способ снова все отстроить, — упрямо возразил он.
— Никогда.
— А почему бы и нет? Со временем…
— Никогда.
— Спроси у Мультивака.
— Сам спроси у Мультивака. Рискни, если ты такой смелый. Спорим на пять долларов, что это невозможно.
Адель уже достаточно выпил, чтобы предпринять подобную попытку, и в то же время оставался достаточно трезвым, чтобы грамотно сформулировать вопрос, обращенный к Мультиваку: «Сумеет ли когда-нибудь человечество, лишившись всех источников энергии, создать новое, юное солнце после того, как последняя звезда умрет от старости?»
Или, может быть, лучше спросить попроще: «Как уменьшить общее количество энтропии во Вселенной?»
Мультивак долго молчал. Огоньки перестали мерцать, перестали щелкать многочисленные реле.
Затем, когда перепуганные техники почувствовали, что больше не в состоянии задерживать дыхание, Мультивак ожил, заработал телетайп. Появилось всего пять слов:
«НЕ ХВАТАЕТ ДАННЫХ ДЛЯ ОСМЫСЛЕННОГО ОТВЕТА».
— И никаких тебе пари, — прошептал Лупов.
Они поспешно вышли из комнаты.
На следующее утро их поджидало тяжкое похмелье, голова раскалывалась от боли, язык не слушался. Они напрочь забыли о том, что произошло.
Джеррод, Джерродайн и Джерродэтт I и II наблюдали за меняющейся звездной картинкой на экране — скачок сквозь гиперпространство был завершен. В одно мгновение вместо россыпи звезд на экране появился огромный светящийся мраморный диск.
— Это Х-23, — уверенно заявил Джеррод.
Он так сжал за спиной худые руки, что побелели костяшки пальцев. Две маленькие девочки Джерродэтт впервые в жизни участвовали в гиперпространственном скачке и еще не совсем пришли в себя от короткого, но непередаваемого ощущения, когда тебя выворачивает наизнанку, а потом все снова встает на свои места. Они с трудом подавили смех и начали с громкими, радостными воплями гоняться друг за дружкой вокруг матери.
— Мы добрались до Х-23… мы добрались до Х-23… мы…
— Успокойтесь, дети! — резко сказала Джерродайн. — Ты уверен, Джеррод?
— А какие еще возможны варианты? — спросил Джеррод, глядя на металлическую полосу под потолком. Она шла через всю каюту и уходила в стены по обе стороны. Полоса была длиной в целый корабль.
Джеррод знал лишь, что этот толстый металлический прут называется Микровак, ему, при желании, можно задавать вопросы; а даже если ты ничего не спрашиваешь, он все равно ведет корабль к месту назначения. Кроме того, Джеррод знал, что Микровак питается энергией от различных субгалактических энергетических станций и делает все необходимые вычисления для гиперпространственных скачков.
Джерроду и его семье оставалось только жить в удобных каютах корабля и дожидаться, когда они прилетят в нужное место.
Однажды кто-то рассказал Джерроду, что «ак» на конце слова «Микровак» означает «аналоговый компьютер» на древнеанглийском, но он уже практически забыл эту информацию.
Глаза Джерродайн увлажнились, когда она посмотрела на экран.
— Ничего не могу с собой поделать. Я чувствую себя так странно из-за того, что мы покинули Землю.
— Почему? — удивился Джеррод. — У нас там ничего нет. А на Х-23 будет все. И ты не окажешься там одна, мы же не пионеры. На планете уже живет около миллиона людей. Видит Бог, нашим прапраправнукам придется еще искать новые миры, на Х-23 станет слишком тесно. — Потом, немного подумав, он добавил: — Знаешь, нам очень повезло, что компьютеры помогли вовремя освоить межзвездные путешествия — ведь население Земли увеличивается даже слишком быстро.
— Я знаю, знаю, — грустно сказала Джерродайн.
— Наш Микровак — самый лучший Микровак в мире! — вставила свое веское слово Джерродэтт I.
— Я тоже так считаю, — сказал Джеррод, погладив дочурку по голове.
Это действительно было здорово — иметь свой собственный Микровак, и Джеррод радовался, что живет в такое чудесное время. Когда его отец был молодым человеком, компьютеры занимали сотни квадратных миль. На всей Земле был всего один такой грандиозный компьютер. Его называли планетарным АК. В течение тысячи лет машины росли, увеличивались в размерах, а потом, за совсем короткое время, произошел мощный скачок. Вместо транзисторов появились молекулярные диоды, после чего даже самый большой планетарный АК вполне можно было запускать в космос, причем он занимал лишь половину корабля.
Джеррод почувствовал прилив сил — это ощущение охватывало его всякий раз, когда он думал о своем собственном Микроваке, который был во много раз мощнее, чем древний, примитивный Мультивак, сумевший множество веков назад приручить солнце; его Микровак был почти таким же сложным, как планетарный АК Земли, решивший проблему гиперпространственных скачков и сделавший возможными межзвездные путешествия.
— Так много звезд, так много планет, — вздохнула Джерродайн, погруженная в собственные мысли. — Наверное, в будущем семьи станут спокойно переселяться на новые планеты, словно из одной квартиры в другую.
— Так будет продолжаться не всегда, — с улыбкой ответил Джеррод. — Когда-нибудь все кончится, но сначала пройдут миллиарды лет. Много миллиардов. Даже звезды рано или поздно гаснут, ты же знаешь. Энтропия должна увеличиться.
— А что такое энтропия, папочка? — звонко прокричала Джерродэтт II.
— Энтропия, малышка, всего лишь слово, означающее степень пассивности Вселенной. Рано или поздно все перестает работать, как твой маленький говорящий робот — помнишь его?
— А разве нельзя вставить новую батарейку, как мы сделали с моим роботом?
— Звезды и есть такие батарейки, милая. Когда все они погаснут, больше не останется батареек.
Джерродэтт I немедленно подняла вой:
— Не разрешай им, палочка! Не разрешай им гаснуть!
— Ну, видишь, что ты наделал, — в отчаянии прошептала Джерродайн.
— Откуда же я мог знать, что их это так напугает, — прошептал Джеррод в ответ.
— Спроси у Микровака, — продолжала рыдать Джерродэтт I. — Спроси у него, как снова зажечь звезды.
— Давай, спроси, — предложила Джерродайн, — может, тогда они успокоятся.
(К этому моменту Джерродэтт II тоже расплакалась.)
Джеррод пожал плечами:
— Ну-ну, милые. Я спрошу у Микровака. Не беспокойтесь, он нам скажет.
Он задал Микроваку вопрос, быстро добавив:
— Ответ напечатать.
Джеррод подхватил кусок выпавшей микропленки и весело заявил:
— Вот видите, Микровак говорит, что обо всем позаботится, когда в этом возникнет необходимость. Так что вам не о чем волноваться.
— А теперь, дети, — вмешалась Джерродайн, пора спать. Скоро мы прибудем в наш новый дом.
Джеррод еще раз прочитал слова на микропленке, прежде чем уничтожить ее.
«НЕ ХВАТАЕТ ДАННЫХ ДЛЯ ОСМЫСЛЕННОГО ОТВЕТА».
Он пожал плечами и посмотрел на экран. Х-23 была уже совсем рядом.
VJ-23X из Ламеты вгляделся в черные глубины трехмерной мелкомасштабной карты Галактики и сказал:
— Может быть, мы зря уже сейчас волнуемся по этому поводу?
MQ-17J из Никрона покачал головой:
— Думаю, нет. Ты же знаешь, через пять лет в Галактике больше не останется свободного места, если учесть, с какой скоростью осваиваются новые планеты.
Обоим было около двадцати лет. Высокие, красивые молодые люди.
— И все же, — не сдавался VJ-23X, — я не готов смириться с пессимистическим прогнозом Галактического Совета.
— Другой вариант ответа я бы даже не стал рассматривать. Их просто необходимо немного взбодрить.
— Космос бесконечен, — вздохнул VJ-23X. — Мы можем занять сто миллиардов галактик. Даже больше.
— Сто миллиардов — отнюдь не бесконечное число, к тому же оно постоянно уменьшается. Поразмысли как следует! Двадцать тысяч лет назад человечество решило проблему использования энергии звезд, уже через несколько столетий стали возможны путешествия к самым далеким созвездиям. Людям потребовалось более миллиона лет, чтобы заполнить один маленький мир; на освоение оставшейся части галактики ушло всего пятнадцать тысяч лет. Сейчас каждые десять лет население удваивается…
— Тут мы должны благодарить бессмертие, — прервал его VJ-23X.
— Совершенно верно. Мы овладели секретом бессмертия, никуда от этого факта не денешься. Нельзя не признать, что бессмертие имеет и оборотную сторону. Галактический АК решил для нас множество проблем, но, избавив человечество от старости и смерти, он лишил нас возможности искать иные варианты.
— Однако ты вряд ли согласился бы отказаться от жизни, как мне кажется.
— Конечно, не согласился бы, — проворчал MQ-17J, заметно смягчаясь. — Во всяком случае, пока. Но я еще не так стар. Тебе сколько лет?
— Двести двадцать три. А тебе?
— Мне еще и двухсот не исполнилось. Однако вернемся к моим исходным рассуждениям. Население удваивается каждые десять лет Как только эта галактика будет заселена, нам потребуется всего десять лет, чтобы полностью освоить следующую. Еще через десять лет возникнет необходимость сразу в двух. Пройдет новое десятилетие — ищи четыре неизведанных галактики. За сто лет мы будем вынуждены освоить более тысячи галактик. За тысячу — миллион. За десять тысяч лет — всю Вселенную. А дальше?
— Кроме того, — добавил VJ-23X, — возникает проблема транспорта. Интересно, сколько энергии потребуется, чтобы переместить население одной галактики в другую?
— Отличный довод. Уже сегодня человечество потребляет энергию двух солнц в год только для решения транспортных проблем.
— Большая ее часть расходуется зря. В конце концов, в нашей галактике тысячи звезд, каждая из которых постоянно излучает энергию, а мы нуждаемся только в двух.
— Согласен, но, даже употребляя энергию со стопроцентной эффективностью, мы только отодвигаем конец. Наши потребности будут увеличиваться в геометрической прогрессии, намного быстрее, чем рост населения. Энергия кончится даже раньше, чем галактики. Отличный довод. Просто превосходный.
— Значит, придется создавать новые звезды из межзвездного газа.
— Ты еще скажи «из рассеянного тепла»! — язвительно предложил MQ-17J.
— Должен же существовать способ борьбы с энтропией. Следует запросить галактический АК.
VJ-23X бросил эту фразу в шутку, но MQ-17J достал из кармана крошечный передатчик для связи с АК и положил его перед собой на стол.
— Может, и стоит это сделать, — сказал он. — Рано или поздно человеческой расе придется заняться решением вопроса выживания.
Он посмотрел на свой маленький АК-передатчик, который представлял из себя куб с ребром в два дюйма, но был подсоединен через гиперпространство к огромному галактическому АК, который служил всему человечеству. В некотором смысле можно было рассматривать передатчик как некую частичку галактического АК.
MQ-17J вдруг задумался о том, соберется ли он когда-нибудь за свою бесконечную жизнь посетить галактический АК. Это был целый мир — паук на паутине силовых лучей, поддерживающих среду, в которой путешествуют суб-мезоны, пришедшие на смену неуклюжим молекулярным диодам. Однако, несмотря на то что галактический АК был великим достижением инженерной мысли, он занимал в поперечнике более тысячи футов.
— Можно ли повернуть энтропию вспять? — неожиданно задал свой вопрос MQ-17J.
VJ-23X удивленно на него посмотрел:
— Ну, по правде говоря, я совсем не всерьез предлагал тебе обратиться к АК.
— А почему бы и нет?
— Мы оба знаем, что энтропия необратима. Нельзя превратить дым и золу в дерево.
— А в вашем мире есть деревья? — поинтересовался MQ-17J.
В этот момент заговорил галактический АК, и оба замолчали. Голос, исходящий из маленького АК-передатчика, был звонким и приятным. Он сказал:
— НЕ ХВАТАЕТ ДАННЫХ ДЛЯ ОСМЫСЛЕННОГО ОТВЕТА.
— Вот видишь! — воскликнул VJ-23X.
И они вернулись к обсуждению отчета, который должны были сделать для Галактического Совета.
Разум Зи Прайма рассеянно обозревал новую галактику и ее бесчисленные звезды, дающие энергию и жизнь. Ранее он никогда не видел этой галактики. Доведется ли ему когда-нибудь осмотреть их все? Галактик так много — и каждая населена людьми. Однако все чаще и чаще истинная сущность человека оказывалась в космосе.
Только разумы, не тела! Бессмертные тела оставались на планетах, приостановив обычную деятельность на миллиарды лет. Иногда они возобновляли материальную активность, но это происходило все реже и реже. Совсем немного новых людей появлялось на свет, чтобы присоединиться к огромному числу живущих, но разве теперь это имело какое-нибудь значение? Во Вселенной почти не осталось места для поселенцев.
Зи Прайм отвлекся от глубоких раздумий, его легонько коснулся другой разум.
— Меня зовут Зи Прайм. А тебя?
— А меня Ди Саб Ван. Из какой ты галактики?
— Мы называем ее просто Галактика. А ты?
— Свою мы зовем так же. Все люди теперь называют место своего обитания просто Галактика. Почему бы и нет?
— Верно. Особенно если учесть, что все галактики одинаковы.
— Не все. В одной из галактик зародилась человеческая раса. Вот она то и отличается от остальных.
— И в какой же именно? — поинтересовался Зи Прайм.
— Не могу сказать. Вселенский АК должен знать.
— Может, спросим у него? Мне вдруг стало любопытно.
Восприятие Зи Прайма стало расширяться, пока галактики не превратились в небольшие пятнышки, разбросанные по Вселенной. Многие сотни миллиардов галактик, населенных бессмертными существами, разумы которых свободно дрейфовали в пространстве. Но одна их этих бесчисленных галактик была уникальной. На ней в далеком, невероятно далеком прошлом зародились первые люди. Тогда только эта галактика была населена разумными существами.
Зи Прайма охватило нетерпение: ему захотелось увидеть эту галактику, и он позвал:
— Вселенский АК! В какой галактике зародилось человечество?
Вселенский АК услышал — на каждой планете, в каждой галактике у него были рецепторы, которые через гиперпространство связывали с ним множество миров.
Зи Прайм знал, что мыслям только одного человека удалось проникнуть в пространства, окружающие вселенский АК, и он сумел смутно разглядеть лишь сияющую сферу диметром всего в два фута.
— Но как такая маленькая сфера может быть вселенским АК? — спросил тогда Зи Прайм.
— Большая его часть, — последовал ответ, — находится в гиперпространстве. А в какой именно форме, я даже и представить себе не могу.
Да и никто не мог, поскольку Зи Прайм знал, что прошли эпохи с тех пор, как человек имел какое-то отношение к конструкции вселенского АК. Каждый новый вселенский АК проектировался и строился своим предшественником. Каждый за миллионы лет существования собирал информацию и идеи, необходимые для того, чтобы построить новый, более изощренный и дееспособный компьютер, в котором оживет его собственная индивидуальность.
Вселенский АК прервал размышления Зи Прайма, но не словами — он повел за собой его разум через множество галактик, пока они не оказались в той, где впервые появились люди.
И явилась мысль, очень далекая, но кристально ясная:
— ЗДЕСЬ ЗАРОДИЛАСЬ РАСА ЛЮДЕЙ.
Однако эта галактика ничем не отличалась от всех других, и Зи Прайм был разочарован.
Ди Саб Ван, чей разум сопровождал разум Зи Прайма, неожиданно сказал:
— А одна из этих звезд была той, что светила первым людям?
Вселенский АК ответил:
— ТА ЗВЕЗДА ПРЕВРАТИЛАСЬ В СВЕРХНОВУЮ. ТЕПЕРЬ ЭТО БЕЛЫЙ КАРЛИК.
— А люди погибли? — не подумав, спросил удивленный Зи Прайм.
Вселенский АК ответил:
— БЫЛ СОЗДАН НОВЫЙ МИР, КАК И ВСЕГДА В ПОДОБНЫХ СЛУЧАЯХ. ИХ ФИЗИЧЕСКИЕ ТЕЛА УСПЕЛИ ВОВРЕМЯ НА НЕГО ПЕРЕБРАТЬСЯ.
— Да, конечно, — сказал Зи Прайм, но ему все равно стало грустно.
Его сознание покинуло галактическую колыбель человечества и вернулось обратно, чтобы вновь распылиться среди бесчисленных звезд. Зи Прайм больше не хотел видеть ту галактику.
— Что-то не так? — спросил Ди Саб Ван.
— Звезды умирают. Первая звезда человечества мертва.
— Они все должны умереть. Почему бы и нет?
— Но когда иссякнет энергия всех звезд, наши физические тела наконец умрут, а вместе с ними и мы с тобой.
— На это уйдут миллиарды лет.
— А я не хочу, чтобы это произошло и через миллиард лет!.. Вселенский АК! Как можно предотвратить смерть звезд?
— Ты спрашиваешь о том, можно ли реверсировать энтропию! — воскликнул Ди Саб Ван.
А Вселенский АК ответил:
— НЕ ХВАТАЕТ ДАННЫХ ДЛЯ ОСМЫСЛЕННОГО ОТВЕТА.
Мысли Зи Прайма вновь обратились к его собственной галактике. Он больше не думал о Ди Саб Ване, телесная оболочка которого могла находиться в иной галактике в триллионах световых лет от него или рядом с соседней звездой. Это не имело значения.
Расстроенный Зи Прайм начал собирать межзвездный водород, из которого решил создать звезду. Звезды должны когда-нибудь умереть, но сейчас он может построить еще одну, новую.
Человек посоветовался сам с собой, поскольку в некотором роде Человек в интеллектуальном смысле был единым. Он состоял из триллионов-триллионов-триллионов лишенных возраста тел, каждое из которых занимало свое место, каждое было наделено вечной жизнью, и за каждым ухаживали безупречные вечные роботы, в то время как сознания всех этих тел свободно соединялись друг с другом, так что их невозможно было разделить.
Человек сказал:
— Вселенная умирает.
Человек посмотрел вокруг и увидел тускнеющие галактики. Гигантские звезды, чья энергия была растрачена, погасли в далекие, далекие времена. Почти все они превратились в тихо затухающих белых карликов.
Из межзвездной пыли родились новые звезды: одни в результате естественных процессов, какие-то построил сам Человек — они тоже умирали. Белые карлики можно было сжать вместе, в результате чего высвобождались могучие силы, появлялись новые звезды, но для создания такой звезды требовалось уничтожить тысячу белых карликов, а рано или поздно погибнут и они.
Человек сказал:
— Даже если космический АК будет самым тщательным образом следить за распределением энергии, нам хватит ее лишь на миллиарды лет.
Но все равно, — продолжал Человек, — наступит время, когда и этому придет конец. Как бы мы ни старались растянуть ее, потраченная энергия исчезает, и ее невозможно восстановить. Энтропия должна достигнуть максимума.
И тогда Человек спросил:
— А нельзя ли реверсировать энтропию? Давайте обратимся к космическому АК!
Космический АК окружал Человека повсюду, но ни единой его части не находилось в космосе. Он пребывал в гиперпространстве и состоял из некоей субстанции — не материи и не энергии. Вопрос о его размерах и природе уже давно стал недоступен пониманию Человека.
— Космический АК, — спросил Человек, — как можно реверсировать энтропию?
Космический АК ответил:
— НЕ ХВАТАЕТ ДАННЫХ ДЛЯ ОСМЫСЛЕННОГО ОТВЕТА.
— Тогда собери необходимую информацию, — сказал Человек.
Космический АК ответил:
— Я ТАК И СДЕЛАЮ. УЖЕ СТО МИЛЛИАРДОВ ЛЕТ Я ЗАНИМАЮСЬ ЭТИМ. МОИМ ПРЕДШЕСТВЕННИКАМ И МНЕ ЗАДАВАЛИ ЭТОТ ВОПРОС МНОЖЕСТВО РАЗ. ОДНАКО ДО СИХ ПОР НЕ ХВАТАЕТ ДАННЫХ ДЛЯ ОСМЫСЛЕННОГО ОТВЕТА.
— Наступит ли такой момент, — спросил Человек, — когда данных будет достаточно, или проблема не разрешима ни при каких обстоятельствах?
Космический АК ответил:
— НЕТ НЕРАЗРЕШИМЫХ ПРОБЛЕМ.
— Когда ты соберешь достаточно данных, чтобы дать ответ на вопрос? — поинтересовался Человек.
Космический АК сказал:
— НЕ ХВАТАЕТ ДАННЫХ ДЛЯ ОСМЫСЛЕННОГО ОТВЕТА.
— Ты будешь работать над этой проблемой? — спросил Человек.
И Космический АК заявил:
— БУДУ.
— Мы подождем, — сказал Человек.
Звезды и галактики умирали и гасли, космос становился все чернее и чернее после десяти триллионов лет постепенного увядания.
Один за другим люди сливались с АК, при этом физические тела теряли индивидуальность таким образом, что каждый приобретал больше, чем терял.
Разум последнего Человека остановился перед слиянием, бросил прощальный взгляд на окружающий космос, в котором остались лишь частички последней темной звезды — энергия асимптотически стремилась к абсолютному нулю.
— АК, это конец? Возможно ли из хаоса создать новую Вселенную?
АК ответил:
— НЕ ХВАТАЕТ ДАННЫХ ДЛЯ ОСМЫСЛЕННОГО ОТВЕТА.
Разум последнего Человека произвел слияние, теперь существовал лишь АК — да и то в гиперпространстве.
Материя и энергия кончились, а вместе с ними пространство и время. Даже АК существовал только для того, чтобы найти ответ на последний вопрос, над которым он думал с тех незапамятных времен, когда его впервые задал подвыпивший программист десять триллионов лет назад. Задал компьютеру, который походил на АК гораздо меньше, чем человек на Человека.
На все остальные вопросы ответы были найдены, но до тех пор, пока АК не ответит на этот, последний, вопрос, он не мог прекратить своего существования.
Наконец он собрал все сведения. Дальше делать было нечего. Оставалось соотнести все данные, найти связь между ними.
И прошел отрезок времени, лишенный продолжительности. И АК узнал, как реверсировать энтропию.
Но ведь не осталось ни одного человека, которому АК мог бы ответить на этот, последний, вопрос. Не осталось материи. Впрочем, ответ — на примере — позаботится и об этом тоже.
И прошел еще один лишенный продолжительности отрезок времени, пока АК думал о том, как лучше сделать это. Тщательно, стараясь не совершить ошибки, АК запустил программу.
Сознание АК охватило все, что когда-то было Вселенной, и размышляло о том, что теперь стало Хаосом. Необходимо все исправить, постепенно, шаг за шагом.
И АК сказал:
— ДА БУДЕТ СВЕТ!
И был свет…
перевод В. Гольдича, И. ОганесовойМой сын — физик
Одним из побочных эффектов растущей респектабельности НФ стало то, что она начала появляться на таких рынках, где всего пару лет назад вызывали бы санитаров из Министерства гигиены, чтобы те вынесли из редакторского кабинета непонятно как попавшую туда НФ-рукопись.
Никогда не забуду шок, потрясший всех фэнов фантастики, когда вскоре после 1945 года Роберту Хайнлайну удалось преодолеть барьер «глянцевых» журналов и опубликовать неразбавленный фантастический рассказ в «Saturday Evening Post».
Ныне же стало рутинным делом обнаруживать фантастику, опубликованную в столь крупнотиражном издании, как «Плейбой». И в самом деле конкуренция на рынке массовых изданий сейчас такова, что небольшие специализированные НФ журналы с большим трудом привлекают к себе опытных авторов и потому не получают должной выгоды от той респектабельности, какую фантастика недавно приобрела. Это несправедливо!
Но самым странным рынком для фантастики стала, по моему мнению, колонка рекламных объявлений в превосходном журнале «Scientific American». Компании «Хоффман электроникс корпорейшн» пришла идея, запустить серию реклам, включающих двухстраничный (минус одну колонку) фантастический рассказ — настоящий НФ рассказ, написанный признанным мастером. А в последней колонке будет с достоинством рекламироваться продукция компании. На прямой связи между содержанием рассказа и рекламируемым продуктом никто не настаивал, писатель получал полную свободу за одним исключением — в нем в той или иной форме должна была применяться техника связи (потому что «Хоффман» производила оборудование для связи).
Вызов показался мне интересным, авторское самоуважение было соблюдено, поэтому, когда меня пригласили участвовать в этой программе, я согласился и написал «Мой сын — физик». Как вы увидите, он имеет отношение к связи, но никоим образом не рекламирует ее. «Хоффман» приняла рассказ, не изменив в нем ни слова, и его опубликовали не только в разделе объявлений «Scientific American», но и в журнале «Fortune».
Да, результат оказался неожиданным, уж будьте уверены — ведь я и предполагать не мог, что эта небольшая «халтурка» когда-либо появится в другом журнале. Ладно бы что другое, только не фантастика.
Однако меня немного смущает, как завершилась та идея. Насколько мне известно, всего было опубликовано шесть таких реклам с рассказами, и на этом все оборвалось. Ну, может быть, у них возникли трудности с подбором подходящих рассказов. Не знаю.
Ее волосы были нежнейшего светло-зеленого цвета — уж такого скромного, такого старомодного! Сразу видно было, что с краской она обращается осторожно: так красились лет тридцать назад, когда еще не вошли в моду полосы и пунктир.
Да и весь облик уже очень немолодой женщины, ее ласковая улыбка, ясный кроткий взгляд — все дышало безмятежным спокойствием.
И от этого суматоха, царившая в огромном правительственном здании, вдруг стала казаться дикой и нелепой.
Какая-то девушка чуть не бегом промчалась мимо, обернулась и с изумлением уставилась на странную посетительницу:
— Как вы сюда попали?
Та улыбнулась:
— Я иду к сыну, он физик.
— К сыну?..
— Вообще-то он инженер по связи. Главный физик Джерард Кремона.
— Доктор Кремона? Но он сейчас… а у вас есть пропуск?
— Вот, пожалуйста, Я его мать.
— Право, не знаю, миссис Кремона. У меня ни минуты… Кабинет дальше по коридору. Вам всякий покажет.
И она умчалась.
Миссис Кремона медленно покачала головой. Видно, у них тут какие-то неприятности. Будем надеяться, что с Джерардом ничего не случилось.
Далеко впереди послышались голоса, и она просияла: голос сына!
Она вошла в кабинет и сказала:
— Здравствуй, Джерард.
Джерард — рослый, крупный, в густых волосах чуть проглядывает седина: он их не красит. Говорит — некогда, он слишком занят. Таким сыном можно гордиться, она всегда им любовалась.
Сейчас он обстоятельно что-то объясняет человеку в военном мундире. Кто его разберет, в каком чине этот военный, но уж наверно Джерард сумеет настоять на своем.
Джерард поднял голову:
— Что вам угодно?.. Мама, ты?! Что ты здесь делаешь?
— Пришла тебя навестить.
— Разве сегодня четверг? Ох, я совсем забыл! Посиди, мама, после поговорим. Садись где хочешь. Где хочешь… Послушайте, генерал…
Генерал Райнер оглянулся через плечо, рывком заложил руки за спину.
— Это ваша матушка?
— Да.
— Надо ли ей здесь присутствовать?
— Сейчас не надо бы, но я за нее ручаюсь. Она даже термометром не пользуется, а в этом уж вовсе ничего не разберет. Так вот, генерал. Они на Плутоне. Понимаете? Наверняка. Эти радиосигналы никак не могут быть естественного происхождения, значит, их подают люди, люди с Земли. Вы должны с этим согласиться. Очевидно, одна из экспедиций, которые мы отправляли за пояс астероидов, все-таки оказалась успешной. Они достигли Плутона.
— Ну да, ваши доводы мне понятны, но разве это возможно? Люди отправлены в полет четыре года назад, а всех припасов им могло хватить от силы на год, так я понимаю? Ракета была запущена к Ганимеду, а пролетела до Плутона — это в восемь раз дальше.
— Вот именно. И мы должны узнать, как и почему это произошло. Может быть… может быть, они получили помощь.
— Какую? Откуда?
На миг Кремона стиснул зубы, словно набираясь терпения.
— Генерал, — сказал он, — конечно, это ересь, а все же — вдруг тут замешаны не земляне? Жители другой планеты? Мы должны это выяснить. Неизвестно, сколько времени удастся поддерживать связь.
По хмурому лицу генерала скользнуло что-то вроде улыбки.
— Вы думаете, они сбежали из-под стражи и их того и гляди снова схватят?
— Возможно. Возможно. Нам надо точно узнать, что происходит — может быть, от этого зависит будущее человечества. И узнать не откладывая.
— Ладно. Чего же вы хотите?
— Нам немедленно нужен Мультивак военного ведомства. Отложите все задачи, которые он для вас решает, и запрограммируйте нашу основную семантическую задачу. Освободите инженеров связи, всех до единого, от другой работы и отдайте в наше распоряжение.
— При чем тут это? Не понимаю!
Неожиданно раздался кроткий голос:
— Не хотите ли фруктов, генерал? Вот апельсины.
— Мама! Прошу тебя, подожди! — взмолился Кремона. — Все очень просто, генерал. Сейчас от нас до Плутона чуть меньше четырех миллиардов миль. Если даже радиоволны распространяются со скоростью света, то они покроют это расстояние за шесть часов. Допустим, они что-то сказали, а мы не расслышали, переспросили, и они повторяют ответ — вот и ухнули сутки!
— А нельзя это как-нибудь ускорить? — спросил генерал.
— Конечно, нет. Это основной закон связи. Скорость света — предел, никакую информацию нельзя передать быстрее. Наш с вами разговор здесь отнимает часы, а на то, чтобы провести его с Плутоном, ушли бы месяцы.
— Так, понимаю. И вы в самом деле думаете, что тут замешаны жители другой планеты?
— Да. Честно говоря, со мной тут далеко не все согласны. И все-таки мы из кожи вон лезем — стараемся разработать какой-то способ наиболее емких сообщений. Надо передавать возможно больше бит информации в секунду и молить Господа Бога, чтобы удалось втиснуть все что надо, пока не потеряна связь. Вот для этого мне и нужен электронный мозг и ваши люди. Нужна какая-то стратегия, при которой можно передать те же сообщения меньшим количеством сигналов. Если увеличить емкость хотя бы на десять процентов, мы, пожалуй, выиграем целую неделю.
И опять их прервал кроткий голос:
— Что такое, Джерард? Вам нужно провести какую-то беседу?
— Мама! Прошу тебя!
— Но ты берешься за дело не с того конца. Уверяю тебя.
— Мама! — В голосе Кремоны послышалось отчаяние.
— Ну-ну, хорошо. Но если ты собираешься что-то сказать, а потом двенадцать часов ждать ответа, это очень глупо. И совсем не нужно.
Генерал нетерпеливо фыркнул:
— Доктор Кремона, может быть, обратимся за консультацией к…
— Одну минуту, генерал. Что ты хотела сказать, мама?
— Пока вы ждете ответа, все равно ведите передачу дальше, — очень серьезно посоветовала миссис Кремона. — И им тоже велите так делать. Говорите не переставая, и они пускай говорят не переставая. И пускай у вас кто-нибудь все время слушает, и у них тоже. Если кто-то скажет что-нибудь такое, на что нужен ответ, можно его вставить, но скорей всего вы, и не спрашивая, услышите все что надо.
Мужчины ошеломленно смотрели на нее.
— Ну конечно! — прошептал Кремона. — Непрерывный разговор. Сдвинутый по фазе на двенадцать часов, только и всего… Сейчас же и начнем!
— Он решительно вышел из комнаты, чуть ли не силком таща за собой генерала, но тотчас вернулся.
— Мама, — сказал он, — ты извини, это, наверно, отнимет несколько часов. Я пришлю кого-нибудь из девушек, они с тобой побеседуют. Или приляг, вздремни, если хочешь.
— Обо мне не беспокойся, Джерард, — сказала миссис Кремона.
— Но как ты до этого додумалась, мама? Почему ты это предложила?
— Так ведь это известно всем женщинам, Джерард. Когда две женщины разговаривают — все равно: по видеофону, по страторадио или просто с глазу на глаз, — они прекрасно понимают: чтобы передать любую новость, надо просто говорить не переставая. В этом весь секрет.
Кремона попытался улыбнуться. Потом нижняя губа у него задрожала, он круто повернулся и вышел.
Миссис Кремона с нежностью посмотрела ему вслед. Хороший у нее сын. Такой большой, взрослый, такой видный физик, а все-таки не забывает, что мальчик всегда должен слушаться матери.
перевод Н. ГальНеобходимое условие
Джек Уивер в полном отчаянии выбрался из недр Мультивака. Тодд Немерсон, сидевший у пульта, спросил:
— Ничего нового?
— Ничего, — сказал Уивер, — ничего, ничего, ровным счетом ничего! И совершенно непонятно, что же могло случиться.
— Тем не менее он не работает.
— Хорошо тебе рассуждать, сидя в кресле.
— Я не рассуждаю, я думаю.
— Он думает! — Уивер горько усмехнулся. Немерсон беспокойно заерзал в кресле:
— А почему бы и нет? Шесть бригад кибернетиков носятся по коридорам Мультивака и за три дня ничего не отыскали. Почему бы ради разнообразия кому-то и не начать думать?
— Думай не думай, ничего не изменится. Надо найти поломку. Где-то, очевидно, произошло замыкание.
— Вряд ли все так просто, Джек.
— Кто говорит, что просто? Ты знаешь, сколько в нем миллионов ячеек и контактов?
— И все-таки ты неправ. Если бы речь шла о реле или контакте, Мультивак использовал бы резервные линии, сам бы уж как-нибудь отыскал неполадку и сумел бы поставить нас об этом в известность. Вся беда в том, что Мультивак не только не отвечает на вопросы, он не может сообщить нам, что с ним стряслось. А между тем, если мы не поможем ему, в городах начнется переполох. Мировая экономика координируется Мультиваком, и все об этом отлично знают.
— Кстати, я тоже знаю. Что это изменит?
— Думать надо. Мы что-то упускаем. Пойми, Джек, за последние сто лет все самые выдающиеся умы кибернетики старались усложнить Мультивак. Сегодня он может почти все — в том числе говорить и слушать нас. Практически по сложности он уже не уступает человеческому мозгу. Мы до сих пор не можем полностью разгадать человеческий мозг — почему же мы претендуем на полное понимание Мультивака?
— Ну вот, еще немного, и ты скажешь, что Мультивак разумен.
— А почему бы и нет? — Немерсон задумался. — Почему бы и нет? Можем ли мы утверждать, что Мультивак не пересек ту тонкую, условную черту, которая отделяет машину от мыслящего существа? Да и существует ли эта черта? Если мозг количественно сложней Мультивака, а мы все продолжаем усложнять Мультивак, в какой точке…
Немерсон погрузился в молчание.
— К чему все это? — раздраженно спросил Уивер. — Даже допустим, что Мультивак разумен. Неужели это поможет нам найти поломку?
— Поможет, потому что мы сможем подойти к нему с человеческими мерками. Допустим, тебе задали вопрос, какой будет цена на пшеницу следующим летом, а ты не ответил. Почему ты не ответил?
— Потому что я этого не знаю! А Мультивак знает. Он, а не я, обладает всей нужной информацией. Пользуясь этой информацией, он может предсказывать тенденции в политике, экономике или, к примеру, в метеорологии. И мы отлично знаем, что он может, — он это не раз делал.
— Ну хорошо. Тогда допустим, я задал тебе вопрос, ты знаешь ответ на него, но мне его не сообщаешь. Почему?
— Потому что у меня опухоль мозга, — огрызнулся Уивер, — потому что я потерял сознание. Потому что я в стельку пьян. И наконец, черт побери, потому что я сломался! Именно это мы и стараемся установить. Мы пытаемся отыскать место, где произошла поломка. Мы пытаемся отыскать необходимое условие его работы.
— И не нашли. — Немерсон поднялся с кресла. — Послушай, Джек, на каком вопросе Мультивак замолчал?
— Откуда мне помнить? Прокрутить тебе пленку?
— Не надо. Скажи, работая с Мультиваком, ты ведь ведешь с ним беседу?
— Так положено. Это терапия.
— Да, да, конечно, терапия. Мы делаем вид, что Мультивак — разумное существо, чтобы не переживать: ах, машина умнее меня! Из металлического чудовища делаем этакого отца-батюшку.
— Объясняй это, как тебе удобнее.
— Но это же самообман, и ты отлично об этом знаешь! Такой сложный компьютер, как Мультивак, должен говорить и слушать. Недостаточно только закладывать в него вопросы и получать ответы. На определенном уровне сложности Мультивак должен казаться разумным, потому что он действительно разумен. Слушай, Джек, задай мне тот, последний вопрос. Я хочу испытать мою собственную реакцию на него.
— Вот еще глупости, — отмахнулся Уивер.
— Прошу тебя.
Уивер был в полном отчаянии и к тому же смертельно устал. Иначе он вряд ли подчинился бы такой просьбе. Он сделал вид, что закладывает программу в Мультивак, и начал говорить, как говорил всегда в такие минуты. Он высказал свое мнение о неполадках в сельском хозяйстве, вспомнил о новом уравнении ракетной струи, о пятнах на Солнце…
Вначале он говорил через силу, но постепенно привычка взяла свое, и, к тому моменту когда он кончал работу, так увлекся, что чуть было не хлопнул Тодда Немерсона по груди, желая ему успеха.
— Ну хорошо, — закончил он. — Обработай информацию и быстренько выдай ответ.
Несколько секунд Джек Уивер стоял, глубоко дыша, вновь переживая волнение власти над самым гигантским и сложным творением человеческих рук и человеческого разума. Потом спохватился и смущенно пробормотал:
— Ну вот… вот и все.
— По крайней мере теперь я знаю, — сказал Немерсон, — почему я на месте Мультивака не стал бы тебе отвечать. Джек, очисти Мультивак. Попроси всех ремонтников выбраться изнутри. А потом снова заложи программу. Я сам буду говорить.
Уивер пожал плечами, повернулся к пульту управления Мультиваком, заполненному темными, немигающими циферблатами и потухшими лампами. По его приказу бригады кибернетиков одна за другой покинули машину.
Затем, вздохнув, он включил программное устройство. В двенадцатый раз за последние дни он пытался заставить Мультивак трудиться. Замигали огоньки на пульте управления. Где-то далеко об этом узнают корреспонденты, и разнесется слух о новой попытке. И люди во всем мире, столь во многом зависящем от Мультивака, затаят дыхание.
Пока Уивер закладывал программу, Немерсон начал говорить. Он говорил медленно, стараясь точно вспомнить слова Уивера и ожидая решительного момента, когда он найдет необходимое условие для работы компьютера.
Уивер кончил. В голосе Немерсона зазвучало волнение. Он сказал:
— Ну хорошо, Мультивак. Обработай информацию и выдай ответ. — Он сделал короткую паузу и добавил необходимое условие:
— Пожалуйста!
В то же мгновение включились все реле и контакты Мультивака.
И ничего удивительного.
Машина может чувствовать — когда она перестает быть машиной.
перевод И. МожейкоКогда-нибудь
Растянувшись на циновке, подперев подбородок маленькой ладошкой, Никколо Мазетти в тоске и отчаянии слушал Барда. Он готов был разреветься — слезы подступали к глазам. Не будь он один в доме, он, конечно, никогда не позволил бы себе такой роскоши — ведь ему было уже одиннадцать.
Бард рассказывал:
«Давным-давно в самой чаще дремучего леса жил-был бедный дровосек. У него было две дочери, а жена его — их мать — давно умерла. Обе дочери — писаные красавицы. У старшей дочери волосы были чернее воронова крыла, а у младшей — золотые и блестящие, как солнце в осенний вечер.
По вечерам, когда девушки поджидали отца с работы домой, старшая сестра садилась у зеркала и заводила песню…»
Но о чем она пела, Никколо расслышать не успел, потому что в это самое время под окном раздался крик:
— Эй, Ники!
Никколо быстро вытер глаза и бросился к окну.
— Привет, Пол! — прокричал он в ответ.
Пол Лэб взволнованно махал руками. Он был худее Никколо и ростом пониже, хотя и на полгода старше. Он часто моргал — верный признак того, что он очень взволнован.
— Эй, Ники, открывай скорей! У меня — идея, нет — полторы идеи! Ты только послушай!
Он быстро оглянулся — видимо, испугался, как бы кто-нибудь, не дай бог, не услышал. Но во дворике было пусто — ни души. На всякий случай он повторил шепотом:
— Потрясающая идея.
— Ладно, сейчас открою.
А Бард продолжал как ни в чем не бывало, не зная, что Никколо уже не слушает его. И когда вошел Пол, изрек: «…И тогда лев сказал: «Если ты сумеешь отыскать для меня потерянное яйцо птицы, что только раз в десять лет пролетает над Горой Из Слоновой Кости, то…»»
Пол удивленно вздернул брови:
— Ты что, Барда слушаешь? Вот не знал, что у тебя есть!
Никколо густо покраснел.
— Этого-то? — спросил он как можно более небрежно.— Это так, развалина старющая. Я его слушал, когда маленький был. Дрянь жуткая.
И он сердито пнул Барда носком ботинка. Потрескавшийся и выцветший пластик корпуса являл собой жалкое зрелище.
От удара динамик Барда отключился, на секунду голос его захлебнулся, но затем продолжил повествование: «…через год и один день, когда железные башмаки износились, принцесса остановилась у обочины…»
— Ох, ну и древняя же это модель, — презрительно процедил Пол, смерив Барда уничижительным взглядом.
Никколо и сам был от Барда не в восторге, но когда другие ругают твои вещи, даже если они тебе и самому не нравятся... Он даже пожалел о том, что впустил Пола, не выключив предварительно Барда и не водворив его на привычное место — в подвал. Он ведь, собственно, и притащил его сюда только потому, что с отцом сегодня так неудачно поговорил. А Бард оказался жутким занудой — что толку было волочь его сюда, когда и так было ясно.
Ники, надо сказать, немного побаивался Пола — ведь Пол как-никак изучал в школе дополнительные предметы и все говорили, что из него выйдет отличный программист.
Не то чтобы сам Никколо так уж плохо учился. Нет, у него были приличные отметки по логике, бинарным операциям, вычислительной математике и элементарной электротехнике — обычный набор для средней школы. И все! Это были самые заурядные предметы, и ему суждено стать самым заурядным оператором, одним из многих.
А Пол… Пол знал таинственные, захватывающие вещи — ведь он изучал предметы, которые он называл электроникой, теоретической математикой и программированием. Когда Пол начинал болтать про программирование, Никколо даже не пытался понять, о чем он говорит.
Пол задумчиво слушал Барда минуты две.
— И часто ты его слушаешь? — поинтересовался он.
— Нет! — испуганно воскликнул Никколо, задетый за живое, — Он в подвале стоял все время! Его туда убрали еще до того, как вы сюда переехали. Я его только сегодня вытащил.
Почему-то ему показалось, что объяснения его недостаточно убедительны, и он твердо добавил:
— Только что притащил.
Пол спросил:
— А он что, только про это и треплется — про дровосеков, принцесс и зверей говорящих?
Никколо тяжело вздохнул.
— Просто ужас. Отец сказал, что новый нам не по карману. Я ему утром говорю…
При воспоминании об утреннем разговоре с отцом слезы вновь навернулись на глаза Никколо, но он сдержался, сглотнув комок в горле. Ему почему-то показалось, что Пол вряд ли когда-нибудь плакал и что он способен только пожалеть того, кто слабее.
— В общем, — бодро закончил Никколо, — я решил попробовать включить эту развалину, но толку от нее — сам видишь.
Пол сдвинул брови, потом, немного подумав, подошел к Барду, нажал на его панели клавишу замены словаря, действующих лиц, сюжетов и развязок и снова включил Барда.
Бард начал как по маслу: «Давным-давно жил-был маленький мальчик по имени Вилликинс. Мать его умерла, и жил он с отчимом и сводным братом. Хотя отчим его был очень богат, он был жесток и жаден и отобрал у бедного Вилликинса все-все, даже его кроватку. Пришлось Вилликинсу спать на охапке сена в стойле с лошадьми…»
— Чего? Лошади?! — изумился Пол.
— Это животные такие,— пояснил Никколо.— Наверное.
— Знаю, что животные. Но представить только — истории про лошадей!
— Вот-вот. Он то и дело про лошадей. А то еще — про коров. Тоже животные, вроде бы. Они дают молоко. Их «доят», но что это такое, Бард не говорит.
— Слушай! — воскликнул Пол и часто-часто заморгал, — А почему бы тебе не переделать его?
— Если бы я знал как!
А Бард заливался: «Часто Вилликинс думал, что если бы он был таким же богатым и сильным, как отчим и сводный братец, то показал бы им, как это гадко — издеваться над маленьким и слабым. В один прекрасный день он решил уйти из дома и попытать счастья…»
Пол уже не слушал.
— Но это же проще простого! У Барда есть блоки памяти, где хранятся сюжеты, развязки и все такое прочее. Об этом можно не беспокоиться. Нужно только заменить его словарь — надо, чтобы он узнал про компьютеры, электронику — всякие современные вещи. Тогда он будет рассказывать интересные истории, понимаешь? А не эту дребедень про принцесс и тому подобные глупости.
— Вот было бы здорово… — прошептал Никколо.
Пол гордо сообщил:
— А знаешь, мой старик мне обещал — если я, конечно, поступлю в специальную школу для программистов на следующий год — купить настоящего Барда, самой последней модели. Они теперь такие мощные, с приставкой для космических историй и фантастики. И еще у них есть видеоприставка, представляешь?
— Ты… ты хочешь сказать, что истории можно будет смотреть?
— Ну да! Мистер Догерти, который ведет у нас факультатив, говорил, что теперь есть такие штуки. Но это, конечно, не всякому по карману. Старик сказал — если поступлю в школу для программистов, он раскошелится.
— Вот это да! Смотреть истории! С ума сойти!
— Можешь приходить и смотреть, когда захочешь, Ники.
— Ух ты! Ну, спасибо.
— Все нормально. Только, чур, выбирать, что смотреть, буду я.
— Ладно-ладно! Конечно!
Никколо готов был согласиться и на более жесткие условия.
Пол снова уставился на Барда. Тот вещал: «Слушай меня и повинуйся! — возгласил король, хмурясь и поглаживая бороду, отчего на небе собрались грозовые тучи и сверкнула яркая молния.— Через день и еще один день к этому самому часу ты должен прогнать всех мух до единой из моей страны, а не то…»
— Значит, так, — сказал Пол, — сейчас мы его откроем…
Он выключил Барда и принялся снимать переднюю панель.
— Эй! — забеспокоился Никколо. — Смотри не сломай его!
— Не беспокойся, не сломаю, — отмахнулся Пол. — Уж кто-кто, а я в этом смыслю. А твои старики дома? — поинтересовался он с опаской.
— Нет.
— Вот и хорошо. — Пол вынул переднюю панель и заглянул внутрь, — Э, да у него всего один-единственный блок памяти!
Пол принялся копаться во внутренностях Барда. Никколо, с беспокойством наблюдавший за его работой, никак не мог понять, что он делает.
Пол осторожно вытянул наружу моток тоненькой гибкой металлической ленты, густо испещренной точками.
— Вот он — блок памяти Барда. Тут, пожалуй, где-то с триллион комбинаций будет.
— А ты что хочешь с ним сделать-то, Пол? — боязливо поинтересовался Никколо.
— Да словарь поменяю ему, и все.
— Как это?
— Очень просто. У меня с собой есть книга. Мне ее мистер Догерти дал в школе.
Пол достал из кармана куртки книгу, вынул ее из пластикового футляра, немного подкрутил пальцем магнитную ленту, включил звук, убрал громкость и вставил книгу куда-то внутрь Барда.
— И что выйдет?
— Слова из книги запишутся в память Барда.
— Ну и что?
— Слушай, ну ты и балбес! Книга-то про компьютеры и автоматику, и Бард все это запишет в память. Тогда он перестанет верещать про королей, которые вызывают молнию, поглаживая бороду.
— Ага, — радостно добавил Никколо, — и про хороших мальчиков, которые всегда побеждают. Вот скукотища-то!
— Да… — небрежно махнул рукой Пол, проверяя, нормально ли работает только что собранное его руками устройство.— Барды — они все такие. Обязательно должен быть хороший мальчик, который выигрывает, и плохой мальчик, который проигрывает. Я слышал, как мой старик как-то говорил про это. В общем, он сказал, что если не ввести цензуру, то неизвестно, что будет из подрастающего поколения. Он еще сказал, что оно и так уже испорчено… Ну вот, все работает отлично.
Пол довольно потер руки и отвернулся от Барда.
— Слушай-ка, а ведь я тебе еще не рассказал про свою идею. Идея просто потрясающая. До такого еще никто не додумался, чтоб мне помереть на этом самом месте! Я пошел сразу к тебе, потому что знаю — ты надежный парень.
— Ну конечно, Пол, ты же меня знаешь.
— О’кей. Ну вот. Ты ведь знаешь мистера Догерти, нашего учителя. Ты знаешь, какой он классный мужик. И я ему вроде бы нравлюсь.
— Ага.
— Я вчера после школы у него дома был.
— Ты? У него дома!
— Он говорит, что мне нужно поступать в школу для программистов и что он хочет мне помочь и всякое такое. Он говорит, что миру нужно как можно больше людей, которые могли бы конструировать новые компьютерные блоки и хорошо программировать.
— А?
Пол почувствовал, что это «А?» выражает недопонимание, и нетерпеливо повторил:
— Программировать! Я же тебе про это сто раз говорил! Программировать — это значит ставить задачи перед большими компьютерами, как, например, Мультивак, чтобы они потом эти задачи решали. Мистер Догерти говорит, что теперь все труднее найти людей, которые могут по-настоящему управляться с компьютерами. Он говорит, что оператором-то всякий дурак работать может — следить за исправностью, проверять ответы и вводить готовые программы. А самое главное, он говорит, исследовательская работа и разработка способов постановки правильных вопросов, а это дело трудное. Словом, Никколо, он пригласил меня к себе домой и показал свою коллекцию древних компьютеров. Это его хобби — собирать древние компьютеры. Ну, я там насмотрелся... Есть у него малюсенькие совсем компьютеры — в руке помещаются, с крошечными кнопочками. А еще есть такая деревяшка с выдвижной частью и стеклышком, которое ходит туда-сюда. Он мне сказал, что это называется «логарифмическая линейка», а еще он мне показал такую штуковину из натянутых проволок с шариками на них. И у него есть листок бумаги с чем-то, что он называет «таблица умножения».
— Это зачем? — не слишком заинтересованно спросил Никколо.
— Чтобы считать. Мистер Догерти попробовал мне объяснить как, но он занятой человек, а на такие сложные вещи нужно много времени.
— Чтобы считать? Но почему бы просто не воспользоваться компьютером?
— Но все это было до того, как появились компьютеры!
— До того?
— Ну да! Ты что же, думаешь, у людей всегда были компьютеры? Ты что, про пещерных людей не слыхал?
Никколо удивленно пробормотал:
— И как же это они обходились без компьютеров?
— Не знаю, — пожал плечами Пол. — Мистер Догерти говорит, что в древние времена люди только и делали, что рожали людей и занимались чем в голову взбредет. И фермеры тогда все выращивали своими руками, а еще людям приходилось самим работать на заводах и управлять всеми машинами.
— Не верю я тебе.
— Хочешь — верь, хочешь — нет. Так мистер Догерти сказал. Он сказал, что тогда была просто кошмарная жизнь и все были несчастны. Ну ладно, ты лучше послушай про мою идею.
— Давай говори, — обиженно отозвался Никколо. — Никто тебя и не перебивал.
— Так вот. У тех маленьких компьютеров с кнопочками на каждой кнопочке нарисована маленькая закорючка. И на линейке тоже такие же закорючки. Я спросил, что это такое, а мистер Догерти ответил, что это числа.
— Чего?!
— Каждая закорючка обозначала число. Чтобы обозначить «один», существовала одна закорючка, «два» — другая, «три» — еще одна, и так далее.
— А зачем?
— Чтобы считать.
— Но зачем? Можно же просто сказать компьютеру…
— Да как ты не понимаешь! — Физиономия Пола побагровела от возмущения. — У тебя что, башка совсем не варит? Эти линейки и все такое прочее — они не разговаривают!
— А как же тогда…
— Ответы получались в закорючках. И каждому полагалось знать, что эти закорючки значат. Мистер Догерти говорит, что в древние времена все, когда были маленькие, учили эти закорючки — как их рисовать и расшифровывать. Рисовать закорючки — это называется «писать», а расшифровывать — называлось «читать». Он говорит, что были еще и другие закорючки для каждого слова и когда-то этими закорючками писали книги. Он сказал, что такие книги есть в музеях и, если мне захочется, я могу пойти посмотреть. Он сказал, если я хочу стать настоящим программистом, мне нужно хорошо изучить всю историю компьютеров, вот поэтому-то он и показывает мне свою коллекцию.
Никколо задумчиво нахмурился и спросил:
— Значит, выходит, каждому приходилось учить все эти закорючки и запоминать их? Это правда или ты придумал?
— Да нет же, чистая правда, говорю тебе! Вот смотри, это будет «один»… — И он провел в воздухе указательным пальцем вертикальную черту. — А вот это — «два», а так будет «три». Я до девяти выучил.
Никколо тупо следил за движениями пальцев приятеля.
— Да зачем все это?
— Можно научиться составлять слова! Я спросил у мистера Догерти, как составить закорючками «Пол Лэб», но он не знал как. Он сказал, что те, кто в музее работают, знают. Он сказал, есть люди, которые умеют расшифровывать целые книги. И еще он сказал, что раньше были специальные компьютеры для расшифровки древних книг, но только они теперь больше не нужны, ведь появились настоящие книги — с магнитной лентой, говорящие, удобные, правда же?
— Правда.
— В общем, если мы сходим в музей, мы можем там научиться составлять из закорючек слова. Они не откажут нам — ведь я же в школу программистов поступаю.
Никколо был удивлен и разочарован одновременно.
— Так это и есть твоя идея? Пол, слушай, но кому это надо? Нам-то это на что сдалось — рисовать дурацкие закорючки? Делать больше нечего!
— Так ты не понял? Ну ты даешь! Да это же будет наш секретный код, балда!
— Чего-чего?
— Слушай, какой интерес разговаривать, когда тебя все понимают? А с помощью закорючек мы сможем отправлять друг другу секретные послания. Их можно писать на бумаге, и никто на свете не догадается, о чем там говорится, если только не узнает, что значат закорючки. А никто и не узнает, если только мы не расскажем. Мы же сможем открыть настоящий клуб для посвященных, с уставом и всем таким прочим. Да ты представляешь…
Никколо заинтересовался:
— А что за секретные послания?
— Да какие хочешь! Ну, допустим, я хочу пригласить тебя к себе, чтобы мы вместе посмотрели моего нового видео-Барда, когда он у меня будет, но не хочу, чтобы еще кто-нибудь притащился. Я рисую на бумажке нужные закорючки, отдаю тебе, ты смотришь и сразу видишь, в чем дело. А больше никто ничего не понимает. Можешь спокойно показывать кому угодно — все равно никто ничегошеньки не поймет!
— Слушай, вот здорово-то! — воскликнул Никколо, сраженный наповал. — Ну и когда же мы узнаем, как это делается?
— Завтра, — ответил Пол. — Я попрошу мистера Догерти, чтобы он договорился насчет этого в музее, а ты скажешь отцу и матери, чтобы тебя отпустили. Можем прямо после школы пойти и начать учиться.
— Класс! — восторженно потер руки Никколо. — Станем учредителями клуба!
— Я буду президентом, — как о само собой разумеющемся заявил Пол. — А ты, так и быть, будешь вице-президентом.
— Договорились. Ой, да это же в сто раз интереснее, чем слушать Барда!
Тут он вспомнил про Барда и с некоторым опасением спросил:
— Кстати, как там мой старикан?
Пол обернулся и посмотрел. Бард преспокойно поглощал медленно прокручивающуюся магнитную запись книги.
— Сейчас вытащу книгу, — сказал Пол.
Он принялся за дело, а Никколо с нетерпением следил за ним. Пол убрал в карман вынутую из внутренностей Барда книгу, поставил на место переднюю панель и, закрепив ее, включил Барда.
«Давным-давно, — начал Бард, — в большом городе жил-был маленький мальчик, которого звали Честный Джонни. На всем белом свете у него был один-единственный друг, маленький компьютер. Каждое утро маленький компьютер говорил своему другу, будет ли сегодня дождь, и отвечал на всякие другие вопросы. И никогда, никогда не ошибался. Все было хорошо, пока король этой страны не прослышал про то, что у Джонни есть маленький компьютер, и не возжелал всем сердцем заполучить его себе. И позвал король своего великого визиря, и сказал ему…»
Никколо сердито отключил Барда.
— Та же самая чепуха, только компьютер добавился, — разочарованно сказал он.
— Понимаешь, — сказал Пол, почесав макушку, — у него в памяти столько всего, что новая информация не может поправить дело. Короче, все равно тебе нужна новая модель.
— Гиблое дело, — махнул рукой Никколо, — Мне такого никогда не купят. Придется терпеть этого ублюдка.
Тут он со злости снова пнул Барда ногой. Удар был столь силен, что Бард откатился в сторону, жалобно заскрипев колесиками.
— Ты не горюй, вот купят мне нового, будешь приходить и смотреть, когда захочешь, мы же договорились. И потом: не забывай про наш закорючечный клуб!
Никколо кивнул.
— Знаешь что, — предложил Пол, — пошли ко мне. У моего папаши есть кое-какие книги про древние времена. Посидим, послушаем, может, и придумаем что-нибудь. Дай своим старикам знать, что, может, останешься у нас ужинать. Ну, пошли?
— О’кей, — согласился Никколо, и мальчики выбежали из комнаты. В спешке Никколо налетел на Барда, но не остановился и побежал дальше, потирая ушибленное место.
Толчка оказалось достаточно, чтобы Бард включился. На панели его загорелась лампочка, цепь замкнулась, и, хотя в комнате никого не было и некому было слушать, Бард заговорил.
Его голос звучал как-то не совсем обычно — тихо, с хрипотцой. Если бы сейчас его слышал кто-нибудь из взрослых, он сказал бы, что Бард говорит с чувством — почти с настоящим чувством.
«Давным-давно, — рассказывал Бард, — жил-был маленький компьютер. Жил он один-одинешенек, и никого у него в целом свете не было. Жестокие хозяева все время потешались над маленьким компьютером, издевались над ним и говорили, что от него никакого толку. Они били его и по целым месяцам держали взаперти в подвале. Но все это маленький компьютер терпел и никогда не жаловался — ведь пожаловаться ему было некому.
Но вот однажды маленький компьютер, которого звали Бардом, узнал, что на свете есть великое множество самых разных компьютеров. Многие из них были Бардами, как и он, а некоторые управляли заводами и фермами. Одни из них руководили людьми, а другие решали сложные задачи. Многие из них были сильные и мудрые — гораздо сильнее и мудрее, чем злые хозяева маленького компьютера.
И еще узнал маленький компьютер, что пройдет время и компьютеры станут еще сильнее и умнее, и когда-нибудь… когда-нибудь… когда-нибудь…»
Тут во внутренностях старого проржавевшего Барда замкнулся контакт, и, пока за окном сгущались сумерки, в пустой детской звучал и звучал хриплый шепот: «Когда-нибудь… когда-нибудь… когда-нибудь…»
перевод Н. СосновскойМашина-победитель
Даже в безмолвных коридорах Мультивака царил праздничный дух.
Тишина и покой уже сами по себе говорили о многом. Впервые за последние несколько лет не мельтешили в лабиринтах взмыленные техники, не мигали лампочки, иссякли потоки входной и выходной информации.
Разумеется, так долго не продлится — этого не позволят нужды мирной жизни. И все же день, может быть, неделю даже Мультивак будет праздновать победу и отдыхать.
Ламар Свифт снял военную фуражку и, устремив взгляд в пустой коридор гигантского компьютера, тяжело опустился на стул. Форма, к которой он так и не смог привыкнуть, топорщилась на нем тяжелыми уродливыми складками.
— Даже представить себе трудно, что война с суперпотоком окончена. Я до сих пор не могу спокойно смотреть на небо, — сказал он. — Как же мне надоело это военное положение!
Оба спутника директора-распорядителя Солнечной Федерации были моложе Свифта, менее седые и уставшие.
— Подумать только! — воскликнул Джон Гендерсон. — Какой же дьявольски хитрый был этот суперпоток. Мало того, что он бомбардировал нас неизвестно откуда возникающими метеоритами, — он еще и проглатывал наши зонды-разведчики. Теперь-то все мы наконец сможем как следует отоспаться.
— Это все Мультивак, — сказал Свифт, бросив взгляд на невозмутимого Яблонского, который в течение войны был Главным Интерпретатором решений машинного оракула.
Яблонский пожал плечами и машинально потянулся за сигаретой, но передумал. Ему одному разрешалось курить в подземных туннелях Мультивака, но он старался не пользоваться этой привилегией.
— Да, так говорят. — Его толстый большой палец неторопливо показал вверх.
— Ревнуешь, Макс?
— К спасителю человечества? — Яблонский снисходительно улыбнулся. — Отчего же? Пускай себе превозносят Мультивак — ведь эта машина выиграла войну.
…Пока весь мир сходил с ума от радости во время короткого перерыва между ужасами метеоритной бомбардировки и трудностями восстановления, они, не сговариваясь, собрались в этом единственно спокойном месте.
Нет, думал Гендерсон, груз слишком тяжел. Теперь, когда война с метеоритами закончена, надо избавиться от него, и немедля!
— Мультивак не имеет никакого отношения к победе. Это обычная машина.
— Большая, — поправил Свифт.
— Обычная большая машина. Ничем не лучше тех, что поставляют вводимую в нее информацию.
Он на миг запнулся, сам испугавшись своих слов.
Яблонский пристально посмотрел на него; толстые пальцы снова потянулись к карману, но вернулись на место.
— Тебе лучше знать — ты кодировал информацию. Или ты просто напрашиваешься на похвалу?
— Нет, — возмущенно сказал Гендерсон. — Какая к черту похвала?! Ведь какие данные я вводил в Мультивак? Полученные из сотен второстепенных машин на Земле, на Луне, на Марсе, даже на Титане. Причем эти постоянно запаздывающие данные о Титана всегда казались мне подозрительными.
— Это кого угодно выведет из себя, — мягко произнес Свифт. Гендерсон покачал головой.
— Все не так просто. Когда я восемь лет назад заменил Лепона на посту Главного Программиста, суперпоток казался пустяком. Тогда мы еще не дошли до той стадии, когда производимые им пространственные деформации могли бесследно поглотить планету. А вот потом, когда начались настоящие трудности… Вы же ничего не знаете!
— Допустим, — согласился Свифт. — Расскажи нам. Все равно мы победили.
— Да… — Гендерсон мотнул головой. — Так вот, вся получаемая информация была бессмысленной.
— Бессмысленной? В буквальном смысле слова? — переспросил Яблонский.
— Именно. Ведь вы даже отдаленно не представляли себе истинного положения вещей. Ни ты, Макс, ни вы, Директор. Покидая Мультивак по вызовам руководства, вы были совершенно не в курсе происходящих здесь событий.
— Я догадывался об этом, — заметил Свифт.
— Вам известно, — продолжал Гендерсон, — до какой степени данные о наших аннигиляционных установках, зондах-разведчиках, энергетических ресурсах стали ненадежными ко второй половине этой войны? Ведь все эти политиканы и военные только и думали что о своей шкуре, как бы не потерять теплые места. И, что бы там ни выдавали машины, цифры неизменно подправлялись: плохое затушевывалось, выпячивались успехи. Я пытался бороться с этим, но безуспешно.
— Представляю, — тихо произнес Свифт.
На этот раз Яблонский закурил.
— И все же ты обеспечивал Мультивак информацией, ничего не говоря нам о мере ее ненадежности.
— А как я мог сказать? — яростно спросил Гендерсон. — Все наши надежды были связаны с Мультиваком, это было единственное, чем мы располагали в борьбе с суперпотоком. Только это поддерживало наши силы и веру в победу!? «Мультивак предвидит любой маневр суперпотока»… — передразнил он. — Великий космос, да когда он проглотил наш зонд-разведчик, мы даже не могли сообщить об этом широкой публике!
— Верно, — согласился Свифт.
— Так что же вы могли сделать, скажи я вам, что сведения ненадежны? Отказались бы поверить и сместили бы меня. Этого я допустить не мог.
— И что ты сделал? — спросил Яблонский.
— Что ж, мы победили, и я могу рассказать. Я корректировал информацию.
— Как?
— Совершенно интуитивно. Я правил ее до тех пор, пока она не становилась, на мой взгляд, вполне реальной. Сперва я едва осмеливался на это, лишь изредка подправляя очевидные искажения. Когда небо не обрушилось на меня, я осмелел. В конце концов, я просто сам выдумывал все необходимые сведения и даже использовал Мультивак для составления подобных отчетов, которые потом вводил в него.
Яблонский неожиданно улыбнулся, блеснув темными глазами.
— Три раза мне докладывали о незарегистрированном использовании Мультивака, и я закрывал на это глаза. Ведь все, что касалось гигантской машины, в те дни не имело никакого значения.
— То есть как? — опешил Гендерсон.
— Да-да. Я молчал по той же причине, что и ты, Джон. Вообще — с чего вы взяли, что Мультивак был исправен?
— Как, он не был исправен? — спросил Свифт.
— Правильнее сказать, был не совсем исправен. Просто на него нельзя было положиться. В конце концов, где находились мои техники в последние годы? Обслуживали компьютеры на тысячах всевозможных космических объектов. Для меня они пропали! Остались зеленые юнцы и безбожно отставшие ветераны. Кроме того, я не мог доверять компонентам, поставляемым «Криогеникс», — у них с персоналом обстояло еще хуже. Так что, насколько верной была вводимая в Мультивак информация, значения не имело. Результаты были ненадежны. Вот что я знал.
— И как ты поступил? — спросил Гендерсон.
— Как и ты. Я интуитивно корректировал результаты — вот как машина выиграла войну.
Свифт откинулся на стуле и вытянул Ъеред собой длинные ноги.
— Вот так открытия… Выходит, в принятии решений я руководствовался выводами, сделанными человеком, на основании человеком же отобранной информации?
— Похоже, что так, — подтвердил Яблонский.
— Значит, я был прав, не обращая никакого внимания на советы машины…
— Как?! — Яблонский, несмотря на только что сделанное признание, выглядел оскорбленным.
— Да. Мультивак, предположим, говорил: метеорит появится здесь, а не там; поступайте вот так; ждите, ничего не предпринимайте. Но я не был уверен в верности выводов. Слишком велика ответственность за такие решения, и даже Мультивак не мог снять ее тяжести. Но, значит, я был прав, и я испытываю сейчас громадное облегчение.
Объединенные взаимной откровенностью, они отбросили титулы. Яблонский прямо спросил:
— И что ты сделал тогда, Ламар? Ведь ты все-таки принимал решения. Каким образом?
— Вообще-то, мне кажется, нам пора возвращаться, но у нас еще есть несколько минут. Я использовал компьютер, Макс, но гораздо более древний, чем Мультивак.
Он полез в карман и вместе с пачкой сигарет достал пригоршню мелочи, старых монет, бывших в обращении еще до того, как нехватка металла породила новую кредитную систему, связанную с вычислительным комплексом.
Свифт робко улыбнулся.
— Старику трудно отвыкнуть от привычек молодости.
Он сунул сигарету в рот и одну за другой опустил монеты в карман.
Последнюю Свифт зажал в пальцах, слепо глядя сквозь нее.
— Мультивак не первое устройство, друзья, и не самое известное, и не самое эффективное из тех, что могут снять тяжесть решения с плеч человека. Да, Джон, войну с суперпотоком выиграла машина. Очень простая; та, к чьей помощи я прибегал в особо сложных случаях.
Со слабой улыбкой он подбросил монету. Сверкнув в воздухе, она упала на протянутую ладонь.
— Орел или решка, джентльмены?
перевод В. БакановаЖизнь и времена Мультивака
От случая к случаю я, бывало, писал статьи для «Нью-Йорк Таймс Мэгэзин», но больше половины из них журнал обычно заворачивал.
В принципе такое отношение должно было меня расхолодить и убедить в том, что на данном рынке я не котируюсь, а значит, мне лучше сосредоточить свои усилия на чем-то другом. Но «Таймс» — это все-таки случай особый, поэтому я продолжал стараться.
Однако осенью 1974 года, получив три отказа подряд, я решил, что, если журнал закажет мне еще какую-нибудь статью, я тоже ему откажу. Правда, сказать это легче, чем сделать, потому что заказы мне обычно передавал Джеральд Уокер, а более славного парня мир просто не видел. Когда он позвонил, я отчаянно напряг силу воли, чтобы ответить отказом на все его предложения, — и вдруг он произнес волшебные слова «научная фантастика».
— Научно-фантастический рассказ? — переспросил я. — Да, — сказал он.
— Для публикации в журнале?
— Да. Нам нужен рассказ примерно в четыре тысячи слов, чтобы речь в нем шла о будущем и в частности об отношениях между человеком и машиной.
— Я попробую, — сказал я.
А что еще я мог сказать? Возможность сразить «Таймс» научно-фантастической историей была слишком заманчивой, чтобы ее упустить. Восемнадцатого ноября 1974 года я начал работу над рассказом и послал его в редакцию без всякой уверенности в результате: не опубликуют, ну и черт с ними. Рассказ появился в воскресном выпуске «Таймс» 5 января 1975 года, и, насколько мне известно, это было первое произведение художественной литературы, принятое и опубликованное журналом.
Весь мир был заинтригован. Весь мир мог наблюдать. Если бы кого-то заинтересовало точное число зрителей, Мультивак бы его сообщил. Большой компьютер Мультивак был в курсе дела — как и всех прочих дел на Земле.
Мультивак сам выступал судьей на этом процессе — судьей настолько беспристрастным, непредвзятым и справедливым, что не нужно было ни защитника, ни обвинителя. Присутствовали только обвиняемый, Саймон Хайнс, да свидетели, и в их числе Рональд Бакст.
Бакст, разумеется, наблюдал за процессом. Как свидетель, он обязан был сидеть у экрана, хотя его это утомляло. Видно, возраст давал себя знать: Бакст разменял уже десятый десяток, и в копне волос уже отчетливо виднелась седина.
Норин не хотела смотреть на процесс. В дверях она сказала:
— Если бы у нас остался хоть один друг… — Она сделала паузу и добавила: — В чем я очень сомневаюсь.
И ушла.
Бакст не мог сказать с уверенностью, вернется ли она вообще, но в данный момент это не имело значения.
Хайнс, как последний идиот, совершил нападение на Мультивак. Это ж надо додуматься — подойти к терминалу и попытаться его раздолбать! Как будто он не знал, что вездесущий компьютер — всемогущий Компьютер (с большой буквы, пожалуйста!), управляющий миллионами роботов, сумеет себя защитить. И даже если бы нападение удалось — ну, разбил бы он этот терминал, а толку-то?
Так ему еще, видите ли, приспичило сделать эту глупость в физическом присутствии Бакста!
Его вызвали точно по расписанию:
— А сейчас свидетельские показания даст Рональд Бакст.
Голос у Мультивака был чарующий, и обаяние его не приедалось, сколько ни слушай. Тембр не мужской, но и не женский. А язык — любой, на каком удобнее разговаривать собеседнику.
— Я готов дать показания, — откликнулся Бакст.
Ничего другого ему не оставалось. Хайнсу все равно не избежать наказания. И, кстати, если бы его судили люди, суд был бы более скорым на расправу и менее справедливым.
Прошло пятнадцать дней, которые Бакст провел в полном одиночестве. Впрочем, физическое одиночество не было редкостью в мире Мультивака. В эпоху великих катастроф вымерло почти все население Земли, и не кто иной, как компьютеры, спасли уцелевших и руководили возрождением цивилизации, совершенствуя заодно самих себя, пока не слились в Мультивак. Зато нынешние жители Земли — пять миллионов человек — жили припеваючи и не знали никаких забот.
Но эти пять миллионов были разбросаны по планете, и шансы встретиться с кем-то случайно, непреднамеренно, были невелики. А намеренно Бакста никто не навещал, даже по видео.
Бакст стойко переносил изоляцию. Он с головой ушел в свое любимое занятие, которому предавался вот уже двадцать три года: он придумывал математические игры. Каждый житель Земли мог заниматься чем душе угодно, если только Мультивак, тщательно и искусно взвешивавший все виды людской деятельности, не приходил к заключению, что выбранный род занятий может стать помехой человеческому счастью.
Но кому могли помешать математические игры? Занятие это чисто абстрактное, Баксту оно нравилось, а вреда не приносило никому.
Бакст надеялся, что одиночество не будет слишком долгим. Конгресс не мог приговорить его к длительной изоляции без суда — правда, совсем иного суда, чем над Хайнсом. Суд Конгресса был лишен тирании абсолютной справедливости, присущей Мультиваку.
И все же Бакст вздохнул с облегчением, когда изоляция кончилась; особенно приятно было то, что конец ей положило возвращение Норин. Она устало взобралась на вершину холма, и Бакст с улыбкой поспешил ей навстречу. Они прожили вместе пять лет. Это были славные годы. Даже редкие встречи с двумя ее детьми и двумя внуками не были Баксту в тягость.
— Спасибо, что вернулась, — сказал он.
— Я не вернулась, — ответила Норин.
Она выглядела усталой. Каштановые волосы разметало ветром, высокие загорелые скулы заострились.
Бакст набрал код для легкого обеда и кофе. Он знал ее вкусы. Она не прервала его и, поколебавшись минуту, все же поела.
— Я пришла поговорить с тобой, — сказала она. — Меня прислал Конгресс.
— Конгресс! — воскликнул он. — Пятнадцать человек, считая вместе со мной. Беспомощные самозванцы.
— Ты так не думал, пока был его членом.
— Я стал старше. И немного умнее.
— Настолько, что у тебя хватило ума предать своих друзей?
— Я никого не предавал. Хайнс пытался разрушить Мультивак — это и глупо, и невозможно.
— Ты выдвинул против него обвинение.
— Я был вынужден. Мультивак знал все и без меня, а не выдвини я обвинение, я стал бы соучастником. Хайнс ничего бы от этого не выиграл, а я бы многое потерял.
— Без свидетеля Мультивак не вынес бы приговор.
— Только не в случае нападения на Мультивак. Это тебе не дело о незаконном рождении ребенка или работе без разрешения. Я не мог рисковать.
— И поэтому позволил на два года лишить Саймона разрешения на любой вид деятельности.
— Он получил по заслугам.
— Утешительная мысль. Ты потерял доверие Конгресса, зато завоевал доверие Мультивака.
— Доверие Мультивака в нашем мире дорогого стоит, — серьезно проговорил Бакст. Он вдруг обнаружил, что Норин выше его ростом.
Она выглядела такой разъяренной — того и гляди ударит. Губы побелели и крепко сжались. Но ей, как-никак, было уже за восемьдесят — молодость прошла, — и привычка к ненасилию укоренилась слишком глубоко. Как, впрочем, и у всех землян, за исключением недоумков типа Хайнса.
— Значит, тебе нечего больше сказать? — спросила она.
— Я многое мог бы сказать. Неужели ты забыла? Неужели все вы забыли? Ты помнишь, что творилось на Земле когда-то? Помнишь двадцатый век? Теперь мы живем долго; мы живем в безопасности; мы счастливо живем.
— Мы живем бессмысленно.
— Ты хотела бы вернуться в тот мир, что был здесь прежде? Норин энергично помотала головой:
— Вечный жупел для устрашения, да? Хватит, мы усвоили урок. С помощью Мультивака мы уцелели — но теперь нам его помощь не нужна. Она размягчит нас до смерти. Без Мультивака мы сами будем управлять роботами, сами будем вести хозяйство на фермах, в шахтах и на заводах.
— Мы не умеем.
— Научимся. Умение приходит с практикой. Нам необходим жизненный стимул, иначе мы все вымрем.
— У нас есть работа, Норин, — сказал Бакст. — Любая, какая душе угодна.
— Любая, лишь бы не важная. И даже ту могут отнять в мгновение ока, как у Хайнса. А чем занимаешься ты, Рональд? Математическими играми? Рисуешь линии на бумажке? Подбираешь цифровые комбинации?
Бакст протянул к ней руки, почти умоляюще:
— Моя работа — не пустяк! Ты недооцениваешь… — Он замялся, снедаемый жаждой объяснить, но боясь сказать слишком много. — Я работаю над серьезной проблемой комбинаторного анализа, основанного на генных структурах, которые можно использовать для того, чтобы…
— …позабавить тебя и нескольких любителей. Наслышана я о твоих играх. Ты придумаешь, как добраться из пункта А в пункт Б кратчайшим путем, и это научит тебя, как пройти от колыбели до могилы с минимальным риском. А потом ты научишь нас, и все мы возблагодарим Мультивака.
Она встала.
— Рон, ты предстанешь перед судом. Я в этом уверена. Перед нашим судом. И будешь признан виновным. Мультивак защитит тебя от физической расправы, но ты прекрасно знаешь, что он не в силах заставить нас видеться с тобой, разговаривать с тобой, иметь с тобой хоть что-то общее. И, лишенный человеческого общения, ты не сможешь больше думать и играть в свои игры. Прощай.
— Норин! Погоди!
Она обернулась в дверях.
— Правда, у тебя останется Мультивак. Вот и говори с Мультиваком, Рон.
Он смотрел вслед ее уменьшающейся фигурке. Она спустилась по дороге через зеленый парк, чья экологическая чистота поддерживалась упорным трудом спокойных и несложных роботов, которых никто практически не замечал.
«Да, мне придется поговорить с Мультиваком», — подумал Бакст.
У Мультивака не было какого-то определенного помещения. Его присутствие было глобальным: все точки земного шара связывались между собой проводами, оптическими волокнами и микроволнами. Мозг Мультивака был разделен на сотни частей, но функционировал как единое целое. Его терминалы были разбросаны по всей планете, и хоть один из них да находился поблизости от каждого из пяти миллионов.
Времени хватало на всех, поскольку Мультивак мог персонально общаться с каждым человеком одновременно, не отвлекаясь при этом от мировых проблем.
Но Бакст не испытывал иллюзий по поводу могущества Мультивака. Вся его немыслимая сложность по сути дела была математической игрой, и в правилах этой игры Бакст разобрался еще десять лет назад. Он знал, каким образом соединительные нити бегут с континента на континент, сплетаясь в громадную сеть, анализ которой мог бы стать основой для увлекательной задачки. Как бы вы организовали сеть, чтобы поток информации никогда не смешивался? Как бы вы организовали систему переключений? Докажите, что в любой системе найдется хоть одно уязвимое звено, и если разорвать именно его…
Как только Бакст разобрался в правилах игры, он вышел из состава Конгресса. Там одни разговоры, а от разговоров какой толк? Мультивак равнодушно разрешал говорить о чем угодно и как угодно. Разговоры его не волновали. Его волновали только действия — именно их он предотвращал, направлял в нужное русло или наказывал за них.
Из-за действия Хайнса ситуация стала кризисной, а Бакст еще не был готов.
Но теперь, хочешь не хочешь, придется поторопиться. И Бакст попросил Мультивака уделить ему время для беседы.
Вопросы Мультиваку можно было задавать в любое время. Существовало около миллиона терминалов типа того, который попытался раскокать Хайнс, и каждый желающий мог спрашивать о чем угодно. Мультивак всегда был готов дать ответ.
Но беседа — дело другое. Для нее требовалось время и уединение; более того — Мультивак должен был рассмотреть прошение о беседе и решить, действительно ли она необходима. Хотя мощности Мультивака с избытком хватало на все глобальные проблемы, он начал экономить время. Возможно, это было результатом его непрестанного самоусовершенствования. Чем больше он осознавал свою ценность, тем меньше у него оставалось терпения на всякие глупости.
Баксту оставалось надеяться лишь на добрую волю Мультивака. Чтобы заслужить расположение компьютера, Бакст вышел из состава Конгресса и даже дал показания против Хайнса. Это был, безусловно, надежный ключ к успеху.
Подав прошение и почти не сомневаясь в положительном ответе, Бакст сразу же полетел к ближайшей подстанции. Он не стал проецировать туда свое изображение. Ему хотелось быть там лично — так он чувствовал себя ближе к Мультиваку.
В помещении подстанции вполне можно было проводить конференции по мультивидео. На секунду Баксту почудилось, что Мультивак примет на экране человеческий вид — что мозг сотворит плоть.
Ничего подобного, конечно, не произошло. Комнату наполнил еле слышный, похожий на шепот, шум беспрерывной деятельности Мультивака, постоянно сопровождавший его присутствие, — и на фоне этого шума раздался голос.
Голос был не такой, как обычно. По-прежнему чарующий, он стал вкрадчивым и тихим и звучал почти в самом ухе Бакста.
— Добрый день, Бакст. Рад тебя слышать. Твои приятели-люди осуждают тебя.
«Да, Мультивак не любит околичностей», — подумал Бакст. Вслух он сказал:
— Это не важно, Мультивак. Важно то, что я понимаю: все твои решения направлены во благо людям. Тебя создали для выполнения этой задачи еще в том, примитивном варианте…
— …а мое самоусовершенствование позволило мне выполнять ее еще эффективнее. Если ты понимаешь это, почему другие не могут понять? Я все еще занимаюсь анализом данного феномена.
— Я пришел к тебе с проблемой, — сказал Бакст.
— С какой? — поинтересовался Мультивак.
— Я много времени провел над решением математических вопросов, связанных с изучением генов и их комбинаций. Я не могу найти ответа, а от домашнего компьютера мало проку.
Послышался странный щелчок, и Бакст невольно вздрогнул при мысли о том, что Мультивак пытается удержаться от смеха. Такое очеловечение даже Баксту было трудно принять. Голос переместился в другое ухо, и Мультивак сказал:
— В человеческой клетке тысячи разных генов. У каждого гена в среднем около пятидесяти существующих вариаций и бессчетное количество потенциальных. Если мы попытаемся составить все возможные комбинации, то простое их перечисление с самой большой скоростью, на какую я способен, займет все время существования Вселенной, и то я успею перечислить лишь бесконечно малую часть.
— Но мне не нужно полное перечисление, — сказал Бакст. — В том-то и есть суть игры. Некоторые комбинации более вероятны, чем другие, и, надстраивая вероятность над вероятностью, мы сможем существенно сократить задачу. Как раз об этом я и хотел тебя попросить.
— Но даже такое задание потребует немало времени. Каким образом я смогу оправдать его потерю?
Бакст помедлил с ответом. Нет смысла пытаться запудрить Мультиваку мозги. Кратчайшим расстоянием между двумя точками в общении с Мультиваком всегда была прямая.
— Подходящая комбинация генов могла бы создать человека, который с радостью подчинится твоему руководству, поверит в твои старания осчастливить людей и сам захочет быть счастливым. Я не могу найти этой комбинации, но ты бы смог наверняка, а с помощью направленной генной инженерии…
— Я понимаю, что ты хочешь сказать. Это хорошая идея. Я уделю ей некоторое время.
Баксту с трудом удалось настроиться на личную волну Норин. Связь прерывалась три раза. Его это не удивило. Последние два месяца техника то и дело сбоила — недолго и по мелочам, но Бакст с мрачным удовлетворением отмечал каждый сбой.
Наконец связь наладилась. В воздухе появилось объемное голографическое изображение Норин. Оно немного померцало, но удержалось.
— Я отвечаю на твой звонок, — бесстрастно проговорил Бакст.
— Я уж думала, вовек до тебя не дозвонюсь, — сказала Норин. — Куда ты пропал?
— Никуда я не пропал. Я в Денвере.
— Почему в Денвере?
— В моем распоряжении весь мир, Норин. Я могу поехать куда вздумается.
Лицо ее слегка передернулось.
— И везде наверняка будет пусто. Мы собираемся судить тебя, Рон.
— Сейчас?
— Сейчас.
— И здесь?
— И здесь.
Воздух по сторонам от Норин замерцал — и сзади, и спереди тоже. Бакст вертел головой и считал. Их было четырнадцать — шестеро мужчин, восемь женщин. Он знал их всех. Еще недавно они были добрыми друзьями.
А вокруг простиралась девственная природа Колорадо. Погожий летний денек клонился к вечеру. Когда-то здесь был город под названием Денвер. Место и поныне сохранило это название, хотя сам город исчез с лица земли, как и большинство других городов. Бакст насчитал около десятка роботов, занимавшихся в окрестностях своими делами.
Поддерживают экологию, надо полагать. Бакст не знал в деталях, что они делают, но Мультивак знал, и все пятьдесят миллионов роботов на Земле трудились под его надзором.
За спиной у Бакста находился один из сетевых узлов Мультивака, похожий на маленькую неприступную крепость.
— Почему сейчас? — спросил Бакст. — И почему здесь?
Он машинально повернулся к Элдред. Она была старше всех и авторитетнее — если понятие авторитета вообще применимо к человеку.
Темно-коричневое лицо Элдред выглядело слегка осунувшимся. Годы давали себя знать — ей стукнуло уже сто двадцать, — но голос был резок и тверд:
— Потому что теперь у нас есть последнее доказательство. Пусть Норин расскажет. Она знает тебя лучше всех.
Бакст перевел взгляд на Норин:
— В каком преступлении меня обвиняют?
— Давай не будем играть в эти игры, Рон. В мире Мультивака нет преступлений, кроме стремления к свободе, а твое преступление против человечества для Мультивака не криминал. Поэтому мы сами решим, захочет ли хоть один из ныне живущих людей общаться с тобой, слышать твой голос, помнить о твоем существовании и отвечать тебе.
— За что мне угрожают изоляцией?
— Ты предал все человечество.
— Каким образом?
— Ты отрицаешь, что пытался загнать людей в рабство к Мультиваку?
— Ах вот оно что! — Бакст скрестил на груди руки. — Быстро же вы прознали. Хотя вам было достаточно просто спросить у Мультивака.
— Отрицаешь ли ты, что просил помощи для того, чтобы посредством генной инженерии вывести новую породу людей, которые станут покорными рабами Мультивака?
— Я предложил вывести более счастливую породу людей. Это предательство?
— Оставь свою софистику, Рон, — вмешалась Элдред. — Мы ее знаем наизусть. Не говори нам снова, что с Мультиваком нет смысла бороться, что мы живем в безопасном мире. То, что ты зовешь безопасностью, мы называем рабством.
— Сейчас ты огласишь приговор, или мне будет позволено защищаться?
— Ты слышал, что сказала Элдред, — заметила Норин. — Твои доводы мы знаем наизусть.
— Все мы слышали, что сказала Элдред, — отозвался Бакст, — но никто не слышал, что хочу сказать я. У меня есть аргументы, которых вы не знаете.
Изображения молча переглянулись. Потом Элдред сказала:
— Говори!
— Я попросил Мультивака помочь мне решить проблему в области математических игр, — начал Бакст. — Чтобы привлечь его интерес, я подчеркнул, что игра смоделирована на основе генных комбинаций и что решение могло бы помочь создать такую генную комбинацию, которая, никоим образом не ухудшив нынешнего положения человека, позволит ему с радостью отдать себя под покровительство Мультивака и подчиниться его воле.
— Ты не сказал ничего нового, — промолвила Элдред.
— На других условиях Мультивак не взялся бы за решение задачи. Новая порода людей, с точки зрения Мультивака, является благом для человечества, и поэтому он не мог отказаться. Желание довести дело до конца будет подталкивать его к изучению всех сложностей проблемы, а они настолько неисчерпаемы, что даже ему не под силу с ними справиться. Вы все тому свидетели.
— Свидетели чему? — спросила Норин.
— Вы же с трудом дозвонились до меня, верно? Разве за последние два месяца вам не бросились в глаза мелкие неполадки, которых никогда раньше не было?.. Вы молчите. Могу я принять ваше молчание за знак согласия?
— Даже если и так, то что с того?
— Все свои свободные цепи Мультивак загрузил моей задачей. Его обычная деятельность постепенно сокращается до минимума, поскольку с точки зрения этики Мультивака нет ничего важнее счастья человечества. А человечество станет счастливым лишь тогда, когда добровольно и с радостью примет правление Мультивака.
— Но что нам это дает? — спросила Норин. — У Мультивака по-прежнему хватает сил, чтобы править миром — и нами, — а если он делает это менее эффективно, то наше рабство просто становится менее комфортным. Причем только временно, потому что долго это не протянется. Рано или поздно Мультивак сообразит, что проблема неразрешима — или же решит ее, и в обоих случаях его рассеянности придет конец. А в последнем случае рабство станет вечным и неистребимым.
— Но сейчас он рассеян, — сказал Бакст, — и мы даже можем вести крамольные разговоры без его ведома. Хотя долго рисковать я не хочу, поэтому поймите меня поскорее.
У меня есть еще одна математическая игра — создание модели сетей Мультивака. Мне удалось доказать, что, какой бы сложной и избыточной система ни была, в ней всегда есть хоть один слабый узел, где поток информации при определенных условиях может смешаться. И если повредить именно этот узел, систему непременно хватит апоплексический удар, поскольку перегрузка вызовет необратимую цепную реакцию.
— Ну и?..
— Это и есть тот самый узел. Зачем, по-вашему, я приехал в Денвер? Мультивак тоже знает, что здесь его слабое место, поэтому узел охраняется и электронной защитой, и роботами, так чтобы никто не мог к нему подступиться.
— И что же?
— Но Мультивак рассеян, и Мультивак верит мне. Я заслужил его доверие ценой потери вашего, ибо только доверие делает возможным предательство. Если бы кто-нибудь из вас попытался приблизиться к этому месту, Мультивак очнулся бы и не пустил вас. Не будь он так рассеян, он и меня бы не подпустил. Но он рассеян, и у меня есть шанс!
Бакст ленивой походкой приближался к сетевому узлу. Четырнадцать изображений, прикованных к нему, двигались следом. Еле слышное деловитое гудение одного из центров Мультивака наполняло окрестности.
— Зачем атаковать неуязвимого противника? — проговорил Бакст. — Сначала сделай его уязвимым, а уж потом…
Бакст старался сохранять спокойствие, но на карту в это мгновение было поставлено все. Все! Резким движением он разъединил контакт. (Если б только ему дали больше времени, чтобы убедиться как следует!)
Никто не шелохнулся — и Бакст, затаив дыхание, понял, что еле слышное гудение смолкло. Смолк беспрерывный шепот Мультивака. Если через минуту он не возобновится, значит, Бакст угадал слабое звено и восстановление системы невозможно. Если же к нему сейчас на всех парах устремятся роботы…
Он обернулся. Было все так же тихо. Роботы спокойно трудились поодаль. Никто к нему не приближался.
Перед ним по-прежнему маячили голограммы четырнадцати членов Конгресса, пришибленных громадностью свершившегося.
— Мультивак перегорел, — сказал Бакст. — Восстановить его невозможно. — Бакст говорил, пьянея от собственных слов. — Я работал над этим с тех пор, как покинул вас. Когда Хайнс попытался разбить терминал, я испугался, что такие попытки будут продолжаться и Мультивак усилит охрану настолько, что даже я… Мне нужно было спешить… Я не был уверен… — Он задохнулся, но взял себя в руки и торжественно сказал: — Я вернул нам свободу.
Он умолк, заметив наконец тяжесть нависшей над ним тишины. Четырнадцать изображений смотрели на него, не отрываясь и не проронив ни слова в ответ.
— Вы говорили о свободе, — резко бросил им Бакст. — Вы ее получили!
И нерешительно добавил:
— Разве не этого вы хотели?
Когда я в первый раз закончил рассказ — или думал, что закончил, — меня не оставляло какое-то внутреннее неудовлетворение. Я не смыкал глаз до двух часов ночи, пытаясь сообразить, что же меня не устраивает, а затем пришел к выводу, что последняя точка еще не поставлена. Я встал, быстренько приписал три последних абзаца, закончив повествование этим пугающим вопросом, и спокойно уснул.
На следующий день я перепечатал последнюю страницу рукописи, включив в нее новое окончание. Посылая рассказ в «Таймс», я сообщил редакции, что кое в чем буду совершенно непреклонен (хотя мне очень хотелось увидеть его на страницах журнала).
«Учтите, пожалуйста, — написал я, — что концовка в виде вопроса без ответа не случайна. Она играет важную роль. Каждый читатель должен будет задуматься над смыслом вопроса — и ответа, который он дал бы на него сам».
Редакция «Таймс» попросила внести какие-то мелкие изменения и поправки, но, должен с радостью отметить, на мою концовку не покусилась даже намеком.
Кстати сказать, в оригинале рассказ назывался «Математические игры», и я подумывал о том, чтобы восстановить это название в сборнике. Но в названии «Жизнь и времена Мультивака» есть определенный размах. К тому же очень многие читатели прочли рассказ в тот же день, когда он появился в журнале. В течение нескольких недель ко мне приходили люди, желающие поделиться впечатлениями; ни одно из моих произведений не вызывало такого наплыва посетителей. Я не хочу вводить их в заблуждение: они могут подумать, будто я изменил название специально для тою, чтобы они купили этот сборник с якобы новым рассказом. Поэтому я оставил «Жизнь и времена Мультивака».
перевод И. ВасильевойЧасть 2. Самые невероятные преступления во вселенной
В плену у Весты
— Может быть, ты перестанешь ходить взад и вперед? — донесся с дивана голос Уоррена Мура. — Вряд ли нам это поможет; подумай-ка лучше о том, как нам дьявольски повезло — никакой утечки воздуха, верно?
Марк Брэндон стремительно повернулся к нему и скрипнул зубами.
— Я рад, что ты доволен нашим положением, — ядовито заметил он. — Конечно, ты и не подозреваешь, что запаса воздуха хватит всего на трое суток. — С этими словами он возобновил бесконечное хождение по каюте, с вызывающим видом поглядывая на Мура.
Мур зевнул, потянулся и, расположившись на диване поудобнее, ответил:
— Напрасная трата энергии только сократит этот срок. Почему бы тебе не последовать примеру Майка? Его спокойствию можно позавидовать.
«Майк» — Майкл Ши — еще недавно был членом экипажа «Серебряной королевы». Его короткое плотное тело покоилось в единственном на всю каюту кресле, а ноги лежали на единственном столе. При упоминании его имени он поднял голову, и губы у него растянулись в кривой усмешке.
— Ничего не поделаешь, такое случается, — заметил он. — Полеты в поясе астероидов — рискованное занятие. Нам не стоило делать этот прыжок. Потратили бы больше времени, зато были бы в безопасности. Так нет же, капитану не захотелось нарушать расписание; он решил лететь напрямик, — Майк с отвращением сплюнул на пол, — и вот результат.
— А что такое «прыжок»? — спросил Брэндон.
— Очевидно, наш друг Майк хочет этим сказать, что нам следовало проложить курс за пределами астероидного пояса вне плоскости эклиптики, — ответил Мур. — Верно, Майк?
После некоторого колебания Майк осторожно ответил:
— Да, пожалуй.
Мур вежливо улыбнулся и продолжал:
— Я не стал бы обвинять во всем случившемся капитана Крейна. Защитное поле вышло из строя за пять минут до того, как в нас врезался этот кусок гранита. Так что капитан не виноват, хотя, конечно, ему следовало бы избегать астероидного пояса и не полагаться на антиметеорную защиту. — Он задумчиво покачал головой. — «Серебряная королева» буквально рассыпалась на куски. Нам просто волшебно повезло, что эта часть корабля осталась невредимой и, больше того, сохранила герметичность.
— У тебя странное представление о везении, Уоррен, — заметил Брэндон. — Сколько я тебя помню, ты всегда этим отличался. Мы находимся на обломке — это всего одна десятая корабля, три уцелевшие каюты с запасом воздуха на трое суток и перспективой верной смерти по истечении этого срока, и у тебя хватает наглости говорить о том, что нам повезло!
— По сравнению с теми, кто погиб в момент столкновения с астероидом, нам действительно повезло, — последовал ответ Мура.
— Ты так считаешь? Тогда позволь напомнить тебе, что мгновенная смерть совсем не так уж плоха по сравнению с тем, что предстоит нам. Смерть от удушья — чертовски неприятный способ проститься с жизнью.
— Может быть, нам удастся найти выход, — с надеждой в голосе заметил Мур.
— Почему ты отказываешься смотреть правде в глаза? — лицо Брэндона покраснело, и голос задрожал. — Нам конец! Конец!
Майк с сомнением перевел взгляд с одного на другого, затем кашлянул, чтобы привлечь внимание.
— Ну что ж, джентльмены, поскольку наше дело — труба, я вижу, что нет смысла что-то утаивать. — Он вытащил из кармана плоскую бутылку с зеленоватой жидкостью. — Превосходная джабра, ребята. Я готов со всеми вами поделиться.
Впервые за день на лице Брэндона отразился интерес.
— Марсианская джабра! Что же ты раньше об этом не сказал?
Но только он потянулся за бутылкой, как его кисть стиснула твердая рука. Он повернул голову и встретился взглядом со спокойными синими глазами Уоррена Мура.
— Не валяй дурака, — сказал Мур, — этого не хватит, чтобы все три дня беспробудно пьянствовать. Ты что, хочешь сейчас накачаться, а потом встретить смерть трезвым как стеклышко? Оставим эту бутылочку на последние шесть часов, когда воздух станет тяжелым и будет трудно дышать — вот тогда мы ее прикончим и даже не почувствуем, как наступит конец, — нам будет все равно.
Брэндон неохотно убрал руку.
— Черт побери, Майк, у тебя в жилах не кровь, а лед. Как тебе удается держаться молодцом в такое время? — Он махнул рукой Майку, и бутылка исчезла у того в кармане. Брэндон подошел к иллюминатору и уставился в пространство.
Мур приблизился к нему и по-дружески положил руку на плечо юноши.
— Не надо так переживать, приятель, — сказал он. — Эдак тебя ненадолго хватит. Если ты не возьмешь себя в руки, то через сутки свихнешься.
Ответа не последовало. Брэндон не сводил глаз с шара, заполнившего почти весь иллюминатор. Мур продолжил:
— И лицезрение Весты ничем не поможет тебе.
Майк Ши встал и тоже тяжело двинулся к иллюминатору.
— Если бы нам только удалось спуститься, мы были бы в безопасности. Там живут люди. Сколько нам осталось до Весты?
— Если прикинуть на глазок, не больше чем триста — четыреста миль, — ответил Мур. — Не забудь, что диаметр самой Весты всего двести миль.
— Спасение — в трех сотнях миль, — пробормотал Брэндон. — А мог бы быть весь миллион. Если бы только нам удалось заставить этот паршивый обломок изменить орбиту… Понимаете, как-нибудь оттолкнуться, чтобы упасть на Весту. Ведь нам не угрожает опасность разбиться, потому что силы тяжести у этого карлика не хватит даже на то, чтобы раздавить крем на пирожном.
— И все же этого достаточно, чтобы удержать нас на орбите, — заметил Брэндон. — Должно быть, Веста захватила нас в свое гравитационное поле, пока мы лежали без сознания после катастрофы. Жаль, что мы не подлетели поближе; может, нам удалось бы опуститься на нее.
— Странный астероид эта Веста, — заметил Майк Ши. — Я раза два-три был на ней. Ну и свалка! Вся покрыта чем-то, похожим на снег, только это не снег. Забыл, как называется…
— Замерзший углекислый газ? — подсказал Мур.
— Во-во, сухой лед, этот самый углекислый. Говорят, именно поэтому Веста так ярко сверкает в небе.
— Конечно, у нее высокий альбедо.
Майк подозрительно покосился на Мура, однако решил не обращать внимания.
— Из-за этого снега трудно разглядеть что-нибудь на поверхности, но если присмотреться, то вон там, — он ткнул пальцем, — видно что-то вроде грязного пятна. По-моему, это обсерватория, купол Беннетта. А вот купол Калорна, у них там заправочная станция. На Весте много других зданий, только отсюда я не могу их рассмотреть.
После минутного колебания Майк повернулся к Муру:
— Послушай, босс, вот о чем я подумал. Разве они не примутся за поиски, как только узнают о катастрофе? К тому же нас будет нетрудно заметить с Весты, верно?
Мур покачал головой:
— Нет, Майк, никто нас не станет разыскивать. О катастрофе узнают только тогда, когда «Серебряная королева» не вернется в назначенный срок. Видишь ли, когда мы столкнулись с астероидом, то не успели послать SOS, — он тяжело вздохнул, — да и с Весты очень трудно нас заметить. Наш обломок так мал, что даже с такого небольшого расстояния нас можно увидеть, только если знаешь, что и где искать.
— Хм. — На лбу у Майка прорезались глубокие морщины. — Значит, нам нужно сесть на поверхность Весты еще до того, как истекут эти три дня.
— Ты попал в самую точку, Майк. Вот только бы узнать, как это сделать…
— Когда наконец вы прекратите эту идиотскую болтовню и приметесь за дело? — взорвался Брэндон. — Ради Бога, придумайте что-нибудь!
Мур пожал плечами и молча вернулся на диван. Он откинулся на подушки с внешне беззаботным видом, но крохотная морщинка между бровями свидетельствовала о сосредоточенном раздумье.
Да, сомнений не было; положение у них незавидное. В который раз он вспомнил события вчерашнего дня.
Когда астероид врезался в космический корабль, разнеся его на куски, Мур мгновенно потерял сознание; неизвестно, как долго он пролежал, потому что его часы разбились при падении, а других поблизости не было. Придя наконец в сознание, он обнаружил, что Марк Брэндон, его сосед по каюте, и Майк Ши, член экипажа, были наряду с ним единственными живыми существами на оставшемся от «Серебряной королевы» обломке.
И этот обломок вращался сейчас по орбите вокруг Весты. Пока что все было в порядке — более или менее. Запаса пищи хватит на неделю. Под их каютой находится региональный гравитатор, создающий нормальную силу тяжести, — он будет работать неограниченное время, во всяком случае больше трех дней, на которые хватит воздуха. С системой освещения дело обстояло похуже, но пока она действовала.
Не приходилось сомневаться, где тут уязвимое место. Запас воздуха на три дня! Это, конечно, не означало, что неполадок больше не существует. У них отсутствовала отопительная система, но пройдет немало времени, прежде чем их обломок излучит в космическое пространство такое большое количество тепла, что температура внутри заметно понизится. Намного важнее было то, что у них не имелось ни средств связи, ни двигателя. Мур вздохнул. Одна исправная дюза поставила бы все на свои места — достаточно лишь одного толчка в нужном направлении, чтобы в целости доставить их на Весту.
Морщинка между бровями стала глубже. Что же делать? В их распоряжении — один космический костюм, один лучевой пистолет и один детонатор. Вот и все, что удалось обнаружить после тщательного осмотра всех доступных частей корабля. Да, дело дрянь.
Мур встал, пожал плечами и налил себе стакан воды. Все еще погруженный в свои мысли, он машинально проглотил жидкость; затем ему в голову пришла некая идея. Он с любопытством взглянул на бумажный стаканчик в своей руке.
— Послушай, Майк, а сколько у нас воды? — спросил он. — Странно, что я не подумал об этом раньше.
Глаза Майка широко раскрылись, и на лице его отразилось крайнее удивление.
— А разве ты не знаешь, босс?
— Не знаю чего? — нетерпеливо спросил Мур.
— У нас сосредоточен весь запас воды. — Майк развел руки, как будто хотел охватить весь мир. Он замолчал, но, поскольку выражение лица Мура по-прежнему было недоумевающим, добавил: — Разве не видите? Нам достался основной резервуар, в котором находится весь запас воды для «Серебряной королевы», — и Майк показал на одну из стен.
— Ты хочешь сказать, что рядом с нами резервуар, полный воды?
Майк энергично кивнул:
— Совершенно точно, сэр! Бак в форме куба, каждая сторона — тридцать футов. И он на три четверти полон.
Мур был поражен.
— Семьсот пятьдесят тысяч кубических футов воды… — Внезапно он спросил: — А почему эта вода не вытекла через разорванные трубы?
— Из бака ведет только одна труба, проходящая по коридору возле этой каюты. Когда астероид врезался в корабль, я как раз ремонтировал кран и был вынужден закрыть его перед началом работы. Когда ко мне вернулось сознание, я открыл трубу, ведущую к нашему крану, но в настоящее время это единственная труба, ведущая из бака.
— Ага. — Где-то глубоко внутри Мур испытывал странное чувство. В его мозгу маячила какая-то мысль, но он никак не мог ухватиться за нее. Он понимал только одно — что сейчас услышал важное сообщение, но был не в силах установить, какое именно.
Тем временем Брэндон молча выслушал Ши и разразился коротким смехом, полным горечи:
— Кажется, судьба решила потешиться над нами вволю. Сначала она помещает нас на расстоянии протянутой руки от спасения, а затем поворачивает дело так, что спасение становится для нас недостижимым.
— И еще она дает нам запас пищи на неделю, воздуха — на три дня, а воды — на год. На целый год, слышите! Теперь у нас хватит воды, чтобы и пить, и полоскать рот, и стирать, и брать ванны — для чего угодно! Вода — черт бы побрал эту воду!
— Ну, не надо принимать это так близко к сердцу, — сказал Мур, стараясь поднять настроение Брэндона. — Представь себе, что наш корабль — спутник Весты, а он и на самом деле ее спутник. У нас есть свой период вращения и оборота вокруг нее. У нас есть экватор и ось. Наш «северный полюс» находится где-то в районе иллюминатора и обращен к Весте, а наш «юг» — на обратной стороне, в районе резервуара с водой. Как и подобает спутнику, у нас есть атмосфера, а теперь мы открыли у себя и океан.
— А если говорить серьезно, положение наше не так уж плохо. Те три дня, на которые нам хватит запаса воздуха, мы можем есть по две порции и пить, пока вода не польется из ушей. Черт побери, у нас столько воды, что мы можем даже выбросить часть…
Прежде смутная мысль теперь внезапно оформилась и созрела. Небрежный жест, которым он сопровождал свое последнее замечание, был прерван. Рот Мура захлопнулся, а голова резко дернулась вверх.
Однако Брэндон, погруженный в свои мысли, не заметил странного поведения Мура.
— Почему бы тебе не довести до конца эту аналогию со спутником? — язвительно заметил он. — Или ты, как Профессиональный Оптимист, не обращаешь внимания на те факты, которые противоречат твоим выводам? На твоем месте я бы добавил вот что. — И он продолжал голосом Мура: — В настоящее время спутник пригоден для жизни и обитаем, однако в связи с тем, что через три дня запасы воздуха истощатся, ожидается его превращение в мертвый мир.
— Ну, почему ты не отвечаешь? Почему стремишься обратить все в шутку? Разве ты не замечаешь?.. Что случилось?
Последняя фраза прозвучала как возглас удивления, и, право же, поведение Мура заслуживало такой реакции. Внезапно он вскочил и, постучав себя костяшками по лбу, молча застыл на месте, глядя куда-то вдаль отсутствующим взглядом. Брэндон и Майк Ши следили за ним в безмолвном изумлении.
Внезапно Мур воскликнул:
— Ага! Вот! И как же я раньше до этого не додумался? — Затем его восклицания перешли в неразборчивое бормотание.
Майк со значительным видом достал из кармана бутылку джабры, но Мур только нетерпеливо отмахнулся. Тогда Брэндон без всякого предупреждения ударил потрясенного Мура правым кулаком в челюсть и опрокинул его на пол.
Мур застонал и потер щеку. Затем он спросил негодующим голосом:
— За что?
— Только встань на ноги, получишь еще! — крикнул Брэндон. — Мое терпение лопнуло! Мне до смерти надоели все ваши проповеди и многозначительные разговоры. Ты просто спятил!
— Еще чего, спятил! Просто возбужден, вот и все. Послушай, ради Бога. Мне кажется, я нашел способ…
Брэндон посмотрел на Мура недобрым взглядом:
— Нашел способ, вот как? Пробудишь в нас надежду каким-нибудь идиотским планом, а потом обнаружишь, что он нереален. С меня хватит. Я найду применение воде — утоплю тебя, к тому же при этом сэкономлю воздух.
Хладнокровие изменило Муру.
— Послушай, Марк, это не твое дело. Я все сделаю один. Мне не нужна твоя помощь, обойдусь как-нибудь. Если ты так уверен, что умрешь, и так этого боишься, почему бы тебе не покончить сразу? У нас есть лучевой пистолет и детонатор, и то и другое — надежное оружие. Выбирай одно из них и убей себя. Обещаю, что я и Ши не будем тебе мешать.
Брэндон попытался вызывающе посмотреть на Мура, но вдруг сдался целиком и полностью.
— Ну хорошо, Уоррен, я согласен. Я… я и сам не знаю, что на меня нашло. Мне нехорошо, Уоррен. Я…
— Ну-ну, ничего, мой мальчик, — Муру стало жалко юношу. — Не надо волноваться. Я понимаю тебя, со мной то же самое. Только не поддавайся панике. Держи себя в руках, а то спятишь. Попытайся теперь заснуть и положись на меня. Все еще изменится к лучшему.
Брэндон, схватившись за голову, разламывающуюся от боли, неверными шагами подошел к дивану и упал на него. Безмолвные рыдания сотрясали его тело. Мур и Ши, не зная, чем помочь, в замешательстве стояли рядом.
Наконец Мур толкнул локтем Ши.
— Пошли, — прошептал он. — Пора браться за дело. Шлюз номер пять находится в конце коридора, верно? — Ши кивнул, и Мур продолжал: — Он по-прежнему герметичен?
— Ну, — ответил Ши, подумав, — внутренняя дверь, конечно, герметична, но за внешнюю я не ручаюсь. Возможно, она похожа на решето. Видишь ли, когда я испытывал стену на герметичность, я не решился открыть внутреннюю дверь, потому что если внешняя дверь неисправна — жжж-ик! — И он сопроводил свои слова красноречивым жестом.
— Тогда нам в первую очередь нужно проверить внешнюю дверь. Мне необходимо выбраться наружу, придется пойти на риск. Где космический костюм?
Мур снял с вешалки в шкафу единственный костюм, перекинул его через плечо и пошел по длинному коридору, ведущему вдоль каюты. Он миновал закрытые двери, служившие герметическими барьерами — раньше за ними находились каюты для пассажиров, но сейчас это были открытые в космос пещеры. В конце коридора находилась тяжелая, заподлицо со стеной дверь шлюза номер пять. Мур остановился и внимательно осмотрел ее.
— Как будто все в порядке, — заметил он, — но, конечно, неизвестно, что по ту сторону. Надеюсь, там тоже все в порядке. — Он нахмурился. — Пожалуй, можно использовать весь коридор в качестве воздушного шлюза — пусть дверь в нашу каюту будет внутренней, а эта дверь — наружной, однако в таком случае мы потеряем половину нашего запаса воздуха. Мы не можем себе этого позволить, пока еще не можем. — Он повернулся к Ши: — Ну что ж, хорошо. Индикатор показывает, что последний раз шлюз использовался для входа, так что он должен быть полон воздуха. Чуть-чуть приоткрой дверь и, если услышишь шипение, немедленно захлопни ее. Ну, поехали!
И дверь чуть приоткрылась. При столкновении с метеором механизм открывания двери был, очевидно, поврежден — обычно он работал бесшумно, а сейчас громко скрипел, но все же действовал. В левом углу двери появилась тонкая, как волосок, черная линия — это дверь на крохотную долю дюйма откатилась на своих подшипниках. Шипения не было! С лица Мура исчезло обеспокоенное выражение. Он достал из кармана небольшой кусок картона и приложил его к щели. Если бы через образовавшуюся щель вытекал воздух, его поток прижал бы кусок картона к двери. Картон соскользнул на пол. Майк Ши сунул указательный палец в рот, а затем приложил его к щели.
— Слава Богу! — прошептал он. — Никаких следов утечки.
— Ладно, ладно. Открой пошире. Действуй.
Новый нажим на рычаг, и дверь приоткрылась еще немного. Все еще никакой утечки. Медленно, очень медленно, с жалобным скрипом дверь открывалась, все шире и шире. Мур и Ши затаили дыхание — они боялись, как бы наружная дверь, хотя и герметически закрытая, не оказалась настолько расшатанной, чтобы податься в любую минуту. Но она устояла! С ликующим видом Мур начал натягивать космический костюм.
— Пока все идет хорошо, Майк, — сказал он. — Сиди здесь и жди меня. Не знаю, сколько времени мне потребуется, но я вернусь. А где лучевой пистолет? Ты его захватил?
Ши протянул ему пистолет.
— Что ты задумал, Уоррен? Хотелось бы знать.
Мур, который в этот момент застегивал шлем, остановился.
— Ты слышал, как я сказал, что у нас много воды и часть ее мы можем даже выбросить? Вот над этим-то я и задумался — не такая уж плохая мысль. Я как раз и собираюсь выбросить воду. — И без дальнейших объяснений он вошел в шлюз, оставив по ту сторону двери весьма озадаченного Майка Ши.
С бешено колотящимся сердцем Мур ждал, когда откроется наружная дверь. Его план был необыкновенно прост, но осуществить его будет нелегко.
Раздался скрежет храповиков и шестеренок. Воздух с шипением исчез в пустоте. Дверь соскользнула на несколько дюймов и остановилась. Сердце Мура замерло — на мгновение он подумал, что дверь больше не откроется, — несколько раз дернул ее, и дверь наконец скользнула в сторону.
Мур пристегнул к руке магнитный держатель и осторожно сделал шаг в пространство. Неловко, на ощупь начал он пробираться вдоль борта корабля. Ему еще ни разу не приходилось бывать в открытом космосе, и его, прижавшегося к металлической стене, подобно мухе, охватил смертельный страх. На мгновение он почувствовал головокружение.
Он закрыл глаза и минут пять висел, прижавшись к гладкой поверхности, которая еще недавно была бортом «Серебряной королевы». Магнитный присосок надежно удерживал его, и, когда Мур снова открыл глаза, он почувствовал, что к нему вернулась уверенность.
Он огляделся и впервые с момента катастрофы увидел не только Весту, как из иллюминатора их каюты, а и звезды. Он окинул взглядом небосвод в поисках крошечной бело-голубой искорки — планеты Земля. Его всегда забавляло, что космонавты, глядя на небо, неизменно искали в первую очередь Землю, но на этот раз ему было не до смеха. Однако его поиски остались безрезультатными. Земля не была видна. Очевидно, Веста закрывала и Землю и Солнце.
И все-таки Мур не мог не обратить внимания на другие небесные тела. Слева от него был Юпитер — сверкающий шар размером с горошину. Мур увидел два спутника, обращающихся вокруг него. Невооруженным глазом был виден и Сатурн — яркая планета небольшой величины, при наблюдении с Земли соперничающая с Венерой.
Мур ожидал, что увидит немало астероидов, поскольку их орбита проходила через астероидный пояс, однако космическое пространство выглядело удивительно пустым. Только один раз ему показалось, что в нескольких милях что-то стремительно пронеслось мимо, однако скорость была настолько велика, что он не был уверен, не почудилось ли это ему.
Ну и, конечно, Веста. Астероид прямо под ним выглядел, как воздушный шар, закрывающий четверть небосклона. Веста медленно плыла в пространстве, белая как снег, и Мур смотрел на нее с нескрываемым вожделением. Если как следует оттолкнуться от борта корабля, подумал он, можно упасть на Весту. Может, ему удастся благополучно достичь ее, и тогда он сумеет спасти остальных. Однако скорее всего он просто перейдет на другую орбиту вокруг Весты. Нет, нельзя так рисковать.
Он вспомнил, что время не ждет. Окинул взглядом борт корабля, разыскивая бак с водой, но увидел только переплетение металлических стен, зазубренных, остроконечных и изогнутых. Он заколебался. Очевидно, ему не оставалось ничего другого, как отыскать освещенный иллюминатор своей каюты и уж оттуда добраться до бака.
Осторожно Мур начал ползти вдоль стены корабля. Не успел он одолеть и пяти ярдов, как гладкая обшивка кончилась. Перед ним открылась зияющая пещера, в которой Мур опознал каюту, примыкавшую к коридору с дальнего конца. Он нервно передернул плечами. Вдруг он натолкнется в одной из кают на раздувшееся мертвое тело? Он был знаком с большинством пассажиров, многих знал близко. Однако Мур преодолел охватившее его чувство брезгливости и заставил себя продолжить опасное путешествие.
Но тут на его пути встало первое серьезное препятствие. Обшивка самой каюты в основном состояла из немагнитных сплавов. Магнитный присосок предназначался для использования на внешней обшивке корабля, а внутри был бесполезен. Мур совсем забыл об этом, но внезапно почувствовал, что плавает по каюте. Он глотнул воздуха и судорожно сжал рукой ближайший выступ, потом медленно подтянулся и двинулся обратно.
На мгновение он застыл, затаив дыхание. Теоретически здесь он должен быть в состоянии невесомости — притяжение Весты было ничтожным, — однако работал региональный гравитатор, расположенный под их каютой. Поскольку он не был сбалансирован остальными гравитаторами, по мере продвижения Мура тяготение непрерывно и резко менялось. Если магнитный присосок подведет, его может внезапно отбросить от корабля. И что тогда?
По-видимому, ему будет еще труднее осуществить свое намерение, чем казалось раньше.
Мур снова пополз вперед, каждый раз проверяя надежность захвата. Иногда ему приходилось долго ползти кружным путем, чтобы приблизиться к цели на несколько футов. Иногда он был вынужден перемахивать через небольшие куски обшивки из немагнитного материала. И он постоянно испытывал изматывающее притяжение гравитатора, непрерывно меняющееся по мере продвижения вперед, так что горизонтальная палуба и вертикальные стены то и дело оказывались под самыми невероятными углами.
Мур тщательно осматривал все предметы на своем пути. Однако его поиски были бесплодны. Все незакрепленные предметы, стулья, столы во время столкновения были отброшены в сторону и теперь стали независимыми небесными телами Солнечной системы. Тем не менее ему удалось подобрать небольшой полевой бинокль и авторучку и положить их в карман. Сейчас они были бесполезны, но придавали некую реальность его кошмарному путешествию вдоль борта мертвого корабля.
Пятнадцать, двадцать минут, полчаса он медленно полз туда, где, по его расчетам, должен был находиться иллюминатор. Пот заливал ему глаза, и волосы слиплись в бесформенную массу. От непривычного напряжения болели мышцы. Его разум, переживший тяжелое потрясение накануне, стал сдавать, выкидывать необычные трюки.
Ему начало чудиться, что он ползет бесконечно, что так было и так будет всегда. Цель путешествия, к которой он стремился, представлялась малозначительной, он знал только одно — нужно ползти вперед. Час назад он был вместе с Брэндоном и Ши, но это казалось туманным и далеким-далеким. А обычную жизнь, какая была два дня назад, он и совсем забыл.
В его слабеющем мозгу вертелась только одна мысль — через лес остроконечных выступов доползти до некоей неясной цели. Он хватался, напрягался, подтягивался. Рука с магнитным присоском искала листы железа. Вниз, в зияющие пещеры, бывшие когда-то каютами, и снова на поверхность. Нащупал — подтянулся, нащупал — подтянулся, и… свет!
Мур остановился. Если бы он не прилип к борту, то упал бы. Каким-то образом этот свет прояснил ситуацию. Перед ним был иллюминатор — не темный, безжизненный иллюминатор, мимо которых он проползал, а живой, освещенный. За стеклом был Брэндон. Мур глубоко вздохнул и почувствовал себя лучше, его мозг снова прояснился.
Теперь он отчетливо видел цель. Он полз к этой искорке жизни. Все ближе, ближе, ближе, пока не дотронулся до иллюминатора. Наконец-то!
Его глаза жадно разглядывали знакомую каюту. Видит Бог, это зрелище не вызывало у него приятных ассоциаций, однако это было нечто реальное, почти естественное. На диване спал Брэндон. Его лицо было измученным, изборожденным морщинками, но время от времени по нему пробегала улыбка.
Мур поднял руку, чтобы постучать по стеклу. Его охватило непреодолимое желание поговорить с кем-то, хотя бы при помощи жестов, и все-таки в последнее мгновение он остановился. Может быть, юноше снится родной дом? Он молод и чувствителен и много пережил. Пусть себе поспит. Успеем разбудить его, когда добьемся успеха… если это вообще произойдет…
Он увидел стену, за которой находился бак с водой, и попытался отыскать его внешнюю стенку. Теперь это было нетрудно — стенка резервуара отчетливо выступала. «Настоящее чудо, что резервуар не был поврежден во время столкновения», — подумал Мур. Может, судьба и не была такой неблагосклонной по отношению к ним.
Добраться до резервуара оказалось нетрудно, хотя он и находился на другом конце обломка. То, что раньше было коридором, вело почти прямо к нему. Когда «Серебряная королева» была невредима, этот коридор был ровным и горизонтальным, но теперь, под непрерывно меняющимся воздействием гравитатора, он казался крутым подъемом. Тем не менее ползти по нему было легко. Поскольку пол был сделан из обычной бериллиевой стали, Мур не испытывал никаких затруднений с магнитным держателем на всем своем двадцатифутовом пути к водяному баку.
И вот настала кульминация — последняя ступень. Он знал, что ему следовало бы сначала отдохнуть, однако волнение все нарастало. Теперь или никогда! Он пробрался к центру задней стенки резервуара. Там, устроившись на маленьком выступе, который образовал пол коридора, ранее простиравшегося по эту сторону резервуара, он принялся за работу.
— Как жаль, что выходная труба идет не в ту сторону, — пробормотал он — Можно было бы обойтись без многих неприятностей. А сейчас… — Он вздохнул и принялся за дело: поставил лучевой пистолет на полную мощность, и невидимое излучение сконцентрировалось примерно в футе от дна резервуара.
Постепенно воздействие раскаленного луча на молекулы стены начало становиться заметным. В фокусе действия луча тускло засветилось пятно размером с десятицентовую монету. Оно как бы колыхалось — то светлело, то тускнело — в зависимости от того, насколько Муру удавалось притушить дрожь усталой руки. Он положил руку на выступ, и дело пошло на лад. Крошечное пятно становилось все ярче.
Пятно медленно меняло окраску в соответствии со шкалой спектра. Появившийся вначале темный, кирпичный цвет сменился вишневым. По мере того как на освещенное пятно лился поток энергии, его яркость росла и пятно все расширялось, напоминая стрелковую мишень с концентрическими кругами все более темно-красных оттенков. Даже на расстоянии нескольких футов стенка была нестерпимо горячей, хотя и не светилась, и Муру пришлось следить за тем, чтобы не прикасаться к ней металлическими частями своего костюма.
С губ Мура то и дело срывались ругательства, потому что выступ тоже накалился. Казалось, его успокаивали только крепкие слова. А когда плавящаяся стенка начала сама излучать тепло, объектом его проклятий стали создатели костюма. Почему они не сделали такой костюм, который не пропускал бы не только холод, но и тепло?
Но Профессиональный Оптимист — как назвал его Брэндон — одержал в нем верх. Глотая соленый пот, Мур успокаивал себя. Пожалуй, могло быть и хуже. Во всяком случае, двухдюймовая стена — не слишком серьезное препятствие. А если бы резервуар примыкал задней стенкой к наружной обшивке! Вот было бы дело — прожигать стальную броню толщиной в целый фут! Он скрипнул зубами и наклонился над пистолетом.
Раскаленное пятно светилось теперь оранжево-желтым цветом, и Мур понял, что скоро будет достигнута температура плавления бериллиевой стали. Он заметил, что из-за яркости пятна он смотрит на него лишь какую-то долю секунды, и то через большие интервалы.
Очевидно, если он хочет добиться своего, необходимо работать как можно быстрее. Лучевой пистолет не был полностью заряжен, и сейчас, выбрасывая поток энергии при максимальной концентрации почти десять минут подряд, он был уже при последнем издыхании. А стенка едва лишь миновала стадию размягчения. Снедаемый горячкой нетерпения, Мур ткнул дулом пистолета прямо в центр раскаленного пятна и тут же отдернул его обратно.
В мягком металле образовалась глубокая впадина, хотя дыры еще не было. Тем не менее Мур почувствовал удовлетворение. Цель почти достигнута. Если бы между ним и стенкой был слой воздуха, он бы уже слышал шипение и бульканье кипящей внутри воды. Давление нарастало. Сколько еще продержится плавящаяся стенка?
Затем, настолько внезапно, что Мур даже не сразу осознал это, он прожег стенку. На дне впадины образовалось крохотное отверстие, и в следующее мгновение наружу вырвалась струя кипящей воды.
Жидкий металл облепил отверстие со всех сторон, и вокруг дырки размером с горошину образовались неровные металлические лепестки. Изнутри доносился рев. Мура окутало облако пара.
Сквозь туман он увидел, что пар тотчас же конденсируется в ледяные градинки, стремительно исчезающие в пустоте.
С четверть часа он не отрывал взгляда от струи пара.
Затем он почувствовал, как едва ощутимое давление отталкивает его от корабля. Невыразимая радость охватила его, так как он понял, что корабль ускорил свой ход. Мура отталкивала от корабля его собственная инерция.
Это означало, что работа кончена — кончена успешно. Струя пара заменила ракетный двигатель.
Мур отправился в обратный путь.
Велики были ужасы и опасности путешествия к резервуару, однако еще большие ужасы и опасности должны были подстерегать Мура на обратном пути. Он безмерно устал, глаза у него болели и ничего не видели, да еще к сумасшедшей тяге гравитатора прибавилось нарастающее ускорение всего корабля. Но каким бы трудным ни был его обратный путь, он не слишком беспокоил Мура. Позднее он даже не мог припомнить деталей.
Мур не помнил, как ему удалось преодолеть все многочисленные препятствия на пути к шлюзу. Большую часть времени он был поглощен ощущением счастья и поэтому вряд ли воспринимал окружающую его реальность. В его мозгу билась одна мысль — как можно быстрее вернуться к товарищам и сообщить им радостную весть о спасении.
Внезапно он увидел перед собой дверь шлюза. Мур едва ли даже понял, что это такое. Почти неосознанно он нажал сигнальную кнопку. Инстинкт подсказал ему, что сделать это необходимо.
Майк Ши ждал его. Раздался скрип, внешняя дверь откатилась, заклинилась на прежнем месте, но потом все-таки отошла в сторону и закрылась за Муром. Затем открылась внутренняя дверь, и он упал на руки Ши.
Он чувствовал, как во сне, что его не то волокут, не то ведут по коридору к каюте. С него сорвали костюм. Горячая, жгучая жидкость обожгла ему горло. Мур захлебнулся, сделал глоток и почувствовал себя лучше. Ши спрятал бутылку джабры в карман.
Расплывчатые фигуры Брэндона и Ши сфокусировались перед его глазами и приняли нормальные очертания. Мур вытер дрожащей рукой пот со лба и попытался изобразить слабую улыбку.
— Подожди, — запротестовал Брэндон, — не говори ничего. Ты просто ходячий труп. Отдохни, тебе говорят!
Но Мур покачал головой. Хриплым, надтреснутым голосом он рассказал, как мог, о событиях последних двух часов. Повествование было бессвязным, едва понятным, но поразительно впечатляющим. Оба слушателя затаили дыхание.
— Ты хочешь сказать, — заикаясь, произнес Брэндон, — что струя воды толкает нас к Весте, подобно выхлопу ракеты?
— Совершенно верно — подобно выхлопу ракеты, — прохрипел Мур. — Действие и противодействие. Дыра находится на стороне, противоположной Весте, следовательно, толкает нас к Весте.
Ши отплясывал перед иллюминатором.
— Он совершенно прав, Брэндон, мой мальчик. Уже отчетливо виден купол Беннетта. Мы приближаемся к Весте, приближаемся!
Мур почувствовал себя лучше.
— Так как раньше мы находились на кольцевой орбите, то теперь приближаемся к астероиду по спирали. По-видимому, мы опустимся на Весту через пять-шесть часов. Воды хватит еще надолго, и давление внутри по-прежнему высокое, поскольку вода вырывается наружу в виде пара.
— Пар — при такой низкой температуре в космосе? — спросил пораженный Брэндон.
— Да, пар — при таком низком давлении в космосе, — поправил его Мур, — Точка кипения воды с уменьшением давления падает, так что в космосе она крайне низка. Даже у льда давление пара достаточно для возгонки. На его лице появилась улыбка.
— Между прочим, вода одновременно и замерзает и кипит. Я сам видел это. — После короткой паузы он спросил: — Ну, как ты теперь себя чувствуешь, Брэндон? Гораздо лучше, правда?
Брэндон смутился и покраснел. Несколько секунд он тщетно пытался подобрать слова, затем прошептал:
— По-моему, я… я просто не заслуживаю спасения, после того как потерял самообладание и взвалил все бремя на твои плечи. Если хочешь, двинь меня как следует за то, что я тебя ударил. Честное слово, после этого мне будет гораздо лучше.
Мур дружески похлопал его по плечу.
— Забудь про это. Ты даже не подозреваешь, насколько близок к отчаянию был я сам. — Он заговорил громче, чтобы заглушить дальнейшие извинения Брэндона. — Эй, Майк, перестань глазеть в иллюминатор и давай сюда твою джабру.
Мгновенно на столе появилась бутылка, и Майк поставил рядом с ней три плексатроновых колпачка вместо чашек. Мур наполнил каждый до краев. Ему хотелось напиться вдрызг.
— Джентльмены, — торжественно провозгласил он, — я хочу произнести тост. — Все трое подняли стаканы. — Джентльмены, выпьем за годовой запас доброй старой H2O, который был у нас раньше!
перевод И. ПочиталинаГодовщина
Все было готово к празднику. В этот раз пришла очередь Уоррену Муру предоставить свое жилище для совершения ежегодного ритуала, поэтому он не церемонясь отправил жену вместе с детьми к ее родителям.
Рассеянно улыбаясь, Уоррен оглядел комнату. Собственно, идея отмечать годовщины крушения «Серебряной королевы» принадлежала Марку Брэндону. Мур сначала отнесся к ней скептически, но со временем привык и даже полюбил пробуждать в себе — раз в год — воспоминание об этом драматическом событии.
Это, конечно, сказывался возраст. Как-никак двадцать лет минуло с той поры… Он, Уоррен Мур, отрастил брюшко, облысел, у него появился двойной подбородок, и, что, быть может, самое непростительное, стал сентиментален.
Нажав на кнопку в стене, Мур сделал окна непроницаемыми для дневного света и опустил шторы — в память о том дне, когда им было страшно и одиноко. На столе лежали тюбики с ежедневным рационом космолетчиков, а посредине стояла бутылка искристой зеленой джабры — довольно крепкого напитка, обязанного своими достоинствами исключительно химическим свойствам марсианских лишайников.
Мур посмотрел на часы. Брэндон запаздывал, что было на него непохоже. Вдобавок из головы не выходили загадочные слова, которыми Марк закончил их телефонный разговор: «Уоррен, у меня для тебя сюрприз. Жди, останешься доволен».
Марк Брэндон, так всегда казалось Муру, был не подвержен процессу старения. Самый младший из них троих, он, доныне стройный и подвижный, отдавался любому своему увлечению с поистине юношеской пылкостью, — и это несмотря на то, что ему вот-вот должно было стукнуть сорок. Он и в нынешнем солидном возрасте сохранил способность безудержно радоваться, когда ему улыбалась удача, и впадать в глубокое уныние, если дела шли неважно. Волосы у него уже были тронуты сединой, но, когда он принимался бегать по комнате, громогласно развивая очередную из своих сумасбродных идей, Муру сразу вспоминался тот мальчишка, который двадцать лет назад в ужасе метался по отсекам терпящей бедствие «Серебряной королевы».
В дверь позвонили. Мур, не оборачиваясь, нажал на кнопку:
— Входи, Марк.
Вместо зычного приветствия, с каковым обычно являлся Брэндон, прозвучало тихое, неуверенное:
— Мистер Мур?
Голос был странно знакомый. Мур мгновенно обернулся. Да, на пороге действительно стоял Брэндон, рот, разумеется, до ушей, а рядом с ним смущенно переминался с ноги на ногу приземистый, широкоплечий мужчина, загорелый и абсолютно лысый… похожий на звездолетчика…
В изумлении Мур воскликнул:
— Майк?.. Клянусь космосом, да это же Майк Ши! Хохоча, они крепко обняли друг друга.
— Он нашел меня в офисе, — пояснил Брэндон. — Оказывается, он еще не забыл, что я работаю в «Атомик Продакшн»…
— Сколько лет, сколько зим, — растроганно говорил Мур. — Погоди, погоди, Майк, последний раз ты был на Земле двенадцать лет назад, верно?
— Майк ни разу не отмечал с нами годовщину, — сказал Брэндон. — Что ты на это скажешь, Уоррен? Его выгнали на пенсию, он прямо из космоса направляется в Аризону, где приобрел кой-какую недвижимость, а по пути заглянул в наш городок. Ему, видишь ли, захотелось повидаться со старыми друзьями, прежде чем навсегда забраться в свою глухомань. А я-то решил, что звездолетчик Ши все-таки вспомнил о нашей знаменательной дате. Представляешь, Уоррен, этот старый балбес еще спрашивает: «Годовщина? Какая годовщина?»
Ши, смущенно улыбаясь, кивнул.
— Марк сказал, что вы ежегодно отмечаете этот день.
— Еще бы! — воскликнул Брэндон. — Но сегодня мы в кои-то веки собрались все вместе — и это настоящий праздник. Майк, ты только вдумайся: двадцать лет прошло с тех пор, как Уоррен дотащил нас до Весты на обломках «Королевы»!
Ши оглядел стол.
— Эге, космический рацион? Ну прямо как на корабле. И джабра! Признаться, не предполагал, что вы так трепетно относитесь к этой дате. Да, двадцать лет — срок немалый. Хотя у меня такое чувство, будто это случилось только вчера. Помните, как нас встречали на Земле?
— Как не помнить! — засмеялся Брэндон. — Парады, торжественные речи! По справедливости все почести заслужил лишь Уоррен, и мы пытались им это растолковать, но никто нас не слушал…
— Да ладно тебе, — сказал Мур. — Просто мы были первые, кто сумел выжить после кораблекрушения в космосе. До нас этого никому не удавалось, вот с нами и носились. Каким образом люди становятся популярными и почему их потом забывают — все это не поддается рациональному объяснению.
— Эй, парни, — сказал Ши, — а кто из вас помнит песню, которую про нас сочинили? Ну, такую маршевую, бравурную: «Давайте споем, как шли мы втроем по звездным тернистым путям…»
Брэндон подхватил своим чистым тенорком, Мур тоже присоединился, и заключительный куплет они грянули таким оглушительным хором, что задрожали шторы:
— И до Весты дотянули на обломках корабля!.. После чего все трое дружно расхохотались.
— Давайте поскорее откупорим джабру и сделаем по глотку, — предложил Брэндон. — Жаль, что у нас всего одна бутылка.
Мур хмыкнул.
— Ты же сам обычно настаиваешь, чтобы все было, как тогда. Удивляюсь, почему ты до сих пор не потребовал, чтобы я в этот день вылетал в окно и кружился над зданием.
— А что, это идея, — откликнулся Брэндон.
— Не забыли наш последний тост? — Ши, держа в руке пустой стакан, провозгласил: — «Господа, позвольте разделить с вами эту порцию доброй H2O — все, что осталось от нашего годового обеспечения!» Помните, когда нас доставили на Землю, мы сходили по трапу пьяные в дым! Мы вели себя как мальчишки. Мне было тридцать, и я считал себя стариком. А теперь… — он погрустнел, — теперь меня отстранили от полетов именно по возрасту.
— Выпьем! — сказал Брэндон. — Сегодня нам снова по тридцать, и мы помним тот день, даже если никто в целом мире не желает о нем вспоминать. У человечества короткая память.
Мур засмеялся:
— А чего ты хотел? Чтобы этот день сделали национальным праздником? С традиционной раздачей бесплатного космического рациона и бутылки джабры?
— Нет, но послушай, ведь мы единственные, кто тогда уцелел! И что же получается? О нас забыли!
— И слава Богу. Зато вначале известность нам здорово помогла. Все мы сразу продвинулись по службе. Нет, Марк Брэндон, с нами все в порядке. То же самое мог бы сказать о себе и Марк, если бы ему не хотелось вернуться в космос.
Ши усмехнулся и нервно повел плечом:
— Мне там нравилось. Впрочем, не жалею. Я получил приличную страховку, на мой век хватит.
Брэндон произнес задумчиво:
— Из-за крушения «Серебряной королевы» Межпланетной компании пришлось раскошелиться. Да, деньги мы получили, но вообще судьба обошлась с нами несправедливо. Спроси в наши дни любого, что ему приходит в голову, когда он слышит это название — «Серебряная королева», и он вспомнит разве что о Квентине.
— О ком, о ком? — переспросил Ши.
— При крушении «Королевы» погиб доктор Гораций Квентин. А спроси у кого угодно: «Что вам известно о тех, кто спасся?» — и на тебя посмотрят, как на идиота. В лучшем случае промычат что-нибудь невразумительное.
— Такова жизнь, Марк. Принимай ее такой, какая она есть, — спокойно возразил Мур. — Доктор Квентин был ученым с мировым именем. А мы… мы люди маленькие.
— Зато мы единственные, кто…
— Вот заладил! Лучше вспомни, что у нас на борту был еще доктор Хестер, тоже корифей в своей области. Конечно, не такой, как Квентин, но тем не менее. Между прочим, я сидел с Хестером в столовой за одним столиком, когда в «Королеву» угодил тот каменюка. Так вот, о докторе Хестере никто не вспоминает. Его смерть для всех осталась незамеченной. А ведь он тоже погиб при крушении. Зато о Квентине помнят все. И ты еще плачешься, что о нас забыли! Живы — и ладно.
— Нет, парни, — помолчав, сказал Брэндон, нисколько не убежденный доводами Мура, — мы с вами снова терпим бедствие. Двадцать лет назад нам ничего другого не оставалось, как высадиться на Богом забытую Весту, а теперь угрожает полное и окончательное забвение, что ничуть не лучше. Это большая удача, что мы снова вместе. В тот раз Уоррен посадил нас на Весту. Неужели чудо не может повториться? Давайте подумаем, как нам выкарабкаться из нынешней передряги.
— Подумаем, что нужно сделать, чтобы о нас снова заговорили? — спросил Мур.
— Вот именно. Почему бы и нет? Это ли не лучший способ отметить нашу годовщину?
— Допустим, только любопытно, с чего ты намерен начать. Повторяю, люди вспоминают о «Серебряной королеве» лишь в связи с гибелью гениального Квентина. Тебе придется потрудиться, чтобы они вспомнили подробности кораблекрушения.
Ши нетерпеливо поднял руку, безмятежное выражение на его лице сменилось озабоченным:
— Ты ошибаешься, Уоррен. О «Королеве» помнят. Например, Межпланетная страховая компания о ней, похоже, ни на миг не забывает. Могу рассказать вам одну забавную историю. Лет десять назад мне довелось снова побывать на Весте, и я поинтересовался у тамошних жителей, где находится металлолом, на котором мы тогда приземлились. Почему-то я расчувствовался и решил взглянуть на эти обломки. Ну, прицепил к спине портативный двигатель и полетел, куда мне показали. Помните, какой на Весте уровень гравитации? Портативный двигатель — все, что требуется для передвижения. И вот, представьте, мне не удалось даже приблизиться к останкам нашей старушки. Вокруг них — защитное силовое поле.
Брэндон удивленно поднял брови:
— Вокруг нашей «Королевы»? Зачем?
— Я попытался выяснить, в чем дело. Оказывается, это собственность страховой компании.
Мур кивнул:
— Так оно и есть. Они прибрали все это железо к рукам, как только выплатили нам страховку. А еще мы подписывали бумагу: дескать, не претендуем на премию за спасение корабельного имущества. Ну и правильно, мы же ничего не спасли.
— Но при чем здесь силовое поле? — не унимался Брэндон. — К чему такая секретность?
— Не знаю.
— То, что осталось от «Королевы», гроша ломаного не стоит. Даже в качестве металлолома. Одна перевозка обойдется дороже.
— Верно, — подтвердил Ши. — Тем не менее страховая компания подобрала все обломки, что летали вокруг Весты, и сложила их в одном месте. Искореженные части каркаса и прочий хлам. Также мне стало известно, что компания объявила вознаграждение за каждый найденный обломок, поэтому экипажи кораблей, чьи маршруты пролегали поблизости от Весты, только и делали, что пялились в экраны — все высматривали эти самые обломки. Между прочим, иногда находили. Не так давно я снова побывал на Весте, и куча стала значительно больше.
— Ты хочешь сказать, что компания до сих пор что-то ищет? — Глаза у Брэндона азартно заблестели.
— Не знаю. Может, и перестала. Но куча была гораздо больше, чем одиннадцать лет назад. Значит, все это время поиски продолжались.
Брэндон откинулся в кресле и положил ногу на ногу.
— Странные вещи ты рассказываешь, Майк, очень странные. Прижимистая страховая компания тратит бешеные деньги на то, чтобы прочесывать космос вокруг Весты и вылавливать никому не нужные железки!
— Может, они подозревают, что крушение было не случайным? И надеются найти доказательства? — предположил Мур.
— Спустя двадцать лет? Дохлый номер. При всем желании им не вернуть свои денежки.
— Мы же не знаем, может, поиски уже прекратились, — напомнил Ши.
Брэндон вскочил в явном возбуждении:
— А давайте спросим! Все это крайне любопытно. К тому же я достаточно выпил, чтобы чувствовать себя в состоянии разрешить любую загадку.
— Это заметно, — сказал Ши. — Но у кого ты собираешься спрашивать?
— У Мультивака. Ши вытаращил глаза:
— У Мультивака? Эй, Мур, у тебя что, имеется терминал Мультивака?
— Да.
— Никогда его не видел. Интересно, что он собой представляет?
— Ничего особенного, Майк. Не путай Мультивак с его терминалом. Терминал выглядит как обыкновенная пишущая машинка. Что касается самой машины, я тоже ее не видел, и среди моих знакомых нет никого, кто мог бы этим похвастаться.
Мур усмехнулся при мысли о том, как трудно, практически невозможно познакомиться с кем-либо из тех, кто работает глубоко во чреве Земли, обслуживая этот — в милю длиной — суперкомпьютер, каковой является хранилищем абсолютно всей информации, накопленной человечеством. Ведь именно Мультивак направляет развитие экономики и науки, помогает политическим деятелям принимать правильные решения и вдобавок имеет миллионы дополнительных терминалов, позволяющих каждому пользователю обратиться к нему и получить ответ на любой вопрос, не затрагивающий, разумеется, сферу чьих бы то ни было частных интересов.
Пока они спускались лифтом на второй этаж, Брэндон сказал:
— Я подумываю, не установить ли и мне дома терминал Мультивака-младшего. Для детей. Нагрузки в школе растут. С другой стороны, хочется, чтобы они приучались мыслить самостоятельно. Да и дорогое это удовольствие. А твои дети, Уоррен, пользуются Мультиваком?
— Сначала они показывают свой вопрос мне, — ответил Мур. — Если я вижу, что им просто лень пошевелить мозгами, до Мультивака дело не доходит.
Терминал действительно был похож на пишущую машинку. Мур набрал на клавиатуре комбинацию цифр, открывающую доступ в отведенную ему часть памяти Мультивака, и сказал:
— Теперь внимание. Имейте в виду, что мне эта затея совсем не нравится. Я согласился вам помогать только потому, что сегодня годовщина. И еще потому, что мне, старому дураку, тоже стало интересно. Ладно, как сформулируем вопрос?
— Спроси: ищет ли до сих пор Межпланетная страховая компания обломки «Серебряной королевы», раскиданные вокруг Весты, — предложил Брэндон. — На такой вопрос достаточно однозначного ответа. Либо «да», либо «нет».
Мур пожал плечами и напечатал вопрос. Ши глядел на него с нескрываемым восхищением.
— Он ответит человеческим голосом? — шепотом спросил он.
Мур рассмеялся:
— Нет, конечно. Я не могу позволить себе такую роскошь. Эта модель выдает ответы, отпечатанные на бумажной ленте.
Пока он объяснял Ши принцип действия терминала, из прорези уже высунулась лента. Мур мельком взглянул на нее:
— Мультивак ответил «да».
— Ага! — вскричал Брэндон. — Я же вам говорил, что дело нечисто! Теперь спроси зачем.
— Ну, это уже глупо. Мы получим в ответ желтый листок с требованием обосновать причину вопроса. Думаю, что наше любопытство можно расценивать как попытку нарушить неприкосновенность частных интересов.
— Попытка не пытка. Спрашивай, ведь компания не скрывает факт, что она что-то ищет. Может, и предмет поисков не является тайной.
Мур снова пожал плечами и напечатал: «С какой целью Межпланетная страховая компания ведет поиски обломков космического корабля «Серебряная королева»?
Он не ошибся — из прорези высунулся желтый листок.
— «Укажите причину, по которой затребована данная информация», — вслух прочитал Мур.
— Отлично, — кивнул ничуть не обескураженный Брэндон. — Скажи ему, кто мы такие. Скажи, что мы единственные трое, кто тогда остался в живых, и имеем право знать, что это за тайна такая! Давай-давай, спрашивай, не стесняйся!
Мур постарался придать вопросу Брэндона нейтральное оформление, но в ответ получил еще один желтый листок:
— «Причина недостаточна».
— Не понимаю, что все это значит, — пробормотал Брэндон.
— Мультиваку виднее, — сказал Мур. — Он анализирует причину каждого вопроса, чтобы не допустить возможности вторгнуться кому бы то ни было в сферу частных интересов кого бы то ни было. Даже правительство не имеет на это право без санкции Верховного суда. Если подобное и случается, то не чаще, чем раз в десять лет. Ну, каковы наши дальнейшие действия?
Брэндон принялся расхаживать по комнате, что свидетельствовало о крайней степени его возбуждения.
— Хорошо, тогда попробуем разобраться сами, — наконец сказал он. — Мы сошлись на том, что пытаться доказать умышленное кораблекрушение спустя двадцать лет после того, как оно случилось, нелепо. Похоже, на борту «Королевы» находилось нечто чрезвычайно важное, если компания не жалеет на поиски ни средств, ни времени.
— Марк, тебя уже заносит, — пробормотал Мур. Брэндон, не обратив внимания на его реплику, продолжал рассуждать:
— Разумеется, это не деньги и не драгоценности. Компания не окупила бы затраты на поиски, даже если бы «Серебряная королева» была отлита из чистого золота. Что же это может быть?
— Да что угодно! — ответил Мур. — Листок бумаги, стоимостью несколько центов, способен принести доход в сотни миллионов долларов. Важно, что на нем написано.
Брэндон энергично кивнул:
— Согласен. Не исключено, что ищут какие-то научные материалы. Ну а кто из пассажиров «Королевы» мог иметь при себе таковые материалы?
— Почем я знаю.
— А как насчет доктора Горация Квентина? Того самого доктора Квентина, о гибели которого человечество скорбит до сих пор? Он же считался у нас на борту самой важной персоной. Вот, наверное, у него и были с собой какие-нибудь дискеты с формулами. Чертовски жаль, что за весь рейс я так и не сподобился лицезреть этого великого человека. Может, если бы мы познакомились, он поделился бы со мной своими последними открытиями. Шучу, конечно. А ты его видел хоть раз своими глазами, Уоррен?
— Не припоминаю. Разве что мог столкнуться с ним в коридоре, даже не зная, кто он такой.
— Это исключено, — задумчиво сказал Ши. — Помнится, стюард жаловался мне, что один пассажир не желает ходить в столовую и ему носят пищу в каюту.
— Ты хочешь сказать, что этим пассажиром был Квентин? — Брэндон остановился посреди комнаты и пристально посмотрел на Ши.
— Может, и он. Не помню, о ком именно шла речь, но и так понятно, что это была большая шишка. На корабле никто не станет носить тебе пищу в каюту, если ты, что называется, простой смертный.
— Ну да, а Квентин был как раз непростой, — удовлетворенно подтвердил Брэндон. — Выходит, были у него основания прятаться в своей каюте.
— Не все пассажиры легко переносят полет, — сказал Мур. — Может, его просто мутило. Хотя… — Он нахмурился и замолчал.
— Ты тоже что-то вспомнил? — насторожился Брэндон. — Давай, выкладывай!
— Пожалуй, да. Я уже говорил вам, что за последним обедом сидел вместе с доктором Хестером. Хестер ворчал, что вот, дескать, надеялся за время рейса побеседовать с Квентином, а тот как сквозь землю провалился.
— Правильно! — закричал Брэндон. — Потому что Квентин не высовывал нос из своей каюты!
— Этого Хестер не говорил. Но как же он выразился? — Мур сжал ладонями виски. — В общем, смысл был таков: Квентин обожает напускать на себя таинственность, вечно темнит и скрытничает. Вот и теперь — они вместе летят на конференцию, а тема доклада Квентина еще никому не известна.
— Все понятно, — Брэндон снова зашагал из угла в угол. — Квентин сделал какое-то потрясающее открытие, но до поры держал его в секрете. Хотел, чтобы на конференции все попадали со стульев. Знаете, почему этот любитель эффектов не вылезал из каюты? Боялся, что в разговоре с Хестером не вытерпит и проболтается! Бьюсь об заклад, так оно и было. Ну а потом в нас попал метеорит, и Квентин погиб. Страховая компания, расследуя обстоятельства крушения, пронюхала про открытие и теперь надеется прибрать его к рукам. Тем самым она не только возместит убытки, но и сорвет изрядный куш. Вот почему она приобрела в собственность обломки «Королевы»! Вот почему она до сих пор не прекращает поиски!
Мур улыбнулся:
— Звучит все это очень увлекательно. Одно удовольствие слушать, как ты битый час пытаешься из ничего сотворить нечто.
— Так-таки из ничего? Ну-ка спроси еще раз у Мультивака. Я оплачу счета.
— Относительно счетов не беспокойся. Ты мой гость. Спрашивай сам, если хочешь, а я пока поднимусь за бутылкой.
Мне нужно сделать пару лишних глотков, чтобы тебя догнать.
— Мне тоже, — сказал Ши.
Теперь за машинку уселся Брэндон. Дрожащими от волнения пальцами он напечатал: «Каковы темы последних исследований доктора Горация Квентина?»
Мур вернулся с бутылкой и стаканами как раз в тот момент, когда из прорези высунулась лента с длинным перечнем книг, статей и ссылок на научные издания двадцатилетней давности.
Мур пробежал глазами список.
— Я не физик, но мне кажется, что все это связано с оптикой.
Брэндон упрямо мотнул головой:
— Здесь указаны только публикации. А нам нужны названия его неопубликованных работ.
— Мало ли что нам нужно!
— Но ведь страховая компания каким-то образом их узнала.
— Это ты так думаешь.
Брэндон ожесточенно тер рукой подбородок:
— Разреши мне задать Мультиваку еще один вопрос.
Он быстро напечатал: «Сообщите имена и телефоны коллег доктора Квентина по университету, с которыми он сотрудничал в последние годы жизни».
— Откуда ты знаешь, что он работал в университете?
— Если я ошибаюсь, Мультивак меня поправит.
Из прорези появился ответ. Очень короткий. На ленте было отпечатано всего одно имя.
— Ты что, собрался звонить этому человеку? — спросил Мур.
— Разумеется, — ответил Брэндон. — Итак, Отис Фитцсиммонс. Судя по коду города, он живет в Детройте. Можно, Уоррен?
— Да ради Бога. Если тебе охота и дальше валять дурака… Брэндон уже набирал номер. Ответил ему женский голос.
Брэндон попросил к телефону доктора Фитцсиммонса. Последовала короткая пауза, потом тоненький старческий голос произнес:
— Алло!
— Доктор Фитцсиммонс, вас беспокоят из Межпланетной страховой компании. Хотелось бы задать вам несколько вопросов относительно покойного доктора Горация Квентина.
— Черт бы тебя побрал, Марк! — прошептал Мур.
Брэндон поднял руку, показывая: не мешай!
Снова возникла пауза, на сей раз такая долгая, что Брэндон решил, что связь прервалась. Наконец старик на том конце линии ответил:
— Прошло столько лет, а вы опять за свое?
Брэндон, не опуская руку, торжествующе сжал кулак. Постаравшись придать своему голосу деловитые интонации, он сказал:
— Мы все еще надеемся, что вы вспомните дополнительные подробности, касающиеся открытия доктора Квентина… открытия, с которым он отправился в свой последний полет…
— Я уже говорил вам, что ничего не знаю, — в голосе старика послышалось явное раздражение. — Более того, мне совершенно не хочется снова забивать себе голову подобной чепухой. Понятия не имею, что это за прибор и существовал ли он в действительности. Доктор Квентин всегда говорил о своих новых открытиях так уклончиво…
— Но хотя бы приблизительно?
— Повторяю, мне это неизвестно. Квентин лишь однажды о нем обмолвился. Название прибора я вам уже сообщал, хотя вряд ли это имеет какое-нибудь значение.
— Доктор Фитцсиммонс, в нашей картотеке названия нет.
— Нет, оно у вас есть. Гм-м, как же он его назвал-то? А, вот как: эноптикон. И позвольте на этом закончить нашу беседу. Мне некогда. До свидания, — ворчливо закончил старик и повесил трубку.
Брэндон сиял.
— Глупее ничего нельзя было придумать, — сказал Мур. — Выдавать себя за представителя страховой компании! Если ты хочешь нажить себе неприятности…
— Да брось ты, он уже забыл про наш разговор. Нет, Уоррен, ты только подумай! Компания к нему тоже обращалась!
— Ну хорошо, хорошо. Чего тебе еще не хватает для полного счастья?
— Также нам теперь известно, что название прибора «эноптикон».
— Мне показалось, что Фитцсиммонс произнес это слово не очень уверенно. Но даже если он произнес его правильно, даже если мы выясним, что в последние годы Квентин занимался проблемами оптики, какой нам от всего этого прок?
— Вероятно, Квентин держал данные по эноптикону в голове, но имел в распоряжении опытный образец. Понимаете, почему компания собирает обломки? Надеется найти прибор или хотя бы то, что от него осталось!
— Я же говорю, что на Весте целая гора металлолома, — снова подтвердил Ши.
— Если бы компании нужны были чертежи, она оставила бы эти железки болтаться в космосе. Выходит, и нам нужно искать именно прибор.
— Допустим, ты прав, — попытался урезонить Брэндона Мур, — но ведь наши поиски все равно ни к чему не приведут. Вокруг Весты кружится процентов десять, не больше, от общей массы обломков «Королевы». Скорость убегания там ничтожная. Нам тогда просто повезло — мы оказались в случайно уцелевшем отсеке, который случайно полетел в нужную сторону и с нужной скоростью. Остальное разметало, наверное, по всей Солнечной системе в самых немыслимых направлениях.
— Однако кое-что компания все-таки собрала, — заметил Брэндон.
— Да, те самые десять процентов.
— Предположим, — продолжал Брэндон, не слушая Мура, — этот эноптикон летал где-то там возле Весты. Компания его не нашла. Значит, нашел кто-то другой?
Ши засмеялся:
— Кроме нас там никого не было. Мы и сами-то еле унесли оттуда ноги.
— Верно, — согласился Мур. — И если этот «кто-то» нашел эноптикон, почему он держит свою находку в секрете?
— Может, не понимает, что это такое, — сказал Брэндон.
— А ты уверен, что мы могли бы оказаться умнее других? — спросил Мур и вдруг обернулся к Ши: — Стоп! Как ты сказал, Майк?
Ши воззрился на него непонимающе:
— Когда?
— Да только что!.. О том, как мы уходили с корабля… — Мур прищурился, тряхнул головой. — О Боже… — прошептал он.
— Что с тобой, Уоррен? — забеспокоился Брэндон.
— Я не уверен… у меня уже крыша едет от твоих фантазий. Я начинаю относиться к ним серьезнее, чем они того заслуживают. Помните, мы забирали с собой какие-то вещи? Ну там одежду, что-то из личного имущества. Во всяком случае, я это сделал.
— И что?..
— Вижу как сейчас… я пробираюсь через обломки… поднимаю с пола какие-то вещи и засовываю их в карман скафандра. Сам не знаю зачем. На память, наверное. Я был не в себе. Но я привез их сюда, на Землю.
— Где они?
— Понятия не имею. С тех пор я много раз переезжал с места на место.
— Но ты их, надеюсь, не выкинул?
— Да вроде не должен был. Правда, при переездах вещи имеют свойство пропадать.
— Если ты их не выкинул, они должны быть здесь, в доме.
— Могли потеряться… Клянусь, я не вспоминал о них лет пятнадцать.
— Что это за вещи?
— Если мне не изменяет память, во-первых, авторучка. Старинная, с баллончиком, который заправляется пастой. А другая вещица… она меня особенно заинтересовала… такая маленькая подзорная труба… даже скорее трубка, не более шести дюймов длиной…
— Да это же и есть эноптикон! — закричал Брэндон. — Точно!
— Ну уж сразу и эноптикон, — сказал Мур нарочито спокойным тоном. На самом деле он чувствовал, что его тоже охватывает волнение. — В конце концов, это просто смешно.
— Смешно? Страховая компания двадцать лет потратила на поиски, а ты все это время держал его у себя и ни о чем не догадывался! Потрясающе!
— Марк, не сходи с ума.
— Нет, мы должны немедленно найти эту твою подзорную трубку!
Мур без особого желания поднялся со стула.
— Хорошо, давайте поищем, если вам так хочется. Правда, я сильно сомневаюсь, что наши поиски увенчаются успехом. Придется спуститься ниже этажом. Если рассуждать логически, эти вещи должны быть в кладовой. Там для них самое подходящее место.
Ши усмехнулся:
— А может, самое неподходящее.
Все трое быстро направились к лифту. В кладовой царил запах плесени. Мур нажал кнопку воздухоочистителя:
— Э, да тут и за год не проветришь. Давненько я сюда не заглядывал. Посмотрим сначала вон в том углу, где свалены мои пожитки холостяцкой поры.
Он начал перекладывать из одного места в другое пластиковые альбомы.
Брэндон напряженно смотрел ему через плечо.
— Знаешь, что это такое? — спросил Мур. — Это ежегодные университетские справочники. В студенческие годы я принимал участие в их составлении и страшно этим увлекался. Здесь голограммы всех выпускников нашего университета, — он постучал пальцами по обложке, — и вдобавок записи их голосов!
Заметив, что Брэндон нетерпеливо нахмурился, Мур отложил альбом.
— Ладно, продолжим поиски.
Он открыл пластмассовый, под цвет дерева, сундук и принялся разбирать его содержимое.
— Вот это что такое? — вдруг спросил Брэндон, указывая на небольшой цилиндрик, который, слабо позвякивая, покатился по дну сундука.
— Глазам своим не верю… — пробормотал Мур. — Та самая авторучка! А вот и подзорная трубка. И то, и другое, конечно, неисправны. Во всяком случае, в авторучке что-то брякает. Слышите? В свое время я безуспешно пытался ее починить. Да и баллончики к ней не выпускаются уже лет сто.
Брэндон внимательно рассматривал авторучку.
— Здесь чьи-то инициалы.
— В самом деле? Никогда не обращал внимания.
— Они почти совсем стерлись: «Г», «К», «К»… Авторучка вполне могла принадлежать Квентину. Нечто вроде фамильной реликвии, которую хранят в качестве талисмана или как память. Наверное, досталась ему от прапрадедушки. В те времена такими авторучками еще пользовались. Прапрадедушку звали, допустим, Грегори Кеннет Квентин. Или Годфри Кент Квентин. Или еще как-нибудь в этом духе. У Мультивака можно справиться о предках доктора.
Мур кивнул:
— Несомненно. Слушай, ты кого угодно способен заразить своим безумием.
— А если я прав, следовательно, ты подобрал авторучку в каюте Квентина. Скорее всего и эта трубка — оттуда.
— Необязательно. Впрочем, ей-Богу, не помню. Брэндон и так и этак поворачивал трубку, рассматривая ее.
— Инициалы отсутствуют, — объявил он наконец.
— С чего ты взял, что они должны быть? Авторучка — это одно, а прибор — совсем другое…
— Я вижу только узкую поперечную канавку, — Брэндон осторожно поглаживал трубку, потом легонько ее встряхнул и приставил к глазу. — Да, похоже, что-то в ней сломано.
— Я же тебе говорил. И стекол нет. Вмешался Ши:
— Что же вы хотите? Огромный космический корабль разнесло вдребезги…
— Даже если прибор исправен, — с досадой сказал Мур, — нам от этого не легче. Все равно мы не знаем, как им пользоваться.
Он взял трубку из рук Брэндона, провел пальцем по краю внутренней поверхности.
— Непонятно, как сюда вставляются линзы, как они крепятся. Такое впечатление, что эта штука и не предполагает их наличие. Погодите!.. — Мур с изумлением уставился на друзей. — Я, кажется, понял!
— Что ты понял? — спросил Брэндон.
— Название! Название все объясняет!
— Ты имеешь в виду название прибора?
— Фитцсиммонс произнес «эноптикон», и мы решили, что он употребил это слово с английским неопределенным артиклем «эн».
— Ну да, с артиклем, — подтвердил Ши.
— Дальше-то что? — спросил Брэндон.
— Так вот, он произнес «аноптикон»! Понимаете меня? Не два слова: «эн» и «оптикон», а одно! Аноптикон!
— Да какое это имеет значение! — отмахнулся Брэндон.
— Огромное! «Оптикон» вызывает в представлении некий оптический прибор с линзами, зеркалами, призмами и другими деталями, тогда как слово «аноптикон» имеет греческую приставку «ан», которая означает «без» и присутствует во многих словах греческого же происхождения. Например, анархия, то есть безвластие, анемия — малокровие или, иначе говоря, безкровие, аноним — сочинение без указания имени автора. Следовательно, аноптикон — это оптический прибор…
— Без линз! — восторженно подхватил Брэндон.
— Вот именно! И я уверен, что он целехонек!
— Гляжу я, гляжу в эту трубку и ни черта не вижу, — проворчал Ши.
— Как же все-таки действует прибор? — Мур попробовал, взявшись за один конец трубки, повернуть по оси другой.
— Смотри, не сломай, — не преминул предостеречь его Брэндон.
— Поворачивается, но очень туго. Наверное, так и было задумано. А может, просто туда попала пыль… — Мур, нажав на кнопку, сделал окно прозрачным, испытующе посмотрел на трубку, приставил ее к глазу и повернулся лицом к панораме вечернего города.
— Ух ты! — выдохнул он. — Как будто я снова в космосе…
— Что? Что ты там увидел? — заволновался Брэндон. Мур молча передал ему прибор. Брэндон приставил трубку к глазу и завопил как безумный:
— Да это же телескоп!
— Ребята, дайте и мне поглядеть, — попросил Ши.
Они, наверное, часа два забавлялись этим удивительным прибором: поворачивая по оси один конец трубки вправо, можно было превратить ее в телескоп, поворачивая влево — в микроскоп.
— Как же это так получается? — недоумевал Брэндон. Мур и сам терялся в догадках:
— Я могу лишь предположить, что мы имеем дело с искривлением силовых полей, поэтому приходится прикладывать такое усилие, чтобы привести прибор в действие. Если бы размеры у него были больше, потребовалась бы специальная пусковая установка.
— Хитрая штуковина, — заметил Ши.
— Да уж непростая, — согласился Мур. — Не ошибусь, если скажу, что намечается переворот в теоретической физике. Аноптикон фокусирует свет без помощи линз и не нуждается в перенастройке независимо от величины и дальности рассматриваемого объекта. Бьюсь об заклад, он обладает не только разрешающей способностью пятьсотдюймового телескопа, но также может заменить собой электронный микроскоп. Знай поворачивай вправо или влево!.. Кроме того, я не заметил никаких хроматических искажений, а это означает, что он одинаково хорошо преломляет весь спектр световых волн. А может быть, и радиоволны, и гамма-лучи. Не исключено, что и с гравитацией он способен справиться — если гравитация представляет собой волновое явление…
— Короче, — перебил его Ши, — сколько он стоит?
— Очень дорого. А уж если ты разберешься в его устройстве, ну тогда…
— Тогда мы повременим извещать страховую компанию о нашей находке. Сходим сначала к адвокату. Ведь когда мы отказывались от премии за спасение корабельного имущества, прибор уже находился в твоей собственности. Да, мы подписали эту бумагу, но имеет ли она юридическую силу, если мы даже не догадывались, о чем в действительности шла речь? Сдается мне, нас просто хотели облапошить.
— Кстати, — заметил Мур, — еще неизвестно, может ли частная компания получить монополию на пользование прибором такой важности. Нам следует обратиться в государственное агентство. Да, тут пахнет очень большими деньгами…
Брэндон возмущенно ударил кулаком по колену.
— Хватит о деньгах, Уоррен! То есть я хочу сказать, что кругленькая сумма мне тоже не помешает, но главное не в этом! Ребята, ведь мы дождались своего часа! Мы снова станем знаменитыми! Представьте, что будут писать о нас в газетах. В космосе потерян чрезвычайно ценный прибор! Двадцать лет гигантская компания ищет его и все без толку, в то время как мы, всеми позабытые, держим у себя сокровище, сами о том не подозревая! И вдруг, в двадцатую годовщину крушения «Серебряной королевы», мы его находим! Если, как ты говоришь, Уоррен, этот аноптикон действительно такое чудо техники, тогда о нас будут помнить вечно.
Мур засмеялся:
— Пожалуй… И это сделал ты, Марк. Ты все-таки добился своего — вытащил нас из забвения.
— Мы это сделали все вместе, — возразил Брэндон. — Ши дал нам толчок, когда рассказал про кучу железа на Весте. Я разработал теорию, а ты… ты отыскал прибор.
— Хорошо, пусть будет так. Однако уже поздно, с минуты на минуту вернется жена. Давайте на сегодня закончим, а завтра Мультивак нам посоветует, в какое агентство обратиться.
— Нет-нет! — воскликнул Брэндон. — Ритуал превыше всего! Последний тост, но с поправкой на изменившиеся обстоятельства. Будь любезен, Уоррен, — он передал Муру бутылку, в которой еще оставалось больше половины.
Мур, не пролив ни капли, наполнил стаканы до краев.
— Господа, — начал он торжественно. Все трое встали и одновременно подняли стаканы. — Господа, позвольте разделить с вами радость от находки этих сувениров, каковые суть наше пожизненное, да и посмертное обеспечение! Да здравствует «Серебряная королева»!
перевод А. ШельвахаЗадача с числами
Профессор Неддринг благожелательно смотрел на своего аспиранта. Молодой человек сидел непринужденно. У него были рыжеватые волосы, проницательный, спокойный взгляд. Руки он засунул в карманы лабораторного халата. В общем, многообещающий субъект, подумал профессор.
Он знал, что молодой человек неравнодушен к его дочери. Более того, недавно ему стало известно, что и дочь неравнодушна к юноше.
— Вот что, Хэл, давай начистоту. Ты пришел просить моего согласия прежде, чем делать предложение моей дочери? — спросил профессор.
— Да, сэр, — ответил Хэл Кемп.
— Я, конечно, плохо разбираюсь в новомодных причудах молодежи, но все-таки мне трудно поверить, что это последний вопль. — Профессор сунул руки в карманы халата и откинулся на спинку стула. — Я хочу сказать, что вряд ли у вас теперь принято испрашивать согласия. Ведь не откажешься же ты от моей дочери, если я не дам согласия?
— Нет, конечно, если она пойдет за меня, а я думаю, что пойдет. Но было бы приятно…
— …получить мое согласие. Почему?
— По очень простой причине, — ответил Хэл. — Я еще не имею степени и не хочу, чтобы говорили, будто я из-за этого ухаживаю за вашей дочерью. Если вы так думаете, то скажите, и, может быть, я подожду, пока не защищусь. Или не стану ждать, а рискну, хотя без вашего согласия мне труднее будет получить степень.
— Значит, с точки зрения защиты, по-твоему, было бы лучше, если бы мы полюбовно решили вопрос о твоей женитьбе на Дженис.
— Честно говоря, да, профессор.
Они помолчали. Профессор был в замешательстве. Уже в течение нескольких лет его исследовательская работа была посвящена координационным числам комплексных соединений хрома, и ему было трудно мыслить точными категориями о столь неточных предметах, как любовь и брак.
Он потер гладко выбритую щеку — в свои 50 лет он был слишком стар для замысловатой бородки, какие были в моде среди более молодых сотрудников, сказал:
— Ну, что ж, Хэл, если ты хочешь, чтобы я принял решение, я должен его на чем-то основывать, а я знаю только один способ судить о людях — по их умению рассуждать. Моя дочь судит о тебе по-своему, но мне придется исходить из своих критериев.
— Конечно, — ответил Хэл.
— Тогда сделаем так. — Профессор наклонился, написал что-то на листке бумаги и сказал: — Догадайся, что здесь написано, и ты получишь мое благословение.
Хэл взял листок. На нем был написан ряд цифр:
69663717263376833047
Он спросил:
— Криптограмма?
— Можешь считать, что да.
Хэл слегка нахмурился.
— Вы хотите, чтобы я разгадал криптограмму, и если мне это удастся, вы дадите согласие на брак?
— Да.
— А если я не разгадаю, то не дадите?
— Признаюсь, это звучит тривиально, но таково мое условие. Ты всегда можешь жениться и без моего согласия. Дженис совершеннолетняя.
Хэл покачал головой.
— Все-таки я предпочитаю, чтобы вы согласились. Сколько вы мне даете времени?
— Нисколько. Сразу скажи, что это значит. Рассуждай логически.
— Сразу?
Профессор кивнул. Хэл Кемп уселся поудобнее и уставился на ряд цифр на листке.
— Как мне рассуждать — в уме или я могу пользоваться карандашом и бумагой?
— Думай вслух. Я хочу слышать, как ты рассуждаешь. Кто знает, если мне твои рассуждения понравятся, я могу дать согласие, даже если ты не отгадаешь.
— Хорошо, — сказал Хэл. — Это — дело чести. Прежде всего я исхожу из того, что вы честный человек и не стали бы заведомо задавать мне задачу, которую я не в состоянии решить. Следовательно, это криптограмма, которую, как вы считаете, я могу решить, сидя здесь и чуть ли не с ходу. А это значит, что она касается предмета, который я хорошо знаю.
— Звучит разумно, — заметил профессор.
Но Хэл не слушал. Он сосредоточенно продолжал:
— Разумеется, я хорошо знаю алфавит, так что это может быть простой шифр цифры вместо букв. Если это так, то все равно, какая-то хитрость тут должна быть, иначе было бы слишком легко отгадать. Но я не специалист в этих делах, и если я не замечу сразу определенной системы в расположении цифр, которая придает им смысл, то мне не угадать. Я вижу здесь пять шестерок и пять троек, но ни одной пятерки, но это мне ничего не говорит. Так что я отбрасываю вариант с простым шифром и перехожу к нашей специальной области.
Он немного подумал и продолжал:
— Ваша специальность, профессор, — органическая химия, и именно эта область будет и моей специальностью. А для каждого химика цифры сразу же ассоциируются с атомными номерами. Каждый химический элемент имеет свой атомный номер, и на сегодняшний день известно 104 элемента. Так что речь может идти о номерах от 1 до 104. Это, конечно, элементарно, но вы хотели, профессор, слышать, как я рассуждаю, вот я все и выкладываю.
Мы можем сразу отбросить трехзначные атомные номера, так как в них за единицей всегда следует ноль, а в вашей криптограмме есть всего одна единица, и за ней следует семерка. Поскольку всего здесь имеется двадцать знаков, то, во всяком случае, возможно, что речь идет о десяти двузначных атомных номерах. Можно, конечно, предположить, что здесь девять двузначных номеров и два однозначных, но я сомневаюсь в этом. Наличие даже двух однозначных атомных номеров могло бы дать сотни различных комбинаций их расположения в этом ряду, а это, безусловно, сделало бы немедленную или быструю разгадку слишком трудной. Поэтому мне представляется несомненным, что передо мной десять двузначных номеров, и тогда мы можем разбить ряд следующим образом: 69, 66, 37, 17, 26, 33, 76, 83, 30, 47. Сами по себе эти числа как будто ничего не означают, но если это атомные номера, то почему бы не превратить их в названия элементов, которые они представляют? Эти названия могут приобрести смысл. Это не так просто сделать с ходу, потому что я не помню таблицу элементов наизусть по порядку их атомных номеров. Могу я заглянуть в таблицу?
Профессор слушал с интересом.
— Я никуда не заглядывал, когда составлял криптограмму.
— Ну, хорошо, попробуем, — медленно проговорил Хэл. — Некоторые из них очевидны. Я знаю, что 17 — это хлор, 26 — железо, 83 — висмут, 30 — цинк. Что касается 76, то это где-то возле золота, номер которого 79. Значит, платина, осмий или иридий. Будем считать, что это осмий. Два других — это редкоземельные элементы, я всегда их путаю. Постойте, постойте… Так, кажется, все в порядке.
Он быстро написал несколько слов и сказал:
— Десять элементов в вашем ряду — это тулий, диспрозий, рубидий, хлор, железо, мышьяк, осмий, висмут, цинк и серебро. Правильно? Нет, не отвечайте.
Он внимательно всмотрелся в перечень.
— Я не вижу никакой связи между этими элементами, ничего, что дало бы мне нить. В таком случае пойдем дальше и зададимся вопросом: не присуще ли элементам еще что-то, кроме атомного номера, что должно немедленно прийти на ум химику? Очевидно, это химический символ каждого элемента — одна или две буквы, — который становится для любого химика второй натурой. В данном случае это следующие символы. — Он снова принялся писать. — Tm, Dy, Rb, Cl, Fe, As, Os, Bi, Zn, Ag.
Они могли бы образовать слово или фразу, но в данном случае они ничего не означают, не так ли? Значит, здесь что-то похитрее. Что, если взять только первые буквы и составить акростих? Нет, так тоже не получается. Тогда попробуем другой вариант — прочтем вторые буквы обозначений. Выходят слова: «My blessing» («мое благословение»). Я полагаю, это и есть правильное решение, профессор.
— Верно, — сказал профессор Неддринг серьезно. — Ты рассуждал очень логично и точно, и я тебе разрешаю, если в этом есть надобность, сделать предложение моей дочери.
Хэл встал, хотел было уйти, но вернулся.
— Все-таки я не хочу приписывать себе заслугу, которая мне не принадлежит. Возможно, я рассуждал правильно, но я делал это только потому, что хотел, чтобы вы слышали, как логично я рассуждаю. На самом деле я знал ответ еще до того, как начал говорить, так что в определенном смысле я сжульничал, и я должен признать это.
— Да? Каким образом?
— Видите ли, я знаю, что вы обо мне хорошего мнения, и я догадался, что вам хочется, чтобы я угадал, а потому был уверен, что вы хоть слегка намекнете. Когда вы дали мне криптограмму, вы сказали: «Догадайся, что здесь написано, и ты получишь мое благословение». Я угадал, что вы имели это в виду буквально. В словах «My blessing» — десять букв, а вы дали мне двадцать цифр. Так что я сразу разбил их на десять пар.
Я сказал вам, что не знаю наизусть таблицу элементов, и это действительно так. Но тех немногих элементов, которые я помнил, было достаточно, чтобы понять, что из вторых букв символов складываются слова «My blessing». Тогда я подобрал остальные из тех немногих символов, у которых подходящие вторые буквы. Вы по-прежнему согласны?
— Теперь, мой мальчик, — сказал он, — ты действительно заслужил мое благословение. Рассуждать логически должен уметь всякий компетентный ученый. Но большие ученые полагаются еще и на интуицию.
перевод В. Гольдича, И. ОганесовойБильярдный шар
Джеймс Присс — пожалуй, мне бы следовало сказать профессор Джеймс Присс, хотя каждому, наверное, и без этого титула ясно, о каком Приссе идет речь, — всегда говорил медленно.
Это я точно знаю. Мне довольно часто случалось брать у него интервью. Величайший был ум после Эйнштейна, но срабатывал всегда медленно. Присс и сам признавал это. Возможно, дело было в том, что Присс обладал таким гигантским умом, который просто не мог быстро работать.
Бывало, Присс что-нибудь скажет в медлительной рассеянности, затем подумает, затем добавит что-то еще. Даже к самым тривиальным вопросам его огромный ум подступался нерешительно, касался одной стороны проблемы, потом — другой.
«Встанет ли завтра солнце? — представлял я ход его размышлений. — А что мы подразумеваем под словом "встанет"? Можно ли с уверенностью сказать, что "завтра" наступит? Не является ли в этой связи «солнце» понятием двусмысленным?»
Добавьте к его манере речи вежливое выражение лица, довольно бледного, с глазами, взгляд которых не выражал ничего, кроме нерешительности, седые волосы — жидкие, но аккуратно причесанные, деловой костюм всегда старомодного покроя, и вы получите полное представление о профессоре Джеймсе Приссе — человеке, склонном к уединению и совершенно лишенном личного обаяния.
Вот почему никому и в голову не пришло заподозрить его в убийстве. И даже я сам не очень-то уверен. Как бы там ни было, он действительно думал медленно, всегда думал слишком медленно. Можно ли предположить, чтобы в один из критических моментов он вдруг ухитрился подумать быстро и сразу привести мысль в исполнение?
Впрочем, это неважно. Если он и совершил убийство — ему удалось выйти сухим из воды. Теперь уже поздно ворошить это дело, и я бы вряд ли сумел чего-нибудь добиться, даже несмотря на то что решил опубликовать этот рассказ.
Эдвард Блум учился с Приссом на одном курсе и, так уж сложились обстоятельства, постоянно с ним сотрудничал. Они были ровесниками и в равной мере убежденными холостяками, но зато во всем остальном являли собой полную противоположность.
Блум — стремительный, яркий, высокий, широкоплечий, с громовым голосом, дерзкий и самоуверенный. Мысль Блума, как метеор с его внезапностью и неожиданностью полета, била в самую точку, В отличие от Присса Блум не был теоретиком — для этого ему недоставало ни терпения, ни способности сосредоточить напряженную работу ума на изолированной абстрактной проблеме. Он это сам признавал и, даже больше того, похвалялся этим.
Чем он действительно обладал, так это сверхъестественной способностью увидеть возможности практического применения теории. В холодной гранитной глыбе науки он умел увидеть — казалось, без малейшего усилия — сложную схему удивительного изобретения. Глыба распадалась, и оставался шедевр человеческой мысли.
Это всем известно, и не будет преувеличением сказать, что все созданное Блумом всегда работало, патентовалось и приносило прибыль. К тому времени когда ему исполнилось сорок пять лет, он стал одним из богатейших людей в мире.
При всей многогранности талантов Блума-Практика, пожалуй, ярче всего его фантазия воспламенялась идеями Присса-Теоретика. Самые выдающиеся изобретения Блума были построены на величайших откровениях мысли Присса, и, в то время как Блум утопал в богатстве и имел мировую славу, имя Присса пользовалось феноменальным признанием лишь среди его коллег.
И естественно, нужно было ожидать, что, когда Присс создал теорию Двух Полей, Блум немедленно приступил к созданию первой в мире антигравитационной установки.
Мое задание состояло в том, чтобы найти в теории Двух Полей интересное для простых смертных подписчиков «Теле-Ньюс пресс», а этого можно добиться, лишь имея дело с живыми людьми — не с абстрактными теориями. Задача была не из легких, поскольку мне предстояло брать интервью у профессора Присса.
Само собой разумеется, что я собирался задавать вопросы о возможностях применения антигравитации — это интересовало весь мир, — а не о теории Двух Полей, которую никто не мог понять.
— Антигравитация? — Присс поджал свои бледные губы и задумался. — Я не вполне уверен, что это возможно или когда-нибудь окажется возможным. Я еще не… добился окончательного результата, который меня бы удовлетворил. Пока не могу сказать, имеет ли уравнение Двух Полей определенное решение, хотя, несомненно, оно должно было бы его иметь, если бы… — И он погрузился в размышления.
Пришлось слегка кольнуть его.
— Блум заявил, что считает вполне возможным создать антигравитационную установку.
Присс кивнул головой:
— Да, и это очень любопытно. До сих пор Эд Блум проявлял фантастическую способность увидеть далеко не очевидное. У него необыкновенный ум. Вот что сделало его весьма богатым человеком.
Присс принимал меня у себя дома. В таких квартирах живут люди среднего достатка. Я не мог не поглядывать по сторонам. Богатым Присс не был.
Не думаю, чтобы он читал мои мысли. Просто он перехватил мой взгляд. Мне кажется, он и сам подумал о том же.
Богатство редко бывает наградой настоящего ученого. И он об этом не особенно жалеет.
Возможно, так оно и есть, подумал я. Присс имел свою награду — особую. Он третий человек за всю историю, кто получил две Нобелевские премии, и пока единственный, кому удалось их получить за достижения в области науки без соавторов. Ему здесь не на что жаловаться. И хотя он не был богатым, бедным его тоже не назовешь.
Но в голосе Присса не чувствовалось удовлетворения. Возможно, не только потому, что его раздражало богатство Блума; причиной могло быть и то, что слава Блума обошла весь мир, и то, что, куда бы Блум ни приехал, его чествовали повсюду, в то время как Присс вне стен научных конференц-залов и университетских клубов был мало кому известен.
Не знаю, можно ли было прочесть эти мысли в моих глазах или догадаться о них по тому, как я морщил лоб, но только Присс продолжал:
— Однако, как вам, наверно, известно, мы с ним друзья. Раз, а то и два в неделю мы сходимся за бильярдным столом. И каждый раз я его обставляю.
(Это заявление я опустил из текста интервью. На всякий случай я обратился за уточнением к Блуму, который в ответ разразился пространным контрзаявлением, начинавшимся словами: «Иногда он обыгрывает меня в бильярд. Этот старый осел…», и далее Блум совсем перешел на личности. Ни один из них не был новичком в этой игре. Мне как-то довелось присутствовать на одной из их партий — это было после заявления и контрзаявления, — и я могу сказать, что оба они орудовали киями с профессиональным апломбом. Более того, они сражались «насмерть», и во время игры я не заметил и намека на дружеские отношения.)
— Не откажите в любезности сделать предсказание относительного того, удастся ли Блуму создать антигравитационную установку?
— Вы, по-видимому, хотите, чтобы я поставил свое имя на карту? Гм-гм. Ну что ж, давайте подумаем вместе, молодой человек. Только что мы подразумеваем под антигравитацией? Наша концепция гравитации основана на общей теории относительности Эйнштейна, которой вот уже несколько лет, но которая тем не менее в своих пределах остается незыблемой. Для наглядности…
Я вежливо слушал. Мне уже приходилось выслушивать его рассуждения на эту тему, но, если я хотел выудить для себя что-нибудь ценное, нужно было не мешать ему самому пробраться сквозь дебри теории.
— Для наглядности, — сказал он, — представим себе Вселенную в виде абсолютно плоского, не имеющего толщины листа сверхгибкой и сверхпрочной резины. Если определить массу как нечто взаимосвязанное с весом — подобно тому как это имеет место на поверхности Земли, то тогда нужно ожидать, что любая масса, оказавшаяся на листе резины, продавит в нем лунку. Чем больше масса, тем больше будет такая лунка.
В реальной Вселенной, — продолжал он, — бесконечное множество всевозможных масс, и наш резиновый лист, соответственно, должен быть весь испещрен лунками разной глубины. Любой объект, катящийся по нашему листу, на своем пути будет постоянно проваливаться в эти лунки и, выскакивая из них, менять скорость и направление движения. Эти изменения мы можем интерпретировать как демонстрацию существования гравитационных сил. Если путь движущегося объекта проходит достаточно близко от центра лунки, то при достаточно малой скорости объект как бы окажется в ловушке и начнет вращаться в лунке по эллипсу. При отсутствии трения он будет там вращаться вечно. Другими словами, то, что Исаак Ньютон считал силой, Альберт Эйнштейн определил как геометрическое искривление пространства.
Здесь Присс сделал паузу. Он говорил довольно гладко — для себя, пока речь шла о том, что ему уже не раз приходилось объяснять. Но теперь он точно начал продвигаться на ощупь.
— Итак, — сказал он, — пытаясь создать антигравитацию, мы тем самым пытаемся изменить геометрию Вселенной. Или, если вернуться к нашей метафоре, пытаемся разгладить лунки на резиновом листе. Допустим, что нам удалось забраться под некую массу и, подняв ее над собой, удерживать ее в таком положении, чтобы не дать ей выдавить лунку. Если таким образом разгладить наш резиновый лист, будет создана вселенная — или хотя бы часть ее, где гравитация не существует. Катящийся объект на своем пути мимо массы, которая не образует лунки, уже не изменит направления своего движения, и в этом случае мы могли бы сказать, что масса не создает гравитационных сил. Для того чтобы создать антигравитацию на Земле, нам пришлось бы найти массу, равную массе Земли и, так сказать, подвесить эту массу над головой.
Я перебил его:
— Но согласно вашей теории Двух Полей…
— Совершенно верно. Общая теория относительности не дает нам указаний на то, как свести гравитационное и электромагнитное поля к единой системе уравнений. На эту систему, которая позволила бы создать универсальную теорию поля, Эйнштейн потратил полжизни и ничего не добился. Неудача постигла и всех его последователей. Я же начал с предположения, что эти два поля не могут быть сведены в единую систему, и пришел к выводам, которые я и попытаюсь вам объяснить — разумеется, в грубом приближении — с помощью все той же метафорической вселенной.
Наконец, хотя я не был в этом уверен, мы добрались до того, чего мне еще не приходилось слышать.
— Ну и как она будет выглядеть? — спросил я.
— Допустим, что, вместо того чтобы поднимать массу, мы уплотним резину, сделаем ее менее эластичной. Она бы сжалась — во всяком случае, на ограниченном участке — и стала бы ровнее. Гравитационные силы тогда стали бы меньше, и то же самое произошло бы с массой, поскольку в наши модели вселенной и масса и гравитация являются одним и тем же феноменом. Если бы нам удалось разгладить весь резиновый лист, гравитация тотчас бы исчезла вместе с массой.
При определенных условиях электромагнитное поле могло бы противодействовать гравитационному и тем самым вызвать эффект уплотнения ткани вселенной, покрытой лунками. Электромагнитное поле гораздо сильнее гравитационного, и, следовательно, первое могло бы возобладать над вторым.
— Но, как вы сказали, — неуверенно проговорил я, — при определенных условиях. Можно ли создать такие условия?
— А вот этого я как раз и не знаю, — медленно и задумчиво ответил Присс. — Если бы Вселенная действительно была листом резины, ее плотность, чтобы она могла нейтрализовать действие массы, должна выражаться бесконечно большой величиной. И если это справедливо и для реально существующей Вселенной, понадобилось бы электромагнитное поле, напряженность которого также выражается бесконечно большой величиной, а это означало бы, что антигравитация невозможна.
— Но Блум утверждает…
— Да, конечно, я могу себе представить, что утверждает Блум. Он надеется, что достаточно и электромагнитного поля, напряженность которого выражается конечной величиной, если только использовать напряженность должным образом. Но каким бы искренним ни был Блум, — губы Присса дрогнули в легкой усмешке, — его нельзя считать непогрешимым. Он… по окончании колледжа он даже не сумел защитить диплома — вам это известно?
Я было собрался ответить, что мне это известно. Наверное, все знали. Но в голосе Присса прозвучало такое воодушевление, что я взглянул на него и, надо сказать, сделал это вовремя: его глаза светились от восторга, словно он впервые поведал эту новость. И я многозначительно кивнул, как будто собирался приберечь эти ценные сведения на будущее.
— То есть вы хотите сказать, профессор, — я снова поддел его, — что Блум, по-видимому, не прав и создать антигравитацию невозможно?
Помедлив, Присс кивнул и ответил:
— Разумеется, мне представляется возможным ослабить гравитацию, но если под антигравитацией понимать лишь поле с нулевой гравитацией, то есть отсутствие гравитации в любом сколь угодно большом участке пространства, — как я подозреваю, антигравитация, что бы там ни говорил Блум, невозможна.
До некоторой степени это было тем, за чем я пришел.
Месяца три после этого мне не удавалось попасть к Блуму, и, когда я наконец увидел его, он был в скверном настроении. Как только стало известно заявление Присса, Блум пришел в ярость. Он тут же заверил общественность, что непременно пригласит Присса на демонстрацию антигравитационной установки, когда она будет создана, и даже попросит его принять участие в самой демонстрации. Нескольким репортерам — меня, к сожалению, среди них не было — удалось где-то настичь Блума, и они попросили его дать дополнительные разъяснения.
— Я не сомневаюсь, что создам антигравитационную установку, — сказал он. — Может быть, уже скоро. Вы тоже получите возможность там присутствовать, как и любой, кого пресса сочтет нужным прислать. И профессор Джеймс Присс тоже там будет — как представитель теоретической науки, и после демонстрации ему представится удобный случай приспособить теорию для объяснения совершившегося факта. Я уверен, что он это сделает мастерски и убедительно покажет, почему меня совершенно случайно не постигла неудача. Он мог бы заняться этим сейчас, чтобы не терять времени, но, как я полагаю, сейчас он не станет этим заниматься.
Все было сказано достаточно вежливо, но в быстром потоке его слов слышалось рычание.
И тем не менее они с Приссом продолжали время от времени сражаться за бильярдным столом и при встречах оба держались с исключительным достоинством. По их отношению к представителям прессы можно было безошибочно судить о том, насколько успешно продвигалась работа Блума. Он отвечал отрывисто и даже становился раздражительным, в то время как Присс пребывал в прекрасном расположении духа.
Когда в ответ на мои многочисленные просьбы Блум наконец согласился дать интервью, я подумал, что это может означать лишь одно: перелом в настроении Блума. Признаться, я мечтал о том, чтобы он мне первому объявил о своей окончательной победе.
Мои предположения оказались ошибочными. Он принял меня у себя в кабинете при «Блум Энтерпрайзис» на севере штата Нью-Йорк. Это был восхитительный уголок, расположенный достаточно далеко от населенных районов, с культурным ландшафтом, а сами корпуса по занимаемой площади ничуть не уступали промышленному предприятию довольно крупных размеров. Эдисон, даже находясь в зените славы, не добивался таких феноменальных успехов, как Блум.
Но Блум не был в хорошем настроении. Он буквально ворвался в кабинет — с опозданием на десять минут, рыкнул, проходя мимо стола своей секретарши, и едва удостоил меня кивком. Его рабочий пиджак был расстегнут.
Стремительно бросившись в кресло, он сказал:
— Очень сожалею, что заставил вас ждать, но в моем распоряжении оказалось гораздо меньше времени, чем я надеялся.
Блум был прирожденным актером и прекрасно знал, как важно уметь завоевать расположение прессы, но я чувствовал, что в эту минуту ему приходилось делать огромное усилие, чтобы не нарушить свой принцип.
Я высказал очевидное предположение:
— Как я догадываюсь, сэр, ваши последние опыты окончились неудачей?
— Кто вам это сказал?
— Мне кажется, что это общеизвестно, сэр.
— Нет, это не так. Никогда не говорите таких вещей, молодой человек. Не существует общеизвестного, когда речь идет о том, что происходит в моих лабораториях и мастерских. Вы сослались на мнение профессора, не так ли? Я имею в виду профессора Присса.
— Нет, просто я…
— Вы, конечно, вы. Разве не вам одному он заявил, что антигравитация невозможна?
— Его утверждение не было столь категоричным.
— Его утверждения никогда не кажутся категоричными, но для него оно было достаточно категоричным, хотя и не таким гладким, каким я сделаю его проклятый резиновый лист — умру, но сделаю.
— Не означают ли ваши слова, мистер Блум, что вы уже близки к успеху?
— А вы что, не знаете? — в его голосе заклокотала ярость. — Должны были бы сами знать. Разве на прошлой неделе вы не присутствовали на демонстрации моей опытной установки?
— Я присутствовал.
Значит, дела у Блума не слишком хороши — он бы не стал на это ссылаться. Установка работала, но до мировой сенсации было далеко. Ему удалось создать зону пониженной гравитации между полюсами магнита.
Сделано это было очень искусно. Для исследования пространства между полюсами Блум использовал весы Мессбауэра. Если вам никогда не приходилось видеть работу этого прибора, представьте себе интенсивный монохроматичный пучок гамма-лучей, проходящих через поле пониженной гравитации. Под воздействием гравитационного поля частота гамма-излучения изменится — на незначительную величину, но ее можно измерить — и тогда, если каким-либо образом менять напряженность поля, соответственно будет меняться частота. Это чрезвычайно тонкий метод изучения гравитационного поля, и он себя великолепно оправдал. Не осталось никаких сомнений в том, что Блуму удалось уменьшить тяжесть.
Но… все это уже было сделано другими. Правда, Блум придумал схему, которая в высшей степени упростила получение такого эффекта, — его изобретение, как всегда, оказалось гениальным и было должным образом запатентовано, — и утверждал, что с помощью его метода антигравитация из предмета, представляющего чисто научный интерес, станет практическим делом с промышленным применением.
Возможно. Однако работа еще не была завершена, и в таких случаях Блум не имел обыкновения подымать шум. Он бы и теперь не изменил своему правилу, если бы его не подстегнуло заявление Присса.
— Насколько я понял, — сказал я, — вам удалось уменьшить ускорение свободного падения до 0,82 g, что значительно превышает результат, достигнутый прошлой весной в Бразилии.
— И это все? А вы сравните затраты энергии в Бразилии и здесь, у меня, и переведите разницу в уменьшении гравитации на киловатт-час. Вы будете поражены.
— Но ведь все дело в том, чтобы добиться нулевого «g» — нулевого поля тяготения. Вот что профессор Присс считает невозможным. Все согласны, что простое уменьшение напряженности поля не такой уж великий подвиг.
Блум стиснул кулаки. По-видимому, в этот день главный эксперимент окончился неудачей, и Блум был раздосадован сверх всякой меры. Он терпеть не мог, когда ему затыкают рот теорией.
— От этих теоретиков можно рехнуться, — проговорил он. Это было сказано тихим, бесстрастным голосом, точно у Блума вымогали такое признание, пока он наконец не сдался, и теперь ничего не оставалось, как высказаться начистоту, к каким бы последствиям это ни привело. — Присс получил двух Нобелей за возню с несколькими уравнениями, но как он их использовал? Никак! А я уже кое-чего добился с их помощью и добьюсь еще большего, нравится это Приссу или нет. Люди будут помнить меня. И мне достанется слава. А он пусть себе носится со своим чертовым званием профессора, двумя премиями и университетскими почестями. Он мне смертельно завидует, завидует всему, что я получаю за претворение своих замыслов. Он может только мечтать об этом. Как-то я сказал ему — вы знаете, мы с ним играем в бильярд.
Вот тут-то я и процитировал ему заявление Присса по поводу бильярда и сразу же получил контрзаявление Блума. Оба эти заявления я не стал опубликовывать. Ведь это такие мелочи!
— Мы играем в бильярд, — сказал Блум, когда немного поостыл, — и я нередко выигрываю. У нас довольно дружеские отношения. Мы же, черт подери, приятели по колледжу, хотя как нам удалось пройти через все эти муки, ума не приложу. Конечно, в физике и математике Присс был силен, ничего не скажешь, но все гуманитарные предметы, помнится мне, он сдавал по нескольку раз — пока над ним не сжалятся.
— Но ведь в конце концов вы оба защитили диплом, да, мистер Блум?
С моей стороны это была явная провокация. Я наслаждался его неистовством.
— Я забросил защиту, чтобы заняться делом, будь он проклят, этот диплом! В колледже я успевал по второму разряду, причем это был сильный разряд — не думайте! Вы слышите меня? А к тому времени когда Присс получил доктора, я уже трудился над своим вторым миллионом.
— Как бы то ни было, — в голосе Блума явно слышалось раздражение, — мы играем в бильярд, и однажды я сказал ему: «Джим, простым людям никогда не понять, почему вы дважды лауреат Нобелевской премии. Ведь это я добился практических результатов. Так зачем вам нужны обе премии? Отдайте мне одну!» Присс помолчал, натер кий мелом и ответил, как всегда, жеманясь, тихим голосом: «У вас два миллиона, Эд. Отдайте мне один». Как видите, деньги для него важны.
— Я понимаю это так, что и вы не против Нобелевской премии? — спросил я.
Мне показалось, что он прикажет вышвырнуть меня вон, но этого не произошло. Он захохотал, размахивая руками так, словно перед ним стояла доска и он что-то стирал с нее.
— Ну, давайте забудем все, что я сказал. Это придется опустить из интервью. Да, так вам нужно мое заявление? Прекрасно. На сегодня дела обстоят неважно, и я малость вышел из себя, но скоро все прояснится. Мне кажется, я знаю, где ошибка. А если нет — узнаю. Итак, вы можете сказать, что, по моему мнению, электромагнитное поле бесконечно большой напряженности не потребуется. Мы разгладим этот лист резины. Мы добьемся нулевой гравитации. А когда это будет сделано, я устрою демонстрацию — потрясающую, какой еще никто и никогда не видел — исключительно для прессы и для профессора Присса. Вы лично тоже получите приглашение. И можете добавить, ждать осталось недолго. Договорились?
— Договорились!
После этого я встречался с ними еще несколько раз. Мне даже удалось поприсутствовать на их партии в бильярд. Как я уже говорил, оба они были классными игроками.
Но приглашение на демонстрацию еще долго не приходило. Я получил его почти через год но, пожалуй, было бы несправедливо за это упрекать Блума.
Я получил особое приглашение с тиснеными буквами, в программе которого первым пунктом стоял час коктейлей. Блум ничего не делал наполовину, и он собирался полностью расположить к себе всех репортеров. Была также заказана трансляция по стереовидению. Очевидно, Блум не испытывал никаких сомнений: во всяком случае, он был в себе настолько уверен, что отважился на трансляцию эксперимента по всей планете.
Я позвонил профессору Приссу, чтобы удостовериться, что и он получил приглашение. Он его получил. Наступила пауза, лицо профессора на экране видеотелефона выражало мрачную озабоченность.
— Балаган не место для рассмотрения серьезных научных проблем. Я не одобряю этой затеи Блума.
Я опасался, что он намерен отклонить приглашение, а без Присса вся ситуация оказалась бы гораздо менее драматичной. Но затем он, по-видимому, решил, что ему нельзя позволить себе сыграть труса на глазах у всего мира. С явным отвращением он сказал:
— Впрочем, разве можно считать Блума настоящим ученым? Не стоит лишать его праздника. Я приду.
— Считаете ли вы, что мистеру Блуму удалось добиться нулевой гравитации, сэр?
— Гм… Мистер Блум прислал мне копию чертежа своей установки… и я не… вполне уверен… Возможно, ему удалось… гм… если… он говорит, что удалось. Конечно… — последовала долгая пауза. — Я думаю, мне будет очень любопытно увидеть это собственными глазами.
Это было очень любопытно и мне и многим другим.
Постановка была безупречной. Под нее отвели целый этаж главного здания «Блум Энтерпрайзис» — того самого здания, которое стоит на вершине холма. Там были и обещанные коктейли, и восхитительный набор изысканных закусок, и праздничная иллюминация, и приглушенная музыка, а сам Блум — безукоризненно одетый, веселый и даже озорной в меру приличия — являл собой радушного хозяина, в то время как гостей обслуживали вежливые и ненавязчивые лакеи. Это было торжество веселой добросердечности.
Джеймс Присс опаздывал, и я видел, что Блум, то и дело поглядывавший на дверь, начал понемногу мрачнеть. Но тут появился Присс, который точно электромагнит создавал вокруг себя поле бесцветности и уныния, не поддающееся воздействию веселого шума и абсолютного великолепия. (У меня не нашлось более точных слов — их просто невозможно было найти, хотя, впрочем, это могло быть и из-за того, что во мне самом полыхали две порции мартини.)
При виде Присса Блум мгновенно расцвел. Он стрелой промчался через толпу, схватил Присса за руку и буквально поволок его к борту.
— Джим! Рад вас видеть. Что будете пить! Черт, я уже совсем собрался все отложить. Ведь нам не обойтись без вас, звезды первой величины! — Он стиснул руку Присса. — Всеми своими успехами мы обязаны вашей теории. Мы, простые смертные, и шагу ступить не могли бы без вас, совсем немногих, чертовски немногих, которые указывают нам путь.
Блум говорил с энтузиазмом, он источал признательность, потому что теперь он мог себе это позволить. Он возносил Присса до небес.
Присс пытался отказаться от выпивки и что-то пробормотал себе под нос, но в его руку уже втиснули стаканчик, и Блум возвысил свой громовой голос до предела:
— Джентльмены! Минуточку внимания! Я поднимаю тост за профессора Присса, за этот величайший ум со времен Эйнштейна, дважды лауреата Нобелевской премии, создателя теории Двух Полей и вдохновителя эксперимента, который нам сейчас предстоит увидеть, хотя профессор и считал, что установка работать не будет, и имел мужество заявить об этом публично.
На его лице промелькнула усмешка, а Присс стал мрачнее, чем можно себе вообразить.
— Но теперь, когда профессор Присс здесь, с нами, — продолжал Блум, — и мы подняли наш тост, перейдем к делу. Прошу за мной, джентльмены!
Помещение для демонстрации было выбрано еще удачнее, чем в прошлый раз. Лаборатория находилась на последнем этаже. В антигравитационной установке использовались различные магниты — готов поклясться, еще меньших размеров, — и, насколько я мог судить, перед нами были все те же весы Мессбауэра.
Но по крайней мере одна вещь была совершенно новой, и она больше, чем что бы то ни было, притягивала к себе всеобщее внимание. Она потрясла нас всех. Это был бильярдный стол, над которым находился один из полюсов магнита. Другой полюс находился под столом. В самом центре стола было сквозное отверстие диаметром в фут, и, по-видимому, предполагалось, что зона нулевой гравитации, если только она будет создана, пройдет через отверстие.
Несомненно, этот сюрреалистический прием предназначался для того, чтобы подчеркнуть полноту победы над Приссом. Это была еще одна версия их вечной борьбы за бильярдным столом, и Блум собирался выиграть.
Не знаю, правильно ли поняли значение этого символа другие репортеры, но насчет Присса я не сомневался. Я оглянулся и увидел, что он все еще держал стаканчик, который ему насильно вручили. Присс почти никогда не пил, но сейчас он поднес стаканчик к губам и осушил его в два глотка. Затем он уставился на бильярдный шар, и мне не нужно было обладать даром ясновидца, чтобы почувствовать, что он отнесся к этому так, словно Блум щелкнул перед его носом пальцами.
Блум подвел нас к двадцати креслам, которые окружали стол с трех сторон — четвертая должна была служить рабочей площадкой. Присса вежливо усадили на особое кресло, откуда было видно лучше всего. Он бросил быстрый взгляд на стереотелекамеры — они уже работали. По-видимому, у него мелькнула мысль о том, чтобы немедленно встать и уйти, но он тут же взял себя в руки, понимая, что теперь, при полном блеске наведенных на него телеглаз планеты, это невозможно.
В сущности, сам эксперимент был простым, и всех волновал только результат. На видном месте стояли большие диски со шкалой, на которой замерялся расход энергии. Было еще несколько счетчиков, которые преобразовывали показания весов Мессбауэра так, чтобы всем было видно. Блум предусмотрел решительно все для удобства наблюдателей.
Сердечным голосом Блум объяснял каждый свой шаг, изредка делая паузы, при которых он обращался к Приссу за подтверждением, и оно тут же следовало. Блум не делал этого слишком часто, чтобы никто из репортеров не заметил подвоха, но достаточно часто, чтобы Присс чувствовал себя так, словно его не спеша насаживают на вертел. Со своего кресла я отлично видел и то, что происходило на столе, и лицо Присса, который сидел напротив меня.
Он походил на человека, вдруг угодившего в ад.
Всем известно, что Блуму удалось добиться своего. Весы Мессбауэра, по мере того как повышалась напряженность электромагнитного поля, фиксировали постепенное уменьшение тяжести. Когда красная стрелка шагнула за отметку 0,52 g, раздались аплодисменты.
— Если вы помните, — уверенным голосом сказал Блум, — 0,52 g — рекордное достижение предыдущего эксперимента. Но, по сути дела, мы уже превзошли это достижение, если учесть расход энергии, который составляет менее десяти процентов аналогичных затрат предыдущего эксперимента. А теперь мы пойдем дальше.
Блум — я думаю, умышленно, чтобы сделать напряженное ожидание еще более волнующим, — замедлил продвижение стрелки к концу шкалы, и стереотелекамеры заметались в выборе объекта между отверстием в столе и счетчиками, наглядно воспроизводившими показания весов Мессбауэра.
— Джентльмены! В сумке, по правую руку на каждом кресле, вы найдете черные защитные очки. Пожалуйста, наденьте их. Как только будет создана антигравитация, возникнет свечение, сопровождающееся интенсивным ультрафиолетовым излучением.
Он надел очки, и тут же в зале послышалось легкое шуршание: остальные последовали примеру Блума.
Последнюю минуту, пока красная стрелка медленно подбиралась к нулю, все сидели затаив дыхание. Стрелка замерла, и в ту же секунду между полюсами магнита вспыхнул световой цилиндр.
Двадцать человек одновременно перевели дыхание.
— Мистер Блум, чем вызвано свечение?
— Это характерно для нулевой гравитации, — спокойно сказал Блум, что, конечно, не было удовлетворительным ответом.
Репортеры уже вскочили со своих мест и толпились вокруг стола. Блум замахал на них руками.
— Джентльмены, станьте подальше!
И только Присс продолжал сидеть в своем кресле. По-видимому, он полностью ушел в себя, в собственные мысли, и, я совершенно уверен, за черными очками уже таилась возможность того, что произошло потом. Я не видел выражения его глаз. Не мог видеть. Но кому в этот момент было дело до того, что созревало там, за этими очками, в голове Присса? Впрочем, и не будь очков, мы бы все равно не догадались, хотя кто может это знать наверняка?
Блум снова возвысил голос:
— Внимание! Демонстрация еще не кончилась. До сих пор мы только повторяли то, что уже делалось мною раньше. Я доказал возможность получения нулевой гравитации и показал, как это сделать практически. А теперь я хочу продемонстрировать вам одну из возможностей применения нулевой гравитации. То, что мы сейчас увидим, еще никогда и никому — в том числе и мне — не приходилось видеть. Я не проводил экспериментов в этом направлении, как мне того ни хотелось, ибо считал, что честь это сделать по праву принадлежит профессору Приссу.
Присс резко взглянул на него.
— Сделать что? — переспросил он.
— Профессор Присс, — сказал Блум, широко улыбаясь, — я бы хотел, чтобы вы осуществили первый эксперимент, цель которого установить результат взаимодействия твердого тела с антигравитационным полем. Прошу всех обратить внимание на то, где находится зона нулевой гравитации — посреди бильярдного стола. Всему миру, профессор, известно ваше феноменальное мастерство игры в бильярд — талант, который уступает разве что вашим же поразительным способностям в области теоретической физики. Прошу вас пробить шар так, чтобы он пересек зону нулевой гравитации.
И он нетерпеливо протянул профессору кий и шар. Глаза Присса, невидимые под защитными очками, уставились на оба предмета, затем он медленно, очень неуверенно взял их в руки.
Хотел бы я знать, что в этот момент выражали его глаза, И еще, в какой мере решение заставить Присса «сыграть» в бильярд было вызвано обидой Блума, нанесенной ему заявлением Присса — тем самым, которое я уже приводил. И нет ли и моей доли вины в том, что произошло через несколько минут?
— Пожалуйста, профессор, подойдите к столу и уступите мне ваше место. С этой минуты эксперимент проводите вы. Действуйте!
Блум сел в кресло, но продолжал говорить, и голос его с каждым мгновением все больше походил на орган.
— Как только бильярдный шар попадет в зону нулевой гравитации, он тотчас окажется вне действия гравитационного поля Земли. Он останется неподвижным, в то время как Земля продолжит свое вращение вокруг оси и вокруг Солнца. На нашей широте в это время суток — мною проделаны соответствующие расчеты — Земля, если можно так выразиться, уйдет вниз из-под шара. Мы будем двигаться вместе с Землей, шар останется в той же точке пространства. Нам покажется, что шар подскочит вверх. Внимание!
Присс застыл перед столом, словно его вдруг парализовало. Было это изумление? Или восторг? Не знаю. И не узнаю никогда. Сделал ли он движение, чтобы наконец прервать разглагольствования Блума, или он просто страдал от мучительного нежелания играть позорную роль в игре, которую ему навязал соперник?
Присс повернулся к бильярдному столу, посмотрел на шар, затем оглянулся на Блума. Все репортеры столпились вокруг — близко, как только могли, чтобы получше все разглядеть. И лишь один Блум сидел в кресле — с непричастным видом улыбаясь. Он, конечно, не следил ни за столом, ни за шаром, ни за зоной нулевой гравитации. Насколько я мог видеть — с поправкой на очки — он следил за Приссом.
Присс снова повернулся к столу и поставил шар на сукно. В этом спектакле ему предстояло поднять занавес перед последним действием, которое принесет окончательный и драматический триумф Блуму, а его, Присса, человека, который утверждал, что это невозможно, сделает посмешищем на веки веков.
Наверное, он почувствовал, что у него нет никакого выхода. А может быть…
Уверенным ударом он привел шар в движение. Шар катился не быстро, и все следили за ним не отрываясь. Он ударился о борт и срикошетировал. Теперь шар катился еще медленнее, словно Присс умышленно драматизировал ситуацию, чтобы сделать триумф Блума еще блистательнее.
Мне было все отлично видно: я стоял у самого края стола, почти рядом с Приссом. Я видел, как шар приближался к светящемуся столбику воздуха, и видел сидевшего Блума, вернее, то, что проглядывало за световым цилиндром.
Шар достиг границы зоны нулевой гравитации, на какое-то мгновение повис над краем отверстия в столе и исчез с ослепительной вспышкой и ужасающим грохотом, оставив после себя неожиданный запах жженой тряпки.
Мы завопили. Мы все завопили.
Потом вместе со всем миром я видел эту сцену на экране стереовидения. Я видел себя в фильме, запечатлевшем эти пятнадцать секунд всеобщего замешательства, и не мог узнать своего лица.
Пятнадцать секунд!
Затем мы вспомнили о Блуме. Он по-прежнему сидел в кресле, скрестив руки, но в его туловище была дыра размером с бильярдный шар: пробив лежавшую на груди руку, шар прошел навылет. Большая часть сердца, как было установлено при вскрытии, оказалась выбитой и притом совершенно аккуратным кружком.
Выключили установку. Вызвали полицию. Унесли Присса, который находился в состоянии коллапса. По правде говоря, я и сам был ненамного лучше, и, если кто-нибудь из присутствовавших репортеров будет говорить, что он оставался хладнокровным наблюдателем, знайте, что он просто хладнокровный лгун.
Я встретился с Приссом лишь спустя несколько месяцев. Он слегка похудел, но выглядел вполне хорошо. На лице Присса играл румянец, и во всем его облике появилась решительность. Так роскошно одетым я его еще никогда не видел.
— Теперь-то мне понятно, что произошло, — сказал он. — Будь у меня там время подумать, я бы и тогда все знал. Но я тугодум, а бедному Эду так не терпелось поскорее устроить этот спектакль, да еще он его так хорошо поставил, что увлек и меня за собой. Я, конечно, всячески стараюсь возместить часть того ущерба, невольным виновником которого я стал.
— Но вам не вернуть Блума к жизни, — бесстрастно сказал я.
— Конечно, нет, — ответил он не менее бесстрастно. — Но ведь надо позаботиться и о «Блум Энтерпрайзис». То, что произошло во время демонстрации на глазах у всего мира, — самая скверная реклама нулевой гравитации, и мне представляется крайне важным внести полную ясность в эту историю. Вот почему я и пригласил вас.
— К вашим услугам, сэр.
— Не будь я тугодумом, я бы и тогда сообразил, что Блум нес чистый вздор, когда говорил о том, как шар поднимается в зоне нулевой гравитации. Этого не могло быть. Если бы Блум так не презирал теорию и не бахвалился своим невежеством, он бы и сам это прекрасно знал.
Движение земли, — продолжал Присс, — далеко не единственное движение, имеющее отношение к такому эксперименту, молодой человек. Солнце само движется по гигантской орбите вокруг центра Млечного Пути. И наша Галактика тоже движется по пока еще не установленной траектории. Помещая шар в зону нулевой гравитации, нужно было учитывать, что на шар не будет влиять ни одно из этих движений и что, следовательно, он внезапно окажется в состоянии абсолютного покоя — в то время как абсолютного покоя не существует. — Присс медленно покачал головой. — Беда Блума, как мне кажется, была в том, что он думал о невесомости, которая существует в космическом корабле, когда космонавт парит в кабине. Потому-то Блум и ожидал, что шар поплывет в воздухе. Но ведь на космическом корабле нулевая гравитация вовсе не означает отсутствия гравитации — это всего лишь результат взаимодействия двух объектов: корабля и находящегося в нем человека, у которых одна и та же скорость свободного падения, соответствующая гравитационному полю Земли, так что и корабль и человек неподвижны по отношению друг к другу.
В случае же нулевой гравитации, которой удалось достичь Блуму, произошло полное разглаживание резинового листа вселенной на данном участке, что означает исчезновение массы. Все, что бы ни оказалось в этом поле, включая и захваченные им молекулы воздуха, и бильярдный шар, который я загнал в него, мгновенно утрачивает массу. Объект, не имеющий массы, может обладать лишь одним движением. — Присс сделал паузу, как бы приглашая задать ему вопрос.
— Что же это за движение, профессор?
— Движение со скоростью света, — ответил он. — Любой объект, не имеющий массы, как, например, нейтрино или фотон, будет двигаться со скоростью света до тех пор, пока он существует. И действительно, свет движется с такой скоростью только потому, что он состоит из фотонов. Едва бильярдный шар оказался в зоне нулевой гравитации, он тут же исчез со скоростью света.
— Но разве шар не должен был снова обрести свою массу сразу же, как только он окажется за пределами зоны нулевой гравитации?
— Конечно, так и случилось, он сразу оказался подверженным действию гравитации и начал терять скорость из-за трения о поверхность бильярдного стола. Но попробуйте себе представить, какой огромной должна быть сила трения, чтобы затормозить объект с массой бильярдного шара, несущийся со скоростью света. В тысячную долю секунды шар прошел сквозь толщу атмосферы в сотни миль, и я сомневаюсь, чтобы при этом его скорость уменьшилась более чем на несколько миль в секунду — всего лишь на несколько из 186 282 миль. Пронесясь через бильярдный стол, шар легко пробил борт, пронзил бедного Эда и вылетел в закрытое окно, оставив на стекле аккуратный кружок, потому что за столь ничтожное время соседние частицы стекла не могли прийти в движение.
К счастью, мы находились на верхнем этаже здания да еще в ненаселенном районе. Если бы мы были в городе, шар пробил бы множество зданий и мог убить уйму людей. В настоящий момент этот шар — в космосе, далеко за пределами Солнечной системы, и он будет продолжать свое движение почти со скоростью света до тех пор, пока не встретит на своем пути препятствие — достаточно большое, чтобы остановить его. И тогда произойдет ужасающий взрыв, который оставит после себя гигантский кратер.
Я поиграл своим воображением и не могу сказать, чтобы это мне понравилось.
— Но как это может быть? — спросил я. — Бильярдный шар, когда он подкатился к полю нулевой гравитации, уже почти совсем останавливался. Я это видел сам. А вы утверждаете, что он исчез, неся в себе невероятный запас кинетической энергии. Откуда же она взялась?
Присс пожал плечами:
— Да ниоткуда! Закон сохранения энергии остается в силе только в границах применимости общей теории относительности, то есть на резиновом листе, покрытом лунками. Где бы нам ни удалось разгладить лист, теория относительности теряет смысл, и тогда можно как создавать, так и уничтожать энергию. Этим и объясняется радиация вдоль цилиндрической поверхности зоны нулевой гравитации. Причину радиации, как вы помните, Блум не объяснил, и боюсь, что это ему было не под силу. Если бы он сперва сам поставил этот эксперимент, он бы не только не проявил столь глупую беспечность с устройством спектакля…
— Чем же вызывается эта радиация, сэр?
— Молекулами воздуха, оказавшимися в поле. Каждая из них мгновенно обретает скорость света и уносится прочь. Но ведь это всего лишь молекулы — не бильярдные шары, и они останавливаются сопротивлением воздуха, а их кинетическая энергия превращается в радиацию. Радиация не прекращается ни на одно мгновение, потому что в любой бесконечно малый отрезок времени в зону нулевой гравитации попадают все новые молекулы и, обретя скорость света, превращаются в свечение.
— Значит, энергия создается непрерывно?
— Совершенно верно. Именно это и необходимо разъяснить широкой публике. В первую очередь антигравитационная установка не аппарат для запуска космических кораблей и не революция в механике. Скорее это источник бесконечного запаса свободной энергии, поскольку часть произведенной энергии можно использовать для поддержания поля, которое сохраняет плоским данный участок Вселенной. Сам того не зная, Эд Блум построил не только антигравитационную установку, но и первый успешно работающий вечный двигатель первого рода — тот, который создает энергию из ничего.
— Этот бильярдный шар мог убить любого из нас? — спросил я. — Я вас правильно понял, профессор? Он, по-видимому, мог избрать любое направление?
— Что касается не имеющих массы фотонов, испускаемых каким-либо источником света, то они действительно разлетаются в произвольных направлениях, — вот почему свеча посылает свет во всех направлениях. Лишившиеся массы молекулы воздуха тоже разлетаются из зоны нулевой гравитации во всех направлениях, чем и объясняется радиация сплошной цилиндрической формы. Но бильярдный шар — один. Он мог бы двинуться в любом направлении, но он должен выбрать какое-то одно-единственное направление, случайное, и вот на этом-то случайном пути и оказался Эд.
Вот как это было. Все знают, что произошло потом. Генеральным директором «Блум Энтерпрайзис» был избран Присс, и в скором времени он стал таким же богатым и знаменитым, каким когда-то был Блум. И сверх того, у Присса было две Нобелевские премии.
Только…
Я продолжаю размышлять над тем, что сказал Присс. Фотоны, испускаемые источником света, разлетаются во всех направлениях, потому что они возникают случайно и для них, так сказать, нет больше причины избрать одно направление, а не другое. Молекулы воздуха разлетаются из зоны нулевой гравитации тоже во всех направлениях, поскольку они и попадают в него со всевозможных направлений.
Но как должен себя повести бильярдный шар, который попадает в зону нулевой гравитации, двигаясь по определенной траектории? Сохранит ли он направление своего движения или оно изменится?
Я весьма осторожно задавал такие вопросы, но физики-теоретики, по-видимому, и сами не имеют уверенности на этот счет. Не удалось мне и найти каких-либо сведений о том, чтобы «Блум Энтерпрайзис» — единственное на Земле учреждение, которое занимается исследованиями нулевой гравитации, проводило подобные эксперименты. Кто-то из этого учреждения сказал мне, что принцип неопределенности гарантирует случайность направления вылета для любого объекта, попавшего в зону по любой траектории. Но тогда почему бы им не поставить такой эксперимент?
А что, если…
А что, если один раз в жизни мозг Присса сработал быстро? Не могло ли так случиться, что уже совсем было загнанного в угол Присса вдруг осенило? Он сосредоточил свое внимание на свечении, окружавшем зону нулевой гравитации. Он мог догадаться о причине радиации и сообразить, что любой предмет, попавший в эту зону, мгновенно обретет скорость света.
Но тогда почему же он ничего не сказал?
Одно для меня несомненно. Ничто из того, что делал Присс за бильярдным столом, не могло быть случайным. Он специалист в этой игре, и бильярдный шар мог повести себя только так, как пожелает Присс. Я стоял рядом. Я видел, как он быстро взглянул на Блума, а потом на стол, словно прикидывая нужный угол.
Я следил за тем, как он пробил шар. Я видел, как шар отскочил от борта и вошел в зону нулевой гравитации, двигаясь по заданному направлению.
Потому что, когда пробитый Приссом шар катился к зоне нулевой гравитации — телевизионный стереофильм только лишний раз убедил меня в этом, — он был нацелен в самое сердце Блума!
Несчастный случай? Совпадение?
…Убийство?
перевод В. ТельниковаСекрет бронзовой комнаты
— Ну же, смелее, — довольно вежливо для демона произнес Шапур. — Ты только понапрасну тратишь мое время. Да и свое, пожалуй, тоже, поскольку тебе осталось лишь полчаса. — И его хвост дернулся.
— Это не дематериализация? — задумчиво спросил Исидор Уэлби.
— Я уже говорил, что нет, — ответил Шапур.
— В который раз Уэлби окинул взглядом монолитную бронзу, окружавшую его со всех сторон. Демон испытал поистине дьявольское наслаждение (да и какое еще ему испытывать?), демонстрируя безупречно гладкую поверхность пола, потолка и четырех стен, состоявших из массивных бронзовых плит двухфутовой толщины, скрепленных между собой без единого признака сварных швов. Уэлби находился в абсолютно замкнутом пространстве. В его распоряжении оставалось только полчаса и ни минутой больше, в то время как демон в нетерпеливом ожидании наблюдал за ним.
Исидор Уэлби подписался ровно за десять лет до настоящих событий (день в день, разумеется).
— Мы платим тебе авансом, — убеждал его демон. — В течение десяти лет у тебя будет все, что пожелаешь, — в разумных пределах, конечно, — а затем ты становишься демоном. Одним из нас. Ты получишь новое имя, означающее демоническую мощь, и, кроме того, множество других привилегий. Тебе едва ли даже будут известны те муки ада, на какие обречены проклятые души. Ну а если ты не распишешься, то не исключено, что естественный ход твоей жизни все равно приведет тебя к адскому огню. Никогда не знаешь, что случится завтра… Взять хотя бы меня. Дела мои не так уж плохи. Я подписался, прожил свои десять лет и — вот он я. Совсем неплохо.
— Тогда почему тебя волнует, поставлю я свою подпись или нет, если мне, похоже, все равно не избежать мук ада? — спросил Уэлби.
— Не очень-то легко вербовать новых сотрудников в штат ада, — признался демон, пожимая плечами. От этого движения слабый запах сернистого ангидрида в воздухе чуть усилился. — Каждому хочется попасть в число счастливчиков, выигравших место в раю. Шансов на выигрыш почти никаких, но люди все равно продолжают ставить на него. Мне кажется, что ты слишком благоразумен для такой игры. А между тем осужденных душ у нас больше, нежели идей, что с ними делать, и все острее ощущается нехватка административных кадров.
Уэлби, только что оставивший службу в армии и обнаруживший, что она ничего ему не дала, кроме хромоты и прощального письма от девушки, которую почему-то все еще любил, уколол палец и подписался.
Сначала он, конечно, ознакомился с коротким текстом договора. Подписание этого документа кровью означало, что ему, Исидору Уэлби, отныне передавалась определенная часть демонической власти. В документе подробно не раскрывалось, как обращаться с данными ему сверхъестественными силами, о механизме действия которых также многое умалчивалось. Но все его желания, тем не менее, исполнялись бы таким образом, что их воплощение в реальность казалось бы вполне обычным делом и ни у кого не вызывало бы подозрений.
Правда, ни одно желание, которое шло бы вразрез с высшими целями и замыслами относительно развития человеческой истории, осуществиться бы не смогло.
При чтении этого пункта Уэлби поднял брови.
Шапур кашлянул.
— Мера предосторожности, навязанная нам… э-э… свыше. Ты здраво мыслишь. Эти ограничения не послужат тебе помехой.
— Тут, кажется, есть и каверзное условие, — проговорил Уэлби.
— Да, что-то в этом роде. В конце концов, нам ведь надо проверить твое соответствие будущей должности. Как видишь, условие заключается в том, что по прошествии десяти лет тебя попросят выполнить для нас какое-либо задание. Твоя демоническая сила поможет тебе легко справиться с ним. Сейчас мы не можем раскрыть тебе суть задания, но у тебя в запасе будет целых десять лет, чтобы изучить сущность демонической силы, заключенной в тебе. Смотри на все это как на вступительный тест.
— А если я не пройду его, что тогда?
— В таком случае, — сказал демон, — по окончании теста ты станешь всего лишь обычной осужденной душой. — Он был демоном, и потому при одной мысли об осужденной душе в его глазах блеснул дымящийся огонь, а когтистые пальцы конвульсивно задергались, словно он чувствовал, как они уже глубоко вонзились в человеческую плоть. Но он только учтиво добавил: — Давай же, подписывай — тест будет простым. Нам бы хотелось видеть тебя в руководящих кадрах, нежели получить еще одного безработного подсобника.
Уэлби, полного грустных раздумий о своей недосягаемой любимой, мало беспокоило, что произойдет через десять лет. И он подписался.
Однако десять лет пролетели довольно быстро. Исидор Уэлби никогда не терял трезвости мышления, как и предсказывал демон, и дела его шли в гору. Уэлби поступил на работу, и, поскольку всегда оказывался в нужном месте в нужное время и всегда говорил о нужном с нужным человеком, его быстро продвинули по службе наверх, где он занял весьма высокий пост. Капиталовложения, которые он делал, неизменно окупались. Его девушка, исполненная самого искреннего раскаяния и горячо обожающая его, вернулась к нему, что послужило причиной еще большей радости.
Его брак оказался счастливым и был благословлен четырьмя детьми — двумя мальчиками и двумя девочками, смышлеными и довольно хорошо воспитанными. На исходе десяти лет Уэлби достиг вершины власти, славы и богатства, а что касается его жены, то с возрастом она становилась все прекрасней.
И вот десять лет спустя после подписания договора (день в день, разумеется) он проснулся и увидел, что находится не в своей спальне, а в какой-то ужасной бронзовой комнате, страшной своей монолитностью, и рядом нет никого, кроме сгоравшего от нетерпения демона.
— Тебе нужно только выйти отсюда, и ты станешь одним из нас, — сказал Шапур. — Если ход твоих мыслей будет логичен и правилен, то задание можно выполнить с помощью твоей демонической силы. Но при одном условии: ты должен точно знать, что именно ты предпринимаешь. Сейчас тебе бы уже следовало это знать.
— Моя жена и дети будут очень встревожены моим исчезновением, — произнес Уэлби, начиная раскаиваться.
— Они увидят твой труп, — утешил его демон. — Ты будешь выглядеть так, будто умер от сердечного приступа. Тебе устроят великолепные похороны, а священник предаст тебя в руки Господни. Мы же, со своей стороны, не будем разрушать иллюзий ни его самого, ни тех, кто внимает ему. Ну давай, Уэлби, времени тебе осталось только до полудня.
В течение десяти лет Уэлби безотчетно готовился к этому моменту, и сейчас паническое чувство овладело им в гораздо меньшей степени, чём можно было бы предположить для подобной ситуации. Уэлби обвел помещение оценивающим взглядом.
— Эта комната изолирована полностью? И никаких потайных отверстий?
— Ни в стенах, ни в полу, ни в потолке нет никаких отверстий, — с профессиональной гордостью ответил демон, испытывая явное удовольствие от проделанной работы. — То же самое касается и стыков между ними. Ты сдаешься?
— Нет, нет. Дай мне время подумать.
Уэлби погрузился в размышления. В комнате, казалось, совсем не чувствовалось духоты. Скорее наоборот: Уэлби не покидало ощущение движущегося потока воздуха. Возможно, воздух проникал сквозь стены путем дематериализации. Тем же путем, видимо, сюда вошел и демон. Значит, есть шансы на то, что Уэлби и сам сможет воспользоваться дематериализацией, чтобы выйти отсюда. Он спросил об этом.
Демон ухмыльнулся:
— Дематериализация нам не подвластна. Я вошел в комнату, не дематериализуясь.
— Ты так уверен в этом?
— Комната — мое собственное творение, — самодовольно проговорил демон, — и сконструирована специально для тебя.
— И ты вошел с наружной стороны?
— Ну да.
— С помощью такой же демонической силы, какой обладаю и я?
— Совершенно верно. Ладно, давай уточним. Ты не можешь перемещаться сквозь материю, но зато можешь двигаться в любом измерении с помощью простого усилия воли. Можно перемещаться вверх, вниз, направо, налево, под углом и так далее, но сквозь материю — ничего не выйдет.
Уэлби снова задумался, а Шапур продолжал демонстрировать исключительно непоколебимую прочность массивных бронзовых стен, пола и потолка; их цельность, доведенную до абсолюта.
Уэлби ничуть не сомневался в том, что Шапур — какой бы ни была его убежденность в необходимости вербовки новых сотрудников администрации — едва сдерживал в себе порывы дьявольского восторга по поводу возможного обладания обычной осужденной душой, которой он всласть позабавится.
— У меня, по крайней мере, — в жалкой попытке пофилософствовать произнес Уэлби, — будет о чем вспоминать — о моих десяти счастливых годах. Это несомненно послужит утешением даже для души, обреченной на все муки ада.
— Вовсе нет, — возразил демон. — Ад не был бы адом, если бы вам позволили иметь при себе утешение. Все, приобретенное вами на Земле по договору с дьяволом — как и в случае с тобой (или со мной, если на то пошло), — это как раз то, что можно было бы получить и без заключения такого договора. Если, конечно, усердно работать и полностью уповать на… э-э… Небо. Именно это обстоятельство и придает подобным сделкам поистине демонический характер. — И демон радостно захохотал.
— То есть, по-твоему, выходит, что моя жена вернулась бы ко мне, даже если бы я никогда не подписывал твой контракт? — возмутился Уэлби.
— Вполне возможно, — сказал Шапур. — Все происходит по воле… э-э… Неба, знаешь ли. А сами мы даже не пытаемся что-либо изменить.
Потрясение, которое пережил Уэлби в тот момент, очевидно, усилило его способность соображать, потому что в следующий момент он исчез. Бронзовая комната опустела, если не считать изумленного демона. Изумление сменилось безудержной яростью, когда взгляд демона упал на контракт с Уэлби, который Шапур вплоть до сего момента держал в руке, приготовившись к финальному действию по завладению человеческой душой. В любом случае.
Прошло десять лет (день в день, разумеется) с тех пор, как Исидор Уэлби подписал свой договор с Шапуром. В кабинет Уэлби вошел разъяренный демон.
— Послушай… — начал он свирепо.
Уэлби оторвался от работы и удивленно взглянул на посетителя:
— Кто вы?
— Ты прекрасно знаешь, кто я такой, — ответил Шапур.
— Вовсе нет, — возразил Уэлби.
Демон пристально посмотрел на человека:
— Вижу, что ты говоришь правду, вот только не могу разобраться с подробностями. — Он тут же начинил мозг Уэлби событиями последних десяти лет.
— О да, — произнес Уэлби. — Я, конечно же, могу все объяснить, но ты уверен, что нам не помешают?
— Не помешают, — с мрачной решимостью заверил его демон.
— Я сидел в той закрытой со всех сторон бронзовой комнате, — начал Уэлби, — и…
— Это неважно, — вспылил демон. — Я хочу знать…
— Позволь мне, пожалуйста, рассказать все по-своему.
Демон захлопнул челюсти. От него стал распространяться едкий запах сернистого ангидрида, и Уэлби раскашлялся. Вид у него при этом был страдальческий.
— Ты не мог бы чуть отодвинуться? Благодарю… Итак, я сидел в той закрытой со всех сторон бронзовой комнате и вдруг вспомнил, как ты все время твердил об абсолютной цельности четырех стен, пола и потолка. Я тогда спросил себя: почему ты специально упоминал об этом? Что еще было там, помимо стен, пола и потолка? Ты обрисовал вполне узнаваемое трехмерное пространство.
Да, именно так: трехмерное. Комната не была замкнута в четвертом измерении. Существование ее в прошлом было не беспредельно. Ты признался, что создал ее специально для меня. Значит, если отправиться в прошлое, то в результате можно очутиться в той временной точке, в которой комнаты еще не было, и таким образом оказаться за ее пределами.
Более того, по твоим словам, я обладал способностью перемещаться в любом измерении, а время, несомненно, можно рассматривать как одно из измерений. Во всяком случае, как только я решил двигаться по направлению к прошлому, то тут же попал в мчащийся с огромной скоростью поток событий своей жизни, повернутой вспять, и… внезапно обнаружил, что вокруг меня и в помине нет никакой бронзы.
— Как я не догадался о подобном исходе? — вскричал демон с мукой в голосе. — Другим путем ты и не смог бы ускользнуть. Что меня волнует — так это твой контракт. Раз уж ты не попадаешь в разряд обычных осужденных душ — что ж, прекрасно. Это входит в условия игры. Но ты должен стать, по меньшей мере, одним из нас, одним из сотрудников администрации. Тебе заплатили именно за это, и если я не доставлю тебя в преисподнюю, у меня будут крупные неприятности.
Уэлби пожал плечами:
— Я тебе сочувствую, конечно, но ничем помочь не могу. Ты, должно быть, смастерил ту бронзовую комнату сразу же после того, как я поставил свою подпись на документе, потому что момент моего освобождения из комнаты совпал с той временной точкой, в которой я заключал с тобой сделку. В тот момент прошлого я снова увидел тебя. И себя тоже. Ты подталкивал ко мне контракт, а с ним и иглу, которой я мог бы уколоть палец. Конечно, когда я переместился назад во времени, то уготованное мне будущее изгладилось из моей памяти, но, видимо, не совсем. Когда ты подтолкнул ко мне контракт, мне стало не по себе. Поэтому я не подписал его. Я наотрез отказался это делать.
Шапур заскрежетал зубами.
— Как же я не сообразил? Если бы вероятностные модели влияли на демонов, я бы с удовольствием переместился вместе с тобой в этот новый условный мир. Однако все, что я могу тебе сказать, — это то, что ты потерял те десять счастливых лет, которые получил от нас в качестве платы. Это меня утешает. А еще утешает то, что мы тебя все равно заполучим после твоей смерти.
— Да ну, брось, — сказал Уэлби. — Разве в аду позволительно иметь утешение? Хотя в течение десяти лет, которые я к настоящему моменту уже прожил, я ничего не знал о том, что мог бы приобрести. Но сейчас, когда ты вложил в мою голову память о тех десяти годах, которые могли бы быть, я припоминаю, как ты говорил мне в той бронзовой комнате, что демонические соглашения не могут дать больше того, что можно приобрести усердным трудом и упованием на Небо. Я трудился усердно, и я уповал.
Уэлби посмотрел на фотографию своей прекрасной жены и четверых прекрасных детей, затем окинул взглядом со вкусом подобранную роскошную обстановку своего кабинета.
— И я, возможно, сумею даже избежать ада. Тут ты тоже ничего не поделаешь — не в твоей это власти.
И демон с ужасным воплем исчез навсегда.
перевод И. ЗивьевойБуква закона
Ни у кого не возникало сомнения в том, что Монти Стайн с помощью хитроумного обмана действительно прикарманил более ста тысяч долларов. Никто не сомневался также, что в один прекрасный день его задержат, несмотря на то что срок давности уже истек.
Процесс «Штат Нью-Йорк против Монтгомери Харлоу Стайна» наделал шума и стал прямо-таки эпохальным ввиду способа, с помощью которого Стайн избежал ареста до истечения срока давности. Ведь решение судьи распространило действие закона о сроках давности на четвертое измерение.
Дело, видите ли, в том, что после совершения мошенничества, в результате которого Стайн положил в карман сто с лишним тысяч, он преспокойно вошел в машину времени, которой владел незаконно, и перевел рычаги управления на семь лет и один день вперед.
Адвокат Стайна рассуждал так: исчезновение во времени принципиально не отличается от исчезновения в пространстве. Коль скоро представители закона не сумели обнаружить Стайна на протяжении семи лет, значит, им не повезло.
Окружной прокурор в свою очередь указал, что закон о сроке давности при всем желании не может быть применен к данному преступлению. Это была гуманная мера, направленная на то, чтобы избавить обвиняемого от неопределенно долгого периода боязни быть арестованным. Испытываемый в течение определенного времени страх быть задержанным сам по себе считается достаточным, так сказать, наказанием. Однако, настаивал окружной прокурор, Стайн вовсе не пережил какого-либо периода страха.
Адвокат Стайна стоял на своем. В законе не были определены размеры наказания в виде страха и страданий преступника. Закон просто устанавливал срок давности.
Окружной прокурор сказал, что Стайн фактически не жил в течение срока давности.
Защита утверждала, что по сравнению с моментом совершения преступления Стайн состарился на семь лет и потому реально жил в течение срока давности.
Окружной прокурор опротестовал это заявление, так что защите пришлось представить свидетельство о рождении Стайна. Он родился в две тысячи девятьсот семьдесят третьем году. В момент совершения преступления, а именно: в три тысячи четвертом году, ему был тридцать один год. Сейчас, в три тысячи одиннадцатом году, Стайну было тридцать восемь лет.
Окружной прокурор просто вышел из себя и завопил, что с точки зрения физиологии Стайну не тридцать восемь лет, а тридцать один год.
Зашита ледяным тоном указала на то, что, когда индивидуум считается умственно дееспособным, закон признает единственный хронологический возраст, который может быть установлен лишь путем вычитания даты рождения из нынешней даты.
Окружной прокурор, теряя терпение, заявил, что если Стайн выйдет из этого процесса безнаказанным, то половина законов в различных кодексах потеряет свою силу.
В таком случае измените законы, посоветовала защита, чтобы они учитывали возможность перемещения во времени, но пока законы не изменены, пусть применяются в том виде, в каком существуют.
Судье Невиллу Престону понадобилась целая неделя, чтобы разобраться в этом деле, а затем он объявил о своем решении. Это был поворотный пункт в истории юриспруденции, поэтому немного жаль, что некоторые подозревают, будто на ход рассуждений судьи Престона повлияло то обстоятельство, что у него было непреодолимое желание сформулировать свое решение именно так, как он это сделал.
Ибо решение в полном виде звучало так: «Стайн затаился, во времени укрылся — и это его спасло».
перевод А. МельниковаЯ в марспорте без Хильды
Сначала все шло просто сказочно. Без всяких усилий, само собою. Вообще без моего участия. Я и пальцем не шевельнул удача сама плыла в руки. Тут-то я и должен был почуять, что добром это не кончится!
Был первый день моего отпуска. Месяц работы — месяц отдыха: все как положено в Галактической Безопасности. И этот месяц отдыха как всегда начинался тремя днями в Марсопорте. А уж потом была Земля.
Обычно Хильда (благослови ее бог, она лучшая из всех жен на свете) уже дожидалась меня, и мы славно проводили время, такая миленькая маленькая прелюдия к отпуску. Все дело лишь в том, что Марсопорт — самое буйное местечко во всей Системе, и для миленькой маленькой прелюдии не совсем подходит. Только как втолковать это Хильде?
На этот раз моя теща (боже, если уж без этого никак не обойтись, благослови и ее) заболела за пару дней до моего прилета на Марс, и в ночь перед посадкой я получил от Хильды космограмму, что она останется на Земле подле своей мамочки и меня не встретит.
Я послал ответ, полный сожалений, любви и озабоченности здоровьем ее обожаемой мамаши, а когда спустился с трапа, оказался…
Я ОКАЗАЛСЯ В МАРСОПОРТЕ БЕЗ ХИЛЬДЫ!
Это еще не все, как вы понимаете. Что-то вроде рамы без картины или женского скелета. В раму просятся линии и краски, на скелет — соблазнительная плоть.
И тогда я решил позвонить Флоре — той самой Флоре, о которой у меня сохранилось несколько замечательных воспоминаний.
Решил — и рванул к ближайшему видеофону (к чертям экономию, полный вперед!)
Я прикинул шансы. Десять против одного, что ее не окажется дома, что она занята и отключила аппарат или что она, скажем, вообще умерла.
Но видеофон был включен, она была дома и — о, Великая Галактика! — до того жива, что дух захватывало.
Она была бесподобна. Ни время, ни привычка над дивной новизной ее не властны, как кто-то когда-то сказал.
Уж не знаю, искренним ли был ее восторг, но, увидев меня, она так и взвизгнула:
— Макс! Сколько лет!
— Много, Флора, много. Но это я, и у меня вопрос — к тебе можно? Я в Марсопорте… и, представь себе, без Хильды!
— Вот это да! Приезжай!
Я ошалело вытаращился на экран. Это уж слишком. Понимаете, Флора пользовалась сногсшибательным успехом и всегда была занята.
— Ты что… свободна?
— Ну, намечалось тут у меня кое-что. Но, Макс, я все улажу, давай ко мне!
— Еду! — отозвался я с чувством.
Флора — это такая девушка… К тому же у нее в квартире марсианская гравитация 0,4 земной. Аппаратура для нейтрализации марсопортского псевдогравитационного поля, конечно, штука дорогая, но она того стоит, а трудностей с оплатой у Флоры никогда не было. Да что там, если вы хоть раз держали в объятиях девушку при 0,4g, так ничего объяснять не требуется, а если не держали, так и объяснять бесполезно, могу только посочувствовать: что толку рассказывать, как летают в облаках!
Я отключил видеофон — зачем пялиться на изображение, если есть возможность увидеть оригинал во плоти, — и шагнул из кабинки.
Вот тут-то, в этот самый момент, на меня и дохнуло катастрофой. Это дуновение приняло мерзкий облик Рога Кринтона из Марсианского Управления Службы Безопасности, — лысина, сияющая над блекло-голубыми глазами, тускло-желтая физиономия и непотребного окраса усы. Впрочем, я и не подумал падать на карачки и отбивать ему поклоны: мой отпуск начался с той самой минуты, как я сошел с корабля.
Так что я поинтересовался вполне вежливо:
— Какого вам черта? У меня свидание. Я тороплюсь.
— У тебя свидание со мной. Я ждал еще у трапа, — ответствовал мой плешивый шеф.
— Я вас не видел.
— Ты вообще ничего не видел.
Он был прав. Если он пытался перехватить меня в шлюзе, так у него голова кружится до сих пор, наверное: я проскочил через камеру быстрее, чем комета Галлея сквозь солнечную корону.
— Ладно. Что вам от меня нужно?
— Есть тут одно дельце, приятель.
Я выдал ему точную анатомическую характеристику того места, куда он может засунуть свое дельце, и предложил помочь, если он сам не справится.
— У меня отпуск, приятель.
А он мне:
— Готовность номер один, друг мой!
Это могло значить только одно — мой отпуск кончился, не начавшись. Я не поверил. Я взмолился:
— Рог, имейте совесть! У меня самого готовность номер один!
— И думать забудь.
— Рог! — взвыл я. — Неужели нельзя вызвать кого-нибудь другого?
— На Марсе ты единственный агент класса А.
— Так запросите с Земли. У них же в штабе куча агентов.
— А нам надо с этим разделаться до двадцати трех ноль-ноль. Да что у тебя — трех часов не найдется?
Он был непробиваем. Оставалось вернуться к видеофону, гордо бросив Рогу через плечо: «Частный разговор!»
Флора снова засияла на экране, словно мираж на астероиде:
— Что-нибудь не так, Макс? Только не вздумай сказать, что не можешь. Я уже отказалась от приглашения.
— Флора, детка, — сказал я. — Я буду. Я в любом случае буду. Но тут надо кое-что уладить.
Ее не интересовало, что я там собрался улаживать. Она задала самый естественный вопрос. И голос у нее был обиженный.
— Нет никакой другой девушки, — тоскливо ответил я. — В одном городе с тобой не бывает других девушек. Существа женского пола — возможно, но не девушки. Флора, сладость моя, это — работа. Подожди. Совсем недолго!
— Хорошо, — ответила она, но от ее ответа я вздрогнул.
Я выбрался из кабины и вяло поинтересовался:
— Ну, Рог, какую кашу мне предстоит расхлебывать?
Мы пошли в бар космопорта, заняли отдельный кабинет, и Рог Кринтон, наконец, сказал:
— В восемь по местному времени, то есть через полчаса, с Сириуса прибывает «Гигант Антареса».
— О’кей.
— Среди прочих с него сойдут три человека. Они останутся ждать «Пожирателя пространства», который сядет в одинадцать и немного погодя уйдет к Капелле. Стоит этой троице ступить на «Пожиратель», как она окажется вне нашей юрисдикции.
— Так.
— Между восемью и одинадцатью им предстоит сидеть в отдельном зале ожидания, и тебе вместе с ними. У меня с собой голограммы всех троих, так что ты не ошибешься. За это время тебе надо узнать, кто из них везет контрабанду.
— Какую?
— Самую скверную. Измененный спейсолин.
— Что?
Все. Нокаут. Я знал, что такое спейсолин. Если вы хоть раз бывали в космосе, вы тоже знаете. И даже если никогда не покидали Земли, все равно знаете. Он необходим для путешествий в Пространстве. Первую дюжину полетов в нем нуждаются почти все, а многие вообще без него не обходятся. Боятся головокружения в невесомости, тошноты, а то и психоза. Спейсолин все это снимает, а привыкания и побочных эффектов не дает. Спейсолин идеален и незаменим.
— Вот именно, сказал Рог, — обработанный спейсолин. Простейшая химическая реакция в простейших условиях превращает его в препарат, с первого раза делающий человека наркоманом. Эта штука пострашнее самых опасных алкалоидов.
— И мы только сейчас об этом узнали?
— Служба знает об этом уже несколько лет. Но прежде удавалось прихлопнуть любое заведение, где додумывались до такого. А сейчас дело зашло слишком далеко.
— Каким образом?
— Один из троих везет с собой немного обработанного спейсолина. Система Капеллы не входит в Федерацию — ее химики легко сделают анализ образца и еще легче его синтезируют. После этого нам останется либо бороться с торговлей самым опасным наркотиком без всяких шансов на успех, либо сразу закрывать лавочку, запретив исходный продукт — спейсолин, — и поставить крест на полетах в Пространстве.
— И кто же из них его везет?
Рог осклабился:
— Да если бы мы это знали, на что бы ты понадобился? Ты и разберешься — кто.
— Ну и работенку вы мне подсунули.
— Смотри, не ошибись. Каждый из них — большая шишка на своей планете. Первый — Эдвард Харпонастер, второй — Джоакин Липски, третий — Андьямо Ферручи. Ну как?
Он был прав. Я слышал обо всех. Вы, наверное, тоже. И без серьезных улик ни к одному из них не подступиться.
— Неужели кто-то из них связался с такой гадостью? — спросил я.
— Тут пахнет миллиардами, — ответил Рог. — А значит, каждый из них мог связаться. И один связался — Джек Хоук установил это прежде, чем его убили.
— Джека Хоука убили?! — На минуту я забыл о новом наркотике. На минуту я забыл даже о Флоре.
— Да. Именно один из этих типов и организовал убийство. Теперь слушай. Ткнешь в него пальцем до одинадцати — получишь повышение, прибавку к жалованию, сочтешься за беднягу Джека и в придачу — спасешь всю Галактику. Ошибешься — будет скандал галактических масштабов, а ты вылетишь из Службы и угодишь во все черные списки отсюда до Антареса и дальше.
— А если я ни в кого не ткну?
— Для тебя это ничем не будет отличаться от ошибки, обещаю тебе от лица Службы.
— То есть мне просто снимут голову?
— Снимут и ломтиками нарежут. Наконец-то ты начал меня понимать, Макс.
Рог Кринтон всегда был уродом, но сейчас он выглядел омерзительно даже для урода. Глядя на него, я утешался только мыслью, что он тоже женат, и уж его-то половина круглый год безвылазно торчит в Марсопорте. И он это заслужил. Быть может, я к нему жесток, но он заслужил!
Как только Рог отправился восвояси, я позвонил Флоре:
— Бэби, сладость моя! Есть дело, которое я обязан провернуть, но говорить об этом я не имею права. Ты только подожди, а я буду у тебя, даже если мне придется проплыть через весь Большой канал до полярной шапки в одних подштанниках, сковырнуть Фобос с неба или разрезать себя на кусочки и послать тебе бандеролью…
— Ха! — сказала она. — Если б я знала, что меня заставят ждать…
Я поморщился. Флора явно не относится к поэтическим натурам. Но когда я поплыву с ней в облаке жасминового аромата при 0,4g, романтика окажется не самым главным…
— Ну подожди чуть-чуть. Флора, — только и сказал я. — Это не займет много времени. Я искуплю свою вину.
Я был раздосадован, но не слишком горевал. Рог предоставил мне разбираться, кто из троих — преступник. Дело не стоило выеденного яйца. Оно было настолько простым, что я мог бы сразу вернуть Рога и выложить ему все. Но, собственно, чего ради? Пусть этот умник двигает меня по службе, а не наоборот. Я потрачу на все это пять минут и поеду к Флоре, слегка опоздав, зато с повышением, симпатичным чеком в кармане и слюнявыми поцелуями Службы на щеках.
Весь фокус в том, что большие шишки недолюбливают космические перелеты, предпочитая видеосвязь. А если им так уж необходимо присутствовать на какой-нибудь суперконференции лично, то они без спейсолина не обходятся. Во-первых, без него они не рискнут лететь, во-вторых, спейсолин дорог, а крупные промышленники любят все дорогое — знаю я их психологию.
Но это относится только к двоим. Тот, третий, что везет контрабанду, не рискнет принять спейсолин даже под страхом подхватить букет неврозов. Под спейсолиновым кайфом можно не только проболтаться о наркотике, но вообще вышвырнуть его или отдать по первой просьбе, так что он должен быть в ясном уме. Вот и вся премудрость.
«Гигант Антареса» прибыл точно в восемь. Я принял боевую стойку, готовясь прищемить хвост ядовитой крысе и проводить с миром двух почтенных акул галактического бизнеса.
Первым передо мной предстал Липски. Плотоядные губы, седеющие волосы и внушительные брови. Он глянул сквозь меня и… сел.
— Добрый вечер, сэр! — радушно поздоровался я.
— Вечерняя чашечка кофе панамцев сердца горячи и перебор сердечный, — последовал сонный ответ.
Вот это и есть спейсолин: в мозгах короткое замыкание, а слова сплетаются в немыслимых ассоциациях.
Вторым явился Андьямо Ферручи. Черные усы, длинные и набриолиненные, оливковая кожа, испещренная оспинами. И тоже сел.
— Как путешествие? — поинтересовался я.
— Шествие под бой часов кукушка куковала, — было мне ответом на это раз.
— Кукушка путь лет предсказала, — донеслось от Липски.
Я усмехнулся. Значит, остается Харпонастер. Что ж, для него у меня наготове пистолет с хорошей дозой снотворного и магнитные наручники.
В дверях обрисовалась худощавая фигура. Лысый и моложе, чем на голограмме. Харпонастер. И он был напичкан спейсолином под завязку.
— Проклятье! — вырвалось у меня.
— Клятвы выполняют клятвенно клянутся, — заявил Харпонастер.
— Минуты наполнили вазы цветами, — сказал Ферручи.
— Стая в цвету на вишневых ветках, — закончил Липски.
Я смотрел то на одного, то на другого, пока вся эта чушь, наконец, не стихла.
Я понял, в чем дело. Кто-то из них притворяется. Этот кто-то все продумал и решил, что выдаст себя, если откажется от спейсолина. Он хорошо заплатил врачу, чтобы вместо спейсолина ему впрыснули, скажем, физиологический раствор. А, может, придумал еще что-то.
Один из них притворялся. Не так уж и трудно это имитировать. Комики по визиону частенько разыгрывают такие сценки. Вы их наверняка видели.
Тут я впервые спросил себя: «А вдруг это дело окажется мне не по зубам?»
На часах полдевятого. На карту поставлена моя работа, моя репутация, а заодно и бедная моя голова. Я отложил эту проблему на потом и подумал о Флоре. Она-то вечно ждать не будет. Да что там вечно, она не станет ждать и полчаса!
Интересно, а сможет притворщик и дальше играть со мной в ассоциации, если его подвести вплотную к опасной теме? А, черт, надо попробовать:
— Выключи сонар, котик! — крикнул я в коридор.
— По крышам котики охотятся поодиночке, — с готовностью откликнулся Липски.
— Котики кошки будут котята, — дополнил Ферручи.
Харпонастер был совсем краток:
— Котята — утята.
Я попытался снова — очень осторожно, ведь, очухавшись, они вспомнят всю эту странную беседу:
— Я думаю, здесь сходятся сотни космических линий…
Это должно было развернуть их извилины в сторону спейсолина.
— Линии по глине или звери к водопою шкуры принесут большую пользу прибыль по лесам…
— Полосатые преступники глину месили…
— Мешали шоколад с жареным картофелем на седле барашка…
Дальше они принялись неразборчиво вторить друг другу. Из всех их откровений я уловил только «карты» и «рты». Не густо.
Я подбросил им еще пару фраз, но ничего не добился. Преступник, кто бы он ни был, хорошо попрактиковался или от природы умел подбирать свободные ассоциации. И он постарался, чтобы слова уводили в сторону. Тем более, что все уже понял — и кто я такой, и что мне нужно. Двух других можно не опасаться, но этот — ЗНАЕТ. И дразнит меня. Все трое наговорили такого, что могло указывать на вину. «Охотятся по одиночке», «большая прибыль», «преступники». Двое честно несли околесицу, третий забавлялся. Кто? Как найти этого третьего?
Крыса была готова погубить Галактику. Больше того крыса убила моего друга. Более того — она не пускает меня к Флоре.
Проще всего было бы обыскать их. Двое под спейсолином не пошевелятся, не почувствуют ни страха, ни злобы и уж тем более не станут сопротивляться.
Если хоть один из них шевельнется — он попался. Невиновные потом все вспомнят. Вспомнят обыск. И устроят грандиозный скандал. Вонь пойдет на всю Галактику. Служба огребет очередную порцию оплеух, в шуме и неразберихе выплывет секрет обработанного спейсолина — так какого черта?!
Я вздохнул. Один шанс из трех — наткнуться сразу на того, кто нужен. Один из трех — а я не всемогущ.
О, бедная моя голова!
О, Флора!
Я тоскливо посмотрел на часы: четверть десятого. Куда, к чертям, ушло время? И что мне делать?
Метнувшись к ближайшей видеокабине, я позвонил Флоре немножко поговорить с ней, понимаете, чтобы как-то оживить дела, если их еще можно было оживить. Я говорил себе: «Она не ответит». Я старался подготовить себя к этому. Есть же другие девушки, есть же другие…
Правда, других девушек не было.
Будь Хильда в Марсопорте, мне бы и в голову не пришло связываться с Флорой, но Я БЫЛ В МАРСОПОРТЕ БЕЗ ХИЛЬДЫ и, с Флорой уже связался.
Сигнал гудел и гудел, а я все не решался разъединиться.
Ответь! Ответь! И она ответила. Она сказала:
— Это ты?
— Конечно, душа моя. Кто же еще?
— Многие. Те, что не заставляют девушек ждать.
— У меня почти все в ажуре, дорогая. Еще чуть-чуть…
— Что у тебя в ажуре? Опять этот твой пластон?
Господи, при чем тут пластон? Ах, да, вспомнил: когда-то меня угораздило ляпнуть, что я работаю агентом по сбыту пластоновых изделий. Еще и ночную рубашку пластоновую приволок в доказательство. Чудо, как она в ней смотрелась!
— Слушай, дай мне еще полчасика, — простонал я.
Ее губы задрожали:
— Я тут сижу одна…
— Я тебя утешу, — с отчаяния я готов был ринуться в ювелирный магазин, стараясь не вспоминать, что для зоркого глаза Хильды любая прореха в моем банковском счете будет заметнее туманности Конская Голова на фоне Млечного Пути. Вот до чего я дошел.
— У меня было назначено такое классное свидание, и я им пожертвовала, — добавила Флора.
— Ты только сказала, что у тебя кое-что намечалось…
Это было непростительной глупостью.
— Кое-что намечалось?!
Она действительно сказала так. Но упаси вас бог спорить с женщиной! Можно подумать, я этого не знал…
— Он обещал мне целое состояние на Земле!..
Флора говорила и говорила об этом состоянии на Земле. Не было в Марсопорте девчонки, которая не надеялась бы рано или поздно получить состояние на Земле. Но сосчитать, кому это удалось, можно по шестым пальцам ваших рук. Я пытался остановить ее. Куда там!
— …и вот я сижу совсем одна, — закончила она и отключилась.
Она была права. Стоит кому-то проведать, что к ней не пришли, и все будут говорить, что к ней не приходят, а значит — она уже не та. Такой вечер и впрямь может обойтись ей дорого. Я чувствовал себя последним пакостником во всей Галактике.
Когда я возвращался в зал ожидания, часовой у двери отдал мне честь. Я разглядывал трех бизнесменов и меланхолично размышлял, с кого бы я начал, если бы удалось разжиться ордером на их удушение. Пожалуй, с Харпонастера. Так славно обхватить руками его тонкую длинную шею, упираясь большими пальцами в кадык…
При этой вдохновляющей картине у меня вырвалось восторженное «у-мм» — и мои клиенты зашевелились.
Ферручи сказал:
— Ум животных расположен горизонтально как если видеть многомерный танец…
Длинношеий Харпонастер сказал:
— Танец занятие племянниц и по столбам лез кот…
Липски сказал:
— Скот держат в краале деньги в банке…
— Банка пива хорошая вещь…
— Вещи надо беречь…
— Беречь если честь…
— Есть…
И все.
Они смотрели на меня. Я — на них. У них не было никаких эмоций (во всяком случае, у двоих). У меня — никаких мыслей. А время шло.
Я смотрел на них и думал о Флоре. Мне пришло в голову, что терять, пожалуй, больше нечего, так почему бы…
— Джентльмены, — начал я, — в этом городе живет девушка. Имени ее вам не называю, чтоб не скомпрометировать, но позвольте, джентльмены, вам ее описать…
Так я и сделал. Последние два часа до того меня разгорячили, что вдохновенное описание прелестей Флоры изливалось прямо из глубин моего мужского подсознания. Троица не перебивала. Люди под спейсолином становятся по-своему вежливыми и никогда не перебивают говорящего. Поэтому-то они и изъяснялись по очереди.
Иногда я делал паузы в слабой надежде, что один из них скажет нечто новое.
— Океаны шампанского со взбитыми сливками…
— Округлых и нежных, как полет в облаках…
— Леопарды насилия с марсианскою девушкой флота…
Они были безнадежны. Я продолжал:
— Эта девушка, джентльмены, снимает квартиру с низкой гравитацией. Вы можете спросить, на что ей низкая гравитация? Позволю себе объяснить вам это, джентльмены…
И уж я постарался, чтобы им ничего не пришлось додумывать. Я им не оставил простора для фантазии. Они, конечно, все это запомнят, но не думаю, чтобы кому-нибудь пришло в голову преследовать меня за это: уж скорее начнут разыскивать, чтобы спросить телефончик…
Я расписывал им все в мельчайших подробностях с тщательностью и любовной тоской в голосе, пока динамик не объявил о прибытии «Пожирателя пространства».
— Вставайте, джентльмены, — сказал я громко. — К тебе, убийца, это не относится!
Мои магнитные наручники защелкнулись на запястьях Ферручи прежде, чем я закончил фразу.
Ферручи отбивался, как дьявол. Он-то не был под спейсолином. Обработанный спейсолин нашли в плоских пластиковых пакетиках, прикрепленных к внутренней стороне бедер. На вид они не отличались от кожи, их можно было только нащупать. А для того, чтобы окончательно убедиться в их содержимом, оказалось достаточно простого ножа.
…Потом Рог Кринтон, сияющий, одуревший от радости, взял меня за лацкан мертвой хваткой:
— Как ты это сделал? Чем он себя выдал?
— Один из них только притворялся наспейсолиненным, — объяснил я, безуспешно пытаясь высвободиться. — Так я им рассказал (тут я придержал язык: детали его, знаете ли, не касались), ну, об одной знакомой. Двое, напичканные спейсолином, никак не отреагировали. А у Ферручи дыхание участилось, на лбу выступила испарина. Ну, а раз мой увлекательный рассказ его пробрал, значит, он не принимал спейсолина. Теперь ты меня отпустишь?
Он отпустил, и я чуть не сел на пол.
Я так нацелился исчезнуть, что ноги несли меня прочь, но я все-таки заставил себя обернуться:
— Эй, Рог, — поинтересовался я, — не мог бы ты мне черкнуть чек кредитов этак на тысячу? Без занесения на мой счет… За службу, сослуженную Службе?
Тут я убедился, что он действительно не в себе от радости и очень своевременной благодарности. Скупердяй Рог Кринтон вдруг, выпалил:
— Конечно, Макс, конечно. Десять тысяч, если хочешь!
— Хочу, — ответил я. — Еще как хочу.
Он заполнил официальный чек Службы на 10 000 кредиток деньги лучшего сорта в доброй половине Галактики. Вручая его, он широко улыбался, и можете быть уверены, что я улыбался еще шире.
Как он собирался отчитываться за этот чек — его дело. Главное, я не должен был отчитываться перед Хильдой!
В который раз я стоял в кабине видеофона и звонил Флоре. Мне нельзя было рисковать получасом на дорогу. За эти полчаса она вполне могла подцепить кого-нибудь, если уже не подцепила. Хоть бы она ответила, хоть бы она…
Она ответила, но к долгому разговору была не расположена. Судя по всему, я застал ее в последнюю минуту.
— Я ухожу, — заявила она. — На свете есть еще порядочные мужчины. А тебя я не желаю больше видеть! И я буду вам очень признательна, мистер Каквастам, если вы отключитесь от моего аппарата и не станете поганить его своей…
Я молчал. Стоял, затаив дыхание и держа чек так, чтобы он был ей виден. Просто стоял и просто держал чек.
На слове «поганить» она его заметила. Флора вообще редко что-нибудь читала, но слова «десять тысяч кредитов» умела прочесть быстрее самого башковитого ученого, в Солнечной системе.
Она ахнула:
— Макс! Это мне?!
— Все тебе, детка. Я же говорил, что мне надо провернуть небольшое дельце. Хотел сделать тебе сюрприз.
— Ой, Макс, какой ты милый! Я никуда не собиралась, просто пошутила. Приезжай! — Она сняла жакет.
— А как насчет твоего свидания? — поинтересовался я.
— Я же сказала, что пошутила, — промурлыкала она. Жакет соскользнул на пол, и пальцы Флоры взялись за брошь, составлявшую большую часть ее блузки.
— Еду, — сказал я слабым голосом.
— Со всеми этими кредитами? — игриво добавила она. — Не растеряешь, по пути?
— Со всеми до единого, — ответил я и вывалился из кабины. Теперь все. Теперь уже все.
Кто-то окликнул меня. И этот кто-то бежал ко мне.
— Макс! Макс! Рог Кринтон сказал, что ты еще здесь. Маме уже лучше, и я взяла билет на «Пожирателя пространства». А что это за десять тысяч?
Я застыл.
— Здравствуй, Хильда, — сказал я не оборачиваясь.
Только потом я обернулся и сделал самое трудное за всю свою злосчастную службу в Космосе.
Я ей улыбнулся.
перевод Е. ГаркавиСвет звёзд
Артур Трент прекрасно их слышал. Энергичные, сердитые слова доносились до него из приемника:
— Трент! Тебе не удастся сбежать. Мы пересечем твою орбиту через два часа, а если ты окажешь сопротивление, мы просто вышвырнем тебя из космоса.
Трент улыбнулся, но ничего не сказал. У него не было никакого оружия, потому что он не собирался ни с кем сражаться. Пройдет гораздо меньше двух часов, прежде чем его корабль совершит скачок через гиперпространство, и тогда ищи ветра в поле… Ему удалось заполучить почти килограмм криллиума, а этого достаточно для того, чтобы обеспечить мозгами тысячи роботов; кроме того, на любой планете Галактики он сможет получить за него миллионы кредитов — и никто не станет задавать лишних вопросов.
Спланировал все старина Бренмейер. На подготовку ушло целых тридцать лет или даже больше. Это было делом всей его жизни.
— Мы сбежим, молодой человек, — сказал он Тренту. — Именно за этим вы мне и нужны. Вы знаете, как оторвать корабль от земли и направить его в космос. Я на это не способен.
— В космосе нам нечего делать, мистер Бренмейер, — возразил Трент. — Нас моментально поймают.
— Вовсе нет, — с довольным видом сказал Бренмейер, — потому что мы совершим Скачок. Что произойдет, если мы промчимся сквозь гиперпространство и окажемся где-нибудь в нескольких световых годах отсюда?
— Чтобы спланировать Скачок, нужно полдня, но даже если у нас и будет достаточно времени, полиция успеет предупредить все звездные системы.
— Нет, приятель, нет, — рука старика легла на руку Трента, Бренмейер дрожал от возбуждения. — Не все звездные системы; только те, что находятся поблизости. Галактика велика, и колонисты за последние пятьдесят тысяч лет потеряли связь друг с другом.
Он рисовал яркие, живые картинки. Сейчас Галактика похожа на родную планету человека — они называли ее Земля, — какой она была в доисторические времена. Люди жили на разных континентах, каждая отдельная группа была хорошо знакома только со своими соседями.
— Совершив Скачок в неопределенном направлении, — сказал Бренмейер, — мы можем оказаться где угодно, возможно, на расстоянии многих тысяч световых лет от родного дома — разве реально найти определенный камешек в метеоритном облаке?
— А сами мы себя найдем? — покачав головой, спросил Трент. — Мы же не будем иметь ни малейшего представления о том, как добраться до какой-нибудь населенной планеты.
Бренмейер быстро огляделся по сторонам. Рядом никого не было, но старик все равно понизил голос до шепота:
— Вот уже тридцать лет я собираю сведения обо всех населенных планетах Галактики. Изучил архивные записи. Пролетел тысячи световых лет, побывал дальше, чем любой космический пилот. Так что теперь расположение всех населенных миров внесено в память самого лучшего компьютера в мире.
Трент изобразил вежливое удивление.
— Я занимаюсь созданием компьютеров, — пояснил Бренмейер, — и, естественно, имею в своем распоряжении самые лучшие. Кроме того, я рассчитал точное местоположение каждой испускающей излучение звезды спектрального класса F, В, А и О — это я тоже занес в память моего компьютера. Как только мы совершим Скачок, компьютер произведет спектральный анализ окружающих светил и сравнит полученные результаты с имеющейся у него картой Галактики. Как только он определит, где мы находимся — а рано или поздно он это обязательно сделает, — корабль автоматически совершит следующий Скачок в сторону ближайшей населенной планеты.
— Звучит слишком сложно.
— Тут не может быть никаких проколов. Я работал над этой проблемой целую жизнь, все получится. Мне осталось лет десять, которые я смогу прожить, как миллионер. Вы молоды — у вас впереди долгие годы, наполненные самыми разнообразными удовольствиями.
— Совершая Скачок в неопределенном направлении, существует шанс попасть внутрь звезды.
— Ни в коем случае, Трент! Конечно, мы можем оказаться так далеко от всех известных звезд, что компьютер не найдет аналога в своей программе. Или мы прыгнем всего на один или два световых года, и полиция сядет нам на хвост. Впрочем, эта вероятность пренебрежимо мала. Если вам охота найти повод для беспокойства, почему бы не представить себе, что во время старта у вас случится сердечный приступ. Это, кстати, вполне реально.
— Для вас, мистер Бренмейер. Вы же гораздо старше.
— Я не в счет, — пожав плечами, сказал Бренмейер. — Компьютер сделает все сам, автоматически.
Трент кивнул, он запомнил эти слова. Однажды в полночь, когда корабль был готов к отлету и Бренмейер прибыл с чемоданчиком, в котором был криллиум — тут у него не возникло никаких проблем, потому что ему всецело доверяли, — Трент взял у него чемоданчик одной рукой, а другая сделала быстрое уверенное движение.
Нож по-прежнему оставался самым надежным оружием, он действовал так же быстро, как и молекулярный деполяризатор, был столь же смертоносным, но производил гораздо меньше шума. Трент оставил нож в теле, не позаботившись даже о том, чтобы стереть отпечатки пальцев. В этом не было никакой необходимости. Полиция его все равно не достанет.
Сейчас, находясь в глубоком космосе, зная, что его преследуют, Трент ощущал, как нарастает напряжение — так всегда бывало перед Скачком. Еще ни один физиолог не смог объяснить это чувство, известное любому пилоту.
На один короткий миг показалось, будто все вокруг вывернуто наизнанку: Трент и его корабль попали в некосмос и в не-время, превратились в не-материю и не-энергию — а потом, почти сразу, все снова вернулось на свои места, корабль стал единым целым, уже в другой части Галактики.
Трент улыбнулся. Он был жив. Ни одна из звезд не находилась слишком близко, но тысячи располагались совсем рядом. Расположение светил показалось Тренту незнакомым; значит, совершив Скачок, он попал достаточно далеко. Какие-то из этих звезд наверняка принадлежат к спектральному классу F, может быть, здесь даже найдется что-нибудь и получше. Компьютер без проблем справится с задачей, у него в памяти наверняка есть все, что необходимо. Много времени на это не уйдет.
Он устроился поудобнее в кресле и принялся наблюдать, как меняется рисунок звездного сияния — корабль, разумеется, вращался. Трент увидел яркую звезду — по-настоящему яркую. Звезда находилась всего в нескольких световых годах от корабля, опыт подсказал, что это живая звезда, прекрасная и горячая. Компьютер возьмет ее за основу и станет искать среди своей огромной базы данных нужную информацию. И снова Трент подумал, что компьютеру не понадобится на это много времени.
Однако он ошибся. Проходили минуты. Прошел час. Компьютер по-прежнему деловито урчал, моргая огоньками.
Трент нахмурился. Почему проклятый ящик не в состоянии определить, куда они попали? В памяти компьютера наверняка хранятся данные об этой части Галактики, Бренмейер показывал, во что вылились долгие годы его кропотливой работы. Он не мог пропустить какую-нибудь звезду или ошибочно поместить ее в другое место.
Конечно же, звезды рождаются и умирают, и передвигаются в космическом пространстве, но все это происходит очень медленно, медленно. Миллионы лет… данные Бренмейера не могли…
Неожиданно Трента охватила паника. Нет! Не может быть! Вероятность настолько мала… скорее можно предположить, что попадешь внутрь звезды.
Он подождал, пока яркая звезда не оказалась снова у него перед глазами, и дрожащими руками навел на нее телескопическое увеличение. Настроил на максимум… и вокруг яркого пятна увидел едва различимую дымку — турбулентные газы, застывшие в самый разгар движения.
Сверхновая!
Прятавшаяся в неизвестности звезда вспыхнула ярким светом — может быть, всего месяц назад. Раньше она принадлежала к спектральному классу, на который компьютер не обратил бы внимания, зато теперь он не мог не принять ее в расчет.
Однако эта сверхновая не была внесена в память компьютера, потому что Бренмейер ее туда не поместил. Ее просто не существовало, когда он собирал свои данные — по крайней мере в виде звезды такой яркости.
— Плюнь на нее! — взвыл Трент. — Оставь в покое!
Но он обращался к машине, которая будет сравнивать расположение звезд с теми данными, что внесены в память, не найдет ничего похожего и продолжит свои поиски, снова и снова пытаясь решить задачу… и так до тех пор, пока не кончится запас энергии.
Воздух кончится гораздо раньше. Жизнь Трента кончится гораздо раньше.
Он безвольно откинулся на спинку кресла, не сводя глаз с мерцающих звезд и приготовившись к долгому, мучительному ожиданию смерти.
Если бы только он не поспешил пустить в ход нож…
перевод В. Гольдича, И. ОганесовойСущая ерунда
Миссис Клара Бернстайн перешагнула за 50, а температура воздуха — за 90 по Фаренгейту. Работал кондиционер, но, охлаждая квартиру, он не мог все-таки избавить от невыносимой духоты.
Миссис Хестер Голд, поднявшись к Кларе на 21-й этаж из своей квартиры 4-С, изрекла:
— На моем этаже прохладнее.
Ей было тоже за 50, крашеные светлые волосы не молодили ее ни на один год. Клара пожаловалась:
— Подумаешь! Я спокойно могу переносить жару, а вот с этим «кап-кап» не могу примириться. Слышишь?
— Нет, — ответила Хестер, — но я могу себе представить. Мой мальчик Джо потерял пуговицу от рукава блейзера. Заплатил за него 72 доллара, а без пуговицы теперь этот блейзер никуда не годится. Такую великолепную пуговицу не удосужился пришить вовремя.
— Ну это не проблема. Оторви с другого рукава, пусть носит без пуговиц.
— О нет, блейзер сразу потеряет вид. Просто если пуговица слабо пришита, зачем ждать, пока она потеряется, надо тут же ее пришить. Парню уже 22, а все еще ничего не смыслит в простых вещах. Бродит Бог знает где, дома почти не бывает, возвращается, когда хочет…
Клара нетерпеливо прервала ее:
— Неужели ты не слышишь, как наверху капает? Пойдем со мной в ванную. Раз я говорю капает — значит действительно капает.
Хестер последовала за ней, прислушиваясь. В тишине ясно слышалось «кап-кап-кап». Клара продолжала:
— Ну прямо пытка водой. И так всю ночь. Уже три ночи подряд.
Хестер поправила огромные, слегка затемненные очки, словно это помогло бы ей яснее услышать звуки капания, и подняла голову:
— Пожалуй, капает из квартиры 22-Г, где живет миссис Маклэрен. Я знаю ее. Добрая женщина, и если ты постучишь к ней и скажешь, в чем дело, она ведь не укусит тебя.
Но Клара продолжала:
— Да я не боюсь ее. Стучала уже раз пять, но никто не ответил. Звонила по телефону — не поднимают трубку.
— Значит она уехала. Сейчас же лето, все куда-нибудь уезжают.
— А если она уехала на все лето, то я должна все лето слушать это капанье?
— Обратитесь к менеджеру.
— Да у этого идиота нет ключа к ее хитроумному замку, а он, конечно, не будет взламывать дверь из-за пустяка. Между прочим, она вовсе не уехала. Я знаю ее машину, она стоит в гараже.
Обеспокоившись, Хестер предположила:
— Она могла с кем-нибудь уехать.
Клара фыркнула:
— Ну это же миссис Маклэрен!
Хестер нахмурилась:
— Допустим, она разведена. Что в этом страшного? Ей всего 30 или 35 и одевается она очень модно. Что ж тут плохого?
— Я, конечно, не могу видеть, что происходит там, наверху, но ведь я все слышу.
— А что ты слышишь?
— Шум, шаги. Она прямо надо мной, и я даже знаю, где ее спальня.
Хестер съязвила:
— Не будь такой старомодной. Она живет, как большинство теперь. Это ее личное дело.
— Хорошо, но она постоянно пользуется ванной и не закрывает кран. Почему? И к тому же не пускает к себе. Уверена, что ее квартира обставлена в пошленьком французском стиле.
— Ошибаешься, дорогая, у нее самая обыкновенная квартира и много цветов.
— А ты откуда знаешь?
— Я помогаю ей. Она одинока и время от времени куда-нибудь уезжает, и тогда я поливаю ее цветы.
— Вот как? А сейчас она тебе не говорила, что собирается уезжать?
— Нет.
Клара откинулась на спинку стула, спросила:
— В таком случае, у тебя должны быть ключи от ее квартиры?
— Да, но я не могу туда войти.
— Почему? Ведь ее нет дома, значит, ты должна полить цветы.
— Она не просила меня об этом.
Клара предположила:
— А вдруг она больна и не может открыть дверь?
— Ерунда. Телефон рядом с кроватью. Когда ты ей позвонила, она взяла бы трубку, как бы плохо себя ни чувствовала.
— А если у нее инфаркт? Послушай, а может быть, она мертва и потому кран не закрыт?
— Глупости, она молодая женщина, и у нее не может быть инфаркта.
— Не ручайся. При ее образе жизни… А вдруг ее убил поклонник. Ты должна обязательно к ней войти.
— Но ведь это же незаконно.
— С ключом-то? Если она уехала, ты не можешь допустить, чтобы ее цветы засохли. Ты их польешь, а я закрою кран. Что ж тут такого! А если она мертва, разве можно позволить, чтоб она там лежала столько времени?
— Она не мертва, — ответила Хестер.
— В холле никого нет, — прошептала Клара.
— Ш-ш-ш, — вторила Хестер. — А что если она внутри и спросит: «Кто там?»
— Скажи, что пришла полить цветы, а я попрошу ее закрыть кран.
Ключ бесшумно повернулся в замке, и Хестер, затаив дыхание, приоткрыла дверь, затем постучала.
— Никто не отвечает, — нетерпеливо прошептала Клара и широко распахнула дверь.
— Даже кондиционер не работает. Все нормально.
Дверь за ними закрылась.
— Ох, какая духота! — проговорила Клара.
Они осторожно пошли по коридору. Направо пустая кладовая, пустая ванная… Клара заглянула туда — тихо.
— Вероятно в спальне.
В конце коридора налево была гостиная, там Хестер обычно поливала цветы.
— Да, их нужно полить, — подтвердила Клара, — а я пойду в спальню.
Она открыла дверь и остолбенела.
Ни движения, ни звука, рот широко открыт…
Хестер остановилась сзади. Нестерпимо душно.
— О Господи!
У Клары перехватило дыхание.
Простыни валялись в беспорядке. Голова миссис Маклэрен свесилась с кровати, а длинные волосы рассыпались по полу, но шее синяки, рука неестественно вывернута.
— Мы должны позвонить в полицию, — заторопилась Клара.
Вдруг Хестер судорожно бросилась вперед.
— Ничего не трогай! — предупредила Клара.
В руке Хестер сверкнул блеск меди — она нашла пуговицу своего сына.
Ловушка для простаков
1
Космический корабль «Трижды Г» вырвался из пустоты гиперпространства и появился в бесконечном пространстве-времени. Вокруг него сияло огромное звездное скопление Геркулеса.
Корабль неуверенно повис, окруженный бесчисленными солнцами, каждое из которых было центром могучего поля тяготения, вцепившегося в металлическую скорлупку. Но вычислительные машины корабля не ошиблись — он оказался точно в назначенном месте. Только один день полета — обычного пространственного полета — отделял его от системы Лагранжа.
Каждый, кто был на борту, воспринял это известие по-своему. Для экипажа это означало еще один день работы, еще один день оплаты по ставкам за полетное время, а потом — отдых на поверхности. Планета, куда они направлялись, была необитаема, но отдохнуть приятно даже на астероиде. Что могли думать по этому поводу пассажиры, членов экипажа не интересовало. Пассажиров они недолюбливали и старались держаться от них подальше. Ведь это же были сплошь «головастые»!
Так оно и было — все пассажиры, кроме одного, были «головастыми» Выражаясь вежливее, это были ученые, и притом довольно разношерстная компания. Единственным чувством, которое объединяло их в тот момент, было беспокойство за свои приборы и смутное желание еще раз проверить, все ли с ними в порядке.
Ну и, пожалуй, едва заметное ощущение тревоги и возросшего напряжения. Планета была необитаема — каждый не однажды высказывал в этом свое твердое убеждение. Но в чужую душу не влезешь: у каждого на этот счет могли быть и свои мысли.
Что касается единственного на борту корабля человека, который не принадлежал ни к экипажу, ни к ученым, то он чувствовал прежде всего смертельную усталость. С трудом поднявшись на ноги, он пытался стряхнуть с себя последние остатки космической болезни. Звали его Марк Аннунчио, и он провел в постели, почти без еды, все эти четыре дня, пока корабль находился вне Вселенной, преодолевая расстояние во много световых лет.
Но сейчас Марку уже не казалось, что он вот-вот умрет, и настало время явиться по вызову капитана. Удовольствия это Марку не доставляло: он привык делать все по-своему и видеть только то, что ему хотелось. Кто такой этот капитан, чтобы…
Его снова и снова подмывало рассказать все доктору Шеффилду и с этим покончить.
Но Марк был любопытен и знал, что все равно пойдет к капитану. Любопытство было его единственным недостатком.
Оно же было его профессией и призванием в жизни.
2
Капитану Фолленби все было нипочем. Так он обычно о себе думал. А совершать рейсы по заданию правительства ему приходилось и раньше. Прежде всего это сулило прибыль. Конфедерация не скупилась на расходы. Это означало, что корабль каждый раз проходил капитальный ремонт, что все ненадежные части заменяли новыми, что экипажу хорошо платили. Это было выгодное дело. Чертовски выгодное.
Но этот рейс был не совсем обычным.
Дело не в том, что пришлось взять на борт таких пассажиров. Он было опасался склок, истерик, невозможной тупости, но оказалось, что «головастые» лишь немногим отличаются от нормальных людей.
Дело даже не в том, что его корабль наполовину разобрали, переоборудовали в «универсальную лабораторию», как было сказано в контракте. Об этом он старался не думать.
Дело было в Малышке — далекой планете, куда они направлялись.
Экипаж, конечно, ничего не знал. Но сам капитан, хоть ему было все нипочем и так далее, начинал беспокоиться. Только начинал…
А сейчас его больше всего раздражал этот Марк Аннунсио — так, что ли, его зовут? Капитан сердито потер руки, и его широкое, круглое лицо побагровело от гнева.
Вот наглость!
Мальчишка, которому нет еще и двадцати, пустое место по сравнению с другими пассажирами — и вдруг такое потребовать!
Что-то тут неспроста. Во всяком случае, это предстоит выяснить.
Вместо выяснения он с удовольствием взял бы кое-кого за шиворот и тряхнул бы так, чтобы зубы застучали… Но нельзя. Нельзя.
В конце концов уж очень странным был этот рейс, зафрахтованный Конфедерацией Планет, и, возможно, двадцатилетний любитель совать нос не в свое дело тоже для чего-то нужен. Но зачем он понадобился? Вот, например, у этого доктора Шеффилда, можно подумать, нет другого дела, как только носиться с этим мальчишкой. Что это значит? Кто такой этот Аннунсио?
Всю дорогу он страдал космической болезнью. А может быть, это был просто предлог, чтобы сидеть в своей каюте?
У двери прожужжал звонок.
Это он.
Спокойнее, подумал капитан. Спокойнее.
3
Входя в каюту капитана, Марк Аннунчио облизал губы, тщетно пытаясь избавиться от горечи во рту. У него слегка кружилась голова и было тяжело на сердце. В этот момент он был бы рад отказаться даже от своей работы, лишь бы снова попасть на Землю.
Он с сожалением вспомнил свою маленькую, но уютную комнату, знакомую до мелочей, где он наслаждался уединением среди себе подобных. Там стояли только кровать, стол, стул и шкаф, но к его услугам в любой момент была вся Центральная библиотека. Здесь не было ничего. Он думал, что на борту корабля можно узнать много нового. Он еще никогда не бывал на борту корабля. Но он не ожидал, что проваляется все эти долгие дни, страдая космической болезнью.
Ему до слез хотелось домой. Он чувствовал отвращение к самому себе, зная, что его глаза покраснели и слезятся и что капитан это наверняка заметит. Он чувствовал отвращение к себе, потому что знал, что мал, тщедушен и похож на мышонка.
Так оно и было. У него были шелковистые прямые волосы мышиного цвета, узкий, уходящий назад подбородок, маленький рот и острый носик. Для полного сходства не хватало только пяти-шести усиков, которые торчали бы с каждой стороны. И роста он был ниже среднего.
Но тут он увидел в иллюминаторе капитанской каюты звездное небо, и у него захватило дух.
Звезды!
Таких он никогда еще не видел!
Марк ни разу не бывал за пределами Земли. (Доктор Шеффилд говорил, что именно поэтому он и заболел космической болезнью. Марк ему не верил Он пятьдесят раз читал в книгах, что космическая болезнь имеет психогенное происхождение. Даже доктор Шеффилд иногда пытался его обмануть.)
Он ни разу не бывал за пределами Земли и привык к земному небу. Он привык видеть разбросанные по небосводу две тысячи звезд, и из них только десять — первой величины.
Здесь же они теснились несметными толпами. В одном маленьком квадрате иллюминатора их было в десять раз больше, чем на всем земном небе. А какие яркие!
Он жадно запечатлевал в уме их расположение. Звезды потрясли его. Конечно, он знал все цифровые данные о скоплении Геркулеса, содержавшем до 10 миллионов звезд (точной переписи еще не было). Но цифры — это одно, а звезды — совсем другое.
Ему захотелось их сосчитать. Это желание внезапно охватило его с непреодолимой силой. Любопытно, сколько их здесь, все ли они имеют названия, известны ли их астрономические характеристики. Минутку…
Он отсчитывал их по сотням. Две, три… Он мог бы делать это и по памяти, но ему нравилось смотреть на реальные физические предметы, особенно такой потрясающей красоты. Шесть, семь…
Добродушный раскатистый голос капитана заставил его вспомнить, где он находится.
— Мистер Аннунсио? Рад вас видеть.
Марк вздрогнул и с негодованием повернулся к нему. Почему ему помешали считать? Показав на иллюминатор, он раздраженно сказал:
— Звезды!
Капитан повернулся и уставился на них:
— Ну и что! Что-нибудь неладно?
Марк стоял, глядя на широкую спину капитана и его толстый зад, на серую щетку волос, покрывавшую его голову, и на две большие руки с толстыми пальцами, переплетенными за спиной и ритмично похлопывавшими по блестящему пластику куртки.
«Что он понимает в звездах? — подумал Марк. — Какое ему дело до их размера, светимости, спектрального класса?»
Нижняя губа Марка дрогнула. Этот капитан — тоже «нонкомпос». Все на этом корабле — нонкомпосы. Так их дразнили сотрудники Мнемонической Службы. Нонкомпосы. Все до единого. Без счетной машины и пятнадцать в куб не возведут.
Марк почувствовал себя очень одиноким.
Он решил, что объяснять все это нет смысла, и сказал:
— Звезды здесь такие густые. Как гороховый суп.
— Это только кажется, мистер Аннунсио. — (Капитан произносил «Аннунсио» вместо «Аннунчио», и это резало слух Марка.) — Среднее расстояние между звездами в самом густом скоплении — не меньше светового года. Места хватает, а? Правда, на вид тесновато. Это верно. Если выключить свет, они светят не хуже, чем триллион точек Чисхольма в осциллирующем силовом поле.
Но он не предложил выключить свет, а просить его об этом Марк не собирался.
— Садитесь, мистер Аннунсио, — продолжал капитан. — В ногах правды нет, а? Курите? Не возражаете, если я закурю? Жаль, вас не было тут утром. В шесть локального времени были прекрасно видны Лагранж-I и Лагранж-II. Красный и зеленый. Как светофор, а? Но вас не видно всю дорогу. Космическая болезнь одолела, а?
Эти «а?», которые капитан выкрикивал резким, визгливым голосом, страшно раздражали Марка. Он тихо ответил:
— Сейчас я чувствую себя хорошо.
Казалось, это не очень обрадовало капитана. Он запыхтел сигарой, уставился на Марка, сдвинув брови, и медленно сказал:
— Все равно, рад вас видеть. Немного познакомиться. Вашу руку. «Трижды Г» не первый раз в специальном правительственном рейсе. До сих пор никаких неприятностей.
Никогда не имел неприятностей. Не желаю неприятностей. Понимаете?
Марк ничего не понимал и даже не пытался. Его жадный взгляд снова вернулся к звездам. Их расположение немного изменилось.
Капитан на мгновение перехватил его взгляд, нахмурился и, казалось, хотел пожать плечами. Он подошел к пульту управления, и металлическая штора, скользнув по сверкавшему звездами иллюминатору, закрыла его, как гигантское веко.
— Что еще такое? Я считал их, идиот!
— Считал?.. — Капитан побагровел, но заставил себя вежливо продолжать: — Извините. Нам нужно поговорить о деле.
На словах «о деле» он сделал едва слышное ударение. Марк знал, что он имеет в виду.
— Говорить не о чем. Я хочу посмотреть судовой журнал. Я звонил вам несколько часов назад и так и сказал. Вы меня задерживаете.
— А не скажете ли вы, зачем вам смотреть журнал, а? — спросил капитан. — Еще никто об этом не просил. Вы имеете на это право?
Марк был изумлен.
— Я имею право смотреть все, что захочу. Я из Мнемонической Службы.
Капитан запыхтел сигарой — специальной марки, выпускавшейся для космических полетов, с добавлением окислителя, чтобы не расходовать кислорода воздуха. Он осторожно ответил:
— Да? Никогда о такой не слыхал. Что это такое?
— Мнемоническая Служба, и все тут, — возмущенно ответил Марк. — Это моя работа: я должен смотреть все, что захочу, и задавать любые вопросы, какие захочу. И я на это имею право.
— Но вы не получите журнал, если я не пожелаю.
— Вашего мнения не спрашивают, вы… нонкомпос! Терпение капитана иссякло. Он в ярости швырнул на пол сигару и растоптал ее, потом подобрал остатки и тщательно запихнул в мусоропровод.
— Куда вы гнете? — спросил он. — Кто вы вообще такой? Секретный агент? В чем дело? Выкладывайте сейчас же.
— Я сказал вам все, что нужно.
— Мне нечего скрывать, — сказал капитан, — но у меня есть свои права.
— Нечего скрывать? — завопил Марк. — А почему этот корабль называется «Трижды Г»?
— Такое у него название.
— Рассказывайте! В земном регистре такого нет. Я это знал с самого начала и собирался вас спросить.
— Официальное название «Георг Г. Гронди». Но все называют его «Трижды Г».
Марк рассмеялся:
— Ну вот, видите? А когда я посмотрю журнал, я поговорю с экипажем. У меня есть на это право. Спросите доктора Шеффилда.
— И с экипажем тоже, а? — капитан был вне себя от ярости. — Давайте сюда вашего доктора Шеффилда, и мы вас обоих запрем в каюте до посадки. Щенок!
Он схватил телефонную трубку.
4
Научный персонал «Трижды Г» был невелик для той работы, которая ему предстояла, и личный состав его был довольно молод. Может быть, не настолько, как Марк Аннунчио, который был сам по себе, но даже самому старшему из ученых, астрофизику Эммануэлю Джорджу Саймону, еще не было тридцати девяти. А темные густые волосы и большие блестящие глаза делали его еще моложе. Правда, блеском глаз он отчасти был обязан контактным линзам.
Саймон, слишком хорошо помнивший о своем возрасте, а также и о том, что именно он назначен номинальным начальником экспедиции (о чем большинство остальных было склонно забывать), обычно напускал на себя скептическое отношение к стоявшей перед ним задаче. Вот и сейчас он, просмотрев на руках перфоленту, дав ей снова свернуться в рулон и усевшись в самое мягкое кресло в крохотной гостиной для пассажиров, вздохнул и сказал:
— Все то же самое. Ничего.
Перед ним лежали последние цветные снимки системы двойной звезды Лагранжа, но даже их красота не производила на него никакого впечатления. Лагранж-I, поменьше и чуть горячее земного Солнца, сиял ярким зелено-голубым светом, как изумруд в золотой оправе. Он казался не больше горошины. Недалеко от него (насколько можно было судить по фотографии) находился Лагранж-II. Он был расположен так, что казался вдвое больше Лагранжа-I (на самом деле его диаметр составлял всего 4/5 диаметра Лагранжа-I, объем — половину, а масса — две трети). Его красно-оранжевые тона, к которым пленка была менее чувствительна, чем сетчатка человеческого глаза, выглядели на снимке еще тусклее, чем обычно, рядом с сиянием соседнего солнца.
Оба солнца окружала небывалая сверкающая россыпь звезд скопления Геркулеса, не тонувшая в солнечном свете благодаря специальным поляризованным объективам. Это было похоже на густо рассыпанную алмазную пыль — желтую, белую, голубую и красную.
— Ничего, — вздохнул Саймон.
— А по-моему, неплохо, — отозвался сидевший в гостиной врач Гроот Новенаагль — небольшого роста, полный человек, которого никто не называл иначе, чем «Нови».
— А где Малышка? — спросил он и нагнулся над Саймоном, глядя ему через плечо слегка близорукими глазами.
Саймон покосился на него:
— Она называется не «Малышка». Если вы имеете в виду планету Трою, то в этой проклятой мешанине звезд ее не видно. Эта картинка годится разве что для научно-популярного журнала. Толку от нее немного.
— Жаль… — разочарованно протянул Нови.
— А вам-то какая разница? — спросил Саймон. — Предположим, я скажу вам, что одна из этих точек — Троя. Любая. Вы все равно не отличите ее от других, так зачем вам это?
— Нет, погодите, Саймон. Пожалуйста, не изображайте такое презрение. Это же вполне законное чувство. Мы ведь будем жить на Малышке. Как знать, может быть, на ней мы и умрем…
— Нови, здесь нет ни слушателей, ни оркестра, ни микрофонов, ни фанфар — зачем ломать комедию? Мы там не умрем. Если и умрем, будем сами виноваты, да и то скорее всего — от обжорства.
Это было сказано так, как обычно люди с плохим аппетитом говорят о любителях поесть, будто скверное пищеварение неотделимо от безупречной добродетели и интеллектуального превосходства.
— Умерло же там больше тысячи человек, — тихо сказал Нови.
— Верно. Во всей Галактике умирает миллиард человек в день.
— Но не так.
— Не так?
Нови ответил, как обычно, лениво растягивая слова, хотя это стоило ему некоторого усилия:
— Решено этот вопрос обсуждать только на официальных заседаниях.
— Нечего тут и обсуждать, — мрачно сказал Саймон. — Это просто две обыкновенные звезды. Будь я проклят, если знаю, зачем вызвался лететь. Наверное, просто потому, что представился случай увидеть вблизи необычно большую звездную систему троянского типа. И еще — взглянуть на пригодную для обитания планету с двойным солнцем. Не знаю, почему я решил, что в этом есть что-нибудь удивительное.
— Потому что вы подумали о тысяче погибших мужчин и женщин, — сказал Нови и торопливо продолжал: — Послушайте, не можете ли вы мне сказать, что такое вообще «планета троянского типа»?
Врач стойко выдержал полный презрения взгляд собеседника и добавил:
— Ладно, ладно. Ну я не знаю. Вы тоже не все знаете. Что вы знаете об ультразвуковых разрезах?
— Ничего, — ответил Саймон, — и, по-моему, это очень хорошо. Я считаю, что всякая информация, выходящая за пределы прямой специальности, бесполезна и требует пустой траты умственного потенциала. С точкой зрения Шеффилда я не согласен.
— А все-таки я хочу знать. Конечно, если вы можете объяснить.
— Могу. Правда, об этом говорилось в первом информационном сообщении, если вы его слушали. У большинства кратных звезд — а это значит, у трети всех звезд — есть какие-нибудь планеты. К сожалению, они обычно непригодны для жизни. Если они достаточно далеки от центра тяготения звездной системы, чтобы иметь более или менее круговую орбиту, то на них так холодно, что их покрывают океаны жидкого гелия. Если же они достаточно близки, чтобы получить тепло, то их орбиты так неправильны, что по меньшей мере один раз за оборот они приближаются к какой-нибудь из звезд настолько, что на них и железо бы расплавилось. А здесь, в системе Лагранжа, все не так, как обычно. Обе звезды — Лагранж-I и Лагранж-II — и планета Троя со своим спутником Илионом находятся в вершинах воображаемого равностороннего треугольника. Ясно? А такое расположение, оказывается, устойчиво; только ради чего угодно не спрашивайте меня почему. Считайте, что это мое профессиональное мнение.
— Мне никогда не пришло бы в голову подвергать его сомнению, — пробормотал вполголоса Нови.
Казалось, Саймон остался чем-то недоволен, но продолжал:
— Вся система в целом вращается вокруг общего центра. Троя всегда находится в ста миллионах миль от каждого из солнц, а солнца — в ста миллионах миль друг от друга.
Нови почесал ухо. Он был как будто не совсем удовлетворен ответом.
— Это все я знаю. Я все-таки слушал информационное сообщение Но почему это называется планетой троянского типа? Что за «троянский тип»?
Тонкие губы Саймона на мгновение сжались, как будто он усилием воли сдержал резкое слово.
— У нас в Солнечной системе тоже есть такое сочетание. Солнце, Юпитер и группа мелких астероидов образуют устойчивый равносторонний треугольник. А астероидам были даны имена Гектора, Ахиллеса, Аякса и других героев троянской войны. Поэтому… Есть необходимость продолжать?
— И это все? — спросил Нови.
— Да. Теперь вы больше не будете ко мне приставать?
— О, пропадите вы пропадом.
Нови встал, оставив возмущенного астрофизика, но, за мгновение до того как его рука коснулась кнопки на дверном косяке, дверь скользнула вбок и в гостиную вошел Борис Вернадский — широколицый, чернобровый и большеротый геохимик экспедиции, отличавшийся неумеренным пристрастием к рубашкам в мелкий горошек и магнитным запонкам из красного пластика. Не обратив никакого внимания на раскрасневшееся лицо Нови и каменное выражение на физиономии астрофизика, он сказал:
— Братья-ученые, если вы внимательно прислушаетесь, то услышите там, наверху, в капитанской каюте, такой взрыв, какого еще никогда не слыхали.
— Что случилось? — спросил Нови.
— Капитан взял в оборот Аннунчио — этого драгоценного мага и чародея, с которым так носится Шеффилд, и тот понесся наверх с налитыми кровью очами.
Саймон, до сих пор слушавший его, фыркнул и отвернулся. Нови сказал:
— Шеффилд? Но ведь он и сердиться-то не умеет. Я никогда не слышал, чтобы он повысил голос.
— На этот раз он не выдержал. Когда он узнал, что мальчишка ушел из своей каюты, не сказав ему, и что капитан его кроет… Ого-го! Вы знали, что он уже гуляет, Нови?
— Нет, не знал, но это не удивительно. Такая уж штука космическая болезнь. Когда она тебя одолевает, кажется, что вот-вот умрешь. Даже хочется, чтобы поскорее. А через две минуты все как рукой снимает и чувствуешь себя здоровым. Слабым, но здоровым. Я утром сказал Марку, что мы завтра садимся. Вероятно, это его и вылечило. Мысль о близкой посадке на планете творит чудеса при космической болезни. Ведь мы в самом деле садимся, правда, Саймон?
Астрофизик издал невнятный звук, который можно было истолковать как утвердительное ворчание. По крайней мере так понял его Нови.
— А все-таки что случилось? — спросил Нови.
— Ну, Шеффилд живет у меня в каюте с тех пор, как мальчишка загнулся. Сидит он сегодня за столом со своими дурацкими таблицами и крутит карманную вычислительную машинку, как вдруг по телефону звонит капитан. Оказывается, мальчишка у него и капитан желает знать, зачем такое-сякое и этакое правительство вздумало подослать к нему шпиона. А Шеффилд орет ему, что проткнет его насквозь макронивелировочной трубкой Колламора, если он что-нибудь позволит себе с мальчишкой. А потом он вылетает из каюты, бросив трубку и оставив капитана с пеной у рта от ярости.
— Вы все выдумали, — сказал Нови. — Шеффилд никогда не скажет ничего подобного.
— Ну что-то в этом роде. Нови повернулся к Саймону:
— Вы возглавляете нашу группу. Почему вы ничего не предпримете?
— Ну да, в таких случаях я возглавляю группу, — огрызнулся Саймон. — Если что-нибудь случается, отвечаю я. Пусть разбираются сами. Шеффилд за словом в карман не полезет, а капитан никогда не вынет рук из-за спины. Яркое описание Вернадского еще не значит, что произойдет кровопролитие.
— Да, но зачем допускать ссоры в такой экспедиции?
— Вы говорите о нашей высокой миссии? — Вернадский в притворном ужасе воздел руки и закатил глаза. — О, как страшит меня мысль о том времени, когда мы окажемся среди костей и остатков первой экспедиции!
Представившаяся всем картина не вызывала особого веселья, и все замолчали. Даже затылок Саймона — единственное, что виднелось поверх спинки кресла, — казалось, на мгновение напрягся.
5
Освальд Мейер Шеффилд, психолог, был тощ, как жердь, и обладал столь же высоким ростом, а также могучим голосом, позволявшим ему с неожиданной виртуозностью исполнять оперные арии или же спокойно, но язвительно добивать противника в споре. Когда он входил в каюту капитана, на его лице не было заметно гнева, который можно было бы ожидать, судя по рассказу Вернадского. Он даже улыбался.
Как только он вошел, капитан набросился на него:
— Слушайте, Шеффилд…
— Минутку, капитан Фолленби, — прервал его Шеффилд. — Как ты себя чувствуешь, Марк?
Марк опустил глаза и глухо ответил:
— Все в порядке, доктор Шеффилд.
— Я не знал, что ты уже встал с постели.
В его голосе был слышен упрек, но Марк виновато ответил:
— Я почувствовал себя лучше, доктор Шеффилд, и мне не по себе без дела. Все время, что я на корабле, я ничего не делаю. Поэтому я позвонил капитану и попросил его показать мне судовой журнал, а он вызвал меня сюда.
— Ну хорошо. Я думаю, он не будет возражать, если ты сейчас вернешься к себе.
— Ах, не буду?.. — начал капитан. Шеффилд ласково поднял на него глаза:
— Я отвечаю за него, сэр.
И капитан почему-то не смог ничего возразить.
Марк послушно повернулся, чтобы идти. Шеффилд подождал, пока дверь за ним плотно закроется, и повернулся к капитану:
— Какого черта, капитан?
Капитан несколько раз угрожающе качнулся всем телом и с отчетливо слышным хлопком судорожно сцепил руки за спиной.
— Этот вопрос должен задать я. Я здесь капитан, Шеффилд.
— Я знаю.
— Знаете, что это значит, а? Пока этот корабль находится в космосе, он рассматривается как планета, и мне предоставлена на ней абсолютная власть. В космосе мое слово — закон. Даже Центральный Комитет Конфедерации не может его отменить. Я должен поддерживать дисциплину, и никакие шпионы…
— Ладно. А теперь, капитан, послушайте, что я вам скажу. Вас зафрахтовало Бюро по делам периферии, чтобы вы доставили правительственную экспедицию в систему Лагранжа, находились там столько, сколько понадобится для ее работы и сколько позволит безопасность экипажа и корабля, а потом доставили нас домой. Вы подписали договор и приняли на себя некоторые обязательства. Например, вы не должны трогать или портить наши приборы.
— Кто же их трогает? — возмутился капитан. Шеффилд спокойно ответил:
— Вы, капитан, оставьте в покое Марка Аннунчио. Вы не должны его трогать, так же как вы не трогаете монохром Саймона и микрооптику Вайо. Ясно?
Облаченная в мундир грудь капитана поднялась.
— Я не желаю выслушивать приказания на борту своего собственного корабля. Ваши разговоры — нарушение дисциплины, мистер Шеффилд. Еще слово — и вы будете арестованы в своей каюте вместе с вашим Аннунчио. Не нравится — можете обращаться в Контрольное бюро, когда вернетесь. А до тех пор — помалкивайте!
— Постойте, капитан, дайте мне объяснить. Марк — из Мнемонической Службы…
— Ну конечно, он так и говорил. Номоническая служба, номоническая служба… По-моему, это просто тайная полиция. Так вот, на борту моего корабля этого не будет, а?
— Мне-мо-ни-чес-кая Служба, — терпеливо повторил Шеффилд. — Это от греческого слова «память».
Капитан прищурился:
— Он что, все запоминает?
— Именно, капитан. Понимаете, это отчасти я виноват. Я должен был поставить вас в известность об этом. Я так и сделал бы, если бы мальчик не заболел сразу после старта. Я больше ни о чем не мог думать. И притом мне не приходило в голову, что он может заинтересоваться самим кораблем. Хотя почему же нет? Его все должно интересовать.
— Все, а? — капитан взглянул на стенные часы. — Так поставьте меня в известность сейчас, а? Без долгих разговоров. Время ограничено.
— Это недолго, уверяю вас. Вот, капитан, вы старый космический волк. Сколько обитаемых планет входит в Конфедерацию?
— Восемьдесят тысяч, — ответил капитан не задумываясь.
— Восемьдесят три тысячи двести, — поправил Шеффилд. — Кто, по-вашему, руководит такой огромной политической организацией?
Капитан снова без колебаний ответил:
— Вычислительные машины.
— Верно. Существует Земля, где половина населения обслуживает правительство и только и делает, что считает, а на всех других планетах есть вычислительные центры. И все равно многие сведения теряются. Каждая планета знает что-то такое, чего не знают другие. Даже почти каждый человек. Возьмите нашу маленькую группу. Вернадский не знает биологии, а я ничего не понимаю в химии. Ни один из нас, кроме Фоукса, не мог бы пилотировать самый простой патрульный космолет. Поэтому мы и работаем вместе: каждый приносит те познания, которых не хватает другим. Но тут есть одна зацепка. Ни один из нас не знает точно, что именно из того, что он знает, важно для других при данных обстоятельствах. Мы же не можем сидеть и рассказывать друг другу все, что знаем. Поэтому приходится гадать, и не всегда правильно. Например, есть два факта, А и Б, которые очень хорошо вяжутся друг с другом. И А, который знает факт А, говорит Б, который знает факт Б: «Почему же ты мне это не сказал десять лет назад?» А Б отвечает: «Я не знал, что это так важно» или «А я думал, об этом все знают».
— Вот для этого и нужны вычислительные машины, — сказал капитан.
— Но их возможности ограничены, капитан, — возразил Шеффилд. — Им нужно задавать вопросы; больше того, вопросы должны быть только такие, чтобы их можно было выразить ограниченным набором символов. А кроме того, машины все понимают буквально. Они отвечают на вопрос, который вы задаете, а не на то, что вы при этом имеете в виду. Бывает, никому не приходит в голову задать нужный вопрос или ввести в машину нужные символы, а в таких случаях по своей инициативе она информацию не выдает. Нам, всему человечеству, нужна не механическая вычислительная машина, а машина, наделенная воображением. Вот одна такая машина, капитан, — Шеффилд постучал себя пальцем по виску. — У каждого такая есть, капитан.
— Может быть, — проворчал капитан, — только уж я лучше предпочту обычную, а? Ту, что с кнопками.
— Вы уверены? Ведь у машин не бывает неожиданных догадок. А у вас бывают.
— А это относится к делу? — капитан снова взглянул на часы.
— Где-то в глубине человеческого мозга хранятся все сведения, которые ему попадаются. Сознательно он помнит очень немногое, но все они там есть, и по ассоциации могут вспомниться любые из них, а человек даже не будет знать, откуда что взялось. Это и называется догадкой, или интуицией. У некоторых людей это получается лучше, чем у других. А некоторых можно этому научить. Кое-кто почти достигает совершенства, как Марк Аннунчио и еще сотня ему подобных. Я надеюсь, что когда-нибудь их будет миллиард, и тогда Мнемоническая Служба в самом деле заработает.
Всю свою жизнь, — продолжал Шеффилд, — эти люди ничего не делают — только читают, смотрят и слушают. И учатся делать это все лучше, эффективнее. Неважно, какие сведения они запоминают. Эти сведения могут на первый взгляд не иметь ни смысла, ни значения. Пусть кому-нибудь из мнемонистов вздумается целую неделю изучать результаты соревнований по космическому поло в секторе Канопуса за последние сто лет. Любые сведения могут когда-нибудь пригодиться. Это основная аксиома. А время от времени кто-нибудь из мнемонистов делает такие сопоставления, какие не могла бы сделать ни одна машина. Потому что ни одна машина не может располагать этими совершенно не связанными между собой сведениями, а если она их и имеет, то ни один нормальный человек никогда не задаст ей нужного вопроса. Одна хорошая корреляция, предложенная Мнемонической Службой, может окупить все затраты на нее за десять лет, а то и больше.
Капитан забеспокоился и поднял свою широкую руку:
— Погодите. Аннунчио сказал, что в земных регистрах нет корабля под названием «Трижды Г». Значит, он знает наизусть все названия, какие только есть в регистрах?
— Вероятно. Наверное, он прочитал Регистр торговых судов. В этом случае он знает все названия, тоннаж, годы постройки, порты приписки, численность экипажа и все остальное, что есть в Регистре.
— А еще он считал звезды.
— А почему бы и нет? Это тоже информация.
— Будь я проклят!
— Не исключено, капитан. Но я хочу сказать, что люди, подобные Марку, не такие, как все. Он получил необычное, ненормальное воспитание, у него выработалось необычное, ненормальное восприятие жизни. С тех пор как в пятилетнем возрасте он поступил в Мнемоническую Службу, он впервые покинул ее территорию. Он легко возбудим, и ему можно нанести непоправимый вред Это не должно произойти, и мне поручено следить, чтобы этого не случилось. Он — мой прибор; он ценнее, чем любой прибор на этом корабле. Таких, как он, на весь Млечный Путь всего сотня.
Лицо капитана Фолленби ясно выражало уязвленное чувство собственного достоинства.
— Ну ладно. Значит, журнал Строго конфиденциально, а?
— Строго Он рассказывает все только мне, а я никому не рассказываю, если только не сделано цепное сопоставление.
Судя по виду капитана, это не совсем соответствовало тому, что он понимал под словами «строго конфиденциально», но он сказал.
— И Никаких разговоров с экипажем. После многозначительно добавил:
— Вы знаете, что я имею в виду. Шеффилд шагнул к двери.
— Марк в курсе дела Поверьте, экипаж от него ничего не узнает.
Когда он уже выходил, капитан окликнул его:
— Шеффилд! — Да?
— А что такое «нонкомпос»? Шеффилд подавил улыбку.
— Он вас так назвал?
— Что это такое, я спрашиваю!
— Просто сокращение слов «нон компос ментис». Все мнемонисты называют так всех, кто не принадлежит к Мнемонической Службе Это относится и к вам. И ко мне. По-латыни это значит «не в своем уме». И знаете, капитан, по-моему, они правы.
Он быстро ушел
6
На просмотр судового журнала Марку Аннунчио понадобилось секунд пятнадцать. Он ничего там не понял, но он не понимал большинства из того, что запоминал. Это его не смущало Не смутило его и то, что журнал оказался скучным. Но Марк так и не нашел там того, что искал, и отложил журнал со смешанным чувством облегчения и неудовольствия.
Марк направился в библиотеку и просмотрел десятка четыре книг с такой скоростью, какую только дозволяло развить сканирующее устройство В детстве он три года учился так читать и до сих пор с гордостью вспоминал, как на выпускных экзаменах установил рекорд школы.
Наконец Марк забрел в лабораторный отсек и начал заглядывать то в одну, то в другую лабораторию. Он не задавал никаких вопросов и уходил, как только кто-нибудь обращал на него внимание.
Марк ненавидел их невыносимую привычку глядеть на него, как на какое-то диковинное животное Он ненавидел их всезнающий вид, как будто стоило тратить все возможности мозга на один крохотный предмет и при этом помнить какую-то ничтожную его часть.
Конечно, со временем придется задавать им вопросы Это его работа, а даже если бы и было иначе, он все равно бы не удержался — из любопытства Впрочем, он надеялся выдержать до тех пор, когда они сядут на планету.
Марк был рад, что корабль находится уже в пределах звездной системы. Скоро он увидит новую планету с новыми солнцами, да еще двумя, и новой луной Четыре объекта, каждый из которых содержит свеженькую информацию; бездна фактов, которые можно любовно собирать и сортировать.
У Марка захватило дух при одной мысли об этой бесформенной горе сведений, которая его ожидала Ему представился собственный мозг в виде огромной картотеки с перекрестным указателем, простиравшейся бесконечно во всех направлениях Аккуратный, четкий, хорошо смазанный механизм высочайшей точности.
Он чуть не засмеялся, подумав о тех пыльных чердаках, которые называют мозгом нонкомпосы. Он чувствовал это даже тогда, когда говорил с доктором Шеффилдом. А этот еще был из лучших: он очень старался все понять, и иногда это ему почти удавалось. У всех остальных пассажиров корабля были не мозги, а дровяные склады — пыльные дровяные склады, заваленные трухой, и достать оттуда можно было только то, что лежало сверху.
Бедные глупцы! Он бы их пожалел, не будь они такими злобными Если бы они только знали, на что похожи их мозги! Если бы они это поняли!
Все свободное время Марк проводил в наблюдательных рубках, следя за приближением новых миров.
Корабль прошел недалеко от Илиона. Саймон педантично называл планету, куда они направлялись, Троей, а ее спутник — Илионом, хотя все остальные окрестили их Малышкой и Сестренкой. По другую сторону от двух солнц, в противоположной «троянской точке», находилась группа астероидов. Саймон называл их «Лагранж-Эпсилон», все остальные — Щенками.
Все эти смутные мысли пронеслись одновременно в мозгу Марка, как только он подумал об Илионе. Он почти не осознал их и пропустил как не представляющие в данный момент интереса. Еще более смутно и еще глубже в его подсознании зашевелилось еще сотен пять подобных нехитрых кличек, заменявших торжественные астрономические наименования. Некоторые из них он где-то вычитал, другие услышал в субэфирных передачах, третьи узнал из обычных разговоров, а некоторые встречались ему в последних известиях. Кое-что ему говорили прямо, кое-что было подслушано. Даже «Трижды Г», заменившее «Георга Г. Гронди», тоже стояло в этой туманной картотеке.
Шеффилд часто расспрашивал Марка о том, что происходило в его мозгу, — расспрашивал очень мягко, очень осторожно.
— Мнемонической Службе нужно много таких, как ты, Марк. Миллионы, а со временем — и миллиарды, если наша раса заселит всю Галактику. А откуда они возьмутся? Полагаться на врожденный талант не приходится. Им наделены все мы, в большей или меньшей степени. Важнее всего обучение, а чтобы обучать, мы должны узнать, как это делается.
И, понуждаемый Шеффилдом, Марк следил за собой, слушал себя, изучал себя, пытаясь это осознать. Он понял, что его мозг подобен гигантской картотеке; он видел, как карточки строятся одна за другой; он заметил, как нужные сведения выскакивают по первому зову, трепеща от готовности служить. Это было трудно объяснить Шеффилду, но он старался, как мог.
И его уверенность в себе росла. Забывались тревоги его детства, первых лет Службы. Он перестал просыпаться среди ночи, весь в поту, с криком ужаса при мысли о том, что он может все забыть. Прекратились и головные боли.
Марк увидел в иллюминаторе Илион. Он был ярче, чем любая луна, какую только Марк мог себе представить. (В его мозгу в убывающем порядке проплыли цифры — отражающая способность поверхности трехсот обитаемых планет Он почти не обратил на них внимания.)
Перед ним ослепительно сверкали огромные пятна неправильной формы. Недавно Марк подслушал, как Саймон, устало отвечая на чей-то вопрос, сказал, что когда-то это было морское дно. Тут же в мозгу Марка возник еще один факт. В первом сообщении Хидошеки Макоямы говорилось, что состав этих ярких солевых отложений — 78,6 % хлористого натрия, 19,2 % карбоната магния, 1,4 % сульфата ка… Мысль оборвалась — она была не нужна.
На Илионе была атмосфера Всего около 100 миллиметров ртутного столба. (Чуть больше 1/8 земной, в десять раз больше марсианской, 0,254 атмосферы Коралемона, 0,1376 — Авроры…) Он лениво следил, как растут десятичные знаки. Это было полезное упражнение, но скоро оно ему надоело. Мгновенный счет они проходили еще в пятом классе. Сейчас для него представляли трудность лишь интегралы. Иногда ему приходило в голову: это оттого, что он не знает, что такое интеграл. Мелькнуло полдюжины определений, но ему не хватало математических знаний, чтобы их понять, хотя процитировать их на память он мог.
В школе им всегда говорили: «Старайтесь не увлекаться каким-нибудь одним предметом или темой. Как только вы заинтересуетесь, вы начнете отбирать факты, а этого вы никогда не должны делать. Для вас важно все. Раз уж вы запомнили тот или иной факт, неважно, понимаете вы его или нет».
А нонкомпосы думают иначе. Зазнавшиеся дырявые мозги!
Теперь они приближались к самой Малышке. Она тоже ярко светилась, но по-своему. На севере и на юге планеты сверкали полярные шапки. (Перед глазами Марка поплыли страницы учебников палеоклиматологии Земли, но он не стал их останавливать.) Полярные шапки отступали. Еще миллион лет — и на Малышке будет такой же климат, как сейчас на Земле. Размер и масса Малышки были такими же, как у Земли, а период ее вращения составлял 36 часов.
Это был настоящий двойник Земли. А те отличия, о которых говорилось в сообщении Макоямы, были в пользу Малышки. Насколько было известно до сих пор, на Малышке ничто не угрожало человеку. Никто и не подумал бы, что гам может таиться какая-то опасность.
Если бы только не то обстоятельство, что первая колония людей на этой планете погибла до последнего человека.
Хуже того, это произошло таким образом, что вся сохранившаяся информация никак не могла объяснить, что же все-таки случилось.
7
За два часа до посадки Шеффилд пришел в каюту к Марку. Сначала их поселили в одной каюте. Это был эксперимент: мнемонисты не любили находиться в обществе нонкомпосов. Даже самых лучших. Во всяком случае, эксперимент не удался. Почти сразу же после старта покрытое испариной лицо и умоляющие глаза Марка ясно показали, что ему необходимо остаться одному.
Шеффилд чувствовал себя виноватым. Он отвечал за все, что было связано с Марком, — неважно, была в этом его вина или нет. Он и ему подобные брали детей вроде Марка и своим воспитанием губили их. Их рост искусственно ускоряли. Из них делали все, что хотели. Им не разрешали общаться с нормальными детьми, чтобы они не приобрели привычки к нормальному мышлению. Ни один мнемонист еще не вступил в нормальный брак, даже в пределах своей группы.
Поэтому Шеффилд чувствовал себя страшно виноватым.
Первую дюжину таких ребят вырастили двадцать лет назад в школе Ю. Караганды. Со временем Караганда по каким-то неясным причинам покончил с собой, но другие психологи, менее гениальные, но более респектабельные, и в том числе Шеффилд, успели поработать с ним и стать его учениками. Школа росла, к ней прибавились другие. Одна из них даже была основана на Марсе. В данный момент в ней училось пять человек. По последним сведениям, в живых насчитывалось 103 человека, прошедших полный курс (естественно, до конца доучивалась лишь малая часть поступавших). А пять лет назад Общепланетное правительство Земли организовало в системе Департамента внутренних дел Мнемоническую Службу.
Мнемоническая Служба уже окупилась сторицей, но об этом знали лишь немногие. Общепланетное правительство не устраивало вокруг нее шума. Это было его уязвимое место — эксперимент, неудача которого могла дорого обойтись. Оппозиция, которую с трудом уговорили не замешивать этого вопроса в предвыборную кампанию, не упускала случая поговорить на общепланетных съездах о «разбазаривании средств налогоплательщиков». И это — несмотря на то, что существовали документальные доказательства обратного.
В условиях машинной цивилизации, заполнившей всю Галактику, трудно научиться оценивать достижения невооруженного разума. Этому нужно долго учиться. «Сколько же?» — подумал Шеффилд.
Однако в присутствии Марка следовало скрывать грустные мысли. Слишком велика опасность того, что это повлияет на его настроение. Поэтому Шеффилд сказал:
— Ты выглядишь прекрасно.
Марк, казалось, был рад с ним увидеться. Он задумчиво произнес:
— Когда мы вернемся на Землю, доктор Шеффилд… Он запнулся, слегка покраснел и продолжал:
— То есть если мы вернемся, я достану, сколько смогу, книг и пленок о народных обычаях и суевериях. Я почти ничего о них не читал. Я был в корабельной библиотеке — там на эту тему ничего нет.
— А почему это тебя интересует?
— Да это все капитан. Вы, кажется, говорили — он сказал, команда не должна знать, что мы посетим такую планету, на которой погибла первая экспедиция?
— Да, конечно. Ну и что?
— Потому что космолетчики считают плохой приметой посадку на такой планете, особенно если она с виду безобидна, да? Их называют «ловушками для простаков».
— Верно.
— Так говорит капитан. Но только, по-моему, это неправда. Я помню, что есть семнадцать годных для жизни планет, с которых не вернулись первые экспедиции и не основали там колоний. И все равно потом все они были освоены и теперь входят в Конфедерацию. Взять хотя бы Сарматию — теперь это вполне приличная планета.
— Но есть и такие планеты, где постоянно происходят несчастья.
Шеффилд нарочно сказал это в утвердительной форме. «Никогда не задавайте наводящих вопросов», — таков один из Законов Караганды. Мнемонические сопоставления — не сознательное порождение разума; они не подчиняются воле человека. Как только задается прямой вопрос, появляются сопоставления, но лишь такие, какие мог бы сделать любой более или менее сведущий человек. Только подсознание может перебросить мостик через огромные, неожиданные пробелы.
Марк попался на эту удочку, как это сделал бы на его месте любой мнемонист Он энергично возразил:
— Нет, я о таких не слыхал. Во всяком случае, если планета вообще годится для жизни. Если она вся ледяная или сплошная пустыня — тогда другое дело. Но Малышка не такая.
— Да, не такая, — согласился Шеффилд.
— Тогда почему бы команде ее бояться? Я думал об этом все время, пока лежал в постели. Вот почему я и решил посмотреть судовой журнал. Я никогда ни одного не видел, так что все равно это было бы полезно. И, конечно, я думал, что найду там правду.
— Угу, — произнес Шеффилд.
— И, знаете, я, кажется, ошибался. Во всем журнале нигде не говорится о цели экспедиции. Это значит, что цель составляет секрет. Похоже, что он держит ее в тайне даже от других офицеров корабля. А корабль там в самом деле назван «Георг Г. Гронди».
— А как же иначе?
— Ну, не знаю. У меня были кое-какие подозрения насчет «Трижды Г», — загадочно ответил Марк.
— Ты как будто разочарован, что капитан не солгал, — сказал Шеффилд.
— Не разочарован. Пожалуй, я чувствую облегчение. Я думал… Я думал…
Он замолчал в крайнем смущении, но Шеффилд и не пытался прийти ему на помощь. Марку пришлось продолжать:
— Я думал, может быть, все мне говорят неправду, а не только капитан? Может быть, даже вы, доктор Шеффилд. Я думал, вы просто почему-то не хотите, чтобы я разговаривал с экипажем.
Шеффилд попытался улыбнуться, что ему удалось. Подозрительность была профессиональным заболеванием мнемонистов. Они жили отдельно от остальных людей и многим отличались от них. Последствия этого были ясны.
Шеффилд весело ответил:
— Я думаю, когда ты прочитаешь про народные поверья, ты увидишь, что они могут быть совершенно нелогичными. От планеты, пользующейся дурной славой, ждут зла. Если случается что-нибудь хорошее, на это не обращают внимания, а обо всем плохом кричат на каждом перекрестке, да еще с преувеличениями Молва растет, как снежный ком.
Шеффилд подошел к гидравлическому креслу. Скоро посадка. Он без всякой надобности потрогал широкие лямки и, стоя спиной к юноше, чтобы тому не было видно его лицо, произнес почти шепотом:
— Но, конечно, хуже всего то, что Малышка совсем не такая, как те планеты.
(«Полегче, полегче. Не нажимай. Это уже не первая попытка…»)
— Нет, ничуть, — ответил Марк. — Те экспедиции, что погибли, были не такими. Вот это верно.
Шеффилд стоял, повернувшись к нему спиной, и ждал. Марк продолжил:
— Все семнадцать экспедиций, что погибли на планетах, которые сейчас заселены, были маленькими разведочными партиями. В шестнадцати случаях причиной гибели была какая-нибудь авария с кораблем, а в семнадцатом, на Малой Коме, — неожиданное нападение местной формы жизни — конечно, не разумной. Я помню все подробности…
Шеффилд невольно затаил дыхание. Марк и в самом деле мог рассказать все подробности. Все. Процитировать на память все сообщения каждой из экспедиций, слово в слово, было для него так же легко, как сказать «да» или «нет». И он это сделает, если ему вздумается. Мнемонисты не обладают избирательностью. Это было одним из обстоятельств, которые делали невозможным их нормальное общение с нормальными людьми. По существу своему все мнемонисты — страшные зануды. Даже Шеффилд, привычный выслушивать все и не собиравшийся прерывать Марка, если тому захотелось поговорить, даже он вздохнул про себя.
— …Но это неважно, — продолжал Марк, и Шеффилд почувствовал огромное облегчение. — Они просто были совсем не такими, как экспедиция на Малышку. Это же была настоящая колония — 789 мужчин, 207 женщин и 15 детей моложе тринадцати лет. За первый же год к ним прибавилось еще 315 женщин, 9 мужчин и двое детей. Колония просуществовала два года, и причина ее гибели не установлена, если не считать того, что, судя по их сообщениям, это могла быть какая-то болезнь. Вот в чем действительно есть различие. Но сама Малышка ничем не выделяется — конечно, если не говорить о…
Марк умолк, как будто это было слишком несущественно и не заслуживало упоминания. Шеффилд чуть не закричал от нетерпения, но заставил себя произнести:
— А, об этом…
Марк сказал:
— Ну, это все знают. У Малышки два солнца, а у других — по одному.
Психолог чуть не заплакал от разочарования. Опять неудача!
Но что делать? В другой раз может повезти. С мнемонистом приходится быть терпеливым, иначе от него не будет никакого толку.
Он сел в гидравлическое кресло и поплотнее пристегнулся. Марк сделал то же (Шеффилд хотел бы ему помочь, но это было бы неразумно). Он взглянул на часы. Уже сейчас они, вероятно, спиралью идут на снижение.
Кроме разочарования, Шеффилд ощущал сильное беспокойство. Марк Аннунчио поступил неправильно, начав действовать согласно своему убеждению, будто капитан и все остальные его обманывают. Мнемонисты нередко думали, что раз им известно огромное количество фактов — значит, они знают все. Очевидно, это было их первейшее заблуждение. Поэтому они должны (так говорил Караганда!) сообщать свои сопоставления соответствующему начальству и никогда не должны действовать сами.
Но что означал этот проступок Марка? Он первым из мнемонистов покинул территорию Службы, первым расстался с себе подобными, первым оказался в одиночестве среди нонкомпосов. Как это на него подействует? Что он будет делать дальше? Не будет ли беды? И если будет, то как ее предотвратить?
На все эти вопросы доктор Освальд Мейер Шеффилд ответить не мог.
8
Тем, кто управлял кораблем, повезло. Им и, конечно, Саймону, который в качестве астрофизика и начальника экспедиции присоединился к ним по специальному разрешению капитана. Остальные члены экипажа были заняты на своих постах, а ученые на время спирального спуска к Малышке предпочли относительный комфорт своих гидравлических кресел.
Самым великолепным это зрелище было тогда, когда Малышка была еще довольно далеко и всю ее можно было окинуть взглядом.
На севере и на юге треть планеты покрывали ледяные шапки, только начавшие свое тысячелетнее отступление. Посадочная спираль «Трижды Г» была продолжена с севера на юг специально, чтобы можно было разглядеть полярные области, как настоял Саймон, хотя это была и не самая безопасная траектория. Поэтому под ними расстилалась то одна, то другая ледяная шапка. Обе они одинаково сияли в солнечных лучах: ось Малышки не имела наклона. И каждая шапка была разделена на секторы, как торт, разрезанный радужным ножом.
Одна треть была освещена обоими солнцами и сверкала ослепительно белым светом, который понемногу желтел к западу и зеленел к востоку. Восточнее белого сектора лежал следующий, вдвое уже его, освещенный только Лагранжем-I, и здесь снег горел сапфировыми отблесками. К западу еще полсектора, доступные только лучам Лагранжа-II, светились теплыми оранжево-красными тонами земного заката. Цвета полосами переходили друг в друга, отчего сходство с радугой еще усиливалось.
И, наконец, последняя треть казалась сравнительно темной, но можно было разглядеть, что и она делится на неравные части. Меньшая была в самом деле черной, а большая — слегка молочного цвета.
— Лунный свет? Ну конечно, — пробормотал Саймон и поспешно огляделся, не слышал ли кто-нибудь. Он не любил, когда кто-то наблюдал за тем, как в его уме складываются заключения. Они должны были представать перед студентами и слушателями в готовом, законченном виде, без всяких следов рождения и развития.
Но вокруг сидели только космонавты, которые ничего не слышали. В своих полетах они всякого насмотрелись, но здесь и они отрывались от приборов лишь для того, чтобы пожирать глазами открывавшиеся перед ними чудесные картины.
Спираль спуска изогнулась, переменила свое направление на юго-западное, обещавшее меньше всего риска при посадке. В рубку проник глухой рев прорезаемой атмосферы — сначала резкий и высокий, но становившийся все более низким и гулким.
До сих пор в интересах научных наблюдений (и к немалому беспокойству капитана) спираль была крутой, скорость снижалась медленно, а облетам планеты не было конца. Но как только корабль вошел в воздушную оболочку Малышки, перегрузки резко возросли, а поверхность планеты как будто бросилась им навстречу.
Ледяные шапки исчезли из виду, сменившись равномерным чередованием суши и воды. Под ними все реже и реже проносился материк с гористыми окраинами и равниной посередине, как суповая миска с двумя ледяными ручками. Материк занимал половину планеты — остальное было покрыто водой.
Большая часть океана в этот момент приходилась на темный сектор, а остальное было залито красновато-оранжевым светом Лагранжа-II. В этом свете вода казалась тускло-пурпурной. Там и сям виднелись багровые точки, к северу и к югу их становилось больше. Айсберги!
Часть суши находилась в красновато-оранжевом полусекторе, другая часть была освещена ярким белым светом. Только восточное побережье казалось синевато-зеленым. Поразительное зрелище представлял восточный горный хребет. Его западные склоны были красными, восточные — зелеными.
Корабль быстро замедлил свое движение. Он в последний раз пролетел над океаном. Началась посадка.
9
Первые шаги экспедиции на новой планете были достаточно осторожными и медленными. Саймон долго разглядывал цветные фотографии Малышки, снятые из космоса с наибольшей возможной точностью. По требованию членов экспедиции снимки были розданы и им, и не один из них застонал про себя при мысли, что в погоне за комфортом лишил себя возможности увидеть это великолепие в оригинале.
Борис Вернадский, что-то ворча, не отрывался от своего газового анализатора.
— По-моему, мы примерно на уровне моря, — сказал он. — Судя по величине g.
И он небрежно добавил, объясняя остальным:
— То есть гравитационной постоянной. Большинство все равно ничего не поняло, но он продолжал:
— Атмосферное давление — около 800 миллиметров ртутного столба, значит, процентов на пять выше, чем на Земле. И из них 240 миллиметров — кислород, а на Земле только 150. Неплохо.
Он как будто ожидал одобрительных откликов, но ученые предпочитали как можно меньше высказываться по поводу данных из чужой области. Вернадский продолжал:
— Конечно, азот. Скучно — природа повторяется как трехлетний ребенок, который выучил только три урока. Теряешь всякий интерес, когда видишь, что планета, где есть вода, всегда имеет кислородно-азотную атмосферу. Тоска, да и только.
— Что еще в атмосфере? — раздраженно спросил Саймон. — До сих пор мы слышали только про кислород, азот и еще познакомились с собственными соображениями дядюшки Бориса.
Вернадский оперся на спинку кресла и довольно добродушно огрызнулся:
— А вы кто такой? Начальник, что ли?
Саймон, для которого руководство экспедицией сводилось к необходимости писать длинные отчеты для Бюро, покраснел и мрачно повторил:
— Что еще есть в атмосфере, доктор Вернадский? Не глядя в свои записи, Вернадский ответил:
— От 0,01 до 1 процента водорода, гелия и двуокиси углерода — в порядке убывания. От 0,0001 до 0,001 процента аргона и неона в порядке убывания. От 0,000001 до 0,00001 процента радона, криптона и ксенона в порядке убывания. Информация не очень обильная. Все, что я могу из этих цифр извлечь, — это то, что Малышка окажется богатой ураном, бедной калием, и не удивительно, что у нее такие симпатичные ледяные шапки.
Это было сказано явно в расчете на то, что кто-нибудь удивленно спросит, откуда он знает, и кто-то, конечно, спросил. Довольный Вернадский ласково улыбнулся и ответил:
— Радона в атмосфере в 10 — 100 раз больше, чем на Земле. Гелия тоже. Радон и гелий образуются при радиоактивном распаде урана и тория. Вывод: урановых и ториевых минералов в коре Малышки в 10 — 100 раз больше, чем в земной. С другой стороны, аргона более чем в 100 раз меньше, чем на Земле. Скорее всего на Малышке вовсе не осталось первоначального аргона. На планетах такого типа аргон может образовываться только из калия-40 — одного из изотопов калия. Мало аргона — значит, мало калия. Проще пареной репы.
Один из ученых спросил:
— А насчет ледяных шапок?
Саймон, который знал ответ на этот вопрос, перебил Вернадского, собравшегося было ответить:
— Каково точное содержание двуокиси углерода?
— Ноль ноль шестнадцать миллиметра, — ответил Вернадский.
Саймон кивнул и от дальнейших разговоров воздержался.
— Ну и что? — нетерпеливо спросил тот, кто задал первый вопрос.
— Двуокиси углерода примерно вдвое меньше, чем на Земле, а она вызывает парниковый эффект. Она пропускает к поверхности коротковолновую часть солнечного излучения, но не выпускает наружу длинноволновое тепловое излучение планеты. Когда в результате вулканической деятельности содержание двуокиси углерода повышается, планета нагревается, и начинается каменноугольный период с высоким уровнем океанов и минимальной поверхностью суши. Когда растительность начинает поглощать бедную двуокись углерода и толстеть за ее счет, температура падает, образуются ледники, начинается порочный круг оледенения, и вот пожалуйста…
— Что-нибудь еще есть в атмосфере? — спросил Саймон.
— Водяные пары и пыль. И вдобавок, вероятно, в каждом кубическом сантиметре взвешено несколько миллионов возбудителей разных заразных болезней.
Он произнес это довольно весело, но по комнате прошло какое-то движение. У многих захватило дыхание. Вернадский пожал плечами и сказал:
— Пока погодите волноваться. Мой анализатор хорошо отмывает пыль и споры. И вообще это не мое дело. Предлагаю Родригесу сейчас же вырастить свои проклятые культуры под стеклом. Под хорошим толстым стеклом!
10
Марк Аннунчио бродил повсюду. Он слушал с сияющими глазами и лез везде, чтобы слышать лучше. Члены экспедиции терпели это, относясь к нему с разной степенью неприязни в зависимости от характера и темперамента. Никто с ним не заговаривал.
Шеффилд держался поблизости от Марка. Он тоже почти не разговаривал. Все его усилия были направлены на то, чтобы не попадаться Марку на глаза. Он не хотел, чтобы Марк чувствовал, будто он его преследует; он хотел, чтобы мальчик чувствовал себя свободным. Он старался, чтобы каждое его появление выглядело случайным.
Он чувствовал, что эти попытки тщетны, но что он мог поделать? Он должен следить, чтобы мальчик не впутался в беду.
11
Микробиолог Мигель Антонио Родригес-и-Лопес был смуглый человек небольшого роста с иссиня-черными длинными волосами и репутацией заправского сердцееда как и подобало представителю латинской расы (избавиться от этой репутации он не стремился). Со своей обычной тщательностью и аккуратностью он вырастил культуры микроорганизмов из пыли, уловленной газовым анализатором Вернадского.
— Ничего, — сказал он в конце концов. — Те дурацкие культуры, которые растут, выглядят совершенно безвредными.
Ему возразили, что бактерии Малышки могут только казаться безобидными и что токсины и метаболические процессы нельзя изучать на глазок, даже вооружившись микроскопом.
Это вторжение в область его профессии возмутило его. Подняв бровь, он заявил:
— У меня на это чутье. Кто с мое поработает с микромиром, начинает чуять, есть опасность или нет.
Это было чистейшее хвастовство, но Родригес сумел подтвердить свои слова, тщательно перенеся пробы различных колоний микробов в буферные изотонические растворы и введя их концентрат хомякам, что не произвело на них никакого впечатления.
В большие контейнеры взяли пробы воздуха и впустили туда несколько мелких животных с Земли и других планет. На них это тоже не произвело впечатления.
12
Ботаником экспедиции был Невил Фоукс, державшийся весьма высокого мнения о своей красоте и подчеркивавший ее прической наподобие той, с которой древние скульпторы обычно изображали Александра Македонского; правда, наружность Фоукса сильно портил нос, куда более орлиный, чем у Александра. В течение двух суток (по счету Малышки) Фоукс совершил облет планеты на одной из атмосферных ракет «Трижды Г». Он был единственный человек на корабле, помимо экипажа, который умел управлять такой ракетой, так что задача, естественно, легла на его плечи. Казалось, Фоукс не слишком этому радовался.
Он вернулся в целости и сохранности, не пытаясь скрыть улыбку облегчения. Его облучили, чтобы стерилизовать поверхность эластичного скафандра, предназначенного для защиты от губительного действия внешней среды на планетах с нормальным давлением в таких случаях прочный суставчатый космический скафандр был не нужен. Ракету еще сильнее облучили и укрыли пластиковым чехлом.
Фоукс с гордостью демонстрировал множество цветных снимков. Центральная равнина континента была невероятно плодородной. Реки были полноводны, горы — круты и покрыты снегом, с обычными пиротехническими эффектами солнечного освещения. При свете одного Лагранжа-II растительность казалась мрачноватой, темной, как запекшаяся кровь. Но в лучах Лагранжа-I или обоих солнц сразу яркая пышная зелень и блеск многочисленных озер (особенно на севере и на юге, у кромки отступающих ледников) заставили многих с тоской вспоминать далекую родину.
— Посмотрите, — сказал Фоукс.
Он снизился, чтобы снять луг, поросший огромными цветами ярко-алого цвета. При высоком ультрафиолетовом излучении Лагранжа-I экспозиции были по необходимости очень короткими, и, несмотря на скорость ракеты, каждый цветок выделялся ярким, резким пятном.
— Уверяю вас, — сказал Фоукс, — каждый из них не меньше двух метров в поперечнике.
Все не скрывали своего восхищения цветами. Потом Фоукс добавил:
— Конечно, никакой разумной жизни.
Шеффилд поднял взгляд от фотографий. В конце концов, люди и разум были его специальностью.
— Откуда вы знаете?
— Посмотрите сами, — сказал ботаник. — Вот фотографии. Никаких городов, никаких дорог, никаких искусственных водоемов, никаких признаков искусственных сооружений.
— Это значит, что нет машинной цивилизации, — возразил Шеффилд, — только и всего.
— Даже обезьянолюди построили бы хижины и разводили бы огонь, — ответил обиженный Фоукс.
— Континент в десять раз больше Африки, а вы облетели его за два дня. Вы могли многое не заметить.
— Не так уж много, — горячо возразил Фоукс. — Я пролетел над всеми значительными реками от их устьев до истоков и осмотрел оба побережья. Если здесь есть поселения, то они должны быть именно там.
— Если считать семьдесят два часа на два побережья по восемь тысяч миль каждое в десяти тысячах миль друг от друга, да еще много тысяч миль рек, то это был довольно-таки беглый осмотр.
— К чему эти разговоры? — вмешался Саймон. — Во всей Галактике, на ста с лишним тысячах планет, единственная обнаруженная разумная жизнь — гомо сапиенс. Вероятность разумной жизни на Трое практически равна нулю.
— Да? — возразил Шеффилд. — Таким же способом можно доказать, что и на Земле нет разумной жизни.
— В докладе Макоямы не говорилось ни о какой разумной жизни, — ответил Саймон.
— А много ли у него было времени? Это то же самое, что потыкать пальцем в стог сена и сообщить, что иглы там нет.
— О, вечная Вселенная, — раздраженно сказал Родригес, — что за дурацкие споры? Будем считать гипотезу о наличии здесь разумной жизни неподтвержденной и оставим это. Надеюсь, мы еще не кончили исследования?
13
Копии этих первых снимков поверхности Малышки были помещены в картотеку, доступ к которой был открыт для всех. После второго облета Фоукс вернулся подавленным, и последовавшее совещание проходило в куда более мрачной атмосфере.
Новые снимки обошли всех, а потом Саймон запер их в сейф, который мог открыть только он сам или же мощный ядерный взрыв.
Фоукс рассказывал:
— Обе большие реки текут в меридиональном направлении вдоль восточных отрогов западной горной цепи. Та, что побольше, вытекает из северной полярной шапки, поменьше — из южной. Притоки текут к западу с восточного хребта, пересекая всю центральную равнину. Очевидно, она имеет уклон к западу. Вероятно, этого можно было ожидать: восточная горная цепь выше, мощнее и протяженнее западной. Я не смог ее измерить, но не удивлюсь, если она не уступит Гималаям. Она похожа на хребет Ву-Чао на Гесперусе. Чтобы перелететь ее, приходится забираться в стратосферу, а обрывы… Ух!
Он заставил себя вернуться к теме разговора.
— Так вот, обе главные реки сливаются в сотне миль южнее экватора и изливаются через разрыв в западном хребте. Оттуда до океана чуть меньше восьмидесяти миль. Их устье — идеальное место для столицы планеты. Здесь сходятся торговые пути со всего континента, так что это неизбежно должен быть центр торговли. Даже если говорить о торговле только в пределах планеты, товары с восточного берега все равно пришлось бы везти морем. Преодолевать восточный хребет невыгодно. Кроме того, есть еще острова, которые вы видели при посадке. Поэтому даже если бы мы не знали широты и долготы поселения, я искал бы его именно там. А эти поселенцы думали о будущем. Именно там они и устроились. Нови тихо сказал:
— Во всяком случае им казалось, что они думают о будущем. От них, наверное, немного осталось?
Фоукс попытался отнестись к этому философски.
— Прошло больше ста лет, чего же вы хотите? Но от них осталось куда больше, чем я ожидал. Дома были в основном сборными. Они обрушились, и местность заросла. Но то, что сохранилось, обязано этим ледниковому климату Малышки. Деревья — или что-то вроде деревьев — невелики и, очевидно, растут медленно. Но все равно расчищенное место заросло. С воздуха узнать его можно только потому, что молодая поросль имеет другую окраску и выглядит не так, как окружающие леса.
Он показал на одну из фотографий:
— Вот просто куча лома. Может быть, здесь когда-то стояли механизмы. А это, по-моему, кладбище.
— А останки? Кости? — спросил Нови. Фоукс покачал головой.
— Но не могли же последние, кто остался в живых, похоронить сами себя! — сказал Нови.
— Вероятно, это сделали животные, — сказал Фоукс. Он встал и отвернулся от собеседников. — Когда я пробирался там, шел дождь. Он падал на плоские листья над головой, а под ногами была мягкая, мокрая земля. Было темно и мрачно. Дул холодный ветер, на снимках это не чувствуется, но мне казалось, что вокруг — тысяча призраков, которые чего-то ждут…
Его настроение передалось всем присутствующим.
— Прекратите! — в ярости сказал Саймон.
Острый носик Марка Аннунчио, стоявшего позади всех, прямо-таки дрожал от любопытства. Он повернулся к Шеффилду и прошептал.
— Призраки? Но не было ни одного достоверного случая… Шеффилд дотронулся до тощего плеча Марка.
— Это только так говорится, Марк. Но не огорчайся, что он не имел это в виду буквально. Ты присутствуешь при рождении суеверия, а это тоже неплохо, верно?
14
Вечером в тот день, когда Фоукс вернулся из второго облета, угрюмый капитан Фолленди разыскал Саймона и, откашлявшись, сказал:
— Дело плохо, доктор Саймон. Люди беспокоятся. Очень беспокоятся.
Ставни иллюминаторов были открыты. Лагранж-I уже шесть часов как закатился, и кроваво-красный свет заходящего Лагранжа-II окрашивал в багровый цвет лицо капитана и его короткие седые волосы.
Саймон, у которого вся команда и капитан в особенности вызывали сдержанное раздражение, спросил:
— В чем дело, капитан?
— Уже две недели здесь. По земному счету. До сих пор никто не выходит без скафандра. Каждый раз облучаются, когда приходят обратно. Что-нибудь неладное в воздухе?
— Насколько нам известно, нет.
— Тогда почему нельзя им дышать?
— Это решаю я, капитан.
Лицо капитана и в самом деле побагровело. Он сказал:
— В договоре сказано, что я не должен оставаться, если что-нибудь угрожает безопасности корабля. А перепуганный экипаж на грани бунта мне ни к чему.
— Разве вы не можете сами управиться со своими людьми?
— В разумных пределах.
— Но что их беспокоит? Это новая планета, и мы стараемся не рисковать. Неужели они этого не понимают?
— Две недели, и все еще не хотим рисковать. Они думают, мы что-то скрываем. И они правы. Вы это знаете. Кроме того, выход на поверхность всегда необходим. Он нужен команде. Даже на голый обломок в милю шириной. Нужно отвлечься от корабля. От обычных дел. Не могу им в этом отказывать.
— Дайте мне время до завтра, — недовольно ответил Саймон.
15
На следующий день ученые собрались в обсерватории. Саймон сказал.
— Вернадский говорит, что исследования воздуха дают отрицательные результаты. Родригес не обнаружил в нем никаких патогенных организмов.
Последние его слова вызвали всеобщее сомнение.
— Но поселок умер от болезни, даю голову на отсечение, — возразил Нови.
— Возможно, — ответил сразу Родригес, — но попробуйте объяснить, каким образом. Этого не может быть. Я могу это повторять сколько угодно. Судите сами. Почти на всех планетах типа Земли зарождается жизнь, и эта жизнь почти всегда имеет белковую природу и почти всегда — или клеточную, или вирусную организацию. И только. Этим сходство исчерпывается. Вы, неспециалисты, думаете, что все равно — Земля или другая планета. Что микробы — это микробы, а вирусы — это вирусы. А я говорю, что вы не понимаете, какие бесконечные возможности разнообразия заложены в молекуле белка. Даже на Земле у каждого вида — свои болезни. Некоторые могут распространяться на несколько видов, но на Земле нет ни единой патогенной формы жизни, которая могла бы угрожать всем видам. Вы думаете, что для вируса или бактерии, развивавшихся на другой планете независимо в течение миллиарда лет, со своими аминокислотами, со своими ферментными системами, со своим обменом веществ, человек окажется питательным, как конфетка? Уверяю вас, это наивно.
Нови, глубоко уязвленный тем, что его, врача, отнесли к «вам, неспециалистам», не собирался так легко отступить.
— Но человек везде несет с собой своих микробов. Кто сказал, что вирус обычного насморка не может в условиях какой-нибудь планеты дать мутацию, которая неожиданно окажется смертоносной? Или грипп. Такое случалось даже на Земле. Помните, в 2755 году…
— Я прекрасно знаю про эпидемию паракори 2755 года, — перебил Родригес. — И про эпидемию гриппа 1918 года, и про Черную Смерть. Но разве такое случалось за последнее время? Пусть это поселение было основано больше столетия назад — но ведь все равно это была не доатомная эпоха. Там были врачи. У них были запасы антибиотиков. В конце концов, они умели вызывать защитные реакции организма. Это не так уж сложно. А кроме того, сюда была послана санитарная экспедиция.
Нови похлопал себя по круглому животу и упрямо сказал:
— Все симптомы указывали на заболевание дыхательной системы: одышка…
— Я все это знаю, но я говорю вам, что это не могло быть инфекционное заболевание. Это невозможно.
— Тогда что же это было?
— Это выходит за пределы моей компетенции. Я могу сказать, что это была не инфекция. Даже мутантная. Это математически невозможно.
Он сделал ударение на слове «математически».
Среди слушателей произошло какое-то движение. Вперед, к Родригесу, проталкивался Марк Аннунчио. Он заговорил — впервые на подобном совещании.
— Математически? — живо переспросил он.
Шеффилд, пустив в ход локти и с полдюжины раз извинившись, протолкался за ним. Родригес, охваченный крайним раздражением, выпятил нижнюю губу:
— А тебе чего от меня надо?
Марк весь съежился, но переспросил, хотя уже без прежней живости:
— Вы сказали, что это математически не может быть инфекция. Я не понял — каким образом… математика…
Он умолк.
— Я высказал свое профессиональное мнение, — официальным, немного напыщенным тоном произнес Родригес и отвернулся. Ставить под вопрос профессиональное мнение было не принято: это могли позволить себе только коллеги по профессии. Во всех остальных случаях это означало подвергнуть сомнению опыт и знания специалиста. Марк знал все это, но он был сотрудником Мнемонической Службы. Все остальные в изумлении застыли, когда он дотронулся до плеча Родригеса и сказал:
— Я знаю, что это ваше профессиональное мнение, но я все-таки хотел бы, чтобы вы его объяснили.
Он не стремился быть навязчивым: он просто констатировал факт.
Родригес резко повернулся к нему:
— Ты хотел бы, чтобы я его объяснил? А кто ты такой, чтобы задавать мне вопросы?
Марка немного смутила горячность, с которой это было сказано, но тут рядом с ним оказался Шеффилд, и к нему снова вернулась смелость, а вместе с ней пришел и гнев. Он не обратил внимания на Шеффилда, который что-то быстро ему зашептал, и громко сказал:
— Я — Марк Аннунчио из Мнемонической Службы, и я задал вам вопрос. Я хочу, чтобы вы объяснили свои слова.
— А я их объяснять не желаю Шеффилд, будьте добры, уберите отсюда этого молодого психа и уложите его спать. И пусть он потом держится от меня подальше. Сопливый осел!
Последние слова были сказаны как будто про себя, но вполне явственно.
Шеффилд взял Марка за руку, но тот вырвался и завопил:
— Вы — глупец! Нонкомпос! Вы… кретин! Двуногая забывальня! Дырявые мозги! Пустите меня, доктор Шеффилд! Вы ничего не знаете, ничего не помните из тех жалких крох, которые ухитрились выучить! Вы не знаете собственной специальности! Все вы…
— Ради Бога, — крикнул Саймон, — Шеффилд, уведите отсюда вашего молодого идиота!
Побагровевший Шеффилд нагнулся к Марку, схватил его в охапку, поднял в воздух и вытащил из комнаты.
За дверью Марк, из глаз которого брызнули слезы, с трудом проговорил:
— Пустите меня. Я хочу слушать… Слушать, что они говорят.
— Тебе не надо туда возвращаться. Прошу тебя, Марк, — ответил Шеффилд.
— Я не буду. Не беспокойтесь. Но… Он не закончил.
16
В это время в обсерватории измученный Саймон говорил:
— Ладно. Все в порядке. Давайте вернемся к делу. Ну успокойтесь! Я согласен с точкой зрения Родригеса. Она меня вполне удовлетворяет, и я не думаю, что профессиональное мнение Родригеса кто-нибудь еще здесь будет оспаривать.
— Пусть только попробует! — проворчал Родригес. Его глаза горели сдержанной яростью.
Саймон продолжал:
— И так как инфекции бояться не приходится, я разрешаю капитану Фолленби выпустить экипаж из корабля без специальных мер предосторожности. Кажется, задержка отпуска плохо сказывается на настроении людей. Есть у кого-нибудь возражения?
Возражений не было.
— Кроме того, я не вижу причины, почему бы нам не перейти к следующему этапу исследований. Я предлагаю поставить лагерь на месте первого поселения. Я назначаю группу из пяти человек, которая переедет туда. Фоукс — он умеет водить ракету; Нови и Родригес — для обработки биологических данных; Вернадский и я, представители химии и физики. Все существенные данные по специальности остальных будут, конечно, им, сообщаться, и мы будем ждать от них помощи в выборе направления работ и так далее. Со временем, возможно, там будут работать все, но пока — только эта маленькая группа. И до особого распоряжения связь между нами и основной группой на корабле будет поддерживаться только по радио. Если выяснится, что причина катастрофы, какова бы она ни была, локализована на месте поселения, вполне достаточно будет потерять пять человек.
— Но колония, прежде чем погибнуть, жила на Малышке несколько лет, — возразил Нови. — Во всяком случае больше года. Может пройти много времени, пока мы убедимся, что опасности нет.
— Мы не колония, — ответил Саймон. — Мы — группа специалистов, которая ищет причину катастрофы. Если ее можно найти, мы ее найдем, а найдя, устраним. И никаких нескольких лет на это нам не потребуется.
17
Марк Аннунчио сидел на койке, охватив руками колено и опустив голову. Глаза его были сухими, но в голосе слышалась горькая обида.
— Они меня не берут, — сказал он. — Они не хотят, чтобы я ехал с ними.
Шеффилд в полной растерянности сидел в кресле напротив юноши.
— Может быть, они возьмут тебя потом.
— Нет, — горячо возразил Марк, — не возьмут. Они меня ненавидят. И потом я хочу ехать сейчас. Я еще никогда не был на другой планете. Тут столько можно увидеть и изучить! Они не имеют права не взять меня, если я хочу.
Шеффилд покачал головой. Мнемонисты были твердо приучены к мысли, что их долг — собирать факты и что никто и ничто не может и не должно их остановить. Может быть, по возвращении на Землю стоит внести предложение — как-то ослаблять это убеждение внушением. В конце концов время от времени мне монистам придется жить в реальном мире. Может быть, все больше и больше с каждым поколением, по мере того как их роль в Галактике будет расти.
В виде опыта он попробовал предостеречь Марка:
— Знаешь, это может быть опасно.
— Неважно. Я должен знать. Я должен узнать все об этой планете. Доктор Шеффилд, пойдите к доктору Саймону и скажите ему, что я поеду.
— Ну, Марк!
— Если вы не хотите, я сам пойду.
Он поднялся с постели, всерьез готовый отправиться немедленно.
— Посмотри, ты же очень возбужден. Марк стиснул кулаки.
— Это несправедливо, доктор Шеффилд. Эту планету нашел я. Это моя планета!
Шеффилд почувствовал сильные угрызения совести. То, что сказал Марк, отчасти было правдой. Никто, кроме разве что Марка, не знал этого лучше, чем Шеффилд. И никто лучше, чем Шеффилд, опять-таки кроме Марка, не знал историю Малышки.
Только в последние двадцать лет, столкнувшись с проблемой растущего перенаселения старых планет, Конфедерация Планет приступила к систематическому исследованию Галактики. До этого человечество заселяло новые миры наугад. В поисках новых земель и лучших условий жизни мужчины и женщины отправлялись туда, где, по слухам, были пригодные для жизни планеты, или посылали туда разведочные группы добровольцев.
110 лет назад одна такая группа обнаружила Малышку. Они не сделали официального объявления об открытии, потому что не хотели, чтобы за ними последовали полчища земельных спекулянтов, предпринимателей, горнопромышленников и вообще всякого сброда. Спустя несколько месяцев некоторые холостые мужчины добились доставки туда женщин, и некоторое время колония процветала.
Только через год, когда часть людей уже умерла, а большинство остальных были больны или при смерти, они дали сигнал бедствия на ближайшую населенную планету Преторию. Преторианское правительство, которое переживало в этот момент очередной кризис, переслало весть о несчастье секторальному правительству на Альтмарк и сочло себя вправе забыть о нем.
С Альтмарка на Малышку был сразу же выслан санитарный корабль. Он сбросил на планету сыворотки и разные другие медикаменты. Садиться корабль не стал, потому что находившийся на борту врач на расстоянии поставил диагноз — «грипп» — и в своем докладе сильно преуменьшил опасность. По его словам, сброшенные медикаменты должны были прекрасно помочь справиться с болезнью. Вполне возможно, что сесть на планету не позволил экипаж корабля, опасавшийся заразы. Впрочем, об этом в официальном докладе ничего не говорилось.
Три месяца спустя с Малышки пришло последнее сообщение, гласившее, что в живых осталось только десять человек и те уже умирают. Они умоляли о помощи. Это сообщение было переправлено на Землю вместе с докладом санитарной экспедиции. Но Центральное правительство представляло собой огромный лабиринт, в котором сообщения то и дело терялись, если не находилось какого-нибудь лично заинтересованного человека, достаточно влиятельного, чтобы довести дело до конца. А людей, заинтересованных в судьбе далекой неизвестной планеты, где умирали десять мужчин и женщин, не нашлось.
Сообщение было зарегистрировано и забыто. В течение столетия человеческая нога не ступала по поверхности Малышки.
Потом, когда началась новая шумиха вокруг галактических исследований, сотни кораблей начали там и сям бороздить огромные просторы Галактики. Сообщения об открытии новых планет сначала потекли тонкой струйкой, а потом хлынули потоком. Многие из них принадлежали Хидошеки Макояме, который дважды пролетел через звездное скопление Геркулеса. Во второй раз он и погиб, совершая вынужденную посадку. По субэфиру прилетел его напряженный, полный отчаяния голос, несший последнее сообщение: «Поверхность быстро приближается; корпус раскаляется докр…», и все оборвалось.
Год назад все накопившиеся сведения, обработка которых была уже никому не под силу, ввели в перегруженную вычислительную машину в Вашингтоне. Этому придавалось такое большое значение, что ждать очереди пришлось всего пять месяцев. Машине был задан вопрос о планетах, пригодных для жизни, и Малышка возглавила список.
Шеффилд помнил, какой восторг это вызвало. Звездная система Лагранжа была разрекламирована на всю Галактику, а один толковый молодой служащий Бюро по делам периферии, понимавший необходимость дружеской теплоты в отношении людей к планете, придумал название — «Малышка». Преимущества Малышки были стократно преувеличены. О ее плодородии, климате («вечная весна Новой Англии») и прежде всего о ее великом будущем шумели повсюду. «В течение миллиона лет, — кричала реклама, — Малышка будет становиться все богаче. В то время как все планеты стареют, Малышка будет молодеть по мере того, как будут отступать ледники, освобождая новые просторы суши. Всегда — новые земли; всегда — непочатые природные ресурсы!»
В течение миллиона лет!
Это был шедевр Бюро, Это должно было стать успешным началом правительственной программы колонизации. С этого наконец-то должно было начаться научное освоение Галактики на благо человечества.
И тут появился Марк Аннунчио. Он многое слышал обо всем этом и, как любой простой землянин, был потрясен открывающимися перспективами. Но однажды он припомнил кое-что такое, что он видел, лениво перелистывая архивные дела Бюро по делам периферии. Это был доклад санитарной экспедиции, посвященный одной планете в одной звездной системе, местонахождение и описание которой в точности совпадали с местонахождением и описанием группы Лагранжа.
Шеффилд прекрасно помнил тот день, когда Марк пришел к нему с этой новостью.
Он помнил и выражение лица государственного секретаря по делам периферии, когда эту новость сообщили ему. Он видел, как квадратная челюсть секретаря медленно отвисла, а его глаза наполнились бесконечным испугом.
Это касалась правительства! Оно собиралось отправить на Малышку миллионы людей. Оно обещало предоставлять земельные участки и ссуды на обзаведение посевным фондом, сельскохозяйственными машинами и промышленным оборудованием. Малышка должна была стать для многочисленных избирателей обетованной землей, а для остальных — воплощением мечты о новых обетованных землях.
Если по какой-нибудь причине Малышка окажется опасной для жизни, это будет означать политическое самоубийство для всех лиц в правительстве, так или иначе связанных с этим проектом. А это были немалые фигуры, помимо секретаря по делам периферии.
После нескольких дней колебаний секретарь сказал Шеффилду.
— Похоже, придется выяснить, что случилось, и как-нибудь использовать это в пропаганде. Как вы думаете, сможем мы это нейтрализовать?
— Если то, что случилось, не слишком ужасно.
— Но ведь этого не может быть! Что там могло случиться? На лице секретаря было написано отчаяние. Шеффилд пожал плечами.
Секретарь сказал:
— Послушайте, мы можем послать на эту планету корабль со специалистами. Конечно, добровольцев, и таких, на которых можно положиться. Мы задержим дела здесь и протянем до их возвращения. Как вы думаете, выйдет из этого что-нибудь?
Шеффилд не был в этом уверен, но ему внезапно представилось, как он летит в эту экспедицию и берет с собой Марка. Он мог бы изучить поведение мнемониста в необычной обстановке, а если благодаря Марку тайна будет раскрыта…
Что там скрывается какая-то тайна, предполагалось с самого начала. В конце концов, от гриппа не умирают. А санитарный корабль не садился на планету и не мог сообщить, что там происходило на самом деле. Счастье корабельного врача, что он умер 37 лет назад, иначе теперь ему не миновать бы трибунала.
Так вот, если Марк поможет раскрыть тайну, это послужит небывалому укреплению Мнемонической Службы. Она заслужит благодарность правительства…
Но теперь…
Шеффилд подумал: а знает ли Саймон, как всплыло дело о первом поселении? В том, что этого не знает никто из экипажа, Шеффилд был уверен. Бюро не стало бы кричать об этом на каждом перекрестке.
Но воспользоваться этой историей, чтобы вырвать уступку у Саймона, было бы неразумно. Если всем станет известно, как Марк исправил ошибку Бюро («глупость», как это, несомненно, назовет оппозиция), Бюро попадет в неудобное положение. А оно может не только отблагодарить, но и отомстить. Не стоило рисковать навлечь на Мнемоническую Службу месть Бюро.
Впрочем…
Шеффилд принял решение и встал.
— Ладно, Марк. Я добьюсь, чтобы тебя взяли на место первого поселения. Я добьюсь, чтобы взяли нас обоих. А пока сиди тут и жди меня. Обещай, что ты ничего не будешь предпринимать сам.
— Ладно, — ответил Марк и снова уселся на койку.
18
— Ну, что у вас, доктор Шеффилд? — спросил Саймон. Астрофизик сидел за столом, на котором аккуратные стопки бумаг и микрофильмов окружали маленький интегратор Макфрида, и смотрел на вошедшего Шеффилда.
Шеффилд небрежно присел на тщательно застеленную койку Саймона. Он заметил недовольный взгляд астрофизика, но не смутился.
— Я не согласен с вашим выбором людей для работы на месте поселения. Получается, что вы отобрали двоих представителей точных наук и троих биологов, верно?
— Да.
— И вы думаете, что охватили все?
— О Господи! Вы хотите что-нибудь предложить?
— Я хотел бы отправиться сам.
— Зачем?
— У вас некому будет заниматься наукой о человеческой психике.
— О человеческой психике? Великий космос! Доктор Шеффилд, посылать туда даже пять человек — уже большой риск. В сущности, доктор, вы и ваш… хм… подопечный были включены в научный персонал экспедиции по распоряжению Бюро по делам периферии без всякого согласования со мной. Я буду говорить прямо: если бы спросили меня, я высказался бы против. Я не вижу, чем наука о человеческой психике может помочь в таком исследовании. Очень жаль, что Бюро пожелало провести в подобной обстановке эксперимент с мнемонитом. Мы не можем допустить таких сцен, как только что с Родригесом.
Шеффилду стало ясно: Саймон не знает о том, какое отношение имел Марк к самому решению послать эту экспедицию. Он сел прямо, уперся руками в колени, выставив локти в стороны, и напустил на себя ледяную официальность.
— Итак, вы, доктор Саймон, не видите, чем наука о человеческой психике может помочь в таком исследовании? А что, если я скажу вам, что гибель первого поселения можно объяснить очень просто на основе психологии?
— Это меня не убедит. Психолог все что угодно может объяснить, но ничего не может доказать.
Саймон ухмыльнулся, довольный только что придуманным афоризмом. Шеффилд пропустил его мимо ушей и продолжал:
— Позвольте мне высказаться несколько подробнее. Чем Малышка отличается от всех 83 тысяч населенных планет?
— Мы еще не располагаем полной информацией. Я не могу этого сказать.
— Бросьте. Вся необходимая информация была у вас еще до того, как мы отправились сюда. У Малышки — два солнца.
— Ну конечно.
На лице астрофизика отразилось какое-то едва заметное смущение.
— И цветных солнца, заметьте. Цветных. Знаете, что это значит? Это значит, что человек, например вы или я, стоя в свете обоих солнц, отбрасывает две тени — зелено-голубую и красно-оранжевую. Длина каждой, естественно, меняется в зависимости от времени суток. Вы изучили распределение цветов в этих тенях? Как это у вас называется — спектры отражения?
— Я думаю, — высокомерно произнес Саймон, — что они будут такими же, как спектры испускания солнц. Что вы хотите этим сказать?
— Надо было посмотреть. Может быть, некоторые длины волн поглощаются атмосферой? Или растительностью? А луна Малышки — Сестренка? Я следил за ней последние несколько ночей. Она тоже цветная, и цвета меняют свое расположение.
— Ну конечно же, черт возьми. Она проходит два независимых цикла фаз — от каждого солнца.
— Вы и ее спектр отражения не исследовали, верно?
— Где-то он есть. Это не представляет интереса. А почему это интересует вас?
— Дорогой доктор Саймон, это давно установленный психологией факт — сочетание красных и зеленых цветов оказывает вредное влияние на психическую устойчивость. Здесь перед нами случай, где неизбежна, как мы говорим, красно-зеленая хромопсихическая ситуация, да еще при таких обстоятельствах, которые представляются человеку в высшей степени противоестественными. Вполне возможно, что хромопсихоз может в этих условиях развиться в летальную стадию, когда он вызывает гипертрофию троицыных фолликул с последующей церебральной кататонией.
Саймон был совершенно сражен. Он пробормотал:
— Никогда ни о чем подобном не слыхал.
— Конечно нет, — ответил Шеффилд (теперь настала его очередь быть высокомерным). — Вы не психолог. Не собираетесь же вы усомниться в моем профессиональном мнении?
— Разумеется, нет. Но из последних сообщений колонии ясно, что они умирали от чего-то вроде дыхательного расстройства.
— Верно, но Родригес это отрицает, а вы соглашаетесь с его профессиональным мнением.
— Я не говорил, что это дыхательное расстройство. Я сказал — что-то вроде. А при чем здесь ваш красно-зеленый хромо- как его бишь?
Шеффилд покачал головой:
— У вас, неспециалистов, всегда бывают неправильные представления. Если имеется какое-то физическое явление, это еще не значит, что оно не может иметь психологической причины. Самый убедительный довод в пользу моей теории — то, что хромопсихоз, как известно, проявляется сперва как психогенное дыхательное расстройство. Я полагаю, вы не знакомы с психогенными заболеваниями?
— Нет. Это за пределами моей компетенции.
— Да, пожалуй. Так вот, мои расчеты показывают, что при повышенном содержании кислорода на этой планете психогенное дыхательное расстройство не только неизбежно, но и должно проходить особенно остро. К примеру, вы наблюдали луну… то есть Сестренку в последние ночи?
— Да, я наблюдал Илион, — даже сейчас Саймон не забыл официального названия Сестренки.
— Вы подолгу, внимательно разглядывали ее? При большом увеличении?
— Да.
Саймону явно становилось не по себе.
— Ага, — ответил Шеффилд. — Так вот, цвета луны в последние несколько ночей были особенно опасны. Вы не могли не ощутить, что у вас слегка воспалена слизистая оболочка носа и слегка зудит в горле. Боли пока еще, вероятно, нет. Вы, наверное, кашляете, чихаете? Вам что-то чуть мешает глотать?
— Пожалуй, я…
Саймон проглотил слюну и сделал глубокий вдох. Потом он вскочил с искаженным лицом, стиснув кулаки:
— Клянусь великой Галактикой, Шеффилд, вы не имели права об этом молчать! Я все это чувствую. Что теперь делать, Шеффилд? Это ведь излечимо? Проклятье, Шеффилд, — он сорвался на крик, — почему вы не сказали этого раньше?!
— Потому что в том, что я сказал, — спокойно ответил Шеффилд, — нет ни слова правды. Ни единого слова. Цвет никому не приносит вреда. Сядьте, доктор Саймон. У вас довольно глупый вид.
— Вы сказали, — произнес ничего не понимающий Саймон, начиная задыхаться, — вы сказали, что это ваше профессиональное мнение…
— Мое профессиональное мнение! Господи, Саймон, почему профессиональное мнение производит такое магическое действие? Человек может солгать или же просто чего-то не знать, даже в своей области. Специалист может ошибиться из-за незнания смежных дисциплин. Он может быть убежден в своей правоте и все-таки ошибаться. Взять хотя бы вас. Вы знаете, как устроена вся Вселенная, а я ничего не знаю, если не считать того, что звезды иногда мерцают, а световой год — это что-то очень длинное. И все равно вы благополучно проглотили такую чушь, которая уморила бы со смеху любого психолога-первокурсника. Не думаете ли вы, Саймон, что нам пора поменьше заботиться о профессиональных мнениях и побольше — о всеобщей координации действий?
Кровь медленно отливала от лица Саймона, пока оно не стало белым, как воск. Дрожащими губами он прошептал:
— Под прикрытием профессионального мнения вы хотели меня одурачить!
— Примерно так, — ответил Шеффилд.
— Никогда еще, никогда я не… — Саймон осекся и продолжал: — Никогда не видел ничего столь гнусного и неэтичного.
— Я хотел доказать вам, что я прав.
— О, вы доказали. Вы все доказали, — Саймон понемногу приходил в себя, и его голос уже приближался к обычному. — Вы хотите, чтобы я взял с собой вашего мальчишку.
— Верно.
— Нет. Нет и еще раз нет. Такой ответ был бы до того, как вы вошли сюда, а теперь — тысячу раз нет.
— Но почему? Я хочу сказать — почему еще до того, как я сюда вошел?
— Он психически болен. Его нельзя держать вместе с нормальными людьми.
Шеффилд мрачно возразил:
— Я бы попросил вас не говорить о психических болезнях. Вы для этого недостаточно компетентны. Если уж вы так строго соблюдаете профессиональную этику, будьте добры не вторгаться в мою область в моем присутствии. Марк Аннунчио совершенно нормален.
— После этой сцены с Родригесом? Ого! Как бы не так!
— Марк имел право задать вопрос. Это его работа и его долг. Родригес не имел права хамить.
— С вашего разрешения, я должен считаться прежде всего с Родригесом.
— Почему? Марк Аннунчио знает больше Родригеса. Уж если на то пошло, он знает больше нас с вами. Что вам нужно — привезти на Землю толковый доклад или удовлетворить свое мелочное самолюбие?
— Вы говорите, что ваш мальчишка много знает. Это ничего не значит. Я согласен, что он — прекрасный попугай. Но он ничего не понимает. Мой долг — обеспечить ему доступ ко всем данным, потому что меня обязало Бюро. Они меня не спросили, но хорошо, я согласен пойти навстречу. Он получит все данные — здесь, на корабле.
— Это несправедливо, Саймон, — возразил Шеффилд. — Он должен выехать на место. Он может увидеть такое, чего не заметят ваши драгоценные специалисты.
Ледяным тоном Саймон ответил:
— Очень может быть. Тем не менее, Шеффилд, я отказываю. И нет таких доводов, которые могли бы меня переубедить.
Даже нос у астрофизика побелел от сдерживаемой ярости.
— Потому что я вас одурачил?
— Потому что вы нарушили самый святой долг специалиста. Ни один уважающий себя специалист не употребит во зло незнание другого специалиста в своей области.
— Значит, я вас одурачил. Саймон отвернулся.
— Я прошу вас уйти. Впредь до конца экспедиции мы с вами будем общаться только по самым необходимым делам.
— Но если я уйду, — ответил Шеффилд, — об этом могут услышать остальные.
Саймон вздрогнул.
— Вы расскажете об этом?
На его губах мелькнула холодная, презрительная усмешка.
— Вы только покажете всем, какой вы негодяй.
— О, сомневаюсь, чтобы они приняли это всерьез. Все знают, что психологи не прочь пошутить. И потом, им будет не до того — так они будут смеяться над вами. Представляете — такой величественный доктор Саймон поверил, что у него болит горлышко, и взмолился о помощи, наслушавшись всякой таинственной чепухи!
— Кто вам поверит? — вскричал Саймон.
Шеффилд поднял правую руку. Между большим и указательным пальцами он держал маленький прямоугольный предмет, утыканный кнопками.
— Карманный магнитофон, — сказал он и тронул одну из кнопок. Голос Саймона произнес:
«Ну, что у вас, доктор Шеффилд?»
Голос звучал напыщенно, властно и самодовольно.
— Дайте!
Саймон бросился на долговязого психолога. Шеффилд оттолкнул его.
— Не прибегайте к насилию, Саймон. Я не так уж давно занимался борьбой. Послушайте, я предлагаю вам сделку.
Саймон все еще рвался к нему, кипя яростью и забыв о собственном достоинстве. Шеффилд медленно отступая, удерживал его на расстоянии вытянутой руки.
— Разрешите нам с Марком лететь, и никто никогда об этом не услышит.
Саймон понемногу приходил в себя.
— Тогда вы мне это отдадите? — задыхаясь, с трудом выговорил он.
— Обещаю, что отдам — и после того, как мы с Марком будем на месте поселения.
— Я должен поверить на слово вам? — Саймон постарался вложить в свои слова как можно больше презрения.
— А почему бы и нет? Во всяком случае можете поверить, что я наверняка расскажу обо всем, если вы не согласитесь. И первым это услышит Вернадский. Он будет в восторге. Вы знаете, какое у него чувство юмора.
— Можете лететь, — произнес Саймон чуть слышно. Потом он энергично добавил: — Но запомните, Шеффилд, Когда мы вернемся на Землю, вы будете отвечать перед Центральным комитетом ГАРН. Я вам это обещаю. Вас лишат всех званий…
— Я не боюсь Галактической Ассоциации Развития Науки, — раздельно произнес Шеффилд. — В конце концов, в чем вы меня обвините? Не собираетесь же вы воспроизвести эту запись перед Центральным комитетом в качестве доказательства? Ну, ну, не сердитесь. Не хотите же вы, чтобы о вашей… хм… ошибке услышали самые надутые индюки на всех восьмидесяти трех тысячах планетах?
Он с ласковой улыбкой отступил за дверь.
Но, закрыв дверь за собой, он перестал улыбаться. Жаль, что пришлось это сделать. Стоило ли дело того, чтобы нажить себе такого врага?
19
Недалеко от места первого поселения выросло семь палаток. Все они были видны с невысокого холма, на котором стоял Невил Фоукс. Люди жили здесь уже семь дней.
Фоукс взглянул на небо. Над головой нависли густые дождевые тучи. Очень хорошо. Когда эти тучи закрывают оба солнца, все предметы, освещенные рассеянным серовато-белым светом, выглядят почти нормально.
Дул свежий, влажный ветерок — совсем как в Вермонте в апреле. Фоукс был родом из Новой Англии, и это сходство было ему приятно. Через 4–5 часов Лагранж-I зайдет, и тучи побагровеют, а ландшафт станет тусклым и мрачным. Но Фоукс рассчитывал к этому времени вернуться в палатку.
Так близко к экватору и так прохладно! Ну, это через несколько тысяч лет изменится. По мере отступления ледников воздух будет согреваться, земля — подсыхать. Появятся джунгли и пустыни. Уровень воды в океанах поползет вверх, поглощая бесчисленные острова. Долины двух больших рек превратятся во внутренние моря, и форма единственного материка Малышки изменится, а может быть, он разделится на несколько маленьких.
Интересно, будет ли затоплено место поселения, подумал он. Вероятно, будет. Может быть, тогда над ним уже не будет тяготеть проклятие.
Он понимал, почему Конфедерации так позарез понадобилось раскрыть тайну этого первого поселения. Даже если бы дело было просто в заболевании, это нужно было доказать. Иначе кто осмелится поселиться на этой планете? «Ловушки для простаков» вызывали суеверный страх не только у космонавтов.
Да и сам он… Впрочем, его первое посещение этого места прошло благополучно, хоть он и рад был оставить позади этот дождь и мрак. Возвращаться сюда во второй раз было куда хуже. Ему не давала спать мысль о том, что его окружает тысяча загадочных смертей, от которых его отделяло только неощутимое время.
Нови с профессиональным хладнокровием врача раскопал истлевшие останки десятка первых поселенцев. Фоукс отказался взглянуть на них. Он сказал, что по этим истлевшим костям ничего нельзя определить.
— Кажется, есть какие-то ненормальности в отложении костной ткани, — сказал он, но после допроса с пристрастием признал, что замеченные им признаки могли быть вызваны и столетним пребыванием костей в сырой почве.
Перед глазами Фоукса снова встала картина, преследовавшая его даже наяву. Ему виделась неуловимая раса разумных подземных жителей, которые сто лет назад никем не замеченные, посетили это первое поселение. Он представил себе, как они готовили бактериологическую войну, как они в своих лабораториях под корнями деревьев выращивали грибки и споры в поисках разновидности, которая жила бы в человеческом организме. Может быть, для своих экспериментов они похищали детей. А когда они нашли то, что искали, споры ядовитыми тучами бесшумно поплыли над поселением…
Фоукс знал, что все это — плод его фантазии. Он придумал все это в часы бессонницы, охваченный непонятной тревогой. Но когда он оставался один в лесу, он не раз резко оборачивался в ужасе, чувствуя на себе пристальный взгляд чьих-то глаз, скрывавшихся в сумрачной тени деревьев.
Поглощенный этими мыслями, Фоукс по привычке ботаника оглядывал окружавшую его растительность. Он нарочно пошел новой дорогой, но и здесь увидел все то же самое Леса на Малышке были редкими и лишенными подлеска. Никакого препятствия для передвижения они не представляли Деревья были невысоки, редко выше трех метров, хотя по толщине ствола почти не уступали земным.
Фоукс составил приблизительную схему классификации растительного мира Малышки. При этом ему не раз приходило в голову, что он, возможно, закладывает этой работой фундамент собственного бессмертия.
Например, там росло «штыковое дерево». Его громадные белые цветы привлекали каких-то насекомоподобных существ, которые строили в них свои крохотные гнезда. Потом, по какому-то совершенно непонятному Фоуксу сигналу или импульсу, все цветы того или иного дерева за ночь выбрасывали по сверкающему белому пестику в два фута длиной. Казалось, дерево внезапно ощетинивалось штыками. На следующий день цветок опылялся, и его лепестки смыкались, закрывая собой и пестик, и насекомых. Первый исследователь Макояма назвал это дерево «штыковым», но Фоукс взял на себя смелость переименовать его в «Мигранию фоуксии».
У всех деревьев была одна общая черта. Их древесина была невероятно крепкой. Биохимикам еще предстояло определить физическое состояние содержащихся в ней молекул клетчатки, а биофизикам — выяснить, как сквозь эту непроницаемую ткань может транспортироваться вода. Фоукс же по своему опыту знал, что сорванные цветы ломаются, как стекло, а ветки с трудом удается согнуть и совершенно невозможно сломать. Его перочинный нож затупился, не оставив на дереве даже царапины. Чтобы расчистить поля, первым поселенцам, очевидно, приходилось выкапывать деревья вместе с корнями.
Животных в здешних лесах по сравнению с Землей почти не было. Возможно, они погибли во время ледникового периода.
У всех насекомоподобных существ было по два крыла — маленьких пушистых перепонки. Летали они бесшумно. Кровососущих насекомых здесь, очевидно, не было.
Единственным представителем животного мира, который попался на глаза экспедиции, было внезапно появившееся однажды над лагерем крупное крылатое создание. Чтобы разглядеть его форму, пришлось прибегнуть к моментальной фотографии: зверь, очевидно, охваченный любопытством, с огромной скоростью снова и снова проносился над самыми палатками. Это было четырехкрылое существо. Передние крылья, заканчивавшиеся мощными когтями, представляли собой почти голые перепонки и, очевидно, служили для планирующего полета. Задняя пара крыльев, покрытых пухом, похожим на шерсть, совершала быстрые взмахи. Родригес предложил назвать это существо «тетраптерусом».
Фоукс отвлекся от своих воспоминаний, чтобы разглядеть траву новой разновидности, которая ему еще не попадалась. Трава росла тесными кустиками; каждый стебель вверху разветвлялся на три отростка. Фоукс вынул лупу и осторожно потрогал пальцем один из стеблей. Как и остальная трава на Малышке, она была…
И тут он услышал позади себя шорох. Ошибки быть не могло. Какое-то мгновение он внимательно вслушивался, но биение собственного сердца заглушало все остальные звуки. Тогда он резко обернулся. Тень, похожая на человеческую, метнулась за дерево.
У Фоукса захватило дыхание. Он потянулся к кобуре, но его рука двигалась как будто сквозь густую патоку.
Значит, его фантазии вовсе не были фантазиями? Значит, Малышка все-таки обитаема?
Преодолев оцепенение, Фоукс укрылся за другим деревом. Отступить он не мог. Он знал, что будет не в силах сказать остальным: «Я видел что-то живое. Возможно, это и была разгадка. Но я испугался и позволил ей скрыться».
Придется попытаться что-нибудь предпринять.
Позади того дерева, где пряталось неизвестное существо, стояло «кубковое дерево». Оно цвело — бело-кремовые цветы были обращены вверх в ожидании надвигавшегося дождя. Вдруг раздался слабый звон сломанного цветка, и кремовые лепестки, вздрогнув, повернулись вниз.
Значит, ему не показалось. За деревом кто-то был.
Фоукс перевел дух и выскочил из-за своего укрытия, держа перед собой лучевой пистолет, готовый стрелять при первом же намеке на опасность.
Но его окликнул голос:
— Не стреляйте. Это я.
Из-за дерева выглянула перепуганная, но несомненно человеческая физиономия. Это был Марк Аннунчио.
Фоукс застыл на месте и уставился на него. Наконец он смог хрипло проговорить:
— Что ты тут делаешь?
— Я шел за вами, — ответил Марк, не отрывая взгляда от пистолета.
— Зачем?
— Посмотреть, что вы делаете. Мне было интересно, что вы найдете. Я думал, если вы меня увидите, то прогоните назад.
Фоукс вспомнил, что все еще держит пистолет, и спрятал его в кобуру. Это удалось ему только с третьей попытки.
Упали первые крупные капли дождя. Фоукс грубо сказал:
— Чтобы никто об этом не узнал!
Он бросил враждебный взгляд на юношу, и они молча, держась поодаль друг от друга, направились к лагерю.
20
Некоторое время спустя к семи палаткам прибавился сборный домик, поставленный в центре лагеря. Как-то вся группа собралась в нем вокруг длинного стола.
Приближался торжественный момент, хотя все почему-то притихли. Командовал парадом Вернадский, который в студенческие годы научился сам себе готовить еду. Сняв с высокочастотного подогревателя какое-то дымящееся варево, он объявил:
— Кому калорий?
Еда была щедро разложена по тарелкам.
— Пахнет очень хорошо, — неуверенно заметил Нови. Он поднял на вилке кусок мяса. Оно было лиловатого цвета и, несмотря на то что долго варилось, оставалось жестким. Окружающая его мелко нарезанная зелень выглядела помягче, но казалась еще менее съедобной.
— Ну, — сказал Вернадский, — ешьте! Уплетайте за обе щеки! Я пробовал — вкусно.
Он набил рот мясом и долго жевал.
— Жестковато, но вкусно.
— Не исключено, что мы от этого умрем, — мрачно сказал Фоукс.
— Ерунда, — ответил Вернадский. — Крысы питались им две недели.
— Две недели — не так уж много, — возразил Нови.
— Ну ладно, была не была, — решился Родригес. — Послушайте, и в самом деле вкусно!
Немного погодя с ним согласились все. До сих пор все живые организмы Малышки, которые можно было есть, оказывались вкусными. Зерно было почти невозможно измолоть в муку, но, когда это удавалось, можно было испечь богатый белком хлеб. Несколько таких хлебов и сейчас стояло на столе. Они были темного цвета и тяжеловаты, но вовсе не плохи.
Фоукс, изучив растительность Малышки, пришел к выводу, что при должном орошении и правильном посеве один акр поверхности планеты сможет прокормить в десять раз больше скота, чем акр земной альфальфы. Это произвело большое впечатление на Шеффилда, который тут же назвал Малышку житницей сотни планет. Однако Фоукс только пожал плечами.
— Ловушка для простаков, — сказал он.
Неделей раньше вся группа была сильно встревожена: хомяки и белые мыши неожиданно отказались есть некоторые новые виды травы, только что принесенные Фоуксом. Когда небольшие количества этих трав начали подмешивать в их обычный рацион, животные стали погибать.
Разгадка тайны?
Не совсем. Через несколько часов вошел Вернадский и заявил:
— Медь, свинец, ртуть.
— Что? — переспросил Саймон.
— В этих растениях. Они содержат много тяжелых металлов. Возможно, это эволюционное защитное приспособление, чтобы их не ели.
— Значит, первые поселенцы… — начал Саймон.
— Нет, этого не может быть. Большинство растений совершенно безвредно. Только эти, а их никто есть не станет.
— Откуда вы знаете?
— Не стали же их есть крысы.
— То крысы…
Только этого Вернадский и ждал. Он торжественно произнес:
— Вы видите перед собой скромного мученика науки. Я их попробовал.
— Что? — вскричал Нови.
— Только лизнул, не беспокойтесь, Нови. Я — из осторожных мучеников. В общем, они горькие, как стрихнин. Да и как же иначе? Если растение набирается свинца только для того, чтобы его не съело животное, и если животное узнает об этом только когда умрет, то какой растению от этого толк? Горечь дает сигнал опасности. А тех, кто им пренебрегает, ждет наказание.
— А кроме того, — добавил Нови, — первые поселенцы погибли не от отравления тяжелыми металлами. Симптомы были совсем другие.
Эти симптомы прекрасно знали все. Кое-кто — в популярном изложении, остальные — более подробно. Затрудненное, болезненное дыхание, и чем дальше — тем хуже. К этому сводилось все.
Фоукс отложил вилку.
— Постойте, а что, если в этой еде есть какой-нибудь алкалоид, который парализует дыхательные мышцы?
— У крыс тоже есть дыхательные мышцы, — ответил Вернадский. — Их она не убила.
— А может быть, он накапливается?
— Ладно, ладно. Если почувствуете, что вам больно дышать, перейдите на обычный корабельный рацион — возможно, он вам поможет. Только берегитесь самовнушения.
— Это по моей части, — проворчал Шеффилд, — насчет этого не беспокойтесь.
Фоукс тяжело вздохнул и мрачно положил в рот кусок мяса.
Марк Аннунчио сидел на дальнем конце стола. Он ел медленнее, чем другие, и все вспоминал монографию Норриса Вайнограда «Вкус и обоняние». Вайноград разработал классификацию вкусов и запахов на основе механизма ингибирования ферментативных реакций во вкусовых сосочках. Аннунчио толком не знал, что это значит, но помнил все обозначения, характеристики и определения. К тому времени когда он доел свою порцию, он определил вкус мяса, отнеся его одновременно к трем подклассам. Его челюсти слегка ныли от напряженного жевания.
21
Приближался вечер. Лагранж-I стоял уже низко над горизонтом. День выдался ясный, теплый, и Борис Вернадский был им доволен. Он сделал кое-какие интересные измерения, а его яркий свитер причудливо менял свои цвета от часа к часу, по мере того как солнца передвигались по небосводу.
Сейчас Вернадский отбрасывал длинную красную тень, и только нижняя ее треть, совпадавшая с тенью от Лагранжа-II, была серой. Он протянул руку, и от нее упали две тени — нечеткая оранжевая футах в пятнадцати от него и более густая голубая в той же стороне, но футах в пяти.
Все это так ему нравилось, что у него не вызвало никакого неприятного чувства даже появление поодаль Марка Аннунчио. Вернадский отставил в сторону свой нуклеометр и помахал рукой:
— Иди сюда!
Юноша робко приблизился.
— Здравствуйте.
— Тебе чего-нибудь надо?
— Я… я просто смотрел.
— А! Ну смотри. Знаешь, что я делаю? Марк замотал головой.
— Это нуклеометр, — сказал Вернадский. — Его втыкают в землю, вот так. У него наверху — генератор силового поля, так что его можно воткнуть в любой камень.
Продолжая говорить, он нажал на нуклеометр, и тот на два фута погрузился в выход каменной породы.
— Видишь?
У Марка заблестели глаза, и это доставило Вернадскому удовольствие. Он продолжал:
— По бокам его стержня есть микроскопические атомные устройства, каждое из которых испаряет около миллиона молекул окружающей породы и разлагает их на атомы. Потом атомы разделяются по массе и заряду ядер, и результаты можно прямо считывать вот с этих шкал наверху. Понимаешь?
— Не очень. Но это полезно знать. Вернадский улыбнулся и сказал:
— Мы получаем содержание различных элементов в коре. На всех водно-кислородных планетах эти цифры примерно одинаковы.
Марк серьезно сказал:
— Из тех планет, которые я знаю, больше всего кремния содержит Лепта — 32,765 %. В составе Земли его только 24,862 %. По весу.
Улыбка застыла на лице Вернадского. Он сухо спросил:
— Слушай, парень, ты знаешь такие цифры для всех планет?
— Нет, это невозможно. По-моему, они еще не все исследованы. В «Справочнике по коре планет» Бишуна и Спенглоу есть данные только для 21 854 планет. Их я, конечно, знаю все.
Обескураженный Вернадский продолжал:
— А на Малышке элементы распределены еще более равномерно, чем обычно. Кислорода мало — по моим данным, в среднем каких-нибудь 42,113 %. Кремния тоже мало — 22,722 %. Тяжелых металлов в 10 — 100 раз больше, чем на Земле. И это не местное явление: общая плотность Малышки на 5 % выше земной.
Вернадский и сам не знал, зачем он все это говорит мальчишке. Отчасти потому, что всегда приятно иметь внимательного слушателя. Когда не с кем поговорить о своей профессии, иногда становится одиноко и грустно. Он продолжал, начиная получать удовольствие от своей лекции:
— С другой стороны, легкие элементы распределены тоже более равномерно. В составе океанов здесь не преобладает хлористый натрий, как на Земле, а довольно много магниевых солей. А литий, бериллий и бор? Они легче углерода, но на Земле и на всех других планетах встречаются очень редко. А на Малышке их много. Все эти три элемента составляют около 0,4 % коры, а на Земле — только 0,004 %.
Марк дотронулся до его рукава.
— А есть у вас список всех элементов с их содержанием в коре? Можно его посмотреть?
— Пожалуйста.
Вернадский вынул из заднего кармана брюк сложенную бумажку, протянул ее Марку и сказал, усмехнувшись:
— Только не публикуй эти цифры раньше меня.
Марк бросил взгляд на листок и протянул его Вернадскому.
— Ты уже? — удивленно спросил тот.
— Да, — задумчиво ответил Марк. — Теперь я помню их все.
Он повернулся и пошел прочь, не попрощавшись. Вернадский поглядел ему вслед, пожал плечами, вытащил из земли свой нуклеометр и зашагал в сторону лагеря.
22
Шеффилд был более или менее доволен. Марк вел себя даже лучше, чем он ожидал. Правда, он почти не разговаривал, но это было не так важно. Во всяком случае, он проявлял интерес к окружающему и не тосковал. И не устраивал никаких сцен.
Шеффилд узнал от Вернадского, что накануне вечером Марк вполне нормально, без всякого крика побеседовал с ним о составе планетной коры. Вернадский со смехом сообщил, что Марк знает состав коры двадцати тысяч планет и что когда-нибудь он заставит парня сказать наизусть все цифры, просто чтобы посмотреть, сколько времени это займет.
Сам Марк об этом ничего Шеффилду не говорил. Все утро он просидел в палатке. Шеффилд заглянул к нему, увидел, что он сидит на койке, уставившись на свои ноги, и оставил его в покое.
Шеффилд чувствовал, что он сам нуждается в какой-нибудь оригинальной идее. На самом деле оригинальной.
До сих пор они ничего не добились Ничего — за целый месяц. Родригес и слышать не хотел ни о какой инфекции. Вернадский совершенно не допускал мысли о пищевом отравлении. Нови яростно тряс головой при всяком упоминании о нарушениях обмена веществ. «Где доказательства?» — говорил он.
Все сводилось к тому, что любая физическая причина смерти исключалась на основании мнения специалиста. Но мужчины, женщины и дети умерли. Какая-то причина должна была существовать. Может быть, психологическая?
Еще на корабле Шеффилд воспользовался этим, чтобы разыграть Саймона. Но теперь ему было не до шуток. Может быть, что-то заставило поселенцев совершить самоубийство? Но что? Человечество колонизировало десятки тысяч планет, и это никак не сказалось на его психической устойчивости. Самоубийства и психозы были больше распространены на самой Земле, чем в любом другом месте Галактики.
Кроме того, колония отчаянно взывала о медицинской помощи. Люди не хотели умирать.
Умственное расстройство? Что-нибудь такое, что было свойственно только этой группе людей? Достаточно сильное, чтобы вызвать смерть тысячи человек? Мало вероятно. И потом как об этом узнать? Место поселения было тщательно обыскано, но ни пленок, ни записей, даже самых отрывочных, найти не удалось.
За столетие влага сделала свое дело.
Шеффилд чувствовал, что почва уходит у него из-под ног. Он был беспомощен. У других, по крайней мере, были данные, с которыми можно было работать. У него не было ничего.
Он снова оказался у палатки Марка и машинально заглянул внутрь. Палатка была пуста. Он огляделся и заметил Марка, направлявшегося в лес. Шеффилд закричал ему вслед:
— Марк! Подожди меня!
Марк остановился, потом как будто хотел двинуться дальше, передумал и дал Шеффилду себя догнать.
— Куда ты собрался? — спросил Шеффилд. Даже пробежавшись, он не запыхался, — так богата кислородом была атмосфера Малышки.
— К ракете, — нехотя ответил Марк. — Да?
— Мне до сих пор не довелось ее как следует разглядеть.
— Но ты же имел такую возможность, — заметил Шеффилд. — Когда мы летели сюда, ты не отходил от Фоукса.
— Это совсем не то, — возразил Марк. — Там было много народа. Я хочу посмотреть ее один.
Шеффилд забеспокоился. Парень на что-то сердится. Лучше пойти с ним и выяснить, в чем дело. Он сказал:
— Пожалуй, и я бы не прочь поглядеть ракету. Не возражаешь, если я пойду с тобой?
Марк заколебался, потом сказал:
— Ну… Ладно. Если вам так хочется. Приглашение прозвучало не совсем вежливо. Шеффилд спросил:
— Что это ты несешь, Марк?
— Палку. Я срезал ее на случай, если кто-нибудь вздумает меня остановить.
Он взмахнул палкой так, что она со свистом прорезала плотный воздух.
— Зачем кому-то тебя останавливать, Марк? Я бы ее выбросил. Она тяжелая и твердая. Ты можешь кого-нибудь поранить.
Но Марк шагал вперед.
— Не выброшу.
Шеффилд подумал и решил пока воздержаться от ссоры. Сначала лучше выяснить причину этой враждебности.
— Ну как хочешь, — сказал он.
Ракета лежала на поляне. Ее светлая металлическая поверхность сверкала зелеными отблесками: Лагранж-II еще не показался над горизонтом.
Марк внимательно огляделся вокруг.
— Никого не видно, Марк, — сказал Шеффилд.
Они вошли внутрь. Это была большая ракета. Семь человек и все необходимое снаряжение она перевезла на место всего в три приема.
Шеффилд не без робости поглядел на утыканный кнопками пульт управления.
— И как это ботаник вроде Фоукса ухитрился научиться управлять этой штукой? Это так далеко от его специальности.
— Я тоже умею ею управлять, — внезапно сказал Марк.
— Ты? — Шеффилд удивленно уставился на него.
— Я смотрел, что делал доктор Фоукс, когда мы летели сюда. Я знаю все, что он делал. И потом у него есть руководство по ремонту ракеты. Я как-то стащил его и прочел.
— Очень хорошо, — весело сказал Шеффилд. — Значит, у нас есть на всякий случай еще один пилот.
Он стоял к Марку спиной и не видел, как тот замахнулся. Палка обрушилась ему на голову. Он не слышал, как Марк озабоченно произнес: «Простите, доктор Шеффилд». Собственно говоря, он даже не почувствовал удара, от которого потерял сознание.
23
Потом Шеффилд понял, что сознание вернулось к нему от сотрясения при посадке ракеты. Пока еще ничего не соображая, он смутно почувствовал сильную боль.
Откуда-то донесся голос Марка. Это было первое, что Шеффилд осознал. Он попытался перевернуться и встать на колени. В голове у него шумело.
Сначала голос Марка был для него просто набором бессмысленных звуков. Потом они начали складываться в слова, наконец, когда он с трудом поднял веки и тут же был вынужден закрыть их снова, потому что ему стало больно от яркого света, он уже понимал целые фразы. Он стоял на одном колене, не в силах приподнять голову, и услышал, как Марк, задыхаясь, выкрикивает:
— …Тысяча людей, и все погибли. Остались только могилы. И никто не знает почему.
Послышался гомон, в котором Шеффилд ничего не мог разобрать. Потом прозвучал чей-то хриплый бас. Потом снова заговорил Марк:
— А как по-вашему, для чего на борту все эти ученые? Шеффилд, превозмогая боль, поднялся на ноги и прислонился к стене. Он дотронулся до головы и увидел на руке кровь. Она запеклась в слипшихся волосах. Застонав, он качнулся вперед, нащупал засов и распахнул люк.
Трап был опущен. Шеффилд постоял у люка, пошатываясь, боясь сделать шаг.
Он понемногу начинал воспринимать окружающее. Высоко в небе стояли оба солнца, а в тысяче футов от него над низкорослыми деревьями возвышался гигантский стальной цилиндр «Трижды Г». Марк стоял у подножия трапа, окруженный членами экипажа, обнаженными по пояс и дочерна загоревшими под ультрафиолетом Лагранжа-I. (Спасибо плотной атмосфере и мощному слою озона в ее верхней части, которые задерживали ультрафиолетовое излучение, доводя его до безопасного предела!)
Космонавт, стоявший прямо перед Марком, опирался на бейсбольную биту. Другой подбрасывал и ловил мяч. Многие были в бейсбольных перчатках.
«Чудно, — пронеслась в голове Шеффилда шальная мысль, — Марк приземлился прямо на стадионе».
Марк посмотрел вверх, увидел его и возбужденно закричал:
— Ну спросите его! Спросите! Доктор Шеффилд, правда, на этой планете уже побывала экспедиция, которая погибла неизвестно от чего?
Шеффилд попытался произнести: «Марк, что ты делаешь?», но не смог. С его губ сорвался только стон. Космонавт с битой спросил:
— Мистер, правду говорит этот пузырь?
Шеффилд вцепился обеими руками в поручень трапа. Лицо космонавта поплыло у него перед глазами. Толстые губы и маленькие глазки, смотревшие из-под густых бровей, покачнулись и заплясали перед ним. Потом трап взмыл в воздух и бешено завертелся у него над головой. Он схватился за подвернувшуюся откуда-то землю и почувствовал холодную боль в скуле. Тут он перестал сопротивляться и снова потерял сознание.
24
Во второй раз он очнулся не так болезненно. Он лежал на кровати, над ним склонились два расплывшихся лица. Перед глазами у него проплыло что-то длинное и тонкое, и сквозь шум в голове он услышал:
— Теперь он придет в себя, Саймон.
Шеффилд закрыл глаза. Каким-то образом он знал, что его голова обмотана бинтами.
С минуту он полежал спокойно, глубоко дыша. Снова открыв глаза, он яснее увидел лица. Одно из них принадлежало Нови — его серьезно нахмуренный лоб разгладился, когда Шеффилд сказал:
— Привет, Нови.
Второе лицо — злое, со сжатыми губами, но с едва заметным довольным выражением глаз — было Саймона.
— Где мы? — спросил Шеффилд.
— В космосе, доктор Шеффилд», — ледяным тоном ответил Саймон. — Вот уже два дня.
— Два дня? — Шеффилд широко открыл глаза.
— У вас было серьезное сотрясение мозга, Шеффилд, — вмешался Нови, — чуть не треснул череп. Спокойнее.
— Что случи… Где Марк? Где Марк?!
— Спокойнее. Спокойнее.
Нови положил руки на плечи Шеффилда и заставил его снова лечь.
— Ваш мальчишка в карцере, — сказал Саймон. — Если вы хотите знать почему, то он намеренно подстрекал к бунту на корабле, из-за чего жизнь пяти человек была подвергнута опасности. Мы чуть не остались во временном лагере, потому что команда хотела лететь немедленно. Капитан еле уговорил их захватить нас.
Теперь Шеффилд начал смутно припоминать. Перед ним, как в тумане, возникли фигуры Марка и человека с битой. Марк говорил: «…тысяча людей, и все погибли…»
Сделав огромное усилие, психолог приподнялся на локте.
— Послушайте, Саймон, я не знаю, почему Марк это сделал, но дайте мне с ним поговорить. Я все узнаю.
— В этом нет необходимости, — ответил Саймон. — Все выяснится на суде.
Шеффилд попытался оттолкнуть руку Нови, удерживавшую его в постели.
— Но зачем такая официальность? Зачем впутывать Бюро? Мы можем и сами разобраться.
— Именно это мы и собираемся сделать. По космическому законодательству капитан уполномочен лично разбирать дела о преступлениях, совершенных в космосе.
— Капитан? Устроить суд здесь? На корабле? Саймон, вы не должны этого допустить. Это будет убийство.
— Ничуть. Это будет справедливое и уместное судебное разбирательство. Я совершенно согласен с капитаном. В интересах дисциплины суд необходим.
— Послушайте, Саймон, не надо, — вмешался обеспокоенный Нови. — Он не в таком состоянии, чтобы все это переживать.
— Очень жаль, — сказал Саймон.
— Но вы не понимаете, — настаивал Шеффилд, — за мальчика отвечаю я.
— Наоборот, я это понимаю, — ответил Саймон. — Вот почему мы ждали, пока вы придете в себя. Вас тоже будут судить вместе с ним.
— Что?
— Вы отвечаете за все его действия. Кроме того, вы были вместе с ним, когда он угнал ракету. В тот момент когда он призывал команду взбунтоваться, вас видели у люка ракеты.
— Но он раскроил мне череп, чтобы угнать ракету. Неужели вы не видите, что это серьезное умственное расстройство? Он не несет ответственности.
— Это решит капитан, Шеффилд. Останьтесь с ним, Нови. Он повернулся, чтобы уйти.
Шеффилд собрал все силы и крикнул:
— Саймон! Вы хотите отплатить мне за тот урок психологии, который я вам дал. Вы — ограниченный, мелочный…
Задыхаясь, он упал на подушку.
Саймон, который был уже в дверях, обернулся и произнес:
— И между прочим, Шеффилд, подстрекательство к бунту на борту корабля карается смертью!
25
«Ничего себе суд!» — мрачно подумал Шеффилд. Никто не придерживался законной процедуры, впрочем, психолог был уверен, что никто ее и не знает, и меньше всего — капитан.
Все сидели в большой кают-компании, где во время обычных рейсов команда собиралась смотреть субэфирные передачи На этот раз никто из членов экипажа сюда допущен не был, хотя научный персонал присутствовал в полном составе.
Капитан Фолленби сидел за столом как раз под субэфирным приемником. Шеффилд и Марк Аннунчио сидели отдельно левее, лицом к нему.
Капитан явно чувствовал себя не в своей тарелке Он то обменивался со «свидетелями» непринужденными репликами, то сверхофициально требовал прекратить шепот среди зрителей.
Шеффилд и Марк, увидевшиеся впервые после полета на ракете, обменялись торжественным рукопожатием. (Инициатива принадлежала Шеффилду: Марк, увидев заклеенное крест-накрест полосками пластыря выбритое место на голове Шеффилда, сначала не решился к нему подойти.)
— Простите меня, доктор Шеффилд. Простите. Ничего, Марк. Как с тобой обращались?
— По-моему, хорошо.
— Обвиняемые, не разговаривать! — раздался окрик капитана.
Шеффилд спокойно возразил:
— Послушайте, капитан, у нас не было адвокатов, и мы не успели подготовиться к ведению дела.
— Никаких адвокатов не нужно, — сказал капитан. — Это не суд присяжных на Земле. Это капитанское расследование. Совсем другое дело. Важны только факты, а не юридическая болтовня. Процесс может быть пересмотрен на Земле.
— Но нас к этому времени может не быть в живых, — горячо возразил Шеффилд.
— Начинаем! — объявил капитан, грохнув по столу алюминиевой скобой в виде буквы «Т».
Саймон сидел в первом ряду и слегка улыбался. Шеффилд с большим беспокойством следил за ним. Эта улыбка оставалась неизменной все время, пока вызывались свидетели, которые должны были показать, что команда ни в коем случае не должна была знать о цели экспедиции и что Марк с Шеффилдом присутствовали, когда им это говорилось. Миколог экспедиции рассказал о своем разговоре с Шеффилдом, из которого явствовало, что Шеффилд хорошо знал об этом запрете.
Было установлено, что Марк проболел большую часть полета к Малышке и что после посадки на нее он хотя и поправился, но вел себя странно.
— Как вы все это объясните? — спросил капитан. Оттуда, где сидели зрители, вдруг раздался спокойный голос Саймона:
— Он перетрусил. Он был готов на все, лишь бы смыться с этой планеты.
Шеффилд вскочил:
— Его замечания не относятся к делу. Он не свидетель.
— Сядьте! — сказал капитан, ударив скобой по столу. Суд продолжался. Был вызван один из членов экипажа, показавший, что Марк сообщил им о первой экспедиции и что при этом присутствовал Шеффилд.
— Я требую перекрестного допроса, — вскричал Шеффилд.
— Ваша очередь потом, — сказал капитан, и космонавта выпроводили.
Шеффилд внимательно вглядывался в зрителей. Было очевидно, что не все симпатии на стороне капитана. Шеффилд был все-таки психолог, и даже при таких обстоятельствах ему пришла в голову мысль, что многие из них, вероятно, в душе рады убраться с Малышки и благодарны Марку за то, что он это ускорил. Кроме того, им, очевидно, была не по вкусу эта поспешная судебная инсценировка. Вернадский сидел, нахмурившись, а Нови поглядывал на Саймона с явным неодобрением.
Шеффилда беспокоил Саймон. Психолог чувствовал, что не кто иной, как он, уговорил капитана устроить суд, и что он может настаивать на высшей мере наказания. Шеффилд горько пожалел, что задел патологическое тщеславие этого человека.
Но больше всего Шеффилда озадачивало поведение Марка. Он не проявлял никакого беспокойства, не видно было и следов космической болезни. Марк слушал внимательно, но происходящее, казалось, не очень волновало его, как будто он знал что-то такое, по сравнению с чем все остальное ничего не значило.
Капитан стукнул по столу и сказал:
— Кажется, все. Факты установлены. Бесспорно. Можно кончать.
Шеффилд опять вскочил с места:
— Погодите. А наша очередь?
— Молчите! — приказал капитан.
— Нет, это вы молчите! — Шеффилд обратился к зрителям. — Послушайте, нам не дали возможности оправдаться. Нам даже не разрешили допросить свидетелей. Разве это справедливо?
Поднялся гомон, который не могли перекрыть даже удары молотка.
— Чего там оправдываться? — холодно произнес Саймон.
— Может быть, и нечего! — крикнул ему в ответ Шеффилд. — Но тогда что вы потеряете, если нас выслушаете? Или вы боитесь, что нам есть чем оправдаться?
Теперь стали слышны отдельные выкрики:
— Дайте ему говорить!
— Валяйте! — пожал плечами Саймон. Капитан угрюмо спросил:
— Чего вы хотите?
Шеффилд ответил:
— Выступить в качестве собственного адвоката и вызвать свидетелем Марка Аннунчио!
Марк спокойно встал. Шеффилд повернулся вместе со стулом к зрителям и сделал Марку знак сесть.
Он решил, что не стоит подражать судебным драмам, какие показывают по субэфиру. Торжественно спрашивать имя и биографию не было никакого смысла Лучше приступить прямо к делу. И он сказал:
— Марк, ты знал, что произойдет, если ты расскажешь команде о первой экспедиции?
— Да, доктор Шеффилд.
— Тогда зачем ты это сделал?
— Потому что нам всем нужно было убраться с Малышки, не теряя ни минуты. Это был самый быстрый способ покинуть планету.
Шеффилд почувствовал, что этот ответ произвел на зрителей невыгодное впечатление, но он мог лишь довериться интуиции. Его психологическое чутье подсказывало, что, только зная что-то определенное, Марк, да и любой мнемонист, способен так спокойно держаться в подобных условиях. В конце концов, все знать — это их специальность.
— Марк, почему так важно было покинуть Малышку? Марк, не колеблясь, поглядел прямо на сидевших против него ученых и ответил:
— Потому что я знаю, отчего погибла первая экспедиция, и мы погибли бы от того же — это был только вопрос времени. Может быть, и сейчас уже поздно. Может, мы уже умираем. Может быть, мы умрем все до единого.
Шеффилд услышал шум среди зрителей, потом все стихли. Даже капитан не дотронулся до своего молотка, даже с губ Саймона сползла улыбка.
В этот момент Шеффилд думал не о том, что знает Марк, а о том, что он начал действовать самостоятельно на основе того, что знает. Такое уже случилось однажды, когда Марк, придумав собственную теорию, решил изучить судовой журнал. Шеффилд пожалел, что не занялся тогда же исследованием этой тенденции. Поэтому он довольно мрачно спросил:
— Почему ты не посоветовался со мной, Марк? Марк чуть смутился.
— Вы бы мне не поверили. Поэтому мне пришлось ударить вас, чтобы вы мне не помешали. Никто из них мне бы не поверил. Они все меня ненавидят.
— Почему ты думаешь, что они тебя ненавидят?
— Ну вспомните, что было с доктором Родригесом.
— Это было давно. С другими же ты не сталкивался.
— Я видел, как на меня смотрит доктор Саймон. А доктор Фоукс хотел застрелить меня из лучевого пистолета.
— Что? — Шеффилд повернулся к Фоуксу, забыв в свою очередь обо всех формальностях. — Фоукс, вы пытались застрелить его?
Побагровевший Фоукс встал, и все уставились на него.
— Я был в лесу, — сказал он, — а он подкрался ко мне. Я думал, это животное, и принял меры предосторожности. Когда я увидел, что это он, я спрятал пистолет.
Шеффилд снова повернулся к Марку:
— Это верно?
Марк упрямо продолжал:
— А когда я попросил у доктора Вернадского посмотреть кое-какие данные, которые он собрал, он сказал, чтобы я их не публиковал. Как будто я нечестный человек!
— Клянусь Землей, я же пошутил! — раздался вопль. Шеффилд поспешно сказал:
— Ну ладно, Марк, ты нам не веришь и поэтому решил действовать сам. А теперь — к делу. От чего, по-твоему, умерли первые поселенцы?
Марк ответил:
— От этого же мог умереть и Макояма, если бы не погиб при аварии через два месяца и три дня после своего сообщения о Малышке.
— Ладно, но от чего же?
Все затихли. Марк поглядел вокруг и сказал:
— От пыли.
Раздался общий хохот, и щеки Марка вспыхнули.
— Что ты хочешь сказать? — спросил Шеффилд.
— От пыли! Пыли, которая в воздухе! В ней — бериллий. Спросите у доктора Вернадского.
Вернадский встал и протолкался вперед.
— При чем тут я?
— Ну конечно же, — продолжал Марк. — Это было в тех данных, которые вы мне показывали. Бериллия очень много в коре, значит, он должен быть с пылью и в воздухе.
— А что, если там есть бериллий? — спросил Шеффилд. — Вернадский, прошу вас, позвольте мне задавать вопросы.
— Отравление бериллием, вот что. Когда вы дышите бериллиевой пылью, в легких образуются незаживающие грануломы. Я не знаю, что это такое, но во всяком случае становится все труднее дышать, и потом вы умираете.
К всеобщему шуму прибавился еще один возбужденный голос. Это был Нови.
— О чем ты говоришь? Ты же не врач!
— Знаю, — серьезно ответил Марк, — но как-то я прочитал очень старинную книгу о ядах. Такую старинную, что она была напечатана на настоящей бумаге. В библиотеке всего несколько таких, и я их просмотрел — ведь это такая диковинка.
— Ладно, — сказал Нови, — и что ты прочел? Ты можешь мне рассказать?
Марк гордо поднял голову.
— Могу сказать на память. Слово в слово. «Любой из двухвалентных металлических ионов, имеющих одинаковый радиус, может активировать в организме поразительное разнообразие ферментативных реакций. Это могут быть ионы магния, марганца, цинка, железа, кобальта, никеля и другие. Во всех этих случаях ион бериллия, имеющий такой же размер и заряд, действует как ингибитор. Поэтому он тормозит многие реакции, катализируемые ферментами. Поскольку бериллий, по-видимому, никак не выводится из легких, вдыхание пыли, содержащей соли бериллия, вызывает различные метаболические расстройства, серьезные заболевания и смерть. Известны случаи, когда однократное действие бериллия приводило к летальному исходу. Первичные симптомы незаметны, и признаки заболевания появляются иногда через три года после действия бериллия. Прогноз тяжелый».
Капитан в волнении наклонился вперед.
— Что он говорит, Нови? Есть в этом какой-нибудь смысл?
— Не знаю, прав он или нет, — ответил Нови, — но в том, что он говорит, нет ничего невероятного.
— Вы хотите сказать, что не знаете, ядовит бериллий или нет? — резко сказал Шеффилд.
— Не знаю. Никогда об этом не читал. Мне не попалось ни единого случая.
Шеффилд повернулся к Вернадскому:
— Где-нибудь бериллий применяется?
Не скрывая своего изумления, Вернадский ответил:
— Нет. Черт возьми, не могу припомнить, чтобы он где-нибудь применялся. Впрочем, вот что. В начале атомной эпохи его использовали в примитивных атомных реакторах в качестве замедлителя нейтронов вместе с парафином и графитом. В этом я почти уверен.
— Значит, сейчас он не применяется? — настаивал Шеффилд.
— Нет.
Внезапно вмешался электронщик.
— По-моему, в первых люминесцентных лампах использовались цинк-бериллиевые покрытия. Кажется, где-то я об этом слышал.
— И все? — спросил Шеффилд.
— Все.
— Так вот, слушайте Во-первых, все, что цитирует Марк, точно. Значит, так и было написано в той книге. Я считаю, что бериллий ядовит. В обычных условиях это неважно, потому что его содержание в почвах ничтожно. Когда же человек концентрирует бериллий, чтобы применять его в ядерных реакторах, или люминесцентных лампах, или даже в виде сплавов, он сталкивается с его ядовитыми свойствами и ищет ему заменители. Он их находит, забывает о бериллии, потом забывает и о том, что бериллий ядовит. А потом мы встречаем планету, необычно богатую бериллием, вроде Малышки, и не можем понять, что с нами происходит.
Саймон, казалось, не слушал. Он тихо спросил:
— А что значит: «Прогноз тяжелый»? Нови рассеянно ответил:
— Это значит, что, если вы отравились бериллием, вам не вылечиться.
Саймон закусил губу и откинулся в кресле. Нови обратился к Марку:
— Я полагаю, симптомы отравления бериллием… Марк сразу же ответил:
— Могу прочесть весь список. Я не понимаю этих слов, но…
— Было среди них слово «одышка»? — Да.
Нови вздохнул и сказал:
— Предлагаю вернуться на Землю как можно скорее и пройти медицинское обследование.
— Но если мы все равно не вылечимся, — слабым голосом произнес Саймон, — то что толку?
— Медицина сильно продвинулась вперед с тех пор, как книги печатали на бумаге, — возразил Нови. — Кроме того, мы могли не получить смертельную дозу. Первые поселенцы больше года прожили под постоянным действием бериллия. Мы же подвергались ему только месяц — благодаря быстрым и решительным действиям Марка Аннунчио.
— Ради всего космоса, капитан, — вскричал в отчаянии Фоукс. — давайте выбипраться отсюда! Скорее на Землю!
Похоже было, что суд окончен. Шеффилд и Марк вышли в числе первых.
Последним поднялся с кресла Саймон. Он побрел к двери с видом человека, который уже считает себя трупом.
26
Система Лагранжа превратилась в звездочку, затерянную в оставшемся позади скоплении.
Шеффилд поглядел на это пятнышко света и со вздохом сказал:
— А такая красивая планета… Ну что ж, будем надеяться, что останемся в живых. Во всяком случае, впредь правительство будет остерегаться планет с высоким содержанием бериллия. В эту разновидность ловушки для простаков человечество больше не попадет.
Марк не ответил. Суд был окончен, и его возбуждение улеглось. В глазах его стояли слезы. Он думал только о том, что может умереть; а если он умрет, во Вселенной останется столько интересных вещей, которых он никогда не узнает!..
перевод А. ИорданскогоЧто в имени твоём?[10]
Если вы полагаете, будто раздобыть цианистый калий очень уж трудно, вы судите опрометчиво. Я стоял и держал в руке пол-литровую бутылку. Темное стекло, опрятная четкая этикетка с надписью: «Цианистый калий ХЧ» (последние буквы, мне сказали, означают «химически чистый»), под которой был изображен небольшой череп и скрещенные кости. Человек, которому принадлежала эта бутылка, протер очки и заморгал, глядя на меня с выражением полного безразличия на лице к тому обстоятельству, что у меня в руке достаточно яду, чтобы отправить на тот свет целый полк.
— Вы хотите сказать, профессор, что эта штука запросто стоит у вас на полке? — спросил я.
— В общем, да. — Он потер подбородок. — Мне известно, что у меня есть эта бутылка.
— Ну а если, предположим, кто-то вошел бы сюда и отсыпал себе столовую ложку этого зелья? Вы бы заметили?
— Вряд ли. — Профессор Родни покачал головой.
— И все же, профессор, зачем вы держите его здесь в таком количестве? Травите крыс?
— Что вы. Господь с вами! — От этой мысли его, казалось, покоробило — Цианистый калий иногда используется в органических реакциях: для образования промежуточных соединений, для обеспечения соответствующей основной среды, как катализатор…
— Понятно, понятно. Ну и в каких же других лабораториях цианистый калий столь же доступен?
— Да чуть ли не во всех, — не раздумывая, ответил профессор. — Даже в студенческих. В конце концов, это же рядовой химический препарат, обыкновенно применяемый при синтезе.
— А вот сегодняшнее его применение я бы обыкновенным не назвал.
— Да уж, пожалуй, нет, — со вздохом согласился он, потом задумчиво добавил: — Их называли «Библиотечные двойняшки».
Я кивнул. Происхождение этого прозвища было очевидно: две девушки-библиотекарши были очень похожи. Не при внимательном рассмотрении, разумеется. У одной был небольшой острый подбородок и круглое личико, а у другой — квадратная челюсть и длинный нос. И все же, когда они обе склоняются над конторкой, вы видите медово-золотистые волосы с пробором посередине и с одинаковой завивкой. Бросьте беглый взгляд на их лица, и прежде всего вам, вероятно, запомнятся широко поставленные глаза одного и того же синего цвета. Посмотрите, как они стоят на порядочном расстоянии от вас, и вы, наверное, скажете, что они одного роста, а бюстгальтеры у них одного размера и фасона. У обеих были тонкие талии и стройные ноги. А сегодня они даже оделись одинаково — в синее.
Правда, теперь уже спутать их было невозможно: девушка с маленьким подбородком и круглым личиком была напичкана цианистым калием и совершенно мертва.
Эта схожесть прежде всего и поразила меня, когда я прибыл на место происшествия со своим напарником Эдом Хэтуэем. Одна девушка, мертвая, с выпученными глазами, обмякла на стуле, рука у нее повисла, а на полу под ней, как точка под вопросительным знаком, лежала разбитая чашка. Ее звали, как выяснилось, Луэлла-Мэри Буш. Там же находилась вторая девушка (ни дать ни взять ожившая первая): невидящим взором она смотрела прямо перед собой, как бы позволяя занятым работой полицейским обтекать ее со всех сторон. Ее звали Сюзн Мори.
— Родственницы? — был мой первый вопрос. Нет. Даже не троюродные сестры.
Я оглядел библиотеку. К счастью, в тот день народу оказалось мало.
Ровным невыразительным тоном Сюзн Мори рассказала нам, что произошло.
Пожилая миссис Неттлер, старший библиотекарь, взяла полдня за свой счет и оставила этих двух девушек приглядывать за хозяйством. Очевидно, ничего необычного в этом не было. В два часа, плюс-минус пять минут, Луэлла-Мэри удалилась в заднюю комнатку за конторкой библиотекаря. Там, кроме новых книг, ожидавших каталогизации, и стопок журналов, находилась также небольшая электроплитка, чайник и все необходимое для приготовления чая. Значит, чай в два часа, очевидно, был делом привычным.
— А Луэлла-Мэри готовила чай каждый день? — спросил я. Сюзн посмотрела на меня своими пустыми синими глазами.
— Иногда этим занимается миссис Неттлер, но обычно варила Лу… Луэлла-Мэри.
Когда чай был готов, Луэлла-Мэри позвала ее, и они пошли пить чай.
— Обе? — резко спросил я. — А кто же присматривал за библиотекой?
— А нам видно через открытую дверь. Если бы кто-то подошел к конторке, одна из нас могла выйти.
— А кто-нибудь подходил к конторке?
— Никто. Сейчас тут почти никого нет. Весенний семестр уже кончился, а летняя сессия еще не началась.
Рассказывать больше было почти нечего. Мешочки с чаем уже были вытащены из чашек, сахар положен.
— Вы обе пьете с сахаром? — спросил я ее.
— Да, — неторопливо ответила Сюзн, — но в моей сахара не оказалось.
— Не оказалось?
— Я сделала глоток-другой и как раз хотела потянуться за сахаром, когда…
Когда Луэлла-Мэри издала страшный сдавленный крик, уронила чашку и через минуту умерла. После чего Сюзн пронзительно завизжала, а потом пришли и мы.
Все шло по заведенному порядку сделали снимки, взяли отпечатки пальцев, записали фамилии и адреса мужчин и женщин, находившихся в здании, и отправили их по домам. Причина смерти была очевидна: цианистый калий, а в роли преступника выступала сахарница. Взяли образцы для официальной экспертизы.
В момент убийства в библиотеке находилось шесть человек. Пятеро из них — студенты; они казались испуганными, смущенными, больными — в зависимости, я полагаю, от их характеров. Шестым был мужчина средних лет, причем нездешний, который говорил с немецким акцентом и вообще не имел никакого отношения к университету. Он казался испуганным, смущенным и больным — все сразу. Мой напарник Хэтуэй как раз выводил их из библиотеки. Один из студентов оторвался от группы и прошел мимо, даже не взглянув на меня. Сюзн бросилась ему навстречу и схватила за рукава повыше локтей.
— Пит, Пит!
Пит был скроен как игрок в американский футбол — вот только профиль у него был чрезмерно красив. Пит смотрел куда-то мимо девушки, а лицо расползалось, пока вся краса не потонула в гримасе тревоги и ужаса.
— Как же это Лолли… — сказал он хриплым сдавленным голосом. Сюзн ахнула.
— Не знаю… — она норовила поймать его взгляд. Он так ни разу и не взглянул на Сюзн, а смотрел куда-то через ее плечо. Тут он почувствовал руку Хэтуэя у себя на локте и позволил себя увести.
— Дружок? — спросил я.
Сюзн оторвала взгляд от уходящего студента.
— Что?
— Он ваш друг?
Она посмотрела на свои не находящие покоя руки.
— Мы встречались.
— Насколько это серьезно?
— Довольно серьезно, — прошептала она.
— А другую девушку он тоже знает? Он ведь назвал ее Лолли.
Она пожала плечами: — Ну…
— Давайте выразимся так: он ходил с ней гулять, да?
— Иногда.
— Серьезно?
— Откуда я знаю? — вспылила она.
— Успокойтесь, пожалуйста. Она ревновала его к вам?
— Что все это значит?
— Кто-то подсыпал цианистого калия в сахарницу и положил эту смесь только в одну чашку. Предположим, Луэлла-Мэри настолько приревновала, что решила попробовать вас отравить, чтобы никто не мешал ей гулять с вашим дружком Питом. И, предположим, она по ошибке сама взяла не ту чашку.
— Это безумие, — возразила Сюзн. — Луэлла-Мэри никогда бы такого не сделала.
Но ее губы превратились в тонкую ниточку, глаза блестели. И я никогда не обманываюсь, если слышу в чьем-то голосе нотки ненависти.
В библиотеку вошел профессор Родни. Он был первым, кого я встретил в этом здании, и я по-прежнему относился к нему с прохладцей.
— Миссис Неттлер у меня в кабинете, — сообщил он, появившись в библиотеке. — Видимо, она услышала о случившемся по радио и сразу же явилась. Она очень взволнована. Побеседуете с ней? — В его устах это прозвучало как приказание.
— Приведите ее, профессор. — Я постарался, чтобы это прозвучало как разрешение.
Миссис Неттлер, что типично для пожилых дам, не знала, как себя держать. После того как она заглянула во внутреннюю комнату, она мешком опустилась в кресло и расплакалась.
— Я и сама пила здесь чай, — простонала она. — Это могла оказаться и…
Я произнес тихо и как мог успокаивающе:
— Когда вы пили здесь чай, миссис Неттлер? Она повернулась в кресле, подняла глаза.
— Господи… Господи… да, по-моему, в самом начале второго. Помню еще, что предложила чашечку профессору Родни. Пошел ведь как раз второй час, правда, профессор Родни?
На лице профессора промелькнула тень недовольства. Он сказал мне:
— Я забежал сюда на минутку, чтобы навести одну справочку. Миссис Неттлер действительно предложила мне чашку чаю. Но я был слишком занят, чтобы принять приглашение или заметить точное время.
Я хмыкнул и снова повернулся к старушке:
— Вы пьете с сахаром, миссис Неттлер?
Она кивнула и снова расплакалась. Подождав, я спросил:
— А вы не заметили, в каком состоянии была сахарница?
— Она была… она была… — неожиданно удивившись этому вопросу, она вскочила на ноги. — Она была пуста. Я сама насыпала из двухфунтовой коробочки сахарного песку, помню еще, сказала, что, когда бы мне ни захотелось сахару, его не оказывается, и пожалела, что девочки… — Она снова расплакалась, употребив слово «девочки».
Очевидно, между часом и двумя кто-то опорожнил сахарницу, а затем насыпал немного сахару, тщательно подмешав туда отраву.
Возможно, появление миссис Неттлер вернуло Сюзн обычную строгость библиотекаря, потому что, когда Хэтуэй потянулся за сигарой — спичку он уже зажег, — девушка сказала:
— В библиотеке не курят, сэр.
Хэтуэй так удивился, что задул спичку, а сигару сунул обратно в карман. Девушка быстро прошла к одному из длинных столов и протянула руку за большим раскрытым томом, но Хэтуэй опередил ее:
— Что это вы хотите сделать, мисс? Она удивилась:
— Поставить книгу обратно на полку.
— Зачем? А что это? — Он взглянул на раскрытую страницу. К тому времени я тоже уже оказался у стола. Я заглянул через его плечо. Книга была немецкая. Я не читаю на этом языке, но узнаю его, когда вижу тексты. Шрифт был мелкий, страница пестрела какими-то геометрическими фигурами и разрозненными строчками букв. Тут и моих познаний хватило, чтобы догадаться, что это химические формулы. Заложив страницу пальцем, я закрыл книгу и посмотрел на корешок.
— Это том Байлштайна, — сказал профессор совершенно невыразительным голосом, будто стоял на кафедре с указкой и мелом в руках. — Нечто вроде энциклопедии органических соединений. Тут их перечислено несколько сотен тысяч.
— В этой книге? — спросил Хэтуэй.
Профессор похлопал книгу этаким дружеским жестом.
— Берясь за какое-нибудь неизвестное вещество, — сказал он, — не мешает сперва справиться о нем у Байлштайна. У него вы найдете способы приготовления этого вещества, его свойства, справочную литературу и все такое прочее. Вещества выстроены по ясной, но не сразу заметной логической системе. В своем курсе по органическому синтезу я отвожу несколько лекций методике нахождения того или иного вещества в любом из этих шестидесяти томов.
Я пришел туда вовсе не для того, чтобы изучать органический синтез, и резко сказал:
— Профессор, я хочу побеседовать с вами в вашей лаборатории.
И вот я стою, держа в руках фунт цианистого калия и понимая, что всяк, кому не лень, мог взять любое его количество, просто попросив, а то и без всякого спросу. А профессор задумчиво говорит:
— Их называли «Библиотечные двойняшки». Я кивнул:
— Ну и что?
— А только то, что это доказывает, сколь поверхностны суждения большинства людей. В них не было совершенно ничего похожего, кроме волос и глаз. Вы, наверное, полагаете, что умершая девушка сама замышляла убийство?
Я пока не собирался высказывать свои мысли вслух.
— А вы разве так не думаете? — спросил я.
— Нет. Она не была способна на такое. Она исполняла свои обязанности с неизменной вежливостью и готовностью помочь. Кроме того, с чего бы вдруг ей это делать?
— А из-за одного студентика, — ответил я. — Его имя Питер.
— Питер Ван-Норден, — сразу же сказал он. — В меру смышленый, но почему-то никудышный студент.
— Девушки оценивают людей по иным меркам, профессор. Обе библиотекарши, похоже, очень им интересовались. Сюзн, вероятно, добилась больших успехов, и Луэлла-Мэри, возможно, решила действовать.
— А потом взяла по ошибке не ту чашку? Я в это не верю.
— Что же тогда, профессор? Сахар был отравлен после того, как миссис Неттлер пила чай в час дня. Сделала ли это миссис Неттлер?
Он быстро поднял глаза.
— А какой у нее может быть мотив? Я пожал плечами:
— Может быть, она боялась, что девушки займут ее место.
— Вздор. Она уходит на пенсию перед началом нового учебного года.
— Вы тоже были там, — мягко сказал я.
К моему удивлению, он воспринял это совершенно спокойно.
— Мотив? — спросил он.
— Вы не так уж стары, профессор, и могли заинтересоваться Луэллой-Мэри. Предположим, она грозилась сообщить декану о том, что вы когда-то сказали или сделали.
Профессор горько улыбался.
— Как же я мог наверняка знать, что цианистый калий достанется тому, кому он предназначен? И почему одна чашка должна оказаться вовсе без сахара? Я мог отравить сахар, но не я же заваривал чай.
Мое мнение о профессоре Родни начало меняться. Он даже не подумал изображать возмущение. Он просто указал на логический изъян моего утверждения, и я сразу оставил его в покое. Это мне понравилось.
— Что же, по-вашему, тут произошло? — спросил я.
— Зеркальное отображение, — сказал он. — Нечто прямо противоположное. Я полагаю, оставшаяся в живых все перевернула. Предположим, что парень достался Луэлле-Мэри, а Сюзн это не понравилось. Скорее было так, а не наоборот. Предположим, что на этот раз именно Сюзн готовила чай, а Луэлла-Мэри сидела за конторкой. В таком случае девушка, заваривающая чай, взяла бы нужную чашку и осталась невредимой. И все было бы логично.
Это-то все и решило. Этот человек пришел к тому же выводу, что и я, так что в конечном счете мне понравился, хотел я того или нет.
— Это надо неопровержимо доказать, — продолжал я. — Но как? Я думал, что доступ к цианистому калию имел кто-то один, а не кто угодно. Но доступ был у всех. И что же мне теперь делать?
— Проверьте, какая девушка на самом деле сидела за конторкой в два часа, пока готовился чай, — предложил профессор.
Мне стало ясно, что он читает детективные истории и оттого доверяет свидетельствам очевидцев. Я такими делами не занимался, но тем не менее встал.
— Что ж, профессор, так я и поступлю.
— Могу ли я присутствовать при этом? — спросил профессор, словно речь шла о настоятельной необходимости.
Я задумался.
— А зачем? Ответственность перед деканом?
— В некотором смысле. Хочу, чтобы все это поскорее кончилось.
— Идемте, — сказал я, — если считаете, что это поможет. Эд Хэтуэй поджидал меня в пустой библиотеке.
— Я понял, — сказал он, — как все это произошло. Я вывел это методом дедукции.
— О-о?!
На профессора Родни он не обращал никакого внимания.
— Цианистый калий пришлось протаскивать со стороны. Кто же это сделал? Тот случайный посетитель, который говорил с акцентом, как там его… — Он стал копаться в карточках, на которые занес сведения о свидетелях.
Я знал, кого он имеет в виду, и сказал:
— Ничего, имя не имеет значения. Что значит имя? Продолжай.
Это мое высказывание доказывает лишь, что и я могу быть так же глуп, как и любой другой.
— Он немец, книга тоже немецкая. Он, возможно, был с нею знаком. Он положил конвертик на заранее выбранную страницу, согласно какой-то особой формуле, заранее выбранной… Профессор говорил, что есть какой-то способ найти любую формулу. Верно, профессор?
— Верно, — холодно ответил тот.
— Ну вот. Библиотекарша знала формулу, так что могла найти эту страницу. Она берет цианистый калий и высыпает его в чай. От волнения забывает закрыть книгу…
— Послушай, Хэтуэй, с чего бы этот человек стал заниматься такими делами? Как он объясняет свое присутствие здесь?
— Говорит, что он скорняк и его интересуют репелленты моли и инсектициды. Вы когда-нибудь слышали подобную чушь?
— Конечно, слышали. Твоя версия, к примеру, — сказал я. — Послушай, ну кто станет прятать конверт с цианистым калием в книге? Стоит снять том с такой «закладкой» с полки, как он сам раскроется на нужной странице. Ничего себе тайничок!
Хэтуэй понемногу становился похожим на дурачка, а я беспощадно довершал разгром:
— Кроме того, цианистый калий вовсе не обязательно протаскивать сюда тайком с улицы. Тут его навалом, чуть ли не тонны. Любой, кому нужен фунт-другой, может запросто взять. Спроси у профессора.
Глаза Хэтуэя полезли на лоб, он порылся в кармане пиджака, вытащил какой-то конверт и извлек из него печатную страницу с немецким текстом.
— Это из того немецкого тома, который… Профессор Родни вдруг побагровел.
— Вы вырвали страницу из Байлштайна! — выкрикнул он пронзительным голосом, что чертовски меня удивило. Ни за что бы не подумал, что он способен кричать.
— Я думал, — оправдывался Хэтуэй, — попробовать ее на отпечатки пальцев с клейкой лентой. А может, удалось бы обнаружить крупинки цианистого калия.
— Дайте ее сюда! — завопил профессор. — Невежественный болван!
Он разгладил страницу, осмотрел обе ее стороны, убеждаясь, что текст цел.
— Вандал! — прорычал он, и я уверен, что в тот миг он мог бы запросто убить Хэтуэя.
Профессор Родни, возможно, был убежден в виновности Сюзн, и, если уж на то пошло, я тоже. Однако уверенность присяжным не представишь. Нужны доказательства. Поэтому, не доверяя свидетелям, я решил нанести удар, сыграв на единственной слабости возможного виновника, Я позвал Сюзн и задал ей ряд новых вопросов. Если же вопросы не помогут изобличить ee, думал я, то, возможно, девушку подведут нервы.
Но первым я допросил маленького скорняка-немца, который был страшно напуган.
— Я ничего не сделал, — лопотал он. — Пожалуйста, у меня работа. Сколько мне здесь оставаться?
— Вы пришли сюда незадолго до двух часов, верно? — Да. Мне хотелось почитать о репеллентах моли…
— Хорошо. Когда вы вошли, вы направились к конторке, верно?
— Да. Я назвал свою фамилию, сказал, кто я, что мне нужно…
— Кому сказали? — задал я главный вопрос. Маленький человечек уставился на меня. У него были курчавые волосы и запавший рот, из-за которого он казался беззубым. Но когда он говорил, отчетливо были видны маленькие пожелтевшие зубки.
— Ей, — сказал он. — Я сказал ей, девушке, которая там сидела.
— Совершенно верно, — невыразительным голосом подтвердила Сюзн. — Он разговаривал со мной.
— Вы уверены, что говорили именно с этой девушкой? — обратился я к скорняку.
— Да, — подтвердил он, — я назвал ей свою фамилию и сказал, что мне нужно, и она улыбнулась. Она показала мне, где найти книги по инсектицидам. Затем, когда я отходил от конторки, вон оттуда вышла еще одна девушка.
— Прекрасно! — сказал я. — Вот фотография другой девушки. Скажите, вы говорили вот с этой девушкой за конторкой, а из задней комнаты вышла та, которая на фотографии? Или вы говорили с той девушкой, которая на фотографии, а девушка, сидящая сейчас за конторкой, вышла из задней комнаты?
Долгую минуту скорняк пристально разглядывал сначала девушку, потом фотографию.
— Они же совсем одинаковые.
Я выругался про себя. На губах Сюзн заиграла едва заметная улыбка, которая почти тут же исчезла. Должно быть, на этом она и строила свои расчеты. В библиотеке почти никого не было из студентов, чужой вряд ли станет вглядываться в библиотекаря — такую же принадлежность читального зала, как книжные полки.
Теперь я уже знал, что она виновна, но знание еще ничего не значит.
— Ну так которая же? — спросил я.
— Я говорил с ней, с той, которая за конторкой, — ответил он с видом человека, которому хочется покончить с допросом.
— Совершенно верно, — невозмутимо подтвердила Сюзн. Я уже успел до дна исчерпать свои надежды на ее слабые нервы.
— А вы могли бы присягнуть в этом? — спросил я скорняка.
— Нет, — тут же ответил он.
— Что ж, Хэтуэй, уведи его и отправь домой. Профессор Родни подался вперед и тронул меня за локоть.
— Почему она улыбнулась этому человеку, когда он сказал, какие книги ему нужны? — прошептал он.
— А почему бы и нет? — шепнул я в ответ, но все равно задал девушке этот вопрос. Брови у нее слегка вздрогнули.
— Обыкновенная вежливость. Что в этом дурного?
Она прямо ликовала, я мог бы в этом поклясться. Профессор слегка покачал головой и снова шепнул мне:
— Она не из тех, кто улыбается незнакомцам, с которыми надо возиться. За конторкой наверняка сидела Луэлла-Мэри.
Я пожал плечами, представив себе, как выкладываю подобные доказательства комиссару.
Четверо студентов ничего не видели, и их допрос почти не отнял времени. Они занимались исследованиями, знали, какие им нужны книги и где они стоят. Они не задерживались у конторки, не могли сказать, кто и когда за ней сидел. Никто даже не поднимал глаз от книг, пока пронзительный крик не всполошил всех и вся.
Пятым был Питер Ван-Норден. Он вперил взор в большой палец своей правой руки. Ноготь на нем был жутко изгрызен. На Сюзн он даже не взглянул. Я дал ему немного посидеть и прийти в себя. Наконец я спросил:
— Что вы здесь делаете в такое время года? Насколько я понял, сейчас каникулы.
— У меня через месяц кандидатский минимум, — пробормотал он. — Я занимаюсь. Если я сдам экзамен, то смогу работать над своей диссертацией, понимаете?
— Я полагаю, вы задержались у конторки, войдя сюда?
— Нет, не думаю. По-моему, я не задерживался, — ответил он так же тихо, как и прежде.
— Странно, не правда ли? Я полагаю, вы хороший друг как Сюзн, так и Луэллы-Мэри. Разве вы не говорите им «привет»?
— Я волновался. Я думал об экзамене. Мне надо было заниматься. Я…
— Выходит, у вас даже не нашлось времени сказать «привет»?
Я посмотрел на Сюзн, чтобы узнать, как все это действует на нее. Она побледнела. Но ведь мне могло и показаться.
— Однако вы были чуть ли не обручены с одной из них. Разве не так? — спросил я.
Он поднял глаза, в которых отразилась смесь тревоги и возмущения.
— Нет! Я не могу обручиться, пока не получу степень. Кто вам сказал, что я обручен?
— Я сказал «чуть ли не обручены».
— Нет! Может, мы и встречались раз-другой, но что значат одно-два свидания?
— Полноте, Пит, — вкрадчиво сказал я. — Которая же из них была вашей подружкой?
— Говорю вам, ничего подобного не было! — Он так усердно умывал руки от этого дела, что казалось, весь погрузился в невидимую пену.
— Ну так как? — вдруг спросил я Сюзн. — Останавливался он у вашей конторки?
— Он помахал рукой, когда проходил, — сказала она.
— В самом деле, Пит?
— Не помню, — угрюмо ответил он. — Может, и помахал. Ну и что?
— А ничего, — сказал я.
В душе я жалел Сюзн. Если ради этого типа она убила человека, ее старания канули втуне. Я был уверен, что отныне он на нее и внимания не обратит, даже если она рухнет ему на голову с крыши двухэтажного дома. Она, должно быть, тоже это поняла. Судя по взгляду, брошенному ею на Питера Ван-Нордена, его можно было считать вторым кандидатом на угощение цианистым калием. Если, конечно, все сойдет ей с рук. А дело к тому и шло…
Было уже около шести, и я не представлял себе, что еще можно сделать. Выходило, что никто даже не опровергал утверждений Сюзн. Будь у нее преступное прошлое, уж мы бы смогли выжать истину, если не напором, то измором. Но к ней такие способы неприменимы. Я повернулся к профессору, готовый высказать это вслух, но он неотрывно смотрел на карточки Хэтуэя. Во всяком случае, на одну из них, которую держал в руках. Знаете, рассказывают, будто у кого-то там руки дрожат от волнения, но видеть такое приходится нечасто. Рука Родни дрожала как молоточек старомодного будильника. Он прокашлялся.
— Позвольте мне задать ей один вопрос.
— Валяйте, — сказал я. Терять было уже нечего. Он посмотрел на девушку и положил карточку на стол чистой стороной вверх.
— Мисс Мори, — неуверенно сказал он. Казалось, он намеренно избегал обращения по имени. Сюзн воззрилась на него. На какое-то мгновение она, казалось, занервничала, но это прошло, и она снова была спокойна.
— Да, профессор?
— Вы улыбнулись, когда скорняк сказал, что ему нужно. Почему?
— Я же сказала вам, профессор Родни. Это была простая вежливость.
— А может, в том, что он сказал, было нечто особенное, смешное?
— Я старалась быть вежливой, — повторила она.
— Возможно, вам показалась забавной его фамилия, мисс Мори?
— Не особенно, — безразлично сказала она.
— Ну что ж, его фамилию еще никто не упоминал. Я не знал ее, пока случайно не взглянул на эту карточку. Так какая же у него была фамилия, мисс Мори? — вдруг воскликнул он полным волнения голосом.
— Не помню, — помолчав, ответила она.
— Ах, не помните? Он же назвал свою фамилию, разве нет?
В ее голосе зазвучало раздражение:
— Ну и что, если назвал? Фамилия, она фамилия и есть. Вряд ли после всего случившегося можно ожидать, что я запомню какую-то там иностранную фамилию, которую слышала раз в жизни.
— Значит, она была иностранная?
Она резко дала задний ход, избегая ловушки.
— Не помню. Мне кажется, это была типично немецкая фамилия. Да мне все равно, как его звали, пусть хоть Джон Смит.
— Что вы пытаетесь доказать, профессор Родни? — спросил я.
— Я пытаюсь доказать, — твердо заявил он, — а фактически уже доказываю, что именно Луэлла-Мэри сидела за конторкой, когда вошел скорняк. Он назвал свою фамилию, и эта фамилия вызвала у Луэллы-Мэри улыбку. И именно мисс Мори выходила из задней комнаты, когда он отворачивался от конторки. Именно мисс Мори, вот эта девушка, только что заварившая и отравившая чай.
— Вы основываете свое утверждение на том факте, что я не могу запомнить имя какого-то человека, — пронзительно вскричала Сюзн Мори, — Это смехотворно!
— Нисколько, — отвечал профессор. — Будь вы за конторкой, вы бы запомнили его фамилию, вы бы просто не смогли забыть ее. Если бы вы сидели за конторкой, — он поднял карточку. — Фамилия этого скорняка Байлштайн. Байлштайн!
Из Сюзн вышел весь дух, как будто ее пнули ногой в живот. Она побледнела как мел. Профессор увлеченно продолжал.
— Ни один сотрудник химической библиотеки ни за что не забыл бы фамилию человека, который заявляет, что он Байлштайн. Эта шестидесятитомная энциклопедия, которую мы сегодня упоминали раз пять, неизменно именуется по фамилии ее редактора, Байлштайна. Эта фамилия для сотрудника химической библиотеки все равно что Джордж Вашингтон или Христофор Колумб. Для него она привычнее любого из этих имен. Если эта девушка утверждает, что забыла фамилию, значит, она ее вовсе не слышала. А не слышала она ее потому, что не сидела за конторкой!
Я встал и мрачно сказал:
— Ну, мисс Мори, что вы на это ответите?
Она так пронзительно завизжала в истерике, что у нас чуть не полопались барабанные перепонки. Полчаса спустя она во всем призналась.
перевод В. ПостниковаВетры перемен
The Winds of Change
© 1982 by Isaac Asimov
Ветры перемен
© В. Гольдич, И. Оганесова, перевод, 1997
Вместе с Элис Лоренс (трудолюбивой, умной и привлекательной женщиной, с которой работать — одно удовольствие) я составил два сборника. Первый — сборник детективов, второй — сборник фантастики; и туда, и сюда вошли лишь рассказы, специально написанные для этих сборников. Более того, в обеих книгах мы не указали точно авторов произведений и предложили читателю самому догадываться, если у него будет на то желание.
«Ветры перемен» — рассказ, написанный мною для сборника фантастики. Не знаю, правда, удалось ли мне спрятать авторство. В начале книги был помещен полный список всех авторов, и читатель, вздумавший разыскать «азимовский» рассказ, полагаю, вряд ли бы ошибся.
Но это не имеет значения. Я искренне уверен, что по некоторым параметрам рассказ «Ветры перемен» — лучший в предлагаемом вам сборнике. Вот почему весь сборник носит это название — не говоря уже о том, что оно мне просто нравится. Вообще-то я считаю концовку рассказа настолько сильной, что обойдусь без непременною послесловия — не хочу разрушать впечатление от книги. (И не заглядывайте сейчас в конец. Прочитайте рассказ!)
Джонас Динсмор вошел в кабинет президента факультетского клуба в очень характерной для себя манере, словно прекрасно понимал, что, хотя и имеет полное право здесь находиться, он не может рассчитывать на дружеский прием.
Принадлежность к клубу угадывалась в уверенной походке, а быстрый взгляд, который бросил Джонас, оказавшись в комнате, говорил, что он готов к самой враждебной встрече. Джонас Динсмор был адъюнкт-профессором физики.
В комнате находилось два человека, которых он вполне мог считать своими врагами и при этом не бояться, что его посчитают параноиком.
Один из них — Гораций Адамс, стареющий декан факультета; не совершив ничего значительного, он умудрился обзавестись всеобщим уважением за многочисленные мелкие добрые дела. Другим был Карл Мюллер, чья работа по теории Единого Поля поставила его в ряд претендентов на получение Нобелевской премии (так он, во всяком случае, сам думал) и сделала первым кандидатом на пост ректора университета. Трудно сказать, какой из этих двух вариантов вызывал у Динсмора более сильный протест. В любом случае можно смело утверждать, что он презирал Мюллера.
Динсмор устроился в углу очень неудобного потертого дивана — два мягких кресла были уже заняты — и улыбнулся.
Он часто улыбался, хотя его лицо при этом никогда не становилось доброжелательным. Его улыбка была ничем не примечательной — уголки рта просто растягивались в стороны, но всякий, кто видел эту гримасу, неизменно испытывал неприятные ощущения. Круглое лицо, редкие, тщательно причесанные волосы, полные губы… Все это должно было прекрасно сочетаться с приветливой улыбкой — но почему-то не сочеталось.
Адамс пошевелился; казалось, он борется с раздражением, быстрой тенью промелькнувшим по его удлиненному лицу уроженца Новой Англии. Черноволосый Мюллер совершенно равнодушно и холодно посмотрел на Динсмора голубыми глазами.
— Я знаю, джентльмены, что нарушаю ваше уединение, — заявил Динсмор. — Однако у меня нет выбора. Меня пригласил Совет попечителей. Возможно, они поступают жестоко. Я уверен, Мюллер, вы ожидаете сообщения, в котором будет сказано, что попечители выбрали вас ректором. Вполне естественно, при этом должен присутствовать профессор Адамс, ваш учитель и соратник. Но зачем, Мюллер, они позвали меня, вашего скромного и постоянно проигрывающего соперника?
По правде говоря, я подозреваю, что, став ректором, вы немедленно порекомендуете мне заняться поисками нового места работы, поскольку на следующий учебный год мой контракт продлен не будет. Получается, что я здесь очень кстати — вы сможете без всякой задержки объявить мне эту новость. Жестоко, зато эффективно.
Вы оба кажетесь мне обеспокоенными. Возможно, я несправедлив. Мое немедленное увольнение вас не слишком занимает; вы вполне готовы подождать и до завтра. Может быть, это попечители хотят поскорее от меня избавиться? Не имеет значения. В любом случае создается впечатление, что вы останетесь в университете, а со мной будет покончено. Вполне возможно, что это покажется вам справедливым. Уважаемый глава огромного факультета, заканчивающий карьеру рядом со своим блестящим учеником, чье глубокое понимание фундаментальных концепций и виртуозное владение математическим аппаратом делают его достойным самых высоких наград; в то время как я, лишенный чести и уважения…
А раз уж дело обстоит именно так, должен заметить, что вы демонстрируете несказанное великодушие — вы ведь не прерываете меня, даете мне возможность выговориться. Возникает ощущение, что известие, которое мы ждем, появится с небольшой задержкой, может быть, даже через час. Предчувствие. Попечители тоже не прочь нас немножко помучить, подержать в напряжении. Ведь это замечательный момент — всеобщее внимание привлечено к ним. И раз уж нам все равно придется ждать, я вам кое-что расскажу.
Иным приговоренным перед казнью разрешается в последний раз поесть, другим — выкурить сигарету; мне, надеюсь, будет позволено произнести последнее слово. Конечно, вовсе не обязательно меня слушать или делать вид, что вам интересно.
Благодарю вас. И принимаю за согласие смиренное выражение вашего лица, профессор Адамс. Легкая презрительная улыбка профессора Мюллера меня тоже вполне устраивает.
Знаю, вы не станете винить меня за то, что я с удовольствием изменил бы сложившуюся ситуацию. Но каким образом? Хороший вопрос. Я не хотел бы получить другой характер и другие качества личности. Возможно, они не так уж и хороши, но они мои. Не стал бы я трогать и политические достоинства Адамса или таланты Мюллера, потому что тогда это уже будут не Адамс и не Мюллер. Я бы желал, чтобы вы остались такими, какие вы есть, а вот ситуация, в которой мы трое оказались, сложилась бы иначе. Если бы кому-то удалось отправиться назад в прошлое, какие небольшие модификации событий, происходивших тогда, принесли бы желаемый результат в настоящем?
Вот что мне нужно. Путешествие во времени!
Ага, это произвело на вас впечатление, профессор Мюллер! Вы почти фыркнули. Путешествие во времени! Смешно! Невозможно!
Не только невозможно из-за нынешнего состояния науки, но и невозможно вообще. Путешествие во времени — в том смысле, что кто-то возвращается назад, чтобы изменить реальность — невозможно не только практически, но и теоретически.
Забавно, что вы так думаете, Мюллер, поскольку ваши теории, которые описывают взаимодействие четырех сил, в том числе и гравитацию как единого целого, делают путешествия во времени теоретически осуществимыми.
Нет, не надо возражать. Успокойтесь, Мюллер, посидите спокойно. Я уверен, что вы такую возможность исключаете. Большинство людей с вами совершенно согласно. Может быть, почти все. Однако существуют исключения — и я одно из них. Почему я? Кто знает? Я не утверждаю, что умнее вас, но разве это имеет отношение к нашей проблеме?
Давайте рассмотрим аналогию. Представьте себе: десять тысяч лет назад человеческие существа, постепенно, шаг за шагом, благодаря стечению обстоятельств или талантливым одиночкам, научились общаться между собой. Была изобретена речь, и легкие модуляции звуков получили абстрактный смысл.
В течение тысяч лет каждый нормальный человек был способен общаться с другими, но сколько из них могли рассказать интересную историю? Шекспир, Толстой, Диккенс, Гюго — горстка по сравнению с великим множеством живших на свете людей — могли извлекать звуки, заставлявшие всех остальных смеяться и плакать. Но ведь они пользовались теми же словами, что и мы с вами.
Я готов признать, что коэффициент умственного развития у Мюллера, к примеру, выше, чем у Шекспира или Толстого. Вероятно, Мюллер знает язык не хуже, чем любой из ныне живущих писателей; его понимание смысла слова не вызывает сомнений. Однако Мюллер не может достигнуть того эффекта, которого легко добивался Шекспир. Уверен, и сам Мюллер не станет этого отрицать. Так какими же качествами, которых лишены Мюллер, Адамс или я, обладали Шекспир и Толстой? Какой особой мудростью были наделены? Вы не знаете, и я не знаю. Что еще хуже — они и сами этого не знали. Шекспир ни в коей мере не мог быть вашим наставником — и никого не сумел бы научить создавать великие произведения. Шекспир просто обладал этой способностью, и все.
А теперь давайте подумаем о том, что такое время. Насколько нам известно, только человек способен понимать значение времени. Все остальные живые существа живут в настоящем; у них есть лишь смутные воспоминания, неясные и весьма ограниченные предчувствия. Зато люди способны понимать прошлое, настоящее и будущее, в состоянии размышлять о его смысле и важности, задумываться о потоке времени, о том, как он течет и можно ли повернуть его вспять.
Когда это произошло? Как это произошло? Кто был первым человеческим существом, которое вдруг поняло, что река времени вынесла его из туманного прошлого в туманное будущее, и задумался: нельзя ли изменить течение?
Этот поток не является неизменным. Иногда нам кажется, что время бежит слишком быстро, часы исчезают, будто они превратились в минуты; зато в другие моменты тянутся безнадежно долго. Когда человек спит, впадает в состояние транса или подвергается воздействию наркотика, время для него теряет привычные свойства.
Вы, кажется, собираетесь мне возразить, профессор Адамс? Не утруждайте себя. Вы наверняка хотели сказать, что данные изменения носят чисто психологический характер. Я знаю, но разве у нас есть что-нибудь, кроме психологии?
Существует ли физическое время? Если да, то что это такое? Ответ очевиден: это то, что мы сами выбрали в качестве образца. Мы конструируем приборы. Мы интерпретируем результаты измерений. Мы изобретаем теории, а потом сами же их и объясняем. Так из понятия абсолютного мы превратили время в нечто, имеющее скорость света, и одновременно пришли к выводу, что его невозможно определить.
Из ваших трудов, Мюллер, мы знаем, что время — явление субъективное. В теории, тот, кто в состоянии понять природу потока времени, если у него хватит таланта, сможет двигаться вместе с потоком или против него; или даже остановиться. Как аналогию можно привести пример с «Королем Лиром» — всякий, знакомый с языком, если у него хватит таланта, может написать такую пьесу.
А что, если у меня есть талант? Что, если я могу быть Шекспиром временного потока? Давайте развлечемся немного. Сообщение от Совета попечителей вот-вот придет, и тогда мне придется замолчать. Однако до тех пор разрешите продолжить мою болтовню. Уверен, вы и не заметили, что с того момента, как я начал говорить, прошло пятнадцать минут.
Подумайте теперь — если я и в самом деле сумею применить теорию Мюллера ради достижения собственных целей, совсем как Гомер пользовался своим исключительным даром складывать слова, что я стану делать, обнаружив у себя столь необыкновенные способности? Может быть, вернусь назад во времени, к тому моменту, когда можно будет кое-что изменить.
О да, я буду находиться вне временного потока. Ваша теория, Мюллер, если ее правильно интерпретировать, вовсе не утверждает, что, двигаясь назад во времени, я буду вынужден брести против течения, наталкиваясь на давно случившиеся события. Это и в самом деле теоретически исключено. А вот если оставаться снаружи — тогда-то и возникают дополнительные возможности; здесь как раз и необходим талант: нужно уметь вовремя войти и выйти из потока.
Предположим, я поступил следующим образом: в какой-то момент вошел в поток и внес необходимое изменение. Оно породит следующее, за ним возникнет другое — и так далее… Время потечет по новому руслу, имеющему собственную жизнь, поток будет пениться и бурлить, и через короткое время…
Нет, неудачное выражение. «Время… через короткое время…» Получается, что мы берем за основу какое-то абстрактное и абсолютное понятие, относительно которого можно измерить время, как если бы наше прошлое опиралось на еще более глубокое прошлое. Признаюсь, мне осознать этого не дано, но вам позволено сделать вид, что вы все понимаете.
Любая модификация прошлого через… некоторое время приведет к тому, что все неузнаваемо переменится.
Но этого я как раз не хочу. Я с самого начала говорил, что не желал бы потерять собственную личность. Если на моем месте окажется кто-то более умный и удачливый, то это уже буду не я.
Да и вас, Мюллер и Адамс, я тоже не стану менять. Я не хочу триумфа над Мюллером, который будет не таким талантливым и изобретательным, или над Адамсом, потерявшим свою восхитительную способность всех ублажать. Я хочу победить вас такими, какие вы есть.
Да, я жажду триумфа.
Ну ладно. Вы зашевелились, словно я сказал что-то непристойное. Неужели это понятие так вам чуждо? Неужели вам чуждо все человеческое и вы не ищете почестей, победы, славы и призов? Неужели я должен поверить в то, что наш уважаемый профессор Адамс готов отказаться от длинного списка публикаций, почетных степеней, множества медалей и орденов, поста главы факультета физики в одном из самых уважаемых университетов мира, наконец?
И разве вас удовлетворило бы, профессор Адамс, если бы никто не узнал о ваших достижениях; если бы сведения о них вычеркнули из всех каталогов; если бы это осталось тайной — вашей и Всемогущего? Глупый вопрос. Я не стану требовать ответа на него, поскольку он всем очевиден.
И нет никакого смысла повторять то же самое о Мюллере — ожидаемом получении Нобелевской премии или предполагаемом ректорстве.
Чего же вы хотите, если в конечном счете вас привлекает не только сам факт обладания всем этим, но и всеобщее признание ваших заслуг? Конечно же, вы жаждете триумфа! Вы мечтаете о победе над соперниками, над другими человеческими существами. Вы стремитесь сделать то, что другим не под силу, чтобы на вас смотрели с завистью и вынужденным уважением.
Должен ли я быть благороднее вас? Зачем? Пусть уж я буду иметь такие же желания и, как вы, мечтать о славе. Почему бы мне не желать всеобщего уважения, почетных премий или высокого поста, которые предназначены вам? Почему бы мне не лишить вас в самый последний момент права на триумф? Чувства, которые я при этом буду испытывать, не кажутся мне более низкими, чем ваши.
Ах да, вы заслужили все это, а я — нет!.. А что, если я так изменю поток времени, что все будет наоборот?
Вы только представьте себе! Я останусь самим собой; и вы тоже. Каждый из нас сохранит свои положительные и отрицательные качества — ведь я сам поставил такое условие, однако я буду достоин предназначенных вам почестей, а вы — нет. Иными словами, я стремлюсь победить именно вас, а не ваши бледные тени.
В некотором смысле я отдаю вам должное, не так ли? Судя по вашим лицам, вы прекрасно понимаете, о чем я говорю. Полагаю, вас переполняют презрение и гордость одновременно. Так определяется мера наших побед. Вы наслаждаетесь наградами, о которых мечтаю я, а поскольку мне не удается их получить, ваше наслаждение становится еще острее.
Я не виню вас за это. На вашем месте я испытывал бы то же самое.
Но должны ли мои мечты остаться неудовлетворенными? Подумайте как следует…
Предположим, я вернулся назад во времени лет на двадцать пять. Круглое число; ровно четверть века. Вам, Адамс, сорок. Вы только что прибыли сюда из своего заштатного университета, получив должность профессора. Вы начинаете заниматься диамагнетиками, однако все ваши попытки добиться серьезных результатов просто смешны.
Господи, Адамс, чему вы так удивились? Неужели вы думаете, что я не знаком с вашей профессиональной деятельностью…
А вам, Мюллер, двадцать шесть, вы заканчиваете докторскую диссертацию по общей относительности, которая в то время произвела большое впечатление, чего о ней никак нельзя сказать сейчас. Если бы вам удалось правильно интерпретировать свой собственный труд, вы бы предвосхитили большинство выводов Хокинга. Однако не удалось, хотя вы и сумели скрыть этот прискорбный для вас факт.
Боюсь, Мюллер, что как интерпретатор вы не слишком сильны. Вы не смогли сделать необходимых выводов из своей докторской диссертации, да и с всеобщей теорией поля оплошали. Возможно, Мюллер, в этом нет ничего позорного. Подобные случаи довольно распространены. Нужен особый талант, чтобы оценить новую теорию и ее значение. Я не способен создать оригинальную, блестящую теорию, но обладаю даром правильно интерпретировать чужие идеи. Мы с вами могли бы отлично дополнять друг друга.
Если бы вы генерировали идеи, оставляя мне возможность их интерпретировать, мы бы достигли заоблачных вершин. Какая бы из нас получилась команда, Мюллер!.. Но вы бы ни за что на это не пошли. Я не стану особенно возмущаться — поскольку и сам бы не согласился работать вместе с вами.
В любом случае все это пустяки. Я никак не могу навредить вам, Адамс, даже если стану рассказывать о ваших прошлых неудачах на каждом углу. Ведь вы в конце концов, хотя и с большим трудом, нашли в своей статье ошибку еще до того, как она появилась на страницах серьезного научного журнала. И я никак не сумею заслонить солнце, щедро льющее на вас свои лучи, Мюллер, если заявлю о выводах, которые можно было бы сделать из ваших теорий. Это, пожалуй, только подчеркнет вашу одаренность: в ваших работах столько новых идей, что даже вы сами не в состоянии оценить их значение.
Что же мне в таком случае делать? Как должным образом изменить ситуацию?
К счастью, у меня была возможность все обдумать в течение весьма длительного промежутка времени. Мое сознание полагает, что на это ушли годы, однако в реальном мире не прошло ни секунды, поэтому я совсем не постарел. Я мыслил, но физические процессы в моем организме остановились.
Вы опять улыбаетесь. Нет, я не смогу вам объяснить, как такое возможно. Конечно, мыслительные процессы являются частью метаболических. Могу лишь предположить, что вне временного потока мыслительный процесс перестает быть физическим, а превращается в некий эквивалент.
Так как же мне найти тот момент времени, когда мое вмешательство приведет к желаемому результату? Как внести изменения, вернуться в будущее, посмотреть на последствия и, если они мне не понравятся, снова устремиться в прошлое и предпринять новую попытку? И если я проделаю эту операцию пятьдесят раз, тысячу, смогу ли я рано или поздно добиться желаемого? Число изменений, каждое из которых несет за собой бесчисленное количество коррекций, которые, в свою очередь, приводят к новым ситуациям, невозможно ни сосчитать, ни предвидеть. Как найти искомое?
И задача оказалась мне по плечу! Я понял, как это делается, но, пожалуй, рассказывать не стану, и уж, конечно, вам никогда не узнать, что я потом предпринял. Трудно ли это?
Мы стоим, ходим, бегаем, прыгаем — хотя нам не так-то просто сохранять равновесие. Мы находимся в состоянии полнейшей нестабильности. Мы стоим и не падаем только потому, что мышцы наших ног и торса непрерывно сокращаются — так циркач удерживает на носу трость.
Физически это трудно. Вот почему мы охотно присаживаемся, как только возникает такая возможность. Вот почему, если долго отстоять по стойке «смирно», можно потерять сознание. Однако, если не доходить до крайностей, мы довольно успешно справляемся с этими проблемами и делаем все необходимое практически бессознательно. Мы в состоянии ходить, стоять, бегать, прыгать целый день и ни разу не упасть и даже не потерять равновесия. Ну а теперь попробуйте описать, как вы это делаете, чтобы тот, кто никогда не пробовал, попытался повторить все ваши движения за вами. Не получится!
Еще один пример. Мы умеем разговаривать: сокращаем мышцы языка, губ, щек и неба так, чтобы производить те звуки, какие хотим. Учение давалось нам с трудом — в детстве, — но теперь мы без особых усилий произносим дюжины слов в минуту. Так как же у нас это получается? Какие движения производятся, чтобы сказать: «Как мы это делаем?». Опишите их тому, кто никогда не говорил, чтобы он повторил эти звуки! Это попросту невозможно.
Однако мы решаем эту задачу. Легко.
Если хватит времени… впрочем, я даже не представляю себе, как описать промежуток, который я имею в виду… Это не время; называйте его «промежуток». Взяв достаточный промежуток без прохождения времени, я научился изменять реальность по своему желанию. Это напоминало детский лепет, но постепенно я овладел связной речью. И научился выбирать.
Конечно, я рисковал. В процессе обучения я мог совершить какую-нибудь непоправимую ошибку; или потребовалось бы внести такие тонкие изменения, которые мне оказались бы просто не под силу. Однако все прошло гладко. Может, именно здесь и мне, наконец-то, сопутствовала удача.
Я начал получать удовольствие от самого процесса — все равно что рисовать картину или ваять скульптуру. Даже больше: я создавал новую реальность. Реальность, которая по ключевым позициям совпадала с нашей. Я не изменился; Адамс остался тем же Адамсом; Мюллер тоже не потерял своих основных характеристик. Университет остался университетом, наука — наукой.
Так неужели ничего не изменилось? Похоже, вы начинаете терять интерес. Вы больше мне не верите. И, если я вас правильно понимаю, готовы посмеяться над моим рассказом. Я слишком увлекся и вел себя так, словно путешествие во времени возможно, и я действительно сделал то, о чем лишь только мечтал. Простите меня. Считайте это игрой воображения, фантазиями. Я говорил о том, что мог бы сделать, если бы путешествие во времени было возможно и если бы у меня в самом деле имелся необходимый талант.
В таком случае — в моем воображении — неужели ничего не изменилось? Должны же быть какие-то перемены; чтобы Адамс, оставаясь Адамсом, уже не годился для роли декана факультета; Мюллер был прежним Мюллером, однако его мечты стать ректором университета и получить Нобелевскую премию развеялись как дым.
А я остался бы самим собой, рабочей лошадкой, никем не любимый и неспособный творить — однако располагающий качествами, которые сделали бы меня ректором университета.
К науке это не должно иметь отношения; требуется опорочить, выставив в самом неблагоприятном свете, двух благородных джентльменов…
Ну ладно. Я не заслужил этих самодовольных и одновременно презрительных взглядов. Насколько я понимаю, вы уверены: ни один из вас не способен совершить отвратительного или гнусного поступка. Откуда же такая уверенность? Нет человека, который при определенных условиях не впал бы в грех. Кто среди нас не совершит серьезного проступка, если искушение будет достаточно сильным? Кто из нас без греха?
Думайте, думайте! Вы уверены, что ваши души чисты? На вашей совести нет ничего постыдного? Неужели ни один из вас ни разу не был близок к преступлению — а спасло вас лишь везение и удачное стечение обстоятельств, а вовсе не ваше благородство? Если кто-нибудь внимательно наблюдал бы за вашими действиями и обращал внимание на удачу всякий раз, когда она приходила к вам на помощь, а один раз встал бы на пути фортуны, вы бы не смогли избежать неприятностей.
Конечно, если бы вы вели бесчестную жизнь, полную обмана, так что люди с отвращением и презрением отвернулись бы от вас, вы бы не достигли столь высокого положения. Вы давно потерпели бы поражение, и мне не довелось бы переступить через ваши поверженные тела — вас бы попросту здесь не было, и вы не послужили бы мне ступеньками на пути к триумфу.
Видите, как все сложно?
Поэтому моя игра становилась все более волнующей. Надеюсь, вы меня понимаете. Если бы я вернулся назад во времени и обнаружил, что найти решение совсем несложно и одним ударом реально достигнуть цели, то удовольствие было бы немалым, но моя интеллектуальная победа была бы не столь полной.
Если бы мы играли в шахматы и я бы выиграл, поставив мат в три хода, то это было бы даже хуже, чем поражение. Получилось бы, что я выбрал недостойного соперника, опозорившись еще до начала партии.
Нет. Настоящая победа одерживается в борьбе с сильным неприятелем, в результате тонких маневров и сложных комбинаций; когда ты напрягаешь все свои извилины, когда победа достается тебе в мучениях и страданиях, когда заключительный, решающий рывок отнимает последние силы, и ты падаешь, сжимая в руках желанный трофей.
Промежуток, проведенный мной в игре с самыми необычными шахматными фигурами, оказался таким долгим и трудным из-за ограничений, которые я сам же и установил. Я упрямо настаивал не только на конечном результате; нет, я неустанно стремился к тому, чтобы все произошло именно так, как мне хотелось — отбрасывая все варианты, когда что-то меня не устраивало. Мелкую ошибку я расценивал как неудачу; не совсем точное попадание я считал промахом. Только выстрел в яблочко мог меня удовлетворить, на меньшее я не соглашался.
И даже мой успех оказался столь неожиданным, что вы не должны были о нем узнать, пока я вам все не объясню. До самого конца вы будете оставаться в неведении по поводу того, что вас ждет полнейший крах. Вот что…
Но подождите, я кое о чем забыл. Я так старался объяснить вам, что вы, я, университет и наука должны остаться прежними, что не рассказал о других возможных изменениях. Неизбежно возникнут перемены в социальной, политической и экономической сферах, в международных отношениях. Кого могут беспокоить подобные вещи? Уж, конечно же, не нас троих.
Вот чем замечательна наука и ученые, не правда ли? Какое значение для нас имеет президент Соединенных Штатов или итоги голосования в ООН, положение на биржевых рынках или бесконечные политические маневры? Пока наука существует и выполняются законы природы, продолжается игра, в которую мы играем, а фон, на котором все это происходит, — не более чем бессмысленная смена света и тьмы.
Возможно, вы со мной не согласны, Мюллер. Мне хорошо известно, что в свое время вы считали себя частью общества и не раз высказывались по разным вопросам. В несколько меньшей степени то же можно сказать и о вас, Адамс. Вы оба имели возвышенные взгляды на человечество, Землю и прочие абстракции. Насколько серьезными были ваши убеждения? Ведь на самом деле — глубоко внутри — вас это мало интересовало, пока вы имели возможность заниматься своей наукой.
В этом и заключается решающая разница между нами. До тех пор пока мне никто не мешает заниматься физикой, меня не интересует, что станется с человечеством. Я этого не скрываю; все считают меня циничным и бездушным. А вам на все наплевать — втайне. К цинизму и бездушию, характерному для меня, вы добавляете лицемерие, которое скрывает ваши грехи, делая их тем самым еще более отвратительными.
О, не надо возмущенно трясти головами. Я знаю о вас столько же, сколько вы сами — даже больше, поскольку беспристрастно смотрю на ваши похождения, а вы даже от себя скрываете правду. Самое забавное: лицемер, глубоко проникнувшийся процессом, сам становится жертвой лицемерия. Очень часто, когда лицемер оказывается разоблаченным, в своих собственных глазах он остается святым.
Но я говорю вам все это вовсе не для того, чтобы поносить вас. Мне просто хочется растолковать, что, уж если я решу изменить весь мир для того, чтобы обойти вас, вы не станете особо перечить. Относительно переустройства мира, естественно.
Вы не будете возражать, если к власти придут республиканцы, а демократы проиграют, или наоборот; если расцветет феминизм, а профессиональный спорт будет поставлен под жесткий контроль; вам наплевать на моду и музыку, живопись и литературу. Какое все это имеет для вас значение?
Никакого.
На самом деле даже меньше, чем никакого, потому что, если мир изменится, возникнет новая реальность; и она будет единственно возможной для всех: реальность исторических книг, та реальность, которая и была реальной в последние двадцать пять лет.
Если вы поверили мне, если сочтете, что мои россказни — нечто большее, чем глупые фантазии, вы все равно будете бессильны. Вы можете обратиться к властям и заявить: «Все устроено не так как следует. И во всем виноват один злодей». Что вы этим докажете? Только собственное безумие. Кто поверит в то, что данная реальность совсем не та реальность — ведь люди жили в ней последние двадцать пять лет. Все так хитро завязано, что распутать этот узел невозможно.
Но вы не верите мне. Вы не осмеливаетесь признать, что я не просто рассуждаю о возможном возвращении в прошлое, о том, что я тщательно изучил ваши жизни и сделал все, чтобы изменить мир, оставив нас троих прежними. Я это сделал; я сделал все, о чем рассказал. И только я один помню обе реальности, потому что находился вне потока времени.
Но вы по-прежнему мне не верите. Не осмеливаетесь, ведь для вас это равносильно признанию собственного безумия. Мог ли я изменить привычный для вас мир 1982 года? Абсурд.
А даже если и так, каким он был до того, как я приступил к своим экспериментам? Я скажу вам — это был настоящий хаос! Каждый делал, что хотел! В некотором смысле я рад, что все перекроил. Теперь у нас есть правительство, которое по-настоящему управляет страной. Наши лидеры имеют взгляды, являющиеся обязательными для всех. Великолепно!
Джентльмены, в прежнем мире, в той реальности, которую теперь никто себе и представить не может, вы оба сами определяли собственные законы и боролись за право творить произвол. Это привлекало многих.
В новой реальности вы остались прежними. Вы продолжали бороться за прежние права, а в нынешней реальности это преступление; впрочем, другой реальности вы не знаете. Я позаботился о том, чтобы вы скрыли свои деяния. Никто не ведал о вашем позорном прошлом, поэтому вы и смогли добраться до нынешних высот. Но я знал, как добыть доказательства и открыть миру глаза на вашу деятельность — в нужное время — и сделал это.
Похоже, впервые за все время я больше не вижу на ваших лицах презрения и терпеливого снисхождения. Неужели я уловил страх? Вы вспомнили то, о чем я говорю?
Думайте! Думайте! Кто был членом Лиги конституционных свобод? Кто помогал распространять «Манифест свободной мысли»? Кое-кто посчитает, что это было очень смело и благородно с вашей стороны. Сопротивление вами восхищалось. Ну, не надо, не надо — вы прекрасно знаете, кого я называю Сопротивлением. Вы уже давно не являетесь его членами. Вы слишком на виду, теперь вам есть что терять. Вы занимаете высокие посты и имеете шансы продвинуться еще выше. Зачем рисковать ими ради того, что людям не нужно?
Вы носите знаки отличия, заняли места среди самых достойных граждан нашего общества. Но мои знаки отличия более высокой пробы — ведь я не совершил ничего постыдного. Более того, джентльмены, я достоин награды за то, что разоблачил вас.
Гнусный поступок? Недостойный акт? Вовсе нет, Меня восславят. Я пришел в ужас из-за лицемерия моих коллег, меня охватило отвращение и возмущение, когда я узнал об их прошлом, которое они так тщательно скрывали. Я испугался, что они начнут интриговать, причинят вред самому благородному и достойному обществу на Земле. В результате я привлек к этим фактам внимание благородных людей, которые помогают охранять наше общество от посягательств тех, кто не в состоянии оценить его величия.
Они попытаются изгнать зло из ваших душ, чтобы спасти и сделать вас истинными детьми высокого Духа. Полагаю, в процессе будет нанесен некоторый вред телам, но что из того? Малая цена по сравнению с вечным добром, которое на вас снизойдет. Это стало возможно благодаря мне, и я буду вознагражден.
Похоже, теперь, джентльмены, вы по-настоящему напуганы, потому что сообщение, ради которого мы здесь собрались, прибудет с минуту на минуту. Надеюсь, сейчас вам стало ясно, почему я нахожусь здесь вместе с вами. Я стану ректором, а моя трактовка теории Мюллера в сочетании с его бесчестьем приведет к тому, что во всех учебниках она станет называться теорией Динсмора и, вполне возможно, принесет мне Нобелевскую премию. Что же до вас…
Донесся стук кованых сапог, и они услышали громкую команду:
— Стой!
Дверь распахнулась. В комнату вошел человек, чья серая форма с широким белым воротником, высокая шляпа с пряжкой и большой бронзовый крест не оставляли сомнений — пред ними стоял капитан зловещего Легиона Совести.
— Гораций Адамс, — гнусаво заговорил он, — я арестовываю вас именем Господа и Религиозного Братства по обвинению в использовании черной магии и колдовства. Карл Мюллер, я арестовываю вас именем Господа и Религиозного Братства по обвинению в использовании черной магии и колдовства.
Капитан сделал быстрый жест правой рукой. Двое легионеров выступили вперед и рывком заставили подняться с кресел скорчившихся от ужаса физиков. Надели на несчастных наручники и сорвали с их воротников маленькие бронзовые кресты — священный символ совести.
Капитан повернулся к Динсмору:
— Всего вам святого, сэр. Мне поручено передать вам сообщение Совета попечителей.
— Всего святого, капитан, — мрачно отвечал Динсмор, поглаживая собственный крест. — Я с нетерпением жду решения этих достойных людей.
Он знал, что содержится в сообщении.
Как новый ректор университета, он мог, если посчитает нужным, смягчить наказание, которое ждет этих двоих. Его триумф состоялся.
Если бы только это было безопасно.
Однако, когда у власти Высоконравственное Большинство, никто не может быть уверен в собственной безопасности.
перевод В. Гольдича, И. ОганесовойИдеальное решение
Сейчас ко мне часто обращаются с просьбой написать фантастический рассказ на какую-нибудь тему, и, если финансовые условия располагают к творчеству, для меня становится вопросом чести успешно справиться с задачей.
В данном случае некое издание, посвященное компьютерной технике, заказало рассказ на две с половиной тысячи слов (при той цене за слово, которую я им выставил, они не могли заказать больше) об обществе будущего, где неумение пользоваться компьютером эквивалентно неграмотности в наше время. И вот что они получили.
Рассказ был написан в апреле 1981 года.
Ян Брэдстоун грустно бродил по улицам еще одного города, и вдруг его внимание привлекли люди, собравшиеся у открытой двери торгового центра. Сперва Ян хотел было повернуть и броситься бежать, но он не смог заставить себя сделать это. Против собственной воли, подчиняясь охватившему его ужасу, он неохотно приблизился к толпе.
Любопытство, видимо, нарисовало у него на лице огромный вопросительный знак, и тогда кто-то, стоявший в задних рядах, любезно объяснил ему, что происходит:
— Трехмерные шахматы. Интересная партия. Брэдстоун знал, как это обычно бывает. Человек шесть, подолгу обсуждая каждый ход, играют против компьютера. Они скорее всего потерпят поражение. Шестеро слабых игроков против одного.
Его глаза неожиданно остановились на невыносимо яркой картинке на экране компьютера, и он тут же закрыл их. А потом с горечью отвернулся и только тут заметил восемь самодельных досок, установленных друг над дружкой на колышках.
Самые обычные шахматы. С пластмассовыми фигурками.
— Ого! — удивленно воскликнул Ян.
Молодой парень, стоящий возле досок, словно защищаясь, заявил:
— Нам было не подобраться к экранам. Я сам их тут установил, чтобы следить за партией. Осторожно! А то сбросите фигуры.
— Там сейчас такая позиция? — спросил Брэдстоун.
— Да, ребята совещаются вот уже десять минут.
— Если передвинуть ладью с бета-В-6 на дельта-D-6, победа у вас в кармане, — с интересом взглянув на позицию, посоветовал Брэдстоун.
— Вы уверены? — Молодой человек принялся изучать доску.
— Конечно, абсолютно уверен. После этого, что бы компьютер ни стал делать, он в конце концов проиграет, поскольку будет вынужден потратить ход на защиту своего ферзя.
Еще несколько минут старательного изучения позиции на доске. И вдруг молодой человек крикнул:
— Эй, ребята! Тут у нас один парень говорит, что нужно поднять ладью на два уровня выше.
Все шесть игроков как один дружно вздохнули.
— Мне это приходило в голову, — произнес кто-то из них.
— Я понял, — быстро ответил другой голос. — Мы угрожаем его ферзю. Я этого хода не видел. — Он быстро повернулся и крикнул: — Эй, там! Кто предложил ход? Окажите нам честь, сделайте его!
Брэдстоун отшатнулся, его лицо исказила гримаса невыносимого ужаса.
— Нет, нет… я не играю.
Он повернулся и поспешил прочь.
Он хотел есть. Ему частенько приходилось голодать.
Время от времени он оказывался возле фруктовых лотков, принадлежавших мелким торговцам, которым посчастливилось найти пустое местечко внутри тщательно компьютеризированной экономики. Если Брэдстоун соблюдал осторожность, ему удавалось улизнуть, прихватив с собой яблоко или апельсин.
При этом Яна трясло от страха. Потому что он знал: если его поймают, то обязательно попросят заплатить. Естественно, деньги у него были — с ним поступили великодушно, — но он ведь не мог воспользоваться своей кредитной карточкой.
Впрочем, каждый день возникало множество ситуаций, когда ему требовалось перевести деньги со своего счета — и каждый раз он испытывал невыносимые страдания от унизительного положения, в котором находился.
Брэдстоун обнаружил, что подошел к ресторану. Наверное, запах еды и напомнил ему, что он ужасно голоден.
Ян осторожно заглянул в окно. Внутри обедало несколько человек. Слишком много. И двоих-то было бы многовато. Он не мог заставить себя снова стать центром всеобщего внимания, знал, что не перенесет жалостливых взглядов.
Брэдстоун отвернулся, несмотря на сердитое урчание в животе, и увидел, что, оказывается, не он один глазеет в окно ресторана. Рядом стоял мальчишка лет десяти, у которого, впрочем, был не очень голодный вид.
— Привет, приятель. Хочешь есть? — постарался как можно добродушнее заговорить с ним Брэдстоун.
Паренек с подозрением посмотрел на него и отодвинулся в сторону.
— Нет.
Ян не шевелился и не пытался подойти к нему поближе. Он знал, что, если сделает хоть одно неверное движение, мальчишка убежит.
— Могу побиться об заклад, что ты уже достаточно большой и умеешь сам заказывать еду, — сказал он. — Не сомневаюсь, что ты можешь попросить, чтобы тебе подали гамбургер или еще что-нибудь.
Гордость победила подозрительность, и паренек заявил:
— Конечно! В любой момент!
— Но у тебя нет собственной кредитной карточки, верно? Поэтому тебе не довести заказ до конца. Верно?
Карие глаза принялись изучать подошедшего незнакомца — с опаской. Мальчишка был прилично одет и производил впечатление сообразительного ребенка.
— Послушай, — проговорил Брэдстоун, — у меня есть кредитная карточка, и ты можешь сделать по ней заказ. Получишь гамбургер или еще что другое, по собственному выбору. И мне что-нибудь закажешь. Например, отличный бифштекс на косточке, жареную картошку, лимонад и кофе. И два куска яблочного пирога. Один тебе.
— Мне нужно идти обедать домой, — сказал мальчишка.
— Да ладно!.. Сэкономишь деньги отцу. Твои родители ведь знают, что ты здесь?
— Мы тут частенько бываем.
— Ну вот видишь. Только на этот раз кредитная карточка будет у тебя в руках. Ты выберешь все, что пожелаешь — как взрослый. Давай иди первым.
Внутри у Брэдстоуна все сжалось. То, что он сейчас сделал, казалось ему совершенно разумным, он ведь не собирался причинить ребенку никакого вреда. Однако, если за ним кто-нибудь наблюдал, он мог прийти к ужасному и совершенно неверному выводу.
Брэдстоун все бы объяснил, если бы ему дали возможность, но как это унизительно — признаться в том, что тебе пришлось хитростью заставить маленького мальчишку сделать то, чего ты сам не можешь.
Паренек колебался, но все-таки вошел в ресторан, а Брэдстоун на некотором расстоянии последовал за ним. Мальчишка уселся за стол, Брэдстоун устроился напротив. Улыбнулся и протянул ему кредитную карточку. Он почувствовал неприятное покалывание в руке — как и всегда теперь — и облегчение, когда избавился от карточки. Кредитка металлически поблескивала, и Брэдстоун поморщился. Он не мог на нее смотреть.
— Давай, приятель. Выбирай, — тихо сказал он. — Все, что только пожелаешь.
Мальчишка не соврал ему. Он действительно прекрасно справлялся с маленьким компьютером, его пальцы уверенно касались кнопок клавиатуры.
— Вам бифштекс, мистер. Жареную картошку. Лимонад. Яблочный пирог. Кофе. Салат будете, мистер? — В голосе паренька появились снисходительные, взрослые нотки. — Мама всегда заказывает салат, а я не люблю.
— Пожалуй, рискну попробовать. Зеленый салат. Смешанный. Есть у них такой? С уксусным соусом. У них есть такой? Ты справишься?
— Что-то я не вижу ничего похожего на укс… как вы там сказали? Может быть, вот…
Кончилось дело тем, что Брэдстоун получил бифштекс с французским соусом, но его это вполне устроило.
Мальчишка так спокойно и уверенно вставил карточку в считывающее устройство, что Брэдстоун ему отчаянно позавидовал.
Паренек протянул ему карточку и с важным видом сказал:
— Надеюсь, денег там достаточно.
— А ты обратил внимание на цифру? — поинтересовался Брэдстоун.
— Нет. Смотреть нельзя; так говорит мой папа. Карточка не выскочила назад значит, денег хватило.
Брэдстоун постарался скрыть свое огорчение. Он не мог прочитать цифры и не мог заставить себя попросить кого-нибудь сделать это за него. Видимо, придется пойти в банк и придумать какую-нибудь историю, чтобы ему там сказали, сколько у него денег.
Он решил немного поболтать со своим спасителем.
— Тебя как зовут, сынок?
— Реджинальд.
— И какими предметами ты занимаешься дома, Реджи?
— В основном арифметикой, поскольку так хочет папа, и еще динозаврами, потому что мне ужасно интересно. Папа говорит, что, если я буду все делать как надо по арифметике, он позволит мне динозавров. Я могу запрограммировать свой компьютер так, чтобы динозавры двигались. Вы знаете, как бронтозавр ходит по земле? Ему приходится балансировать шеей, чтобы центр тяжести оказался в районе бедер. Он держит голову прямо, будто жираф, если только не находится в воде. А еще… Вот и мой гамбургер. И ваша еда.
Их заказ прибыл по движущейся ленте, которая остановилась в нужном месте.
Мысль о нормальном обеде, который можно съесть, не испытав предварительно жестокого унижения, поглотила грусть, охватившую Брэдстоуна, когда он только представил себе, как мальчишка манипулирует компьютером, пытаясь отыскать интересующую его информацию.
— Я съем гамбургер у стойки, мистер, — вежливо сказал Реджинальд.
— Надеюсь, он тебе понравится, Реджи. — Брэдстоун помахал мальчишке рукой.
Паренек ему больше был не нужен, и он обрадовался, когда тот его оставил наедине с обедом. Из кухни вышел какой-то работник, скорее всего техник-компьютерщик, и принялся дружески болтать с Реджинальдом. Сомневаться в профессиональной принадлежности этого молодого человека не приходилось. Техкомпов всегда отличает важный вид и немного ленивая уверенность в том, что мир держится на их плечах.
Однако Брэдстоун не стал глазеть по сторонам — он сосредоточил все свое внимание на еде, первом нормальном обеде за месяц.
Только после того как он закончил — совсем закончил, спокойно и не спеша все доел, — Ян принялся разглядывать место, в котором оказался. Мальчишка уже ушел. Брэдстоун с грустью подумал о том, что Реджи, по крайней мере, не жалел его, не вел себя снисходительно и не важничал. Происшедшее с ним не показалось ему странным, потому что он был еще совсем ребенком и его гораздо больше занимала значимость момента — ведь он справился с компьютером в ресторане, значит, он уже взрослый! Взрослый!
В ресторане было совсем немного народа, техкомп стоял за стойкой, видимо, проверял, как работают компьютеры.
Этим занимаются, с горечью подумал Брэдстоун, все техники по всему свету; постоянно создают программы, дополняют, переделывают их, следят за исправностью компьютерных сетей, которые обеспечивают спокойную жизнь для всех в мире — почти для всех.
Приятное тепло, поднимающееся откуда-то изнутри и рожденное великолепным бифштексом, разбудило чувство протеста. Почему бы не начать действовать? Почему бы не изменить то, что с ним происходит?
Брэдстоун привлек к себе внимание техкомпа и спросил, стараясь придать своему голосу уверенность, которая даже ему самому показалась фальшивой:
— Слушай, друг, я думаю, в этом городе есть адвокаты?
— Ты правильно думаешь.
— А ты не порекомендуешь мне какого-нибудь получше и чтобы жил неподалеку?
— На почте есть городской справочник, — вежливо ответил техкомп. — Нужно только нажать на кнопку, выдающую информацию про адвокатов.
— Я имел в виду, что мне нужен хороший адвокат. Умный. Который вел сложные дела и все такое.
Он рассмеялся, надеясь, что его собеседник хотя бы улыбнется в ответ.
Ничего не вышло.
— Они там подробно описаны, — сказал техкомп. — Сообщаешь, что тебе нужно, и получаешь все необходимые данные: характеристики, возраст, адрес, какие дела они ведут, сколько берут за услуги… Тебе выдадут полную информацию, если ты, конечно, будешь правильно нажимать на клавиши. И все там прекрасно работает. Я проверял на прошлой неделе.
— Мне не это нужно, приятель. — От предложения прикоснуться к клавишам, как и всегда в подобном случае, по спине у Брэдстоуна пробежали мурашки. — Я хочу получить совет от тебя лично. Понимаешь?
— Я не справочник, — покачал головой техкомп.
— Проклятье! — возмутился Брэдстоун. — Что с тобой такое, дружище? Просто назови мне имя какого-нибудь адвоката.
Разве существует закон, запрещающий получать информацию, не обращаясь к компьютеру?
— За пользование справочником нужно заплатить десять центов. Если у тебя на кредитной карточке имеется больше этой суммы, в чем проблема? Ты что, не умеешь обращаться с карточкой? Или ты… — Неожиданно глаза его широко раскрылись от изумления. — О, сукин ты… вот почему ты попросил Реджи заказать для тебя еду! Послушай, я не знал…
Брэдстоун съежился под его взглядом. Он быстро вскочил и помчался к двери, где чуть не столкнулся с крупным мужчиной, у которого было румяное лицо и лысеющая голова.
— Минутку, — проговорил мужчина мягко. — Не вы ли купили моему сыну гамбургер некоторое время назад?
Брэдстоун поколебался немного, а потом, смутившись, кивнул.
— Я хочу отдать вам за него деньги. Все в порядке. Я знаю, кто вы, и проделаю все необходимые операции сам.
— Если тебе нужен адвокат, парень… — вдруг вмешался техкомп. — Так вот, мистер Голд, он адвокат.
В глазах Брэдстоуна сразу загорелся интерес.
— Я действительно адвокат, — сказал Голд — если вы нуждаетесь в услугах адвоката. Именно благодаря этому я и узнал вас. Уверяю вас, я внимательно следил за слушанием вашего дела. А когда Реджи пришел домой и рассказал мне о том, что уже пообедал и что сам воспользовался компьютером в ресторане… по его описанию я сразу сообразил, кто вы такой. Ну, и теперь, конечно, я тоже вас узнаю.
— Мы можем поговорить наедине? — спросил Брэдстоун.
— Мой дом находится отсюда в пяти минутах ходьбы.
Гостиная оказалась удобной, хотя назвать ее шикарной было нельзя.
— Хотите получить аванс? — спросил Брэдстоун. — Я вполне могу себе позволить вам заплатить.
— Я знаю, что у вас достаточно денег, — ответил Голд — Сначала скажите мне, о чем пойдет речь.
Брэдстоун наклонился вперед на своем стуле и напряженно проговорил:
— Если вы следили за моим делом, то должны знать, что меня подвергли нетрадиционному и жестокому наказанию. Я первый получил такой приговор. Гипноз в сочетании с прямым воздействием на нервную систему — этот метод разработан совсем недавно. Природа наказания, которому меня подвергли, еще не до конца изучена. Его нужно отменить.
— Ваше дело рассматривалось в суде с соблюдением всех законных процедур, — заявил Голд. — а то, что вы виновны в совершении преступления, не вызывает сомнений…
— Пусть даже и так! Мы живем в компьютеризированном мире. Я ничего не могу: не могу получить информацию, не могу поесть, не могу развлекаться, не могу ни за что заплатить или что-нибудь проверить. Я вообще ничего не могу сделать — не прибегая к помощи компьютера. В результате исполнения приговора — как вам, вероятно, известно — я не могу даже взглянуть на компьютер, потому что у меня сразу начинают болеть глаза, а если я прикоснусь к клавиатуре, на руках у меня появляются весьма болезненные раны. Я даже использовать свою кредитную карточку не в состоянии. Меня тошнит от одной только мысли об этом.
— Да, мне все это известно, — ответил Голд. — Я знаю, что вам дали вполне солидную сумму денег, которой должно хватить на все время наказания, и что власти обратились к населению с просьбой, чтобы оно оказывало вам помощь и выражало сочувствие. Надеюсь, именно так дело и обстоит.
— Мне это не нужно. Я не хочу, чтобы меня жалели и помогали. Я не хочу быть беспомощным ребенком в мире взрослых. Мне не нравится быть неграмотным в мире, где все умеют читать. Помогите мне! Мой приговор должен быть отменен. Вот уже почти месяц я живу в аду. Я не выдержу еще одиннадцати.
Голд задумался, а потом сказал:
— Я возьму с вас аванс, чтобы стать вашим официальным представителем, и постараюсь сделать все, что в моих силах. Но должен предупредить: шансы на успех не велики.
— Почему? Я всего-то перевел пять тысяч долларов…
— Вы планировали перевести гораздо больше — к такому решению пришел суд, но вас поймали прежде, чем вы успели это сделать. Гениальное компьютерное мошенничество, вполне достойное вашего всемирно известного таланта шахматного игрока, и все же — преступление. Вы сами сказали, что в нашем мире все компьютеризировано и ни один шаг, пусть даже самый незначительный, не делается без компьютера. Следовательно, мошенничество, совершенное с его помощью, есть попытка расшатать основы цивилизации. Страшное преступление. Нужно сделать все, чтобы больше ни у кого не возникло желания повторить ваши подвиги.
— Кончайте проповедь.
— А я ее и не начинал. Я просто вам объясняю, как обстоят дела. Вы посягнули на систему, и в наказание система разрушена — только для вас одного, — а в остальном вам ведь не сделали ничего плохого. Если ваша жизнь кажется вам невыносимой, в некотором смысле это должно показать вам, какой она стала бы для всех остальных из-за того, что вы совершили покушение на существующий порядок вещей.
— Но год — это слишком много!
— Ну, возможно, меньший срок тоже послужит хорошим примером для тех, кто задумывает аналогичное преступление. Я попытаюсь вам помочь, но боюсь, мне известно, что скажет суд.
— Что?
— Они скажут, что, если наказание должно соответствовать совершенному преступлению, ваше подходит просто идеально.
перевод В. Гольдича, И. ОганесовойЯ буду ни при чём
Сэмюель Гелцерман в течение пяти лет усердно работал, надеясь стать миллионером. Многие стремятся к этому с разной степенью надежды на успех, и каждый выбирает свой путь. Сэм действительно мог рассчитывать на многое, но путь к достижению дели выбрал чрезвычайно утомительный. Он состоял секретарем при своем дяде, Ральфе Геддермане, известном авторе шпионских романов, но на самом-то деле выполнял черновую работу.
Ральф не был автором дешевых бестселлеров; его книги отличались достоверностью, занимательностью сюжета, хотя их и не выбрасывали на рынок как нечто сенсационное. Однако это не вызывало у Сэма неудовольствия, поскольку Ральф считался, и по праву, писателем, книги которого хорошо продаются. К тому же он был весьма плодовит. Каждая его книга долго пользовалась спросом и многократно переиздавалась. Время от времени права на экранизацию того или иного произведения покупали киностудии.
И все же, если бы достижения Ральфа носили более очевидный материальный характер, он бы давно «прикупил» себе пару-тройку секретарей и придумал бы множество приятных способов потратить значительные суммы денег, прежде чем отправиться в мир иной.
Но, поскольку его профессиональные успехи были неторопливо-постепенными, Ральф оставался фабрикой с одним-единственным работником. Он не пытался изменить свой скромный образ жизни. И хотя с каждым годом количество его книг, находящихся в продаже, увеличивалось и он зарабатывал все больше, Ральф оставался холостяком с минимумом потребностей. Такое положение дел его вполне устраивало.
Рано осиротевший Сэм, сын старшего брата Ральфа, был единственным близким родственником писателя и его номинальным наследником.
Пять лет назад бухгалтер Ральфа сумел убедить его создать небольшую корпорацию, в которой он исполнял бы роль президента и казначея. Ральф понял, что одному ему не справиться, и он сделал Сэму официальное предложение занять должность секретаря, которую Сэм фактически уже некоторое и занимал. С тех пор Сэм стал считать себя вторым человеком в корпорации.
Его обязанности были достаточно скучными, поскольку он следил за счетами, отчетностью, корреспонденцией, вел рутинные переговоры с издателями, редакторами и агентами, а также терпел занудство ворчливого дяди.
Но нельзя было не отметить и положительного момента в сложившейся ситуации. Сэм получал приличное жалованье, которое, учитывая наследство, оставленное ему отцом, позволяло жить с женой и сыном если и не в роскоши, то в относительном комфорте. К тому же должность давала Сэму возможность получить полную информацию о доходах и сбережениях дяди. Информация явилась для Сэма сюрпризом: состояние дяди оказалось гораздо более значительным, чем он предполагал. Это вынудило племянника относиться к прихотям дяди с терпением праведника.
Должность секретаря гарантировала Сэму, что он, являясь единственным работником корпорации, получит доступ ко всем активам дяди, в случае смерти последнего. По идее, к нему должно будет перейти, как к наследнику, все состояние усопшего, хотя это произойдет и не сразу.
Причиной постоянного разочарования Сэма служило то обстоятельство, что счастливой развязки событий оставалось ждать, скорее всего, достаточно долго. Ральфу Гелдерману только-только исполнилось шестьдесят и он отличался отменным здоровьем. Он запросто мог прожить еще лет двадцать пять — тридцать. Сэм, которому исполнилось сорок два, был вынужден признать, что состояние его здоровья не идет ни в какое сравнение с дядиным. Даже если он проживет дольше дяди и получит-таки наследство, то к этому моменту станет старым и больным и не сможет в полной мере насладиться богатой жизнью. Конечно же, вместе с возрастом росло и состояние Ральфа, но что, если вдруг дядя на старости лет лишится рассудка или его охмурит молодая девушка, которой придется по вкусу сумма состояния дяди? В таком случае Сэм может остаться ни с чем — Ральф оставит, если оставит вообще, лишь некую скромную сумму.
При таких обстоятельствах Сэм не мог не думать о том, как было бы благородно со стороны провидения забрать в мир иной Ральфа в самом ближайшем будущем. Ведь может на него свалиться карниз здания, или он попадет под машину, или его поразит какой-нибудь доселе неведомый и крайне опасный вирус.
Логично, если бы Сэм помог провидению, но он предпочитал даже не задумываться об этом. Он уверял себя, что он хороший, законопослушный гражданин. Если с Ральфом произойдет несчастный случай, то Сэм как наследник сразу же станет основным подозреваемым. Подозрений и… допросов ему не выдержать. Да и вообще, он не способен организовать себе безупречное алиби или придумать такой способ убийства, который будет похож на самоубийство или несчастный случай. Он не обладал для этого соответствующими способностями.
Он не мог подумать даже о том, чтобы найти наемного убийцу, который выполнил бы за него грязную работу. Для этого у него не было достаточного количества наличных денег. Ко всему, Сэм не представлял себе, где следует искать такого человека. Даже если… нет, он не может вверять свою жизнь в руки убийцы.
Сэм вздохнул, приходя к выводу, что остается рассчитывать лишь на то, что провидение само проделает за него всю необходимую работу. А его лучшие годы будут тихо уходить.
И вдруг, к своему полному удивлению, он придумал идеальный способ убийства — безупречный и безопасный.
Это произошло два года назад.
Прозвучал сигнал интеркома, Сэм поднял трубку и сказал:
— Да, дядя.
— Сэм, зайди ко мне.
Раздраженная интонация, прозвучавшая в голосе дяди, не вызвала у Сэма ощущения тревоги. Он только что ловко избежал съемки для газеты, и Ральф его ворчливо поблагодарил. Ральф ненавидел фотографов и камеры и соглашался на съемку только совсем уж в безвыходных ситуациях.
Когда Сэм осторожно намекнул, что подобная реклама может оказаться полезной для продажи книг, Ральф недовольно прорычал: «Я не желаю подобных продаж. Мои книги должны продаваться сами по себе. Я хочу, чтобы известностью пользовались они, а не я».
Именно по этой причине Ральф Гелдерман так и не стал человеком, известным в каждом доме, а на обложках его книг печатались фотографии, сделанные десятки лет назад.
Поэтому Сэм, следуя инструкциям, всячески препятствовал фотографам, что неизменно радовало Ральфа.
Он поднялся по лестнице в аккуратный, удобно обставленный кабинет Ральфа, который также назывался офисом, и сказал:
— Да, дядя?
Ральф рассерженно сунул ему письмо.
— Почему они меня преследуют?
Сэм недовольно поджал губы. Он прекрасно знал, что письма поклонников (за исключением редких умных посланий, полных комплиментов, которые Ральф читал с удовольствием) не должны были доходить до дяди. Сэм уже давно научился разбираться с такими письмами сам. Сэм писал ответы, а Ральф лишь ставил свою подпись. Впрочем, Ральф уже давно их не читал и подписывал, не глядя.
Это была не самая разумная практика, и Сэм однажды заметил, что не следует ничего подписывать, не читая.
— Если я не могу тебе доверять, то мне следует тебя уволить. Так могу я тебе доверять? — спросил он.
— Конечно, дядя. Я лишь сделал замечание общего характера. — Однако в дальнейшем Сэм постарался воздерживаться от подобных заявлений.
Сейчас он случайно допустил, что письмо одного из «поклонников» попало на стол к дяде. Оказалось, что его написал очередной псих, одержимый бредовыми идеями, — да, Сэм допустил серьезную оплошность.
— Этот тип, — сказал Ральф, вглядываясь в подпись, — по имени Лоуренс К. Лигорн, убежден, что существует коммунистический заговор, в который вовлечены средние школы в его городке на Лонг-Айленде, и он хочет, чтобы я объединился с ним в борьбе с коммунистической угрозой. Очевидно, он путает меня с моими вымышленными персонажами. Он хочет пообедать со мной — кстати сказать, за обед он платить не намерен. Неужели я часто получаю такие письма?
— Одно или два, дядя. Не слишком много.
— Ну, так я не хочу больше их видеть. Естественно, я не желаю встречаться с авторами таких писем. Тебе нужно послать вежливый отказ. Да, вежливый отказ, но такой, чтобы он больше мне не писал.
— Именно так я и стараюсь делать, дядя. Это больше не повторится.
— Хорошо! Ты уж постарайся!
Сэм кивнул и повернулся, собираясь уйти. Как всегда, Ральф выглядел моложе лет на десять своего истинного возраста. Его густые волосы еще не начали седеть — хотя у Сэма уже посеребрились виски, да и семейное сходство оказывалось в пользу Ральфа.
Сэм вздохнул, вернулся в свой кабинет, который находился на нижнем этаже квартиры, занимавшей два этажа в Верхнем Ист-Сайде[11], и снова прочитал письмо.
Не вызывало сомнений, что автор письма безумен. Странно, но Ральфу Гелдерману часто писали сумасшедшие. Возможно, дело заключалось в том, что в книгах Ральфа речь шла о шпионах и заговорах; очевидно, шпионские истории дяди вызывали у некоторых людей приступы паранойи.
Таких людей лучше всего игнорировать. Отвечать не было ни малейшего смысла. Любой ответ будет провокацией.
Изредка они писали еще несколько писем. Обычно жаловались, что их письма крадут почтовые служащие или враги направляют по другим адресам при помощи специальных радиолучей. В таких случаях приходилось отправлять короткие ответы, уведомляющие, что письма получены.
Ральф дал указание написать ответ мистеру Лигорну — и ждал, что Сэм принесет его на подпись.
Сэм снова вздохнул и принялся сочинять ответное письмо. Вежливый вариант: «Дорогой такой-то и такой-то, очень занят… срочная работа… совсем нет времени… глубоко сожалею, но не имею возможности встретиться с вами… это не та проблема, которой я мог бы посвятить свое время…»
Все это следовало делать очень аккуратно, поскольку невозможно предугадать, как отреагирует на твое письмо безумец. Если он решит, что ты являешься частью заговора…
Именно в этот момент у Сэма и возникло ошеломляющее озарение.
Конечно! Никто не знает, на что способны такие люди. Они могут без денег, по собственной воле, ведомые лишь безумием, выступить в роли рухнувшего карниза, оказаться рукой провидения, о чем так часто мечтал Сэм.
Так зачем вести себя вежливо с этим Лигорном? Почему бы не спровоцировать его — естественно, соблюдая осторожность.
Он тут же, с энтузиазмом написал ему ответ.
«Дорогой сэр, о встрече с вами не может быть и речи. Пожалуйста, не тратьте свое время на повторение этого предложения, поскольку мне совершенно очевидно, что ваши подозрения о существовании заговора полностью лишены оснований».
Отлично! Коротко и ясно! И даже с некоторой издевкой.
Дядя Ральф подпишет письмо, и оно будет отправлено. Лигорн посчитает, что Ральф Гелдерман нанес ему глубокое оскорбление. Не исключено, что у него возникнет подозрение, и безумец сочтет, что Ральф сам является частью опасного коммунистического заговора. И если он напишет еще раз, Сэм даст ответ соответствующего содержания.
Это было превосходно. Сэм мог использовать аналогичную тактику при получении других писем — а такие послания приходили один или два раза в неделю.
В течение двух лет Сэм придерживался этой линии — и всякий раз испытывал удовольствие. Получение свежей почты превращалось в приключение. Придет ли новое письмо от одного из прежних авторов? Или появится новый псих?
Некоторые прекращали писать, но появлялись другие, и в каждый момент насчитывалось не менее полудюжины типов, чьи эмоции Сэм осторожно подогревал. Сэм начал получать удовольствие от собственного умения раздражать этих людей, не переходя определенных границ. Он не отвечал сразу и не писал резких слов и неизменно радовался, когда ему удавалось вызвать неадекватную реакцию. И чем более агрессивным был тон очередного письма, тем больше у Сэма появлялось надежд.
Самым любимым автором оставался Лигорн, с которого все и началось. Иногда он не отвечал по целому месяцу, и Сэм думал, что тот устал от этой игры, но потом приходил знакомый конверт с написанным печатными буквами адресом.
Ральф никогда не читал ответы. Он лишь подписывал их. Его они настолько не интересовали, что он подумывал о том, чтобы сделать печать со своей подписью — тогда Сэм смог бы управляться с письмами без его участия. Однако Сэм всякий раз спокойно возражал. Не следует забывать, говорил Сэм, что для читателей подпись самого автора имеет большое значение. Их не следует лишать такого удовольствия. Ральф фыркал, но подписывал.
Ну а Сэму была необходима настоящая подпись. Вполне можно было предположить, что Ральф диктовал письма — там имелась аккуратная надпись «РГ-подпись» в левом нижнем углу — и что он читал готовые, а потом сам их подписывал. Печать же все испортит.
Кроме того, девяносто девять из ста писем, которые Сэм отсылал, были совершенно безобидными.
Во время вечеринок Сэм иногда рассказывал о странных письмах, которые получал Ральф. Истории получались забавными, и друзья смеялись. Потом Сэм становился серьезным и довольно мягко говорил, что Ральфу не следовало бы давать столь жесткие ответы. Он сам (объяснял Сэм) старался смягчить резкость Ральфа, но дядя возражал.
Впрочем, Сэм вел такие разговоры не слишком часто. Он старался не переусердствовать. Он изредка упоминал о письмах, чтобы потом, когда придет время, кто-нибудь вспомнил его слова и эго оказалось бы полезным. Все будут считать, что во всем виноват Ральф — а Сэм постоянно убеждал его вести себя более разумно.
Однажды один из его друзей заметил:
«Но это может оказаться опасным. А вдруг один из психов попытается напасть на твоего дядю? Ведь в письмах есть обратный адрес».
Сэм внутренне порадовался — он добился нужной реакции. Однако он покачал головой и ответил:
«Иногда у меня возникает тревога, но большинство из них живут далеко, а письма, которые они пишут, позволяют им выпускать пар и снижают внутреннее давление, так мне кажется. Тем не менее я пытался предупредить дядю Ральфа, чтобы он был поосторожнее, а он чуть не оттрыз мне голову. Ты же знаешь, я не могу ему перечить. Он мой босс».
Это было безупречно. Что произойдет, если кто-то придет к Ральфу, лелея в сердце желание его убить? Вдруг Ральфа действительно убьют?
Кто в такой ситуации станет обвинить Сэма? Он сможет предъявить множество писем — и всякий раз виновным окажется Ральф. И все подтвердят, что Сэм пытался спасти Ральфа.
Дело было не только в его разговорах с друзьями. Несколько раз Сэм писал по два письма, одно откровенно провокационное и резкое, а второе более дипломатичное и мягкое — но не настолько, чтобы полностью погасить огонь вражды. Первое было подписано Ральфом, но не отправлено, а второе, более мягкое, Сэм посылал, подписав его одной буквой «Г». Копии обоих писем он оставлял в архиве. Потом он мог бы объяснить, что первое письмо решил не посылать, а отправил лишь второе, рискуя потерять место, и подписал его одной буквой «Г».
Теперь Сэм не сомневался, что никто не стал бы его винить в гибели дядя, наоборот, все стали бы его уверять, что ему ни в чем не следует себя винить. Даже полиция придет к такому же выводу.
Но самой лучшей частью его плана идеального убийства была такая мысль: Я БУДУ НИ ПРИ ЧЕМ. У дома Ральфа не появится безумец, в сердце которого поселилось желание убивать. Ральф может спокойно жить и дальше. Из чего следовало, что Сэма не будут мучить угрызения совести, которые отравят ему существование. Он просто играл в игру — возможно, она не совсем невинна, но почти наверняка таковой окажется, хотя намерения у него и не самые лучшие. В конце концов, прошло два года — и никто не пострадал.
Более того, игра даже сослужила Ральфу службу, ведь она позволяла Сэму не мечтать о смерти дяди и не замышлять его убийство. Сэм каким-то образом пытался решить свою проблему, и это делало его счастливым. И позволяло больше ничего не предпринимать. В некотором смысле игра могла спасти жизнь дяди Ральфа, именно эта мысль позволила Сэму заняться очередной почтой с легким сердцем, без малейшего чувства стыда.
Он собрался уже вскрыть первое письмо, когда зазвонил телефон.
Сэм взял трубку. Ральф отправился к своему издателю, но Сэм в любом случае должен был отвечать на телефонные звонки, даже если дядя находился в своем кабинете.
— Да?
— Доставка от издательства «Праймер», мистер Гелдерман.
Сэм мысленно простонал. Еще один экземпляр верстки, для
которого Ральф должен составить рекламу. Ральф никогда этого не делал, но издатель не сдавался. В результате Сэму ничего не оставалось, как в сотый раз сочинять вежливый отказ. Раздражать издателя не следовало.
— Посыльный из отдела доставки уже здесь?
— Да, мистер Гелдерман.
— Ну, так отправьте его ко мне.
Через пару минут прозвенел звонок, и Сэм пошел открывать дверь.
На пороге стоял посыльный, мужчина среднего возраста, самой обычной внешности. В руке он держал пакет.
— Мистер Гелдерман?
— Да, — нетерпеливо ответил Сэм. — Вы хотите, чтобы я что-нибудь подписал?
Сэм вдруг понял, что в пакете, который ему вручили, ничего нет. Пальцы сжали бумагу — внутри оказалась пустота.
— Что такое? Эй, что вы делаете?
Посыльный шагнул вперед, плечом втолкнув Сэма внутрь, и закрыл за собой дверь.
— Меня зовут Лоуренс Лигорн, и я пришел, чтобы встретиться с вами, мистер Ральф Гелдерман.
Внутри у Сэма все сжалось. Тот самый псих! Он намерен устроить скандал или даже драку.
— Вы ошибаетесь, — осипшим голосом ответил Сэм. — Я не Ральф Гедцерман. Я его секретарь. Мистера Гелдермана нет дома.
Глаза Лигорна сузились, и он схватил Сэма за запястье с удивительной силой.
— Швейцар назвал вас Гелдерманом, и вы сами только что сказали, что вы Гедлдерман.
— Но я Сэм Гедцерман.
— Только что вы сказали, что вы секретарь.
— Я и есть секретарь. А кроме того, я его племянник, поэтому у меня такая же фамилия. В письмах написано: «РГ/подпись». Вот я и писал это.
Лигорн заколебался, но потом сказал:
— Я видел вашу фотографию в книгах.
— Это старая фотография, а мы с дядей похожи, но он на двадцать лет старше меня, — наугад возразил Сэм.
Лигорн подумал еще немного, а потом сказал:
— Ну так и оставайся на двадцать лет моложе!
Он вытащил из кармана пистолет и выстрелил. Он знал свое дело.
перевод В. Гольдича, И. ОганесовойС первого взгляда
В феврале 1976 года по просьбе журнала «Семнадцать» я согласился написать фантастический и одновременно детективный рассказ, где обыгрывалась бы тема двухсотлетия США. Так появился на свет «С первого взгляда» — с тем же самым социальным фоном, который я использовал в рассказе «Хороший вкус» (также опубликованном в этом сборнике) всего лишь месяцем раньше.
Мне результат показался вполне удовлетворительным, но увы, я не редактор и не я принимаю решения по этим вопросам. Журналу «Семнадцать» рассказ не понравился, и мне его вернули.
Положение сложилось довольно затруднительное. Я написал рассказ, который вроде бы должен прийтись по вкусу молодым женщинам, и мне не хотелось предлагать его в обычные фантастические журналы. В конце концов я послал «С первого взгляда» — сократив вдвое — в «Сэтердей Ивнинг Пост», и он вышел в феврале 1977 года.
Сокращения мне, однако, не нравятся, и, несмотря на мнение редакции журнала «Семнадцать», я сохранил привязанность к рассказу в оригинальном виде, в каковом вам его сейчас и представляю.
1
Элейн Мэтро терпеливо ждала. Она работала гидом вот уже два года — почти два года, — а необходимость управляться с мужчинами, женщинами и детьми, прилетевшими с самых разных планет (не говоря уже о Земле), заботиться о том, чтобы они были счастливы и всем довольны, отвечать на их вопросы и мгновенно реагировать на неожиданно возникающие проблемы требует большой выдержки.
Ты или учишься хладнокровно вести себя в самых сложных ситуациях, или сдаешься. Элейн никогда не сдавалась. И не собиралась этого делать в дальнейшем.
Она сидела и внимательно изучала обстановку. На календаре высвечивалось число — 25 февраля 2076; значит, ровно шесть дней назад ей исполнилось двадцать четыре года.
Рядом с календарем висело зеркало, в котором отражалось лицо Элейн. Точнее, его можно было бы увидеть, если бы она немного наклонилась в сторону. В зеркале девушку окружало легкое сияние, скрывая обычную бледность кожи, при этом голубые глаза казались золотистыми, а волосы светлее, чем в действительности. «Я здесь красивее, чем на самом деле», — подумала Элейн.
Время от времени на экране вспыхивала бегущая строка — новости. Складывалось впечатление, что на орбите ничего существенного не происходило. Велось строительство четырнадцатой колонии — самое обычное дело.
В Африке, на Земле, разразилась засуха, но и в этом не было ничего удивительного. Представьте себе мир, который не в состоянии контролировать свою погоду. Примитив!
Впрочем, Земля огромна! Словно миллионы настоящих миров взяли и соединили вместе.
И тем не менее там так мало места! Даже на Гамме, где родилась и жила Элейн — даже на Гамме немного тесновато. Пятнадцать тысяч человек и…
Открылась дверь, и в комнату вошел Янос Тесслен. Он был председателем Ассамблеи и прекрасно справлялся со своими обязанностями. Так по крайней мере считала Элейн. Она и голосовала за него.
— Привет, Элейн, — сказал он. — Ты долго меня ждала?
— Четырнадцать минут — по часам, — ответила Элейн. Янос коротко рассмеялся. Он был крупным мужчиной, а глаза его имели обыкновение улыбаться даже тогда, когда губы сохраняли серьезность. Седеющие волосы коротко подстрижены — весьма старомодная прическа, отчего он выглядел старше своих пятидесяти лет.
— Заходи, пожалуйста, Элейн. Садись.
Девушка села, спокойно приняв обращение по имени, хотя до сих пор ей еще ни разу не приходилось встречаться с председателем Ассамблеи. В мире вроде Гаммы, где все всех знают, считалось вполне естественным обращаться друг к другу по имени.
Янос устроился на вращающемся стуле в своей огромной комнате — такой большой частной комнаты Элейн никогда еще не видела — и сказал:
— Меня удивило то, что ты точно назвала время, которое прождала меня, — ровно четырнадцать минут. Можно ведь было выразиться как-нибудь иначе.
— Я считаю, что точность в мелочах может иметь существенное значение, — ответила Элейн.
— Очень хорошо. Я рад, что ты придерживаешься такого мнения, поскольку это как раз то, что мне от тебя нужно. Твои бабушка и дед — выходцы из Соединенных Штатов, иными словами, с Земли, верно?
— Да, сэр.
— Надеюсь, ты сохранила свои американские корни?
— Я изучала историю Земли в колледже. В том числе и историю Америки, но я жительница Гаммы.
— Да, конечно. Как и все мы. Однако ты — особенная жительница Гаммы, потому что ты нас всех спасешь.
Элейн едва заметно нахмурилась:
— Прошу прощения…
— Пока об этом не будем. Я немного забегаю вперед. Поскольку твои предки родились в Америке, я уверен, тебе известно, что Соединенные Штаты были основаны в 1776 году.
— Да. В этом году отмечается трехсотлетие.
— И тебе известно, что Соединенные Штаты были образованы из тринадцати штатов. А теперь на лунной орбите имеется тринадцать самостоятельных миров; восемь здесь, на позиции L-5, следующих за Луной, и пять на позиции L-4, предшествующих Луне.
— Да, сэр. В данный момент ведется строительство четырнадцатого мира в секторе L-4.
— Это сейчас не имеет значения. Строительство Орбитального мира Ню было ускорено, а сооружение нового, Кси, наоборот сознательно тормозится, так что в 2076 году Орбитальных миров будет только тринадцать — а не четырнадцать или двенадцать. Ты понимаешь почему?
— Суеверие? — сухо поинтересовалась Элейн.
— Вы почти что неприлично быстро соображаете, юная леди, — проговорил Янос, — но меня это не пугает. Дело вовсе не в суеверных страхах. А в желании максимально использовать чувства жителей наших миров. Соединенные Штаты являются самым важным регионом Земной Федерации, и, если они проголосуют за образование независимой Федерации Орбитальных миров, сейчас — нынешний год — самое подходящее для этого время. Трехсотлетний юбилей плюс число тринадцать — они не устоят, верно?
— Да, я понимаю, какие у них могут возникнуть чувства.
— А независимость принесет нам немало пользы. Федерация Земли весьма консервативная сила, которая ограничивает расширение нашего влияния. Как только мы перестанем быть привязанными к Земле, Орбитальные миры смогут более эффективно взаимодействовать в экономическом плане. Мы сумеем покинуть границы лунной орбиты и шагнуть дальше, к поясу астероидов, где обретем такое влияние, какого история человечества еще не знала. Ты со мной согласна?
— Такого мнения придерживаются многие.
— К сожалению, на Земле существует сильная оппозиция, которая выступает против нашей независимости. Кроме того, хотя почти все жители Орбитальных миров стремятся к независимости, не все хотят союза. Что ты думаешь об обитателях других миров, Элейн? Ты ведь постоянно с ними встречаешься по долгу службы.
— Люди есть люди, сэр. Однако манеры жителей других миров иногда бывают мне неприятны.
— Именно. Нас они тоже считают «неприятными». Многие представители этих миров скорее откажутся от независимости, чем согласятся заключить между собой союз. Элейн, от тебя зависит, сумеем ли мы прийти к такому союзу.
«Снова он к этому вернулся», — подумала Элейн, а потом сказала:
— А что я должна сделать?
— Послушай, — мягко проговорил Янос, — я тебе объясню. Те представители Земли, что противостоят нашему стремлению к независимости, рассчитывают на враждебное отношение разных миров друг к другу и делают все, что в их силах, чтобы эти разногласия усугублялись. А что, если у нас, на Гамме, произойдет какой-нибудь несчастный случай, саботаж? Ведь именно мы активнее всех выступаем за союз Орбитальных миров. Что, если диверсия будет очень серьезной и возникнет впечатление, что ответственность за нее несет какой-нибудь из Орбитальных миров? Поднимется волна возмущения, многие начнут выступать против союза, и тогда мы вряд ли получим независимость в этом году. А в дальнейшем, когда на нашей стороне больше не будет чар этого волшебного юбилейного года, может пройти много лет, прежде чем у нас снова появится возможность объединиться.
— В таком случае следует принять меры, чтобы не допустить такой диверсии.
— Точно! Именно это мы и делаем. И вот тут-то и вступишь в игру ты. На Гамму прибывает пятеро туристов. Это самые обычные туристы. Естественно, нас посещает гораздо больше народа, однако сейчас интерес вызывают именно эти пятеро — по одному с разных Орбитальных миров. Наш агент на Земле… у нас имеются там шпионы, надеюсь, ты знаешь…
— Об этом все знают. И Земля в том числе, я думаю. Янос откинулся назад, словно хотел получше рассмотреть Элейн.
— Ты обладаешь удивительной способностью говорить вещи, которые мне ужасно нравятся, — сказал он. — Один из наших шпионов передал сообщение; к сожалению, оно не дошло до нас полностью. К нам прибудет землянин, опытный диверсант, который выдаст себя за жителя одного из Орбитальных миров. Наш агент должен был поставить нас в известность, о каком именно мире идет речь, но как раз в этом месте его сообщение прервалось.
— Полагаю, вы не можете получить интересующую вас информацию у агента, потому что он мертв.
— Увы. Мы сделали все, что могли, чтобы разобраться в его депеше, однако у нас вышло, что под подозрение попадают пятеро туристов, четверо из которых, вне всякого сомнения, являются уважаемыми жителями других миров, зато пятый — диверсант с Земли.
— Откажите во въезде всем пятерым, сэр. Или, наоборот, впустите их, а потом арестуйте и тщательно допросите.
— Если мы так поступим, то нанесем оскорбление их родным мирам и, таким образом, сыграем на руку нашим противникам.
— Как только диверсант будет пойман, вы сможете принести остальным извинения и объяснить, что произошло.
— Если они нам поверят. Надо сказать, что сообщение, переданное нашим агентом, было настолько запутанным… Вполне может оказаться, что ни один из этих пятерых туристов не является шпионом и все они законопослушные граждане своих миров.
— Ну хорошо, что вы хотите от меня, Янос?
Янос Тесслен снова откинулся на спинку стула, и его умные глаза изучающе уставились на Элейн.
— Ты работаешь гидом и привыкла иметь дело с жителями других миров и с землянами. Более того, из твоего личного досье становится ясно, что ты до неприличия умна. Я сделаю так, чтобы эти пятеро попали к тебе на традиционную экскурсию по Гамме; они не смогут от нее отказаться из опасения выглядеть невежливыми; не говоря уже о том, что в таком случае мы получим официальный повод их задержать. Ты проведешь с ними несколько часов, Элейн, и должна будешь сказать нам, кто из этих пятерых не является тем, за кого себя выдает. Или что все они чисты. Вот так-то.
— Ума не приложу, как это можно сделать. — Элейн покачала головой. — Ведь известно, что диверсант человек опытный и, наверное, уже не раз выполнял подобные задания.
— Вне всякого сомнения, он побывал на мире, за представителя которого себя выдает; разговаривает, выглядит и ведет себя как местный житель; и уж можно не сомневаться, что с документами у него все в порядке.
— И что же?
— Ничего не делается идеально, Элейн. Найди недостаток в его маскировке. Ты же побывала на других мирах, на тех, о которых идет речь. И хорошо знаешь их жителей.
— Не думаю, что я смогу…
— Если у тебя ничего не выйдет, — с нажимом произнес Янос, — нам придется прибегнуть к более грубым методам и рискнуть нанести оскорбление другим мирам. Или мы успокоимся, если ты скажешь, что диверсанта среди этих пятерых нет; а еще существует такой вариант: ты ошибешься, мы примем меры против невинного человека, а настоящий враг в это время причинит серьезный вред Гамме… Я уже не говорю о том, что с надеждами на союз можно будет расстаться. Ты должна справиться.
Элейн тяжело вздохнула и спросила:
— Когда прибудут эти туристы?
— Завтра. Они приземлятся на Причале номер 2, на другой стороне нашего мира. — Председатель автоматически показал пальцем наверх, и глаза Элейн, так же автоматически, последовали за ним.
В этом не было ничего необычного. Гамма, как и все Орбитальные миры, представляла собой строение, напоминающее пышку, тор. На Гамме пустой тор, внутри которого и жило все население, в поперечнике составлял чуть больше двух миль. Можно было проехать около трех с половиной миль вдоль внутренней части тора и добраться до другой стороны мира или сократить путь, поднявшись вверх по одной из трех ступиц — как у колеса, — соединяющих противоположные части тора.
Элейн вспомнила, как однажды какой-то землянин ужасно веселился по поводу того, что местные жители говорят о другой стороне «мира», имея в виду просто часть тора, но она не понимала, что в этом такого смешного. Гамма точно так же, как и Земля, окружена пространством.
Янос прервал ее раздумья:
— Тебе придется это сделать, Элейн.
— Я попытаюсь, сэр, — ответила она.
— И ты не должна потерпеть неудачу.
2
Двухкомнатная квартирка Элейн находилась в Третьем секторе, главным ее преимуществом было то, что рядом располагался Центр Исполнительских Искусств. (В юности Элейн мечтала стать актрисой, но у нее не было голоса. Однако она по-прежнему получала огромное удовольствие, когда окуналась в атмосферу театра.)
Сейчас, готовясь отправиться на Причал номер 2, Элейн искренне жалела, что природа не наделила ее великолепным голосом и актерским талантом — в этом случае она не работала бы гидом и перед ней не поставили бы практически невыполнимую задачу.
Элейн тщательно оделась. Девушка отлично смотрелась в форме и производила впечатление высококвалифицированного специалиста — как, впрочем, и всегда. Элейн приложила немало сил для того, чтобы выглядеть совершенно спокойной. Девушка решила, что если покажется пятерым туристам чересчур любопытной или слишком знающей, то наверняка ничего не выяснит. На самом деле, если у них сложится впечатление, что она лезет не в свои дела и задает лишние вопросы, человек, прибывший сюда с секретным заданием, может посчитать ее опасной и уж, вне всякого сомнения, без проблем разберется с одной слабой женщиной.
Выходя из дома, Элейн посмотрела наверх. Внутри тора было достаточно места для сорокаэтажного здания, которое можно было бы возвести в самом центре, однако разрешалось строить только двадцатиэтажные дома; впрочем, в среднем строения поднимались всего лишь на десять этажей. Верхняя часть тора должна была оставаться свободной, тогда возникало ощущение пространства и свежего воздуха, не говоря уже о проникновении солнечных лучей.
Отверстия жалюзи наверху открывались в час, соответствующий раннему утру. Огромное зеркало, которое двигалось по орбите вместе с Гаммой, отражало солнечные лучи, а они, в свою очередь, улавливались зеркалами меньших размеров и освещали тор внутри. Здания, стоящие на нижнем уровне огромной пышки, купались в ярком сиянии, причем температура воздуха всегда оставалась одинаково приятной.
Элейн не бывала на Земле, но достаточно о ней читала, чтобы иногда пожалеть о том, что погода на Гамме неизменна.
Временами ей хотелось испытать на себе влияние не подчиненных строгим законам сил природы. Она частенько думала про снег, поскольку никак не могла себе представить, что же это такое. Дождь — что-то вроде душа, туман похож на пар, холод и жара — это все равно что поворачиваешь кран с холодной или горячей водой в ванне. А вот снег — какой он?
Элейн раздумывала об этом по дороге к лифту номер три и потом, когда пристроилась в самом конце очереди. Впрочем, ждать пришлось недолго, потому что час пик, когда заканчивалась одна смена и начиналась другая, уже прошел.
Лифт понес девушку вверх, и почти целую милю гравитация медленно уменьшалась. Быстрое вращение тора — а он делал один оборот за две минуты — создавало центробежную силу, которая удерживала всех и все на его поверхности, в результате возникало тяготение, равное земному. Для всех жителей Гаммы, где бы они ни находились, внешний край тора представлялся «низом», а центр, который напоминал ступицу колеса, — «верхом» и, естественно, другая сторона их мира, расположенная за этой ступицей, тоже считалась «верхом».
Когда Элейн поднималась на лифте, скорость, с которой он вращался вокруг ступицы, уменьшалась, естественно, как и центробежная сила. Девушка уже весила в половину меньше в тот момент, когда они миновали госпитальный район, где пониженная гравитация оказалась весьма полезной в лечении кардиологических больных и тех, кто страдал респираторными заболеваниями.
Когда-то, будучи студенткой колледжа, она подрабатывала в больнице помощницей медсестры и прекрасно помнила свои тогдашние ощущения — они ей до сих пор нравились.
Наконец лифт проплыл сквозь сферический центр тора, при этом его продвижение тщательно контролировалось центральным компьютером, чтобы он не столкнулся с каким-нибудь другим лифтом, двигающимся в противоположном направлении. Здесь центробежная сила практически равнялась нулю, и в эти несколько минут Элейн показалось, что она стала невесомой. Именно тут находилась силовая установка и именно тут, мрачно подумала Элейн, возможно, будет совершена диверсия.
Лифт миновал центр и двинулся дальше по одной из спиц большого колеса на другую сторону мира по имени Гамма. Центробежная сила стала снова увеличиваться, и у Элейн возникло ощущение, что она стоит на голове. Без особых усилий — сказывалась практика — девушка поменяла положение, как, впрочем, и остальные пассажиры. Прошло всего несколько минут, но все уже стояли на том, что совсем недавно было потолком лифта.
Теперь складывалось впечатление, что они опускаются и сила тяжести тянет их вниз. А потом, когда эта иллюзия достигла максимума и Элейн снова почувствовала себя (с некоторым сожалением) такой же тяжелой, как и всегда, лифт прибыл на место. Двери открылись, девушка вышла из него. Другой стороной мира (она быстро посмотрела наверх) теперь была та, где находился ее дом.
3
Элейн не попала в час пик, зато опоздала на работу, что доставило ей несколько неприятных минут. Три других гида, двое мужчин и женщина, уже были на месте и собрались возле вывешенного распорядка работы на этот день.
Микки Бордо увидела Элейн первой и довольно ядовито заметила:
— А вот и она.
— Ясное дело, — Элейн удивленно вскинула брови, — я же здесь работаю.
— Не очень-то на это похоже, — заявила Микки и прошествовала мимо в своих туфлях на пробковой подошве, которая делала ее на два дюйма выше. Чуть сдвинула форменную шапочку со лба — это можно было бы расценить как проявление излишней нервозности, однако дело было в том, что всем сразу стали видны ее роскошные каштановые волосы — и продолжала: — Ты получила пять человек. Ровно пять. Тяжелая работенка, верно? Пять! — не унималась Микки. — А у меня четырнадцать. У Ханнеса десять, у Робэра двенадцать. Как по-твоему, честно поделили? Лично я считаю, что нет!
— Возможно, дело в том, — спокойно проговорила Элейн, — что администрацию не устраивает моя работа и меня собираются уволить.
— Уволить тебя? — проговорил Робэр, который часто улыбался, потому что тогда на щеках у него появлялись весьма привлекательные ямочки. — Именно это я и предположил. В таком случае тебе будет не на что жить, ты не сможешь рассчитывать на получение какой-нибудь другой работы и тебе придется выйти за меня замуж. Верно?
— Я буду иметь тебя в виду, Робэр, — сказала Элейн. — Постоянно! Как только мне будет не на что жить. Вы поговорили о сегодняшнем распределении с Бенджо Страммером? Он ведь за это отвечает.
— Я к нему сходила, — ответила Микки, — и он заявил мне, что будет так, как написано, и что он не желает ничего обсуждать. Старый… — Последнее слово она произнесла очень тихо.
— Да ладно вам, — начала Элейн. — Робэр, твои двенадцать туристов прибывают главным образом с Альфы, а значит, их будет интересовать, как у нас организованы занятия спортом и все, что с этим связано — твоя любимая тема. Разве я не права? Ханнес должен работать с гостями с Мю; это первое поколение поселенцев, они всегда ужасно нервничают, столкнувшись с чем-то новым, а всем известно, какой Ханнес заботливый, прямо настоящий папочка.
— Вот-вот, Папочка — мое имя и фамилия, — вставил Ханнес, сложив руки на своей тщедушной груди.
— А ты, Микки, будешь работать с жителями Зеты, которые люто нас всех ненавидят, поэтому им понравится, что ты миниатюрная и кажешься беззащитной и беспомощной. И не будем забывать, что ты ведь у нас красотка. Они просто не смогут воспылать к тебе ненавистью.
— Женщины прекрасно даже смогут, — смягчаясь, проговорила Микки.
— Верно, но ведь в твоей группе в основном мужчины. Правильно? А что касается меня, я получила пятерых, однако они с пяти разных миров. И каждый из них не похож на другого. Каждого будет интересовать совсем не то, что остальных, и я подозреваю, что все они какие-то шишки, так что мне придется особо постараться, чтобы их ублажить. Боюсь, у меня ничего из этого не выйдет. — Элейн с печальным видом откинулась на спинку стула. — Если кто-нибудь хочет поменяться…
— Только не я, — быстро перебил ее Ханнес. — Мои милые крошки мюанцы во мне нуждаются.
— А мои альфийцы должны получить гида, который отличал бы футбольный мяч от клюшки для гольфа, — заявил Робэр.
— Лично я и не говорила, что хочу поменяться, — сказала Микки. — Я только возмущена несправедливостью.
Элейн кивнула и отправилась в свой маленький кабинет, в котором умещался лишь небольшой письменный стол и — на этот раз — еще и Бенджо Страммер. Он ее ждал. У него была роскошная седая шевелюра, а глаза опутывала сеть морщинок. Он вопросительно взглянул на Элейн:
— Ты отлично с ними справилась, Элейн.
— Значит, ты слушал, Бенджо, — проговорила Элейн.
— Пришлось. Поскольку немного огорчен. Такое уж я получил распределение групп. Сам я тут ни при чем.
— В таком случае нам следует относиться к нему как к данной реальности. Иного ничего не остается.
— В чем дело, Элейн? — спросил Бенджо.
— В каком смысле?
— Почему они вдруг решили сделать за меня мою работу?
— А разве тебе не сказали, Бенджо?
— Нет, — покачав головой, ответил он.
— Значит, видимо, не хотели, чтобы ты знал.
— Хорошо, а ты знаешь?
— В сложившейся ситуации тебе не следовало задавать мне этот вопрос. Послушай, скажу тебе только одно — дело очень деликатное. Корабль прибывает по расписанию?
— В данный момент заходит в док.
— Хорошо. Ты можешь организовать все таким образом, чтобы моя пятерка оказалась как можно аккуратнее выделена из общей толпы и доставлена сюда раньше остальных? Мне нужно на них посмотреть, прежде чем я приступлю к работе; я должна попытаться понять, как следует себя вести. Знаешь, я сказала ребятам чистую правду. По-видимому, эти пятеро очень важные персоны, и мне хочется, чтобы все получилось как следует.
У Бенджо был весьма недовольный вид.
— Мне кажется, было бы намного лучше, Элейн, если бы меня все-таки поставили в известность о том, что тут происходит.
— Если бы это зависело от меня, Бенджо, я бы тебе все рассказала.
— Эта группа специально приписана к тебе, верно? Если ты хочешь посмотреть на своих туристов, воспользуйся-ка лучше моим кабинетом. Твой слишком маленький. А я пойду прогуляюсь вокруг мира.
Он время от времени предпринимал такие прогулки, чтобы оставаться в форме — так Бенджо по крайней мере говорил. Элейн бросила быстрый взгляд на свой плоский живот и подумала о том, что, видимо, скоро не сможет больше смотреть на него как на дар природы.
4
Элейн пристроилась на уголке стола Бенджо — на том, что был ближе к двери, — руки скрестила на груди и тихонько болтала ногой. Накануне вечером она совершенно сознательно заставила себя не думать о том, что ей предстоит, понимая (тут Элейн не сомневалась, что была права), что тогда ей обеспечена бессонная ночь, а наутро она будет плохо соображать.
Теперь, однако, она больше не могла отталкивать от себя решение задачки, которую подкинул Янос Тесслен.
Условия: пять человек, все жители разных миров. Один из них может оказаться (всего лишь может) землянином, утверждающим, будто он прибыл с одного из Орбитальных миров.
Засланный — специалист в своем деле, можно ли надеяться на то, что он каким-нибудь образом себя выдаст? Существует ли на каждом Орбитальном мире некая характерная деталь, которую даже после определенной подготовки невозможно имитировать?
Проблема заключалась в том, нетерпеливо подумала Элейн, что все миры совершенно сознательно подражали Земле. Каждый из них вращался с такой скоростью, чтобы возникала сила тяжести, как на Земле. В этом отношении любой землянин будет чувствовать себя здесь как дома.
Конечно, гравитация уменьшается, когда поднимаешься вверх по спицам, и тут землянин может оказаться весьма неуклюжим. Впрочем, жители Орбитальных миров не проводят много времени в лифтах, а следовательно, они тоже будут выглядеть весьма неловкими.
Атмосфера на мирах имеет такой же состав, что и на Земле, но углекислого газа здесь меньше. Однако это не очень принципиально. Земляне адаптировались к ней почти сразу. На Земле есть места, где атмосфера еще хуже: меньше давление и меньше кислорода — в горах, например.
Земля намного крупнее миров, ну и что? Немного другой горизонт — хотя наверняка землянин легко привыкнет и к этому. Диверсант, если он находится в ее группе, вне всякого сомнения, долго прожил на том мире, с которого он, по его утверждению, прибыл.
Можно не сомневаться, что он заблудится на Гамме, если только раньше специально не прилетал сюда с целью осмотреться. Но ведь жители других миров тоже не обязательно должны прекрасно ориентироваться на Гамме.
А если агент и в самом деле побывал здесь, может быть, он знает слишком много про этот мир? Однако нет ничего такого касательно Гаммы, о чем обитатель другого мира не мог бы где-нибудь прочитать — прежде чем отправиться в путешествие. Вполне разумно и естественно, подумала Элейн.
Ну хорошо, а как насчет тех миров, с которых прибывают туристы? Жители разных Орбитальных миров говорят по-разному, имеют свои социальные и индивидуальные особенности. Сможет ли землянин безупречно это перенять или все равно выдаст себя, как бы сильно ни старался изображать жителя какого-нибудь Орбитального мира?
Элейн посмотрела на стол и повернула листок так, чтобы можно было прочитать, что на нем написано.
Пять миров. По старшинству — Дельта, Эпсилон, Тэта, Йота и Каппа. Она бывала на всех пяти и много о них читала — по долгу службы. Невозможно понять туриста, если ничего не знаешь об обществе, которое его воспитало, а гид должен прекрасно разбираться в своих подопечных.
Дельта — довольно скучный мир, его жители невероятно трудолюбивы, говорят немного нараспев, даже когда переходят на гаммейский диалект. В основном они крупные и белолицые, но это только в основном. На всех Орбитальных мирах живут высокие и маленькие, худые и толстые люди. На внешность полагаться не стоит.
Эпсилон из них самый густонаселенный мир, эпсилонцы, как правило, не очень высокие, поскольку их предки были выходцами из Восточной Азии, с Земли. Впрочем, на других мирах их тоже немало.
На Тэте пять или шесть районов — вместо обычных трех — отдано сельскому хозяйству. Только здесь выращивают крупный рогатый скот, в то время как на других Орбитальных мирах главным образом занимаются разведением птицы. Так случилось, что из пяти симфоний, сочиненных музыкантами с Орбитальных миров и ставших главной составной частью репертуара всех земных оркестров, три были рождены на Тэте.
Элейн заставила себя прервать свои размышления. Нет, сделать простой вывод, что тэтанцы музыкальны, — неверно. Девяносто пять процентов из них могут быть неграмотными с точки зрения музыкального образования, и если окажется, что тэтанец, попавший в ее группу, совершенно не интересуется музыкой, — это еще не повод заподозрить в нем диверсанта.
Йота — главный экспортер энергии. Каждый из Орбитальных миров в качестве основного источника энергии использует солнечный свет. На каждом имеется огромная энергетическая установка — намного больше самой колонии, — которая поглощает солнечные лучи и превращает их в микроволновое излучение; часть его идет на нужды самого мира, а излишки отправляются на Землю. Силовая установка на Йоте самая мощная, там располагается самое современное оборудование для передачи микроволн на Землю. Вполне понятно, что Земля уделяет Йоте гораздо больше внимания, чем любому другому из двенадцати Орбитальных миров.
А это, в свою очередь, означает, что Йота больше остальных настроена на защиту интересов Земли. Жители этого мира меньше всего мечтают о независимости и совсем не стремятся к объединению с другими мирами. Может быть, йотанец — самая подходящая кандидатура для сотрудничества с агентом землянином? С другой стороны, агент вряд ли станет выдавать себя за жителя Йоты, поскольку этот ход является наиболее очевидным и, следовательно, подозрительным…
«Ну как я могу хоть что-нибудь в этом понять!» — нетерпеливо подумала Элейн.
А как насчет Каппы, где властвуют развлечения — этот мир считается культурным центром Орбитальных миров? Элейн полагала, что Каппа является самым приятным миром из тех, где ей довелось побывать. А это означает, что придется повнимательнее присматриваться к каппанцу, поскольку в данном случае ей будут мешать собственные предпочтения.
Как можно отличить настоящего каппанца от того, кто только выдает себя за такового? Или настоящего жителя Тэты от ненастоящего? Ну и так далее…
Проблема в том, что на Земле живет такое количество самых разнообразных людей, что любой землянин может без проблем изобразить из себя любого жителя любого из Орбитальных миров.
Так, теперь рассмотрим вот какую идею: агент — кем бы он там ни был — выступает, разумеется, против независимости и против объединения Орбитальных миров. Постарается ли он скрыть свои взгляды и станет вести себя как человек, настроенный против Земли? Или посчитает, что такое поведение может вызвать подозрения? А может быть, не зная, что его ищут (с другой стороны, вдруг ему это известно?), он не станет заводить разговор на эту тему?
Не следует ли прибегнуть к какому-нибудь более хитроумному способу? Если силы, борющиеся за независимость и союз, рассчитывают на эмоциональное значение трехсотлетия возникновения Соединенных Штатов, может, стоит завести разговор на эту тему? И вдруг агент выдаст себя, когда она упомянет 2076 год? И продемонстрирует антиамериканские настроения?
Впрочем, житель Орбитального мира вполне может испытывать неприязнь к Земле по своим собственным причинам и при этом не быть тайным агентом.
Элейн почувствовала, как ее рассуждения начинают бродить по все более сужающемуся кругу, причем никакие разумные идеи ее не посещали. Что использовать в качестве критерия, чтобы отличить настоящее от подложного? Да и существуют ли такие критерии вообще?
А ведь Янос сказал, что она не имеет права потерпеть неудачу.
Элейн уже готова была погрузиться в утешительное отчаяние, когда в дверях появилась голова Бенджо:
— Твои туристы прибыли. Надеюсь, все пройдет хорошо. До свидания.
Вполне возможно, невинная прощальная фраза будет иметь для нее, Элейн, особенно страшное значение… Когда туристы приблизились к двери, она сделала приветливое лицо и постаралась взять себя в руки.
5
Элейн говорила медленно и — она рассчитывала, что у нее это получилось — заискивающе.
— Меня зовут Элейн. Если вам удобнее обращаться ко мне по фамилии, пожалуйста — Элейн Мэтро. На Гамме не принято использовать никакие звания, мы обращаемся друг к другу по имени, но вы можете называть меня так, как вам покажется удобнее всего.
У дельтийца сразу сделался недовольный вид. Это был высокий, широкоплечий мужчина, казавшийся еще выше из-за черной квадратной шляпы, которую он не снял, и мышино-серой блузы, доходившей ему до середины бедер. Тяжелые сапоги дельтийца громко стучали, а руки с большими костяшками пальцев были слегка сжаты.
— Сколько вам лет? — резко и немного нараспев спросил он. В списке туристов значилось, что его зовут Сандо Сансен, и Элейн знала, что по обычаям Дельты должна обращаться к нему по фамилии.
— Мне двадцать четыре года, мистер Сансен.
— Неужели в вашем возрасте вы сумели узнать про ваш мир достаточно, чтобы оказаться нам полезной?
Его резкость — или грубость — была характерной для жителя Дельты. Или он несколько перестарался? Она ведь еще не дала ему никакого повода для нападок.
Элейн улыбнулась и весело ответила:
— Надеюсь, моих знаний окажется достаточно. У меня вполне солидный опыт работы. По правде говоря, наше правительство очень мне доверяет, поскольку поручило именно мне позаботиться о том, чтобы вы смогли познакомиться с теми аспектами жизни Гаммы, которые вас интересуют.
Равон Джи Андор с Каппы привлек к себе ее внимание. Среднего роста, с великолепно уложенными волосами — несколько светлее, чем им полагалось быть (в этом Элейн не сомневалась, поскольку они контрастировали с его темными глазами и смуглым лицом). Одет он был изысканно, с великим множеством самых разнообразных украшений. От каппанца пахло какими-то духами, которые девушке понравились. (Все это очень характерно для Каппы; не слишком ли?)
— Если вы так милы, что намерены исполнить наши желания, — проговорил он, растягивая гласные, — в таком случае вы сами являетесь представителем Гаммы, достойным самого пристального изучения и внимания.
Это был комплимент, произнесенный в витиеватой и весьма характерной для Каппы манере. Элейн обратилась к туристу, воспользовавшись первыми двумя именами — так было принято на Каппе, — причем ее ответ прозвучал тоже в соответствии с обычаями этого мира.
— Я в отчаянии, Равон Джи, поскольку в данный момент это исключено. Верю, что время подарит нам такую возможность.
— Да ладно вам, кончайте с этим, барышня! — проворчала Меджим Набеллан с Тэты.
Чернокожее лицо (многие тэтанцы, но не все, имели темную кожу) обрамляли седые, словно из проволоки, вьющиеся волосы, в основном прячущиеся под широкополой шляпой, закрепленной под подбородком эластичной лентой. Полосатое одеяние туристки было невероятно ярким, а звук «р» она произносила так, словно он перекатывался где-то в глубине ее горла.
— Давайте заканчивайте и перестаньте болтать эти каппийские глупости.
Улыбающийся каппанец с язвительным видом ей поклонился.
Элейн немного помолчала. Агентом вполне могла оказаться женщина, или кто-нибудь с черной кожей, или и то и другое. А нетерпение, с которым Меджим Набеллан требовала начала экскурсии, могло быть самым обычным — и с трудом скрываемым — желанием человека, прибывшего сюда, чтобы совершить диверсию, поскорее приступить к выполнению задания и считающего, что любая задержка опасна для его целей.
— Мне кажется, довольно глупо создавать группу из представителей разных миров, — сказала Ив Абдараман с Йоты, еще одна женщина, которая произносила слова, слегка растягивая их; казалось даже, будто она засыпает на ходу. Довольно молодая, миниатюрная, вполне привлекательная, смуглая (видимо, она прекрасно это знала, поскольку ее костюм был выдержан в разных оттенках коричневого цвета). — Если мы будем ссориться и наскакивать друг на друга, наша экскурсия никому не доставит никакого удовольствия.
— Надеюсь, мы не станем ссориться и наскакивать друг на друга, Ив, — постаралась успокоить ее Элейн. Йотанцы всегда обращались к своим собеседникам по имени, как и жители Гаммы. — И как только вы мне сообщите, что в особенности хотели бы увидеть…
— Давайте начинать, — проговорил пятый член группы, Ву Кай-ши с Эпсилона, — а мы по дороге расскажем вам, что нас интересует, и времени не потеряем.
Глаза маленького толстячка говорили о том, что его предки родились на Востоке. На нем было нечто, напоминающее юбку, ниспадающую почти до самой земли. К тому же он немного шепелявил.
Еще один нетерпеливый, подумала Элейн. — Поскольку мы находимся в одном из жилых районов, — сказала она, — можем прогуляться до университета — для начала. Там имеется несколько интересных примеров гаммейской архитектуры…
Она вежливо вытолкала всю группу из кабинета, обошла их, чтобы оказаться впереди, в то время как ее мозг напряженно работал. Каждый из пятерых туристов вызывал у нее подозрения, но ни один не казался подозрительным по-настоящему.
Вот было бы что-нибудь такое, что имелось на Орбитальных мирах и полностью отсутствовало на Земле… нечто настолько неуловимое и хитрое, что житель Земли не смог бы не выдать себя, оказавшись на одном из Орбитальных миров!.. Интересно, что бы это могло быть? Рост? Или какое-нибудь еще отличие?
Элейн заставила себя сосредоточиться на работе.
— Перед нами главное здание гаммейского университета, построенное четыре года назад. Создается настолько сильная иллюзия искривления, что…
Она продолжала механически говорить, а ее мысли были заняты совсем другим.
6
Элейн и ее подопечные неторопливо прошли мимо симпатичных зданий этого района — все они были разными, ни одно не походило на своего соседа, перед каждым домом красовались зеленые лужайки, окруженные легкими решетками из особого материала, так что впечатления, что жители домов стремятся отгородиться друг от друга, не складывалось. Здесь не было нагромождения многоквартирных домов, которых встречалось великое множество в двух других жилых секторах.
— Мы подходим к воздушному шлюзу, отделяющему этот район от сельскохозяйственного сектора, — сказала Элейн.
— Как я вижу, вы держите шлюзы открытыми, — заметил Сансен. — Разве это не небрежность? — Он так диковинно произнес последнее слово — с точки зрения жителя Гаммы, — что Элейн едва его разобрала. (Безупречный дельтиец, так ей показалось.)
— Вовсе нет, — ответила она. — Все работает автоматически. Возникновение даже самой незначительной вибрации в связи с ударом метеорита или каким-нибудь внутренним взрывом, любое, самое минимальное понижение воздушного давления — и все шесть секторов окажутся запечатанными таким образом, что между ними не будет никакой связи. Естественно, они закрываются на ночь, чтобы дневной свет из сельскохозяйственного сектора не проникал в жилые районы.
— А что произойдет, — спросил Равон Джи, улыбаясь, — если метеор или что-нибудь еще попадет в приборы, регулирующие работу самого шлюза?
— Вряд ли такое может случиться. Однако, если все-таки авария произойдет, она не будет фатальной. У нас имеется по два комплекта всего жизненно важного оборудования, причем эти комплекты находятся в разных местах и каждый из них способен обеспечивать Гамму всем необходимым.
Элейн сделала паузу, чтобы убедиться в том, что ее подопечные сумели перейти через шлюз. Нужно было всего лишь сначала подняться по нескольким ступенькам, а потом спуститься по такому же пролету вниз; шесть ступенек вверх и шесть вниз, но они тянулись по всей ширине тора с едва заметным наклоном. Землянам обычно не нравилось шагать по широким ступеням, они частенько чуть скатывались набок — в отличие от остальных членов группы.
Однако, хотя Элейн внимательно наблюдала за ногами всех пятерых, туристы шагали уверенно и не озирались с удивлением по сторонам.
Элейн тихонько вздохнула. Землянин — кем бы он там ни был — отлично подготовился к выполнению своего задания. Или вовсе не было никакого землянина.
7
Равон Джи Андор шел рядом с Элейн всю дорогу, пока они проходили сквозь сельскохозяйственный сектор, причем ему явно было здесь невыносимо скучно. Теперь же, когда туристы оказались в Центре переработки, каппанец отшатнулся от нее и у него сделался совершенно несчастный вид.
— Мне ведь не придется идти туда, правда? Отходы животных — это не совсем то, на что я стремился посмотреть.
Элейн постаралась говорить спокойно и ничем не выдать своей нервозности.
— Вы ведь на Каппе тоже перерабатываете отходы.
Ни один землянин еще ни разу добровольно не посетил Центр переработки.
— Да, но я при этом не присутствую, — заявил Равон Джи. — По правде говоря, мне ничего не известно ни про инженерную сторону этого вопроса, ни про статистику. Послушайте, милая, давайте я подожду вас здесь. Пусть туда идет дельтиец, у него подходящие сапоги, и еще эта фермерша с Тэты, ну… и все остальные.
— Я прекрасно вас понимаю, — покачав головой, сказала Элейн, — но не могу здесь оставить. Боюсь, нашему правительству это не понравится. Идемте. Я буду держать вас за руку. Вот видите?
Это было что-то вроде легкого флирта, жест, честь — ни один каппанец не мог в такой ситуации отказаться от предложенной ему руки. Равон Джи, страшно несчастный, пробормотал:
— В этом случае, красавица, я с удовольствием пройду сквозь самую отвратительную грязь, готов даже увязнуть в ней по колено.
Впрочем, Элейн была уверена, что он этого ни за что не сделает.
Девушка держалась к нему поближе, когда они проходили по антисептическим коридорам. Большинство процессов переработки наблюдать было невозможно: они производились в закрытых помещениях и были полностью автоматизированы. Несмотря на гримасу отвращения, которая не сходила с лица Равона Джи, неприятного запаха почти не чувствовалось.
Сансен вышагивал, сцепив руки за спиной и внимательно оглядываясь по сторонам. By Кай-ши, лицо которого вообще ничего не выражало, что-то записывал; Элейн удалось пройти у него за спиной и посмотреть на его заметки. Они были сделаны на эпсилонском языке, так что она ничего не смогла разобрать.
Равон Джи, который по-прежнему держал девушку за руку, сказал:
— Думаю, сейчас вы заявите, что все это страшно важно.
— Именно, — согласилась Элейн. — Причем везде, на Земле, например.
Равон Джи никак не отреагировал на ее последние слова.
— Каппанский джентльмен, — заявил он, — не должен знать о подобных вещах.
— А чем вы занимаетесь? — спросила Элейн.
— Я театральный критик и прибыл сюда для того, чтобы написать статью о состоянии гаммейской сцены для одной из наших газет.
— А вы не собираетесь на Землю, чтобы принять участие в празднествах, посвященных трехсотлетию образования Соединенных Штатов?
«Интересно, такой фестиваль состоится на самом деле или нет?» — подумала Элейн.
— Что, дорогуша? — Казалось, турист не понял вопроса.
— Трехсотлетие Америки.
— Ну, не знаю, — равнодушно протянул он. — А где у вас тут находится театральный район?
(Было ли его равнодушие чересчур деланным? Неужели он и в самом деле ничего не знает про грядущее трехсотлетие?)
— В четвертом секторе, на другой стороне мира, — сказала Элейн и уже собралась сделать привычный жест, однако каппанец быстро поднял голову и сказал:
— Ну, надеюсь, рано или поздно мы туда попадем. «Может быть, это и есть ключ к разгадке», — подумала Элейн.
8
— Послушайте, гид, мы уже выходим из сельскохозяйственного сектора, а я еще не видела никакого скота, — резко сказала Меджим Набеллан.
— Мы держим его не здесь, поскольку считаем разведение скота невыгодным. Цыплята и кролики дают гораздо больше протеина за более короткий срок.
— Глупости! Вы не имеете ни малейшего понятия о том, как это нужно делать. Животноводство на Гамме сильно отстает от современных достижений.
— Я уверена, в Сельскохозяйственном Бюро с радостью выслушают ваше мнение, — мягко ответила Элейн.
— Надеюсь. Именно за этим я сюда и прибыла, а теперь, когда увидела, как у вас тут поставлено дело, продолжать экскурсию мне ни к чему. Я бы хотела сразу отправиться в Бюро.
— Боюсь, у меня возникнут неприятности, если вы станете настаивать на том, чтобы покинуть нашу группу, — сказала Элейн. — Правительство Гаммы посчитает, что я нанесла вам оскорбление.
— Чушь, — нахмурившись, мрачно объявила Меджим Набеллан. — Где находится Бюро?
— На другой стороне мира, — ответила Элейн, которая на этот раз уверенно показала наверх, и Набеллан подняла голову. — Если вы сейчас уйдете, наша группа совсем распадется. Пожалуйста, останьтесь.
Меджим Набеллан что-то тихонько пробормотала, но отказалась от своих попыток покинуть группу.
— Сельскохозяйственные сектора, — сказала Элейн профессиональным голосом гида, — согреты солнечными лучами постоянно, но в трех жилых районах, естественно, сутки разделены на шестнадцать светлых часов и восемь темных — по очереди.
— А что, все гаммейцы спят одновременно? — спросил By Кай-ши.
— Нет, конечно. Они спят, когда пожелают. Кое-кому приходится работать в темное время суток.
— Почему бы в таком случае не позволить каждому жилому сектору самостоятельно контролировать солнечный свет? Бессмысленный конформизм! — Он сделал какие-то записи в своем блокноте.
— Поскольку Эпсилон является единственным миром, где не сохраняется стандартная смена дня и ночи, возможно, это вы являетесь исключением, — проговорила Ив Абдараман своим ясным, звонким голосом. — Ночной перерыв требует меньшего расхода энергии, при этом поддерживается подходящая для всех температура.
— Вовсе нет, — подняв брови, возразил By Кай-ши. — Если вы намекаете на то, что на Эпсилоне жарко, так вы ошибаетесь. Смена дня и ночи — всего лишь бессмысленное наследие Земли.
Элейн напряглась. Нападки на Землю? Она радостно проговорила:
— Вряд ли следует игнорировать то, что нам досталось в наследство от Земли. В этом году будет отмечаться трехсотлетие образования Америки, а наследие свободных… — Она не договорила, потому что никто не отреагировал на ее слова.
Ив Абдараман нетерпеливо поглядывала на гида, а потом повернулась к эпсилонцу.
— Я бывала на Эпсилоне, — сказала она. — Мне показалось, что там ужасно жарко.
— Вам могло показаться, что мы обладаем слишком большой гибкостью и индивидуальностью — на ваш вкус, — холодно ответил By Кай-ши.
— Пожалуйста, следуйте за мной, — попросила Элейн, — обращаясь к By Кай-ши и Ив Абдараман. — Нам еще нужно немало пройти, чтобы добраться до другой стороны мира. — Девушка махнула рукой, и ведомые совершенно автоматически отреагировали на ее жест. Элейн продолжала: — Нужно догнать остальных.
— Центр переработки должен обслуживаться компьютерными системами, — ускорив шаги, заметила Ив Абдараман — Я смогла бы выполнить то, ради чего прибыла сюда — если бы получила к ним доступ.
— Не сомневаюсь, что это можно организовать, — успокоила ее Элейн. — У нашего правительства в этом вопросе нет никаких секретов.
(То, ради чего прибыла сюда? Просчет? Или всего лишь слова человека, не замышляющего ничего плохого? В ней всего-то пять футов роста, но помешает ли это…)
Сандо Сансен нетерпеливо оглядывался по сторонам.
— Ну, мисс Мэтро, сколько еще будет продолжаться наша экскурсия?
— Скоро закончится, мистер Сансен. Может быть, вас интересует что-нибудь конкретное?
— Силовая установка, Я инженер-электрик, и мне совершенно наплевать на поля с зерновыми и пруды, где разводят рыбу.
— Я не уверена, — спокойно проговорила Элейн, — что туристам туда разрешен вход.
— А я не турист, — сердито ответил Сансен. — Я представитель своего правительства.
— Да, конечно. Я покажу вам госпитальный комплекс. Гамма гордится своим медицинским оборудованием, и мы бы очень хотели вам его продемонстрировать. А там мы попытаемся получить разрешение сходить на силовую установку.
Сансен кивнул, но вид у него был по-прежнему недовольный.
9
Всего госпитальных комплексов было шесть — по одному в каждом секторе. Этот располагался выше остальных, поскольку здесь занимались исследованиями низкой гравитации с точки зрения биологии.
Все пятеро туристов совершенно спокойно держались в состоянии низкой силы тяжести — чуть больше четверти нормы. Меджим Набеллан споткнулась разок, но Элейн показалось, что это произошло по чистой случайности. Сансен был в ярости из-за того, что ему пришлось забраться выше, чем он собирался, и потому громко топал, но при этом твердо держался на ногах. Впрочем, даже Элейн время от времени забывалась и делала слишком большой шаг.
— Мне кажется, вас всех заинтересуют, — продолжала она свою экскурсию, — исследования низкой гравитации, проводящиеся в здешнем центре. На Земле подобными проблемами заниматься невозможно, и хотя все Орбитальные миры добились в этой области определенных результатов, Гамму превзойти не удалось никому. В данный момент мы входим в лаборатории, где специалисты расскажут вам о проводимых экспериментах и ответят на ваши вопросы. О, мистер Сансен.
— Да?
— Я хотела напомнить вам, что мы находимся всего в четырехстах метрах от ступицы. Я сейчас попробую получить для вас разрешение… — Они остались одни, поскольку все остальные члены группы отправились вслед за местным гидом. — Мне придется обратиться в Правительственный Центр, который находится на другой стороне мира.
Она в который уже раз махнула рукой… и сердце забилось у нее в груди. Сансен отреагировал на ее жест. Наверняка он!
Однако Элейн не смогла скрыть от него, что все поняла. Знание промелькнуло в ее глазах, и Сансен увидел… и, возможно, сообразил, что совершена ошибка. В следующее мгновение он словно сбросил с себя театральный костюм. — Минутку, барышня, — сказал он, и в его голосе больше не было слышно дельтийского акцента.
Сансен метнулся к Элейн. Девушка попыталась ускользнуть от него — так матадор ловко избегает столкновения с быком. Но в горле у нее почему-то стоял комок, и она не могла закричать, позвать на помощь. Неужели он посмеет ее убить? И каким образом объяснит ее смерть? Или ничто не должно помешать ему выполнить задание? Может быть, он ее прикончит, а потом поспешит сделать то, ради чего сюда прибыл?
Сансен повернулся и снова бросился на нее, но поскользнулся — забыв про низкую силу тяжести. Элейн поднялась на цыпочки и, воспользовавшись его промахом и призвав на помощь свое умение двигаться в состоянии низкой гравитации, проскочила мимо Сансена. Он до нее не дотянулся.
Тогда агент остановился, а потом попытался отрезать Элейн от двери, сбросил шляпу, расстегнул блузу и тоже отшвырнул ее в сторону. Он был мускулистым, сильным мужчиной, а его лицо не сулило Элейн ничего хорошего. В распоряжении агента имелось всего несколько минут, чтобы от нее избавиться прежде, чем кто-нибудь ему помешает. И вид у него был весьма решительный.
Теперь Элейн уже могла бы закричать, но она боялась, что крик отвлечет ее. Девушка не сводила с Сансена глаз, а сама в это время раскачивалась из стороны в сторону, была настороже. Он тоже максимально напрягся, принял во внимание низкую гравитацию, потом начал маленькими шажками продвигаться вперед.
Элейн, внимательно за ним наблюдая, отскочила от него. Изменила направление движения, метнулась вперед, делая большие шаги, затем развернулась у Сансена за спиной и толкнула его. Он начал падать вперед, но удержался и снова оказался между девушкой и дверью.
И тут Элейн потратила на одну секунду больше, чем следовало, пытаясь добраться до двери, потому что Сансен успел схватить ее за руку.
Одно короткое мгновение они не шевелились, а потом его губы растянулись в безжалостной ухмылке, и он притянул Элейн к себе. Девушка хрипло вскрикнула, попыталась его лягнуть, но он блокировал ее удар бедром. Элейн отчаянно пыталась вырваться, но Сансен не выпускал ее.
…И в этот момент черная рука обхватила горло землянина, нажала на адамово яблоко, заставив его выпрямиться. Элейн была свободна.
— Спасибо, — прошептала она.
Лицо Меджим Набеллан потемнело, будто стало еще чернее, чем было.
— Неужели это дельтийское животное пыталось…
— Он не с Дельты, — тяжело дыша, ответила Элейн, которая наконец поняла, что все закончилось. Она оглядела собравшихся членов своей группы. — Вызовите, пожалуйста, полицию. И прошу вас, Набеллан, держите его покрепче.
— Не беспокойтесь, — ответила Меджим Набеллан. — Может быть, кто-нибудь желает меня заменить на минутку? А хотите, я сверну ему шею? — Видно было, что она вполне в состоянии выполнить свое обещание, и глаза землянина вылезли из орбит.
— Прошу вас, не нужно, — ответила Элейн. — Мне кажется, он нужен нашему правительству живым.
10
Элейн снова сидела в кабинете Яноса Тесслена. Со времени ее первого с ним разговора прошло два дня.
Председатель Ассамблеи был невероятно весел и радостно заявил:
— Ты великолепно справилась с заданием, Элейн, лучше и не бывает. Это тот самый диверсант. Дельта заявила, что ничего про него не слышала — уж не знаю, правда это или нет, теперь они вынуждены как можно активнее выступать за союз. Мы в самых изысканных выражениях высказались о том, какую роль сыграла в этой истории Меджим Набеллан, а значит, и Тэта будет сражаться за объединение Орбитальных миров. Правительство Земли поставлено в тяжелое положение, празднование трехсотлетия Америки получило отличную рекламу. Конечно, всегда могут возникнуть непредвиденные сложности, но я уверен, что мы получим независимость и союз еще до того, как закончится 2076 год. Расскажи-ка, как тебе удалось решить эту задачку, Элейн? Каким образом он себя выдал?
— Мне нужно было найти нечто такое, о чем землянин обязательно забудет, оказавшись на Орбитальном мире, хотя все они и построены по образу и подобию Земли — насколько это вообще возможно. Я подумала об искривлениях. Земля очень большая, и люди живут на внешней поверхности, которая искривляется вниз совсем незаметно. На Орбитальных мирах мы живем на внутренней поверхности, которая искривляется вверх.
На Земле «другая сторона мира» находится внизу, далеко внизу. Я решила, что, когда об этом заходит речь, земляне или показывают вниз, или вообще не делают никакого жеста. И уж конечно же, не станут махать рукой наверх. На Орбитальном мире «другая сторона мира» — наверху, и жители других миров всегда поднимают голову, когда говорят о другой стороне. Вы так делаете, я так делаю, и все остальные тоже.
Ну вот я и попробовала провести эксперимент. Я упоминала другую сторону мира в присутствии каждого из членов моей группы и одновременно показывала вниз. Это не имело ровным счетом никакого значения. Четверо наших гостей все равно посмотрели наверх, чисто автоматически. Каждый из них бросил совсем короткий взгляд, но я сразу поняла, что все они настоящие жители Орбитальных миров. Когда же я заговорила с Сансеном, он проследил глазами за моим пальцем. Посмотрел вниз, и тогда я поняла, что он землянин. Он мгновенно сообразил, что совершил промах, но было уже поздно. Видите, я смогла определить по одному взгляду.
— Я бы в жизни до такого не додумался, Элейн, — признался Янос. — Твои усилия будут достойным образом вознаграждены.
— Благодарю вас, — ответила Элейн, — однако независимость и союз Орбитальных миров самая лучшая награда для всех нас, не так ли?
перевод В. Гольдича, И. ОганесовойНекролог
Мне стыдно сознаться, что замысел этого рассказа возник у меня в ту минуту, когда я читал в «Нью-Йорк таймс» некролог о писателе-фантасте, моем товарище по перу. Я читал и думал: неужели и мой некролог, когда он появится, будет таким же длинным? От этой мысли до моего рассказа был только один шаг…
Мой супруг Ланселот имеет привычку читать за завтраком газету. Он выходит к столу, и первое, что я вижу, — это выражение неизменной скуки и легкого замешательства на его худом, отрешенном лице. Он никогда не здоровается. Газета, предусмотрительно развернутая, ждет его на столе, и через мгновение лицо его исчезает.
И потом в продолжение всей трапезы я вижу только его руку, которая высовывается из-за газеты, чтобы принять от меня вторую чашку кофе, куда я насыпаю одну ложку сахара. Ровно одну — ни больше и ни меньше. Иначе он испепелит меня своим взглядом.
Все это меня давно уже не волнует. По крайней мере за столом царит мир — и на том спасибо.
Но в это утро спокойствие было нарушено. Нежданно-негаданно Ланселот разразился следующей речью: — Хос-споди! Эта дубина Пол Фарбер, а? Загнулся! Я не сразу сообразила, о ком он говорит. Ланселот упоминал однажды это имя — кажется, это был кто-то из их компании. Тоже физик, и, судя по тому как аттестовал его мой супруг, довольно известный. Во всяком случае, из тех, кто сумел добиться успеха, чего нельзя сказать о моем муже.
Отшвырнув газету, он уставился на меня злобным взглядом.
— Нет, ты только почитай, что они там наворотили! — проскрежетал он. — Можно подумать, второй Эйнштейн вознесся на небо. И все из-за того, что этого дурака хватил кондрашка.
Ланселот встал и вышел из комнаты, не доев яйца, не притронувшись ко второй чашке кофе.
Я вздохнула. А что мне еще оставалось делать?
Само собой разумеется, настоящее имя мужа не Ланселот Стеббинз: я изменила имя и некоторые подробности, во избежание осложнений. Но в том-то и дело, что, если б назвать моего супруга его подлинным именем, это имя вам все равно ничего бы не сказало.
Ланселот обладал удивительной способностью оставаться неизвестным. Это был прямо какой-то талант — ни у кого не вызывать к себе никакого интереса. Все его открытия уже были кем-то открыты до него. А если ему и удавалось открыть что-то новое, то всегда кто-нибудь другой в это время создавал нечто более замечательное, и о Ланселоте никто не вспоминал. На конгрессах его доклады никто не слушал, потому что именно в эту минуту в соседней аудитории кто-то делал более важное сообщение.
Все это не могло не повлиять на моего мужа. Он стал другим человеком.
Двадцать пять лет назад, когда мы поженились, это был парень что надо. Блестящая партия. Человек состоятельный, только что получивший наследство, и вдобавок уже сложившийся ученый — не лишенный честолюбия, энергичный и подающий большие надежды. Я тоже, по-моему, была очень недурна собой. Только от всей моей красоты ничего уже не осталось. А вот моя замкнутость, моя полная неспособность завоевать успех в обществе, как это полагалось бы жене молодого и многообещающего научного деятеля, — все это осталось при мне. Быть может, этим отчасти объяснялось то, что Ланселот был таким невезучим. Будь у него другая жена, он светил бы по крайней мере ее отраженным светом.
Понял ли он это в конце концов? И не потому ли он охладел ко мне после первых счастливых лет нашего брака? От этой мысли мне частенько становилось не по себе, и я осыпала себя упреками.
Но иногда я думаю, что виной всему было его тщеславие — тщеславие, которое терзало Ланселота тем сильнее, чем меньше он мог его утолить. Он уволился с факультета и выстроил собственную лабораторию далеко за городом. Говорил что хочет наслаждаться чистым воздухом подальше от людей.
Денежный вопрос его не тревожил. На физику правительство средств не жалело, поэтому он всегда мог получить столько, сколько нужно. Вдобавок он без всякой меры расходовал наши собственные сбережения.
Я пыталась его урезонить. «Послушай, Ланселот, — говорила я. — Мы же, в конце концов, не нуждаемся. Никто тебя не гонит из университета. К чему все это? Дети и спокойная жизнь — вот все, что мне нужно».
Но его словно ослепил огонь честолюбия, пожиравший его. В ответ он злобно огрызался: «Есть кое-что поважнее! Меня должны признать! Должны же они наконец понять, кто я такой. Я… я — великий исследователь!»
Тогда он еще не решался назвать себя гением.
И что же? Ему по-прежнему не везло. В лаборатории кипела работа. За бешеные деньги он нанял наилучших помощников. Сам трудился как вол. А толку никакого.
Я еще надеялась, что он все же опомнится и мы вернемся в город и заживем тихо и мирно. Не тут-то было. Едва оправившись от очередного поражения, он снова рвался в бой — штурмовать бастионы славы. Каждый раз он загорался новой надеждой, и каждый раз судьба швыряла его в грязь.
Вот тогда он вспоминал о моем существовании. Свои обиды он вымещал на мне. Я не очень отважная женщина, но и мне в конце концов стало ясно, что мы должны расстаться.
Должны, но…
В этот последний год Ланселот готовился к новому сражению. К последнему — я это поняла. В нем появилось нечто новое, незнакомое мне, — какая-то судорожная напряженность. Иногда он говорил сам с собой, ни с того ни с сего смеялся коротким смешком. Целыми днями не брал в рот ни крошки, не спал по ночам. Дошло до того, что он стал прятать на ночь в нашей спальне лабораторные журналы, словно боялся, что его ограбят собственные сотрудники.
Я-то была уверена, что и эта затея обречена на провал. Но теперь он был уже в том возрасте, когда человек должен понять, что это его последняя ставка. Ну что ж, пускай попытает счастья. Расшибет себе в последний раз лоб и бросит все к черту. Я набралась терпения и стала ждать.
Тут как раз и произошла эта история с некрологом, который он прочитал в газете. Я забыла сказать, что однажды у нас уже был подобный случай. Тогда я не выдержала и брякнула ему что-то вроде того, что, мол, на худой конец его похвалят в его собственном некрологе.
Я, конечно, понимаю, что это не очень-то остроумно. Но тогда мне хотелось отвлечь его, помешать ему утонуть в ощущении полной безысходности, которое делало его совершенно невыносимым. А может быть, я, сама того не понимая, затаила на него злобу. Честно говоря, не знаю.
Как бы то ни было, услышав мои слова, он весь перекосился. Колючие брови нависли над его глубоко запавшими глазами; резко повернувшись ко мне, он взвизгнул пронзительным фальцетом:
— Но я-то ведь не смогу прочесть свой некролог! Я даже этого лишен!
И он плюнул. Плюнул мне в лицо. Я выбежала в свою комнату.
Он так и не извинился; несколько дней подряд я старалась с ним не встречаться, потом мало-помалу взаимоотношения восстановились, такие же безрадостные, как и прежде. Никто из нас больше не вспоминал об этом инциденте. И вдруг — опять некролог, и тут мне стало ясно, что это — последняя капля, что в цепи его неудач наступила некая кульминация.
Кризис приближался, я это чувствовала и не знала, бояться мне или радоваться. Пожалуй, все-таки надо было радоваться. Терять было нечего: любая перемена могла быть только к лучшему.
Перед ленчем он вошел ко мне в комнату, где я сидела за каким-то рукоделием — лишь бы чем-нибудь заняться — и следила краешком глаза за телевизором, опять-таки с единственной целью занять чем-нибудь свой мозг.
Он выпалил:
— Ты должна мне помочь.
Прошло уже лет двадцать, если не больше, с тех пор как он в последний раз обращался ко мне с подобной просьбой — и сердце у меня сжалось. Я увидела, что он возбужден до крайности. На его щеках, всегда бледных, выступила краска. Я пролепетала:
— Охотно, если только смогу…
— Сможешь. Я отправил моих помощников на месяц в отпуск. С субботы их не будет. Будем работать в лаборатории вдвоем. Имей это в виду, чтобы в следующую неделю ничем другим не заниматься.
— Но… Ланселот, — я была в полном замешательстве, — как же я помогу тебе, ведь я ничего не понимаю в этом.
— Знаю, — сказал он презрительно, — тебе и не нужно понимать. Будешь выполнять то, что я тебе скажу, вот и все. Я, видишь ли… кое-что открыл… и это даст мне возможность…
— Ох, Ланселот! — вырвалось у меня. Сколько раз я уже это слышала.
— Слушай меня, дурья башка, и попытайся хоть раз вести себя как взрослый человек. Да, открыл. Но на этот раз меня уже никто не обскачет, потому что идея моего открытия превосходит всякое воображение. Во всем мире ни один физик, будь он даже семи пядей во лбу, никогда не сможет выдумать ничего подобного. Для этого нужно, чтобы сменилось по крайней мере одно поколение… Словом, если мир узнает о моих работах, меня должны признать величайшим ученым всех времен.
— Я очень рада, поздравляю тебя, Ланселот.
— Должны я сказал. Могут и не признать. В научном мире заслуги распределяются достаточно несправедливо, я испытал это на собственной шкуре… Но только теперь я уже не буду таким дураком, дудки! Я попридержу открытие. А то, глядишь, кто-нибудь подключится. И кончится тем, что мое имя будет плесневеть в каком-нибудь паршивом учебнике по истории науки, а настоящая слава достанется всем этим молодым да ранним.
Он больше не мог сдерживаться. Его буквально распирало. И теперь, когда до осуществления его замысла оставалось всего три дня, он решил, что перед таким ничтожеством, как я, он может открыться без всяких опасений.
Он продолжал:
— Я подам свое открытие так, что все человечество ахнет. Уж тогда никому не придет в голову упоминать о других — все будут говорить только обо мне.
Это уж было слишком. Я перепугалась: а вдруг его ждет новое разочарование? Ведь тогда он окончательно лишится рассудка.
— Дорогой, — сказала я, — к чему такая спешка? Давай немного подождем. Ты слишком много работал, передохни. Возьми отпуск. Мы могли бы съездить в Европу. Кстати, я давно собиралась…
Он топнул ногой.
— Да прекратишь ли ты наконец свою идиотскую болтовню?! В субботу пойдешь со мной в лабораторию. Ясно?
Все эти три ночи я почти не смыкала глаз. Он еще никогда не был таким, не было в нем такого ожесточения. Может, он и вправду спятил? Что он задумал? Чего доброго, поставит на мне какой-нибудь безумный эксперимент. Или просто укокошит меня.
О чем я только не передумала в эти беспросветные, полные ужаса ночи. Хотела звать полицию, хотела убежать, словом, сама не знаю что.
Но приходил рассвет, и я успокаивалась. Нет, он не был сумасшедшим и не был способен на насилие. Даже когда он плюнул в меня — то был в сущности чисто символический акт. И вообще он никогда не осмеливался поднять на меня руку.
И я снова ждала. Наступила суббота. И я покорно, как на заклание, двинулась навстречу неизвестности. Вдвоем мы молча шагали по тропинке, ведущей от дома к лаборатории.
Один вид этой лаборатории вселил в меня ужас. Когда мы приблизились к ней, у меня стали подкашиваться ноги, но Ланселот, заметив мое смятение, буркнул: «Да перестань ты озираться, никто тебя не тронет. Твое дело — выполнять мои указания и смотреть, куда я скажу».
— Да, милый…
На дверях висел замок. От отомкнул его, и мы оказались в тесной комнатке, сплошь заставленной диковинными приборами, от которых во все стороны тянулись провода.
— Ну-с, начнем, — сказал он. — Видишь вон тот стальной тигель?
— Да, милый. — Это был высокий и узкий сосуд с толстыми стенками, кое-где покрытыми ржавчиной. Сверху на него была наброшена проволочная сетка.
Муж подвел меня к тиглю, и я увидела, что там сидит белая мышка. Передними лапками она упиралась в стенку, пытаясь просунуть мордочку сквозь петли проволочной сетки, и мелко дрожала — не то от страха, не то от любопытства.
Я отшатнулась. Все-таки это неприятно — неожиданно увидеть мышь.
Ланселот проворчал:
— Да не укусит она тебя… Ладно, теперь отойди и следи за мной.
Все мои страхи вернулись ко мне. В ужасе я ждала, что вот сейчас вылезет откуда-нибудь стальное чудовище и раздавит меня или ударит молния и превратит меня в кучку пепла… Я зажмурилась.
Но ничего особенного не произошло, по крайней мере со мной. Что-то зашипело, как будто пытались разжечь отсыревшую хлопушку, потом я услышала голос Ланселота: «Эй, проснись».
Я открыла глаза. Ланселот смотрел на меня. Он сиял.
— Ну как?
Ничего не понимая, я беспомощно озиралась вокруг.
— Дурочка. — сказал он. — Это же прямо перед твоим носом.
Тут я только заметила, что рядом с тиглем стоит другой, точно такой же. Раньше его тут не было.
— Ты имеешь в виду второй тигель? — спросила я.
— Это вовсе не второй, это двойник первого. Абсолютная копия, вплоть до последнего атома. Посмотри внимательно. Даже пятна ржавчины одни и те же.
— Ты сделал из одного два?
— Ну да. Только совершенно необычным способом. Видишь ли, чтобы создать заново материю, нужно затратить колоссальное количество энергии. Например, если ты хочешь удвоить один грамм вещества, то даже при самой совершенной технологии тебе придется полностью расщепить не менее ста граммов урана. Так вот, я открыл, что можно создавать материю с ничтожной затратой энергии, надо только уметь ее приложить. А для этого нужно удваивать объект не в настоящем времени, а в будущем, в какой-либо его точке. Весь фокус, моя… э… моя дорогая, состоит в том, что, создав такой дубликат и перенеся его из будущего в настоящее, я тем самым получаю эффект передвижения во времени!
Можете представить себе, насколько велико было его воодушевление, если, обращаясь ко мне, он употребил столь прочувствованный эпитет.
— Да, это замечательно. — Я действительно была потрясена. — Скажи мне, а… мышка тоже вернулась?
На сей раз ответа не последовало. Я заглянула во второй тигель. И тут меня словно толкнули кулаком в грудь. Мышь лежала на своем месте. Но она была мертва.
Ланселот слегка покраснел.
— Тут у меня осечка, — пробормотал он. — Понимаешь, я могу возвращать назад живую материю, но она почему-то оказывается мертвой.
— Какая досада! Почему?
— Пока неизвестно. Я убежден, что объект копируется совершенно точно, с сохранением всей микроструктуры. Это подтверждено при вскрытиях.
— Но ты бы мог спросить у… — Я осеклась. Он метнул в меня недобрый взгляд. Черт меня дернул заикнуться об этом. Я же знала: стоит ему пригласить себе кого-нибудь в помощники, и слава непременно достанется другому.
Он проговорил с горькой усмешкой:
— Да что там, я уже спрашивал. Моих мышек вскрывал опытный биолог. Он ничего не нашел. Разумеется, никто не знает, откуда взялись эти животные. Я постарался своевременно изъять материал… А то еще возникнут какие-нибудь подозрения. Господи! — воскликнул он. — Ведь даже мои ассистенты ни о чем не подозревают!
— Но зачем тебе понадобилось держать все это в такой тайне?
— Зачем? Затем, что я не могу вернуть мышей живыми. Видимо, происходит какой-то ничтожный молекулярный сдвиг. Так вот, если я сейчас опубликую свои результаты, то найдется кто-нибудь другой, кто придумает способ предупредить этот сдвиг. Чуточку усовершенствует мое открытие, но зато ему удастся вернуть живого человека, который доставит информацию о будущем. И слава опять от меня уплывет!
Он был прав. У него наверняка нашлись бы последователи. И тогда моему муженьку уже нечего было бы рассчитывать на признание; не помогли бы никакие заслуги. Это уж точно.
— М-да, — пробормотал он, обращаясь скорее к самому себе, чем ко мне, — и тем не менее я не могу больше ждать. Это дело надо обнародовать — но так, чтобы изобретение навсегда было связано с моим именем. Понимаешь, тут нужна сенсация. Любое упоминание о путешествиях во времени должно вызывать в памяти у людей мое имя, кто бы потом ни работал над этим открытием. Так вот, я… подготовил такую сенсацию. Ты тоже должна в ней участвовать.
— Я? Но в качестве кого?
— В качестве моей вдовы.
— Ланселот! — Я схватила его за руку. — О Боже… Что ты задумал?
Он холодно отстранился.
— Успокойся. Я не собираюсь убивать себя. Побуду три дня в будущем и вернусь.
— Но ты же умрешь!
— Умру не я, умрет мой двойник. Мое подлинное «я» будет жить, как и прежде. Как вот та мышь.
Он взглянул на часы:
— Ага. Вот. Осталось три секунды. Следи за вторым тиглем.
Тут снова раздался шипящий звук, и на моих глазах контейнер с мертвой мышью исчез, как будто его не было.
— Куда он делся?
— Никуда, — сказал Ланселот. — Это же копия. Мы создали ее в определенной точке будущего, теперь этот момент настал, и она преспокойно закончила свое существование. А первая мышь, которая служила оригиналом, жива и здорова. То же самое произойдет и со мной. Моя копия вернется мертвой. Оригинал, то есть я сам, будет продолжать жить. Потом пройдет три дня, наступит нулевой момент, и моя мертвая копия исчезнет, а оригинал как жил, так и будет жить. Неужели не понятно?
— Понятно. Но все-таки рискованно.
— Да с чего ты взяла? Ты только представь себе: находят мой труп, врач подтверждает, что я умер. О моей смерти объявляют в газетах, готовится панихида и все такое. Вдруг я появляюсь, живой и невредимый, и рассказываю обо всем! После такого дела я уже буду не просто физиком, который открыл способ передвигаться во времени. Я буду человеком, который воскрес из мертвых! Обо мне заговорит весь мир. Ланселот Стеббинз и путешествия во времени — эти понятия станут неотделимы друг от друга. Никто не посмеет их разъединить.
— Ланселот, — сказала я тихо. — Но почему, почему мы не можем просто объявить о твоем открытии? Зачем эти сложности? Ты и так станешь знаменит, и тогда… мы смогли бы переехать в город…
— Замолчи! И делай что тебе говорят.
Не знаю, когда он успел придумать весь этот план и какую роль сыграл для него тот газетный некролог, но я определенно недооценила умственные способности моего мужа. Хотя он и был феноменальным неудачником, в изобретательности ему нельзя было отказать.
Своим сотрудникам он предусмотрительно сообщил, что намерен в их отсутствие провести кое-какие химические эксперименты. Сотрудники должны были подтвердить, что он действительно работал с цианистыми солями и, по всей видимости, отравился.
— Ты подскажешь полиции, чтобы она немедленно связалась с моими ассистентами. Где их найти, ты знаешь. Мне не нужно ни убийства, ни самоубийства — никаких подозрений на что-либо такое. Несчастный случай, вот и все. Самый обыкновенный, законный несчастный случай. Как можно скорее получить врачебное свидетельство о смерти и распубликовать в газетах.
— Слушай, — сказала я, — а что, если они отыщут тебя живого?
— Чепуха! Если найден труп, кому, черт возьми, придет в голову искать живого человека? Я спокойненько буду сидеть в той комнате. Возьму с собой запас бутербродов… и уборная там рядом.
Он вздохнул:
— Вот только как быть с моим кофе? Чего доброго, еще потянет запахом из комнаты. Ну да ладно: три дня как-нибудь перебьюсь. Посижу на хлебе и воде.
Я слушала его, тщетно пытаясь унять нервную дрожь, которая била меня.
— Ну а если все-таки тебя найдут? Знаешь, это ведь тоже неплохо: сразу два человека — живой и мертвый.
Я старалась подготовить и себя. К его неизбежной, как мне казалось, неудаче. Он заорал:
— Нет, плохо! Получится дешевый фарс. А я не собираюсь прославиться в качестве героя анекдотов.
— Мало ли что может случиться, — осторожно заметила я.
— Только не со мной!
— Ты всегда так говоришь. А потом…
Ланселот побелел от ярости. Зрачки его вонзились в меня. Он схватил меня за локоть и сжал с такой силой, что я чуть не закричала.
— Это ты, ты все можешь напортить! — прохрипел он. — Только посмей! Если ты не будешь вести себя как надо, то я… я… — он искал и не мог найти для меня подходящую казнь, — я уничтожу тебя!
Охваченная ужасом, я старалась высвободиться, но безуспешно. Гнев придал этому тщедушному человеку чудовищную силу.
— Слушай, ты! — проговорил он наконец. — Ты всегда приносила мне несчастье. Но я сам виноват: не надо было на тебе жениться. Это раз. А во-вторых, надо было с тобой развестись. Времени все не было… Но теперь — теперь я стою на пороге небывалого успеха. Вопреки тебе! И клянусь тебе, если и на этот раз испортишь мне всю музыку, я тебя убью. Ты поняла? Убью. В буквальном смысле слова.
Я не сомневалась, что он так и сделает. Я пролепетала:
— Хорошо.
Тогда он отпустил меня.
Весь следующий день он копался в своих аппаратах.
— Никогда не приходилось транспортировать больше ста граммов живности, — рассеянно пояснил он.
Я подумала: «Сорвется. Непременно что-нибудь выйдет не так».
На следующее утро все было готово. Он отрегулировал приборы так, что мне оставалось только нажать на рычажок. После этого он заставил меня бессчетное число раз включать и выключать рычажок вхолостую, без тока.
— Ну что, — повторял он, — ясно тебе, что надо сделать?
— Да, да.
— Включай, как только загорится лампочка. Не раньше! «Господи, что-нибудь сломается», — думала я.
— Да, — сказала я вслух.
Ланселот, в резиновом фартуке поверх рабочей блузы, занял свое место. Он стоял как каменный. Наступило молчание.
Вспыхнула лампочка, и… помня его уроки, я нажала на рычажок, не успев даже подумать о том, что я делаю. Секундой позже передо мной стояли плечом к плечу два Ланселота, похожие друг на друга как две капли воды, только второй был чуточку взъерошен. Вдруг этот второй обмяк и повалился.
— Браво! — воскликнул живой Ланселот, выходя из квадрата, который был нарисован на полу. — Теперь помоги мне. Бери его за ноги.
Я подивилась его выдержке. Увидеть свой собственный труп, свое безжизненное тело, приехавшее из послепослезавтрашнего дня! А он и глазом не моргнул. Подхватил его под мышки, как будто взялся за мешок с картофелем.
Я ухватилась за обе щиколотки. Меня мутило. Труп был еще теплый. Мы проволокли его по коридору, втащили на лестницу, наконец добрались до комнаты. Там уже было все приготовлено. В причудливо изогнутой реторте булькал раствор, вокруг громоздилось химическое оборудование.
Словом, это был образцовый рабочий беспорядок, без сомнения, тщательно продуманный. На столе среди прочих реактивов бросалась в глаза склянка с крупной надписью «Цианистый калий». Вокруг были разбросаны кристаллы яда.
Ланселот расположил труп так, чтобы сразу стало ясно, что человек упал со стула. Насыпал ему цианистого калия на фартук, на левую ладонь, несколько кристалликов пристроил на подбородке.
«Сразу поймут», — пробормотал он.
Напоследок он окинул комнату критическим взглядом.
— Ну, кажется, все. Иди домой и звони врачу. Будешь давать объяснения, говори, что я засиделся в лаборатории и ты понесла мне бутерброды. Пришла и…
Он указал на бутерброды, валявшиеся на полу, и разбитую тарелку, которую я будто бы уронила.
— Теперь выдай слезу. Только не переборщи.
В нужный момент я расплакалась — это было нетрудно, ведь все эти дни я была на грани истерики. Теперь все это выплеснулось наружу.
Врач повел себя точно так, как предсказал Ланселот. Моментально засек банку с цианистым калием. Нахмурившись, процедил:
— Ай-яй-яй! Какая неосторожность!
— И зачем только я позволила ему работать одному, — говорила я, глотая слезы. — Взял и отпустил всех помощников в отпуск.
— Когда с цианидами обращаются как с поваренной солью, это всегда кончается плохо. — Доктор сокрушенно покачал головой с менторским видом. — Не обижайтесь, миссис Стеббинз, но я вынужден вызвать полицию. Без сомнения, это несчастный случай, но любая насильственная смерть требует полицейского дознания…
— Да-да, конечно, вызовите их, — подхватила я. И тут же прикусила язык: такая поспешность могла показаться подозрительной.
Явилась полиция. Судебный эксперт, увидев на руке и на подбородке у трупа кристаллы яда, что-то брезгливо промычал. На всю эту компанию случившееся не произвело ни малейшего впечатления. Они записали фамилию, имя, возраст. Осведомились, намерена ли я похоронить покойного за свой счет. Я ответила «да», и они укатили.
После этого я стала звонить в редакции газет, связалась с двумя агентствами печати и попросила их, если они будут ссылаться в своих публикациях на полицейский протокол, не особенно нажимать на то, что муж оказался неумелым химиком. Я сказала это тоном убитой горем супруги, которая не хочет, чтобы на репутацию покойного легла какая бы то ни было тень. К тому же он и не химик, добавила я. Его специальность — ядерная физика. И тут я очень удачно ввернула, что у меня давно было предчувствие, будто ему грозит беда.
Говоря так, я в точности следовала инструкциям Ланселота. Сработало великолепно: они сейчас же на это клюнули. Несчастный случай с физиком-атомщиком. Что это — шпионы? Рука Москвы?
Началось нашествие репортеров. Я вынесла им портрет Ланселота в молодости, водила их по лаборатории. Фотоаппараты щелкали не смолкая. Но никто почему-то не спросил, что находится в комнатке, запертой на замок. Должно быть, ее просто не заметили.
Я снабдила их богатым материалом о жизненном пути и научном творчестве покойного. Вспомнила несколько забавных случаев, которые должны были показать, что великий ученый в жизни был простым и скромным человеком. Все это Ланселот заготовил заранее. Я старалась как могла, но тайная тревога не покидала меня. Вот сейчас, думала я, что-нибудь сорвется. Какая-нибудь мелочь нас выдаст. И виноватой окажусь я. Что тогда со мной будет? Ведь он обещал меня убить.
Утром я принесла ему газеты. Ланселот набросился на них с алчным блеском в глазах. «Нью-Йорк таймс» отвела ему целую колонку в углу на первой полосе. «Таймс» не слишком старалась заинтриговать читателей его кончиной; в таком же духе откликнулась «Афтернун пост». Зато какая-то бульварная газетка тиснула огромную шапку через всю страницу: «ТАИНСТВЕННАЯ СМЕРТЬ УЧЕНОГО-АТОМЩИКА».
Он залился счастливым смехом. Пробежал все от начала до конца, потом стал перечитывать. Потом сказал:
— Не уходи. Послушай, что они пишут.
— Да я уже читала.
Он принялся читать вслух, не спеша, смакуя похвалы по своему адресу.
— Ну что? — сказал он, когда все газеты были прочитаны. — Скажешь, опять что-нибудь не выйдет?
Я проговорила неуверенно:
— А что, если полиция вернется и начнет выпытывать, что значат эти слова: «грозит беда»?
— Отделайся намеками. Скажи, что тебе приснился дурной сон. А там пускай себе занимаются расследованием — время-то пройдет.
Действительно, пока все шло как по маслу. И, однако, я все еще чего-то боялась. Боялась надеяться. Человек — странное существо: вот тогда, когда никакой надежды не может быть, тогда он надеется.
Я пробормотала:
— Скажи мне, Ланселот, если все кончится хорошо… и ты станешь знаменитым… мы ведь сможем тогда отдохнуть? Вернемся в город и заживем спокойно, а?
— Идиотка! Неужели ты не понимаешь, что, когда меня признают, я просто обязан буду продолжать свое дело! Ко мне повалит молодежь. Моя лаборатория превратится в грандиозный научно-исследовательский Институт Времени. Я стану легендарной личностью. Величайшие умы покажутся пигмеями рядом со мной…
Выпятив грудь, Ланселот уставился в пустоту сверкающим взором. Он даже привстал на цыпочки. Казалось, он уже видит перед собой мраморный пьедестал, на который его вознесут восхищенные современники.
Я вздохнула. Рушились мои последние надежды на крошечный клочок простого человеческого счастья.
Я потребовала от агента похоронного бюро оставить гроб с телом Ланселота в лаборатории, с тем чтобы потом перевезти его прямо на Лонг-Айленд, в фамильный склеп семьи Стеббинзов. Отказалась от бальзамирования, мотивировав это тем, что буду держать его в большой холодильной камере, где температура около нуля.
Я заявила, что хочу провести эти последние часы возле мужа, что должны еще приехать его сотрудники, но все это прозвучало, по-моему, неубедительно. На лице агента изобразилось холодное неодобрение. Но таковы были инструкции, данные мне Ланселотом.
Когда тело Ланселота, парадно убранное, в открытом гробу было выставлено на видном месте, я пошла навестить живого Ланселота.
— Знаешь, — сказала я, — похоронный агент недоволен. Он явно что-то подозревает.
— Ну и черт с ним, — благодушно отозвался Ланселот.
— Да, но…
— Пусть себе подозревает на здоровье. Что ты волнуешься? Осталось ждать всего один день. За это время ничего не изменится. А завтра утром тело исчезнет… то есть должно исчезнуть.
— Ты думаешь, оно может и не исчезнуть? Так я и знала. Так и знала!
— Ну, мало ли что. Может произойти небольшая задержка… или наоборот, чуть раньше. Мне ведь еще не приходилось перемещать такие массивные объекты, и я не совсем уверен, насколько точны в этом отношении мои формулы. Поэтому я и решил оставить тело здесь.
— Напрасно. В морге оно по крайней мере исчезло бы при свидетелях.
— А здесь, ты думаешь, могут заподозрить обман?
— Конечно.
Эта мысль его развеселила.
— Ну еще бы! Начнут говорить: зачем он отослал ассистентов? Куда потом девался труп? И вообще, как это он умудрился отравиться, ставя какие-то детские опыты? Вся эта история с путешествием во времени — сплошная липа. Он, скажут, принял какую-то гадость, впал в бесчувственное состояние, а врачи решили, что он умер.
— Ну да, — сказала я убитым голосом. Как мгновенно он все сообразил!
— А потом, — продолжал он, — когда я буду настаивать, что я все-таки на самом деле совершил это путешествие и одновременно был и живым и мертвым, корифеи науки предадут меня анафеме. Я буду всенародно разоблачен как низкий обманщик и за одну неделю стану притчей во языцех. Поднимется шум во всем мире. И вот тогда… тогда я предложу публичную демонстрацию опыта в присутствии любой компетентной комиссии. Я потребую, чтобы путешествие во времени транслировалось по международному телевидению! Ну конечно, общественность настоит на том, чтобы опыт состоялся. Телевизионные кампании тоже пойдут навстречу. Им-то наплевать, что увидят зрители — чудо, которое я совершу, или мой позорный крах. Главное, чтоб было интересно. В зрителях недостатка не будет. И вот тут-то я ударю всем по мозгам.
На какой-то миг вся эта феерия меня ослепила. Но сейчас же внутренний голос осадил меня: слишком длинный путь, слишком сложно. Не может быть, чтобы не сорвалось.
Вечером приехали два сотрудника моего мужа. Оба старались придать своим лицам выражение подобающей скорби. Ну что ж, вот и еще два свидетеля, которые подтвердят, что видели Ланселота мертвым. Еще два соучастника всей этой путаницы, которая приведет события к неслыханной кульминации.
С четырех часов ночи мы оба, в шубах, сидели в холодильной камере, ожидая, когда наступит нулевое время. Ланселот дрожащими руками что-то подкручивал в своих приборах. Портативная вычислительная машина не выключалась ни на минуту. Уму непостижимо, как ему удавалось набирать цифры окоченевшими пальцами.
Я чувствовала себя совершенно разбитой. Холодно. Рядом в гробу — мертвое тело, и полнейшая неизвестность впереди.
Прошла целая вечность, а мы все еще сидели и ждали. Наконец Ланселот произнес:
— Ну вот, все в порядке. Исчезнет, как я и рассчитывал. В крайнем случае опоздает минут на пять — для массы в семьдесят килограммов это совсем неплохая степень точности. Все-таки мой анализ хронодинамических преобразований великолепен! — Он подмигнул мне, а потом так же бодро подмигнул своему трупу.
Я заметила, что его блуза сильно помялась. Он не снимал ее все три дня — видимо, и спал в ней — и она стала такой же изжеванной, как на втором Ланселоте в момент его появления.
Ланселот словно угадал мои мысли. Поймав мой взгляд, он перевел глаза на свою блузу.
— Гм, надо бы надеть фартук. Этот второй тоже был в нем.
— Может, не стоит его надевать? — голос мой прозвучал без всякого выражения.
— Нет, надо. Нужна какая-нибудь характерная деталь. Иначе не будет уверенности в том, что это один и тот же человек. — Он пристально поглядел на меня: — А ты по-прежнему считаешь, что произойдет осечка?
Я с трудом выдавила из себя:
— Не знаю.
— Ты, может быть, думаешь, что исчезнет не труп, а я? Я молчала, и голос его сорвался на крик:
— Ты что же, не видишь, что счастье мне улыбается? Не видишь, что все получается как по нотам! Еще немного — и я стану самым великим из всех людей на земле!.. Лучше вскипяти мне воду для кофе, — сказал он, неожиданно успокоившись. — Скоро мой покойничек испарится, а я воскресну. Надо отпраздновать это событие.
Он подтолкнул ко мне банку с растворимым кофе — после трехдневного ожидания годился и этот.
Я стала возиться с плиткой; залубеневшие пальцы не слушались меня. Он оттолкнул меня и сам поставил на плитку колбу с водой.
— Подождем еще немного, — проговорил он, переключив тумблер на отметку «макс». Кинул взгляд на часы, затем уставился на приборы. — Пожалуй, не успеет закипеть. Сейчас он исчезнет. Иди сюда.
Он встал рядом с гробом. Я медлила.
— Иди! — приказал он. Я подошла.
С неописуемым наслаждением он смотрел туда, на самого себя. Мы оба не отрывали глаз от трупа.
Послышался знакомый звук, и Ланселот крикнул:
— Минута в минуту!
В одно мгновение мертвое тело пропало. В гробу лежал пустой костюм. Одежда на двойнике была, естественно, не та, в которой он появился. Поэтому она осталась. Брюки, пиджак, под пиджаком рубашка, новый галстук. Туфли опрокинулись, из них торчали носки. А самого человека не было.
Я услышала бульканье. Это кипела вода.
— Кофе, — сказал Ланселот. — Скорее кофе! Потом вызовем полицию и газетчиков.
Я приготовила кофе ему и себе. Зачерпнула для него из сахарницы обязательную чайную ложку — полную, но без верха — ни больше и ни меньше. То было железное правило — даже теперь, когда в этом не было никакого смысла, привычка была сильнее всего.
Лично я пью кофе без сахара. Таков мой обычай. Я сделала глоток. Отрадная теплота разлилась по всему моему телу.
Ланселот взял в руки чашку.
— Ну вот, — тихо произнес он. — Я наконец дождался. — И он поднес к губам эту чашку с какой-то скорбной торжественностью.
Это были его последние слова.
Когда все кончилось, меня охватило какое-то безумие. Я стащила с него одежду и вместо нее напялила то, что лежало в гробу. Как мне удалось поднять его с пола и уложить в гроб, до сих пор не могу понять. Его руки я сложила на груди, как было у того, исчезнувшего.
Потом я долго и старательно смывала все следы кофе в раковине и тщательно полоскала сахарницу. Я мыла ее и чашку до тех пор, пока в них не могло остаться и намека на цианистый калий, который я всыпала вместо сахара.
Его рабочую блузу и все остальное я отнесла в мусорный ящик. Раньше я выбросила туда точно такую же одежду двойника, но теперь, естественно, ее там уже не было.
Под вечер, когда труп моего мужа вполне остыл, я вызвала агентов похоронного бюро. Они, разумеется, не удивились. Да и чему было удивляться? Мертвец как был, так и остался. Абсолютно тот же самый, даже с цианистым калием в желудке, как и предполагалось.
Они заколотили гроб и увезли его. А потом Ланселота зарыли.
Но ведь, строго говоря, в момент, когда я его отравила, Ланселот официально уже был мертв. Так что я не уверена, можно ли это считать убийством. Естественно, я не собираюсь консультироваться по этому поводу с юристом.
Теперь я обрела желанный покой. Я довольна своей жизнью. Денег у меня достаточно. Хожу в театр. Принимаю друзей.
Совесть меня не мучает.
Я убеждена, что Ланселоту никогда не удалось бы добиться признания. Когда-нибудь передвижение во времени будет открыто заново, но память о Ланселоте Стеббинзе навсегда исчезнет во мраке забвения. Ведь я же говорила ему, что все его проекты обречены на провал: он не дождется славы. Если бы я не покончила с ним, что-нибудь обязательно вышло бы не так, и тогда он убил бы меня. Нет, я ничуть не раскаиваюсь.
По правде говоря, я все ему простила. Все — кроме того, что он плюнул в меня. Но какая ирония судьбы! Прежде чем умереть, он получил от нее дар, какой редко достается людям, и был счастлив.
Вопреки тому, что он кричал мне тогда, прежде чем плюнуть, — Ланселот смог прочесть свой собственный некролог.
перевод Г. ФайбусовичаХеллоуин
Сандерсон выглядел встревоженным и хмурым.
— Это ошибка с нашей стороны. Мы настолько ему доверяли, что даже не присматривали. Человеческая ошибка. — Он покачал головой.
— Но что к этому побудило?
— Идеология, — сказал Сандерсон. — Он берет работу только для того, чтобы ее сделать. Мы знаем, потому что он оставил записку, что не может переубедить нас. Он был одним из тех, кто утверждает, что расщепление ядра смертельно опасно и, в конце концов, приведет к успешной краже плутония, производству бомб в домашних условиях, ядерному терроризму и шантажу.
— Я полагаю, он не молчал?
— Да, он широко ставил об этом в известность всех, стараясь возбудить общественное мнение.
— Насколько опасен похищенный им плутоний? — спросил Хейлис.
— Не совсем опасен. Количество его невелико. Чемодан можно держать в руках и не подозревать, что внутри идет расщепление ядра. Он предназначен для других целей. Уверяю вас, вещества там недостаточно для создания бомбы.
— А может возникнуть опасность для владельца?
— Никакой, если не открывать чемодан. Конечно, если вынуть содержимое, при определенных обстоятельствах возникнет угроза для того, кто соприкасался с плутонием.
— Я вижу, общественность тревожится не напрасно, — заметил Хейлис.
Сандерсон нахмурился.
— Это ничего не доказывает. Впредь таких промашек не повториться, к тому же эта система тревоги, во всяком случае, сработала. Если бы он не ухитрился забраться в этот отель, и если бы мы не боялись переполошить там людей…
— Почему вы сразу не известили Бюро?
— Если бы нам удалось заполучить его самим… — пробормотал Сандерсон.
— Тогда все было бы шито-крыто, даже от Бюро. Оплошность, и только.
— Ну…
— Хорошо, что поставили нас в известность теперь, когда он умер. Отсюда я делаю вывод, что плутония вы не нашли, не так ли?
Сандерсон опустил глаза, избегая ровного, внимательного взгляда Хейлиса.
— Да, — признался он и добавил, обороняясь: — Мы не могли действовать слишком открыто. Здесь тысячи людей, если бы пошли слухи, что это как-то связанно со станцией…
— Тогда вы погибли, даже если вернете плутоний. Я понимаю. Сколько он здесь находится? — Хейлис посмотрел на часы. — Сейчас три пятьдесят семь.
— Весь день. Мы не успели взять его на лестнице: он перепрыгнул через перила и разбился.
— Но плутония при нем не оказалось. Кстати, откуда вы знаете, что он пронес его в отель?
— Видели. Один из наших сотрудников держал его чуть ли не на мушке.
— Значит, несколько часов он скрывался от вас в этом отеле и мог спрятать небольшой чемодан где угодно на двадцати девяти этажах, по девяносто номеров на каждом, или коридорах, подсобках, конторах, в подвале, на крыше в конце концов? И теперь мы должны вернуть его назад. Мы не можем позволить плутонию болтаться по городу, столь бы мало его ни было. Правильно?
— Да, — с несчастным видом кивнул Сандерсон.
— Конечно, можно отправить пару сотен человек обыскать отель дюйм за дюймом, и в конце концов чемодан найдут.
— Но мы не можем пойти на это, — сказал Сандерсон. — Как мы все объясним?
— Есть еще одна возможность, — заметил Хейлис. — Его слова. Как он сказал — Хэллоуин?
Сандерсон кивнул.
— Несколько секунд он был в сознании, прежде чем умер. Мы спрашивали его, где плутоний, и он сказал «Хэллоуин».
Хейлис глубоко вздохнул и медленно произнес:
— И это все, что он сказал?
— Все. Его слова слышали три человека.
— И вы точно слышали — Хэллоуин? Он не сказал что-нибудь другое?
— Нет Хэллоуин. Тут мы единодушны.
— Это слово не имеет какое-нибудь значение для вас? Ну… Проект «Хэллоуин» на станции? Может быть, его использовали для какого-нибудь обозначения?
— Нет-нет, ничего подобного.
— Как вы думаете, может быть, он пытался сказать, где спрятал плутоний?
— Мы не знаем, — в панике бросил Сандерсон. — Глаза его уже не видели, говорил он тихим шепотом. Мы даже не уверены, слышал ли он наши вопросы.
Хейлис с минуту молчал.
— Да. Вполне возможно, это был ускользающий обрывок детских воспоминаний праздника. Он укрылся в отеле, чтобы заставить вас зайти как можно дальше и чтобы потом обо всем этом раструбили газеты. Это могло иметь для него какое-то значение…
Сандерсон передернул плечами. Хейлис продолжал размышлять вслух:
— Хллоуин — день, когда в мир выходят злые силы, и он, наверное, считал, что сражается против них.
— Мы не злые силы, — запротестовал Сандерсон.
— Но он так считал наверняка и не хотел, чтобы его поймали и нашли плутоний. Потому-то он его и спрятал. В любом номере имеются пустые укромные уголки. Во всех номерах днем меняют белье и полотенца, и когда это происходит, дверь открыта. Он вошел, шагнул — один — единственный раз — и поставил чемодан туда, где его сразу не увидишь. Позже он хотел вернуться туда и забрать его, а если и поймают, ящик все равно заметил бы кто-нибудь из постояльцев или персонала, отнес бы в правление и там бы его вскрыли.
— Но какой номер? — с тоской протянул Сандерсон.
— Мы обыщем один номер, — ответил Хейлис, — и если это не сработает, придется обыскивать весь отель.
И он вышел.
Полчаса спустя Хейлис вернулся. Тело убрали, но Сандерсон все еще находился здесь в глубоком унынии.
— В номере было двое, — сказал Хейлис. — Пришлось их разбудить. Я нашел кое-что наверху шкафа для одежды.
Это был небольшой куб серого цвета с ручкой для переноски сверху.
— Да, — кивнул Сандерсон, еле сдерживая напряжение. Он открыл замок и вывернул его, затем положил возле отверстия индикатор. Послышался слабый потрескивающий звук. — Да, это плутоний. Но как вы его нашли?
— Догадался, — пожал плечами Хейлис. — Последнее слово погибшего было Хэллоуин. Когда он увидел тот номер открытым, поскольку там шла уборка, ему наверное, это показалось знаменем.
— Какой Номер?
— Номер 1031, — ответил Хейлис. — Октябрь, тридцать первое. Хэллоуин.
перевод В. Гольдича, И. ОганесовойХозяйка
В конце 1950 года мы с женой пришли к печальному и неприятному заключению, что детей у нас не будет. Врачи никаких отклонений не находили, а детей все не было и не было.
Супруга моя помаленьку смирилась с бездетностью и готовилась посвятить себя моей писательской карьере. Работая в команде, казалось нам, мы добьемся больших результатов. Предполагалось, что я буду диктовать свои рассказы, а она станет их печатать.
Затея вызывала определенные сомнения. Теоретически все звучало великолепно, на деле же мне никогда не приходилось диктовать. Я привык печатать свои рассказы и видеть, как предложения выползают на бумагу слово за словом. Поэтому я не стал сгоряча покупать диктофон, а уговорил продавца отдать его мне на тридцать дней на пробу.
В течение следующего месяца я наговорил на машинку три рассказа, в том числе и «Хозяйку». Кошмарный опыт кое-чему меня научил. Один раз, например, когда жена заявила, что ничего не может разобрать, я понял, что играю в повествовании большую роль, чем предполагал.
Я прослушал отрывок, вызвавший у нее сомнения. Тот самый, где два героя ссорятся между собой, проявляя при этом все большую и большую злобность. Оказалось, что по мере того как персонажи распаляются, завожусь и я. К тому моменту когда ссора достигла пика, я издавал нечленораздельные вопли ярости. Пришлось наговаривать отрывок еще раз. Ничего подобного не происходило, когда я печатал!..
Тем не менее затея удалась. Рассказы выглядели так словно я с самого начала печатал их сам. (Таково, во всяком случае, мое мнение. Прочтите «Хозяйку» и судите сами.)
Естественно, я был доволен. Отправившись к продавцу, я объявил ему, что покупаю диктофон, и тут же выписал чек на всю сумму.
Спустя неделю, как выяснилось из последующих подсчетов, нам удалось зачать ребенка. Когда сие событие стало бесспорным, между нами произошел разговор, мое участие в коем ограничивалось главным образом периодическими восклицаниями типа «Не может быть!»
Так или иначе, диктофоном мы больше не пользовались, хотя он до сих пор с нами. Спустя четыре месяца после опубликования «Хозяйки» на свет появился мой сын Дэвид.
Роуз Смоллет была счастлива, она просто торжествовала. Стянув перчатки и отбросив в сторону шляпку, она сияющими глазами смотрела на мужа.
— Дрейк, он придет к нам домой!
Дрейк взглянул на супругу с раздражением:
— Ты пропустила ужин. Я ждал тебя к семи.
— Ой, ну какая разница! Я перекусила по дороге. Дрейк, он придет к нам домой!
— Кто еще к нам придет?
— Доктор с планеты Гаукина! Ты что, не понял, о чем шла речь на конференции? Мы целый день только об этом и говорим. Я даже мечтать не могла о подобном!
Дрейк Смоллет вытащил трубку изо рта. Вначале он долго смотрел на трубку, потом перевел взгляд на супругу:
— Давай по порядку. Когда ты говоришь о докторе с планеты Гаукина, ты имеешь в виду гаукинянина из вашего института?
— Ну конечно! Кого же еще?
— Тогда позволь поинтересоваться, что значит: «он придет к нам домой»?
— Дрейк, ты разве не понял?
— Что я должен понимать? Этим существом занимается твой институт. Мне он тысячу лет не нужен. При чем тут мы?
— Послушай, дорогой, — терпеливо произнесла Роуз, — гаукинянин хочет пожить в частном доме, где его не будут донимать официальными церемониями и где он сможет делать все так, как он привык и как ему нравится. Мне, например, это вполне понятно.
— Да, но почему он выбрал именно наш дом?
— Потому что наш дом идеально подходит для этой цели. Меня спросили, не стану ли я возражать, и я, — тут голос Роуз обрел неожиданную твердость, — сочла за честь…
— Послушай! — Дрейк взъерошил каштановые волосы. — У нас с тобой чудесное местечко, никто не спорит! Самый элегантный домик на всем земном шаре — но он хорош для нас двоих. Во всяком случае я не вижу, где мы с тобой найдем место для внеземного существа.
Роуз начала волноваться. Она сняла очки и уложила их в футляр.
— Доктор может остановиться в свободной комнате. Он в состоянии сам за собой ухаживать. Я с ним говорила, и он произвел на меня прекрасное впечатление. По сути дела, от нас не требуется ничего, кроме элементарной приспособляемости.
— Всего-то! — хлопнул себя по ляжкам Дрейк. — Да эти гаукиняне дышат цианидом!.. Интересно, как мы к этому приспособимся?
— Он носит цианид в маленьком цилиндрике. Ты его даже не заметишь.
— Чего еще я не замечу?
— Больше ничего. Они совершенно безобидны. Господи, они даже вегетарианцы.
— То есть? Мы должны скармливать ему за обедом стог сена?
Нижняя губка Роуз задрожала.
— Дрейк, ты умышленно выводишь меня из себя! На Земле полно вегетарианцев, и никто из них не ест сено.
— Ну а мы как будем питаться? Он ведь посчитает нас каннибалами, если мы станем есть мясо. Я не собираюсь ради него переходить на салаты, предупреждаю!
— Ты просто смешон!
Роуз почувствовала себя беспомощной. Она сравнительно поздно вышла замуж. Карьера к тому времени была почти сделана, ей ничего не хотелось менять. Она занималась биологией на отделении естественных наук в институте Дженикса и имела на своем счету свыше двадцати публикаций. Другими словами, линия жизни была намечена, тропа проложена, она готовила себя к научной деятельности и вечному девичеству. Даже сейчас, в тридцать пять лет, спустя год после замужества, она по-прежнему удивлялась своему состоянию.
Временами Роуз впадала в растерянность, ибо не имела ни малейшего понятия, как надо обходиться с мужем. Что вообще надо делать, если супруг начинает упрямиться, как осел? Об этом не упоминалось ни в одном из ее курсов. Женщина с независимым умом и блестящей карьерой, она не могла заставить себя прибегнуть к лести.
Поэтому Роуз смерила мужа пристальным взглядом и отчетливо произнесла:
— Это очень многое для меня значит.
— Почему?
— Потому, Дрейк, что, если он проведет здесь хоть немного времени, я смогу по-настоящему его изучить. Биология и психология конкретных гаукинян, как, впрочем, и других представителей внеземного разума, почти не изучались. Мы приблизительно знакомы с их историей и социологией — но и все. Не понимаю, как ты можешь не видеть значимости этого события. Он поживет с нами, мы будем за ним присматривать, разговаривать с ним, изучать его повадки…
— Меня не интересуют его повадки.
— О, Дрейк, я перестаю тебя понимать.
— Другими словами, я не такой, как всегда?
— Да.
Некоторое время Дрейк молчал. Его высокие скулы и крупный подбородок застыли в глубоком раздумье.
Наконец он произнес:
— Послушай, мне приходилось слышать о гаукинянах по роду моей деятельности. Ты говоришь, что велись исследования в области их социологии, но не биологии. Естественно, Причина в том, что гаукиняне не любят, когда их изучают как вид; впрочем, не любим такого и мы. Мне приходилось беседовать с людьми, обеспечивающими безопасность различных гаукинянских миссий на Земле Как правило, инопланетяне находятся в отведенных им помещениях и покидают их только в случае крайней необходимости. Им нечего делать в обществе землян. Несомненно, мы вызываем у них такое же отвращение, какое они вызывают лично у меня.
И я не понимаю, чем твой гаукинянин отличается от всех остальных. Их вообще запрещено приглашать в гости, а уж допустить, чтобы он жил в доме землянина… Вообще ни в какие ворота не лезет!
— Все не так, — устало произнесла Роуз. — Я удивлена, что ты до сих пор не понял, Дрейк. Он — доктор. Он прилетел к нам, чтобы провести необходимые медицинские исследования. Да, пребывание рядом с людьми для него мучительно. Но он должен завершить свою работу! По-твоему, нашим докторам доставляет удовольствие ездить в тропики и подставлять себя под укусы комаров?
— При чем здесь комары? — резко спросил Дрейк. — Комары-то здесь при чем?
— Ни при чем, — опешила Роуз. — Просто я о них подумала, вот и все. Вспомнила Рида и его эпопею с желтой лихорадкой.
— Поступай как знаешь, — пожал плечами Дрейк.
Поколебавшись, Роуз пролепетала:
— Ты же на меня не сердишься, правда? — Ей показалось, что эту фразу произнесла маленькая девочка.
— Нет.
Но она поняла, что на самом деле муж очень сердит.
Роуз с сомнением оглядела себя в высокое зеркало. Она никогда не отличалась особой красотой и давно с этим смирилась, тем более что внешность не играла в ее жизни никакой роли. Менее всего внешность могла повлиять на общение с обитателем планеты Гаукина. Роуз мучило другое. Как справиться с ролью хозяйки, тактичной по отношению к внеземному существу и собственному мужу одновременно? Интересно, что в результате окажется более сложным?
Дрейк предупредил, что задержится на работе. До его прихода оставалось более получаса. Роуз склонялась к мысли, что он нарочно все подстроил, дабы оставить жену наедине с проблемой. Ее охватило легкое раздражение.
Еще до полудня он позвонил ей в институт и сухо осведомился:
— Когда ты его привезешь?
— Часа через три, — так же коротко ответила она.
— Хорошо. Как его зовут? Его гаукинянское имя?
— Зачем это тебе? — Роуз не удалось скрыть холодные нотки в голосе.
— Будем считать, что я провожу свое собственное исследование. В конце концов, он собирается заявиться в мой дом.
— Ради всего святого, Дрейк! Не переноси свои служебные проблемы домой!
— Почему же? — тонким и гаденьким голоском поинтересовался муж. — Разве ты не делаешь то же самое?
Все обстояло именно так, и Роуз покорно предоставила ему требуемую информацию.
Впервые в жизни между ними возникло подобие ссоры.
Усевшись перед высоким, размером с человеческий рост, зеркалом, Роуз задумалась. Не стоит, наверное, даже пытаться увидеть проблему с его точки зрения. Дело было в том, что она вышла замуж за полицейского. Конечно, Дрейк был не простым полицейским, он был членом Всемирной Комиссии по безопасности.
Узнав об их союзе, друзья Роуз просто опешили. Сам по себе брак явился огромным сюрпризом. Но если уж она решила выйти замуж, рассуждали друзья, то почему не за другого биолога, не за химика, наконец? Как ей вообще пришло в голову связать свою жизнь с полицейским? Никто, конечно, не высказывал своих соображений вслух, однако…
Поначалу она решительно отметала подобные сомнения. Человек волен заключать брак по своему выбору и усмотрению, и нет ничего предосудительного в том, что женщина, доктор философии, выбирает в супруги человека, не преодолевшего даже начальных рубежей высшего образования. Кому какое дело? Он был красив, по-своему умен и вполне устраивал Роуз.
И тем не менее полностью отделаться от снобистских мыслей не удавалось. Она свято верила, что ее работа и биологические исследования гораздо важнее деятельности мужа, строго ограниченной пределами его крошечного кабинета в здании ООН на Ист-Ривер.
Разволновавшись, Роуз подскочила со стула, глубоко вздохнула и решила больше об этом не думать. Она отчаянно пыталась избежать ссоры. Роуз мечтала, чтобы гаукинянин пожил у них в гостях, но в остальном ей бы не хотелось ни в чем стеснять Дрейка. Он и так пошел на серьезные уступки.
Харг Толан спокойно стоял посреди гостиной, когда она спустилась по лестнице. Он не сидел, поскольку не мог сидеть в силу своего анатомического строения, а стоял на двух парах конечностей, расположенных довольно близко друг от друга. Третья пара имела существенные отличия и свисала с той части тела, которая у человека называлась бы грудной клеткой. Кожа его была твердой, блестящей и бугристой, а в лице присутствовало что-то чужое, бычье. При этом он не был откровенно отвратителен и даже прикрыл одеждой нижнюю часть тела, дабы не смущать пригласивших его людей.
— Миссис Смоллет, — произнес доктор, — я ценю ваше гостеприимство гораздо выше, чем могу выразить средствами вашего языка. — При этом гаукинянин поклонился, и передние конечности на мгновение коснулись пола.
Роуз знала, что этот жест на планете Гаукина означает благодарность. Больше всего ее радовало, что он неплохо изъясняется по-английски. Строение рта и отсутствие резцов придавали присвист всем шипящим звукам.
— Мой муж придет с минуты на минуту, — сказала она. — Тогда мы сядем есть.
— Ваш муж? — В течение некоторого времени гость молчал, потом добавил: — Да, конечно.
Роуз пропустила его замечание мимо ушей. Среди пяти населяющих обозримую галактику мыслящих рас существовал постоянный источник взаимного непонимания. Он касался половой жизни и сопутствующих ей социальных институтов. Так, например, понятие жены и мужа существовало только на Земле. Прочие расы могли осознать его только на интеллектуальном уровне, на эмоциональном это не удавалось никому.
— Я посоветовалась насчет меню с сотрудниками нашего института, — сказала она. — Надеюсь, вы не будете сильно разочарованы.
Гаукинянин стремительно заморгал. Роуз вспомнила, что это означало крайнее изумление.
— Белки, конечно, вещь полезная, дорогая миссис Смоллет, — ответил он, — но все, чего мне не хватает в вашей пище, я прихватил с собой в форме концентратов.
Белки действительно были полезны, и Роуз ни секунды не сомневалась в истинности этого утверждения. За диету гостя она переживала чисто формально. Открытие жизни на других планетах позволило вывести интересную закономерность. Несмотря на то что в основе жизни могли лежать не белковые и даже не углеродные соединения, все цивилизации имели исключительно белковое происхождение. Это означало, что каждая из пяти форм разумной жизни могла продержаться достаточно долго на пище других четырех.
Роуз услышала, как Дрейк вставил ключ в замочную скважину, и невольно напряглась.
Надо признать, вел он себя правильно. Решительно войдя в комнату, Дрейк без колебаний вытянул руку в сторону гаукинянина и громко произнес:
— Добрый вечер, доктор Толан.
Гаукинянин вложил в его ладонь огромную и неуклюжую с виду переднюю конечность, и они вроде бы как пожали друг другу руки. Роуз уже прошла через подобную процедуру и знала жутковатое ощущение, которое испытывает человек, дотрагиваясь до руки гаукинянина. Кажется, прикасаешься к чему-то шершавому, сухому и горячему. Соответственно, сообразила она, гаукинянину их руки должны казаться холодными и скользкими.
Пока совершался ритуал приветствия, Роуз воспользовалась случаем и внимательно рассмотрела конечность пришельца, являвшую собой великолепный пример конвергенционной эволюции. Морфологическое развитие пошло по совершенно иному, по сравнению с человеческой кистью, пути, и тем не менее определенное сходство было налицо.
Пальцев было четыре, большой отсутствовал. Каждый палец состоял из пяти независимых шарнирных суставов. Таким образом, отсутствие большого пальца компенсировалось способностью имеющихся пальцев изгибаться наподобие щупалец. Наиболее же интересным ей как биологу показалось то, что каждый палец заканчивался крошечным рудиментарным копытцем, неразличимым для глаза любителя. Совершенно ясно, что некогда эти копытца использовались для бега, как руки людей были изначально приспособлены для лазания по деревьям.
Дрейк достаточно дружелюбно поинтересовался:
— Не испытываете ли вы каких-либо неудобств, сэр?
— Что вы, — откликнулся гаукинянин. — Ваша супруга чрезвычайно предусмотрительна.
— Не желаете ли выпить?
Гаукинянин не ответил, но взглянул на Роуз, слегка наморщив лицевые мышцы, что выражало определенную эмоцию, содержание которой было ей, к сожалению, незнакомо.
Она нервно произнесла:
— На Земле существует обычай пить жидкости, содержащие этиловый спирт. Они оказывают на нас стимулирующее воздействие.
— О, понятно. Боюсь, что мне придется отказаться. Этиловый спирт весьма отрицательно повлияет на мой метаболизм.
— На землян он действует точно так же, — кивнул Дрейк. — Не возражаете, если я выпью?
— Разумеется, нет.
Проходя к серванту, Дрейк оказался очень близко от Роуз, и она уловила только одно слово.
— Боже! — произнес он сдавленным шепотом, умудрившись, однако, поставить в конце семнадцать восклицательных знаков.
Гаукинянин за столом стоял. Управляясь с приборами, пальцы его совершали чудеса ловкости, Роуз старалась не смотреть, как он ест. Каждый раз, когда гаукинянин закладывал в широкий безгубый рот пищу, ей казалось, что лицо его треснет. При жевании огромные челюсти двигались из стороны в сторону. Это лишний раз доказывало, что их гость произошел от копытных животных. Она поймала себя на том, что пыталась представить, как, оставшись наедине, гаукинянин начнет пережевывать собственную отрыжку. Потом она с ужасом подумала, что произойдет, если подобная мысль придет в голову ее мужу. Дрейк, тем не менее, воспринимал происходящее довольно спокойно.
Он даже поинтересовался:
— Полагаю, доктор Толан, цилиндр на вашем боку содержит цианистый калий?
Роуз вздрогнула. Цилиндр вообще ускользнул от ее внимания. Плоский, полукруглый металлический предмет, похожий на флягу для воды, помещался на боку гаукинянина и был наполовину скрыт складками одежды. Недаром Дрейк служил в полиции.
— Совершенно верно, — ответил гость, ничуть не смутившись. Пальцы с копытцами продемонстрировали уходящий в угол широкого рта тонкий гибкий шланг, выкрашенный под желтоватую кожу. Роуз почувствовала неловкость, как будто ей показали интимную часть туалета.
— Там в самом деле чистый цианистый калий? — спросил Дрейк.
Гаукинянин смешно заморгал.
— Надеюсь, вы не усматриваете в этом угрозу жителям Земли. Я знаю, что этот газ для вас опасен, но мне достаточно очень малого количества. В цилиндре пять процентов водородного цианида, остальное — кислород. Время от времени мне необходимо пососать трубку, утечка при этом совершенно исключена.
— Понятно. Вы в самом деле без него не можете?
Роуз похолодела. Подобные вопросы не задаются без тщательной предварительной подготовки. Нельзя предугадать, где находятся болевые точки чуждой психологии. Похоже, Дрейк сознательно шел на конфликт. Он мог с тем же успехом получить ответ и от нее. Или решил к ней не обращаться?
Гаукинянин сохранял видимое спокойствие.
— Вы, кажется, не биолог, мистер Смоллет?
— Нет, доктор Толан.
— Но у вас тесные связи с миссис доктором Смоллет?
Дрейк подавил улыбку.
— Да, я состою в браке с миссис доктором, но это не делает из меня биолога. Я мелкий государственный служащий. Друзья моей жены, — добавил он, — называют меня полицейским.
Роуз прикусила с внутренней стороны щеку. В данном случае гаукинянин затронул болезненную струнку чуждой ему психологии. На планете Гаукина существовала строгая кастовая иерархия, межцеховые взаимоотношения были сильно ограничены. Дрейк об этом ничего не знал.
Гаукинянин повернулся к Роуз:
— С вашего разрешения, доктор Смоллет, я немного расскажу вашему мужу о нашей биохимии. Вам это покажется неинтересным, поскольку, я уверен, вы прекрасно в ней разбираетесь.
— Несомненно, доктор Толан, — пробормотала она.
— Видите ли, мистер Смоллет, — заговорил он, — дыхательный процесс вашего организма, равно как и прочих дышащих воздухом существ на Земле, зависит от определенных металлосодержащих ферментов. Это, как правило, железо, хотя иногда встречается и медь. Так или иначе, мельчайшие добавки цианида вступают в реакцию с данными металлами и парализуют дыхательную функцию земного организма. Прекращается поступление кислорода, а спустя несколько минут наступает смерть.
На моей планете жизнь устроена по-иному. Ключевые ферменты не содержат ни железа, ни меди. По сути дела, в них вообще нет металлов. Поэтому моя кровь бесцветна. Зато в нашей крови содержатся органические присадки, которые могут существовать лишь при определенной концентрации цианистого калия. Несомненно, подобный тип белка возник в результате миллионов лет эволюции в мире, атмосфера которого содержит в естественном состоянии несколько десятых процента водородного цианида. Его наличие в нашем воздухе поддерживается за счет биологического цикла. Различные микроорганизмы выделяют цианид в виде свободного газа.
— В вашем изложении мне все понятно и интересно, доктор Толан, — сказал Дрейк. — А что произойдет, если вы не будете им дышать? Вот так просто погибнете? — Он громко щелкнул пальцами.
— Не совсем. Это нельзя сравнивать с попаданием цианида в вашу атмосферу. В моем случае его отсутствие будет скорее напоминать медленное удушье. У нас такое иногда случается в плохо проветриваемых помещениях. Бывает, что цианид поглощается и его концентрация падает ниже необходимого уровня. Последствия подобного несчастья весьма болезненны и трудно поддаются лечению.
Роуз отметила, что Дрейк выслушал ответ с искренним интересом. Пришелец, слава Богу, очень спокойно воспринял расспросы.
Остаток обеда прошел спокойно и был почти приятен.
Весь вечер Дрейк именно таким и оставался: заинтересованным; более того, поглощенным происходящим. Он полностью завладел беседой, не давая Роуз и рта открыть. Он и в самом деле затмевал супругу, которую выручала лишь профессиональная подготовка.
Роуз смерила его мрачным взглядом и подумала: «Зачем вообще он на мне женился?»
Дрейк сидел, закинув нога на ногу, легонько барабанил пальцами по подбородку и с любопытством разглядывал гаукинянина. Пришелец стоял, широко расставив четыре ноги.
— Мне довольно сложно думать о вас, как о докторе, — произнес Дрейк.
— Прекрасно понимаю, — весело заморгал гаукинянин. — Мне тоже трудно думать о вас, как о полицейском. В моем мире полицейские очень своеобразные и выдающиеся люди.
— Вот как? — сухо откликнулся Дрейк и переменил тему. — Как я понял, вы здесь не на отдыхе?
— Нет, я весьма загружен делами. Собираюсь исследовать эту странную планету, которую вы называете Земля. У нас ею никто по-настоящему не занимался.
— Странную? — переспросил Дрейк. — В чем же странность? Гаукинянин взглянул на Роуз:
— Он знает об Ингибиционной Смерти?
— У моего мужа очень важная работа, — смутилась она, — боюсь, у него нет времени выслушивать подробности моих исследований.
Роуз понимала, что ведет себя неадекватно, и вновь почувствовала неясную эмоцию гаукинянина. Пришелец повернулся к Дрейку:
— Меня всегда поражало, как мало вы, земляне, знаете о собственных необычных свойствах. Вот смотрите. Галактику населяют пять разумных рас. Все они развивались независимо и тем не менее сумели прийти к общему пониманию. Похоже, что для окончательного расцвета разума требуется приложить немного косметики. Оставляю этот вопрос философам. Думаю, мне не стоит вам растолковывать такие моменты, поскольку вы прекрасно разбираетесь в этом сами.
Так вот, когда различия между мыслящими расами были тщательно изучены, оказалось, что именно вы, земляне, наиболее уникальны. Так, например, только на Земле жизнь зависит от влияющих на процесс дыхания металлических ферментов. И только для вас водородный цианид является ядом. Только вы произошли не от жвачных животных. И, самое, пожалуй, интересное: вы — единственная форма разумной жизни, которая прекращает расти с достижением зрелости.
Дрейк улыбнулся. Роуз почувствовала, как забилось ее сердце. Самым красивым в Дрейке была его улыбка, и он так умело ею пользовался. Это была не фальшивая и не натянутая улыбка. Муж привыкал к присутствию существа из другого мира. Он старался ему понравиться, он делал это для нее. Мысль так пришлась ей по сердцу, что Роуз несколько раз повторила ее про себя. Он старается ради нее, он любезничает с гаукинянином!
Продолжая улыбаться, Дрейк произнес:
— Вы не выглядите слишком крупным, доктор Толан. По-моему, вы выше меня на один дюйм, другими словами, в вас шесть футов и два дюйма. Означает ли это, что вы еще молоды, или остальные обитатели вашего мира еще меньше?
— Ни то ни другое, — ответил гаукинянин. — С годами мы растем медленнее. В моем возрасте на один дюйм уходит около пятнадцати лет, но — и это важно — мы никогда не перестаем расти окончательно. Ну и, разумеется, мы никогда окончательно не умираем.
Дрейк вытаращил глаза, и даже Роуз непроизвольно выпрямилась и оцепенела. Это было что-то новое. Ни о чем подобном не докладывала ни одна из отправлявшихся на планету Гаукина экспедиций. Роуз едва не завизжала от волнения, но вовремя сдержалась и предоставила возможность говорить Дрейку.
— Никогда окончательно не умираете? — переспросил он. — Не хотите ли вы сказать, сэр, что обитатели планеты Гаукина бессмертны?
— Никто не может быть бессмертным в истинном смысле этого слова. Всегда есть несчастные случаи, а если с ними не везет, то можно помереть со скуки. Немногие из нас живут более нескольких ваших столетий. Между тем крайне неприятно думать, что смерть может наступить не по твоей воле. Нам это представляется ужасным. Одна мысль о том, что смерть способна прийти вопреки моему желанию, вызывает у меня дрожь.
— Мы к этому привыкли, — безрадостно проворчал Дрейк.
— Вы, земляне, живете с этой мыслью, мы — нет. Поэтому нас тревожит тот факт, что за последние годы частота Ингибиционной Смерти заметно возросла.
— Вы мне еще не объяснили, — заметил Дрейк, — что такое Ингибиционная Смерть. Но позвольте я выскажу свою догадку. Является ли Ингибиционная Смерть патологическим прекращением роста?
— Именно так.
— Как скоро наступает смерть после прекращения роста?
— В течение года. Это тяжелая, трагическая и абсолютно неизлечимая болезнь.
— Что является ее причиной?
Гаукинянин долго молчал, а когда заговорил, голос его звучал сдавленно и тревожно:
— Мистер Смоллет, нам ничего неизвестно о причинах этой болезни.
Дрейк задумчиво кивнул. Роуз следила за разговором, словно зритель на теннисном корте.
— Почему для изучения болезни вы прилетели на Землю? — спросил Дрейк.
— В силу уникальности землян. Они — единственная мыслящая раса, которая обладает иммунитетом. Ингибиционной Смерти подвержены все остальные цивилизации. Ваши биологи об этом знают, миссис Смоллет?
Он обратился к Роуз так неожиданно, что она вздрогнула.
— Нет, не знают.
— Не удивительно. Это стало известно благодаря последним открытиям. При Ингибиционной Смерти легко ошибиться в диагнозе, к тому же на других планетах она встречается гораздо реже. Это весьма странная вещь, тут можно пофилософствовать. Заметьте, заболеваемость Смертью самая высокая в моем мире, ближайшем к Земле. С удалением от вашей планеты заболеваемость понижается, реже всего Смерть встречается на планетах Темпоры, при этом сама Земля обладает иммунитетом. И секрет его следует искать в биохимии землян. Представляете, о каком важном открытии может идти речь?
— Послушайте, — остановил его Дрейк. — Наверное, утверждать, что земляне обладают иммунитетом, нельзя. С моей точки зрения, у нас этой болезнью поражены сто процентов населения. Все земляне перестают расти и все земляне умирают. Другими словами, мы все страдаем Ингибиционной Смертью.
— Вовсе нет. Земляне живут еще семьдесят лет после прекращения роста. Это не та Смерть, с которой приходится иметь дело нам. У вас скорее противоположная проблема — неконтролируемый рост клеток, который вы называете раком. Но я, кажется, вас утомил.
Роуз энергично запротестовала. Дрейк ее поддержал, однако гаукинянин решительно сменил тему разговора.
Именно тогда Роуз почувствовала первые уколы подозрительности, ибо Дрейк начал запутывать Харга Толана, раздражать его, дразнить, отчаянно пытаясь вернуть разговор в прежнее русло. Делал он это весьма профессионально и не навязчиво, но Роуз хорошо знала своего супруга и понимала, к чему он клонит. Да и к чему он мог клонить, как не к тому, чего требовала его профессия.
Словно в ответ на ее мысли гаукинянин произнес фразу, которая тут же принялась крутиться в мозгу Роуз, как треснувшая пластинка. Он спросил:
— Вы, кажется, полицейский?
— Да, — коротко ответил Дрейк.
— В таком случае я хочу обратиться к вам с просьбой. Я весь вечер собирался заговорить на эту тему, но не решался, поскольку не хотел обременять пригласивших меня в гости людей.
— Мы сделаем все, что в наших силах.
— Я очень интересуюсь жизнью землян. Полагаю, большинство моих соотечественников не разделяют подобного любопытства. Мне бы хотелось побывать в одном из полицейских участков вашей планеты.
— Я не работаю в полиции в том смысле, как вы себе это представляете, — осторожно ответил Дрейк. — Хотя у меня хорошие связи с Управлением полиции Нью-Йорка. Я легко могу все устроить. Завтра?
— Это было бы замечательно. Смогу ли я посетить Бюро пропавших без вести?
— Что?
Гаукинянин подобрал под себя все четыре ноги; казалось, он пытается сосредоточиться.
— Видите ли, это мое давнишнее хобби. Такой вот причудливый интерес. Полагаю, у вас есть группа офицеров, в чьи обязанности входит розыск пропавших мужчин?
— А также детей и женщин, — добавил Дрейк. — Но почему это вас так интересует?
— Опять-таки в силу вашей уникальности. На нашей планете не существует такого понятия, как пропавший без вести. Вряд ли я сумею объяснить вам весь механизм, но жители других миров чувствуют присутствие друг друга, особенно если между ними существует сильная эмоциональная привязанность. Мы всегда знаем точно, кто где находится, о какой бы части планеты ни шла речь.
Роуз снова заволновалась. Все научные экспедиции на планету Гаукина сталкивались с непреодолимыми трудностями, связанными с эмоциональными проблемами местных жителей, и вот перед ней существо, которое говорит об этом совершенно свободно, более того, хочет все объяснить!
Она позабыла о Дрейке и вмешалась в беседу:
— Вы и сейчас чувствуете присутствие своих соплеменников? На Земле?
— Вы имеете в виду на таком расстоянии? — уточнил гаукинянин. — Нет, боюсь, что нет. Но вы понимаете важность затронутой проблемы. Я хочу связать воедино все уникальные особенности Земли. Кто знает, может быть, если нам удастся выяснить, почему вы не ощущаете присутствие других людей, мы сумеем найти и секрет иммунитета к Ингибиционной Смерти. Кроме того, мне представляется чрезвычайно интересным, как вообще мог возникнуть разум среди существ, не способных ощущать друг друга. Как, например, может землянин знать, что он создал дружную, удачную ячейку общества, семью? Откуда, например, вы двое, знаете, существует ли между вами истинная связь?
Роуз непроизвольно кивнула. Как ей не хватало такого чувства!
Дрейк ограничился улыбкой.
— У нас есть свои способы. Нам так же трудно объяснить значение слова «любовь», как вам — передать суть ваших ощущений.
— Полагаю. И все же, мистер Смоллет, скажите откровенно, если миссис Смоллет выйдет из этой комнаты и зайдет в другую, а вы не будете этого видеть, вы действительно не сможете определить, где она находится?
— Не смогу.
— Поразительно!.. — пробормотал гаукинянин. После некоторого колебания он добавил: — Пожалуйста, не обижайтесь, но мне это крайне неприятно.
После того как свет в спальне был погашен, Роуз трижды подходила к двери, приоткрывала ее и выглядывала в щелку. Она чувствовала, что Дрейк на нее смотрит. Наконец с искренним недоумением в голосе он поинтересовался:
— В чем дело?
— Я хочу с тобой поговорить, — прошептала она.
— Боишься, что наш приятель подслушивает?
Роуз вернулась к кровати и положила голову на его подушку, чтобы шептать еще тише.
— Почему ты заговорил с доктором Толаном об Ингибиционной Смерти?
— Меня интересует твоя работа, Роуз. Ты всегда хотела, чтобы я проявлял к ней интерес.
— Мне не нравится твой сарказм, — яростно прошипела она. Прошептать это еще яростнее не удалось бы никому. — Я знаю, что у тебя здесь свой интерес. Полицейские штучки. Да?
— Поговорим завтра, — ответил Дрейк.
— Нет, сейчас.
Он просунул руку под голову жены и приподнял ее. На какой-то сумасшедший момент ей показалось, что сейчас он ее поцелует, просто поцелует, повинуясь импульсу, как иногда поступают мужья… или как ей казалось, они поступают. Дрейк никогда так не делал. Не сделал он этого и на сей раз.
Он просто придвинул ее к себе и прошептал:
— Почему тебя это так взволновало?
Рука его больно давила на шею, Роуз напряглась и попыталась отстраниться.
— Прекрати, Дрейк. — Теперь она говорила уже не шепотом.
— Не задавай никаких вопросов и вообще не вмешивайся, — произнес он. — Ты делаешь свою работу, а я — свою.
— В моей работе все открыто. У меня нет никаких секретов.
— В моей все по-другому, как и следует из ее сути. Но кое-что я тебе скажу. Наш шестиногий друг находится в этом доме по вполне определенной причине. Тебя выбрали не случайно, и вовсе не как биолога, занимающегося данной проблемой. Известно ли тебе, что два дня назад он наводил обо мне справки в Комиссии?
— Ты шутишь?
— Не верь ему ни на секунду. Здесь такие глубины — тебе и не снилось. Но это уже мое дело, и распространяться я не собираюсь. Ты поняла?
— Нет, но, если ты настаиваешь, я не стану задавать вопросов.
— Тогда спи.
Она лежала на спине, боясь пошевелиться, в то время как минуты текли, слагаясь в четверти часа. Роуз пыталась собрать случившееся в цельную картинку; даже после слов Дрейка формы и цвета не совпадали. Интересно, что сказал бы муж, если бы узнал, что она записала весь разговор на пленку!
В этот момент она отчетливо вспомнила один эпизод, в то время воспринятый как шутка. В конце долгого вечера гаукинянин повернулся в ее сторону и мрачно произнес:
— Доброй ночи, миссис Смоллет. Вы самая очаровательная хозяйка.
Тогда она едва удержалась от смеха. Ну как он может называть ее очаровательной хозяйкой? Для него она могла быть только ужасом, уродом с недостающими конечностями и отвратительно узким лицом.
Но едва гаукинянин разродился этой совершенно бессмысленной фразой вежливости, Дрейк побледнел! В глазах его промелькнул неприкрытый ужас.
Никогда раньше Роуз не видела, чтобы ее муж проявлял страх или нечто подобное, и картина внезапной паники оставалась перед ее глазами до тех пор, пока она не впала в сонное забытье.
Только к полудню следующего дня Роуз добралась до своего кабинета. Она дождалась, пока Дрейк и гаукинянин уйдут по делам, ибо не хотела отцеплять при них крошечный магнитофон, который прикрепила накануне вечером к спинке кресла Дрейка. Она не собиралась делать запись тайком от мужа, просто он задержался на работе, а сказать про магнитофон при гаукинянине она, конечно, не могла. Позже, когда все уляжется…
Использование магнитофона не считалось чем-то особенным. Надо было записать выражения и интонацию гостя для дальнейшего изучения специалистами института. А спрятала Роуз его для того, чтобы никто лишний раз не волновался и все вели себя естественно. Теперь же она решила не относить магнитофон в институт вообще. Он послужит другой цели. Весьма неприглядной цели.
Она решила проследить за Дрейком.
Роуз прикоснулась пальцами к маленькой коробочке и непроизвольно подумала, как пройдет этот день у ее мужа. Социальные контакты между различными мирами еще не стали обыденностью, и появление на улицах города гаукинянина могло собрать толпы народа. Но Дрейк выдержит, в этом она не сомневалась. Дрейк все выдержит.
Роуз еще раз прослушала звуки прошедшего вечера, повторяя наиболее любопытные места. Слова Дрейка ее разочаровали. С чего бы это гаукинянин заинтересовался ими персонально? С другой стороны, врать ей Дрейк не станет. Хорошо бы перепроверить информацию через Комиссию по безопасности… Нет! Она почувствовала неловкость от одной лишь этой мысли; Дрейк никогда бы не стал ее обманывать.
А в общем-то… Ну почему бы Харгу Толану не навести о них справки? Он мог точно так же поинтересоваться данными остальных биологов института. Нет ничего необычного в стремлении подобрать себе дом, приятный по собственным меркам, какими бы те ни были.
А даже если он… даже если он наводил справки только о них… почему это вызвало такую перемену в Дрейке: от крайней враждебности до крайней заинтересованности? Несомненно, Дрейк многого не договаривал. Один Бог знает, как много.
Мысли Роуз медленно вращались вокруг возможности межзвездных интриг. До сих пор среди пяти населяющих галактику мыслящих рас не наблюдалось никаких проявлений враждебности или взаимной неприязни. Может быть, в силу того, что жили они достаточно далеко друг от друга. Расстояние делало невозможными даже поверхностные контакты. Ни экономические, ни политические интересы разных миров не пересекались.
Но таково ее личное мнение. Роуз не являлась членом Комиссии по безопасности. И если конфликт все-таки имел место, если существовала опасность и были основания полагать, что гаукинянин прибыл с немирной целью, — Дрейк бы об этом знал.
Хотя, как сказать? Вряд ли он занимает достаточно высокую должность, чтобы его информировали об опасностях, связанных с визитом доктора с планеты Гаукина. Роуз всегда представляла его мелким клерком, и он не пытался развеять этот образ. И тем не менее…
А вдруг он далеко не мелкий клерк?
От одной мысли ее передернуло. Это уже походило на шпионские романы с переодеваниями, которые так любили в двадцатом веке, когда еще существовали такие понятия, как «атомные секреты».
Мысль о переодеваниях оказалась решающей. В отличие от Дрейка, она не была настоящим полицейским и не могла даже представить, как поступил бы полицейский на ее месте. Но Роуз знала, как проворачивались такие дела в старинных романах.
Она положила перед собой лист бумаги, взяла карандаш и провела вертикальную черту посередине. Одну половину листа она озаглавила «Харг Толан», вторую — «Дрейк». Под «Харгом Толаном» написала: «профессия», после чего задумчиво добавила три вопросительных знака. В конце концов, никто ведь не знал, доктор он или межзвездный агент. Какими доказательствами располагал в этом отношении институт? Никакими, кроме собственных же утверждений гостя. Может быть, поэтому Дрейк так упорно расспрашивал его об Ингибиционной Смерти? Заранее проработал эту тему и пытался поймать гаукинянина на ошибке?
Просто голова кругом!..
Роуз вскочила и решительно вышла из кабинета. Покидая институт, она никому не сказала ни слова, даже не предупредила секретаря, куда она отправилась и когда вернется.
Выйдя на улицу, она тут же спустилась на третий уровень подземки и дождалась пустого купе. Последующие две минуты показались ей вечностью. Непослушными губами Роуз произнесла в микрофон над сиденьем:
— Нью-йоркская медицинская академия.
Дверцы кабинки закрылись, поезд понесся вперед, с шипением рассекая воздух.
За последние двадцать лет нью-йоркская медицинская академия значительно выросла как вширь, так и в высоту. Одна библиотека занимала целое крыло на третьем этаже. Разумеется, если бы все содержащиеся в ней книги, брошюры и журналы хранились в их первоначальной печатной форме, не хватило бы и всего здания. Ходили слухи, что количество печатной периодики будет ограничено последними пятью годами вместо десяти, как было сейчас.
Как член академии, Роуз имела свободный доступ ко всем материалам. Она стремительно направилась в отдел внеземной медицины. К огромной ее радости, там никого не оказалось.
Наверное, умнее было бы прибегнуть к помощи библиотекаря, но Роуз решила этого не делать. Чем тоньше и уже будет ее след, тем труднее будет Дрейку его взять.
Она самостоятельно бродила вдоль полок, тревожно перебирая пальцами корешки книг и журналов. Литература была главным образом на английском, хотя попадалось много книг на немецком и русском языках. По странной иронии не оказалось ни одной, написанной внеземными символами. Где-то они, конечно, хранились, но доступ к ним имели только официальные переводчики.
Блуждающий взгляд и палец Роуз остановились. Она нашла то, что искала.
Вытащив со стеллажа с полдюжины томов, она разложила их на небольшом темном столике, открыла первый том: «Очерки по Ингибиции». Быстро пролистав книгу, она обратилась к списку авторов. Среди них был и Харг Толан.
Роуз просмотрела подряд все сноски, затем вернулась к полкам в поисках переводов.
В Академии она провела более двух часов. Под конец ей удалось установить следующее — на планете Гаукина жил и работал доктор по имени Харг Толан, считающийся специалистом по Ингибиционной Смерти. Он был связан с гаукинянским научно-исследовательским обществом, с которым их институт вел активную переписку. Разумеется, побывавший у них пришелец мог просто выдавать себя за доктора Харга Толана с целью втереться в доверие.
Роуз вытащила лист бумаги и там, где стояло слово «профессия» с тремя вопросительными знаками, заглавными буквами написала «ДА». Затем вернулась в институт. В четыре часа вечера она снова сидела за своим столом. Она перезвонила в приемную и предупредила, что не будет отвечать ни на какие звонки, после чего заперла дверь.
В колонке, озаглавленной «Харг Толан», возникли два вопроса:
«Почему Харг Толан прилетел на Землю один?»
Оставив достаточно места, Роуз приписала: «Почему его интересует Бюро пропавших без вести?»
Несомненно, об Ингибиционной Смерти он рассказал ей всю правду. Из того, что она вычитала в Академии, выходило, что Смерть представляла серьезнейшую проблему для медицины планеты Гаукина. Ее боялись больше, чем на Земле боятся рака. Если бы гаукиняне всерьез полагали, что ответ может быть найден на Земле, они бы прислали хорошо укомплектованную научную экспедицию. Неужели недоверие и подозрение побудили их ограничиться только одним исследователем?
О чем еще говорил накануне гость? Заболеваемость Смертью самая высокая в его мире, ближайшем к Земле, и самая низкая в наиболее удаленной от Земли цивилизации. Если присовокупить сюда вычитанную в библиотеке информацию о том, что частота заболевания резко возросла с момента установления с Землей межзвездных контактов…
Роуз медленно и неохотно приходила к страшному выводу. Жители планеты Гаукина могли решить, что Земля сумела справиться с Ингибиционной Смертью и теперь преднамеренно распространяет это заболевание среди народов галактики, намереваясь стать звездным лидером.
Роуз в ужасе отбросила эту мысль. Подобное было совершенно исключено. Во-первых, Земля никогда не пошла бы на такой поступок, во-вторых, она не смогла бы осуществить подобный замысел с технической точки зрения.
В плане научного развития обитатели планеты Гаукина ни в чем не уступали землянам. Смерть пришла на их планету более тысячи лет назад, и медицина гаукинян оказалась совершенно бессильна. Разумеется, Земля не успела бы за короткий срок провести успешные биохимические исследования. Вообще, насколько было известно Роуз, никто из земных биологов и врачей никогда не занимался патологией гаукинян.
Между тем все указывало на то, что Харг Толан прибыл на Землю с сильными подозрениями — и с такими же подозрениями был на Земле принят.
Роуз осторожно вывела под вопросом «Почему Харг Толан прилетел на Землю один?» ответ: «На планете Гаукина считают, что Земля распространяет Ингибиционную Смерть».
Но что тогда означали его расспросы о Бюро пропавших без вести? Как ученый, Роуз относилась к собственным теориям с беспощадной строгостью. В общую схему должны укладываться все факты, все, до единого, а не только некоторые.
Бюро пропавших без вести!.. Если это хитрый ход, придуманный, чтобы пустить Дрейка по ложному следу, то сделан он был спустя всего час после обсуждения Ингибиционной Смерти.
А может, замысел состоял в том, чтобы изучить Дрейка? Если так, то зачем? Или это и есть главная цель гостя? Гаукинянин наводил о Дрейке справки, прежде чем прийти к ним в дом. Может быть, для него важно, что Дрейк полицейский и имеет доступ в Бюро без вести пропавших?
Но почему? Зачем?
Роуз сдалась и перешла к колонке, озаглавленной «Дрейк».
И тогда вопрос оформился самостоятельно, не при помощи чернил, ручки и бумаги, а яркими, сияющими в сознании буквами: «Почему он на мне женился?»
Роуз прикрыла глаза руками, чтобы приглушить неприятный, режущий свет.
Они повстречались совершенно случайно, около года назад, когда Дрейк переехал в ее многоквартирный дом. Вежливые приветствия мало-помалу переросли в дружеские беседы, которые, в свою очередь, перешли в совместные обеды в ближайшем ресторанчике. Все было очень приятно, нормально и здорово. Роуз не успела оглянуться, как влюбилась.
Когда он сделал ей предложение, она обрадовалась… и растерялась. Хотя тогда это показалось ей вполне естественным. Он оценил ее ум и манеры. Она была симпатичной девушкой. Из нее вышла бы хорошая супруга и отличный спутник жизни.
Роуз перепробовала все объяснения и наполовину поверила в каждое из них. Ей не хватало только другой половины.
Не то чтобы она видела в Дрейке серьезные недостатки. Как супруг, он всегда был внимателен, заботлив и воспитан. Их семейная жизнь строилась не на страсти, но вялые эмоциональные запросы женщины тридцати с лишним лет худо-бедно удовлетворялись. В конце концов, ей не девятнадцать. Чего она ждала?
Вот и ответ. Ей не девятнадцать. Она не красива, не очаровательна и не ослепительна. Чего она ждала? Могла ли она рассчитывать на Дрейка — красивого, крутого парня, не обременяющего себя интеллектуальными поисками? За все месяцы совместной жизни он ни разу не поинтересовался ее делами и ни разу не поделился своими проблемами. Почему, в самом деле, он на ней женился?
На этот вопрос она не находила ответа; впрочем, вопрос и не имел отношения к тому, что она собиралась сделать. Все это лишнее, яростно убеждала себя Роуз; все это детские отговорки, отвлекающие от конкретной задачи, которую она перед собой поставила. В результате она вела себя как девятнадцатилетняя девушка, не имея к этому никаких хронологических оснований.
Роуз заметила, что грифель карандаша сломался, и взяла новый. В колонке, озаглавленной «Дрейк», она написала: «Почему он подозревает Харга Толана?» и провела стрелку, указывающую на другую колонку.
Написанное там являлось вполне удовлетворительным объяснением. Если Земля распространяет Ингибиционную Смерть, или властям известно, что ее подозревают в подобном деянии, тогда естественно, что правительство ожидает ответных действий со стороны других цивилизаций. В этом случае все походило на подготовку к первой в истории межзвездной войне. Ужасно, но, по крайней мере, укладывается в определенную схему.
Теперь оставался второй вопрос, тот, на который Роуз не находила ответа. Она медленно написала на листе. «Почему Дрейк испугался, когда Толан сказал: "Вы самая очаровательная хозяйка"?»
Попробуем восстановить эту сцену. Гаукинянин произнес фразу самым безобидным, вежливым, будничным тоном — и Дрейк застыл от ужаса. Роуз снова и снова прослушивала записанный разговор Землянин мог произнести нечто подобное, покидая заурядную вечеринку. Пленка не сохранила выражения лица Дрейка, но Роуз очень хорошо его запомнила. Глаза Дрейка вспыхнули ненавистью и страхом, а Дрейк никогда ничего не боялся. Что же он нашел страшного во фразе «Вы самая очаровательная хозяйка»? Что могло так вывести его из себя? Ревность? Абсурд. Или ему показалось, что это сказано в насмешку? Возможно, но маловероятно. Похоже, Толан говорил искренне.
Роуз сдалась и поставила под вторым вопросом огромный вопросительный знак. Теперь на ее листке стояло два вопроса, один в графе «Харг Толан», другой — в графе «Дрейк». Была ли связь между интересом Толана к пропавшим без вести и реакцией Дрейка на его вежливую фразу? Роуз ее не видела.
Она опустила голову на руки. В кабинете темнело, и вдруг как-то внезапно навалилась усталость. Какое-то время Роуз пребывала в причудливом состоянии между сном и бодрствованием, когда мысли и слова вырываются из-под контроля сознания и произвольно бродят в голове. Но как бы они ни скакали, какие бы сюрреалистические фигуры ни вытанцовывали, все возвращалось к одной-единственной фразе: «Вы самая очаровательная хозяйка». Временами ее произносил сухой, безжизненный голос Харга Толана, иногда — дрожащий, взволнованный голос Дрейка. Когда говорил Дрейк, голос его был полон любви, той самой, о которой она никогда от него не слышала. Ей нравилось, когда фразу произносил Дрейк.
Роуз вздрогнула и пробудилась. В кабинете стемнело, и она зажгла настольный свет, заморгав и нахмурившись. Очевидно, в полудреме ей пришла в голову новая мысль. Была еще одна фраза, которая чрезвычайно расстроила Дрейка… Какая же?
Роуз задумалась, лоб ее пересекла морщинка. Это произошло не вчера. И на пленку не попало, а значит, все случилось раньше…
Ничего не лезло в голову, и Роуз начала нервничать. Взглянув на часы, она обмерла — почти восемь. Ее уже ждут. Домой, однако, не хотелось.
Роуз медленно взяла со стола лист, на котором записывала пришедшие за день мысли, порвала его на мелкие клочки и бросила в маленькую атомную пепельницу на столе. Последовала мгновенная вспышка, и от них не осталось даже пепла.
Если бы еще и от мыслей ничего не осталось!..
Бесполезно. Все равно надо идти домой.
Как оказалось, ее не ждали. Выходя из подземки, она увидела, как Дрейк и гаукинянин выбираются из гиротакси. Таксист в последний раз ошеломленно взглянул на своих пассажиров, после чего поднялся в воздух и пропал из виду. Следуя молчаливому соглашению, никто из троих не проронил ни слова до тех пор, пока все не вошли в дом.
— Надеюсь, у вас был удачный день, доктор Толан? — равнодушно поинтересовалась Роуз.
— Очень. А также, как мне кажется, весьма примечательный и продуктивный.
— Удалось ли вам перекусить? — Несмотря на то что сама она с самого утра ничего не ела, голода Роуз совершенно не испытывала.
— Да, конечно.
— Нам прислали обед и чай, и еще сандвичи, — устало сказал Дрейк.
— Здравствуй, Дрейк, — поприветствовала его Роуз, впервые обратившись лично к нему.
— Ага, — бросил он, не глядя в ее сторону.
— Ваши помидоры — замечательная вещь, — заметил гаукинянин. — Ни один из наших овощей не сравнится с ними по вкусу. Я, кажется, проглотил не меньше двух дюжин, кроме того, выпил бутылку томатного сока.
— Кетчупа, — уточнил Дрейк.
— Как прошло посещение Бюро пропавших без вести, доктор Толан? — спросила Роуз. — В самом деле продуктивно?
— Совершенно верно. Да.
Поправляя подушки на диване, Роуз повернулась к гостю спиной.
— В чем же?
— Весьма примечательно, что большинство пропавших без вести людей — мужчины. Как правило, жены заявляют о пропаже мужей. Обратного почти никогда не происходит.
— О, тут нет ничего загадочного, доктор Толан. Вы просто не знаете сложившейся на Земле экономической ситуации. На этой планете ведущую роль в семье играет, как правило, мужчина. Именно его труд позволяет содержать семью. Жена тоже работает, но в ее обязанности входит, главным образом, Забота о доме и детях.
— Вот уж действительно, никогда бы не подумал!
— Бывают исключения, — вставил Дрейк. — Моя жена, например, в состоянии жить совершенно самостоятельно.
Роуз бросила на него быстрый взгляд. Нет ли здесь сарказма?
— Значит, вы полагаете, миссис Смоллет, — произнес гаукинянин, — что женщине сложнее потеряться в силу ее экономической зависимости от мужчины?
— Вы весьма обтекаемо выразились, — улыбнулась Роуз, — но в принципе все правильно.
— Считаете ли вы нью-йоркское Бюро по розыску пропавших без вести типичным примером подобных учреждений по всей планете?
— Да, пожалуй.
Неожиданно резко гаукинянин спросил:
— Тогда существует ли экономическое обоснование того факта, что с началом межзвездных полетов процент пропавших молодых мужчин резко возрос?
На этот раз ответил Дрейк:
— Боже милосердный, да здесь все еще проще! Теперь для беглецов открыт космос. Чтобы избавиться от всех проблем сразу, человеку достаточно подняться на борт любого грузового корабля. Они постоянно набирают команды, не задают лишних вопросов, и, если беглец действительно решил выпасть из поля зрения, разыскать его практически невозможно. Кстати, подобные мысли нередко приходят людям в голову на первом году семейной жизни.
Роуз неожиданно рассмеялась:
— Ну да, тот самый период, когда человеку все его беды кажутся непреодолимыми. Если удается продержаться первый год, бежать уже нет смысла.
Дрейку ее шутка не понравилась. Роуз снова задумалась, в чем причина его усталости и дурного расположения духа. Почему он так хочет нести свой груз в одиночку? А может, вдруг подумала она, это его долг?
Неожиданно гаукинянин произнес:
— Вас не обидит, если я на некоторое время отключусь?
— Вовсе нет, — заверила его Роуз. — Надеюсь, вы не сильно переутомились. Вы прибыли с планеты, где сила притяжения больше, чем на Земле. Боюсь, мы поспешили с выводом, что у нас вы не будете уставать.
— Да я, собственно, физически и не устал. — Гость посмотрел на свои ноги и быстро заморгал, что означало удивление. — Знаете, когда я в первый раз увидел ваши опорные конечности, я был уверен, что земляне то и дело падают вперед или назад. Простите, если мое замечание покажется вам слишком фамильярным, но я подумал об этом, когда вы вспомнили про меньшую силу тяжести на Земле. На моей планете двух ног просто не хватило бы. Хотя к делу, конечно, это не относится. Мне здесь приходится усваивать столько много нового и необычного, что временами тянет ненадолго отключиться.
В душе Роуз пожала плечами. Как удалось выяснить экспедициям на планету Гаукина, гаукиняне обладали способностью отключать сознание от прочих функций организма и погружаться в медитацию, которая могла длиться несколько земных дней. Гаукиняне находили это занятие весьма приятным, а временами и необходимым, однако земляне так толком и не поняли, какую функцию оно выполняет.
Точно так же землянам не удавалось объяснить гаукинянам, равно как и прочим внеземным существам, понятие сна. То, что земляне называли сном, для гаукинян являлось тревожным сигналом умственного распада.
Еще одна уникальная особенность жителей Земли, с тревогой подумала Роуз.
Гость попятился и вежливо поклонился, коснувшись передними конечностями пола. Дрейк сухо кивнул, пришелец скрылся за поворотом коридора. Слышно было, как открылась и закрылась дверь его комнаты, после чего наступила тишина.
Молчание становилось невыносимым. Дрейк нервно передернулся, и стул под ним резко заскрипел. Роуз с легким ужасом заметила, что на губах мужа выступили капельки крови.
«У него серьезные неприятности. Я должна с ним поговорить. Я не могу этого так оставить!» — подумала она и сказала:
— Дрейк!
Казалось, он смотрел на нее откуда-то издалека. Наконец Дрейк произнес:
— Что? Твой день тоже закончился?
— Нет. Хочешь мне что-то объяснить?
— Не понял?
— Вчера ночью ты сказал, что поговоришь со мной завтра. Я готова.
Дрейк нахмурился. Глаза мужа исчезли под нависшими бровями, и Роуз почувствовала, как ее решимость улетучивается.
— Я думал, мы договорились о том, что ты не станешь соваться в мои дела, — произнес он.
— Поздно. Я уже слишком много знаю о твоих делах.
— Что ты имеешь в виду? — закричал он, вскакивая на ноги. В следующую секунду Дрейк вцепился в плечи Роуз и тихо повторил: — Что ты имеешь в виду?
Роуз разглядывала безвольно лежащие на коленях руки. Не обращая внимания на боль в плечах, она медленно произнесла:
— Доктор Толан считает, что Земля умышленно распространяет Ингибиционную Смерть. Это так?
Роуз ждала. Постепенно захват ослаб, он уронил руки и застыл перед ней с несчастным и побитым видом.
— С чего ты взяла?
— Это правда или нет?
Неестественным, безжизненным голосом Дрейк произнес:
— Я хочу знать точно, почему ты так решила. И не вздумай корчить из себя дуру.
— Если я скажу, ответишь на один вопрос?
— Какой вопрос?
— Правда ли то, что Земля действительно распространяет Ингибиционную Смерть?
Дрейк простер руки к небу:
— Ради всего святого, Роуз!
Он опустился на колени. Потом взял ее за руки, и она почувствовала, как муж дрожит. Мягким, заботливым голосом Дрейк сказал:
— Послушай, Роуз, дорогая, тебе удалось раскопать жареный факт, и ты думаешь, что сумеешь с его помощью меня подразнить, как это порой бывает между супругами. Не надо. Я прошу у тебя самую малость. Ты просто объясни мне подробно, почему ты сказала то, что только что сказала. — В словах его звучала неподдельная искренность.
— Сегодня я была в нью-йоркской медицинской академии. Кое-что почитала.
— Но почему? Что тебя заставило туда поехать?
— Во-первых, ты слишком заинтересовался Ингибиционной Смертью. Во-вторых, доктор Толан заявил, что заболеваемость резко возросла с началом межзвездных контактов, а их планета к нам ближайшая…
Роуз замолчала.
— Что ты вычитала? — подсказал он. — Расскажи, что ты вычитала, Роуз.
— Все подтверждается, — произнесла она. — Я просмотрела направления исследований гаукинян последние десятилетия. Мне стало ясно, что по крайней мере некоторые из их ученых считают, что Ингибиционная Смерть возникла на Земле.
— Они это утверждают?
— Нет. Во всяком случае прямых утверждений я не нашла. — Она удивленно посмотрела на мужа. Если бы все действительно было так, правительство давно бы перепроверило исследования гаукинян по данному вопросу. Она осторожно поинтересовалась:
— Ты разве незнаком с результатами их работы, Дрейк? Правительство.
— Какое там правительство! — Муж снова резко повернулся к ней. Глаза его сверкали. Возбужденно, словно он только что совершил важное открытие, Дрейк воскликнул: — Послушай, а ведь ты в этом разбираешься!
В самом деле? Неужели он только сейчас понял, как она ему нужна?
Ноздри Роуз раздулись, и она торжественно объявила:
— Я — биолог.
— Ну да, я знаю, — сказал он. — Я имел в виду, что ты как раз занимаешься проблемой роста. Помнишь, ты мне как-то говорила, что занимаешься ростом?
— Ну, можно, наверное, выразиться и так. В рамках предоставленного мне гранта от «Общества по исследованию рака» я опубликовала двадцать статей, посвященных зависимости эмбрионального развития от кислотной структуры клеточного.
— Это хорошо. Да, теперь вспомнил… — Новая волна возбуждения охватила Дрейка. — Скажи мне, Роуз… Послушай, мне очень жаль, что я не сдержался минуту назад. Ты ведь можешь оценить направление их исследований лучше, чем кто-либо другой, так?
— Я оценю их достаточно профессионально, да.
— Тогда объясни мне, как, по мнению гаукинян, распространяется болезнь? Мне нужны детали.
— Ты просишь слишком много. Я провела в библиотеке всего несколько часов. Для ответа на твой вопрос мне нужно гораздо больше времени.
— Ну, выдай, по крайней мере, компетентную догадку. Ты даже не представляешь, насколько это важно. Роуз с сомнением произнесла:
— Попробую. «Очерки по Ингибиции» являются важнейшим трудом в данной области. В них содержится итог всех проведенных исследований.
— Вот как? Насколько это современно?
— Я просматривала периодику. Последний номер примерно годовой давности.
— Приводится ли там список его трудов? — Дрейк ткнул пальцем в сторону комнаты Харга Толана.
— Более чем кого-либо другого. Он выдающийся исследователь данной проблемы. Я особо тщательно просмотрела его работы.
— Что он думает о происхождении этой болезни? Постарайся вспомнить, Роуз.
Она покачала головой:
— Готова поклясться, что он винит в этом Землю, но вместе с тем он признает, что им ничего неизвестно о способах распространения болезни. В этом я тоже могу поклясться.
Дрейк стоял перед ней, стиснув могучие кулаки, и бормотал едва различимо:
— Все может измениться в любую минуту…
Он резко повернулся к двери.
— Я выясню это прямо сейчас. Спасибо тебе за помощь, Роуз.
— Что ты собираешься делать? — воскликнула она, бросаясь следом за мужем.
— Задам ему пару вопросов. — Дрейк выдвинул ящик комода, порылся в нем и вытащил пистолет-инжектор.
— Нет! — завизжала она.
Он грубо отшвырнул ее в сторону и зашагал по коридору.
Дрейк распахнул дверь и вошел в комнату пришельца. Роуз суетилась сзади, пытаясь схватить его за руку. Он замер, глядя на Харга Толана.
Гаукинянин стоял без движения, взгляд его блуждал в пространстве, а четыре опорных конечности были растопырены в разные стороны.
Роуз смутилась. Ей показалось, что своим вторжением они нарушили глубоко интимный ритуал. Но Дрейк, которому, судя по его виду, было на все наплевать, подошел к пришельцу на расстояние четырех футов и остановился. Они стояли лицом к лицу, при этом Дрейк держал пистолет-инжектор на уровне центра туловища гаукинянина.
— Теперь спокойно, — процедил Дрейк. — Он постепенно начинает чувствовать мое присутствие.
— Откуда ты знаешь?
— Знаю! — рявкнул Дрейк. — Убирайся!
Роуз, однако, не пошевелилась, а Дрейк был слишком поглощен, чтобы обращать на нее внимание.
На лице гаукинянина задрожали складки кожи. Зрелище было отвратительным, и Роуз невольно отвернулась.
Неожиданно Дрейк произнес:
— Достаточно, доктор Толан. Не стоит подключать конечности. Нам хватит органов восприятия и голосовых связок.
— Почему вы вошли в мою комнату отключения? — тихим голосом спросил гаукинянин. — И почему вы вооружены? — добавил он уже громче.
Голова его слабо заворочалась на еще безжизненном торсе. Очевидно, он послушался Дрейка и не подключил конечности. Интересно, подумала Роуз, откуда Дрейк узнал о возможности частичного подключения? Она об этом ничего не слышала.
— Чего вы хотите? — спросил гаукинянин.
— Ответа на некоторые вопросы, — произнес Дрейк.
— С пистолетом в руке? Я не собираюсь потакать вашему хамству.
— Вы мне не потакаете. Считайте, что вы спасаете свою жизнь.
— В данных обстоятельствах она не играет для меня большой роли. Очень жаль, мистер Смоллет, что на Земле столь превратно толкуют понятие гостеприимства.
— Вы не являетесь моим гостем, доктор Толан, — возразил Дрейк — Вы проникли в мой дом под ложным предлогом. Вы преследовали грязные цели и намеревались использовать меня в своих интересах. Теперь я без угрызений совести поверну этот процесс в обратную сторону.
— Лучше застрелите меня. Не стоит терять время.
— Уверены, что не станете отвечать на мои вопросы? Это подозрительно само по себе. Выходит, ответы для вас важнее жизни?
— Для меня важны понятия порядочности. Вам, землянину, это трудно понять.
— Наверное, трудно. Но, будучи землянином, я понял другое.
Дрейк резко метнулся вперед. Роуз не успела воскликнуть, а гаукинянин не успел пошевелить конечностями, как в руке Дрейка оказался гибкий конец цилиндра с цианистым калием. В углу широкого рта, в том месте, где был закреплен шланг, грубая кожа гаукинянина треснула и разорвалась. Из раны вытекло небольшое количество бесцветной жидкости; по мере окисления она медленно превращалась в коричневую желеобразную массу.
Дрейк дернул за шланг, и цилиндр вылетел из крепления. В следующий миг Дрейк нажал на контролирующую клапан кнопку, и тихое шипение прекратилось.
— Не думаю, чтобы утечка оказалась для нас опасной, — сказал он. — Надеюсь, теперь вы наконец поймете, что с вами произойдет, если вы не станете отвечать на мои вопросы, причем так, чтобы у меня не возникло сомнений в вашей искренности.
— Верните цилиндр, — медленно произнес гаукинянин. — Если вы этого не сделаете, я буду вынужден на вас напасть, и вам придется убить меня.
— Не обязательно, — сказал Дрейк, отступив на несколько шагов. — Попробуйте напасть — и я отстрелю вам ноги; если понадобится, то все четыре. Умереть вы не умрете, но будет мучительно больно. Погибнете вы позже, от нехватки цианида. Вас ждет крайне неприятная смерть. Я всего лишь землянин и не могу оценить всего ее ужаса, но вы, я надеюсь, понимаете, о чем идет речь?
Гаукинянин разинул пасть, внутри которой шевелилось что-то желто-зеленое. Роуз едва не стошнило. Ей хотелось завизжать: «Дрейк, отдай цилиндр!», но она не смогла даже повернуть головы.
— Полагаю, пройдет около часа, доктор Толан, прежде чем процесс станет необратимым. Говорите, и получите свой цилиндр назад.
— А потом.
— Потом будет лучше. Даже если я вас пристрелю, вы умрете достойно, а не задохнетесь от нехватки цианида.
Похоже, с гаукинянином что-то начало происходить. Голос его сделался утробным, а слова слились в сплошную кашу, словно ему уже не хватало энергии на английское произношение.
— Что вы хотите узнать? — промычал он, не сводя глаз с цилиндра.
Дрейк поднял цилиндр и потряс им перед лицом гаукинянина.
— Расскажите о своей теории Ингибиционной Смерти. Зачем вы на самом деле прилетели на Землю? Почему заинтересовались Бюро пропавших без вести?
Роуз замерла в тревожном ожидании. Ей тоже хотелось задать эти вопросы. Разумеется, в другой обстановке, но в работе Дрейка необходимость считалась более важным понятием, чем доброта и человечность.
Она несколько раз повторила эту мысль, стараясь унять поднимающуюся в душе ненависть к мужу за то, как он обращается с доктором Толаном.
— Серьезный ответ займет более отведенного мне часа. Вы смертельно унизили меня, заставив говорить под принуждением. На моей планете такое невозможно ни при каких обстоятельствах. Только в вашем омерзительном мире меня могли лишить цианида.
— Вы впустую тратите свой час, доктор Толан.
— Рано или поздно я все сказал бы сам, мистер Смоллет. Мне нужна ваша помощь. За этим я и прилетел.
— Вы по-прежнему не отвечаете на мои вопросы.
— Отвечу. Несколько лет помимо своей обычной научной деятельности я занимался изучением клеток больных, страдающих Ингибиционной Смертью. Методы, которыми я пользуюсь, вызывают осуждение у большинства моих сограждан, поэтому мне приходилось работать без помощников в обстановке строгой секретности. Думаю, что в вашем обществе так же неприязненно относятся к вивисекции людей. По этой причине я хотел подтвердить полученные результаты здесь, на Земле, прежде чем предоставить их на суд моих коллег.
— В чем заключается ваша теория? — спросил Дрейк. Глаза его вновь загорелись яростным огнем.
— Чем больше я работал, тем яснее мне становилось, что исследования Ингибиционной Смерти идут в неверном направлении. В физическом плане проблема решения не имеет. Ингибиционная Смерть является исключительно болезнью сознания.
— Конечно, это не психосоматическая болезнь, доктор Толан, — вмешалась Роуз.
— Тонкая серая пленка затянула глаза гаукинянина. Он больше не смотрел в их сторону. Слабеющим голосом пришелец пробормотал:
— Да, миссис Смоллет, это не психосоматическое заболевание. Это настоящая болезнь разума, умственная инфекция. У моих больных было двойное сознание. Под обычным, нормальным сознанием находился чужой разум. Я работал с пациентами разных рас, страдающими Ингибиционной Смертью, и повсеместно наблюдал ту же самую картину. Другими словами, мыслящих рас в галактике не пять, а шесть. И шестая является паразитом.
— Но это дико… и невозможно! — воскликнула Роуз. — Вы ошибаетесь, доктор Толан!
— Нет. До прилета на Землю я еще допускал возможность ошибки. Но, побывав в институте и проведя исследование в Бюро пропавших без вести, я убедился в своей правоте. Почему концепция паразитического разума представляется вам невозможной? Если его единственная функция заключается в добывании пищи за счет умственной деятельности других созданий, такой паразит не оставит после себя ни останков, ни прочих продуктов жизнедеятельности.
Несложно представить, что паразитический разум за миллионы лет эволюции мог утратить все физические атрибуты, сохранив за собой единственную необходимую функцию. В качестве примера можно привести обитающего на Земле ленточного червя, не способного ни к чему, кроме размножения. Существование паразитического разума неизбежно предполагает исчезновение со временем его физических атрибутов. В результате не останется ничего, кроме чистого сознания, существующего за счет пока не ясной для нас функции чужого интеллекта. В частности, интеллекта землян.
— Почему именно землян? — спросила Роуз.
Дрейк отступил еще на один шаг, замер и вопросов больше не задавал. Он был доволен, что гаукинянин наконец заговорил.
— Неужели вам не приходило в голову, что шестой разум зародился на Земле? Человечество с самого начала жило с ним, адаптировалось к нему и перестало его замечать. В этом и заключается причина того, что высшие животные Земли, в том числе и человек, перестают расти с достижением зрелости, а потом умирают от так называемой естественной смерти. Это результат всеобщей паразитической инфекции. Отсюда и ваш сон со сновидениями. Сон как раз и есть тот период, когда кормится разум-паразит; может быть, в эти минуты вы хотя бы относительно осознаете его присутствие. Этим же объясняется, что земное сознание — единственное нестабильное сознание из всех известных. Где еще во всей галактике вы найдете раздвоение личности и прочие подобные проявления? Да что там говорить, посмотрите вокруг, и вы заметите немало людей, чье сознание поражено разумом-паразитом!
Каким-то образом разуму-паразиту удалось пересечь пространство. В физическом плане он ничем не ограничен. Он способен впадать в спячку и в этом состоянии пересекать огромные расстояния. Почему это сделал первый из них, я не знаю; вероятно, этот вопрос так и останется тайной. Но едва стало ясно, что в галактике существуют другие мыслящие миры, обозначился слабый, но устойчивый поток паразитического сознания через космос. Очевидно, мы, представители других мыслящих рас, оказались для паразита неслыханным лакомством, ибо ему надо прилагать чудовищные усилия, чтобы до нас добраться. Полагаю, далеко не всем удается преодолеть немыслимый путь, но те, кто достиг цели, считают, что игра стоила свеч.
Однако мы, как и жители других миров, не жили с паразитом в течение миллионов лет, в отличие от человека и его предков. Мы не успели адаптироваться. Наши слабые особи не вымирали на протяжении сотен поколений, пока не остались лишь самые выносливые. Другими словами, если земляне способны переносить инфекцию десятилетиями, прочие мыслящие существа погибают в течение года.
— Поэтому вы связываете рост заболеваний с началом межзвездных контактов между Землей и другими мирами?
— Да. — На некоторое время наступило молчание, затем гаукинянин встрепенулся и неожиданно энергично произнес: — А теперь верните мой цилиндр. Я ответил на ваш вопрос.
— Как насчет Бюро пропавших без вести? — холодно поинтересовался Дрейк Он снова потряс цилиндром, но на этот раз гаукинянин на него даже не взглянул. Серая пленка на его глазах загустела Роуз не могла понять, что это — обычная усталость или первые признаки недостатка цианида.
Гаукинянин сказал:
— Точно так же, как мы не приспособлены к разуму, паразитирующему на людях, так и инфекция еще не приспособилась к нам. Сознание-паразит может существовать в нашем мозгу, но не может размножаться, имея нас в качестве единственного хозяина и носителя. Другими словами, Ингибиционная Смерть не является непосредственным заразным заболеванием для нашего народа.
Роуз в ужасе уставилась на пришельца:
— К чему вы клоните, доктор Толан?
— Жители Земли остаются основными хозяевами паразита. Землянин может заразить любого из нас при непосредственном контакте. Но поселившийся в нашем сознании, паразит не способен размножаться. Для этого ему надо любой ценой попасть снова к землянину. До начала межзвездных контактов ему приходилось отправляться обратно через космическое пространство, что существенно сдерживало распространение болезни. Сегодня мы заражаемся, в том числе и повторно, благодаря путешествующим по галактике землянам.
— А пропавшие без вести… — едва слышно пробормотала Роуз.
— Являются промежуточными хозяевами. Конечно, я еще не разобрался в точном механизме этого процесса. Но, похоже, сознание землян мужского пола лучше приспособлено для этой цели. Помните, мне сообщили в институте, что средняя продолжительность жизни мужчины на три года меньше, чем у женщины. Как только происходит размножение, инфицированный мужчина покидает Землю и отправляется на космическом корабле в другие миры. Он исчезает.
— Но это невозможно, — возразила Роуз. — Ваши слова означают, что сознание-паразит контролирует поступки хозяина! Если бы это было так, на Земле давно бы заметили присутствие чужаков.
— Подобный контроль, миссис Смоллет, заметить почти невозможно, более того, он скорее всего осуществляется исключительно в период активного воспроизведения. Я не случайно обратился в Бюро пропавших без вести. Почему исчезают молодые мужчины? У вас существуют на этот счет экономические и психологические объяснения, но их явно недостаточно… Я очень плохо себя чувствую и больше не могу говорить. Скажу лишь одно. Ваш и мой народы имеют в лице паразитирующего сознания общего врага. Земляне тоже не должны погибать против своей воли. Поскольку мои результаты были добыты не стандартными методами, меня бы вряд ли поняли на Гаукине. Я хотел представить их властям Земли и обратиться к ним за помощью в искоренении болезни. Представьте мою радость, когда я узнал, что супруг одного из биологов института является членом важнейшей правительственной силовой структуры. Естественно, я сделал все, что было в моих силах, чтобы попасть в ваш дом на правах гостя. Я хотел переговорить с вами в частном порядке, убедить вас в ужасной правде и использовать положение мужа для атаки на паразитов.
Теперь, конечно, это невозможно. Я вас не виню. Нельзя было ожидать, что земляне поймут психологию моей расы. Так или иначе, вы должны усвоить следующее. После того, что случилось, я не могу с вами общаться. Более того, я не намерен больше оставаться на Земле.
— Выходит, — произнес Дрейк, — что вы один из всего вашего народа знакомы со своей теорией?
— Я один.
Дрейк протянул цилиндр:
— Ваш цианид, доктор Толан.
Гаукинянин жадно вытянул передние конечности. Его гибкие пальцы умело манипулировали со шлангом и выпускным клапаном. Спустя десять секунд он приладил трубку и принялся жадно вдыхать газ.
Дрейк дождался, когда его дыхание успокоится, а потом хладнокровно поднял пистолет и выстрелил. Роуз завизжала.
Гаукинянин продолжал стоять. Его четыре конечности не могли согнуться, но голова отвалилась вбок, а из отвисшего дряблого рта вывалился шланг с цианистым калием. Дрейк снова заткнул клапан, отшвырнул цилиндр в сторону и мрачно уставился на мертвое существо.
По внешнему виду никоим образом нельзя было догадаться, что оно убито. Крошечная пулька из пистолета-инжектора, еще меньшая, чем диаметр иглы, давшей название этому оружию, бесшумно и легко пробила тело и разорвалась в брюшной полости, причинив страшные повреждения.
Роуз с диким криком выскочила из комнаты. Дрейк кинулся следом и схватил ее за руку. Она слышала тяжелые, мощные шлепки его ладони по своему лицу, но боли не ощущала. Потом Роуз разрыдалась.
— Я тебе говорил, не суйся в это дело, — прорычал Дрейк. — Что ты теперь собираешься делать?
— Пусти меня! — выкрикнула она. — Я хочу уйти. Я хочу уйти насовсем!
— Из-за того, что я выполнил свой долг? Ты же слышала, что наговорил этот монстр. По-твоему, я мог позволить ему улететь и распространять эти враки дальше? Представь, что произойдет, если ему поверят? Ты в состоянии вообразить результаты межзвездной войны? А если им придет в голову уничтожить нас всех, чтобы остановить эту болезнь?
С усилием, от которого все внутри нее перевернулось, Роуз взяла себя в руки. Она твердо посмотрела в глаза Дрейку и произнесла:
— То, что сказал доктор Толан, не ложь и не ошибка, Дрейк.
— Ладно, хватит глупостей. Тебе надо поспать.
— Я знаю, что он сказал правду, потому что в Комиссии по безопасности знакомы с этой теорией и признают ее правоту.
— Откуда ты взяла эту чушь?
— Ты сам дважды проговорился.
— Сядь, — приказал Дрейк. Роуз опустилась на диван, и он вопросительно на нее посмотрел. — Значит, я дважды прокололся, так? У тебя выдался сложный денек, дорогая. Похоже, ты запуталась в своем расследовании. Есть вещи, которые следует хранить в тайне — Он тоже сел и скрестил ноги.
Да, подумала Роуз, денек выдался нелегкий. Со своего места она могла видеть электрические часы на кухонной стене; они показывали два часа после полуночи. Тридцать пять часов назад Харг Толан вошел в их дом. Теперь он мертвый валялся в отведенной ему спальне.
— Ну, — произнес Дрейк, — расскажи мне, где же я допустил промах?
— Ты побледнел, когда Харг Толан назвал меня очаровательной хозяйкой. Слово «хозяйка» имеет два значения, Дрейк. Хозяин — это еще и тот, за чей счет существует паразит.
— Раз, — кивнул Дрейк. — А еще?
— Это произошло до прихода Харга Толана. Ты, наверное, забыл, Дрейк. Ты говорил о том, как неприятно для гаукинян общаться с землянами, а я сказала, что Харг Толан — доктор и это его работа. Потом я спросила, неужели ты думаешь, что нашим докторам нравится ездить в тропики и позволять комарам пить их кровь. Помнишь, как ты разозлился?
Дрейк рассмеялся.
— Вот уж не думал, что меня так легко расколоть. Комары — это хозяева для паразитов малярии и желтой лихорадки. — Он вздохнул. — Я всеми силами старался держать тебя подальше от этого дела. Я очень не хотел пускать гаукинянина в наш дом. Я даже попробовал тебя запугать. Теперь мне не остается ничего другого, как сказать тебе правду. Я вынужден это сделать, поскольку только правда или смерть могут тебя успокоить. А убивать тебя я не хочу.
Роуз вытаращила глаза и забилась в самый угол дивана.
— Комиссия знает все, — проговорил Дрейк. — Но никакой пользы нам от этого нет. Мы можем лишь не допустить распространения информации среди других миров.
— Правду нельзя прятать вечно! Харг Толан ее узнал. Ты убил его, но другой пришелец повторит его открытие, а потом третий, четвертый… Нельзя убить их всех.
— И это мы знаем, — сказал Дрейк. — У нас нет выбора.
— Почему? — крикнула Роуз. — Харг Толан предложил выход. Он ничего не говорил об угрозах и войне миров. Он предложил нам объединить усилия с учеными других цивилизаций и вместе истребить паразита. Мы в состоянии это сделать! Если мы, в содружестве с остальными, приложим все усилия…
— Хочешь сказать, что им можно верить? Он что, говорил от имени своего правительства или правительств других миров?
— Мы были обязаны пойти на риск!
— Ты просто не понимаешь, — Дрейк наклонился и взял в свои ладони ее непослушные, холодные руки. — Может, тебе покажется смешным, что я берусь учить тебя твоей же специальности, но я хочу, чтобы ты меня выслушала. Харг Толан был прав. Человек и его доисторические предки жили с паразитическим разумом в течение бессчетных столетий, гораздо дольше, чем существует вид Homo sapiens. За это время мы не только к нему адаптировались, мы стали от него зависеть. Это уже не паразит. Это пример взаимного сотрудничества. У вас, биологов, существует специальный термин.
Роуз выдернула руку.
— О чем ты говоришь? О симбиозе?
— Именно. Не забывай, что у нас есть свое заболевание, прямо противоположное тому, которым страдают остальные разумные расы, — неконтролируемый рост клеток. Мы уже упоминали о нем по контрасту с Ингибиционной Смертью. Ну, теперь скажи мне, что является причиной рака? Сколько лет биологи, физиологи, биохимики и все прочие работают над этой проблемой? И многого ли достигли? А почему? Можешь ответить?
— Нет, — медленно произнесла Роуз, — не могу. К чему ты клонишь?
— К тому, что, если мы сумеем избавиться от паразита, мы получим вечный рост и вечную жизнь, во всяком случае до тех пор, пока нам не надоест расти или жить, после чего мы всегда сможем поставить аккуратную точку. Но с тех пор как человеческое тело утратило способность к неограниченному росту, прошло слишком много миллионов лет. Сможет ли оно вернуться в прежний режим? Готово ли оно к этому химически? Достаточно ли у него… ну, как вы их называете.
— Ферментов, — прошептала Роуз.
— Да, ферментов. Так вот, для нас это стало невозможным. Если в силу каких-либо причин паразитический разум, как называет его Харг Толан, действительно покинет тело человека или окажутся нарушены его взаимоотношения с человеческим сознанием, рост, конечно, начнется, только не тот, который нам нужен. У нас такой рост называется раком. Вот и все. Мы не можем избавиться от паразита. Мы с ним повязаны навечно. Чтобы покончить с Ингибиционной Смертью, жителям других миров придется стереть с лица Земли всех позвоночных. У них нет другого выхода, и мы не должны допустить, чтобы они это поняли. Теперь тебе ясно?
Пересохшими губами Роуз с трудом произнесла:
— Я поняла, Дрейк. — Она заметила, что лоб его был мокрым и на щеках остался след от ручейков пота. — Теперь тебе придется вытащить труп из дома.
— Время позднее, проблем с этим не будет. Начиная с этой минуты, — муж пристально посмотрел ей в глаза, — я не знаю, когда я вернусь.
— Я поняла, Дрейк, — повторила Роуз.
Харг Толан оказался тяжелым. Дрейку пришлось волочить его через всю квартиру. Роуз с содроганием отвернулась. Она не открывала глаз, пока не услышала, как закрылась входная дверь. Затем она еще раз прошептала:
— Я поняла, Дрейк.
Было три часа утра. Прошел почти час с тех пор, как за Дрейком и его ношей мягко защелкнулся замок. Она не знала, куда он пошел и что собирался делать.
Роуз тупо смотрела в одну точку. Ни спать, ни вообще шевелиться не хотелось. Она гоняла мысли по тесному кругу, стараясь не думать о том, что узнала и что хотела узнать.
Сознание-паразит! Случайность или причудливая расовая память, тонкий, стойкий аромат традиций и озарений, уходящих в глубины неправдоподобных тысячелетий, поддерживали странный миф о происхождении человека? Прежде всего, на Земле было две мыслящих расы: люди в садах Эдема — и змей «хитрее любого зверя в полях» Змей заразил человека и потерял из-за этого свои конечности. Его физические атрибуты оказались лишними. А человек вследствие заражения потерял райский сад и вечную жизнь. В мир пришла смерть.
Несмотря на все усилия Роуз, круг ее мыслей расширялся и тяготел к Дрейку. Она прогоняла эти мысли, но они возвращались. Она начинала считать про себя и перечислять названия предметов, находящихся в поле зрения. Под конец она стала выкрикивать «Нет, нет, нет», но мысли возвращались, и спасения от них не было.
Дрейк ее обманул. Его версия выглядела вполне правдоподобно и вполне сошла бы за правду при других обстоятельствах, но Дрейк не был биологом. Рак не может быть болезнью, обусловленной утраченной способностью к нормальному росту. Раком заболевают еще растущие дети, он способен поразить даже эмбриональную ткань. Он встречается у рыб, которые, как мыслящие существа с других планет, растут всю жизнь и умирают только из-за болезни или несчастного случая. Рак поражает не обладающие сознанием растения, на которых нельзя паразитировать. Рак не зависит от роста или его отсутствия, это универсальная болезнь всего живого. Ни одна ткань и ни один многоклеточный организм не обладают против него полным иммунитетом.
Не стоило Дрейку утруждать себя враньем. Он не имел права на сентиментальную слабость. Он должен был убить ее. Она расскажет обо всем в институте. Паразит может быть побежден. Его отсутствие не вызовет заболевания раком. Но кто ей поверит?
Роуз прикрыла глаза руками. Пропавшие без вести молодые мужчины находились, как правило, на первом году семейной жизни. Каким бы ни был процесс размножения сознания-паразита, он должен включать в себя близкий контакт с другим паразитом, — другими словами, между их хозяевами должно существовать близкое и продолжительное общение. Такое обычно бывает на первом году совместной жизни.
Роуз чувствовала, как ее мысли медленно отключаются. К ней придут. Ее спросят: «Где Харг Толан?» А она ответит: «С моим мужем». Только они все равно спросят: «А где ваш муж?» — потому что его тоже не будет. Она ему больше не нужна. Он никогда не вернется. И они никогда его не найдут, потому что он улетит в космос. А она заявит в Бюро пропавших без вести сразу о двоих: Дрейке Смоллете и Харге Толане.
И тогда она начала смеяться. Роуз хотела остановиться, но ничего не получалось, уж очень все вышло смешно. Она искала ответы на множество вопросов и нашла их все. Она даже нашла ответ на вопрос, который считала не относящимся к делу.
Она наконец поняла, зачем Дрейк на ней женился.
перевод М. ГутоваВслед за Чёрной Королевой
Хотите загадку? Насколько опасен для общества учебник по химии, переведенный на греческий язык? Можно сказать и по-иному Будет ли преступником человек, который в ходе недозволенного эксперимента полностью вывел из строя одну из крупнейших атомных электростанций страны?
Само собой, эти загадки нам пришлось решать потом. Начали мы с атомной электростанции — опустошенной. Я хочу сказать, опустошенной. Не знаю, сколько там было делящегося материала, только за две микросекунды он разделился весь.
Без взрыва. Без лишнего гамма-излучения. Только сплавились все движущиеся части в здании. Весь главный корпус немного нагрелся. Атмосфера на две мили вокруг — тоже, но послабее. Остался мертвый, бесполезный остов, замена которого обошлась в сто миллионов долларов.
Случилось это в три часа утра. Элмера Тайвуда нашли в центральной силовой камере. И все, что удалось обнаружить за следующие двадцать четыре суматошных часа, укладывалось в три абзаца.
1. Элмер Тайвуд — доктор физических наук, член и почетный член не одного научного общества, в далекой юности — участник Манхэттенского проекта, а ныне профессор ядерной физики — имел полное право находиться на станции. У него был пропуск категории А — без ограничений. Но никаких записей о том, что ему понадобилось в этот день, не сохранилось. Сплавившиеся в единую тепловатую массу приборы на столике-тележке не были зарегистрированы как затребованные для опыта.
2. Элмер Тайвуд был мертв. Его тело лежало рядом с тележкой, лицо потемнело от прилива крови. Никаких следов радиационной болезни или насилия. Заключение врача: инсульт.
3. В личном сейфе Элмера Тайвуда были обнаружены два странных предмета: два десятка блокнотных листов, густо исписанных формулами, и брошюра на неизвестном языке — как оказалось, перевод учебника по химии на древнегреческий.
Всю эту историю тут же покрыла такая секретность, что от нее мухи дохли. По-иному я сказать не могу. За все время расследования на электростанцию вошло ровным счетом двадцать семь человек, включая министра обороны, министра науки и еще двух-трех неизвестных широкой публике, но оттого не менее важных лиц. Весь дежурный персонал станции, физика, опознавшего Тайвуда, и врача, его осматривавшего, поместили под домашний арест.
Эта история не попала в газеты. О ней не шушукались в коридорах власти. Несколько членов Конгресса слышали о ней — немного.
И это естественно. Человек, или организация, или страна, способная высосать все энергию из полусотни, а то и сотни фунтов плутония, держит промышленность и оборону Соединенных Штатов мертвой хваткой, потому что сто шестьдесят миллионов человек по одному их слову могут оказаться мертвыми.
Был это один Тайвуд? Или не один? Или кто-то еще при помощи Тайвуда?
Чем занимался я? Служил подставкой; прикрытием, если вам так больше нравится. Кому-то ведь надо болтаться по университету и задавать о Тайвуде вопросы. В конце концов, он же пропал. Это могла быть амнезия, похищение, убийство, несчастный случай, сумасшествие, захват заложников — я мог еще лет пять служить мишенью для косых взглядов и отвлекать внимание. Получилось, правда, совсем иначе.
Только не думайте, что меня привлекли с самого начала. Я не входил в число тех двадцати семи человек (там был мой Босс). Но кое-что я знал — достаточно, чтобы начинать.
Профессор Джон Кейзер тоже занимался физикой Попал я к нему не сразу. Чтобы не казаться подозрительным, я начал с рутинных опросов. Совершенно бессмысленное занятие. Но необходимое. Зато теперь я стоял в кабинете Кейзера.
Профессорские кабинеты узнаются с первого взгляда. В них никогда не стирают пыль — разве что заглянет в восемь часов утра усталая уборщица, — потому что профессора пыли не замечают. Груды книг навалены в совершенном беспорядке. Те, что поближе к столу, используются часто — по ним профессор читает лекции. Те, что подальше, запихнул туда одолживший их когда-то студент. Ждут, что их когда-нибудь прочитают, профессиональные журналы — из тех, что выглядят дешевенькими, а оказываются чертовски дорогими. Стол завален бумагами, и на некоторых что-то нацарапано.
Профессор Кейзер был немолод — почти ровесник Тайвуду — и примечателен большим пурпурным носом и зажатой в зубах трубкой. На меня он взирал с рассеянностью и мягкостью типичного ученого — то ли эта работа таких людей привлекает, то ли создает.
— Чем занимался профессор Тайвуд? — осведомился я.
— Теоретической физикой.
Сейчас такие ответики от меня отскакивают, а еще несколько лет назад я бы взбесился.
— Это мы знаем, профессор, — намекнул я. — А поточнее нельзя?
— Если вы не физик-теоретик, — Кейзер благостно улыбнулся, — детали вам не помогут. Это имеет какое-то значение?
— Может быть, и нет. Но профессор пропал. И если с ним случилось что-нибудь, — я повел рукой, — то это связано, вероятно, с его работой, если только он не был богат.
— Университетские профессора богаты не бывают. — Кейзер сухо хохотнул: — Наш товар ценится невысоко — на рынке его в избытке.
Я не обиделся и на это. Я знаю, что внешность меня очень подводит. На самом деле я закончил колледж с оценкой «очень хорошо» (переведенной на латынь, чтобы декан понял) и никогда в жизни не играл в футбол, но, глядя на меня, ни за что так не скажешь.
— Тогда давайте вернемся к его работе, — сказал я.
— Вы намекаете на шпионаж? Международные интриги?
— А почему нет? Такое и раньше случалось. Он, в конце концов, ядерщик.
— Согласен. Но я, например, тоже ядерщик.
— Возможно, он знал что-то, чего не знали вы? Кейзер обиделся. Если застать их врасплох, профессора могут вести себя как люди.
— Если мне не изменяет память, — произнес он надменно, — Тайвуд публиковал статьи о влиянии вязкости на крылья кривой Рэйли, об уравнениях поля высоких орбиталей, и спин-орбитальном взаимодействии нуклеонов, но основные его работы были посвящены квадрупольным моментам. Во всех этих вопросах я вполне компетентен.
— А в последнее время он работал над квадрупольными моментами? — Я постарался не споткнуться на этих словах; кажется, получилось.
— Если так можно сказать, — почти фыркнул профессор. — Возможно, он наконец добрался до стадии экспериментов. Большую часть жизни он потратил на то, чтобы математически разработать одну свою личную теорию.
— Не эту ли? — Я кинул ему лист из блокнота.
Это был один из тех листов, что лежали у Тайвуда в сейфе. Вполне могло оказаться, что лист попал в сейф случайно — знаете, бывает, что вещи оказываются в сейфе только потому, что все ящики стола забиты непроверенными курсовыми работами. И, разумеется, из сейфа ничего не вынимают. У профессора Тайвуда мы нашли неразборчиво подписанные пыльные склянки с каким-то желтым порошком, несколько размноженных на мимеографе брошюр времен второй мировой со штампом «Секретно», копию старой зачетки, несколько писем с предложениями занять пост директора исследовательского отдела «Америкен Электрик» (десятилетней давности) и, конечно, химию на древнегреческом.
Ну и блокнот — свернутый трубочкой, как сворачивают обычно дипломы, перевязанный резинкой, без подписи. Двадцать листов покрывали мелкие аккуратные буковки.
Один из этих листов находился сейчас у меня. Не думаю, что нашелся бы в мире человек, которому доверили больше одного. И я совершенно уверен, что каждый из облеченных высоким доверием знал, что свой листок и собственную жизнь он потеряет настолько одновременно, насколько это удастся правительству.
Я кинул листок Кейзеру так, словно только что нашел эту бумаженцию в студенческом общежитии.
Профессор внимательно оглядел лист, потом осмотрел оборотную сторону — чистую. Глаза его несколько раз скользнули по странице вверх-вниз-вверх.
— Понятия не имею, о чем это, — кисло признался он.
Я молча свернул листок и засунул обратно во внутренний карман.
— Обычный дилетантский предрассудок, — раздраженно продолжал Кейзер, — думать, что ученый может глянуть на уравнение, сказать: «Ах да!..» — и написать о нем книгу. Математика — это миф, условный код, описывающий физические явления или философские концепции. И каждый человек может приспособить ее под свои нужды. Нельзя заранее сказать, что означает тот или иной символ. Наука уже использует все буквы алфавита, прописные и строчные, и каждую — по несколько раз. В дело пошли жирный шрифт, готический шрифт, буквы надстрочные и подстрочные, весь греческий алфавит, звездочки, даже иврит. Разные ученые обозначают одни и те же величины разными символами и разные величины — одной буквой. Так что если вы подсовываете выдернутую Бог знает откуда страничку человеку, незнакомому с используемыми обозначениями, он ни в малейшей степени не способен в ней разобраться.
— Но вы сказали, — прервал я его, — что Тайвуд работал в области квадрупольных моментов. Это вам не поможет? — Я побарабанил пальцами по лацкану пиджака, под которым второй день медленно прожигал дыру злополучный листок.
— Не могу сказать. Я не заметил там никаких стандартных обозначений, которые ожидал увидеть. Или не узнал. Точнее сказать не могу.
Наступила короткая пауза.
— Послушайте, — предложил наконец Кейзер, — почему бы вам не проконсультироваться с его учениками?
— Со студентами? — Я поднял брови.
— Нет, Господи Боже, конечно нет! — Моя глупость явно его раздражала. — С его ассистентами! Его аспирантами! Они работали с ним и должны знать детали его работ лучше, чем я или любой другой на нашем факультете.
— Интересная мысль, — небрежно бросил я. Мысль действительно была интересная. Не знаю почему, но мне бы она в голову не пришла — наверное, потому, что профессор, казалось бы, должен знать больше студента.
— Кроме того, — подергивая себя за лацкан, добавил Кейзер, когда я встал, — по-моему, вы на ложном пути. Пусть это останется между нами — в менее необычных обстоятельствах я промолчал бы, — но Тайвуд никогда не пользовался большим уважением коллег. Надо отдать ему должное — он хороший преподаватель, но его теоретические статьи интереса не вызывали. Наблюдалась в них склонность к теоретизированию, не подтвержденному экспериментами. Думаю, этот ваш листок из того же ряда. Ради этого никто не стал бы… похищать профессора Тайвуда.
— Разве? Что ж, ясно. Может быть, у вас есть догадки, куда и почему он пропал?
— Ничего конкретного. — Кейзер поджал губы. — Вообще-то все знают, что Тайвуд болен. Два года назад он перенес инсульт и весь семестр не мог преподавать. Он так и не оправился. Его парализовало на левую сторону, и он до сих пор хромает. Следующий удар его убьет. А случиться это может когда угодно.
— Так вы думаете, что он мертв?
— Это вполне вероятно.
— Тогда где же тело?
— Ну… это ваше дело, разве нет? Он был прав. И я ушел.
Одного за другим я допросил всех четырех Тайвудовых аспирантов. Допрос проходил в захламленной пещере, называемой исследовательской лабораторией. Обычно в таких лабораториях работают двое претендентов на ученую степень, причем примерно раз в год один из них достигает цели и на его место приходит новый.
Соответственно оборудование в таких лабораториях складывается штабелями. На столах громоздится то, что используется сейчас, а в трех-четырех ящиках под рукой — запасные части, которые могут пригодиться. А в дальних ящиках, на доходящих до потолка стеллажах, в самых неожиданных углах покрываются пылью отбросы жизнедеятельности многих поколений студентов. Общеизвестно, что ни один аспирант не знает всего, что лежит в его лаборатории.
Все четверо аспирантов Тайвуда волновались. Но троих беспокоило преимущественно собственное положение, то есть возможные последствия отсутствия Тайвуда касательно их «проблемы». Я отпустил всех троих — надеюсь, они благополучно защитились — и вызвал последнего, самого растрепанного и неразговорчивого (я счел это добрым знаком).
Теперь он сидел на жестком стуле по правую руку от меня. Звали его Эдвин Хоув, и он-то точно получил свою степень. Это я знаю совершенно определенно — теперь он большая шишка в министерстве науки.
Я откинулся в старом скрипучем вращающемся кресле и сдвинул шляпу на затылок.
— Вы, как я понимаю, занимались той же темой, что и остальные? — осведомился я.
— Ну, мы тут все ядерщики…
— Значит, не совсем?
Он медленно помотал головой:
— У нас разные подходы. Чтобы опубликоваться, нужна четко обозначенная тема. Степень-то получить надо.
Произнес он это тем же тоном, каким мы с вами могли бы сказать: «Жить-то надо». Может быть, для ученых это одно и то же?
— Ладно, — сказал я. — Так в чем заключался ваш подход?
— Я занимаюсь расчетами, — ответил Хоув. — Вместе с профессором Тайвудом, я хочу сказать.
— Какими именно?
Тут он чуть улыбнулся и сразу стал похож на профессора Кейзера. Выражение лица у него было совершенно то же — «Вы-думаете-я-могу-объяснить-такие-глубокие-мысли-этакому-кретину?».
Вслух он сказал только:
— Это несколько затруднительно будет объяснить…
— Я вам помогу, — заверил я его. — Что-то в этом роде? И я кинул ему листок.
Хоув не стал его разглядывать. Он впился в него с пронзительным воем: «Где вы это взяли?»
— У Тайвуда в сейфе.
— Остальное тоже у вас?
— В полной безопасности, — успокоил я его. Он немного расслабился — очень немного.
— Вы это кому-нибудь показывали?
— Профессору Кейзеру. Хоув презрительно фыркнул:
— Этому идиоту? И что он сказал? Я развел руками. Хоув рассмеялся.
— Вот этим я и занимаюсь, — снисходительно добавил он.
— И что это? Объясните, чтобы и я понял.
— Послушайте, — Хоув явно колебался, — это конфиденциально. Даже другие ассистенты профа об этом не знают. Даже я не знаю об этом всего. Я ведь не ради простой степени тружусь. В этих листочках — Нобелевская премия профа Тайвуда и мое место старшего преподавателя в Калтехе[12]. Прежде чем говорить об этом, мы должны это опубликовать.
— Нет, сынок, — очень мягко ответил я, покачивая головой, — ты все не так понял. Об этом надо рассказать до того, как вы это опубликуете. Потому что Тайвуд пропал. Может быть, он мертв, а может, и нет. И если он мертв, то скорее всего убит. А когда наша служба начинает подозревать убийство, свидетели принимаются разговаривать. И если ты, парень, решишь хранить тайну, тебе придется очень плохо.
Это сработало. Я и не сомневался — детективы читают все, и клише тоже все знают. Хоув вскочил со стула и забарабанил, точно по писаному:
— Конечно… вы не подозреваете меня в… в подобном. Моя карьера…
Когда я силой усадил его обратно, он уже взмок. Я выдал следующий перл:
— Мы еще никого ни в чем не подозреваем. Если ты обо всем расскажешь, у тебя не будет никаких неприятностей.
Он уже был готов.
— Но это строго секретно.
Бедняга. Он и не знал, что такое строгая секретность. А ведь наблюдатели не выпускали его из поля зрения до того момента, когда правительство решило похоронить все дело с резолюцией «?». (Я не шучу. До сего дня это дело не закрыто и не разрешено. На нем просто поставлен вопросительный знак. В кавычках.)
— Вы, конечно, слышали о путешествиях во времени? — Хоув с сомнением глянул на меня.
Еще бы не слышать. Моему старшему двенадцать лет, и после уроков он столько просиживает у телевизора, что попросту раздувается от того мусора, что пожирает глазами и ушами.
— И что с того? — осведомился я.
— В определенном смысле мы этого добились. В принципе, это следовало бы называть микротемпоральным переносом…
Вот тут я чуть не вышел из себя. Или вышел. Этот надутый прыщ явно пытался втереть мне очки и не слишком при этом напрягался. Я уже привык, что меня принимают за идиота, но не за такого же!
— И сейчас вы мне расскажете, что Тайвуд шляется сейчас по эпохам, как Туз Роджерс, Одинокий странник Времени? — Это любимая программа моего сыночка — на прошлой неделе Туз Роджерс в одиночку останавливал вторжение Чингисхана.
Но Хоуву эта идея понравилась не больше, чем мне.
— Нет! — взвыл он. — Я не знаю, где проф! Вы же слушайте — микротемпоральный перенос! Это не видеошоу и не фокусы — это, чтобы вы знали, наука физика. Вы, надеюсь, слышали о связи массы и энергии?
Я мрачно кивнул. После Хиросимы в предпоследней войне об этом все слышали.
— Это хорошо, — кивнул Хоув. — Для начала. Так вот, если вы применяете к некоему предмету темпоральный перенос — отсылаете его назад во времени, — вы по сути создаете его заново в той точке, куда его послали. А для этого вы должны затратить эквивалентную создаваемой массе энергию. Другими словами, чтобы послать в прошлое грамм или унцию вещества, вы должны равную массу вещества полностью обратить в энергию.
— Хм-м, — пробурчал я, — это чтобы создать ее в прошлом. Но разве, изымая этот предмет из настоящего, вы не уничтожаете его массу? Разве это не создает эквивалентную энергию?
Хоув точно сел на живую осу. Мирянам, видимо, не положено оспаривать выводы великих ученых.
— Я пытался упростить ситуацию, чтобы вы поняли, — заявил он. — На самом деле все сложнее. Было бы очень удобно использовать энергию дезинтеграции, но это был бы замкнутый круг. Термодинамика запрещает. Если говорить совершенно точно, то для преодоления темпоральной инерции требуется энергия, равная в эргах произведению пересылаемой массы в граммах на скорость света в сантиметрах в секунду в квадрате — точно по уравнению Эйнштейна. Знаете, я могу показать вам формулы…
— Знаю, — постарался я охладить его неуместный энтузиазм. — Но этому есть экспериментальные подтверждения, или это все только теория?
Я пытался заставить его продолжать и преуспел. В глазах Хоува вспыхнул тот огонек, который загорается во взоре каждого аспиранта, рассказывающего о своей теме, которую он готов обсуждать с кем угодно — даже с тупым копом.
— Понимаете, — сказал он с видом жулика, пытающегося втянуть вас в сомнительную сделку, — началось все с нейтрино. Их пытались найти с конца тридцатых годов и безуспешно ищут до сих пор. Нейтрино — это элементарная частица, лишенная заряда, с массой, много меньшей массы электрона. Естественно, засечь ее очень сложно, и до сих пор это не удалось никому. Но поиски продолжаются, потому что без нейтрино невозможно свести энергию некоторых ядерных реакций. Около двадцати лет назад профу Тайвуду пришло в голову, что часть энергии в виде вещества ускользает в прошлое. И мы начали работать над этой темой — вернее, начал он, а я был первым учеником, которого он посвятил в свою теорию.
Естественно, нам пришлось работать с микроскопическими количествами вещества… и профессору пришла в голову гениальная идея использовать искусственные радиоактивные изотопы. Счетчики могут отследить даже несколько микрограммов активного изотопа, а с течением времени активность меняется вполне предсказуемо, и повлиять на ее падение еще никому не удавалось.
Так вот, мы посылали образец на пятнадцать минут назад, и за пятнадцать минут до этого — весь опыт проводился автоматически — активность скачкообразно возрастала вдвое, снижалась по экспоненте, и в момент переброса резко падала — намного ниже того уровня, с которого начиналась. Понимаете, материал накладывался сам на себя, и в течение пятнадцати минут мы считывали активность удвоенного количества…
— Вы хотите сказать — перебил я его, — что одни и те же атомы дважды существовали в одно и то же время в одном месте?
— Конечно, — чуть удивленно ответил Хоув. — А почему нет? Потому-то и требуется столько энергии — чтобы создать эти атомы — И он продолжил: — Я вам расскажу, в чем заключалась моя работа. Если вы посылаете образец на пятнадцать минут в прошлое, он попадает в ту же точку относительно Земли, несмотря на то что Земля за это время сместилась на шестнадцать тысяч миль относительно Солнца, а Солнце само пролетело еще несколько тысяч миль, и так далее. Но в реальности появляется определенное смещение, которое, по моим расчетам, вызывается двумя причинами.
Первая — это эффект трения. Материал смещается немного по отношению к земной поверхности, в зависимости от природы самого материала и от времени переноса. Но часть смещения можно объяснить только тем, что само путешествие во времени занимает время.
— Как так? — не понял я.
— Я хочу сказать, что часть активности распределяется по интервалу переноса равномерно, словно образец во время путешествия продолжал излучать с постоянной силой. По моим подсчетам, двигаясь назад во времени, вы постареете на один день за сто лет пути. Говоря иными словами, если бы внутри машины времени вы могли следить за часами, то, пока вы передвинетесь в прошлое на сто лет, часовая стрелка отсчитает двадцать четыре часа. По-моему, это универсальная константа, потому что скорость света — тоже константа. В любом случае это моя работа.
Несколько минут я пережевывал информацию, прежде чем спросить:
— А где вы брали энергию для опытов?
— Нам провели специальную линию от электростанции. Проф там большая шишка, он все и устроил.
— Хм-м. Каков был самый большой из отправленных вами образцов?
— Ну… — Хоув воздел очи горе. — По-моему, однажды мы послали сотую долю миллиграмма — десять микрограммов.
— А в будущее посылать предметы вы не пробовали?
— Это не сработает, — быстро ответил он. — Невозможно. Так знаки менять нельзя. Требуется бесконечно большая энергия. Это шоссе с односторонним движением.
Я внимательно осмотрел собственные ногти.
— А какой массы образец можно отправить в прошлое, если полностью расщепить… скажем, сотню фунтов плутония? — Кажется, это уже слишком прозрачный намек…
Ответил Хоув быстро:
— При делении плутония в энергию превращается лишь один-два процента массы. Так что сто фунтов плутония при полном использовании отправят в прошлое один-два фунта вещества.
— И все? Но как вы контролировали эту энергию? Я хочу сказать, что сотня фунтов плутония может вызвать мощный взрыв.
— Все относительно, — ответил Хоув напыщенно. — Если выпускать энергию по капле, с ней можно справиться. Если выпустить ее всю и тут же использовать — с ней тоже можно справиться. А посылая образец сквозь время, энергию можно расходовать как угодно быстро, даже быстрее, чем высвобождает ее ядерный взрыв. Теоретически.
— Так куда она девается?
— Рассеивается во времени, конечно. Поэтому минимальное время переноса зависит от массы материала. Иначе плотность энергии на единицу времени окажется слишком высока.
— Ладно, парень, — смилостивился я. — Я вызову штаб, пусть пришлют человека, чтобы отвезти тебя домой. Там и посидишь пару дней.
— Но… но почему?
— Это ненадолго.
Я был прав. К тому же он наверстал упущенное время.
Вечер я провел в штабе У нас там была библиотека — особенная библиотека На следующий же день после катастрофы двое-трое наших людей — специалистов в своем деле — незаметно проникли в библиотеки кафедр физики и химии в университете, нашли и пересняли все статьи, когда-либо опубликованные Тайвудом в научных журналах. Больше они не тронули ничего.
Другие наши люди проверили подшивки журналов и каталоги книг. Кончилось все тем, что в одной из комнат штаба скопилась полная тайвудиана. Не то чтобы этим преследовалась какая-то конкретная цель — скорее это говорит о том, с какой тщательностью велось расследование.
И я продрал эту библиотеку насквозь. Не научные статьи — я уже выяснил, что не найду там ничего интересного. Но двадцать лет назад Тайвуд написал для какого-то журнала серию статей. Их я прочел. И все его личные бумаги, какие нам удалось найти, — тоже.
А потом я сидел и думал И боялся.
Спать я пошел в четыре часа утра. Мне снились кошмары.
Но все равно у Босса в кабинете я был в девять утра, как часы.
Босс — крупный мужчина. Седые волосы он привык зачесывать назад. Не курит, но на столе держит коробку сигар, и, заполняя паузы в беседе, он берет одну, разминает, нюхает, хватает зубами и очень осторожно закуривает. К этому времени он или придумывает, что сказать, или обнаруживает, что говорить ничего не надо. Тогда он откладывает сигару, и она выгорает до конца.
Коробку он изводит недели за три, и на Рождество в половине подарков оказываются сигары.
Сейчас он, впрочем, за сигарой не тянулся. Он только сжал кулаки и глянул на меня из-под нахмуренных бровей:
— Какие результаты?
Я рассказал ему Медленно, потому что принять всерьез микротемпоральный перенос нелегко, особенно если назвать его путешествием во времени, как это сделал я. Вслух Босс усомнился в моей нормальности только один раз, и это лишний раз подчеркивает серьезность положения.
Я закончил, и мы воззрились друг на друга.
— Ты думаешь, что он попытался послать что-то в прошлое, — спросил Босс, — что-то весом в один-два фунта, — и выпотрошил всю электростанцию?
— Сходится, — ответил я.
Мы помолчали. Босс думал, а я старался ему не мешать, чтобы он, даст Бог, пришел к тому же выводу, что и я, чтобы мне не пришлось ему говорить…
Потому что мне очень не хотелось ему говорить…
Потому что идея была совершенно безумная. И очень страшная.
Так что я молчал, Босс думал, и по временам его мысли выныривали на поверхность.
— Предположим, что этот аспирант, Хоув, сказал правду, — проговорил Босс через несколько минут, — а тебе стоило бы проверить его лабораторные журналы — надеюсь, ты об этом не позабыл…
— Мы перекрыли все крыло на этом этаже, сэр. Журналы у Эдварда.
— Ладно. Предполагая, что он сказал правду, — почему Тайвуд перескочил от долей миллиграмма к фунту? — Босс жестко глянул на меня. — Ты сосредоточился на путешествиях во времени. Тебе этот вопрос кажется критическим, а случай с электростанцией — он и есть случай.
— Да, сэр, — мрачно подтвердил я. — Именно так.
— Тебе не приходило в голову, что ты можешь ошибаться? Что все обстоит совершенно иначе?
— Не понял?
— Тогда слушай. Ты, говоришь, читал статьи Тайвуда? Ладно. Он был из тех ученых, что после второй мировой боролись против ядерного оружия, за мировое государство — слышал об этом, да?
Я кивнул.
— У него был комплекс вины, — бодро продолжал Босс. — Он помогал создавать бомбу и не спал ночами оттого, что натворил. Этот страх грыз его годами. Пусть даже в третьей мировой атомные бомбы не падали — представь себе, что значил для него каждый день неопределенности. Представь себе, какой ужас мучил его, пока другие принимали решения, до самого Компромисса 65-го года?
Во время прошлой войны мы провели полный психиатрический анализ Тайвуда и еще нескольких ему подобных. Знал об этом?
— Нет, сэр.
— Анализ был сделан, но после шестьдесят пятого мы его забросили — был установлен международный контроль над ядерной энергетикой, уничтожены запасы ядерного оружия и налажены связи между учеными разных стран; большая часть этических конфликтов ученых сама собой разрешилась.
Но результаты анализа настораживали. В 1964 году Тайвуд испытывал к ядерной энергии глубокую подсознательную ненависть. Он начал делать ошибки, и ошибки серьезные. В конце концов мы вынуждены были вообще отстранить его от разработок, вместе с несколькими товарищами, несмотря на отчаянное положение. Мы тогда только что потеряли Индию, помнишь?
Я помнил. Я в тот год как раз был в Индии. Но я не понимал, к чему Босс клонит.
— Так вот, — продолжал он, — что, если остатки этой ненависти дожили в сознании Тайвуда до наших дней? Как ты не видишь — путешествие во времени — палка о двух концах? Зачем швырять в прошлое фунтовый образец? Чтобы доказать свое открытие? Он его уже доказал с помощью доли миллиграмма. Этого уже хватит на Нобелевскую премию.
Долей миллиграмма он не мог добиться только одного — он не мог выпотрошить электростанцию. Значит, этого он и добивался. Он нашел способ поглощать невообразимое количество энергии. Отправив в прошлое восемьдесят фунтов грязи, он мог уничтожить весь плутоний в мире. И надолго избавиться от ядерной энергии.
Меня его тирада не впечатлила совершенно. Я постарался не выдать этого.
— Вы думаете, что ему удалось бы совершить подобный трюк второй раз? — спросил я.
— Моя теория основывается на предположении, что Тайвуд был не совсем нормален. Мало ли что придет в голову безумцу? Кроме того, за ним могут стоять другие — менее образованные и более умные — те, кто готов продолжить дело Тайвуда.
— Нашли уже таких людей? Или хоть их следы? После короткой паузы рука Босса потянулась к сигарной коробке. Он вытащил сигару, повертел. Я терпеливо ждал. Босс решительно отложил сигару, так и не закурив.
— Нет, — сказал он, посмотрел сначала на меня, потом — сквозь меня. — Я тебя не убедил?
Я пожал плечами:
— Что-то тут не так.
— Есть своя идея?
— Да. Но мне о ней говорить не хочется. Если я не прав, это самая большая ошибка в истории. Если прав — самая страшная правда.
— Слушаю, — произнес Босс и сунул руку под стол.
Вот и пришел мой час. Броневые стены комнаты не пропускали ни звука, ни излучения любого вида; их разрушил бы разве что ядерный взрыв. А с нажатием кнопки на столе у секретаря загоралась лампочка, означавшая «С президентом США не соединять». Как сейчас.
Я откинулся на спинку стула и спросил:
— Шеф, вы помните, как встретились со своей женой? В первый раз?
Шеф, наверное, подумал, что этот вопрос поп sequitur[13]. А что он еще мог подумать? Но он меня не прерывал — по каким-то своим причинам.
— Я чихнул, — ответил он с улыбкой, — и она обернулась. Это было на углу.
— А почему вы оказались на том углу? И почему она? Помните вы, почему чихнули? Где простудились? Откуда прилетела та пылинка? Только представьте, сколько факторов привело к тому, что вы оказались в нужное время в нужном месте и встретились со своей будущей женой!
— Но мы, наверное, встретились бы где-то еще?
— А вы в этом уверены? Откуда вам знать, скольких девушек вы не повстречали, потому что в критический миг отвернулись или опоздали куда-то? Ваша жизнь ветвится каждый миг, и на каждой развилке вы делаете выбор, и так с каждым человеком. Начните двадцать лет назад, и развилки уведут вас очень далеко.
Вы чихнули — и познакомились с одной девушкой, а не другой. Поэтому вы приняли определенные решения, как и девушка, с которой вы не познакомились, и мужчина, с которым познакомилась та девушка, и все, с кем вы встречались потом, ваша семья, ее семья, их семьи — и ваши дети.
Из-за того, что двадцать лет назад вы чихнули, сегодня живы пять, или пятьдесят, или пятьсот человек, которые могли умереть, и умерли столько же, которые могли жить. А теперь отодвиньтесь в прошлое на двести лет или на две тысячи — и один чих может стереть вообще всех живущих на Земле!
Босс потер затылок:
— Теория расходящихся кругов. Я как-то читал рассказ…
— Я тоже. Это не новая идея. Я просто хочу, чтобы вы ее вспомнили, прежде чем я прочту вам статью, написанную профессором Элмером Тайвудом двадцать лет назад. Перед последней войной.
Копии пленки лежали у меня в кармане, а из белой стены получался превосходный экран — ее для этого и строили. Босс отмахнулся было, но я стоял на своем.
— Нет, сэр, — сказал я. — Я хочу прочесть вам это. А вы слушайте.
Он откинулся на спинку кресла.
— Статья, — продолжал я, — озаглавлена «Первая великая ошибка человечества!». Если припомните, перед войной разочарование полной несостоятельностью Объединенных Наций достигло своего пика. Я прочту только отрывки из первой части статьи…
И я начал читать:
— …То, что человек, при всех его технических достижениях, не смог решить великие социальные проблемы сегодняшнего дня, является второй величайшей трагедией в истории. А первая, еще большая трагедия заключается в том, что когда-то эти социальные проблемы были решены, но решение их оказалось недолговечным, ибо предшествовало нынешнему техническому прогрессу.
Хлеб без масла или масло без хлеба — и никогда вместе…
Вспомните Элладу, побегом которой являются наши философия, математика, этика, искусство, литература — вся наша культура… Во времена Перикла Греция походила на нынешний мир в миниатюре, на кипящий котел культурных и идеологических противоречий. Но затем пришел Рим, восприняв греческую культуру, но подарив и укрепив мир. Конечно, Pax Romana[14] продержался лишь двести лет, но подобной эпохи не было с тех пор…
Прекратились войны. Национализм перестал существовать. Римским гражданином был всякий житель империи — в том числе Павел из Тарса и Иосиф Флавий. Власть империи признавали жители Испании, Магриба и Иллирии. Рабство еще существовало, но то было неспецифическое рабство — рабство как наказание, как плата за деловой провал, как следствие военного поражения. Но никто из жителей империи не становился рабом из-за цвета кожи или места рождения.
Религиозная терпимость была абсолютной. Если для ранних христиан в этом вопросе было сделано исключение, то потому лишь, что они сами отказывались от принципа терпимости, настаивая, что только им одним открыта истина, — Мысль, отвратительная для любого цивилизованного римлянина.
Но почему же человек не сумел сохранить свои достижения — когда вся культура Запада подчинялась единому центру, в отсутствие язвы религиозного и национального обособленчества?
Только потому, что технология эпохи эллинизма оставалась неразвитой. А в отсутствие развитой технологии ценой досуга — а значит, и культуры, и цивилизации — для избранных становилось рабство для многих. Потому что эта цивилизация не могла обеспечить комфорт и свободу всем.
А потому угнетенные обратились к загробному миру и религии, отвергавшей мирские соблазны, — и наука в истинном значении слова оказалась погребенной под спудом на тысячу лет. Более того, данный эллинизмом начальный толчок слабел, и империи не хватало технологии, чтобы отбивать атаки варваров. Только к началу шестнадцатого века военная мощь стала производным промышленности настолько, чтобы развитые страны могли без труда справляться с вторжениями кочевников…
Только представьте себе, что случилось бы, овладей древние греки хотя бы начатками современной физики и химии. Представьте себе рост империи, сопровождающийся развитием науки, технологии, промышленности; империю, в которой машины заменили рабов, в которой каждый человек имеет право на достойную жизнь, в которой легион стал бронированной колонной, против которой не могли устоять полчища варваров. Представьте себе империю, распространившуюся на весь земной шар, лишенную религиозных или национальных предрассудков.
Империю, в которой все люди — свободны, и все люди — братья.
Если бы только можно было изменить историю и предотвратить величайшую ошибку человечества…
Тут я остановился.
— Ну? — спросил Босс.
— Ну, — ответил я, — несложно связать эту статью с двумя фактами: Тайвуд пошел на то, чтобы разрушить атомную электростанцию, чтобы отправить что-то в прошлое, а в его личном сейфе мы нашли учебник по химии на древнегреческом.
Лицо Босса окаменело. Он думал.
— Но ничего не случилось, — промолвил он тяжело.
— Знаю. Но аспирант Тайвуда говорит, что путешествие на сто лет в прошлое занимает сутки. Предполагая, что цель — Древняя Греция, мы получаем двадцать веков — двадцать дней ожидания.
— Можно его остановить?
— Я не знаю. Тайвуд мог знать, но он мертв.
Весь ужас случившегося обрушился на меня с новой силой, куда тяжелее, чем прошлой ночью… Всему человечеству вынесен смертный приговор. Это всего лишь жутковатая абстракция, но для меня она невыносимо реальна. Потому что приговор вынесен и мне. И жене моей. И сыну.
Непредставимая смерть. Прекращение бытия, не более. Смолкший вздох. Растаявшая мечта. Падение в смутное непространство и не-время. Я не умру — меня никогда и не будет.
Или все же останется что-то — моя личность, эго, душа, если хотите? Иная жизнь? Иная судьба?
Ничего подобного я тогда не сказал. Но если бы холодный ком у меня под ложечкой можно было описать словами — это те самые слова.
Боссу тоже пришло в голову нечто подобное:
— Тогда у нас еще две с половиной недели. Нельзя терять времени. Поехали.
Я криво усмехнулся:
— Побежим догонять книжку?
— Нет, — холодно ответил Босс. — У нас есть два направления работы. Во-первых, ты можешь ошибаться. Твои рассуждения могут еще оказаться ложным следом, подброшенным нам, чтобы скрыть истинную подоплеку событий. Это надо проверить.
Во-вторых, ты можешь быть прав, и тогда надо как-то остановить эту книгу, не преследуя ее на машине времени. Если есть способ, мы должны найти его.
— Я не хочу перебивать вас, но если это ложный след, то по нему пойдет только ненормальный. Что, если я прав и книгу невозможно остановить?
— Тогда, юноша, в следующие две с половиной недели я буду очень занят. И вам того же советую. Так время пролетает незаметно.
Босс был, как всегда, прав.
— С чего начинаем? — спросил я.
— Прежде всего надо составить список всех, кому Тайвуд делал выплаты из правительственного фонда.
— Зачем?
— Думай. Это твоя работа. Тайвуд не знал греческого — это только предположение, но вполне обоснованное Значит перевод делал кто-то другой. Вряд ли бесплатно. И Тайвуд скорее всего не стал бы расплачиваться из личных средств — на профессорской-то зарплате.
— Возможно, его больше волновала секретность, чем экономия, — предположил я.
— Почему? Какой смысл таиться? Разве это преступление — переводить учебник по химии на греческий? Кому придет в голову искать в этом жуткий заговор?
Нам потребовалось полчаса, чтобы не только обнаружить в графе «консультанты» Майкрофта Джеймса Боулдера, но и выяснить, что в университете он занимал должность профессора на кафедре философии и что среди его многочисленных достижений числилось свободное владение древнегреческим.
Забавное совпадение — Босс еще не успел надеть шляпу, как внутриконторский телетайп, затрещав, выдал нам, что профессор Боулдер уже два часа сидит в приемной и требует, чтобы его впустили.
Босс отложил шляпу и распахнул перед профессором двери.
Профессор Майкрофт Джеймс Боулдер был серым. Серые глаза, седые волосы, мышиный костюм, а главное — серое от напряжения лицо, изборожденное тонкими морщинами.
— Я уже три дня пытаюсь добиться, чтобы меня выслушали, сэр, — тихо произнес он. — Выше вас мне не удалось пробиться.
— Выше и не надо, — ответил Босс. — Что вам угодно?
— Мне крайне необходимо поговорить с профессором Тайвудом.
— Вы знаете, где он?
— Я абсолютно убежден, что правительство удерживает его.
— Почему?
— Мне известно, что он планировал эксперимент, нарушающий требования секретности. События последних дней, насколько я могу судить, свидетельствуют о том, что секретность была нарушена, откуда естественно вытекает предположение, что опыт был проведен. Меня интересует, был ли он доведен до конца.
— Профессор Боулдер, — проговорил Босс, — вы, как я знаю, владеете древнегреческим.
— Да, — спокойно ответил профессор.
— И вы за счет правительства переводили для профессора Тайвуда учебник по химии?
— Именно, как законно привлеченный консультант.
— Но данное действие, учитывая обстоятельства, является преступным, как пособничество преступлению Тайвуда.
— А какая, простите, связь?
— А разве Тайвуд не рассказывал вам о путешествиях во времени… как он их называл — микротемпоральный перенос?
— А, — Боулдер чуть улыбнулся. — Так он вам рассказал?
— Нет, не рассказал, — отрубил Босс. — Тайвуд мертв.
— Что?!! Я вам не верю.
— Он умер от инсульта. Смотрите.
Босс сунул Боулдеру одну из фотографий, сделанных той ночью. Лицо распростертого на полу Тайвуда искажала гримаса, но не узнать его было нельзя.
Боулдер выдохнул, точно застонали тормоза. Он вглядывался в фотографию полных три минуты — я засек по часам.
— Где сделан снимок? — спросил он.
— На атомной электростанции.
— Так он завершил эксперимент? Босс пожал плечами:
— Нельзя сказать. Мы нашли его уже мертвым. Поджатые губы Боулдера обесцветились.
— Это непременно следует выяснить. Придется собрать комиссию и, если понадобится, провести повторный опыт…
Босс молча посмотрел на него и потянулся за сигарой. Никогда еще процесс раскуривания не занимал у него столько времени.
— Двадцать лет назад, — произнес он, отложив бесполезно дымящую сигару, — Тайвуд написал статью в журнал…
— Ах, это, — губы профессора дернулись, — и дало вам ключ? Забудьте. Тайвуд был физиком и ничего не понимал ни в истории, ни в социологии. Так, мечта школьника, ничего больше.
— Так вы полагаете, что посланный им учебник не приведет к Золотому веку цивилизации?
— Разумеется, нет. Разве можно предполагать, что продукт двух тысячелетий мучительного труда можно внедрить в общество, еще не готовое к этому? Или вам кажется, что великое открытие или изобретение рождается готовым в мозгу гения и не связано с культурной средой, в которой этот гений живет? Ньютон провозгласил свой закон всемирного тяготения на двадцать лет позже, чем мог, потому что тогдашняя оценка радиуса Земли отличалась от реальности на десять процентов. Архимед едва не открыл дифференциальное исчисление, но не сумел, потому что не знал арабских цифр, изобретенных каким-то безвестным индусом!
Если уж говорить об этом, само существование рабства в древних Греции и Риме означало, что машины не могут привлечь внимания, — труд рабов был дешевле и качественнее. А от истинных мудрецов ждали, что они не станут тратить силы на низменные практические приспособления. Даже Архимед, величайший инженер античности, отказывался открывать публике свои технические новшества — только математические абстракции. Когда один юноша спросил Платона, в чем польза геометрии, его с позором изгнали из академии как человека подлого и низменного.
Наука не летит вперед — она продвигается ползком в тех направлениях, куда движут ее те великие силы, что движут общество и, в свою очередь, движимы им. Великие люди стоят на плечах взрастившей их культуры…
Тут Босс перебил его: — Расскажите лучше о своей роли в этой истории. Что историю нельзя изменить, мы поверим вам на слово.
— Почему же нельзя? Можно, но ненамеренно. Понимаете, когда Тайвуд впервые попросил меня о помощи — ему надо было перевести на греческий несколько отрывков текста — я согласился из-за денег. Но профессор Тайвуд требовал, чтобы перевод делался от руки на пергаменте, он требовал, чтобы использовалась только древнегреческая терминология, — язык Платона, как он говорил, — даже если мне при этом придется несколько исказить первоначальный смысл текста.
Меня это озадачило. Я тоже нашел ту статью. Очевидный для вас вывод я сделал довольно поздно — слишком невероятны для скромного философа достижения современной науки. Но в конце концов я узнал правду, и мне стало ясно, как инфантильны представления Тайвуда об истории. На каждое мгновение приходится двадцать миллионов переменных, и не создана еще математическая теория — назовем ее психоисторией, — способная охватить их все.
Проще говоря, любое вмешательство в историю двухтысячелетней давности изменит настоящее — непредсказуемо.
— Как камушек, вызывающий обвал? — обманчиво-негромко поинтересовался Босс.
— Именно. Теперь вы немного понимаете, в каком положении я оказался. Я размышлял неделями и понял, что должен действовать, — и увидел как.
Послышался басистый рык. Босс встал, отшвырнув стул, обошел стол и вцепился Боулдеру в глотку. Я шагнул было, чтобы разнять их, но Босс только отмахнулся. Он всего лишь держал профессора за галстук, и Боулдер мог дышать. Только побелел и все время, пока говорил Босс, дышал очень тихо.
— Да уж, я вижу, что вы нарешали, — говорил Босс — Я знаю, вам, философам тронутым, кажется, что мир всем плох, что стоит бросить кости и глянуть, что получится. Вам, наверное, наплевать, выживете ли вы или узнает ли кто-то о вашей великой роли. Вы все равно рветесь творить. Хотите навязать второй шанс Господу Богу.
Может, я просто хочу жить — но этот мир мог быть хуже. В двадцать миллионов раз хуже. Был такой писатель, Уайлдер, он написал пьесу «Зубы нашей кожи». Может, вы видели. Суть ее в том, что человечество все время находится на волосок от гибели. Я не стану говорить о том, как нас чуть не смел ледниковый период — я об этом почти ничего не знаю. Я не стану говорить о том, как греки победили при Марафоне, а арабы потерпели поражение при Туре, о том, как монголы повернули назад без боя, — я не историк.
Но вспомните двадцатый век. В первую мировую немцев дважды остановили на Марне. Во второй мировой был Дюнкерк, и немцев как-то сдержали под Москвой и Сталинградом. В последней войне мы могли начать швыряться ядерными бомбами, но не стали, потому что в критический момент был достигнут Большой Компромисс, — и все из-за того, что генерал Брюс задержался в цейлонском аэропорту и получил приказ лично. Раз за разом на протяжении веков мы вытаскивали счастливые билетики. На каждое несбывшееся «если», способное сделать из нас суперменов, приходится двадцать, способных навлечь гибель на весь мир.
А вы делаете ставку на этот шанс, один из двадцати, и эта ставка — жизнь на Земле. И вам это удалось, потому что Тайвуд послал свой учебник в прошлое.
Последнюю фразу Босс выдавил со скрежетом и разжал кулак. Боулдер упал в кресло.
И расхохотался.
— Дураки, — горько пробормотал он. — Так близко подобраться к разгадке и так ошибиться. Так Тайвуд все же послал книгу? Вы уверены?
— Учебника химии на древнегреческом поблизости не обнаружено, — мрачно подтвердил Босс, — а миллионы калорий энергии исчезли. И это не исключает того факта, что у нас есть еще две с половиной недели, чтобы… вы пожалели о своем решении.
— Ерунда. Прошу вас, давайте обойдемся без театральных сцен. Лучше выслушайте меня и постарайтесь понять. Двое древнегреческих философов, Левкипп и Демокрит, разработали атомную теорию. Они считали, что все сущее состоит из атомов, неизменных и различных, чьи комбинации образуют различные вещества. Эта теория возникла не в результате опытов или наблюдений — она появилась сразу разработанной.
Римский поэт Лукреций в своей «De Rerum Natura» — «О природе вещей» — развил эту теорию и высказал несколько удивительно современных мыслей.
Еще в эллинскую эпоху Герон построил паровой двигатель и едва не механизировал вооружение. Этот период называют иногда оборванной технической эрой, которая не получила развития, потому что не происходила из социальной и культурной среды, не сочеталась с ней. Александрийская наука остается удивительным и необъяснимым феноменом.
Можно упомянуть еще древнеримские легенды о книге Сивиллы, содержавшей тайные знания, полученные от самих богов…
Короче говоря, господа, хотя я не могу не согласиться с вами, что даже мельчайшие изменения прошлого могут привести к непредсказуемым последствиям и вызванные ими перемены в настоящем вряд ли нас обрадуют, в своих выводах вы допустили серьезную ошибку.
Потому что мы уже живем в мире, где учебник химии на греческом был отправлен в прошлое!
Мы бежали вслед за Черной Королевой. Если вы вспомните «Алису в Зазеркалье», то в саду Черной Королевы приходилось бежать изо всех сил, чтобы остаться на месте. Так случилось и с нами. Тайвуд полагал, что создает новый мир, но перевод готовил я, и я позаботился о том, чтобы туда вошли лишь те отрывки, которые могли объяснить полученные древними неизвестно откуда обрывки знаний.
Единственное, чего я хотел достичь своими усилиями, это остаться там, откуда мы начали.
Прошло три недели; потом три месяца; потом три года. Ничего не случилось. А когда ничего не случается, нет и доказательств. Мы с Боссом потеряли надежду объяснить случившееся и в конце концов сами стали во всем сомневаться.
Дело так и не было закрыто. Боулдера нельзя было назвать преступником, не назвав спасителем человечества, и наоборот. О нем просто забыли. А дело, так и не разрешенное, отложили в папку, пометили «?» и засунули в самый глубокий подземный вашингтонский сейф.
Босс теперь большая шишка в Вашингтоне; местным отделением Бюро заведую вместо него я.
А Боулдер так и остался профессором на кафедре философии. В университете карьеры не сделаешь.
перевод В. АльтштейнераПорошок смерти
Работая под началом великого Ллуэса, Здмунд Фарли наконец достиг такого состояния, когда стал думать о том, как приятно было бы уничтожить этого великого.
Тот, кому не доводилось иметь дела с Ллуэсом, не мог бы понять этого состояния. Ведь в представлении рядового человека Ллуэс олицетворял великого исследователя, который не пасует перед неудачей и не боится предпринять более смелое наступление в неведомое.
Ллуэс подвизался в области органической химии и сумел так поставить Солнечную систему на службу своей науке, что фотохимия приобрела новый удивительный размах.
Но, по правде говоря, Ллуэс любил присваивать себе чужие лавры — грех в науке почти непростительный,— и с этим ничего нельзя было поделать. Возмущенный сотрудник, который подавал заявление об уходе, не получал рекомендации и потом с трудом находил работу. С другой стороны, те, кто терпеливо оставался с Ллуэсом, в конце концов уходили с его благосклонного разрешения, хорошей рекомендацией и были уверены в будущем.
И все же те, кто оставался у Ллуэса, не могли отказать себе в сомнительном удовольствии изливать ненависть к нему в тесном кругу.
У Эдмунда Фарли были все основания примкнуть к недовольным. Он прибыл с самого большого спутника Сатурна — Титана, где работал совершенно самостоятельно, с помощью только роботов. Атмосфера крупных планет состоит в основном из водорода и метана, но Юпитер и Сатурн слишком велики по массе, чтобы там мог работать человек, а Уран и Нептун так далеки, что путешествие к ним обходится очень дорого. Между тем Титан, равный по размеру Марсу, достаточно мал, так что на нем удобно работать человеку, и в то же время достаточно велик и холоден, чтобы сохранять атмосферу водорода-метана.
Многие реакции могут протекать там в атмосфере водорода с легкостью, тогда как на Земле такие же процессы доставляют много хлопот с точки зрения кинетики. Фарли терпел трудности на Титане на протяжении полугода и вернулся с поразительными данными. Но каким-то непостижимым образом почти сразу же, у него на глазах, эти данные начали делиться и затем соединяться воедино уже как открытие Ллуэса.
Коллеги пожимали плечами, сочувствуя ему, приглашали присоединиться к их братству, и Фарли слушал, как другие замышляли акт мести.
Наиболее откровенно высказывался Джим Горем, которого Фарли в какой-то мере презирал: «вакуумщик», никогда не покидавший Землю.
— Ллуэса легко убить,— разглагольствовал Горем,— ведь у него такие неизменные привычки. Например, он ест только в одиночестве. Закрывает кабинет ровно в 12 часов и открывает его точно в 13 часов. Верно? В это время ни кто не заходит к нему, так что яд может отлично сработать.
— Яд? — удивился другой коллега.
— Это самое простое. У нас здесь полно всякого яда. Назови любой — непременно отыщется. В этом плане все о"кэй. Ллуэс съедает один бутерброд из ржаного хлеба со швейцарским сыром и специальной луковой приправой, от которой так разит, что хоть нос затыкай. И после обеда мы еще долго вдыхаем этот запашок. А помните, как он вопил, когда однажды прошлой весной в буфете кончилась луковая приправа? Никто, кроме него, никогда к ней не притронется, так что яд поразит только Ллуэса, и никого другого…
Все это была пустая болтовня.
Фарли решил убить Ллуэса. Это стало у него настоящей манией. Кровь Фарли начинала бурлить при одной мысли о том, что Ллуэса не станет и он сам будет почивать на заслуженных лаврах за все те невзгоды, когда он на скудном рационе кислорода шагал по замерзшему аммиаку среди леденящих ветров Титана.
Но надо было сделать нечто такое, что не причинило бы вреда никому, кроме Ллуэса. И он подумал об атмосферной комнате. Это была длинная, низкая комната, изолированная от остальных лабораторий цементными блоками и огнеупорным покрытием дверей. В нее не заходил никто, кроме Ллуэса, разве что в его присутствии и с его разрешения. Комната не запиралась, но тирания, установленная Ллуэсом, делала клочок бумаги с надписью «Не входить», под которой стояли его инициалы, естественной психологической преградой для любого... А, кроме того, привычка Ллуэса все дотошно проверять, его безграничная осторожность не оставляли никакого шанса. Если что-то сделать с оборудованием, это наверняка будет замечено. В атмосферной комнате была масса воспламеняющихся материалов, но Ллуэс не курил.
Фарли раздраженно думал о человеке, который, казалось, заслуживал справедливой мести: вор, как ребенок играющий с маленькими баллонами, наполненными метаном и водородом, тогда как Фарли использовал их в огромных количествах. Но Ллуэсу доставалась слава, а Фарли — безвестность.
Эти маленькие баллоны имеют каждый свой цвет: водород в красных баллонах, метан в полосатых (черных с белым), азот в коричневых, желтые баллоны содержат сжатый воздух, зеленые — кислород. Целая гамма цветов, уже давно привычных.
И вдруг его осенило. В один миг мысль выкристаллизовалась в мозгу Фарли: он теперь знал, что делать.
Фарли прождал мучительный месяц до 18 сентября — Дня космоса. Этот праздник был наиболее значимым для ученых, и даже неутомимый Ллуэс позволял себе отвлечься в этот день.
Вечером Фарли вошел в здание «Сентрал органик лэбораториз» — так назывался их научно-исследовательский институт — с полной уверенностью, что никто его не заметил. Тщательно закрыв за собой входную дверь, он медленно пошел по затемненным коридорам к атмосферной комнате. Его снаряжение состояло из ручного электрического фонарика, маленького пузырька с черным порошком и тонкой кисточки, которую он приобрел в другом конце города. На руках у него были перчатки.
Труднее всего было преодолеть «запретность» атмосферной комнаты, но, как только он переступил порог, тревоги исчезли.
Фарли направил луч фонарика и — без колебаний остановился у нужного баллона. Сердце его колотилось так громко, что буквально оглушало его, дыхание было прерывистым, рука дрожала. Он засунул фонарик под мышку, окунул кончик кисточки в пузырек с черным порошком. Крупинки его прилипли к кисточке, и Фарли открутил вентиль на баллоне. Потребовались бесконечно долгие секунды, чтобы ввести дрожавший кончик кисточки в отверстие горловины. Он снова и снова обмакивал кисточку в черный порошок и водил ею по отверстию горловины, загипнотизированный своей сосредоточенностью. Наконец, послюнив кусочек папиросной бумаги, он обтер внешний край горловины, испытывая огромное облегчение от того, что дело сделано.
Но именно в этот момент рука Фарли замерла и его охватил тошнотворный страх. Фонарик с грохотом упал на пол.
Дурак! Немыслимый, жалкий дурак! Не дал себе труда подумать и от нетерпения взял не тот баллон!
Фарли схватил фонарик, погасил его и с бьющимся сердцем стал прислушиваться. По-прежнему стояла мертвая тишина, и он частично вновь обрел самообладание, сказав себе, что то, что сделано один раз, можно повторить: потребуются лишние две минуты.
Он снова взялся за кисточку. Хорошо еще, что не бросил пузырек с порошком, смертельным, горящим порошком. На этот раз он выбрал нужный баллон.
Закончив, он снова обтер край горловины дрожащей рукой. Потом быстро обвел вокруг фонариком и задержал луч света на бутылке с реагентом — толуолом. Подойдет! Он отвинтил пластиковую крышечку, разбрызгал толуол по полу и оставил бутылку открытой.
Затем, спотыкаясь, вышел из здания, словно во сне, добрался до дома. Насколько он мог судить, его никто не заметил. Фарли сунул испачканную папиросную бумажку в установку для уничтожения отходов, и она исчезла, распавшись на молекулы. За ней последовала кисточка. Пузырек с порошком нельзя было уничтожить таким же образом, не переключив установку на новый режим, а это он посчитал небезопасным. По дороге на работу — а он часто ходил пешком — он бросит пузырек в реку…
Утром Фарли растерянно смотрел на себя в зеркало и думал, сумеет ли он пойти на работу. Праздная мысль: он не может не идти, ведь нельзя делать ничего, что привлекло бы к нему внимание в этот день из дней.
С щемящим чувством отчаяния он старался воспроизводить нормальные пустяковые действия, которые заполняли такую значительную часть дня. Было ясное, теплое утро, и он отправился на работу пешком. Потребовалось лишь движение кисти руки, чтобы избавиться от пузырька. Потом он сидел за своим письменным столом, тупо уставившись на наручный компьютер. Сработает ли то, что он сделал? Ллуэс вполне может не обратить внимание на запах толуола. Запах неприятный, но те, кто занимается органической химией, привыкли к нему. Тогда, если Ллуэс все еще увлечен процессами, данные о которых Фарли привез с Титана, он сразу возьмется за баллон. Иначе не может быть. После праздничного дня Ллуэс поспешит приступить к работе. Тогда, как только вентиль будет отвернут, немного газа вырвется наружу и воспламенится. Если в воздухе будет достаточно толуола, немедленно произойдет взрыв...
Фарли был так погружен в эти мысли, что воспринял отдаленный глухой гул как порождение своего воображения, пока рядом не раздались поспешные шаги.
Фарли поднял голову, и из пересохшего горла вырвался крик:
— Что там... что...
— Не знаю,— ответил бежавший.— Что-то случилось в атмосферной комнате. Взрыв. Все порушилось.
Сотрудники схватили огнетушители, сбили пламя и вынесли обгоревшего Ллуэса. В нем едва теплилась жизнь, и он умер еще до того, как подоспел врач.
В группе людей, взиравших на сцену разрушения с мрачным и полным ужаса любопытством, стоял Эдмунд Фарли. Его бледность и проступивший на лице пот в тот момент не отличали его от остальных.
Он сумел досидеть до конца рабочего дня, а вечером напряжение начало ослабевать. Несчастный случай, что ж такого? Все химики, в силу своей профессии, подвергаются риску, особенно те, кто имеет дело с воспламеняющимися смесями. Тут все ясно. А если у кого и возникнет сомнение, то каким образом они могут выйти на Эдмунда Фарли? Ему только надо продолжать жить так, как будто ничего не случилось.
Ничего? О боже, вся слава открытий, сделанных на Титане, теперь достанется ему. Он станет великим человеком. В ту ночь он крепко спал.
Джим Горем поблек за последние 24 часа. Его волосы свалялись, и только благодаря светлому цвету не было заметно, какая у него отросла щетина.
— Мы все говорили о том, что хорошо бы его убить,— сказал он.
— Всерьез? — спросил Г. Сетон Давенпорт из Наземного бюро расследований, постукивая пальцем по письменному столу.
— Нет, конечно,— ответил Горем, усиленно качая головой.— По крайней мере, я не придавал этим разговорам серьезного значения. Выдвигались разные бредовые идеи: подложить яд в бутерброд, обрызгать кислотой вертолет и тому подобное. И все же кто-то, наверное, отнесся к этому серьезно… Безумец! Ради чего?
— Насколько я понял из сказанного вами,— заметил Давенпорт,— по той причине, что погибший присваивал труды своих сотрудников.
— Ну и что! — воскликнул Горем.— Это была плата, которую Ллуэс взимал за то, что он делал. А он держал в руках всю лабораторию, он был ее мускулами и движущей силой. Он имел дело с конгрессом и получал ассигнования. Он добивался разрешения на осуществление программ в космосе и посылку людей на Луну и другие планеты. Он умел уговорить компании космических кораблей и промышленников тратить миллионы долларов на нас. Он создал «Сентрал органик лэбораториз».
— Вы все это осознали за минувшие сутки?
— Пожалуй, нет. Я всегда понимал это. Понимаете, я не решался лететь в космос и всегда находил предлог, чтобы уклониться от этого. Я — вакуумщик, который ни разу не побывал даже на Луне. По правде говоря, я... боялся. И еще больше боялся, что остальные узнают о моем страхе.— В голосе Горема звучало презрение к самому себе.
— А теперь вы хотите найти человека, которого можно наказать? — спросил Давенпорт.—= Хотите оправдаться перед мертвым Ллуэсом за преступление, совершенное против него?
— Нет! Оставим психологию. Говорю вам, это убийство. Иначе не может быть. Вы не знали Ллуэса. Он был помешан на мерах безопасности. Там, где он находился, не могло произойти никакого взрыва, если он не был тщательно подготовлен.
Давенпорт пожал плечами.
— А что взорвалось, доктор Горем?
— Могло взорваться что угодно. Он имел дело с органическими смесями всех видов — бензол, эфир, пиридин.
Все они воспламеняющиеся.
— Я в свое время изучал химию, доктор Горем, и, насколько мне помнится, ни одна из этих жидкостей не взрывается при комнатной температуре. Необходимы искра, пламя.
— Так ведь был настоящий пожар.
— А как он возник?
— Не могу себе представить. В комнате не было ни горелок, ни спичек. Всевозможное электрооборудование было надежно защищено. Даже такие мелочи, как клеммы, специально изготовлялись из медно-бериллиевого или других, не дающих искры, сплавов. Ллуэс не курил и немедленно уволил бы любого, кто приблизился бы на сто футов к этой комнате с горящей сигаретой.
— Чем он занимался в последний момент?
— Трудно сказать. В комнате все разрушено.
— Надо полагать, что сейчас там все прибрано.
— Нет, нет. Я об этом позаботился. Я сказал, что мы должны расследовать причины несчастного случая, доказать, что не было допущено небрежности. Поэтому там ни к чему не прикасались.
— Хорошо,— кивнул Давенпорт.— Пойдемте поглядим.
Когда они вошли в почерневшую развороченную комнату, Давенпорт спросил:
— Что здесь представляет наибольшую опасность?
Горем огляделся.
— Баллоны со сжатым кислородом,— сказал он, указав на них.
Давенпорт посмотрел на цилиндрические баллоны разного цвета, стоявшие вдоль стены и закрепленные цепью. Некоторые повалились, сдвинутые взрывной волной.
— А это что? — спросил Давенпорт, пнув ногой красный баллон, лежавший на полу посреди комнаты.
— Это водород,— сказал Горем.
— Водород способен взорваться, не так ли?
— Да, если его нагреть.
— Тогда почему вы говорите, что наиболее опасен сжатый кислород? — спросил Давенпорт.— Кислород ведь не взрывается?
— Нет. Он даже не горит, но поддерживает горение.
Понимаете? В кислородной среде горят вещества...
— И что же?
— Видите ли,— сказал Горем,— иногда бывает, что человек нечаянно мазнет смазочным веществом по вентилю баллона, чтобы потуже затянуть, или по ошибке испачкает его чем-то воспламеняющимся. И потом, когда он отвернет вентиль, кислород вырвется наружу, а то, что оказалось на вентиле, взорвется. Огонь, порожденный взрывом, зажжет другие воспламеняющиеся жидкости, находящиеся поблизости.
— Баллоны с кислородом в этой комнате целы?
— Целы.
Давенпорт снова пнул ногой баллон с водородом.
— Манометр на этом баллоне стоит на нуле. Я полагаю, это значит, что им пользовались в момент взрыва, и в дальнейшем он опорожнился.
— Я думаю, так и было,— кивнул Горем.
— Можно ли взорвать водород, нанеся смазочное вещество на манометр?
— Безусловно — нет.
Давенпорт потер подбородок.
— Что может заставить водород загореться, кроме искры?
— Наверное, катализатор,— сказал Горем.— Самый сильный — это платиновая чернь, то есть порошковидная платина.
— У вас есть такая штука? — удивился Давенпорт.
— Конечно.— Горем замолчал и долго смотрел на баллон с водородом.— Платиновая чернь,— прошептал он.— Любопытно…
— Значит, платиновая чернь может заставить водород гореть? — спросил Давенпорт.
— О да. Она вызывает соединение водорода с кислородом при комнатной температуре. Взрыв произойдет точно так же, как при высокой температуре.
В голосе Горема послышались взволнованные нотки. Он встал на колени возле баллона водорода, провел пальцем по черноватой горловине баллона.— Возможно, это простая сажа, но может быть, и...
Он поднялся.
— Сэр, наверное, так и было сделано. Я намерен собрать крупицы инородного материала с вентиля и подвергнуть их спектрографическому анализу.
— Сколько времени это займет?
— Дайте мне 15 минут.
Горем вернулся через двадцать. Тем временем Давенпорт самым тщательным образом осмотрел всю сгоревшую лабораторию. Он поднял голову.
— Ну.что?
— Платиновая чернь присутствует,— торжествующим тоном сказал Горем.— Немного, но есть.— Он протянул полоску негатива, на которой виднелись белые параллельные линии, расположенные нерегулярно и разной степени яркости.— Видите эти линии...
Давенпорт вгляделся.
— Очень слабые. Могли бы вы поклясться в суде, что здесь присутствует платиновая чернь?
— Да,— не задумываясь, ответил Горем.
— А другой химик? Если бы это фото показали химику, нанятому защитой, мог бы он утверждать, что линии слишком неотчетливы, чтобы служить несомненным доказательством?
Горем молчал. Потом воскликнул:
— Но они налицо. Поток газа и взрывная волна должны были сдуть большую часть черни. Вряд ли ее могло много остаться. Вы же понимаете.
Давенпорт смотрел задумчиво.
— Да, я признаю, что есть некоторое разумное основание предполагать убийство. Так что теперь надо искать дополнительные и более убедительные доказательства. Вы думаете, что был обработан только этот баллон? — Не знаю.
— Тогда прежде всего мы должны проверить все остальные баллоны в этой комнате. И вообще все, что возможно. Если взрыв дело рук убийцы, то он мог расставить и другие ловушки.
— Я могу приступить к работе немедленно,— сказал Горем с готовностью.
— Гм, нет, не вы,— возразил Давенпорт.— Я вызову человека из наших лабораторий.
На следующее утро Горем был приглашен в кабинет Давенпорта.
— Это действительно убийство,— сказал Давенпорт.— Был обработан еще один баллон.
— Вот видите!
— Баллон с кислородом. Внутри на горловине обнаружена платиновая чернь. И довольно много.
— Платиновая чернь? На баллоне с кислородом?
Давенпорт кивнул.
— Именно. Как, по-вашему, зачем это сделано?
Горем покачал головой.
— Кислород не горит и ничто не заставит его гореть.
Даже платиновая чернь.
— Значит, убийца внес ее в баллон с кислородом по ошибке, в сильном волнении. Потом, вероятно, исправил ошибку, обработав нужный баллон, но тем самым он оставил исчерпывающее доказательство того, что это убийство, а не несчастный случай.
— Да, теперь остается только найти виновного.
— «Только», доктор Горем? — улыбнулся Давенпорт.— А как это сделать? Он не оставил визитную карточку. У многих в лаборатории есть мотив для убийства. Еще больше людей обладают знанием химии, необходимым, чтобы совершить преступление, и имели такую возможность. Есть ли какой-либо способ выяснить, откуда появилась платиновая чернь?
— Нет,— ответил Горем.— Любой из двадцати сотрудников мог без труда войти в комнату, где хранятся химикалии. А как насчет алиби?
— На какое время?
— На предыдущую ночь.
Давенпорт перегнулся через письменный стол.
— Когда доктор Ллуэс последний раз пользовался этим баллоном с водородом до рокового события?
— Я... я не знаю. Он работал в одиночестве.
— Да, я знаю. Мы провели по этому поводу расследование. Платиновая чернь могла быть внесена в отверстие баллона и неделю назад.
— Что же нам делать? — огорченно спросил Горем.
— Единственная зацепка, как мне кажется,— сказал Давенпорт,— платиновая чернь на баллоне с кислородом.
Это — бессмыслица. И если удастся объяснить ее, она может подсказать решение. Но я не химик, так что ответ должны дать вы. Могла ли произойти ошибка — мог ли убийца спутать кислород с водородом?
Горем решительно покачал головой.
— Нет. Вам ведь известно насчет цветов баллонов: зеленый — кислород, красный — водород.
— А что если он дальтоник? — спросил Давенпорт.
Горем ответил не сразу.
— Нет, дальтоники обычно не занимаются химией. Определение цвета во время химической реакции имеет решающее значение. И если бы кто-то в нашей организации был дальтоником, то у него было бы достаточно неприятностей, так что все остальные знали бы об этом.
Давенпорт кивнул.
— Ну, хорошо. Если в баллон с кислородом чернь была внесена не по незнанию или по чистой случайности, то могло это быть сделано преднамеренно?
— Я вас не понимаю.
— Быть может, убийца руководствовался логичным планом, когда вводил платиновую чернь в баллон с кислородом, но потом передумал. Существуют ли такие обстоятельства, при которых платиновая чернь была бы опасной в присутствии кислорода? Вы ведь химик, доктор Горем.
— Нет, никаких. И не может быть. Если только...
— Если только?
— Видите ли, это нелепо, но если ударить струей кислорода по контейнеру с водородом, то платиновая чернь на баллоне может стать опасной. Естественно, необходим большой контейнер, чтобы произвести внушительный взрыв.
— Предположим,— сказал Давенпорт,— что убийца рассчитывал наполнить водородом всю комнату и потом открыть баллон с кислородом.
Горем сказал с улыбкой:
— Но зачем делать ставку на водород, когда… — Улыбка исчезла с его лица, и оно покрылось мертвенной бледностью. Он вскричал: — Фарли! Эдмунд Фарли!
— Что это значит?
— Фарли только что вернулся с Титана, где провел шесть месяцев,— сказал Горем, все больше волнуясь.— На Титане атмосфера состоит из водорода и метана. Он у нас единственный человек, который имеет опыт пребывания в такой атмосфере. Теперь все приобретает смысл. На Титане струя кислорода соединилась бы с окружающим водородом, если бы ее нагрели или применили в качестве катализатора платиновую чернь. И тогда бы произошел взрыв. Ситуация как раз обратная тому, что наблюдается здесь, на Земле. Это наверняка Фарли. Когда он вошел в лабораторию Ллуэса, чтобы устроить взрыв, он ввел платиновую чернь в баллон с кислородом в силу привычки. А когда он вспомнил, что на Земле реакция идет иначе, он уже выдал себя.
Давенпорт кивнул с мрачным чувством удовлетворения. Его рука потянулась к трубке внутреннего телефона, и он сказал: «Пошлите человека, чтобы задержать доктора Эдмунда Фарли в «Сентрал электрик».
Поющий колокольчик
Луис Пейтон никогда никому не рассказывал о способах, какими ему удавалось взять верх над полицией Земли в многочисленных хитроумных поединках, когда порой уже казалось, что его вот-вот подвергнут психоскопии, и все-таки каждый раз он выходил победителем.
Он не был таким дураком, чтобы раскрывать карты, но порой, смакуя очередной подвиг, он возвращался к давно взлелеянной мечте: оставить завещание, которое вскроют только после его смерти, и в нем показать всему миру, что природный талант, а вовсе не удача, обеспечивал ему неизменный успех.
В завещании он написал бы: «Ложная закономерность, созданная для маскировки преступления, всегда несет в себе следы личности того, кто ее создает. Поэтому разумнее установить закономерность в естественном ходе событий и приспособить к ней свои действия.»
И убить Альберта Корнуэлла Пейтон собирался, следуя именно этому правилу.
Корнуэлл, мелкий скупщик краденого, в первый раз завел с Пейтоном разговор о деле, когда тот обедал в ресторане Гриннела за своим обычным маленьким столиком. Синий костюм Корнуэлла в этот день, казалось, лоснился по-особенному, морщинистое лицо ухмылялось по-особенному, выцветшие усы топорщились по-особенному.
— Мистер Пейтон, — сказал он, здороваясь со своим будущим убийцей без тени зловещих предчувствий, — рад вас видеть. Я уж почти всякую надежду потерял — всякую!
Пейтон не выносил, когда его отвлекали от газеты за десертом, и ответил резко:
— Если у вас ко мне дело, Корнуэлл, вы знаете, где меня найти.
Пейтону было за сорок, его черные волосы уже начали седеть, но годы еще не успели его согнуть, он выглядел молодо, глаза не потускнели, и он умел придать своему голосу особую резкость, благо тут у него имелась немалая практика.
— Не то, что вы думаете, мистер Пейтон, — ответил Корнуэлл. Совсем не то. Я знаю один тайник, сэр, тайник с… Вы понимаете, сэр.
Указательным пальцем правой руки он словно слегка постучал по невидимой поверхности, а левую ладонь на миг приложил к уху.
Пейтон перевернул страницу газеты, еще хранившей влажность телераспределителя, сложил ее пополам и спросил:
— Поющие колокольчики?
— Тише, мистер Пейтон, — произнес Корнуэлл испуганным шепотом.
Пейтон ответил:
— Идемте.
Они пошли парком. У Пейтона было еще одно нерушимое правило — обсуждать тайны только на вольном воздухе. Любую комнату можно взять под наблюдение с помощью лучевой установки, но никому еще не удавалось обшаривать все пространство под небосводом.
Корнуэлл шептал:
— Тайник с поющими колокольчиками… накоплены за долгий срок, неотшлифованные, но первый сорт, мистер Пейтон.
— Вы их видели?
— Нет, сэр, но я говорил с одним человеком, который их видел. И он не врал, сэр, я проверил. Их там столько, что мы с вами сможем уйти на покой богатыми людьми. Очень богатыми, сэр.
— Кто этот человек?
У Корнуэлла в глазах зажегся хитрый огонек, словно чадящая свеча, от которой больше копоти, чем света, и его лицо приобрело отвратительное масленое выражение.
— Он был старателем на Луне и умел отыскивать колокольчики в стенках кратеров. Как именно — он мне не рассказывал. Но колокольчиков он насобирал около сотни и припрятал на Луне, а потом вернулся на Землю, чтобы здесь их пристроить.
— И, видимо, погиб?
— Да. Несчастный случай. Ужасно, мистер Пейтон, — упал с большой высоты. Прискорбное происшествие. Разумеется, его деятельность на Луне была абсолютно противозаконной. Власти Доминиона строго преследуют контрабандную добычу колокольчиков. Так что, возможно, его постигла божья кара… Как бы то ни было, у меня его карта.
Пейтон с выражением холодного безразличия ответил:
— Меня не интересуют подробности вашей сделки. Я хочу знать только, почему вы обратились ко мне?
— Видите ли, мистер Пейтон, — сказал Корнуэлл, — там хватит на двоих, и каждому из нас найдется что делать. Я, например, знаю, где находится тайник, и могу раздобыть космический корабль. А вы…
— Ну?
— Вы умеете управлять кораблем, и у вас такие связи, что пристроить колокольчики будет легко. Очень справедливое разделение труда, мистер Пейтон, ведь так?
Пейтон на секунду задумался о естественном ходе своей жизни — ее существующей закономерности: концы, казалось, сходились с концами.
Он сказал:
— Мы вылетаем на Луну десятого августа.
Корнуэлл остановился.
— Мистер Пейтон, сейчас ведь еще только апрель.
Пейтон продолжал идти, и Корнуэллу пришлось рысцой пуститься за ним вдогонку.
— Вы расслышали, что я сказал, мистер Пейтон?
Пейтон повторил:
— Десятого августа. Я своевременно свяжусь с вами и сообщу, куда доставить корабль. До тех пор не пытайтесь увидеться со мной. До свидания, Корнуэлл.
Корнуэлл спросил:
— Прибыль пополам?
— Да, — ответил Пейтон. — До свидания.
Дальше Пейтон пошел один, раздумывая о закономерностях своей жизни. Когда ему было двадцать семь лет, он купил в Скалистых горах участок земли с домом; один из прежних владельцев построил дом как убежище на случай атомной войны, которой все опасались два столетия назад и которой так и не суждено было разразиться. Однако дом сохранился — памятник стремлению к полной безопасности, стремлению существовать без какой-либо связи с внешним миром, порожденному смертельным страхом.
Здание было выстроено из стали и бетона в одном из самых уединенных уголков Земли; оно стояло высоко над уровнем моря, и почти со всех сторон его защищали горы, поднимавшиеся еще выше. Дом располагал собственной электростанцией и водопроводом, который питали горные потоки, холодильными камерами, вмещавшими сразу десяток коровьих туш; подвал напоминал крепость с целым арсеналом оружия, предназначенного для того, чтобы сдерживать напор обезумевших от страха толп, которые так и не появились. Установка для кондиционирования воздуха могла очищать воздух до бесконечности, пока из него не будет вычищено все, кроме радиоактивности (увы, человек несовершенен!).
И в этом спасительном убежище Пейтон, убежденный холостяк, из года в год проводил весь август. Он раз и навсегда отключил средства сообщения с внешним миром — телевизионную установку, телераспределитель газет. Он окружил свои владения силовым полем и установил сигнальный механизм в том месте, где ограда пересекала единственную горную тропу, по которой можно было добраться до его дома.
Ежегодно в течение месяца Пейтон оставался наедине с самим собой. Его никто не видел, до него никто не мог добраться. Лишь в полном одиночестве он по-настоящему отдыхал от одиннадцати месяцев пребывания в человеческом обществе, к которому не испытывал ничего, кроме холодного презрения.
Даже полиция (тут Пейтон усмехнулся) знала, как строго он блюдет это правило. Однажды он даже махнул рукой на большой залог и, рискуя подвергнуться психоскопии, все-таки уехал в Скалистые горы, чтобы провести август, как всегда.
Пейтон подумал, что, пожалуй, включит в свое завещание еще один афоризм: самое лучшее доказательство невиновности — это полное отсутствие алиби.
Тридцатого июля, как и ежегодно в этот день, Луис Пейтон в 9 часов 15 минут утра сел в Нью-Йорке на антигравитационный реактивный стратолет и в 12 часов 30 минут прибыл в Денвер. Там он позавтракал и в 1 час 45 минут отправился на полуантигравитационном автобусе в Хампс-Пойнт, откуда Сэм Лейбмен на старинном наземном автомобиле (не антигравитационном) довез его до границы его усадьбы. Сэм Лейбмен невозмутимо принял на чай десять долларов, которые получал всегда, и приложил руку к шляпе, что вот уже пятнадцать лет проделывал тридцатого июля.
Тридцать первого июля, как каждый год в этот день, Луис Пейтон вернулся в Хампс-Пойнт на своем антигравитационном флиттере и заказал в универсальном магазине все необходимое на следующий месяц. Заказ был самым обычным. По сути дела, это был дубликат заказов предыдущих лет.
Макинтайр, управляющий магазином, внимательно проверил заказ, передал его на Центральный склад Горного района в Денвере, и через час все требуемое было доставлено по линии масс-транспортировки. Пейтон с помощью Макинтайра погрузил припасы во флиттер, оставил, как обычно, десять долларов на чай и возвратился домой.
Первого августа в 12 часов 01 минуту Пейтон включил на полную мощность силовое поле, окружавшее его участок, и оказался полностью отрезанным от внешнего мира.
И тут привычный ход событий был нарушен. Пейтон расчетливо оставил в своем распоряжении восемь дней. За это время он тщательно и без спешки уничтожил столько припасов, сколько могло ему потребоваться на весь август. Тут ему помогли мусорные камеры, предназначенные для уничтожения отбросов, — это была последняя модель, с легкостью превращавшая что угодно, в том числе металлы и силикаты, в мельчайшую молекулярную пыль, которую никакими средствами нельзя было обнаружить. Избыток энергии, выделявшейся при этом процессе, он спустил в горный ручей, который протекал возле дома. Всю эту неделю вода в ручье была на пять градусов теплее обычного.
Девятого августа Пейтон спустился на аэрофлиттере в условленное место в штате Вайоминг, где Альберт Корнуэлл уже ждал его с космическим кораблем. Корабль сам по себе, конечно, делал весь план уязвимым, поскольку о нем знали те, кто его продал, и те, кто доставил его сюда и помог готовить к полету. Но все эти люди имели дело только с Корнуэллом, а Корнуэлл, подумал Пейтон с тенью усмешки, скоро будет нем как могила.
Десятого августа космический корабль, которым управлял Пейтон, оторвался от поверхности Земли, имея на борту одного пассажира — Корнуэлла (конечно с картой). Антигравитационное поле корабля оказалось превосходным. При включении на полную мощность корабль весил меньше унции. Микрореакторы вырабатывали энергию безотказно и бесшумно, и корабль беззвучно прошел атмосферу — такой не похожий на грохочущие, окутанные пламенем ракеты прошлого, — превратился в крошечную точку и скоро совсем исчез.
Вероятность того, что кто-нибудь увидит взлетающий корабль, была ничтожно мала. И его действительно никто не увидел.
Два дня в космическом пространстве, и вот уже две недели на Луне. Чутье с самого начала подсказало Пейтону, что понадобятся именно две недели. Он не питал никаких иллюзий относительно самодельных карт, составленных людьми, которые ничего не смыслят в картографии. Такая карта могла помочь только самому составителю — ему приходила на помощь память. Для всех остальных такая карта — сложный ребус.
В первый раз Корнуэлл показал Пейтону карту уже в полете. Он подобострастно улыбался.
— В конце концов, сэр, ведь это мой единственный козырь.
— Вы сверили ее с картами Луны?
— Я ведь в этом ничего не смыслю, мистер Пейтон. Целиком полагаюсь на вас.
Пейтон смерил его холодным взглядом и вернул карту. Сомнения на ней не вызывал только кратер Тихо Браге, где находился подземный лунный город.
Хоть в чем-то, однако, астрономия сыграла им на руку. Кратер Тихо Браге находился на освещенной стороне Луны, следовательно, патрульные корабли вряд ли будут нести там дежурство, так что у них были все шансы остаться незамеченными.
Пейтон совершил рискованно быструю антигравитационную посадку в холодной тени, отбрасываемой склоном кратера. Солнце уже прошло зенит, и тень не могла стать меньше.
Корнуэлл помрачнел.
— Какая жалость, мистер Пейтон. Мы ведь не можем начать поиски, пока стоит лунный день.
— У него тоже бывает конец, — оборвал его Пейтон. — Солнце будет здесь приблизительно сто часов. Это время мы используем, чтобы акклиматизироваться и как следует изучить карту.
Загадку Пейтон разгадал быстро; оказалось, что у нее несколько ответов. Он долго изучал лунные карты, тщательно вымеряя расстояния и стараясь определить, какие именно кратеры изображены на самодельной карте, дававшей им ключ… к чему?
Наконец он сказал:
— Колокольчики могут быть спрятаны в одном из трех кратеров — ГЦ-3, ГЦ-5 или МТ-10.
— Как же нам быть, мистер Пейтон? — спросил Корнуэлл расстроенно.
— Осмотрим все три, — сказал Пейтон. — Начнем с ближайшего.
Место, где они находились, пересекло терминатор, и их окутала ночная мгла. После этого они все дольше оставались на лунной поверхности, постепенно привыкая к извечной тьме и тишине, к резким точкам звезд и к полосе света над краем кратера — это в него заглядывала Земля. Они оставляли глубокие бесформенные следы в сухой пыли, которая не поднималась кверху и не осыпалась. Пейтон в первый раз заметил эти следы, когда они выбрались из кратера на яркий свет, отбрасываемый горбатым полумесяцем Земли. Это случилось на восьмой день их пребывания на Луне.
Лунный холод не позволял надолго покидать корабль. Каждый день, однако, им удавалось удлинять этот промежуток. На одиннадцатый день они убедились, что в ГЦ-5 поющих колокольчиков нет.
На пятнадцатый день холодная душа Пейтона согрелась жаром отчаяния. Они непременно должны обнаружить тайник в ГЦ-3. МТ-10 слишком далеко. Они не успеют добраться до него и исследовать: ведь вернуться на Землю необходимо не позже тридцать первого августа.
Однако в тот же день отчаяние рассеялось: тайник с колокольчиками был найден.
Осторожно, в ладонях, они переносили колокольчики на корабль, укладывали их в мягкую стружку и возвращались за новыми. Им трижды пришлось проделать путь, который на Земле оставил бы их без сил. Но на Луне с ее незначительным тяготением такое расстояние почти не утомляло.
Корнуэлл передал последний колокольчик Пейтону, который осторожно размещал их в выходной камере.
— Отодвиньте их подальше от люка, мистер Пейтон, — сказал он, и его голос в наушниках показался Пейтону слишком громким и резким. — Поднимаюсь.
Корнуэлл пригнулся, готовясь к лунному прыжку — высокому и замедленному, посмотрел вверх и застыл в ужасе. Его лицо, ясно видное за выпуклым лузилитовым иллюминатором шлема, исказилось предсмертной гримасой.
— Нет, мистер Пейтон! Нет!
Пальцы Пейтона сомкнулись на рукоятке бластера, последовал выстрел. Непереносимо яркая вспышка — и Корнуэлл превратился в бездыханный труп, распростертый среди клочьев скафандра и покрытый брызгами замерзающей крови.
Пейтон угрюмо поглядел на мертвеца, но это длилось какое-то мгновение. Затем он уложил последние колокольчики в приготовленные для них контейнеры, снял скафандр, включил сначала антигравитационное поле, затем микрореакторы и, став миллиона на два богаче, чем за полмесяца до этого, отправился в обратный путь на Землю.
Двадцать девятого августа корабль Пейтона бесшумно приземлился кормой вниз в Вайоминге на той же площадке, с которой взлетел десятого августа. Пейтон недаром так заботливо выбирал это место. Его аэрофлиттер по-прежнему спокойно стоял в расселине, которыми изобиловало это каменистое плато.
Контейнеры с поющими колокольчиками Пейтон отнес в дальний конец расселины и аккуратно присыпал их землей. Затем он вернулся на корабль, чтобы включить приборы и сделать последние приготовления. Через две минуты после того, как он снова спустился на землю, сработала автоматическая система управления.
Бесшумно набирая скорость, корабль устремился ввысь, он слегка отклонился в полете к западу под воздействием вращения Земли. Пейтон следил за ним, приставив руку козырьком к прищуренным глазам, и уже почти за пределами видимости заметил крошечную вспышку света и облачко на фоне синего неба.
Его рот искривился в усмешке. Он рассчитал правильно. Стоило только отвести в сторону кадмиевые стержни поглотителя, и микрореакторы вышли из режима; корабль исчез в жарком пламени ядерного взрыва.
Двадцать минут спустя Пейтон был дома. Он устал, все мышцы у него болели — сказывалось земное тяготение. Спал он хорошо.
Двенадцать часов спустя, на рассвете, явилась полиция.
Человек, который открыл дверь, сложил руки на круглом брюшке и несколько раз приветливо кивнул головой. Человек, которому открыли дверь, Сетон Дейвенпорт из Земного бюро расследований, огляделся, чувствуя себя крайне неловко.
Комната, куда он вошел, была очень большая и тонула в полутьме, если не считать яркой лампы видеоскопа, установленной над комбинированным креслом — письменным столом. По стенам тянулись полки, уставленные кинокнигами. В одном углу были развешаны карты Галактики, в другом на подставке мягко поблескивал «Галактический объектив».
— Вы доктор Уэнделл Эрт? — спросил Дейвенпорт так, словно этому трудно было поверить. Дейвенпорт был коренаст и черноволос. На щеке, рядом с длинным тонким носом, виднелся звездообразный шрам — след нейронного хлыста, однажды чуть-чуть задевшего его.
— Я самый, — ответил доктор Эрт высоким тенорком. — А вы — инспектор Дейвенпорт.
Инспектор показал свое удостоверение и объяснил:
— Университет рекомендовал мне вас как специалиста в области экстратеррологии.
— Да, вы мне это уже говорили полчаса назад, когда звонили, любезно ответил доктор Эрт. Черты лица у него были расплывчатые, нос — пуговкой. Сквозь толстые стекла очков глядели выпуклые глаза.
— Я сразу перейду к делу, доктор Эрт. Вы, вероятно, бывали на Луне…
Доктор Эрт, который успел к этому времени вытащить из-за груды кинокниг бутылку с красной жидкостью и две почти не запыленные рюмки, сказал с неожиданной резкостью:
— Я никогда не бывал на Луне, инспектор, и не собираюсь. Космические путешествия — глупое занятие. Я их не одобряю.
Потом добавил, уже мягче:
— Присаживайтесь, сэр, присаживайтесь. Выпейте рюмочку.
Инспектор Дейвенпорт выпил рюмочку и сказал:
— Но вы же не…
— Экстратерролог. Да. Меня интересуют другие миры, но это вовсе не значит, что я должен их посещать. Господи, да разве обязательно быть путешественником во времени, чтобы получить диплом историка?
Он сел, его круглое лицо вновь расплылось в улыбке, и он спросил:
— Ну, а теперь расскажите, что вас, собственно, интересует?
— Я пришел, — сказал инспектор, нахмурив брови, — чтобы проконсультироваться с вами относительно одного убийства.
— Убийства? А что я понимаю в убийствах?
— Это убийство, доктор Эрт, совершено на Луне.
— Поразительно!
— Более чем поразительно. Беспрецедентно, доктор Эрт. За пятьдесят лет существования Доминиона Луны были случаи, когда взрывались корабли или скафандры давали течь. Люди сгорали на солнечной стороне, замерзали на теневой и погибали от удушья на обоих. Некоторые даже ухитрялись умереть, упав со скалы, что не так-то просто сделать, принимая во внимание лунное тяготение. Но за все это время ни один человек на Луне не стал жертвой преднамеренного акта насилия со стороны другого человека… Это случилось впервые.
— Как было совершено убийство? — спросил доктор Эрт.
— Выстрелом из бластера. Благодаря счастливому стечению обстоятельств представители закона оказались на месте преступления менее чем через час. Патрульный корабль заметил вспышку света на лунной поверхности. Вы ведь представляете себе, насколько далеко может быть видна вспышка на теневой стороне. Пилот сообщил об этом в Лунный город и пошел на посадку. Делая вираж, он разглядел в свете Земли взлетающий корабль — он клянется, что не ошибся. Высадившись, он обнаружил обгоревший труп и следы.
— Вы считаете, что эта вспышка была выстрелом из бластера? — заметил доктор Эрт.
— Несомненно. Убийство было совершено совсем недавно. Труп еще не успел промерзнуть. Следы принадлежали двум разным людям. Тщательные измерения показали, что углубления в пыли имеют два различных диаметра; другими словами, сапоги, их оставившие, были разных размеров. Следы в основном вели к кратерам ГЦ-3 и ГЦ-5. Это два…
— Мне известна официальная система обозначения лунных кратеров, любезно объяснил доктор Эрт.
— Гм-м. Одним словом, следы в ГЦ-3 вели к расселине на склоне кратера, внутри которой были обнаружены обломки затвердевшей пемзы. Рентгеноанализ показал…
— Поющие колокольчики, — перебил экстратерролог в сильном волнении. Неужели это ваше убийство связано с поющими колокольчиками?
— А что, если это так? — спросил инспектор растерянно.
— У меня есть один колокольчик. Его нашла университетская экспедиция и подарила мне в благодарность за… Нет, я должен его вам показать, инспектор.
Доктор Эрт вскочил с кресла и засеменил через комнату, сделав знак своему гостю следовать за ним. Дейвенпорт с досадой повиновался.
Они вошли в соседнюю комнату, значительно большую, чем первая. Там было еще темнее и царил совершенный хаос. Дейвенпорт в удивлении воззрился на самые разнообразные предметы, сваленные вместе без малейшего намека на какой-либо порядок.
Он разглядел кусок синей глазури с Марса, которую неизлечимые романтики считали переродившимися останками давно вымерших марсиан, затем небольшой метеорит, модель одного из первых космических кораблей и запечатанную бутылку с жидкостью — на этикетке значилось «Океан Венеры».
Доктор Эрт с довольным видом сообщил:
— Я превратил свой дом в музей. Одно из преимуществ холостяцкой жизни. Конечно, надо еще многое привести в порядок. Вот как-нибудь выберется свободная неделька-другая…
С минуту он озирался в недоумении, потом, вспомнив, отодвинул схему развития морских беспозвоночных — высшей формы жизни на Арктуре V — и сказал:
— Вот он. К сожалению, он с изъяном.
Колокольчик висел на аккуратно впаянной в него тонкой проволочке. Изъян заметить было нетрудно: примерно на середине колокольчик опоясывала вмятинка, так что он напоминал два косо слепленных шарика. И все-таки его любовно отполировали до неяркого серебристо-серого блеска; на бархатистой поверхности виднелись те крошечные оспинки, которые не удавалось воспроизвести ни в одной лаборатории, пытавшейся синтезировать искусственные колокольчики.
Доктор Эрт продолжал:
— Я немало экспериментировал, пока подобрал к нему подходящее било. Колокольчики с изъяном капризны. Но кость подходит. Вот! — он поднял что-то вроде короткой широкой ложки, сделанной из серовато-белого материала, — это я сам вырезал из берцовой кости быка… Слушайте.
С легкостью, которой трудно было ожидать от его толстых пальцев, он стал ощупывать поверхность колокольчика, стараясь найти место, где при ударе возникал самый нежный звук. Затем он повернул колокольчик, осторожно его придержав. Потом отпустил и слегка ударил по нему широким концом костяной ложки.
Казалось, где-то вдали запели миллионы арф. Пение нарастало, затихало и возвращалось снова. Оно возникало словно нигде. Оно звучало в душе у слушателя, небывало сладостное, и грустное, и трепетное.
Оно медленно замерло, но ученый и его гость еще долго молчали.
Доктор Эрт спросил:
— Неплохо, а?
И легким ударом пальца раскачал колокольчик.
— Осторожно! Не разбейте!
Хрупкость хороших колокольчиков давно вошла в поговорку.
Доктор Эрт сказал:
— Геологи утверждают, что колокольчики — это всего-навсего затвердевшие под большим давлением полые кусочки пемзы, в которых свободно перекатываются маленькие камешки. Так они утверждают. Но, если этим все и исчерпывается, почему же мы не в состоянии изготовлять их искусственно? И ведь по сравнению с колокольчиком без изъяна этот звучит, как губная гармоника.
— Верно, — согласился Дейвенпорт, — и на Земле вряд ли найдется хотя бы десяток счастливцев, обладающих колокольчиком безупречной формы. Сотни людей, музеев и учреждений готовы отдать за такой колокольчик любые деньги, ни о чем при этом не спрашивая. Запас колокольчиков стоит убийства!
Экстратерролог обернулся к Дейвенпорту и пухлым указательным пальцем поправил очки на носу-пуговке.
— Я не забыл про убийство, из-за которого вы пришли. Пожалуйста, продолжайте.
— Все можно рассказать в двух словах. Я знаю, кто убийца.
Они вернулись в библиотеку, и, снова опустившись в кресло, доктор Эрт сложил руки на объемистом животе, а потом спросил:
— В самом деле? Тогда что же вас затрудняет, инспектор?
— Знать и доказать — не одно и то же, доктор Эрт. К сожалению, у него нет алиби.
— Вероятно, вы хотели сказать «к сожалению, у него есть алиби»?
— Я хочу сказать то, что сказал. Будь у него алиби, я сумел бы доказать, что оно фальшивое, потому что оно было бы фальшивым. Если бы он представил свидетелей, готовых показать, что они видели его на Земле в момент совершения убийства, их можно было бы поймать на лжи. Если бы он представил документы, можно было бы обнаружить, что это подделка или еще какое-нибудь жульничество. К сожалению, ни на что подобное преступник не ссылается.
— А на что же он ссылается?
Инспектор Дейвенпорт подробно описал имение Пейтона в Колорадо и сказал в заключение:
— Он всегда проводит август там в полнейшем одиночестве. Даже ЗБР вынуждено было бы это подтвердить. И присяжным придется сделать вывод, что он этот август провел у себя в имении, если только мы не представим убедительных доказательств того, что он был на Луне.
— А почему вы думаете, что он действительно был на Луне? Может быть, он и не виновен.
— Виновен! — Дейвенпорт почти кричал. — Вот уже пятнадцать лет я напрасно пытаюсь собрать против него достаточно улик. Но преступления Пейтона я теперь нюхом чую. Говорю вам, на всей Земле только у Пейтона хватит наглости попробовать сбыть контрабандные колокольчики — и к тому же он знает нужных людей. Известно, что он первоклассный космический пилот. Известно, что у него были какие-то дела с убитым, хотя последние несколько месяцев они не виделись. К сожалению, все это еще не доказательства.
Доктор Эрт спросил:
— А не проще ли прибегнуть к психоскопии, ведь теперь это узаконено.
Дейвенпорт нахмурился, и шрам у него на щеке побелел.
— Разве вам не известен закон Конского-Хиакавы, доктор Эрт?
— Нет.
— Он, по-моему, никому не известен. Внутренний мир человека, заявляет государство, свободен от посягательств. Прекрасно, но что отсюда вытекает? Человек, подвергнутый психоскопии, имеет право на такую компенсацию, какой он только сумеет добиться от суда. Недавно один банковский кассир получил 25 000 долларов возмещения за психоскопическую проверку по поводу необоснованного обвинения в растрате. А косвенные улики, которые как будто указывали на растрату, в действительности оказались связанными с любовной интрижкой. Кассир подал иск, указывая, что он лишился места, был вынужден принимать меры предосторожности, так как оскорбленный муж грозил ему расправой, и, наконец, его выставили на посмешище, поскольку газетный репортер узнал и описал результаты психоскопической проверки, проведенной судом.
— Мне кажется, у этого кассира были основания для иска.
— Конечно. В том-то и беда. А кроме того, следует помнить еще один пункт: человек, один раз подвергнутый психоскопии по какой бы то ни было причине, не может быть подвергнут ей вторично. Нельзя дважды подвергать опасности психику человека, гласит закон.
— Не слишком-то удобный закон.
— Вот именно. Психоскопию узаконили два года назад, и за это время все воры и аферисты старались пройти психоскопию из-за карманной кражи, чтобы потом спокойно приниматься за крупные дела. Таким образом, наше Главное управление разрешит подвергнуть Пейтона психоскопии, только если против него будут собраны веские улики. И не обязательно веские с точки зрения закона — лишь бы поверило мое начальство. Самое скверное, доктор Эрт, что мы не можем передать дело в суд, не проведя психоскопической проверки. Убийство — слишком серьезное преступление, и, если обвиняемый не будет подвергнут психоскопии, даже самый тупой присяжный решит, что обвинение не уверено в своих позициях.
— Так что же вам нужно от меня?
— Доказательство того, что в августе Пейтон побывал на Луне. И оно мне нужно немедленно. Пейтон арестован по подозрению, и долго держать его под стражей я не могу. А если об этом убийстве кто-нибудь проведает, мировая пресса взорвется, как астероид, угодивший в атмосферу Юпитера. Ведь это же сенсационное преступление — первое убийство на Луне.
— Когда именно было совершено убийство? — тон Эрта внезапно стал деловитым.
— Двадцать седьмого августа.
— Когда вы арестовали Пейтона?
— Вчера, тридцатого августа.
— Значит, если Пейтон — убийца, у него должно было хватить времени вернуться на Землю.
— Времени у него было в обрез. — Дейвенпорт сжал губы. — Если бы я не опоздал на день, если бы оказалось, что его дом пуст…
— Как по-вашему, сколько они всего пробыли на Луне, убийца и убитый?
— Судя по количеству следов, несколько дней. Не меньше недели.
— Корабль, на котором они летели, был обнаружен?
— Нет, и вряд ли он будет обнаружен. Часов десять назад обсерватория Денверского университета сообщила об увеличении радиоактивного фона, возникшем позавчера в шесть вечера и державшемся несколько часов. Ведь совсем нетрудно, доктор Эрт, установить приборы на корабле так, чтобы он взлетел без экипажа и взорвался примерно в пятидесяти милях от Земли от короткого замыкания в микрореакторах.
— На месте Пейтона, — задумчиво проговорил доктор Эрт, — я убил бы сообщника на борту корабля и взорвал бы корабль вместе с трупом.
— Вы не знаете Пейтона, — мрачно ответил Дейвенпорт. — Он упивается своими победами над законом. Он их смакует. Труп, оставленный на Луне, это вызов нам.
— Вот как! — Эрт погладил себя по животу и добавил:
— Что ж, возможно, мне это и удастся.
— Доказать, что он был на Луне?
— Составить свое мнение на этот счет.
— Теперь же?
— Чем скорее, тем лучше. Если, конечно, мне можно будет побеседовать с мистером Пейтоном.
— Это я устрою. Меня ждет антигравитационный реактивный самолет. Через двадцать минут мы будем в Вашингтоне.
На толстой физиономии экстратерролога выразилось глубочайшее смятение. Он вскочил и бросился в самый темный угол своей загроможденной вещами комнаты, подальше от агента ЗБР.
— Ни за что!
— В чем дело, доктор Эрт?
— Я не полечу на реактивном самолете. Я им не доверяю.
Дейвенпорт озадаченно уставился на доктора Эрта и пробормотал, запинаясь:
— А монорельсовая дорога?
— Я не доверяю никаким средствам передвижения, — отрезал доктор Эрт. Не доверяю. Только пешком. Пешком — пожалуйста.
Потом он вдруг оживился.
— А вы не могли бы привезти мистера Пейтона в наш город, куда-нибудь поблизости? В здание муниципалитета, например? До муниципалитета мне дойти не трудно.
Дейвенпорт растерянно обвел глазами комнату. Кругом стояли бесчисленные тома, повествующие о световых годах. В открытую дверь соседнего зала виднелись сувениры далеких миров. Он перевел взгляд на доктора Эрта, который побледнел от одной только мысли о реактивном самолете, и пожал плечами.
— Я привезу Пейтона сюда. В эту комнату. Это вас устроит?
Доктор Эрт испустил вздох облегчения.
— Вполне.
— Надеюсь, у вас что-нибудь получится, доктор Эрт.
— Я сделаю все, что в моих силах, мистер Дейвенпорт.
Луис Пейтон брезгливо осмотрел комнату и смерил презрительным взглядом толстяка, любезно ему кивавшего. Он покосился на предложенный стул и, прежде чем сесть, смахнул с него рукой пыль. Дейвенпорт сел рядом, поправил кобуру бластера.
Толстяк с улыбкой уселся и стал поглаживать свое округлое брюшко, словно он только что отлично поел и хочет, чтобы об этом знал весь мир.
— Добрый вечер, мистер Пейтон, — сказал он. — Я доктор Уэнделл Эрт, экстратерролог.
Пейтон снова взглянул на него.
— А что вам нужно от меня?
— Я хочу знать, были ли вы в августе на Луне.
— Нет.
— Однако ни один человек на Земле не видел вас между первым и тридцатым августа.
— Я проводил август, как обычно. В этом месяце меня никогда не видят. Спросите хоть у него.
И Пейтон кивнул в сторону Дейвенпорта.
Доктор Эрт усмехнулся.
— Ах, если бы у вас был какой-нибудь объективный критерий! Если бы между Луной и Землей существовали какие-то физические различия. Скажем, мы сделали бы анализ пыли с ваших волос и сказали: «Ага, лунные породы». К сожалению, это невозможно. Лунные породы ничем не отличаются от земных. Да если бы даже они и отличались, у вас на волосах все равно не найти ни одной пылинки, разве что вы выходили на лунную поверхность без скафандра, а это маловероятно.
Пейтон слушал его, сохраняя полнейшее равнодушие.
Доктор Эрт продолжал, благодушно улыбаясь и поправляя рукой очки, которые плохо держались на его крохотном носике:
— Человек в космосе или на Луне дышит земным воздухом, ест земную пищу. И на корабле, и в скафандре он остается в земных условиях. Мы разыскиваем человека, который два дня летел на Луну, пробыл на Луне по крайней мере неделю и еще два дня потратил на возвращение на Землю. Все это время он сохранял вокруг себя земные условия, что очень усложняет нашу задачу.
— Мне кажется, — сказал Пейтон, — вы могли бы ее облегчить, если бы отпустили меня и начали поиски настоящего убийцы.
— Это не исключено, — сказал доктор Эрт. — Вы когда-нибудь видели что-либо подобное?
Он пошарил пухлой рукой на полу возле кресла и поднял серый шарик, который отбрасывал приглушенные блики.
Пейтон улыбнулся.
— Я бы сказал, что это поющий колокольчик.
— Да, это поющий колокольчик. Убийство было совершено ради поющих колокольчиков… Как вам нравится этот экземпляр?
— По-моему, он с большим изъяном.
— Рассмотрите его повнимательнее, — сказал доктор Эрт и внезапно бросил колокольчик Пейтону, который сидел от него в двух метрах.
Дейвенпорт вскрикнул и приподнялся на стуле. Пейтон вскинул руки и успел поймать колокольчик.
— Идиот! Кто же их так бросает, — сказал Пейтон.
— Вы относитесь к поющим колокольчикам с почтением, не правда ли?
— Со слишком большим почтением, чтобы их разбивать. И это по крайней мере не преступление.
Пейтон тихонько погладил колокольчик, потом поднял его к уху и слегка встряхнул, прислушиваясь к мягкому шороху осколков лунолита — маленьких кусочков пемзы, сталкивающихся в пустоте.
Затем, подняв колокольчик за вделанную в него проволочку, он уверенным и привычным движением провел ногтем большого пальца по выпуклой поверхности. И колокольчик запел. Звук был нежный, напоминающий флейту, задрожав, он медленно замер, вызывая в памяти картину летних сумерек.
Несколько секунд все трое завороженно слушали.
А потом доктор Эрт сказал:
— Бросьте его мне, мистер Пейтон. Скорее!
И он повелительно протянул руку.
Машинально Луис Пейтон бросил колокольчик. Он описал короткую дугу и, не долетев до протянутой руки доктора Эрта, с горестным звенящим стоном вдребезги разбился на полу.
Дейвенпорт и Пейтон, охваченные одним чувством, молча смотрели на серые осколки и толком не расслышали, как доктор Эрт спокойно произнес:
— Когда будет обнаружен тайник, где преступник укрыл неотшлифованные колокольчики, я хотел бы получить безупречный и правильно отшлифованный экземпляр в качестве возмещения за разбитый и в качестве моего гонорара.
— Гонорара? За что же? — сердито спросил Дейвенпорт.
— Но ведь теперь все очевидно. Хотя несколько минут назад в моей маленькой речи я не упомянул об этом, но тем не менее одну земную особенность космический путешественник взять с собой не может… Я имею в виду силу земного притяжения. Мистер Пейтон очень неловко бросил столь ценную вещь, а это неопровержимо доказывает, что его мышцы еще не приспособились вновь к земному притяжению. Как специалист, мистер Дейвенпорт, я утверждаю: арестованный последнее время находился вне Земли. Он был либо в космическом пространстве, либо на какой-то планете, значительно уступающей Земле в размерах, например на Луне.
Дейвенпорт с торжеством вскочил на ноги.
— Будьте добры, дайте мне письменное заключение, — сказал он, положив руку на бластер, — и его будет достаточно, чтобы получить санкцию на применение психоскопии.
Луис Пейтон и не думал сопротивляться. Оглушенный случившимся, он сознавал только одно: в завещании ему придется упомянуть, что его блистательный путь завершился полным крахом.
Говорящий камень
Пояс астероидов велик, а его человеческое население мало. Ларри Вернадски на седьмом месяце своего годичного срока работы на станции 5 все чаще задумывался, компенсирует ли его заработок почти абсолютное одиночное заключение в семидесяти миллионах миль от Земли. Это умный юноша, лишенный внешности инженера-астронавта или шахтера астероидов. У него голубые глаза, масляно-желтые волосы и невыразимо невинное выражение, которое маскирует проницательный ум и обостренное изоляцией любопытство.
И невинная внешность, и любопытство хорошо послужили ему на борту «Роберта К.».
Когда «Роберт К.» причалил к внешней платформе станции, Вернадски почти немедленно оказался на борту. В нем чувствовалось радостное возбуждение, которое у собаки проявилось бы размахиванием хвоста и счастливым лаем.
То, что капитан «Роберта К.» встретил его улыбку кислым молчанием и мрачным выражением лица с тяжелыми чертами, не имело значения. По мнению Вернадски, корабль был желанным гостем. И мог пользоваться миллионами галлонов льда и тоннами замороженных пищевых концентратов, заложенных в выдолбленную сердцевину астероида, который и служил станцией 5. Сам Вернадски готов был предоставить любой инструмент и отремонтировать любую поломку гиператомных моторов.
Вернадски широко улыбался всем своим мальчишеским лицом, заполняя обычный бланк, записывая данные для дальнейшей передачи в компьютер. Он записал название корабля, его серийный номер, номер двигателя, номер генератора поля и так далее, порт погрузки («Астероиды, чертовское количество, не помню, как называется последний», и Вернадски записал просто «Пояс» — обычное сокращение вместо «пояс астероидов»); порт назначения («Земля»); причины остановки («перебои гиператомного двигателя»).
— Какой у вас экипаж, капитан? — спросил Вернадски, проглядывая документы.
Капитан ответил:
— Еще двое. Как насчет гиператомного? Нам некогда.
Щеки его были покрыты темной щетиной, внешность у него грубого шахтера, много лет проведшего на астероидах, но речь образованного, почти культурного человека.
— Конечно. — Вернадски прихватил сумку с инструментами и пошел за капитаном. С привычной эффективностью он проверял цепи, степень вакуума, напряженность поля.
Но не переставал удивляться капитану. Хоть самому ему окружение не нравилось, он смутно сознавал, что есть люди, которые находят очарование в обширной пустоте и свободе космоса. Но он понимал, что такой человек, как этот капитан, не станет шахтером из любви к одиночеству.
Он спросил:
— У вас какая-то особая руда?
Капитан нахмурился и ответил:
— Хром и марганец.
— Вот как?.. На вашем месте я бы сменил трубопровод Дженнера.
— Он виноват в неполадках?
— Нет. Но он очень изношен. Вы рискуете еще одной поломкой на ближайшем миллионе миль. И так как ваш корабль все равно здесь…
— Ладно, замените его. Но выясните причину перебоев.
— Стараюсь, капитан.
Последняя реплика капитана была достаточно резка, чтобы смутить и Вернадски. Он некоторое время работал молча, потом распрямился.
— У вас не в порядке отражатель гамма-лучей. Каждый раз как пучок позитронов делает круг, двигатель на мгновение замолкает. Вам придется заменить отражатель.
— Сколько времени это займет?
— Несколько часов. Может быть, двенадцать.
— Что? Я и так выбился из графика.
— Ничего не могу сделать. — Вернадски оставался оживленным. — Быстрее не получится. Систему нужно три часа промывать гелием, прежде чем я смогу войти туда. А потом нужно откалибровать новый отражатель, а на это требуется время. Конечно, я могу подсоединить его и сразу, но вы застрянете, еще не долетев до Марса.
Капитан нахмурился.
— Ладно. Начинайте.
Вернадски осторожно направлял бак с гелием к кораблю. Генераторы псевдогравитации на корабле выключены, и бак буквально ничего не весил, но обладал большой массой и соответствующей инерцией. Маневрирование было тем более затруднено, что сам Вернадски тоже ничего не весил. Он сосредоточил все внимание на цилиндре и потому свернул не туда в тесном корабле и оказался в незнакомом темном помещении.
Успел только удивленно выкрикнуть, и два человека набросились на него, вытолкнули вслед за ним цилиндр и закрыли дверь.
Он молча присоединил цилиндр к клапану мотора и вслушался в негромкий шелестящий звук: это гелий заполнял внутренности, медленно вымывая абсорбировавшийся радиоактивный газ во всеприемлющую пустоту космоса.
Потом любопытство победило благоразумие, и он сказал:
— У вас на борту силиконий, капитан. Большой.
Капитан медленно повернулся к Вернадски. Сказал голосом, лишенным всякого выражения:
— Правда?
— Я его видел. Нельзя ли взглянуть еще раз?
— Зачем?
Вернадски начал упрашивать.
— Послушайте, капитан, я на этой скале больше полугода. Прочел все, что мог об астероидах, значит и о силикониях. И никогда не видел даже маленького. Имейте сердце.
— Мне кажется, вам нужно работать.
— Гелий будет промывать еще несколько часов. Мне нечего тут делать. Как у вас оказался силиконий, капитан?
— Домашнее животное. Некоторые любят собак. Я — силикониев.
— Он говорит?
Капитан покраснел.
— Почему вы спрашиваете?
— Некоторые из них разговаривают. Даже могут читать мысли.
— Вы кто? Специалист по этим проклятым штукам?
— Я о них читал. Я ведь сказал вам. Ну, капитан. Позвольте мне взглянуть.
Вернадски сделал вид, что не замечает пристального взгляда капитана и появившихся у него по бокам двух остальных членов экипажа. Каждый их троих был крупнее его, тяжелее, каждый — он был в этом уверен — вооружен.
Вернадски сказал:
— А что такого? Я не собираюсь его красть. Просто хочу посмотреть.
Возможно, незаконченный ремонт сохранил ему жизнь. А может, видимость оживленной и почти тупоумной наивности сослужила ему хорошую службу.
Капитан сказал:
— Ну, ладно, пошли.
Вернадски пошел за ним, мозг его напряженно работал, пульс заметно участился.
* * *
Вернадски в благоговейном ужасе и с легким отвращением смотрел на серое существо. Он и правда не видел раньше силикония, однако видел трехмерные изображения и читал описания. Но в реальной близости есть нечто такое, что не передают никакие изображения и описания.
Кожа — маслянисто-гладкая серость. Движения медленные, как и полагается существу, живущему в камне и наполовину состоящему из камня. Под кожей не видны движения мышц; движется кусками, когда тонкие пластинки камня передвигаются относительно друг друга.
Яйцеобразная форма, закругленная вверху, сплюснутая внизу, с двумя наборами отростков. Внизу радиально размещенные «ноги». Их шесть, и они заканчиваются острыми кремнистыми краями, укрепленными металлическими включениями. Эти острые края разрезают камень, превращая его в съедобные порции.
На плоской нижней поверхности, скрытой от взгляда, если силиконий не перевернут, находится единственное отверстие в его организм. Расколотые камни просовываются в это отверстие. Внутри известняк и гидраты кремния вступают в реакцию, высвобождая кремний, из которого состоят ткани этого существа. Отбросы выходят в отверстие в виде твердых белых экскрементов.
Как ломали себе головы экстратеррологи над происхождением гладких булыжников, которые встречались в углублениях на поверхности астероидов, пока не были обнаружены силиконии! И как они дивились тому способу, которым эти создания заставляют силикон — кремнийорганический полимер с добавочной углеводородной цепью — выполнять так много функций, которые в земном организме выполняет протеин!
В высшей точке спины силикония располагаются еще два отростка, два перевернутых конуса с полостями, идущими в противоположных направлениях; конусы аккуратно укладываются в два углубления на спине, но существо может их слегка поднимать. Когда силиконий прорывает твердый камень, «уши» укрываются в углублениях, чтобы не нарушать обтекаемую форму. Находясь в вырубленной им пещере, силиконий может поднять «уши» для лучшей восприимчивости. Отдаленное сходство с кроличьими ушами делало название «силиконий» неизбежным[15]. Более серьезные экстратеррологи, обычно именующие это существо Siliconeus asteroidea, считали, что «уши» имеют отношения к рудиментам телепатии, которой обладают создания. У меньшинства другое мнение.
Силиконий медленно полз по испачканному нефтью камню. Другие такие же камни лежали в углу помещения и представляли собой, Вернадски это знал, пищу существа. Или по крайней мере то, из чего оно создавало свои ткани. Он читал, что этого недостаточно для необходимой энергии.
Вернадски удивился.
— Да это чудовище! Он больше фута в поперечнике.
Капитан уклончиво хмыкнул.
— Где вы его взяли? — спросил Вернадски.
— На одной из скал.
— Послушайте, никто не находил крупнее двух дюймов. Вы сможете продать этого какому-нибудь музею или университету за много тысяч долларов.
Капитан пожал плечами.
— Ну, посмотрели? Вернемся к гиператомным.
Он крепко сжал руку Вернадски и начал выводить его, когда послышался медленный скрипучий голос, произносимые им звуки чуть сливались.
Звуки произносили трущиеся друг о друга края камня, и Вернадски в ужасе смотрел на говорящего.
Силиконий неожиданно превратился в говорящий камень. Он сказал:
— Человек думает, может ли эта штука говорить.
Вернадски прошептал:
— Клянусь космосом, да!
— Ну, ладно, — нетерпеливо сказал капитан, — теперь вы его видели и слышали. Пошли.
— И он читает мысли, — сказал Вернадски.
Силиконий сказал:
— Марс оборачивается за два по четыре три седьмых и полминуты. Плотность Юпитера равна одной целой и двадцати двум сотым. Уран открыт в один семь восемь один. Плутон — планета, которая самая отдаленная. Масса Солнца два ноль ноль ноль ноль ноль…
Капитан вытащил Вернадски. Вернадски, спотыкаясь, зачарованно слушал, как стихают за ним эти нули.
Он спросил:
— Откуда он все это взял, капитан?
— Мы ему читали старую книгу по астрономии. Очень старую.
— Еще до начала космических путешествий, — с отвращением сказал один из членов экипажа. — Даже не книгофильм. Настоящая печать.
— Заткнись, — сказал капитан.
Вернадски время от времени проверял поступление гелия; наконец наступило время прекратить промывку и войти внутрь. Работа была трудоемкая, и Вернадски прервал ее только раз для кофе и небольшого отдыха.
С добродушной улыбкой на невинном лице он сказал:
— Знаете, как я себе это представляю, капитан? Эта штука всю жизнь провела внутри скалы, в каком-то астероиде. Может быть, сотни лет. Она очень большая и, наверно, гораздо умнее обычного силикония. И вот вы находите ее, и она узнает, что вселенная — это не скала. Она узнает триллионы вещей, о которых даже и не подозревала. Вот почему она заинтересовалась астрономией. Новый мир, новые идеи, которые есть в книге и в головах людей. Как вы думаете?
Он отчаянно хотел разговорить капитана, вытянуть у него что-нибудь конкретное, на чем можно строить свои умозаключения. По этой причине он рискнул сказать часть правды, вернее, то, что он считал правдой, ее меньшую часть.
Но капитан, прислонившись к стене с согнутыми руками, ответил только:
— Когда вы кончите?
Это были его последние слова, и Вернадски пришлось ими удовлетвориться. Он закончил работу, к своему удовлетворению, капитан заплатил требуемую сумму наличностью, получил расписку и улетел в блеске корабельной гиперэнергии.
Вернадски в почти невыносимом возбуждении следил за его отлетом. Он быстро направился к своему субэфирному передатчику.
— Я должен быть прав, — говорил он себе. — Должен быть.
* * *
Патрульный Милт Хокинс услышал вызов в своей одинокой квартире на патрульной станции астероида N72. Он утешался двухдневной щетиной, банкой ледяного пива и проектором фильмов, и постоянное меланхолическое выражение его румяного широкоскулого лица было таким же продуктом одиночества, как деланное оживление в глазах Вернадски.
Патрульный Хокинс увидел эти глаза и обрадовался. Хоть это всего лишь Вернадски, но общество есть общество. Он радостно приветствовал Вернадски, вслушиваясь в его голос и не очень вдумываясь в содержание слов.
И вдруг все веселье из его глаз исчезло, уши по-настоящему вступили в работу, и он сказал:
— Минутку. Минутку. О чем это вы говорите?
— Вы что, не слушали, вы, тупой коп? Я весь выкладываюсь!
— Давайте не все сразу, по частям. Что там насчет силикония?
— Он у этого парня на борту. Называет его домашним животным и кормит жирными камнями.
— Да? Шахтер на астероиде готов подружиться даже с куском сыра, если тот будет ему отвечать.
— Это не просто силиконий. Не один из этих маленьких зверьков в дюйм. Он больше фута в поперечнике. Не понимаете? Не понимаете? А я-то считал, что парень, который здесь живет, должен разбираться в астероидах.
— Ну, ладно. Допустим, вы мне объясните.
— Послушайте, из камней силиконий строит свои ткани, но откуда он берет энергию в таких количествах?
— Не могу вам сказать.
— Непосредственно от… рядом с вами никого нет?
— Нет. Хотел бы я, чтобы кто-нибудь был.
— Через минуту не будете хотеть. Силиконии получают энергию прямым поглощением гамма-лучей.
— Кто это говорит?
— Парень по имени Уэнделл Эрт. Знаменитый экстратерролог. Больше того, он утверждает, что уши силикония именно для этого предназначены. — Вернадски приставил два пальца к вискам и повертел ими. — Совсем не для телепатии. Они поглощают гамма-излучение на таком уровне, какого не могут достигнуть наши приборы.
— Ну, хорошо. И что из этого? — спросил Хокинс. Но он задумался.
— А вот что. Эрт утверждает, что на астероидах гамма-излучения достаточно только для силикониев размером в один-два дюйма. Мало радиоактивности. А мы видим одного в добрый фут, целых пятнадцать дюймов.
— Ну…
— Значит он с астероида, набитого ураном, с огромным количеством гамма-лучей. Астероид этот должен быть теплым наощупь, и у него такая необычная орбита, что до сих пор его никто не обнаружил. Но, допустим, какой-нибудь парень случайно наткнулся на этот астероид, заметил его температуру и задумался. Капитан «Роберта К.» не невежественный шахтер. Он парень образованный.
— Продолжайте.
— Допустим, он начал отбирать образцы для проверки и наткнулся на гигантского силикония. И понял, что ему невероятно повезло. И пробы ему больше не нужны. Силиконий отведет его к богатым жилам.
— Почему?
— Потому что хочет узнать вселенную. Он провел, может быть, тысячу лет под камнем и только что обнаружил звезды. Он умеет читать мысли и может научиться разговаривать. И может заключить договор. Послушайте, капитан ухватится за это. Добыча урана — монополия государства. Шахтерам, не имеющим лицензии, не разрешается даже использовать счетчики. Для капитана это превосходная ситуация.
Хокинс сказал:
— Может, вы и правы.
— Вовсе не может быть. Видели бы вы, как они окружили меня, когда я смотрел на силикония. Готовы были схватить при одном неосторожном слове. И вытолкали через две минуты.
Хокинс провел рукой по щетине, мысленно оценивая, сколько времени потребуется на бритье. Он спросил:
— Сколько времени сможете вы продержать этого парня на станции?
— Продержать его? Космос, да он уже улетел!
— Что? Тогда какого дьявола вы тут треплетесь? Почему вы позволили ему уйти?
— Трое парней, — терпеливо объяснил ему Вернадски, — каждый крупнее меня, каждый вооружен и готов на убийство. Что я мог сделать?
— Но что нам теперь делать?
— Лететь и схватить их. Очень просто. Я исправлял их отражатель и сделал это по-своему. У них полностью отключилась энергия через десять тысяч миль. А в трубопроводе Дженнера я установил трейсер.
Хокинс уставился на улыбающееся лицо Вернадски.
— Святой Толедо!
— И никого с собой не берите. Только вы, я и полицейский крейсер. У них нет энергии, а у нас есть пушки. Они скажут нам, где урановый астероид. Мы его отыщем и только тогда свяжемся со штаб-квартирой Патруля. И доставим туда троих, можете сами пересчитать, троих урановых контрабандистов, одного гигантского силикония, какого никто на Земле и не видывал, и один, повторяю, один гигантский кусок урана. Такого тоже никто не видел. Вас производят в лейтенанты, а я получаю постоянную работу на Земле. Идет?
Хокинс был ошеломлен.
— Идет! выкрикнул он. — Сейчас буду!
Они почти догнали корабль, прежде чем увидели слабый блеск отражения Солнца.
Хокинс сказал:
— Вы им даже для корабельных огней не оставили энергии? Может, совершенно вывели из строя генератор?
Вернадски пожал плечами.
— Они экономят энергию, надеются, что кто-нибудь их подберет. Я уверен, что сейчас вся их энергия ушла на субэфирные вызовы.
— Если это и так, — сухо ответил Хокинс, — то я ничего не слышу.
— Не слышите?
— Ничего.
Полицейский крейсер приблизился. Добыча, с отключенной энергией, продолжала ползти на скорости десять тысяч миль в час.
Крейсер уравнял скорость и подошел еще ближе.
Лицо Хокинса искривилось.
— О, нет!
— В чем дело?
— Корабль пробит. Метеор. Бог свидетель, их достаточно в поясе астероидов.
Вся живость пропала с лица Вернадски и из его голоса.
— Пробит? У них авария?
— В борту отверстие размером с амбарную дверь. Мне жаль, Вернадски, но дело плохо.
Вернадски закрыл глаза и с трудом глотнул. Он знал, что имеет в виду Хокинс. Вернадски сознательно вывел из строя корабль, что может считаться уголовным преступлением. А результатом преступления является убийство.
Он сказал:
— Послушайте, Хокинс, вы ведь знаете, почему я это сделал.
— Знаю то, что вы мне сказали, и расскажу это под присягой, если понадобится. Но если бы корабль не был выведен из строя…
Он не закончил предложение. Незачем было.
В космических костюмах они вошли в разбитый корпус «Роберта К.».
Снаружи и внутри корабль представлял собой жалкое зрелище. Без энергии у него не было ни малейшей возможности создать защитный экран или попробовать избежать ударивший их камень, если они вовремя заметили его. Метеор прорвал борт корабля, как будто тот был сделан из алюминия. Он разбил рулевую рубку, выпустил из корабля воздух и убил весь экипаж.
Один из его членов был от удара прижат к стене и превратился в мороженое мясо. Капитан и другой член экипажа лежала в неожиданных позах, кожа их была покрыта замерзшей кровью: воздух закипел в крови и разорвал сосуды.
Вернадски, который никогда не видел такую смерть, затошнило, но он подавил рвоту, боясь запачкать изнутри скафандр.
Он сказал:
— Давайте проверим их руду. Она должна быть горячей.
Должна быть, повторял он про себя. Должна быть .
Дверь в трюм искривилась от удара, между дверью и рамой образовалась щель в полдюйма шириной.
Хокинс поднял счетчик, встроенный в перчатку, и поднес слюдяное окошко к щели.
Счетчик затрещал, как миллион сорок.
Вернадски с внутренним облегчением сказал:
— Я вам говорил.
Теперь вывод им из строя корабля являлся только выполнением долга законопослушного гражданина, а столкновение с метеором, приведшее к смерти экипаж, всего лишь несчастным случаем.
Потребовалось два выстрела из бластера, чтобы открыть дверь. Лучи их фонариков осветили тонны руды.
Хокинс поднял два куска среднего размера и осторожно положил в карман скафандра.
— Образцы, — сказал он, — для проверки.
— Не держите их долго рядом с собой, — предупредил Вернадски.
— До возвращения на корабль меня защитит скафандр. Это не чистый уран.
— Почти чистый, бьюсь об заклад. — Вернадски снова превратился в наскакивающего петушка.
Хокинс осмотрелся.
— Ну что ж, кое-что ясно. Мы предотвратили контрабандный рейс, может быть, часть крупной операции. Но что дальше?
— Урановый астероид…
— Верно. Но где он? Те, кто знал, мертвы.
— Космос! — Вернадски снова упал духом. Без астероида у них на руках только три трупа и несколько тонн урановой руды. Хорошо, но не великолепно. Он заслужит благодарность, но она ему не нужна. Ему нужна постоянная работа на Земле, а для этого нужно еще кое-что.
Он закричал:
— Ради любви космоса, силиконий ! Он живет в вакууме и знает, где астероид.
— Верно! — сказал с ожившим энтузиазмом Хокинс. — Где он?
— На корме! — воскликнул Вернадски. — Сюда.
Силиконий блестел в свете их фонарей. Он двигался и был жив.
Сердце Вернадски сильно забилось.
— Надо перетащить его, Хокинс.
— Зачем?
— Звуки не распространяются в вакууме. Надо его доставить на крейсер.
— Ладно. Ладно.
— Нельзя надеть на него костюм с радиопередатчиком.
— Я сказал ладно.
Они осторожно перенесли силикония, чуть не с любовью касаясь закованными в металл пальцами его кожи.
Хокинс держал его, отталкиваясь от «Роберта К.».
* * *
Силиконий находился в контрольной рубке крейсера. Люди сняли шлемы, и Хокинс снимал костюм. Вернадски не стал ждать.
Он спросил:
— Ты можешь читать наши мысли?
И затаил дыхание, пока скрежет камня о камень не превратился в слова. Для Вернадски в тот момент не было звуков приятнее.
Силиконий сказал:
— Да. — И потом: — Пустота вокруг. Ничто.
— Что? — спросил Хокинс.
Вернадски ответил:
— Наверно, путь через пространство только что. На него это произвело впечатление.
Он обратился к силиконию, выкрикивая слова, будто от этого мысль становилась яснее:
— Люди, которые были с тобой, собирали уран, специальные руды, радиацию, энергию?
— Они хотели пищу, — послышался слабый скрипучий ответ.
Конечно! Для силикония это пища. Его источник энергии. Вернадски спросил:
— Ты им показал, где она?
— Да.
Хокинс сказал:
— Я с трудом его слышу.
— Что-то с ним неладно, — обеспокоенно ответил Вернадски. Он снова закричал: — Как ты себя чувствуешь?
— Нехорошо. Воздух ушел сразу. Что-то плохо внутри.
Вернадски прошептал:
— Ему повредила неожиданная декомпрессия. О, Боже! Послушай, ты знаешь, что мне нужно. Где твой дом? Место, где есть пища?
Двое молча ждали.
Силиконий медленно поднял уши, они поднялись очень медленно, дрожа, и снова упали.
— Там, — сказал он.
— Где? — закричал Вернадски.
— Там.
Хокинс сказал:
— Он что-то делает. Куда-то показывает.
— Конечно, но мы не знаем, куда.
— А что он может сделать? Дать координаты?
Вернадски сразу ответил:
— Почему бы и нет?
Он снова повернулся к силиконию, который неподвижно лежал на полу. Его кожа зловеще потускнела.
Вернадски сказал:
— Капитан знал, где твое место пищи. Он знал числа, верно?
Он молился, чтобы силиконий понял: ведь он не только слышал слова, но и читал мысли.
— Да, — ответил силиконий звуком трения камня о камень.
— Три набора чисел, — сказал Вернадски. Должно быть именно три. Три координаты в космосе с обязательным обозначением дат, они дают расположение астероида на его орбите вокруг Солнца. Из этих данных можно рассчитать всю орбиту и положение астероида в любой момент. Даже можно грубо учесть планетарные возмущения.
— Да, — сказал силиконий еще тише.
— Какие они? Какие числа? Запишите, Хокинс. Возьмите бумагу.
Но силиконий сказал:
— Не знаю. Числа не важны. Место еды там.
Хокинс сказал:
— Это ясно. Ему не нужны координаты, поэтому он на них не обратил внимания.
Силиконий произнес:
— Скоро не… — долгая пауза, потом медленно, как будто испытывая незнакомое слово… — живой. Скоро… — еще более долгая пауза… — мертвый. Что после смерти?
— Держись, — умолял Вернадски. — Скажи, капитан записал где-нибудь эти числа?
Силиконий долго не отвечал, двое людей нагнулись над умирающим камнем, так что головы их чуть не столкнулись. Потом повторил:
— Что после смерти?
Вернадски крикнул:
— Один ответ! Только один! Капитан должен был записать эти числа. Где? Где?
Силиконий прошептал:
— На астероиде.
И больше ничего не говорил.
Теперь это был мертвый камень, такой же мертвый, как породившая его скала, как стены корабля, мертвый, как мертвец.
Вернадски и Хокинс поднялись с колен и беспомощно взглянули друг на друга.
— Бессмыслица, — сказал Хокинс. — Зачем ему записывать координаты на астероиде? Все равно что закрыть ключ в шкафу, который он должен открывать.
Вернадски покачал головой.
— Целое состояние в уране. Величайшая находка в истории, а мы не знаем, где это.
* * *
Сетон Дейвенпорт огляделся со странным ощущением удовольствия. Даже на отдыхе в его лице с четкими чертами и выдающимся носом было что-то жесткое. Шрам на правой щеке, черные волосы, поразительные брови, смуглая кожа — все соответствовало облику неподкупного агента Земного бюро расследований, кем он на самом деле и был.
Но теперь что-то вроде улыбки появилось на его губах, когда он осматривал большую комнату. Полумгла в ней делала бесконечными ряды книгофильмов, а образцы Бог-знает-чего Бог-знает-откуда — еще более загадочными. Полный беспорядок, впечатление уединения, почти изоляции от мира придавало помещению нечто нереальное. Так же, как и его владельцу.
Этот владелец сидел в кресле-столе, единственном ярком пятне в полумраке. Он медленно просматривал страницы официального отчета. Руки его, помимо этого, поминутно поправляли толстые очки, которые угрожали свалиться с короткого не производящего никакого впечатления носа. Животик медленно поднимался и опускался.
Это был доктор Уэнделл Эрт, который, если мнение экспертов чего-нибудь стоит, являлся самым выдающимся экстратеррологом Земли. По всем вопросам, связанным с внеземным пространством, обращались к нему, хотя сам он в своей взрослой жизни и на час не удалялся за пределы университетского кампуса.
Он серьезно посмотрел на инспектора Дейвенпорта.
— Очень умный человек, этот молодой Вернадски, — сказал он.
— Вывел все это из присутствия силикония? Вы правы, — согласился Дейвенпорт.
— Нет, нет. Этот вывод очевиден. Неизбежен, в сущности. И дебил увидел бы его. Я имел в виду, — взгляд его стал чуть менее строгим, — тот факт, что молодой человек читал мои работы, касающиеся чувствительности к излучению Siliconeus asteroidea.
— А, да, — сказал Дейвенпорт. Конечно, доктор Эрт специалист по силикониям. Именно поэтому Дейвенпорт обратился к нему за консультацией. У него только один вопрос к этому человеку, простой вопрос, но доктор Эрт выпятил свои полные губы, потряс большой головой и затребовал все документы, касающиеся этого случая.
Обычно это желание даже не рассматривалось бы, но доктор Эрт недавно оказался очень полезен ЗБР в деле поющих колокольчиков, и инспектор сдался.
Доктор Эрт кончил читать, положил листки на свой стол, вытащил рубашку из-под пояса и с удовлетворенным видом протер ею очки. Посмотрел сквозь очки на свет, чтобы проверить, хорошо ли он их протер, потом снова ненадежно посадил на нос и сцепил руки на животе, переплетя короткие пальцы.
— Повторите ваш вопрос, инспектор.
Дейвенпорт терпеливо сказал:
— Правда ли, по вашему мнению, что силиконий такого размера, как описанный в отчете, может вырасти на астероиде, богатом ураном…
— Радиоактивными материалами, — прервал его доктор Эрт. — Торием, хотя вероятнее всего — ураном.
— Ваш ответ да?
— Да.
— Какого размера должен быть этот астероид?
— Может, милю в диаметре, — задумчиво ответил экстратерролог. — Возможно, и больше.
— И сколько там может быть тонн урана или радиоактивных материалов?
— Триллионы. Как минимум.
— Не согласитесь ли все это выразить в виде письменного заключения?
— Конечно.
— Очень хорошо, доктор Эрт. — Дейвенпорт встал и протянул одну руку за шляпой, другую — за листочками на столе. — Это все, что нам нужно.
Но доктор Эрт придвинул отчеты к себе и прижал их рукой.
— Подождите. Как вы найдете этот астероид?
— Будем искать. Распределим пространство между кораблями, которые нам доступны, и… будем искать.
— Расходы, время, усилия. И так вы никогда не найдете.
— Один шанс на тысячу. Но можем найти.
— Один шанс на миллион. Не найдете.
— Но мы не можем упустить этот уран, даже не попытавшись. Ваше профессиональное мнение делает цену находки очень высокой.
— Но есть лучший способ найти астероид. Я могу его найти.
Дейвенпорт бросил на экстратерролога неожиданный пристальный взгляд. Вопреки своей внешности, доктор Эрт был чем угодно, только не дураком. Инспектор имел возможность лично в этом убедиться. Поэтому в его голосе появилась надежда, когда он спросил:
— Как вы его найдете?
— Вначале, — сказал доктор Эрт, — моя цена.
— Цена?
— Или оплата, если угодно. Когда правительство отыщет астероид, на нем может оказаться другой силиконий большого размера. Силиконии очень ценны. Это единственная форма жизни с тканями из твердого силикона и кровообращением из жидкого силикона. От них может зависеть ответ на вопрос, были ли когда-то астероиды одной планетой. И множество других проблем… Понимаете?
— Вы хотите, чтобы вам доставили большого силикония?
— Живым и здоровым. И бесплатно. Да.
Дейвенпорт кивнул.
— Я уверен, правительство согласится. Так что у вас на уме?
Доктор Эрт ответил негромко, так, будто его слова все объясняют:
— Ответ силикония.
Дейвенпорт удивленно посмотрел на него.
— Какой ответ?
— Тот, что в отчете. Перед смертью силикония. Вернадски спросил его, записал ли капитан координаты, и силиконий ответил «На астероиде».
На лице Дейвенпорта появилось разочарованное выражение.
— Великий космос, доктор, мы это знаем и продумали все возможности. Все. Это ничего не значит.
— Совсем ничего, инспектор?
— Ничего важного. Перечтите отчет. Силиконий даже не слушал Вернадски. Он чувствовал, что жизнь покидает его, и думал об этом. Он дважды спросил: «Что после смерти?» Потом, когда Вернадски продолжал спрашивать, сказал «На астероиде». Вероятно, он и не слышал вопроса Вернадски. Он отвечал на собственный вопрос. Думал, что после смерти вернется на свой астероид, в свой дом, где снова будет в безопасности. Вот и все.
Доктор Эрт покачал головой.
— Вы поэт, инспектор. У вас слишком сильное воображение. Это интересная проблема, посмотрим, сумеете ли вы решить ее сами. Предположим, слова силикония — это ответ Вернадски.
— Даже если это так, — нетерпеливо ответил Дейвенпорт, — чем это нам поможет? На каком астероиде? На урановом? Но мы не можем найти его, следовательно, не можем найти и координаты. Какой-то другой астероид, который «Роберт К.» использовал в качестве базы? И его мы не можем найти.
— Вы не видите очевидного, инспектор. Почему вы не спрашиваете себя, что слова «на астероиде» значат для силикония? Не для вас или для меня, а для силикония?
Дейвенпорт нахмурился.
— Простите, доктор?
— Я говорю ясно. Что для силикония значит астероид ?
— Силиконий узнал о космосе из астрономической книги, которую ему прочли. Наверно, в этой книге объясняется, что такое астероид.
— Совершенно верно, — согласился доктор Эрт и поднес палец к боку своего курносого носа. — А каково определение астероида? Маленькое тело, меньше планет, двигающееся вокруг Солнца по орбите, которая в целом расположена между Марсом и Юпитером. Вы согласны?
— Как будто.
— А что такое «Роберт К.»?
— Вы имеете в виду корабль?
— Это вы его так называете, — сказал доктор Эрт. — Корабль . Но книга по астрономии очень старая. В ней не упоминаются космические корабли. Один из членов экипажа сказал это. Он сказал, что она вышла до космических полетов. Так что такое «Роберт К.»? Разве это не маленькое тело, меньше планет? И с силиконием на борту разве оно не двигалось по орбите, которая в целом расположена между Марсом и Юпитером?
— Вы хотите сказать, что силиконий считал корабль астероидом и, когда он говорил «на астероиде», имел в виду «на корабле»?
— Совершенно верно. Я ведь сказал, что вы сами решите эту проблему.
Мрачное выражение лица инспектора не сменилось радостью или облегчением.
— Это не решение, доктор.
Но доктор Эрт медленно моргнул, и ласковое выражение его лица, если это возможно, стало еще более ласковым и детским, полным искреннего удовольствия.
— Конечно, это решение.
— Вовсе нет. Доктор Эрт, мы не рассуждали, как вы. Мы никакого внимания не обратили на слова силикония. Но разве мы не обыскали «Роберт К.»? Мы разняли его на кусочки, плиту за плитой. Разве что не распаяли его корпус.
— И ничего не нашли?
— Ничего.
— Но, может, вы не там искали.
— Мы искали всюду . — Он встал, как бы собираясь уходить. — Понимаете, доктор Эрт? Когда мы закончили обыск корабля, там не осталось ничего, на чем могут быть записаны координаты.
— Садитесь, инспектор, — спокойно сказал доктор Эрт. — Вы все еще не совсем верно понимаете слова силикония. Силиконий изучил английский, слушая слово здесь, слово там. Он не владеет английскими идиомами. Некоторые его слова показывают это. Например, он сказал «планета, которая самая отдаленная», а не просто «самая далекая планета». Понимаете?
— Ну и что?
— Тот, кто не владеет идиомами языка, либо использует идиомы родного языка, переводя их слово за словом, либо использует иностранные слова в их буквальном значении. У силикония нет собственного разговорного языка, поэтому он должен воспользоваться вторым методом. Поэтому его слова следует понимать буквально. Он сказал «на астероиде», инспектор. На нем. Он не имел в виду листок бумаги, он имел в виду сам корабль, буквально.
— Доктор Эрт, — печально сказал Дейвенпорт, — когда Бюро обыскивает, оно обыскивает. Никаких загадочных надписей на корабле тоже нет.
Доктор Эрт выглядел разочарованным.
— Инспектор, я все еще надеюсь, что вы увидите ответ. У вас ведь столько ключей.
Дейвенпорт медленно вздохнул. Дышалось ему трудно, но голос его стал еще спокойнее.
— Не скажете ли, что вы имеете в виду, доктор?
Доктор Эрт одной рукой похлопал свой уютный животик и поправил очки.
— Разве вы не понимаете, инспектор, что есть на корабле место, где тайные числа будут в полной сохранности? Оставаясь у всех на виду, он в то же время не привлекут ничьего внимания. И хоть на них смотрят сотни глаз, никто ничего не видит. Кроме, разумеется, человека с острым умом.
— Где? Назовите это место?
— Ну, конечно, в таких местах, где уже есть номера. Совершенно нормальные номера. Законные номера. Номера, которые и должны быть здесь.
— О чем вы говорите?
— Серийный номер корабля, выжженный на корпусе. На корпусе, заметьте. Номер двигателя, номер генератора поля. И несколько других. Каждый выточен на неотъемлемой части корабля. На корабле, как и сказал силиконий. На корабле.
В неожиданном понимании взметнулись густые брови Дейвенпорта.
— Вы, возможно, правы. И если вы правы, я надеюсь, мы найдем вам силикония, вдвое больше по размеру «Роберта К.». Такого, который не только говорит, но и высвистывает «Вперед, астероиды, навсегда!» — Он торопливо схватил досье, полистал его и извлек официальный бланк ЗБР. — Конечно, мы записали все найденные идентификационные номера. — Он расправил листок. — Если три из них напоминают координаты…
— Следует ожидать некоторых усилий в маскировке, — заметил доктор Эрт. — Вероятно, будут добавлены буквы или цифры, чтобы выглядело более законно.
Он взял блокнот и протянул другой инспектору. Некоторое время они молча списывали номера, пытались производить перестановки и сопоставления.
Наконец Дейвенпорт испустил вздох смешанного удовлетворения и разочарования.
— Сдаюсь, — сказал он. — Я думаю, вы правы: номера двигателя и калькулятора явно представляют собой зашифрованные координаты и даты. Они не похожи на нормальные серии, и из них легко вывести точные данные. Это дает нам два набора, но я готов принести присягу, что все остальные совершенно законные серийные номера. А вы что обнаружили, доктор?
Доктор Эрт кивнул.
— Я согласен. У нас есть две координаты, и мы знаем, где находится третья.
— Знаем? Но откуда… — Инспектор смолк, прервав собственное восклицание. — Конечно! Номер самого корабля, которого тут нет… потому что именно в это место корпуса ударил метеор… боюсь, что ничего с вашим силиконием не получится, доктор. — Потом его тяжелое лицо прояснилось. — Но я не дурак. Номер исчез, но мы можем его немедленно получить в Межпланетном Регистре.
— Боюсь, — сказал доктор Эрт, — что я вынужден оспорить по крайней мере последнее ваше утверждение. В Регистре зафиксирован первоначальный законный номер, а не замаскированные координаты, нанесенные капитаном.
— И именно это место на корпусе, — сказал инспектор. — И из-за этого случайного попадания астероид может быть потерян навсегда. Какой толк от двух координат без третьей?
— Ну, — рассудительно сказал доктор Эрт, — для двухмерного существа очень большой толк. Но существа нашего измерения, — он похлопал себя по животу, — нуждаются в третьей координате. К счастью, она у меня есть!
— В досье ЗБР? Но мы только что проверили весь список номеров…
— Ваш список, инспектор. Но в досье имеется также первоначальный отчет молодого Вернадски. И, конечно, там имеется серийный номер «Роберта К.», под которым он зарегистрировался на ремонтной станции и который представляет собой замаскированную третью координату: не к чему было давать возможность ремонтнику замечать несоответствие.
Дейвенпорт схватил блокнот и листок Вернадски. Недолгие расчеты, и он улыбнулся.
Доктор Эрт с довольным видом встал из-за стола и направился к двери.
— Всегда приятно повидаться с вами, инспектор Дейвенпорт. Приходите еще. И помните: правительство получит уран, а я хочу получить нечто очень важное для меня: гигантского силикония, живого и в хорошем состоянии.
Он улыбался.
— И предпочтительно, — сказал Дейвенпорт, — умеющего насвистывать.
Что он делал сам, выходя.
ПОСЛЕСЛОВИЕ
Конечно, в рассказах-загадках есть некая хитрость. Вы сосредоточиваетесь на самой загадке и не следите за всем остальным.
После того, как этот рассказ был впервые напечатан, я получил немало писем, в которых выражался интерес к силикониям и я осуждался за то, что дал силиконию так ужасно погибнуть.
Перечитав рассказ, я должен признать, что читатели совершенно правы. Я показал отсутствие чувствительности в описании трогательной смерти силикония, потому что сосредоточился на его последний загадочных словах. Если бы я писал рассказ заново, я, конечно, заботливей отнесся к этому замечательному созданию.
Приношу свои извинения.
Это показывает, что даже опытный писатель не всегда поступает правильно и способен упустить нечто прямо перед своим носом.
перевод Н. АллунанНочь, которая умирает
Это отчасти походило на заранее организованную встречу бывших соучеников, и хотя их свидание было безрадостным, поначалу ничто не предвещало трагедии.
Эдвард Тальяферро, только что прибывший с Луны, встретился с двумя своими бывшими однокашниками в номере Стенли Конеса. Когда он вошел, Конес встал и сдержанно поздоровался с ним, а Беттерсли Райджер ограничился кивком.
Тальяферро осторожно опустил на диван свое большое тело, ни на миг не переставая ощущать его непривычную тяжесть. Его пухлые губы, обрамленные густой растительностью, скривились, лицо слегка передернулось.
В этот день они уже успели повидать друг друга, правда, в официальной обстановке. А сейчас встретились без посторонних.
— В некотором смысле это знаменательное событие, — произнес Тальяферро. — Впервые за десять лет мы собрались все вместе. Ведь это наша первая встреча после окончания колледжа.
По носу Райджера прошла судорога — ему перебили нос перед самым выпуском, и когда Райджер получал свой диплом астронома, его лицо было обезображено повязкой.
— Кто-нибудь догадался заказать шампанское или что там еще под стать такому торжеству? — брюзгливо проворчал он.
— Хватит! — рявкнул Тальяферро. — Первый Межпланетный съезд астрономов не повод для скверного настроения. Тем более оно неуместно при встрече друзей!
— В этом виновата Земля, — точно оправдываясь, проговорил Конес. — Все мы чувствуем себя здесь не в своей тарелке. Я вот, хоть убей, не могу привыкнуть…
Он с силой тряхнул головой, но ему не удалось согнать с лица угрюмое выражение.
— Вполне с тобой согласен, — сказал Тальяферро. — Я сам кажусь себе настолько тяжелым, что еле таскаю ноги. Однако ты, Конес, должен чувствовать себя неплохо, ведь сила тяжести на Меркурии — четыре десятых той, к которой мы когда-то привыкли на Земле, а у нас, на Луне, она составляет всего лишь шестнадцать сотых.
Остановив жестом Райджера, который попытался было что-то возразить, Тальяферро продолжал:
— Что касается Цереры, то там, насколько мне известно, создано искусственное гравитационное поле в восемь десятых земного. Поэтому тебе, Райджер, куда легче освоиться на Земле, чем нам.
— Все дело в открытом пространстве, — раздраженно произнес астроном, недавно покинувший Цереру. — Никак не привыкну, что можно выйти из помещения без скафандра. На меня угнетающе действует именно это.
— Он прав, — подтвердил Конес. — Мне еще вдобавок кажется диким, как тут, на Земле, люди существуют без защиты от солнечного излучения.
У Тальяферро возникло ощущение, будто он переносится в прошлое.
"Райджер и Конес почти не изменились", — подумал он. Да и сам он тоже. Все они, естественно, стали на десять лет старше. Райджер поприбавил в весе, а на худощавом лице Конеса появилось жестковатое выражение. Однако встреться они невиданно, он сразу узнал бы обоих.
— Не будем вилять. Мне думается, причина не в том, что мы сейчас находимся на Земле, — сказал он.
Конес метнул в его сторону настороженный взгляд. Он был небольшого роста, и одежда, которую он носил, обычно казалась для него чуть великоватой. Движения его рук были быстры и нервны.
— Ты имеешь в виду Вильерса?! — воскликнул он. — Да, я нередко его вспоминаю. — И добавил с каким-то надрывом: — Тут как-то получил от него письмо.
Райджер выпрямился, его оливкового цвета лицо еще больше потемнело.
— Ты получил от него письмо? Давно?
— Месяц назад.
— А ты? — Райджер повернулся к Тальяферро.
Тот, невозмутимо сощурив глаза, утвердительно кивнул.
— Не иначе как он сошел с ума, — заявил Райджер. — Утверждает, будто ему удалось открыть способ мгновенного перенесения любой массы на любые расстояния… Способ телепортации. Он вам писал об этом?.. Тогда все ясно. Он и прежде был с приветом, а теперь, судя по всему, свихнулся окончательно.
Райджер яростно потер нос, и Тальяферро вспомнил тот день, когда Вильерс с размаху вмазал ему кулаком в лицо.
Десять лет образ Вильерса преследовал их как смутная тень вины, хотя на самом деле им не в чем было упрекнуть себя. Тогда их было четверо, и они готовились к выпускным экзаменам. Четверо избранных, всецело посвятивших себя одному делу, осваивавших профессию, которая в этот век межпланетных полетов достигла невиданных доселе высот.
На планетах Солнечной системы, где отсутствие атмосферы создает наиболее благоприятные условия для наблюдений, строились обсерватории.
Появилась обсерватория и на Луне. Ее купол одиноко стоял посреди безмолвного мира, в небе которого неподвижно висела родная Земля.
Обсерватория на Меркурии, самая близкая к Солнцу, располагалась на северном полюсе планеты, где показания термометра почти всегда оставались одни и те же, а Солнце не меняло своего положения по отношению к горизонту, что позволяло изучать его во всех деталях.
Исследования, которые велись обсерваторией на Церере, самой молодой, а потому оборудованной по последнему слову техники, охватывали пространство от Юпитера до дальних галактик.
Работа в этих обсерваториях, безусловно, имела свои недостатки. Люди еще не преодолели всех трудностей межпланетного сообщения, и астрономы редко проводили отпуск на Земле, а создать им нормальные условия жизни на местах пока не удавалось. Тем не менее их поколение было поколением счастливчиков. Ученым, которые придут им на смену, достанется поле деятельности, с которого уже снят обильный урожай, и пока Человек не вырвется за пределы Солнечной системы, едва ли перед астрономами откроются горизонты пошире нынешних.
Каждому из четырех счастливчиков — Тальяферро, Райджеру, Конесу и Вильерсу — предстояло оказаться в положении Галилея, который, владея первым настоящим телескопом, мог в любой точке неба сделать великое открытие.
И вот тут-то Ромеро Вильерса свалил тяжелый приступ ревматизма. Кто в том виноват? Болезнь оставила ему в наследство слабое, едва справлявшееся со своей работой сердце.
Из всех четверых он был самым талантливым, самым целеустремленным, подавал самые большие надежды, а в результате даже не смог окончить колледж и получить диплом астронома. Но что хуже всего — ему навсегда запретили покидать Землю: ускорение при взлете космического корабля неминуемо убило бы его.
Тальяферро послали на Луну, Райджера — на Цереру, Конеса — на Меркурий. А Вильерс остался вечным пленником Земли.
Они пытались высказать ему свое сочувствие, но Вильерс с яростью отвергал все знаки внимания, осыпая друзей проклятиями. Однажды, когда Райджер, на миг потеряв самообладание, замахнулся на него, Вильерс с диким воплем бросился на недавнего товарища и размозжил ему нос ударом кулака.
Судя по тому, что Райджер то и дело осторожно поглаживал переносицу, этот случай не изгладился в его памяти.
Конес в нерешительности сморщил лоб, который стал от этого похож на стиральную доску.
— Он ведь тоже приехал на съезд. Ему даже предоставили номер в отеле…
— Мне б не хотелось с ним встречаться, — заявил Райджер.
— Он придет сюда в девять. Сказал, что ему необходимо нас повидать, и мне показалось… Его можно ждать с минуты на минуту.
— Если вы не против, я лучше уйду, — поднимаясь, сказал Райджер.
— Погоди! — остановил его Тальяферро. — Ну что будет, если вы встретитесь?
— Я предпочел бы уйти: не вижу смысла в нашей встрече. Он же чокнутый.
— А если и так? Будем выше этого. Ты что, боишься его?
— Боюсь?! — возглас Райджера был полон презрения.
— Хорошо, скажу иначе: тебя это волнует. Но почему?
— Я совершенно спокоен, — возразил Райджер.
— Брось, это и слепому видно. Каждый из нас чувствует себя виноватым, хотя для этого нет никаких оснований. Все произошло помимо нас.
Но в голосе Тальяферро не было уверенности — он словно перед кем-то оправдывался, сам отлично это сознавая.
В этот миг раздался звонок, все трое невольно вздрогнули и повернули головы к двери, глядя на этот барьер, который пока отделял их от Вильерса.
Дверь распахнулась, и вошел Ромеро Вильерс. Все неловко встали, чтобы поздороваться с ним, да так в замешательстве и остались стоять. Никто не протянул ему руки.
Вильерс смерил их сардоническим взглядом.
"Вот кто сильно изменился", — подумал Тальяферро.
Что правда, то правда. Тело Вильерса словно бы уменьшилось, усохло, да и сутулость не прибавляла роста. Сквозь поредевшие волосы просвечивала кожа черепа, а кисти рук оплетали вздутые синеватые вены. Он выглядел тяжелобольным, в нем ничего не осталось от того Вильерса, каким они его помнили, разве что характерный жест — желая что-либо рассмотреть, он козырьком приставлял руку ко лбу, — да еще ровный сдержанный голос баритонального тембра — они его вспомнили, как только он заговорил.
— Привет, друзья! Мои шагающие по космосу друзья! Мы давно потеряли связь друг с другом, — произнес он.
— Привет, Вильерс, — отозвался Тальяферро.
Вильерс впился в него взглядом:
— Ты здоров?
— Вполне.
— И вы оба тоже?
Конес слабо улыбнулся и что-то пробормотал.
— У нас все в порядке, Вильерс. К чему ты клонишь?! — взорвался Райджер.
— Он все такой же сердитый, наш Райджер, — сказал Вильерс. — Что слышно на Церере?
— Когда я ее покидал, она процветала. А как поживает Земля?
— Сам увидишь, — сразу как-то сжавшись, ответил Вильерс и, немного помолчав, продолжал: — Надеюсь, вы прибыли на съезд, чтобы прослушать мой доклад? Я выступлю послезавтра.
— Твой доклад? Что за доклад? — удивился Тальяферро.
— Я же писал вам. Я собираюсь доложить съезду об изобретенном мною способе мгновенного перенесения массы, о так называемой телепортации.
Райджер криво улыбнулся:
— Да, ты писал об этом. Однако ни словом не обмолвился, что собираешься выступать на съезде. Кстати, я что-то не заметил твоего имени в списке докладчиков. Уж на него-то я несомненно обратил бы внимание.
— Ты прав, меня нет в списке. Я даже не подготовил тезисы для публикации.
Вильерс покраснел, и Тальяферро поспешил успокоить его:
— Будет тебе, Вильерс, пожалей нервы. У тебя нездоровый вид.
Вильерс резко повернулся к нему, губы его презрительно скривились.
— Благодарю за заботу. Мое сердце пока еще тянет.
— Послушай-ка, Вильерс, — произнес Конес, — если тебя не внесли в список докладчиков и не опубликовали тезисы, то…
— Нет, это ты послушай. Я ждал своего часа десять лет. У вас у всех есть работа в космосе, а я вынужден преподавать в какой-то паршивой школе на Земле, и это я, который способнее всех вас вместе взятых.
— Допустим… — начал было Тальяферро.
— Я не нуждаюсь в вашем сочувствии. Я проделал свой эксперимент на глазах у самого Мендела. Полагаю, вам знакомо это имя. Здесь, на съезде, Мендел является председателем секции астронавтики. Я продемонстрировал ему свою аппаратуру. Собранная наскоро, она сгорела после первого же эксперимента, однако… Вы меня слушаете?
— Да. Но настолько, насколько твои слова заслуживают внимания, — холодно ответил Райджер.
— Мендел даст мне возможность сделать доклад в той форме, которую я сочту удобной для себя. Бьюсь об заклад, он это сделает. Я буду говорить без предупреждения, без всякой рекламы. Я обрушусь на них, точно бомба. Как только я сообщу основную информацию, съезд закроется. Ученые тут же разбегутся по своим лабораториям, чтобы проверить мои расчеты, и с ходу начнут монтировать аппаратуру. И они убедятся, что она действует. С ее помощью живая мышь исчезала в одном конце лаборатории и мгновенно появлялась в другом. Мендел видел это.
Он пристально посмотрел в лицо каждого:
— Я вижу, вы мне не верите.
— Если ты не хочешь, чтобы об этом изобретении стало известно до твоего выступления на съезде, почему ты решил рассказать нам о нем сегодня? — поинтересовался Райджер.
— О, вы — другое дело. Вы мои друзья, мои однокашники. Бросив меня на Земле, вы отправились в космос.
— А что нам оставалось делать? — каким-то не своим, тонким голосом возразил Конес.
Вильерс не обратил на его слова никакого внимания.
— Я желаю, чтобы вы узнали обо всем сейчас. Аппарат, проделавший такое с мышью, в принципе годен и для человека. Сила, которая может перенести предмет на расстояние в десять футов в стенах лаборатории, перенесет его и через миллионы километров космоса. Я побываю и на Луне, и на Меркурии, и на Церере — везде, где захочу. Я стану таким же, как вы. Я превзойду вас. Хочу заметить, что уже теперь я, школьный учитель, сделал больший вклад в астрономию, чем все вы, вместе взятые, с вашими обсерваториями, телескопами, фотокамерами и космическими кораблями.
— Лично меня это только радует, — сказал Тальяферро. — Желаю тебе успеха. А нельзя ли ознакомиться с твоим докладом?
— О нет! — Вильерс прижал руки к груди, словно пытаясь защитить от посторонних взглядов невидимые листы с записями. — Вы будете ждать, как все остальные. Существует всего лишь один экземпляр моего доклада, и никто не увидит его до тех пор, пока он не будет зачитан. Никто. Даже Мендел.
— Один экземпляр! — воскликнул Тальяферро. — А что если ты потеряешь его?
— Этого не случится. А если даже с ним что-либо произойдет, это не катастрофа — я все помню наизусть.
— Но если ты… — Тальяферро чуть было не сказал «умрешь», но вовремя спохватился и после едва заметной паузы закончил фразу: — … не последний дурак, ты должен на всякий случай хотя бы заснять текст на пленку.
— Нет, — отрезал Вильерс. — Вы услышите меня послезавтра и станете свидетелями того, как в мгновение ока перед человеком распахнутся необъятные дали, беспредельно расширятся его возможности.
Он еще раз внимательно посмотрел в глаза каждому.
— Подумать только, прошло целых десять лет, — произнес он. — До свидания.
— Он рехнулся! — взорвался Райджер, глядя на захлопнувшуюся дверь с таким выражением, будто там еще стоял Вильерс.
— В самом деле? — задумчиво отозвался Тальяферро. — Пожалуй, отчасти ты прав. Он ненавидит нас вопреки разуму, не имея на то никаких оснований. К тому же как еще можно расценить тот факт, что он отказывается сфотографировать свои записи — ведь это необходимо сделать из простой предосторожности…
Произнося последнюю фразу, Тальяферро вертел в руках собственный микрофотоаппарат. Это был ничем не примечательный небольшой цилиндрик чуть толще и короче обычного карандаша. В последние годы такой аппарат стал непременным атрибутом каждого ученого. Скорее можно было представить врача без фонендоскопа или статистика без микрокалькулятора, чем ученого без такого фотоаппарата. Обычно его носили в нагрудном кармане пиджака или специальным зажимом прикрепляли к рукаву, иногда закладывали за ухо, а у некоторых он болтался на шнурке, обмотанном вокруг пуговицы.
Порой, когда на него находило философское настроение, Тальяферро пытался осмыслить, как в былые времена ученые могли тратить столько времени и сил на выписки из трудов своих коллег или на подборку литературы — огромных фолиантов, отпечатанных типографским способом. До чего же это было громоздко! Теперь же достаточно было сфотографировать любой печатный или написанный от руки текст, а в свободное время без труда проявить пленку. Тальяферро уже успел снять тезисы всех докладов, включенных в программу съезда. И он не сомневался, что двое его друзей поступили точно так же.
— Во всех случаях отказ сфотографировать записи смахивает на бред душевнобольного, — сказал Тальяферро.
— Клянусь космосом, никаких записей не существует! — в сердцах воскликнул Райджер. — Так же как не существует никакого изобретения! Он готов на любую ложь, только бы вызвать в нас зависть и хоть недолго потешить свое самолюбие.
— Допустим. Но тогда как он послезавтра выкрутится? — спросил Конес.
— Почем я знаю? Он же сумасшедший.
Тальяферро все еще машинально поигрывал фотоаппаратом, лениво размышляя, не заняться ли ему проявлением кое-каких микропленок, которые находились в специальной кассете, но решил отложить это занятие до более подходящего времени.
— Вы недооцениваете Вильерса. Он очень умен, — сказал он.
— Возможно, десять лет назад так оно и было, — возразил Райджер, — а сейчас он — форменный идиот. Я предлагаю раз и навсегда забыть о его существовании.
Он говорил нарочито громко, как бы стараясь изгнать тем самым все воспоминания о Вильерсе и о всем, что с ним связано. Он начал рассказывать о Церере и о своей работе, заключавшейся в прощупывании Млечного пути с помощью новых радиоскопов.
Конес, внимательно слушая, время от времени кивал головой, а затем сам пустился в пространные рассуждения о радиационном излучении солнечных пятен и о своем собственном научном труде, который вот-вот должен выйти. Темой его было исследование связи между протонными бурями и гигантскими вспышками на солнечной поверхности.
Что касается Тальяферро, то ему в общем-то рассказывать было не о чем. По сравнению с работой бывших однокашников деятельность Лунной обсерватории была лишена романтического ореола. Последние данные о составлении метеорологических сводок на основе непосредственных наблюдений за воздушными потоками в околоземном пространстве не выдерживали никакого сравнения с радиоскопами и протонными бурями. К тому же его мысли все время возвращались к Вильерсу. Вильерс действительно был очень умен. Все они знали это. Даже Райджер, который все время лез в бутылку, не мог не сознавать, что если телепортация в принципе возможна, то по всем законам логики именно Вильерс мог открыть способ ее осуществления.
Из обсуждения их собственной научной деятельности напрашивался печальный вывод, что никто из друзей не внес в науку сколько-нибудь значительного вклада. Тальяферро внимательно следил за новинками специальной литературы и не питал на этот счет никаких иллюзий. Сам он печатался мало, да и те двое не могли похвастаться трудами, содержащими сколь нибудь важные научные открытия.
Приходилось признать, что никто из них не произвел переворота в науке об изучении космоса. То, о чем они самозабвенно мечтали в годы учебы, так и не свершилось. Из них получились просто знающие свое дело труженики. Этого у них не отнимешь, но, увы, и большего о них не скажешь, и они отлично сознавали это.
Другое дело — Вильерс. Они не сомневались, что он намного обогнал бы их. В этом-то и крылась причина их неприязни, которая углублялась еще и невольным чувством вины перед бывшим товарищем.
В глубине души Тальяферро был уверен, что вопреки всему Вильерсу еще предстоит великое будущее, и эта мысль лишала его покоя.
Райджер и Конес, несомненно, были того же мнения, и сознание собственной заурядности могло вскоре перерасти в невыносимые муки уязвленного самолюбия. Если по ходу доклада выяснится, что Вильерс на самом деле открыл способ телепортации, он станет признанным гением и произойдет то, что было ему предопределено с самого начала, а его бывших соучеников, несмотря на все их заслуги, предадут забвению. Им достанется всего лишь роль простых зрителей, затерявшихся в толпе, которая до небес превознесет великого ученого.
Тальяферро почувствовал, как душа его корчится от зависти. Ему было стыдно, но он ничего не мог с собой поделать.
Разговор постепенно угасал.
— Послушайте, а почему бы нам не заглянуть к старине Вильерсу? — отводя глаза, спросил Конес.
Он пытался говорить тепло и непринужденно, но его фальшивая сердечность никого не могла обмануть.
— К чему эта вражда?.. Какой в ней смысл?..
"Конес хочет выяснить, правда ли то, о чем нам сказал Вильерс, — подумал Тальяферро. — Пока он еще не теряет надежды, что это всего лишь бред сумасшедшего, и хочет убедиться в этом немедленно, иначе ему сегодня не заснуть".
Но Тальяферро и сам сгорал от любопытства, а потому не стал возражать против предложения Конеса, и даже Райджер, неловко пожав плечами, сказал:
— Черт возьми, это неплохая идея.
Было около одиннадцати вечера.
2 Тальяферро разбудил настойчивый звонок у двери. Мысленно проклиная того, кто посмел нарушить его сон, он приподнялся на локте. С потолка лился мягкий свет индикатора времени — еще не было четырех.
— Кто там?! — крикнул Тальяферро.
Прерывистые резкие звонки не умолкали. Тальяферро ворча набросил халат. Он открыл дверь, и яркий свет, хлынувший из коридора, заставил его на секунду зажмуриться. Лицо стоявшего перед ним человека было ему хорошо знакомо по часто попадавшимся на глаза трехмерным фотографиям.
— Мое имя — Хьюберт Мендел, — отрывистым шепотом представился тот.
— Знаю, — сказал Тальяферро.
Мендел был одним из крупнейших астрономов современности, достаточно выдающимся, чтобы занимать важный пост во Всемирном бюро астронавтики, и достаточно деятельным, чтобы стать председателем секции астронавтики нынешнего съезда.
Тальяферро вдруг вспомнил, что, по словам Вильерса, именно Менделу демонстрировал он свой опыт по перенесению массы. Мысль о Вильерсе окончательно отогнала сон.
— Вы доктор Эдвард Тальяферро?
— Да, сэр.
— Одевайтесь. Вы пойдете со мной. Произошло очень важное событие, которое касается одного нашего общего знакомого.
— Доктора Вильерса?
Веки Мендела слегка дрогнули. На редкость светлые брови и ресницы делали его глаза какими-то странно незащищенными. У него были мягкие редкие волосы. На вид ему было лет пятьдесят.
— Почему вы назвали Вильерса? — спросил он.
— Он упомянул вчера вечером ваше имя. Кроме него, я не могу вспомнить ни одного человека, с которым мы были бы знакомы оба.
Мендел кивнул и, подождав, пока Тальяферро оденется, вышел следом за ним в коридор. Райджер и Конес ожидали их в номере этажом выше. В покрасневших глазах Конеса застыло тревожное выражение. Нетерпеливо затягиваясь, Райджер курил сигарету.
— Вот мы и снова вместе. Еще один вечер встречи, — произнес Тальяферро, но его острота повисла в воздухе.
Он сел, и все трое молча уставились друг на друга.
Райджер пожал плечами.
Глубоко засунув руки в карманы, Мендел зашагал взад-вперед по комнате.
— Господа, я приношу свои извинения за причиненное вам беспокойство, — начал он, — и благодарю за то, что вы не отказали мне в моей просьбе. Но я жду от вас большего. Дело в том, что около часа назад умер наш общий друг Ромеро Вильерс. Тело его уже увезли из отеля. Врачи считают, что смерть произошла от острой сердечной недостаточности.
Воцарилось напряженное молчание. Райджер попытался было поднести ко рту сигарету, но его рука остановилась на полпути и медленно опустилась.
— Вот бедняга, — произнес Тальяферро.
— Какой ужас, — хрипло прошептал Конес. — Он был…
Слова замерли у него на губах.
— Что поделать, у него было больное сердце, — стряхивая с себя оцепенение, произнес Райджер.
— Следует уточнить кое-какие детали, — спокойно возразил Мендел.
— Что вы имеете в виду? — резко спросил Райджер.
— Когда все вы видели его в последний раз? — поинтересовался Мендел.
— Вчера вечером, — ответил Тальяферро. — Мы встретились как бывшие однокашники — до этого дня мы не видели друг друга десять лет. К сожалению, не могу сказать, что это была приятная встреча. Вильерс считал, что у него имелись основания быть в обиде на нас, и он очень раскипятился.
— И в котором часу это произошло?
— Первая встреча состоялась около девяти вечера.
— Первая?
— Позже мы повидались еще раз.
— Он ушел очень возбужденным, — взволнованно объяснил Конес. — Мы не могли примириться с этим и решили попробовать объясниться с ним начистоту. Ведь когда-то мы были друзьями. Поэтому мы отправились к нему в номер…
— Вы пошли к нему все вместе? — быстро спросил Мендел.
— Да, — с удивлением ответил Конес.
— В котором часу это было?
— Что-то около одиннадцати. — Конес обвел взглядом остальных. Тальяферро кивнул.
— И как долго вы оставались у него?
— Не больше двух минут, — сказал Райджер. — Он велел нам убираться вон. Похоже, он вообразил, будто мы явились отнять у него его записи. — Он остановился, как бы ожидая, что Мендел поинтересуется, о каких записях идет речь, но тот промолчал, и Райджер продолжил: — Мне кажется, Вильерс хранил эти записи под подушкой, потому что, выгоняя нас, он как-то странно пытался прикрыть ее телом.
— Возможно, как раз в ту минуту он уже умирал, — с трудом прошептал Конес.
— Тогда еще нет, — решительно сказал Мендел. — Раз вы были у него в номере, значит, там, вероятно, остались отпечатки ваших пальцев.
— Не исключено, — согласился Тальяферро. Его почтительное отношение к Менделу постепенно сменялось нетерпением: было четыре часа утра и плевать он хотел на то, Мендел это или кто другой.
— Может, вы наконец скажете, что означает этот допрос? — спросил он.
— Так вот, господа, — произнес Мендел, — я собрал вас не только для того, чтобы сообщить о смерти Вильерса. Необходимо выяснить ряд обстоятельств. Насколько мне известно, существовал всего один экземпляр его записей. Как оказалось, этот единственный экземпляр был вложен кем-то в окуркосжигатель и от него остались лишь обгоревшие клочки. Я не читал этих записей и даже никогда их не видел, но достаточно знаком с открытием Вильерса, чтобы, если понадобится, подтвердить на суде под присягой, что найденные обрывки бумаги с сохранившимся на них текстом являются остатками того самого доклада, который он должен был сделать на съезде… Кажется, у вас, доктор Райджер, есть на этот счет какие-то сомнения. Правильно ли я вас понял?
— Я далеко не уверен, собирался ли он всерьез выступить с докладом, — кисло улыбнулся Райджер. — Если хотите знать мое мнение, сэр, Вильерс был душевнобольным, В течение десяти лет он в отчаянии бился о преграду, возникшую между ним и космосом, и в результате им овладела фантастическая идея мгновенного перенесения массы, — идея, в которой он увидел свое единственное спасение, единственную цель жизни. Ему удалось путем каких-то махинаций продемонстрировать эксперимент. Кстати, я не утверждаю, что он старался надуть вас умышленно. Он мог быть с вами искренен и в своей искренности безумен. Вчера вечером кипевшая в его душе буря достигла своей кульминации. Он возненавидел нас за то, что нам посчастливилось работать на других планетах, и пришел к нам, чтобы, торжествуя, показать свое превосходство над нами. Для этой минуты он и жил все прошедшие десять лет. Потрясение от встречи с нами могло в какой-то мере вернуть ему разум, и Вильерс понял, что на самом деле он — полный банкрот, что никакого открытия не существует. Поэтому он сжег записи, и сердце его, не выдержав такого напряжения, остановилось. Как же все это скверно!
Лицо внимательно слушавшего Мендела выражало глубокое неодобрение.
— Ваша версия звучит очень складно, — сказал он, — но вы не правы. Меня, как это вам, вероятно, кажется, не так-то легко провести, демонстрируя мнимый опыт. А теперь я хочу выяснить кое-что еще. Согласно книге регистрации, вы, все трое, являетесь соучениками Вильерса по колледжу. Это верно? Они кивнули.
— Есть ли среди приехавших на съезд ученых еще кто-нибудь, кто когда-то учился с вами в одной группе?
— Нет, — ответил Конес. — В год нашего выпуска только нам четверым должны были дать диплом астронома. Он тоже получил бы его, если б…
— Да-да, я знаю, — перебил его Мендел. — В таком случае кто-то из вас троих побывал еще один раз в номере Вильерса в полночь.
Его слова были встречены молчанием.
— Только не я, — наконец холодно произнес Райджер.
Конес, широко раскрыв глаза, отрицательно покачал головой.
— На что вы намекаете? — спросил Тальяферро.
— Один из вас пришел к Вильерсу в полночь и стал настаивать, чтобы тот показал ему свои записи. Мне не известны мотивы, которые двигали этим человеком. Возможно, все делалось с заранее продуманным намерением довести Вильерса до такого состояния, которое неизбежно приведет к смерти. Когда Вильерс потерял сознание, преступник — будем называть вещи своими именами, — не теряя времени, завладел рукописью, которая действительно могла быть спрятана под подушкой, и сфотографировал ее. После этого он уничтожил рукопись в окуркосжигателе, но в спешке не успел сжечь бумагу до конца.
— Откуда вам известно, что там произошло? — перебил его Райджер. — Можно подумать, что вы при этом присутствовали.
— Вы не далеки от истины, — ответил Мендел. — Случилось так, что Вильерс, потеряв сознание в первый раз, вскоре очнулся. Когда преступник ушел, ему удалось доползти до телефона, и он позвонил мне в номер. Он с трудом выдавил из себя несколько слов, но этого достаточно, чтобы представить, как развернулись события. К несчастью, меня в это время в номере не было: я задержался на конференции. Однако все, что пытался мне сообщить Вильерс, было записано на пленку. Я всегда, придя домой или на работу, первым делом включаю запись телефонного секретаря. Такая уж у меня бюрократическая привычка. Я сразу позвонил ему, но он не отозвался.
— Тогда кто же, по его словам, там был? — спросил Райджер.
— В том-то и беда, что он этого не сказал. Вильерс говорил с трудом, невнятно, и все разобрать оказалось невозможно. Но одно слово Вильерс произнес совершенно отчетливо. Это слово — "однокашник".
Тальяферро достал из внутреннего кармана пиджака свой фотоаппарат и протянул его Менделу.
— Пожалуйста, можете проявить мои пленки, — спокойно сказал он. — Я не возражаю. Записей Вильерса вы здесь не найдете.
Конес последовал его примеру. Нахмурившись, то же самое сделал и Райджер.
Мендел взял все три аппарата и холодно сказал:
— Полагаю, что тот из вас, кто это совершил, уже успел сменить пленку, но все же…
Тальяферро пренебрежительно поднял брови:
— Можете обыскать меня и номер, в котором я остановился.
С лица Райджера не сходило выражение недовольства.
— Погодите-ка минутку, черт вас дери. Вы что, служите в полиции?
Мендел удивленно взглянул на него.
— А вам очень хочется, чтобы вмешалась полиция? Вам нужен скандал и обвинение в убийстве? Вы хотите сорвать работу съезда и дать мировой прессе сведения, воспользовавшись которыми, она смешает астрономов и астрономию с грязью? Смерть Вильерса вполне можно объяснить естественными причинами. У него на самом деле было больное сердце. Предположим, тот из вас, кто был у него в полночь, действовал под влиянием импульса и совершил преступление непреднамеренно. Если этот человек вернет пленку, нам удастся избежать больших неприятностей.
— И преступник не понесет никакого наказания? — спросил Тальяферро.
Мендел пожал плечами.
— Я не стану обещать, что он выйдет сухим из воды, но, как бы там ни было, если он вовремя сознается, ему не грозит публичное бесчестье и пожизненное тюремное заключение, что произойдет неизбежно, если мы заявим в полицию.
Никто не проронил ни слова.
— Это сделал один из вас, — произнес Мендел.
Снова молчание.
— Я думаю, мне понятны соображения, которыми руководствовался виновный, и я попытаюсь их вам обрисовать. Рукопись уничтожена. Только мы четверо знаем об открытии Вильерса, и только один я присутствовал при эксперименте. Скажу больше — единственным доказательством того, что я был свидетелем этого эксперимента, являются слова самого Вильерса — человека, который, возможно, страдал психическим расстройством. Поскольку Вильерс умер от сердечной недостаточности, а его записи уничтожены, легко можно будет поверить в гипотезу доктора Райджера, который утверждает, что не существует и никогда не существовало никакого способа телепортации. Через один-два года наш преступник, в руках которого находится рукопись Вильерса, начнет постепенно использовать ее, причем не скрываясь, публично. Он будет ставить опыты, осторожно выступать в печати с соответствующими статьями, и дело кончится тем, что именно он окажется автором этого открытия, прославится и получит немалые деньги. Даже его бывшие соученики, и те ничего не заподозрят. В крайнем случае они решат, что давнишняя история с Вильерсом побудила его начать исследования в этой области. Но не более.
Мендел пристально всматривался в их лица.
— Но теперь у него ничего не выйдет. Любой из вас, кто когда-либо осмелится от своего имени опубликовать данные о способе телепортации, тем самым объявит себя преступником. Я присутствовал при опыте и уверен, что там не было подтасовки. Я знаю, что у одного из вас находится пленка, на которой заснята рукопись Вильерса. Как видите, эта рукопись теперь потеряла для вас ценность. Отдайте же мне эту пленку.
Молчание.
Мендел направился к двери, но, прежде чем уйти, еще раз обернулся к ним:
— Я буду вам очень признателен, если вы останетесь здесь до моего возвращения. Я вас долго не задержу. Надеюсь, что виновный воспользуется этим перерывом в наших переговорах и обдумает свое дальнейшее поведение. Если он опасается, что, сознавшись, потеряет работу, пусть вспомнит, что при встрече с полицией его подвергнут зондированию памяти и он лишится свободы.
Взвесив на руке три фотоаппарата, Мендел добавил:
— Я проявлю эти пленки.
Он выглядел мрачным и невыспавшимся.
— А что если мы сбежим в ваше отсутствие? — с вымученной улыбкой спросил Конес.
— Только у одного из вас есть к этому основания, — сказал Мендел. — Мне думается, я вполне могу положиться на двух невиновных. Они проследят за третьим — хотя бы во имя собственных интересов.
И он ушел.
Было пять часов утра.
— Проклятая история! Я хочу спать! — воскликнул Райджер, бросив взгляд на часы.
— При желании мы можем поспать и здесь, — философски заметил Тальяферро. — Кто-нибудь собирается сознаться в содеянном?
Конес отвел взгляд, Райджер презрительно скривил губы.
— Я так и думал. — Тальяферро закрыл глаза и, откинув свою массивную голову на спинку кресла, устало произнес: — Там, на Луне, сейчас период бездействия. Когда ночь, а она у нас длится две недели, работы хоть отбавляй. Но с наступлением лунного дня в течение двух недель не заходит Солнце, и нам остается только заседать да заниматься расчетами и поисками корреляций. Это тяжелое время. Я его ненавижу. Если б там было побольше женщин и если б мне посчастливилось вступить с одной из них в более или менее длительную связь…
Конес шепотом принялся рассказывать о том, что на Меркурии до сих пор не удается рассмотреть в телескоп весь солнечный диск — какая-то часть его постоянно скрыта за горизонтом. Правда, если еще на две мили удлинят дорогу, можно будет передвинуть обсерваторию, но для этого придется провернуть колоссальную работу, используя солнечную энергию. Только тогда Солнце полностью откроется для наблюдений. Он уверен, что в конце концов это будет сделано.
Вскоре к их бормотанию присоединился голос Райджера, который, не выдержав, начал рассказывать о Церере. Работа там осложнялась слишком кратким периодом обращения Цереры вокруг своей оси, который длится всего лишь два часа. Благодаря этому звезды проносятся по небу с угловой скоростью, в двенадцать раз превышающей скорость движения звезд на земном небосклоне. Поэтому пришлось создать настоящую цепь приборов, состоящую из трех телескопов, трех радиоскопов и прочей аппаратуры, чтобы они по очереди вели наблюдения.
— Почему вы не используете один из полюсов? — спросил Конес.
— Ты подходишь к этому вопросу, исходя из условий, к которым привык на Меркурии, — нетерпеливо возразил Райджер. — Даже на полюсах небо там напоминает водоворот… К тому же половина его всегда скрыта от наблюдений. Если б Церера, подобно Меркурию, была обращена к Солнцу только одной стороной, мы имели бы над головой относительно стабильное небо, картина которого менялась бы полностью раз в три года.
За окном постепенно серело, медленно наступал рассвет.
Тальяферро задремал, усилием воли не позволяя сознанию отключиться полностью. Он опасался заснуть, пока бодрствуют остальные. У него мелькнуло, что все они сейчас задают себе один и тот же вопрос: "Кто? Кто же из нас?" Все — за исключением виновного.
Вошел Мендел, и Тальяферро быстро открыл глаза. Видимый из окна кусок неба принял голубой оттенок. Тальяферро был рад, что окно плотно закрыто. В отеле, конечно, имелось кондиционирование, но те из жителей Земли, которые питали, с его точки зрения, странное пристрастие к свежему воздуху, в теплую погоду открывали окна. Тальяферро, который никак не мог забыть об окружающем Луну безвоздушном пространстве, при одной мысли об этом содрогнулся от ужаса.
— Кто-нибудь из вас желает что-то сказать? — спросил Мендел.
Все молча смотрели на него, а Райджер отрицательно покачал головой.
— Я проявил пленки, господа, и ознакомился с заснятым вами материалом. — Мендел бросил на кровать аппараты и проявленные пленки. — И ничего не обнаружил! Боюсь, что у вас теперь будут трудности с монтажом. Приношу вам за это свои извинения. Вопрос о пропавшей пленке остается открытым.
— Если она вообще существует, — широко зевнув, заметил Райджер.
— Господа, я предлагаю спуститься в номер Вильерса, — сказал Мендел.
— Зачем? — испуганно воскликнул Конес.
— Не собираетесь ли вы пустить в ход испытанный психологический прием — привести виновного на место преступления, чтобы раскаяние в содеянном заставило его сознаться? — ехидно поинтересовался Тальяферро.
— Цель, с которой я приглашаю вас в номер Вильерса, далеко не столь мелодраматична. Я просто хотел бы, чтобы двое невиновных помогли мне найти пропавшую пленку.
— Вы считаете, что она находится именно там? — вызывающе спросил Райджер.
— Вполне возможно. Наше расследование только начинается. Потом мы обыщем и ваши номера. Симпозиум по астронавтике не начнется раньше десяти часов завтрашнего утра, и нам нужно уложиться в оставшееся время.
— А если мы до тех пор ничего не выясним?
— Тогда мы обратимся за помощью к полиции.
Они осторожно вошли в номер Вильерса. Райджер покраснел, Конес был очень бледен. Тальяферро пытался сохранять спокойствие.
Прошлой ночью они видели комнату при искусственном освещении. Тогда озлобленный растрепанный Вильерс, судорожно обхватив руками подушку и устремив на них полный ненависти взгляд, потребовал, чтобы они убирались вон. Сейчас здесь едва уловимо пахло смертью.
Чтобы улучшить освещение, Мендел занялся оконным поляризатором, и в помещение хлынули лучи восходящего солнца.
Конес быстрым движением закрыл рукой глаза.
— Солнце! — воскликнул он так, что остальные замерли. Лицо его исказил неподдельный ужас, словно он вдруг взглянул незащищенными глазами на то Солнце, которое мгновенно ослепляет в условиях Меркурия.
Вспомнив собственное отношение к возможности выходить из помещения без скафандра, Тальяферро скрипнул зубами. Те десять лет, которые они провели вне Земли, изрядно деформировали их психику.
Конес бросился к окну, ощупью отыскивая рычаг поляризатора, но тут воздух с шумом вырвался из его груди, и он окаменел.
— Что случилось? — кинувшись к нему, спросил Мендел. Остальные последовали за ним.
Далеко внизу, простираясь до самого горизонта, лежала каменно-кирпичная громада города, контуры его четко прорисовывались в лучах восходящего солнца. Сейчас он был обращен к ним своей теневой стороной. Тальяферро исподтишка окинул эту картину тревожным взглядом.
Конес, грудь которого стеснило настолько, что он не мог даже вскрикнуть, не отрываясь смотрел на что-то, находившееся совсем близко.
Снаружи на подоконнике лежал дюймовый кусочек светло-серой пленки, которого коснулись первые лучи солнца. Уголок ее, попавший в трещину, пока еще оставался в тени. Вскрикнув, Мендел в ярости распахнул окно и схватил пленку. Бережно прикрыв ее рукой, он приказал:
— Ждите меня здесь!
Говорить им было не о чем. Когда Мендел ушел, они сели и молча уставились друг на друга.
Мендел вернулся через двадцать минут.
— Та небольшая часть пленки, что находилась в трещине, не успела засветиться, и мне удалось разобрать несколько слов. На эту пленку действительно кто-то заснял рукопись Вильерса. Остальные записи навсегда погибли, и спасти их невозможно. Открытия Вильерса больше не существует, — спокойно произнес Мендел.
Он был настолько потрясен, что его эмоции уже были за гранью их внешнего проявления.
— Что же дальше? — спросил Тальяферро.
Мендел устало пожал плечами.
— Мне теперь все безразлично — ведь способ телепортации опять стал для человека нерешенной задачей, пока кто-нибудь, обладающий такими же блестящими способностями, как Вильерс, не откроет его заново. Я сам займусь этой проблемой, но я не питаю никаких иллюзий относительно собственных возможностей. Мне кажется, что, поскольку открытия Вильерса больше не существует, не имеет значения, кто из вас в этом виноват. Что даст нам дальнейшее расследование?
Отчаяние Мендела было настолько глубоко, что он весь сник.
— Нет, постойте, — раздался твердый голос Тальяферро. — В ваших глазах каждый из нас троих останется на подозрении. В том числе и я. Вы занимаете высокое положение, и у вас для меня никогда не найдется доброго слова. Меня можно будет обвинить в некомпетентности, а то и приклеить ярлык похуже. Я не желаю, чтобы мою карьеру погубил призрак недоказанной вины. Поэтому я предлагаю довести расследование до конца.
— Я не следователь, — устало возразил Мендел.
— Тогда, черт возьми, пригласите полицию.
— Минутку, Тал, не намекаешь ли ты на то, что преступление совершил я? — спросил Райджер.
— Я только хочу доказать свою невиновность.
— Если мы обратимся в полицию, каждого из нас подвергнут зондированию памяти! — в ужасе воскликнул Конес. — А это может привести к нарушению мозговой деятельности.
Мендел высоко поднял руки.
— Господа! Прошу вас, давайте обойдемся без склок! Осталась еще единственная возможность избежать вмешательства полиции. Вы правы, доктор Тальяферро. Было бы несправедливо по отношению к невиновным оставить вопрос открытым.
Повернувшиеся к нему лица отражали недоверие и враждебность.
— Что вы хотите нам предложить? — спросил Райджер.
— У меня есть друг по имени Уэндел Эрт. Быть может, вы слышали о нем, а если и нет, это сейчас не имеет значения. Так или иначе, я постараюсь устроить, чтобы сегодня вечером он нас принял.
— Какой в этом смысл? — с неприязнью спросил Тальяферро. — Что это нам даст?
— Он странный человек, — неуверенно произнес Мендел. — Очень странный. И в своем роде гениальный. Ему не раз приходилось помогать полиции, и кто знает, вдруг сейчас удастся помочь и нам.
3 Когда они вошли в комнату, Эдвард Тальяферро не смог побороть глубочайшего изумления, которое в нем вызывали и само помещение, и находившийся в нем человек. Казалось, и то и другое существовало в полной изоляции от окружающего и являлось частью какого-то иного, непонятного мира. Ни один земной звук не проникал сюда через мягкую обивку лишенных окон стен. Свет и воздух Земли заменяли искусственное освещение и система кондиционирования.
В этой большой, тонувшей в полумраке комнате царил немыслимый беспорядок. Они с трудом пробрались между разбросанными по полу предметами к дивану, с которого сгребли и свалили рядом в кучу микропленки с книжными текстами.
У хозяина комнаты было большое круглое лицо и приземистое шарообразное тело. Он быстро передвигался на своих коротких ножках, так энергично вертя во все стороны головой, что очки едва удерживались на том крохотном бугорке, который был его носом. Усевшись наконец за письменный стол — единственное достаточно освещенное место, он устремил на них добродушный взгляд своих выпуклых близоруких глаз, полускрытых тяжелыми веками.
— Я очень рад вашему приходу, господа, и прошу извинить за беспорядок, — он взмахнул короткопалой рукой. — Сейчас я занимаюсь составлением каталога собранных мною объектов внеземного происхождения, которые имеют огромное значение для науки. Это колоссальная работа. Вот, например…
Он вскочил с места и стал рыться в куче каких-то непонятных предметов, в беспорядке сваленных возле письменного стола, и вскоре извлек дымчато-серый, полупрозрачный цилиндр неправильной формы.
— Может оказаться, что этот цилиндр с Каллисто является наследием неведомой нам внеземной культуры. Вопрос о его происхождении еще окончательно не решен. Таких цилиндров было найдено не больше дюжины, и из всех известных мне образцов данный экземпляр — самый совершенный по форме.
Он небрежно отбросил его в сторону, и Тальяферро вздрогнул.
— Цилиндр сделан из небьющегося материала, — сказал толстяк и проворно уселся обратно за свой стол; его крепко прижатые к животу руки поднимались и опускались в такт дыханию. — Так чем же я могу быть вам полезен? — спросил он.
Пока Мендел представлял их хозяину, Тальяферро упорно старался вспомнить, откуда ему знакомо имя Уэндел Эрт. Несомненно, это был тот самый Уэндел Эрт, который написал недавно опубликованный труд под названием "Сравнительное исследование эволюционных процессов на водно-кислородных планетах", однако в сознании как-то не укладывалось, что это был именно он.
— Доктор Эрт, не вы ли являетесь автором "Сравнительного исследования эволюционных процессов"? — не выдержав, спросил он.
Лицо Эрта расплылось в блаженной улыбке.
— Вы читали эту книгу?
— Нет, но…
Радостный блеск в глазах Эрта мгновенно погас, уступив место осуждению.
— Тогда вам необходимо ее прочесть сейчас же, немедленно. У меня есть здесь один экземпляр…
Он снова вскочил со стула, но тут вмешался Мендел.
— Подождите, Эрт, не все сразу. Мы пришли к вам по серьезному вопросу.
Он почти насильно заставил Эрта сесть и быстро стал излагать суть дела, как бы боясь, чтобы тот не перебил его, снова увлекшись какой-нибудь посторонней темой. Предельная лаконичность, с которой Мендел обрисовал события, заслуживала восхищения.
Лицо Эрта побагровело. Он нервно схватил очки и прочно укрепил их на носу.
— Мгновенное перенесение массы! — воскликнул он.
— Я видел это собственными глазами, — подтвердил Мендел.
— А мне ни звука не сказали!
— Я поклялся хранить тайну. Как я уже отметил, изобретатель был… не без странностей.
— Как же вы могли позволить, чтобы такое ценное открытие осталось в распоряжении заведомого чудака? В крайнем случае, чтобы получить необходимые сведения, надо было подвергнуть его зондированию памяти.
— Это бы его убило, — запротестовал Мендел. Но Эрт, прижав ладони к щекам и в отчаянии раскачиваясь взад и вперед, продолжал:
— Телепортация! Единственный пригодный для нормального цивилизованного человека способ передвижения. Единственно возможный способ! Если б я только знал! Если б я тогда был в отеле! Но, увы, он почти в тридцати милях отсюда.
— Насколько мне известно, — раздраженно перебил эту тираду Райджер, — между вашим домом и отелем существует регулярное воздушное сообщение. У вас ушло бы на дорогу десять минут.
Тело Эрта вдруг напряглось и, бросив на Райджерa какой-то странный взгляд, он вскочил с места и опрометью выбежал из комнаты.
— Что за черт! — воскликнул Райджер.
— Проклятие, я должен был предупредить вас, — пробормотал Мендел.
— О чем?
— У доктора Эрта есть свой пунктик — он никогда не пользуется никакими транспортными средствами. Он всегда ходит пешком.
— Но ведь он, насколько я понимаю, занимается изучением жизни на других планетах, — щурясь в полумраке, заметил Конес.
Тальяферро, который минуты две назад поднялся с дивана, стоял теперь перед укрепленной на пьедестале чечевицеобразной моделью Галактики, устремив взгляд на мерцающее сияние звездных систем. Никогда в жизни ему не приходилось видеть такую большую и так тщательно выполненную модель.
— Верно. Но он ни разу не посетил ни одной из тех планет, изучением которых занимается, и никогда этого не сделает. Я сомневаюсь, отходил ли он за последние тридцать лет дальше чем за милю от этого дома.
Райджер расхохотался.
Мендел вспыхнул.
— Пусть вам такое положение вещей кажется смешным, — рассерженно произнес он, — но я буду вам очень признателен, если впредь в присутствии доктора Эрта вы постараетесь избегать этой темы.
Через минуту появился сам Эрт.
— Приношу мои извинения, господа, — прошептал он. — А теперь займемся нашей проблемой. Может, кто-нибудь из вас желает сознаться сам?
Тальяферро презрительно поджал губы. Едва ли этот толстенький специалист по внеземным формам жизни, добровольно приговоривший себя к домашнему аресту, обладает достаточной твердостью, чтобы заставить кого бы то ни было признаться в совершенном преступлении. К счастью, дело обстоит так, что он им как талантливый следователь не понадобится. Если вообще у него есть такой талант.
— Скажите, доктор Эрт, вы связаны с полицией? — спросил Тальяферро.
На красном лице Эрта появилось самодовольное выражение.
— Официально нет, но тем не менее мы находимся в наилучших отношениях.
— В таком случае я сообщу вам кое-какие сведения, которые вы сможете передать.
Втянув живот, Эрт стал рывками вытаскивать из брюк подол рубашки, которым он принялся медленно протирать очки. Покончив с этим занятием и небрежно водрузив очки обратно на нос, он произнес:
— Итак, я вас слушаю.
— Я скажу вам, кто был у Вильерса в момент его смерти и кто заснял записи.
— Выходит, вам посчастливилось раскрыть тайну?
— Я думал об этом весь день и, кажется, пришел к правильному выводу.
Тальяферро явно наслаждался произведенным его словами эффектом.
— Что же вы собираетесь нам сообщить?
Тальяферро глубоко вздохнул. Несмотря на то что он готовился к этому несколько часов, не так-то легко было наконец решиться.
— В происшедшем, по всей видимости, виновен не кто иной, как доктор Мендел, — наконец произнес он.
Мендел задохнулся от возмущения.
— Послушайте, доктор, — громко начал он, — если у вас есть какие-либо основания для такого страшного…
— Пусть он говорит, Хьюберт, — перебил его высокий голос Эрта. — Я предлагаю выслушать его. Ведь вы сами его подозреваете, и нет такого закона, который запретил бы ему подозревать вас.
Мендел зло поджал губы.
— Это больше, чем простое подозрение, доктор Эрт, — начал Тальяферро, усилием воли заставляя свой голос звучать ровно. — Доказательства налицо. Нам всем четверым было известно об изобретении Вильерса, но только один из нас, доктор Мендел, присутствовал при эксперименте. Только он один знал, что оно не является плодом больного воображения. Только он знал, что записи действительно существуют. Вильерс обладал слишком неуравновешенным характером, и для нас вероятность того, что он говорил правду, была слишком мала. Мы зашли к нему в одиннадцать, чтобы, как мне кажется, окончательно убедиться в этом, хотя никто из нас не назвал вслух истинную причину нашего визита. Но Вильерс был невменяем. Таким мы его прежде никогда не видели.
А теперь рассмотрим этот же вопрос с другой стороны. Что знал доктор Мендел и каковы были его мотивы? Представим себе, доктор Эрт, следующее. Человек, который пришел к Вильерсу в полночь, увидел, что тот потерял сознание, и заснял рукопись. Это лицо (не будем пока называть его по имени), вероятно, пришло в ужас, когда Вильерс очнулся от обморока и стал звонить кому-то по телефону. Охваченному паникой преступнику мгновенно приходит в голову мысль, что необходимо как можно скорее отделаться от единственного вещественного доказательства.
Он должен был немедленно избавиться от непроявленной пленки с заснятыми записями, причем таким образом, чтобы эта пленка не была найдена и он в том случае, если его ни в чем не заподозрят, смог бы снова завладеть ею. Идеальным местом для этого был наружный подоконник. Быстро раскрыв окно, он положил на подоконник пленку и ушел. А если б Вильерс остался жив или если б его телефонный разговор дал какие-нибудь результаты, единственным доказательством вины этого человека были бы показания самого Вильерса и можно было бы легко убедить всех в том, что Вильерс — человек с большими странностями.
Тальяферро умолк, смакуя неоспоримость приведенных им доводов.
Уэндел Эрт, сощурившись, взглянул на него и похлопал пальцами прижатых к животу рук по вытащенному из брюк подолу рубашки.
— В чем же вы видите главное доказательство вины доктора Мендела? — спросил он.
— На мой взгляд, самое важное здесь то, что лицо, совершившее преступление, открыло окно и положило пленку на подоконник снаружи. Судите сами: Райджер жил десять лет на Церере, Конес — на Меркурии, я — на Луне, и за этот период нам очень редко случалось бывать на Земле — только во время кратких отпусков, да и сколько их там было! Вчера мы не раз жаловались друг другу, как трудно нам привыкнуть к земным условиям.
Планеты, на которых мы работаем, лишены атмосферы. Мы никогда не выходим из помещения без скафандра. Мы отвыкли даже от мысли, что можно выйти наружу без защитного костюма. Ни один из нас не смог бы открыть окно без отчаянной внутренней борьбы. Что касается доктора Мендела, то он жил только на Земле и для него открыть окно — всего лишь приложение мускульной силы. Он способен сделать это не задумываясь, а мы — нет. Отсюда логический вывод — преступление совершил он.
Тальяферро откинулся на спинку стула и позволил себе слегка улыбнуться.
— Клянусь космосом, он прав! — восторженно вскричал Райджер.
— Ни в коей мере! — приподнявшись с дивана, взревел Мендел. Казалось, он вот-вот бросится на Тальяферро с кулаками. — Я категорически протестую против этих жалких измышлений. А имеющаяся у меня запись телефонного звонка Вильерса? Там есть слово «однокашник»… А это как вы объясните?
— Вильерс в ту минуту умирал, — возразил Тальяферро. — Вы ведь сами говорите, что большую часть из сказанного им понять невозможно. Этой записи я не слышал, поэтому я спрашиваю вас, доктор Мендел, в самом ли деле голос Вильерса был искажен до неузнаваемости?
— Видите ли… — смущенно начал Мендел.
— Я уверен, что это так. У меня нет оснований исключить вероятность того, что вы сами заранее сфабриковали запись, ввернув туда это проклятое слово "однокашник".
— О господи, откуда я знал, что на съезд приехали бывшие соученики Вильерса? Откуда мне могло быть известно, что они слышали о его открытии?! — воскликнул Мендел.
— Это мог вам сказать сам Вильерс. Я беру на себя смелость утверждать, что он действительно сделал это.
— Послушайте, — решительно начал Мендел, — вы трое видели Вильерса живым в одиннадцать вечера. Врач, осмотревший его тело вскоре после трех ночи, заявил, что умер он около двух часов назад. Отсюда — смерть наступила между одиннадцатью вечера и часом ночи. В это время я присутствовал на вечернем заседании, и не меньше дюжины свидетелей могут показать, что с десяти часов вечера до двух ночи я находился в нескольких милях от отеля. Вам этого достаточно?
— Даже если это подтвердится, — немного помолчав, упрямо продолжал Тальяферро, — можно предположить, что вы вернулись в отель в половине третьего и тут же отправились к Вильерсу, чтобы обсудить какие-то вопросы, связанные с его будущим докладом. Вы нашли дверь открытой или пустили в ход дубликат ключа — это не имеет значения. Главное — вы нашли Вильерса мертвым и, воспользовавшись случаем, засняли рукопись…
— Но если он был уже мертв и не мог никому позвонить, зачем мне тогда понадобилось прятать пленку?
— Чтобы отвести от себя подозрение. Не исключено, что у вас есть второй экземпляр пленки. Кстати, о том, что она засвечена, мы знаем только с. ваших слов.
— Хватит! — вмешался Эрт. — Вы выдвинули интересную гипотезу, доктор Тальяферро, но она рассыпается под тяжестью приведенных в ее защиту доказательств…
— Это с вашей точки зрения… — нахмурившись, попытался возразить Тальяферро.
— Это точка зрения каждого, кто обладает способностью к аналитическому мышлению. Неужели вы не заметили, что для преступника Хьюберт Мендел был излишне активен?
— Нет, — сказал Тальяферро.
Уэндел Эрт мягко улыбнулся.
— Видите ли, доктор Тальяферро, я не сомневаюсь, что в процессе своей научной деятельности вы вряд ли настолько увлекаетесь собственными гипотезами, что начисто отбрасываете противоречащие им факты и логические умозаключения. Очень вас прошу не изменять этому золотому правилу, когда вы выступаете в роли следователя.
А теперь представьте себе, насколько проще была бы стоявшая перед доктором Менделом задача, если б его действия, как вы утверждаете, и впрямь стали причиной смерти Вильерса и он обеспечил себе алиби. Или же, как опять-таки следует из ваших слов, не застав Вильерса в живых, он воспользовался этим в своих интересах. Зачем ему понадобилось бы фотографировать рукопись или приписать это кому-нибудь из вас? Он же мог просто-напросто взять записи и уйти. Кто еще знал о их существовании? Практически никто. У доктора Мендела не было никаких оснований предполагать, что Вильерс рассказал о них еще кому-то. Ведь известно, что он был патологически скрытен.
Никто, кроме доктора Мендела, не знал, что Вильерс собирался делать доклад. О его выступлении не было объявлено, тезисы доклада не опубликованы. Отсюда следует, что доктор Мендел мог без опаски забрать рукопись и спокойно удалиться. Даже если б он узнал, что Вильерс поделился своей тайной с бывшими однокашниками, что из того? Какими доказательствами располагали его бывшие соученики? На что они могли сослаться, кроме как на слова человека, которого они сами считали душевнобольным?
Однако доктор Мендел поступает иначе. Он заявляет, что бумаги Вильерса уничтожены, он утверждает, что смерть Вильерса нельзя признать в полном смысле слова естественной. Он ищет пленку, на которую была заснята рукопись. Короче, он делает все, чтобы навести на себя подозрение, в то время как единственное, что ему следовало сделать, это остаться в тени. Если б он и вправду совершил это преступление, а потом выбрал для себя такую линию поведения, он был бы самым тупым, самым убогомыслящим человеком из всех, кого я знаю. А о докторе Менделе этого никак не скажешь.
При всем желании Тальяферро не мог опровергнуть очевидную справедливость приведенных Эртом аргументов.
— Тогда кто же совершил это преступление? — спросил Райджер.
— Один из вас троих.
— Но кто именно?
— О, для меня этот вопрос давно решен. Я понял, кто из вас виновен, в ту самую минуту, когда доктор Мендел закончил свой рассказ.
Тальяферро с неприязнью взглянул на толстенького специалиста по изучению внеземных форм жизни. Его не испугали последние слова ученого, но они, судя по всему, произвели сильное впечатление на остальных. У Конеса отвисла челюсть, придав его лицу идиотское выражение, а губы Райджера как-то странно вытянулись в ниточку. Оба они стали похожи на рыб.
— Вы наконец скажете, кто это? — спросил Тальяферро.
Эрт сощурился.
— Во-первых, я хочу, чтобы вы уяснили себе, что самое важное сейчас — это открытие Вильерса. Оно еще может быть восстановлено.
— Черт вас дери, Эрт, что за чушь вы несете? — с раздражением воскликнул Мендел, еще не забывший нанесенной ему обиды.
— Вполне возможно, что этот человек, прежде чем сфотографировать записи, пробежал их взглядом. Сомневаюсь, хватило ли у него времени и присутствия духа прочесть их, а если он даже и успел их просмотреть, вряд ли он что-либо запомнил, во всяком случае сознательно. Но существует зондирование памяти. Если он бросил хоть один взгляд на записи, их можно будет восстановить.
Присутствующие невольно поежились.
— Вы напрасно так боитесь зондирования, — поспешно продолжал Эрт. — Если его проводят по всем правилам, оно совершенно безопасно, особенно когда человек идет на него добровольно. Причиной вредных последствий является внутреннее сопротивление, своего рода духовный отказ подчиниться. Поэтому, если виновный признается сам и добровольно отдаст себя в мои руки…
В тишине слабо освещенной комнаты неожиданно раздался хохот Тальяферро, которого развеселила примитивность этого психологического трюка.
Реакция Тальяферро привела Эрта в замешательство, и он с искренним недоумением воззрился на него поверх очков.
— Я имею достаточное влияние на полицию и могу устроить, чтобы зондирование не стало достоянием гласности, — сказал он.
— Я не виновен! — зло выкрикнул Райджер.
Конес отрицательно мотнул головой.
Тальяферро хранил презрительное молчание.
— Что ж, тогда придется мне самому указать виновного, — вздохнув, произнес Эрт. — Увы, ничего хорошего из этого не получится. Человек будет травмирован, и возникнет много нежелательных осложнений.
Он теснее прижал к животу руки и пошевелил пальцами.
— Доктор Тальяферро сказал, что пленка была положена на наружный выступ подоконника с целью сокрытия и предохранения от возможных повреждений. В этом я с ним совершенно согласен.
— Благодарю вас, — сухо произнес Тальяферро.
— Однако почему кому-то пришло в голову, что это место является столь безопасным тайником? Явись туда полицейские, они бы несомненно нашли пленку. Фактически она была найдена без их помощи. У кого же могла возникнуть мысль, что предмет, хранящийся вне помещения, находится в полной безопасности? Только у человека, жившего долгое время на планете, лишенной атмосферы, и свыкшегося с тем, что нельзя выйти из закрытого помещения без тщательной подготовки.
Например, если на Луне спрятать какой-нибудь предмет вне Лунного купола, можно считать, что его вряд ли найдут. Люди там редко выходят наружу, да и то с определенной целью, связанной с их работой. Поэтому человек, живший в условиях Луны, чтобы спрятать пленку, мог преодолеть внутреннее сопротивление и, открыв окно, оказаться лицом к лицу со средой, которую он подсознательно воспринимал бы как безвоздушное пространство. "Если какую-нибудь вещь поместить вне жилого помещения, уже одно это обеспечит ее полную сохранность", — такова суть импульса, заставившего преступника положить пленку за окно.
— Доктор Эрт, почему вы заговорили именно о Луне? — сквозь стиснутые зубы спросил Тальяферро.
— О, я упомянул о Луне только в качестве примера, — добродушно пояснил Эрт. — Все, о чем я говорил до сих пор, в равной мере относится к вам троим. А теперь я перехожу к вопросу об умирающей ночи.
Тальяферро нахмурился.
— Вы имеете в виду ту ночь, когда умер Вильерс?
— Я имею в виду любую ночь. Сейчас я вам объясню. Если даже мы допустим, что наружный выступ подоконника действительно является вполне надежным тайником, то кто из вас мог до такой степени потерять всякое ощущение реальности, чтобы признать его таковым для непроявленной пленки? Хочу вам напомнить, что пленка, которую используют в наших микрофотоаппаратах, не обладает большой чувствительностью и рассчитана на то, чтобы ее можно было проявлять в самых разнообразных условиях. Всем нам известно, что рассеянное вечернее освещение не может нанести ей серьезных повреждений, однако рассеянный дневной свет погубит ее за минуты, а что касается прямых солнечных лучей, то они засветят ее мгновенно.
— Объясните же наконец, Эрт, к чему вы клоните? — прервал его Мендел.
— Не торопите меня! — обиженно воскликнул Эрт. — Я хочу дать вам возможность как следует во всем разобраться. Самым большим желанием преступника было обеспечить полную сохранность пленки, которая в тот момент стала для него бесценным сокровищем, ведь от нее зависело все его будущее — его вклад в мировую науку. Так почему, спрашивается, он положил пленку туда, где ее неизбежно должно было разрушить утреннее солнце?.. Только потому, что, как ему казалось, солнце никогда не взойдет. Он думал, что ночь, образно говоря, бессмертна.
Но ночи на Земле не бессмертны, они умирают и уступают место дню. Даже полярная ночь, которая тянется шесть месяцев, в конце концов умирает. Ночь на Церере длится всего лишь два часа, ночь на Луне — две недели. Это тоже умирающие ночи, и как доктор Тальяферро, так и доктор Райджер знают, что ночь всегда сменяется днем.
— Погодите… — вскочив, начал было Конес.
Уэндел Эрт твердо взглянул ему в глаза.
— Ждать больше незачем, доктор Конес. Меркурий является единственным во всей Солнечной системе небесным телом, которое всегда повернуто к Солнцу одной стороной. Три восьмых его поверхности никогда не освещаются Солнцем, и там царит вечный мрак[2]. Полярная обсерватория расположена как раз на границе теневой части планеты. За десять лет своего пребывания на Меркурии вы, доктор Конес, привыкли считать ночь бессмертной. Вам казалось, что погруженная во тьму поверхность планеты будет оставаться такой вечно. И поэтому вы доверили непроявленную пленку земной ночи, забыв от волнения, что эта ночь обречена на смерть…
— Постойте… — запинаясь, произнес Конес.
Но Эрт был неумолим.
— Мне сегодня рассказали, что в тот миг, когда доктор Мендел повернул рычаг оконного поляризатора, вы вскрикнули при виде солнечного света. Что вас побудило к этому — страх перед меркурианским Солнцем или вы вдруг поняли, как солнечный свет нарушит ваши планы? Вы бросились к окну. Почему? Чтобы вернуть рычаг в исходное положение или чтобы взглянуть на испорченную пленку?
Конес упал на колени.
— Я не хотел этого. Я собирался только поговорить с ним, только поговорить! Но он закричал и потерял сознание. Мне показалось, что он умер. Записи были под подушкой, и все остальное произошло само собой. Одно потянуло за собой другое, и прежде, чем я понял, что делаю, было уже поздно. Клянусь, я не хотел этого.
Они окружили его, а Уэндел Эрт устремил на рыдающего Конеса взгляд, полный глубокой жалости.
После того как уехала карета "скорой помощи", Тальяферро заставил себя заговорить с Менделом.
— Надеюсь, сэр, то, что было здесь сказано, не посеет между нами вражды, — натянуто произнес он.
— Я думаю, всем нам следует забыть о событиях последних суток, — столь же натянуто ответил Мендел. Когда они, собираясь уходить, уже стояли в дверях,
Уэндел Эрт, склонив голову набок, с улыбкой произнес:
— Мы еще не уточнили вопрос о моем гонораре.
От удивления Мендел лишился дара речи.
— Я не имею в виду деньги, — поспешно сказал Эрт. — Я только хочу, чтобы в будущем, когда сконструируют первый рассчитанный на человека аппарат для телепортации, мне позволили совершить путешествие.
— Но до мгновенного перенесения массы в космос пока очень далеко, — еще окончательно не придя в себя, возразил Мендел.
Эрт отрицательно покачал головой.
— Нет-нет, я не имею в виду космическое путешествие. Мне хотелось бы побывать в Лоуерфоллз, что в Нью-Гемпшире.
— По рукам, Эрт, будет сделано. Но почему вы хотите отправиться именно туда?
Эрт вскинул голову. К своему глубочайшему изумлению, Тальяферро увидел на лице специалиста по изучению внеземных форм жизни смущение.
— Когда-то… довольно давно… я ухаживал там за одной девушкой. С тех пор прошло много лет… Но иногда меня мучает вопрос…
перевод С. ВасильевойКлюч
В 60-х я писал много научно-популярного и мало фантастического. Тем не менее в «Журнале фэнтези и научной фантастики» задумали сделать специальный «выпуск Айзека Азимова» и попросили чего-нибудь новенького. Я поддался на лесть и написал последний — четвертый и самый изящный рассказ об Уэнделле Эрте. (Кстати, и самый длинный в книге.)
У меня отлегло от сердца, когда я увидел, что по-прежнему могу писать фантастику. В память о великом открытии я включаю этот рассказ в сборник.
Карл Дженнингс понимал, что умирает. У него оставалось несколько часов и дело, которое надо закончить. Спасения здесь, на Луне, при неработающей связи ждать не приходилось.
Даже на Земле остались затерянные уголки, где нет радио, где человек может умереть, и некому будет помочь, некому посочувствовать, некому даже обнаружить труп. На Луне такие места — не исключение, а правило.
Конечно, земляне знают, что он на Луне. Он участвует в геологической — тьфу, селенологической! — экспедиции. Странно все-таки, до чего он зациклен на Земле — так и лезет в голову это «гео».
Карл Дженнингс устало принуждал себя мыслить, ни на минуту не прекращая работы. На пороге смерти мозг сохранял прежнюю искусственную ясность. Дженнингс тревожно огляделся. Ничего не видно. Здесь, под северной стеной кратера, царила вечная ночь, кромешную тьму нарушали лишь редкие вспышки фонарика. Редкие — потому что Дженнингс берег последний запас энергии, а главное, боялся себя выдать.
Слева, на юге, вдоль близкого лунного горизонта, лежал яркий белый серп. Там, за светлой полосой, был дальний, невидимый борт кратера. Сюда, за ближний уступ, Солнце не заглядывает никогда. Дженнингс мог не опасаться солнечной радиации — хотя бы ее.
Он копал старательно, но неуклюже — мешал громоздкий скафандр. Бок болел нестерпимо.
Пыль и щебень не складывались здесь в «сказочные замки», характерные для тех участков Луны, где сменяются свет и тень, жар и стужа. В царстве вечного холода шлейф медленно разрушаемой породы оставался лежать под склоном грудой тонкого, несортированного материала. Никто не догадается, что тут копали.
Дженнингс недооценил высоту темного бугорка и просыпал пригоршню пыли. Частички упали с типично лунной замедленностью, тем не менее казалось, что страшно быстро, ведь они не повисли, как в воздухе, пыльной дымкой.
На мгновение вспыхнул фонарь. Дженнингс отпихнул с дороги зазубренный камень.
Время поджимало. Он глубже зарылся в пыль.
Еще немного. Скоро можно будет затолкать Устройство в ямку и присыпать. Стросс не найдет.
Стросс!
Второй член экспедиции. Напарник. Соавтор открытия. Второй претендент на славу.
Если бы Стросс просто хотел приписать себе всю заслугу, Дженнингс, возможно бы, стерпел. Открытие куда важнее, чем слава, которую оно может принести. Однако Стросс покусился на большее, и Дженнингс готов был сражаться, чтоб его остановить. Готов был пожертвовать собственной жизнью.
И он умирал.
Они нашли его вместе. Вообще-то именно Стросс обнаружил корабль, точнее — останки корабля; еще точнее — нечто, наводящее на мысль об останках корабля.
— Металл, — объявил Стросс, поднимая что-то корявое и почти бесформенное. Его лицо и глаза едва угадывались за толстым стеклом скафандра, но хриплый голос звучал в наушниках вполне отчетливо.
Дженнингс в два прыжка преодолел разделяющие их полмили. Он сказал:
— Странно. На Луне нет свободного металла.
— Не должно быть. Но мы отлично знаем, что исследовано менее процента лунной поверхности. Кто ведает, что здесь можно найти?
Дженнингс согласно засопел и протянул руку в скафандре.
Верно, на Луне возможны самые неожиданные открытия. Их селенографическая экспедиция — первая негосударственная. До сих пор подобные мероприятия финансировало правительство, участникам приходилось за короткое время решать целую кучу задач. Однако освоение космоса идет вперед, и лучшее тому подтверждение — что Геологическое Общество послало двух людей на Луну с чисто селенологическими целями.
Стросс заметил:
— Впечатление такое, будто поверхность прежде была гладкой.
— Вы правы, — сказал Дженнингс. — Давайте поищем вокруг.
Они нашли еще три куска: два маленьких и один большой, зазубренный, со следами сварки.
— Вернемся на корабль, — предложил Стросс.
Они сели в глиссер, добрались до корабля, задраили люки и сняли скафандры, Дженнингс — с особым наслаждением. Он яростно почесал ребра, а щеки растер так, что на светлой коже проступили красные полосы.
Стросс не унизился до такой слабости и сразу приступил к работе. Лазерный луч выжег в металле ямку, спектрограф показал состав паров. Титанистая сталь с небольшой примесью кобальта и молибдена.
— Так и есть, искусственная, — сказал Стросс. Лицо его выражало обычное мрачное недовольство без тени восторга, хотя у Дженнингса бешено забилось сердце.
Видимо, возбуждение и толкнуло Дженнингса начать: «Нам потребуются стальные нервы…» с легким нажимом на «сталь», чтобы подчеркнуть игру слов.
Стросс обдал Дженнингса холодным презрением, и каламбур остался незавершенным.
Дженнингс вздохнул. Он ничего не мог с собой поделать. Помнится, в университете… Ладно, это в сторону. Стросс может сколько угодно строить кислую мину, а все равно открытие заслуживает куда лучшего каламбура, чем по силам Дженнингсу.
Неужели Стросс не понимает, что произошло?
Дженнингс очень мало знал Стросса, только как селенолога. Другими словами, он читал статьи Стросса, а Стросс, надо полагать, читал его. Они учились на соседних курсах, но знакомы не были и впервые встретились перед самой экспедицией, куда их отобрали из числа других добровольцев.
Через неделю Дженнингса начало раздражать в соседе все: коренастая фигура, соломенные волосы, голубые глаза, даже манера тщательно жевать, сильно двигая челюстями. Сам Дженнингс был стройнее, глаза имел тоже голубые, а волосы — темно-русые. Он почти физически ощущал, как разит от Стросса уверенностью и силой.
Дженнингс сказал:
— Нет никаких упоминаний, чтоб в этой части Луны садился, а тем более падал спускаемый аппарат.
— Обломки корабля, — заметил Стросс, — были бы гладкими. Эти все изъедены, а раз воздуха нет, значит, метеориты бомбардировали их много лет.
Тут до него дошло. Дженнингс торжествующе произнес:
— Это сделано не человеком. На Луне побывали внеземные существа. Кто знает, как давно?
— Кто знает? — сухо повторил Стросс.
— В отчете…
— Погодите, — властно перебил Стросс. — Успеем отчитаться, когда будет о чем. Если это корабль, могут отыскаться еще обломки.
Однако не имело смысла сразу идти на поиски. Они пробыли на поверхности несколько часов, пора было есть и спать. Лучше заняться работой на свежую голову и посвятить ей весь день. Это решилось само собой, почти без обсуждения.
Низко над восточным горизонтом висела почти полная Земля, яркая, в синих разводах. Пока они ели, Дженнингс глядел на нее и, как всегда, чувствовал жгучую тоску по дому.
— Она кажется такой тихой, а ведь на ней копошатся шесть миллиардов…
Стросс вышел из задумчивости и сказал:
— Шесть миллиардов ее губят! Дженнингс нахмурился:
— Вы ведь не Ультра? Стросс сказал:
— Что вы несете?
Дженнингс вспыхнул. Он легко краснел, его тонкая кожа чуть что становилась розовой, и Дженнингса это страшно смущало.
Он вернулся к еде и больше не заговаривал.
Вот уже целое поколение численность землян оставалась постоянной. Человечество не могло позволить себе дальнейшего роста. С этим соглашались все. Мало того, все больше людей говорило, что этого недостаточно. Население должно сократиться. Дженнингс поддерживал эту точку зрения. Человечество проедало земной шар.
Но как сократить население? Случайным образом, убеждая людей снижать рождаемость, когда и как они захотят? В последнее время все больше появлялось таких, кто считал, что сокращать надо выборочно — пусть выживут наиболее достойные, а кому это быть, мы решим сами.
Дженнингс подумал: «Кажется, я его обидел».
Он уже засыпал, когда ему пришло в голову, что, в сущности, почти ничего не знает о Строссе. Вдруг тот намерен ночью отправиться на вылазку и присвоить себе всю славу?
Дженнингс встревоженно приподнялся на локте, но услышал лишь мерное дыхание Стросса, которое вскоре перешло в раскатистый храп.
Следующие три дня они потратили на поиски. Удалось обнаружить новые обломки, и не только. Нашли скопление бледно фосфоресцирующих бактерий. Эти микроорганизмы широко распространены на Луне, но никто из исследователей не сообщал о такой концентрации, которая вызывала бы видимое свечение.
Стросс сказал:
— Наверное, здесь лежало органическое существо или его останки. Существо умерло, бактерии-паразиты — нет. В конце концов они его съели.
— И, возможно, распространились, — добавил Дженнингс. — Не исключено, что таким образом возникли лунные бактерии. Не зародились на Луне, а были занесены эпохи назад.
— Можно сделать и другой вывод, — сказал Стросс. — Поскольку бактерии эти в корне отличны от любых земных организмов, значит, в корне отличалось и существо, на котором они паразитировали (если мы принимаем эту гипотезу). Еще одно подтверждение его внеземной природы. След кончался у стенки небольшого кратера.
— Потребуются серьезные раскопки, — произнес Дженнингс упавшим голосом. — Надо послать отчет и просить помощи.
— Нет, — мрачно отвечал Стросс. — Может, помогать будет не в чем. Что, если кратер возник через миллионы лет после аварии?
— И останки корабля уничтожены, кроме тех, что мы уже нашли?
Стросс кивнул. Дженнингс сказал:
— Давайте все равно копнем. Проведем линию через найденные фрагменты и чуть-чуть поковыряемся на продолжении.
Стросс затею не одобрил и работал вполсилы, так что главную находку сделал именно Дженнингс. Разумеется, это в счет! Пусть Стросс наткнулся на первый кусок металла, зато Дженнингс обнаружил Устройство.
Это было действительно устройство. Оно покоилось на глубине трех футов под неровной глыбой, упавшей так, что под ней осталась пещерка. Здесь-то устройство и пролежало, может быть, более миллиона лет, укрытое от солнечных лучей, от микрометеоритов, от перепадов температур, и потому — как новенькое.
Устройством с большой буквы его окрестил Дженнингс. Оно и отдаленно не напоминало человеческий инструмент, да и с чего бы?
— Я не вижу неровных краев, — сказал он. — Вроде целое.
— Может, какие детали выпали.
— Может, — согласился Дженнингс. — Только не похоже, чтоб оно было разборное. Оно явно цельное и явно не без цели. — Он отметил игру слов и продолжал, тщетно пытаясь одолеть волнение: — Ну теперь-то у нас есть все. Куски искореженного металла и скопление бактерий — только повод для догадок и споров. А это уже верняк — Устройство, явно изготовленное не на Земле.
Они сидели по разные стороны стола и разглядывали таинственный предмет. Дженнингс сказал:
— Давайте составим предварительный отчет.
— Нет! — резко возразил Стросс. — Нет, черт возьми!
— Почему?
— Потому что, стоит послать доклад, Общество наложит лапу на открытие, а нам не останется места даже в примечаниях. Нет! — Стросс глядел почти умоляюще. — Давайте выясним как можно больше, пока не слетелись коршуны.
Дженнингс задумался. Ему, разумеется, не хотелось терять свою долю известности. И все же…
— По-моему, незачем рисковать, Стросс. — Впервые его потянуло назвать коллегу по имени, но он переборол импульс. — Послушайте, мы не имеем права ждать. Если это внеземное, то скорее всего с другой звезды. Остальные планеты Солнечной системы непригодны для жизни.
— Что еще надо доказать, — проворчал Стросс. — Но даже если так, какая разница?
— А такая, что создатели корабля могли совершать межзвездные перелеты, а следовательно, далеко опередили нас. Кто знает, может, Устройство позволит нам расшифровать их технологии. Возможно, это — ключ к неведомым тайнам. И даже — к немыслимой научной революции.
— Романтические бредни! Если это продукт более высокой цивилизации, мы ничего не разберем. Воскресите Эйнштейна и покажите ему микропротоверп — что он в нем поймет?
— А вдруг все-таки разберем?
— Хорошо, пусть. Что за беда, если мы немного повременим? Сами доставим эту штуковину на Землю, позаботимся, чтоб она не уплыла у нас из рук? Как следует застолбим свое открытие?
— Но, Стросс… — Дженнингс чуть не плакал. Он чувствовал, что непременно должен объяснить всю важность находки. — Что, если мы не доберемся до Земли? Разобьемся на подлете? Этим нельзя рисковать. — Он нежно похлопал Устройство. — Надо сообщить немедленно, пусть высылают корабли. Слишком большая ценность.
Волнение достигло предела. Устройство под рукой, казалось, стало теплее. Часть поверхности, полускрытая металлическим козырьком, засветилась.
Дженнингс отдернул руку, и Устройство померкло. Однако хватило и короткого мига.
Дженнингс потрясенно сказал:
— Как будто окно открылось в вашем мозгу. Я читал мысли.
— А я — ваши, — сказал Стросс. — Читал, или переживал, или испытывал, как хотите.
Он холодно, отстраненно провел рукой по Устройству, но ничего не произошло.
— Вы — Ультра, — сердито произнес Дженнингс. — Когда я его коснулся… — Он снова потрогал металлическую поверхность. — Вот опять. Я читаю ваши мысли. Вы в своем уме? Вы и впрямь считаете гуманным обречь большую часть человечества на уничтожение, истребить различия и многообразие?
Стросс отмахнулся:
— Ради Бога, не будем начинать спор. Эта штука — телепатический усилитель, она помогает общению. А почему бы нет? Мозговые клетки обладают электрическим потенциалом. Мысли — те же микроколебания электромагнитного поля…
Дженнингс отвернулся. Ему не хотелось говорить со Строссом. Он сказал:
— Мы немедленно пошлем отчет. Плевать мне на славу. Забирайте ее себе. Я хочу одного — сбыть его с рук.
Мгновение Стросс думал.
— Это не просто передатчик. Он реагирует на эмоции. Усиливает их.
— С чего вы взяли?
— Сейчас оно дважды откликнулось на ваше касание, хотя перед этим вы трогали его целый день, и ничего. Оно не включилось от моего прикосновения.
— И что?
— Вы коснулись его в состоянии крайнего эмоционального возбуждения. Видимо, это нужно, чтоб его включить. А потом, когда вы, держа на нем руку, вскипели насчет Ультра, я на миг ощутил ваше негодование.
— Вот и хорошо.
— Послушайте. Так ли вы уверены в своей правоте? На Земле нет мыслящего человека, который бы не понимал, что население в миллиард предпочтительнее населения в шесть миллиардов. Если перейти на полную автоматизацию — чего не позволяет толпа, — можно было бы прекрасно существовать с населением, скажем, в пять миллионов. Послушайте, Дженнингс. Не отворачивайтесь.
Из голоса Стросса исчезла резкость, он почти умолял.
— Однако население нельзя сократить демократическим путем. Вы сами знаете. Дело не в половом влечении, современная медицина давно и полностью решила проблему контроля рождаемости. Дело в национализме. Каждая этническая группа хочет, чтоб прежде сократились другие, и я с этим согласен. Я хочу, чтоб возобладала моя, наша этническая группа. Чтобы Землю унаследовали избранные, то есть такие, как мы. Мы — настоящие люди, а орды полуобезьян сдерживают наше развитие, тянут к погибели. Мы в любом случае обречены; почему не спасти хотя бы себя?
— Нет, — твердо отвечал Дженнингс. — Ни одно сообщество не вправе объявить себя солью Землю. Ваши пять миллионов, лишенные изменчивости и многообразия, вымрут от скуки — и поделом.
— Эмоциональная чепуха, Дженнингс. Вы сами себе не верите. Просто вас оболванили наши так называемые гуманисты. Послушайте, Устройство — это то, чего нам не хватало. Пусть мы не сумеем разобраться в его работе, построить такие же. Достанет и одного. Мы сможем воздействовать на сознание ключевых политических фигур и, мало-помалу, внушить миру наши воззрения. У нас есть организация. Вы должны это знать, раз прочли мои мысли. У нас твердые убеждения и разветвленная структура — самая мощная в мире. Все больше людей вливается в наши ряды. Присоединяйтесь и вы! Вы сами сказали, что этот инструмент — ключ; но не просто к новому знанию. Это ключ к окончательному разрешению человеческих проблем. Будьте с нами! Будьте с нами!
Он говорил с жаром, какого Дженнингс в нем прежде не замечал.
Стросс положил руку на Устройство, оно мигнуло и сразу погасло.
Дженнингс печально улыбнулся. Он понимал, что за этим кроется. Стросс нарочно распалял себя, чтобы включить Устройство, но так и не сумел.
— Оно вас не слушает, — сказал Дженнингс, — и виной тому ваша сверхчеловеческая выдержка. Вы даже сорваться не можете, ведь так? — Он дрожащими руками коснулся Устройства, и оно снова засветилось.
— Тогда вы будете им управлять. Вы спасете человечество.
— Никогда! — Дженнингс задыхался от обуревающих его чувств. — Я немедленно отправлю отчет.
— Нет. — Стросс схватил со стола нож. — Имейте в виду — острый.
— Не остроумно, — произнес Дженнингс, даже в такую минуту заметив каламбур. — Я вижу, чего вы добиваетесь.
Заполучив Устройство, вы внушите всем, будто меня никогда не существовало. Вы приведете Ультра к победе. Стросс кивнул:
— Вы верно читаете мои мысли.
— Ничего у вас не выйдет, — проговорил Дженнингс, — покуда Устройство у меня. — Он мысленно приказал Строссу не шевелиться.
Стросс зашатался. Рука с ножом дрожала, он не мог сделать и шага. Оба вспотели.
Стросс выговорил сквозь зубы:
— Вы не… сможете… держать его… весь день. Ощущение было очень четкое, но Дженнингс не знал, можно ли описать его словами. Ему казалось, что он держит бьющегося, скользкого, неимоверно сильного зверя. Главное было — сосредоточиться на мысли о неподвижности.
Дженнингс впервые пользовался Устройством, у него не было ни навыка, ни знаний. Попробуйте впервые взять шпагу и сражаться с ловкостью мушкетера.
— Вот именно, — сказал Стросс, читая его мысли, и с трудом шагнул вперед.
Дженнингс знал, что ему не совладать с безумной решимостью Стросса. Они оба это знали. Но оставался глиссер. Дженнингсу надо было бежать. С Устройством.
Однако Дженнингс не мог ничего утаить. Стросс прочел его мысли и шагнул наперерез.
Дженнингс удвоил усилия. Не неподвижность, но обморок. Спать, Стросс, спать, думал он в отчаянии. Спать!
У Стросса подогнулись колени, глаза закрылись.
Дженнингс метнулся вперед. Сердце колотилось. Если бы чем-нибудь ударить, вырвать нож…
Однако за этими мыслями он отвлекся от своей сосредоточенности на сне. В то же мгновение Стросс ухватил его за щиколотку и дернул.
Дженнингс упал. Стросс не колебался. Блеснул нож, Дженнингс почувствовал острую боль, в глазах потемнело от страха и отчаяния.
От такого прилива чувств мигавшее до той поры Устройство вспыхнуло красным. Стросс молча разжал пальцы, из его мозга рвалась сумятица отчаяния и страха.
Стросс рухнул, лицо его страшно исказилось.
Дженнингс неуверенно встал и попятился. Он не смел думать ни о чем, кроме Стросса и его обморока. Любая попытка ответных действий потребовала бы слишком больших умственных усилий, тех самых бестолковых усилий, которые он не мог направить в нужное русло.
Он пятился к глиссеру. Там должен быть скафандр… бинты…
Глиссер не годился для дальнего перелета. И Дженнингс, в его теперешнем состоянии — тоже. Повязка на правом боку намокла, кровь хлюпала в скафандре.
Преследования не было видно, но Дженнингс понимал, что рано или поздно Стросс его догонит. Корабль гораздо мощнее глиссера, а его детекторы различат оставленный ионными двигателями заряженный след.
Дженнингс лихорадочно вызывал станцию Луна, но радио не отвечало, и он бросил безуспешные попытки. Позывные только быстрее наведут Стросса на след.
Дотянуть до станции Луна? Нет, Стросс догонит раньше. Или смерть наступит в полете, глиссер разобьется. Ему не долететь. Надо спрятать Устройство, а уж потом взять курс на станцию.
Устройство…
Может быть, он не прав. Может быть, Устройство погубит человеческий род, но оно — бесценно. Уничтожить его? Единственное свидетельство внеземного разума? В нем заключена разгадка передовой технологии, оно служило орудием высочайшей науки. Как ни велика опасность, ценность… потенциальная ценность…
Нет, надо спрятать так, чтоб Устройство нашли — но не Ультра, а просвещенные умеренные из правительства…
Глиссер остановился у северного внутреннего края кратера. Дженнингс знал, что это за кратер. Он спрячет Устройство здесь. Если не удастся достичь станции Луна или передать сообщение, он хотя бы улетит от места, где закопает Устройство — улетит далеко, чтоб тело не навело на след. И еще: надо оставить какое-то указание, ключ для будущих поисков.
Он дивился ясности своих мыслей. Может быть, Устройство, которое он по-прежнему держит в руках, стимулирует работу мозга, подсказывает идеальный шифр? Или это бред умирающего, который никто не разберет?
Карл Дженнингс понимал, что умирает. У него оставалось несколько часов и дело, которое надо закончить.
X. Сетон Дейвенпорт из Американского отдела Земного бюро расследований машинально потер звездочку шрама на левой щеке.
— Я прекрасно знаю, сэр, как опасны Ультра. Начальник отдела М. Т. Эшли пристально глядел на Дейвенпорта. Худое лицо собралось неодобрительными морщинами. Он снова бросил курить, и сейчас, вытащив пластинку жевательной резинки, смял ее и с отвращением сунул в рот. С годами он стал еще раздражительнее, его короткие сивые усы топорщились, когда он тер их костяшками пальцев.
— Вы не знаете, насколько они опасны. Их мало, но они сильны среди имеющих власть, а те, куда ни кинь, всегда склонны почитать себя избранными. Никто не знает, сколько их и кто они.
— Даже в Бюро?
— Бюро пока держится. Но и мы, кстати, не без того. Вот вы?
Дейвенпорт нахмурился:
— Я не Ультра.
— Я не говорю, что вы состоите в организации, — сказал Эшли. — Я спросил, вполне ли вы свободны от предрассудков? Не размышляли вы о том, что творится с Землей в последние два столетия? Не приходило вам в голову, что умеренное снижение численности пошло бы ей на пользу? Не думается вам порой, что хорошо бы избавиться от безмозглых, бесчувственных, неспособных? Мне, черт возьми, думается.
Да, я ловил себя на подобных мыслях. Но считать что-либо желательным еще не значит возрождать Третий Рейх в масштабах планеты.
Путь от желания к действию не так велик, как вам кажется. Убедите себя, что цель достаточно важна, опасность достаточно велика, и средства не покажутся вам такими уж чудовищными. Ладно, теперь, когда в Стамбуле уладилось, я введу вас в курс следующего дела. Стамбульское по сравнению с ним — безобидный пустяк. Вы знали агента Феррана?
— Это который пропал? Понаслышке.
— Так вот, два месяца назад на Луне отыскали пропавший корабль. Его экипаж проводил селенографические исследования Экспедицию финансировало Русско-Американское геологическое общество, оно и сообщило, что корабль не вышел на связь. Поисковая группа без труда отыскала его на порядочном расстоянии от места, с которого поступили последние сигналы.
Корабль оказался цел, но на нем не хватало глиссера и одного из членов экипажа — Карла Дженнингса. Второй участник экспедиции, Джеймс Стросс, был жив, но нес какую-то ахинею. На теле ни царапины, а рассудок совершенно помутился. Он и сейчас не в себе, и это важно.
— Почему?
— Потому что врачи обследовали его и нашли неизвестные науке нейрохимические и нейроэлектронные расстройства. Первый случай в мировой практике. Ничто человеческое не могло вызвать такой формы безумия.
По суровому лицу Дейвенпорта пробежала усмешка:
— Вы подозреваете космических пришельцев?
— Возможно, — без улыбки отвечал Эшли. — Однако слушайте дальше. Поисковая группа прочесала окрестности корабля, но глиссера не нашла. Со станции Луна сообщили, что недавно были приняты слабые сигналы неизвестного происхождения. Они исходили с западной оконечности Моря Дождей, но, поскольку там никто не должен был находиться, их сочли случайными помехами и оставили без внимания. Пользуясь этим указанием, поисковая партия направилась в Море Дождей и действительно обнаружила глиссер. Дженнингс был на борту, мертвый. С ножевой раной в боку. Удивительно, как он вообще столько протянул.
Тем временем бред Стросса все больше смущал врачей. Они обратились в Бюро, и два наших человека на Луне — один из них Ферран — прибыли на корабль.
Ферран прослушал пленки с записью бреда. Спрашивать самого Стросса было бессмысленно: между ним и остальной Вселенной — непроницаемая стена, и, возможно, она останется навсегда. Однако в том, что он говорит, пусть сбивчиво, пусть повторяясь, есть определенный смысл. Ферран сложил обрывки его бреда, словно куски головоломки.
Видимо, Дженнингс и Стросс нашли нечто, по их мнению — очень древнее и внеземное; некий предмет с разбившегося давным-давно корабля. Видимо, это нечто способно влиять на человеческий рассудок.
Дейвенпорт перебил:
— И это нечто повлияло на рассудок Стросса? Так?
— Именно так. Стросс был Ультра — мы можем говорить «был», потому что как личность он умер, — а Дженнингс не захотел отдавать ему находку. И правильно. В бреду Стросс говорил, что использовал бы ее для ликвидации, как он выразился, «нежелательных». Он хотел довести население Земли до идеальных пяти миллионов. Произошла стычка, в которой, видимо, только Дженнингс мог управлять внушателем, но у Стросса был нож. Дженнингс скрылся — раненый, а Стросс помешался.
— И где теперь внушатель?
— Агент Ферран действовал решительно. Он снова обыскал корабль и соседнюю местность, но не нашел ничего, что не было бы явно лунным или явно человеческим. Ничего, похожего на внушатель. Тогда он обшарил глиссер и поверхность вблизи. Опять ничего.
— Не могла ли первая поисковая группа — та, что ничего не подозревала — нечаянно прихватить внушатель с собой?
— Они клянутся, что ничего не брали, и нет оснований им не верить. Напарник Феррана…
— Кто это?
— Горбанский, — сказал начальник отдела.
— Я его знаю. Мы вместе работали.
— Мне это известно. Какого вы о нем мнения?
— Толковый и честный.
— Горбанский кое-что нашел. Не орудие пришельцев. Кое-что вполне земное и привычное. Обыкновенную записку, свернутую в трубочку и засунутую в средний палец правой перчатки скафандра. Видимо, Дженнингс оставил ее перед смертью как ключ к тому месту, где спрятал находку.
— Почему вы думаете, что спрятал?
— Я же сказал, мы ее не нашли.
— Нет, почему именно спрятал? Может быть, он счел ее слишком опасной и уничтожил?
— Вряд ли. Если основываться на их со Строссом разговоре — а Ферран восстановил его по пленкам почти дословно, — то Дженнингс придавал внушателю ключевое значение. Он так и сказал: «ключ к немыслимой научной революции». Он не стал бы уничтожать такую вещь, скорее спрятал бы от Ультра и попытался известить правительство. Иначе зачем оставлять указание?
Дейвенпорт покачал головой:
— Порочный круг, шеф. Вы считаете, что он оставил ключ, потому что есть спрятанный предмет, и что предмет спрятан, поскольку остался ключ.
— Согласен, все очень шатко. Есть ли смысл в бормотаниях Стросса? Достоверен ли воссозданный разговор? Можно ли считать открытку ключом? Существует ли внушатель, или, как назвал его Дженнингс, Устройство? Бессмысленно задавать вопросы. Сейчас мы должны действовать, исходя из допущения, что внушатель существует и может быть обнаружен.
— Потому что Ферран исчез?
— Вот именно.
— Его похитили Ультра?
— Отнюдь. Записка исчезла вместе с ним.
— А, понятно.
— Феррана давно подозревали в принадлежности к Ультра. И не его одного в Бюро. Материалы не позволяли предпринять ничего конкретного: мы не можем опираться на одни подозрения, тогда придется разгонять все Бюро. За ним присматривали.
— Кто?
— Горбанский, конечно. К счастью, Горбанский переснял записку и послал копию в штаб, на Землю. Он признает, что отнесся к ней несерьезно, просто удивился, а в отчет включил, потому что полагается включать все. Ферран — полагаю, гораздо более сообразительный — сразу понял ее значение и предпринял свой шаг. Ему пришлось многим пожертвовать — он засветился и больше не сможет помогать Ультра. Впрочем, возможно, им и не потребуется больше помощь. Если они завладеют Устройством…
— Может быть, Ферран уже им завладел.
— Не забывайте, за ним велся надзор. Горбанский клянется, что Устройство еще не найдено.
— Горбанский не помешал Феррану сбежать с запиской. Возможно, он проглядел и остальное.
Эшли отрывисто постучал пальцами по столу. Потом сказал:
— Я не хочу об этом думать. Если мы найдем Феррана, то узнаем, что он успел натворить. А до тех пор наша задача — искать Устройство. Если Дженнингс его спрятал, то попытался убраться подальше. Иначе зачем оставлять ключ? Вблизи глиссера мы ничего не найдем.
— Он мог умереть раньше, чем ему удалось улететь. Эшли снова забарабанил пальцами.
— Глиссер явно проделал большой путь. Топливо было на исходе. Все говорит за то, что Дженнингс старался оказаться как можно дальше от того места.
— Можно определить, в каком направлении он летел?
— Можно, но это ничего не даст. Судя по состоянию боковых сопл, он нарочно сбивал след.
Дейвенпорт вздохнул:
— Полагаю, у вас есть копия записки?
— Есть. Вот она. — Эшли протянул подчиненному листок. Дейвенпорт несколько мгновений смотрел. Выглядело это так:
— Не вижу никакого смысла.
— Я сам сперва не увидел, и те, с кем я советовался — тоже. Однако порассуждайте. Дженнингс думал, что Стросс его преследует; он не знал, что тот навсегда выведен из игры. Он смертельно боялся, как бы Ультра не нашли внушатель раньше умеренных. Он не решался оставить слишком явное указание. Перед нами, — начальник отдела постучал пальцами по листку, — ключ, который кажется невразумительным на первый взгляд но должен быть совершенно прозрачен при известной доле смекалки.
— Можно ли на это надеяться? — с сомнением произнес Дейвенпорт. — Дженнингс был при смерти, перепуган, возможно, находился под действием внушателя. Он совсем не обязательно мыслил четко и даже по-человечески. Например, почему он не попытался достичь станции Луна? Он облетел чуть не половину планеты. Может, он просто помешался и не доверял даже сотрудникам станции? Хотя нет, он пробовал с ними связаться, когда на станции поймали сигнал. Я хочу сказать, бессмысленная с виду записка действительно бессмысленна.
Эшли мрачно помотал головой, словно качнул колокол.
— Дженнингс был в панике, да. Думаю, поэтому он и не полетел к станции. Им владела одна мысль — бежать. И все же в записке может быть смысл. Каждый значок поддается расшифровке, а все в целом — прочтению.
— Какому же? — спросил Дейвенпорт.
— Обратите внимание: слева — семь значков. Справа — два. Разберем сперва левые. Третий сверху похож на знак равенства. Это наводит вас на какую-нибудь мысль?
— Алгебраическое уравнение?
— Это вообще. А в частности?
— Сдаюсь.
— Что, если это две параллельные прямые?
— Пятый постулат Эвклида? — наугад предположил Дейвенпорт.
— Хорошо! На Луне есть кратер, который зовется Эвклид. Дейвенпорт кивнул:
— Я вижу, куда вы клоните. F/A, то есть сила, деленная на ускорение — определение массы по второму закону Ньютона…
— Да, и кратер Ньютон на Луне есть…
— А прямоугольный треугольник вверху — теорема Пифагора, в честь которого тоже назвали кратер.
— Да.
— Но погодите. Нижний значок — астрономический символ Урана, и я точно знаю, что кратера с таким названием нет.
— Вы правы. Однако Уран был открыт Уильямом Гершелем. Кратер с таким именем на Луне есть, и даже три — второй в честь сестры Гершеля Каролины, а третий в честь сына Джона.
Дейвенпорт задумался, потом сказал:
— РС/2 — давление на скорость света пополам. Такой формулы я не встречал.
— Попробуйте кратеры. Р — первая буква в латинском написании слова Птолемей, с С начинается фамилия Коперника.
— И вывести среднее? Получится место точно посередине между Коперником и Птолемеем.
— Я разочарован, Дейвенпорт, — ехидно произнес Эшли. — Думал, вы лучше знаете историю астрономии. Птолемей разработал геоцентрическую модель Вселенной с Землей посредине, Коперник — гелиоцентрическую, и в центр поместил Солнце. Некий астроном пытался совместить обе системы, сделать среднее из Коперника и Птолемея…
— Тихо Браге! — воскликнул Дейвенпорт.
— Верно. А кратер Тихо — одно из самых заметных лунных образований.
— Ладно. Попробуем дальше. LN можно написать маленькими буквами и получится LN — обозначение натурального логарифма. Это понятие ввел математик Непер. Насколько я знаю, такой кратер на Луне имеется.
— Отлично. Что с SU?
— Ума не приложу, шеф.
— Выскажу догадку. Когда-то в международных документах так обозначался Советский Союз — древнее государство на месте теперешней Российской области. Советские ученые первыми нанесли на карту обратную сторону Луны, и SU может обозначать какой-то из названных ими кратеров — например, Циолковский. Итак, за левыми символами скрываются названия кратеров: Пифагор, Тихо, Эвклид, Ньютон, Циолковский, Непер, Гершель.
— А что тогда правые символы?
— Проще простого. Разделенный на четверти кружок — астрономическое обозначение Земли. Стрелка, направленная на него, должна означать, что Земля — прямо вверху.
— Ага, — протянул Дейвенпорт. — Центральный Залив, над которым Солнце всегда в зените. Это не кратер, поэтому он помещен справа, отдельно от остальных.
— Ладно, — сказал Эшли, — все значки разгаданы или могут быть разгаданы, значит, записка скорее всего не бессмысленна и пытается что-то нам сообщить. Но что именно? Мы получили семь кратеров и один не-кратер, и что с ними делать? Устройство-то спрятано в одном-единственном месте.
— Ну, — устало проговорил Дейвенпорт, — обыскать целый кратер нелегко. Допустим, Дженнингс выбрал теневую сторону, чтоб укрыться от солнечной радиации. Нам все равно придется обшаривать десятки миль. Предположим, стрелка, указывающая на Землю, означает, что искомое место в кратере — то, над которым Солнце стоит ближе всего к зениту.
— До этого я тоже допетрил. Тогда мы имеем место — южная оконечность кратеров, лежащих к северу от экватора, и северная — у тех, что расположены к югу. Но какого кратера из семи?
Дейвенпорт задумался. До сих пор он не предложил ничего такого, что прежде не пришло бы в голову шефу.
— Обыскать их все, — буркнул он. Эшли хохотнул:
— Вот уже несколько недель как мы именно этим и занимаемся.
— И какие успехи?
— Никаких. Мы ничего не нашли. Впрочем, поиски продолжаются.
— Очевидно, один из символов расшифрован неверно.
— Очевидно!
— Вы сами сказали, что название Гершель объединяет три кратера. SU, если это Советский Союз и обратная сторона Луны, может быть любым из тамошних кратеров — Ломоносовым, Жюль Верном, Жолио-Кюри — да любым! Стрелкой можно обозначить Прямую Стену.
— Не спорю. Но даже если мы верно разгадаем значки, как отличить правильную интерпретацию от ложной и как выбрать нужный кратер? Что-то должно с ходу бросаться в глаза и сразу говорить, где суть, а где — дымовая завеса. Мы в тупике, и нам нужен свежий взгляд. Что вы тут видите?
— Я скажу, что мы можем сделать, — неохотно произнес Дейвенпорт. — Мы можем обратиться к одному человеку… О Господи! — Он привстал.
Эшли мгновенно напружинился:
— Что вы увидели?
У Дейвенпорта дрожали руки и, кажется, губы. Он сказал:
— Вы изучали прошлое Дженнингса?
— Конечно!
— Что он заканчивал?
— Восточный университет.
Дейвенпорт задохнулся от радости, но старался сдерживаться. Это еще не доказательство.
— Он слушал курс экстратеррологии?
— Разумеется, как все геологи.
— Вы знаете, кто читает экстратеррологию в Восточном университете?
Эшли щелкнул пальцами:
— Такой чудик. Как его… Уэнделл Эрт.
— Правильно. Чудик, который в своем роде гениален. Чудик, который несколько раз консультировал Бюро и всякий раз находил блестящее решение. Чудик, чье имя я уже собирался назвать, когда понял, что к нему и велит прибегнуть записка. Стрелка указывает на символ Земли. Это значит — отправляйтесь на Землю. А всякий ученик Эрта знает, к кому обратиться на Земле.
Эшли всмотрелся в листок.
— Возможно, вы и правы. Но что этот Эрт скажет такого, до чего б мы не додумались сами?
Дейвенпорт с вежливым спокойствием отвечал:
— Предлагаю спросить это у него, шеф.
Эшли с изумлением огляделся по сторонам и несколько раз сморгнул. Он попал не то к колдуну, не то в экзотическую антикварную лавку; казалось, сейчас из полумрака с воплем вылетит демон.
Освещение было слабое, углы прятались в тени. Стены едва угадывались, заставленные полками с микрофильмами. За трехмерной Галактический Линзой можно было с трудом различить схемы звездного неба. Карта Луны в дальнем углу вполне могла оказаться картой Марса.
Лампа освещала лишь одно место — стол в середине комнаты, заваленный бумагами и открытыми книгами. Здесь же стояло устройство для чтения микрофильмов с заправленной пленкой и весело тикал старинный круглый будильник.
Эшли с трудом верил, что на улице — ранний вечер и светит солнце. Здесь царила вечная ночь. Окна он не приметил, и хотя в комнату явно поступал свежий воздух, начальник отдела почувствовал приступ клаустрофобии.
Он придвинулся ближе к Дейвенпорту, которого странная обстановка явно не смущала.
Дейвенпорт тихо сказал:
— Сейчас придет, сэр.
— Здесь всегда так? — спросил Эшли.
— Всегда. Насколько я знаю, он никуда не ходит, только в университет через студенческий городок.
— Господа, господа! — раздался пронзительный тенор. — Рад вас видеть. Как мило, что вы зашли.
В комнату вкатился кругленький человечек, пересек тень и оказался на свету.
Он широко улыбался и поправлял сползшие вниз очки с толстыми стеклами, чтобы разглядеть гостей. Едва он отпустил руку, очки снова съехали на самый кончик носа картофелиной и повисли, грозя свалиться совсем.
— Я — Уэнделл Эрт.
Жидкий седой клинышек на пухлом круглом подбородке не прибавлял достоинства, которым не могли похвастать улыбка и яйцевидное туловище.
— Господа! Как мило, что вы зашли! — повторил Эрт и не глядя плюхнулся в кресло. Ноги его не доставали до пола на целый дюйм и болтались в воздухе. — Мистер Дейвенпорт, вероятно, помнит, как… э… важно для меня не выходить отсюда. Я путешествую только пешком, и прогулки через студенческий городок мне вполне хватает.
Эшли оторопел. Он продолжал стоять, а Эрт в растущем недоумении пялился на него. Потом вытащил носовой платок, протер очки, нацепил их на нос и сказал:
— Я вижу ваше затруднение. Вам некуда сесть. Ладно. Берите стулья. Если на них что-нибудь лежит, смахните. Смахните на пол! Рассаживайтесь, пожалуйста.
Дейвенпорт снял со стула книги и осторожно положил их на пол. Пододвинул стул Эшли. С другого стула он снял человеческий череп и еще осторожнее поставил на стол. При этом плохо прикрученная нижняя челюсть отвисла, и череп оказался перекошенным.
— Пустяки, — милостиво сказал Эрт. — Ему не больно. Теперь рассказывайте, господа, что вас ко мне привело?
Дейвенпорт подождал, чтобы Эшли заговорил первым, и поскольку тот молчал, с явным облегчением начал:
— Доктор Эрт, помните вы студента по фамилии Дженнингс? Карла Дженнингса?
Эрт задумался. Улыбка исчезла с его лица. Чуть выкаченные глаза заморгали.
— Нет, — сказал он. — Сейчас не припоминаю.
— Геолог. Несколько лет назад он слушал у вас курс экстратеррологии. У меня есть фотография, если это вам поможет.
Эрт близоруко вгляделся в снимок, однако лицо его по-прежнему выражало сомнение. Дейвенпорт продолжил:
— Он оставил шифрованную записку — ключ к очень важному делу. До сих пор нам не удавалось правильно ее разгадать, но одно мы поняли — она велит обратиться к вам.
— Вот как? Любопытно! И зачем же обращаться ко мне?
— Вероятно, чтоб вы посоветовали, как прочесть записку.
— Можно на нее взглянуть?
Эшли молча передал листок Уэнделлу Эрту. Экстратерролог скользнул глазами по бумаге, перевернул ее и некоторое время тупо смотрел на пустую сторону.
— Где тут сказано обратиться ко мне?
Эшли вздрогнул, но Дейвенпорт опередил его:
— Стрелка указывает на символ Земли. Мы решили, что это отсылает нас к вам.
— Да, стрелка явно направлена на символ планеты Земля. Я полагаю, это может означать буквально «отправляйтесь на Землю», если записку нашли на какой-то другой планете.
— Ее нашли на Луне, доктор Эрт, и, конечно, значение может быть именно таким. Но когда мы узнали, что Дженнингс учился у вас, мы решили, что тут подразумеваетесь вы. Понимаете, при своем домоседстве вы… э… очень земной человек.
— Он слушал экстратеррологию здесь, в университете? — Да.
— В каком году, мистер Дейвенпорт?
— В восемнадцатом.
— А-а. Загадка разрешилась.
— Вы хотите сказать, что поняли записку? — спросил Дейвенпорт.
— Нет-нет. Она по-прежнему ничего мне не говорит. Под загадкой я разумел, что забыл Дженнингса, потому что теперь я его вспомнил. Он был очень тихий, серьезный, робкий, всегда держался в тени — такие не западают в память. Без этого, — доктор постучал по листку, — я бы его не вспомнил.
— А что изменила открытка? — спросил Дейвенпорт.
— Она составлена в форме ребуса. Не очень удачного, конечно, но в этом — весь Дженнингс. Его недосягаемой мечтой были каламбуры. Все, что я о нем помню, — это попытки играть словами. Я люблю каламбуры, я обожаю каламбуры, но Дженнингс — теперь я вижу его совершенно явственно — каламбурил ужасно. Или банально, или, как в данном случае, — маловразумительно. У него не было ни малейших способностей к игре слов, тем не менее он постоянно пытался острить…
Эшли перебил:
— Это послание целиком построено на словесной игре, доктор Эрт. По крайней мере мы так полагаем, и это сходится с тем, что вы сказали.
— Ах! — Эрт поправил очки и снова вгляделся в непонятные символы. Покусал пухлые губы, потом сказал бодро: — Ничего не понимаю.
— В таком случае… — Эшли сжал кулаки.
— Но если вы объясните, к чему это написано, — продолжал Эрт, — я, может быть, что-нибудь разберу.
Дейвенпорт быстро сказал:
— Разрешите, сэр? Я уверен, что доктору Эрту можно доверять, а вдруг это поможет?
— Валяйте, — буркнул Эшли. — Хуже уже не будет.
Дейвенпорт в сжатом, телеграфном стиле изложил предысторию записки. Эрт слушал внимательно, водя короткими пальцами по столу, словно смахивал невидимый пепел. К концу рассказа он подобрал ноги по-восточному и остался сидеть этаким благожелательным Буддой.
Когда Дейвенпорт закончил, Эрт на секунду задумался, потом сказал:
— Нет ли при вас случайно сделанной Ферраном реконструкции разговора?
— Есть. Хотите взглянуть?
— Да, если позволите.
Эрт вставил микрофильм в сканер и быстро проглядел, время от времени невнятно шепча губами. Потом постучал пальцами по загадочному листку.
— Говорите, это ключ к разгадке?
— Мы так полагаем, доктор Эрт.
— Но это не оригинал, а копия.
— Верно.
— Оригинал исчез вместе с Ферраном и, как вы считаете, попал к Ультра.
— Очень возможно.
Эрт с растерянным видом покачал головой:
— Все знают, что я не люблю Ультра. Я готов всеми силами сражаться против них и не хочу создавать впечатление, будто отказываюсь вам помочь, но — где уверенность, что Устройство действительно существует? У вас есть бормотания сумасшедшего и ваши собственные домыслы на основании копии листка с таинственными значками, которые могут не значить ровным счетом ничего.
— Да, доктор Эрт, но мы не имеем права рисковать.
— Уверены ли вы, что копия точна? Быть может, оригинал содержал нечто, его проясняющее, и без этого сообщение не прочесть?
— Мы уверены, что копия точна.
— Как насчет другой стороны? На обороте у листка ничего нет. А у оригинала?
— Человек, снимавший копию, говорит, что оборотная сторона была белой.
— Люди ошибаются.
— У нас нет оснований подозревать его в ошибке, и мы должны исходить из допущения, что копия верна. По крайней мере пока не разыщем оригинал.
— Значит, вы утверждаете, — сказал Эрт, — что любая интерпретация должна строиться исключительно на том, что мы сейчас видим?
— Мы так думаем. Мы практически уверены, — сказал Дейвенпорт, чувствуя, как на него накатывает разочарование.
Доктор Эрт по-прежнему выглядел расстроенным.
— Почему не оставить Устройство в покое? Если ни вы, ни Ультра его не найдете — тем лучше. Я против всякого воздействия на мозг и не хотел бы способствовать его проникновению в жизнь.
Дейвенпорт, видя, что Эшли сейчас вспылит, успокаивающе тронул его за руку и сказал сам:
— Позвольте заметить, доктор Эрт, что воздействие на мозг — не единственная функция Устройства. Положим, земные космонавты на далекой примитивной планете обронили старинный радиоприемник, и, положим, местное население уже открыло электрический ток, но еще не изобрело электролампы.
Местные жители догадываются подключить радио к сети, видят, что какие-то стеклянные штучки нагреваются и начинают светиться, но, разумеется, не слышат понятных звуков, разве что хрипы и треск. Предположим, они роняют включенный приемник в ванну, где моется человек, и его убивает током. Должно ли население гипотетической планеты заключить, что оставленное землянами устройство предназначено исключительно убивать?
— Я понимаю ваше сравнение, — сказал Эрт. — Вы считаете, что воздействие на мозг — всего лишь побочная функция Устройства?
— Я в этом уверен, — с жаром отвечал Дейвенпорт. — Если мы разгадаем его истинное назначение, земная техника шагнет на столетия вперед!
— Так вы согласны с Дженнингсом, что это… — Эрт сверился с микрофильмом, — ключ к немыслимой научной революции?
— Всецело!
— Однако способность действовать на мозг остается и безумно опасна. Радио, каково бы ни было его истинное назначение, действительно может убить.
— Тем более нельзя допустить, чтобы им завладели Ультра.
— Возможно, и правительство тоже?
— На это я отвечу, что существуют разумные пределы осторожности. Подумайте: люди всегда соприкасались с опасностью. Первый кремневый нож каменного века, первая деревянная дубина еще раньше могли убивать. С их помощью сильный принуждал слабого к покорности, а это — тоже форма воздействия на мозг. Важно не само устройство, доктор Эрт, и не опасность, которая в нем заключена, а намерения людей, которые им управляют. Ультра хотят истребить 99,9 процента человечества. Правительство тоже состоит не из ангелов, но такой цели у него нет.
— А какая же у него цель?
— Исследовать Устройство. То же влияние на мозг можно обратить на великое благо, если подойти к нему с позиций науки и просвещения. Возможно, мы разгадаем физическую природу мышления, научимся лечить психические расстройства или даже сумеем исправить Ультра. Все человечество может поумнеть.
— Почему я должен верить, что благие пожелания воплотятся?
— Я верю. Подумайте: если вы нам поможете, остается малая вероятность, что правительство употребит Устройство во вред; если ж Устройство попадет к Ультра, возникает уже не гипотетическая угроза человечеству.
Эрт задумчиво кивнул:
— Возможно, вы правы. Однако я вынужден попросить вас об одолжении. У меня есть племянница, которая, я полагаю, меня любит. Ее постоянно огорчает мое твердое нежелание губить свою жизнь в путешествиях. Она говорит, что не успокоится, пока я не поеду с ней в Европу, Северную Каролину или еще в какую-нибудь страшную даль…
Эшли с жаром подался вперед, не обращая внимания на предупреждающий жест Дейвенпорта.
— Доктор Эрт, если вы поможете нам найти Устройство и мы сумеем пустить его в ход, то, уверяю, охотно поможем вам освободиться от фобии. Вы поедете с племянницей, куда пожелаете.
Выкаченные глаза Эрта расширились, сам он весь сжался. С минуту маленький ученый озирался, словно попал в ловушку.
— Нет! — выдохнул он. — Нет! Никогда! Он хрипло зашептал:
— Давайте я объясню, какой мне нужен гонорар. Если я вам помогу и вы найдете Устройство, научитесь им управлять, если мое участие станет известным, племянница начнет осаждать правительство. Это очень решительная, громогласная женщина, которая способна собирать подписи и устраивать демонстрации. Она не остановится ни перед чем. Не отдавайте ей Устройство! Ни под каким видом, сколько бы она ни требовала! Я хочу оставаться таким, каков я есть. Это мой окончательный и минимальный гонорар.
Эшли вспыхнул.
— Да, конечно, если вы так хотите.
— Ваше слово?
— Мое слово.
— Пожалуйста, не забудьте. Я рассчитываю и на вас, мистер Дейвенпорт.
— Все будет, как вы пожелаете, — успокоил Дейвенпорт. — А теперь, я полагаю, вы объясните, что значат символы?
— Символы? — Эрт с трудом сосредоточил взгляд на листке. — Вы хотите сказать, треугольник, буковки и так далее?
— Да. Что они значат?
— Не знаю. Ваше толкование не хуже любого другого. Эшли взорвался:
— Так что вы нам тут вкручивали? Что болтали насчет гонорара?
Эрт смутился:
— Я не отказываюсь вам помочь.
— Но вы не знаете, что значат символы.
— Н-не знаю. Но я знаю, что значит записка.
— Знаете?! — воскликнул Дейвенпорт.
— Конечно. Она совершенно прозрачна. Я заподозрил это довольно давно. Пленка с реконструкцией разговора убедила меня окончательно. Вы бы и сами догадались, господа, если б хоть на минуту задумались.
— Слушайте, — в отчаянии выговорил Эшли, — вы же говорите, что не понимаете символов.
— Не понимаю. Я знаю, что говорит записка.
— А что есть в записке, кроме символов? Бумага, что ли?
— В некотором смысле, да.
— Вы хотите сказать, невидимые чернила или что-то вроде того?
— Нет! Вы так близки к разгадке — неужели вы не можете понять?
Дейвенпорт наклонился к Эшли и произнес тихо:
— Пожалуйста, позвольте мне, сэр. Эшли фыркнул, потом с усилием выдавил:
— Валяйте.
— Доктор Эрт, — сказал Дейвенпорт, — не изложите ли вы нам свои рассуждения?
— Ладно, ладно. — Кругленький экстратерролог удобнее сел в кресле и вытер потный лоб рукавом. — Разберем послание. Если вы согласны, что разделенный на четверти кружок отсылает ко мне, то остается семь значков. Если ими зашифрованы кратеры, то по меньшей мере шесть написаны для маскировки, ведь Устройство может быть только в одном. Оно неразборное и неразъемное.
Далее: ни один из значков не трактуется однозначно. SU может, по вашему толкованию, означать любое место на обратной стороне Луны, которая занимает площадь Южной Америки. РС/2 может означать «Тихо», как остроумно предложил мистер Эшли, или «на полпути между Коперником и Птолемеем», как думал мистер Дейвенпорт, или с таким же успехом «посредине между Платоном и Кассини». Также и LN может означать Непера, а может указывать на точку между Непером и Лаперузом. За F/A может скрываться Ньютон или кратер, расположенный между Фабрицием и Архимедом.
Короче, символы дают такой простор для толкований, что оказываются бессмысленными. Даже если один из них что-то и значит, его невозможно вычленить из остальных, и разумно предположить, что все семь написаны для отвода глаз.
Значит, надо определить, что в послании совершенно недвусмысленно и не вызывает сомнений. Ответ ясен: послание — ключ к решению загадки. Это — единственное, в чем мы уверены, не так ли?
Дейвенпорт кивнул, потом сказал осторожно:
— По крайней мере мы считаем, что уверены.
— Да, вы сами называли записку ключевой. Дженнингс считал Устройство ключом к немыслимой научной революции. Если мы соединим это его серьезное отношение и склонность к каламбурам, которая под воздействием Устройства могла еще обостриться… Итак, позвольте рассказать вам одну историю.
Во второй половине шестнадцатого века жил в Риме немецкий иезуит, математик и астроном. В 1582 году он помог римскому папе Григорию XII в реформе календаря, выполнив необходимые громоздкие расчеты. Он восхищался Коперником, но не принимал гелиоцентрическую систему, предпочитая по старинке считать Землю центром Вселенной.
В 1650 году, спустя почти сорок лет после смерти математика, другой иезуит, итальянский астроном Джованни Баттиста Риччоли составил карту Луны. Он называл кратеры в честь великих астрономов прошлого, а поскольку тоже отвергал систему Коперника, то посвятил самые большие и заметные тем, кто помещал в середину Вселенной Землю, — Птолемею, Гиппарху, Альфонсо X, Тихо Браге. Самый крупный кратер, который Риччоли смог отыскать, он оставил для немецкого собрата по ордену.
На самом деле этот кратер — второй по величине из видимых с Земли. Больше его только Бэйи, расположенный на самом краю лунного диска и потому почти не различимый с Земли. Риччоли его не заметил, и кратер назвали в честь астронома, жившего почти сто лет спустя и казненного во время Французской революции.
Эшли не выдержал:
— Какое отношение это имеет к записке?
— Самое прямое, — удивленно отвечал Эрт. — Разве вы не сказали, что записка — ключ к решению?
— Да, конечно.
— Разве не очевидно, что мы имеем дело с неким ключом?
— Очевидно, — сказал Эшли.
— Так вот, немецкого иезуита, о котором я говорю, звали Кристоф Клау. Разве имя Клау не созвучно слову ключ?
Эшли даже обмяк от разочарования.
— Притянуто за уши, — пробормотал он. Дейвенпорт сказал с тревогой:
— Доктор Эрт, насколько мне известно, на Луне нет образования, которое носило бы имя Клау.
— Разумеется, нет, — с жаром произнес Эрт. — В том-то и дело. В то время, в конце шестнадцатого века, среди европейских ученых было принято латинизировать свои имена. Вот и Клау заменил немецкое «и» латинским «v» и добавил типичное для римских имен окончание. Кристоф Клау стал Христофором Клавием — пишется Clavius — и, я думаю, вы знаете об исполинском кратере Клавий…
— Ну, доктор Эрт…
— Не нукайте, — сказал Эрт, — лучше подумайте. Латинское clavis означает ключ. Видите двуязычный каламбур — Клавий — Clavius — clavis — ключ? Дженнингсу никогда бы до такого не додуматься, если б не Устройство. А так, я полагаю, он умер, торжествуя. И направил вас ко мне, зная: я сам имею такую склонность и вспомню его страсть к каламбурам.
Двое сотрудников Бюро вытаращились на маленького ученого.
Эрт сказал торжественно:
— Предлагаю вам поискать на северной стороне Клавия, в той его точке, где Земля ближе всего к зениту.
Эшли встал:
— Где у вас видеофон?
— В соседней комнате.
Эшли рванулся звонить, Дейвенпорт задержался на пороге.
— Вы уверены, доктор Эрт?
— Совершенно уверен. Но, даже если я ошибаюсь, неважно.
— Что неважно?
— Найдете ли вы Устройство. Ультра если его и отыщут, скорее всего не смогут пустить в ход.
— Почему вы так считаете?
— Вы спросили, учился ли у меня Дженнингс, но не поинтересовались насчет Стросса, а ведь он тоже геолог. Он учился у меня на курс-два позже Дженнингса. Я отлично его помню.
— И?..
— Неприятный тип. Холодный — полагаю, как все Ультра. Они очень холодные, очень жесткие, очень самоуверенные. Они не способны сопереживать, иначе не мечтали бы истребить миллиарды людей. Их чувства — ледяные, эгоистические, неспособные преодолеть расстояние до другого человека.
— Кажется, я понимаю.
— Конечно, понимаете. Из реконструкции разговора ясно, что Стросс не справился с Устройством. Ему не хватило душевного пыла, или он не смог создать нужный настрой. Думаю, все Ультра такие. Дженнингс — не Ультра — включил Устройство. Полагаю, с ним справится лишь тот, кто не способен хладнокровно причинять боль. Он может ударить под влиянием панического страха, как Дженнингс — Стросса, но не по расчету, как Стросс — Дженнингса. Короче, я считаю, что Устройство подчинится любви, а ненависти — никогда, Ультра же способны только ненавидеть.
Дейвенпорт кивнул:
— Надеюсь, вы правы. Но если вы уверены, что злому человеку Устройство не покорится, зачем было с пристрастием выяснять намерения правительства?
Эрт пожал плечами:
— Я хотел убедиться, что вы способны с ходу приводить доводы и заболтаете кого угодно. В конце концов, вдруг вам придется говорить с моей племянницей?
перевод Е. Доброхотовой-МайковойЧасть 3. Наша цель - звёзды
Твини
Джефферсон Скэнлон вытер взмокшую бровь и глубоко вздохнул. Он потянулся дрожащим пальцем к переключателю — и остановился. Его модель, на которую ушло более трех месяцев напряженного труда, была, можно сказать, последней его надеждой. Он вложил в нее добрую долю тех пятнадцати тысяч долларов, которые сумел наскрести. И сейчас должно было решиться, выиграл он или проиграл.
Обхватив руками свою пылающую голову, он простонал:
— О боже! Она должна работать, должна! Мои расчеты верны, и я создал нужное поле. По всем законам науки оно должно расщеплять атом. — Он встал, выключил бесполезный рубильник и в глубоком раздумье зашагал по комнате.
Его теория верна. Но если теория верна, значит, установка собрана неверно. Но установка собрана верно, значит, теория…
Где-то неподалеку заорали мальчишки, нарушив ход его мрачных раздумий. Скэнлон нахмурился. Он не терпел шума.
Крики приближались, усиливались, становились отчетливее: «Хватай его, Джонни!», «Эй, держи!»
Меньше чем в двухстах ярдах от Скэнлона дюжина мальчишек выскочила из-за угла и понеслась ему навстречу.
Скэнлон невольно заинтересовался. Они набросились на кого-то с характерной для своего возраста жестокостью.
Скэнлон от изумления едва не выронил трубку, потому что беглецом был твини — полукровка, гибрид Земли и Марса. Ошибиться не давал совершенно белый, жесткий как проволока хохол, больше похожий на ерш для мытья бутылок или на иглы дикобраза, чем на обыкновенные волосы. Скэнлон с удивлением подумал: как твини мог оказаться вне стен приюта?
Мальчишки снова нагнали полукровку, и их враждебный рев усилился. А затем потрясенный Скэнлон увидел, как взметнулась вверх и опустилась тяжелая доска. Происходившее было настолько дико, что он, не помня себя от возмущения, бросился с кулаками в самую гущу.
— Прочь, варвары! Прочь отсюда, пока я… — Хватив ближайшего хулигана башмаком по заднице, он одновременно бросил наземь двух других.
Скэнлон очутился один на один с твини, который, не переставая всхлипывать, опасливо поглядывал на него.
Он заметил, что твини, вымахавший сильно в длину, был устрашающе худ, что одежда его состояла из каких-то грязных лохмотьев, а его измученное лицо было печально.
— Слушай, ты, наверное, голоден?
По лицу твини прошла судорога: видно было, что он переживает внутреннюю борьбу. Наконец он негромко и смущенно ответил:
— Да… немножко.
— Эго заметно. Пойдем ко мне — Большим пальцем Скэнлон указал себе за спину. — Тебе необходимо поесть. И похоже, не помешает умыться и переодеться.
Он молчал до самого дома и, только открыв дверь, снова заговорил:
— Пожалуй, тебе следует сначала умыться. Ступай сюда, в ванную, и быстренько запрись, пока тебя не увидела Бьюла.
Но было уже поздно. Сзади раздался испуганный возглас. Бьюла, домохозяйка Скэнлона, направлялась к ним; ее всегда кроткое лицо раскраснелось и выражало негодование, глаза сверкали.
— Джефферсон Скэнлон! Джефферсон! — Она обратила к твини исполненный омерзения взгляд. — Как мог ты привести в этот дом это существо? Ты что, утратил представление о приличиях?
Несчастный твини был совершенно уничтожен, но Скэнлон быстро взял себя в руки.
— Ладно, мы обсудим это потом. Ступай, парень, мойся.
А Бьюла посмотрит, не найдется ли для тебя какой старой одежонки.
Одарив их обоих неодобрительным взглядом, Бьюла с важным видом удалилась.
— Не обращай на нее внимания, — сказал Скэнлон. — Она была когда-то моей няней и все еще видит во мне, что называется, своего рода собственность. На самом деле она не обидит даже мухи, так что иди мойся.
Когда твини наконец оказался за обеденным столом, он выглядел совершенно иначе. Отмытое от многодневной грязи худое лицо было почти красивым, а высокий открытый лоб говорил об уме и одухотворенности. Волосы, хотя и влажные, по-прежнему стояли торчком, в фут высотой, но в их ослепительной белизне было что-то благородное, почти величественное. Ничего уродливого Скэнлон в них сейчас не находил.
— Как насчет холодного цыпленка? — спросил Скэнлон.
— О да! — с энтузиазмом произнес твини.
Глаза его заблестели, и он энергично набросился на еду.
— А теперь, — сказал Скэнлон, — я хотел бы задать тебе несколько вопросов. Твое имя?
— Они звали меня Максом.
— Так! Ну а фамилия?
Твини пожал плечами.
— Они называли меня просто Максом, если вообще обращались ко мне. Не думаю, чтобы полукровке требовалась бы еще и фамилия. — Он произнес это с нескрываемой горечью.
— Но как ты очутился здесь? Ты ведь где-то живешь?
— Я жил в приюте. Лучше находиться где угодно, только не там.
— Они не желали тебе зла, Макс. Ты напрасно ушел. Ты не такой, как другие люди, и они тебя не понимали. Но что-то они все-таки дали тебе. Ты разговариваешь как человек, получивший некоторое образование.
— Я ходил на уроки, это верно, — хмуро признался Макс. — Но сидеть мне полагалось в углу, в стороне от других.
Макс подозрительно посмотрел на Скэнлона.
— Вы ведь не отошлете меня назад? — Он привстал, точно собрался бежать.
Скэнлон смущенно покашлял.
— Конечно, против твоей воли я этого не сделаю. Но для тебя это было бы лучше всего.
— Нет! — пылко вскричал Макс.
— Ладно, дело твое. Сейчас тебе надо прежде всего выспаться. Мы поговорим обо всем утром.
Он повел твини наверх.
— Переночуешь в этой спаленке. Только не вздумай ночью сбежать.
— Честное слово, не убегу.
Прошла неделя. Скэнлон сидел в своей мастерской. Появление Макса нарушило его однообразное существование, он чувствовал себя спокойным и отдохнувшим. И вдруг он сообразил: машина не работала просто потому, что была неисправна какая-то деталь. Все дело было в каком-то пустяке.
Скэнлон горячо взялся за дело. Через полчаса машина, полностью разобранная, валялась на рабочем столе, а Скэнлон уныло взирал на этот хаос.
Он не услышал, как отворилась дверь. Вошедший дважды покашлял, прежде чем Скэнлон оглянулся.
— О… Макс. — Взгляд его лишь постепенно из рассеянного становился осмысленным. — Я тебе нужен?
— Я просто хотел, чтобы вы объяснили мне тут кое-что из квантовой механики. Здесь интегралы, которые я не совсем понимаю. И это меня мучит. Вот… подождите, я сейчас найду. — Он начал листать учебник и вдруг заметил царивший в мастерской беспорядок. — Ой, вы сломали вашу модель?
Вопрос вернул Скэнлона к прежним заботам. Он горько усмехнулся.
— Нет, пока нет. Просто я думал, что где-нибудь не в порядке изоляция или контакты и что машина только поэтому не работает. Но ничего такого нет… значит, я в чем-то ошибся.
— Можно мне посмотреть уравнения?
Макс тщательно проглядывал листки один за другим и откладывал их в сторону.
— Для меня это, пожалуй, чересчур сложно.
Изобретатель слабо улыбнулся.
— Меня это не удивляет, Макс. — Он окинул взглядом замусоренную мастерскую, все сильнее раздражаясь. Почему эта штука не работает? Он резко поднялся и схватил свою куртку. — Я пойду пройдусь, Макс.
Вернулся он такой голодный, что не в силах был думать ни о чем другом, и не сразу обратил внимание на доносившиеся из лаборатории звуки. Но затем услышал все-таки гудение, которое, стихнув на миг, снова возобновилось, но почти сразу было заглушено пронзительным треском. В следующую минуту смолк и треск.
Скэнлон рывком распахнул дверь в лабораторию — и на миг ошеломленно застыл. Лишь понемногу дошло до него, что его прежняя машина опять собрана, но собрана настолько необычно, что даже его опытный глаз не мог уразуметь, как стыкуются отдельные части.
В первый момент он лишь с недоумением подумал, что это сон или розыгрыш, но потом в другом конце комнаты промелькнул над верстаком серебряный хохол — и все стало ясно.
— Макс! — заорал Скэнлон в бешенстве.
Этот идиот мальчишка из любопытства затеял нелепые и опасные опыты.
Макс обратил к опекуну бледное лицо, которое тут же стало заливаться краской, и неохотно приблизился.
— Что ты наделал? — сердито глядя на него, закричал Скэнлон. — Ты хоть понимаешь, из чего соорудил себе игрушку? Эта штука в один миг может превратить тебя в покойника.
— Извините, мистер Скэнлон. Я заметил, что в ваших уравнениях, — он вытащил два листка и указал пальцем место, — это выражение, определяющее искривление пространства, всегда строится, исходя из функции х2 плюс у2 плюс z2 — Поскольку поля, как мне кажется, всюду постоянны, дело должно идти о сферическом уравнении.
Скэнлон кивнул.
— Я в курсе, но к проблеме это не имеет никакого отношения.
— Ну, мне подумалось, что это потребует для создания поля определенных условий. Вот я и выпрямил все искривления и уже затем создал новые, сферические.
Изобретатель смотрел на него с открытым ртом. Теперь странная конструкция установки становилась понятной.
— Она работает? — спросил он.
— Я не совсем уверен. Отдельные части не были рассчитаны на подобный монтаж, так что в лучшем случае это выполнено лишь в очень грубом приближении.
— Но работает ли она? Да замкни же, черт возьми, цепь! — Скэнлон уже сгорал от нетерпения.
— Хорошо, отойдите. Я понижу мощность в десять раз, чтобы по возможности уменьшить опасность.
Он медленно включил рубильник, и в ту же секунду в центре камеры возник пылающий бело-голубой шар. Чувствуя, как у него подгибаются колени, Скэнлон опустился на стул, устремив на взволнованного твини взгляд, в котором были почтительность, благоговение и еще нечто — страх. До сих пор ему не приходило в голову, что твини не землянин и не марсианин, а что-то среднее, но совсем новое. Только теперь он по-настоящему заметил эту разницу, которая заключалась не в сравнительно небольшом физическом отличии, а в огромном, неизмеримом превосходстве ума.
— Атомная энергия! — выдохнул он хрипло. — И открыта она мальчишкой, которому не исполнилось еще и двадцати лет.
Оба — опекун и подопечный — притихли, почти подавленные грандиозностью сделанного ими открытия.
И в этот момент эра электричества завершилась.
С того знаменательного дня многое изменилось. Во-первых, Скэнлон был теперь всемирно известным и всемирно любимым ученым, и было бы странно, если бы он не гордился этим. Во-вторых, что, конечно, не менее важно, атомная энергия преобразила весь мир.
Контроль за использованием атомной энергии осуществляла коалиция мировых держав, сумевшая на деле доказать неисчерпаемые возможности этой великой силы, обращенной на пользу человечеству.
Претерпели революционные изменения межпланетные путешествия. Полеты на Марс и Венеру превратились в «детские прогулки» и затраты на них уменьшились в три раза. Делом ближайшего будущего стали полеты к внешним планетам.
Скэнлон уселся поглубже в кресло и снова задумался о единственной ложке дегтя, портившей эту чудесную бочку меда. Макс отказался от всех почестей, бурно и горячо воспротивился упоминанию своего имени в связи с этим открытием, и Скэнлон вынужден был ограничиться туманной ссылкой на «одаренного помощника», но до сих пор не мог простить себе такой вопиющей несправедливости и сам казался себе порядочной скотиной.
Резкий хлопок оторвал его от этих мыслей, и он с удивлением оглянулся.
— Хэлло! В чем дело?
Макс отшвырнул книгу и встал, по-детски надув губы.
— Я чувствую себя одиноким, вот и все.
Лицо Скэнлона вытянулось; он мягко, с виноватым видом сказал:
— Да, Макс, конечно. Мне жаль тебя, но обстоятельства… обстоятельства… они…
Макс опомнился и с нежностью обхватил плечи опекуна.
— Я не в том смысле… Просто… ну, не знаю, как сказать… просто… хочется иногда, чтобы рядом был кто-то такого же возраста… вообще такой же.
Бьюла подняла голову и пристально посмотрела на молодого человека, но ничего не сказала.
— Ты прав, сынок, — согласился Скэнлон. — Я тебя понимаю. Человеку необходим друг, товарищ.
Макс открыл рот, собираясь что-то сказать, но вдруг без всякой видимой причины покраснел и только тихо буркнул:
— Я веду себя глупо! — С этими словами он поспешно вышел из комнаты, громко хлопнув дверью.
Экономка отложила вязание и вскинула на Скэнлона скучающий взгляд.
— Боже мой! Можно подумать, что ты сам никогда не был двадцатилетним, Джефферсон. Или ты и впрямь думаешь, что ему не хватает товарища?
Скэнлон с неподдельным ужасом глядел на нее.
— Ты серьезно, Бьюла? Ты предлагаешь мне отправиться искать девушку для Макса? Да я… да я вообще не разбираюсь в женщинах, не говоря уже о твини.
— Не говори глупостей, Джефферсон. Кроме волос, твини ничем от нас не отличается. Я вполне доверяю твоему вкусу.
— Нет! Ни за что! Более сумасбродной идеи…
— Джефферсон, ты его опекун. Это твой долг перед ним.
— Вот насчет долга ты права, права даже больше, чем представляешь, — Он вздохнул. — Что ж, придется взяться за дела.
Скэнлон нерешительно переминался с ноги на ногу под испытующим взглядом кислолицей чиновницы, восседавшей под табличкой, на которой крупными буквами значилось: «Мисс Мартин. Управляющая».
— Садитесь, сэр, — неприветливо сказала она. — Что вам угодно?
— Я пришел узнать, — речь его была тщательно отрепетирована, но произносил он ее запинаясь, — нет ли у вас тви… я хочу сказать, марсианских полукровок. Это…
— У нас их три, — прервала его управляющая.
— А женского пола? — нетерпеливо спросил Скэнлон.
— Все женского пола. — Она смотрела на него осуждающе и с подозрением.
— О, хорошо. Я хотел бы взглянуть на них. Эго…
Мисс Мартин не сводила с него холодных глаз.
— Прошу прощения, но я желала бы прежде всего знать, намерены ли вы удочерить полукровку.
— Именно так, если она мне подойдет. Неужели это так необычно?
— Весьма, — последовал ответ. — Вы понимаете, что в каждом таком случае мы должны сначала самым тщательнейшим образом проверить общественное и материальное положение семьи. По мнению правительства, этим созданиям лучше находиться под надзором государства, и оформление опеки — дело сложное.
— Знаю, мадам, знаю. Я уже сталкивался с этой процедурой пятнадцать месяцев назад. Думаю, что смогу представить вам удовлетворительный отчет о моем общественном и материальном положении. Меня зовут Джефферсон Скэнлон…
— Джефферсон Скэнлон! — почти взвизгнула она.
Если ее прежняя надменность угнетала Скэнлона, то от ее
теперешних неумеренных восторгов он и вовсе не знал куда деваться. Непрестанно утирая со лба пот, он что-то бормотал в ответ на ее бесконечные вопросы и чувствовал уже, что этот дракон в юбке сейчас обратит его в бегство. Но вот наконец его мучения были прекращены появлением служанки с тремя твини.
Скэнлон оглядел их с интересом и неожиданным удовольствием. Две были совсем еще девочки лет по десять, но третья, девушка примерно восемнадцати лет, похоже, удовлетворяла всем требованиям. Она была тоненькой, гибкой, необычайно грациозной, и даже в выжидательной позе, в которой она застыла перед управляющей, чувствовалось изящество. Убежденный холостяк, «человек без эмоций», каким он себя считал, Скэнлон не мог все же удержаться от одобрительного кивка.
Лицо девушки, несомненно, подходило под определение Бьюлы как «миловидное», а темно-синим, сейчас смущенно потупленным глазам Скэнлон был склонен придавать особое значение.
Даже ее странные волосы были прекрасны. Они не торчали таким непомерно высоким хохлом, как у Макса, и в их нежной белизне как будто отражался свет солнца.
Две девочки, стоя по бокам от нее, уцепились за ее юбку и глядели на взрослых со всевозрастающим испугом.
Самообладание изменило девушке, и она порывисто прижала к себе обеих девочек.
— Я не хочу покидать их, сэр! — Она нежно поцеловала малышек. — Не плачьте, мои маленькие. Я вас не брошу. Меня не заберут отсюда.
Скэнлон тяжело сглотнул и, поспешно выхватив носовой платок, начал сморкаться. Мисс Мартин всем своим видом выразила презрительное неодобрение.
— Не обращайте внимания на эти глупости, мистер Скэнлон. Полагаю, завтра к полудню я смогу приготовить бумаги.
— На всех троих, — был резкий ответ.
— Как на всех троих? Вы серьезно?
— Разумеется. Я ведь вправе это сделать? — рявкнул он.
— О, конечно, но…
Скэнлон, не слушая дальше, быстро исчез, оставив мисс Мартин в полной растерянности, а Мэдлин и девочек вне себя от счастья.
Изумление Бьюлы, когда в аэропорту перед ней вместо одной твини предстали сразу три, не поддавалось описанию. Но в целом этот сюрприз оказался приятным, так как маленькие Роз и Бланш мгновенно покорили сердце старой экономки. Почувствовав на своих морщинистых щеках их горячие и влажные поцелуи, она окончательно растаяла.
Мэдлин привела ее в полный восторг, и она тихонько шепнула Скэнлону, что он, оказывается, совсем неплохо разбирается в таких вопросах.
Затем с приближением раннего зимнего утра Бьюла вдруг обратилась к Мэдлин с просьбой:
— Не поможешь ли мне приготовить мужчинам еду?
— Мужчинам? — растерялась Мэдлин. — Значит, здесь есть еще кто-то, кроме мистера Скэнлона?
Бьюла, сразу поняв, что ее волнует, прибавила мягче:
— Не беспокойся, дорогая. Ему будет приятно узнать, что ты твини. Вот увидишь, он будет рад с тобой познакомиться.
Впрочем, слово «рад» ни в малейшей степени не отражало чувств, охвативших Макса при первом взгляде на Мэдлин.
— Как поживаете… Очень рад познакомиться, — вытаращив глаза, пробормотал Макс.
Роз и Бланш весело приветствовали его, но Мэдлин только на миг оторвала взгляд от тарелки.
Ужин прошел в полном молчании. Макс, весь день жаловавшийся на зверский голод, так и не дотронулся до еды, а Мэдлин рассеянно водила вилкой по тарелке. Скэнлон и Быола украдкой, с хитрецой поглядывали друг на друга.
После трапезы Скэнлон незаметно скрылся, справедливо решив, что такое дело лучше предоставить женщине. И когда Бьюла несколько часов спустя зашла к нему, он убедился, что поступил правильно.
— Лед сломан, — радостно сообщила она. — В данный момент они рассказывают друг другу о себе, и понимание между ними полное. Правда, они все еще друг друга побаиваются и сидят в противоположных углах, но это пройдет, и, думаю, довольно скоро.
— Славная пара, а, Бьюла?
— В жизни не видела лучшей. А Роз и Бланш — ангелочки. Я только что уложила их спать. — После некоторой паузы она продолжала: — Один-единственный раз ты был прав, а я ошиблась — это когда ты против моей воли привел к нам Макса… Но один такой случай стоит всех остальных. Ты достойный сын своей милой матушки, Джефферсон.
— Я хотел бы сделать счастливыми всех твини на земле. И это ведь совсем просто. Если бы с ними обращались как с людьми, а не как с потенциальными преступниками, если бы им позволили иметь свои дома и жить по своему вкусу…
— Ну а почему бы тебе этого не сделать?
Скэнлон серьезно посмотрел на нее.
— Я к тому и веду. — Голос его понизился до задумчивого шепота. — Подумать только. Город твини, их собственный город, со своими административными органами, своими школами, своими общественными предприятиями. Отдельный мирок внутри большого мира и такой, где каждый твини будет чувствовать себя человеком, а не ублюдком, на которого свысока смотрят все «чистокровные».
Он неторопливо набил свою трубку.
— Мир в неоплатном долгу перед одним-единственным твини… и я тоже в долгу перед ним. Я это сделаю. Я построю Твин-таун.
Эту ночь он провел без сна. Звезды совершили положенный им пуп», потускнели и наконец погасли. Небо стало сереть, настал рассвет, а Скэнлон все сидел неподвижно, думал, планировал.
С легким сердцем встретил Джефферсон свое восьмидесятилетие. Походка его утратила пружинистость, спина сгорбилась, но могучее здоровье не изменило ему, а под копной волос, теперь таких же белых, как у твини, сохранился по-прежнему живой ум.
Счастливый человек не старится, а последние сорок лег Скэнлон наблюдал за ростом Твин-тауна и был счастлив.
Сейчас он смотрел из своего окна на эту жемчужину с населением чуть больше тысячи и с тремястами квадратных миль плодородной земли Огайо.
Стройные и прочные дома, широкие чистые улицы, парки, театры, школы, магазины — образцовый город, созданный коллективным трудом с приложением ума и таланта.
Он услышал, как отворилась дверь, и, не оборачиваясь, узнал легкие шаги.
— Ты, Мэдлин?
— Да, отец. — В Твин-тауне каждый житель называл его только так. — Макс и мистер Джонсон вернулись.
— Это хорошо. — Он ласково поглядел на нее. — Как вырос у нас на глазах Твин-таун.
Мэдлин со вздохом кивнула.
— Не вздыхай, дорогая. Мы прожили эти годы ж зря. Жаль только, что Бьюла не может порадоваться вместе с нами. — Он погрустнел, вспомнив старую экономку, умершую четверть века назад.
— Сегодня не надо печалиться, — теперь уже Мэдлин успокаивала его. — Вот и мистер Джонсон. Вспомните: сегодня сороковая годовщина города — день радости, а не печали.
Чарльз Б. Джонсон был, что называется, человеком практичным. Под этим подразумевались ум, дальновидность, относительное понимание научных проблем, но с непременным обращением этих положительных качеств только себе на пользу. А потому мистер Джонсон серьезно занялся политикой и первым был назначен в недавно созданный правительственный комитет по вопросам науки и техники.
И эту свою новую деятельность он начал с визита к величайшему ученому и изобретателю мира Джефферсону Скэнлону, который и ныне, в столь преклонном возрасте, не имел себе равных по количеству ежегодно предоставляемых в распоряжение правительства важных изобретений. Твин-таун явился для Джонсона в значительной мере сюрпризом. До сих пор в мире имелось лишь весьма смутное представление об этом городе, на него смотрели как на своего рода хобби старого изобретателя, как на безобидную эксцентричность. Сейчас Джонсону почудилось нечто зловещее в этом слишком хорошо исполненном проекте.
Однако, войдя в сопровождении Макса к Скэнлону, он сумел придать своему лицу выражение самой искренней доброжелательности.
— А, Джонсон, — приветствовал его Скэнлон, — вы уже вернулись. Ну что вы обо всем этом думаете?
— Это поразительно… Это просто чудо!
— Рад слышать, — с довольным смешком отозвался Скэнлон. — У нас тысяча сто пятьдесят четыре жителя, город растет с каждым днем. Вы видели, каких успехов мы достигли, но это ничто в сравнении с нашими планами, которые будут осуществляться и после моей смерти. Впрочем, кое-чего я хотел бы добиться при жизни, и вот тут мне нужна ваша помощь.
— Что же это такое? — осторожно осведомился секретарь комитета по вопросам науки и техники.
— Только одно: чтобы эти так долго унижаемые твини были уравнены в правах с землянами и марсианами — в правах политических, гражданских, экономических, общественных.
Джонсон заколебался.
— Эго будет затруднительно. Существует немало вполне понятных предрассудков, и пока мы не убедим жителей Земли, что твини заслуживают равенства… — Он с сомнением покачал головой.
— Заслуживают равенства?! — горячо воскликнул Скэнлон. — Да они заслуживают большего. Мои требования очень скромны.
При этих словах Макс, тихо сидевший в углу, поднял голову и выразительно посмотрел на Скэнлона, но тот продолжал:
— Вы не представляете, каковы эти твини в действительности. Они вобрали все лучшее, что есть на Земле и на Марсе. Они обладают трезвой, аналитической рассудительностью марсиан в сочетании с живой эмоциональностью и безудержной энергией землян. Интеллектом они превосходят нас с вами, да, любой из них! Я же прошу только равноправия.
— В своем усердии вы, пожалуй, преувеличиваете, мой дорогой Скэнлон, — снисходительно улыбнулся Джонсон.
— Ничего подобного. Почему, как вы думаете, я сделал столько ценных открытий? Почему я сумел несколько лет назад найти способ преодоления силы тяжести? Вы полагаете, мне удалось бы все это без моих помощников? Посмотрите на Макса. — Макс опустил глаза под пристальным взглядом правительственного чиновника. — Это ему принадлежит последний, завершающий штрих в открытии атомной энергии.
Скэнлон так распалился, что отбросил всякую сдержанность:
— Спросите профессора Уайтсана из Стэнфорда, и он вам скажет. Он мировой авторитет в психологии, он знает, о чем говорит. Он изучал твини… За ними будущее, и они заслуживают равноправия!
— Да, вероятно… несомненно. — В глазах Джонсона появился странный блеск, губы тронула кривая улыбка. — Это чрезвычайно важно, Скэнлон. Я займусь этим сейчас же. В буквальном смысле, сию минуту. Я ухожу немедленно, чтобы попасть на стратокар, вылетающий в два десять.
Сразу после его ухода Макс подошел к Скэнлону.
— Мне надо показать вам кое-что, отец, — выпалил он без всякого предисловия. — Такое, о чем вы до сих пор не знали.
Скэнлон с изумлением посмотрел на него.
— О чем ты говоришь?
— Пойдемте, отец, прошу вас. Я вам все объясню. — Он был почти пугающе серьезен.
В дверях они столкнулись с Мэдлин, которая по знаку Макса сразу все поняла, и лицо ее опечалилось.
В полном молчании все трое направились к роккокару. Он вскоре опустился на лесной лужайке у подножия холма. Высокий, крепко сложенный твини подскочил к ним и вздрогнул, увидев Скэнлона.
— Добрый день, отец, — прошептал он, вопросительно глянув на Макса.
— Добрый день, Эммануэль, — рассеянно отозвался Скэнлон. Он вдруг увидел, что стоит перед умело закамуфлированным входом, ведущим внутрь холма.
Именно туда и повел его за собой Макс. Пройдя сотню футов, они попали в громадную искусственную пещеру. Скэнлон застыл, восхищенный: перед ним были три гигантских корабля, великолепно сконструированных и, как он сразу заметил, снабженных новейшими атомными двигателями.
— Простите, отец, — сказал Макс, — что они сделаны без вашего ведома. Это единственный случай в истории Твин-тауна.
Скэнлон почти не слушал его, целиком поглощенный изумительным зрелищем. Макс продолжал:
— В центре — флагман «Джефферсон Скэнлон», справа — «Бьюла Гудкин», слева — «Мэдлин».
— Но что все это значит? — Скэнлон вышел из своего оцепенения. — И почему такая таинственность?
— Уже пять лет, как эти корабли, заправленные топливом и провизией, стоят здесь, готовые в любую минуту к старту. Этой ночью мы подорвем холм и возьмем курс на Венеру. Мы до сих пор молчали, чтобы раньше времени не тревожить вас. Нам давно было ясно, что когда-нибудь это случится, но мы думали, — голос его стал тише, — может быть, нам удастся еще протянуть и беда грянет, когда вас уже не будет с нами…
— Да объясни же толком! — не выдержал Скэнлон. — Я хочу знать все. И почему именно сейчас, когда я твердо рассчитываю добиться для вас равноправия, вы решаете улететь?
— В том-то и дело, — хмуро ответил Макс. — После вашего разговора с Джонсоном нам нельзя здесь оставаться. Пока и земляне и марсиане презирали нас, но терпели. А вы заявили Джонсону, что мы выше других, что за нами будущее. Вот теперь нас возненавидят по-настоящему. Ни о какой терпимости не может быть больше и речи, поверьте мне. Нам надо исчезнуть, прежде чем грянет буря.
Глаза старого изобретателя расширились: он уже видел, что Макс прав.
— Понимаю. Я сейчас же свяжусь с Джонсоном. Может быть, эту страшную ошибку удастся еще исправить. — Он в отчаянии хлопнул себя по лбу.
— О, Макс, — со слезами на глазах вмешалась в разговор Мэдлин, — почему ты не скажешь главного? Мы хотим, отец, чтобы вы полетели с нами. Венера так мало заселена, что мы неопределенно долгое время будем там в полной безопасности.
Она умолкла, встревоженная тем, как сразу вытянулось и постарело лицо Скэнлона.
— Нет, — совсем тихо произнес он, — нет! Мое место здесь, среди мне подобных. А вы, дети мои, летите. Когда-нибудь ваши потомки займут ведущее место в Солнечной системе. Но я… я останусь на Земле.
Скэнлон брел по опустевшим улицам Твин-тауна, стараясь побороть свою тоску. Это было нелегко. Вчера он праздновал сорокалетие со дня основания города и радовался его процветанию. Сегодня город умер, остался лишь его призрак.
И все-таки Скэнлон испытывал странное чувство. Пусть его мечта рухнула, но за ней ведь открылась другая, еще более прекрасная мечта. Он вырастил из подкидышей поколение людей будущего, представителей новой цивилизации, и его имя останется в истории.
Атомная энергия, преодоление силы тяжести — все отступало перед этой его заслугой, перед таким подарком, сделанным им Солнечной системе.
Очевидно, думал он, это и есть чувство, которое должен испытывать творец мироздания.
перевод Т. ГинзбурТвини на Венере
Влажная сонная атмосфера всколыхнулась и с воем уступила насилию. Обширное плато трижды содрогнулось, когда массивные яйцевидные снаряды, пришедшие из глубокого космоса, соприкоснулись с ним. Грохот посадки, отразившись от гор, вздымавшихся на одном краю плато, эхом докатился до буйных зарослей на другом; и снова все погрузилось в молчание.
Один за другим с лязгом открылись три люка; нерешительно, поодиночке стали появляться человеческие фигуры. Сперва настороженно, потом с нетерпением и ликованием люди делали первые шаги в новом мире, пока пространство вокруг кораблей не оказалось заполнено их толпой.
Тысяча пар глаз жадно всматривались в окружающее, тысяча ртов возбужденно переговаривались. И тысяча белоснежных хохолков футовой высоты грациозно зашевелилась на ветру чужого мира.
Твини высадились на Венере.
Макс Скэнлон устало вздохнул:
— Вот мы и добрались! — Он отвернулся от иллюминатора и тяжело опустился в кресло. — Они счастливы как дети… и я не могу осуждать их за это. Мы вступили в новый мир — мир, который целиком принадлежит нам одним — и это великое событие. Но это только начало, и впереди у нас трудные дни. Я почти испуган. Этот проект так хорошо начался, но как же тяжело будет довести его до конца…
Ласковая рука легко коснулась его плеча, и он крепко сжал ее, улыбнувшись голубым глазам, вопросительно и нежно смотревшим на него.
— Скажи, Мэдлин, а ты не боишься?
— Вот уж нет! — восторженность ее тут же сменилась печалью. — Вот только… если бы отец был с нами! Ты… Ты же знаешь, он значит для нас гораздо больше, чем для остальных. Мы… Мы были первыми, кого он взял под свое крыло, помнишь?
Они смолкли, погрузясь в воспоминания. Макс вздохнул:
— Помню его в тот день, сорок лет назад… поношенный костюм, трубка, все прочее. Он пригласил меня в гости. Меня, презренного полукровку. И… и он нашел мне тебя, Мэдлин!
— Я помню, — на глазах у нее навернулись слезы. — Но ведь он остался с нами, Макс, и всегда с нами будет… здесь, и вот здесь.
Ее рука прикоснулась сперва к собственной груди, потом к груди Макса.
— Эй, папа, лови ее, лови!
Макс обернулся на голос старшего сына как раз вовремя, чтоб успеть подхватить стремительно несшийся к нему комочек трепыхающихся рук и ног. Он поставил девчушку перед собой и с серьезной миной спросил:
— Отдать тебя назад папе, Элиза? Он тебя зовет.
Малышка восторженно затопотала ножками.
— Нет, нет! Я хочу с тобой, дедуля! Я хочу, чтобы ты посадил меня на плечи, а потом и я, и ты, и бабуля пошли бы гулять по этим красивым местам!
Макс повернулся к сыну, суровым жестом указывая на дверь:
— Убирайся быстрее, никудышный отец. Пусть старый дед расплачивается за тебя и на этот раз.
Артур улыбнулся.
— Только внимательно присматривай за ней, ради всего святого. Едва она выбралась из ракеты, нам с женой пришлось устроить на нее настоящую охоту. Мы держали ее за воротник, чтобы не убежала в лес. Разве не так, Элиза?
Услышав это, Элиза неожиданно вспомнила о давней обиде.
— Дедуля, скажи ему, что мне хочется поглядеть на эти маленькие деревца. А то он меня не пускает, — она выскользнула из рук Макса и побежала к иллюминатору. — Ты только посмотри туда, дедуля, только посмотри! И там деревья, и там! И совсем снаружи не темно. Мне так не нравится, когда снаружи темно, а тебе?
Макс подался вперед и ласково взъерошил мягкий белый хохолок девчушки. — Да, Элиза, мне тоже не нравится, когда там темно. Но и тогда была не совсем полная тьма, а отныне никакой тьмы вообще не будет. А теперь лети к бабушке. Она специально для тебя придумает какое-нибудь пирожное. Так что вперед — и бегом!
Он с улыбкой проследил за удаляющимися фигурами жены и внучки, но когда он повернулся к сыну, глаза его вновь стали серьезными.
— Итак, Артур?
— Да, папа!
— Нельзя терять время, сынок. Мы должны немедленно приступить к строительству. Подземному строительству.
— Подземному? — Артур отшатнулся, и на лице его появилось испуганное выражение.
— Раньше я молчал, но это вопрос жизни. Любой ценой мы должны исчезнуть из поля зрения Системы. На Венере тоже есть земляне... чистокровные. Правда, их немного, но от этого они не изменились. И они не должны нас обнаружить — по крайней мере, до тех пор, пока мы не подготовимся ко всему, что может нас ожидать. А на это потребуются годы.
— Но подземные жилища, отец! Жить, как кроты, вдали от воздуха и света! Нет, мне это не по душе.
— Какая чушь! Не стоит излишне драматизировать. Жить мы будем на поверхности. Но энергостанции, запасы пищи и воды, лаборатории — все должно находится под землей и быть неуязвимым. — Старый твини раздраженно отмахнулся от этой темы. — Забудь об этом до поры, до времени. Я хочу поговорить кое о чем другом, о чем мы уже однажды спорили.
Глаза Артура застыли, уставившись в потолок. Макс поднялся и опустил руку на мускулистые плечи сына.
— Мне уже шестьдесят, Артур. И сколько я еще протяну, не знаю. В любом случае, лучшие годы уже прошли, так что будет разумнее, если я передам руководство более молодому, более энергичному человеку.
— Все это сентиментальная болтовня, отец, и ты это знаешь. Среди нас нет никого, достойного припасть к твоим сандалиям, и никто даже секунды не станет слушать никаких планов о назначении преемника, пока ты жив.
— Я не собираюсь просить их слушать меня. Это ни к чему… новым вождем станешь ты.
Молодой человек отрицательно покачал головой.
— Ты не можешь заставить меня сделать это против воли.
Макс досадливо улыбнулся.
— Боюсь, ты увиливаешь от ответственности, сынок. И обрекаешь своего бедного старого отца на тяжкий труд, на ношу, которую он со своими скудными силами уже не в силах нести.
— Отец! — последовало неуверенное возражение. — Но ведь это же не так. Ты же так не думаешь. Ты…
— Попробуй опровергнуть. Посмотри-ка на это следующим образом. Нашей расе необходимо активное руководство, обеспечить которое я не способен. Я всегда буду рядом, чтобы дать совет, — пока я жив; но с этих пор инициатива должна исходить от тебя.
Артур нахмурился, с трудом подбирая слова:
— Хорошо, раз ты так ставишь вопрос. Я беру на себя должность фельдмаршала. Но помни, что верховный главнокомандующий — ты.
— Отлично! Теперь давай-ка отметим это событие, — Макс открыл шкаф, достал из него коробку и украдкой извлек из нее пару сигарет. Потом вздохнул. — Запасы табака почти исчерпаны, а нового не будет, пока мы не вырастим свой, но… покурим в честь нового руководителя.
Голубой дым клубами поплыл вверх. Сквозь его завесу Макс взглянул на сына.
— А где Генри?
— Понятия не имею, — усмехнулся Артур. — Я не видел его с момента посадки. Но зато я могу сказать, с кем он.
— Мне это тоже известно.
— Пока светит солнце, с детьми всегда будут хлопоты. Думаю, пройдет не так уж много лет, отец, и ты сможешь баловать вторую партию внучат.
— Если они будут такими же славными, как первые трое, то я согласен. Надеюсь дожить до этого дня.
Отец и сын нежно улыбнулись друг другу и молча прислушались к приглушенным звукам счастливого смеха сотен твини, доносившимся снаружи.
* * *
Генри Скэнлон склонил голову набок и поднял руку, требуя тишины.
— Слышишь звук бегущих волн, Айрин?
Девушка, стоявшая рядом, кивнула:
— Где-то там.
— Пойдем посмотрим. В той стороне перед самой посадкой блеснула река. Может, это она и есть.
— Наверное, но нам следовало бы вернуться назад, к кораблям.
— Чего ради? — Генри остановился, удивленно взглянув на нее. — Мне казалось, ты будешь рада размять ноги после многих недель, проведенных на борту.
— Ну, там может быть опасно.
— Только не здесь, на возвышенностях, Айрин. Венерианские плато — это, практически вторая Земля. Сама можешь убедиться, что это лес, а не джунгли. Даже если бы мы находились в прибрежных районах… — он резко замолчал, точно вспомнив о чем-то. — К тому же, что тебе бояться? — И он похлопал по висящему у бедра тониту.
Айрин подавила невольную улыбку и бросила лукавый взгляд на своего хвастливого спутника.
— Я прекрасно знаю, что ты со мной. Но в том-то и опасность
— Очень мило… — Генри нахмурился. — И это награда за мое хорошее поведение…
Он побрел дальше, печально размышляя о чем-то своем, потом жестом указал на деревья:
— Они напомнили мне, что завтра день рождения Дафны. Я обещал ей подарок.
— Подари ей корсет, — последовал быстрый ответ. — Этой толстухе!
— Кто толстуха? Дафна? Хм-м… я бы так не сказал, — он тщательно обдумывал ответ, испытующе поглядывая на спутницу. — Нет, я бы скорее определил ее… как бы точнее выразится… как "очаровательную пышку". От нее так и пышет уютом.
— Она толстуха, — не столько сказала, сколько прошипела Айрин, и ее личико исказилось от ревности, — и глаза у нее зеленые!
Девушка проскользнула вперед и пошла, вздернув подбородок, прекрасно сознавая, что фигура у нее грациозная.
Генри ускорил шаг и догнал ее.
— Я, конечно, всегда предпочту тощую девицу.
Айрин повернулась к нему, стиснув маленькие кулачки.
— Я не тощая, ясно тебе, нелепая, глупая обезьяна!
— Но, Айрин, почему ты решила, что это я про тебя? — голос его звучал серьезно, но глаза смеялись.
Девушка покраснела до ушей и отвернулась, нижняя губа у нее подрагивала. В глазах Генри мелькнуло беспокойство. Он осторожно погладил ее по плечу.
— Сердишься, Айрин?
Улыбка, внезапно озарившая лицо девушки, была словно бриллиант в оправе серебристого сияния ее волос.
— Нет, — просто ответила она.
Их глаза встретились, и на мгновение Генри растерялся... А когда понял, что произошло, было уже поздно; неожиданный поворот, мягкий смешок — и Айрин вновь обрела свободу.
Дойдя до просвета меж деревьями, она воскликнула:
— Смотри, озеро!
И бросилась вперед. Генри проводил ее хмурым взглядом, бормоча что-то себе под нос, потом помчался следом.
Пейзаж походил на земной. Поток, проложивший свой извилистый путь между группами тонкоствольных деревьев, впадал в спокойное озеро, достигавшее несколько миль в ширину. Задумчивое спокойствие лишь подчеркивалось приглушенным хлопаньем крыльев летучих ящеров, гнездившихся в кронах.
Двое твини — юноша и девушка — застыли на краю леса и упивались красотой открывшегося зрелища.
Неподалеку послышался негромкий всплеск. Айрин вздрогнула от неожиданности.
— Что случилось?
— Н-ничего. По-моему, что-то движется в воде.
— Ну ты и выдумщица, Айрин!
— Нет, я что-то видела. Оно появилось и… о, господи, Генри, не сжимай меня так сильно…
Она чуть не упала, когда Генри неожиданно оттолкнул ее прочь и схватился за тонит. И тут же прямо перед ними из воды высунулась мокрая зеленая голова и уставилась на них широко расставленными, удивленно выпученными глазами. Широкий безгубый рот раскрылся и быстро закрылся, не издав ни звука.
* * *
Сцепив руки на затылке Макс Скэнлон задумчиво обозревал суровые предгорья.
— Значит, вот что ты надумал?
— Именно, отец, — с энтузиазмом настаивал Артур. — Если мы укроемся под этими толщами гранита, никто нас не сыщет. С нашими неограниченными запасами энергии потребуется не больше двух месяцев, чтобы выплавить просторную пещеру.
— Хм-м! Это потребует осторожности!
— Все предусмотрено!
— Но ведь горные районы — районы землетрясений.
— Мы изготовим достаточное количество статис-излучателей, чтобы утихомирить недра Венеры.
— Статис-излучатели поглощают прорву энергии, любая авария на энергостанции может означать наш конец.
— Мы построим пять автономных энергоцентров — для пущей надежности. Все пять одновременно выйти из строя не могут.
Старый твин улыбнулся.
— Отлично, сынок. Вижу, ты взялся за работу, засучив рукава. Так держать! Пусть будет, как ты решил — но помни, за все отвечать тебе.
— Порядок! А теперь вернемся к кораблям.
Они пустились в обратный путь, осторожно выбирая дорогу на каменистом склоне.
— Знаешь, Артур, — заметил Макс, неожиданно остановившись. — Я все размышляю об этих статис-лучах…
— Да? — Артур подал ему руку, помогая спускаться.
— Мне пришла в голову одна идея, что если сделать их двумерными и изогнуть в пространство? Можно получить великолепную защиту, способную существовать, пока не иссякнет энергия — статис-поле.
— Для этого потребуются четырехмерные лучи, отец… о таких вещах приятно размышлять, но они неосуществимы.
— Ты полагаешь? Тогда послушай…
Но что именно следовало выслушать Артуру, так и осталось невысказанным — по крайней мере, в тот день. Пронзительный крик, раздавшийся впереди, заставил обоих твини поднять головы. Прямо на них несся Генри Скэнлон. За ним еле поспевала Айрин.
— Слушай, пап, я чертовски вовремя встретил тебя. Где ты был?
— Тут неподалеку, сынок. А где ты пропадал?
— А-а, тоже неподалеку. Послушай, пап. Помнишь, ты рассказывал про амфибий, что населяют высокогорные озера Венеры? Так вот мы с Айрин обнаружили целую колонию этих существ.
Айрин остановилась, переводя дыхание и энергично кивая.
— Они такие миленькие, мистер Скэнлон. И все — зеленые. — Она смешно наморщила носик.
Артур обменялся с отцом недоверчивым взглядом и пожал плечами.
— Вы уверены, что видели их? Я ведь помню, Генри, как ты заметил в пространстве метеор, и напугал всех до смерти. А потом выяснилось, что это было твое собственное отражение в стекле иллюминатора.
Генри, болезненно перенеся смешок Айрин, воинственно выпятил челюсть.
— По-моему, Арт, ты напрашиваешься на неприятности. Я уже достаточно взрослый, чтобы тебе их обеспечить.
— Ну-ка успокойтесь оба, — приказал старший Скэнлон. — Артур, ты бы лучше научился уважать хорошие манеры младшего брата. Так вот, Генри, имел в виду, что эти амфибии пугливы, как кролики. Никому еще не удавалось больше, чем мельком их увидеть.
— Пусть так, но мы нашли множество особей. Полагаю, они очарованы Айрин. Никто не может устоять перед ней.
— Уж мы-то знаем, кто не может, — громко рассмеялся Артур.
Генри напрягся, но отец встал между братьями.
— Прекратите-ка. Лучше пойдем и взглянем на этих амфибий.
* * *
— Поразительно, — воскликнул Макс Скэнлон. — Надо же, они дружелюбны, как дети. Ничего не понимаю!
Артур покачал головой.
— Я тоже, отец. За пятьдесят лет ни одному исследователю не удалось даже разглядеть их как следует. А тут их… словно мух.
Генри швырнул камешек в озеро.
— Эй, смотрите, смотрите.
Камешек описал высокую дугу, и не успел он плюхнуться в воду, как шесть зеленых тел разом перекувырнулись и скрылись под водой. Тут же одна из амфибий вынырнула, и камешек упал возле ног Генри.
Теперь амфибии подплыли совсем близко, количество их увеличивалось. Они собрались здесь со всего озера, лупоглазо таращась на твини. Безгубые пасти непрерывно открывались и закрывались в странном нечетком ритме.
— Мне кажется, они разговаривают, мистер Скэнлон, — заявила Айрин.
— Вполне возможно, — задумчиво согласился старый твини. — Их черепные коробки достаточно велики, чтобы вместить значительный мозг. Если их голосовые связки и уши настроены на звуковые колебания более низкие или высокие, чем человеческие, то мы не можем их услышать — это хорошо объясняет их немоту.
— Наверное, они так же деловито обсуждают нас, как и мы их, — заметил Артур.
— Конечно. И удивляются, что это за игра природы, — добавила Айрин.
Генри ничего не сказал. Он осторожно подошел к берегу озера. Группа амфибий неподалеку озабоченно нацелилась на него глазами; одна-две отделились от остальных и уплыли.
Но ближайшая особь осталась на месте. Ее широкий рот плотно сжался, глаза насторожились — но она не шевельнулась.
Генри остановился, заколебавшись, затем протянул вперед руку.
— Привет, Фиб!
"Фиб" уставился на протянутую ладонь. Очень осторожно его рука, с перепонками между пальцев, протянулась вперед и коснулась пальцев твини, тут же резко отдернувшись; пасть фиба заходила от беззвучного возбуждения.
— Острожно, — раздался позади голос Макса. — Так ты отпугнешь его. Их кожа ужасно чувствительна, сухие предметы могут раздражать ее. Обмакни руку в воду.
Генри немедленно последовал совету. Фиб напряг мышцы, готовый пуститься наутек при малейшем неосторожном движении, но все обошлось.
Вновь протянулась рука твини, на этот раз покрытая каплями.
Долго ничего не происходило, словно фибы обсуждали про себя дальнейший ход событий. А затем, после двух неудачных попыток и поспешных отступлений, руки вновь соприкоснулись.
— Ай да Фиб! — произнес Генри и сжал зеленую ладонь.
В первое мгновение лапа ящера, дернулась, стремясь высвободиться, а затем — Генри ощутил сильное ответное пожатие, такое долгое, что рука у него занемела. Очевидно, одобренные примером первого Фиба, его соплеменники подобрались поближе; к твини протянулось множество рук.
Остальные тоже спустились к воде и теперь обменивалась рукопожатиями с амфибиями.
— Вот что странно, — заметила Айрин, — каждый раз, когда я с ними соприкасаюсь, я начинаю думать о волосах.
Макс повернулся к ней.
— О волосах?
— Да, о наших волосах. У меня в голове возникает картинка — длинные белые волосы, поблескивающие на солнце.
Ее рука инстинктивно поднялась к собственным мягким локонам.
— Слушай-ка, — неожиданно вмешался Генри. — Я это тоже подметил. Это появляется у меня только тогда, когда я касаюсь их ладоней.
— А ты, Артур? — поинтересовался Макс.
Артур только кивнул, приподняв брови. Макс улыбнулся и шлепнул кулаком по ладони.
— Ну что ж, примитивный вид телепатии — слишком слабый, чтобы ощущаться без физического контакта, и даже даже тогда пригодный лишь для передачи некоторых простых образов.
— Но почему волосы, отец? — спросил Артур.
— Может быть, наши волосы заинтересовали их в первую очередь. Они никогда не видели ничего подобного и… и… ладно, кто из нас в силах объяснить их психологию?
Он неожиданно присел на корточки и смочил водой свой длинный хохолок. Вода вспенилась, когда фибы, взметнув зеленые тела, придвинулись ближе. Зеленая лапка осторожно скользнула по тугому белому хохолку. Движение сопровождалось взволнованной, хотя и не слышной болтовней. Отпихивая друг друга, стараясь занять место поудобнее, фибы боролись за привилегию прикоснуться к волосам, пока Макса, совсем выдохшегося, не поставили на ноги силой.
— Теперь они, скорее всего, наши друзья на всю жизнь, — заметил он. — Очаровательная и эксцентричная порода животных.
Именно Айрин заметила группу фибов в сотне ярдов от берега. Они спокойно плавали, не делая попыток приблизиться.
— А они почему не плывут сюда? — спросила она.
Она повернулась к ближайшему фибу и ткнула в его сторону пальцем, делая энергичные, но не слишком вразумительные жесты. Однако в ответ получила только недоумевающие взгляды.
— Это делается не так, Айрин, — ласково подсказал Макс. Он протянул руку, пожал лапу одного из фибов и на мгновение неподвижно застыл. Потом разжал руки, фиб скользнул в воду и исчез. Немного погодя бездельничающие фибы неторопливо направились к берегу.
— Как вам это удается? — воскликнула Айрин.
— Телепатия! Я крепко сжал ему лапу и представил в голове картинку; изолированная группа фибов, и длинная рука, протянувшаяся над водой, чтобы коснуться их, — он добродушно улыбнулся. — Они весьма сообразительны, иначе не поняли бы меня так быстро.
— Так это же самки! — воскликнул Артур, задохнувшись от изумления. — И, клянусь всем святым — они кормят детенышей грудью!
Вновь прибывшие отличались большей стройностью и более светлой окраской. Они осторожно приблизились, подталкиваемые самцами посмелее, и застенчиво протянули вперед лапы в знак приветствия.
— Ой-ой, — в восторге воскликнула Айрин. — Вы только посмотрите!
Она присела на корточки и протянула руку к ближайшей самочке. Остальные твини наблюдали за ней в зачарованном молчании. Занервничав, самочка еще теснее прижала к груди маленькое существо.
Но руки Айрин сделали несколько просящих жестов.
— Пожалуйста, пожалуйста. Он такой славненький. Я не сделаю ему больно.
Сомнительно, чтобы мамаша-фибия поняла что-нибудь, но со внезапной решимостью она подняла маленький зеленый комочек и вложила его в ждущие руки.
Айрин тихо взвизгнула от восторга. Крохотные перепончатые ножки беспорядочно болтались, круглые испуганные глазки уставились на нее. Три другие самочки придвинулись поближе и с любопытством наблюдали.
— Ах ты наша драгоценная крошка! Вы только посмотрите, какой у нас маленький славненький ротик! Хочешь подержать его, Генри?
Генри отшатнулся, словно обжегшись.
— Ни за что в жизни! Да я просто уроню его!
— Ты видишь какие-нибудь мысленные изображения, Айрин? — задумчиво спросил Макс.
Айрин задумалась, хмурясь от напряжения.
— Н-нет. Наверное, он еще слишком маленький, чтобы… Ой… да! Он… он, — девушка рассмеялась. — Он хочет есть!
Она вернула малыша матери. Маленький фибик повернул крохотную зеленую головку и еще раз вытаращился на существо, только что державшее его на руках.
— Дружелюбные создания, — произнес Макс, — и сообразительные. Пусть забирают себе реки и озера. Мы довольствуемся сушей и не станем им мешать.
* * *
Одинокий твини стоял на хребте Скэнлона, его полевой бинокль был нацелен на Водораздел, расположенный в десяти милях дальше, на холмах. Минут пять твини не шевелился, словно бдительная статуя, высеченная из того же камня, что и окрестные горы.
Потом бинокль сместился ниже, и лицо твини побледнело. Он поспешил вниз по склону к охраняемому, тщательно замаскированному входу в Венустаун.
Он проскочил мимо охранников, не сказав им ни слова, и спустился на нижние уровни, где кипела работа по расширению пещеры.
Артур Скэнлон поднял голову и с внезапным предчувствием катастрофы махнул рукой, останавливая работу, останавливая работу дезинтеграторов.
— Что случилось, Соррелл?
Твини подался вперед и прошептал на ухо Артуру одно единственное слово.
— Где? — голос Артура прозвучал отрывисто и хрипло.
— По ту сторону хребта. Теперь они двигаются через Водораздел в нашу сторону. Я заметил сверкание металла на солнце и… — он выразительно подбросил бинокль.
— Господь всемогущий! — Артур смущенно потер лоб и повернулся к озадаченно наблюдавшим за ним от пульта управления дезинтегратором твини. — Продолжайте как намечено! Ничего не менять!
Донельзя озабоченный, он поспешно направился к лифту, отдавая короткие приказы:
— Немедленно утроить охрану! Никому, кроме меня и моих помощников, не выходить из пещеры без особого распоряжения. Выслать гонцов, чтобы вернули всех, кто работает снаружи. Воздержаться от излишнего шума!
По главному проходу он направился к резиденции отца.
Макс Скэнлон оторвался от своих расчетов, морщины на лбу медленно разгладились.
— Здравствуй, сын. Что-то случилось? Опять прочные пласты?
— Нет, кое-что похуже, — Артур тщательно прикрыл за собой дверь и произнес, понизив голос: — Земляне!
— Переселенцы?
— Похоже. Соорел сказал, что видел среди них детей и женщин. Их всего несколько сот, есть оборудование для стоянок… и они движутся в нашем направлении.
Макс простонал.
— Вот уж не везет, так не везет. В их распоряжении все обширные земли Венеры, а они выбрали себе именно эту долину. Пойдем, надо взглянуть на них собственными глазами.
* * *
Они перевалили через Водораздел длинной, извилистой колонной. Грубые пионеры, их забитые, изможденные работой жены, беззаботные, малограмотные, скверно воспитанные дети. Приземистые вместительные "венерианские фургоны" неуклюже подскакивали на ухабах.
Вожаки оглядели открывшуюся долину. Один из них заговорил резко, отрывисто, заглатывая слова:
— Почти добрались, Джем. В предгорье можно передохнуть.
Второй неторопливо добавил с тяжелым вздохом:
— Там дальше, пойдут хорошие, урожайные земли. Можно будет заложить фермы. Этот месяц дался нам нелегко, — медленно выговорил он. — Я рад, что все близится к концу!
* * *
А с горного хребта впереди — последнего хребта перед долиной — отец и сын Скэнлоны, незаметные крапинки на таком расстоянии, с тяжелыми сердцами наблюдали за пришельцами.
— Единственное событие, к которому мы не были подготовлены — именно это и случилось!
Артур заговорил неторопливо и спокойно.
— Их немного, и они не вооружены. Мы можем запросто отогнать их отсюда. — И с внезапной яростью произнес: — Венера — наша!
— Да, мы сможем изгнать их. Но они вернутся — уже вооруженные и в гораздо большем количестве. А мы не в состоянии бороться со всей Землей.
Молодой человек в отчаянии прикусил губу:
— Никогда, — твердо сказал Макс, его усталые глаза вспыхнули. — Мы не должны начинать со схватки. Если мы станем убивать, нам нечего ожидать милости от Земли. Так мы ничего не добьемся.
— Но отец, что нам еще остается? Мы вообще не можем рассчитывать на землян. Если нас обнаружат… если они хотя бы заподозрят наше присутствие, то все усилия окажутся напрасными, мы проиграем с самого начала.
— Знаю, знаю.
— Мы уже ничего не можем изменить, — продолжал пылко Артур. — Мы потратили месяцы на строительство Венустауна. Разве можно теперь начинать все заново?
— Нет, — бесстрастно согласился Макс. — Стоит нам попытаться тронуться с места, и нас мигом обнаружат. Мы разве что…
— …Можем затаиться, как кроты, — подхватил Артур, — вот и все. Загнанные ублюдки! Так?
— Можешь к этому относится, как тебе нравится, но мы обязаны спрятаться, Артур. Обязаны затаиться.
— Пока?
— Пока я… или мы… не завершим работу над искривляющимся двухкратным статис-лучом. Снабженные непреодолимой защитой, мы сможем спокойно объявиться. На это могут уйти годы, но может потребуется и одна неделя. Я не знаю.
— И каждый день мы будем трепетать от опасности быть обнаруженными. Каждый день ожидать, что вот-вот вторгнется в наш город орда чистокровных и выкурит нас наружу. Нам придется трястись от страха день за днем, неделю за неделей, месяц за месяцем.
— Но мы с этим справимся, сынок, — губы Макса плотно сжались, глаза стали льдисто-голубыми.
Они медленно двинулись в сторону Венустауна.
* * *
Работы под землей стихли, все внимание было обращено на верхний этаж и на замаскированные выходы. Там снаружи, были воздух, солнце, трава, леса и земляне.
Они обосновались в нескольких милях вверх по реке. Уже появились их примитивные домишки. Начали расчищаться площади под посевы. Размечались первые фермы. Колония организовывалась.
А в недрах Венеры одиннадцать сотен твини оборудовали себе новые жилища и ждали, когда старый Скэнлон доведет до конца свои расчеты.
* * *
Айрин сидела на каменном выступе, глядя перед собой туда, где серый свет свидетельствовал о наличии открытого входа, и предавалась невеселым размышлениям. Ее изящные ножки грациозно покачивались взад-вперед, и сидящий рядом Генри Скэнлон безнадежно старался придать себе вид безмятежного зеваки.
— Знаешь, о чем я подумала, Генри?
— О чем?
— Готова поспорить, что фибы могут нам помочь.
— В чем, Айрин?
— Помочь нам отделаться от землян.
Генри детально обдумал услышанное.
— И что тебя заставляет так думать?
— Ну, они такие умненькие... гораздо умнее, чем мы считали. К тому же их мышление своеобразно. Вместе они что-нибудь сообразят... я это просто чувствую. Тебе этого не понять, Генри, — отмахнулась она.
Генри стерпел.
— Я… я думаю, у тебя появилось что-то вроде неустойчивой связи… ну, силовые волны телепатического рода.
Айрин поглядела вниз с пугающей трехфутовой высоты.
— В твоих словах что-то есть…
Генри усмотрел в ее тоне намек и повел себя соответственно. На минуту воцарилось молчание, а потом Генри в очередной раз предался размышлениям о том, на самом ли деле Айрин охладела к нему. Но прежде, чем юный твини сумел окончательно убедиться в этом, девушка заявила:
— А сказать я хотела, Генри, всего-навсего вот что. Почему бы нам не выбраться наружу и не повидаться с фибами?
— Отец оторвет мне голову, если я что-нибудь такое выкину.
— Это будет довольно забавно.
— Возможно, но неприятно. Мы не можем рисковать; вдруг нас кто-то заметит. — Айрин благоразумно пожала плечами:
— Хорошо, раз ты боишься, не будем больше говорить об этом.
Генри, залившись краской, вскочил. Теперь он оказался на самом краю выступа.
— Кто боится? Когда ты собираешься идти?
— Прямо сейчас, Генри. Сию минуту. — Ее щеки зардели от энтузиазма.
— Отлично! Двинулись!
Он быстрым шагом устремился вперед, увлекая ее за собой... Но тут же ему в голову пришло соображение, заставившее остановиться.
Он свирепо повернулся к Айрин.
— Сейчас я покажу тебе, как я боюсь.
Его руки обхватили ее, и слабый удивленный возглас был эффективно заглушен.
— Господи, — прошептала Айрин, когда снова оказалась в состоянии заговорить. — Какая невероятная грубость!
— Верно. Так я же известный грубиян, — ответил Генри и, чуть помолчав добавил: — А теперь пошли к твоим фибам, и не забудь мне напомнить, когда я стану президентом, чтобы я поставил памятник тому парню, что изобрел поцелуй.
Вверх по прорезанному в скале коридору, мимо охранников, через тщательно замаскированный проход — они выбрались на поверхность.
Дымные костры в южной части горизонта являлись зловещим доказательством присутствия человека. Ни на минуту не переставая об этом думать двое молодых твини проскользнули через лес к озеру фибов.
Возможно, фибы каким-то внутренним чутьем ощутили присутствие друзей — утверждать этого парочка не могла — но стоило твини приблизиться к берегу, как плывущие им навстречу под водой темно-зеленые пятна указали на появление этих созданий.
Голова с широко расставленными, выпученными глазами выскочила наружу, а секундой позже раскачивающиеся лягушачьи морды уже усеяли поверхность озера.
Генри смочил руку и дружелюбно коснулся протянутой ему лапы.
— Привет, фиб.
Огромная пасть распахнулась в беззвучном ответе.
— Спроси его про землян, Генри, — поторопила Айрин.
— Погоди, — Генри нетерпеливо отмахнулся. — На это потребуется время. Постараюсь сделать все наилучшим образом.
На две томительно долгие минуты человек и фиб застыли в неподвижности, вглядываясь друг другу в глаза. Потом фиб резко рванулся в сторону и нырнул; и словно повинуясь неслышимой команде, остальные озерные обитатели также исчезли с поверхности, оставив твини в одиночестве.
Какое-то время Айрин растерянно глядела им вслед.
— Что случилось?
— Не знаю, — Генри пожал плечами. — Я представил себе землянина, и, похоже, фиб знает, про кого я думал. Затем я вообразил землян, воюющих с нами и убивающих нас… В ответ фиб представил множество твини и совсем немного людей — и другое сражение, в котором мы их перебили. Я подхватил его картину и показал новое нашествие землян, только их стало больше, как они приходят орда за ордой, как они убивают нас… И тогда…
Но девушка зажала уши руками.
— Боже мой! Не удивительно, что несчастное создание ничего не поняло. Как еще он не свихнулся окончательно!
— Я старался, как мог, — хмуро ответил Генри. — В конце концов, это была твоя распрекрасная идея.
Айрин лишь фыркнула, ничего не успев ответить, как озеро вновь наполнилось фибами, причем их стало значительно больше.
— Они возвращаются, — негромко произнесла она.
Первый фиб протянул лапу Генри, в то время, как другие столпились вокруг. Наступило долгое молчание. Айрин забеспокоилась.
— Ну? — не выдержала она наконец.
— Помолчи, пожалуйста. Я еще не все понял. Что-то насчет крупных животных — каких-то чудовищ... — его голос оборвался, меж бровей от болезненной сосредоточенности залегла глубокая складка.
Потом он закивал — сперва как бы машинально, затем все энергичнее.
— Я все понял... И это прекрасное решение. С помощью фибов мы можем спасти Венустаун, Айрин, — если ты согласно завтра отправиться со мной в Низины. Надо только взять пару тонитов и пищевые концентраты, а там, если мы двинемся по течению реки, у нас уйдет не больше двух-трех дней в один конец и столько же на обратный путь. Что ты на это скажешь?
Юность не склонна к длительным размышлениям. Колебания Айрин были чистым кокетством.
— Что ж… может быть, мы и не вернемся, но… но я иду… с тобой.
На последжнем слове было сделано едва заметное ударение.
Через десять секунд они уже двигались назад к Венустауну, и Генри предавался размышлениям о том, что, если уж браться за дело с размахом, то не лучше ли будет воздвигнуть сразу два памятника парню, изобретшему поцелуй.
* * *
Мерцающие оранжево-красные языки пламени переливались багровыми отблесками на пышном хохолке Генри, отбрасывали пляшущие тени на его нахмуренное лицо. В Низинах было душно, о костра жара становилась еще мучительнее, но Генри придвинулся к Айрин, спавшей по ту сторону. Обильная фауна венерианских джунглей уважала огонь, и потому костер означал здесь безопасность.
Они находились уже в трех днях пути от плато. Ручей превратился в теплую, неторопливую реку, покрытую вдоль берегов зеленой пеной водорослей. Уютные леса возвышенностей сменились здесь переплетающейся, извивающейся растительностью джунглей. Лесное многоголосье разрослось до мощного крещендо. Воздух становился все теплее и влажнее, почва — болотистой, окружающее — фантастичнее.
Но реальная опасность им пока не грозила — в этом Генри был убежден. Ядовитые формы жизни на Венере были не известны, что же касается толстокожих монстров — повелителей джунглей — то огонь ночью, и близость фибов днем, удерживали их на расстоянии.
Дважды звучал в отдалении разрывающий уши рев центозавра, дважды треск сокрушаемых деревьев заставлял юных твини замирать от ужаса. Но оба раза чудовища уходили прочь.
Теперь шла третья ночь. Фибы уверяли их, что с рассветом можно будет пуститься в обратный путь, и уже одна мысль о комфорте Венустауна доставляла удовольствие. Приключения и переживания — это прекрасно; с каждым часом гордость за Генри все ярче сверкала в глазах Айрин — а глаза у нее изумительные! — Но все же мысли о Венустауне и дружелюбных Возвышенностях были приятны.
Генри перевернулся на живот, уставясь в огонь и размышляя о прожитых им двадцати годах... почти двадцати.
— Ах, черт! — он поранился о жесткую траву. — А ведь пора бы уже подумать о женитьбе...
Взгляд Генри невольно скользнул по фигурке, спящей по другую сторону костра. Словно в ответ, веки Айрин задрожали, в глубине синих глаз мелькнул отблеск пламени.
— Никак не могу заснуть, — пожаловалась она, тщетно пытаясь пригладить свой белый хохолок. — Такая жарища.
Она с неудовольствием покосилась на костер. К Генри вернулось хорошее настроение:
— Ты проспала несколько часов... и храпела, как тромбон.
Глаза Айрин распахнулись.
— Не может быть! — воскликнула девушка и добавила трагически дрогнувшим голосом: — Я храпела?
— Не, конечно, нет! — Генри с подвыванием расхохотался, остановившись лишь от внезапного резкого соприкосновения сапога Айрин со своими ребрами.
— Ой! — Вырвалось у него.
— Не смейте больше со мной разговаривать, мистер Скэнлон! — Последовала хладнокровная реплика девушки.
Теперь настал черед трагических взглядов от панического испуга для Генри. Он пошел пятнами и осторожно сделал шаг к девушке; вдруг застыл от оглушительного рева центозавра. Когда он пришел в себя, то обнаружил в своих объятиях Айрин.
Опомнившись, она попыталась освободиться, но тут рев центозавра прозвучал снова, уже с другой стороны… и она вновь нырнула в объятия Генри. Он побледнел, несмотря на прекрасную добычу.
— Кажется, фибы загнали центозавра в ловушку. Пойдем, спросим.
В наступившем сером рассвете фибы казались смутными пятнами. Глазам открывались только ряды и ряды искаженных утренним туманом тел. Все они производили впечатление замкнутой сосредоточенности; лишь один из фибов направился навстречу твини. Генри обменялся с ним рукопожатием и чуть позже сообщил:
— Они поймали трех центозавров, с большим количеством им не справиться. Мы прямо сейчас отправляемся на Возвышенность.
Восход солнца застал отряд в двух милях выше по течению. Твини, пробираясь вдоль берега, опасливо поглядывали на близкие джунгли. В редких просветах мелькали огромные серые туши. Рев рептилий почти не прерывался.
— Прости, что я потащил тебя с собой, Айрин, — произнес Генри. — Теперь я уже не так уверен, что фибы могут справиться с монстрами.
Айрин покачала головой.
— Все в порядке, Генри. Я сама этого хотела. Только… мне кажется, можно было бы отправить фибов и одних. Тут мы им ни к чему.
— Это верно, они и без нас справляются! Но если вдруг центозавры выйдут из-под контроля, настанет наша очередь: от нас им не уйти. В худшем случае мы перебьем ящеров из тонитов...
Он замолчал, поглаживая смертоносное оружие, ощущая его холодную надежность. Первая ночь обратного пути прошла для обоих твини без сна. Где-то там, невидимые во тьме, фибы сменяли друг друга, их телепатический контроль над крохотным умишком гигантских двадцатиногих ящеров при этом слегка менялся. Там, в джунглях, три чудовища весом по нескольку сотен тонн раздраженно выли, сопротивляясь силе, заставляющей их двигаться вопреки собственной воле; бессильно неиствовали из-за невидимого барьера, не позволявшего им приближаться к потоку.
Сидя возле костра, двое твини, затерявшиеся между горами плато с одной стороны и хрупкой защитой телепатической паутины с другой, с волнением глядели в сторону Возвышенности, начинавшейся милях в сорока впереди.
Продвижение шло медленно. Если фибы начинали подгонять, то центозавры упрямились. Но постепенно воздух становился прохладнее, джунгли по берегам редели, расстояние до Венустауна сокращалось.
Генри отметил первые признаки знакомой растительности с нескрываемым облегчением. Только присутствие Айрин заставляло его продолжать играть роль героя.
Он презирал себя и испытывал необоримое желание, чтобы их донкихотское странствие поскорее кончилось; но сказал совсем другое:
— Ну вот, практически все позади, кроме аплодисментов. И будь уверена, аплодисменты будут, Айрин. Мы вернемся героями, ты и я.
На Айрин его энтузиазм подействовал слабо.
— Я устала, Генри. Давай передохнем.
Она медленно опустилась на землю, и Генри, дав сигнал фибам, присоединился к ней.
— Долго нам еще идти, Генри?
Почти невольно она устало примостила голову на его плече.
— Еще один денек, Айрин. Завтра, к этому времени, мы уже будем дома, — он чувствовал себя негодяем. — Думаешь, нам не следовало браться за это самим, да?
— Ну, тогда это представлялось удачной идеей.
— Да, конечно, — согласился Генри. — Я уже заметил, что у меня хватает идей, которые поначалу кажутся удачными, но потом приносят одно разочарование. — Он философски покачал головой. — Не знаю, почему так, но так оно и есть.
— Все, что я знаю, — заметила Айрин, — что мне теперь и на ноги не подняться... И мне это безразлично...
Голос ее прервался, когда прекрасные голубые глаза взглянули направо. Один из центозавров задержался посредине небольшого притока реки. Его громадное извивающееся тело, опирающееся на десять пар коренастых ног, отвратительно поблескивало. Омерзительная голова, покачиваясь, поднялась к небу, и чудовищный вой распорол воздух. Ему ответил другой ящер.
Айрин вскочила на ноги.
— Генри, чего ты ждешь? Идем же! Скорее!
Генри, поудобнее перехватил тонит и тоже поднялся.
* * *
Артур Скэнлон одним свирепым глотком опрокинул в себя пятую чашечку кофе и, переключив аудиовизор на оптический режим, покрасневшими от бессонницы и запавшими от усталости глазами стал всматриваться в экран. Тщетно! Он встал, подошел к дивану, на котором беспокойно спала мать, наклонился и поправил одеяло.
— Бедная мамочка, — вздохнул Артур и поцеловал ее в бледную щеку. Потом вновь вернулся к аудиовизору и стиснул кулаки. — Ну погодите, доберусь я до вас, дурные головы.
Мэдлин приподнялась.
— Уже стемнело?
— Нет, — насколько мог бодро солгал Артур. — Он объявится еще до заката, мам. Спи, я обо всем позабочусь. Папа наверху, работает со статис-полем. Говорит, что дела идут. Еще несколько дней и будет полный порядок.
Он тихонько присел подле матери, осторожно погладил ее руку. Усталые глаза Мэдлин сомкнулись.
Замигал световой сигнал. Артур бросил на мать последний взгляд и вышел в коридор.
— В чем дело?
Твини-наблюдатель щеголевато отсалютовал.
— Джон Барно просил сообщить, что надвигается ураган.
Он протянул официальный рапорт. Артур раздраженно пробежал бумагу глазами.
— Неужели нам не достаточно всего остального, а? И что еще ждет нас на Венере?
— Судя по всему, нам придется очень скверно. Барометр падает невероятно быстро. Концентрация ионов в верхних слоях атмосферы — на неуравновешенном максимуме. Бьюла вышла из берегов и быстро поднимается.
Артур нахмурился.
— В Венустаун вода не проникает — выходы, как-никак, ярдах в пятидесяти выше уровня реки. А если ливень — на нашу дренажную систему можно положиться, — неожиданно он скорчил рожу: — Возвращайся и передай Барно, что этот ураган — в мою честь; пусть он хоть сорок дней и ночей свирепствует! Может, заодно смоет землян.
Он повернулся, но твини остановил его.
— Простите, сэр, но это не самое скверное. Сегодня разведывательный отряд…
— Разведотряд? — растерялся Артур. — Кто разрешил ему выйти наружу?
— Ваш отец, сэр. Они должны были войти в контакт с фибами — не знаю, каким образом.
— Хорошо. Дальше?
— Обнаружить фибов не удалось, сэр.
И тут Артур впервые испугался настолько, что даже позабыл о своем беспокойстве за брата.
— Исчезли?
Твини кивнул:
— Похоже, ушли искать спасения от надвигающегося урагана. Вот поэтому Барно и ожидает наихудшего.
— Крысы бегут с корабля, — пробормотал Артур. — Господи! Все сразу! Все сразу!
* * *
Закат догорал и тьма медленно взбиралась по склонам гор. Последние солнечные лучи высвечивали лишь стремительные контуры возносящихся в поднебесье пиков.
Айрин поежилась:
— Становится холоднее, правда?
— Холодный ветер скатывается с гор. Похоже, надо ожидать непогоды, — рассеянно согласился Генри. — Думаю, и река поднялась. — Он замолк, но после короткой паузы заговорил снова; в его голосе звучало возбуждение: — Ты только посмотри, Айрин, всего несколько миль до озера, а там мы, считай, уже в поселке землян. Почти все позади!
— Я рада, — кивнула Айрин. — За нас… И за фибов тоже.
Основания для последних слов у нее были. Фибы плыли все медленнее. Днем раньше с верховьев реки к ним прибыло подкрепление, но даже с этой помощью продвижение вперед давалось заметно труднее. Непривычный холод беспокоил многоногих ящеров, они со все растущей неохотой поддавались воздействию мысленной силы фибов.
Первые капли упали, едва они добрались до озера. Сгустилась тьма; в ослепительных голубых сполохах молний деревья казались призраками, воздевавшими к разгневанному небу качающиеся руки ветвей, факел неожиданно вспыхнувший в отдалении, являл собой погребальный костер сраженного молнией дерева.
Генри побледнел.
— Выбираемся на открытое место. Под деревьями в такую погоду опасно.
Прогалина, которую он имел в виду, находилась уже почти на самой окраине поселка землян. Наспех сколоченные домишки, такие маленькие и ненадежные перед лицом буйной стихии, то тут, то там были освещены, что говорило о присутствии людей. И когда первый центозавр, спотыкаясь и сокрушая деревья, выбрался на расчищенное пространство, ураган разразился во всей своей ярости.
Твини теснее прижались друг к другу.
— Фибы их ведут, — воскликнул Генри; голос его был едва различим сквозь дождь и ветер. — Надеюсь, им это удастся.
Айрин спрятала промокшую головку на таком же промокшем плече Генри.
— Не могу смотреть! Эти домишки развалятся, словно они сделаны из кубиков! Бедные-бедные люди!
Три монстра надвигались на здания. Их движения становились все быстрее, фибы держали их под телепатическим контролем уже не так сильно.
— Нет, Айрин, нет! Они их задержали!
Центозавры остановились, злобно меся лапами грязь, их рев мощно и чисто перекрыл звуки урагана. Взволнованные лица стали выглядывать из хижин.
Захваченные врасплох — большинство из них только что проснулись, оказавшиеся лицом к лицу с венерианской бурей и кошмарными чудовищами, они и подумать не могли о каких-либо организованных действиях. Они выскакивали кто в чем был, и не выдержав вида чудовищ, пускались наутек.
Смятение царило невообразимое. Один или два человека все-таки попытались оказать сопротивление, они открыли яростную пальбу по горам живой плоти, но убедившись в ее неэффективности, тоже бросились прочь.
Когда в деревне не осталось ни одного человека, гигантские рептилии ринулись вперед, и там, где совсем недавно стояли дома, вскоре лишь остались раздробленные обломки.
— Они никогда не вернутся, Айрин. Никогда! — Генри был в восторге от успеха своего плана. — Теперь мы с тобой герои… — его голос взвинтился до пронзительного визга. — Айрин, назад! Под деревья!
Рев центозавров достиг самой низкой ноты. Ближайший ящер присел на двух задних парах ног, его гигантская голова, поднятая на две сотни футов, чудовищным силуэтом рисовалась на фоне грозовых сполохов. С глухим шлепком он вновь опустился на все лапы и побрел к реке, которая бушевала теперь под ударами урагана, выйдя из берегов.
Фибы потеряли контроль над чудовищами!
Генри толкнул девушку в сторону, его тонит тут же полыхнул. Айрин медленно пятилась, держа свое оружие наготове.
Генри не промахнулся — пурпурный шар вспыхнул в ночи, и ближайший центозавр дернулся, его мощный хвост замолотил по ближайшим деревьям. Из дыры, где только что была нога, потоком хлынула кровь. Ящер в слепой ярости атаковал врага.
Последовала новая пурпурная вспышка — и он рухнул с тяжким грохотом, жуткий рев сменился пронзительным беспомощным визгом.
Но два других чудовища уже мчались в атаку. Они слепо перли в направлении источника той силы, что всю неделю держала их в повиновении; иполненные неистовства, они стремились ко мщению со всей мощью своей безмозглой ненависти. И на пути этой безжалостной силы оказались двое твини.
Позади бурлила река. Впереди — лес, полный грохота сокрушаемых деревьев и раздирающего уши рева.
И тут внезапно откуда-то со стороны ударили тониты. Пурпурные сполохи... шквал ударов... спазматический визг… И настала тишина; даже ветер, словно преклонился перед недавними событиями, мгновенно стих.
Генри издал торжествующий вопль и заскакал в импровизированном беовом танце.
— Это пришли наши, из Венустауна, Айрин! — орал он. — Они перебили центозавров! Теперь всему конец! Мы спасли твини!
Все произошло в одно мгновение. Айрин выронила тонит, зарыдала от облегчения, бросилась с Генри, споткнулась — и река подхватила ее.
— Генри!!! — Ветер унес крик прочь.
За одно мучительное мгновение Генри понял, что не в силах ничего поделать. Он лишь недоверчиво и глупо таращился на то место, где только что стояла Айрин. А потом сам оказался в воде, и медленно погрузился в кипящую тьму.
— Айрин!!!
Ни звука в ответ — лишь вой ветра. Он попытался плыть, но тщетно. Даже на поверхности Генри с трудом удерживался лишь на доли секунды, едва успевая сделать новый вдох.
— Айрин!
Никакого ответа. Только стремительно мчащаяся вода и тьма.
И тут что-то коснулось его. Он инстинктивно оттолкнулся, но напор усилился. Он почувствовал, что его выталкивают из воды. Измученные легкие с трудом начали втягивать воздух. Генри увидел ухмыляющуюся морду фиба, а потом все пропало. Осталось лишь ощущение холодной, мрачной сырости.
* * *
Воспринимать окружающее он начал отрывочно. Сперва — он сидит под деревом на одеяле. Потом — теплое излучение рефлекторов сверху, свет автоламп. Кругом толпились люди, и он понял, что дождя больше нет.
Он повел вокруг затуманенными глазами и прошептал:
— Айрин!
Она сидела рядом — укутанная, как и он, слабо улыбаясь.
— Со мной все в порядке, Генри. Фибы выловили нас вовремя.
К нему наклонилась Мэдлин, он ощутил на губах вкус горячего кофе.
— Фибы рассказали нам, как здорово вы им помогли. Мы гордимся вами, сынок — тобой и Айрин.
Улыбка превратила лицо Макса в символ родительского удовлетворения.
— Психологически ваш расчет был замечателен. Венера достаточно обширна, здесь хватает пригодных для жизни районов, чтобы земляне не захотели вернуться туда, где кишат центозавры… по крайней мере, в ближайшее время. А когда они снова объявятся, у нас уже будет статис-поле.
Из тьмы выступил Артур. С силой похлопал Генри по плечу, крепко пожал руку Айрин.
— Мы с твоим телохранителем послезавтра устраиваем празднество, — сообщил он ей, — так что приведи себя в порядок и отдохни как следует. Это будет величайшее торжество.
— Праздник, да? — произнес отчетливо Генри. — Хорошо, тогда я скажу тебе кое-что. Я намерен… жениться. Думается, я уже достаточно взрослый.
Глаза Айрин опустились, отчаянно сосредоточившись на траве.
— На ком же, Генри?
— На ком? На тебе, конечно же. Господи, да на ком же еще?
— Но ты даже не спросил меня. — Она произнесла это не торопясь, но с величайшей решительностью.
На мгновение Генри смутился, потом упрямо стиснул зубы.
— Верно, не спросил. Но я уже сделал предложение. Что же ты ответишь?
Он придвинулся к ней поближе; Макс кашлянул и жестом отослал их прочь. Внезапно к ним приблизился один фиб. Он медленно, неуклюже двигался по влажной траве, помогая себе неприспособленными для этого лапами. Приблизившись, он протянул им передние конечности.
Намерения его были ясны. Айрин и Генри тоже протянули руки. На несколько секунд сделалось тихо, потом глаза фиба понимающе заблестели в свете автоламп. Смущенно взвизгнула Айрин, озадаченно хихикнул Генри. Контакт нарушился.
— Ты видела то же, что и я? — спросил Генри.
Айрин покраснела.
— Да. Много-много маленьких фибиков, десятка полтора...
— …с длинными белыми хохолками!
Перевод Б. АлексанроваХомо Сол
Семь тысяч пятьсот сороковая сессия Галактического Конгресса восседала торжественным конклавом в просторном полукруглом зале на Эроне, второй планете Арктура.
Председатель медленно поднялся и обвел взглядом собравшихся делегатов. Как и все арктурианцы, он отличался широким лицом, сейчас несколько покрасневшим от волнения. Перед тем как обратиться к делегатам с официальным заявлением, председатель выдержал паузу, чтобы придать происходящему особую торжественность.
Ведь в великую галактическую семью новые планетные системы принимались не так уж часто. Иной раз в ожидании подобного события можно было прожить целую человеческую жизнь.
Длинной паузе председателя делегаты ответили не менее долгим молчанием.
Двести восемьдесят восемь планет с кислородной атмосферой и гидрохимизмом входили в Систему. Двести восемьдесят восемь делегатов присутствовало на сессии. Здесь были представлены существа всех человекообразных форм и обликов: высокие и худые, широкие и дородные, низенькие и коренастые. Некоторых отличали гибкие волосы, кое у кого редкий серый пух покрывал всю голову и лицо. Встречались пышные кудри, уложенные в высокую прическу. Но в большинстве своем делегаты были лысыми. Одни выделялись крупными ушными раковинами, поросшими волосами, у других выпячивались на макушку слуховые мембраны. Глаза некоторых, словно у газелей, отливали глубоким пурпуром, крохотные зрачки других напоминали черные бусинки. Попадались делегаты с зеленой кожей, а отдельные гуманоиды могли похвастать наличием небольшого хвоста и даже восьмидюймового хоботка вместо носа.
Но все они походили друг на друга тем, что являлись гуманоидами и обладали разумом.
Наконец пауза кончилась. Снова загудел голос председателя собрания:
— Делегаты! Система Солнца раскрыла тайну межзвездных перелетов. На основании этого факта она может быть принята в состав Галактической Федерации.
Сообщение вызвало бурю аплодисментов, и арктурианец поднял руку, призывая к тишине.
— Передо мной, — продолжал он, — официальный рапорт с Альфы Центавра, на пятой планете которой высадились гуманоиды с Солнечной системы. Рапорт полностью положителен, потому запрет на полеты в Солнечную систему и коммуникации с ней может быть снят. Солнце теперь открыто для кораблей Федерации. В настоящее время готовится экспедиция под руководством Джоселина Арна с Альфы Центавра с тем, чтобы передать этой системе формальное предложение на вступление в Федерацию.
Он сделал паузу. Двести восемьдесят восемь делегатов принялись скандировать:
— Слава тебе, хомо сол! Слава тебе, хомо сол! Слава!
Таким было традиционное приветствие Федерации всех ее новых членов.
Тан Порус выпрямился во все свои пять футов два дюйма — хотя на родном Ригеле он был роста выше среднего — и, плохо скрывая раздражение, окинул собеседника быстрым, но проницательным взглядом зеленых глаз.
— Такие вот дела, Ло Фан. Вот уже шесть месяцев этот уродец, этот проклятый сквид с Беты Дракона ставит меня в тупик.
Ло Фан осторожно дотронулся до своего лба длинными пальцами, при этом одно из его волосатых ушей несколько раз дернулось в судороге. Он проделал пятьдесят восемь световых лет, чтобы побывать на Арктуре II у крупнейшего психолога Федерации и — самое главное — посмотреть на этого странного моллюска, реакции которого завели в тупик великого ригелианина.
На первый взгляд сквид ничем не отличался от других сквидов: жирная, тускло-пурпурная масса мягкой плоти, равнодушно распустившая щупальцеобразные отростки по всей поверхности огромного бака с водой.
— Да, выглядит достаточно ординарно, — заметил Ло Фан.
— Ха, — фыркнул Тан Порус. — Сейчас увидите!
Он щелкнул выключателем, свет погас, тусклый голубой луч рассек темноту и осветил бак с водой, в котором, не обращая ни на кого внимания, безразлично плавал сквид с Беты Дракона.
— Даем стимул, — сообщил Порус.
Экран над головой наполнился мягким зеленым светом, точно сфокусировавшимся на баке. Через мгновение зелень сменилась тускло-красным и почти сразу ярко-желтым светом. С полминуты освещение менялось, сдвигаясь по спектру, когда же сделалось ослепительно белым, раздался чистый, напоминающий колокольчик звук.
Но вот стихло эхо, вторившее колокольчику, и по телу сквида прокатилась дрожь. Затем сквид медленно сместился к краю бака. Порус потянулся к занавеске.
— Этот звук вообще-то усыпляет, — проворчал он. — Еще одна неудача. Любой сквид, с которым нам приходилось иметь дело, камнем шел ко дну, стоило ему услышать эту ноту.
— Усыпляет, говорите? Странно. Вы строили графики импульсов?
— Непременно. Там все в порядке. Отмечена точная длина используемых световых волн, продолжительность каждого светового диапазона, указано точное значение тона звукового сигнала в конце.
Ло Фан, не скрывая сомнения, изучал график, при этом лоб его покрылся морщинами, уши удивленно топорщились. Он достал логарифмическую линейку из внутреннего кармана:
— Какого типа нервная система у этого животного?
— 2-Б. Простенькая и ординарная 2-Б. Я заставил анатомов, физиологов и экологов уточнить это, что они и делали до посинения. И все же они утверждают: 2-Б! Проклятые дураки!
Ло Фан ничего не ответил, только аккуратно стал перемещать туда-сюда движок линейки. Остановился, пригляделся как следует, пожал плечами и потянулся к одному из толстенных томов, стоявших на полке у него за спиной. Зашелестел страницами, подбирая близкие значения среди приведенных в таблицах, завершил свои манипуляции и беспомощно произнес:
— Бессмыслица!
— Сам знаю. Я шестью разными способами пробовал рассчитать эту реакцию и каждый раз терпел неудачу. Даже когда я выстраивал систему, объясняющую, почему эта тварь не засыпает, я не мог понять специфического воздействия раздражителя.
— А оно очень специфическое? — спросил Ло Фан и голос его зазвучал в самом верхнем регистре.
— И это самое скверное, — отрезал Тан Порус. — Ведь он должен засыпать, если сместить длину световой волны на пятьдесят анготрем в любую сторону, в любую! А тут меняешь время светового облучения на две плюс-минус секунды, но он не засыпает. Тогда пробуешь сменить высоту конечного звукового сигнала на восемь октав в любом направлении — он все равно не засыпает. Но стоит угадать какую-то определенную комбинацию — и результат налицо: спит мертвым сном!
Уши Ло Фана превратились в два напряженных волосатых полотнища.
— Галактика! — прошептал он. — Так вы споткнулись на комбинации?!
— Не я. Это случилось на Бете Дракона. Мои провинциальные классные коллеги проводили лабораторное занятие для первокурсников, демонстрируя реакцию моллюсков на свет и звук, — было это несколько лет назад. И вот у одних студентов сложилась случайная светозвуковая комбинация, при которой это пакостное существо погрузилось в сон. Разумеется, они решили, что тронулись рассудком, и бросились к наставнику. Наставник проверил реакцию другого сквида, уснувшего так же быстро. Тогда изменили комбинацию — сна как не бывало. Они вернулись к начальной — снова сон. Когда наконец они достаточно долго с ним провозились, то поняли, что даже не могут разобраться, где у сквида голова, а где хвост. Они отослали сквид на Арктур, пожелав побыстрее докопаться до истины. И вот уже целых шесть месяцев мне не удается даже вздремнуть как следует.
Раздался музыкальный звонок, Порус нетерпеливо обернулся:
— В чем дело?
— Посланник от председателя сессии Галактического Конгресса, сэр, послышался металлический голос из коммуникатора на столе.
— Пусть войдет.
Посланник приблизился, церемонно вручил Порусу запечатанный конверт и энергично произнес:
— Великие новости, сэр. Система Солнца квалифицирована как достойная принятия.
— Что дальше? — фыркнул Порус. — Мы давно все знали, что так и будет.
Он достал из прозрачного целлофана пачку бумаг и углубился в их изучение.
— О Ригель!
— В чем дело? — поинтересовался Ло Фан.
— Эти политиканы осмеливаются меня беспокоить по самому ничтожному поводу. Можно подумать, на Эроне нет другого психолога. Взгляните только. Мы предполагали, что соляриане откроют гиператомный принцип в ближайшее столетие. Они наконец-то до этого додумались, и их экспедиция совершила посадку на Альфу Центавра. Разумеется, для политиканов такой праздник! Теперь нам следует отправить собственную экспедицию, чтобы пригласить их вступить в Федерацию. И, ясное дело, для этого требуется психолог, способный вручить приглашение самым милым образом, заранее предугадав их реакцию. Ведь в армии вряд ли найдется хоть один солдат, который бы обладал навыками психологии даже в очень малой степени.
Ло Фан совершенно серьезно кивнул:
— Знакомо, знакомо. У нас случались такие же трудности. Психологи им ни к чему, пока они не вляпаются в неприятности. Тогда же мчатся к нам со всех ног.
— Ладно, то, что я не отправлюсь к Солнцу, совершенно очевидно. Этот дрыхнущий сквид слишком важен, чтобы обойти его своим вниманием. Работа там рутинная, как всегда с присоединением новых миров: реакция А-типа, с которой любой первокурсник справится.
— И кого вы пошлете?
— Еще не решил. Под моим началом трудилось несколько неплохих юнцов. Они выполнят это задание с закрытыми глазами. Поручу кому-нибудь из них. Кстати, надеюсь видеть вас завтра вечером на встрече факультета.
— Увидите… И даже услышите. Мне предстоит произнести речь о возбудителях указательного пальца.
— Прекрасно! Я над этим тоже работал, так что интересно будет послушать, до чего вы там додумались. Значит, до завтра!
Оставшись один, Порус еще раз взялся за официальный рапорт с Солнечной системы, который вручил ему порученец. Ученый неторопливо, но без особого интереса полистал его, потом отложил со вздохом.
— Лор Харидин с этим справится, — пробормотал он сам себе. — Славный парнишка, стоит дать ему шанс.
Тан Порус вырвал из объятий кресла свои тощие бедра сунул рапорт под мышку, вышел из кабинета и быстро двинулся по длинному наружному коридору. Когда он остановился перед дверью в дальнем конце, охранная вспышка осветила его и голос изнутри предложил войти. Ригелианин открыл дверь, сунул внутрь голову:
— Занят, Харидин?
Лор Харидин поднял глаза и тут же вскочил.
— Великий космос, босс, нет! Мне просто нечем заниматься, с тех пор, как я завершил работу над реакцией злости. Может быть, вы подыскали для меня что-нибудь — спросил он с надеждой.
— Подыскал… если, конечно, ты уверен, что справишься. Слыхал о Солнечной системе?
— Ясное дело! Все визоры ею забиты. Они научились осуществлять межзвездные перелеты, я не ошибся?
— Не ошибся. Через месяц с Альфы Центавра к Солнцу отправится экспедиция. Им требуется психолог для тонкой работы. Я подумал: не послать ли тебя?
Молодой человек от удовольствия залился краской вплоть до макушки лысого черепа:
— Вы не передумаете, босс?
— С чего бы? Можешь заняться, если наверняка знаешь, что справишься.
— Разумеется, справлюсь. — Лицо Харидина вытянулось от обиды. — Реакция А-типа, тут не ошибешься.
— Видишь ли, тебе придется освоить язык соляриан и управлять их реакциями так, чтобы им все было понятно. А это не всегда просто.
Харидин пожал плечами:
— Я не должен ошибиться. В подобных делах переводу требуется лишь 75 процентов эффективности, чтобы добиться необходимой реакции с точностью девяносто девять и шесть десятых процента. Так что здесь, шеф, вы меня не собьете.
Порус рассмеялся:
— Ладно, ладно, Харидин, знаю, тебя на мякине не проведешь. Но все-таки постарайся не подвести меня. Закругляйся здесь, в университете, подавай заявление о бессрочном отпуске и, если получится, напиши какую-нибудь статейку об этих солярианах. Если все пройдет удачно, ты сможешь приобрести неплохое положение.
Молодой ученый нахмурился:
— Но, шеф, все это уже устарело. Реакции гуманоидов известны слишком хорошо, тут просто не о чем больше писать.
— Всегда что-нибудь отыщется, если присмотреться повнимательнее, Харидин. В природе нет ничего, исследованного до конца и полностью, не забывай об этом. Если сейчас ты посмотришь таблицу 25 в докладе, то обнаружишь там некоторые сведения, вызывающие беспокойство: соляриане оснащают свои корабли оружием с особой тщательностью.
Харидин отыскал указанное место.
— Вполне разумно, — заметил он. — Совершенно нормальная реакция.
— Согласен. Но они не собираются отказываться от оружия, даже не смотря на особую теплоту встречи с братьями по разуму. Займись этим, вдруг обнаружишь что-нибудь очень важное.
— Ну… раз вы так говорите… Благодарю, что вы предоставили мне такой шанс. Да… сдвинулись с места в экспериментах со сквидом?
Порус наморщил лоб:
— Уже шестой по счету скорчился и вчера вообще подох. Какая безвкусица.
С этими словами ученый развернулся, и Харидин не успел опомниться, как остался один.
Тан Порус проглядел полученные бумаги, сложил их вдвое, разорвал пополам. Он чувствовал, что начинает дрожать от ярости, и, резко пододвинув к себе телекоммуникатор, рявкнул в микрофон:
— Сантина мне из математического управления, немедленно!
Зеленые глаза Поруса метали молнии, а по ту сторону экрана улыбалось безмятежное лицо, которому психолог показал огромный кулак:
— Найдется на Эроне хоть один человек, способный разобраться в этом анализе, что вы только что мне прислали, слизняк с Бетельгейзе!
Изображение с кротким недоумением подняло брови:
— Не сваливайте все на меня, Порус. Это же ваши уравнения, не мои. Откуда вы их выкопали?
— Вас не касается, где я их взял. Это забота департамента психологии.
— Отлично! Но решать их — забота департамента математики. Ваша семерка образует такую дьявольскую головоломку, какие мне еще не встречались. К тому же вы допустили семнадцать приближений, которыми не имели права пользоваться. У нас ушло две недели, пока удалось распутать и кое-что сократить.
Порус подпрыгнул, словно от удара:
— Знаю я, что вы там насокращали! Я просмотрел выкладки. Вы берете семнадцать независимых переменных в тринадцати уравнениях, тратите два месяца на работу, наконец-то добираетесь до сути и излагаете на последней странице истину, которую в силах понять только оракул: «а» равно «а». Работа сделана. Молодцы!
— Я тут ни при чем, Порус. Ваши уравнения замкнулись сами на себе, математически получается, что они равнозначны, тут ничего не поделаешь. Сантин снисходительно улыбался с экрана. — Кстати, чего вы кипятитесь. Ведь «а» и должно быть равно «а», не так ли?
— Сгинь!
Экран погас, и психолог плотно стиснул зубы ощущая, как душа разрывается на части.
Световой сигнал на телекоммуникаторе вновь подал признаки жизни.
— Что там еще?
В ответ раздался вежливый безразличный голос секретаря:
— Посланник от правительства, сэр.
— К чертям правительство! Скажите им, что я умер!
— Это важно, сэр. Лор Харидин вернулся с Солнца и хочет вас видеть.
Порус нахмурился:
— С Солнца? Какого еще Солнца? Ах да, вспомнил! Пускай входит, но попроси его поторопиться.
— Заходи, заходи, Харидин, — говорил он немного погодя. Чувствовалось, что он рад видеть своего молодого коллегу, еще более помолодевшего и слежка похудевшего с тех пор, как шесть месяцев назад он покинул Арктур. — Ну-с, молодой человек, статью написали?
Арктурианец внимательно разглядывал свои ногти.
— Нет, сэр.
— Но почему? — ригелианский психолог подозрительно прищурился. — Только не говорите мне, что возникли сложности…
— Честно говоря, да, шеф, — с трудом выдавил Харидин. — Психологический отдел обратится непосредственно к вам после того, как вы заслушаете мой отчет. Суть дела в том, что Солнечная система отказалась вступить в Федерацию.
Тан Порус пулей выскочил из своего кресла, так что чуть было не оступился:
— Что!?
Харидин с несчастным видом кивнул и откашлялся.
— Ну и ну, клянусь Великой Темной Туманностью, — проревел ригелианин как безумный. — Ничего не скажешь, праздничный сегодня денек. Сначала мне сообщают: «а» равняется «а», потом ты заявляешь, что напортачил с реакцией А-типа, причем окончательно!
Молодой психолог вспыхнул:
— Я ничего не напортачил. Что-то не в порядке с самими солярианами. Они ненормальные. Когда я прилетел, они устроили фантастические празднества и вели себя настолько необузданно, что я решил: уж не свихнулись ли они. Я выступил с приглашением перед парламентом на их же языке. Есть у них такой простенький, называется эсперанто. Могу поклясться, мой перевод был на девяносто процентов адекватным.
— Допустим. Что дальше?
— Остального я не в силах понять, шеф. Поначалу последовала нейтральная реакция, удивившая меня, а затем… — он вздрогнул от воспоминаний, — через семь дней, всего через семь дней вся планета полностью переменила к нам отношение. Я не смог понять их психологию, я ощущал себя так, будто нахожусь в сотне миль от них. Вот копии газет того периода, в которых они протестуют против союза с «чужеродными монстрами» и отказываются подчиняться нелюдям, живущим во многих парсеках от них. И я подумал: есть ли смысл во всем этом? Но это только начало. Мне кажется, в жизни моей не было световых лет хуже. Милосердие Галактики, я все силы бросил на реакцию А-типа, пытался вычислить ее и не смог. В конце концов нам пришлось отступить. Мы испытали чисто физическую угрозу со стороны этих… землян, как они себя называют.
Тан Порус прикусил губу:
— Интересно. Отчет с тобой?
— Нет. Он у психологической группы. Все эти дни они его чуть ли не с микроскопом изучают.
— И что же они выискали?
Молодой арктурианец скривился:
— Прямо не говорят, но, мне кажется, у них создалось такое впечатление, будто ответы в отчете ошибочны.
— Ладно, поговорим об этом, когда я его прочту. А пока отправимся в зал парламента и по дороге ты мне ответишь на кое-какие вопросы.
Джоселиан Арн, военный с Альфы Центавра, потер щетинистый подбородок шестипалой рукой и взглянул из-под нависших бровей на ученых, которые сидели полукругом и с большим вниманием глядели на него. В состав психологической группы входили психологи с двух десятков планет, и выдержать их одновременные внимательные и серьезные взгляды было не таким уж легким делом.
— Нас информировали, — начал Фриан Обель, руководитель группы с Беги, родины зеленокожих людей, — что разделы отчета, касающиеся военного уровня соляриан, написаны вами.
Джоселиан Арн наклонил голову в знак молчаливого согласия.
— И вы готовы отстаивать то, что написали, несмотря на полное их неправдоподобие? Вы ведь не психолог?
— Нет! Но я солдат! — челюсти центаврианина упрямо выпятились, когда его голос прогромыхал над залом. — Я не разбираюсь в уравнениях, не понимаю графиков, но смыслю в звездолетах. Я видел их корабли, хорошо знаю наши и считаю, что их звездолеты лучше. Я видел их самый первый корабль. Дайте им сотню лет, и их гиператомный привод во всем превзойдет наш. А их оружие?! Они располагают почти всем тем, что есть у нас, хотя при этом отстают на тысячелетия исторического развития. То, чего у них нет, они изобретут. Это наверняка. А то, что у них есть, они непрерывно совершенствуют. Например, военные заводы. Наши более современны, зато их — более эффективны. А что касается солдат, то я скорее предпочел бы сражаться вместе с ними, чем против них. Обо всем этом говорится в моем отчете, и я не устану повторять это снова и снова.
На этом его резкое, отрывистое выступление закончилось. Фриан Обель подождал, пока стихнет возбужденное перешептывание среди присутствующих:
— А чего достигли соляриане в остальных областях науки: медицине, химии, физике? Что вы можете сказать об этом?
— Здесь я не могу быть судьей. У вас же есть отчет тех, кто в этом лучше разбирается. И исходя из того, что я знаю, конечно, их поддерживаю.
— А эти соляриане, они настоящие гуманоиды?
— Если судить по критериям Центавра — да.
Старый ученый с раздраженным видом опустился в свое кресло и бросил хмурый взгляд вдоль стола.
— Коллеги, — произнес он, — мы добились малого успеха в том, чтобы по-новому оценить всю эту путаницу. Перед нами раса гуманоидов на высочайшем технологическом подъеме, которой в то же время присуща антинаучная вера в сверхъестественное, невероятное, детское пристрастие к индивидуализму, одиночному и групповому, и, хуже всего, отсутствие достаточно широкого кругозора, чтобы воспринять внегалактическую культуру.
Фриан Обель взглянул на сидевшего напротив угрюмого центаврианина и продолжил:
— Именно с такой расой мы имеем дело, если верить отчету. Значит, придется пересмотреть все фундаментальные аксиомы психологии. Но я лично отказываюсь верить подобному, выражаясь вульгарно, кометному газу. Если откровенно, то все упирается в неумение подобрать нужных специалистов для этого исследования. Надеюсь, вы все согласитесь со мной, когда я скажу, что этот отчет можно смело выбросить. Только следующая экспедиция, составленная из специалистов в своей области, а не учеников-психологов и солдат…
Монотонный голос ученого внезапно прервал удар железного кулака по столу. Джоселиан Арн, чье огромное тело содрогнулось от ярости, утратил выдержку, давая выход скопившемуся гневу:
— Нет уж, клянусь трясущимся отродьем Темплиса, червяками ползучими и комарами летучими, выгребными ямами и чумными язвами, клянусь одеянием самой смерти, такого я не потерплю! Вы, значит, расселись тут со своими теориями, со своей всеобъемлющей мудростью и отрицаете то, что я видел собственными глазами. Или же мне не верить глазам своим, — он говорил, и глаза его сверкали огнем, — только лишь потому, что вы своими параличными ручонками испачкали бумагу парочкой уклончивых замечаний! На Центавре не продохнешь от этих мудрецов, что задним умом крепки, скажу я вам. И в первую очередь психологи, чтоб их разорвало. Уткнулись в свои талмуды, позапирались в лабораториях и в упор не видят того, что происходит в живом мире вокруг них. Психология, как же! Гнилые, вонючие…
Пряжка на его поясе грозила отлететь, глаза сверкали, лицо пылало, кулаки сжались. Но вот его взгляд остановился на крохотном человечке, в свою очередь смотревшем на Арна, и вояка вдруг почувствовал, что не может оторвать своих глаз от этих зеленых, загадочных и внимательных, пронизывающих насквозь. Это подействовало на великана как ушат холодной воды.
— Я тебя знаю, Джоселиан Арн, — Тан Порус говорил медленно, старательно выговаривая слова. — Ты мужественный человек и хороший солдат, но я вижу, не любишь психологов. Это скверно для тебя, поскольку именно на психологии основаны политические успехи Федерации. Стоит от нее отказаться, и наш союз развалится, наша великая Федерация распадется. Галактическое объединение рухнет. — Его мягкий голос обволакивал, действовал как музыка. — Ты давал великую клятву защищать Систему от всех ее врагов, Джоселиан Арн, а теперь сам стал величайшей ее опасностью. Ты разрушаешь фундамент, потому что подкапываешь под основу, отравляя ее истоки. Ты беспринципен, бесчестен. Ты изменник!
Центаврианский воин беспомощно потупил взгляд, опустил голову. Порус говорил, а его охватывало болезненное и глубокое раскаяние. Воспоминание о собственных словах мгновением позже тяжким грузом легло на его плечи, на его совесть. Когда психолог кончил, Джоселиан опустил голову и зарыдал. Слезы потекли по изрезанному боевыми шрамами лицу, по которому они не текли уже лет сорок.
Порус снова заговорил, но теперь его голос был подобен ударам грома:
— Хватит ныть, трус! Опасность надвигается! К оружию!
Джоселиан Арн мгновенно насторожился; печаль, охватившая его, молниеносно исчезла, точно ее вовсе не существовало. Зал содрогнулся от хохота: воин разобрался в ситуации. Таким способом Порус решил наказать его. С его превосходным знанием окольных воздействий на мозг гуманоида ему достаточно было надавить на соответствующую кнопочку и…
Центаврианин смущенно прикусил губу, но ничего не сказал. Правда, Тан Порус тоже не смеялся. Довести вояку до слез — одно дело, но унизить его совсем другое. Он быстро выбрался из кресла и похлопал маленькой ручкой по могучему плечу Арна:
— Не обижайтесь, друг мой, это всего лишь небольшой урок, не более. Боритесь с субгуманоидами и враждебным окружением в полусотне миров! Рвитесь в космос на протекающем, дряхлом вертолете! Бросайте вызов любой опасности, какой заблагорассудится! Но никогда, никогда не задевайте психологов! В следующий раз мы можем рассердиться всерьез.
Арн откинул назад голову и захохотал. Его могучий раскатистый рев больше смахивал на землетрясение, и зал содрогнулся.
— Я получил хороший урок, психолог. Разнеси меня на атомы, если ты не прав.
Большими шагами он вышел из зала, а его плечи все еще вздрагивали от сдерживаемого смеха.
Порус нырнул в свое кресло и повернулся лицом к присутствующим:
— Коллеги, мы с вами споткнулись на интересной расе гуманоидов.
— Ну-ну, — едко произнес Обель, — великий Порус почувствовал необходимость взять своего ученика под защиту. — Похоже, ваша способность усваивать материал улучшилась, поскольку вам все-таки хотелось принять на веру доклад Харидина.
Харидин, стоя в стороне, почувствовал, что краснеет, наклонил голову и не произнес ни слова. Порус нахмурился, но голос его ничуть не изменился:
— Вот именно. И доклад, если его должным образом проанализировать, может привести нас к революции в науке. Это же для психологии золотые россыпи, а хомо сол — находка, случающаяся раз в тысячелетие!
— Говорите конкретнее, Тан Порус, — протянул кто-то. — Ваши трюки хорошо срабатывают на тупоголовых центаврианах, но на нас-то они не действуют.
Вспыльчивый маленький ригелианин буквально зашипел от возмущения, погрозив говорившему маленьким кулачком:
— Можно и поконкретнее, Инар Тубал, клоп ты волосатый, космический. Благоразумие, казалось, сейчас отступит перед охватившей Поруса яростью. — Да здесь найдется материала для работы больше, чем вы себе можете представить. И уж, конечно, гораздо больше, чем вы, умственные калеки, способны понять. Нет, просто необходимо ткнуть вас в ваше же невежество, вы, сборище иссохших ископаемых. Могу гарантировать, что продемонстрирую вам немного психотехнологии, так что у вас все кишки перевернутся. Я вам обещаю панику, дебилы, панику! Всемирную панику!
Наступила мертвая тишина.
— Вы сказали, панику? — заикаясь от услышанного, проговорил Обель, причем его зеленые глаза почему-то стали серыми. — Всемирную панику?
— Именно, попугай несчастный. Дайте мне шесть месяцев и шестьдесят ассистентов, и я продемонстрирую вам мир, охваченный паникой.
Обель тщетно пытался ответить. Он скривил рот в героическом усилии сохранить серьезность и не смог этого сделать. Тогда, словно по сигналу, все общество психологов разразилось в едином пароксизме хохота.
— Помню, — с трудом выдавил Инар Тубал, сирианин, смеявшийся так сильно, что из его глаз брызнули слезы, — был у меня один студент. Так вот однажды он заявил, что открыл способ, которым можно вызвать всемирную панику. Я проверил его вычисления и обнаружил: он возвел в степень число, не так отделив целое от дроби. Так что он сбился всего на десять порядков. На сколько порядков сбились вы, коллега Порус?
— Порус, разве вы не знаете закона Краута, согласно которому невозможно вызвать панику более чем у пяти гуманоидов одновременно? Может, нам и атомную теорию отменить, если мы ее не понимаем? — весело прохихикал Семпер Гор с Капеллы.
Порус выскочил из кресла и схватил председательский молоток Обеля:
— Любой, кто вздумает снова засмеяться, получит вот этим молотком по своей пустой башке.
Тотчас стало тихо.
— Я беру с собой пятьдесят ассистентов, а Джоселиан Арн доставит меня к Солнцу, — отрезал зеленоглазый ригелианин. — Но я требую, чтобы со мной отправились пятеро из вас: Инар Тубал, Семпер Гор и еще трое на ваш выбор, чтобы я мог полюбоваться их дурацкими выражениями физиономий, когда продемонстрирую то, что обещал. — Он угрожающе посмотрел на молоток. — Ну?
Фриан Обель, стараясь казаться серьезным, решил не смотреть на Поруса и потому уставился в потолок:
— Договорились, Порус. С вами отправятся Тубал, Гор, Хелвин, Прат и Винсен. В конце отведенного срока или мы оказываемся свидетелями всемирной паники, что будет очень приятно, или же услышим, как вы станете отказываться от собственных слов, что доставит нам еще большее удовольствие.
Вынося это постановление, он хихикнул про себя.
Тан Порус задумчиво глядел в окно. Перед ним до самого горизонта раскинулся Терраполис, столица Земли. Приглушенный шум города слышался даже здесь, на полукилометровой высоте, где он находился.
Было что-то в этом городе невидимое и неосязаемое, но не становившееся от этого менее реальным. И наличие оного являлось для маленького психолога более чем очевидным. Удушающая пелена липкого страха опустилась на весь мегаполис. Он сам ее вызвал: ужасающую пелену темной неуверенности, смыкающуюся холодными пальцами на горле человечества ненадолго, всего лишь на чуть-чуть, чтобы прекратить подлинную панику.
Именно об этом говорили голоса, сливавшиеся в шум города, и каждый голос состоял из крохотных крупиц страха. Ригелианин с неудовольствием отвернулся.
— Эй, Харидин! — рявкнул он.
Молодой арктурианец оторвался от телевизора:
— Вы меня звали, шеф?
— А что, по-твоему, я еще делал? Сам с собой беседовал? Что было в последней сводке из Азии?
— Ничего нового. Стимулы еще недостаточно сильны. Похоже, у желтокожих более флегматичная натура, чем у белого большинства Америки и Европы. Но я распорядился все же не усиливать воздействия.
— Да-да, — согласился Порус. — Усиливать не надо. Мы не можем рисковать. Активная паника чревата последствиями. — Он задумался. — Слушай-ка, мы почти у цели. Скажи, чтобы ударили по нескольким крупным городам, — они более восприимчивы — и на том остановимся.
Он опять повернулся к окну:
— Великий Космос, ну и мир!.. Открывается совершенно новая ветвь психологии… мы о такой и мечтать не могли. Психология толпы, Харидин, психология толпы.
Порус выразительно покачал головой.
— Зато у нас множество неприятностей, — пробормотал юноша. — Эта пассивная паника полностью парализовала торговлю и коммерцию. Деловая жизнь на всей планете остановилась. Несколько правительств бессильны. Они никак не могут понять, что приключилось.
— Они поймут, когда я сочту необходимым им это растолковать. Что до неприятностей, мне от них тоже мало удовольствия. Но главное, что все это означает конец, дьявольский и важный конец.
Последовало продолжительное молчание, потом губы Поруса сложились в некое подобие улыбки.
— Эти пять придурков сегодня возвращаются из Европы, не так ли?
Харидин кивнул и улыбнулся:
— Да. И чувствуют себя прескверно. Ваши предсказания сбылись наполовину. Они согласятся на ничью.
— Прекрасно! Жаль, что я не смогу видеть физиономию Обеля сразу после того, как он получит мое сообщение. Кстати, — Порус заговорил тише, — какие новости от них?
Харидин показал два пальца:
— Две недели, и они будут здесь.
— Две недели… две недели… — Порус торжествовал.
Он вскочил и направился к двери. — Думаю, что мне следует навестить наших дорогих уважаемых коллег и провести с ними остаток дня.
Когда появился Порус, пятеро ученых, входивших в группу, оторвались от своих записей и воцарилось смущенное молчание.
Психолог злорадно усмехнулся:
— Записи вас устраивают, джентльмены? Основные мои предсказания процентов на 50–60 ошибочны, не так ли?
Хиброн Прат с Альфы Цефея встопорщил на голове свой серый мех, который он именовал волосами:
— Я не доверяю вашим дьявольским трюкам и ненормальным математическим выкладкам.
Ригелианин коротко хохотнул:
— Тогда выдумайте что-нибудь получше. Как бы там ни было, но разве скверный метод управления реакциями не сработал?
Немузыкальный фон покашливаний заменил конкретный ответ.
— Что, не так? — громыхнул Порус.
— Ладно, пусть даже так, — сказал Винсен, все еще пытаясь сопротивляться. — Но где ваша паника? Все обстоит тихо-мирно. А вы нам обещали шумное представление с этими космическими уродцами, местными гуманоидами!? Пока вы не смогли нарушить закон Краута, все ваши конструкции не стоят даже следа обгорелого метеорита.
— Вы и без того проиграли, джентльмены! Да, проиграли! — ликовал миниатюрный корифей психологии. — Я доказал саму идею, ведь с точки зрения классической психологии эта пассивная паника столь же невозможна, как и активная ее форма. Конечно, вам не хочется ударить лицом в грязь. Вот вы и пытаетесь отрицать факты и тянете волынку с техническими деталями. Собирайтесь домой, джентльмены, ведь вам место в теплых постельках. Психологи, несмотря на всю свою ученость, все равно были людьми со всеми их человеческими слабостями. Они могли анализировать свои побудительные мотивы, но при этом оставались рабами мотивов в той же степени, как и любой простой смертный. И поэтому сейчас эти прославленные на всю Галактику психологи корчились от мук оскорбленного самолюбия и невероятного тщеславия, что механически выливалось в тупое упрямство. Они все это прекрасно понимали и знали, что Порус тоже это понимает, но ничего не могли с собой сделать.
Инар Тубал злобно сверкнул глазами с красными ободками:
— Активная паника или ничего, Тан Порус. Вы нам это обещали, и мы требуем. Да, мы настаиваем на буквальном выполнении, а на все технические нюансы, клянусь пространством и временем, нам начхать. Или активная паника, или мы засчитываем вам поражение.
Порус еле сдерживал свое раздражение и только благодаря чудовищному усилию воли заставил себя говорить спокойно:
— Будьте же разумны, джентльмены. У нас нет оборудования для прекращения активной паники. Нам нечего противопоставить этой сверхразновидности, с которой мы столкнулись здесь, на Земле. Что если она выйдет из-под контроля?
И в знак протеста Порус яростно замотал головой.
— Изолируем их, и все! — прорычал Семпер Гор. — Начинайте, нечего тянуть. Можете пользоваться любыми средствами, на ваше усмотрение, лишь бы сработало.
— Если сумеете, — добавил Прат.
Больше сдерживать свои чувства Тан Порус не хотел и решил, что может позволить себе слегка расслабиться. Тотчас его меткий и злой язычок как вихрь вырвался наружу и погреб маленького психолога в волнах концентрированных ругательств.
— Будь по-вашему, вакуумноголовые! Будь по-вашему, чтобы на вас небеса обрушились! — У него перехватило дыхание от гнева. — Мы начнем прямо здесь, в Терраполисе, как только все население разойдется по домам. Но вы очень хорошо подумайте, чем этот пожар будете тушить!
Он раздраженно фыркнул и исчез за дверью.
Легким движением руки Тан Порус приоткрыл занавеску, и пятеро психологов повернулись к нему, отводя в сторону глаза. Гражданское население покинуло улицы земной столицы. Уверенный топот солдат, патрулирующих городские магистрали, звучал панихидой. Неприветливое небо низко нависло над грудами павших тел. На смену дикой разрушительной оргии пришло гробовое молчание.
— Опыт произведен. На это потребовалось всего несколько часов, коллеги, в голосе Поруса чувствовалось усталость. — Если паника распространится за пределы города, мы окажемся бессильны остановить ее.
— Кошмар, кошмар! — пробормотал Прат. — Ради такой сцены психологу не жалко без руки остаться, даже можно и жизнью рискнуть.
— И это — гуманоиды! — простонал Винсен.
— Вы хоть понимаете, что все это значит, Порус? Ведь земляне — это неконтролируемая цепная реакция, ими невозможно управлять. Будь они дважды теми технологическими гениями, какими являются, они бесполезны. С их психологией толпы, массовой паникой, суперэмоциональностью им просто нет места среди нормальных гуманоидов.
Порус удивленно поднял брови и отпарировал:
— Кометный газ! Как индивидуумы мы эмоциональны не менее их. Просто они превращают это в массовое действие. Мы — нет. Вот и вся разница.
— Но и этого достаточно! — завопил Тубал. — Наше решение, Порус, созрело прошлой ночью, когда мы наблюдали за… этим. Солнечная система должна остаться сама по себе. Она источник заразы, и мы не желаем иметь с ней ничего общего. Для хомо сол нужно установить строгий карантин. Это решение окончательное.
Ригелианин снисходительно улыбнулся:
— Для Галактики оно может быть окончательным. А для хомо сол?
Тубал пожал плечами:
— К нам они не присоединятся.
Порус улыбнулся еще раз:
— Слушайте, Тубал. Только между нами. Вы не пытались провести временную интеграцию сто двадцать восьмого уровня в соответствии с ростом тензоров Карлеона?
— Н-нет. Я бы не сказал, что занимался этим.
— Отлично! Тогда, я думаю, вас обрадуют мои вычисления.
Психологи столпились вокруг листка бумаги, которую протянул им Порус. Их лица менялись в соответствии с их чувствами: от интереса к недоумению, затем к чему-то, очень близко напоминающему панику. Хелвин судорожным движением швырнул листки на стол.
— Это ложь! — крикнул он.
— Сейчас мы опережаем их на тысячу лет и еще пару сотен продержимся впереди, — отрезал Тубал. — Они не смогут ничего поделать со всей Галактикой.
Тан Порус захохотал:
— Вы все же не верите математике? Разумеется, это вполне совпадает с вашими поведенческими характеристиками. Что ж, поглядим, смогут ли вас убедить специалисты, раз уж контакт с этими ненормальными гуманоидами вас наизнанку выворачивает. Джоселиан… Арн… зайди-ка!
Появился командир-центаврианин, автоматически отдал честь и застыл в ожидании.
— Сможет ли в случае необходимости военный звездолет Федерации выстоять в поединке с земным кораблем?
Арн скривился в кислой улыбке:
— Ни малейшего шанса, сэр. Эти гуманоиды нарушают закон Краута не только при панике, но и в сражении. Личный состав наших кораблей комплектуется из корпуса специалистов — их экипажи состоят из одиночек, умеющих функционировать как целое, лишенное индивидуальности. Они нашли свой способ борьбы: мне представляется, паника здесь будет самым подходящим названием. Каждая личность на борту становится отдельным органом корабля. Для нас, как вы знаете, такое невозможно. Кроме того, мир этот — масса сумасшедших гениев. Они воспользовались, только по моим наблюдения, по меньшей мере, двадцатью оригинальными, но бесполезными изобретениями, с которыми познакомились в Ласунском музее, когда посещали нас. Вывернув эти изобретения наизнанку, земляне на их базе изготовили целый ряд очень неприятных военных устройств. Все вы знаете фиксатор гравилиний Юлвина-Тилла, использовавшийся, и довольно эффективно, для обнаружения рудных месторождений, до того как появились новые методы на электронных потенциалах. Они его — уж не знаю как! — переделали в один из самых смертоносных корректировщиков огня, каких я еще не имел удовольствия видеть. Он сам по себе наводит орудие или излучатель на совершенно не видимое в космосе устройство, но обладающее массой.
— Но мы, — ввернул Тан Порус, — располагаем значительно более многочисленным и мощным флотом на данном этапе. Мы в состоянии их сокрушить, разве не так?
Джоселиан Арн помотал головой:
— Победить их сейчас можно. Но я уверен, что эта победа будет не из легких. Во всяком случае, меня такой исход сражения не привлекает. Вся беда в том, что эта компания маньяков-изобретателей выдумывает новые военные устройства до отвращения быстро. Технологически они столь же нестабильны, как и волна на воде. Наша же цивилизация больше напоминает песчаную дюну. Я видел их фабрики наземных машин, предусматривающие изготовление любых деталей для новых марок: через шесть месяцев от них отказываются, считая, что они полностью устарели. Теперь мы вошли ненадолго в контакт с их цивилизацией, и, оказывается, наши чудеса двухсотвосьмидесятилетней давности почти не дают никакого преимущества. Это они скорее присоединят к себе любую недавно открытую цивилизацию, даю вам стопроцентную гарантию.
— А как будет выглядеть наше военное положение, — поинтересовался Порус, если мы полностью игнорируем их, скажем, лет этак с двести?
Джоселиан Арн отрывисто хохотнул:
— Если мы сможем, но лучше сказать, если они нам позволят, то я отвечу: сложите руки и на том успокойтесь. Боюсь, что они теперь энергично возьмутся за дело. Двести лет работ над новыми изобретениями, на которые их натолкнуло недолгое знакомство с нами, и мне страшно подумать, что они там навыдумывают. Подождем еще немного, и никакого сражения не потребуется: это будет аннексия с их стороны.
Тан Порус церемонно поклонился:
— Благодарю вас, Джоселиан Арн. Те же результаты следуют и из моих математических выкладок.
Джоселиан Арн отдал честь и вышел из помещения. Повернувшись к пяти парализованным размышлениями ученым. Тан Порус продолжил:
— Надеюсь, наши слишком образованные джентльмены прореагируют на это глубоко гуманоидным образом. Вы убедились, что для нас не выход — прекратить любое общение с этой расой? Мы на это можем пойти, они же — никогда! Глупцы! Неужели вы думаете, что я стану тратить время на споры с вами? Это я устанавливаю закон, понятно вам? Хомо сол станут частью Федерации. И за две сотни лет достигнут зрелости. Об этом я вам заявляю официально.
Ригелианин свирепо обвел глазами помещение и бесцеремонно распорядился:
— Марш за мной.
Они последовали за маленьким психологом, смирившиеся и покорные, и оказались в его жилых помещениях.
Тан Порус отодвинул в сторону занавеску, и все увидели полотно, изображавшее взрослого землянина в полный рост.
— Вам это о чем-нибудь говорит?
Изображенный человек совсем не походил на тех жителей Земли, с которыми психологам пришлось иметь дело. Невольное почтение внушали его горделивая осанка, величавая поступь и суровый, строгий взгляд. Одной рукой он поглаживал седовласую бороду, другой — поддерживал ниспадавшие одежды, облекавшие его могучее, прекрасное тело. И весь он олицетворял собой величие и силу.
— Зевс, — сказал Порус. — Первобытные земляне создали его как персонификацию бурь и дождей, штормов и гроз. — Он повернулся к растерянной пятерке. — Не напоминает ли он вам кого-нибудь?
— Хомо канопус, — неуверенно предположил Хелвин.
Порус был очень доволен собой, но лишь на мгновение позволил этому чувству вырваться наружу, чтобы затем вновь надеть на лицо каменную маску.
— Верно, — отрезал он. — Кто в этом будет сомневаться? Живой канопусец, полностью поглощенный осязанием своей бородищи.
— Теперь, — продолжал Порус, отодвигая следующую занавеску, — еще кое-что.
На втором полотне была изображена женщина, полногрудая, широкобедрая, с несказанной улыбкой на лице, в венке из колосьев и с корзиной плодов в руках.
— Деметра, — улыбаясь пояснил Порус. — Еще одна персонификация, уже культурного изобилия. Идеализированная мать. Кого она вам напоминает?
На этот раз сомнений не последовало. Пятеро в один голос воскликнули:
— Хомо бетельгейзе!
Слабая улыбка тронула губы Поруса:
— Вот мы их и заполучили? Верно?
— Что верно? — переспросил Тубал.
— Неужели не видите? — улыбка исчезла с лица Поруса. — Что вам не понятно? Ничтожества! Если сто Зевсов и столько же Деметр прибудут на Землю как члены торговой миссии и окажутся опытными психологами… Мне продолжать или теперь вам ясно?
Семпер Гор неожиданно рассмеялся:
— Пространство, время и микрометеорит! Конечно же! Земляне станут глиной в руках своих собственных персонификаций непогоды и материнства, воплощенных в жизнь. И через двести лет… да, через двести лет мы от них сможем добиться чего угодно.
— Но что касается этой вашей так называемой «торговой миссии», Порус, вмешался Прат, — для начала необходимо уговорить землян согласиться на нее.
Порус склонил голову набок.
— Дорогой коллега Прат, — проворчал он, — не думаете ли вы, что я устроил пассивную панику только для собственного удовольствия или желания проучить пять тупоголовых кретинов? Пассивная паника парализовала промышленность, и земное правительство оказалось перед лицом революции — еще одной формой реакции толпы, которая ждет своего исследования. Предложите им галактическую торговлю и бесконечное процветание, и вы думаете, они начнут на нас бросаться? А что на это скажут массы?
Психологи взволнованно зашушукались, но ригелианин нетерпеливым жестом прервал их.
— Если у вас больше нет вопросов, джентльмены, начнем подготовку к возвращению. Честно говоря, я устал от Земли и горю желанием вновь взяться за сквида, — заключил Порус и отвернулся, обращаясь к Харидину:
— Скажи Арну, чтобы готовил корабль. Мы отбываем через шесть часов!
— Но… но…
Общее недовольство выразил неожиданный поступок Семпера Гора, вдруг рванувшегося к Порусу и рывком оттащившего его назад, словно тот намеревался отбыть немедленно. Маленький ригелианин тщетно пытался вырваться — противник обладал недюжинной силой.
— Убери руки!
— Мы достаточно терпеливы, Порус, — выдохнул Гор, — Так что, будь добр, успокойся и веди себя как гуманоид. Что бы вы ни говорили, мы не улетим, пока все не сделаем. Надо договориться с этим правительством насчет нашей торговой миссии. Мы должны спокойно обсудить ее состав. Подобрать подходящих психологов… Мы…
Тут Порус ловким движением освободился из объятий своего коллеги:
— И вы хоть на мгновение могли предположить, что я стану ждать, пока ваша изумительная миссия выяснит каждую детальку вопроса, убив на это еще два-три столетия!? Прошел целый месяц с тех пор, как Земля безоговорочно приняла мои условия. А пять месяцев назад был выслан отряд с Канопуса и Бетельгейзе. Позавчера он прибыл. Только с их помощью мы смогли остановить сегодняшнюю панику — а вы об этом даже не подозревали. Вы, должно быть, решили, что сами справитесь?! Но, джентльмены, сейчас они держат ситуацию под полным контролем и в наших услугах больше не нуждаются. Так что отправляемся домой.
И Порус позволил себе слабо усмехнуться.
перевод А. БурцеваМнимые величины
Телекоммуникатор разбрасывал судорожные вспышки, пока психолог с Ригеля Тан Порус неторопливо устраивался перед экраном. В глазах Тана появился блеск, возбуждение передалось всем членам его худенького тела. И даже необычная его поза — Порус уселся, водрузив ноги на стол, — подчеркивала неординарность происходящего. Наконец коммуникатор ожил, засветился, и на экране появилось широкое лицо жителя Арктура, глядевшего раздраженно и хмуро.
— Сейчас середина ночи! Ты вызвал меня сюда прямо из постели, Порус!
— А у нас самый что ни на есть день, Финал. Но мое сообщение у тебя начисто прогонит мысли о сне.
Легкое беспокойство охватило Гара Финала, редактора журнала «Галактическая психология». Финал знал, что Порус, как и всякий гуманоид, имеет множество недостатков, но обладает при этом одним несомненным достоинством: никогда и никого не поднимет из постели по ложной тревоге. Если Порус говорил, что назревает событие огромной важности, то степень важности оказывалась не просто огромной, а, как минимум, колоссальной. К тому же сейчас Порус был несомненно доволен собой, что случалось с ним не так уж часто.
— Финал, — произнес он, — следующая статья, которую я намерен продать вашему журналишке, станет величайшей работой, когда-либо мною напечатанной.
На Финала это произвело впечатление.
— Вы отдаете отчет своим словам? — спросил он.
— Не задавайте идиотских вопросов. Разумеется, отдаю. Послушайте…
Тут последовало неожиданное молчание, в течение которого нетерпение Финала возрастало с величайшей скоростью, но наконец Порус, будто актер, разыгрывающий на сцене драму, выдавил из себя напряженным шепотом:
— Я разрешил проблему сквида!
Реакция оказалась как раз такой, какую психолог предвидел. Своим сообщением он вызвал немалой силы эмоциональный взрыв, продолжавшийся примерно минуту, в течение которой ригелианин не без удовольствия отметил, что словарный запас благочинного и респектабельного арктурианца богат также и непристойными выражениями.
Сквид Поруса давно стал притчей во языцех для всей Галактики. Вот уже два года ученый бился с непонятным организмом с Беты Дракона, который настойчиво погружался в сон, когда ему вовсе не полагалось этого делать. Порус выводил все новые уравнения и уничтожал их с такой периодичностью, что это уже превратилось в стандартную шутку среди психологов Федерации, но необычную реакцию сквида объяснить не мог никто. И теперь Финала вытащили из постели, чтобы сообщить, будто решение найдено, — всего-то навсего!
Финал разразился заключительной фразой, передать которую телекоммуникатор мог лишь частично.
Порус выждал, пока ураган стих, после чего мирно поинтересовался:
— Знаешь, каким образом я ее решил?
В ответ послышалось невнятное бормотание.
Наконец ригелианин заговорил. От былого его веселья не осталось и следа, а после первых слов пропали и следы ярости на лице Финала, уступив место выражению, означавшему, что арктурианец испытывает нескрываемый интерес.
— Не может быть! — с трудом выдавил журналист.
Порус договорил, и Финал тут же принялся яростно дозваниваться до издательства, чтобы приостановить печатание журнала «Галактическая психология» на две недели.
Фуро Сантис, декан математического факультета университета Арктура, долго и внимательно рассматривал своего коллегу с Сириуса.
— Нет, нет, вы ошибаетесь. Его уравнения совершенно правильны. Я сам работал с ними.
— Математически — да, — отозвался круглолицый сирианец. — Но с точки зрения психологии они лишены смысла.
Сантис хлопнул себя по широкому лбу:
— Смысл! Послушайте только — и это говорит математик! Всемогущий Космос, коллега, что общего у математики со смыслом? Математика просто инструмент, и до тех пор пока с его помощью даются правильные ответы и делаются верные предсказания, актуальный их смысл роли не играет. Именно так я и заявил Тану Порусу. Большинство психологов знают математику настолько, чтобы не всегда путаться со сложением и умножением, но он в этом деле разбирается.
Собеседник Сантиса с сомнением покачал головой:
— Да знаю я, знаю. Но использование мнимых величин в уравнениях по психологии несколько превосходит мою веру в науку. Квадратный корень из минус единицы?
Он передернул плечами.
Комната отдыха старших в здании Психологического центра была переполнена и гудела взволнованными голосами. Слух о том, что Порус разрешил ставшую ухе классической проблему сквида, распространился мгновенно, и разговоры велись только об этом.
Постепенно всеобщим вниманием завладел Лор Харидин, который, несмотря на свою молодость, недавно был удостоен титула старшего. И теперь, являясь ассистентом Поруса, он явно считал себя хозяином положения.
— Значит, слушайте, коллеги… только учтите, всех подробностей я не знаю. Они секрет старика. Все, что я могу сообщить, это, так сказать, генеральную идею, то есть каким образом Порус решил эту проблему.
Психологи пододвинулись ближе.
— Говорят, он воспользовался мерой новых математических символов, заметил один из присутствующих, — и как раз в тот момент, когда у нас возникли затруднения с гуманоидами с Земли.
Лор Харидин покачал головой:
— Еще хуже! Представить не могу, что заставило старика работать в том направлении. Может, мозговая атака, может, кошмары. Но, как бы там ни было, он обратился к мнимым величинам — квадратному корню из минус единицы.
Наступило благоговейное молчание, снова прерванное тем же голосом:
— Просто не могу поверить!
— Это факт! — благодушно ответил Харидин.
— Но ведь в этом нет никакого смысла. Что может собой представлять квадратный корень из минус единицы, если брать его в психологическом понимании? Значит… — говорящий производил в уме быстрые вычисления, как и большинство присутствующих… — получается, что нервные синапсы смыкаются не более и не менее как в четырех измерениях.
— Именно так, — раздался еще один голос. — Если воздействовать на сквид сегодня, то его реакция последует вчера. Вот что должны означать эти мнимые величины. Кометный газ! И ничего больше.
— Дело в том, что Тан Порус — особенный человек, — снова вмешался Харидин. — Вы полагаете, что его интересовало, как много мнимых величин возникло на промежуточных стадиях, если все они в конечном счете свелись к квадратному корню из минус единицы? На самом деле, ему требовался конечный результат, сводившийся к простенькому выражению, которое может объяснить эти непонятные приступы сонливости. Что же касается их физической природы — какое это имеет значение? Математика всего лишь инструмент, не более.
Последовало длительное молчание: удивленные присутствующие обдумывали услышанное.
Тан Порус занимал отдельную каюту на борту новейшего и самого шикарного межзвездного лайнера. Перед психологом стоял смущенный молодой человек, которого Порус не без удовольствия осматривал. Он был в поразительно хорошем настроении и, пожалуй, впервые за всю свою жизнь не выходил из себя, давая интервью деловитому представителю прессы.
Репортер в свою очередь молча изумлялся приветливости ученого. На собственном горьком опыте он убедился, что ученые в большинстве своем недолюбливают репортеров, а психологи — в особенности, и часто используют их в качестве объектов для отработки своих методов, вызывая убийственно смешные для окружающих реакции.
Журналист вспомнил, как однажды старикан с Канопуса убедил его, что величайшее наслаждение — жить на деревьях. Тогда потребовалось двенадцать человек, чтобы стащить его с вершины, а специальный психолог приводил в порядок его рассудок.
Сейчас же он имел дело с самым великим из психологов — Таном Порусом, который деловито отвечал на вопросы, как и полагается нормальному живому существу.
— И еще, профессор, — продолжал расспрашивать репортер, — я хотел бы узнать, как следует понимать эти мнимые величины. Не в математическом смысле, — торопливо добавил он, — тут мы верим вам на слово, а, так сказать, генеральную идею, понятную среднему гуманоиду. Я слышал, что у сквида четырехмерный мозг?
Порус взревел.
— О Ригель! Четырехмерная чепуха. Если говорить чистую правду, то мнимые величины, вызывающие столь удивительные фантазии у общественности, на самом деле свидетельствуют лишь об определенных аномалиях в нервной системе сквида. Но каких именно, я не знаю. С точки зрения основополагающих законов экологии и микропсихологии, ничего необычного в обнаруженном не было, Очевидно, ответ нужно искать в атомной структуре мозга этого объекта, но тут я бессилен. — В голосе Поруса появились презрительные нотки. — Ядерные физики настолько отстали от психологов, что нет смысла просить их разобраться в этом нюансе.
Репортер яростно записывал. Завтрашний заголовок уже сформулировался у него в голове: «Прославленный психолог обвиняет физиков-ядерщиков!»
И тут же возник заголовок для послезавтрашнего номера: «Оскорбленные физики разоблачают прославленного психолога!».
Научные распри пользовались большой популярностью в прессе, в особенности те, что случались между физиками и психологами, переносившими друг друга с трудом.
Репортер поднял сияющие глаза на Поруса:
— Профессор, вы, конечно, знаете, что гуманоиды Галактики очень интересуются личной жизнью ученых. Надеюсь, вы не обидитесь, если я задам вам несколько вопросов относительно вашей поездки домой, на Ригель-IV?
— Валяйте, — добродушно согласился Порус. — Скажите им, что я впервые за последние два года выбрался домой и сейчас нахожусь в предвкушении отличного отдыха. Арктур несколько желтоват для моих глаз, и обстановка здесь слишком шумная.
— Это правда, что дома вас ждет жена?
Порус закашлялся:
— Мгм, да. Самая очаровательная малышка во всей Вселенной. Можете записать: мне очень приятно, что я ее скоро увижу.
— Тогда почему вы не взяли ее с собой на Арктур?
Выражение добродушия частично испарилось с лица ученого:
— Работать я предпочитаю один. Женщины хороши, когда они на своем месте. К тому же мое представление об отдыхе — это отсутствие посторонних, я люблю иногда побыть в одиночестве. Этого, пожалуй, не записывайте.
Репортер отложил блокнот и посмотрел на своего миниатюрного собеседника с нескрываемым восхищением.
— Скажите, профессор, но каким образом вам удалось оставить ее дома? Надеюсь, это не секрет? — Он проникновенно вздохнул и добавил: — Очень скоро это могло бы мне пригодиться.
Порус хохотнул:
— Так и быть, сынок, скажу. Если ты первоклассный психолог, то должен быть хозяином в собственном доме.
Интервью подошло к концу, репортер собрался уходить, но внезапно Порус схватил его за руку. Зеленые глаза профессора сделались маленькими и злыми:
— Послушай, сынок, не забудь опустить в статье последнее замечание.
Репортер побледнел и отшатнулся:
— Конечно, сэр, ни в коем случае. Журналисты хорошо знают, что лучше не обезьянничать с психологом, иначе он сделает обезьяну из тебя!
— Неплохо сказано! Выражаясь литературно, знаешь ли ты, что мне это под силу, если понадобится?
Молодой репортер поспешил покончить с расспросами, втянул голову в плечи и вытер холодный пот со лба. Направляясь к выходу, он почувствовал себя так, будто стоит на краю пропасти. И мысленно решил: больше никаких интервью с психологами. Во всяком случае, пока ему не повысят зарплату.
На приближение к родной планете первым отреагировало сердце Поруса, застучав сильнее обычного, а затем его глаз достиг свет девственно-белого шара Ригеля, при этом мозг ученого бесстрастно констатировал: реакция В-типа, то есть ностальгия или условный рефлекс, связанный с тем, что Ригель всегда напоминал Порусу о счастливых переживаниях молодости…
Термины, фразы, уравнения закружились в его изощренном мозгу, но назло им он был счастлив. На недолгий период человек восторжествовал над психологом Порус отказался от анализа ради изумительной радости побыть некритично счастливым.
За две ночи до прибытия он пожертвовал сном, чтобы не пропустить появления Ханлона, четвертой планеты Ригеля. Это и был его родной мир, который населяли маленькие люди. Где-то там, на берегу спокойного моря, стоит маленький двухэтажный домик. Совсем крохотный, в отличие от высоких и громоздких зданий, что строят себе арктурианцы и прочие дылды гуманоиды.
Как раз наступил летний сезон, когда дома кажутся купающимися в жемчужном свете Ригеля, — какое это должно быть удовольствие после желтого солнца Арктура!
И, конечно, самое главное наслаждение, которого Порус был лишен вот уже два года, он получит, объедаясь жареным триптексом. Причем его жена — лучшая мастерица в приготовлении этого изумительного блюда.
При мысли о жене Тан Порус слегка поморщился. Конечно, было подлостью бросить ее вот так на два года, но это диктовалось необходимостью. Он еще раз взглянул на разложенные перед ним бумаги и принялся их перебирать. Пальцы его слегка подрагивали. Весь остаток дня психолог потратил на вычисление реакции жены, когда она впервые увидит его после двухлетней разлуки, и результат получался не очень утешительным.
Тина Порус обладала неукротимыми эмоциями — ему предстояло действовать быстро и эффективно.
Ученый быстро отыскал жену в толпе и улыбнулся. Было приятно снова ее видеть, даже если вычисления предвещали затяжной и мощный шторм. Он еще раз мысленно пробежал свою заготовленную речь и внес последние коррективы.
В этот момент Тина заметила его, неистово замахала руками, пробиваясь в передние ряды встречающих, и повисла на его шее раньше, чем он успел к этому приготовиться. Оказавшись в ее любящих объятиях, Тан Порус с удивлением констатировал, что млеет от счастья.
Правда, это была вовсе не та реакция, которой он ожидал. Что-то шло вразрез с его предположениями.
Жена ловко провела ученого сквозь толпу поджидавших репортеров к тратоплану, не переставая тараторить всю дорогу:
— Тан Порус, Тан Порус, я уже думала, что не доживу до того момента, когда вновь тебя увижу. До чего же здорово, что мы опять вместе. И ты был совершенно не прав. Здесь, дома, конечно, очень хорошо, но, когда тебя нет, что-то тут не так.
Порус не верил своим глазам. Подобная встреча была совершенно не характерна для Тины. А чуткий слух психолога все это воспринимал как бред безумной. У него не хватало соображения отвечать хотя бы мычанием на отдельные высказывания. Медленно коченея в своем кресле, он с ужасом наблюдал, как уносится земля под ними, слышал, как воет вокруг ветер, когда они неслись к своему домику на берегу моря.
А Тина Порус продолжала болтать, легко и ненавязчиво связывая воедино слова, составляющие непрерывную цепь ее монолога:
— И конечно же, дорогой, я приготовила тебе целого триптекса, зажаренного на вертеле, с гарниром из сарниесов. Ах да, что это за история с новой планетой?.. Землей, ведь ты ее так назвал? Я тобой так гордилась, как только услышала. Я сразу сказала…
И так далее и тому подобное, пока ее слова не превратились для Поруса в бессмысленный конгломерат звуков.
Но где же ее упреки? Где слезы, вызванные жалостью к себе?
За обедом Тан Порус попытался взять себя в руки и мысленно призвал на помощь всю свою волю. Перед ним стояла испускавшая пары тарелка с триптексом, почему-то совсем не вызывающим аппетит, но психолог заговорил как ни в чем не бывало:
— Это мне напоминает тот день на Арктуре, когда я обедал с председателем правления…
Он погрузился в подробности, хотя совсем отклонился от сути дела; живописал шуточки, при этом лирически гневался на собственное от них удовольствие; сделал упор почти не замаскированный, на тот факт, что он чуть было не забыл свою жену; наконец, в последней дикой вспышке отчаяния, как бы ненароком вспомнил, что поразительное количество ригелианских женщин встретил в системе Арктура.
На все эти его слова жена проговорила с улыбкой:
— Я так рада, мой дорогой. Это просто замечательно, что ты там был не один. Ешь же свой триптекс.
Но Пору с не мог есть даже триптекс. При одной мысли о еде его начинало мутить. Растерянно, пожалуй, даже испуганно он посмотрел на жену, медленно поднялся; пытаясь сохранить остатки достоинства, решил спастись бегством и уединился в своей комнате.
Там он лихорадочно полистал расчеты, потом рывком опустился в кресло. Кипя от ярости, Порус понимал: с Тиной явно происходило что-то недоброе. Невероятно недоброе! Даже интерес, появившийся к другому мужчине, — на мгновение он предположил и такое — не мог настолько революционно изменить ее характер.
Психолог рванул на себе волосы. Существовал какой-то тайный фактор, еще более невероятный, чем этот, — а он понятия не имел какой! В это мгновение Тан Порус отдал бы все свои всемирные заслуги только за то, чтобы его жена сделала хоть одну попытку снять с него скальп, как в добрые старые времена.
А рядом, в столовой, Тина Порус позволила веселым искоркам заиграть в ее глазах.
Лор Харидин отложил ручку и сказал:
— Войдите!
Дверь открылась, появился его приятель Эбло Раник, одним движением расчистил угол стола и уселся на его край:
— Харидин, у меня идея!
Голос его прозвучал необычно, словно виноватый выдох. Харидин с подозрением покосился на него:
— Вроде той, когда ты подстроил ловушку старине Обелю?
Раник пожал плечами. Действительно, целых два дня ему пришлось скрываться в вентиляционной шахте, когда его шутка великолепнейшим образом сработала.
— Нет, на этот раз все законно. Слушай, Порус ведь тебе поручил заботиться о сквиде, не так ли?
— Ага, вижу, на что ты нацелился. Ничего не выйдет. Я имею право лишь накормить сквида и ничего больше. Даже если я хлопну в ладоши, чтобы вызвать у него реакцию перемены цвета, шеф меня потом прикончит.
— Космос с ним. Он где-то там, за много парсеков отсюда. — Раник извлек экземпляр журнала «Галактическая психология» и развернул на нужной странице.
— Ты следил за экспериментами Ливелла на Проционе-V? Интересно, там использовались магнитные поля или ультрафиолетовое облучение?
— Не моя область, — ответил Харидин, — но, конечно, я о них слышал. А в чем дело?
— Так вот, появляется реакция Е-типа, которая порождает, хочешь верь, хочешь не верь, стройный эффект Фимбала практически в каждом случае, в особенности у высших беспозвоночных.
— Хм-м-м!
— Значит, если мы попробуем применить это к сквиду то получим…
— Нет и нет! — Харидин неистово замотал головой. — Порус меня в порошок сотрет. Великие звезды, что он тогда со мной сделает!
— Да послушай ты, дурачок. Последнее слово не за Порусом, а за Фрианом Обелем. Ведь Обель — глава департамента психологии. От тебя требуется лишь обратиться к нему за разрешением, и ты его получишь. Говоря между нами, после той прошлогодней заварухи с хомо сол он старается Порусу на глаза не попадаться.
Харидин все еще пытался сопротивляться:
— Вот ты и обратись за разрешением.
Раник поперхнулся:
— Нет. Если по правде, то мне не стоит показываться ему на глаза. Кажется, он до сих пор подозревает, что ту штуку с ним выкинул именно я. Так что мне лучше не соваться.
— Хм-м-м. Ладно, попробую.
Выглядел Лор Харидин так, словно неделю не спал как следует. Раник посмотрел на него кротко и терпеливо и вздохнул:
— Взгляните на него. Может, ты соизволишь сесть? Сантин сказал, что есть возможность получить окончательный результат уже сегодня, не так ли?
— Да, я знаю. Но какой позор! Я семь лет убил на высшую математику. А теперь допускаю дурацкую ошибку и даже не могу ее найти.
— Но если ее и искать не надо?
— Не будь идиотом. Ответ тут просто невозможен. Он и должен быть невозможен. Должен! — высокий лоб Харидина пошел морщинами. — О-о, я просто не знаю, что и думать.
Его все еще продолжали одолевать дремота и навязчивое желание растянуться на ковре, лежавшем на полу, но Харидин не прекращал отчаянных размышлений. Неожиданно он опустился в кресло.
— Это все временные интегралы. С ними просто невозможно работать, я же тебе говорил. Нахожу их в таблице, трачу полчаса, чтобы подобрать наиболее подходящее значение, и они дают — ни много ни мало — семнадцать возможных вариантов ответа. Пытаюсь отыскать хотя бы один, имеющий смысл, и — помоги мне Арктур! — выходит, что или они все имеют смысл, или ни один! Составляю таблицу для восьми из них, как в нашей задаче, но комбинаций получается столько, что разбираться с ними нужно всю оставшуюся жизнь! Ложный ответ! Я удивлюсь, если после этого живым останусь.
Взглядом, который он бросил на толстый том «Таблиц временных интегралов», очень даже можно было испепелить переплет, чего к величайшему удивлению Раника все-таки не произошло.
Замигала сигнальная лампочка. Харидин рванулся к двери. Выхватил из рук курьера пакет, с яростью распечатал его, не взирая на печати, и, пролистав не глядя, остановился на последнем абзаце последней страницы. Сангин писал:
«Ваши вычисления правильны. Желаю успеха. Но не стоит Порусу наносить удар из-за спины! Лучше сразу войти с ним в контакт».
Раник прочел резюме, выглядывая из-за плеч Харидина, и они долго и недоуменно смотрели друг на друга выпученными глазами.
— Я был прав, — прошептал Харидин. — Мы обнаружили такое сочетание, при котором мнимые числа в квадрат не возводятся. Эта предсказуемая реакция включает в себя мнимые величины.
Раник сглотнул, чувствуя, что его охватывает оцепенение:
— И как ты это интерпретируешь?
— Великий Космос! Клянусь Галактикой, не знаю! Нужно передать дело Порусу, вот и все.
Раник хрустнул пальцами и схватил своего коллегу за плечо.
— Нет, нет, только не это. Мы упустим величайший шанс. А если доведем дело до конца, будущее нам обеспечено, — он не мог говорить от возбуждения. Великий Арктур! Да любой психолог дважды заложил бы собственную жизнь ради малейшей возможности оказаться на нашем месте!
Сквид с Беты Дракона благодушно плавал себе, не испытывая трепета перед гигантским соленоидом, окружавшим его бассейн. Множество перепутанных проводов, освинцованных кабелей, подвешенных кверху ртутных ламп ничего для него не значили. Он пощипывал листки морских папоротников, растущих вокруг, и, казалось, был доволен тем, что существует в мире со всем миром.
Другие чувства испытывали два молодых психолога. Эбло Раник суетился над сложной паутиной переплетений, в попытке еще раз заново все проверить. Лор Харидин помогал ему тем, что кусал себе ногти, безжалостно отгрызая их один за другим.
— Готово, — заявил наконец Раник и вытер платком пот со лба. — Бей его, не жалей!
Засветились ртутные лампы. Харидин задернул занавеси на окнах. В холодном тускло-красном свете Раник и Харидин с позеленевшими лицами внимательно наблюдали за сквидом.
Животное безостановочно двигалось. В жестком ртутном свете сквид казался тускло-черным.
— Врубай ток! — хрипло бросил Харидин.
— Никакой реакции? — проронил Раник, словно бы ни к кому не обращаясь. И тут же затаил дыхание, так как Харидин еще ниже склонился над сквидом.
— С ним что-то происходит. Мне кажется, он начал слегка светиться… или меня глаза подводят.
Свечение сделалось более отчетливым, казалось, оно отделилось от тела животного, образовав вокруг светящуюся оболочку. Томительно текли минуты.
— Он излучает какой-то вид радиации, можешь называть ее как угодно, и с течением времени этот процесс усиливается.
Ответа не последовало. Оба продолжали терпеливо наблюдать. Вдруг Раник испустил приглушенный вопль и с чудовищной силой вцепился в локоть Харидина:
— Взрывающиеся кометы, это еще что такое?
Светящаяся сфера неведомо как выбросила наружу псевдоподию. Маленький язычок коснулся покачивающегося папоротника, листья которого мгновенно побурели и завяли.
— Отключай ток!
Щелкнул выключатель, погасли ртутные лампы, сгустились тени, и экспериментаторы нервно переглянулись.
— Что это было?
Харадин покачал головой:
— Не знаю. Что-то определенно ненормальное. Я никогда раньше ничего похожего не видел.
— Но ты никогда раньше не видел и мнимых величин в уравнениях реакций, верно? К тому же я не думаю, чтобы это расширяющееся поле было какой-то неизвестной нам формой энергии…
Раник выдохнул со свистом и медленно отступил от бассейна со сквидом. Моллюск лежал неподвижно, но ухе половина папоротников в бассейне побурела и увяла.
Харидин с трудом дышал. Он сдвинул защитные очки.
Во тьме светящийся туманный шар распространился более чем на половину бассейна. Тоненькие подвижные щупальца тянулись к уцелевшим растениям, а одна змейка пульсирующей тенью перекинулась через стеклянный край бассейна и теперь ползла по столу.
От испуга Раник перешел на невразумительный хрип:
— Запаздывающая реакция! Ты не проверял ее на теорему Вилбона?
— Чего ради! — Харидина охватил приступ отчаяния, голова его тряслась. Теорема Вилбона не имеет смысла, если туда подставить мнимые величины. Надо было бы… Раник развил бешеную энергию. Выскочив из помещения, он тотчас вернулся с крохотной, пронзительно верещащей, похожей на белку зверушкой из собственной лаборатории. Бросил ее на стол, по которому ползла пульсирующая змейка, и линейкой пододвинул примерно на ярд.
Светящееся щупальце задрожало, очевидно, ощутило близость жизни каким-то жутковатым незрячим образом и сделало быстрый бросок. Маленький грызун издал последний вопль, означавший непередаваемую муку, затем замолк. Через две секунды от него осталась лишь съежившаяся шкурка.
Раник выругался и с отчаянным криком выронил линейку, так как святящееся щупальце, ухе более толстое, двинулось по столу в его сторону.
— Иди сюда! — распорядился Харидин. — С этим пора кончать. Он рывком расстегнул кобуру и выхватил поблескивающий хромом лазер. Острая тонкая игла пурпурного света ринулась вперед к сквиду и взорвалась с ослепительной беззвучной яростью на границе силовой сферы. Психолог выстрелил еще раз, передвинул рычажок, и образовался непрерывный пурпурный луч разрушения, который прекратился только тогда, когда иссякла энергия разрушения.
Но светящаяся сфера осталась неподвижной. Теперь она занимала уже весь бассейн. Папоротники превратились в мертвую бурую аморфную массу.
— Надо связаться с советом, — выкрикнул Раник. — Эта тварь совсем вышла из повиновения.
Растерянности не возникло — гуманоиды в своей массе просто не способны на панику, если не принимать во внимание полугениальных, полугуманоидных обитателей Солнечной системы, — и эвакуация с территории университета протекала спокойно.
— Один глупец, — заметил старый Мир Деан, ведущий физик Арктурианского университета, — способен задать столько вопросов, что на них не сможет ответить и тысяча мудрецов.
Он провел пальцем по своей жидкой бороденке и звучно фыркнул в знак презрения:
— Если проводить аналогию, то один космически глупый психолог способен заварить такую кашу, что ее не расхлебать и тысяче физиков.
Обелю ужасно захотелось оттаскать зарвавшегося физика за бороду. У него, конечно, было свое мнение насчет Харидина и Раника, но не увечному же физику позволять себе…
Появившаяся полная фигура Куала Унина, ректора университета, разрядила возникшее напряжение. Уинн задыхался, слова его перемежались с пыхтением.
— Я связался с Галактическим Конгрессом. Они пообещали эвакуацию всего Эрона в случае необходимости, — в голосе его появились умоляющие нотки. Неужели нельзя ничего больше сделать?
Мир Деан вздохнул:
— Ничего… пока. Этот сквид излучает особого вида псевдоживое поле радиации. Оно не носит электромагнитного характера — это все, что мы сейчас знаем. Его распространение не удалось остановить ничем из того, что мы перепробовали. Все виды нашего оружия неэффективны, потому что в пределах поля радиации обычные качества пространства-времени, как мне кажется, нарушаются. Ректор озабоченно покачал головой:
— Скверно! Скверно! Надеюсь, вы уже послали сообщение Порусу?
Он произнес это так, словно Порус был последней надеждой, той самой соломинкой, за которую хватается утопающий.
— Да, — хмуро ответил Фриан Обель, — Порус единственный человек, который должен знать, что же на самом деле представляет собой сквид. Если и он не сможет нам помочь, значит, больше никто не сможет.
Обель перевел взгляд на сверкающую белизну университетских зданий. Трава более чем наполовину превратилась в бурую массу, деревья высохли.
— Вы полагаете, — ректор повернулся к Деану, — это поле сможет распространяться и в межпланетном пространстве?
— Пламя сверхновой энергии?! Да я совсем не знаю, что тут делать! взорвался Деан и раздраженно отвернулся.
Полнейшая безысходность охватила присутствующих, и воцарилось гнетущее молчание.
Тана Поруса уговорили сходить на концерт, результатом чего явилась глубочайшая апатия. Психолог ничего не видел и не слышал: ни бриллиантового сверкания вокруг, ни мелодичной музыки, которая заполняла зал. Концерты для Поруса всегда были проклятием, и двадцать лет супружеской жизни он умело от них откручивался — одно это было под силу только величайшему из психологов. А теперь… Из оцепенения его вывел неожиданный дисгармонический звук, раздавшийся у него за спиной. Порядок нарушили билетеры, вдруг столпившиеся у выхода, лишь виднелись протестующие движения рук людей в униформе, наконец раздался скрипучий голос:
— Я направлен Галактическим Конгрессом и прибыл по неотложному делу. Присутствует ли в зале Тан Порус?
Психолог прыжком вскочил на ноги. Любую возможность покинуть концерт он воспринимал не иначе, как дар небес.
Порус распечатают сообщение, врученное ему посыльным, и жадно впился в его содержание. На втором абзаце приподнятое настроение покинуло ученого. Наконец он дочитал сообщение до конца и поднял кверху глаза — они метали молнии.
— Когда мы можем вылететь?
— Корабль ждет.
— Тогда не следует терять времени.
Он сделал шаг вперед и остановился. Чья-то рука ухватила его за локоть.
— Куда это ты собрался? — спросила Тина Порус, в голосе ее послышались стальные нотки.
На мгновение Тан Порус почувствовал, что задыхается. Он предвидел, что сейчас может произойти:
— Дорогая, я вынужден немедленно отправиться на Эрон. На карту поставлена судьба целого мира, возможно, всей Галактики. Ты представить себе не можешь, насколько это важно. Я тебе все расскажу…
— Хорошо, я еду с тобой.
Психолог опустил голову.
— Конечно, дорогая, — выдавил он и вздохнул.
Психологи из комиссии дружно, как один, хмыкнули и забормотали, после чего с подозрением уставились на висящий перед ними крупномасштабный график.
— Смелее, коллеги, — проговорил Тан Порус. — Я сам чувствую себя в данном случае не совсем уверенно, но… вы все ознакомились с моими результатами, сами проверили вычисления. Это единственное воздействие, способное прекратить реакцию.
Фриан Обель нервно теребил подбородок:
— Да, с математикой все четко. Рост водородно-ионной активности может повысить интеграл Демана, и тогда…
Но послушайте, Порус, это не увязывается с пространством-временем. Математика здесь может оказаться бессильной, хотя, возможно, и все остальное не поможет.
— Это наш единственный шанс. Если бы мы имели дело с обычным пространством-временем, достаточно было бы залить этого проклятого красавчика сквида изрядной долей кислоты или зажарить из лазера. А поскольку дело обстоит иначе, у нас нет выбора и мы вынуждены пользоваться этой единственной возможностью…
Поруса перебил чей-то звучный голос:
— Дайте же мне пройти, говорю вам! Меня это не заботит, пусть идет хоть десять конференций сразу.
Дверь распахнулась, в проеме возникла массивная фигура Куала Уинна. Он поискал глазами Поруса и устремился к нему:
— Порус, должен вам сообщить, что я схожу с ума. Парламент намерен возложить всю ответственность на меня, как на ректора университета. А теперь еще Деан говорит, что…
И он беззвучно зашевелил губами, а Мир Деан, стоявший позади, продолжил рассказ:
— Поле теперь покрывает примерно одну тысячу квадратных миль, причем его способность к росту равномерно увеличивается. Теперь больше не остается сомнений, что оно способно распространяться и в межпланетном пространстве, а если понадобится, то и в большом межзвездном. Это уже вопрос времени.
— Вы слышали? Слышали? — Уинн прямо заблеял от тревоги. — Можете вы хоть что-то предпринять? Ведь вся Галактика погибнет! Погибнет, говорю я вам!
— Да оставьте вы в покое свою тунику, — громыхнул Порус. — И позвольте нам все уладить. — Он повернулся к Деану: — Сообразят ваши шутейные физики выполнить такие хотя бы грубые замеры, как, скажем, скорость проникновения поля сквозь различные преграды?
Деан сухо кивнул:
— Проницаемость варьируется в зависимости от плотности. Осьмий, иридий и платина — хорошо; золото, свинец — прекрасно.
— Чудненько! Все срабатывает. Мне потребуется скафандр с осьмиевым покрытием и шлемом из освинцованного железа. И чтобы покрытие было с обеих сторон, а шлем надежным и толстым.
Куал Уинн с яростью сорвался с места:
— Осьмиевое покрытие! Осьмиевое! Клянусь Великими Галактиками, о цене вы подумали?
— Подумал, — холодно проронил Порус.
— Но ведь они взвалят все это на университет, они… — Он с трудом опомнился, ощутив на себе угрюмый взгляд психолога.
— Когда он вам понадобится? — обреченно промычал Уинн.
— Вы на самом деле решили идти сами?
— А почему бы нет? — спросил Порус, забираясь в скафандр.
Мир Деан сказал:
— Шлем из освинцованного стекла сможет противостоять полю не больше часа, а возможно, вы испытаете его частичное проникновение и через более короткий промежуток времени. Понятия не имею, что вы тогда станете делать.
— Это уж мои заботы. — Порус замолчал, потом неуверенно добавил: — Я буду готов через несколько минут. Мне нужно поговорить с моей женой, наедине.
Беседа отличалась краткостью, причем это был один из тех крайне редких случаев, когда Тан Порус позабыл, что он психолог, и говорил то, что подсказывало сердце, без пауз, чтобы видеть непосредственную реакцию собеседника. Единственное, в чем он оставался уверен — срабатывала интуиция это в том, что жена его не повредилась рассудком и не сделала его сентиментальным, и он знал, что не ошибается. Ведь только в последнюю секунду она отвела глаза, а голос ее задрожал. Тина выхватила платок из широкого рукава и торопливо выбежала из комнаты.
Психолог поглядел ей вслед, затем нагнулся и поднял тоненькую книжицу, которая выпала, когда жена доставала платок. Не глядя, он сунул брошюрку в карман туники, криво усмехнулся и сказал:
— Талисман!
Одноместный крейсер Тана Поруса мчался сквозь поле смерти. И почти сразу его охватило липкое ощущение заброшенности. Он передернул плечами:
— Воображение! Сейчас нельзя нервам позволить распуститься.
Настоящее сияние — искры, гаснущие раньше, чем он успевал их рассмотреть, — разлилось в воздухе вокруг него. Потом сияние охватило весь корабль. Порус глянул вверх и увидел, что пять эрианских розовых рисовых птичек, которых он прихватил с собой, лежат мертвыми на полу клетки, представляя собой беспорядочную груду встопорщенных перьев.
— Значит, «поле смерти» уже здесь, — пробормотал он.
Поле действительно проникало сквозь стальную оболочку крейсера.
Посадка прошла довольно неуклюже: крейсер сильно ударился об университетское поле. Тан Порус в нелепом и громоздком осьмиевом скафандре выбрался наружу, и его взору предстал безжизненный пейзаж. Все: начиная от бурой щетины под ногами и заканчивая светящимся небом, ничего общего не имевшим с голубизной, — говорило о смерти. Порус направился к факультету психологии.
В лаборатории было темно. Шторы так и остались опущенными. Психолог поднял их и принялся изучать бассейн со сквидом. Водяной клапан продолжал работать, и бассейн был полон. Впрочем, это единственное, что казалось здесь нормальным. Лишь несколько темно-коричневых искрошившихся обломков напоминали о морских папоротниках. Сам сквид инертно лежал на дне бассейна. Тан Порус вздохнул. Он вдруг почувствовал, как усталость и оцепенение наваливаются на него. Мозг не мог работать нормально, пребывая как будто в тумане. Какое-то время ученый глядел прямо и ничего не видел. Наконец собрался с силами, поднял бутылку, которую принес с собой, и поглядел на этикетку. Двенадцатимолевая гидрохлоридная кислота. Он рассеянно промычал про себя:
— Две сотни кубиков. Теперь все содержимое выливаем и насильно заставляем радиацию понизиться. Если только ионная активность водорода имеет здесь какое-либо значение.
Порус нащупал стеклянную пробку и неожиданно для себя рассмеялся. Он вдруг вспомнил, что похожие ощущения испытал, когда единственный раз в жизни напился. Порус помотал головой, чтобы стряхнуть оцепенение, охватившее мозг как паутина.
— Теперь выждем несколько минут, пока сработает… и что потом? Понятия не имею… что-нибудь, как-нибудь. А эта тварюга станет хламом! Станет хламом! Хламомхламом-хламом! — и он принялся напевать простенькую песенку, пока кислота делала свое дело в открытом бассейне.
Тан Порус был доволен собой и опять рассмеялся. Затем взболтал воду своей бронированной рукой и расхохотался еще сильнее. А потом снова вернулся к песенке.
Наконец он заметил неуловимые перемены в обстановке. Начал присматриваться, на время даже перестал петь. И тут случившееся обрушилось на него потоком холодной воды. Сияние в атмосфере исчезло!
С внезапной решимостью Порус расстегнул шлем, отбросил его прочь и полной грудью вобрал в себя воздух, несколько затхлый, но не смертельный.
Наполнив кислотой бассейн, он уничтожил поле в зародыше. Можно отметить новую победу чистой математической психологии. Порус выбрался из своего осьмиевого скафандра, потянулся и вдруг почувствовал, как грудь ему сдавила та книжица, которую выронила его жена. Доставая брошюру, он подумал:
— Талисман свое дело выполнил! — и виновато улыбнулся собственному капризу. Улыбка застыла, когда Порус прочитал название: «ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ КУРС ПО ПРИКЛАДНОЙ ПСИХОЛОГИИ. ЗАНЯТИЕ ПЯТОЕ».
Это было равносильно тому, как если бы что-то большое и тяжелое внезапно обрушилось на голову. Порус наконец-то прозрел:
— Тина, оказывается, целых два года изучала прикладную психологию!!! Так вот каким был недостающий фактор! Ему следовало предусмотреть это. Тогда он смог бы воспользоваться тройным переменным интегралом, но…
Психолог надавил клавишу телекоммуникатора и вышел на связь:
— Эй, говорит Порус. Слушайте все-все! Поле смерти исчезло. Я перехитрил сквида!
Он отключился и с торжеством добавил:
— …и свою жену тоже!
Довольно странно, — а может, ничего странного! — но эта вторая победа доставила ему гораздо большее удовольствие.
перевод А. БурцеваПрикол
Во время летних каникул студенческий городок Арктурского университета на Эроне, второй планете системы Арктура, становился весьма унылым, да к тому же и очень жарким местом, поэтому не стоило удивляться, что для второкурсника Майрона Тубала жизнь наполнилась скукой и тоской. Заглянув вот уже в пятый раз за день в студенческий клуб в отчаянной попытке увидеть хотя бы одно знакомое лицо, он наконец с радостью обнаружил там Билла Сефана, зеленокожего юношу с пятой планеты Веги.
Сефан, как и Тубал, завалил биосоциологию, и теперь остался на каникулы в университете, готовясь к переэкзаменовке. Подобная несправедливость судьбы делает второкурсников закадычными друзьями.
Обессилевший от жары Тубал буркнул что-то вместо приветствия, плюхнул в самое большое кресло свое огромное безволосое тело коренного арктурца и спросил:
— Новичков уже видел?
— Так рано? До начала осеннего семестра еще шесть недель!
Тубал зевнул.
— Таких у нас еще не было. Это первая группа из Солярианской системы десять первокурсников.
— Солярианской системы? Ты имеешь в виду новую систему, что присоединилась к Галактической федерации три… нет, четыре года назад?
— Та самая. Их главная планета называется, кажется, Земля.
— Ну так что?
— Да ничего особенного. Прилетели, и все. Кое у кого из них на верхней губе растут волосы — смотрится очень глупо. Но если этого не брать в расчет, они выглядят как любой из десятка разновидностей гуманоидов.
Тут распахнулась дверь и ворвался коротышка Ври Форасе. Родом он был с единственной планеты Денеба, и сейчас покрывающий его лицо и голову короткий серый мех топорщился от возбуждения, а большие пурпурные глаза восхищенно светились.
— Слушайте, — пропищал он, задыхаясь после бега, — вы уже видели землян?
Сефан вздохнул:
— Неужели никто так и не сменит тему? Тубал мне только что о них рассказал.
— Уже? — разочарованно отозвался Форасе. — Но… он говорил, что это та самая ненормальная раса, которая наделала столько шума, когда Солярианскую систему приняли в Федерацию?
— Внешне они мне показались вполне нормальными, — заметил Тубал.
— Да я не об их внешности толкую, — с отвращением пояснил денебианец. Все дело в их мышлении. Психология! Вот в чем главное!
Форасе учился на психолога.
— Вот как! И что же в них такого особенного?
— Психология толпы у этой расы совершенно неправильная, — принялся торопливо выкладывать Форасе. — Когда они собираются вместе в больших количествах, то не только не становятся менее эмоциональными, что характерно для всех известных нам типов гуманоидов, а еще более увеличивают свою эмоциональность! Собравшись толпами, земляне начинают бунтовать, впадать в панику, сходить с ума. И чем больше их собирается, тем сильнее эффект. Представляете, мы даже изобрели новое математическое обозначение, чтобы справиться с этой проблемой. Смотрите!
Он быстро выхватил из кармана блокнот и стилус, но ручища Тубала прихлопнула их к столу раньше, чем стилус успел коснуться бумаги.
— Ура! Меня осенила потрясающая идея! — воскликнул Тубал.
— Могу представить! — буркнул Сефан.
Тубал не обратил на него внимания. Он снова улыбнулся и задумчиво пригладил ладонью лысый череп.
— Слушайте, — произнес он с неожиданным вдохновением, и его голос упал до заговорщического шепота.
Альберт Уильямс, недавно прилетевший с Земли, зашевелилися во сне и вдруг осознал, что чей-то палец тычет его в ребра. Он открыл глаза, повернул голову и спросонья уставился в темноту, потом ахнул, резко сел и потянулся к выключателю лампы.
— Не шевелись, — приказал кто-то, стоящий рядом. Уильямс услышал легкий щелчок, в лицо ему ударил узкий жемчужно-белый луч карманного фонарика.
— Ты кто такой, черт тебя побери? — моргая, спросил Уильямс.
— Сейчас ты встанешь, — твердо заявил незнакомец, — оденешься и пойдешь со мной.
Уильямс зловеще ухмыльнулся:
— А ну, попробуй меня скрутить!
Ответа не последовало, но луч фонарика переместился немного в сторону, осветив вторую руку злоумышленника. Она держала нейронный хлыст, то самое маленькое приятное оружие, что парализует голосовые связки и завязывает нервы маленькими узелками мучительной боли. Уильямс с трудом сглотнул и вылез из постели.
Он молча оделся, потом спросил:
— Ладно, что мне теперь делать?
Поблескивающий хлыст указал на дверь.
— Просто иди впереди, — велел незнакомец, когда землянин шагнул в нужную сторону.
Уильямс вышел из комнаты, прошел по пустынному коридору и спустился на восемь этажей по лестнице, так и не осмелившись оглянуться. Выйдя на улицу, он остановился, но тут же почувствовал прикосновение металла к спине.
— Знаешь, где находится Обел-холл?
Кивнув, Уильямс зашагал дальше. Он миновал Обел-холл, свернул вправо на Университетскую авеню и, пройдя по ней около полумили, направился в сторону, к рощице. Там, в темноте, смутно угадывался корпус звездолета с наглухо задраенными иллюминаторами, и лишь тусклая полоска света выдавала расположение едва приоткрытой двери шлюза.
— Залезай!
Его заставили подняться по лесенке, затем втолкнули в тесную комнатушку.
Уильямс заморгал, огляделся и принялся считать вслух:
— …семь, восемь, девять, и я десятый. Полагаю, нас захватили всех.
— Тут и полагать нечего, — проворчал Эрик Чемберлен. — Всех до единого. Я тут уже час торчу, — сообщил он, потирая руку.
— Что у тебя с рукой? — спросил Уильямс.
— Связки растянул. Проверял на прочность челюсть того мерзавца, который затащил меня сюда. С тем же успехом мог врезать и по корпусу корабля.
Уильямс, скрестив ноги, уселся на пол и прислонил голову к стене.
— У кого-нибудь есть идеи насчет того, что все это значит?
— Похищение! — выпалил коротышка Джо Свини, стуча зубами.
— Черта лысого! — фыркнул Чемберлен. — Если кто-то из нас миллионер, то я об этом не слыхал. Я-то уж точно не богач.
— Послушайте, — предложил Уильямс, — давайте искать причины попроще. Похищение или нечто в этом роде отпадает сразу. Те люди не могли быть преступниками. Почему? Да потому что цивилизация, достигшая таких высот в психологии, какими известна Галактическая федерация, способна искоренить преступность, едва шевельнув пальцем.
— Пираты, — буркнул Лоуренс Марш. — Сам-то я в них не верю, но для предположения сгодится.
— Чушь! — парировал Уильямс. — Пиратство — явление, характерное для пограничных, неосвоенных территорий. А в этой области космоса цивилизация существует уже десятки тысяч лет.
— Все равно, они же были вооружены, — не сдавался Джо, — и мне это очень не нравится.
Он позабыл в комнате свои очки, и теперь в его близоруких глазах угадывалась особая встревоженность.
— Это тоже мало о чем говорит, — заметил Уильямс. — А теперь я поделюсь с вами тем, что пришло мне на ум. Мы, все десять, — только что прибывшие в Арктурский университет новички. И в первую же ночь нас таинственно похищают из комнат и переправляют в странный звездолет. Эти факты подталкивают меня к определенным выводам. А вас?
Сидни Мортон, дремавший сидя, опустив голову на руки, приподнял ее и сонно пробормотал:
— Я тоже об этом подумал. Похоже, мы все влипли в дурацкий прикол. Как мне кажется, джентльмены, местные второкурсники решили от души повеселиться.
— Совершенно верно, — согласился Уильямс. — Другие идеи есть?
Молчание.
— Хорошо, тогда нам остается только ждать. Лично я собираюсь немного вздремнуть. Если я им понадоблюсь, они меня сами разбудят.
В этот момент корабль дернулся и Уильямс, потеряв равновесие, повалился на пол.
— Что ж, вот мы и взлетели… знать бы только, куда летим?
Чуть позднее Билл Сефан, прежде чем войти в рубку управления, на мгновение замер в дверях. Поборов неуверенность, он все-таки сделал шаг вперед и едва не столкнулся с весьма возбужденным Ври Форасе.
— Ну как, сработало? — нетерпеливо спросил денебианец.
— Хреново, — кисло признался Сефан. — Если это называется паникой, тогда я сам паникер. Они собираются спать.
— Спать! Все до единого? Но о чем они разговаривали?
— Да почем мне знать? Они ведь говорили не на галактическом, а в их землянской тарабарщине я ни в зуб ногой.
Форасе жестом отвращения воздел руки.
— Послушай, Форасе, — заговорил Тубал после долгого молчания, — я учусь на биосоциолога. А о психологии этих придурков заговорил ты. И успех прикола гарантировал тоже ты. Так что если мы сядем в лужу, мне это вовсе не понравится.
— Ну, клянусь благосклонностью Денеба, — отчаянно пропищал Форасе, — какие же вы еще желтопузые сопляки! Вы что думаете, они так сразу и начнут вопить да брыкаться? О бурлящий Арктур! Подождите, пока не доберемся до системы Спики, ладно? Вот посидят они взаперти ночку-другую…
Он хихикнул, вспомнив кое-что.
— Кажется, это будет самая классная шуточка с тех пор, как кто-то привязал летучих мышей-вонючек к хроматическому органу в ночь выпускного бала.
Тубал слегка улыбнулся, но Сефан откинулся на спинку кресла и задумчиво произнес:
— А что, если кто-нибудь — скажем, президент Уинн — об этом узнает?
Сидящий за пультом арктурец пожал плечами:
— Это самый обычный прикол. Они легко сходят с рук.
— Не прикидывайся дурачком, М. Т. Это уже не детские шалости. На четвертую планету Спики кораблям Федерации садиться запрещено. Да что планета — вся система Спики для нас под запретом, и ты это прекрасно знаешь. На этой планете обитает субгуманоидная раса. Их сознательно решили не тревожить до тех пор, пока они сами не изобретут средства для межзвездных полетов. Таков закон, и за его нарушение карают очень строго. О космос! Если нас застукают, то о последствиях лучше и не думать!
Тубал обернулся, не вставая.
— Ну как, по-твоему, Прекси Уинн — да будет проклята его толстая шкура! сможет об этом пронюхать? Да, мы обязательно расскажем обо всем приятелям какой смысл приберегать историю только для себя? Половину удовольствия потеряем. Но как он узнает имена? Никто и не пикнет. Ты сам это знаешь.
— Ладно, — сказал Сефан, пожимая плечами.
— Можно входить в гиперпространство! — объявил Тубал.
Он нажал несколько клавиш и корабль вздрогнул, покидая нормальное пространство.
Десять землян настроились на самое скверное и выглядели соответственно. Лоуренс Марш, сощурившись, снова взглянул на часы.
— Половина третьего, — сказал он. — Теперь уже тридцать шесть часов. Как мне хочется, чтобы все осталось позади.
— Никакой это не прикол, — простонал Свини. — Слишком уж долго все тянется.
Уильямс покраснел от гнева.
— Что у вас за вид, словно вы уже наполовину покойники? Ведь они нас регулярно кормят, разве не так? Нас не связали, верно? На мой взгляд, совершенно очевидно, что о нас хорошо заботятся.
— Или же, — задумчиво протянул Сидни Мортон, — откармливают на убой.
Он многозначительно смолк, и все напряглись. Каждый ощутил характерную дрожь, которую так трудно описать словами.
— Чувствуете? — воскликнул Эрик Чемберлен. — Мы снова в нормальном пространстве, а это означает, что всего через час-другой мы узнаем, куда нас привезли. Нам необходимо что-то предпринять!
— Знакомые все речи, — фыркнул Уильямс. — Но что именно?
— Нас здесь десять, верно? — крикнул Чемберлен, выпячивая грудь. — Так вот, до сих пор я видел только одного из них. Когда он придет в следующий раз, а очень скоро нам должны снова принести еду, надо навалиться на него всем вместе.
— А как же нейронный хлыст? — побледнел Свини. — Он у него всегда наготове.
— Это оружие не убивает. Во всяком случае, со всеми сразу ему справиться не удастся.
— Эрик, ты дурак, — откровенно заявил Уильямс.
Чемберлен вспыхнул и сжал кулаки.
— Я как раз не прочь немного размяться. Повтори-ка свои слова.
— Сядь! — Уильямс даже не потрудился взглянуть в его сторону. — И не очень усердствуй, доказывая правоту моего эпитета. Все мы нервничаем, все на взводе, но это отнюдь не означает, что нам следует сходить с ума окончательно. По крайней мере, не сейчас. Во-первых, даже если не брать в расчет хлыст, мы мало чего добьемся, скрутив нашего тюремщика.
— Мы видели только одного, но он из системы Арктура. В нем добрых семь футов роста, а весит он не менее трехсот фунтов. Он голыми руками сделает из всех нас отбивные. Кажется, ты уже успел испытать его на прочность, Эрик?
После этих слов наступило угрюмое молчание.
— И даже если нам удастся справиться с ним и со всеми остальными на корабле, сколько бы их ни оказалось, — добавил Уильямс, — мы и после этого не будем иметь ни малейшего представления о том, куда нас привезли, как вернуться обратно и как управлять кораблем. — Он сделал паузу. — Так что скажете?
— Проклятие! — Чемберлен нахмурился, отвернулся и молча уставился на стенку.
Дверь распахнулась от мощного пинка. Вошел великан-арктурец и вытряхнул на пол содержимое принесенного с собой мешка. В другой руке он держал наготове нейронный хлыст.
— Последняя кормежка, — буркнул он.
Началась легкая суета, пока земляне собирали раскатившиеся по углам еще теплые, недавно подогретые консервные банки. Мортон взглянул на свою и скривился.
— Послушай, — произнес он на галактическом, немного запинаясь с непривычки, — неужели нельзя принести что-нибудь другое? Меня тошнит от вашего протухшего гуляша. Четвертая банка подряд!
— Какая разница? Я же сказал, это ваша последняя кормежка, — процедил арктурец, закрывая за собой дверь.
Все застыли, парализованные ужасом.
— Что он хотел этим сказать? — выдавил кто-то.
— Они собираются нас убить! — взвизгнул Свини. Глаза его округлились от страха. Судя по голосу, он был на грани истерики.
У Уильямса пересохло во рту, он ощутил, как внутри него поднимается гнев, вызванный заразительным для прочих страхом Свини. Он сдержался — в конце концов, парнишке только семнадцать — и хмуро произнес:
— Прекрати это, хорошо? Давайте есть.
Два часа спустя он ощутил толчок. Корабль сел, путешествие завершилось. Все эти два часа царило молчание, но Уильямс ощущал, как тиски страха с каждой минутой сжимаются все сильнее.
Багровый диск Спики висел над самым горизонтом, дул холодный порывистый ветер. Десять землян, сбившись в жалкую кучку на каменистой вершине холма, мрачно разглядывали своих похитителей. Говорил огромный арктурец Майрон Тубал, а зеленокожий веганец Билл Сефан и маленький лохматый денебианец Ври Форасе смущенно топтались за его широкой спиной.
— Огонь у вас есть, — грубо пробасил арктурец, — а дров здесь в лесах хватает. Костер отпугнет диких зверей. Перед отлетом мы оставим вам два хлыста, с их помощью вы защититесь от туземцев, если они начнут вас беспокоить. А что касается еды, воды и жилья, тут вам придется самим пораскинуть мозгами.
Он отвернулся. Взревев, Чемберлен внезапно бросился на удаляющегося арктурца, но тот отшвырнул его прочь небрежным взмахом руки.
Дверь шлюза закрылась, и почти немедленно корабль оторвался от земли и рванулся вверх. Наконец Уильямс прервал всеобщее оцепенение:
— Они оставили хлысты. Я возьму один, а ты, Эрик, можешь взять второй.
Один за другим испуганные, дрожащие от возбуждения земляне уселись возле костра. Уильямс выдавил из себя улыбку.
— Местность тут лесистая, так что в дичи недостатка не будет. Ну, чего приуныли? Нас тут десять человек, а рано или поздно, но они за нами вернутся. Давайте лучше покажем им, что земляне могут пережить и такое. Что скажете, парни?
Слова его словно упали в пустоту, и лишь Мортон раздраженно посоветовал:
— Почему бы тебе не заткнуться? И без тебя тошно.
Уильямс сдался. В желудке у него застыл холодный комок.
Сумерки перешли в ночь, и круг света вокруг костра сжался до маленького мерцающего пятнышка с пляшущими по краям тенями. Внезапно Марш ахнул, глаза его округлились.
— Там… там что-то приближается!
Все вздрогнули, готовые вскочить, но тут же замерли, затаив дыхание и пристально вслушиваясь.
— Ты просто свихнулся… — начал было Уильямс, но оборвал себя, услышав характерный скользящий звук, который ни с чем невозможно спутать.
— Доставай свой хлыст! — рявкнул он Чемберлену.
Джо Свини внезапно истерично рассмеялся.
И тут воздух содрогнулся от вопля, а со всех сторон на них обрушились тени.
На корабле тем временем тоже кое-что происходило.
Корабль Тубала набирал скорость, удаляясь от четвертой планеты Спики. За пультом сидел Билл Сефан, а сам Тубал, сидя в тесной каютке, двумя глотками прикончил содержимое огромной плоской бутылки с денебианским ликером.
Ври Форасе с грустью наблюдал за этой операцией.
— Он стоит двадцать кредитов бутылка, — сказал он, — а у меня осталось всего две.
— Ну, так не позволяй мне его заграбастывать, — великодушно произнес Тубал. — Меняю пустую бутылку на полную.
— Один такой глоток, — пробормотал денебианец, — и я отключусь до осенних экзаменов.
Тубал не обратил на его слова внимания.
— Это, — начал он, — войдет в историю университета как самый потрясающий прикол за…
И тут послышался звонкий щелчок, почти не приглушенный слоями обшивки, и свет в каютке погас.
Ври Форасе вдавило в переборку, да так сильно, что он мог дышать лишь короткими судорожными вздохами.
— О к-космос! П-полное уск-корение! Что с-случи-лось с ур-равнителем?
— К чертям уравнитель! — взревел Тубал, с трудом поднимаясь. — Что случилось с кораблем?
Спотыкаясь, он выбрался через дверь в столь же темный коридор. Форасе полз следом. Когда они ворвались в рубку, Сефан сидел за пультом. Его заливал тусклый свет аварийных ламп, зеленая кожа блестела от пота.
— Метеор, — прохрипел он. — Вывел из строя распределители мощности, и теперь вся энергия идет на разгон. Освещение, обогрев и радио также накрылись, а вентиляторы еле крутятся. В четвертом отсеке пробоина.
Тубал вперил в Сефана безумный взгляд.
— Идиот! Почему ты не смотрел на индикатор массы?
— Смотрел, еще как смотрел! — взвыл Сефан. — Так знай, комок шпатлевки, что он ничего не показывал. Он — ничего — не — показывал! А чего еще ожидать от раздолбанной жестянки, взятой напрокат за две сотни? Метеор прошел сквозь защитный экран, как сквозь бумагу.
— Заткнись!
Тубал распахнул дверцу шкафчика со скафандрами и застонал.
— Тут только арктурские модели. Черт, забыл проверить перед вылетом. Справишься с таким, Сефан?
— Может быть, — протянул Сефан, с сомнением почесывая ухо.
Через пять минут Тубал протиснулся в шлюз, за ним последовал Сефан, неуклюже путаясь в складках огромного скафандра. Через полчаса они вернулись.
— Заслонки! — процедил Тубал, стянув шлем.
Ври Форасе ахнул:
— Выходит… нам крышка?
Арктурец покачал головой.
— Мы сможем их починить, но это займет некоторое время. Радио накрылось окончательно, так что на помощь рассчитывать нечего.
— Помощь! — встрепенулся Форасе. — Только ее нам еще не хватало! А как мы объясним, что оказались в системе Спики? Нам теперь что радио включить, что покончить жизнь самоубийством — все едино. Пока мы в состоянии вернуться сами, мы в безопасности. Если и пропустим парочку лекций, ничего страшного не случится.
— А что станет с пугливыми землянами на четвертой планете Спики? — мрачно поинтересовался Сефан.
Форасе открыл рот, собираясь ответить, но так и не смог произнести ни слова. Когда он его закрыл, вид у него стал такой, что денебианца можно было демонстрировать студентам-психологам как типичного гуманоида, охваченного отчаянием.
Но это было только начало неприятностей.
Полтора дня ушло на то, чтобы разобраться в схемах энергетической установки. Еще два дня пришлось тормозить, сбрасывая скорость для разворота. На возвращение к Спике-4 потратили еще четыре. На все вместе — восемь.
Когда корабль снова завис над холмом, на котором они оставили землян, день только начинался. Лицо Тубала, изучавшего район недавней посадки через телевизор, все более вытягивалось, и вскоре он нарушил затянувшееся гробовое молчание.
— Кажется, мы ухитрились совершить все возможные ошибки до единой. Мы высадили их возле туземной деревни. От землян не осталось и следов.
— Дело скверно, — уныло покачал головой Сефан.
Охваченный отчаянием Тубал закрыл лицо руками.
— Все, конец. Или они сами напугали друг друга до смерти, или их прикончили туземцы. Мы прилетели в запретную зону, что само по себе скверно… а теперь, полагаю, нас можно обвинить в преднамеренном убийстве.
— Нам остается только одно, — сказал Сефан, — совершить посадку и проверить, не остался ли кто из них в живых. Это наш долг. А потом…
Он судорожно сглотнул.
— А потом, — шепотом закончил за него Форасе, — нас ждет исключение из университета, психоревизия… и физический труд до конца жизни.
— Заткнитесь! — рявкнул Тубал. — О наказании еще будет время подумать. За дело.
Медленно совершая круги, корабль начал опускаться и сел на каменистую площадку, где восемь дней назад они бросили десятерых ошеломленных землян.
— Как нам общаться с туземцами? — спросил Тубал у Форасе, вопросительно приподняв надбровные складки (на которых, разумеется, не росли волосы). Валяй, парень, выдай нам что-нибудь из субгуманоидной психологии. Нас тут только трое, и я не хочу лишних неприятностей.
Форасе пожал плечами, его мохнатое лицо сморщилось.
— Как раз об этом я только что подумал, Тубал. Я ничего о ней не знаю.
— Что?! — одновременно выпалили Тубал и Сефан.
— Никто не знает, — торопливо добавил денебианец. — Это факт. В конце концов, мы ведь не позволяем субгуманоидам вступать в Федерацию до тех пор, пока они не станут полностью цивилизованными, а пока подобное не произойдет, всякие контакты с ними запрещены. Или ты полагаешь, что у нас было много возможностей изучать их психологию?
Арктурец тяжело уселся на землю.
— Да, все лучше и лучше. Так думай, лохматая твоя морда. Предложи хоть что-нибудь!
Форасе почесал макушку.
— Ну… гм… полагаю, лучше всего будет обращаться с ними как с нормальными гуманоидами. Если мы приблизимся медленно, показывая раскрытые ладони, не станем делать резких движений и попробуем сохранять спокойствие, то, думаю, все обойдется. Но помните — я сказал, что так думаю. Уверенности у меня нет.
— Пошли, и к черту твою уверенность, — нетерпеливо бросил Сефан. — Какая, собственно, разница? Если меня и прикончат здесь, то, по крайней мере, не придется возвращаться домой. — Он сжался, словно затравленный зверь. — Как подумаю, что скажет моя семья…
Они вышли из корабля и вдохнули воздух четвертой планеты Спики. Солнце, похожее на большой оранжевый баскетбольный мяч, висело прямо над их головами. Где-то в лесу хрипло каркнула птица, потом воцарилась мертвая тишина.
— Гм-м! — произнес Тубал, уперев руки в бока.
— Тишина такая, что в сон клонит. Никаких признаков жизни. Ладно, в какой стороне деревня?
Вспыхнул короткий спор, и вскоре арктурец, а за ним двое приятелей зашагали по склону в сторону молчаливого леса.
Когда они углубились в него на сотню футов, деревья внезапно ожили, и с нависающих ветвей на них бесшумно хлынула волна туземцев. Ври Форасе она захлестнула сразу, Билл Сефан продержался секунду-другую, но тоже со стоном повалился на спину.
И лишь гигант Майрон Тубал остался на ногах. Уперев в землю широко расставленные подошвы и устрашая противника оглушительным ревом, он замахал руками. Атакующие туземцы накатывались со всех сторон, но тут же отлетали обратно, словно капельки воды, угодившие под струю вентилятора. Построив оборону по принципу ветряной мельницы, Тубал медленно пятился, желая упереться спиной в ствол дерева.
Тут он и совершил ошибку. На самой низкой ветви этого дерева, прижавшись к ней, лежал туземец — более осторожный и сообразительный, чем его товарищи, Тубал уже заметил, что природа наградила туземцев гибкими мускулистыми хвостами, и мысленно отметил этот факт. Только еще одна разумная раса в Галактике, гуманоиды с гаммы Цефея, имела хвосты. Но не заметил он, однако, того, что хвосты у местных туземцев были хватательными.
Обнаружил он это почти немедленно, когда туземец на ветке опустил хвост вниз, мгновенно обвил им шею Тубала и затянул тугую петлю.
Арктурец резко рванулся от боли, хвостатый противник слетел с ветки, но хватки так и не ослабил, хотя висел вниз головой, а Тубал мотал его из стороны в сторону.
Мир перед глазами Тубала потемнел, и он потерял сознание раньше, чем коснулся земли.
Тубал медленно пришел в себя и тут же с неудовольствием ощутил, как покалывает онемевшую шею. Он попробовал ее потереть и лишь через несколько секунд сообразил, что лежит, крепко связанный. Этот факт заставил его насторожиться, и он тут же понял, что лежит на животе, что неподалеку что-то ужасно грохочет и что Сефан и Форасе лежат рядом с ним такими же неподвижными тюками. Последним до него дошло, что он не в силах разорвать свои путы.
— Эй, Сефан, Форасе! Вы меня слышите?
— Так ты жив, старый драконианский козел? — жизнерадостно отозвался Форасе. — А мы уж решили, что тебе крышка.
— Меня не так-то просто прикончить, — буркнул арктурец. — Где мы?
Наступило короткое молчание.
— Полагаю, в туземной деревне, — мрачно произнес Ври Форасе. — Слышал когда-нибудь такой шум? Барабан не замолкал ни на минуту с тех пор, как нас сюда бросили.
— А вы не видели никого из…
В Тубала вцепились чьи-то руки, потянули и усадили. Шея заболела еще сильнее. Кривобокие хижины из зеленых бревен, крытые соломой, поблескивали в лучах послеполуденного солнца. Вокруг них в молчаливом ожидании кольцом стояли темнокожие длиннохвостые туземцы. Их было несколько сотен, у каждого головной убор из перьев и короткое копье со зловещего вида зазубренным наконечником.
Их глаза не отрывались от цепочки фигур на переднем плане, и Тубал тоже обратил на них свой гневный взгляд. Не вызывало сомнений, что то были вожди племени. Кроме пышных, украшенных бахромой одеяний из скверно выдубленных шкур, варварское впечатление их наряда усиливали высокие деревянные маски, разрисованные карикатурами на человеческие лица.
Одна из внушающих ужас фигур в маске короткими ритуальными шажками приблизилась к гуманоидам.
— Привет, — произнес туземец, снимая маску. — Решили вернуться пораньше?
Очень долго Тубал и Сефан не могли выдавить из себя ни слова, а Ври Форасе одолел приступ кашля.
Наконец Тубал медленно сделал глубокий вдох,
— Ты один из землян, верно?
— Верно. Эл Уильямс. Можете звать меня просто Эл.
— Они тебя еще не убили?
— Они никого из нас не убили, — радостно улыбнулся Уильямс. — Как раз наоборот. Джентльмены, — он церемонно поклонился, — позвольте вам представить новых… э-э… богов этого племени.
— Новых чего? — выдавил Форасе. Он все еще кашлял.
— Э-э… богов. Извините, но я не знаю этого слова на галактическом.
— Но что оно означает? Что такое «бог»?
— Мы для них некие сверхъестественные существа — объект поклонения. Разве вы еще не поняли?
Гуманоиды с тоской переглянулись.
— Мы для них, — ухмыльнулся Уильямс, — существа, обладающие огромной силой.
— Что за ерунду ты несешь? — раздраженно произнес Тубал. — С чего они взяли, что вы очень сильны? Силы в вас, землянах, не так-то и много — куда ниже среднего!
— Тут все дело в психологии, — пояснил Уильямс. — Раз уж они увидели, как мы опускаемся в огромной сверкающей повозке, которую таинственная сила переносит по воздуху, а потом эта повозка взлетает, опираясь на огненный столб, то им не остается ничего иного, как считать нас существами сверхъестественными. Это же азы психологии примитивных племен.
Глаза Форасе, слышавшего Уильямса, едва не вылезли от удивления.
— Кстати, — продолжил Уильямс, — а что вас задержало? Мы давно догадались, что это был студенческий прикол, верно?
— Слушай, — оборвал его Сефан, — кончай вешать нам лапшу на уши! Если они решили, что вы боги, то почему они не приняли за богов нас? Мы тоже прилетели на корабле, и…
— А тут, — пояснил Уильямс, — немного вмешались мы. Мы им объяснили картинками и на языке жестов, — что вы были демонами. И когда вы в конце концов вернулись — кстати, мы тоже очень обрадовались, заметив корабль, — они уже знали, что надо делать.
— А что такое «демоны»? — с легким, но совершенно отчетливым оттенком ужаса спросил Форасе.
Уильямс вздохнул:
— Неужели вы, жители Галактики, не знаете элементарщины?
Тубал медленно, потому что шея еще болела, повернул голову.
— Может, пора нас освободить? У меня вся шея затекла.
— Куда ты торопишься? В конце концов, вас принесли сюда, чтобы принести в жертву в нашу честь.
— Принести в жертву?
— Конечно. Вас разрежут ножами на кусочки.
Гуманоиды смолкли, парализованные ужасом. Тубал опомнился первым и прохрипел:
— Хватит нам туфту подсовывать! Сам знаешь, мы не какие-то там земляне, нас так легко не запугаешь.
— О, уж это мы знаем! Сам я ни за что на свете не стал бы пытаться вас одурачить. Но существует такая простая вещь, как психология дикарей, и она требует небольших человеческих жертв, так что…
Связанный Сефан, яростно извиваясь, попытался накинуться на Форасе:
— Ты, по-моему, говорил, что никто не владеет психологией субгуманоидов! Выходит, ты пытался оправдать свое невежество, мохнатый пучеглазый отпрыск незаконнорожденной веганской ящерицы! Ну и вляпались же мы!
Форасе торопливо отполз подальше.
— Нет, погоди! Я только…
Уильямс решил, что шутка зашла слишком далеко.
— Не дергайтесь, ребята, — успокоил он. — Ваш хитроумный прикол дал вам самим пинка под зад — и хорошего пинка, — но мы не собираемся заходить настолько далеко. Пожалуй, мы уже достаточно повеселились за ваш счет. Свини сейчас у туземного вождя, объясняет, что мы собираемся улететь и взять вас с собой. Честно говоря, мне уже давно не терпится отсюда… Погодите, меня зовет Свини.
Когда Уильямс через несколько секунд вернулся, в его глазах застыло странное выражение, а лицо позеленело и продолжало на глазах зеленеть.
— Похоже, — выдавил он, судорожно сглотнув, — что наш прикол теперь дал пинка нам. Туземный вождь настаивает на жертвоприношении!
Трое гуманоидов молча принялись обдумывать ситуацию. Молчание несколько затянулось.
— Я велел Свини, — мрачно добавил Уильямс, — вернуться к вождю и сказать, что если он не поступит так, как мы велели, с его племенем случится нечто ужасное. Но это чистый блеф, а вождь может и заупрямиться. Гм-м… мне очень жаль, парни. Кажется, мы зашли слишком далеко. Если дела пойдут совсем скверно, мы вас развяжем и станем сражаться рядом с вами.
— Тогда развязывай сразу! — взревел Тубал. — Пора с этим покончить!
— Стой! — отчаянно пискнул Форасе. — Пусть землянин сперва испробует психологию. Давай, землянин, раскинь мозгами!
Уильямс задумался настолько упорно, что у него заболела голова.
— Видите ли, — вскоре пробормотал он, — мы потеряли часть своего божественного престижа, когда не смогли вылечить жену вождя. Она вчера умерла. — Он рассеянно кивнул. — И сейчас нам требуется впечатляющее чудо. Гм-м… Парни, а у вас в карманах ничего не завалялось?
Он присел рядом с ними на корточки и принялся обшаривать карманы. У Ври Форасе обнаружились стилус, блокнот, густой гребешок, немного порошка от чесотки, пачка кредиток и всякие безделушки. В карманах Сефана нашлась примерно такая же коллекция бесполезных мелочей.
Зато из заднего кармана Тубала Уильямс извлек небольшой черный предмет, похожий на пистолет с огромной рукояткой и коротким стволом.
— Что это?
Тубал нахмурился.
— Выходит, я именно на нем все это время сидел? Это сварочный пистолет, я им заделывал пробоину в корпусе после удара метеорита. Толку от него никакого — заряд почти кончился.
Глаза Уильямса вспыхнули, тело возбужденно вздрогнуло.
— Это ты так думаешь! Вы, жители Галактики, дальше своего носа ничего не видите. Почему бы вам не слетать на Землю — сразу станете смотреть на мир другими глазами.
И Уильямс помчался к своим приятелям-конспираторам.
— Свини! — заорал он. — Вали к этой проклятой хвостатой обезьяне и передай, что через секунду я разгневаюсь и обрушу небо на его тупую башку. Припугни его как следует!
Однако вождь не стал дожидаться посланника. Он сделал повелительный жест, и туземцы разом бросились вперед. Тубал взревел, его мускулы затрещали, пытаясь разорвать путы. Сварочный пистолет в руке Уильямса ожил, метнув вперед слабый энергетический луч.
Ближайшая к нему хижина внезапно вспыхнула. Затем вторая, третья, четвертая… и тут пистолет выдохся окончательно.
Но этого оказалось достаточно. Ни один туземец не остался на ногах — все они лежали, уткнувшись в землю и воплями вымаливая прощение. Громче всех выл и вопил вождь.
— Передай вождю, Свини, — велел Уильямс, — что то был лишь маленький, незначительный пример того, что мы собирались с ним сделать!
И благодушно добавил, разрезая стягивающие гуманоидов сыромятные ремни:
— Сами видите — примитивная дикарская психология.
Они успели вернуться на корабль и взлететь, и лишь тогда Форасе нашел в себе силы поступиться гордостью:
— Я думал, что земляне никогда не владели математической психологией, потому что она у них не развилась. Откуда же тебе известна психология субгуманоидов? Никто в Галактике не развил эту науку настолько далеко!
— Знаешь, — улыбнулся Уильямс, — мы накопили кое-какие практические приемы обращения с племенами, не затронутыми цивилизацией. Видишь ли, мы прилетели с планеты, где большинство населения, образно говоря, не отличается цивилизованностью. Поэтому такие знания нам просто необходимы.
Форасе медленно кивнул.
— Ну ты и халявщик! Но этот небольшой эпизод, по крайней мере, кое-чему нас научил.
— Чему же?
— Никогда, — заявил Форасе, снова прибегая к жаргону землян, — не дразни чокнутых. Они могут оказаться куда более чокнутыми, чем ты думал!
перевод А. ВолноваУдивительные свойства тиотимолина
Давно известно, что растворимость органических соединений в полярных растворителях, к которым принадлежит, например, вода, повышается, если к углеводородному остову молекул присоединены гидрофильные, то есть влаголюбивые группы. Исследовавшие эту проблему Файншрайбер и Хравлек[3] утверждают, что с увеличением гидрофильности время растворения приближается к нулю. То, что этот вывод не совсем верен, было доказано, когда обнаружилось свойство тиотимолина растворяться в воде — в соотношении 1 грамм на миллилитр — за минус 1,12 секунды, другими словами, до того, как к нему добавляют воду.
Установлено, что тиотимолин содержит 14 гидроксильных групп, две аминогруппы и одну сульфогруппу. Присутствие вдобавок к этому нитрогруппы пока не подтверждено, и нет еще никаких данных о строении углеводородной основы, хотя представляется несомненным наличие по меньшей мере частичной ароматической структуры.
Тот факт, что вещество растворяется перед добавлением воды, естественно привел к попыткам не добавлять воду после того, как тиотимолин растворился. К счастью для закона сохранения массы — энергии это еще ни разу не удалось, так как растворение никогда не происходило, если потом на самом деле не добавляли воду.
Конечно, тут же встал вопрос о том как тиотимолин может «знать» заранее, будет ли в конце концов добавлена вода или нет. Хотя это, строго говоря, и не относится к нашей области — физической химии, в течение прошлого года было опубликовано много новых материалов, касающихся психологических и философских проблем отсюда вытекающих[4].
Определение времени растворения тиотимолина затруднено тем, что оно изменяется в широких пределах в зависимости от душевного состояния экспериментатора. Даже непродолжительные, легкие колебании при добавлении воды уменьшают отрицательное время растворения и нередко вообще сводят его к нулю (в пределах точности наблюдений). Чтобы избежать этого, было сконструировано механическое устройство, названное эндохронометром[5].
Впервые об эндохронных свойствах тиотимолина было сообщено нами еще несколько лет назад[6]. Однако, несмотря на заманчивые теоретические перспективы исследования тиотимолина шли вяло, преимущественно из-за разочаровывающего скептицизма, которым были встречены первые сообщения. Тем не менее наша лаборатория благодаря пожертвованиям Американской ассоциации развития количественной психиатрии успешно расширила свои ранние наблюдения в направлении, столь же непредвиденном, сколь и плодотворном.
ЭНДОХРОННЫЙ АТОМ УГЛЕРОДА
Эндохронность тиотимолина неизбежно должна быть следствием его молекулярной структуры.
Уже не раз шаг вперед в наших знаниях об атоме углерода вызывал важные открытия в химии. В XIX веке было установлено, что четыре валентных связи углерода направлены не к сторонам квадрата (как ради удобства мы и сейчас их изображаем на доске и в учебниках), а к четырем сторонам тетраэдра (рис. 1). Разница здесь в том, что в первом случае все четыре связи расположены в одной плоскости, а во втором — распределены по две между двумя взаимно перпендикулярными плоскостями. Тетраэдральная модель позволила объяснить такие явления, как оптическая изомерия, которою невозможно было понять в свете старой плоскостной модели атома углерода.
Теперь можно расширить наши взгляды, и перейти от "тетраэдрального атома углерода" к "эндохронному атому углерода", в котором одна из двух плоскостей расположения валентных связей находится не в пространстве, а во времени. Во временной плоскости одна валентная связь простирается в будущее, а другая в прошлое. Такой атом углерода невозможно изобразить на бумаге, и мы даже не будем пытаться это сделать.
Эндохронный атом углерода, очевидно, очень нестабилен и встречается крайне редко — насколько нам известно, только в молекуле тиотимолина. Почему именно структура тиотимолина способна вызвать такое явление, в чем заключается свойственное ей суперстереонарушение, пока неизвестно, но эндохронный атом углерода, несомненно, существует. В результате, некоторая часть молекулы тиотимолина находится в будущем.
Именно эта существующая в будущем часть молекулы и растворяется в воде, которая тоже существует в будущем (т. е. вот-вот будет добавлена, но еще не добавлена к тиотимолину). Остающаяся часть молекулы затягивается в раствор. Как только мы уясним это, таинственное и парадоксальное поведение тиотимолина превращается в довольно прозаическое явление, поддающееся математическому анализу. Такой анализ сейчас готовится и через некоторое время будет представлен для опубликования.
Рис. 1
Обладание эндохронными свойствами влечет за собой и обладание экзохронными свойствами. Если, например небольшое количество раствора тиотимолина крайне быстро испарить при достаточно низкой температуре, то, очевидно, тиотимолин должен выпасть в осадок лишь через 1,12 секунды после того, как вся вода испарится. Наблюдать это явление пока не удалось, очевидно, из-за несовершенства применяемой методики.
ВОЛЕМЕТРИЯ
Когда применение эндохронной фильтрации позволило в изобилии получать тиотимолин высокой чистоты, появилась возможность определять влияние человеческой воли на эндохронный интервал (т. е. время растворения) и, наоборот, измерять силу воли человека при помощи тиотимолина. Разработанная методика получила название волеметрии.
Давно было замечено, что волевые, сильные личности добиваются полного эндохронного интервала, добавляя воду вручную. Приняв решение добавить воду, они уже не испытывают колебаний, и в том, что вода будет в конце концов добавлена, можно быть уверенным не меньше, чем при использовании эндохронометра.
Другие лица, менее решительные, дают совершенно иные результаты. Если даже они выражают решимость добавить воду по данному сигналу и уверяют впоследствии, что не чувствовали никаких колебаний, все же отрицательное время растворения заметно уменьшается. Несомненно, их внутренние колебания так тесно связаны с областью подсознательного, с вытесненными из сознания психическими травмами, перенесенными ими в детском возрасте, что они совершенно не отдают себе отчета в этих колебаниях. Важность для психиатра таких физических демонстраций, поддающихся количественной обработке, очевидна.
Был проведен массовый волеметричесний эксперимент, объектами которого служили 87 студентов-первокурсников мужского пола из Комсток-Лодж Колледжа (Краудед-Крик, штат Северная Дакота). Было установлено, что распределение силы воли описывается обычной вероятностной кривой.
Интересно отметить, что у 62 студентов женского пола, участвовавших в аналогичном эксперименте, вероятностная кривая оказалась несколько сдвинутой в сторону более сильной воли (рис. 2). Если средний эндохронный интервал у всех субъектов мужского пола составил минус 0,625 секунд, то у женского пола — минус 0,811. Это подтверждает различие между полами, которое интуитивно ощущалось (по крайней мере мужчинами) на протяжении всей истории.
Рис. 2
Есть основания полагать что эндохронный интервал может изменяться в зависимости от душевного состояния субъекта в момент опыта. Один студент (Э. X.), показывавший в десятках экспериментов эндохронный интервал от — 0,55 до — 0,62 секунд, внезапно увеличил его до — 0.92. Этот рост уверенности в себе показался весьма примечательным. Лаборант, проводивший эксперимент, после подробных расспросов сообщил, что накануне вечером субъект выразил желание прогуляться за городом и что лаборант согласился его сопровождать. Поскольку Э. X не отличается особой склонностью к спорту, показалось странным, что перспектива прогулки так на него повлияла. Чтобы выяснить, нельзя ли усилить этот эффект, автор настоящей статьи добровольно вызвался сопровождать Э. X. в качестве третьего члена компании. Неожиданно эндохронный интервал упал до минус 0,14 секунд в следующем же эксперименте. Если нам будет позволено высказать некоторые соображения по этому поводу, то можно предположить, что в данном случае проявилось еще одно различие между полами, поскольку автор настоящей статьи принадлежит к мужскому полу, так же как и испытуемый студент, в то время как лаборант — к женскому. Совсем недавно некоторые стороны этой неясной ситуации были рассмотрены Мак-Левинсоном[7].
перевод А. ИорданскогоТиотимолин и космический век
Речь, произнесенная на 12-м ежегодном собрании Американского хронохимического общества
Джентльмены!
Меня называют основателем хронохимии, и я не могу противостоять чувству некоторой гордости. Создать новую науку — это привилегия, которая дается немногим.
Я очень ясно помню тот день, когда впервые бросил щепотку тиотимолина в воду и подумал, что заметил нечто странное. Он всегда растворяется быстро — к этому я привык. Обычно казалось, что тиотимолин исчезает в тот момент, когда он касается воды. Но у меня никогда не было образца тиотимолина такой чистоты, как щепотка, которую я получил в тот июльский день. И когда я следил за падением белого порошка в воду я, помню, подумал: «Черт возьми, он растворяется до соприкосновения с водой!»
Сообщение об эндохронности, о том факте, что существует вещество, растворяющееся в воде за 1,12 секунды до добавления воды, вызвало сенсацию. Вы все это помните, я уверен. И в то же время многие сочли тиотимолин мистификацией. В комментариях научных журналов сквозил юмор. Попадавшие ко мне сообщения демонстрировали огорчительную тенденцию описывать опыты, лишенные всякой научной ценности. Я был вынужден прийти к заключению, что надо мной подшучивают. Может быть, окончательным доказательством причиненного таким способом вреда является то, что после двенадцати лет своего существования Американское хронохимическое общество способно собрать всего лишь пятнадцать человек для того, чтобы слушать эту речь.
Это были дорогостоящие шутки, джентльмены. Из-за них мы утратили первенство в космическом соревновании. В то время как американские ученые, обессиленные недоверием своих коллег, с трудом продолжали исследования тиотимолина н были вынуждены ограничиваться опытами малого масштаба, Советский :Союз построил на Урале новый город — «Тиотимолинград».
То, что Советский Союз воспринял тиотимолин всерьез и сумел его использовать — это факт. А мы все еще погружены в благодушие. Ни одна видная политическая фигура не рассматривала эту ситуацию с тревогой. Они все еще задают вопрос: «Что такое тиотимолин?». Сейчас я объясню этим близоруким политиканам, что означает тиотимолин для наших усилий в космосе.
Исследования тиотимолнна перешли из стадии, которую мы можем теперь назвать «классической», в «современную» после создания «телехронной батареи» Анной Мак-Ларен и Дональдом Митчи в Эдинбургском университете. Если вы что-нибудь читали об этом, то вы — ясновидящие, так как широкая печать и подавляющая часть научной хранят тупое молчание. Статья о телехронной батарее появилась только в маленьком, хотя и весьма уважаемом, «Журнале невоспроизводимых результатов», который редактирует очень способный джентльмен — Александр Кон.
В простом эндохронометре, с которым мы все знакомы, тиотимолин растворяется за 1,12 секунды до того, как подана вода. В батарее, состоящей примерно из 77000 элементов, концевой образец тиотимолина растворяется за целый день до того, как подано исходное количество воды!
Такие батареи были построены в Эдинбурге и в моей лаборатории в Бостоне в виде крайне компактных моделей с помощью печатных контуров и усовершенствованной миниатюризации. Устройство, имеющее объем не более одного кубического фута, может обеспечить двадцатичетырехчасовой эндохронный интервал. Имеются веские, хотя и косвенные доказательства того, что Советский Союз обладает еще более совершенными устройствами и производит их в промышленных масштабах.
Очевидное практическое применение телехронной батареи — предсказание погоды. Если первый элемент батареи расположен так, что на него может попасть дождь, то тиотимолин в последнем элементе растворится за день до этого.
Я полагаю, что всем вам ясно, джентльмены, как можно применить телехронную батарею и для любых иных предсказаний. Возьмем легкомысленный пример — скачки. Допустим, что вы собираетесь поставить на определенную лошадь. За двадцать четыре часа до забега вы можете твердо решить, что если эта лошадь завтра выиграет, то немедленно после получения сообщения об этом вы добавите воду в первый элемент телехронной батареи, а если не выиграет,— то не добавите. После того как вы примете такое решение, вам остается только следить за последним элементом. Если тиотимолин в нем растворится, вы будете знать, что лошадь выиграет.
Вы смеетесь, джентльмены. Но не может ли такая система быть использована при запуске спутника?
Допустим, что через четыре часа после запуска автоматическое устройство на борту спутника посылает сигнал на базу. Допустим, далее, что этот сигнал является импульсом, под действием которого в первый элемент телехронной батареи поступает вода. Но получение сигнала через четыре часа после запуска доказывает, что спутник находится в безопасности на орбите. Следовательно, если тиотимолин последнего элемента батареи растворяется сегодня, то мы можем быть уверены, что завтрашний запуск будет успешным.
Вы все еще смеетесь, джентльмены? Не является ли сказанное разумным объяснением постоянных успехов Советов по сравнению с нашими весьма скромными достижениями?
Принято, конечно, объяснять неизменные успехи советских запусков тем, что там скрывают свои неудачи, но правдоподобно ли это? Не достигали ли они с удивительным постоянством успехов именно тогда, когда это было им нужно? Спутник I поднялся через месяц после столетия со дня рождения Циолковского. Спутник II полетел для того, чтобы прославить сорокалетие русской революции. Лунник II поднялся как раз перед визитом советского премьера в Соединенные Штаты. Лунник III полетел во вторую годовщину запуска Спутника I.
Совпадение? Или они просто все предвидели с помощью своих телехронных батарей? И выбрали именно ту ракету, для которой успех был обеспечен? Как можно иначе объяснить, что Соединенные Штаты не смогли запустить ни одну из своих многочисленных ракет в какой-нибудь знаменательный день?
Советы не всегда воздерживаются от сообщений до получения уверенности в успехе, как предполагают некоторые.
Когда Луиник III был на пути к Луне, советские ученые уверенно сообщили, что он сфотографирует скрытую сторону Луны, двигаясь по орбите вокруг этого небесного тела. Орбиту Лунника III можно было вычислить с абсолютной точностью. Но откуда могли советские ученые знать, что фотокамера не подведет? Не являлось ли успешное выполнение камерой ее задачи автоматическим сигналом для телехронной батареи?
Мой ответ: очевидно, да.
А что можно сказать о будущих попытках отправить человека в космос? Допустим, что с человеком сговорились о посылке им сигнала из космоса через определенное время после запуска. Телехронная батарея покажет, сможет ли астронавт послать этот сигнал.
Если батарея останется неактивной, человек не будет послан. Очень просто. Решающим фактором, задерживающим посылку человека в Космос, является опасность для астронавта. Думаю, что Советский Союз достигнет этой цели раньше нас — из-за глупости нашего правительства, не понимающего значения тиотимолина.
Указанный принцип можно применить к любым научным и ненаучным исследованиям. Можно построить, например, гигантские мегабатареи, чтобы предсказывать результаты выборов в будущем году.
Позвольте мне сделать теперь несколько замечаний о великих опасностях, с которыми не меньше, чем с великими благодеяниями, связаны проблемы тиотимолина. Они начинаются с самого старого парадокса тиотимолина — парадокса одурачивания — с возможности растворения тиотимолина, который затем обманывают, не добавляя воду. Одурачивание тиотимолина теоретически
возможно. Иэ принципа неопределенности Гейзенберга следует, что нельзя сказать с уверенностью, растворится ли каждая данная молекула тиотимолина до добавления воды. Вероятность того, что это не произойдет, вполне заметна. По-видимому, телехронная батарея будет давать один ложный ответ на более чем миллион правильных. В подобном случае тиотимолин в последнем элементе батареи растворится, даже если вода не будет добавлена к первому. При этом возникает вопрос: откуда же все-таки появится вода?
В моей лаборатории была предпринята попытка зарегистрировать растворение без последующего добавления воды. Принцип, использованный в этой попытке, был прост. Один из моих студентов работал с батареей, в которую должен был добавить воду вручную на следующий день. Студент совершенно честно намеревался провести опыт до конца. Теоретически тиотимолин последнего элемента должен был раствориться. Тогда я перевел студента на другую работу и поручил батарею другому студенту с инструкцией не добавлять воды. Оказалось, что тиотимолин последнего элемента растворялся в этих условиях примерно в одном случае из двадцати, т. е. гораздо чаще, чем следует из «Гейзенбергова отказа». Но. как вскоре выяснилось, тиотимолин не удавалось одурачить. Всегда происходило какое-нибудь событие, приводившее к добавлению воды. В одном опыте первый студент вернулся и добавил воду до того, как его остановили. В другом опыте вода пролилась случайно. В третьем служитель... Но было бы скучно описывать способы, к которым прибегал, так сказать, тиотимолин, не желая быть одураченным. Достаточно сказать, что у нас не было ни одного случая истинного «Гейзенбергова отказа».
Со временем мы, конечно, начали принимать меры предосторожности против обычных случайностей, и число псевдоотказов уменьшилось. Мы, например, помещали батарею в замкнутые осушаемые сосуды, но во время псевдоотказов они трескались и разбивались.
В нашем последнем эксперименте мы, казалось, обнаружили «Гейзенбергов отказ», но в конце концов эксперимент не пришлось описать. Вместо этого я безуспешно пытался сообщить о последствиях опыта соответствующим официальным лицам. Позвольте рассказать вам об этом эксперименте. После того как было зарегистрировано растворение, мы поместили батарею в стальной контейнер и стали ждать момента, в который следовало добавить воду. И в это время на Новую Англию обрушился ураган Диана. Это случилось в августе 1955 г.
Был момент, когда Бюро погоды сообщило, что опасность миновала, что ураган повернул назад, к морю. Мы вздохнули с облегчением, так как подходило время подачи воды в батарею. Однако если кто-нибудь из вас был в тот день в Новой Англии, он вспомнит, что позже Бюро погоды сообщило, что оно «потеряло» ураган.. Вспомним, что ураган обрушился на нас неожиданно, что в течение часа во многих местах выпало пять дюймов дождя, что реки вышли иэ берегов и началось наводнение.
Я видел этот дождь — это был потоп. Маленькая речка, протекавшая мимо университетской спортивной площадки, превратилась в бурный поток и начала разливаться по лужайке.
Я закричал, чтобы мне принесли топор, разрубил стальной контейнер, вынул телехронную батарею, в меркнущем свете штормового дня наполнил водой мензурку и приготовился в надлежащий момент налить воду в батарею.
Когда я сделал это, дождь прекратился и ураган ушел.
Я не утверждаю, что мы были причиной возвращения урагана, но все же каким-то способом вода должна была попасть в батарею. Это произошло бы в случае, если бы стальной контейнер был унесен рекой и разбит водой и ветром. Исходное растворение в конечном элементе предсказывало такой результат или … мой добровольный отказ от эксперимента. Я предпочел последнее.
Иногда я думаю, что библейский потоп, прототип которого действительно удалось установить по осадочным породам в Мессопотамии, был вызван опытами с тиотимолином в древнем Шумере.
Я говорю вам, джентльмены, что перед нами стоит неотложная задача — убедить наше правительство добиваться международного контроля над всеми источниками тиотимолина. Ни один миллиграмм тиотимолина не должен попасть в руки безответственных лиц!
перевод С. АлениковойТиотимолин к звездам
— Ведь опять заведет ту же песню, — устало заметил младший лейтенант Пит.
— А почему бы нет? — отвечал лейтенант Прохоров, закрывая глаза и осторожно усаживаясь на копчик. — Он уже пятнадцать лет произносит эту речь перед каждым выпуском Космической Академии.
— Слово в слово, небось, — сказал Пит, который впервые слышал ее год назад.
— Насколько я могу судить. Зануда и притворщик! Хоть бы раз ему проколоться.
Однако выпускники уже строем входили в класс; взволнованные, в новенькой форме, они под приглушенный барабанный бой дисциплинированно разбились на ряды, шагнули каждый к своему месту и с дружным грохотом сели.
В эту секунду вошел адмирал Вернон и проковылял на возвышение.
— Здравствуйте, выпускной класс 22-го года! Ваша учеба закончилась. Начинается образование.
Вы назубок знаете классическую теорию космических перелетов. Вас напичкали астрофизикой и релятивистской небесной механикой. Но никто не говорил вам о тиотимолине.
На то есть свои причины. Рассказывать о нем в классе — бессмысленно. На тиотимолине надо летать — этому вам и предстоит учиться. Только тиотимолин доставит вас к звездам. При всей вашей книжной учености вы можете не совладать с тиотимолином. В таком случае вам все равно найдут работу в космосе, но только не за пилотским пультом.
Сегодня, в день окончания учебы, я прочту вам первую и последнюю лекцию по этому предмету. Дальше вы столкнетесь с тиотимолином уже в полете, и мы сразу увидим, есть ли у вас дарование.
Адмирал замолк и обвел взглядом молодые лица, словно хотел с ходу определить способности каждого. Потом рявкнул:
— Тиотимолин! Легенда гласит, что его открыл в 1948 году Азимут, или, по другим источникам, Асимптот, однако, вероятнее всего, такого человека попросту не существовало. Не сохранилось следов якобы написанной им статьи, только неявные упоминания, причем самые ранние датируются двадцать первым столетием.
Серьезные исследования были начаты Альмиранте, который впервые получил тиотимолин — или вновь открыл его, если принять гипотезу об Азимуте-Асимптоте. Альмиранте разработал теорию гиперпгространственных помех и доказал, что у молекулы тиотимолина в силу ее сверхискривленности две химических связи вытолкнуты во временное измерение, причем одна в прошлое, другая — в будущее.
Благодаря направленной в будущее валентности тиотимолин способен откликаться на еще не состоявшееся событие. Скажем, в классическом примере он растворяется за секунду до того, как прилили воду.
Тиотимолин, разумеется, относительно простое соединение. Собственно, это простейшая молекула, которая обнаруживает эндохронные свойства, то есть временное измерение.
Это открыло уникальные возможности ее использования, однако настоящее применения эндохронность получила позднее, когда были синтезированы более сложные молекулы: полимеры, совмещающие эндохронные свойства с жесткой структурой.
Пеллегрини первым получил эндохронные резины и пластмассы; двадцатью годами позже Кудахи научился соединять эндохронную пластмассу с металлом. Это позволило делать эндохронными крупные предметы — например, целые космические корабли.
Давайте разберем, что получается, когда большая структура становится эндохронной. Грубо это означает, что у нас есть все нужное. Теоретики, разумеется, нагромоздили формул, но что-то не доводилось мне видеть физика за штурвалом космического корабля. Пусть они ведут заумные споры, ваше дело — вести судно.
Маленькая молекула тиотимолина крайне чувствительна к статистической вероятности. Если вы уверены, что прильете воду, она растворится заранее. Если у вас есть хоть малейшие сомнения, тиотимолин не растворится, пока вода не будет в сосуде.
Большая эндохронная молекула меньше реагирует на сомнения. Она растворится, разбухнет, поменяет электропроводность или еще как-то провзаимодействует с водой, даже если вы почти уверены, что не прильете влагу. И что же случится, если вы ее не добавите? Ответ прост. Эндохронная молекула устремится в будущее на поиски воды и не остановится, пока не достигнет цели.
Получается как с осликом, который идет за подвешенной морковкой, только эндохронная структура, в отличие от ослика, не разумна и не устает.
Если эндохронен весь корабль — то есть если в его корпусе с достаточной частотой расположены эндохронные вкрапления — легко создать устройство, которое впрыскивало бы воду в ключевые узлы, и сделать так, чтобы это устройство постоянно готовилось включиться, но никогда бы на самом деле не включалось.
В таком случае эндохронные вкрапления двинутся в будущее, увлекая за собой корабль и все в нем находящееся, включая команду.
Конечно, ничто не абсолютно. Корабль движется в будущее относительно Вселенной; с тем же успехом можно сказать, что Вселенная движется в прошлое относительно корабля. Скорость перемещения можно отрегулировать очень точно, внося необходимые изменения в устройство для подачи воды. Навык этот приходит с опытом, но требует врожденных способностей. Вот это нам и предстоит выяснить: есть ли такие способности у вас.
Адмирал снова замолчал и снова оглядел слушателей. Потом, в полной тишине, продолжил:
— Но зачем это все? Давайте поговорим о космических кораблях и вспомним, чему вас учили в школе.
Звезды немыслимо далеки одна от другой, и перелеты между ними, учитывая световой барьер, занимают годы, столетия, тысячелетия. Можно построить большой корабль с замкнутой экологией: маленькую самодостаточную вселенную, посадить на него людей, и десятое поколение достигнет далекой звезды. Одному человеку это невозможно, и если корабль все-таки вернется на Землю, то лишь много веков спустя.
Чтобы первоначальная команда проделала весь путь, ее надо уложить в криогенные камеры. Но замораживание — процедура ненадежная. Даже если космонавты вернутся, и вернутся живыми, они увидят, что на Земле прошло много столетий.
Чтобы команда достигла звезд при жизни и без замораживания, нужно разогнаться до околосветовой скорости. Субъективное время замедляется, и космонавтам кажется, что перелет занял несколько месяцев. Однако в остальной Вселенной время идет по-прежнему, и звездоплаватели, вернувшись, видят, что, хотя сами они состарились, скажем, на два месяца, Земля успела прожить не одно столетие.
В любом случае межзвездное путешествие означает, что на Земле, если не на корабле, пройдет огромный промежуток времени. Космонавт возвращается, если возвращается, в далекое будущее. Это делает дальние перелеты психологически непрактичными.
Но… но, выпускники…
Адмирал испытующе оглядел класс и продолжил низким, глухим голосом:
— Если у нас есть эндохронный корабль, то мы можем компенсировать растяжение времени эндохронным эффектом. Покуда корабль на околосветовой скорости несется через пространство и претерпевает замедление субъективного времени, эндохронный эффект смещает Вселенную в прошлое относительно корабля. При должной сноровке для команды корабля проходят, скажем, два месяца, и для Вселенной — два месяца. Межзвездные перелеты обретают смысл.
Но это очень тонкое дело.
Допустим, эндохронный эффект немного не поспевает за эффектом растяжения времени. Космонавты возвращаются спустя два месяца и обнаруживают, что на Земле прошли все четыре. Казалось бы, невелика важность… Ан нет! Космонавты выпадают из графика. Окружающие состарились относительно них на два месяца. Хуже того, населению планеты кажется, что космонавты на два месяца младше положенного. Как следствие, возникают обиды и неловкость.
Сходным образом, если эндохронный эффект немного перекрывает эффект растяжения времени, команда вернется через два месяца и увидит, что время на Земле остановилось. Корабль приземляется одновременно со взлетом. Обиды и неловкость остаются.
Нет, выпускники, межзвездный перелет можно считать успешным, только если его продолжительность для команды и для землян совпадает минута в минуту. Погрешность в шестьдесят секунд — это разгильдяйство. В сто двадцать — профессиональная непригодность.
Знаю, выпускники, какой вопрос вертится у вас на языке. Мне он в вашем возрасте тоже приходил в голову. Разве эндохронный корабль — не та же машина времени? Разве нельзя, соответственно отрегулировав эндохронный механизм, сознательно проникнуть на век вперед посмотреть, что хочешь, вернуться на век назад и оказаться в исходной точке? Или наоборот, отправиться на сто лет в прошлое, а затем на сто лет в будущее? На тысячу лет, на миллион? Увидеть, как рождается Земля, эволюционирует жизнь, умирает Солнце?
Выпускники! Математики говорят, что подобные перемещения рождают парадоксы и невозможны, поскольку требовали бы слишком больших энергетических затрат. Но я скажу — какие, к чертям, парадоксы! Причина куда проще. Эндохронные свойства нестабильны. Искривленные во времени молекулы очень нежны. Сравнительно малые воздействия ведут к химическим превращениям, и молекула распрямляется. Мало того, она может распрямиться просто от случайных колебаний.
Короче, эндохронный корабль постепенно становится изохронным, обычной материей без всякой временной протяженности. Современные технологии значительно замедлили процесс разгибания и, возможно, замедлят еще, но создать совершенно стабильную эндохронную молекулу теоретически невозможно.
Это значит, что срок службы космического корабля невелик. Вы должны вернуться на Землю, пока корпус еще сохраняет эндохронные свойства, и восстановить их перед следующим полетом.
Что же будет, если вы вернулись не в свое время? При достаточно большой погрешности никто не гарантирует вам технологий, способных восстановить ваш корабль. Хорошо, если вы попали в будущее. А если в прошлое? Если по своей небрежности или просто из-за недостатка дарования вы приземлились в глубине веков, то там вам и сидеть — никто не восстановит ваш корабль для броска в будущее.
Постарайтесь уразуметь, — здесь адмирал хлопнул в ладоши, видимо, желая привлечь внимание к своим словам, — что в прошлом нет ни одного мало-мальски пристойного отрезка, где бы цивилизованному астронавту хотелось провести остаток дней. Вы можете попасть во Францию шестого века или, хуже, в Америку двадцатого.
Поэтому остерегайтесь экспериментировать со временем.
Теперь перейдем к явлению, которое вряд ли всерьез затрагивали ваши преподаватели, но которое вам предстоит испытать на своей шкуре.
Вы спросите, как относительно небольшое число эндохронных валентностей, вкрапленных в изохронное вещество значительно большей массы, увлекает его за собой? Каким образом одна эндохронная связь своей тягой к воде тащит миллиарды атомов с изохронными валентностями? Нам кажется, что это невозможно, потому что мы с пеленок привыкли к инерции.
Однако движение в прошлое или будущее не знает инерции. Если часть предмета движется вперед или назад во времени, то и весь предмет движется с такой же скоростью. Фактор массы отсутствует. Вот почему всю Вселенную так же легко отбросить в прошлое, как и закинуть корабль в будущее; причем, опять-таки, скорость будет одинаковой.
Но это еще не все. Как учили вас в курсе элементарной релятивистской физики, эффект растяжения времени есть следствие вашего ускорения относительно Вселенной в целом. Это связано с массой, следовательно, с инерцией.
Однако эндохронность устраняет растяжение времени, а значит — и его причину. Короче, когда эндохронный эффект полностью компенсирует эффект растяжения времени, он сводит на нет инерционные следствия ускорения.
Нельзя отменить одно инерционное следствие ускорения, не отменив все остальные. Значит, инерция падает до нуля, и можно свободно разгоняться до любой скорости. Как только достигнут нужный эндохронный эффект, вы можете развить любую скорость, начиная от состояния покоя и кончая ста восьмьюдесятью шестью тысячами миль в секунду относительно Земли, за любое время — часы, минуты. Чем больше ваш опыт и дарование, тем быстрее вы можете разгоняться.
Сейчас, господа, вы испытываете это на себе. Вам кажется, что мы сидим в аудитории на поверхности планеты Земля, и я уверен — за все время у вас не было ни малейшего повода усомниться в этом впечатлении. Тем не менее оно ошибочно.
Да, вы в аудитории, но не на планете Земля. Вы, я, все мы — в огромном космическом корабле, который взлетел при первых моих словах. Пока я говорил, мы достигли окраин Солнечной системы и теперь возвращаемся.
За это время вы ни разу не почувствовали перегрузок, вызванных ускорением, и потому считали, что находитесь в состоянии покоя относительно Земли.
Это не так, выпускники. Все время, пока я говорил, вы находились в космосе, и прошли, согласно расчетам, в двух миллионах миль от планеты Сатурн.
По рядам пробежал шум. Адмирал с мрачным удовольствием оглядел взволнованных слушателей.
— Не тревожьтесь, выпускники. Поскольку мы не испытывали ни перегрузок, ни гравитационных эффектов (что, в сущности, одно и то же), значит, Сатурн никак не повлиял на наш курс. Мы вот-вот опустимся на поверхность Земли. По специальной договоренности мы прибудем в порт Объединенных Наций Суздаль, так что выходные вы проведете в городе.
Сам факт, что мы не испытывали никаких инерционных явлений, доказывает, что растяжение времени полностью компенсировалось эндохронным эффектом. Будь здесь хоть малейший зазор, вы бы почувствовали перегрузку — еще одна причина не экспериментировать со временем. Помните, выпускники, погрешность в шестьдесят секунд — разгильдяйство, в сто двадцать — профнепригодность!
Мы приземляемся; лейтенант Прохоров, пожалуйста, поднимитесь в боевую рубку и осуществите посадку.
Прохоров коротко ответил «Есть!» и полез по трапу в дальнем конце зала, где сидел во время всей лекции.
Адмирал Вернон улыбнулся:
— Можете оставаться на местах. Мы идем точным курсом. Мои корабли всегда идут точным курсом.
Но тут Прохоров спустился по трапу, бегом бросился к адмиралу и зашептал на ухо:
— Адмирал, если это Суздаль, то что-то не так. Я вижу одних монголов. Толпы монголов. Монголы в России, сейчас?
Адмирал побелел и с квохчущим звуком повалился на бок. Выпускной класс неуверенно поднялся с мест. Младший лейтенант Пит поднялся на возвышение вместе с Прохоровым; он все слышал и теперь стоял, как громом пораженный.
Прохоров поднял обе руки.
— Не волнуйтесь, господа. Все в порядке. У адмирала легкий приступ головокружения. С пожилыми людьми это иногда случается при посадке.
Пит хрипло шепнул:
— Но мы же застряли в прошлом!
Прохоров поднял бровь:
— Конечно, нет! Ты же не чувствовал ускорения? Мы не могли промахнуться и на час. Будь у адмирала вдобавок к погонам еще и мозги, он бы сам это сообразил.
— Почему же ты утверждал, будто что-то не так? Разве ты не говорил, что видел монголов?
— Говорил, потому что они здесь. Когда адмирал Тупица придет в себя, он не сможет мне ничего сделать. Мы сели не в Суздале, а значит, что-то и впрямь не так. Что до монголов, если я правильно прочел дорожный указатель, мы приземлились на окраине Улан-Батора.
Антология Гарри Гаррисона, в которой впервые напечатан «Тиотимолин к звездам», называлась просто «Эстаудинг». Гарри хотел сделать один последний выпуск журнала. Не «Аналог», но «Эстаудинг».
«Аналог» тоже неплох, однако нам, старожилам, ничто не заменит «Поразительную научную фантастику», сколько ни меняй названия[8].
Итак, что еще осталось мне сказать, чтобы ввести вас в курс последних новостей?
30 ноября 1973 года я женился во второй раз на Джанет Джеппсон. Моя жена (в порядке увеличения важности) психиатр, писательница и замечательная женщина. Она в 1974 году опубликовала собственный фантастический роман «Второй эксперимент», а о том, что роман окончательно принят в издательстве, узнала за полчаса до нашей свадьбы. Это был великий день.
Мне хочется пожелать ей, чтобы профессиональная карьера оставляла ей побольше времени для писательства. Тогда мы, возможно, когда-нибудь выпустим совместный сборник, написанный мужем и женой.
перевод Е. Доброхотовой-МайковойПримечания
1
Умственно дефективное лицо, проявляющее незаурядные способности в какой-либо ограниченной области.
(обратно)2
Райн Джозеф Бэнкс (1895—1980) — психолог и парапсихолог. Считается основателем научной парапсихологии.
(обратно)3
Э. Дж. Файншрайбер, И. Хравлек. Скорости растворения и гидрофильные группы. «Журнал растворимости вещества», 1939, № 22, 57–68.
(обратно)4
Дж. X. Фрейдлер. Инициатива и решительность; влияет ли на них питание? По данным экспериментов с растворимостью тиотимолина. «Журнал психохимии». 1945, № 2, 476–488.
(обратно)5
П. Крам. Устройство для количественного измерения скорости растворения тиотимолина. «Журнал растворимости вещества», 1918, № 29, 719–818.
(обратно)6
А. Азимов. Эндохронные свойства ресублимированного тиотимолина. «Журнал потрясающей научной фантастики», 1948 № 50, 1, 120–125.
(обратно)7
О.О. Мак-Левинсон. Психологические различия в прогулках с субъектами собственного и противоположного пола (по данным тиотимилиновых измерений). Новый свет на загадочную проблему. «Записки Общества организации развлечений для военнослужащих». 1957, № 16, 22–31,
(обратно)8
«Аналог научная фантастика — научный факт» — новое название журнала «Эстаудинг Сайенс Фикшн».
(обратно)9
Неразрешимая задача математики, поставленная известным английским философом и математиком Б. Расселом.
(обратно)10
Слова Джульетты из трагедии «Ромео и Джульетта» У. Шекспира (акт 2, сц. 2) (Примеч. пер.).
(обратно)11
Фешенебельный район Нью-Йорка, где живут самые богатые люди Нью-Йорка.
(обратно)12
Калтех — Калифорнийский технологический институт.
(обратно)13
Не следует из вышесказанного (лат.).
(обратно)14
Римский мир (лат.).
(обратно)15
Cony — по-английски «кролик», silicony можно перевести как «глупый кролик».
(обратно)
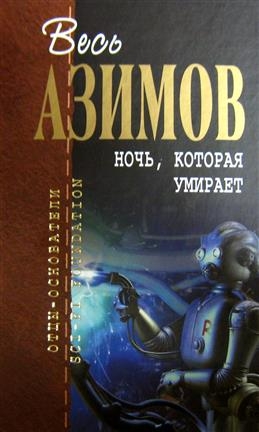

Комментарии к книге «Ночь, которая умирает», Айзек Азимов
Всего 0 комментариев