СТРЕЛА ВРЕМЕНИ
Аннотация
Настоящий сборник составлен из произведений современных анг-
лийских и американских писателей-фантастов, пользующихся широкой
известностью у себя на родине и за рубежом.
Айзек АЗИМОВ
МОЙ СЫН – ФИЗИК
Ее волосы были нежнейшего светло-зеленого цвета –
уж такого скромного, такого старомодного! Сразу видно было, что с краской она обращается осторожно: так красились лет тридцать назад, когда еще не вошли в моду полосы и пунктир. Да и весь облик этой уже очень немолодой женщины, ее ласковая улыбка, ясный кроткий взгляд – все дышало безмятежным спокойствием.
И от этого суматоха, царившая в огромном правительственном здании, вдруг стала казаться дикой и нелепой.
Какая-то девушка чуть не бегом промчалась мимо, обернулась и с изумлением уставилась на странную посетительницу.
– Как вы сюда попали?
Та улыбнулась.
– Я иду к сыну, он физик.
– К сыну?..
– Вообще-то он инженер по связи. Главный физик
Джерард Кремона.
– Доктор Кремона? Но он сейчас… А у вас есть пропуск?
– Вот, пожалуйста. Я его мать.
– Право, не знаю, миссис Кремона. У меня ни минуты… Кабинет дальше по коридору. Вам всякий покажет.
И она умчалась.
Миссис Кремона медленно покачала головой. Видно, у них тут какие-то неприятности. Будем надеяться, что с
Джерардом ничего не случилось.
Далеко впереди послышались голоса, и она просияла: голос сына!
Она вошла в кабинет и сказала:
– Здравствуй, Джерард.
Джерард – рослый, крупный, в густых волосах чуть проглядывает седина: он их не красит, говорит, некогда, он слишком занят. Таким сыном можно гордиться, она всегда им любовалась.
Сейчас он обстоятельно что-то объясняет человеку в военном мундире. Кто его разберет, в каком чине этот военный, но, уж наверно, Джерард сумеет поставить на своем. Джерард поднял голову.
– Что вам угодно? Мама, ты?! Что ты здесь делаешь?
– Пришла тебя навестить.
– Разве сегодня четверг? Ох, я совсем забыл! Посиди, мама, после поговорим. Садись где хочешь. Где хочешь…
Послушайте, генерал…
Генерал Райнер оглянулся через плечо, рывком заложил руки за спину.
– Это ваша матушка?
– Да.
– Надо ли ей здесь присутствовать?
– Сейчас не надо бы, но я за нее ручаюсь. Она даже термометром не пользуется, а в этом уж вовсе ничего не разберет. Так вот, генерал. Они на Плутоне. Понимаете?
Наверняка. Эти радиосигналы никак не могут быть естественного происхождения. Значит, их подают люди, люди с
Земли. Вы должны с этим согласиться. Очевидно, одна из экспедиций, которые мы отправили за пояс астероидов, все-таки оказалась успешной. Они достигли Плутона.
– Ну да, ваши доводы мне понятны, но разве это возможно? Люди отправлены в полет четыре года назад, а всех припасов им могло хватить от силы на год, так я понимаю? Ракета была запущена к Ганимеду, а пролетела до
Плутона – это в восемь раз дальше.
– Вот именно. И мы должны узнать, как и почему это произошло. Может быть… может быть, они получили помощь.
– Какую? Откуда?
На миг Кремона стиснул зубы, словно набираясь терпения.
– Генерал, – сказал он, – конечно, это ересь, а все же: вдруг тут замешаны не земляне? Жители другой планеты?
Мы должны это выяснить. Неизвестно, сколько времени удастся поддерживать связь.
По хмурому лицу генерала скользнуло что-то вроде улыбки.
– Вы думаете, они сбежали из-под стражи и их того и гляди снова схватят?
– Возможно, возможно… Нам надо точно узнать, что происходит – может быть, от этого зависит будущее человечества. И узнать, не откладывая.
– Ладно. Чего же вы хотите?
– Нам немедленно нужен Мультивак военного ведомства. Отложите все задачи, которые он для вас решает, и запрограммируйте нашу основную семантическую задачу.
Освободите инженеров связи, всех до единого, от другой работы и отдайте в наше распоряжение.
– При чем тут это? Не понимаю!
Неожиданно раздался кроткий голос:
– Не хотите ли фруктов, генерал? Вот апельсины.
– Мама! Прошу тебя, подожди! – взмолился Кремона.
– Все очень просто, генерал. Сейчас от нас до Плутона чуть меньше четырех миллиардов миль. Если даже радиоволны распространяются со скоростью света, то они покроют это расстояние за шесть часов. Допустим, мы что-то сказали – ответа надо ждать двенадцать часов. Допустим, они что-то сказали, а мы не расслышали, переспросили, и они повторяют ответ – вот и ухнули сутки!
– А нельзя это как-нибудь ускорить? – спросил генерал.
– Конечно, нет. Это основной закон связи. Скорость света – предел, никакую информацию нельзя передать быстрее. Наш с вами разговор здесь отнимет часы, а на то, чтобы провести его с Плутоном, ушли бы месяцы.
– Так, понимаю. И вы в самом деле думаете, что тут замешаны жители другой планеты?
– Да. Честно говоря, со мной далеко не все согласны. И
все-таки мы из кожи вон лезем – стараемся разработать какой-то способ наиболее емких сообщений. Надо передавать возможно больше бит информации в секунду и молить господа бога, чтобы удалось втиснуть все, что надо, пока не потеряна связь. Вот для этого мне и нужен электронный мозг и ваши люди. Нужна какая-то стратегия, при которой можно передать те же сообщения меньшим количеством сигналов. Если увеличить емкость хотя бы на десять процентов, мы, пожалуй, выиграем целую неделю.
И опять их прервал кроткий голос:
– Что такое, Джерард? Вам нужно провести какую-то беседу?
– Мама! Прошу тебя!
– Но ты берешься за дело не с того конца. Уверяю тебя.
– Мама! – В голосе Кремоны послышалось отчаяние.
– Ну-ну, хорошо. Но если ты собираешься что-то сказать, а потом двенадцать часов ждать ответа, это очень глупо. И совсем не нужно.
Генерал нетерпеливо фыркнул.
– Доктор Кремона, может быть, обратимся за консультацией к…
– Одну минуту, генерал. Что ты хотела сказать, мама?
– Пока вы ждете ответа, все равно ведите передачу дальше, – очень серьезно посоветовала миссис Кремона. –
И им тоже велите так делать. Говорите не переставая, и они пускай говорят не переставая. И пускай у вас ктонибудь все время слушает и у них тоже. Если кто-то скажет что-нибудь такое, на что нужен ответ, можно его вставить, но скорей всего вы и не спрашивая услышите все, что надо.
Мужчины ошеломленно смотрели на нее.
– Ну, конечно! – прошептал Кремона. – Непрерывный разговор… Сдвинутый по фазе на двенадцать часов, только и всего… Сейчас же и начнем!
Он решительно вышел из комнаты, чуть ли не силком таща за собой генерала, но тотчас вернулся.
– Мама, – сказал он, – ты извини, это, наверно, отнимет несколько часов. Я пришлю кого-нибудь из девушек, они с тобой побеседуют. Или приляг, вздремни, если хочешь.
– Обо мне не беспокойся, Джерард, – сказала миссис
Кремона.
– Но как ты до этого додумалась, мама? Почему ты это предложила?
– Так ведь это известно всем женщинам, Джерард. Когда две женщины разговаривают – все равно, по видеофону, по страторадио или просто с глазу на глаз, – они прекрасно понимают: чтобы передать любую новость, надо просто говорить не переставая. В этом весь секрет.
Кремона попытался улыбнуться. Потом нижняя губа его задрожала, он круто повернулся и вышел.
Миссис Кремона с нежностью посмотрела ему вслед.
Хороший у нее сын. Такой большой, взрослый, такой видный физик, а все-таки не забывает, что мальчик всегда должен слушаться матери.
ЧУВСТВО СИЛЫ
Джехан Шуман привык иметь дело с высокопоставленными людьми, руководящими раздираемой распрями планетой. Он был штатским, но составлял программы для автоматических счетных машин самого высшего порядка.
Поэтому генералы прислушивались к нему. Председатели комитетов конгресса – тоже.
Сейчас в отдельном зале Нового Пентагона было по одному представителю тех и других. Генерал Уэйдер был темен от космического загара, и его маленький ротик сжимался кружочком. У конгрессмена Бранта было гладко выбритое лицо и светлые глаза. Он курил денебианский табак с видом человека, патриотизм которого достаточно известен, чтобы он мог позволить себе такую вольность.
Высокий, изящный Шуман, программист 1 класса, глядел на них без страха.
– Джентльмены, – произнес он, – это Майрон Ауб.
– Человек с необычайными способностями, открытый вами случайно, – безмятежно сказал Брант, – помню.
Он разглядывал маленького, лысого человечка с выражением снисходительного любопытства.
Человечек беспокойно шевелил пальцами и то и дело переплетал их. Ему никогда еще не приходилось сталкиваться со столь великими людьми. Он был всего лишь пожилым техником низшего разряда; когда-то он провалился на всех экзаменах, призванных обнаружить в человечестве наиболее одаренных, и с тех пор застрял в колее неквалифицированной работы. У него была одна страстишка, о которой пронюхал великий Программист и вокруг которой поднимал такую страшную шумиху.
Генерал Колдер сказал:
– Я нахожу эту атмосферу таинственности детской.
– Сейчас вы увидите, – возразил Шуман. – Это не такое дело, чтобы рассказывать первому встречному. Ауб! –
В том, как он бросил это односложное имя, было что-то повелительное, но так подобало говорить великому Программисту с простым техником. – Ауб, сколько будет, если девять умножить на семь?
Ауб поколебался; в его бледных глазах появилась тревога.
– Шестьдесят три, – сказал он.
Конгрессмен Брант поднял брови.
– Это верно?
– Проверьте сами, сэр.
Конгрессмен достал из кармана счетную машинку, дважды передвинул ее рычажки, поглядел на циферблат у себя на ладони, потом сунул машинку обратно.
– Это вы и хотели нам показать? – спросил он. – Фокусника?
– Больше, чем фокусника, сэр. Ауб запомнил несколько простых операций и с их помощью ведет расчеты на бумаге.
– Бумажный счетчик, – вставил генерал со скучающим видом.
– Нет, сэр, – терпеливо возразил Шуман. – Совсем не то. Просто листок бумаги. Генерал, будьте любезны задать число!
– Семнадцать, – сказал генерал.
– А вы, конгрессмен?
– Двадцать три.
– Хорошо. Ауб! Перемножьте эти числа и покажите джентльменам, как вы это делаете.
– Да, Программист, – сказал Ауб, втянув голову в плечи. Из одного кармана он извлек блокнотик, из другого –
тонкий автоматический карандаш. Лоб у него собрался складками, когда он выводил на бумаге затейливые значки. Генерал Уэйдер резко бросил ему:
– Покажите, что там.
Ауб подал ему листок, и Уэйдер сказал:
– Да, это число похоже на 17.
Брант кивнул головой.
– Верно, но, мне кажется, скопировать цифры со счетчика сможет всякий. Думаю, что мне и самому удастся нарисовать 17, даже без практики.
– Разрешите Аубу продолжать, джентльмены, – бесстрастно произнес Шуман.
Ауб снова взялся за работу, руки у него слегка дрожали. Наконец он произнес тихо:
– Это будет 391.
Конгрессмен Брант снова достал свой счетчик и защелкал рычажками.
– Черт возьми, верно! Как он угадал?
– Он не угадывает, джентльмены, – возразил Шуман. –
Он рассчитал результат. Он сделал это на листке бумаги.
– Чепуха, – нетерпеливо произнес генерал. – Счетчик –
это одно, а значки на бумаге – другое.
– Объясните, Ауб, – приказал Шуман.
– Да, Программист. Ну вот, джентльмены, я пишу 17, а под ним 23. Потом я говорю себе: 7 умножить на 3.
Конгрессмен прервал мягко:
– Нет, Ауб, задача была умножить 17 на 23.
– Да, я знаю, – серьезно ответил маленький техник, –
но я начинаю с того, что умножаю 7 на 3, потому что так получается. А 7 умножить на 3 – это 21.
– Откуда вы это знаете? – спросил конгрессмен.
– Просто запомнил. На счетчике всегда получается 21.
Я проверял много раз.
– Это значит, что так будет получаться всегда, не правда ли? – заметил конгрессмен.
– Не знаю, – пробормотал Ауб. – Я не математик. Но, видите ли, у меня всегда получаются правильные ответы.
– Продолжайте.
– Три умножить на 7 – это 21, так что я и пишу 21. Потом трижды один – три, так что я пишу тройку под двойкой…
– Почему под двойкой? – прервал вдруг Брант.
– Потому что… – Ауб обратил беспомощный взгляд к своему начальнику. – Это трудно объяснить.
Шуман вмешался.
– Если вы примете его работу, как она есть, то подробности можно будет поручить математикам.
Брант согласился. Ауб продолжал:
– Два да три – пять, так что из 21 получается 51. Теперь оставим это на время и начнем заново. Перемножим
7 и 2, будет 14, потом 1 и 2, это будет 2. Сложим, как раньше, и получим 34. И вот, если написать 34 вот так под
51 и сложить их, то получится 391. Это и будет ответ.
Наступило минутное молчание, потом генерал Уэйдер сказал:
– Не верю. Он городит чепуху, складывает числа и умножает их так, но я ему не верю. Это слишком сложно, чтобы могло быть разумным.
– О нет, сэр, – смятенно возразил Ауб. – Это только кажется сложным, потому что вы не привыкли. В действительности же правила довольно просты и годятся для любых чисел.
– Для любых? – переспросил генерал. – Ну, так вот. –
Он достал свой счетчик (военную модель строгого стиля) и поставил его наугад. – Помножьте на бумажке – 5, 7, 3, 8. Это значит… Это значит 5738.
– Да, сэр, – сказал Ауб и взял новый листок бумаги.
– Теперь… – Генерал снова заработал счетчиком. –
Пишите: 7, 2, 3, 9. Число 7239.
– Да, сэр.
– А теперь перемножьте их.
– Это займет много времени, – прошептал Ауб.
– Неважно.
– Валяйте, Ауб, – весело сказал Шуман.
Ауб принялся за дело. Он брал один листок за другим.
Генерал достал часы и засек время.
– Ну что, кончили колдовать, техник? – спросил он.
– Сейчас кончу, сэр… Готово. 41537382. – Ауб показал записанный результат.
Генерал Уэйдер недоверчиво улыбнулся, передвинул контакты умножения на своем счетчике и подождал, пока цифры остановятся. А когда он взглянул, сказал с величайшим изумлением:
– Великие галактики, это верно!
Президент Всепланетной Федерации позволил подвижным чертам своего лица принять выражение глубокой меланхолии. Денебианская война, начавшаяся как широкое, популярное движение, выродилась в скучное маневрирование и контрманеврирование, с постоянно растущим на Земле недовольством. Однако оно росло и на Денебе.
А тут конгрессмен Брант, глава важного военного комитета, беспечно тратит свою получасовую аудиенцию на разговоры о чепухе.
– Расчеты без счетчика, – нетерпеливо произнес президент, – это противоречие понятий.
– Расчеты, – возразил конгрессмен, – это только система обработки данных. Их может сделать машина, может сделать и человеческий мозг. Позвольте привести пример.
– И, пользуясь недавно приобретенными знаниями, он получал суммы и произведения, пока президент не заинтересовался против своей воли.
– И это всегда выходит?
– Каждый раз, сэр. Это абсолютно надежно.
– Трудно ли этому научиться?
– Мне понадобилась неделя, чтобы понять понастоящему. Думаю, что дальше будет легче.
– Хорошо, – сказал президент, подумав, – это интересная салонная игра, но какая от нее польза?
– Какая польза от новорожденного ребенка, дорогой президент? В данный момент пользы нет, но разве вы не видите, что это указывает нам путь к освобождению от машины? Подумайте, сэр. – Конгрессмен встал, и в его звучном голосе автоматически появились интонации, к которым он прибегал в публичных дебатах. – Денебианская война – это война между счетными машинами. Денебианские счетчики создают непроницаемый заслон против нашего обстрела, наши счетчики – против их обстрела.
Как только мы улучшаем работу своих счетчиков, другая сторона делает то же, и такое жалкое, бесцельное равновесие держится уже пять лет.
А теперь у нас есть способ, позволяющий обойтись без счетчика, перепрыгнуть через него, обогнать его, мы можем сочетать механику расчетов с человеческой мыслью; мы можем получить эквивалент счетчикам, миллионам их.
Я не могу предсказать все последствия в точности, но они будут неисчислимы. А если Денеб будет продолжать упрямиться, они могут стать катастрофическими.
Президент смутился.
– Чего вы от меня хотите?
– Чтобы вы поддержали в административном отношении секретный проект, касающийся людей-счетчиков. Назовем его Проект Числа, если хотите. Я могу поручиться за свой комитет, но мне нужна административная поддержка.
– Но каковы пределы возможностей для людейсчетчиков?
– Пределов нет. По словам Программиста Шумана, познакомившего меня с этим открытием…
– Я слышал о Шумане.
– Да, так вот, доктор Шуман говорит, что теоретически счетная машина не может делать ничего такого, чего не мог бы сделать человеческий мозг. Машина попросту берет некоторое количество данных и производит с ними конечное количество операций. Человек может воспроизвести этот процесс.
Президент долго обдумывал слова Бранта, потом сказал:
– Если Шуман говорит, что это так, то я готов поверить ему – теоретически. Но практически: может ли ктонибудь знать, как счетная машина работает?
Брант вежливо засмеялся.
– Да, господин президент, я тоже спрашивал об этом.
По-видимому, было время, когда счетные машины проектировались людьми. Конечно, эти машины были очень простыми – ведь это было еще до того, как были разработаны способы использования одних счетчиков для проектирования других, более совершенных.
– Да-да, продолжайте.
– Очевидно, техник Ауб в свободное время занимался восстановлением некоторых старых устройств; в процессе работы он изучал их действия и решил, что может воспроизвести их. Умножение, проделанное мною сейчас, – это только воспроизведение работы счетной машины.
– Поразительно!
Конгрессмен слегка откашлялся.
– Разрешите мне указать еще на одну сторону вопроса.
Чем больше мы будем развивать это дело, тем меньше усилий нам потребуется на производство счетных машин и их обслуживание. Их работу возьмет на себя человек, а мы сможем использовать все больше энергии на мирные цели, и средний человек будет все меньше ощущать гнет войны. А это, конечно, полезно для правящей партии.
– Вот как! – сказал президент. – Теперь я вижу, к чему вы клоните. Хорошо, садитесь, сэр, садитесь. Мне нужно подумать обо всем этом… А сейчас покажите-ка мне еще раз фокус с умножением. Посмотрим, сумею ли я разобраться в нем и повторить.
Программист Шуман не пытался торопить события.
Лессер был консервативен, очень консервативен, и любил работать с вычислительными машинами, как работали его отец и дед. Кроме того, он контролировал концерн по производству вычислительных машин, и если его удастся убедить примкнуть к Проекту Числа, то это откроет большие возможности.
Но Лессер упирался. Он сказал:
– Я не уверен, что мне понравится идея отказаться от вычислительных машин. Человеческий ум – капризная штука. А машина дает на одну и ту же задачу всегда один и тот же ответ. Кто поручится, что человек будет делать то же?
– Разум человека, расчетчик Лессер, только манипулирует с фактами. Делает ли это он или машина – неважно.
То и другое – только орудия.
– Да-да. Я проследил за вашим остроумным доказательством того, что человек может воспроизвести работу машины, но это мне кажется несколько необоснованным.
Я могу согласиться с теорией, но есть ли у нас основания думать, что теорию можно превращать в практику?
– Думаю, сэр, что есть. В конце концов, вычислительные машины существовали не всегда. У древних людей, с их каменными топорами и железными дорогами, таких машин не было.
– Должно быть, они и не вели расчетов.
– Можете не сомневаться. Даже для строительства железной дороги или пирамиды нужно уметь рассчитывать, а они это делали без тех вычислительных машин, какими пользуемся мы.
– Вы хотите сказать – они считали так, как вы мне показывали?
– Может быть, и не так. Этот способ – мы назвали его «графитикой», от древнего слова «графо» (пишу), – разработан на основе счетчиков, так что он не мог предшествовать им. Но все-таки у древних людей должен был быть какой-то способ, верно?
– Забытое искусство? Если вы говорите о забытых искусствах…
– Нет-нет. Я не сторонник этой теории, хотя и не скажу, что она невероятна. В конце концов человек питался зернами злаков до введения гидропоники, и если первобытные народы ели зерно, то должны были выращивать злаки в почве. Как иначе они могли это делать?
– Не знаю, но поверю в выращивание из почвы, когда увижу, что кто-нибудь вырастил так что-либо. И поверю в добывание огня путем трения двух кремней друг о друга, если увижу, что кому-то это удалось.
Шуман заговорил примирительно:
– Давайте будем держаться графитики. Это только часть процесса эфемеризации. Транспорт с его громоздкими приспособлениями уступает место непосредственному телекинезу. Средства связи становятся все менее массивными и более надежными. А сравните свой карманный счетчик с неуклюжими машинами тысячелетней давности. Почему бы не сделать еще один шаг и не отказаться от счетчиков совсем? Послушайте, сэр, Проект
Числа – верное дело, прогресс налицо. Но нам нужна ваша помощь. Если вас не трогает патриотизм, то подумайте об интеллектуальной романтике!
Лессер возразил скептически:
– Какой прогресс? Что вы умеете делать, кроме умножения? Сумеете вы проинтегрировать трансцендентную функцию?
– Со временем сумею, сэр. Со временем. С месяц назад я научился производить деление. Я могу находить, и находить правильно, частное в целых и десятичных.
– В десятичных? До какого знака?
Программист Шуман постарался сохранить небрежный тон.
– До какого угодно.
Лицо у Лессера вытянулось.
– Без счетчика?
– Можете проверить.
– Разделите 27 на 13. С точностью до шестого знака.
Через пять минут Шуман сказал:
– 2,076923.
Лессер проверил.
– Поразительно! Умножение не мое призвание, оно относится, в сущности, к целым числам, и я думал, что это просто фокус. Но десятичные…
– И это не все. Есть еще одно достижение, пока еще сверхсекретное, о котором, строго говоря, я не должен был бы упоминать. Но все же… Возможно, что нам удастся овладеть квадратными корнями.
– Квадратными корнями?
– Там есть кое-какие занозы, которые мы еще не сумели выровнять, но техник Ауб – человек, изобретший эту науку и обладающий большой интуицией, – говорит, что почти решил эту проблему. И он только техник. А для такого человека, как вы, опытного и талантливого математика, здесь не должно быть ничего трудного.
– Квадратные корни… – пробормотал заинтересованный Лессер.
– И кубические тоже. Идете вы с нами?
Рука Лессера вдруг протянулась к нему.
– Рассчитывайте на меня!
Генерал Уэйдер расхаживал по комнате взад-вперед и обращался к своим слушателям так, как вспыльчивый учитель обращается к упрямым ученикам. Генерал не задумывался о том, что его слушателями были ученые, стоящие во главе проекта «Число». Он был их главным начальником и помнил об этом каждый момент, когда не спал.
Он говорил:
– Ну, с квадратными корнями все в порядке. Я не умею их извлекать и не понимаю метода, но это замечательно. И
все-таки нельзя уводить проект в сторону, к тому, что некоторые из вас называют основной теорией. Можете забавляться с графитикой как вам угодно по окончании войны, но в данную минуту нам нужно решать специфические и весьма практические задачи.
Техник Ауб, сидевший в дальнем углу, слушал его с напряженным вниманием. Правда, он больше не был техником; его причислили к Проекту, дав ему звучный титул и хороший оклад. Но социальное различие осталось, и высокопоставленные ученые мужи никак не могли заставить себя смотреть на него как на равного. Надо отдать Аубу справедливость: он не добивался этого. Им было с ним так же неловко, как и ему с ними.
Генерал продолжал:
– Наша цель, джентльмены, проста: мы должны заменить счетную машину. Звездолет без счетчика можно построить впятеро быстрее и вдесятеро дешевле, чем со счетчиком. Если нам удастся обойтись без счетчиков, то мы сможем построить флот в пять – десять раз крупнее денебианского.
И я вижу еще кое-что в перспективе. Сейчас это может показаться фантастикой, простой мечтой, но в будущем я предвижу боевые ракеты с людьми на борту.
По аудитории пронесся шепот.
Генерал продолжал:
– В настоящий момент нас больше всего лимитирует тот факт, что боевые ракеты недостаточно «разумны».
Вычислительная машина для управления ими должна быть слишком большой, и потому они очень плохо приспосабливаются к меняющемуся характеру противоракетной защиты. Лишь очень немногие из ракет достигают цели, и ракетная война заходит в тупик, для неприятеля, к счастью, так же, как и для нас.
С другой стороны, ракета с одним-двумя человеками на борту, контролируемая в полете с помощью графитики, будет легче, маневреннее, разумнее. Это даст нам такое преимущество, которое вполне может привести нас к победе. Кроме того, джентльмены, условия войны заставляют нас думать еще об одном: человеческий материал гораздо доступнее вычислительной машины. Ракеты с людьми можно будет направлять в таких количествах и в таких условиях, в каких никакой военачальник не решился бы рисковать, имей он в распоряжении только ракеты со счетчиками…
Генерал говорил еще о многом другом, но техник Ауб больше не слушал.
Потом в тишине своего жилища он долго трудился над письмом, которое хотел оставить, и в конце концов после многих сомнений и раздумий написал следующее:
«Когда я начал работать над тем, что сейчас называется графитикой, это было только развлечением. Я не видел в этом ничего, кроме интересной забавы, умственной гимнастики.
Когда же был создан Проект Числа, то я подумал, что другие окажутся умнее меня; что графитику можно будет использовать на благо человечества – быть может, для разработки практичных телекинетических приспособлений. Но теперь я вижу, что она будет использована только для смерти и уничтожения.
Я не в силах нести ответственность за то, что изобрел графитику».
Окончив писать, техник Ауб тщательно навел на себя фокус белкового деполяризатора. Его смерть была мгновенной и безболезненной.
Они стояли над могилой маленького техника, пока его открытию воздавалась должная честь.
Программист Шуман склонял голову вместе с остальными, но внутренне оставался спокойным. Ауб сделал свое, и нужды в нем больше не было. Может быть, он и изобрел графитику, но, раз появившись, она будет развиваться самостоятельно, приведет к созданию ракет с экипажем и прочим чудесам.
«7, умноженное на 9, дает 63, – подумал Шуман с глубоким удовлетворением, – и чтобы сказать это мне, вычислительной машины не нужно. Вычислительная машина
– у меня в голове». От этой мысли он преисполнился чувства гордости и ощущения собственной силы.
Джеймс БЛИШ
ДЕНЬ СТАТИСТИКА
Уиберг четырнадцать лет проработал за границей специальным корреспондентом «Нью-Йорк таймс», из них десять посвятил еще и другой, совсем особой профессии и в разное время провел в общей сложности восемнадцать недель в Англии. (В подсчетах он, естественно, был весьма точен.) Вот почему жилище Эдмунда Джерарда Дарлинга сильно его удивило.
Служба Контроля над народонаселением была учреждена ровно десять лет назад, после страшного, охватившего почти весь мир голода, и с тех пор Англия почти не изменилась. Выезжая по автостраде номер четыре из Лондона, Уиберг вновь увидал небоскребы, выросшие на месте
Зеленого пояса, которым некогда обведен был город, под такими же каменными громадами бесследно исчезли округ
Уэстчестер в штате Нью-Йорк, Арлингтон в Виргинии, Ивенстон в Иллинойсе, Беркли в Калифорнии. Позднее таких махин почти не возводили, в этом больше не было нужды, раз численность населения не возрастала, однако построили их на скорую руку, и потому многие через некоторое время придется заменять новыми
Городок Мейденхед, где численность населения остановилась на отметке 20 тысяч, с виду тоже ничуть не переменился с тех пор, как Уиберг проезжал его в последний раз, направляясь в Оксфорд. (Тогда он наносил подобный визит специалисту по эрозии берегов Чарлзу Чарлстону
Шеклтону; тот был отчасти еще и писатель.) Однако на этот раз у Мейденхед Тикет надо было свернуть с автострады, и неожиданно Уиберг оказался в самой настоящей сельской местности. Он и не подозревал, что еще сохранилось такое, да не где-нибудь, а между Лондоном и Редингом!
Миль пять он пробирался узеньким проселком – елееле впору проехать одной машине, сверху сплошь нависли ветви деревьев – и выехал на круглый, тоже обсаженный деревьями крохотный пятачок, который, кажется, переплюнул бы ребенок, не возвышайся посередине десятифутовая замшелая колонна – памятник павшим в первой мировой войне. По другую сторону ютилась деревня Шерлак
Роу, куда он направлялся. Там, похоже, всего-то и было, что церквушка, пивная да с полдюжины лавчонок. Должно быть, неподалеку имелся еще и пруд: откуда-то слабо доносилось утиное кряканье.
«Файтл», обитель романиста, тоже стояла на Хайстрит, видимо, единственной здешней улице. Большой двухэтажный дом, крыша соломенная, стены выбелены, дубовые балки когда-то были выкрашены в черный цвет.
Солому совсем недавно сменили, поверх нее для защиты от птиц натянута проволочная сетка; в остальном вид у дома такой, словно его строили примерно в шестнадцатом веке, да так оно, вероятно, и есть.
Уиберг поставил свою старую машину в сторонке и нашарил в кармане куртки заготовленный агентством Ассошиэйтед пресс некролог, бумага чуть слышно, успокоительно зашуршала под рукой. Вынимать ее незачем, он уже выучил некролог наизусть. Именно эти гранки, присланные по почте неделю назад, и заставили его пуститься в путь. Некролог должен появиться почти через год, но в печати уже сообщалось, что Дарлинг болен, а это всегда неплохой предлог – в сущности, им пользуешься чаще всего.
Он вылез из машины, подошел к огромной, точно у сарая, парадной двери и постучал; открыла чистенькая, пухленькая, румяная девушка, судя по платью, горничная. Он назвал себя.
– Да-да, мистер Уиберг, сэр Эдмунд вас дожидается, –
сказала она, и по выговору он сразу узнал ирландку. –
Может, хотите обождать в саду?
– С удовольствием.
Очевидно, эта девушка служит совсем недавно, ведь знаменитый писатель не просто дворянин, он награжден орденом «За заслуги», а значит, его надо величать куда торжественней; впрочем, по слухам, Дарлинг равнодушен к таким пустякам и, уж наверно, даже не подумал поправлять горничную.
Она провела гостя через просторную столовую, где дубовые балки потолка низко нависали над головой, а очаг сложен был из самодельного кирпича, отворила стеклянную дверь в глубине, и Уиберг оказался в саду. Сад размером примерно в пол-акра – розы, еще какие-то цветущие кусты, их огибают посыпанные песком дорожки, тут же несколько старых яблонь, и груш и даже одна смоковница.
Часть земли отведена под огород, в уголке под навесом высажены какие-то растеньица в горшках; от дороги и от соседей все это заслоняют плетень из ивовых прутьев и живая изгородь – стена вечнозеленого кустарника.
Но любопытней всего показался Уибергу кирпичный флигелек в глубине сада, предназначенный для гостей или, может быть, для прислуги. В некрологе сказано, что тут есть отдельная ванная (или туалетная, как до сих пор деликатно выражаются англичане из средних слоев); в этой-то пристройке Дарлинг писал свои книги в пору, когда с ним еще жила семья. Вначале у домика была островерхая черепичная крыша, но ее давно почти всю разобрали, чтобы оборудовать знаменитую обсерваторию.
Здешние края не слишком подходили для астрономических наблюдений, даже когда самого Дарлинга еще и на свете не было, думал Уиберг, а впрочем, наверно, Дарлинга это мало трогало. Он любитель наук (однажды назвал их «лучшим в мире спортом для созерцателей») и свою обсерваторию построил не для настоящих изысканий, просто ему нравится смотреть на небо.
Уиберг заглянул в окно, но внутри не осталось и следа былых занятий владельца; видно, теперь этим домиком пользуется только горничная. Уиберг вздохнул. Он был человек не слишком чувствительный – просто не мог себе этого позволить, – но порой его и самого угнетала его профессия.
Он опять пошел бродить по саду, нюхал розы и желтофиоли. В Америке он желтофиолей никогда не видал; какой у них пряный, экзотический аромат… так пахнет цветущий табак, а может быть (вдруг подсказало воображение), травы, которыми пользовались для бальзамирования в Древнем Египте.
Потом его позвала горничная. Опять провела через столовую и дальше, по длинной и просторной, сворачивающей под прямым углом галерее с камином из шлифованного камня и стеной, сплошь уставленной книжными полками, к лестнице. На втором этаже помещалась спальня хозяина дома. Уиберг шагнул к двери.
– Осторожно, сэр! Голову! – крикнула девушка, но опоздала, он не успел нагнуться и ушиб макушку.
В комнате раздался смешок.
– Вам не первому досталось, – произнес мужской голос. – Если несешь сюда кое-что за пазухой, лучше поостеречься, черт подери.
Ударился Уиберг не сильно и тотчас про это забыл.
Эдмунд Джерард Дарлинг в теплом клетчатом халате, опираясь на гору подушек, полусидел в огромной кровати на пуховой перине, судя по тому, как глубоко утонуло в ней худое, слабое тело. Все еще внушительна грива волос, хоть они и поредели надо лбом по сравнению с последней фотографией, что красуется на суперобложках, и все те же очки – стекла без оправы, золотые дужки. Лицо его, лицо старого патриция, наперекор болезни чуть пополнело, черты отяжелели, появилось в них что-то от доброго дядюшки – странно видеть это выражение у человека, который почти шестьдесят лет кряду в критических статьях немилосердно бичевал своих собратьев за невежество, за незнание самых основ родной литературы, не говоря уже о литературе мировой.
– Для меня большая честь и удовольствие видеть вас, сэр, – сказал Уиберг, доставая записную книжку.
– Жаль, что не могу отплатить такой же любезностью,
– отозвался Дарлинг и указал гостю на глубокое кресло. –
Впрочем, я давно уже вас поджидаю. В сущности, мысли мои занимает только один последний вопрос, и я был бы весьма признателен вам за прямой и честный ответ… разумеется, если вам позволено отвечать.
– Ну конечно, сэр, к вашим услугам. В конце концов, я ведь тоже пришел задавать вопросы. Спрашивайте.
– Кто вы? – спросил старый писатель. – Только предвестник палача или палач собственной персоной?
Уиберг смущенно, через силу усмехнулся.
– Право, я вас не понимаю, сэр.
Но он прекрасно понял. Непонятно было другое: откуда у Дарлинга сведения, которые помогли додуматься до такого вопроса? Все десять лет важнейший секрет Службы
Контроля охранялся самым тщательным образом.
– Если вы не желаете отвечать на мой вопрос, так и мне на ваши отвечать необязательно, – заметил Дарлинг. –
Но не станете же вы отрицать, что у вас в кармане лежит мой некролог?
Обычное подозрение. Уибергу не раз приходилось с ним сталкиваться, и проще простого было ответить прямо и чистосердечно.
– Да, правда. Но ведь вы, конечно, знаете, что у
«Таймс», да и у каждой большой газеты и крупного агентства, заготовлены некрологи на случай несчастья с любым выдающимся деятелем, с любой знаменитостью. Естественно, время от времени наши сведения приходится подновлять; и естественно, каждый репортер, когда его посылают брать у кого-нибудь интервью, для справок в них заглядывает.
– Я и сам начинал как журналист, – сказал Дарлинг. –
И прекрасно знаю, что большие газеты обычно поручают такую пустяковую работу новичку, молокососу, а вовсе не специальному корреспонденту за границей.
– Не всякий, у кого берут интервью, удостоен Нобелевской премии, – возразил Уиберг. – А когда Нобелевскому лауреату восемьдесят лет и сообщалось, что он болен, взять у него интервью, которое может оказаться последним, – задача отнюдь не для молокососа. Если вам угодно, сэр, считать, что цель моего прихода – всего лишь освежить данные некролога, я бессилен вас переубедить.
Пожалуй, в моем поручении есть и нечто зловещее, но вы, бесспорно, прекрасно понимаете, что это в конечном счете можно сказать почти о всякой газетной работе.
– Знаю, знаю, – проворчал Дарлинг. – Стало быть, если вами сейчас не движет желание выставить себя в наиблагороднейшем свете, понимать надо так: уже одно то, что ко мне прислали не кого-нибудь, а вас, есть дань уважения. Верно?
– Н-ну… пожалуй, можно это определить и так, сэр, –
сказал Уиберг.
По правде говоря, именно так он и собирался это определить.
– Чушь.
Уиберг пожал плечами.
– Повторяю, сэр, не в моей власти вас переубедить. Но мне очень жаль, что вы так поняли мой приход.
– А я не сказал, что понимаю ваш приход так или эдак.
Я сказал – чушь. То, что вы мне тут наговорили, в общем верно, но к делу не относится и должно только ввести в заблуждение. Я ждал, что вы скажете мне правду, надо полагать, я имею на это право. А вы преподносите мне явный вздор. Очевидно, вы всегда так заговариваете зубы неподатливым клиентам.
Уиберг откинулся на спинку кресла, его опасения усиливались.
– Тогда объясните, пожалуйста, сэр, что же, повашему, относится к делу?
– Вы этого не заслужили. Но какой смысл умалчивать о том, что вы и сами знаете, а я именно хочу, чтобы вы все поняли, – сказал Дарлинг. – Ладно, пока не станем выходить за рамки дел газетных.
Он пошарил в нагрудном кармане, вынул сигарету, нажал кнопку звонка на ночном столике. Тотчас появилась горничная.
– Спички, – сказал Дарлинг.
– Сэр, так ведь доктор…
– А ну его, доктора, теперь-то я уже точно знаю, когда мне помирать. Да вы не огорчайтесь, принесите-ка мне спички и по дороге затопите камин.
День был еще теплый, но Уибергу тоже почему-то приятно было смотреть, как разгорался огонек. Дарлинг затянулся сигаретой, потом одобрительно ее оглядел.
– Чепуха вся эта статистика, – сказал он. – Кстати, это имеет самое прямое отношение к делу. Видите ли, мистер
Уиберг, на седьмом десятке человека обуревает интерес к траурным извещениям. Начинают умирать герои твоего детства, начинают умирать твои друзья, и незаметно пробуждается интерес к смерти людей чужих, безразличных, а потом и таких, о ком никогда не слыхал.
Пожалуй, это не слишком достойное развлечение, тут есть и немалая доля злорадства: дескать, вот он умер, а я –
то еще живой. Кто хоть сколько-нибудь склонен к самоанализу, тот, конечно, все острей ощущает, что становится день ото дня более одиноким в этом мире. И кто душевно не слишком богат, того, пожалуй, все сильнее станет пугать собственная смерть.
По счастью, среди всего прочего я уже много лет увлекаюсь разными науками, особенно математикой. Я перечитал многое множество траурных объявлений в «Нью-
Йорк таймс», в лондонской «Таймс» и других больших газетах, сперва просматривал мельком, потом начал следить за ними внимательно и стал замечать любопытные совпадения. Улавливаете ход моей мысли?
– Как будто улавливаю, – осторожно сказал Уиберг. –
Какие же совпадения?
– Я мог бы привести вам наглядные примеры, но, думаю, довольно и общей картины. Чтобы заметить такие совпадения, надо следить не только за крупными заголовками и официальными некрологами, но и за мелкими объявлениями в траурных рамках. И тогда убедишься, что в какой-то день умерло, допустим, необычайно много врачей. В другой день – необычайно много юристов. И так далее.
Впервые я заметил это в день, когда разбился пассажирский самолет и погибли почти все руководители видной американской машиностроительной фирмы. Меня это поразило, ведь к тому времени в Америке стало правилом: одним и тем же рейсом могут лететь двое ведущих работников любой фирмы, но ни в коем случае не больше. Меня как осенило, я просмотрел мелкие объявления и увидел, что это был черный день для всех вообще машиностроителей. И еще одно престранное обстоятельство: почти все они погибли в разных дорожных катастрофах. Неудачное совпадение с тем злополучным самолетом, судя по всему, оказалось ключом к некоему установившемуся порядку.
Я занялся подсчетами. Обнаружил много других связей. Например, в дорожных катастрофах нередко погибали целые семьи, и в таких случаях чаще всего оказывалось, что жену соединяли с мужем не только узы брака, но и профессия.
– Любопытно… И даже попахивает мистикой, – согласился Уиберг. – Но, как вы сами сказали, это явно только совпадение. В такой малой выборке…
– Не так уж она мала, если следишь за этим двадцать лет подряд, – возразил Дарлинг. – И я теперь не верю, что тут случайные совпадения, вот только первая авиационная катастрофа случайно заставила меня присмотреться – что происходит. И вообще речь уже не о том, чему верить или не верить. Я веду точный подсчет и время от времени передаю данные в вычислительный центр при Лондонском университете, только, понятно, не говорю программистам, к чему относятся эти цифры. Последние вычисления по критерию хи-квадрат делались как раз, когда вы телеграммой попросили меня вас принять. Я получил значимость в одну десятитысячную при доверительной вероятности 0,95. Никакие противники табака не могли с такой точностью высчитать вред курения, а ведь начиная примерно с 1950 года тысячи ослов от медицины и даже целые правительства действовали, опираясь на куда менее солидные цифры.
Попутно я занялся перепроверкой. Мне пришло в голову, что все решает возраст умирающих. Но критерий хи-квадрат показывает, что возраст тут ни при чем, с возрастом взаимосвязи совсем нет. Зато стало совершенно ясно, что люди, подлежащие смерти, подбираются на основе занятия, ремесла или профессии.
– М-м… Допустим на минуту, что ваши рассуждения верны. Как же, по-вашему, можно все это проделать?
– Как – не велика хитрость, – сказал Дарлинг. – Не может быть, чтобы все эти люди умирали естественной смертью, ведь природа, силы биологические не отбирают свои жертвы так тщательно и не уничтожают их за такой строго определенный отрезок времени. Существенно здесь не как, а почему. А на это возможен только одинединственный ответ.
– Какой же?
– Такова политика.
– Простите, сэр, – возразил Уиберг, – но при всем моем к вам уважении должен признаться, что это… м-м… несколько отдает сумасшествием.
– Это и есть сумасшествие, еще какое, но так все и происходит, чего вы, кстати, не оспариваете. И сошел с ума не я, а те, кто ввел такую политику.
– Но что пользы в подобной политике… Вернее, какую тут пользу можно себе представить?
Через очки без оправы старый писатель посмотрел на
Уиберга в упор, прямо в глаза.
– Всемирная Служба Контроля над народонаселением официально существует уже десять лет, а негласно, должно быть, все двадцать, – сказал он. – И действует она успешно: численность населения держится теперь на одном и том же уровне. Почти все люди верят – им так объясняют, – что соль тут в принудительном контроле над рождаемостью. И никто не задумывается над тем, что для подлинной стабильности народонаселения требуется еще и точно предсказуемая экономика. Еще об одном люди не задумываются, и этого им уже не объясняют, больше того, сведения, которые необходимы, чтобы прийти к такому выводу, теперь замалчиваются даже в начальной школе: при нашем нынешнем уровне знаний можно предопределить только число рождений; мы пока не умеем предопределить, кто родится. Ну, то есть уже можно заранее определить пол ребенка, это не сложно; но не предусмотришь, родится ли архитектор, чернорабочий или просто никчемный тупица.
А между тем при полном контроле над экономикой общество в каждый данный период может позволить себе иметь лишь строго ограниченное число архитекторов, чернорабочих и тупиц. И поскольку этого нельзя достичь контролем над рождаемостью, приходится достигать этого путем контроля над смертностью. А потому, когда у вас образуется экономически невыгодный излишек, допустим, писателей, вы такой излишек устраняете. Понятно, вы стараетесь устранять самых старых; но ведь нельзя предсказать заранее, когда именно образуется подобный излишек, а потому и возраст тех, что окажутся самыми старыми к моменту удаления излишков, далеко не всегда одинаков, и тут трудно установить статистическую закономерность. Вероятно, есть еще и тактические соображения: для сокрытия истины стараются, чтобы каждая такая смерть казалась случайной, с остальными никак не связанной, а для этого скорее всего приходится убивать и кое-кого из молодых представителей данной профессии, а кое-кого из стариков оставить до поры, покуда сама природа с ними не расправится.
И конечно, такой порядок очень упрощает задачу историка. Если тебе известно, что при существующей системе такому-то писателю назначено умереть примерно или даже точно в такой-то день, уже не упустишь случая взять последнее интервью и освежить данные некролога. Тот же или сходный предлог – скажем, очередной визит врача, постоянно пользующего намеченную жертву, – может стать и причиной смерти.
Итак, вернемся к моему самому первому вопросу, мистер Уиберг. Кто же вы такой – ангел смерти собственной персоной или всего лишь его предвестник?
Наступило молчание, только вдруг затрещало пламя в камине. Наконец Уиберг заговорил:
– Я не могу сказать вам, основательна ли ваша догадка.
Как вы справедливо заметили в начале нашей беседы, если бы догадка эта была верна, я не имел бы права ее подтвердить. Скажу одно: я безмерно восхищен вашей откровенностью… и не слишком ею удивлен.
Но допустим на минуту, что вы не ошибаетесь, и сделаем еще один логический шаг. Предположим, все обстоит так, как вы говорите. Предположим далее, что вас намечено… «устранить»… к примеру, через год. И предположим, наконец, что я послан был всего лишь взять у вас последнее интервью – и ничего больше. Тогда, пожалуй, высказав мне свои умозаключения, вы бы просто вынудили меня вместо этого стать вашим палачом, не так ли?
– Очень может быть, – на удивление весело согласился
Дарлинг. – Такие последствия я тоже предвидел. Я прожил богатую, насыщенную жизнь, а теперешний мой недуг изрядно мне досаждает, и я прекрасно знаю, что он неизлечим, стало быть, маяться годом меньше – не такая уж страшная потеря. С другой стороны, риск, пожалуй, невелик. Убить меня годом раньше – значило бы несколько нарушить математическую стройность и закономерность всей системы. Нарушение не бог весть какое серьезное, но ведь бюрократам ненавистно всякое, даже самое пустячное отклонение от установленного порядка. Так или иначе, мне-то все равно. А вот насчет вас я не уверен, мистер
Уиберг. Совсем не уверен.
– Насчет меня? – растерялся Уиберг. – При чем тут я?
Никаких сомнений – в глазах Дарлинга вспыхнул прежний насмешливый, злорадный огонек.
– Вы статистик. Это ясно, ведь вы с такой легкостью понимали мою специальную терминологию. Ну, а я математик-любитель, интересы мои не ограничивались теорией вероятностей: в частности, я занимался еще и проективной геометрией. Я наблюдал за статистикой, за уровнем народонаселения и смертностью, а кроме того, еще и чертил кривые. И потому мне известно, что моя смерть настанет четырнадцатого апреля будущего года. Назовем этот день для памяти Днем писателя.
Так вот, мистер Уиберг. Мне известно также, что третье ноября нынешнего года можно будет назвать Днем
статистика. И мне кажется, вы не настолько молоды, чтобы чувствовать себя в полной безопасности, мистер
Уиберг.
Вот я и спрашиваю: а у вас хватит мужества встретить этот день? Ну-с? Хватит у вас мужества? Отвечайте, мистер Уиберг, отвечайте. Вам не так уж много осталось.
Рэй БРЭДБЕРИ
АПРЕЛЬСКОЕ КОЛДОВСТВО
Высоко-высоко, выше гор, ниже звезд, над рекой, над прудом, над дорогой летела Сеси. Невидимая, как юные весенние ветры, свежая, как дыхание клевера на сумеречных лугах… Она парила в горлинках, мягких, как белый горностай, отдыхала в деревьях и жила в цветах, улетая с лепестками от самого легкого дуновения. Она сидела в прохладной, как мята, лимонно-зеленой лягушке рядом с блестящей лужей. Она бежала в косматом псе и громко лаяла, чтобы услышать, как между амбарами вдалеке мечется эхо. Она жила в нежной апрельской травке, в чистой, как слеза, влаге, которая испарялась из пахнущей мускусом почвы
«Весна… – думала Сеси. – Сегодня ночью я побываю во всем, что живет на свете».
Она вселялась в франтоватых кузнечиков на пятнистом гудроне шоссе, купалась в капле росы на железной ограде.
В этот неповторимый вечер ей исполнилось ровно семнадцать лет, и душа ее, поминутно преображаясь, летела, незримая, на ветрах Иллинойса
– Хочу влюбиться, – произнесла она.
Она еще за ужином сказала то же самое. Родители переглянулись и приняли чопорный вид.
– Терпение, – посоветовали они. – Не забудь, ты не как все. Наша семья вся особенная, необычная. Нам нельзя общаться с обыкновенными людьми, тем более вступать в брак. Не то мы лишимся своей магической силы Ну скажи,
разве ты хочешь утратить дар волшебных путешествий?
То-то… Так что будь осторожна. Будь осторожна!
Но в своей спальне наверху Сеси чуть-чуть надушила шею и легла, трепещущая, взволнованная, на кровать с пологом, а над полями Иллинойса всплыла молочная луна, превращая реки в сметану, дороги – в платину.
– Да, – вздохнула она, – я из необычной семьи. День мы спим, ночью летаем по ветру, как черные бумажные змеи. Захотим – можем всю зиму проспать в кротах, в теплой земле. Я могу жить в чем угодно – в камушке, в крокусе, в богомоле. Могу оставить здесь свою невзрачную оболочку из плоти и послать душу далеко-далеко в полет, на поиски приключений. Лечу!
И ветер понес ее над полями, над лугами.
И коттеджи внизу лучились ласковым весенним светом, и тускло рдели окна ферм.
«Если я такое странное и невзрачное создание, что сама не могу надеяться на любовь, влюблюсь через когонибудь другого», – подумала она.
Возле фермы, в весеннем сумраке, темноволосая девушка лет девятнадцати, не больше, доставала воду из глубокого каменного колодца. Она пела.
Зеленым листком Сеси упала в колодец. Легла на нежный мох и посмотрела вверх, сквозь темную прохладу.
Миг – и она в невидимой суетливой амебе, миг – и она в капле воды! И уже чувствует, как холодная кружка несет ее к горячим губам девушки. В ночном воздухе мягко отдались глотки.
Сеси поглядела вокруг глазами этой девушки.
Проникла в темноволосую голову и ее блестящими глазами посмотрела на руки, которые тянули шершавую веревку. Розовыми раковинами ее ушей вслушалась в окружающий девушку мир. Ее тонкими ноздрями уловила запах незнакомой среды. Ощутила, как ровно, как сильно бьется юное сердце. Ощутила, как вздрагивает в песне чужая гортань.
«Знает ли она, что я здесь?» – подумала Сеси.
Девушка ахнула и уставилась на черный луг.
– Кто там?
Никакого ответа.
– Это всего-навсего ветер, – прошептала Сеси.
– Всего-навсего ветер… – девушка тихо рассмеялась, но ей было жутко.
Какое чудесное тело было у этой девушки! Нежная плоть облекала, скрывая, остов из лучшей, тончайшей кости. Мозг был словно цветущая во мраке светлая чайная роза, рот благоухал, как легкое вино. Под упругими губами – белые-белые зубы, брови красиво изогнуты, волосы ласково, мягко гладят молочно-белую шею. Поры были маленькие, плотно закрытые. Нос задорно смотрел вверх, на луну, щеки пылали, будто два маленьких очага. Чутко пружиня, тело переходило от одного движения к другому и все время как будто что-то напевало про себя. Быть в этом теле, в этой голове – все равно что греться в пламени камина, поселиться в мурлыканье спящей кошки, плескаться в теплой воде ручья, стремящегося через ночь к морю.
«А мне здесь славно», – подумала Сеси.
– Что? – спросила девушка, словно услышала голос.
– Как тебя звать? – осторожно спросила Сеси.
– Энн Лири, – девушка встрепенулась. – Зачем я это вслух сказала?
– Энн, Энн, – прошептала Сеси. – Энн, ты влюбишься.
Как бы в ответ на ее слова с дороги донесся громкий топот копыт и хруст колес по щебню. Появилась повозка, в ней сидел рослый парень, его могучие ручищи крепко держали натянутые вожжи, и его улыбка осветила весь двор.
– Энн!
– Это ты, Том?
– Кто же еще? – он соскочил на землю и привязал вожжи к изгороди.
– Я с тобой не разговариваю! – Энн отвернулась так резко, что ведро плеснуло водой.
– Нет! – воскликнула Сеси.
Энн опешила. Она взглянула на холмы и на первые весенние звезды. Она взглянула на мужчину, которого звали
Томом. Сеси заставила ее уронить ведро.
– Смотри, что ты натворил!
Том подбежал к ней.
– Смотри, это все из-за тебя!
Смеясь, он вытер ее туфли носовым платком.
– Отойди!
Она ногой оттолкнула его руки, но он только продолжал смеяться, и, глядя на него из своего далекого далека, Сеси видела его голову – крупную, лоб – высокий, нос –
орлиный, глаза – блестящие, плечи – широкие и налитые силой руки, которые бережно гладили туфли платком.
Глядя вниз из потаенного чердака красивой головки, Сеси потянула скрытую проволочку чревовещания, и милый ротик тотчас открылся:
– Спасибо!
– Вот как, ты умеешь быть вежливой?
Запах сбруи от его рук, запах конюшни, пропитавший его одежду, коснулся чутких ноздрей, и тело Сеси, лежащее в постели далеко-далеко за темными полями и цветущими лугами, беспокойно зашевелилось, словно она чтото увидела во сне.
– Только не с тобой! – ответила Энн.
– Т-сс, говори ласково, – сказала Сеси, и пальцы Энн сами потянулись к голове Тома.
Энн отдернула руку.
– Я с ума сошла!
– Верно, – он кивнул, улыбаясь, слегка озадаченный. –
Ты хотела потрогать меня?
– Не знаю. Уходи, уходи! – ее щеки пылали, словно розовые угли.
– Почему ты не убегаешь? Я тебя не держу. – Том выпрямился. – Ты передумала? Пойдешь сегодня со мной на танцы? Это очень важно. Я потом скажу, почему.
– Нет, – ответила Энн.
– Да! – воскликнула Сеси. – Я еще никогда не танцевала. Хочу танцевать. Я еще никогда не носила длинного шуршащего платья. Хочу платье. Хочу танцевать всю ночь. Я еще никогда не была в танцующей женщине, папа и мама ни разу мне не позволяли. Собаки, кошки, кузнечики, листья – я во всем на свете побывала в разное время, но никогда не была женщиной в весенний вечер, в такой вечер, как этот… О, прошу тебя, пойдем на танцы!
Мысль ее напряглась, словно расправились пальцы в новой перчатке.
– Хорошо, – сказала Энн Лири. – Я пойду с тобой на танцы, Том.
– А теперь – в дом, живо! – воскликнула Сеси. – Тебе еще надо умыться, сказать родителям, достать платье.
Утюг в руки – и за дело!
– Мама, – сказала Энн, – я передумала.
Повозка мчалась по дороге, комнаты фермы вдруг ожили, кипела вода для купания, плита раскаляла утюг для платья, мать металась из угла в угол, и рот ее ощетинился шпильками.
– Что это на тебя вдруг нашло, Энн? Тебе ведь не нравится Том!
– Верно. – И Энн в разгар приготовлений вдруг застыла на месте. «Но ведь весна!» – подумала Сеси.
– Сейчас весна, – сказала Энн.
«И такой чудесный вечер для танцев», – подумала Сеси.
– …для танцев, – пробормотала Энн Лири.
И вот она уже сидит в корыте, и пузырчатое мыло пенится на ее белых покатых плечах, лепит под мышками гнездышки, теплая грудь скользит в ладонях, и Сеси заставляет губы шевелиться. Она терла тут, мылила там, а теперь – встать! Вытереться полотенцем! Духи! Пудра!
– Эй ты! – Энн окликнула свое отражение в зеркале, белое и розовое, словно лилии и гвоздики. – Кто ты сегодня вечером?
– Семнадцатилетняя девушка. – Сеси выглянула из ее фиалковых глаз. – Ты меня не видишь. А ты знаешь, что я здесь?
Энн Лири покачала головой.
– Не иначе в меня вселилась апрельская ведьма.
– Горячо, горячо! – рассмеялась Сеси. – А теперь одеваться.
Ах, как сладостно, когда красивая одежда облекает пышущее жизнью тело! И снаружи уже зовут…
– Энн, Том здесь!
– Скажите ему, пусть подождет. – Энн вдруг села. –
Скажите, что я не пойду на танцы.
– Что такое? – сказала мать, стоя на пороге.
Сеси мигом заняла свое место. На какое-то роковое мгновение она отвлеклась, покинула тело Энн. Услышала далекий топот копыт, скрип колес на лунной дороге и вдруг подумала: «Полечу, найду Тома, проникну в его голову, посмотрю, что чувствует в такую ночь парень двадцати двух лет». И она пустилась в полет над вересковым лугом, но тотчас вернулась, будто птица в родную клетку, и заметалась, забилась в голове Энн Лири.
– Энн!
– Пусть уходит!
– Энн! – Сеси устроилась поудобнее и напрягла свои мысли.
Но Энн закусила удила.
– Нет, нет, я его ненавижу!
Нельзя было ни на миг оставлять ее. Сеси подчинила себе руки девушки… сердце… голову… исподволь, осторожно: «Встань!» – подумала она.
Энн встала.
«Надень пальто!»
Энн надела пальто.
«Теперь иди!»
«Нет», – подумала Энн Лири.
«Ступай!»
– Энн, – заговорила мать, – не заставляй больше Тома ждать. Сейчас же иди, и никаких фокусов. Что это на тебя нашло?
– Ничего, мама. Спокойной ночи. Мы вернемся поздно. Энн и Сеси вместе выбежали в весенний вечер.
Комната, полная плавно танцующих голубей, которые мягко распускают оборки величавых, пышных перьев, полная павлинов, полная радужных пятен и бликов. И посреди всего этого кружится, кружится, кружится в танце
Энн Лири…
– Какой сегодня чудесный вечер! – сказала Сеси.
– Какой чудесный вечер! – произнесла Энн.
– Ты какая-то странная, – сказал Том.
Вихревая музыка окутала их мглой, закружила в струях песни; они плыли, качались, тонули и вновь всплывали за глотком воздуха, цепляясь друг за друга, словно утопающие, и опять кружились, кружились в вихре, в шепоте, вздохах, под звуки «Прекрасного Огайо».
Сеси напевала. Губы Энн разомкнулись, и зазвучала мелодия.
– Да, я странная, – ответила Сеси.
– Ты на себя не похожа, – сказал Том.
– Сегодня – да.
– Ты не та Энн Лири, которую я знал.
– Совсем, совсем не та, – прошептала Сеси за многомного миль оттуда.
– Совсем не та, – послушно повторили губы Энн.
– У меня какое-то нелепое чувство, – сказал Том.
– Насчет чего?
– Насчет тебя. – Он чуть отодвинулся и, кружа ее, пристально, пытливо посмотрел на разрумянившееся лицо. –
Твои глаза… – произнес он, – не возьму в толк.
– Ты видишь меня? – спросила Сеси.
– Ты вроде бы здесь и вроде бы где-то далеко отсюда.
– Том осторожно ее кружил, лицо у него было озабоченное.
– Да.
– Почему ты пошла со мной?
– Я не хотела, – ответила Энн.
– Так почему же?.
– Что-то меня заставило.
– Что?
– Не знаю, – в голосе Энн зазвенели слезы.
– Спокойно, тише… тише… – шепнула Сеси. – Вот так. Кружись, кружись.
Они шуршали и шелестели, взлетали и опускались в темной комнате, и музыка вела и кружила их.
– И все-таки ты пошла на танцы, – сказал Том.
– Пошла, – ответила Сеси.
– Хватит. – И он легко увлек ее в танце к двери, на волю, неприметно увел ее прочь от зала, от музыки и людей.
Они забрались в повозку и сели рядом.
– Энн, – сказал он и взял ее руки дрожащими руками, –
Энн.
Но он произносил ее имя так, словно это было вовсе не ее имя. Он пристально смотрел на бледное лицо Энн, теперь ее глаза были открыты.
– Энн, было время, я любил тебя, ты это знаешь, – сказал он.
– Знаю.
– Но ты всегда была так переменчива, а мне не хотелось страдать понапрасну.
– Ничего страшного, мы еще так молоды, – ответила
Энн.
– Нет, нет, я хотела сказать: прости меня, – сказала Сеси.
– За что простить? – Том опустил ее руки и насторожился.
Ночь была теплая, и отовсюду их обдавало трепетное дыхание земли, и зазеленевшие деревья тихо дышали шуршащими, шелестящими листьями.
– Не знаю, – ответила Энн.
– Нет, знаю, – сказала Сеси. – Ты высокий, ты самый красивый парень на свете. Сегодня чудесный вечер, я на всю жизнь запомню, как я провела его с тобой.
И она протянула холодную чужую руку к его сопротивляющейся руке, взяла ее, стиснула, согрела.
– Что с тобой сегодня, – сказал, недоумевая, Том. – То одно говоришь, то другое. Сама на себя не похожа. Я тебя по старой памяти решил на танцы позвать. Поначалу спросил просто так. А когда мы стояли с тобой у колодца, вдруг почувствовал: ты как-то переменилась, сильно переменилась. Стала другая. Появилось что-то новое… Мягкость какая-то… – Он подыскивал слова. – Не знаю, не умею сказать. И смотрела не так. И голос не тот. И я знаю: я опять в тебя влюблен.
«Не в нее, – сказала Сеси, – в меня!»
– А я боюсь тебя любить, – продолжал он. – Ты опять станешь меня мучить.
– Может быть, – ответила Энн.
«Нет, нет, я всем сердцем буду тебя любить! – подумала Сеси. – Энн, скажи ему это, скажи за меня. Скажи, что ты его всем сердцем полюбишь».
Энн ничего не сказала.
Том тихо придвинулся к ней, ласково взял ее за подбородок:
– Я уезжаю. Нанялся на работу, сто миль отсюда. Ты будешь обо мне скучать?
– Да, – сказали Энн и Сеси.
– Так можно поцеловать тебя на прощанье?
– Да, – сказала Сеси, прежде чем кто-либо другой успел ответить.
Он прижался губами к чужому рту. Дрожа, он поцеловал чужие губы.
Энн сидела будто белое изваяние.
– Энн! – воскликнула Сеси. – Подними руки, обними его! Она сидела в лунном сиянии, будто деревянная кукла.
Он снова поцеловал ее в губы.
– Я люблю тебя, – шептала Сеси. – Я здесь, это меня ты увидел в ее глазах, меня, а я тебя люблю, хоть бы она тебя никогда не полюбила.
Он отодвинулся и сидел рядом с Энн такой измученный, будто перед тем пробежал невесть сколько.
– Не понимаю, что это делается?.. Только сейчас…
– Да? – спросила Сеси.
– Сейчас мне показалось… – Он протер руками глаза.
– Неважно. Отвезти тебя домой?
– Пожалуйста, – сказала Энн Лири.
Он почмокал лошади, вяло дернул вожжи, и повозка тронулась. Шуршали колеса, шлепали ремни, катилась серебристая повозка, а кругом ранняя весенняя ночь – всего одиннадцать часов, – и мимо скользят мерцающие поля и луга, благоухающие клевером.
Сеси, глядя на поля, на луга, думала: «Все можно отдать, ничего не жалко, чтобы быть с ним вместе с этой ночи и навсегда». И услышала издали голоса своих родителей: «Будь осторожна. Неужели ты хочешь потерять свою магическую силу? А ты ее потеряешь, если выйдешь замуж за простого смертного. Ведь ты этого не хочешь?»
«Да, хочу, – подумала Сеси. – Я даже готова поступиться этим хоть сейчас, если ему нужна. И не надо больше метаться по свету весенними вечерами, не надо вселяться в птиц, собак, кошек, лис – мне нужно одно: быть с ним. Только с ним. Только с ним».
Дорога, шурша, бежала назад.
– Том, – заговорила наконец Энн.
– Да? – Он угрюмо смотрел на дорогу, на лошадь, на деревья, небо и звезды.
– Если ты когда-нибудь в будущем попадешь в Гринтаун в Иллинойсе – это несколько миль отсюда, – можешь ты сделать мне одолжение?
– Возможно.
– Можешь ты там зайти к моей подруге? – Энн Лири сказала это запинаясь, неуверенно.
– Зачем?
– Это моя хорошая подруга… Я рассказывала ей про тебя. Я тебе дам адрес. Минутку.
Повозка остановилась возле дома Энн, она достала из сумочки карандаш и бумагу и, положив листок на колено, стала писать при свете луны.
– Вот. Разберешь?
Он поглядел на листок и озабоченно кивнул.
– Сеси Элиот. Тополевая улица, 12, Гринтаун, Иллинойс, – прочел он.
– Зайдешь к ней как-нибудь? – спросила Энн.
– Как-нибудь, – ответил он.
– Обещаешь?
– Какое отношение это имеет к нам? – сердито крикнул он. – На что мне бумажки, имена?
Он скомкал листок и сунул бумажный шарик в карман.
– Пожалуйста, обещай! – взмолилась Сеси.
– …обещай… – сказала Энн.
– Ладно, ладно, только не приставай! – крикнул он.
«Я устала, – подумала Сеси. – Не могу больше. Пора домой. Силы кончаются. У меня всего на несколько часов сил хватает, когда я ночью вот так странствую… Но на прощание…»
– …на прощание, – сказала Энн.
Она поцеловала Тома в губы.
– Это я тебя целую, – сказала Сеси.
Том отодвинул от себя Энн Лири и поглядел на нее, заглянул ей в самую душу. Он ничего не сказал, но лицо его медленно, очень медленно разгладилось, морщины исчезли, каменные губы смягчились, и он еще раз пристально всмотрелся в озаренное луной лицо, белеющее перед ним.
Потом помог ей сойти с повозки и быстро, даже не сказав «спокойной ночи», покатил прочь.
Сеси отпустила Энн.
Энн Лири вскрикнула, точно вырвалась из плена, побежала по светлой дорожке к дому и захлопнула за собой дверь.
Сеси чуть помешкала. Глазами сверчка она посмотрела на ночной весенний мир. Одну минуту, не больше, глядя глазами лягушки, посидела в одиночестве возле пруда.
Глазами ночной птицы глянула вниз с высокого, купающегося в лунном свете вяза и увидела, как гаснет свет в двух домиках – ближнем и другом, в миле отсюда. Она думала о себе, о всех своих, о своем редком даре, о том, что ни одна девушка в их роду не может выйти замуж за человека, живущего в этом большом мире за холмами.
«Том. – Ее душа, теряя силы, летела в ночной птице под деревьями, над темными полями дикой горчицы. –
Том, ты сохранил листок? Зайдешь когда-нибудь, какнибудь при случае навестить меня? Узнаешь меня? Вглядишься в мое лицо и вспомнишь, где меня видел, почувствуешь, что любишь меня, как я люблю тебя – всем сердцем и навсегда».
Она остановилась, а кругом – прохладный ночной воздух, и миллионы миль до городов и людей, и далекодалеко внизу фермы и поля, реки и холмы.
Тихонько: «Том?»
Том спал. Была уже глубокая ночь; его одежда аккуратно висела на стульях, на спинке кровати. А возле его головы на белой подушке ладонью кверху удобно покоилась рука, и на ладони лежал клочок бумаги с буквами.
Медленно-медленно пальцы согнулись и крепко его сжали. И Том даже не шелохнулся, даже не заметил, когда черный дрозд на миг тихо и мягко прильнул к переливающемуся лунными бликами окну, бесшумно вспорхнул, замер – и полетел прочь, на восток, над спящей землей.
ХОЛОДНЫЙ ВЕТЕР, ТЕПЛЫЙ ВЕТЕР
– Боже праведный, что это?
– Что – «что»?
– Ты ослеп, парень? Гляди!
И лифтер Гэррити высунулся, чтобы посмотреть, на кого же это пялил глаза носильщик.
А из дублинской рассветной мглы – как раз в парадные двери отеля «Ройял Иберниен», – шаркая прямо к стойке регистрации, откуда ни возьмись прутиковый мужчина лет сорока, а следом за ним – словно всплеск птичьего щебета
– пять малорослых прутиковых юнцов лет по двадцати. И
так все вьются, веют руками вокруг да около, щурят глаза, подмигивают, подмаргивают, губы в ниточку, брови в струночку, тут же хмурятся, тут же сияют, то покраснеют, то побледнеют (или все это разом?). А голоса-то, голоса –
божественное пикколо, и флейта, и нежный гобой, – ни ноты фальши, музыка! Шесть монологов, шесть фонтанчиков, и все брызжут, сливаясь вместе, целое облако самосочувствия, щебетанье, чириканье о трудностях путешествия и ретивости климата – этот кордебалет реял, ниспадал, говорливо струился, пышно расцветая одеколонным благоуханием, мимо изумленного носильщика и остолбеневшего лифтера. Грациозно сбившись в кучку, все шестеро замерли у стойки. Погребенный под лавиной музыки, управляющий поднял глаза – аккуратные буковки «О»
безо всяких зрачков посредине.
– Что это? – прошептал Гэррити. – Что это было?
– Спроси кого-нибудь еще! – ответил носильщик.
В этот самый момент зажглись лампочки лифта и зажужжал зуммер вызова. Гэррити волей-неволей оторвал взгляд от знойного сборища и умчался ввысь.
– Мы хотели бы комнату, – сказал тот самый высокий и стройный. На висках у него пробивалась седина. – Будьте так добры.
Управляющий вспомнил, где он находится, и услышал собственный голос:
– Вы заказывали номер, сэр?
– Дорогой мой, конечно, нет! – сказал старший. Остальные захихикали.
– Мы совершенно неожиданно прилетели из Таормины, – продолжал высокий. У него были тонкие черты лица и влажный, похожий на бутон рот. – Нам ужасно наскучило длинное лето, и тогда кто-то сказал: «Давайте полностью сменим обстановку, давайте будем чудить!» «Что?» –
сказал я. «Ну ведь есть же на Земле самое невероятное место? Давайте выясним, где это, и отправимся туда». Кто-то сказал: «Северный полюс», – но это было глупо. Тогда я закричал: «Ирландия!» Тут все прямо попадали. А когда шабаш стих, мы понеслись в аэропорт. И вот уже нет ни солнца, ни сицилийских пляжей – все растаяло, как вчерашнее лимонное мороженое. И мы здесь, и нам предстоит свершить… нечто таинственное!
– Таинственное? – спросил управляющий.
– Что это будет, мы еще не знаем, – сказал высокий. –
Но как только увидим, распознаем сразу же. Либо Эт о произойдет само собой, либо мы сделаем так, чтобы Он о произошло. Верно, братцы?
Ответ братцев отдаленно напоминал нечто вроде «тиихии».
– Может быть, – сказал управляющий, стараясь держаться на высоте, – вы подскажете мне, что вы разыскиваете в Ирландии, и я мог бы указать вам…
– Господи, да нет же! – воскликнул высокий. – Мы просто помчимся вперед, распустим по ветру наше чутье, словно кончики шарфа, и посмотрим, что из этого получится. А когда мы раскроем тайну и найдем то, ради чего приехали, вы тотчас же узнаете об этом – ахи и охи, возгласы благоговения и восторга нашей маленькой туристской группы непременно донесутся до ваших ушей.
– Это надо же! – выдавил носильщик, затаив дыхание.
– Ну что же, друзья, распишемся?
Предводитель братцев потянулся за скрипучим гостиничным пером, но, увидев, что оно засорено, жестом фокусника вымахнул откуда-то собственную – сплошь из чистейшего золота, в 14 карат – ручку, посредством которой замысловато, однако весьма красиво вывел светловишневой каллиграфической вязью: ДЭВИД, затем
СНЕЛЛ, затем черточку и наконец, ОРКНИ. Чуть ниже он добавил: «с друзьями».
Управляющий зачарованно следил за ручкой, затем снова вспомнил о своей роли в текущих событиях.
– Но, сэр, я не сказал вам, есть ли у нас место…
– О, конечно же, вы найдете. Для шестерых несчастных путников, которые крайне нуждаются в отдыхе после чрезмерного дружелюбия стюардесс. Одна комната – вот все, что нам нужно!
– Одна? – ужаснулся управляющий.
– В тесноте да не в обиде – так, братцы? – спросил старший, не глядя на своих друзей.
Конечно, никто не был в обиде.
– Ну что ж, – сказал управляющий, неловко возя руками по стойке. – У нас как раз есть две смежных…
– Перфетто!1 – вскричал Дэвид Снелл-Оркни.
Регистрация закончилась, и теперь обе стороны –
управляющий за стойкой и гости издалека – уставились друг на друга в глубоком молчании. Наконец управляющий выпалил:
– Носильщик! Быстро! Возьмите у джентльменов багаж…
Только теперь носильщик опомнился и перевел взгляд на пол.
Багажа не было.
– Нет, нет, не ищите, – Дэвид Снелл-Оркни беззаботно помахал в воздухе ручкой. – Мы путешествуем налегке.
Мы здесь только на сутки, может быть, даже часов на двенадцать, а смена белья рассована по карманам пальто.
Скоро назад. Сицилия, теплые сумерки… Если вы хотите, чтобы я заплатил вперед…
– В этом нет необходимости, – сказал администратор, вручая ключи носильщику. – Пожалуйста, сорок шестой и сорок седьмой.
– Понял, – сказал носильщик.
И, словно колли, что беззвучно покусывает бабки мохнатым, блеющим, бестолково улыбающимся овцам, он на-
1 Здесь «великолепно!» (итал.) – прим. перев.
правил очаровательную компанию к лифту, который как раз вовремя принесся сверху.
К стойке подошла жена управляющего и встала за спиной мужа, во взгляде – сталь.
– Ты спятил? – зашипела она в бешенстве. – Зачем? Ну зачем?
– Всю свою жизнь, – сказал управляющий, обращаясь скорее к себе самому, – я мечтал увидеть не одного коммуниста, но десять и рядом, не двух нигерийцев, но двадцать – во плоти, не трех американских ковбоев, но целую банду, только что из седел. А когда своими ногами является букет из шести оранжерейных роз, я не могу удержаться, чтобы не поставить его в вазу. Дублинская зима долгая, Мэг, и это, может быть, единственный разгоревшийся уголек за весь год. Готовься, будет дивная встряска.
– Дурак, – сказала она.
И на их глазах лифт, поднимая тяжесть, едва ли большую, чем пух одуванчиков, упорхнул в шахте вверх, прочь…
Серия совпадений, которые невероятной походкой, то и дело сбиваясь в сторону, двигались все вместе к чуду, развернулась в самый полдень.
Как известно, отель «Ройял Иберниен» лежит как раз посредине между Тринити-колледж, да простят мне это упоминание, и парком Стивенс-Грин, более заслуживающим упоминания, а позади, за углом, лежит Графтенстрит, где вы можете купить серебро, стекло, да и белье, или красный камзол, сапожки и шапку, чтобы выехать на псовую охоту. Но лучше всего нырнуть в кабачок Хибера
Финна и принять приличную порцию выпивки и болтовни: час выпивки на два болтовни – лучшая из пропорций.
Как известно, ребята, которых чаще всего встретишь у
Финна, – это Нолан (вы знаете Нолана), Тимулти (кто может забыть Тимулти?), Майк Мак-Гвайр (конечно же, друг всем и каждому), затем Ханаан, Флаэрти, Килпатрик, и при случае, когда господь бог малость неряшлив в своих делах и на ум отцу Лайему Лири приходит страдалец Иов, является патер собственной персоной – вышагивает, словно само Правосудие, и вплывает, будто само Милосердие.
Стало быть, это и есть наша компания, на часах – минута в минуту полдень, и кому же теперь выйти из парадных дверей отеля «Ройял Иберниен», как не Снеллу-
Оркни с его канареечной пятеркой?
А вот и первая из ошеломительной серии встреч.
Ибо мимо, мучительно разрываясь между лавками сладостей и Хибером Финном, следовал Тимулти собственной персоной.
Как вы помните, Тимулти, когда за ним гонятся Депрессия, Голод, Нищета и прочие беспощадные Всадники, работает от случая к случаю на почте. Теперь же, болтаясь без дела, в промежутке между периодами страшной для души службы по найму, он вдруг унюхал запах, как если бы по прошествии ста миллионов лет врата Эдема вновь широко распахнулись и его пригласили вернуться. Так что
Тимулти поднял глаза, желая разобраться, что же послужило причиной дуновения из кущ.
А причиной возмущения воздуха был, конечно же, Снелл-Оркни со своими вырвавшимися на волю зверюшками.
– Ну, скажу вам, – говорил Тимулти годы спустя, –
глаза у меня выкатились так, словно кто-то хорошенько трахнул по черепушке. И волосы зашевелились.
Тимулти, застыв на месте, смотрел, как делегация
Снелла-Оркни струилась по ступенькам вниз и утекала за угол. Тут-то он и рванул дальним путем к Финну, решив, что на свете есть услады почище леденцов.
А в этот самый момент, огибая угол, мистер Дэвид
Снелл-Оркни-и-пятеро миновал нищую особу, игравшую на тротуаре на арфе. И надо же было там оказаться именно
Майку Мак-Гвайру, который от нечего делать убивал время в танце – выдавал собственного изобретения ригодон, крутя ногами сложные коленца под мелодию «Легким шагом через луг». Танцуя, Майк Мак-Гвайр услышал некий звук – словно порыв теплого ветра с Гибридов. Не то чтобы щебет, не то чтобы стрекотанье, а что-то похожее на зоомагазин, когда вы туда входите, и звякает колокольчик, и хор попугаев и голубей разражается воркованием и короткими вскриками. Но звук этот Майк услышал точно –
даже за шарканьем своих башмаков и переборами арфы. И
застыл в прыжке.
Когда Дэвид Снелл-Оркни-и-пятеро проносился мимо, вся тропическая братия улыбнулась и помахала Мак-
Гвайру.
Еще не осознав, что он делает, Майк помахал в ответ, затем остановился и прижал оскверненную руку к груди.
– Какого черта я машу? – закричал он в пространство.
– Ведь я же их н е з н а ю, так?!
– В боге обрящешь силу! – сказала арфистка, обращаясь к арфе, и грянула по струнам.
Словно влекомый каким-то диковинным пылесосом, что вбирает все на своем пути, Майк потянулся за Шестерной Упряжкой вниз по улице.
Так что речь идет уже о двух чувствах – о чувстве обоняния и чуткости ушей.
А на следующем углу – Нолан, только что вылетевший из кабачка по причине спора с самим Финном, круто повернул и врезался в Дэвида Снелла-Оркни. Оба покачнулись и схватились друг за друга, ища поддержки.
– Честь имею! – сказал Дэвид Снелл-Оркни.
– Мать честная! – ахнул Нолан и, разинув рот, отпал, чтобы пропустить этот цирковой парад. Его страшно подмывало юркнуть назад, к Финну. Бой с кабатчиком вылетел из памяти. Он хотел тут же поделиться об этой сногсшибательной встрече с компанией из перьевой метелки, сиамской кошки, недоделанного мопса и еще трех прочих
– жутких дистрофиков, жертв недоедания и чересчур усердного мытья.
Шестерка остановилась возле кабачка, разглядывая вывеску.
«О боже! – подумал Нолан. – Они собираются войти.
Что теперь будет? Кого предупреждать первым? Их? Или
Финна?»
Но тут дверь распахнулась, и наружу выглянул сам
Финн. «Черт! – подумал Нолан. – Это портит все дело. Теперь уж не нам описывать происшествие. Теперь начнется: Финн то, Финн се, а нам заткнуться, и все!» Оченьочень долго Снелл-Оркни и его братия разглядывали
Финна. Глаза же Финна на них не остановились. Он смотрел вверх. И смотрел поверх. И смотрел сквозь.
Но он видел их, уж это Нолан знал. Потому что случилось нечто восхитительное.
Краска сползла с лица Финна.
«Ба! – вскричал Нолан про себя. – Да он же… красне-
ет!»
Но все же Финн по-прежнему блуждал взором по небу, фонарям, домам, пока Снелл-Оркни не прожурчал:
– Сэр, как пройти к парку Стивенс-Грин?
– Бог ты мой! – сказал Финн и повернулся спиной. –
Кто знает, к уда они задевали его на этой неделе! – И захлопнул дверь.
Шестерка отправилась дальше, улыбаясь и лучась восторгом, и Нолан готов был уже вломиться в дверь, как стряслось кое-что почище предыдущего. По тротуару нахлестывал невесть откуда взявшийся Гэррити, лифтер из отеля «Ройял Иберниен». С пылающим от возбуждения лицом он первым ворвался к Финну с новостью.
К тому времени, как Нолан оказался внутри, а следом за ним и Тимулти, Гэррити уже носился взад-вперед вдоль стойки бара, а ошеломленный, еще не пришедший в себя
Финн стоял по ту сторону.
– Эх, что сейчас было! Куда вам! – кричал Гэррити, обращаясь ко всем сразу. – Я говорю, это было почище, чем те фантастические киношки, что крутят в «Гэйетисинема»!
– Что ты хочешь сказать? – спросил Финн, стряхнув с себя оцепенение.
– Весу в них нет! – сообщил Гэррити. – Поднимать их в лифте – все равно что горсть мякины в каминную трубу запустить! И вы бы слышали. Они здесь, в Ирландии, для того, чтобы… – он понизил голос и зажмурился, –
…совершить нечто таинственное!
– Таинственное! – Все подались к нему.
– Что именно – не говорят, но попомните мои слова, они здесь не к добру! Видели вы когда что-нибудь подобное?
– Со времени пожара в монастыре, – сказал Финн, – ни разу. Я…
Однако слово «монастырь» оказало новое волшебное воздействие. Дверь тут же распахнулась, и в кабачок вошел отец Лири задом наперед. То есть он вошел пятясь, держась одной рукой за щеку, словно бы Парки исподтишка дали ему хорошую оплеуху.
Его спина была столь красноречива, что мужчины погрузили носы в пиво, выждав, пока патер сам слегка не промочил глотку, все еще тараща глаза на дверь, будто на распахнутые врата ада.
– Меньше двух минут назад, – сказал патер наконец, –
узрел я картину невероятную. Ужели после стольких лет собирания в своих пределах сирых мира сего Ирландия и впрямь сошла с ума?
Финн снова наполнил стакан священника.
– Не захлестнул ли вас поток пришельцев с Венеры, святой отец?
– Ты их видел, что ли, Финн? – спросил преподобный.
– Да. Вам зрится в них недоброе, ваша святость?
– Не столько доброе или недоброе, сколько странное и утрированное, Финн, и я выразил бы это словами «рококо» и, пожалуй, «барокко», если ты следишь за течением моей мысли.
– Я просто качаюсь на ее волнах, сэр.
– Уж коли вы видели их последним, куда они направились-то? – спросил Тимулти.
– На опушку Стивенс-Грина, – сказал священник. –
Вам не мерещится ли, что сегодня в парке будет вакханалия?
– Прошу прощения, отец мой, погода не позволит, –
сказал Нолан, – но, сдается мне, чем стоять здесь и трепать языком, вернее было бы их выследить.
– Это против моей этики, – сказал священник.
– Утопающий хватается за все что угодно, – сказал
Нолан, – но если он вцепится в этику вместо спасательного круга, то, возможно, пойдет на дно вместе с ней.
– Прочь с горы, Нолан, – сказал священник, – хватит с нас нагорной проповеди. В чем соль?
– А в том, святой отец, что такого наплыва досточтимых сицилийцев у нас не было страшно упомянуть с каких пор. И откуда мы знаем, может быть, они вот прямо сейчас посередь парка читают вслух для миссис Мерфи, мисс
Клэнси или там миссис О’Хэнлан… А что именно они читают вслух, спрошу я вас?
– «Балладу Рэдингской тюрьмы»? – спросил Финн.
– Точно в цель, и судно тонет! – вскричал Нолан, слегка сердясь, что самую соль-то у него выхватили из-под рук. – Откуда нам знать, может, эти чертики из бутылочки только тем и занимаются, что сбывают недвижимость в местечко под названием Файр-Айленд? Вы слышали о нем, патер?
– Американские газеты часто попадают на мой стол, дружище.
– Ага. Помните тот жуткий ураган в девятьсот пятьдесят шестом, когда волны захлестнули этот самый Файр –
там, возле Нью-Йорка? Мой дядя, да сохранит господь очи его и рассудок, был там в рядах морской пограничной службы, что эвакуировала всех жителей Файра до последнего. По его словам, это было почище, чем полугодовая демонстрация моделей у Феннелли. И пострашнее, чем съезд баптистов. Десять тысяч человек как рванут в шторм к берегу, а в руках у них и рулоны портьер, и клетки, битком набитые попугайчиками, и спортивные на них жакеты цвета помидоров с мандаринами, и лимонно-желтые туфли. Это был самый большой хаос с тех пор, как Иероним
Босх отложил свою палитру, запечатлев Ад в назидание всем грядущим поколениям. Не так-то просто эвакуировать десять тысяч разряженных клоунов, расписанных, как венецианское стекло, которые хлопают своими огромными коровьими глазами, тащат граммофонные симфонические пластинки, звенят серьгами в ушах, – и не надорвать при этом живот. Дядюшка мой вскоре после того ударился в смертельный запой.
– Расскажи-ка еще что-нибудь о той ночи, – сказал завороженный Килпатрик.
– Еще что-нибудь? Черта с два! – вскричал священник.
– Вперед, я говорю! Окружить парк и держать ухо востро!
Встретимся здесь через час.
– Вот это больше похоже на дело! – заорал Келли. –
Давайте действительно разузнаем, что за чертовщину они готовят.
Дверь с треском распахнулась.
На тротуаре священник давал указания.
– Келли, Мэрфи, вам обойти парк с севера. Тимулти, зайдешь с юга. Нолан и Гэррити – на восток; Моран, Мак-
Гвайр и Килпатрик – на запад. Пшли!
Так или иначе, но в этой суматохе Келли и Мэрфи застопорились на полпути к Стивенс-Грину, в пивной «Четыре трилистника», где они подкрепились перед погоней; а Нолан и Моран повстречали на улице жен и вынуждены были бежать в противоположном направлении; а Мак-
Гвайр и Килпатрик, проходя мимо «Элит-синема» и услышав, что с экрана поет Лоренс Тиббетт, напросились на вход в обмен на пару недокуренных сигарет. И вышло в результате так, что за пришельцами из иного мира наблюдали только двое – Гэррити с восточной и Тимулти с южной стороны парка.
Простояв с полчаса на леденящем ветру, Гэррити приковылял к Тимулти и заявил:
– Что стряслось с этими ублюдками? Они просто стоят и стоят там посреди парка. За полдня не сдвинулись ни с места. А у меня пальцы на ногах вымерзли напрочь. Я слетаю в отель, отогреюсь и тут же примчусь, Тим, назад – стоять с тобой на страже.
– Можешь не спешить, – произнес Тимулти очень странным, грустным, далеким, философическим голосом, когда тот пустился наутек.
Оставшись в одиночестве, Тимулти вошел в парк и целый час сидел там, созерцая шестерку, которая попрежнему не двигалась с места. Любой, кто увидел бы в этот момент Тимулти – глаза блуждают, рот искажен трагической гримасой, – вполне принял бы его за какогонибудь ирландского собрата Канта или Шопенгауэра или подумал бы, что он недавно прочитал нечто поэтическое или впал в уныние от пришедшей на ум песни. А когда наконец час истек и Тимулти собрал разбежавшиеся мысли – словно холодную гальку в пригоршню, – он повернулся и направился прочь из парка. Гэррити уже был там.
Он притопывал ногами, размахивал руками и готов был лопнуть от переполнявших его вопросов, но Тимулти показал пальцем на парк и сказал:
– Иди посиди. Посмотри. Подумай. И тогда сам мне все расскажешь.
Когда Тимулти вошел к Финну, вид у всех был трусоватый. Священник все еще бегал с поручениями по городу, а остальные, походив для успокоения совести вокруг да около Стивенс-Грина, вернулись в замешательстве в штаб-квартиру разведки.
– Тимулти! – закричали они. – Рассказывай же! Что?
Как?
Чтобы протянуть время, Тимулти прошел к бару и занялся пивом. Не произнося ни слова, он разглядывал свое отражение, глубоко-глубоко захороненное под лунным льдом зеркала за стойкой. Он повертывал тему разговора так. Он выворачивал ее наизнанку. И снова на лицевую, но задом наперед. Наконец он закрыл глаза и сказал.
– Сдается мне, будто бы…
«Да, да», – сказали про себя все вокруг.
– Всю жизнь я путешествовал и размышлял, – продолжал Тимулти, – и вот через высшее постижение явилась ко мне мысль, что между ихним братом и нашим есть какоето странное сходство.
Все выдохнули с такой силой, что вокруг заискрилось, в призмах небольших люстр над стойкой туда-сюда забегали зайчики света. А когда после выдоха перестали роиться эти косячки световых рыбок, Нолан вскричал:
– А не хочешь ли надеть шляпу, чтобы я мог сшибить ее первым же ударом?
– Сообразите-ка, – спокойно сказал Тимулти. – Мастера мы на стихи и песни или нет?
Еще один вздох пронесся над сборищем. Это был теплый ветерок одобрения.
– Конечно, еще бы!
– О боже, так ты об этом?
– А мы уж боялись…
– Тихо! – Тимулти поднял руку, все еще не открывая глаз.
Все смолкли.
– Если мы не распеваем песни, то лишь потому, что сочиняем их. А если и не сочиняем, то пляшем под них.
Но разве он и не такие же любители песен, не так складывают их или не так танцуют? Словом, только что я слышал их близко, в Стивенс-Грине, – они читали стихи и тихонько пели сами для себя.
В чем-то Тимулти был прав. Каждый хлопнул соседа по плечу и вынужден был согласиться.
– Нашел ты какие-нибудь другие сходства? – мрачно насупившись, спросил Финн.
– О да, – сказал Тимулти, подражая судье.
Пронесся еще один завороженный вздох, и сборище придвинулось ближе.
– Порой они не прочь выпить, – сказал Тимулти.
– Господи, он прав! – вскричал Мэрфи.
– Далее, – продолжал нараспев Тимулти, – они не женятся до самой последней минуты, если женятся вообще!
И…
Но здесь поднялась такая суматоха, что, прежде чем закончить, ему пришлось подождать, пока она стихнет.
– И они – э-э… – имеют очень мало дела с женщинами.
После этого разразился страшный шум, начались крики и толкотня, и все принялись заказывать пиво, и кто-то позвал Тимулти наружу поговорить по душам. Но Тимулти даже веком не дрогнул, и скандал улегся, а когда все сделали по доброму глотку, проглотив вместе с пивом едва не начавшуюся драку, ясный громкий голос – голос
Финна – возвестил:
– Теперь не сочтешь ли ты нужным дать объяснение тому преступному сравнению, каким ты только что осквернил чистый воздух моего достойного кабачка?
Тимулти не торопясь приложился к кружке, и открыл наконец-то глаза, и спокойно взглянул на Финна, и звучно произнес трубным голосом, дивно чеканя слова.
– Где во всей Ирландии мужчина может лечь с женщиной?
Он постарался, чтобы сказанное дошло до всех.
– Триста двадцать девять дней в году у нас, как проклятый, идет дождь. Все остальное время вокруг такая сырость, что не найдешь ни кусочка, ни лоскутика сухой земли, где осмелишься уложить женщину, не опасаясь, что она тут же пустит корни и покроется листьями. Кто скажет что-нибудь против?
Молчание подтвердило, что никто не скажет.
– Так вот, когда дело касается мест, где можно предаться греховным порокам и плотскому неистовству, бедный, до чертиков глупый ирландец должен отправиться не куда-нибудь, а только в Аравию! Мы спим и видим во сне
«Тысячу и одну ночь», теплые вечера, сухую землю, мечтаем о приличном местечке, где можно было бы не только присесть, но и прилечь, и не только прилечь, но и прижаться, пожаться, сжаться в неистовом восторге.
– Иисусе! – сказал Финн. – Ну-ка, ну-ка, повтори.
– Иисусе! – сказали все, качая головами.
– Это номер раз, – Тимулти загнул палец на руке. –
Место отсутствует. Затем – номер два – время и обстоятельства. К примеру, заговоришь сладким голосом зубы честной девушке, уведешь ее в поле – и что? На ней калоши, и макинтош, и платок поверх головы и надо всем этим еще зонтик, и ты издаешь звуки, как поросенок, застрявший в воротах свинарника, что означает, что одна рука уже у нее на груди, а другая сражается с калошами, и это все, черт побери, что ты успеешь сделать, потому что кто это такой уже стоит у тебя за спиной и чье это душистое мягкое дыхание обдает твою шею?
– Деревенского пастора? – попробовал угадать Гэррити.
– Деревенского пастора! – сказали все в отчаянии.
– Вот гвозди номер два и три, забитые в крест, на котором распяты все мужчины Ирландии, – сказал Тимулти.
– Дальше, Тимулти, дальше.
– Эти парни, что приехали к нам в гости из Сицилии, бродят компанией. Мы бродим компанией. Вот и сейчас вся наша братия собралась здесь, у Финна. Разве не так?
– Будь проклят, если не так!
– Иногда у н и х грустный и меланхолический вид, но все остальное время они беззаботны как черти и плюют решительно на все – вверх ли, вниз ли, но никогда не прямо перед собой. Кого вам это напоминает?
Все заглянули в зеркало и кивнули.
– Если бы у нас был выбор, – продолжал Тимулти, –
пойти домой, кислым и потным от страха, к злющей жене и жуткой теще и засидевшейся в девках сестренке, или же остаться здесь, у Финна, спеть еще по песне, выпить еще пива и рассказать еще по анекдоту, что бы все мы предпочли, парни?
Тишина.
– Подумайте об этом, – сказал Тимулти. – И отвечайте правдиво. Сходства. Подобия. Длинный список получается – с руки на руку и через плечо. Стоит хорошенько обмозговать все, прежде чем мы начнем прыгать повсюду и кричать «Иисусе!» и «Святая Мария!» и призывать на помощь стражу.
Тишина.
– Я хотел бы… – спустя много-много времени сказал кто-то странным, изменившимся голосом, – …разглядеть их поближе.
– Думаю, твое желание исполнится. Тс-с!
Все замерли в живой картине.
Откуда-то издалека донесся слабый, еле уловимый звук. Как тем дивным утром, когда просыпаешься и лежишь в постели и особым чувством угадываешь, что снаружи падает первый снег, лаская на своем пути вниз небеса, и тогда тишина отодвигается в сторону, отступает, уходит.
– О боже! – сказал наконец Финн. – Первый день весны…
Да, и это тоже. Сначала тончайший снегопад шагов, ложащийся на булыжник, а затем птичий гомон.
И на тротуаре, и ниже по улице, и возле кабачка слышались звуки, которые были и зимой, и весной одновременно. Дверь широко распахнулась. Мужчины качнулись, словно им уже нанесли удар в предстоящей стычке. Они уняли нервы. Они сжали кулаки. Они стиснули зубы, а в кабачке – словно дети явились на рождественский праздник, где куда ни глянь – безделицы, игрушки, краски, подарки на особицу, – уже стоял высокий тонкий человек постарше, который выглядел совсем молодым, и маленькие тонкие человечки помоложе, но в глазах у них что-то стариковское. Снегопад утих. Птичий весенний гам смолк.
Стайка чудных детей, подгоняемых чудным пастырем, неожиданно ощутила, будто волна людей схлынула и они оказались на мели, хотя никто из мужчин у бара не сдвинулся на волосок. Дети теплого острова разглядывали невысоких, ростом с мальчишек, взрослых мужчин этой холодной земли, и взрослые мужчины отвечали им такими же взглядами строгих судей.
Тимулти и мужчины у бара медленно, с затяжкой втянули в себя воздух. Даже на расстоянии чувствовался ужасающе чистый запах детей. Слишком много весны было в нем. Снелл-Оркни и его юные-старые мальчики-мужи задышали быстро-быстро – так бьется сердце птички, попавшей в жестокую западню сжатых кулаков. Даже на расстоянии чувствовался пыльный, спертый, застоявшийся запах темной одежды низеньких взрослых. Слишком много зимы было в нем.
Каждый мог бы выразиться по поводу выбора ароматов противной стороны, но…
В этот самый момент двойные двери бокового входа с шумом распахнулись, и в кабачок, трубя тревогу, ворвался
Гэррити во всей красе:
– Господи! Я все видел! Знаете ли вы, где они сейчас?
И что они делают?
Все до единой руки в баре предостерегающе взметнулись. По испуганным взглядам пришельцы поняли, что крик из-за них.
– Они все еще в Стивенс-Грине! – на бегу Гэррити ничего не зрил перед собой. – Я задержался у отеля, чтобы сообщить новости. Теперь ваш черед. Те парни…
– Те парни, – сказал Дэвид Снелл-Оркни, – находятся здесь, в… – он заколебался.
– В кабачке Хибера Финна, – сказал Хибер Финн, разглядывая свои башмаки.
– Хибера Финна, – сказал высокий, благодарно кивнув.
– Где мы немедленно все и выпьем, – сказал, поникнув, Гэррити.
Он метнулся к бару.
Но шестеро пришельцев тоже пришли в движение.
Они образовали маленькую процессию по обе стороны
Гэррити, и из одного только дружелюбия тот ссутулился, став дюйма на три ниже.
– Добрый день, – сказал Снелл-Оркни.
– Добрый, да не очень, – осторожно сказал Финн, выжидая.
– Сдается мне, – сказал высокий, окруженный маленькими мальчиками-мужами, – идет много разговоров о том, чем мы занимаемся в Ирландии.
– Это было бы самым скромным толкованием событий,
– сказал Финн.
– Позвольте мне объяснить, – сказал Дэвид Снелл-
Оркни. – Слышали ли вы когда-нибудь о Снежной Королеве и Солнечном Короле?
Разом отвисли несколько челюстей.
Кто-то задохнулся, словно от пинка в живот.
Финн, поразмыслив с секунду, с какой стороны на него может обрушиться удар, с угрюмой аккуратностью медленно налил себе спиртного. Он с храпом опрокинул кружку и, ощутив во рту пламень, осторожно переспросил, выпуская горячее дыхание поверх языка:
– Э-э… Что это там за Королева и Король еще?
– Значит, так, – сказал высокий бледный человек. –
Жила-была эта королева, и жила она в Стране Льда, где люди никогда не видели лета, а тот самый Король жил на
Островах Солнца, где никогда не видели зимы. Подданные
Короля чуть ли не умирали от жары летом, а подданные
Королевы чуть ли не умирали от стужи зимой. Однако народы обеих стран были спасены от ужасов своей погоды.
Снежная Королева и Солнечный Король повстречались и полюбили друг друга, и каждое лето, когда солнце убивало людей на островах, они перебирались на север, в ледяные края, и жили в умеренном климате. А каждую зиму, когда снег убивал людей на севере, весь народ Снежной
Королевы двигался на юг и жил на островах, под мягким солнцем. Итак, не стало больше двух наций и двух народов, а была единая раса, которая сменяла один край на другой – края странной погоды и буйных времен года. Конец. Последовал взрыв аплодисментов, но исходил он не от юношей-канареек, а от мужчин, выстроившихся вдоль полузабытого бара. Финн увидел, что его ладони сами хлопают друг о друга, и убрал их вниз. Остальные глянули на свои руки и опустили их.
А Тимулти заключил:
– Боже, вам бы настоящий ирландский акцент! Какой рассказчик сказок из вас получился бы!
– Премного благодарен, премного благодарен! – сказал
Дэвид Снелл-Оркни.
– Раз премного, то пора добраться до сути сказки, –
сказал Финн. – Я хочу сказать, ну, об этой Королеве с Королем и всем таком.
– Суть в том, – сказал Снелл-Оркни, – что последние пять лет мы не видели, как падают листья. Если мы углядим облако, то вряд ли распознаем, что это такое. Десять лет мы не ведали снега, ни даже капли дождя. В нашей сказке все наоборот. Либо дождь, либо мы погибнем, верно, братцы?
– О да, верно, – мелодично прощебетала вся пятерка.
– Шесть или семь лет мы гонялись за теплом по всему свету. Мы жили и на Ямайке, и в Нассау, и в Порт-о-
Пренсе, и в Калькутте, и на Мадагаскаре, и на Бали, и в
Таормине, но наконец сегодня мы сказали себе: мы должны ехать на север, нам снова нужен холод. Мы не совсем точно знали, что ищем, но мы нашли это в Стивенс-Грине.
– Нечто таинственное? – воскликнул Нолан. – То есть…
– Ваш друг вам расскажет, – сказал высокий.
– Наш друг? Вы имеете в виду… Гэррити? Все посмотрели на Гэррити.
– Что я и хотел сказать, – произнес Гэррити, – когда вошел сюда. Там, в парке, эти стояли и… смотрели, как
желтеют листья.
– И это все? – спросил в смятении Нолан.
– В настоящий момент этого вполне достаточно, – сказал Снелл-Оркни.
– Неужто в Стивенс-Грине листья действительно желтеют? – спросил Килпатрик.
– Вы знаете, – оцепенело сказал Тимулти, – последний раз я наблюдал это лет двадцать назад.
– Самое прекрасное зрелище на свете, – сказал Дэвид
Снелл-Оркни, – открывается именно сейчас, посреди парка Стивенс-Грин.
– Он говорит дело, – пробормотал Нолан.
– Выпивка за мной, – сказал Дэвид Снелл-Оркни.
– В самую точку! – сказал Ма-Гвайр.
– Всем шампанского!
– Плачу я! – сказал каждый.
И не прошло десяти минут, как все были уже в парке, все вместе.
Ну так что же, как говаривал Тимулти много лет спустя, видели вы когда-нибудь еще столько же распроклятых листьев в одной кроне, сколько их было на первом попавшемся дереве сразу за воротами Стивенс-Грина? «Нет!» –
кричали все. А что тогда сказать о втором дереве? На нем был просто миллиард листьев. И чем больше они смотрели, тем больше постигали, что это было чудо. И Нолан, бродя по парку, так вытягивал шею, что, споткнувшись, пал на спину, и двум или трем приятелям пришлось его поднимать, и были всеобщие благоговейные вздохи, и возгласы о божественном вдохновении, ибо, если уж на то пошло, насколько они помнят, на этих деревьях никогда не было ни одного распроклятого листочка, а вот теперь они появились! Или, если они там и были, у них никогда не замечалось никакой окраски, или, даже если окраска и наличествовала, хм, это было так давно… «Ах, какого дьявола, – сказали все, – заткнитесь и смотрите!»
Именно этим и занимались всю оставшуюся часть вечереющего дня и Нолан, и Тимулти, и Келли, и Килпатрик, и Гэррити, и Снелл-Оркни, и его друзья. Суть в том, что страной завладела осень, и по всему парку были выкинуты миллионы ярких флагов.
Именно там и нашел их отец Лири. Но прежде чем он смог что-либо сказать, три из шести летних пришельцев спросили его, не исповедует ли он их.
А уже в следующий момент патер с выражением великой боли и тревоги на лице вел Снелл-Оркни и Ко взглянуть на витражи в церкви и на то, как строительный мастер вывел апсиду. И церковь им так понравилась, и они так громко говорили об этом снова и снова, и выкрикивали «Дева Мария!», и еще несли какой-то вздор, что патер вмиг унесся, спасаясь бегством.
Но день достиг апофеоза, когда, уже в кабачке, один из юных-старых мальчиков-мужей спросил, как быть: спеть ли ему «Матушку Макри» или «Дружка-приятеля»?
Последовала дискуссия, а после того как подсчитали голоса и объявили результаты, он спел и то и другое.
«У него дивный голос, – сказали все, и глаза их заблестели, наполнившись влагой. – Нежный, чистый, высокий голос».
И как выразился Нолан:
– Сынишка из него не ахти какой получился бы. Но где-то там прячется чудная дочка.
И все проголосовали «за».
И вдруг настало время прощаться.
– Великий боже! – сказал Финн. – Вы же только что приехали!
– Мы нашли то, что искали, нам больше незачем оставаться, – объявил высокий-грустный-веселый-старыймолодой человек. – Цветам пора в оранжерею… а то за ночь они поникнут. Мы никогда не задерживаемся. Мы всегда летим, и несемся вскачь, и бежим. Мы всегда в движении.
Аэропорт затянуло туманом, и птичкам ничего другого не оставалось, как заключить себя в клетку судна, идущего из Дан-Лэре в Англию, а завсегдатаям Финна не оставалось ничего другого, как стоять в сумерках на пирсе и наблюдать за их отправлением. Вот там, на верхней палубе, стояли все шестеро и махали вниз своими тоненькими ручками, а вот там стояли Тимулти, и Нолан, и Гэррити, и все остальные и махали вверх своими толстыми ручищами. А когда судно дало свисток и отчалило, Главный
Смотритель Птичек кивнул, взмахнул, словно крылом, правой рукой, и все запели:
Я шел по славному городу Дублину,
Двенадцать часов пробило в ночи.
И видел я девушку, милую девушку,
Власы распустившую в свете свечи.
– Боже, – сказал Тимулти, – вы слышите?
– Сопрано, все до одного сопрано! – вскричал Нолан.
– Не ирландские сопрано, а настоящие, настоящие сопрано, – сказал Келли. – Проклятье, почему они не сказали раньше? Если бы мы знали, мы бы слушали это еще целый час до отплытия.
Тимулти кивнул. И шепнул, слушая, как мелодия плывет над водами:
– Удивительно. Удивительно. Страшно не хочется, чтобы они уезжали. Подумайте. Подумайте. Сто лет или даже больше люди говорили, что их не осталось ни одного. И вот они вернулись, пусть даже на короткое время!
– Кого ни одного? – спросил Гэррити. – И кто вернулся?
– Как кто? – сказал Тимулти. – Эльфы, конечно. Эльфы, которые раньше жили в Ирландии, а теперь больше не живут и которые явились сегодня и сменили нам погоду.
И вот они снова уходят – те, что раньше жили здесь всегда.
– Да заткнись же ты! – закричал Килпатрик. – Слушай!
И они слушали – девять мужчин на самой кромке пирса, – а судно удалялось, и пели голоса, и опустился туман, и они долго-долго не двигались, пока судно не ушло совсем далеко и голоса не растаяли, как аромат папайи, в сумеречной дымке.
Когда они возвращались к Финну, пошел дождь.
Мартин ГАРДНЕР
НУЛЬСТОРОННИЙ ПРОФЕССОР
Долорес, стройная черноволосая звезда чикагского ночного клуба «Пурпурные шляпы», замерла в самом центре танцевальной площадки и под едва слышный аккомпанемент оркестра, наигрывавшего какую-то восточную мелодию, начала танец живота, исполняя свой знаменитый номер «Клеопатра». В зале было совсем темно, и только сверху на нее падал изумрудный луч прожектора, поблескивая на воздушном «египетском костюме» и гладких бедрах танцовщицы.
Первым должно было упасть прозрачное покрывало, ниспадавшее с головы и закрывавшее плечи Долорес. Еще мгновение, и Долорес изящным жестом сбросила бы покрывало, как вдруг откуда-то сверху донесся громкий звук, похожий на выстрел, и с потолка головой вниз свалился обнаженный мужчина.
Поднялся невероятный переполох.
Метрдотель Джейк Боуэрс приказал дать свет и попытался успокоить зрителей. Управляющий клубом, стоявший у оркестра и наблюдавший за представлением, набросил на распростертую фигуру скатерть и перекатил ее на спину.
Незнакомец тяжело дышал и был без сознания, вероятно, из-за сильного удара, но на теле его не было никаких повреждений. Ему было далеко за пятьдесят. Бросались в глаза короткая, тщательно подстриженная рыжая борода и усы. Незнакомец был совершенно лыс и по сложению напоминал профессионального борца.
Лишь с большим трудом трем официантам удалось перенести его в кабинет управляющего. Зрительный зал волновался, а дамы были на грани истерики. Изумленно тараща глаза то на потолок, то друг на друга, они горячо обсуждали, откуда и каким образом мог упасть незнакомец.
Единственная гипотеза, не чуждая здравому смыслу, состояла в том, что тело было подброшено высоко в воздух откуда-то сбоку от танцевальной площадки. Впрочем, никто из присутствующих в зале не видел, как это произошло. Тем временем в кабинете управляющего бородатый незнакомец пришел в себя. По его утверждению, он был доктором Станиславом Сляпенарским, профессором математики Венского университета, прибывшим по приглашению для чтения лекций в Чикагском университете.
Прежде чем продолжить этот удивительный рассказ, считаю своим долгом предуведомить читателя, что я не был очевидцем описанного эпизода и полагаюсь всецело на интервью с метрдотелем и официантами в цепи необычайных событий, которые и привели к скандальному появлению профессора, наделавшему столько шума.
События эти начались за несколько часов до того, как члены общества «Мёбиус» собрались на свой ежегодный банкет в одной из укромных столовых на втором этаже клуба «Пурпурные шляпы». Общество «Мёбиус» – небольшая, малоизвестная чикагская организация математиков, работающих в области топологии, одного из самых молодых и бурно развивающихся разделов современной математики. Чтобы события, разыгравшиеся в тот памятный вечер, стали вам более понятны, уместно совершить здесь краткий экскурс в топологию.
Объяснить человеку, далекому от математики, что такое топология, довольно трудно. Можно сказать, что топология занимается изучением тех свойств фигур, которые сохраняются независимо от того, как деформируется фигура.
Представьте себе бублик из податливой, но необычайно прочной резины, который вы можете как угодно крутить, сжимать и растягивать в любом направлении. Независимо от того, как деформирован такой бублик, некоторые его свойства остаются неизменными. Например, в нем всегда есть дыра. В топологии бублик принято называть тором. Соломинка, через которую вы пьете коктейли или прохладительные напитки, тоже тор, только вытянутый. С
точки зрения топологии бублик и соломинка ничем не отличаются.
Топологию не интересуют свойства фигур, связанные с длиной, площадью, объемом и тому подобными количественными характеристиками. Она занимается изучением наиболее глубоких свойств фигур и тел, которые остаются неизменными при самых чудовищных деформациях, без разрывов и склеиваний. Если бы тела и фигуры разрешалось разрывать и склеивать, то любое тело сколь угодно сложной структуры можно было бы превратить в любое другое тело с какой угодно структурой, и все первоначальные свойства были бы безвозвратно утрачены. Поразмыслив немного, вы поймете, что топология занимается изучением самых простых и в то же время самых глубоких свойств, какими только обладает тело.
Чтобы пояснить суть дела, приведем типичную топологическую задачу. Представьте себе поверхность тора,
сделанную из тонкой резины, наподобие велосипедной камеры. Предположим, что в стенке тора проколота крохотная дырочка. Можно ли через эту дырочку вывернуть тор наизнанку, как выворачивают велосипедную камеру?
Решить эту задачу «в уме», руководствуясь только своим пространственным воображением, – дело нелегкое.
Хотя еще в XVIII веке многие математики бились над решением отдельных топологических задач, начало систематической работы в области топологии было положено
Августом Фердинандом Мёбиусом, немецким астрономом, преподававшим в Лейпцигском университете в первой половине прошлого века. До Мёбиуса все думали, что у любой поверхности две стороны, как у листа бумаги.
Именно Мёбиус совершил обескураживающее открытие: если взять полоску бумаги, перекрутить ее на пол-оборота, а концы склеить, то получится односторонняя поверхность, обладающая не двумя, а одной-единственной стороной!
Если вы возьмете на себя труд изготовить такую полоску (топологи называют ее листом Мёбиуса) и тщательно присмотритесь к ее «устройству», вы сможете убедиться, что у нее действительно лишь одна сторона и один край.
Трудно поверить, что такое вообще может быть, но односторонняя поверхность действительно существует –
реальная, осязаемая вещь, которую каждый может построить в один миг. В том, что у листа Мёбиуса есть лишь одна сторона, сомневаться не приходится, и это свойство он сохраняет, как бы вы ни растягивали и ни деформировали его.
Но вернемся к нашей истории. Я преподавал математику в Чикагском университете и защитил докторскую диссертацию по топологии, поэтому мне без особого труда удалось вступить в общество «Мёбиус». Нас было не очень много – всего лишь двадцать шесть человек, главным образом чикагских топологов, но некоторые члены общества работали в университетах соседних городов.
Мы устраивали ежемесячные заседания, носившие сугубо академический характер, но раз в году – 17 ноября (в день рождения Мёбиуса) – собирались на банкет и приглашали в качестве гостя какого-нибудь знаменитого тополога, который выступал с лекцией.
Не обходилось на наших банкетах и без развлечений.
Но в нынешнем году с фондами у нас было туговато, и мы решили отпраздновать годовщину патрона нашего общества в «Пурпурных шляпах», где цены были вполне умеренные, а после лекции можно было спуститься в зал и посмотреть программу варьете. С гостем нам повезло: наши приглашения принял знаменитый профессор Сляпенарский, первый тополог мира и один из величайших математических гениев нашего века.
Профессор Сляпенарский пробыл в Чикаго несколько недель, читая в университете курс лекций по топологическим аспектам теории относительности Эйнштейна. Я
имел с ним несколько бесед на профессиональные темы в университете, мы подружились, и я пригласил его на банкет. В «Пурпурные шляпы» мы поехали вместе на такси, и по дороге я попросил его рассказать в общих чертах то, о чем он собирался говорить на лекции. Но Сляпенарский в ответ только улыбнулся и посоветовал запастись терпением, благо ждать осталось совсем недолго. Тема лекции
«Нульсторонние поверхности» вызвала среди членов общества «Мёбиус» такие оживленные толки, что даже профессор Роберт Симпсон из Висконсинского университета письменно уведомил правление о своем намерении прибыть на банкет. Ни на одном заседании в этом году профессор Симпсон присутствовать не соизволил!
Нужно сказать, что профессор Симпсон считался признанным авторитетом по топологии на Среднем Западе и был автором нескольких важных работ по топологии и теории поля, в которых выступал с резкими нападками на основные тезисы теории Сляпенарского.
Мы прибыли вовремя. После того как наш почетный гость был представлен профессору Симпсону и другим членам общества, мы сели за стол. Я обратил внимание
Сляпенарского на традицию оживлять наши банкеты мелкими деталями, выдержанными в «топологическом духе».
Например, серебряные кольца для салфеток были выполнены в форме «листов Мёбиуса». К кофе подавали специально испеченные бублики, а кофейник был изготовлен в виде «бутылки Клейна2».
После обеда за десертом нам подали эль от Баллантайна и крендельки, испеченные в форме двух разновидностей тройного узла, переходящих друг в друга при зер-
2 Бутылка Клейна — это определённая неориентируемая поверхность (то есть двумерное многообразие). Бутылка Клейна впервые была описана в 1882 г. немецким математиком Ф. Клейном. Чтобы построить модель бутылки Клейна, понадобится бутылка с двумя дополнительными отверстиями: в донышке и в стенке. Горлышко бутылки нужно вытянуть, изогнуть вниз, и продев его через отверстие в стенке, присоединить к отверстию на дне бутылки.
кальном отражении (выбор устроителей банкета пал на эль из-за торговой марки этого напитка: трех сцепленных колец, распадающихся, если убрать какое-либо из них).
Сляпенарского позабавили эти топологические безделушки, и он высказал немало предложений на будущее, слишком сложных, чтоб объяснять их здесь.
После моего краткого вступительного слова Сляпенарский встал, поблагодарил присутствующих улыбкой за аплодисменты и откашлялся. В столовой мгновенно наступила тишина. Читатель уже представляет наружность профессора – его внушительную фигуру, рыжеватую бороду и сверкающую голову без единого волоска. В выражении лица Сляпенарского была какая-то особая многозначительность, показывающая, что нам предстоит узнать из его лекции нечто весьма важное, пока известное лишь ему одному.
Изложить сколь-нибудь подробно блестящий, но доступный пониманию только специалистов доклад Сляпенарского вряд ли возможно. Суть его сводилась к следующему. Лет десять назад Сляпенарский наткнулся в одном из менее известных трудов Мёбиуса на утверждение, поразившее его воображение. По словам Мёбиуса, теоретически не существовало причин, по которым поверхность не могла бы утратить обе свои стороны, то есть, иными словами, стать «нульсторонней».
Разумеется, пояснил профессор, такую поверхность невозможно представить себе наглядно, так же как квадратный корень из минус единицы или гиперкуб в четырехмерном пространстве. Но абстрактность понятия отнюдь не означает, что оно лишено смысла или не может найти применения в современной математике и физике.
Не следует забывать и о том, продолжал профессор, что те, кто никогда не видел листа Мёбиуса и не держал его в руках, не могут представить себе даже одностороннюю поверхность. Немало людей с хорошо развитым математическим воображением отказывается верить в существование односторонней поверхности, даже когда лист
Мёбиуса у них в руках.
Я взглянул на профессора Симпсона, и мне показалось, что при этих словах он чуть заметно улыбнулся.
На протяжении многих лет, продолжал Сляпенарский, он упорно стремился построить нульстороннюю поверхность. По аналогии с известными типами поверхностей ему удалось изучить многие свойства нульсторонней поверхности. Наконец долгожданный день настал. Сляпенарский выдержал паузу, чтобы посмотреть, какое впечатление его слова произвели на слушателей, и окинул взглядом замершую аудиторию. Наконец настал день, когда его усилия увенчались успехом, и он построил нульстороннюю поверхность.
Подобно электрическому разряду его слова обежали сидевших за столом. Каждый встрепенулся, удивленно посмотрел на соседа и уселся поудобнее. Профессор Симпсон яростно затряс головой. Когда Сляпенарский отошел в дальний конец столовой, где была приготовлена классная доска, Симпсон повернулся к соседу слева и шепнул:
«Чушь несусветная! Либо Сляппи совсем спятил с ума, либо он просто вздумал подшутить над нами».
Мне кажется, что мысль о розыгрыше пришла в голову многим из присутствовавших. Я видел, как некоторые из них недоверчиво улыбались, пока профессор вычерчивал на доске сложные схемы.
После некоторых пояснений (их я полностью опускаю из опасения, что они были бы совершенно непонятны большинству читателей) профессор заявил, что хотел бы в заключение лекции построить одну из простейших нульсторонних поверхностей. К этому времени все присутствовавшие, не исключая и меня, обменивались понимающими улыбками. На лице профессора Симпсона улыбочка была несколько напряженной.
Сляпенарский достал из кармана пиджака пачку синей бумаги, ножницы и тюбик с клеем. Он вырезал из бумаги фигурку, до странности напоминавшую бумажную куклу: пять длинных выступов, или отростков, походили на голову, руки и ноги. Затем он сложил фигурку и стал аккуратно склеивать концы отростков. Процедура была весьма деликатная и требовала большой осторожности, выступы весьма хитроумно переплетались. Наконец, осталось только два свободных конца. Сляпенарский капнул клеем на один из них.
– Джентльмены, – сказал он, держа перед собой замысловатое сооружение из синей бумаги и поворачивая его так, чтобы все могли видеть, – сейчас вы увидите первую публичную демонстрацию поверхности Сляпенарского.
С этими словами профессор прижал один из свободных концов к другому.
Раздался громкий хлопок, как будто лопнула электрическая лампа, – и бумажная фигурка исчезла!
На мгновение мы замерли, а потом все как один разразились смехом и аплодисментами.
Разумеется, мы были убеждены, что стали жертвами тонкого розыгрыша. Но нельзя не признать, что исполнено все было великолепно. Как и другие участники банкета, я полагал, что Сляпенарский показал нам остроумный химический фокус и что бумага была пропитана особым составом, позволяющим поджечь ее трением или каким-то другим способом, после чего она мгновенно сгорела, не оставив и пепла.
Профессор Сляпенарский, казалось, был озадачен дружным смехом, и лицо его приобрело неотличимый от бороды цвет. Он смущенно улыбнулся и сел. Аплодисменты мало-помалу стихли.
Мы все столпились вокруг нашего гостя и наперебой шутливо поздравляли его с замечательным открытием.
Старший из официантов напомнил нам, что для тех, кто хотел бы заказать напитки и посмотреть программу варьете, внизу оставлены столики.
Столовая постепенно опустела. В комнате остались только Сляпенарский, Симпсон и ваш покорный слуга.
Два знаменитых тополога стояли у доски. Симпсон, широко улыбаясь, указал на один из чертежей:
– Ошибка в вашем доказательстве скрыта необычайно остроумно, профессор. Не знаю, заметил ли ее еще ктонибудь из присутствующих.
Лицо Сляпенарского было серьезно.
– В моем доказательстве нет никакой ошибки, – заметил он не без раздражения.
– Да полно вам, профессор, – возразил Симпсон, –
ошибка вот здесь. – Он коснулся пальцем чертежа: – Пересечение этих линий не может принадлежать многообразию. Они пересекаются где-то вне многообразия. – Он сделал неопределенный жест вправо.
Лицо Сляпенарского снова покраснело.
– А я говорю вам, что никакой ошибки здесь нет, – повторил он, повысив голос, и медленно, тщательно выговаривая, как бы выстреливая слова, повторил шаг за шагом все доказательство от начала до конца, постукивая для пущей убедительности по доске костяшками пальцев.
Симпсон слушал с мрачным видом и в одном месте прервал Сляпенарского, возразив ему что-то. Сляпенарский мгновенно парировал возражение. Последовало еще одно замечание, но и оно не осталось без ответа. Я не вмешивался в их спор, поскольку он уже давно вышел за рамки моего понимания и воспарил к недоступным мне высям топологии.
Между тем страсти у доски накалялись, и оппоненты говорили все громче и громче. Я уже говорил о давнем споре Симпсона со Сляпенарским по поводу нескольких топологических аксиом. О них-то теперь и зашла речь.
– А я говорю вам, что ваше преобразование не взаимно-непрерывно и, стало быть, эти два множества не гомеоморфны! – кричал Симпсон.
На висках Сляпенарского вздулись вены.
– Не будете ли вы так любезны объяснить в таком случае, каким образом исчезло мое многообразие? – заорал он в ответ.
– Дешевый трюк, ловкость рук и ничего больше, – презрительно фыркнул Симпсон. – Не знаю да и знать не хочу, как вы его делаете, но ясно одно: ваше многообразие исчезло не из-за того, что стало нульсторонним.
– Ах, не стало? Не стало? – процедил Сляпенарский сквозь зубы и, прежде чем я успел вмешаться, нанес своим огромным кулаком удар Симпсону в челюсть. Профессор из Висконсина со стоном упал на пол. Сляпенарский обернулся ко мне с грозным видом.
– Не вздумайте вмешиваться, молодой человек, – предупредил он меня. Профессор был тяжелее меня по крайней мере на сотню фунтов, и я, вняв предупреждению, отступил.
О дальнейшем я вспоминаю с ужасом. С налитыми кровью глазами Сляпенарский присел рядом с распростертой фигурой оппонента и принялся сплетать его руки и ноги в фантастические узлы. Он складывал своего коллегу из Висконсина так же, как полоску бумаги! Раздался взрыв
– и в руках у Сляпенарского осталась только груда одежды. Симпсон обрел нульстороннюю поверхность.
Сляпенарский поднялся, тяжело дыша и судорожно сжимая твидовый пиджак Симпсона. Потом он разжал руки и пиджаком накрыл остатки симпсоновского туалета, лежавшие на полу. Сляпенарский что-то невнятно пробормотал и принялся колотить себя кулаком по голове.
Я сохранил достаточно самообладания, чтобы догадаться запереть дверь. Когда я заговорил, голос мой звучал чуть слышно:
– А его… можно вернуть?
– Не знаю, ничего не знаю! – завопил Сляпенарский. –
Я только начал изучать нульсторонние поверхности, только начал. Не знаю, где он может быть. Ясно только одно: Симпсон сейчас находится в пространстве большего числа измерений, чем наше, скорее всего в четномерном пространстве. Бог знает куда его занесло.
Внезапно он схватил меня за лацканы пиджака и тряхнул так сильно, что я подумал, не настала ли теперь моя очередь.
– Я должен найти его, – сказал Сляпенарский. – Это единственное, что я могу сделать.
Он уселся на пол и принялся переплетать самым невероятным образом свои руки и ноги.
– Да не стойте вы как идиот! – прикрикнул он на меня.
– Лучше помогите.
Я кое-как привел в порядок свою одежду и помог ему изогнуть правую руку так, чтобы она прошла под его левой ногой и вокруг шеи. С моей помощью ему удалось дотянуться до уха. Левая рука была изогнута аналогичным способом.
– Сверху, сверху, а не снизу, – раздраженно поправил меня Сляпенарский, когда я пытался помочь ему дотянуться левой рукой до кончика носа.
Раздался еще один взрыв, гораздо более громкий, чем тот, которым сопровождалось исчезновение Симпсона, и лицо мое обдал порыв холодного ветра. Когда я открыл глаза, передо мной на полу высилась еще одна груда одежды.
Я стоял и тупо смотрел на две кучи одежды, как вдруг сзади раздался приглушенный звук, нечто вроде «пффт».
Оглянувшись, я увидел Симпсона. Он стоял у стены голый и дрожал. В лице его не было ни кровинки. Затем ноги его подкосились, и он опустился на пол. На его конечностях, там, где они плотно прилегали друг к другу, выступали красные пятна.
Я подкрался к двери, отпер ее и устремился вниз по лестнице: мне настоятельно требовалось подкрепиться.
Потом мне рассказали о страшном переполохе в зале: за несколько секунд до моего появления Сляпенарский завершил свой прыжок из другого измерения.
В задней комнате я застал других членов общества
«Мёбиус» и администрацию клуба «Пурпурные шляпы» за шумным и бестолковым спором. Сляпенарский, завернувшись в скатерть, как в тогу, сидел в кресле и прижимал к нижней челюсти носовой платок с кубиками льда.
– Симпсон вернулся, – сообщил я. – Он в обмороке, но думаю, что с ним все в порядке.
– Слава богу, – пробормотал Сляпенарский.
Администратор и владелец «Пурпурных шляп» так и не поняли, что произошло в тот сумбурный вечер, и наши попытки объяснить лишь усугубляли ситуацию. Прибытие полиции еще больше усилило неразбериху и панику.
Наконец нам удалось одеть пострадавших коллег, поставить их на ноги, и мы покинули поле брани, пообещав вернуться назавтра с нашими адвокатами. Управляющий, по-видимому, считал, что его клуб пал жертвой заговора каких-то иностранцев, и грозился взыскать с нас компенсацию за ущерб, нанесенный, по его словам, «безупречной репутации клуба». Оказалось, что таинственное происшествие, слух о котором разнесся по городу, послужило клубу отличной рекламой, и «Пурпурные шляпы» отказались от иска. Газеты прослышали о событиях того вечера, но воздержались от публикации каких-либо сообщений на эту тему, считая всю историю безвкусной стряпней некоего Фанштиля, пресс-агента клуба «Пурпурные шляпы».
Симпсон отделался легко, но у Сляпенарского оказался перелом челюсти. Я отвез его в госпиталь Биллингс, что неподалеку от университета, и в больничной палате далеко за полночь услышал от Сляпенарского о том, что, по его мнению, произошло. Симпсон, по-видимому, оказался заброшенным в более высокое (скорее всего в пятое) измерение, но проник туда неглубоко и попал в какую-то низину.
Придя в себя, он расцепил себе руки и тотчас же превратился в обычный трехмерный тор с наружной и внутренней поверхностями. Сляпенарскому повезло меньше.
Он приземлился на какой-то склон. Вокруг ничего не было видно, со всех сторон, куда ни глянь, был неразличимый туман, но Сляпенарский отчетливо запомнил ощущение, будто он скатывается по склону холма.
Он пытался все время держаться за нос, но выпустил кончик носа до того, как достиг конца склона, и вернулся в трехмерное пространство, прервав своим появлением выступление Долорес.
Так ли было на самом деле, не знаю. Во всяком случае, таким представлялся ход событий Сляпенарскому.
Несколько недель он пробыл в госпитале, запретив пускать к себе посетителей, и я увидел его только в день выписки, когда проводил его на вокзал. Сляпенарский уехал поездом в Нью-Йорк, и с тех пор я его не видел. Через несколько месяцев он скончался от сердечного приступа.
Профессор Симпсон вступил в переписку с вдовой профессора Сляпенарского в надежде разыскать хотя бы черновики работ своего покойного коллеги по теории нульсторонних поверхностей.
Сумеют ли топологи разобраться в черновиках Сляпенарского (разумеется, если их удастся найти), покажет будущее. Мы извели массу бумаги, но пока что нам удавалось построить только обычные двусторонние и односторонние поверхности. Хотя я помогал Сляпенарскому «складываться» в нульстороннюю поверхность, чрезмерное волнение стерло из моей памяти все детали
Но я никогда не забуду замечание, которое обронил великий тополог в тот памятный вечер перед моим уходом.
– Счастье, – сказал он, – что Симпсон и я успели перед возвращением освободить правую руку.
– А что могло бы случиться? – спросил я недоумевающе. Сляпенарский поежился.
– Мы бы вернулись наизнанку, – сказал он.
Гарри ГАРРИСОН
ПОЛИЦЕЙСКИЙ РОБОТ
Это был большой фанерный ящик, по виду напоминавший гроб и весивший, похоже, целую тонну. Мускулистый малый, водитель грузовика, просто впихнул его в дверь полицейского участка и пошел прочь. Я оторвался от регистрационной книги и крикнул ему вслед:
– Что это еще за чертовщина?
– А я почем знаю, – ответил он, вскакивая в кабину. –
У меня рентгена нет, я только доставляю грузы. Эта штука прибыла на утренней ракете с Земли, а больше мне ничего не известно
Он рванул с места быстрей, чем требовалось, и взметнул в воздух тучу красной пыли.
– Шутник, – проворчал я. – Больно уж много шутников на Марсе развелось.
Когда я встал из-за стола и склонился над ящиком, на зубах у меня скрипела пыль. Начальник полиции Крейг, должно быть, услыхав шум, вышел из своего кабинета и помог мне бессмысленно созерцать ящик.
– Думаешь, бомба? – сказал он скучающим тоном.
– Кому это только понадобилось взрывать нас? Да еще бомбой такого размера? И надо же – с самой Земли!
Начальник кивнул в знак согласия со мной и обошел ящик. Снаружи нигде не было обратного адреса. В конце концов нам пришлось поискать ломик, и я принялся открывать крышку. Когда я поддел ее, она легко соскочила и свалилась на пол.
Вот тогда-то мы впервые и увидели Неда. Нам бы повезло куда больше, если бы мы его видели не только в первый, но и в последний раз. Если бы мы только водворили крышку на место и отправили эту штуку обратно на
Землю! Теперь-то я знаю, что значит «ящик Пандоры».
Но мы просто стояли и глазели на нее как бараны на новые ворота. А Нед лежал неподвижно и глазел на нас.
– Робот! – сказал начальник.
– Тонкое наблюдение: сразу видно, что ты окончил полицейское училище.
– Ха-ха! Теперь узнай, зачем он здесь.
Я училища не кончал, но это не помешало мне быстренько найти письмо. Оно торчало из толстой книги, засунутой в одно из отделений ящика. Начальник взял письмо и стал читать его без всякого энтузиазма.
– Так, так! Фирма «Юнайтед роботикс» с пеной у рта доказывает, что… «роботы при правильной их эксплуатации могут оказывать неоценимую помощь в качестве полицейских… От нас хотят, чтобы мы провели полевые испытания… Прилагаемый робот – новейшая экспериментальная модель; стоимость – 120 тысяч».
Оба мы снова посмотрели на робота, обуреваемые единым желанием увидеть вместо него денежные знаки.
Начальник нахмурился и, шевеля губами, прочел письмо до конца. Я думал, как вытащить робота из его фанерного гроба.
Не знаю, экспериментальная это была модель или нет, но вид у механизма был красивый. Весь синий, цвета флотской формы, а выходные отверстия, крюки и тому подобное – позолоченные. Кому-то пришлось здорово потрудиться, чтобы добиться такого эффекта. Он очень напоминал полицейского в мундире, но карикатурного сходства не было. Казалось, не хватало только полицейского значка и пистолета.
Тут я заметил слабое свечение в глазных линзах робота. До этого мне не приходило в голову, что эту штуку можно оживить. Терять было нечего, и я сказал:
– Вылезай из ящика.
Робот взвился стремительно и легко, как ракета, и приземлился в двух футах от меня, молодцевато отдав мне честь.
– Полицейский экспериментальный робот, серийный номер ХПО-456-934Б, готов к исполнению обязанностей, сэр. Голос его дрожал от усердия, и мне казалось, что я слышу, как гудят его упругие стальные мышцы. У него, наверно, была шкура из нержавеющей стали и пучок проводов вместо мозга, но мне он казался настоящим новичком-полицейским, прибывшим для прохождения службы.
Тем более что он был ростом с человека, имел две руки, две ноги и окраску под цвет мундира. Стоило мне чутьчуть прищурить глаза, и передо мной стоял Нед, новый полицейский нашего участка, только что окончивший школу и полный служебного рвения. Я потряс головой, чтобы отделаться от этого наваждения. Это всего лишь машина высотой в шесть футов, которую ученые головы свинтили для собственного развлечения.
– Расслабься, Нед, – сказал я. Он по-прежнему отдавал мне честь. – Вольно! При таком усердии ты заработаешь грыжу выхлопного клапана. Впрочем, я здесь всего лишь сержант. А вон там начальник полиции.
Нед сделал оборот налево кругом и скользнул к начальнику стремительно и бесшумно. Начальник смотрел на него как на чертика из коробки, слушая тот же рапорт о готовности.
– Интересно, а может он делать что-нибудь еще или только отдавать честь и рапортовать? – сказал начальник, обходя вокруг робота и поглядывая на него с интересом…
как собака на столбик.
– Функции, эксплуатация, а также разумные действия, на которые способны полицейские экспериментальные роботы, описаны в руководстве на страницах 184-213.
Голос Неда на секунду заглох – робот нырнул в ящик и появился с упомянутым томом.
– Подробные разъяснения тех же пунктов можно найти также на страницах с 1035-й по 1267-ю включительно.
Начальник, который за один присест с трудом дочитывал до конца юмористическую страничку журнала, повертел толстенную книгу в руках с таким видом, будто она могла его укусить. Прикинув ее вес и ощупав переплет, он швырнул ее мне на стол.
– Займись этим, – сказал он мне, уходя к себе в кабинет. – И роботом тоже. Сделай что-нибудь…
Начальник не был способен долго сосредоточиваться на каком-либо деле, а на этот раз ему пришлось напрячь внимание до предела.
Из любопытства я полистал книгу. Вот уж с кем мне никогда не приходилось иметь дела, так это с роботами, и поэтому я знал о них не больше любого простого смертного. Возможно, даже меньше. В книге уместилось великое множество страниц мелкой печати с мудреными формулами, электрическими схемами и диаграммами в девяти красках и тому подобным. Изучение ее требовало сугубой внимательности, на что я в то время не был способен. Захлопнув книгу, я воззрился на нового служащего города
Найнпорта.
– За дверью стоит веник. Знаешь, как с ним управляются?
– Да, сэр.
– Тогда подмети комнату, стараясь при этом поднимать как можно меньше пыли.
Справился он превосходно.
Я наблюдал, как машина, стоящая сто двадцать тысяч, сгребает в кучу окурки и песок, и думал, почему же ее послали в Найнпорт. Наверно, потому, что во всей Солнечной системе не было более крохотного и незначительного полицейского подразделения, чем наше. Инженеры, видимо, считали, что для полевых испытаний как раз это и нужно. Даже если эта штука взорвется, никому до нее не будет никакого дела. Потом кто-нибудь когда-нибудь получит сообщение о ней. Что ж, место выбрано правильное.
Найнпорт как раз затерялся в безвестности.
Именно поэтому, разумеется, и я здесь. Единственный настоящий полицейский. Хотя бы один такой человек непременно нужен, чтобы была видимость, будто дело делается. У начальника Алонцо Крейга только и хватает ума на то, чтобы не ронять деньги, когда ему суют взятку. Есть у нас и два постовых. Один старый и вечно пьяный. У другого еще молоко на губах не обсохло. Я служил десять лет в столичной полиции, на Земле. Почему я ушел – это уж мое личное дело. Я уже давно заплатил за прежние ошибки, забравшись сюда, в Найнпорт.
Найнпорт не город, это лишь место, где останавливаются по пути. Постоянно живут здесь лишь те, кто обслуживает проезжающих: содержатели гостиниц, шулера, шлюхи, бармены и тому подобные.
Есть и космопорт, но туда садятся лишь грузовые ракеты. Чтобы забрать металл с тех рудников, которые еще работают. Некоторые поселенцы приезжают сюда за провиантом. Найнпорт можно назвать городом, который так и не увидел настоящей жизни. Хорошо, если через сотню лет на этом месте хоть что-то будет торчать из песка в знак того, что Найнпорт когда-то существовал. Меня в то время уже не будет, и потому мне наплевать…
Я вернулся к регистрационной книге. В камерах сидят пятеро пьяных – средний улов. Пока я записывал их, Фэтс втащил шестого.
– Заперся в дамском туалете в космопорте и сопротивлялся при аресте, – доложил он.
– Нарушение общественного порядка в пьяном виде.
Тащи его в камеру.
Фэтс повел свою жертву, пошатываясь ей в такт. Я
всегда изумлялся, наблюдая, как Фэтс обращается с пьяным, – обычно у него было заложено за галстук больше, чем у них. Я никогда не видел его ни мертвецки пьяным, ни совершенно трезвым. Несмотря на это, его мутные глаза никогда не подводили – стоял ли он на часах у камер или ловил пьяных. Это он делал превосходно. В какой бы уголок они ни заползали, он находил их. Несомненно, потому, что инстинкт вел их в одно и то же место.
Фэтс захлопнул дверь шестой камеры и, выписывая вензеля, вернулся назад.
– Что это? – Он показал на робота.
– Это робот. Я забыл номер, который дала ему мама на заводе, и поэтому мы зовем его Недом. Он теперь работает у нас.
– Ну и молодец! Пусть почистит камеры после того, как мы выкинем оттуда шантрапу.
– Это моя обязанность, – сказал Билли, входя в комнату. Он сжимал дубинку и хмуро смотрел из-под козырька форменной фуражки. Билли был не то чтобы глуп, просто природа наделила его лишней силенкой за счет ума.
– Теперь это обязанность Неда, потому что ты получил повышение. Будешь помогать мне.
Билли порой бывал очень полезен, и я дорожил его атлетическим сложением. Мое объяснение подбодрило его, он уселся рядом с Фэтсом и стал смотреть, как Нед подметает пол.
Так дело шло примерно с неделю. Мы наблюдали за тем, как Нед подметает и чистит, пока участок не начал приобретать явно стерильный вид. Начальник, который всегда проявлял заботу о порядке, обнаружил, что Нед может подшить целую тонну докладных и прочих бумаг, захламлявших его кабинет. Работы у Неда оказалось много, а мы так привыкли к нему, что едва замечали его присутствие. Я знал, что он отнес свой фанерный гроб на склад и устроил себе там подобие уютной спаленки. Все остальное меня не интересовало.
Руководство по роботу было похоронено в моем столе, и я ни разу не заглянул в него. Если бы я это сделал, то имел бы некоторое представление о больших переменах, которые ждали нас впереди. Никто из нас не знал ничего о том, что робот может, а чего не может делать. Нед превосходно справлялся с обязанностями уборщицыделопроизводителя и этим ограничивался. Дело не двинулось бы дальше, если бы начальник не был слишком ленив. С этого все и началось.
Было часов девять вечера, и начальник как раз собирался уйти домой, когда раздался телефонный звонок. Он взял трубку, послушал и положил ее.
– Винный магазин Гринбека. Его снова ограбили. Просят срочно приехать.
– Это что-то новое. Обычно мы узнаем об ограблении только через месяц. За что же он платит деньги Китайцу
Джо, если тот его не защищает? Почему теперь такая спешка?
Начальник пожевал нижнюю губу и после мучительных раздумий в конце концов принял решение.
– Поезжай-ка да посмотри, в чем там дело.
– Сейчас, – сказал я и потянулся за фуражкой. – Но на участке никого нет, придется тебе присмотреть, пока я не вернусь.
– Так не годится, – простонал он. – Я умираю с голоду, а тут еще сидеть и ждать?..
– Я пойду возьму показания, – сказал Нед, выступив вперед и, как обычно, молодцевато отдав честь.
Сперва начальник не поддался на удочку. Представьте себе холодильник, который вдруг ожил и предложил свои услуги.
– Как же это ты возьмешь показания? – проворчал он, ставя на место холодильник, вообразивший себя умником.
Но подковырка была облечена в вопросительную форму, и винить за это ему пришлось только себя. Точно за три минуты Нед рассказал начальнику, как полицейский производит первичное дознание при получении сообщения о вооруженном грабеже или ином виде воровства. Судя по выпученным глазам начальника, Нед очень скоро вышел за пределы скудных знаний Крейга.
– Хватит! – наконец рявкнул начальник. – Если ты знаешь так много, почему бы тебе не взять показаний?
Для меня это прозвучало как вариант фразы «Если уж ты такой умный, то почему ты не богатый?», которую мы обычно говорили умникам еще в школе. Нед понимал такие вещи буквально и направился к двери.
– Вы хотите сказать, что я должен взять показания об этом ограблении?
– Да, – сказал начальник, чтобы только отвязаться от него, и синяя фигура Неда исчезла за дверью.
– По его виду не скажешь, что он такой смышленый, –
сказал я. – Он так и не спросил, где находится магазин
Гринбека.
Начальник кивнул, а телефон снова зазвонил. Начальничья рука, которая все еще покоилась на трубке, машинально подняла ее. Секунду он слушал, и лицо его становилось все бледней, будто у него из пятки выкачивали кровь.
– Грабеж все еще продолжается, – с трудом произнес он наконец. – Рассыльный Гринбека на проводе – хочет узнать, что мы предпринимаем. Я, говорит, сижу под столом в задней комнате…
Я не услышал остального, потому что бросился в дверь
– и к машине. Могли бы произойти тысячи неожиданностей, если бы Нед прибыл в магазин прежде меня. Началась бы стрельба, пострадали бы люди… И во всем этом обвинили бы полицию – за то, что послали консервную банку вместо полицейского. Хотя Нед выполнял приказ начальника, я знал, что как пить дать это дело пришьют мне. На Марсе никогда не бывает очень тепло, но я вспотел. В Найнпорте действуют четырнадцать правил уличного движения, и я, не проехав и квартала, нарушил их все.
Но как я ни торопился, Нед оказался проворнее. Завернув за угол, я увидел, как он распахнул дверь магазина Гринбека и вошел внутрь. Я нажал на тормоза – они взвизгнули, но на мою долю досталась лишь участь зрителя. Впрочем, это тоже было небезопасно.
В магазине хозяйничали два проезжих грабителя. Один склонился над конторкой, словно клерк, другой, опершись на нее, стоял рядом. Оружия у них не было видно, но стоило синему Неду показаться в дверях, как их взвинченные нервы не выдержали. Оба ружья поднялись одновременно, словно были на резинках, и Нед остановился как вкопанный. Я схватил свой пистолет и ждал, когда полетят в окно куски разорванного робота.
Реакция Неда была мгновенной. Таким, я думаю, и должен быть полицейский робот.
– БРОСЬТЕ ОРУЖИЕ, ВЫ АРЕСТОВАНЫ!
Он, видимо, включил звук на полную мощность, его голос загремел так оглушительно, что у меня заболели уши. Результат был такой, какого и следовало ожидать.
Раздалось два выстрела одновременно. Витрины магазина вылетели со звоном, а я упал плашмя. По звуку я понял,
что стреляли из базуки пятидесятого калибра. Ракетные снаряды – их ничем не остановишь. Они прошибают все, что стоит на их пути.
Но Неда они, кажется, нисколько не побеспокоили. Он только прикрыл глаза. Щиток с узкой прорезью соскользнул сверху на глазные линзы. Затем робот двинулся к первому головорезу.
Я знал, что он проворен, но не представлял насколько… Еще два снаряда ударили в него, когда он пересекал комнату, но, прежде чем грабитель снова прицелился, его ружье оказалось в руках у Неда. Все было кончено. Выхватив из слабеющих пальцев ружье и опустив его в сумку, Нед вынул наручники и защелкнул их на запястьях грабителя.
Громила номер два помчался к двери, где я приготовил ему теплую встречу. Но моя помощь не понадобилась. Он не одолел и полпути, как Нед очутился перед ним. Они столкнулись, раздался стук, но Нед далее не пошатнулся, а грабитель потерял сознание. Он так и не почувствовал, как
Нед, защелкнув наручники, бросил его рядом с товарищем.
Я вошел, забрал ружья у Неда и официально подтвердил арест. Вот и все, что видел выползший из-за конторки
Гринбек, а больше мне ничего и не требовалось. Магазин был по колено засыпан битым стеклом, и пахло в нем как в бочке из-под спирта. Гринбек начал выть по-волчьи над своим разорением. Он, видимо, знал о телефонном звонке не больше моего, и поэтому я вцепился в прыщавого юнца, приковылявшего со склада. Он-то и звонил.
Случай оказался совершенно нелепым. Малый работал у Гринбека всего несколько дней, и у него не хватило ума сообразить, что обо всех грабежах надо сообщать не в полицию, а ребятам, взявшим магазин под свою защиту. Я
велел Гринбеку просветить малого – пусть посмотрит на то, что он натворил.
Потом я погнал обоих экс-грабителей к автомобилю.
Нед сел на заднее сиденье вместе с ними, прильнувшими друг к другу, словно беспризорные сиротки в бурю. Робот молча достал из своего бедра пакет первой медицинской помощи и перевязал одного из громил, получившего ранение, чего сперва в пылу схватки никто не заметил.
Когда мы вошли, начальник все еще сидел без кровинки в лице. Поистине он был бледен как смерть.
– Вы произвели арест, – прошептал он. Не успел я выложить все, как ему в голову пришла еще более ужасная мысль. Он схватил первого грабителя за грудки и склонился к нему.
– Вы из банды Китайца Джо? – прорычал начальник.
Грабитель сделал ошибку, думая отмолчаться. Начальник влепил ему затрещину, от которого у громилы искры из глаз посыпались. Когда вопрос был повторен, он ответил правильно.
– Не знаю я никакого Китайца Джо. Мы только сегодня приехали в город и….
– Свободные художники, слава богу, – со вздохом облегчения сказал начальник и повалился в кресло. – Запри их и быстро расскажи мне, что там случилось.
Я захлопнул за грабителями дверь камеры и показал дрожащим пальцем на Неда.
– Вот герой, – сказал я. – Взял их голыми руками…
Это ураган, а не робот, добродетельная сила в нашем грешном обществе. И к тому же пуленепробиваемая.
Я провел пальцем по широкой груди Неда. Снаряды лишь сбили краску, но царапин на металле почти не было.
– Это будет стоить мне неприятностей, больших неприятностей, – стонал начальник.
Я знал, что он говорит о банде вымогателей. Они не любят, когда арестовывают грабителей и когда ружья начинают стрелять без их одобрения. Но Нед думал, что у начальника другие неприятности, и поторопился дать разъяснения:
– Не будет никаких неприятностей. Я никогда не нарушал Законов ограничения деятельности роботов, они вмонтированы в мою схему и действуют автоматически.
Люди, которые достали оружие и угрожали насилием, нарушили законы не только наши, но и человеческие. Я не причинил людям никакого вреда – я лишь призвал их к порядку.
Для начальника все это было слишком сложно, но я, кажется, понимал. И даже поинтересовался, как робот –
машина – может разобраться в вопросах нарушения и применения законов. У Неда был ответ и на это
– Эти функции выполняются роботами уже много лет.
Разве радарные измерители не выносят суждение о нарушении людьми правил уличного движения? Робот – измеритель степени опьянения – справляется со своими обязанностями лучше, чем полицейский, задерживающий пьяного. Одно время роботам даже позволяли самим решать вопрос об убийстве. До принятия Законов ограничения деятельности роботов всюду применялось устройство автоматической наводки орудий. Впоследствии появились самостоятельные батареи больших зенитных орудий. Автоматический радар обнаруживал все самолеты. Но те самолеты, которые не могли послать правильный опознавательный сигнал, засекались, их курс вычислялся, автоматические подносчики снарядов и заряжающие готовили управляемые вычислительными машинами орудия к бою, и робот производил выстрел.
С Недом нельзя было не согласиться. Возражения вызывал разве что его лексикон профессора колледжа. Поэтому я переменил тему разговора.
– Но робот не может заменить полицейского – тут нужен человек.
–
Разумеется, это так, но замена человекаполицейского не является задачей полицейского робота. Я
главным образом выполняю функции многочисленных видов полицейского снаряжения, интегрирую их действия и нахожусь в постоянной готовности. К тому же я оказываю механическую помощь в случае принятия принудительных мер. Арестовывая человека, вы надеваете на него наручники. Но если вы прикажете мне сделать то же самое, то я моральной ответственности не несу. В данном случае я просто машина для надевания наручников…
Подняв руку, я прервал поток роботодоводов. Нед по самую завязку был набит фактами и цифрами, и я сообразил, что его не переспоришь. Когда Нед производил арест, никакие законы не нарушались – это несомненно. Но были и другие законы, кроме тех, что публикуются в книгах.
– Китайцу Джо это не понравится, совсем не понравится, – сказал начальник, отвечая собственным мыслям.
Закон джунглей. Такого в юридических книгах не было. А именно этот закон царил в Найнпорте. В городе жило довольно много обитателей игорных и публичных домов и питейных заведений. Все они подчинялись Китайцу
Джо. Как и полиция. Все мы были у него в кулаке и, можно сказать, у него на содержании. Впрочем, это были штуки не такого рода, чтобы объяснять их работу.
– Точно, Китайцу Джо не понравится.
Сперва я подумал, что это эхо, а потом понял, что ктото вошел и стоит у меня за спиной. Тварь по имени Алекс.
Шесть футов костей, мышц и неприятностей. Он фальшиво улыбнулся начальнику, который вдавился в кресло поглубже.
– Китаец Джо хочет, чтобы вы ему объяснили, почему ваши резвые полицейские суют нос не в свое дело, трогают людей и заставляют их стрелять по бутылкам с хорошими напитками. Он особенно рассердился из-за хуча3.
Он говорит, что с него хватит трепа, и с этих пор вы…
– Я, робот, налагаю на вас арест согласно статье 46, параграфу 19 пересмотренного Уложения…
Мы и глазом моргнуть не успели, как Нед арестовал
Алекса и тем самым подписал наши смертные приговоры.
Алекс не был медлительным человеком. Поворачиваясь посмотреть, кто схватил его, он уже доставал пистолет. Он успел выстрелить прямо в грудь Неду, прежде чем робот выбил у него из рук пистолет и надел наручники. Мы с разинутыми ртами смотрели на арестованного, а
Нед снова продекламировал обвинение. И клянусь, тон у него был довольный.
3 Х у ч – вид самогона, изготовляемого американскими индейцами. — Прим. перев.
– Арестованный – Питер Ракомски, он же Алекс Топор, разыскивается в Канал-сити за вооруженное ограбление и попытку убийства. Также разыскивается местными полициями Детройта, Нью-Йорка и Манчестера по обвинению в…
– Уберите от меня эту штуку! – завопил Алекс.
Мы бы это сделали, и все было бы шито-крыто, если бы Бенни Жук не услышал выстрела. Он просунул голову в дверь ровно настолько, чтобы усечь происходившее.
– Алекс… они тронули Алекса!
Голова исчезла. Я бросился к двери, но Бенни уже скрылся с глаз. Ребята Китайца Джо всегда ходят по городу парами. Через десять минут он все узнает.
– Зарегистрируй его, – приказал я Неду. – Теперь уже ничего не изменишь, даже если его отпустить. Настал конец света.
Бормоча что-то себе под нос, вошел Фэтс. Увидев меня, он ткнул большим пальцем в сторону двери.
– Что случилось? Коротышка Бенни Жук выскочил отсюда будто из горящего дома. Он чуть не разбился, когда рванул на своей машине.
Потом Фэтс увидел Алекса в наручниках и мгновенно протрезвел. Он размышлял с открытым ртом ровно секунду и принял решение. Совершенно твердой походкой он подошел к начальнику и положил на стол перед ним свой полицейский значок.
– Я старый человек и пью слишком много, чтобы быть полицейским. Поэтому я ухожу из полиции. Если там стоит в наручниках один известный мне человек, то я и дня не проживу, оставшись здесь.
– Крыса! – с болью процедил сквозь стиснутые зубы начальник. – Бежишь с тонущего корабля. Крыса!
– Хана, – сказал Фэтс и ушел.
Теперь уже начальник ни на что не обращал внимания.
Он и глазом не моргнул, когда я взял значок Фэтса со стола. Не знаю, почему я сделал это – видно, считал, что так будет справедливо. Нед заварил всю кашу, и я был настолько зол, что мне хотелось видеть, как он ее будет расхлебывать. На его грудной пластинке было два колечка, и я не удивился тому, что булавка значка пришлась точно по ним.
– Ну вот, теперь ты настоящий полицейский.
От моих слов так и разило сарказмом. А мне надо было знать, что роботы к сарказму нечувствительны. Нед принял мое заявление за чистую монету.
– Это очень большая честь не только для меня, но и для всех роботов. Я сделаю все, чтобы выполнить свой долг перед полицией.
Герой в жестяных подштанниках. Слышно было, как от радости у него в брюхе гудели моторчики, когда он регистрировал Алекса.
Если бы со всем прочим не было так скверно, я бы наслаждался этим зрелищем. В Неда было вмонтировано столько полицейского снаряжения, сколько его никогда не имел весь найнпортский участок. Из бедра у него выскочила чернильная подушечка, к которой он ловко приложил пальцы Алекса, прежде чем сделать их отпечатки на карточке. Потом он отстранил арестованного на вытянутую руку, в животе у него что-то защелкало. Нед повернул
Алекса в профиль, и из щели вывалились две моментальные фотографии. Они были прикреплены к карточке, куда вписывались подробности ареста и тому подобные сведения. Нед продолжал действовать, а я заставил себя отойти.
Надо было подумать о более важных вещах.
Например, как остаться в живых.
– Придумал что-нибудь, начальник?
В ответ послышался только стон, и я больше к шефу не приставал. Потом пришел Билли, остаток нашего полицейского подразделения. Я ему коротко обрисовал ситуацию. Либо по глупости, либо от храбрости он решил остаться, и я был горд за мальчика. Нед упрятал под замок арестанта и начал приборку.
И в это самое время вошел Китаец Джо.
Хотя мы ждали его появления, оно все равно потрясло нас. Он привел с собой банду дюжих и свирепых громил, которые толпились у дверей, похожие на команду раздобревших бейсболистов. Китаец Джо стоял впереди, пряча руки в рукавах своего длинного мандаринского халата.
Азиатское лицо его было невозмутимо. Он не терял времени на разговоры с нами, просто дал слово одному из своих ребят.
– Очистите место. Скоро явится сюда новый начальник полиции, и я не хочу, чтобы тут торчала всякая шантрапа.
Я разозлился. Пусть я люблю брать взятки, но я всетаки полицейский. Мне платит жалованье не какой-нибудь дешевенький бандитик. Меня тоже интересовала личность
Китайца Джо. Я и прежде пытался подобрать к нему ключи, но узнать ничего не удалось. Любопытство все еще не покинуло меня.
– Нед, присмотрись-ка к этому китайцу в вискозном купальном халате и скажи мне, кто он.
Ну и быстро же работает эта электроника! Нед выпалил ответ мгновенно, будто репетировал его несколько недель:
– Это псевдоазиат, использующий естественную желтоватость своей кожи и усиливающий ее цвет краской. Он не китаец. Глаза у него оперированы, еще видны шрамы.
Это, несомненно, было сделано, чтобы попытаться скрыть свою подлинную внешность, но обмер его ушей по Бертильону и другие признаки дают возможность установить личность. Он срочно разыскивается международной полицией, его настоящее имя…
Китаец Джо пришел в ярость – и было отчего.
– Эта штука… этот жестяной громкоговоритель… Мы слышали о нем, мы о нем тоже позаботились!
Толпа отшатнулась и очистила помещение, и я увидел в дверях малого, который, стоя на одном колене, целился из базуки. Наверно, собирался стрелять специальными противотанковыми ракетами. Это я успел подумать, прежде чем он нажал на спуск.
Может быть, такой ракетой и можно подбить танк. Но не робота. Полицейского робота по крайней мере. Нед пригнулся, и задняя стена разлетелась на куски. Второго выстрела не было. Нед сомкнул руки на стволе орудия, и он стал похож на старую, мятую водосточную трубу.
Тогда Билли решил, что человек, стреляющий из базуки в полицейском участке, нарушает закон, и пустил в ход дубинку. Я присоединился к нему, потому что не хотел отказываться от потехи. Нед очутился где-то внизу, но я был уверен, что он за себя постоит.
Раздалось несколько приглушенных выстрелов, и ктото вскрикнул. После этого никто не стрелял, потому что у нас получилась куча мала. Громила по имени Бруклинский Эдди ударил меня по голове рукояткой пистолета, а я расквасил ему нос.
После этого все как бы заволокло туманом. Но я отлично помню, что потасовка продолжалась еще некоторое время.
Когда туман рассеялся, я сообразил, что на ногах остался я один. Вернее, я опирался о стенку. Хорошо, что было к чему прислониться.
Нед вошел в дверь с измолоченным Бруклинским Эдди на руках. Хотелось думать, что именно я его так отделал.
Запястья Эдди были скованы наручниками. Нед бережно положил его рядом с телами других головорезов – я вдруг заметил, что все были в наручниках. Я еще полюбопытствовал, изготавливает ли Нед эти наручники по мере надобности или у него в полой ноге имеется порядочный запас. В нескольких шагах от себя я увидел стул. Я сел, и мне полегчало.
Кругом все было испачкано кровью, и, если бы некоторые из громил не стонали, я бы подумал, что это трупы.
Вдруг я заметил настоящий труп. Пуля попала человеку в грудь, большая часть пролитой крови принадлежала ему.
Нед покопался в телах и вытащил Билли. Он был без сознания. На лице застыла широкая улыбка, в кулаке зажаты жалкие остатки дубинки. Некоторым людям нужно очень мало для счастья. Пуля попала ему в ногу, и он не пошевельнулся, даже когда Нед разорвал на нем штанину и наложил повязку.
– Самозваный Китаец Джо и еще один человек бежали в машине, – доложил Нед.
– Пусть это тебя не беспокоит, – с усилием прохрипел я. – Он от нас не уйдет.
И только тут я сообразил, что начальник все еще сидит в кресле в той же самой позе, в какой он сидел, когда началась заваруха. Все с тем же отсутствующим видом. И, только начав разговаривать с ним, я понял, что Алонцо
Крейг, начальник полиции Найнпорта, мертв.
Убит одним выстрелом. Из маленького пистолетика.
Пуля прошла сквозь сердце, кровь пропитала одежду. Я
прекрасно знал, кто стрелял из пистолета. Маленького пистолета, который удобно прятать в широких китайских рукавах.
Усталость и дурман как рукой сняло. Осталась одна злость. Пусть начальник не был самым умным и самым честным человеком в мире. Но он заслуживал лучшей участи. Отправлен на тот свет грошовым гангстером, который вообразил, что ему стали поперек дороги!
И тотчас я понял, что мне надо принять важное решение. Билли вышел из строя. Фэтс удрал, из найнпортской полиции остался я один. Чтобы выбраться из этой заварухи, мне надо было только выйти за дверь и не останавливаться. И я оказался бы в сравнительной безопасности.
Рядом жужжал Нед, подбирая громил и разнося их по камерам.
Не знаю, что повлияло на мое решение. Возможно, синяя спина Неда, маячившая перед глазами. Или мне просто надоело увиливать? Внутренне я был подготовлен к этому решению. Я осторожно отцепил золотой значок начальника и прицепил его на место своего, старого.
– Новый начальник полиции Найнпорта, – сказал я, ни к кому не обращаясь.
– Да, сэр, – проходя мимо, сказал Нед. Он опустил арестованного на пол, отдал мне честь и снова взялся за работу. Я тоже отдал ему честь.
Больничная машина умчалась с ранеными и покойниками. Я злорадно игнорировал любопытные взгляды санитаров. После того как врач забинтовал мне голову, все встало на свое место. Нед вымыл пол. Я проглотил пять таблеток аспирина и ждал, когда перестанет колотиться сердце и я обрету способность обдумать, как быть дальше.
Собравшись с мыслями, я понял, что двух мнений быть не может. Это очевидно. Решение пришло мне в голову, когда я перезаряжал пистолет.
– Пополни запас наручников, Нед. Мы идем.
Как и всякий хороший полицейский, он не задавал вопросов. Уходя, я запер дверь и отдал ему ключ.
– На. Весьма вероятно, что к вечеру, кроме тебя, других полицейских в Найнпорте не будет.
Я ехал к дому Китайца Джо как можно медленней.
Пытался найти другой выход из положения. Его не было.
Убийство совершено, и притягивать к ответу надо было именно Джо. А для этого необходимо его арестовать.
Из предосторожности я остановился за углом и коротко проинструктировал Неда.
– Эта комбинация бара и воровского притона является исключительной собственностью того, кого мы будем называть Китайцем Джо до тех пор, пока ты не выберешь времени сказать мне, кто он на самом деле. С меня хватит, надоело! Нам надо войти, разыскать Джо и передать его в руки правосудия. Ясно?
– Ясно, – суховатым профессорским тоном ответил
Нед. – Но не проще было бы арестовать его сейчас, когда он отъезжает от дома вон в той машине, а не ждать его возвращения?
Машина мчалась по боковой улице со скоростью шестьдесят миль в час. Когда она проезжала мимо нас, я увидел Джо, сидевшего на заднем сиденье.
– Останови их! – закричал я главным образом самому себе, потому что сидел за рулем. Я одновременно нажал на акселератор и рванул рычаг переключения скоростей, но толку от этого не было никакого.
Остановил их Нед. Крик мой прозвучал как приказ.
Нед высунул голову наружу, и я сразу понял, почему большая часть приборов смонтирована у него в туловище.
Наверно, мозг тоже. В голове, разумеется, оставалось мало места, раз там была запрятана такая пушка.
Семидесятимиллиметровое безоткатное орудие. Пластинка, прикрывавшая то место, где у людей бывает нос, скользнула в сторону, и показалось большое жерло. Здорово сделано, если подумать. Точно меж глаз, чтобы было удобней целиться. Орудие помещено высоко, лазить за ним не надо.
Бум! Бум! Я чуть не оглох. Разумеется, Нед был прекрасный стрелок – я тоже был бы прекрасным, имей я вычислительную машину вместо мозга. Он продырявил задние скаты, и машина, зашлепав по мостовой, встала. Я
медленно выбирался наружу, а Нед рванулся вперед со спринтерской скоростью. На этот раз они даже не пытались бежать. Остатки их мужества улетучились, когда они увидели меж глаз у Неда дымящееся жерло орудия. Роботы аккуратны в этом отношении, и, надо думать, он нарочно не убрал торчавшую пушку. Видимо, у них в школе роботов проходят психологию.
В машине сидели три человека, и все они задрали руки вверх, как в последнем кадре ковбойского фильма. Пол машины был уставлен любопытными чемоданчиками.
Сопротивления никто не оказал.
Китаец Джо только заворчал, когда Нед сказал мне, что настоящее имя Джо – Стэнтин и что на Эльмире его ждут не дождутся, чтобы посадить на электрический стул.
Я обещал Джо-Стэнтину, что буду иметь удовольствие доставить его на место в тот же день. Пусть он и не пытается увильнуть от наказания при помощи местных властей. Остальных будут судить в Канал-сити.
День был очень хлопотный.
С тех пор наступило спокойствие. Билли выписался из больницы и носит мои сержантские нашивки. Даже Фэтс вернулся, хотя теперь он время от времени трезв и избегает встречаться со мной взглядом. Дел у нас мало, так как город наш стал не только тихим, но и честным.
Нед по ночам патрулирует по городу, а днем работает в лаборатории и подшивает бумаги. Возможно, это не по правилам, но Неду, кажется, все равно. Он замазал все пулевые царапины и непрерывно начищает значок. Не знаю, может ли быть счастливым робот, но Нед, видимо, счастлив. Могу поклясться, что иногда он жужжит что-то себе под нос. Но, разумеется, это шумят моторы и прочие механизмы.
Если задуматься, то мы, наверно, создали прецедент,
сделав робота полноправным полицейским. С завода еще никто не приезжал, и я не знаю, первые мы или нет.
Скажу еще кое-что. Я не собираюсь оставаться навечно в этом захудалом городишке. Приискивая новую службу, я уже написал кое-кому.
Поэтому некоторые будут очень удивлены, узнав, кто станет их новым начальником полиции после моего отъезда.
Артур КЛАРК
СТРЕЛА ВРЕМЕНИ
Река пересохла, и озеро почти совсем обмелело, когда чудовище, спустившись по сухому руслу, стало пробираться по топкой безжизненной равнине. Далеко не везде болото было проходимым, но и там, где грунт был потверже, массивные лапы под тяжестью огромной туши увязали более чем на фут. Временами чудовище останавливалось и, быстро, по-птичьи поворачивая голову, осматривало равнину. В эти минуты оно еще глубже погружалось в податливую почву, и через пятьдесят миллионов лет люди по его следам сумели определить продолжительность этих остановок.
Вода не вернулась, и палящее солнце превратило глину в камень. Затем пустыня укрыла следы защитным слоем песка. И лишь потом – миллионы лет спустя – сюда пришел Человек.
– Как, по-твоему, – проревел Бартон, пытаясь перекричать грохот, – уж не потому ли профессор Фаулер стал палеонтологом, что ему нравится играть с отбойным молотком? Или он только потом пристрастился к этому занятию?
– Не слышу! – крикнул в ответ Дэвис, облокачиваясь на лопату с видом заправского землекопа. Он с надеждой поглядел на часы. – Давай скажем, что пора обедать. Он ведь снимает часы, когда возится с этой штукой.
– Номер не пройдет, – прокричал Бартон, – он давно раскусил нас и всегда накидывает минут десять. Но попытка – не пытка. Все лучше, чем это чертово ковыряние.
Оживившись, палеонтологи положили лопаты и направились к шефу. Когда они подошли, профессор выключил перфоратор, и наступила тишина, нарушаемая только пыхтением компрессора неподалеку.
– Пора возвращаться в лагерь, профессор, – сказал Дэвис, небрежным жестом заложив за спину руку с часами, –
вы не знаете, как ругается повар, когда мы опаздываем.
Профессор Фаулер, член Королевской академии наук, обладатель множества научных званий, безуспешно попытался стереть со лба коричневую грязь. Мало кто из случайных посетителей раскопок мог узнать в этом загорелом, мускулистом полуобнаженном рабочем, склонившемся над излюбленным отбойным молотком, вицепрезидента Палеонтологического общества.
Почти месяц ушел на расчистку песчаника, покрывавшего окаменелую поверхность глинистой равнины. Расчищенный участок в несколько сот квадратных футов представлял собой как бы моментальный снимок прошлого, пожалуй, наилучший из всех известных палеонтологам. Когда-то в поисках исчезающей воды сюда переселились десятки птиц и пресмыкающихся. С тех пор прошло несколько геологических эпох, от этих существ ничего не осталось, но следы их сохранились навечно.
Почти все следы удалось распознать, кроме одного, принадлежавшего существу, неизвестному науке. Это был зверь весом в двадцать – тридцать тонн, и профессор Фаулер шел по следам пятидесятимиллионолетней давности с азартом охотника за крупной дичью. Кто знает, возможно,
ему даже удастся настичь чудовище: в те времена равнина была предательски зыбким болотом, и, быть может, кости неизвестного ящера покоятся в одной из природных ловушек где-нибудь совсем рядом.
Работа на раскопках была утомительной и кропотливой. Только самый верхний слой мог быть расчищен землеройными машинами; все остальное приходилось делать вручную. У профессора Фаулера было достаточно оснований никому не доверять отбойный молоток: малейшая оплошность могла стать роковой.
Потрепанный экспедиционный джип, трясясь и подпрыгивая на ухабах скверной дороги, был уже на полпути от лагеря, когда Дэвис заговорил о том, что не давало им покоя с самого начала работ.
– Сдается мне, наши соседи по долине не очень-то нас жалуют, а вот почему – ума не приложу. Казалось бы, мы в их дела не лезем, так могли бы и пригласить нас к себе хотя бы ради приличия.
– А может, это и впрямь военная лаборатория, – высказал Бартон вслух общее мнение.
– Не думаю, – мягко возразил профессор Фаулер, – видите ли, я только что получил от них приглашение. Завтра я туда отправлюсь.
Если это сообщение не произвело впечатления разорвавшейся бомбы, то лишь благодаря хорошо налаженной системе «домашнего шпионажа». Несколько секунд Дэвис размышлял над этим подтверждением своих догадок, а затем, слегка откашлявшись, спросил:
– А что, они больше никого не приглашают?
Намек был столь прозрачен, что профессор Фаулер улыбнулся.
– Нет, приглашение адресовано только мне. Послушайте, ребята, я понимаю, что вы сгораете от любопытства, но, честное слово, я знаю не больше вашего. Если завтра что-либо прояснится, я вам обо всем расскажу. Но по крайней мере теперь хоть известно, кто заправляет хозяйством.
Помощники навострили уши.
– Кто же? – спросил Бартон. – Я полагаю, Комиссия по атомной энергии?
– Возможно, что и так, – ответил профессор, – во всяком случае, возглавляют все Гендерсон и Барнс.
На сей раз бомба попала в цель: Дэвис даже съехал с дороги. Впрочем, принимая во внимание качество дороги, последнее обстоятельство не имело ровно никакого значения.
– Гендерсон и Барнс? В этой богом забытой дыре?
– Вот именно, – весело отозвался профессор, – приглашение исходит от Барнса. Он выражает сожаление, что не имел возможности пригласить меня раньше, и просит заглянуть к ним на часок.
– А он не пишет, чем они занимаются?
– Ни слова.
– Барнс и Гендерсон, – задумчиво проговорил Бартон.
– Я ничего о них не знаю, разве только то, что они физики.
В какой области они подвизаются?
– Они оба крупнейшие специалисты по физике низких температур, – ответил Дэвис. – Гендерсон много лет был директором Кавендишской лаборатории. Недавно он опубликовал в «Nature» кучу статей. Все они – если я только правильно припоминаю – касались проблемы гелия
II.
Бартон и глазом не повел; он недолюбливал физиков и никогда не упускал случая сказать об этом.
– Не имею ни малейшего представления, что за штука этот гелий II, – самодовольно заявил он, – более того, я совсем не уверен, что горю желанием узнать.
Это был выпад против Дэвиса, который когда-то – в минуту слабости, как он сам любил говорить, – получил ученую степень по физике. «Минута» растянулась на несколько лет, пока Дэвис кружным путем не пришел в палеонтологию, но физика оставалась его первой любовью.
– Гелий II – разновидность жидкого гелия, существующая только при температуре на несколько градусов выше абсолютного нуля. Он обладает совершенно удивительными свойствами, однако это никоим образом не объясняет, почему вдруг два ведущих физика оказались в этом уголке земного шара.
Они въехали в лагерь. Лихо подкатив к стоянке, Дэвис, как всегда, рывком затормозил машину. Однако на сей раз джип стукнулся о стоящий впереди грузовик сильнее обычного, и Дэвис сокрушенно покачал головой.
– Покрышки совсем износились. Хотел бы я знать, когда пришлют новые?
– Прислали сегодня утром вертолетом вместе с отчаянной запиской от Эндрюса: он надеется, что тебе их хватит хотя бы на полмесяца.
– Отлично! Сегодня же вечером я их и поставлю.
Профессор Фаулер, шедший впереди, остановился.
– Зря вы так торопитесь, Джим, – мрачно заметил он, –
опять на обед солонина.
Не следует думать, что в отсутствие шефа Бартон и
Дэвис работали меньше обычного. Напротив, им приходилось туго, поскольку местные рабочие во время отлучек профессора доставляли вдвое больше хлопот. Тем не менее они как-то умудрялись выкраивать для болтовни значительно больше времени.
Сразу же после приезда в экспедицию профессора
Фаулера молодые палеонтологи заинтересовались необычными сооружениями, расположенными в пяти милях от места раскопок. Это была явно какая-то исследовательская лаборатория. Дэвис без труда распознал в высоких башнях атомные силовые установки. Уже одно это обстоятельство красноречиво свидетельствовало о важности исследований, хотя ничего и не говорило об их цели. На земном шаре было несколько тысяч таких установок, и все они обслуживали проекты первостепенной важности.
Можно было придумать десятки причин, побудивших двух крупных ученых уединиться в этом глухом углу: чем опаснее исследования в области ядерной физики, тем дальше от цивилизации стараются их проводить. Некоторые исследования вообще отложили до создания орбитальных лабораторий. И все же было странно: зачем проводить эту работу, в чем бы она ни заключалась, в непосредственной близости от крупнейших палеонтологических раскопок? Впрочем, может, это просто случайное совпадение – ведь до сих пор физики не проявляли ни малейшего интереса к своим соседям и соотечественникам.
Дэвис старательно расчищал один из гигантских следов, а Бартон заливал жидкой смолой уже расчищенные отпечатки. Работая, они бессознательно прислушивались, не возвестит ли шум мотора о приближении джипа. Профессор Фаулер обещал захватить их на обратном пути; остальные машины были в разгоне, и им вовсе не улыбалось тащиться добрых две мили под палящими лучами солнца.
Кроме того, им не терпелось поскорее узнать новости.
– Как ты думаешь, – вдруг спросил Бартон, – сколько народу у них там работает?
Дэвис выпрямился.
– Судя по размерам здания, человек десять.
– Тогда, должно быть, это не государственный проект, а их личная затея?
– Возможно, хотя им все равно необходима серьезная финансовая поддержка. Впрочем, при такой научной репутации, как у Гендерсона и Барнса, получить ее не составляет труда.
– Везет этим физикам! – сказал Бартон. – Стоит им только убедить какое-нибудь военное ведомство, что они вот-вот изобретут новое оружие, как им сразу же отваливают пару миллиончиков.
Он произнес это с горечью: как и у большинства ученых, его отношение к этому вопросу было вполне определенным. Бартону доводилось отстаивать свои взгляды более решительно: он был квакером и в качестве принципиального противника военной службы весь последний год войны провел в дискуссиях с военными трибуналами, которые совсем не разделяли его убеждений.
Шум мотора прервал их беседу, и они побежали навстречу профессору.
– Ну как? – хором прокричали они.
Профессор Фаулер задумчиво посмотрел на них; лицо его хранило абсолютную непроницаемость.
– Удачный был денек? – спросил он наконец.
– Имейте совесть, шеф! – запротестовал Дэвис. – Выкладывайте начистоту, что вам удалось разузнать.
Профессор выбрался из машины и почистил рукой костюм.
– Простите меня, коллеги, – смущенно произнес он, – я ничего не могу сказать вам, ровным счетом ничего.
Раздались вопли протеста, но профессор был непреклонен.
– Я провел очень интересный день, но дал слово молчать. Не могу сказать, что я понял толком, чем они занимаются; знаю только, что это целая революция в науке, пожалуй, по значимости не уступающая открытию атомной энергии. Впрочем, завтра к нам приедет доктор Гендерсон, посмотрим, что вам удастся выкачать из него.
От разочарования оба палеонтолога несколько секунд не могли вымолвить ни слова. Бартон первым пришел в себя.
– Ладно, но почему вдруг такой интерес к нашей работе? На мгновение Фаулер задумался.
– Да, моя поездка не была простым визитом вежливости, – признался он, – меня просили помочь. А теперь еще один вопрос, и вам придется топать в лагерь пешком.
Доктор Гендерсон прибыл на раскопки после полудня.
Это был полный, немолодой мужчина, одетый несколько необычно: единственную видимую часть его туалета составлял ослепительно белый лабораторный халат. Впрочем, в жарком климате этот эксцентричный наряд обладал несомненными достоинствами.
Поначалу палеонтологи разговаривали с Гендерсоном вежливо-холодным тоном: они были обижены и не скрывали своих чувств. Но Гендерсон расспрашивал их с таким неподдельным интересом, что вскоре они оттаяли, и Фаулер предоставил им возможность показывать гостю раскопки, а сам пошел к рабочим.
Картины давно минувших эпох произвели на физика глубокое впечатление. Битый час ученые водили его по котловану, рассказывая о существах, оставивших здесь свои следы, и строя предположения о будущих находках.
В сторону от котлована отходила широкая траншея: заинтересовавшись следами чудовища, профессор Фаулер приостановил все другие работы. Затем траншея прерывалась: экономя время, профессор копал вдоль следов отдельные ямы. Неожиданно последний шурф оказался пустым. Стали копать кругом и выяснили, что гигантский ящер неожиданно свернул в сторону.
– Тут-то и начинается самое интересное, – рассказывал
Бартон слегка одуревшему от впечатлений физику. – Помните то место, где ящер останавливался и, видимо, оглядывался кругом? Так вот, похоже, он что-то углядел и припустился бежать в новом направлении, об этом можно судить по расстоянию между следами.
– Вот уж никогда бы не подумал, что эти твари умели бегать!
– Вряд ли это выглядело особенно грациозно, но при шаге в пятнадцать футов можно развить приличную скорость. Мы постараемся следовать за ним, сколько сможем.
Кто знает, вдруг нам удастся обнаружить то, за чем он погнался. Мне кажется, профессор Фаулер мечтает найти утоптанное поле битвы с разбросанными по нему костями жертвы. Вот все рты разинут!
– Картина в духе Уолта Диснея, – улыбнулся Гендерсон. Но Дэвис был настроен менее оптимистично.
– Ни за кем он не гнался, просто жена позвала его домой. Наша работа на редкость неблагодарная; кажется, ты уже на пороге открытия, и вдруг все идет насмарку. То пласт оказывается размытым, то все покорежено из-за землетрясения, а то – что совсем обидно! – какой-нибудь идиот, сам того не подозревая, расколошматит вдребезги ценнейшую находку.
– Могу вам только посочувствовать, – кивнул Гендерсон, – физику легче. Он знает, что если ответ существует, то рано или поздно он его найдет.
Он сделал многозначительную паузу и заговорил, тщательно взвешивая каждое слово:
– Было бы куда проще, не правда ли, если бы вы могли увидеть прошлое своими глазами, а не восстанавливать его шаг за шагом при помощи кропотливых и неточных методов. За два месяца вы прошли по этим следам ярдов сто, и все же они могут завести вас в тупик.
Последовало длительное молчание.
– Вполне естественно, доктор Гендерсон, что нас весьма интересуют ваши исследования, – задумчиво проговорил Бартон, – а поскольку профессор Фаулер отмалчивается, мы стали строить самые невероятные догадки. Не хотите ли вы этим сказать, что…
– Не ловите меня на слове, – торопливо прервал его физик, – просто я грезил наяву. Что же касается наших исследований, то они еще очень далеки от завершения. Когда придет время, вы обо всем узнаете. Мы ни от кого не таимся, но мы вступили в совершенно неизведанную область, и, пока не обретем почвы под ногами, нам лучше помолчать. Держу пари, что если бы сюда явились геологи, то профессор Фаулер гонялся бы за ними с киркой в руках!
– Вот и проиграете, – улыбнулся Дэвис, – скорее всего он запряг бы их в работу! Но я вполне вас понимаю, сэр.
Будем надеяться, что ждать придется не так уж долго.
Этой ночью свет в палатке палеонтологов горел дольше обычного. Бартон не скрывал своих сомнений, но Дэвис уже успел построить на основе нескольких замечаний
Гендерсона целую замысловатую теорию.
– Ведь это все объясняет. И прежде всего – почему они выбрали именно это место. Иначе их выбор просто бессмыслен. Мы здесь знаем уровень почвы за последнюю сотню миллионов лет с точностью до дюйма и можем датировать любое событие с ошибкой менее одного процента. На Земле нет другого такого уголка, геологическая история которого была бы изучена столь подробно; наши раскопки – самое подходящее место для такого эксперимента.
– Ты и в самом деле считаешь, что возможно – пусть хотя бы только теоретически – построить машину, способную видеть прошлое?
– Лично я даже не могу представить себе принцип ее действия. Но я не рискну утверждать, что это невозможно, в особенности для таких ученых, как Барнс и Гендерсон.
– Гм. Я бы предпочел более убедительный довод. Послушай, а нельзя ли проверить твои догадки? Как насчет тех статей в «Nature»?
– Я уже послал заказ в библиотеку колледжа. Мы получим их в конце недели. В работе ученого всегда существует определенная преемственность; быть может, статьи нам что-либо подскажут.
Но статьи лишь усилили их недоумение. Дэвис не ошибся: почти все они касались необычных свойств гелия
II.
– Это поистине фантастическое вещество, – говорил
Дэвис. – Если бы жидкости вели себя так при обычной температуре, мир бы перевернулся. Начнем с того, что у него совершенно отсутствует вязкость. Сэр Джордж Дарвин однажды сказал, что если бы океан состоял из гелия II, то кораблям не понадобилось бы ни паруса, ни машины.
Достаточно было бы оттолкнуть корабль от берега, а на другом берегу подставить что-нибудь мягкое. Вот только одна загвоздочка: в самом начале пути гелий потек бы через борт, вверх по обшивке, и буль… буль… буль… посудина затонула…
– Очень забавно, – заметил Бартон, – но при чем тут твоя драгоценная теория?
– Пока ни при чем, – признал Дэвис, – но послушай: дальше – больше. Два потока гелия II могут течь сквозь одну и ту же трубу одновременно в противоположных направлениях: один поток как бы проходит сквозь другой.
– Это уже выше моего понимания; все равно, как если бы я бросил камень одновременно вперед и назад. Держу пари, что объяснение этой штуки не обошлось без теории относительности.
Дэвис продолжал внимательно читать статью.
– Объяснение очень сложное, и я не буду притворяться, что понимаю его целиком. Оно основано на предположении, что жидкий гелий в определенных условиях может обладать отрицательной энтропией.
– Мне это ни о чем не говорит, я и положительную энтропию никогда не мог уразуметь.
– Энтропия – это мера распределения тепла во Вселенной. В самом начале, когда вся энергия была сконцентрирована в звездах, энтропия была минимальной. Когда во всем мире установится одинаковая температура, энтропия достигнет максимума. Вселенная будет мертва. В мире будет полно энергии, но ее не удастся использовать.
– Это еще почему?
– По той же причине, по какой вся вода в спокойном океане не способна привести в движение турбины гидроэлектростанции, а крохотное горное озерцо успешно с этим справляется. Необходима разность уровней.
– Теперь понял. Я даже припоминаю, что кто-то назвал энтропию стрелой времени.
– Верно, это сказал Эддингтон. Дело в том, что любые часы, ну хотя бы маятниковые, можно заставить идти вспять. А энтропия – это улица с односторонним движением; с течением времени энтропия может только увеличиваться. Отсюда и выражение «стрела времени».
– Но тогда отрицательная энтропия… Черт меня побери! С минуту друзья молча смотрели друг на друга. Затем приглушенным голосом Бартон спросил:
– А что об этом пишет Гендерсон?
– Вот фраза из его последней статьи: «Открытие отрицательной энтропии приводит к совершенно новым революционным представлениям и в корне меняет привычную картину мира. Этот вопрос будет подробнее рассмотрен в следующей статье».
– И что же?
– В том-то вся и штука: следующей статьи не было.
Тому есть два объяснения. Во-первых, редактор журнала отказался публиковать статью. Это предположение можно сразу отбросить. Во-вторых, Гендерсон так и не написал следующей статьи, ибо новые представления оказались чересчур революционными.
– Отрицательная энтропия – отрицательное время, –
вслух размышлял Бартон, – звучит невероятно, а все-таки, быть может, и впрямь существует теоретическая возможность заглянуть в прошлое…
– Придумал! – воскликнул Дэвис. – Выложим завтра профессору все наши предположения и посмотрим, как он будет реагировать. А сейчас, пока у меня еще не началось воспаление мозга, я намерен лечь спать.
Спал он плохо. Ему снилось, что он шагает по пустынной дороге, и ни спереди, ни сзади, сколько видит глаз, дороге нет конца. Так он идет миля за милей и вдруг натыкается на дорожный указатель. Указатель поломан, и его стрелки лениво вращаются на ветру. Он пытается разобрать надписи. На одной стрелке написано «В будущее», на другой – «В прошлое».
Им так и не удалось застать профессора Фаулера врасплох. Ничего удивительного – после декана он был лучшим игроком в покер во всем колледже. Пока Дэвис излагал свою теорию, профессор бесстрастно разглядывал взволнованных молодых людей.
– Завтра я снова поеду туда и расскажу Гендерсону о ваших изысканиях. Может, он сжалится над вами, а может, мне самому удастся узнать что-нибудь новенькое. А
сейчас – за работу.
Но волнующая загадка настолько овладела всеми помыслами Дэвиса и Бартона, что они совершенно потеряли интерес к работе. И хотя они добросовестно занимались своим делом, их неотступно преследовала мысль, что трудятся они впустую. Если так, они были бы рады. Подумать только: можно будет заглянуть в прошлое, прокрутить в обратном порядке всю историю Земли, раскрыть великие загадки минувшего, увидеть зарождение жизни и проследить ход эволюции от амебы до человека!
Нет, это слишком прекрасно, чтобы можно было поверить! Придя к такому выводу, они возвращались к скребку и лопате, но не проходило и получаса, как у них мелькала мысль: а вдруг? И все повторялось сначала.
Из второй поездки профессор Фаулер возвратился потрясенный и задумчивый. Единственно, что им удалось из него вытянуть, – это заявление, что Гендерсон выслушал выдвинутую ими теорию и похвалил их способности к дедукции.
Вот и все. Но для Дэвиса и этого было вполне достаточно, хотя Бартона по-прежнему одолевали сомнения.
Прошло несколько недель, и Дэвису удалось убедить его в своей правоте. Профессор Фаулер проводил все больше времени с Гендерсоном и Барнсом; порой палеонтологи не видели его по нескольку дней. Казалось, он утратил интерес к раскопкам и все руководство ими переложил на Бартона, который мог теперь возиться с отбойным молотком сколько душе угодно.
Каждый день они продвигались по следам чудовища еще на два-три ярда. Судя по характеру следов, ящер мчался огромными прыжками и, казалось, должен был вот-вот настичь свою жертву. Еще несколько дней, и они раскроют чудом сохранившиеся свидетельства трагедии, совершившейся в этих местах пятьдесят миллионов лет назад. Однако сейчас это не имело никакого значения; из намеков профессора они заключили, что решающего эксперимента следует ждать со дня на день. Денек-другой, пообещал им профессор, и, если все пойдет хорошо, их ожиданию наступит конец. Сверх этого они не смогли вытянуть из него ни слова.
Раз или два их навещал Гендерсон. Бесспорно, нервное напряжение наложило на него отпечаток. Было видно, что он умирает от желания поговорить о своей работе и лишь усилием воли заставляет себя молчать. Друзья не знали, восхищаться ли им подобным самообладанием или сожалеть о нем. У Дэвиса сложилось впечатление, что на сохранении тайны настаивает Варне; о нем поговаривали, что он еще не опубликовал ни одной работы, не проверив ее предварительно два-три раза. Как ни бесила их подобная осторожность, ее вполне можно было понять.
В то утро Гендерсон заехал за профессором Фаулером; как назло, у самых раскопок его машина сломалась. Впрочем, неудачниками оказались Дэвис и Бартон, поскольку профессор решил отвезти Гендерсона в Джипе, предоставив своим помощникам возможность прогуляться в обеденный перерыв до лагеря и обратно пешком. Но они были даже готовы примириться с этой участью, если только их ожидание и в самом деле – как им намекнули – близилось к концу.
Фаулер и Гендерсон сидели в джипе, а палеонтологи стояли рядом. Прощание было натянутым и неловким, казалось, все читали чужие мысли. Наконец, Бартон с присущей ему прямотой сказал:
– Что ж, док, поскольку сегодня решающий день позвольте пожелать вам удачи. Надеюсь получить от вас карточку бронтозавра на память.
Гендерсон уже настолько привык к подобным подкалываниям, что почти не обращал на них внимания Он улыбнулся, без особой, впрочем, радости, и заметил:
– Ничего не обещаю. Мы еще можем здорово сесть в лужу.
Дэвис уныло проверил носком ботинка, хорошо ли накачаны шины. Он обратил внимание, что покрышки были новые, со странным, прежде невиданным зигзагообразным рисунком.
– В любом случае ждем, что вы нам все расскажете. Не то в одну темную ночь мы сами вломимся к вам в лабораторию и раскроем, чем вы там занимаетесь.
– Если вы сумеете разобраться в нашем хаосе, – рассмеялся Гендерсон, – то вы – гении. Но если и в самом деле все пойдет хорошо, то вечером мы устроим маленькое торжество.
– Когда вас ждать обратно, шеф?
– Около четырех. Не хочется заставлять вас шагать пешком еще и к ужину.
– Ладно. Ни пуха ни пера!
Автомобиль скрылся в облаке пыли, оставив у обочины двух молодых людей, задумчиво глядевших ему вслед.
– Если мы хотим быстрее провести время, – промолвил наконец Бартон, – надо приналечь на работу. Пошли.
Бартон орудовал отбойным молотком в самом конце траншеи, протянувшейся от котлована более чем на сто ярдов. Дэвис занимался окончательной расчисткой только что открытых следов. Отпечатки лап чудовища были очень глубокими и далеко отстояли друг от друга. Глядя вдоль траншеи, можно было видеть, как гигантское пресмыкающееся вдруг резко свернуло в сторону и вначале пустилось бежать, а затем поскакало, словно огромный кенгуру. Бартон попробовал мысленно представить себе эту картину: многотонное создание, приближающееся со скоростью экспресса. Что ж, если их догадки справедливы, то в недалеком будущем они не раз смогут любоваться подобным зрелищем. К концу дня они установили рекорд в скорости проходки траншеи. Грунт стал мягче, и Бартон продвигался вперед настолько быстро, что далеко опередил Дэвиса. Поглощенные работой, они забыли обо всем на свете, и только чувство голода вернуло их к действительности. Дэвис первым заметил, что уже поздно, и направился к другу.
– Уже половина пятого, – сказал он, когда утих грохот,
– шеф опаздывает. Я ему не прощу, если он отправился ужинать, вместо того чтобы заехать за нами.
– Подождем еще полчасика, – сказал Бартон, – я догадываюсь, что его задержало. У них перегорела пробка, и они никак не могут ее починить.
Но Дэвис не унимался.
– Черт возьми, неужели нам снова придется идти в лагерь пешком? Поднимусь-ка я на холм и взгляну, не едет ли профессор.
Он оставил Бартона прокладывать траншею в мягком песчанике и вскарабкался на невысокий холмик на берегу древнего русла. Отсюда хорошо просматривалась вся долина, и башни-близнецы лаборатории Гендерсона–Барнса четко выделялись на фоне однообразного пейзажа. Ни одно облачко пыли не выдавало движущейся машины: профессор Фаулер еще не выехал домой.
Дэвис негодующе фыркнул. Топать две мили после такого утомительного дня и вдобавок ко всему опоздать к ужину! Он решил, что ждать бессмысленно, и уже начал спускаться по склону, как вдруг что-то привлекло его внимание, и он еще раз оглядел долину.
Над обеими башнями, единственной видимой ему частью лаборатории, плыло жаркое марево. Он понимал, что башни должны быть горячими, но уж никак не раскаленными! Вглядевшись, он, к своему удивлению, обнаружил, что марево имеет форму полусферы диаметром около четверти мили.
Неожиданно оно взорвалось. Ни ослепительной вспышки, ни пламени – только рябь пробежала по небу и растаяла. Марево исчезло, и одновременно исчезли две высокие башни атомной электростанции.
Чувствуя, как ноги у него стали ватными, Дэвис рухнул на землю и раскрыл рот в ожидании взрывной волны.
Сердце сжалось от предчувствия беды.
Звук взрыва не был впечатляющим; лишь протяжное,
глухое шипение прокатилось и замерло в спокойном воздухе. До затуманенного сознания Дэвиса только сейчас дошло, что грохот отбойного молотка утих – должно быть, взрыв был громче, раз и Бартон услышал его.
Полная тишина. В выжженной солнцем долине не было заметно ни малейшего движения. Дэвис подождал, пока к нему вернулись силы, и, спотыкаясь, побежал вниз.
Бартон, закрыв лицо руками, сидел на дне траншеи.
Когда Дэвис подошел, он поднял голову. Дэвиса испугало выражение его глаз.
– Значит, и ты слышал, – проговорил Дэвис. – Помоему, вся лаборатория взлетела на воздух. Пошли, надо торопиться.
– Что слышал? – тупо спросил Бартон.
Дэвис изумленно уставился на друга. Затем он понял, что Бартон и не мог что-либо слышать: грохот отбойного молотка должен был заглушить все посторонние звуки.
Ощущение катастрофы нарастало с каждой секундой; он чувствовал себя персонажем древнегреческой трагедии, беспомощным перед неумолимым роком.
Бартон поднялся на ноги. Лицо его подергивалось, и
Дэвис понял, что он на грани истерики. Однако, когда он заговорил, голос его прозвучал удивительно спокойно.
– Ну и дураки же мы были! – сказал он. – Объясняли
Гендерсону, что он строит машину, способную ви деть
прошлое. Воображаю, как он потешался над нами.
Машинально Дэвис подошел к краю траншеи и взглянул на скалу, на которую впервые за последние пятьдесят миллионов лет упали солнечные лучи. Без особого удивления он разглядел на поверхности камня отпечаток покрышки со странным зигзагообразным рисунком, привлекшим сегодня утром его внимание. Отпечаток был неглубокий, казалось, он был оставлен джипом, мчавшимся на предельной скорости.
Должно быть, так оно и было, ибо в одном месте отпечатки шин были перекрыты следами чудовища. Следы были очень глубокими, словно огромный ящер готовился к решительному прыжку на отчаянно удирающую добычу.
Урсула ЛЕ ГУИН
ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ
Внутри она была живой, а снаружи мертвой, ее черное лицо было покрыто густой сетью морщин, шрамов и трещин. Она была лысой и слепой. Судороги, искажавшие лицо Либры, были лишь слабым отражением порока, бушевавшего внутри. Там, в черных коридорах и залах, веками бурлила жизнь, порождая кошмарные химические соединения.
– У этой чертовой планеты нелады с желудком, – проворчал Пью, когда купол пошатнулся и в километре к югозападу прорвался пузырь, разбрызгав серебряный гной по закатному небу. Солнце садилось уже второй день. – Хотел бы я увидеть человеческое лицо.
– Спасибо, – сказал Мартин.
– Конечно, твое лицо – человеческое, – ответил Пью. –
Но я так долго на него смотрю, что перестал замечать.
В коммуникаторе, на котором работал Мартин, раздались неясные сигналы, заглохли, и затем уже возникло лицо и голос. Лицо заполнило экран: нос ассирийского царя, глаза самурая, бронзовая кожа и стальные глаза. Лицо было молодым и величественным.
– Неужели так выглядят человеческие существа? –
удивился Пью. – А я и забыл.
– Заткнись, Оуэн. Мы выходим на связь.
– Исследовательская база Либра, вас вызывает корабль
«Пассерина».
– Я Либра. Настройка по лучу. Опускайтесь.
– Отделение от корабля через семь земных секунд.
Ждите.
Экран погас, и по нему побежали искры.
– Неужели они все так выглядят? Мартин, мы с тобой куда уродливее, чем я думал.
– Заткнись, Оуэн.
В течение двадцати двух минут Мартин следил за спускающейся капсулой по приборам, а затем они увидели ее сквозь крышу купола – падающую звездочку на кроваво-красном небосклоне. Она опустилась тихо и спокойно –
в разреженной атмосфере Либры звуки были почти не слышны. Пью и Мартин защелкнули шлемы скафандров, закрыли люки купола и громадными прыжками, словно прославленные артисты балета, помчались к капсуле. Три контейнера с оборудованием снизились с интервалом в четыре минуты в сотне метров друг от друга.
– Выходите, – сказал по рации Мартин, – мы ждем у дверей.
– Выходите, здесь чудесно пахнет метаном, – сказал
Пью.
Люк открылся. Молодой человек, которого они видели на экране, по-спортивному выпрыгнул наружу и опустился на зыбкую пыль и гравий Либры. Мартин пожал ему руку, но Пью не спускал глаз с люка, в котором появился другой молодой человек, таким же прыжком опустившийся на землю, затем девушка, спрыгнувшая точно так же.
Все они были высокие, черноволосые, с такой же бронзовой кожей и носами с горбинкой. Все на одно лицо. Четвертый выпрыгнут из люка…
– Мартин, старик, – сказал Пью, – к нам прибыл клон.
– Правильно, – ответил один из них. – Мы – десятиклон. По имени Джон Чоу. Вы лейтенант Мартин?
– Я Оуэн Пью.
– Альваро Гильен Мартин, – представился Мартин, слегка поклонившись.
Еще одна девушка вышла из капсулы. Она была так же прекрасна, как остальные. Мартин смотрел на нее, и глаза у него были как у перепуганного коня. Он был потрясен.
– Спокойно, – сказал Пью на аргентинском диалекте. –
Это всего-навсего близнецы…
Он стоял рядом с Мартином. Он был доволен собой.
Нелегко встретиться с незнакомцем. Даже самый уверенный в себе человек, встречая самого робкого незнакомца, ощущает известные опасения, хотя он сам об этом может и не подозревать. Оставит ли он меня в дураках?
Поколеблет ли мое мнение о самом себе? Вторгнется ли в мою жизнь? Разрушит ли меня? Изменит? Будет ли он поступать иначе, чем я? Да, конечно. В этом весь ужас: в незнании незнакомца.
После двух лет, проведенных на мертвой планете, причем последние полгода только вдвоем – ты и другой, – после всего этого еще труднее встретить незнакомца, как бы долгожданен он ни был. Ты отвык от разнообразия, потерял способность к контактам, и в сердце рождается первобытное беспокойство, оживают смутные страхи.
Клон, состоящий из пяти юношей и пяти девушек, за две минуты успел сделать то, на что обыкновенным людям потребовалось бы двадцать: поздоровался с Мартином и Пью, окинул взглядом Либру, разгрузил капсулу, приготовился к переходу под купол. Они вошли в купол и наполнили его, словно рой золотых пчел. Они спокойно гудели и жужжали, разгоняя тишину, заполняя пространство медово-коричневым потоком человеческого присутствия.
Мартин растерянно глядел на длинноногих девушек, и те улыбались ему, сразу трое. Их улыбки были теплее, чем у юношей, но не менее уверенные.
– Уверенные в себе, – прошептал Оуэн Пью своему другу. – Вот в чем дело. Подумай о том, каково это – десять раз быть самим собой. Девять раз повторяется каждое твое движение, девять «да» подтверждают каждое твое согласие. Это великолепно!
Но Мартин уже спал. И все Джоны Чоу заснули одновременно. Купол наполнился их тихим дыханием. Они были молоды, они не храпели. Мартин вздыхал и храпел, его обветренное лицо разгладилось в туманных сумерках
Либры. Пью высветлил купол. Внутрь заглянули звезды, среди них Солнце – великое содружество света, клон сверкающих великолепий. Пью спал, и ему снилось, что одноглазый гигант гонится за ним по трясущимся залам ада. Лежа в спальном мешке. Пью следил за тем, как просыпается клон. Они проснулись в течение минуты, за исключением одной пары – юноши и девушки, которые спали, тесно обнявшись, в одном мешке. Увидев это, Пью вздрогнул, словно в нем зародился отзвук землетрясения
Либры. Один из поднявшихся толкнул парочку. Они открыли глаза, и девушка села, сонная, раскрасневшаяся, не прикрыв золотых обнаженных грудей. Одна из сестер чтото шепнула ей на ухо, девушка бросила на Пью быстрый взгляд и исчезла в спальном мешке. Кто-то буквально просверлил капитана гневным взором, с другой стороны донеслось:
– Господи, мы привыкли, чтобы в наши дела не вмешивались. Надеюсь, вы не возражаете, капитан Пью.
– Разумеется, – ответил Пью не совсем искренне.
Ему пришлось встать, он был в трусах и чувствовал себя ощипанным петухом – весь покрылся гусиной кожей.
Никогда еще он так не завидовал загорелому, крепкому
Мартину.
Англия перенесла Великий голод сравнительно легко, выжило больше половины населения – этого удалось добиться строжайшим контролем над распределением пищи.
Спекулянтов и мешочников расстреливали на месте. Делили все до последней крошки. В других, куда более богатых странах большинство умерло, тогда как некоторые благоденствовали и наживались. В Англии умирало меньше и не наживался никто. Выжившие остались худыми, и дети их выросли худыми, и внуки тоже. Выросли поколения низкорослых, хрупких, болезненных людей.
Когда закон очереди за хлебом стал определять судьбу цивилизации, англичане этот закон соблюдали, и выжили не самые сильные, а самые разумные. Оуэн Пью был заморышем. Но он долетел до звезд.
За завтраком один из Джонов сказал:
– Итак, если вы проинструктируете нас, капитан
Пью…
– Зовите меня Оуэном.
– Тогда мы, Оуэн, сможем выработать программу. Что нового на шахте со времени вашего последнего доклада?
Мы ознакомились с вашими сообщениями, когда «Пассерина» была на орбите вокруг пятой планеты
Мартин молчал, хотя шахта была его открытием, его детищем, и все объяснения выпали на долю Пью. Говорить с клоном было трудно. На десяти одинаковых лицах отражался одинаковый интерес, десять голов одинаково склонялись набок. Они даже кивали одновременно.
На форменных комбинезонах Службы исследований были вышиты их имена. Фамилия и первое имя у всех были общими – Джон Чоу, но вторые имена разные. Юношей звали Алеф, Каф, Йод, Джимед и Самед. Девушек – Садэ, Далет, Зайин, Бет и Реш. Пью пытался было называть их этими именами, но тут же от этого отказался: порой он даже не мог различить, кто из них говорит, так одинаковы были их голоса.
Мартин намазал гренок маслом, откусил кусок и наконец вмешался в разговор:
– Вы команда, не так ли?
– Правильно, – ответили два Джона одновременно.
– Ну и команда! Я даже не сразу все понял. А вы можете читать мысли друг друга?
– По правде говоря, мы совсем не умеем читать мыслей, – ответила девушка по имени Зайин. Остальные благожелательно наблюдали за ней. – Мы не знаем ни телепатии, ни чудес. Но наши мысли схожи. Мы одинаково к ним подойдем и одновременно их решим. Объяснить это просто, но обычно объяснений и не требуется. Мы редко не понимаем друг друга. И это помогает нам как команде.
– Еще бы, – сказал Мартин. – За последние полгода мы с Пью семь часов из десяти тратим на взаимное непонимание. Как и большинство людей. А в критических обстоятельствах вы можете действовать как нормаль… как команда, состоящая из отдельных людей?
– Статистика свидетельствует о том, что можем, – с готовностью ответила Зайин.
«Клоны, должно быть, обучены находить лучшие ответы на вопросы, рассуждать толково и убедительно, – подумал Пью. – На всем, что они говорят, лежит печать некоторой искусственности, высокопарности, словно ответы были заранее подготовлены для публики».
– У нас не бывает вспышек озарения, как у одиночек, мы как команда не извлекаем выгоды при обмене идеями.
Но этот недостаток компенсируется другим: клоны создаются из лучшего человеческого материала, от индивидуумов с максимальным коэффициентом интеллектуальности, стабильной генетической структурою и так далее. Мы располагаем большими ресурсами, чем обычные индивидуумы.
– И все это надо умножить на десять. А кто такой, вернее, кем был Джон Чоу? – спросил Мартин.
– Наверняка гений, – вежливо заметил Пью. Клоны явно не были для него новинкой и интересовали его меньше, чем Мартина.
– Он был многогранен, как Леонардо, – сказал Йод. –
Биоматематик, а также виолончелист и подводный охотник, интересовался структурными проблемами и многим другим. Он умер раньше, чем успел разработать свои основные теории.
– И теперь каждый из вас представляет собой какой-то один аспект его разума, его таланта?
– Нет, – ответила Зайин, покачав головой одновременно с несколькими братьями и сестрами. – У всех у нас схожие мысли и устремления, мы все инженеры Службы планетных исследований. Другой клон может быть подготовлен для того, чтобы освоить иные аспекты личности
Чоу. Все зависит от обучения, генетическая субстанция идентична. Все мы – Джон Чоу. Но учат каждого из нас по-разному.
Мартин был потрясен.
– Сколько вам лет?
– Двадцать три.
– Вы сказали, что он умер молодым: значит, половые клетки были взяты у него заранее или как?
Ответить взялся Джимел:
– Он погиб двадцати четырех лет в авиационный катастрофе. Мозг его спасти не удалось, так что пришлось взять клетки внутренних органов и подготовить их к клонированию. Половые клетки для клонирования не годятся
– в них только половинный набор хромосом. Внутренние клетки могут быть обработаны таким образом, что они становятся основой нового организма.
– И все вы – обломки одного кирпича, – громко заявил
Мартин. – Но как же… Ведь некоторые из вас – женщины? Теперь ответила Бет:
– Это несложно – запрограммировать половину массы клона для воспроизведения женского организма. Удалите из половины клеток мужские гены, и они вернутся к исходному состоянию, то есть к женскому началу. Труднее добиться обратного эффекта и создать искусственную Y-
хромосому. Так что клонирование происходит в основном от мужского донора – клоны, состоящие из обоих полов, лучше функционируют.
– Методы производства и функционирования клонов были очень тщательно разработаны, – сказал Джимел. –
Налогоплательщик не желает, чтобы его деньги кидали на ветер. Манипуляции с клетками, инкубация в плаценте
Нгама, содержание и подготовка групп приемных родителей – все это привело к тому, что мы стоим каждый по три миллиона.
– А что касается следующего поколения, – не сдавался
Мартин. – Я полагаю… вы размножаетесь?
– Мы, женщины, стерильны, – спокойно ответила Бет.
– Как вы помните, из наших первоначальных клеток удалена Y-хромосома. Мужчины могут вступать в контакт с обыкновенными женщинами, если, конечно, захотят. Но, для того чтобы снова создать Джона Чоу в нужном количестве копий и в нужное время, приходится брать клетку от клона – этого клона, нашего клона.
Мартин сдался. Он кивнул и дожевал остывший гренок.
– Ну что ж, – сказал один из Джонов. И тут же настроение клона изменилось, словно стая скворцов единым неуловимым взмахом крыльев изменила направление полета, следуя за вожаком, которого человеческий глаз не в силах различить. Они были готовы приняться за дело. –
Разрешите взглянуть на шахту? А потом мы разгрузим оборудование. Мы привезли любопытные новые машины.
Вам, без сомнения, будет интересно на них взглянуть.
Если бы даже Пью и Мартин не согласились с предложением Джонов, признаться в этом им было бы нелегко.
Джоны были вежливы, но единодушны: то, что они решали, неукоснительно выполнялось. Пью, начальник базы
Либра-2, почувствовал, как мурашки пробежали по его спине. Сможет ли он командовать группой из десяти суперменов? И при этом гениев?
Когда они выходили, Пью держался поближе к Мартину. Оба молчали.
Расположившись в трех больших флаерах – по четверо в каждом, – они помчались к северу над серой под звездным светом, морщинистой кожей Либры.
– Пустынно, – сказал один из Джонов.
Во флаере Пью и Мартина сидели юноша и девушка.
Пью подумал, не они ли спали прошлой ночью в одном мешке. Пожалуй, если он спросит об этом, они ответят без стеснения. Вернее всего, секс для них так же естествен, как дыхание. «Это вы дышали прошлой ночью?»
– Да, – ответил Пью, – здесь пустынно.
– Мы первый раз в космосе, не считая практики на Луне. – Голос девушки был выше и мягче, чем у юноши.
– Как вы перенесли прыжок?
– Нам дали наркотик. А мне бы хотелось самому испытать, что это такое, – ответил юноша. Его голос дрогнул.
Казалось, личность их проявлялась больше, когда они остались вдвоем. Неужели повторение индивидуума отрицает индивидуальность?
– Не расстраивайтесь, – сказал Мартин, управлявший вездеходом. – Вы не ощутили бы вневременного перехода, там и ощущать-то нечего.
– А все-таки мне хотелось бы попробовать, – ответил юноша, – тогда бы мы знали.
На востоке опухолями возникли горы Мерионета, на западе поднялся столб замерзающего газа, и флаер опустился на землю.
Близнецы вздрогнули от толчка и протянули руки, словно стараясь предохранить друг друга. «Твоя кожа –
моя кожа, в буквальном смысле этого слова», – подумал
Пью. Интересно, какие чувства испытываешь, когда на свете есть кто-то столь близкий тебе? Если ты спрашиваешь, тебе всегда ответят, если тебе больно, кто-то рядом разделит твою боль. Возлюби ближнего своего, как самого себя… Древняя неразрешимая проблема разрешена. Сосед твой – ты сам. Любовь достигла совершенства.
А вот и шахта, Адская Пасть.
Пью был космогеологом Службы исследований, Мартин – техником и картографом при нем. Но когда в ходе разведки Мартин обнаружил месторождение урана, Пью полностью признал его заслуги, а заодно возложил на него обязанности по разведке залежей и планированию работы для исследовательской команды. Этих ребят отправили с
Земли задолго до того, как там был получен доклад Мартина, и они не подозревали, чем будут заниматься, пока не прилетели на Либру. Служба исследований попросту регулярно отправляла исследовательские команды, подобно одуванчику, разбрасывающему семена, зная наверняка, что им найдется работа если не на Либре, то на соседней планете или еще на какой-то, о которой они и не слышали.
Правительство слишком нуждалось в уране, чтобы ждать, когда до Земли за несколько световых лет дойдут сообщения. Уран был, как золото, старомоден, но необходим, он стоил того, чтобы его добывали на других планетах и отправляли на Землю. «Он стоит того, чтобы менять его на людские жизни», – невесело думал Пью, наблюдая за тем, как высокие юноши и девушки, облитые светом звезд, друг за другом входили в черную дыру, которую Мартин назвал Адской Пастью.
Когда они вошли в шахту, рефлекторы на их шлемах загорелись ярче. Двенадцать качающихся кругов света плыли по влажным морщинистым стенам. Пью слышал, как впереди потрескивал счетчик радиации Мартина.
– Здесь обрыв, – раздался голос Мартина по внутренней связи, заглушив треск и окружавшую их мертвую тишину. – Мы прошли по боковому туннелю, впереди вертикальный ход. – Черная пропасть простиралась в бесконечность, лучи фонарей не достигали противоположной стены. – Вулканическая деятельность прекратилась здесь примерно две тысячи лет назад. Ближайший сброс находится в двадцати восьми километрах к востоку, в траншее.
Эта область сейсмически не более опасна, чем любая другая в нашем районе. Могучий слой базальта, перекрывающий субструктуру, стабилизирует ее, по крайней мере пока он сам стабилен. Ваша основная жила находится внизу, в тридцати шести метрах отсюда, и тянется через пять пустот к северо-востоку. Руда в жиле очень высокого качества. Надеюсь, вы знакомы с данными разведки? Добыча урана не представляет трудности. От вас требуется только одно – вытащить руду на поверхность.
– Поднимите крышку и выньте.
Смешок. Зазвучали голоса, но все они были одним голосом:
– Может, ее сразу вскрыть? Так безопаснее. Открытая разработка.
– Но это же сплошной базальт! Какой толщины? Десять метров?
– От трех до двадцати, если верить докладу.
– От взрыва руда разлетится вокруг.
– Используем этот туннель, расширим, выпрямим и уложим рельсы для робототачек.
– Ослов бы сюда завести.
– А хватит ли у нас стоек?
– Мартин, каковы, по вашему мнению, запасы месторождения?
– Пожалуй, от пяти до восьми миллионов килограммов.
– Транспорт прибудет через десять земных месяцев.
– Будем грузить только чистый уран.
– Нет, проблема транспортировки грузов теперь разрешена: ты забыл, что мы уже шестнадцать лет как улетели с Земли? В прошлый вторник исполнилось шестнадцать лет.
– Правильно, они погрузят руду и очистят ее на земной орбите.
– Мы спустимся ниже, Мартин?
– Спускайтесь. Я там уже был.
Первый из них – кажется, Алеф – скользнул по лестнице вниз. Остальные последовали за ним. Пью и Мартин остались на краю пропасти. Пью настроил рацию на избирательную связь с Мартином и заметил, что Мартин сделал то же. Было чуть утомительно слушать, как один человек рассуждает вслух десятью голосами. А может, это был один голос, выражавший мысли десятерых?
– Ну и утроба, – сказал Пью, глядя в черную пропасть,
туда, где изрезанные жилами, морщинистые стены отражали лучи фонарей далеко внизу. – Коровий желудок, набитый окаменелым дерьмом.
Счетчик Мартина попискивал, как потерявшийся цыпленок. Они стояли внутри умиравшей планетыэпилептика, дыша кислородом из баллонов, они были одеты в нержавеющие антирадиационные скафандры, способные выдержать перепады температур в двести градусов, неподвластные ударам и разрывам, созданные для того, чтобы любой ценой сберечь мягкую плоть, заключенную внутри.
– Хотел бы я когда-нибудь попасть на планету, где нечего было бы исследовать.
– А тебе досталась такая.
– Тогда в следующий раз лучше не выпускай меня из дому.
Пью был рад. Он надеялся, что Мартин согласится и дальше работать вместе с ним, но оба они не привыкли говорить о своих чувствах, и потому он не решался спросить об этом.
– Постараюсь, – сказал он.
– Ненавижу это место. Ты знаешь, я люблю пещеры.
Потому я сюда и залез. Страсть к спелеологии. Но эта пещера – дрянь. Серьезно. Здесь ни на секунду нельзя расслабиться. Хотя, надеюсь, эти ребята с ней справятся. Они свое дело знают.
– За ними будущее, каким бы оно ни было, – сказал
Пью.
«Будущее» вскарабкалось по лестнице, увлекло Мартина к выходу из пещеры и засыпало его вопросами.
– У нас хватит материала для крепления?
– Если мы переоборудуем один из сервоэкстракторов, то да.
– Мини-взрывов будет достаточно?
– Каф может рассчитать нагрузки…
Пью переключил рацию на прием их голосов. Он наблюдал за ними, смотрел на Мартина, молча стоявшего среди них, на Адскую Пасть и морщинистую равнину.
– Все в порядке? Мартин, ты согласен с предварительным планом?
– Это уж твое дело, – ответил Мартин.
За пять дней Джоны разгрузили и подготовили оборудование и начали работу в шахте. Они работали не покладая рук. Пью был зачарован и даже напуган такой эффективностью, равно как и их уверенностью и независимостью. Они в нем совершенно не нуждались. «Клон и в самом деле можно считать первым полностью стабильным самостоятельным человеческим существом», – думал он.
Выросши, они уже не нуждаются ни в чьей помощи. Они будут сами себя удовлетворять и в физическом, и в интеллектуальном, и в эмоциональном отношении. Что бы ни делал один член этой группы, он всегда будет пользоваться полной поддержкой и одобрением остальных. Никто больше им не нужен.
Двое из клона, занятые вычислениями и всякой писаниной, остались в куполе, но часто выбирались на шахту для измерений и испытаний. Это были математики, Зайин и Каф. Как объяснила Зайин, все десятеро получили достаточную математическую подготовку в возрасте от трех до двадцати одного года. Но с двадцати одного до двадцати трех они с Кафом специализировались в математике, тогда как другие больше занимались геологией, горным делом, электроникой, робототехникой, прикладной атомистикой и тому подобным.
– Мы с Кафом считаем, что мы в клоне ближе всего к настоящему Джону Чоу, – сказала Зайин. – Но, разумеется, в основном он был биоматематиком, а это уже не наша специальность.
– Мы нужнее здесь, – заявил Каф, и в голосе его не в первый раз послышался оттенок самолюбования.
Пью и Мартин вскоре научились отличать эту пару от других. Зайин – по целостности характера, Кафа – лишь по обесцвеченному ногтю на безымянном пальце (Каф в шестилетнем возрасте ударил по пальцу молотком). Без сомнения, существовали и другие различия, как физические, так и психологические. Природа может создавать идентичное, а воспитание внесет свои поправки. Но найти эти различия было нелегко. Сложность заключалась еще и в том, что клон никогда не разговаривал с Пью и Мартином всерьез. Они шутили с ними, были вежливы. Жаловаться было не на что, они были чрезвычайно милы, но в их поведении чувствовалось стандартизованное американское дружелюбие.
– Вы родом из Ирландии, Оуэн?
– Нет никого родом из Ирландии, Зайин.
– А как же американцы ирландского происхождения?
Их много.
– Это так, но настоящих ирландцев не осталось. На всем острове, насколько мне известно, живет тысячи две, не больше. Они в свое время отказались от контроля рождаемости, и запасов пищи на всех не хватило. Третий Голод пережили только священники, а они все, или почти все, придерживались обета безбрачия.
Зайин и Каф натянуто улыбнулись. Им не приходилось сталкиваться с фанатизмом, и они не понимали иронии.
– Так кто же вы этнически? – спросил Каф.
– Я валлиец.
– Вы разговариваете с Мартином на валлийском языке?
«Это тебя не касается», – подумал Пью, но ответил:
– Нет, это диалект Мартина. Аргентинский. Ведет происхождение от испанского языка.
– Вы изучили его для того, чтобы другие вас не понимали?
– От кого нам таиться? Просто человеку иногда приятно говорить на родном языке.
– Наш родной язык английский, – сказал Каф безучастно. Да и как он мог быть участливым? Человек проявляет участие к другим потому, что сам в нем нуждается.
– Уэллс – необычная страна? – спросила Зайин.
– Уэллс? Вы имеете в виду Уэльс? Да, Уэльс необычен. – Пью включил камнерез и таким образом избавился от дальнейших расспросов, заглушив их визгом пилы. И пока прибор визжал, Пью отвернулся от собеседников и выругался по-валлийски.
– Еще два месяца терпеть, – сказал Мартин как-то вечером.
– Два месяца до чего? – огрызнулся Пью. Последнее время он был раздражителен, и угрюмость Мартина действовала ему на нервы.
– До смены.
Через шестьдесят дней возвратится вся экспедиция с обследования других планет этой системы. Пью об этом прекрасно знал.
– Зачеркиваешь дни в своем календаре? – поддразнил он Мартина.
– Возьми себя в руки, Оуэн.
– Что ты хочешь этим сказать?
– То, что сказал.
Они расстались, недовольные друг другом.
Проведя день в Пампе, громадной лавовой долине, до которой было два часа лета на ракете, Пью вернулся домой. Он был утомлен, но радовался одиночеству. Одному было не положено пускаться в дальние поездки, но они часто делали это в последнее время. Мартин стоял, склонившись под яркой лампой, вычерчивая одну из своих мастерски выполненных карт, на ней было изображено изуродованное язвами лицо Либры. Кроме Мартина, никого не было, и купол казался огромным и туманным, как и до приезда клона.
– Где наша Золотая Орда?
Мартин, продолжая штриховать, буркнул, что не знает.
Затем выпрямился, обернулся к солнцу, гигантской красной жабой расползшемуся по восточной равнине, и взглянул на часы. Часы показывали 18.45.
– Сегодня здорово трясет, – сказал он, вновь наклоняясь над картой. – Чувствуешь? Ящики так и сыплются.
Взгляни на сейсмограф.
На ролике дергалась и дрожала игла, без устали повторяя свой замысловатый танец. Во второй половине дня на ленте было зарегистрировано пять сильных землетрясений. Дважды игла самописца вылезала за ленту. Соединенный с сейсмографом компьютер выдал карточку с надписью: «Эпицентр 61' к северу – 42'4' к востоку».
– На этот раз не в траншее.
– Мне показалось, что оно отличается от обычных.
Резче.
– На Первой базе я все ночи не спал, чувствуя, как подо мной трясет. Удивительно, как ко всему привыкаешь.
– Рехнешься, если не привыкнешь. Что на обед?
– А я думал, ты его приготовил.
– Я жду клон.
Чувствуя, что проиграл, Пью достал двенадцать обеденных пакетов, сунул два из них в автовар и тут же вытащил вновь.
– Кушать подано.
– Я вот что думаю, – сказал Мартин, подходя к столу. –
Что, если какой-нибудь клон сам себя воспроизведет? Нелегально. Сделает тысячу дубликатов, десять тысяч, целую армию. Они же смогут преспокойно захватить власть.
– Но ты забыл, сколько миллионов стоило вырастить этот клон? Искусственная плацента и все прочее. Это нелегко сделать втайне, без собственной планеты… Давно, до Голода, когда Земля был поделена между национальными правительствами, об этом шли разговоры: склонируйте, мол, своих лучших солдат, создайте полки из клонов. Но безумие кончилось раньше, чем они смогли сыграть в эту игру.
Они разговаривали дружески, совсем как прежде.
– Странно, – жуя, сказал Мартин. – Они уехали рано утром.
– Да, все, кроме Кафа и Зайин. Они надеялись доставить на поверхность первую партию руды. А что тебя беспокоит?
– Они не приехали на обед.
– Не волнуйся, с голоду не помрут.
– Они уехали в семь утра.
– Ну и что?
И тут Пью понял. Баллоны с кислородом были рассчитаны на восемь часов.
– Каф и Зайин взяли с собой запасные баллоны. А может, у них есть запас в шахте?
– Был, но они привезли сюда все баллоны на заправку.
Мартин поднялся и показал на поленницу баллонов, перегородившую купол.
– В каждом скафандре есть сигнал тревоги.
– Не автоматический.
Пью устал и хотел есть.
– Садись и поешь, старик. Они сами о себе позаботятся. Мартин сел, но есть не стал.
– Первый толчок был очень сильным, Оуэн. Он меня даже испугал.
Пью помолчал, потом вздохнул и сказал:
– Ну хорошо.
Без всякого энтузиазма они влезли в двухместный флаер, который всегда был в их распоряжении, и направились на север. Долгий рассвет окутал планету ядовито-красным туманом. Низкий свет и тени мешали видеть, создавали миражи – железные стены, сквозь которые свободно проникал флаер, превратили долину за Адской Пастью в низину, заполненную кровавой водой. У входа в туннель скопилось множество механизмов. Краны, сервороботы, кабели и колеса, автокопатели и подъемники причудливо выступали из тьмы, охваченные красным светом. Мартин соскочил с флаера и бросился в шахту, но тут же с криком выбежал обратно:
– Боже, Оуэн, обвал!
Пью вбежал в туннель и метрах в пяти от входа увидел блестящую мокрую черную стену. Только что обнаженная обвалом порода казалась кровоточащей плотью. Вход в туннель, расширенный взрывами, казался таким же, как раньше, пока Пью не заметил в стенах тысячи тонких трещинок. Пол был мокрым и скользким.
– Они были внутри, – сказал Мартин.
– Они и сейчас, возможно, там. Но у них наверняка найдутся запасные баллоны.
– Да ты посмотри на крышу, Оуэн! Разве ты не видишь, что натворило землетрясение?
Низкий горб породы, прежде нависавший над входом в шахту, провалился в огромную котловину. Подойдя ближе, Пью увидел, что и эта порода испещрена множеством тонких трещин. Из некоторых струился белый газ, он скапливался в образовавшейся котловине, и солнечный свет отражался от него, словно это было красноватое мутное озеро.
– Шахта ни при чем. Шахта рассчитана правильно!
Пью быстро вернулся к нему.
– Шахта ни при чем, Мартин. Слушай, не может быть, чтобы все они были внутри.
Мартин последовал за Пью и начал поиски среди искореженных машин и механизмов – вначале безучастно, но с каждой минутой все более поддаваясь беспокойству.
Он обнаружил флаер, который врезался под углом в яму.
Во флаере были два пассажира. Одного из них наполовину засыпало пылью, но приборы его скафандра указывали на то, что человек жив. Женщина висела на ремнях сиденья.
Ноги ее были перебиты, скафандр разорван, замерзшее тело было твердым как камень. Вот и все, что ему удалось найти. Как того требовали правила и обычаи, они тут же кремировали мертвую, прибегнув к лазерным пистолетам, которые носили с собой. Им никогда раньше не приходилось пускать пистолеты в ход. Пью, чувствуя, что его вотвот стошнит, втащил другое тело в двухместный флаер и отправил Мартина с ним в купол. Затем его вырвало, он вычистил скафандр и, обнаружив неповрежденный четырехместный флаер, последовал за Мартином. Его трясло так, словно холод Либры пронизал его тело.
В живых остался Каф. Он был в глубоком шоке. На затылке у него обнаружили шишку, но кости были целы.
Пью принес две порции пищевого концентрата и по стакану аквавита.
– Давай, – сказал он.
Мартин послушно взял стакан. Они уселись на ящики возле койки и пили аквавит.
Каф лежал не двигаясь, лицо его в обрамлении черных волос казалось восковым, губы были приоткрыты, и из них вырывалось слабое дыхание.
– Это все первый толчок, самый сильный, – сказал
Мартин, – Он сдвинул горные породы. Должно быть, там находились залежи газа, как в тех формациях в тридцать первом квадрате. Но ведь ничто не указывало…
И тут земля выскользнула у них из-под ног. Вещи вокруг запрыгали, загремели, затрещали, захохотали: ха-хаха!
– В четырнадцать часов было то же самое, – произнес
Разум дрожащим голосом Мартина, прислушиваясь к тому, как распоясывается и рушится мир. Но Безумие заставило вскочить, слушая, как проходит пароксизм, перестают плясать вещи, и кричать.
Пью перепрыгнул через разлитый аквавит и придал
Кафа к койке. Мускулистое тело отбросило его. Мартин навалился ему на плечи. Каф кричал, боролся, задыхался, его лицо почернело.
– Кислород! – скомандовал Пью. Пальцы инстинктивно отыскали нужный шприц. Пока Мартин держал маску, он вонзил иглу в нервный узел, возвращая Кафа к жизни.
– Вот уж не думал, что ты это умеешь, – сказал Мартин, переводя дыхание.
– Мой отец был врачом. Но это средство не всегда помогает, – ответил Пью. – Жаль, что не пришлось допить аквавит. Не пойму, землетрясение кончилось?
– Не думай, что только тебя трясет. Толчки еще продолжаются. Хотя и слабеют.
– Почему он задыхался?
– Я не знаю, Оуэн. Загляни в книгу.
Каф стал дышать ровнее, и лицо его порозовело, только губы по-прежнему оставались темными.
Они наполнили бокалы бодрящим напитком и вновь сели возле него, раскрыв медицинский справочник.
– Под рубрикой «шок» или «ушиб» ничего не говорится о цианозе или удушье. Но не мог же он чего-нибудь наглотаться, ведь на нем скафандр. – Пью с досадой бросил книгу на ящик. – Этот справочник нам так же полезен, как
«Бабушкина книга о лекарственных травах»…
Книга не долетела – видимо, либо Пью, либо ящик еще не обрели спокойствия.
– Почему он не подал сигнала?
– Не понял.
– У тех восьми, что остались в шахте, не было на это времени. Но ведь он-то и девушка находились наверху.
Может, она стояла у входа, и ее засыпало камнями. Каф же оставался снаружи, возможно, в дежурке. Он вбежал в туннель, вытащил ее, привязал к сиденью флаера и поспешил к куполу. И за все это время ни разу не нажал кнопку тревоги. Почему?
– Наверное, из-за удара по голове. Вряд ли он вообще осознал, что девушка мертва. Он потерял рассудок. Но даже если он и соображал, не думаю, чтобы он стал нам сигналить. Они ждали помощи только друг от друга.
Лицо Мартина напоминало индейскую маску с глубокими складками у рта и глазами цвета тусклого антрацита.
– Ты прав. Представляешь, что он пережил, когда началось землетрясение, и он оказался снаружи один…
В ответ Каф закричал.
Он свалился с койки, задыхаясь, судорожно размахивая рукой, сшиб Пью, дополз до кучи ящиков и упал на пол. Губы его были синими, глаза побелели. Мартин снова втащил его на койку, дал вдохнуть кислорода и склонился над Пью, который приподнялся, вытирая кровь с рассеченной скулы.
– Оуэн, ты жив? Что с тобой, Оуэн?
– Я думаю, все в порядке, – сказал Пью. – Зачем ты трешь мне физиономию этой штукой?
Он показал на обрывок перфоленты, измазанный кровью. Мартин отшвырнул его.
– Мне показалось, что это полотенце. Ты разбил щеку об угол ящика.
– У него прошел припадок?
– По-моему, да.
Они посмотрели на Кафа, лежавшего неподвижно. Его зубы казались белой полоской между черными приоткрытыми губами.
– Похоже на эпилепсию. Может быть, поврежден мозг?
– Вкатить ему дозу мепробамата?
Пью покачал головой.
– Я не знаю, что было в противошоковом уколе. Не хотелось бы давать слишком большую дозу.
– Может, он проспится и все пройдет?
– Я и сам бы не прочь поспать. Еле на ногах держусь.
– Тебе нелегко пришлось. Иди, а я подежурю.
Пью промыл порез на щеке, снял рубашку и остановился.
– А вдруг мы могли что-то сделать – хоть попытаться…
– Они умерли, – мягко, но настойчиво сказал Мартин.
Пью улегся поверх спального мешка и вскоре проснулся от страшного клокочущего звука. Он встал, пошатываясь, нашел шприц, трижды пытался ввести его, но это ему никак не удавалось. Затем начал массировать сердце
Кафа.
– Дуй ему в рот! – приказал он, и Мартин подчинился.
Наконец Каф резко втянул воздух, пульс его стал равномерным, напряженные мышцы расслабились.
– Сколько я спал? – спросил Пью.
– Полчаса.
Они стояли, обливаясь потом, земля содрогалась, купол то покачивался, то сжимался. Либра снова вытанцовывала свою проклятую польку, свой танец смерти. Солнце, поднявшись повыше, стало еще больше и краснее; скудная атмосфера была насыщена газом и пылью.
– Что с ним творится, Оуэн?
– Боюсь, что он умирает вместе с ними.
– С ними… Но они мертвы, все до одного, я же сказал.
– Девять умерло. Раздавлены или задохнулись. Но все они в нем, и он в каждом из них. Они умерли, и теперь он умирает их смертями, одной за другой.
– Господи, какой ужас!
Следующий приступ был примерно таким же, но пятый – гораздо хуже. Каф рвался и бился, силясь что-то сказать, но слов не было, словно рот его набили камнями и глиной. После этого приступы стали слабее. Но и сам Каф ослаб. Восьмой приступ начался в половине пятого. Пью и
Мартин бились целый час, стараясь удержать жизнь в теле, которое без сопротивления уплывало в царство смерти.
Им это удалось, но Мартин сказал, что следующего приступа Каф не переживет. Так бы оно и вышло, но Пью, прижавшись ртом к его рту, нагнетал и нагнетал воздух в опавшие легкие, пока сам не потерял сознание.
Когда он очнулся, купол матово светился, хотя свет не горел. Пью прислушался и уловил дыхание двух спящих мужчин. Потом он заснул, и его разбудил только голод.
Солнце поднялось высоко над темными равнинами, и планета прекратила свой чудовищный танец. Каф спал.
Пью и Мартин пили крепкий чай и глядели на него с торжеством собственников.
Но вот он проснулся. Мартин подошел к нему.
– Как себя чувствуешь, дружище?
Ответа не последовало. Пью занял место Мартина и заглянул в карие тусклые глаза, которые глядели на него, но ничего не выражали. Как и Мартин, он сразу отвернулся. Затем подогрел концентрат и принес Кафу.
– Выпей.
Мышцы на шее Кафа напряглись.
– Дайте мне умереть, – сказал юноша.
– Ты не умрешь.
Каф сказал, четко выговаривая слова:
– Я на девять десятых мертв. У меня нет сил, чтобы жить дальше.
Это подействовало на Пью, но он решил сражаться до конца.
– Нет, – сказал он тоном, не терпящим возражений. –
Они мертвы. Другие. Твои братья и сестры. Ты – не они.
Ты жив. Ты – Джон Чоу. Твоя жизнь в твоих собственных руках.
Юноша лежал неподвижно, глядя в темноту, которой не было.
Мартин и Пью с запасными роботами по очереди отправлялись на экспедиционном тягаче к Адской Пасти, чтобы спасти оборудование, уберечь его от зловещей атмосферы Либры, потому что ценность этого оборудования выражалась поистине в астрономических цифрах. Дело двигалось медленно, но они не хотели оставлять Кафа одного. Тот, кто оставался в куполе, возился с бумагами, а
Каф сидел или лежал, глядя в темноту, и молчал. Дни проходили в тишине.
В приемнике что-то затрещало, и тут же заговорило радио:
– Корабль на связи. Через пять недель будем на Либре, Оуэн. Точнее, по моим расчетам, через тридцать четыре земных дня и девять часов. Как дела под куполом?
– Плохо, шеф. Исследовательская команда погибла в шахте. Все, кроме одного. Было землетрясение. Шесть дней назад.
Радио щелкнуло, и в него ворвались звуки космоса.
Пауза – шестнадцать секунд. Корабль был на орбите вокруг второй планеты.
– Все, кроме одного, погибли? А вы с Мартином невредимы?
– Мы в порядке, шеф.
Тридцать две секунды молчания.
– «Пассерина» оставила нам еще одну исследовательскую команду. Я могу перевести их на объект Адская
Пасть вместо квадрата семь. Мы уладим это, когда прилетим. В любом случае сменим тебя и Мартина. Держитесь.
Что-нибудь еще?
– Больше ничего.
Еще тридцать две секунды…
– Тогда до свидания, Оуэн.
Каф слышал весь разговор, и позднее Пью сказал ему:
– Шеф может попросить тебя остаться со следующей исследовательской командой. Ты ведь знаешь здешнюю обстановку.
Зная порядки в Дальнем Космосе, он хотел предупредить юношу.
Каф не ответил. С тех пор как он сказал: «У меня нет сил, чтобы жить дальше», – он не произнес ни слова.
– Оуэн, – сказал Мартин по внутренней связи. – Он сломался. С ума сошел.
– Он неплохо выглядит для человека, который девять раз умер.
– Неплохо? Как выключенный андроид! У него не осталось никаких чувств, кроме ненависти. Загляни ему в глаза.
– Это не ненависть, Мартин. Послушай, это правда, что в определенном смысле он мертв. Я и представить себе не могу, что он чувствует. Он нас даже не видит. Здесь слишком темно.
– Случается, в темноте перерезают глотки. Он нас ненавидит, потому что мы – не Алеф и не Йод.
– Может быть. Но я думаю, что он одинок. Он нас не видит и не слышит. Это верно. Раньше ему и не требовалось никого видеть. Никогда до этого он не знал одиночества. Он разговаривал сам с собой, видел самого себя, жил с самим собой, жизнь его была полна девятью «я». Он не понимает, каково это – жить самому по себе. Он должен научиться. Дай ему время.
Мартин покачал головой.
– Сломался, – сказал он. – И когда ты останешься с ним один на один, помни, что ему ничего не стоит свернуть себе шею одной рукой.
– Это он может, – улыбнулся Пью.
Они стояли возле купола, программируя серворобота для починки сломанного тягача. Оттуда им был виден Каф под яйцевидным куполом, напоминавший муху в янтаре.
– Передай-ка мне вкладыш. Почему ты решил, что ему станет лучше?
– Он сильная личность, можешь в этом не сомневаться.
– Сильная личность? Обломок личности. Девять десятых ее мертвы. Он же сам сказал.
– Но он-то не мертв. Он – живой человек по имени
Джон Каф Чоу. Воспитание его было необычным, это правда, но в конце концов каждый юноша рано или поздно расстается со своей семьей. Он тоже это сделает.
– Что-то не похоже.
– Пораскинь-ка мозгами, Мартин. С какой целью люди придумали клонирование? Для обновления земной расы.
Мы ведь не лучшие ее представители. Взять хотя бы меня.
Мои интеллектуальные и физические данные вдвое хуже, чем у Джона Чоу. Но Земля так нуждалась во мне, что, когда я изъявил желание работать здесь, мне вставили искусственное легкое и ликвидировали близорукость. Будь на Земле избыток здоровых молодых парней, разве ей потребовались бы услуги близорукого валлийца с одним легким?
– Вот уж не знал, что у тебя искусственное легкое.
– Теперь будешь знать. Не жестяное легкое, а человеческое, часть чужого тела, выращенная искусственно, точнее говоря – склонированная. Так в медицине делают органы-заменители. С помощью клонирования, только не полного, а частичного. Теперь это мое собственное легкое.
Но я хотел сказать о другом: сегодня слишком много таких, как я, и слишком мало таких, как Джон Чоу. Ученые пытаются поднять уровень генетического резервуара человечества, который после опустошительных Голодов превратился в мелкую лужу. Поэтому мы знаем, что если человек клонирован, то это наверняка сильная и умная личность. Разве не логично?
Мартин хмыкнул. Серворобот загудел, разогреваясь.
Каф мало ел. Ему трудно было глотать пищу, он давился и отказывался от еды после нескольких глотков. Он потерял в весе восемь или десять килограммов. Но недели через три к нему начал возвращаться аппетит, и в один прекрасный день он занялся разборкой имущества клона, переворошил спальные мешки, сумки, бумаги, которые
Пью аккуратно сложил в конце прохода между ящиками.
Он рассортировал все, сжег кипу бумаг и мелочей, собрал остатки в небольшой пакет и снова погрузился в молчание. Еще через два дня он заговорил. Пью пытался избавиться от дрожания ленты в магнитофоне, но у него ничего не получалось, Мартин улетел на ракете проверять карту Пампы.
– Черт возьми! – воскликнул Пью, и Каф отозвался голосом, лишенным выражения:
– Хотите, чтобы я это сделал?
Пью вскочил, но тут же взял себя в руки и передал аппарат Кафу. Тот разобрал его, потом собрал и оставил на столе.
– Поставь какую-нибудь ленту, – сказал Пью как можно естественнее, склонившись над соседним столом.
Каф взял первую попавшуюся ленту. Это оказался хорал. Каф лег на койку. Звуки сотен человеческих голосов заполнили купол. Каф лежал неподвижно. Лицо его ничего не выражало.
В последующие дни он выполнил еще несколько дел, хотя никто его об этом не просил. Он не делал ничего, что потребовало бы инициативы с его стороны, и, если его просили о чем-нибудь, он попросту не реагировал на просьбу.
– Он поправляется, – сказал Пью, обращаясь к Мартину на аргентинском диалекте.
– Нет. Он превращает себя в машину. Делает лишь то, на что запрограммирован, и не реагирует на остальное.
Это хуже, чем если бы он совсем ничего не делал. Он уже не человек.
Пью вздохнул.
– Спокойной ночи, – сказал он по-английски. – Спокойной ночи, Каф.
– Спокойной ночи, – ответил Мартин.
Каф не ответил.
На следующее утро за завтраком Каф протянул руку над тарелкой Мартина, чтобы достать гренок.
– Почему ты меня не попросил? – вежливо сказал Мартин, подавляя раздражение. – Я бы передал.
– Я и сам могу достать, – ответил Каф бесцветным голосом.
– Да, можешь. Но послушай: передать хлеб, сказать «спокойной ночи» или «привет» – все это не так уж важно, но, если один человек что-то говорит, другой во всех случаях должен ему ответить…
Молодой человек равнодушно глянул в сторону Мартина. Его глаза все еще не замечали людей, с которыми он говорил.
– Почему я должен отвечать?
– Потому что к тебе обращаются.
– А почему?
Мартин пожал плечами и рассмеялся. Пью вскочил и включил камнерез. Потом он сказал:
– Отстань от него, Мартин.
– В маленьких изолированных коллективах очень важно помнить о хороших манерах, раз уж работаешь вместе.
Его этому учили. Каждый в Дальнем Космосе знает об этом. Так почему же он сознательно пренебрегает вежливостью?
– Ты говоришь «спокойной ночи» самому себе?
– Ну и что?
– Неужели ты не понимаешь, что Каф никогда не был знаком ни с кем, кроме самого себя?
– Тогда, клянусь богом, все эти штуки с клонированием ни к чему, – после некоторого раздумья сказал Мартин.
– Ничего из этого не выйдет. Чем могут помочь человеку эти дубликаты гениев, если они даже не подозревают о нашем существовании?
Пью кивнул:
– Вероятно, разумнее разделять клоны и воспитывать их с обычными детьми. Но из них составляются такие великолепные команды!
– Разве? Не уверен. Если бы наша команда состояла из десяти обыкновенных, ничем не примечательных инженеров-изыскателей, неужели все они оказались бы в одно время в одном и том же месте? Неужели они бы все погибли? А что, если эти ребята, когда начался обвал и стали рушиться стены, бросились одновременно в глубь шахты, быть может, чтобы спасти того, кто был дальше всех? Даже Каф, который оставался наверху, сразу кинулся в шахту… Это, конечно, только предположение. Но мне кажется, что из десяти обыкновенных растерявшихся людей хотя бы один выскочил на поверхность.
– Не знаю. Но известно, что идентичные близнецы порой умирают одновременно, даже если они никогда друг друга не видели. Идентичность и смерть – какая странная связь…
Проходили дни, красное солнце кралось по темному небу, но Каф все так же не отвечал на вопросы, а Пью и
Мартин все чаще сцеплялись между собой. Пью начал жаловаться на то, что Мартин храпит. Оскорбившись, Мартин перенес свою койку на другую сторону купола и перестал с ним разговаривать. Когда же Пью принялся насвистывать валлийские песенки, это надоело Мартину. Пью в свою очередь на него обиделся и какое-то время с ним не разговаривал.
За день до прилета корабля Мартин объявил, что собирается в горы Мерионета.
– А я полагал, что ты по крайней мере поможешь мне закончить анализ образцов на компьютере, – мрачно заметил Пью.
– Каф тебе поможет. Я хочу еще разок взглянуть на траншею. Желаю успеха, – добавил Мартин на диалекте и, посмеиваясь, ушел.
– Что это за язык? – спросил Каф.
– Аргентинский. Разве я тебе об этом не говорил?
– Не знаю. – Через некоторое время молодой человек добавил: – Боюсь, что я многое забыл.
– Ну и пусть, – мягко сказал Пью, внезапно осознав,
как важен для него этот разговор. – Ты поможешь мне поработать на компьютере?
Каф кивнул.
У них было много недоделок, и работа отняла весь день. Каф оказался отличным работником, куда более быстрым и сообразительным, чем сам Пью. Правда, его бесцветный голос действовал на нервы, но это можно было пережить – через день прибудет корабль, а на нем старая команда, товарищи и друзья.
Днем они сделали перерыв, чтобы выпить чаю, и Каф спросил:
– Что случится, если корабль разобьется?
– Они все погибнут.
– Что случится с вами?
– С нами? Мы передадим по радио сигнал бедствия и будем жить на половинном рационе, пока не придет спасательный корабль с Третьей базы. На это уйдет четыре земных года. Мы наскребем припасов для троих на четыре-пять лет. Туго придется, но перебьемся.
– И они пошлют спасательный корабль из-за трех человек?
– Конечно.
Каф больше ничего не сказал.
– Хватит рассуждать на веселые темы, – бодро сказал
Пью, поднимаясь из-за стола, чтобы вернуться к приборам, но тут же покачнулся. Стул вырвался у него из руки, и Пью, не закончив пируэта, врезался в стену купола.
– Боже правый, – произнес он по-валлийски. – Что это было?
– Землетрясение, – ответил Каф.
Чашки плясали, звонко ударяясь о стол, ворох бумаг сполз с ящика, крыша купола то вздувалась, то оседала.
Под ногами рождался утробный гул, наполовину звук, наполовину дрожь.
Каф сидел неподвижно. Землетрясением не испугаешь человека, погибшего при землетрясении.
Пью побелел, черные жесткие волосы разметались. Он был напуган. Он сказал:
– Мартин в траншее.
– В какой траншее?
– На линии большого сброса. В эпицентре местных землетрясений. Погляди на сейсмограф.
Пью сражался с заклиненной дверью дрожащего шкафа.
– Что вы делаете?
– Надо спешить ему на помощь.
– Мартин взял ракету. Летать на флаерах во время землетрясений опасно. Они выходят из-под контроля.
– Заткнись ты, ради бога!
Каф поднялся, и голос его был так же ровен и бесцветен, как и всегда:
– Нет никакой необходимости отправляться сейчас на поиски. Это ведет к неоправданному риску.
– Если услышишь, что он нажал на кнопку тревоги, немедленно сообщи мне по рации, – сказал Пью, защелкивая шлем и бросаясь к люку.
Когда он выбежал наружу, Либра уже подобрала свои драные юбки, и вся она, до самого красного горизонта, отплясывала танец живота.
Из-под купола Каф видел, как флаер набрал скорость,
взвился вверх в красном туманном свете, подобно метеору, и исчез на северо-востоке. Вершина купола вздрогнула, земля кашлянула. К югу от купола взвился сифон, выплюнувший столб черного газа.
Пронзительно зазвенел звонок, и на центральном контрольном пункте вспыхнул красный свет. Под огоньком была надпись: «Скафандр № 2» и от руки нацарапано
«А.Г.М.». Каф не выключил сигнала. Он попытался связаться с Мартином, потом с Пью, но не получил ответа.
Когда толчки прекратились, Каф вернулся к работе и закончил то, что они делали с Пью. Это заняло часа два.
Через каждые полчаса он пытался связаться со «Скафандром № 2» и не получал ответа, затем радировал «Скафандру № 1» и тоже не получал ответа. Примерно через час красный огонек потух.
Подошло время ужинать, Каф приготовил себе ужин и съел его. Потом лег на койку.
Толчки затихли, и лишь изредка по планете прокатывались отдаленный гул и дрожь. Солнце висело на западе, светло-красное, огромное, похожее на чечевицу, и все никак не садилось. Было тихо.
Каф поднялся и принялся расхаживать по заваленному вещами, неприбранному пустынному куполу. Здесь царила тишина. Он подошел к магнитофону и поставил первую попавшуюся ленту. Это была электронная музыка, полностью лишенная гармонии и голосов. Музыка кончилась.
Тишина осталась.
Над грудой образцов породы висел форменный комбинезон Пью с оторванной пуговицей. Каф посмотрел на него.
Тишина тянулась бесконечно.
Детский сон: на свете нет никого, кроме меня. Во всем мире ни одного живого существа.
Низко над долиной, к северу от купола, сверкнул метеорит.
Каф открыл рот, будто хотел что-то сказать, но изо рта не раздалось ни звука. Он быстро подошел к северной стене и вгляделся в желатиновый красный сумрак.
Звездочка подлетела и опустилась. Перед люком возникли две фигуры. Когда они вошли, Каф стоял у люка.
Скафандр Мартина был покрыт пылью и оттого казался таким же старым и покоробленным, как поверхность Либры. Пью поддерживал его под руку.
– Он ранен?
Пью снял скафандр, помог Мартину раздеться.
– Перенервничал, – бросил он.
– Обломок скалы упал на ракету, – сказал Мартин, усаживаясь за стол и размахивая руками. – Правда, меня там не было. Я, понимаешь, приземлился и копался в угольной пыли, когда почувствовал, что все вокруг затряслось. Тогда я выбрался на участок вулканической породы, который присмотрел еще сверху. Так было надежнее и дальше от скал. И тут же увидел, как кусок планеты рухнул на мою ракету. Ну и зрелище! Вдруг мне пришло в голову, что запасные баллоны с кислородом остались в ракете, так что я нажал на кнопку тревоги. Но по радио связаться ни с кем не смог – во время землетрясений здесь всегда так бывает. Я так и не знал, получили ли вы мой сигнал. А вокруг все прыгало, и скалы разваливались на глазах. Летели камни, и пыль поднялась такая, что в метре ничего не видно. Я уже начал подумывать, чем буду дышать через пару часов, как увидел, что старик Оуэн кружит над траншеей в пыли и камнях, словно огромная, уродливая летучая мышь…
– Есть будешь? – спросил Пью.
– Конечно, буду. А как ты здесь пережил землетрясение, Каф? Все в порядке? Не такое уж и сильное было землетрясение, правда? Что показывал сейсмограф? Мне не повезло, что я оказался в самом эпицентре. По-моему, там были все пятнадцать баллов по шкале Рихтера, вся планета раскалывалась…
– Садись, – сказал Пью. – И ешь.
После того как Мартин поел, поток его слов иссяк. Он доплелся до койки, все еще стоявшей в том дальнем углу, куда он поставил ее, когда Пью стал жаловаться на его храп.
– Спокойной ночи, дырявый валлиец, – крикнул он.
– Спокойной ночи.
Мартин замолчал. Пью затемнил купол, убавил свет в лампе, пока она не стала гореть желтым светом свечи. Затем, не говоря ни слова, сел и погрузился в свои мысли.
Какое-то время ничто не нарушало тишину. Ее прервал голос Кафа.
– Я кончил расчеты.
Пью благодарно кивнул.
– Я получил сигнал Мартина, но не смог связаться ни с ним, ни с вами.
Сделав над собой усилие, Пью сказал:
– Мне не следовало улетать. У него еще оставалось кислорода на два часа даже с одним баллоном. Когда я помчался туда, он мог направиться домой. Так бы мы друг друга потеряли. Но я перепугался.
Вновь наступила тишина, нарушаемая лишь негромким храпом Мартина.
– Вы любите Мартина?
Пью зло взглянул на Кафа:
– Мартин мой друг. Мы работали вместе, и он хороший человек. – Он помолчал. Потом добавил: – Да, я его люблю. Почему ты об этом спрашиваешь?
Каф ничего не ответил, только посмотрел на Пью. Выражение его лица изменилось, словно он увидел что-то, чего раньше не замечал. И голос его изменился:
– Как вы можете… как вам…
Но Пью не сумел ему ответить.
– Не знаю, – сказал он. – В какой-то степени это дело привычки. Не знаю. Каждый из нас живет сам по себе. Что же делать, если не протянуть другому руку в темноте?
Странный, горячечный взгляд Кафа потух, словно сожженный собственной силой.
– Устал я, – сказал Пью. – Ну и жутко же было разыскивать его в черной пыли и грязи, когда в земле раскрывались и захлопывались жадные пасти… Пойду-ка спать.
Корабль начнет передачу часов в шесть. Он встал и потянулся.
– Там клон, – сказал Каф. – Они везут сюда другую исследовательскую команду.
– Ну и что?
– Клон из двенадцати человек. Я их видел на «Пассерине».
Каф сидел в желтом тусклом свете лампы и, казалось,
видел сквозь свет то, чего он так боялся: новый клон, множественное «я», к которому он не принадлежал. Потерянная фигурка из сломанного набора, фрагмент, не привыкший к одиночеству, не знающий даже, как можно отдавать свою любовь другому человеку. Теперь ему предстоит встретиться с абсолютом, с замкнутой системой клона из двенадцати близнецов. Слишком многое требовалось от бедолаги. Проходя мимо, Пью положил руку ему не плечо:
– Шеф не будет требовать, чтобы ты оставался здесь с клоном. Можешь вернуться домой. А может, раз уж ты космический разведчик, отправишься дальше с нами? Мы найдем тебе дело. Не спеши с ответом. Ты справишься.
Пью замолчал. Он стоял, расстегивая куртку, чуть сгорбившись от усталости. Каф посмотрел на него и увидел то, чего не видел раньше. Увидел его, Оуэна Пью, человека, протягивающего ему руку в темноте.
– Спокойной ночи, – пробормотал полусонный Пью, залезая в спальный мешок.
И он услышал, как после паузы Каф ответил ему, протянув руку сквозь темноту.
Ричард МАТЕСОН
СТАЛЬНОЙ ЧЕЛОВЕК
Из здания вокзала вышли двое, таща за собой покрытый брезентом предмет. Они поплелись по длинной платформе, остановились у одного из последних вагонов и, наклонившись, с трудом подняли предмет и установили его на вагонной площадке. Пот катился по их лицам, а мятые рубашки прилипли к мокрым спинам. Вдруг из-под брезента выскочило одно колесико и покатилось вниз по ступенькам. Тот, который был сзади, успел подхватить его и передал человеку в старом коричневом костюме, что был впереди.
– Спасибо, – сказал человек в коричневом костюме и положил колесико в карман пиджака.
Войдя в вагон, они покатили покрытый брезентом предмет по проходу между сиденьями. Поскольку одного из колесиков не хватало, тяжелый предмет все время кренился на одну сторону, и человеку в коричневом костюме
– Келли – приходилось подпирать его плечом. Он тяжело дышал и время от времени слизывал крошечные капельки пота, которые тут же снова появлялись на верхней губе.
Добравшись до середины вагона, они втащили предмет между сиденьями; Келли просунул руку в прорезь чехла и начал искать нужную кнопку.
Предмет тяжело опустился в кресло около окна.
– О господи, как он скрипит! – вырвалось у Келли.
Его спутник, Поул, пожал печами и с глубоким вздохом сел в кресло.
– А ты что думал? – спросил он после минутного молчания.
Келли стащил с себя пиджак, бросил его на сиденье напротив и сел рядом с предметом.
– Ну что ж, как только нам заплатят, мы сразу купим для него все, что нужно, – сказал он и с беспокойством взглянул на предмет.
– Если нам удастся найти все, что нужно, – заметил
Поул. Он сидел сгорбившись, худой как щепка – ключицы выпирали из-под рубахи, – и смотрел на Келли.
– А почему бы нет? – спросил Келли, вытирая лицо уже мокрым платком и засовывая его в карман.
– Потому что этого никто больше не производит, – ответил Поул с притворным терпением, словно ему десятки раз приходилось повторять одно и то же.
– Ну и идиоты, – прокомментировал Келли. Он стащил с головы шляпу и смахнул пот с лысины, обозначавшейся посреди его рыжей шевелюры. – Б-2 – их же везде еще полным-полно.
– Так уж и полным-полно, – сказал Поул, положив ногу на предмет.
– Убери ногу! – рявкнул Келли.
Поул с трудом опустил ногу вниз и вполголоса выругался. Келли вытер платком внутреннюю сторону шляпы, хотел надеть ее, но передумал и бросил на сиденье.
– Господи, какая жарища! – сказал он.
– Будет еще похлестче, – заметил Поул.
Напротив них, по другую сторону прохода, только что пришедший пассажир кряхтя поднял свой чемодан, положил на багажную полку и, тяжело отдуваясь, снял пиджак.
Келли посмотрел на него, потом отвернулся.
– Ты думаешь, в Мэйнарде будет похлестче? – спросил он с беспокойством.
Поул кивнул. Келли с трудом проглотил слюну. У него внезапно пересохло горло.
– Надо было нам хватить еще по бутылочке пива, –
сказал он.
Поул, не отвечая, смотрел в окно на колышущееся марево, которое поднималось от раскаленной бетонной платформы.
– Я уже выпил три бутылки, – продолжал Келли, – но пить хочется еще больше прежнего.
– Угу, – буркнул Поул.
– Как будто после Филли во рту не было маковой росинки, – сказал Келли.
– Угу, – снова буркнул Поул.
Келли замолчал, уставившись на Поула. Лицо Поула казалось особенно белым на фоне черных волос, у него были большие руки, намного больше, чем нужно для человека его сложения. Но это были золотые руки. «Да, Поул – один из лучших механиков, – подумал Келли, – один из самых лучших».
– Ты думаешь, он выдержит? – спросил Келли.
Поул хмыкнул и улыбнулся печальной улыбкой.
– Если только на него не будут сыпаться удары, – ответил он.
– Нет-нет, я не шучу, – сказал Келли.
Темные безжизненные глаза Поула скользнули по зданию станции и остановились на Келли.
– Я тоже, – подчеркнул он.
– Ну ладно, брось глупые шутки.
– Стил, – сказал Поул, – ведь ты знаешь это не хуже меня. Он ни на что не годен.
– Неправда, – буркнул Келли, ерзая на сиденье. – Ему нужен только пустяковый ремонт. Перебрать движущиеся части, смазать – и он будет совсем как новенький.
– Да-да, «пустяковый» ремонт на три-четыре тысячи долларов, – саркастически заметил Поул. – И детали, которые больше не производятся. – Он снова уставился в окно.
– Ну брось, дела не так уж плохи, – примирительно сказал Келли. – Послушать тебя, так это форменный металлолом.
– А разве не так?
– Нет, – с раздражением сказал Келли, – не так.
Поул пожал плечами, и его длинные гибкие пальцы бессильно легли на колени.
– Ведь нельзя же списывать его только потому, что он не первой молодости, – сказал Келли.
– Не первой молодости? – иронически повторил Поул.
– Да это же совершенная развалина!
– Будто бы, – Келли набрал полную грудь горячего воздуха и медленно выпустил его через широкий расплющенный нос. Он отеческим взглядом окинул предмет, покрытый брезентом, словно сердился на сына за его недостатки, но еще более сердился на тех кто осмелился на них указать.
– В нем еще есть порох, – сказал он наконец.
Поул молча посмотрел на платформу. Его взгляд механически скользнул по тележке носильщика, полной чемоданов и свертков.
– Скажи… у него все в порядке? – спросил Келли, в то же время боясь ответа.
Поул повернулся к нему.
– Не знаю, Стил, – откровенно сказал он. – Ему нужен ремонт, тебе это известно. Пружина мгновенной реакции в его левой руке рвалась столько раз, что теперь она состоит из отдельных кусочков. Слева у него нет надежной защиты. Левая сторона головы разбита, глазная линза треснула.
Ножные кабели износились и ослабли, и подтянуть их невозможно. Даже гироскоп у него может каждую минуту выйти из строя.
Поул отвернулся и, скорчив гримасу, снова уставился на платформу.
– Не говоря уже о том, что у нас не осталось ни капли масла, – добавил он.
– Ну, масло-то мы раздобудем! – сказал Келли с наигранной бодростью.
– Да, но после боя, после боя! – огрызнулся Поул. – А
ведь смазка нужна ему до боя! Скрип его суставов будет слышен не только на ринге, а во всем зале! Он скрипит как паровой экскаватор. Если он продержится два раунда, это будет чудом! И вполне вероятно, что нас обмажут дегтем, вываляют в перьях и вынесут из города на шесте.
– Не думаю, что дойдет до этого, – с тревогой произнес
Келли, проглотив комок в горле.
– Не думаю, не думаю! – передразнил его Поул. – Будет еще хуже, вот посмотришь! Стоит зрителям увидеть нашего Боевого Максо из Филадельфии, как они поднимут такой крик, только держись! Если нам удастся улизнуть, получив пятьсот долларов, мы сможем считать себя счастливчиками.
– Но контракт уже подписан, – твердо сказал Келли, –
теперь им нельзя идти на попятную. Копия лежит у меня в кармане, вот здесь. – Келли похлопал себя по карману.
– В контракте речь идет о Боевом Максо, – возразил
Поул, – в нем ни слова об этой… паровой лопате.
– Максо справится, – сказал Келли, убеждая скорее самого себя. – Он совсем не так безнадежен, как ты думаешь.
– Не так безнадежен? В борьбе против Б-7?
– Это только экспериментальный образец, – напомнил ему Келли. – Во многом несовершенный.
Поул отвернулся и снова уставился в окно.
– Боевой Максо, – проговорил он, – Максо – на один раунд! Сенсация – боевой экскаватор на ринге!
– Заткнись! – внезапно рявкнул Келли, покраснев как рак. – Ты все время говоришь о нем как о куче металлолома, больше ни на что не годной. Не забудь, что он выступал на ринге двенадцать лет и будет еще выступать не один год! Положим, ему нужна смазка. И пустяковый ремонт. Ну и что? За пятьсот зелененьких мы ему сможем купить целую ванну машинного масла. И новую пружину для левой руки. И новые кабели для ног. И все остальное.
Только бы получить эти пять сотен! Господи!
Он откинулся на спинку сиденья, еле переводя дух после длинной речи в такую жару, и начал вытирать щеки мокрым носовым платком. Внезапно он повернулся и взглянул на сидящего рядом Максо, затем нежно похлопал робота по бедру. От тяжелого прикосновения его руки сталь под брезентом загудела.
– Ты с ним справишься, – сказал Келли своему боксеру.
Поезд мчался по раскаленной от солнца прерии. Все окна в вагоне были открыты, но ветер, врываясь, только обдавал невыносимым жаром.
Келли сидел, склонившись над газетой. Мокрая рубаха облипала его широкую грудь. Поул тоже снял пиджак и сидел, уставившись незрячим взглядом на проносящуюся мимо пустыню. Максо, по-прежнему покрытый брезентовым чехлом, сидел, привалившись к стенке вагона, и ритмично покачивался в такт движению поезда.
Келли сложил газету.
– Ни единого слова! – с негодованием воскликнул он.
– А ты что думал? – сказал Поул, не оборачиваясь. –
Района Мэйнарда эти газеты не касаются.
– Максо – это тебе не какая-нибудь железка из Мэйнарда. Когда-то он был знаменитым боксером. – Келли пожал могучими плечами. – Я думал, что они помнят его.
– Помнят? Из-за двух схваток в «Мэдисон сквер гардене» три года назад? – спросил Поул.
– Нет, парень, не три года назад, – возразил Келли.
– Ну как же так? Это было в семьдесят седьмом, – сказал Поул, – а сейчас тысяча девятьсот восьмидесятый.
Меня всегда учили, что восемьдесят отнять семьдесят семь будет три.
– Он выступал в «Гардене» в конце семьдесят седьмого, перед самым рождеством. Разве ты не помнишь? Это было как раз перед тем, как Мардж…
Келли не окончил фразы. Он опустил голову и уставился на газету, будто увидел в ней фотографию Мардж, снятую в тот день, когда жена оставила его.
– Не все ли равно? – пожал плечами Поул. – Кого из двух тысяч боксеров страны помнят по сей день? В газеты попадают только чемпионы и новые модели.
Поул перевел взгляд на покрытого брезентом Максо.
– Я слышал, что «Моулинг корпорейшн» выпускает в этом году модель Б-9, – сказал он.
– Вот как? – спросил Келли без всякого интереса, оторвавшись на мгновение от газеты.
– Пружины суперреакции в обеих руках – и в ногах тоже. Сделан целиком из сплавов алюминия и стали.
Тройной гироскоп. Тройная проводка. Вот, наверно, хороша штучка!
Келли опустил газету на колени и пробормотал:
– Я думал, что его запомнят. Ведь это было совсем недавно…
Внезапно черты его лица смягчились, и он улыбнулся.
– Да, мне никогда не забыть того вечера, – сказал он, погружаясь в воспоминания. – Никто и не подозревал, что произойдет. Все ставили на Каменного Димзи, Димзи-
Скалу, как его называли. Три к одному на Димзи, Каменного Димзи – четвертого в списке лучших полутяжеловесов мира. Он обещал больше всех. – Келли улыбнулся и глубоко вздохнул. – И как мы его обработали! – сказал он.
– Я до сих пор помню этот левый встречный – бэнг! Прямо в челюсть! И непобедимый Димзи-Скала рухнул на пол, как… как скала, да-да! – Снова счастливая улыбка озарила лицо Келли. – Да, парень, что это был за вечер, –
прошептал он, – что за вечер!
Келли заметил, что их сосед-пассажир смотрит на
Максо. Он перехватил взгляд незнакомца, улыбнулся и кивнул в сторону неподвижной фигуры.
– Мой боксер, – сказал он громко.
Человек вежливо улыбнулся и приложил руку к уху.
– Мой боксер, – повторил Келли громче. – Боевой
Максо. Слышали о нем?
Человек несколько секунд смотрел на Келли, затем покачал головой.
– Да, мой Максо был одно время почти чемпионом в полутяжелом, – улыбнулся Келли, обращаясь к незнакомцу. Тот вежливо кивнул.
Неожиданно для самого себя Келли встал, пересек проход и сел напротив пассажира.
– Чертовски жарко, – сказал он.
– Да, очень жарко, – ответил человек, улыбнувшись ему.
– Здесь еще не ходят новые поезда, а?
– Нет, – ответил незнакомец, – еще не ходят.
– А у нас в Филли уже ходят, – сказал Келли. – Мы с моим другом оба оттуда. И Максо тоже.
Келли протянул руку.
– Меня зовут Келли, Стил Келли, – представился он.
Человек удивленно посмотрел на него и слабо пожал протянутую руку. Затем он незаметным движением вытер ладонь о штаны.
– Меня называли Стальной Келли, – продолжал Келли.
– Когда-то я сам занимался боксом. Еще до запрещения, конечно. Выступал в полутяжелом.
– Неужели?
– Совершенно верно. Меня называли «стальной», потому что никто не мог послать меня в нокаут. Ни разу.
– Понимаю, – вежливо ответил человек.
– Мой боксер. – Келли кивнул в сторону Максо. – Тоже в полутяжелом. Сегодня вечером выступаем в Мэйнарде. Вы не туда едете?
– Я – нет, – сказал незнакомец. – Я схожу в Хейесе.
– Ага. Очень жаль. Будет хорошая схватка. – Келли тяжело вздохнул. – Да, когда-то мой Максо был четвертым в своем весе. Но он снова вернется на ринг, обязательно вернется. Это он нокаутировал Димзи-Скалу в конце семьдесят седьмого. Вы, наверно, читали об этом?
– Вряд ли, – ответил незнакомец.
– Угу, – кивнул Келли. – Это было во всех газетах восточного побережья. Нью-Йорк, Бостон, Филли. Самая большая сенсация года.
Он почесал лысину.
– Мой Максо – модель Б-2, то есть вторая модель, выпущенная Моулингом, – пояснил Келли. – Его выпустили еще в семидесятые годы. Да-да, в семидесятые.
– Вот как, – ответил незнакомец.
Келли улыбнулся.
– Да, – продолжал он. – Я и сам когда-то выступал на ринге. Тогда еще дрались люди, а не роботы. До запрещения. – Он покачал головой, затем еще раз улыбнулся. – Ну что ж, мой Максо справится с этим Б-7. Не знаю даже, как его зовут, – добавил Келли с бодрой улыбкой.
Внезапно его лицо потемнело, и в горле застрял комок.
– Мы ему покажем, – прошептал он чуть слышно.
Когда незнакомец сошел с поезда, Келли вернулся на свое место. Он вытянул ноги, положил их на сиденье напротив и накрыл лицо газетой.
– Вздремну малость, – сказал он.
Поул хмыкнул.
Келли сидел, откинувшись назад, глядя невидящими глазами на газету перед самым носом. Он чувствовал, как
Максо время от времени ударяет стальным боком по его плечу, и слышал скрип заржавленных суставов боксераробота.
– Все будет в порядке, – пробормотал он ободряюще.
– Что ты сказал? – спросил Поул.
– Ничего. Я ничего не говорил.
В шесть часов вечера, когда поезд замер у перрона
Мэйнарда, они осторожно опустили Максо на бетон и выкатили его на привокзальную площадь. С другой стороны площади их окликнул шофер одинокого такси.
– У нас нет денег на такси, – сказал Поул.
– Но не можем же мы катить его по улицам, – возразил
Келли. – Кроме того, мы не знаем, где находится стадион
Крюгера.
– А на какие деньги мы будем обедать?
– Отыграемся после боя, – сказал Келли. – Я куплю тебе бифштекс толщиной в три дюйма.
Тяжело вздохнув, Поул помог выкатить Максо на мостовую, такую раскаленную, что жар ощущался сквозь подошвы ботинок. У Келли опять проступили капельки пота на верхней губе, и он снова начал ее облизывать.
– Господи, и как они только здесь живут? – спросил он. Когда они подняли Максо и начали втискивать его в такси, еще одно колесико отвалилось и упало на мостовую. Поул яростно пнул его ногой.
– Что ты делаешь? – озадаченно спросил Келли.
Поул молча влез в машину и прилип к горячей кожаной обшивке сиденья, а Келли по мягкой асфальтовой мостовой поспешил за катящимся колесиком и поймал его.
– Ну, куда, хозяин? – спросил шофер.
– Стадион Крюгера, – ответил Келли.
– Будет сделано. – Шофер протянул руку и нажал на кнопку стартера. Ротор загудел, и машина мягко заскользила по дороге.
– Какая муха тебя укусила? – спросил Келли вполголоса. – Больше чем полгода мы бились, чтобы заключить контракт, а теперь, когда нам наконец удалось, тебе все не по нраву.
– Тоже мне контракт, – проворчал Поул. – Мэйнард, штат Канзас – боксерская столица Соединенных Штатов!
– Ведь это только начало, правда? – спросил Келли. –
После этой схватки у нас будут деньги на хлеб и масло, верно? Мы приведем Максо в порядок. И если нам повезет, мы окажемся…
Поул с отвращением огляделся вокруг.
– Я не понимаю тебя, – спокойно продолжал Келли. –
Почему ты так легко списываешь со счетов нашего Максо? Ты что, не хочешь его победы?
– Стил, я механик класса А, – сказал Поул притворно терпеливым голосом. – Механик, а не мечтатель. Наш
Максо – это груда металлолома против самого современного Б-7. Это вопрос простой механики, Стил, вот и все.
Если Максо удастся сойти с ринга на своих двоих, считай, что ему необыкновенно повезло.
Келли сердито отвернулся.
– Это экспериментальный Б-7, – пробормотал он, –
экспериментальный, с массой недоделок.
– Конечно, конечно, – поспешил согласиться Поул.
Несколько минут они сидели молча, глядя на проносящиеся мимо дома. Келли сжимал кулаки, его плечо касалось стального плеча Максо.
– Вы видели в бою Мэйнардскую Молнию? – спросил
Поул шофера.
– Молнию? Конечно, видел! Да, ребята, это настоящий боец! Выиграл семь боев подряд! Даю голову на отсечение, он пробьется в чемпионы. Между прочим, сегодня вечером он дерется с каким-то ржавым Б-2 с восточного побережья.
Келли уставился на затылок шофера, мускулы на его скулах напряглись до боли.
– Вот как? – угрюмо пробормотал он.
– Да уж будьте спокойны, наша Молния разнесет…
Внезапно шофер замолчал и посмотрел на Келли.
– Послушайте, ребята, а вы не… – начал он, затем снова повернулся к рулю. – Я не знал, мистер, – сказал он примирительно, – я просто пошутил.
– Ладно, что там, – неожиданно сказал Поул. – Ты был прав.
Келли тотчас же повернулся к Поулу.
– Заткнись! – прошипел он сквозь зубы и уставился в окно. На его лице застыло каменное выражение.
– Я куплю ему немного смазки, – сказал он после минутного молчания.
– Великолепно! – с сарказмом заметил Поул. – А мы сами будем есть инструменты.
– Иди к черту! – огрызнулся Келли.
Такси остановилось у входа в огромное кирпичное здание стадиона, и Максо вынесли на тротуар. Поул потянул робота на себя, и Келли, нагнувшись, вставил колесико. Затем Келли заплатил шоферу точно по счетчику, и они покатили Максо к входу.
– Посмотри, – сказал Келли, кивнув на огромный щит рядом с входом. Третья строка гласила:
МЭИНАРДСКАЯ МОЛНИЯ, Б-7, п/т, ПРОТИВ БОЕ-
ВОГО МАКСО, Б-2, п/т.
– Это будет великая схватка, – сухо прокомментировал
Поул.
Улыбка исчезла с лица Келли. Он повернулся к Поулу, чтобы оборвать его, но, сжав губы, промолчал.
Когда они подкатили Максо к двери и начали поднимать его по ступенькам, колесико снова выскочило и покатилось по тротуару. Ни один из них не сказал ни слова.
Внутри было еще жарче, чем на улице. Неподвижный воздух казался осязаемым.
– Захвати колесико, – бросил Келли и направился по коридору к стеклянной двери менеджера. Остановившись возле нее, он осторожно постучал.
– Войдите! – раздался голос. Келли распахнул дверь и, сняв шляпу, вошел в комнату.
Толстый лысый человек, сидевший за огромным столом, поднял голову. На его лысине сверкали капельки пота.
– Я хозяин Боевого Максо, – сказал Келли, улыбаясь и протягивая руку. Человек за столом, казалось, не заметил ее.
– Я уж думал, вы не доберетесь вовремя, – сказал менеджер мистер Водоу. – Ваш боксер в хорошей форме?
– В великолепной, – ответил Келли не моргнув глазом.
– Лучше быть не может! Мой механик – а у меня механик класса А – разобрал его и проверил все механизмы как раз перед самым отъездом из Филли.
На лице менеджера отразилось недоверие.
– Он в отличной форме, – еще раз повторил Келли.
– Вам чертовски повезло, что подвернулся контракт для вашего Б-2, – сказал мистер Водоу. – Вот уже больше двух лет на нашем ринге не выступал ни один робот класса ниже чем Б-4. Но боксер, которого мы наметили для этой схватки, попал в автомобильную катастрофу и погиб.
Келли сочувственно кивнул.
– Сейчас вам не о чем беспокоиться. Мой боксер в отличной форме. Вы, наверно, помните, как в Мэдисоне три года назад он нокаутировал Димзи-Скалу.
– Мне нужна хорошая схватка, – сказал толстяк.
– И вы ее получите, – ответил Келли, чувствуя тянущую боль в области желудка. – Максо великолепно подготовлен. Вы сами увидите. Он в отличной форме.
– Мне нужен хороший бой.
Несколько мгновений Келли молча смотрел на толстяка. Затем он спросил:
– У вас есть свободная раздевалка? Механик и я хотели бы сейчас поесть.
– Третья дверь по коридору направо, – ответил мистер
Водоу. – Ваш бой начинается в восемь тридцать.
Келли кивнул.
– О’кей.
– И чтобы без опозданий, – добавил менеджер и снова склонился над столом.
– Э… а как относительно… – начал Келли.
– Деньги после боя, – прервал его мистер Водоу.
Улыбка исчезла с лица Келли.
– О’кей, – сказал он. – Увидимся после боя.
Поняв, что мистер Водоу не собирается отвечать, Келли повернулся к выходу.
– Не хлопайте дверью, – сказал менеджер, не поднимая головы. Келли осторожно прикрыл за собой дверь.
– Пошли, – бросил он Поулу. Вместе они покатили
Максо к раздевалке и, втащив его туда, поставили в угол.
– Теперь неплохо бы проверить его, – напомнил Келли.
– Теперь неплохо бы подумать о моем брюхе, – огрызнулся механик. – Я не ел уже целый день.
Келли тяжело вздохнул.
– Ну ладно, пошли, – сказал он.
Но ему трижды пришлось хлопнуть дверью, прежде чем он услышал щелканье замка. Наконец Келли пошел к выходу, качая головой. Машинально он поднял к лицу левую руку и посмотрел на запястье; там виднелся лишь бледный след от заложенных в ломбарде часов.
– Сколько времени? – спросил он механика.
– Шесть двадцать пять, – ответил Поул.
– Придется есть побыстрее. Нужно как следует проверить его перед схваткой.
– А зачем?
– Ты слышал, что я сказал? – Келли сердито посмотрел на Поула.
– Ну ладно, ладно.
– Он должен вырвать победу у этого сукина сына Б-7,
– процедил Келли, едва разжимая губы.
– Конечно. Зубами.
– Ну и город! – с отвращением бросил Келли, когда они после обеда отправились на стадион.
– Я же говорил тебе, что здесь нет машинного масла, –
сказал Поул. – Зачем оно им? Б-2 тут больше не выступают. Максо, наверно, единственный Б-2 на тысячу миль в округе.
Келли быстро прошел по коридору и отомкнул дверь в раздевалку. Стоя на пороге, он повернулся к механику:
– Принимайся за работу, времени совсем в обрез.
Поул подошел к Максо, стащил с него брезентовый чехол, наклонился и начал отвертывать гайки. Аккуратно разложив их на скамье, он выбрал длинную отвертку и принялся за работу.
Келли задержал взгляд на кудрявой голове Максо.
«Если бы я не видел, что у него внутри, – уже в который раз подумал Келли, – я не сумел бы отличить его от человека». Только механики знали, что боксеры-роботы модели Б не настоящие люди. Часто и зрители принимали их за людей, и тогда в редакции газет шли гневные письма с протестами против выступления людей на рингах страны, несмотря на запрет. Даже с кресел возле самого ринга движения боксеров-роботов, их волосы, кожа – все выглядело совершенно естественным. У Моулинга был специальный патент на все это.
При виде своего боксера Келли улыбнулся.
– Хороший парень, – пробормотал он.
Поул не слышал его слов. Он был поглощен работой,
его искусные руки сновали в гуще проводов, проверяя контакты и реле.
– Ну как он, в порядке? – обеспокоенно спросил Келли.
– В полном порядке, – ответил механик. Он осторожно взял крошечную стеклянную трубочку в стальной оправе.
– Если только эта штука не подкачает, – сказал он.
– Что это такое?
– Это субпара, – раздраженно объяснил Поул. – Я уже предупреждал тебя об этом восемь месяцев назад, когда
Максо дрался последний раз.
Келли нахмурился.
– После этого боя мы ему купим новую, – сказал он.
– Семьдесят пять долларов, – прошептал Поул. Ему почудилось, как деньги улетают от него на зеленых крыльях.
– Не подкачает, – сказал Келли больше себе, чем Поулу. Механик пожал плечами и вставил трубку обратно. Затем он утопил ряд кнопок на основном щитке управления.
Максо шевельнулся.
– Осторожнее с левой рукой, – предупредил его Келли,
– сбереги ее для боя.
– Если она не работает сейчас, она не будет работать и на ринге, – ответил Поул.
Он нажал еще кнопку, и левая рука Максо начала описывать небольшие концентрические круги. Затем Поул нажал кнопку, вводящую в действие защитную систему робота, и, отступив на шаг, нанес удар, целясь в правую часть подбородка Максо. Тотчас же рука робота стремительно поднялась вверх и прикрыла лицо. Левый глаз
Максо сверкнул, подобно рубину на солнце.
– Если левая глазная линза выйдет из строя… – пробормотал механик.
– Не выйдет, – сказал Келли, стиснув зубы. Он не отрываясь смотрел, как Поул имитировал удар левой в голову. Чуть замешкавшись, рука взлетела вверх и парировала удар. Суставы робота заскрипели.
– Достаточно, – сказал Келли. – Левая рука действует.
Проверь все остальное.
– В бою ему придется отразить больше чем два удара,
– заметил механик.
– Левая рука в порядке, – отчеканил Келли. – Проверяй остальное, тебе говорят.
Поул засунул руку в грудную клетку Максо и включил ножные центры – ноги стали двигаться. Робот поднял левую ногу и вытряхнул колесико. Затем он, покачиваясь, стал на обе ступни; он напоминал калеку, который после длительной болезни поднялся на ноги.
Поул протянул руку и нажал кнопку «На полную мощность», затем быстро отскочил назад. Глаза робота остановились на механике, и Максо начал скользить вперед, прикрывая лицо руками и высоко подняв плечи.
– Черт побери, – прошептал Поул, – скрип будет слышен даже в последних рядах зала.
Келли поморщился, прикусив губу. Он следил за тем, как Поул нанес удар справа и как Максо резким движением поднял руку для защиты. В горле у него все пересохло, ему стало трудно дышать.
Поул двигался быстро, робот неотступно шел за ним по пятам; его резкие судорожные движения контрастировали с мягкими, плавными движениями человека.
– Да, он великолепен, – съязвил механик. – Действительно великий боксер!
Максо продолжал атаковать механика, подняв руки в защитной стойке. Поул изловчился и, наклонившись вперед, нажал кнопку «Стой». Максо замер.
– Послушай, Стил, мы должны поставить его на оборону, – сказал механик. – Если он попытается перейти в наступление, Б-7 разнесет его на куски.
Келли откашлялся.
– Нет, – сказал он.
– О господи, подумай хоть немного, Стил! – взмолился
Поул. – Ведь Максо лишь Б-2, ему все равно крышка, так давай спасем хотя бы часть деталей!
– Они хотят, чтобы он наступал, – сказал Келли. – Так и записано в контракте.
Поул отвернулся.
– Кому все это нужно? – прошептал он.
– Проверь-ка его еще раз.
– Зачем? От этого лучше не будет.
– Делай, как тебе говорят! – закричал Келли, давая выход ярости, накопившейся в нем за день.
Поул послушно кивнул, повернулся к роботу и нажал кнопку. Левая рука Максо взлетела вверх, затем внутри что-то треснуло, и рука упала вниз, ударившись о бок с металлическим звоном.
Келли вздрогнул, на его лице застыла маска отчаяния.
– Боже мой! Ведь я тебя просил не трогать левую руку!
– вырвалось у него. Он подбежал к механику. Тот, побледнев, изо всех сил нажимал кнопку. Левая рука не двигалась,
– Я же говорил: оставь левую руку в покое! – заорал
Келли. – Неужели непонятно… – Келли оборвал фразу на полуслове: голос отказал ему.
Поул не ответил. Он схватил отвертку и начал колдовать над щитком, прикрывающим механизм левой руки.
– Если ты сломал ему руку, клянусь богом, я… – заикаясь, начал Келли.
– Если я сломал руку! – огрызнулся механик. – Послушай, ты, безмозглая дубина! Эта развалина уже три года держалась на честном слове!
Келли сжал кулаки, его глаза налились кровью.
– Сними щиток, – приказал он.
– С-с-сукин сын, – шептал Поул дрожащим голосом, отвертывая последний болт на плечевом щитке. – Попробуй найди такого механика, который все эти годы ремонтировал бы этот экскаватор лучше меня! Найди хоть одного! Келли не отвечал. Он стоял и смотрел, как механик снимает щиток.
Как только щиток был снят, пружина сломалась пополам, и кусок ее со звоном отлетел в другой угол комнаты.
Поул хотел что-то сказать, но не мог. Как зачарованный, он смотрел, не отрываясь, на пепельное лицо Келли.
Келли повернулся к механику.
– Почини его, – сказал он хриплым голосом.
Поул с трудом проглотил слюну.
– Стил, я не…
– Почини его!
– Я не могу, Стил! Эта пружина латалась уже столько раз, что ее больше нельзя чинить, на ней живого места нет!
– Ты ее сломал. Теперь почини! – Пальцы Келли тисками сжали руку механика. Поул рванулся в сторону.
– Отпусти меня!
– Что с тобой, Поул? – неожиданно тихо спросил Келли. – Ты ведь знаешь, что мы должны починить эту пружину! Должны!
– Стил, нам нужна новая пружина.
– Так найди ее!
– А где? В этом городе нет таких пружин, Стил! И, кроме того, у нас нет шестнадцати долларов…
– О… боже мой, – прошептал Келли. Его рука разжалась и бессильно повисла. Он повернулся, нетвердыми шагами направился к скамье, сел и долго смотрел на высокую неподвижную фигуру Максо.
Поул тоже застыл на месте с отверткой в руках. Он не мог отвести взгляда от лица Келли, полного отчаяния.
– Может быть, он не выйдет в зал смотреть схватку, –
чуть слышно прошептал Келли.
– Что?
Келли поднял голову и посмотрел на механика. Его лицо внезапно похудело и осунулось, бескровные губы сжались в узкую серую черту.
– Если он не выйдет в зал посмотреть схватку, может, и сойдет, – отчеканил он.
– О чем ты говоришь?
Келли встал и начал расстегивать рубашку.
– Что ты хо… – Поул, не договорив, замер с открытым ртом. – Ты сошел с ума! – прошептал он.
Келли расстегнул рубашку и начал ее стаскивать.
– Стил, ты сошел с ума! – закричал Поул. – Ты не имеешь права делать это!
Келли продолжал раздеваться.
– Но… Стил… послушай, Стил, ведь это убийство…
– Если мы не выставим боксера, нам не дадут ни копейки, – сказал Келли.
– Но ведь он убьет тебя!
Келли стянул майку и бросил ее на скамью. Его широкая грудь была покрыта густыми рыжими волосами.
– Придется сбрить волосы, – бросил он.
– Стил, не делай глупостей, – сказал Поул умоляющим голосом. – Ведь ты…
Широко раскрытыми от ужаса глазами он смотрел, как
Келли сел на скамейку и начал расшнуровывать ботинки.
– Они не позволят тебе, – внезапно начал Поул. – Ты не сумеешь провести их… – Он замолчал и сделал неуверенный шаг. – Стил, ради бога…
Келли окинул механика мертвым взглядом.
– Ты поможешь мне, – сказал он.
– Но ведь они…
– Никто не знает, как выглядит Максо. И один только
Водоу видел меня. Если он останется у себя в конторе и не выйдет посмотреть бой, все будет в порядке.
– Но…
– Они не догадаются. Роботы тоже получают синяки, у них тоже течет кровь.
– Стил, перестань, – сказал Поул дрожащим голосом.
Пытаясь овладеть собой, он сделал глубокий вдох и опустился на скамью рядом с широкоплечим ирландцем.
– Послушай, Стил, – сказал он, – в Мэриленде у меня живет сестра. Если я отобью телеграмму, она вышлет нам деньги на обратную дорогу.
Келли выпрямился и расстегнул пояс.
– Стил, я знаю парня в Филли, который по дешевке продаст Б-5, – в отчаянии продолжал Поул. – Мы соберем деньги и… Стил, ну ради бога! Он же тебя убьет! Ведь это
Б-7! Неужели ты не понимаешь? Это Бэ-Семь! Он изувечит тебя одним ударом!
Келли подошел к Максо и начал стаскивать с него трусы.
– Я не позволю тебе, Стил, – сказал Поул. – Сейчас я пойду и…
Он умолк, потому что Келли, внезапно повернувшись, схватил его за воротник рубашки и поднял на ноги. В глазах Келли не было и проблеска человечности, а хватка напоминала объятия бездушной машины.
– Пятьсот долларов! – прошипел Келли. – Ты мне поможешь, или я разобью твою голову о стену!
– Тебя убьют, – прошептал Поул, задыхаясь.
– Вот и хорошо, – ответил Келли.
Мистер Водоу вышел в коридор в тот момент, когда
Поул вел покрытого брезентом Келли к рингу.
– Быстрее, быстрее, – сказал мистер Водоу, – вы заставляете публику ждать.
Поул судорожно кивнул и быстрее повел Келли по коридору.
– А где хозяин робота? – крикнул вдогонку мистер Водоу. Поул проглотил внезапно набежавшую слюну.
– В зале, – торопливо ответил он.
Мистер Водоу что-то пробормотал, и Поул услышал, как захлопнулась дверь его конторы. «Надо было сказать ему», – прошептал он.
– Я бы тебя убил на месте, – послышался сдавленный голос из-под брезента.
Когда они повернули за угол, из зала донесся рев многотысячной толпы. Келли почувствовал, как по его виску потекла струйка пота.
– Послушай, Поул, – сказал он, – тебе придется вытирать меня в перерыве между раундами.
– В перерыве между какими раундами? – спросил механик. – Ты и одного не продержишься.
– Заткнись!
– Стил, ты думаешь, что тебе предстоит обычный бой с хорошим боксером? – спросил Поул. – Не строй иллюзий
– ты будешь драться с машиной, понимаешь, с ма-ши-ной!
Разве ты…
– Я сказал, заткнись!
– Хорошо, болван ты этакий. Но ведь если я буду вытирать тебя в перерыве, все догадаются.
– Они не видели Б-2 уже много лет, – напомнил Келли.
– Если кто-нибудь спросит, отвечай, что протекает масло.
– Хорошо, – сказал Поул, нервно облизывая губы. –
Стил, ты не сможешь…
Конец фразы внезапно потонул в реве тысячи глоток: они вошли в огромный зал. Теперь они спускались к рингу по наклонному проходу среди жаркого шумного моря зрителей. Келли старался подтягивать колено к колену и шагать рывками. Со всех сторон неслись выкрики:
– Его увезут отсюда в ящике!
– Посмотрите-ка на этого Ржавого Максо!
Но чаще всего раздавалось неизбежное: «Куча металлолома!»
Келли чувствовал, что его колени стали ватными.
«Господи, как хочется пить», – подумал он. Моментально в его мозгу возникла картина бара в Канзас-Сити, тускло освещенное помещение рядом с вокзалом, свежий ветерок, холодная, покрытая изморозью бутылка пива в руке. За последний час он не выпил ни капли воды. Он знал, что чем меньше выпьет, тем меньше будет потеть.
– Внимание! – услышал он голос Поула, механик сжал его локоть. – Ступеньки ринга, – прошептал Поул.
Келли осторожно поднялся по ступенькам и протянул руку. Она коснулась канатов ринга. Очень трудно пролезать между канатами в тесном брезентовом чехле. Келли споткнулся и едва не упал. Раздался оглушительный свист. Поул подвел его к своему углу, и Келли судорожно опустился, вернее, почти упал на табуретку-
– Эй, что делает на ринге этот подъемный кран? – закричал какой-то остряк из второго ряда Смех и аплодисменты, затем снова свист.
В следующее мгновение Поул стянул с Келли чехол, и он увидел перед собой противника.
Келли замер, глядя на Мэйнардскую Молнию.
Б-7 стоял неподвижно, его руки, закованные в черные боксерские перчатки, висели по бокам. Волосы, лицо, мускулы на руках и ногах казались идеальными. Боксер походил на окаменевшего Адониса. На секунду Келли показалось, что он перенесся в прошлое и снова стоял на ринге, принимая вызов молодого соперника. Осторожно, стараясь не выдать себя, он проглотил слюну.
– Стил, не надо, – прошептал Поул, делая вид, что закрепляет наплечную пластинку.
Келли не ответил. Не отрываясь, он смотрел на Мэйнардскую Молнию, думая о том, сколько разнообразных, мгновенно действующих реле и переключателей скрыто у того в широкой груди. Ноги у него были как лед. Казалось, какая-то холодная рука внутри него тянула за обрывки мускулов и нервов.
Краснолицый мужчина в белоснежном костюме вскарабкался на ринг и протянул руку к спустившемуся сверху микрофону.
– Итак, дамы и господа, первый номер нашей сегодняшней программы – схватка в десять раундов, полутяжелый вес, – объявил он хриплым голосом. – В красном углу – Б-2, Боевой Максо из Филадельфии!
Раздался свист и топот тысячи ног. Зрители из ближних рядов кидали в Келли бумажные стрелы и кричали:
«Металлолом!»
– В синем углу – его соперник, наш Б-7, Мэйнардская
Молния!
Одобрительные крики и громкие аплодисменты. Механик Мэйнардской Молнии коснулся кнопки на груди робота, и тот вскочил, сделав победный жест – поднял руки над головой. Толпа загудела от восторга.
– Господи, я никогда не видывал ничего подобного! –
прошептал Поул. – Это что-то новое.
– За этим боем последует еще три схватки, – объявил краснолицый мужчина и начал спускаться с ринга. Микрофон поднялся вверх, под купол арены.
На ринге остались только боксеры. За боем роботов не наблюдает рефери: если робот падает, он уже больше не может встать на ноги.
– Стил, это твой последний шанс, – прошептал Поул.
– Отойди, – прошипел Келли, не разжимая губ.
Поул взглянул на Келли, на его застывшие глаза и тяжело вздохнул.
– По крайней мере старайся держать его на дистанции,
– едва слышно пробормотал механик, пролезая под канатами.
В противоположном углу ринга боксер-робот стоял, ударяя перчаткой о перчатку, подобно молодому бойцу, которому не терпится вступить в схватку. Келли встал, и
Поул убрал с ринга табуретку. Глаза Мэйнардской Молнии неотрывно смотрели на Келли, и тот снова ощутил неприятный холодок внизу живота.
Ударил гонг.
Б-7 мягким шагом двинулся из своего угла навстречу
Келли, подняв руки в классической защитной стойке, описывая перчатками концентрические круги. Келли тоже двинулся к центру ринга, едва волоча внезапно отяжелевшие ноги. Он почувствовал, как его руки автоматически выдвинулись вперед – левая закрыла локтем живот, а правая перчатка прикрыла челюсть. Глаза Келли были прикованы к лицу Мэйнардской Молнии.
Человек и робот сблизились. Левая перчатка Б-7 устремилась вперед, и Келли машинально парировал удар, даже через перчатку почувствовав гранитную твердость кулака противника. Робот мгновенно отступил назад и тут же выбросил вперед левую руку. Келли уклонился, и ветерок от молниеносного движения перчатки противника коснулся еще щеки. В следующее мгновение Келли увидел брешь в обороне соперника, и его левая нацелилась прямо в лицо Мэйнардской Молнии. Казалось, Келли с размаху ударил по дверной ручке. Острая боль пронзила левую кисть, и Келли стиснул зубы, пытаясь удержать гримасу.
Б-7 сделал обманное движение левой, и Келли, поддавшись на обман, уклонился от удара. У него уже не было времени защититься от удара правой, которая стремительным движением рассекла воздух и, скользнув по правому виску, ободрала его. Непроизвольно Келли откинул голову назад, и в ту же секунду левый кулак робота съездил ему по уху. Келли пошатнулся, но удержался на ногах и попытался атаковать прямым слева. Робот легко уклонился, сделав шаг в сторону. Келли двинулся за ним и нанес сильнейший апперкот в челюсть противника. Снова острая боль пронзила кисть руки. Робот даже не пошатнулся, продолжая свое методичное наступление. Обманное движение левой, и тяжелый удар правой обрушился на плечо Келли.
Инстинктивно Келли сделал два шага назад и услышал, как кто-то в зале завопил: «Сядь лучше на велосипед!» В следующий миг он вспомнил предупреждение мистера Водоу насчет хорошей схватки и снова двинулся вперед.
Свинг левой попал ему прямо в сердце, и удар потряс
Келли. Боль раскаленными иглами вонзилась в сердце. Он тут же судорожно ударил левой, и кулак попал роботу прямо в нос. Ничего, кроме боли. Келли сделал шаг назад, и кулак Б-7 ударил его в грудь. Сила удара заставила его отшатнуться, и тут же последовал новый удар – в плечо.
Келли потерял равновесие и сделал несколько шагов назад. Толпа загудела. Б-7 двинулся вслед за Келли, плавно и совершенно беззвучно.
Келли удалось восстановить равновесие. В следующее мгновение он сделал обманное движение левой и нанес сильнейший удар правой. Робот молниеносно уклонился, и Келли по инерции развернулся влево. Б-7, оценив представившуюся возможность, тут же ударил левой по правому плечу боксера. Келли успел почувствовать, как онемевшая рука опускается, и в следующее мгновение гранитный кулак Мэйнардской Молнии погрузился в живот боксера. Келли согнулся, как паяц, пытаясь закрыть лицо руками. Глаза робота, неотрывно следившие за боксером, сверкнули.
В тот момент, когда робот двинулся вперед, чтобы нанести решающий удар, Келли сделал шаг в сторону, и фотоэлементы глаз Б-7 потеряли его. Еще два шага, и Келли разогнулся, стараясь отдышаться. Воздух с хрипом врывался в его измученные легкие.
– Металлолом! – раздалось из зала.
В горле у Келли пересохло, он судорожно глотнул и двинулся в атаку в то самое мгновение, когда глаза Мэйнардской Молнии снова нашли его. Келли сделал быстрый шаг вперед, надеясь опередить электрический импульс, и сильно ударил правой. Левая перчатка соперника тут же взметнулась вверх, и удар Келли был отбит. Тотчас же правая Мэйнардской Молнии снова заставила Келли согнуться пополам и уйти в глухую защиту. Он отшатнулся, Б-7 последовал за ним, сохраняя дистанцию. Всхлипнув, Келли начал наносить удары наугад, но Б-7 отражал слепые удары и наносил встречные, точно поражающие цель.
Голова Келли каждый раз дергалась, когда несильные, но точные удары робота попадали в цель. Келли видел, как Б-
7 готовит сильнейший удар правой – видел, но уже не мог парировать его.
Удар в голову был подобен удару стального молота.
Лезвия боли впились в мозг Келли. Казалось, черное облако опустилось на ринг. Его сдавленный крик утонул в реве многотысячной толпы, требовавшей, чтобы Б-7 добил его.
Келли покачнулся и оперся на канаты, которые спасли его от падения. Жесткая веревка впилась в поясницу, а из носа и рта потекла яркая кровь, очень похожая на краску, применяемую для большего правдоподобия у боксеровроботов.
Какое-то неуловимое мгновение Келли бессильно висел на канатах, пытаясь защититься свободной левой рукой. Он зажмурился несколько раз, пытаясь сфокусировать зрение. «Я – робот, – беззвучно кричали его кровоточащие губы, – я – робот!»
Новый удар Мэйнардской Молнии попал в грудь, на несколько сантиметров выше солнечного сплетения. Чутьчуть ниже, и Келли не удержался бы на ногах. Однако и этот удар заставил его задохнуться. Тут же правая робота опустилась на голову Келли, снова отбросив его к канатам. Толпа оглушительно заревела.
Как будто в тумане перед Келли маячил силуэт Мэйнардской Молнии. Еще один удар в грудь, будто дубиной, затем новый в плечо. Келли успел парировать правый хук робота поднятым плечом и сам ударил прямым справа. Б-7 легко отразил удар и ответил прямым в живот. Келли снова согнулся, не в силах вздохнуть. Еще удар в голову, и
Келли отлетел к канатам. Он чувствовал соленый вкус крови во рту, оглушительный рев толпы поглотил его, подобно безбрежному океану – «Стой, – беззвучно кричал он, – стой! Только бы устоять, только бы не упасть…
Пятьсот долларов…» Ринг покачивался перед Келли подобно черной воде.
Отчаянным усилием он выпрямился и из последних сил ударил в это красивое лицо. Что-то громко хрустнуло, и руку пронзила нестерпимая боль. Хриплый вскрик Келли остался незамеченным в оглушительном реве зрителей.
Правая рука бессильно опустилась.
– Прикончи его, Молния, прикончи его!
Теперь их отделяло всего несколько дюймов. Б-7 обрушил на Келли град ударов, ни один из которых не прошел мимо цели. Келли качался взад-вперед, как тряпичная кукла, но продолжал стоять на ногах. Кровь текла по его лицу и груди алыми лентами. Руки бессильно висели по бокам, он ничего не видел. Из внешнего мира до его сознания доходил лишь рев толпы и бесконечные тяжелые удары. «Держись, – думал он. – Держись. Держись. Держись. Я должен выдержать, должен!» Он попытался втянуть голову в плечи.
Келли продолжал стоять, когда за семь секунд до конца первого раунда правая рука Мэйнардской Молнии, подобно молоту, ударила в челюсть, и он рухнул на пол.
Келли лежал, судорожно хватая воздух широко открытым ртом. Внезапно он попытался встать и затем так же внезапно осознал, что не может. Он снова опустился на окровавленный пол ринга. Голова разрывалась на тысячу частей. Рев и свист толпы доносились откуда-то издалека.
Когда Поул сумел наконец поднять Келли и накинуть на него брезентовый чехол, толпа свистела и ревела так громко, что Келли не слышал слов механика. Он чувствовал, как большая рука бережно поддерживает его, но его ноги сдали, и когда Келли пролезал под канатами, он едва не упал. «Держись, – билось в его мозгу, – держись. Мы должны показать хорошую схватку. Нам нужна хорошая схватка. Человек против робота».
В раздевалке Келли бессильно опустился на цементный пол и потерял сознание. Поул попытался поднять его и посадить на скамью, но тяжелая ноша оказалась ему не под силу. Наконец он сложил вдвое свой пиджак и подсунул его под голову Келли вместо подушки. Затем, встав на колени, механик начал вытирать ручейки крови на груди и лице боксера.
– Ах ты кретин, – бормотал он дрожащим голосом, –
безмозглый ты дурень.
Через несколько минут Келли открыл глаза.
– Иди, – прошептал он едва слышно, – иди за деньгами.
– Что?
– Деньги! – прохрипел Келли из последних сил.
– Но…
– Немедленно! – рыкнул Келли.
Поул выпрямился и несколько секунд, не отрываясь, смотрел на изувеченного боксера. Затем повернулся и вышел.
Келли лежал, тяжело дыша. Он не мог шевельнуть правой рукой: знал, что она сломана. Из носа и рта продолжала течь кровь. Боль пульсировала в его теле, все оно было как одна сплошная рана.
Через некоторое время ему удалось приподняться на локте и повернуть голову. Наболевшие мускулы шеи мешали ему, но Келли поворачивал голову до тех пор, пока не увидел стоящего в углу Максо. Убедившись, что с роботом ничего не случилось, Келли снова опустился на холодный пол. Губы исказились в подобии улыбки.
Когда Поул вернулся, Келли опять поднял голову. Механик подошел и, опустившись рядом с ним на колени, снова начал вытирать лицо боксера.
– Ты получил деньги? – спросил Келли хриплым шепотом.
Поул тяжело вздохнул.
– Ну?
Поул с трудом проглотил комок в горле.
– Только половину, – сказал он.
Глаза Келли уставились невидящим взглядом в лицо механика, рот приоткрылся. Казалось, он не верит своим ушам.
– Он сказал, что не будет платить пять сотен за один раунд.
– Что ты говоришь? – раздался наконец голос Келли.
Пытаясь встать, он оперся на правую руку. Смертельно побледнев, Келли с приглушенным криком рухнул на пол.
Голова глухо ударилась о сложенный пиджак.
– Не может… не может… этого быть, – прохрипел
Келли.
Поул нервно облизнул сухие губы.
– Стил… ничего нельзя поделать… Там с ним несколько парней… типичные гангстеры… – Он опустил голову. – А если он узнает, как было дело, он может забрать все… не дать ни цента…
Лежа на спине, Келли не отрываясь смотрел на голую электрическую лампочку под потолком. Грудь его содрогалась от рыданий.
– Нет, – шепнул он. – Нет…
Прошло несколько минут, долгих, как часы. Поул встал, принес воды, вытер лицо Келли и дал ему напиться.
Затем он открыл свой чемоданчик с инструментами и пластырем заклеил раны на его лице. Правую руку Поул уложил в импровизированный лубок.
Через четверть часа Келли поднял голову.
– Мы поедем на автобусе, – сказал он.
– Что?
– Мы поедем на автобусе, – медленно повторил Келли.
– Это нам встанет только в пятьдесят шесть зелененьких. –
Он пошевелился и поднял голову. – Тогда у нас останется почти две сотни. Мы купим ему… новую пружину… и линзу фотоглаза… и… – Комната снова окуталась черным туманом, он мигнул и закрыл глаза. – И масляной смазки,
– добавил он немного погодя. – Целую ванну масла. Он снова будет… будет как новенький…
Келли перевел взгляд на механика и продолжал:
– И он снова будет в порядке. Он будет, как и раньше, в отличной форме. И мы обеспечим его хорошими схватками. – Келли замолчал и с трудом вздохнул. – Его нужно только немного подремонтировать. Новая пружина, линза
– это поставит его на ноги. Мы покажем этим мерзавцам, что может сделать Б-2, наш старый добрый Максо. Верно?
Поул посмотрел на лежащего ирландца и тяжело вздохнул.
– Конечно, Стил, – сказал он.
Льюис ПЭДЖЕТТ
«ВСЕ ТЕ´НАЛИ БОРОГОВЫ
´ …»
Нет смысла описывать ни Унтахорстена, ни его местонахождение, потому что, во-первых, с 1942 года нашей эры прошло немало миллионов лет, а во-вторых, если говорить точно, Унтахорстен был не на Земле. Он занимался тем, что у нас называется экспериментированием, в месте, которое мы бы назвали лабораторией. Он собирался испытать свою машину времени.
Уже подключив энергию, Унтахорстен вдруг вспомнил, что Коробка пуста. А это никуда не годилось. Для эксперимента нужен был контрольный предмет, твердый и объемный, в трех измерениях, чтобы он мог вступить во взаимодействие с условиями другого века. В противном случае по возвращении машины Унтахорстен не смог бы определить, где она побывала. Твердый же предмет в Коробке будет подвергаться энтропии и бомбардировке космических лучей другой эры, и Унтахорстен сможет по возвращении машины замерить изменения, как качественные, так и количественные. Затем в работу включатся Вычислители и определят, где Коробка побывала: в 1000000 году Новой эры, или в 1000 году, или, может быть, в 0001 году.
Не то чтобы это было кому-нибудь интересно, кроме самого Унтахорстена. Но он во многом был просто ребячлив. Времени оставалось совсем мало. Коробка уже засветилась и начала содрогаться Унтахорстен торопливо огляделся и направился в соседнее помещение. Там он сунул руку в контейнер, где хранилась всякая ерунда, и вынул охапку каких-то странных предметов. Ага, старые игрушки сына Сновена. Мальчик захватил их с собой, когда, овладев необходимой техникой, покидал Землю. Ну, Сновену этот мусор больше не нужен. Он перешел в новое состояние и детские забавы убрал подальше. Кроме того, хотя жена Унтахорстена и хранила игрушки из сентиментальных соображений, эксперимент был важнее.
Унтахорстен вернулся в лабораторию, швырнул игрушки в Коробку и захлопнул крышку. Почти в тот же момент вспыхнул контрольный сигнал. Коробка исчезла.
Вспышка при этом была такая, что глазам стало больно.
Унтахорстен ждал. Он ждал долго.
В конце концов он махнул рукой и построил новую машину, но результат получился точно такой же. Поскольку ни Сновен, ни его мать не огорчились пропажей первой порции игрушек, Унтахорстен опустошил контейнер и остатки детских сувениров использовал для второй
Коробки.
По его подсчетам, эта Коробка должна была попасть на Землю во второй половине XIX века Новой эры. Если это и произошло, то Коробка осталась там.
Раздосадованный, Унтахорстен решил больше не строить машин времени. Но зло уже свершилось. Их было две, и первая…
Скотт Парадин нашел ее, когда прогуливал уроки.
К полудню он проголодался, и крепкие ноги принесли его к ближайшей лавке. Там он пустил в дело свои скудные сокровища, экономно и с благородным презрением к собственному аппетиту. Затем отправился к ручью поесть.
Покончив с сыром, шоколадом и печеньем и опустошив бутылку содовой, Скотт наловил головастиков и принялся изучать их с некоторой долей научного интереса. Но ему не удалось углубиться в исследования. Что-то тяжелое скатилось с берега и плюхнулось в грязь у самой воды, и
Скотт, осторожно осмотревшись, заторопился поглядеть, что это такое.
Это была Коробка. Та самая Коробка. Хитроумные приспособления на ее поверхности Скотту ни о чем не говорили, хотя, впрочем, его удивило, что вся она оплавлена и обуглена. Высунув кончик языка из-за щеки, он потыкал
Коробку перочинным ножом. Хм! Вокруг никого, откуда же она появилась? Наверно, ее кто-нибудь здесь оставил, из-за оползня она съехала с того места, где прежде лежала.
– Это спираль, – решил Скотт, и решил неправильно.
Эта штука была спиралевидная, но она не была спиралью из-за пространственного искривления.
Но ни один мальчишка не оставит Коробку запертой, разве что его оттащить насильно. Скотт ковырнул поглубже. Странные углы у этой штуки. Может, здесь было короткое замыкание, поэтому? Фу-ты! Нож соскользнул.
Скотт пососал палец и длинно, умело выругался.
Может, это музыкальная шкатулка?
Скотт напрасно огорчался. Эта штука вызвала бы головную боль у Эйнштейна и довела бы до безумия
Штайнмеца. Все дело было, разумеется, в том, что Коробка еще не совсем вошла в тот пространственно-временной континуум, в котором существовал Скотт, и поэтому открыть ее было невозможно. Во всяком случае, до тех пор, пока Скотт не пустил в ход подходящий камень и не выбил эту спиралевидную неспираль в более удобную позицию.
Фактически он вышиб ее из контакта с четвертым измерением, высвободив пространственно-временной момент кручения. Раздался резкий щелчок, Коробка слегка содрогнулась и лежала теперь неподвижно, существуя уже полностью. Теперь Скотт открыл ее без труда.
Первое, что попалось ему на глаза, был мягкий вязаный шлем, но Скотт отбросил его без особого интереса.
Ведь это была всего-навсего шапка. Затем он поднял прозрачный кубик, такой маленький, что он уместился на ладони – слишком маленький, чтобы вмещать какой-то сложный аппарат. Моментально Скотт разобрался, в чем дело. Стекло было увеличительным. Оно сильно увеличивало то, что было в кубике. А там было нечто странное.
Например, крохотные человечки…
Они двигались, как автоматы, только более плавно.
Как будто смотришь спектакль. Скотта заинтересовали их костюмы, а еще больше то, что они делали. Крошечные человечки ловко строили дом. Скотту подумалось: хорошо бы дом загорелся, он бы посмотрел, как тушат пожар.
Недостроенное сооружение вдруг охватили языки пламени. Человечки с помощью множества каких-то сложных приборов ликвидировали огонь.
Скотт очень быстро понял, в чем дело. Но его это слегка озадачило. Эти куклы слушались его мыслей! Когда он сообразил это, то испугался и отшвырнул кубик подальше.
Он стал было взбираться вверх по берегу, но передумал и вернулся. Кубик лежал наполовину в воде и сверкал на солнце. Это была игрушка. Скотт чувствовал это безошибочным инстинктом ребенка. Но он не сразу поднял кубик. Вместо этого он вернулся к коробке и стал исследовать то, что там оставалось.
Он спрятал находку в своей комнате наверху, в самом дальнем углу шкафа. Стеклянный кубик засунул в карман, который уже и так оттопыривался: там были шнурок, моток проволоки, два пенса, пачка фольги, грязная марка и обломок полевого шпата. Вошла вперевалку двухлетняя сестра Скотта, Эмма, и сказала: «Привет!»
– Привет, пузырь, – кивнул Скотт с высоты своих семи лет и нескольких месяцев. Он относился к Эмме крайне покровительственно, но она принимала это как должное.
Маленькая, пухленькая, большеглазая, она плюхнулась на ковер и меланхолически уставилась на свои башмачки.
– Завяжи, Скотти, а?
– Балда, – сказал Скотт добродушно, но завязал шнурки. – Обед скоро?
Эмма кивнула.
– А ну-ка покажи руки. – Как ни странно, они были вполне чистые, хотя, конечно, не стерильные. Скотт задумчиво поглядел на свои собственные ладони и, гримасничая, отправился в ванную, где совершил беглый туалет, так как головастики оставили следы.
Наверху, в гостиной, Деннис Парадин и его жена
Джейн пили послеобеденный коктейль. Деннис был среднего роста, волосы чуть тронуты сединой, но моложавый, тонкое лицо с поджатыми губами. Он преподавал философию в университете. Джейн – маленькая, аккуратная, темноволосая и очень хорошенькая. Она отпила мартини и сказала:
– Новые туфли. Как тебе?
– Да здравствует преступность! – пробормотал Парадин рассеянно. – Что? Туфли? Не сейчас. Дай закончить коктейль. У меня был тяжелый день.
– Экзамены?
– Ага. Пламенная юность, жаждущая обрести зрелость.
Пусть они все провалятся. Подальше, в ад. Аминь!
– Я хочу маслину, – сказала Джейн.
– Знаю, – сказал Парадин уныло. – Я уж и не помню, когда сам ее ел. Я имею в виду – в мартини. Даже если я кладу в твой стакан полдюжины, тебе все равно мало.
– Мне нужна твоя. Кровные узы. Символ. Поэтому.
Парадин мрачно взглянул на нее и скрестил длинные ноги:
– Ты говоришь, как мои студенты. Честно говоря, не вижу смысла учить этих мартышек философии. Они уже не в том возрасте. У них уже сформировались и привычки, и образ мышления. Они ужасно консервативны, хотя, конечно, ни за что в этом не признаются. Философию могут постичь совсем зрелые люди либо младенцы вроде Эммы и Скотта.
– Ну, Скотти к себе в студенты не вербуй, – попросила
Джейн, – он еще не созрел для доктора философии. Мне вундеркинды ни к чему, особенно если это мой собственный сын. Дай свою маслину.
– Уж Скотти-то, наверно, справился бы лучше, чем
Бетти Доусон, – проворчал Парадин.
– И он угас пятилетним стариком, выжив из ума, –
продекламировала Джейн торжественно. – Дай свою маслину.
– На. Кстати, туфли мне нравятся.
– Спасибо. А вот и Розали. Обедать?
– Все готово, мисс Па-адин, – сказала Розали, появляясь на пороге. – Я позову мисс Эмму и мистера Скотти.
– Я сам. – Парадин высунул голову в соседнюю комнату и закричал: – Дети! Сюда, обедать!
Вниз по лестнице зашлепали маленькие ноги. Показался Скотт, приглаженный и сияющий, с торчащим вверх непокорным вихром. За ним Эмма, которая осторожно передвигалась по ступенькам. На полпути ей надоело спускаться прямо, она села и продолжала путь по-обезьяньи, усердно пересчитывая ступеньки маленьким задиком. Парадин, зачарованный этой сценой, смотрел не отрываясь, как вдруг почувствовал сильный толчок. Это налетел на него сын.
– Здорово, папка! – завопил Скотт.
Парадин выпрямился и взглянул на сына с достоинством.
– Сам здорово. Помоги мне подойти к столу. Ты мне вывихнул минимум одно бедро.
Но Скотт уже ворвался в соседнюю комнату, где в порыве эмоций наступил на туфли, пробормотал извинение и кинулся к своему месту за столом. Парадин, идя за ним с
Эммой, крепко уцепившейся короткой пухлой ручкой за его палец, поднял бровь.
– Интересно, что у этого шалопая на уме?
– Наверно, ничего хорошего, – вздохнула Джейн. –
Здравствуй, милый. Ну-ка, посмотрим твои уши.
Обед проходил спокойно, пока Парадин не взглянул случайно на тарелку Скотта.
– Привет, это еще что? Болен? Или за завтраком объелся?
Скотт задумчиво посмотрел на стоящую перед ним еду.
– Я уже съел сколько мне было нужно, пап, – объяснил он.
– Ты обычно ешь сколько в тебя влезет и даже больше,
– сказал Парадин. – Я знаю, мальчики, когда растут, должны съедать в день тонны пищи, а ты сегодня не в порядке. Плохо себя чувствуешь?
– Н-нет. Честно, я съел столько, сколько мне нужно.
– Сколько хотелось?
– Ну да. Я ем по-другому.
– Этому вас в школе учили? – спросила Джейн.
Скотт торжественно покачал головой.
– Никто меня не учил. Я сам обнаружил. Мне плевотина помогает.
– Попробуй объяснить снова, – предложил Парадин. –
Это слово не годится.
– Ну… слюна. Так?
– Ага. Больше пепсина? Что, Джейн, в слюне есть пепсин? Я что-то не помню.
– В моей есть яд, – вставила Джейн. – Опять Розали оставила комки в картофельном пюре.
Но Парадин заинтересовался.
– Ты хочешь сказать, что извлекаешь из пищи все, что можно, без отходов и меньше ешь?
Скотт подумал.
– Наверно, так. Это не просто плев… слюна. Я вроде бы определяю, сколько положить в рот за один раз и чего с чем. Не знаю, делаю, и все.
– Хм-м, – сказал Парадин, решив позднее это проверить, – довольно революционная мысль. – У детей часто бывают нелепые идеи, но эта могла быть не такой уж абсурдной. Он поджал губы: – Я думаю, постепенно люди научатся есть совершенно иначе. Я имею в виду, как есть, а не только, что именно. То есть, какую именно пищу.
Джейн, наш сын проявляет признаки гениальности.
– Да?
– Он сейчас высказал очень интересное соображение о диетике. Ты сам до него додумался, Скотт?
– Ну конечно, – сказал мальчик, сам искренне в это веря.
– А каким образом?
– Ну, я… – Скотт замялся. – Не знаю. Да это ерунда, наверно.
Парадин почему-то был разочарован.
– Но ведь…
– Плюну! Плюну! – вдруг завизжала Эмма в неожиданном приступе озорства и попыталась выполнить свою угрозу, но лишь закапала слюной нагрудник.
Пока Джейн с безропотным видом увещевала и приводила дочь в порядок, Парадин разглядывал Скотта с удивлением и любопытством. Но дальше события стали развиваться только после обеда, в гостиной.
– Уроки задали?
– Н-нет, – сказал Скотт, виновато краснея. Чтобы скрыть смущение, он вынул из кармана один из предметов, которые нашел в Коробке, и стал расправлять его. Это оказалось нечто вроде четок с нанизанными бусами. Парадин сначала не заметил их, но Эмма увидела. Она захотела поиграть с ними.
– Нет. Отстань, пузырь, – приказал Скотт. – Можешь смотреть.
Он начал возиться с бусами, послышались странные мягкие щелчки. Эмма протянула пухлый палец и тут же пронзительно заплакала.
– Скотти, – предупреждающе сказал Парадин.
– Я ее не трогал.
– Укусили. Они меня укусили, – хныкала Эмма. Парадин поднял голову. Взглянул, нахмурился. Какого еще…
– Это что, абак4? – спросил он. – Пожалуйста, дай взглянуть.
Несколько неохотно Скотт принес свою игрушку к стулу отца. Парадин прищурился. Абак в развернутом виде представлял собой квадрат не менее фута в поперечнике, образованный тонкими твердыми проволочками, которые местами переплетались. На проволочки были нанизаны цветные бусы. Их можно было двигать взад и вперед с одной проволочки на другую, даже в местах переплетений. Но ведь сквозную бусину нельзя передвинуть с одной проволоки на другую, если они переплетаются…
Так что, очевидно, бусы были несквозные. Парадин взглянул внимательнее. Вокруг каждого маленького шарика шел глубокий желобок, так что шарик можно было одновременно и вращать, и двигать вдоль проволоки. Парадин попробовал отсоединить одну бусину. Она держалась как намагниченная. Металл? Больше похоже на пластик.
Да и сама рама… Парадин не был математиком. Но уг-
4 Абак – вид счетов. – Прим. перев.
лы, образованные проволочками, были какими-то странными, в них совершенно отсутствовала Евклидова логика.
Какая-то путаница. Может, это так и есть? Может, это головоломка?
– Где ты взял эту штуку?
– Мне дядя Гарри дал, – мгновенно придумал Скотт, –
в прошлое воскресенье, когда он был у нас
Парадин попробовал передвигать бусы и ощутил легкое замешательство. Углы были какие-то нелогичные. Похоже на головоломку. Вот эта красная бусина, если ее передвигать по этой проволоке в том направлении, должна попасть вот сюда, – но она не попадала. Лабиринт. Странный, но наверняка поучительный. У Парадина появилось ясное ощущение, что у него на эту штуку терпения не хватит. У Скотта, однако, хватило. Он вернулся в свой угол и, что-то ворча, стал вертеть и передвигать бусины. Бусы действительно кололись, когда Скотт брался не за ту бусину или двигал ее в неверном направлении. Наконец он с торжеством завершил работу.
– Получилось, пап!
– Да? А ну-ка посмотрим. – Эта штука выглядела точно так же, как и раньше, но Скотт улыбался и что-то показывал.
– Я добился, чтобы она исчезла.
– Но она же здесь.
– Вон та голубая бусина. Ее уже нет.
Парадин этому не поверил и только фыркнул. Скотт опять задумался над рамкой. Он экспериментировал. На этот раз эта штука совсем не кололась. Абак уже подсказал ему правильный метод. Сейчас он уже мог делать все по-своему. Причудливые проволочные углы сейчас почему-то казались уже не такими запутанными.
Это была на редкость поучительная игрушка…
«Она, наверно, действует, – подумал Скотт, – наподобие этого стеклянного кубика». Вспомнив о нем, он вытащил его из кармана и отдал абак Эмме, онемевшей от радости.
Она немедленно принялась за дело, двигая бусы и теперь не обращая внимания на то, что они колются, да и кололись они только чуть-чуть, и, поскольку она хорошо все перенимала, ей удалось заставить бусину исчезнуть почти так же быстро, как Скотту. Голубая бусина появилась снова, но Скотт этого не заметил.
Он предусмотрительно удалился в угол между диваном и широким креслом и занялся кубиком.
Внутри были маленькие человечки, крошечные куклы, сильно увеличенные в размерах благодаря увеличительным свойствам стекла, и они двигались по-настоящему.
Они построили дом. Он загорелся, и пламя выглядело как настоящее, а они стояли рядом и ждали. Скотт нетерпеливо выдохнул: «Гасите!»
Но ничего не произошло. Куда же девалась эта странная пожарная машина с вращающимися кранами, та, которая появлялась раньше? Вот она. Вот вплыла в картину и остановилась. Скотт мысленно приказал ей начать работу.
Это было забавно. Как будто ставишь пьесу, только более реально. Человечки делали то, что Скотт мысленно им приказывал. Если он совершал ошибку, они ждали, пока он найдет правильный путь. Они даже предлагали ему новые задачи…
Кубик тоже был поучительной игрушкой. Он обучал
Скотта подозрительно быстро и очень развлекал при этом.
Но он не давал ему пока никаких по-настоящему новых сведений. Мальчик не был к этому готов. Позднее…
Позднее…
Эмме надоел абак, и она отправилась искать Скотта.
Она не могла его найти, и в его комнате его тоже не было, но, когда она там очутилась, ее заинтересовало то, что лежало в шкафу. Она обнаружила Коробку. В ней лежало сокровище без хозяина – кукла, которую Скотт видел, но пренебрежительно отбросил.
С громким воплем Эмма снесла куклу вниз, уселась на корточках посреди комнаты и начала разбирать ее на части.
– Милая! Что это?
– Мишка!
Это был явно не ее мишка, мягкий, толстый и ласковый, без глаз и ушей. Но Эмма всех кукол называла мишками.
Джейн Парадин помедлила.
– Ты взяла это у какой-нибудь девочки?
– Нет. Она моя.
Скотт вышел из своего убежища, засовывая кубик в карман.
– Это… э-э-э… Это от дяди Гарри.
– Эмма, это дал тебе дядя Гарри?
– Он дал ее мне для Эммы, – торопливо вставил Скотт, добавляя еще один камень в здание обмана – В прошлое воскресенье.
– Ты разобьешь ее, маленькая.
Эмма принесла куклу матери.
– Она разнимается. Видишь?
– Да? Это… ох! – Джейн ахнула. Парадин быстро поднял голову.
– Что такое?
Она подошла к нему и протянула куклу, постояла, затем, бросив на него многозначительный взгляд, пошла в столовую.
Он последовал за ней и закрыл дверь. Джейн уже положила куклу на прибранный стол.
– Она не очень-то симпатичная, а, Денни?
– Хм-м. – На первый взгляд кукла выглядела довольно неприятно. Можно было подумать, что это анатомическое пособие для студентов-медиков, а не детская игрушка…
Эта штука разбиралась на части – кожа, мышцы, внутренние органы – все очень маленькое, но, насколько Парадин мог судить, сделано идеально. Он заинтересовался.
– Не знаю. У ребенка такие вещи вызывают совсем другие ассоциации…
– Посмотри на эту печень. Это же печень?
– Конечно. Слушай, я… странно.
– Что?
– Оказывается, анатомически она не совсем точна. –
Парадин придвинул стул. – Слишком короткий пищеварительный тракт. Кишечник маленький. И аппендикса нет.
– Зачем Эмме такая вещь?
– Я бы сам от такой не отказался, – сказал Парадин. –
И где только Гарри ухитрился ее раздобыть? Нет, я не вижу в ней никакого вреда. Это у взрослых внутренности вызывают неприятные ощущения. А у детей нет. Они думают, что внутри они целенькие, как редиски. А с помощью этой куклы Эмма хорошо познакомится с физиологией.
– А это что? Нервы?
– Нет, нервы вот тут. А это артерия, вот вены. Какая-то странная аорта… – Парадин был совершенно сбит с толку.
– Это… Как по-латыни «сеть»? Во всяком случае… А? Ретана? Патина?
– Респирация? – предложила Джейн наугад.
– Нет. Это дыхание, – сказал Парадин уничтожающе. –
Не могу понять, что означает вот эта сеть светящихся нитей. Она пронизывает все тело, как нервная система.
– Кровь.
– Да нет. Не кровообращение и не нервы – странно. И
вроде бы связано с легкими.
Они углубились в изучение загадочной куклы. Каждая деталь в ней была сделана удивительно точно, и это само по себе было странно, если учесть физиологические отклонения от нормы, которые подметил Парадин.
– Подожди-ка, я притащу Гоулда, – сказал Парадин, и вскоре он уже сверял куклу с анатомическими схемами в атласе. Это мало чем ему помогло и только увеличило его недоумение.
Но это было интереснее, чем разгадывать кроссворд.
Тем временем в соседней комнате Эмма двигала бусины на абаке. Движения уже не казались такими странными. Даже когда бусины исчезали. Она уже почти почувствовала куда. Почти…
Скотт пыхтел, уставившись на свой стеклянный кубик, и мысленно руководил постройкой здания. Он делал множество ошибок, но здание строилось – оно было немного посложнее того, что уничтожило огнем. Он тоже обучался
– привыкал…
Ошибка Парадина, с чисто человеческой точки зрения, состояла в том, что он не избавился от игрушек с самого начала. Он не понял их назначение, а к тому времени, как он в этом разобрался, события зашли уже довольно далеко. Дяди Гарри не было в городе, и у него проверить Парадин не мог. Кроме того, шла сессия, а это означало дополнительные нервные усилия и полное изнеможение к вечеру; к тому же Джейн в течение целой недели неважно себя чувствовала. Эмма и Скотт были предоставлены сами себе.
– Папа, – обратился Скотт к отцу однажды вечером, –
что такое «исход»?
– Поход?
Скотт поколебался.
– Да нет… не думаю. Разве «исход» неправильное слово?
– «Исход» – это по-научному «результат». Годится?
– Не вижу в этом смысла, – пробормотал Скотт и хмуро удалился, чтобы заняться абаком. Теперь он управлялся с ним крайне искусно. Но, следуя детскому инстинкту избегать вмешательства в свои дела, они с Эммой обычно занимались игрушками, когда рядом никого не было. Не намеренно, конечно, но самые сложные эксперименты проводились, только если рядом не было взрослых.
Скотт обучался быстро. То, что он видел сейчас в кубике, мало было похоже на те простые задачи, которые он получал там вначале. Новые задачи были сложные и невероятно увлекательные. Если бы Скотт сознавал, что его обучением руководят и направляют его, пусть даже чисто механически, ему, вероятно, стало бы неинтересно. А так его интерес не увядал.
Абак, и кукла, и кубик, и другие игрушки, которые дети обнаружили в Коробке…
Ни Парадин, ни Джейн не догадывались о том воздействии, которое оказывало на детей содержимое машины времени.
Да и как можно было догадаться? Дети – прирожденные актеры из-за самозащиты. Они еще не приспособились к нуждам взрослого мира, нуждам, которые для них во многом необъяснимы. Более того, их жизнь усложняется неоднородностью требований. Один человек говорит им, что в грязи играть можно, но, копая землю, нельзя выкапывать цветы и разрушать корни. А другой запрещает возиться в грязи вообще. Десять заповедей не высечены на камне. Их толкуют по-разному, и дети всецело зависят от прихотей тех, кто рождает их, кормит, одевает. И тиранит.
Молодое животное не имеет ничего против такой благожелательной тирании, ибо это естественное проявление природы. Однако это животное имеет индивидуальность и сохраняет свою целостность с помощью скрытого, пассивного сопротивления.
В поле зрения взрослых ребенок меняется. Подобно актеру на сцене, если только он об этом не забывает, он стремится угодить и привлечь к себе внимание. Такие вещи свойственны и взрослым. Но у взрослых это не менее заметно – для других взрослых.
Трудно утверждать, что у детей нет тонкости. Дети отличаются от взрослых животных тем, что они мыслят иным образом. Нам довольно легко разглядеть их притворство, но и им наше тоже. Ребенок способен безжалостно разрушить воздвигаемый взрослыми обман. Разрушение идеалов – прерогатива детей.
С точки зрения логики ребенок представляет собой пугающе идеальное существо. Вероятно, младенец – существо еще более идеальное, но он настолько далек от взрослого, что критерии сравнения могут быть лишь поверхностными. Невозможно представить себе мыслительные процессы у младенца. Но младенцы мыслят даже еще до рождения. В утробе они двигаются, спят, и не только всецело подчиняясь инстинкту. Мысль о том, что еще не родившийся эмбрион может думать, нам может показаться странной. Это поражает, и смешит, и приводит в ужас. Но ничто человеческое не может быть чуждым человеку.
Однако младенец еще не человек. А эмбрион – тем более. Вероятно, именно поэтому Эмма больше усвоила от игрушек, чем Скотт. Разве что он мог выражать свои мысли, а она нет, только иногда, загадочными обрывками. Ну вот, например, эти ее каракули…
Дайте маленькому ребенку карандаш и бумагу, и он нарисует нечто такое, что для него выглядит иначе, чем для взрослого. Бессмысленная мазня мало чем напоминает пожарную машину, но для крошки это и есть пожарная машина. Может быть, даже объемная, в трех измерениях.
Дети иначе мыслят и иначе видят.
Парадин размышлял об этом однажды вечером, читая газету и наблюдая Эмму и Скотта. Скотт о чем-то спрашивал сестру. Иногда он спрашивал по-английски. Но чаще прибегал к помощи какой-то тарабарщины и жестов. Эмма пыталась отвечать, но у нее ничего не получалось.
В конце концов Скотт достал бумагу и карандаш. Эмме это понравилось. Высунув язык, она тщательно царапала что-то. Скотт взял бумагу, посмотрел и нахмурился.
– Не так, Эмма, – сказал он.
Эмма энергично закивала. Она снова схватила карандаш и нацарапала что-то еще. Скотт немного подумал, потом неуверенно улыбнулся и встал. Он вышел в холл. Эмма опять занялась абаком.
Парадин поднялся и заглянул в листок – у него мелькнула сумасшедшая мысль, что Эмма могла вдруг освоить правописание. Но это было не так. Листок был покрыт бессмысленными каракулями – такими, какие знакомы всем родителям. Парадин поджал губы.
Скотт вернулся, и вид у него был довольный. Он встретился с Эммой взглядом и кивнул. Парадина кольнуло любопытство.
– Секреты?
– Не-а. Эмма… Ну, попросила для нее кое-что сделать.
Возможно, Парадин и Джейн высказали слишком большой интерес к игрушкам. Эмма и Скотт стали прятать их и играли с ними, только когда были одни. Они никогда не делали этого открыто, но кое-какие неявные меры предосторожности принимали. Тем не менее это тревожило, и особенно Джейн.
– Денни, Скотта очень изменился. Миссис Берне сказала, что он до смерти напугал ее Френсиса.
– Полагаю, что так, – Парадин прислушался. Шум в соседней комнате подсказал ему местонахождение сына. –
Скотти!
– Ба-бах! – сказал Скотт и появился на пороге, улыбаясь. – Я их всех поубивал. Космических пиратов. Я тебе нужен, пап?
– Да. Если ты не против отложить немного похороны пиратов. Что ты сделал Френсису Бернсу?
Синие глаза Скотти выразили беспредельную искренность.
– Я?
– Подумай. Я уверен, что ты вспомнишь.
– А-ах. Ах это! Не делал я его.
– Ему, – машинально поправила Джейн.
– Ну, ему. Честно. Я только дал ему посмотреть свой телевизор, и он… он испугался.
– Телевизор?
Скотт достал стеклянный кубик.
– Ну, это не совсем телевизор. Видишь?
Парадин стал разглядывать эту штуку, неприятно пораженный увеличительными стеклами. Однако он ничего не видел, кроме бессмысленного переплетения цветных узоров.
– Дядя Гарри…
Парадин потянулся к телефону. Скотт судорожно глотнул.
– Он… он уже вернулся?
– Да.
– Ну, я пошел в ванную. – И Скотт направился к двери.
Парадин перехватил взгляд Джейн и многозначительно покачал головой.
Гарри был дома, но он совершенно ничего не знал об этих странных игрушках. Довольно мрачно Парадин приказал Скотту принести из его комнаты все игрушки. И вот они все лежат в ряд на столе: кубик, абак, шлем, кукла и еще несколько предметов непонятного назначения. Скотту был устроен перекрестный допрос.
Какое-то время он героически лгал, но наконец не выдержал и с ревом и всхлипываниями выложил свое признание.
После того как маленькая фигурка удалилась наверх, Парадин подвинул к столу стул и стал внимательно рассматривать Коробку. Задумчиво поковырял оплавленную поверхность. Джейн наблюдала за ним.
– Что это, Денни?
– Не знаю. Кто мог оставить коробку с игрушками у ручья?
– Она могла выпасть из машины.
– Только не в этом месте. К северу от железнодорожного полотна ручей нигде не пересекает дорога. Там везде пустыри, и больше ничего. – Парадин закурил сигарету. –
Налить тебе чего-нибудь, милая?
– Я сама. – Джейн принялась за дело, глаза у нее были тревожные. Она принесла Парадину стакан и стала за его спиной, теребя пальцами его волосы.
– Что-нибудь не так?
– Разумеется, ничего особенного. Только вот откуда взялись эти игрушки?
– У Джонсов никто не знает, а они получают свои товары из Нью-Йорка.
– Я тоже наводил справки, – признался Парадин. – Эта кукла… – он ткнул в нее пальцем, – она меня тревожит.
Может, это дело таможни, но мне хотелось бы знать, кто их делает.
– Может, спросить психолога? Абак – кажется, они устраивают тесты с такими штуками.
Парадин прищелкнул пальцами:
– Точно! И слушай: у нас в университете на следующей неделе будет выступать один малый, Холовей, он детский психолог. Он фигура с репутацией. Может быть, он что-нибудь знает об этих вещах?
– Холовей? Я не…
– Рекс Холовей. Он… хм-м-м! Он живет недалеко от нас. Может, это он сам их сделал?
Джейн разглядывала абак. Она скорчила гримаску и выпрямилась.
– Если это он, то мне он не нравится. Но попробуй выяснить, Денни.
Парадин кивнул.
– Непременно.
Нахмурясь, он выпил коктейль. Он был слегка встревожен. Но не напуган – пока.
Рекса Холовея Парадин привел домой к обеду неделю спустя. Это был толстяк с сияющей лысиной, над толстыми стеклами очков, как мохнатые гусеницы, нависали густые черные брови. Холовей как будто и не наблюдал за детьми, но от него ничто не ускользало, что бы они ни делали и ни говорили. Его серые глаза, умные и проницательные, ничего не пропускали.
Игрушки его обворожили. В гостиной трое взрослых собрались вокруг стола, на котором они были разложены.
Холовей внимательно их разглядывал, выслушивая все то, что рассказывали ему Джейн и Парадин. Наконец он прервал свое молчание:
– Я рад, что пришел сюда сегодня. Но не совсем. Дело в том, что все это внушает тревогу.
– Как? – Парадин широко открыл глаза, а на лице
Джейн отразился ужас. То, что Холовей сказал дальше, их отнюдь не успокоило.
– Мы имеем дело с безумием. – Он улыбнулся, увидев, какое воздействие произвели его слова. – С точки зрения взрослых, все дети безумны. Читали когда-нибудь «Ураган на Ямайке» Хьюза?
– У меня есть. – Парадин достал с полки маленькую книжку. Холовей протянул руку, взял книгу и стал перелистывать страницы, пока не нашел нужного места. Затем стал читать вслух: «Разумеется, младенцы еще не являются людьми – это животные, со своей древней и разветвленной культурой, как у кошек, у рыб, даже у змей. Они имеют сходную природу, только сложнее и ярче, ибо всетаки из низших позвоночных это самый развитый вид. Короче говоря, у младенцев есть свое собственное мышление, и оно оперирует понятиями и категориями, которые невозможно перевести на язык понятий и категорий человеческого мышления».
Джейн попыталась было воспринять его слова спокойно, но ей это не удалось.
– Вы что, хотите сказать, что Эмма…
– Способны ли вы думать так, как ваша дочь? – спросил Холовей. – Послушайте: «Нельзя уподобиться в мыслях младенцу, как нельзя уподобиться в мыслях пчеле».
Парадин смешивал коктейли. Он сказал через плечо:
– Не слишком ли много теории? Насколько я понимаю, вы хотите сказать, что у младенцев есть своя собственная культура и даже довольно высокий интеллект?
– Не обязательно. Понимаете, это вещи несоизмеримые. Я только хочу сказать, что младенцы размышляют совсем иначе, чем мы. Не обязательно лучше – это вопрос относительных ценностей. Но это просто различный способ развития… – В поисках подходящего слова он скорчил гримасу.
– Фантазии, – сказал Парадин довольно пренебрежительно, но с раздражением из-за Эммы. – У младенца точно такие же ощущения, как у нас.
– А кто говорит, что нет? – возразил Холовей. – Просто их разум направлен в другую сторону, вот и все. Но этого вполне достаточно.
– Я стараюсь понять, – сказал Джейн медленно, – но у меня аналогия только с моей кухонной машиной. В ней можно взбивать тесто и пюре, но можно и выжимать сок из апельсинов.
– Что-то в этом роде. Мозг – коллоид очень сложной организации. О его возможностях мы пока знаем очень мало, мы даже не знаем, сколько он способен воспринять.
Но зато доподлинно известно, что, по мере того как человеческое существо созревает, его мозг приспосабливается, усваивает определенные стереотипы, и дальше мыслительные процессы базируются на моделях, которые воспринимаются как нечто само собой разумеющееся. Вот взгляните, – Холовей дотронулся до абака, – вы пробовали с ним упражняться?
– Немного, – сказал Парадин.
– Но не так уж, а?
– Ну…
– А почему?
– Бессмысленно, – пожаловался Парадин. – Даже в головоломке должна быть какая-то логика. Но эти дурацкие углы…
– Ваш мозг приспособился к Евклидовой системе, –
сказал Холовей. – Поэтому эта… штуковина вас утомляет и кажется бессмысленной. Но ребенку об Евклиде ничего не известно. И иной вид геометрии, отличный от нашего, не покажется ему нелогичным. Он верит тому, что видит.
– Вы что, хотите сказать, что у этой чепухи есть четвертое измерение? – возмутился Парадин.
– На вид, во всяком случае, нет, – согласился Холовей.
– Я только хочу сказать, что наш разум, приспособленный к Евклидовой системе, не может увидеть здесь ничего, кроме клубка запутанной проволоки. Но ребенок – особенно маленький – может увидеть и нечто иное. Не сразу.
Конечно, и для него это головоломка. Но только ребенку не мешает предвзятость мышления.
– Затвердение мыслительных артерий, – вставила
Джейн.
Но Парадина это не убедило.
– Тогда, значит, ребенку легче справиться с дифференциальными и интегральными уравнениями, чем Энштейну?
– Нет, я не это хотел сказать. Мне ваша точка зрения более или менее ясна. Только…
– Ну, хорошо. Предположим, что существуют два вида геометрии – ограничим число видов, чтобы облегчить пример. Наш вид, Евклидова геометрия, и еще какой-то, назовем его X. X никак не связан с Евклидовой геометрией, он основан на иных теоремах. В нем два и два не обязательно должны быть равны четырем, они могут быть равны у2, а могут быть даже вовсе не равны ничему. Разум младенца еще ни к чему не приспособился, если не считать некоторых сомнительных факторов наследственности и среды. Начните обучать ребенка принципам Евклида…
– Бедный малыш, – сказала Джейн.
Холовей бросил на нее быстрый взгляд.
– Основам Евклидовой системы. Начальным элементам. Математика, геометрия, алгебра – это все идет гораздо позже. Этот путь развития нам знаком. А теперь представьте, что ребенка начинают обучать основным принципам этой логики X.
– Начальные элементы? Какого рода?
Холовей взглянул на абак.
– Для нас в этом нет никакого смысла. Мы приспособились к Евклидовой системе.
Парадин налил себе неразбавленного виски.
– Это прямо-таки ужасно. Вы не ограничиваетесь одной математикой.
– Верно! Я вообще ничего не хочу ограничивать. Да и каким образом? Я не приспособлен к логике X.
– Вот вам и ответ, – сказала Джейн со вздохом облегчения.
– А кто к ней приспособлен? Ведь чтобы сделать вещи, за которые вы, видимо, принимаете эти игрушки, понадобился бы именно такой человек.
Холовей кивнул, глаза его щурились за толстыми стеклами очков.
– Может быть, такие люди существуют.
– Где?
– Может быть, они предпочитают оставаться в неизвестности.
– Супермены?
– Хотел бы я знать! Видите ли, Парадин, все опять упирается в отсутствие критериев. По нашим нормам, эти люди в некоторых отношениях могут показаться сверхумниками, а в других – слабоумными. Разница не количественная, а качественная. Они по-иному мыслят. И я уверен, что мы способны делать кое-что, чего они не умеют.
– Может быть, они бы и не захотели, – сказала Джейн.
Парадин постучал пальцами по оплавленным приспособлениям на поверхности Коробки.
– А как насчет этого? Это говорит о…
– О какой-то цели, разумеется.
– Транспортация?
– Это прежде всего приходит в голову. Если это так, Коробка могла попасть сюда откуда угодно.
– Оттуда… где… все по-другому? – медленно спросил
Парадин.
– Именно. В космосе или даже во времени. Не знаю. Я
психолог. И, к счастью, я тоже приспособлен к Евклидовой системе.
– Странное, должно быть, место, – сказала Джейн. –
Денни, выброси эти игрушки.
– Я и собираюсь.
Холовей взял в руки стеклянный кубик.
– Вы подробно расспрашивали детей?
Парадин ответил:
– Ага, Скотт сказал, что когда он впервые заглянул в кубик, там были человечки. Я спросил его, что он видит там сейчас.
– Что он сказал? – Психолог перестал хмуриться.
– Он сказал, что они что-то строят. Это его точные слова. Я спросил; кто, человечки? Но он не смог объяснить.
– Ну да, понятно, – пробормотал Холовей, – это, наверно, прогрессирует. Как давно у детей эти игрушки?
– Кажется, месяца три.
– Вполне достаточно. Видите ли, совершенная игрушка механическая, но она и обучает. Она должна заинтересовать ребенка своими возможностями, но и обучать, желательно незаметно. Сначала простые задачи. Затем…
– Логика X, – сказала бледная как мел Джейн.
Парадин ругнулся вполголоса.
– Эмма и Скотт совершенно нормальны!
– А вы знаете, как работает их разум сейчас?
Холовей не стал развивать свою мысль. Он потрогал куклу.
– Интересно было бы знать, каковы критерии там, откуда появились эти вещи. Впрочем, метод индукции мало что даст. Слишком много неизвестных факторов. Мы не можем представить себе мир, который основан на факторе
X, – среда, приспособленная к разуму, мыслящему неизвестными категориями X.
– Это ужасно, – сказала Джейн.
– Им так не кажется. Вероятно, Эмма быстрее схватывает X, чем Скотт, потому что ее разум еще не приспособился к нашей среде.
Парадин сказал:
– Но я помню многое из того, что я делал ребенком.
Даже когда был совсем маленьким.
– Ну и что?
– Я… был тогда… безумен?
– Критерием вашего безумия является как раз то, чего вы не помните, – возразил Холовей, – но я употребляю слово «безумие» только как удобный символ, обозначающий отклонение от принятой человеческой нормы. Произвольную норму здравомыслия.
Джейн опустила стакан.
– Вы сказали, господин Холовей, что методом индукции здесь действовать трудно. Однако мне кажется, что вы именно этим и занимаетесь, а фактов у вас очень мало.
Ведь эти игрушки…
– Я прежде всего психолог, и моя специальность – дети. Я не юрист. Эти игрушки именно потому говорят мне так много, что они не говорят почти ни о чем.
– Вы можете и ошибаться.
– Я хотел бы ошибиться. Мне нужно проверить детей.
– Я позову их, – сказал Парадин.
– Только осторожно. Я не хочу их спугнуть.
Джейн кивком указала на игрушки. Холовей сказал:
– Это пусть останется, ладно?
Но когда Эмму и Скотта позвали, психолог не сразу приступил к прямым расспросам. Незаметно ему удалось вовлечь Скотта в разговор, то и дело вставляя нужные ему слова. Ничего такого, что явно напоминало бы тест по ассоциациям, – ведь для этого нужно сознательное участие второй стороны.
Самое интересное произошло, когда Холовей взял в руки абак.
– Может быть, ты покажешь мне, что с этим делать?
Скотт заколебался.
– Да, сэр. Вот так… – Бусина в его умелых руках скользнула по запутанному лабиринту так ловко, что никто из них не понял, что она в конце концов исчезла. Это мог быть просто фокус. Затем опять…
Холовей попробовал сделать то же самое. Скотт наблюдал, морща нос.
– Вот так?
– Угу. Она должна идти вот сюда…
– Сюда? Почему?
– Ну, потому что иначе не получится.
Но разум Холовея был приспособлен к Евклидовой системе. Не было никакого очевидного объяснения тому, что бусина должна скользнуть с этой проволочки на другую, а не иначе. В этом не видно было никакой логики.
Ни один из взрослых как-то не понял точно, исчезла бусина или нет. Если бы они ожидали, что она должна исчезнуть, возможно, они были бы гораздо внимательнее.
В конце концов так ни к чему и не пришли. Холовею, когда он прощался, казалось, было не по себе.
– Можно мне еще прийти?
– Я бы этого хотела, – сказала Джейн. – Когда угодно.
Вы все еще полагаете…
Он кивнул.
– Их умы реагируют ненормально. Они вовсе не глупые, но у меня очень странное впечатление, что они делают выводы совершенно непонятным нам путем. Как если бы они пользовались алгеброй там, где мы пользуемся геометрией. Вывод такой же, но достигнут другим методом.
– А что делать с игрушками? – неожиданно спросил
Парадин.
– Уберите их подальше. Если можно, я хотел бы их пока взять.
В эту ночь Парадин плохо спал. Холовей провел неудачную аналогию. Она наводила на тревожные размышления. Фактор X. Дети используют в рассуждениях алгебру там, где взрослые пользуются геометрией. Пусть так.
Только… Алгебра может дать такие ответы, каких геометрия дать не может, потому что в ней есть термины и символы, которые нельзя выразить геометрически. А что, если логика X приводит к выводам, непостижимым для человеческого разума?
– Ч-черт! – прошептал Парадин. Рядом зашевелилась
Джейн.
– Милый! Ты тоже не спишь?
– Нет. – Он поднялся и пошел в соседнюю комнату.
Эмма спала, безмятежная, как херувим, пухлая ручка обвила мишку. Через открытую дверь Парадину была видна темноволосая голова Скотта, неподвижно лежавшая на подушке.
Джейн стояла рядом. Он обнял ее.
– Бедные малыши, – прошептала она. – А Холовей назвал их ненормальными. Наверное, это мы сумасшедшие, Деннис.
– Нда-а. Просто мы нервничаем.
Скотт шевельнулся во сне. Не просыпаясь, он пробормотал что-то – это явно был вопрос, хотя вроде бы и не на каком-либо языке. Эмма пропищала что-то, звук ее голоса резко менял тон.
Она не проснулась. Дети лежали не шевелясь. Но Парадину подумалось, и от этой мысли неприятно засосало под ложечкой, что это было, как будто Скотт спросил Эмму о чем-то и она ответила.
Неужели их разум изменился настолько, что даже сон
– и тот был у них иным?
Он отмахнулся от этой мысли.
– Ты простудишься. Вернемся в постель. Хочешь чегонибудь выпить?
– Кажется, да, – сказала Джейн, наблюдая за Эммой.
Рука ее потянулась было к девочке, но она отдернула ее.
– Пойдем. Мы разбудим детей.
Вместе они выпили немного бренди, но оба молчали.
Потом, во сне, Джейн плакала.
* * *
Скотт не проснулся, но мозг его работал, медленно и осторожно выстраивая фразы, вот так:
– Они заберут игрушки. Этот толстяк… может быть листава опасен. Но направления Горика не увидеть… им дун уванкрус у них нет… Интрадикция… яркая, блестящая. Эмма. Она сейчас уже гораздо больше копранит, чем… Все-таки не пойму, как… тавирарить миксер диет…
Кое-что в мыслях Скотта можно было еще разобрать.
Но Эмма перестроилась на логику X гораздо быстрее. Она тоже размышляла.
Не так, как ребенок, не так, как взрослый. Вообще не так, как человек. Разве что, может быть, как человек совершенно иного типа, чем homo sapiens.
Иногда и Скотту трудно было поспеть за ее мыслями.
Постепенно Парадин и Джейн опять обрели нечто вроде душевного равновесия. У них было ощущение, что теперь, когда причина тревог устранена, дети излечились от своих умственных завихрений.
Но иногда все-таки что-то было не так.
Однажды в воскресенье Скотт отправился с отцом на прогулку, и они остановились на вершине холма. Внизу перед ними расстилалась довольно приятная долина.
– Красиво, правда? – заметил Парадин.
Скотт мрачно взглянул на пейзаж.
– Это все неправильно, – сказал он.
– Как это?
– Ну, не знаю.
– Но что здесь неправильно?
– Ну… – Скотт удивленно замолчал. – Не знаю я.
В этот вечер, однако, Скотт проявил интерес, и довольно красноречивый, к угрям.
В том, что он интересовался естественной историей, не было ничего явно опасного. Парадин стал объяснять про угрей.
– Но где они мечут икру? И вообще, они ее мечут?
– Это все еще неясно. Места их нереста неизвестны.
Может быть, Саргассово море, или же где-нибудь в глубине, где давление помогает их телам освобождаться от потомства.
– Странно, – сказал Скотт в глубоком раздумье.
– С лососем происходит более или менее то же самое.
Для нереста он поднимается вверх по реке. – Парадин пустился в объяснения. Скотт слушал, завороженный.
– Но ведь это правильно, пап. Он рождается в реке, и когда научится плавать, уплывает вниз по течению к морю. И потом возвращается обратно, чтобы метать икру, так?
– Верно.
– Только они не возвращались бы обратно, – размышлял Скотт, – они бы просто посылали свою икру…
– Для этого нужен был бы слишком длинный яйцеклад, – сказал Парадин и отпустил несколько осторожных замечаний относительно размножения.
Сына его слова не удовлетворили. Ведь цветы, возразил он, отправляют свои семена на большие расстояния.
– Но ведь они ими не управляют. И совсем немногие попадают в плодородную почву.
– Но ведь у цветов нет мозгов. Пап, почему люди живут здесь?
– В Глендале?
– Нет, здесь. Вообще здесь. Ведь, спорим, это еще не все, что есть на свете.
– Ты имеешь в виду другие планеты?
Скотт помедлил.
– Это только… часть… чего-то большого. Это как река, куда плывет лосось. Почему люди, когда вырастают, не уходят в океан?
Парадин сообразил, что Скотт говорит иносказательно.
И на мгновение похолодел. Океан?
Потомство этого рода не приспособлено к жизни в более совершенном мире, где живут родители. Достаточно развившись, они вступают в этот мир. Потом они сами дают потомство. Оплодотворенные яйца закапывают в песок, в верховьях реки. Потом на свет появляются живые существа.
Они познают мир. Одного инстинкта совершенно недостаточно. Особенно когда речь идет о таком роде существ, которые совершенно неприспособлены к этому миру, не могут ни есть, ни пить, ни даже существовать, если только кто-то другой не позаботится предусмотрительно о том, чтобы им все это обеспечить.
Молодежь, которую кормят и о которой заботятся, выживет. У нее есть инкубаторы, роботы. Она выживет, но она не знает, как плыть вниз по течению, в большой мир океана.
Поэтому ее нужно воспитывать. Ее нужно ко многому приучить и приспособить.
Осторожно, незаметно, ненавязчиво. Дети любят хитроумные игрушки. И если эти игрушки в то же время обучают…
* * *
Во второй половине XIX столетия на травянистом берегу ручья сидел англичанин. Около него лежала очень маленькая девочка и глядела в небо. В стороне валялась какая-то странная игрушка, с которой она перед этим играла. А сейчас она мурлыкала песенку без слов, а человек прислушивался краем уха.
– Что это такое, милая? – спросил он наконец.
– Это просто я придумала, дядя Чарли.
– А ну-ка спой еще раз. – Он вытащил записную книжку. Девочка спела еще раз.
– Это что-нибудь означает?
Она кивнула.
– Ну да. Вот как те сказки, которые я тебе рассказывала, помнишь?
– Чудесные сказки, милая.
– И ты когда-нибудь напишешь про это в книгу?
– Да, только нужно их очень изменить, а то никто их не поймет. Но я думаю, что песенку твою я изменять не буду.
– И нельзя. Если ты что-нибудь в ней изменишь, пропадет весь смысл.
– Этот кусочек, во всяком случае, я не изменю, – пообещал он. – А что он обозначает?
– Я думаю, что это путь туда, – сказала девочка неуверенно. – Я пока точно не знаю. Это мои волшебные игрушки мне так сказали.
– Хотел бы я знать, в каком из лондонских магазинов продаются такие игрушки?
– Мне их мама купила. Она умерла. А папе дела нет.
Это была неправда. Она нашла эти игрушки в Коробке как-то раз, когда играла на берегу Темзы. И игрушки были поистине удивительные.
Эта маленькая песенка – дядя Чарли думает, что она не имеет смысла. (На самом деле он ей не дядя, вспомнила она, но он хороший.) Песенка очень даже имеет смысл.
Она указывает путь. Вот она сделает все, как учит песенка, и тогда…
Но она была уже слишком большая. Пути она так и не нашла.
* * *
Скотт то и дело приносил Эмме всякую всячину и спрашивал ее мнение. Обычно она отрицательно качала головой. Иногда на ее лице отражалось сомнение. Очень редко она выражала одобрение. После этого она обычно целый час усердно трудилась, выводя на клочках бумаги немыслимые каракули, а Скотт, изучив эти записи, начинал складывать и передвигать свои камни, какие-то детали, огарки свечей и прочий мусор. Каждый день прислуга выбрасывала все это, и каждый день Скотт начинал все сначала.
Он снизошел до того, чтобы кое-что объяснить своему недоумевающему отцу, который не видел в игре ни смысла, ни системы.
– Но почему этот камешек именно сюда?
– Он твердый и круглый, пап. Его место именно здесь.
– Но ведь и этот вот тоже твердый и круглый.
– Ну, на нем есть вазелин. Когда доберешься до этого места, отсюда иначе не разберешь, что это круглое и твердое.
– А дальше что? Вот эта свеча?
Лицо Скотта выразило отвращение.
– Она в конце. А здесь нужно вот это железное кольцо.
Парадину подумалось, что это как игра в следопыты, как поиски вех в лабиринте. Но опять тот самый произвольный фактор. Объяснить, почему Скотт располагал свою дребедень так, а не иначе, логика – привычная логика – была не в состоянии.
Парадин вышел. Через плечо он видел, как Скотт вытащил из кармана измятый листок бумаги и карандаш и направился к Эмме, на корточках размышляющей над чем-то в уголке.
Ну-ну…
* * *
Джейн обедала с дядей Гарри, и в это жаркое воскресное утро, кроме газет, нечем было заняться. Парадин с коктейлем в руке устроился в самом прохладном месте, какое ему удалось отыскать, и погрузился в чтение комиксов. Час спустя его вывел из состояния дремоты топот ног наверху. Скотт кричал торжествующе:
– Получилось, пузырь! Давай сюда…
Парадин, нахмурясь, встал. Когда он шел к холлу, зазвенел телефон. Джейн обещала позвонить…
Его рука уже прикоснулась к трубке, когда возбужденный голосок Эммы поднялся до визга. Лицо Парадина исказилось.
– Что, черт побери, там, наверху, происходит?
Скотт пронзительно вскрикнул:
– Осторожней! Сюда!
Парадин забыл о телефоне. С перекошенным лицом, совершенно сам не свой, он бросился вверх по лестнице.
Дверь в комнату Скотта была открыта.
Дети исчезали.
Они таяли постепенно, как рассеивается густой дым на ветру, как колеблется изображение в кривом зеркале. Они уходили, держась за руки, и Парадин не мог понять куда, и не успел он моргнуть, стоя на пороге, как их уже не было.
– Эмма, – сказал он чужим голосом, – Скотти!
На ковре лежало какое-то сооружение – камни, железное кольцо – мусор. Какой принцип у этого сооружения –
произвольный?
Под ноги ему попался скомканный лист бумаги. Он машинально поднял его.
– Дети, где вы? Не прячьтесь…
ЭММА! СКОТТИ!
Внизу телефон прекратил свой оглушительномонотонный звон.
Парадин взглянул на листок, который был у него в руке. Это была страница, вырванная из книги. Непонятные каракули Эммы испещряли и текст и поля. Четверостишие было так исчеркано, что его почти невозможно было разобрать, но Парадин хорошо помнил «Алису в Зазеркалье».
Память подсказала ему слова:
Часово – жиркие товы
И джикали, и джакали в исходе.
Все тенали бороговы
И гуко свитали оводи.
Ошалело он подумал: Шалтай Балтай у Кэрола объяснил Алисе, что это означает. «Жиркие» – значит смазанные жиром и гладкие. Исход – основание у солнечных часов. Солнечные часы. Как-то давно Скотт спросил, что такое исход. Символ?
«Часово гукали…»
Точная математическая формула, дающая все условия,
и в символах, которые дети поняли. Этот мусор на полу.
«Товы» должны быть «жиркие» – вазелин? – и их надо расположить в определенной последовательности, так, чтобы они «джикали» и «джакали».
Безумие!
Но для Эммы и Скотта это не было безумием. Они мыслили по-другому. Они пользовались логикой X. Эти пометки, которые Эмма сделала на странице, – она перевела слова Кэрола в символы, понятные ей и Скотту.
Произвольный фактор для детей перестал быть произвольным. Они выполнили условия уравнения временипространства. «И гуко свитали оводи…»
Парадин издал какой-то странный гортанный звук.
Взглянул на нелепое сооружение на ковре. Если бы он мог последовать туда, куда оно ведет, вслед за детьми… Но он не мог. Для него оно было бессмысленным. Он не мог справиться с произвольным фактором. Он был приспособлен к Евклидовой системе. Он не сможет этого сделать, даже если сойдет с ума… Это будет совсем не то безумие.
Его мозг как бы перестал работать. Но это оцепенение, этот ужас через минуту пройдут… Парадин скомкал в пальцах бумажку.
– Эмма, Скотти, – слабым, упавшим голосом сказал он, как бы не ожидая ответа.
Солнечные лучи лились в открытые окна, отсвечивая в золотистом мишкином меху. Внизу опять зазвенел телефон.
Артур ПОРДЖЕСС
САЙМОН ФЛЭГГ И ДЬЯВОЛ
После нескольких месяцев напряженной работы по изучению бесчисленных выцветших манускриптов Саймону Флэггу удалось вызвать дьявола. Жена Саймона, знаток средневековья, оказала ему неоценимую помощь.
Сам он, будучи всего лишь математиком, не мог разбирать латинские тексты, особенно осложненные редкими терминами демонологии X века. Замечательное чутье миссис
Флэгг пришлось тут как нельзя кстати.
После предварительных стычек Саймон и черт сели за стол для серьезных переговоров. Гость из ада был угрюм, так как Саймон презрительно отверг его самые заманчивые предложения, легко распознав смертельную опасность, скрытую в каждой соблазнительной приманке.
– А что, если теперь вы для разнообразия выслушаете мое предложение? – сказал наконец Саймон. – Оно, во всяком случае, без подвохов.
Дьявол раздраженно покрутил раздвоенным кончиком хвоста, будто это была обыкновенная цепочка с ключами.
Очевидно, он был обижен.
– Ну что ж, – сердито согласился он. – Вреда от этого не будет. Валяйте, мистер Саймон!
– Я задам вам только один вопрос, – начал Саймон, и дьявол повеселел. – Вы должны ответить на него в течение двадцати четырех часов. Если это вам не удастся, вы платите мне сто тысяч долларов. Это скромное требование –
вы ведь привыкли к неизмеримо большим масштабам. Никаких миллиардов, никаких Елен Троянских на тигровой шкуре. Конечно, если я выиграю, вы не должны мстить.
– Подумаешь! – фыркнул черт. – А какова ваша ставка?
– Если я проиграю, то на короткий срок стану вашим рабом. Но без всяких там мук, гибели души и тому подобного – это было бы многовато за такой пустяк, как сто тысяч долларов. Не желаю я вреда и моим родственникам или друзьям. Впрочем, – подумав, добавил он, – тут могут быть исключения.
Дьявол нахмурился, сердито дергая себя за кончик хвоста. Наконец он дернул так сильно, что даже скривился от боли, и решительно заявил:
– Очень жаль, но я занимаюсь только душами. Рабов у меня и так хватает. Если бы знали, сколько бесплатных и чистосердечных услуг оказывают мне люди, вы были бы поражены. Однако вот что я сделаю. Если в заданное время я не смогу ответить на ваш вопрос, вы получите не жалкие сто тысяч долларов, а любую – конечно, не слишком дикую – сумму. Кроме того, я предлагаю вам здоровье и счастье до конца вашей жизни. Если же я отвечу на ваш вопрос – ну что ж, последствия вам известны. Вот все, что я могу вам предложить.
Он взял из воздуха зажженную сигару и задымил. Воцарилось настороженное молчание.
Саймон смотрел перед собой, ничего не видя. Крупные капли пота выступили у него на лбу. Он отлично знал, какие условия может выставить черт. Мускулы его напряглись… Нет, он готов прозакладывать душу, что никто – ни человек, ни зверь, ни дьявол – не ответит за сутки на его вопрос.
– Включите в пункт о здоровье и счастье мою жену – и по рукам! – сказал он. – Давайте подпишем.
Черт кивнул. Он вынул изо рта окурок, с отвращением посмотрел на него и тронул когтистым пальцем. Окурок мгновенно превратился в розовую мятную таблетку, которую черт принялся сосать громко и с явным наслаждением.
– Что касается вашего вопроса, – продолжал он, – то на него должен быть ответ, иначе наш договор недействителен. В средние века люди любили загадки. Нередко ко мне приходили с парадоксами. Например: в деревне жил только один цирюльник, который брил всех, кто не брился сам. Кто брил цирюльника? – спрашивали они. Но, как отметил Рассел, словечко «всех» делает такой вопрос бессмысленным, и ответа на него нет.
– Мой вопрос честный и не содержит парадокса, – заверил его Саймон.
– Отлично. Я на него отвечу. Что вы ухмыляетесь?
– Я?. Ничего, – ответил Саймон, согнав с лица усмешку.
– У вас крепкие нервы, – сказал черт мрачным, но одобрительным тоном, извлекая из воздуха пергамент. –
Если бы я предстал перед вами в образе чудовища, сочетающего в себе миловидность ваших горилл с грациозностью монстра, обитающего на Венере, вы едва ли сохранили бы свой апломб, и я уверен…
– В этом нет никакой надобности, – поспешно сказал
Саймон.
Он взял протянутый ему договор, убедился, что все в порядке, и открыл перочинный нож.
– Минуточку! – остановил его дьявол. – Дайте я его продезинфицирую. – Он поднес лезвие к губам, слегка подул, и сталь накалилась до вишнево-красного цвета. – Ну вот! А теперь прикоснитесь кончиком ножа… гм… к чернилам, и это все… Прошу вас, вторая строчка снизу, последняя – моя.
Саймон помедлил, задумчиво глядя на раскаленный кончик ножа.
– Подписывайтесь, – поторопил черт, и Саймон, расправив плечи, поставил свое имя.
Поставив и свою подпись с пышным росчерком, дьявол потер руки, окинул Саймона откровенно собственническим взглядом и весело сказал:
– Ну, выкладывайте свой вопрос! Как только я на него отвечу, мы отправимся. Мне надо посетить сегодня еще одного клиента, а времени в обрез.
– Хорошо, – сказал Саймон и глубоко вздохнул. – Мой вопрос такой: верна или не верна великая теорема Ферма´?
Дьявол проглотил слюну. В первый раз его самоуверенность поколебалась.
– Великая – чья? Что? – глухим голосом спросил он.
– Великая теорема Ферма. Это математическое положение, которое Ферма, французский математик семнадцатого века, якобы доказал. Однако его доказательство не было записано, и до сего дня никто не знает, верна теорема или нет. – Когда Саймон увидел физиономию черта, у него дрогнули губы. – Ну вот, ступайте и займитесь!
– Математика! – в ужасе воскликнул хвостатый. – Вы думаете, у меня было время изучать такие штуки? Я проходил тривиум и квадривиум5, но что касается алгебры…
Скажите, – возмущенно добавил он, – этично ли задавать мне такой вопрос?
Лицо Саймона окаменело, но глаза сияли.
– А вы предпочли бы сбегать за сто двадцать тысяч километров и принести какой-нибудь предмет величиной с гидростанцию Боулдер Дэм, – поддразнил он черта. –
Время и пространство – для вас легкое дело, правда? Что ж, сожалею, но я предпочитаю свой вопрос. Он очень прост, – успокаивающе добавил Саймон. – Речь идет о положительных целых числах.
– А что такое положительное число? – взволновался черт. – И почему вы хотите, чтобы оно было целым?
– Выразимся точнее, – сказал Саймон, пропуская вопрос дьявола мимо ушей. – Теорема Ферма утверждает, что для любого положительного целого числа п больше двух уравнение хn + уn = zn не имеет решения в положительных целых числах.
– А что это значит?.
– Помните, вы должны дать ответ.
– А кто будет судьей, вы?
– Нет, – ласково ответил Саймон. – Я не считаю себя достаточно компетентным, хотя бился над этой проблемой несколько лет. Если вы явитесь с ответом, мы представим его в солидный математический журнал. Отступить вы не можете – проблема, очевидно, разрешима: теорема либо верна, либо ложна. И, пожалуйста, никаких фокусов с
5 Два цикла средневекового образовании. Тривиум – грамматика, риторика, диалектика; квадривиум (повышенный курс посте тривиума) – арифметика, геометрия, астрономия, теория музыки. — Прим. ред.
многозначной логикой. За двадцать четыре часа найдите ответ и докажите, что он правильный. В конце концов человек… виноват, дух… с вашим развитием и огромным опытом может за это время немного подучить математику.
– Я вспоминаю, как туго мне приходилось с Евклидом, когда я изучал его в Кембридже, – печально заметил дьявол. – Мои доказательства никогда не были верны, а между тем истина лежала на поверхности: достаточно было взглянуть на чертеж. – Он стиснул зубы. – Но я справлюсь. Мне случалось делать и более трудные вещи, дорогой мистер Саймон. Однажды я слетал на отдаленную звезду и принес оттуда литр нейтрония ровно за шестнадцать…
– Знаю, – перебил его Саймон. – Вы мастер на подобные фокусы.
– Какие там фокусы! – сердито пробурчал дьявол. –
Были гигантские технические трудности. Но не стоит ворошить прошлое. Я – в библиотеку, а завтра в это время…
– Нет, – жестко перебил его Саймон. – Мы расписались полчаса назад. Возвращайтесь точно через двадцать три с половиной часа. Не буду торопить вас, – иронически добавил он, когда дьявол с тревогой взглянул на часы. –
Выпейте рюмку вина и, прежде чем уйти, познакомьтесь с моей женой.
– На работе я никогда не пью, и у меня нет времени знакомиться с вашей женой… во всяком случае, теперь.
Он исчез.
В тот же миг вошла жена Саймона.
– Опять подслушивала у дверей! – мягко упрекнул ее
Саймон.
– Конечно, – сдавленным голосом проговорила она. –
И я хочу знать, дорогой, действительно ли труден этот вопрос. Потому что, если это не так… Саймон я просто в ужасе!
– Будь спокойна, вопрос труден, – беспечно ответил
Саймон. – Не все это сразу понимают. Видишь ли, – тоном лектора продолжал он, – всякий легко найдет два целых числа, квадраты которых в сумме тоже дают квадрат. Например, 32 + 42 = 52; то есть просто 9 + 16 = 25. Ясно?
– Угу.
Она поправила мужу галстук.
– Но никто еще не мог найти два куба, которые при сложении тоже давали бы куб, или более высокие степени, которые приводили бы к аналогичному результату, – повидимому, их просто нет. И все же, – торжествующе закончил он, – до сих пор не доказано, что таких чисел не существует! Теперь поняла?
– Конечно, – жена Саймона всегда понимала самые мудрые математические положения. А если что-то оказывалось выше ее понимания, муж терпеливо объяснял ей все по нескольку раз. Поэтому у миссис Флэгг оставалось мало времени для прочих дел.
– Сварю кофе, – сказала она и ушла.
Четыре часа спустя, когда они сидели и слушали третью симфонию Брамса, дьявол явился вновь.
– Я уже изучил основы алгебры, тригонометрии и планиметрии! – торжественно объявил он.
– Быстро работаете, – похвалил его Саймон. – Я уверен, что сферическая, аналитическая, проективная, начертательная и неевклидовы геометрии не представят для вас затруднений.
Дьявол поморщился.
– Их так много? – упавшим голосом спросил он.
– О, это далеко не все, – у Саймона был такой вид, словно он сообщил радостную весть. – Неевклидовы вам понравятся, – усмехнулся он. – Для этого вам не надо будет разбираться в чертежах. Чертежи ничего не скажут. И
раз вы не в ладах с Евклидом…
Дьявол застонал, поблек, как старая кинопленка, и исчез. Жена Саймона хихикнула.
– Мой дорогой, – пропела она, – я начинаю думать, что ты возьмешь верх!
– Тсс! Последняя часть! Великолепно.
Еще через шесть часов что-то вспыхнуло, комнату заволокло дымом, и дьявол опять оказался тут как тут. У него появились мешки под глазами. Саймон Флэгг согнал с лица усмешку.
– Я прошел все эти геометрии, – с мрачным удовлетворением произнес черт. – Теперь будет легче. Я, пожалуй, готов заняться вашей маленькой головоломкой.
Саймон покачал головой.
– Вы слишком спешите. По-видимому, вы не заметили таких фундаментальных методов, как анализ бесконечно малых, дифференциальные уравнения и исчисление конечных разностей. Затем есть еще…
– Неужели все это нужно? – вздохнул дьявол.
Он сел и начал тереть опухшие веки. Бедняга не мог удержать зевоту.
– Не могу сказать наверное, – безразличным голосом ответил Саймон. – Но люди, трудясь над этой «маленькой головоломкой», испробовали все разделы математики, а задача еще не решена. Я предложил бы…
Но черт не был расположен выслушивать советы Саймона. На этот раз он исчез, даже не встав со стула. И сделал это довольно неуклюже.
– Мне кажется, он устал, – заметила миссис Флэгг. –
Бедный чертяка!
Впрочем, в ее тоне трудно было уловить сочувствие.
– Я тоже устал, – отозвался Саймон. – Пойдем спать.
Думаю, до завтра он не появится.
– Возможно, – согласилась жена. – Но на всякий случай я надену сорочку с черными кружевами.
Наступило утро следующего дня. Теперь супругам показалось более подходящей музыка Баха. Поэтому они поставили пластинку с Вандой Ландовска.
– Еще десять минут, и если он не вернется с решением, мы выиграли, – сказал Саймон. – Я отдаю ему должное.
Он мог бы окончить курс за один день, притом с отличием, и получить диплом доктора философии. Однако…
Раздалось шипенье. Распространяя запах серы, поднялось алое грибообразное облачко. Перед супругами на коврике стоял дьявол и шумно дышал, выбрасывая клубы пара. Плечи его опустились, глаза были налиты кровью.
Когтистая лапа, все еще сжимающая пачку исписанных листов, заметно дрожала. Вероятно, у него пошаливали нервы.
Молча он швырнул кипу бумаг на пол и принялся яростно топтать их раздвоенными копытами. Наконец, истощив весь запас энергии, черт успокоился, и горькая усмешка скривила его рот.
– Вы выиграли, Саймон, – прошептал черт, глядя на математика с беззлобным уважением. – Даже я не мог за это короткое время изучить математику настолько, чтобы одолеть такую трудную задачу. Чем больше я в нее углублялся, тем хуже шло дело. Неединственное разложение на множители, идеальные числа – о Ваал!. Вы знаете, – доверительно сообщил он, – даже лучшие математики других планет – а они ушли далеко от вас – не добились решения. Эх, один молодчик на Сатурне – он немного напоминает гриб на ходулях – в уме решает дифференциальные уравнения в частных производных. Но тут и он спасовал, – дьявол вздохнул. – Будьте здоровы.
Черт исчезал очень медленно. Видно, он-таки изрядно устал.
Саймон крепко поцеловал жену. Но она, с недоуменной гримаской всматриваясь в лицо мужа, витавшего гдето в облаках, спросила:
– Дорогой, что еще неладно?
– Нет, ничего… Но, понимаешь, я хотел бы ознакомиться с его работой, узнать, насколько близко он подошел к решению. Я бился над этой проблемой не менее…
Но не договорил и изумленно вытаращил глаза: дьявол вновь очутился в комнате. У него был очень смущенный вид.
– Я здесь забыл… – пробормотал он, – Мне нужно…
ах! – Он нагнулся над разбросанными бумагами и начал их бережно собирать и разглаживать. – Эта штука захватывает, – сказал он, избегая взгляда Саймона. – Прямо не оторваться! Если бы только мне удалось доказать одну простенькую лемму! – Увидев, что на лице Саймона вспыхнул жгучий интерес, он потупил взор, как бы прося извинения. – Послушайте, профессор, – проворчал дьявол,
– я не сомневаюсь, что и вы потрудились над этим. Пробовали ли вы непрерывные дроби? Ферма, несомненно, пользовался ими, и… Будьте добры, оставьте нас вдвоем.
Последние слова были обращены к миссис Флэгг. Черт сел рядом с Саймоном, подоткнув под себя хвост, и указал на листы, испещренные математическими знаками.
Миссис Флэгг вздохнула. Погруженный в раздумье дьявол вдруг показался ей очень знакомым: он почти не отличался от старого профессора Аткинса, коллеги ее мужа по университету. Стоит двум математикам углубиться в изучение какой-нибудь мучительной и заманчивой задачи, и они…
Она покорно вышла из комнаты с кофейником в руке.
Несомненно, предстояла долгая, утомительная конференция. В этом миссис Флэгг была уверена. Ведь недаром она была женой известного математика.
Эрик РАССЕЛ
СВИДЕТЕЛЬСТВУЮ
Еще никогда ни один суд не привлекал столь пристального внимания мировой общественности. Шесть телекамер медленно поворачивались вслед за торжественно следующими к своим местам юридическими светилами в красных и черных мантиях. Десять микрофонов доносили до обоих полушарий Земли скрип ботинок и шелест бумаг.
Двести репортеров и специальных корреспондентов заполнили балкон, отданный целиком в их распоряжение.
Сорок представителей ЮНЕСКО взирали через зал суда на вдвое большее число ничего не выражающих, натянутых физиономий дипломатов и государственных чиновников. Отказались от традиций. Процедура не имела ничего общего с обычной – это был особый процесс по совершенно особому делу. Вся техника была приспособлена к тому, чтобы соответствовать совершенно необычайному, ни на что не похожему обвиняемому. И высокие титулы судей подчеркивались театральной пышностью обстановки. На этом процессе не было присяжных, зато было пять судей. И миллиард граждан, которые следили за процессом дома, у телевизоров, и готовы были обеспечить справедливую игру. Вопрос о том, что же считать «справедливой игрой», заключал в себе столько вариантов, сколько невидимых зрителей следило за спектаклем, и большинство этих вариантов диктовалось не разумом, а чувствами.
Ничтожное меньшинство зрителей ратовало за сохранение жизни обвиняемому, большинство же страстно желало ему смерти; были и колеблющиеся, согласные на изгнание его, – каждый в соответствии со своим впечатлением от этого дела, вынесенным в результате длительной фанатичной агитации, предшествовавшей процессу.
Члены суда неуверенно, как люди слишком старые и мудрые, чтобы выступать у рампы перед публикой, заняли свои места. Наступила тишина, нарушаемая только боем больших часов, расположенных над судьями. Было 10 часов утра 17 мая 1987 года. Микрофоны разнесли бой часов по всему миру. Телекамеры передали изображения судей, часов и, наконец, того, что было в центре внимания всего человечества: существа на скамье подсудимых.
Шесть месяцев прошло с того дня, как это существо стало сенсацией века, точкой, на которой сфокусировалось ничтожное количество безумных надежд и гораздо больше
– страхов человечества. Потом оно так часто появлялось на экранах телевизоров, на страницах журналов и газет, что чувство удивления прошло, а надежды и страхи остались. Постепенно его начали воспринимать как нечто карикатурное, дали ему презрительное прозвище Кактус.
Одни стали к нему относиться как к безнадежно уродливому глупцу, другие – как к коварному эмиссару еще более коварной иноземной цивилизации. Таким образом, близкое знакомство породило презрение, но не настолько сильное, чтобы убить страх.
Его звали Мэт; оно прибыло с одной из планет системы Проциона. Около метра в высоту, ярко-зеленое, с ножками-подушечками, ручками-обрубками, снабженное отростками и ресничками, все это существо было в колючках и выступах и выглядело как взрослый кактус.
Только у него были глаза, большие золотистые глаза, которые наивно смотрели на людей в ожидании милосердия, потому что существо это никогда никому не причиняло зла. Жаба, просто загрустившая жаба с драгоценными камнями на голове.
Секретарь в черной мантии напыщенно провозгласил:
– Заседание специальной коллегии суда, созванной под эгидой Соединенных Штатов Америки, объявляю открытым! Внимание!
Тот судья, что сидел в центре, посмотрел на коллег, поправил очки, кинул хмурый взгляд на «жабу», или на «кактус», или как его еще назвать.
– Мэт с Проциона, нам известно, что вы не способны ни слышать, ни произносить слова, но можете телепатически понимать нас и отвечать в письменной форме.
Телекамеры тут же показали, как Мэт повернулся к доске, установленной за скамьей подсудимых, и написал мелом одно слово: «Да».
Судья продолжал:
– Вы обвиняетесь в том, что незаконно попали в мир под названием Земля, точнее – страну, называемую Соединенными Штатами Америки. Признаете ли вы себя виновным?
Большими белыми буквами Мэт вывел на доске: «А
как еще можно сюда попасть?»
Судья нахмурился:
– Будьте добры отвечать на вопросы.
«Не виновен».
– Вам предоставлен защитник. Есть ли у вас возражения против его кандидатуры?
«Благословен будь, миротворец».
Немногие восприняли это как остроту. Большинство решило, что сам дьявол цитирует Библию.
Судья вздохнул, протер стекла очков и откинулся на спинку кресла.
Расправив мантию на плечах, встал прокурор. Это был высокий, длиннолицый человек с пронзительным взглядом маленьких глаз.
– Первый свидетель!
Из зала вышел тщедушный человечек, неловко присел на стул свидетелей, беспокойно перебирая пальцами.
– Ваше имя?
– Сэмуэл Нолл.
– Ваша ферма расположена близ Денвила?
– Да, сэр. Я…
– Не называйте меня «сэр». Только отвечайте на вопросы. Это существо приземлилось на территории вашей фермы?
– Ваша честь, я протестую! – поднялся с места адвокат, человек чрезвычайно полный и краснолицый, повидимому, сангвиник. – Мой клиент – юридическое лицо, а не какое-то там существо. Поэтому его следует называть «обвиняемым».
– Протест отклоняется! – отрезал судья в центре. –
Продолжайте, мистер прокурор.
– Да, – ответил Сэмуэл Нолл, с гордостью глядя в объективы телекамер. – Оно свалилось как снег на голову и…
– Отвечайте только на вопросы. Посадка сопровождалась серьезными разрушениями?
– Да.
– Что пострадало?
– Два сарая и большая часть урожая. Убытков на три тысячи долларов.
– Существо проявило при этом какие-либо признаки раскаяния?
– Никаких, – Нолл сердито оглядел зал. – Вело себя как ни в чем не бывало.
Прокурор сел, насмешливо улыбнувшись своему толстому противнику.
– Передаю свидетеля защите, – сказал он.
Адвокат встал, благожелательно посмотрел на Нолла и спросил:
– Скажите, ваши сараи – это восьмиугольные башни с жалюзи в стенах и барометрически управляемыми крышами?
Нолл вскинул брови и тихо ахнул:
– Чего?
– Ну, хорошо. Оставим это, ответьте мне на такой вопрос: ваш урожай, по-видимому, состоял из фузлинов и двухцветных меркинсов?
– Это был ячмень, зрелый ячмень, – в отчаянии произнес Нолл.
– Бог мой! Ячмень – надо же! А вам знакомы фузлины и меркинсы? Вы бы их узнали, если бы увидели?
– Пожалуй, что нет, – неохотно признался Нолл.
– Разрешите заметить, что вам просто недостает умственных способностей, – резко заключил адвокат. – И я бесконечно сожалею об этом, поверьте мне. Вы видите по моему лицу, как это меня огорчает?
– Не вижу, – ответил Нолл, чувствуя, как его трон под взорами телекамер превращается в ложе, утыканное гвоздями.
– Другими словами, вы не увидели бы раскаяния, будь оно написано на моем лице?
– Протестую! – загремел прокурор, заливаясь краской.
– Нельзя сознательно заставлять свидетеля…
Он остановился, заметив, что его соперник опустился на стул. Поспешно взяв себя в руки, прокурор проворчал:
– Следующего свидетеля!
Свидетель номер два был крупный, крепкий, весь в синем мужчина. Держался он уверенно, как человек, давно знакомый с судами и скучными судебными процедурами.
– Имя?
– Джозеф Хиггинсон.
– Вы офицер полиции города Денвила?
– Так точно.
– Это вас вызывал на свою ферму первый свидетель?
– Меня.
Прокурор улыбался, задавая следующий вопрос, в полной уверенности, что теперь-то он целиком овладел событиями.
– Увидев случившееся, вы постарались разобраться в причинах, не так ли?
– Да, конечно.
Мистер Хиггинсон обернулся и бросил сердитый взгляд в умоляющие золотистые глаза обвиняемого.
– И что тогда случилось?
– Оно парализовало меня одним взглядом.
Вмешался судья слева:
– Вы, кажется, выздоровели. Насколько глубок был паралич и сколько времени он продолжался?
– Парализовало меня всего, ваша честь, но часа через два это прошло.
– И за это время, – спросил прокурор, – иноземный преступник успел удрать?
– Да, – мрачно ответил свидетель.
– Резюмируем: существо игнорировало офицера полиции, находившегося при исполнении служебных обязанностей, напало на него и сбежало от ареста, так?
– Да, – охотно согласился Хиггинсон.
– Передаю свидетеля защите.
Прокурор сел, чрезвычайно довольный собой.
Поднялся адвокат, засунул пальцы за край жилета и с обезоруживающим дружелюбием обратился к Хиггинсону.
– Вы всегда сумеете распознать при встрече своего коллегу полицейского?
– Конечно.
– Очень хорошо. Среди публики в зале сидит полицейский. Будьте добры, покажите его господам судьям.
Хиггинсон внимательно осмотрел немногих присутствующих, которые здесь, в зале суда, представляли куда более обширную аудиторию телезрителей. Телекамеры следовали за его взглядом по рядам зрителей. Судьи, корреспонденты, репортеры, государственные чиновники –
все смотрели туда же.
– Он, наверное, в гражданском, – заявил Хиггинсон, сдаваясь.
Судья в центре поспешил вмешаться:
– Вряд ли суд признает доказательством вашей правоты неспособность свидетеля узнать полицейского, одетого в штатское.
– Конечно, ваша честь, – согласился адвокат.
На его крупном лице отражалось крушение надежд, что порадовало сердце его наблюдательного противника.
Тогда, удовлетворенный тем, что прокурор вознесся на должную высоту, он вдруг просиял и шмякнул его на самое дно:
– Но вышеупомянутый полицейский одет по всей форме.
Прокурор изменился в лице, будто надел новую маску.
Хиггинсон чуть не вывихнул шею, делая новую попытку разглядеть полицейского среди зрителей.
– Зеленовато-коричневая форма с красными лампасами, – подсказал адвокат. – Это маршал, начальник корпуса военной полиции.
– Вы мне этого не говорили, – обиженно заметил Хиггинсон.
– А вы тогда, на ферме, сказали обвиняемому, что вы офицер полиции?
Свидетель покраснел, открыл рот, закрыл его, умоляюще посмотрел на прокурора.
– Отвечайте на вопрос, – потребовал судья.
– Нет, я ему этого не говорил.
– Почему?
Вытирая платком лоб, Хиггинсон вдруг сказал охрипшим голосом:
– Не считал нужным: по-моему, это было и так видно.
А как по-вашему?
– Задавать вопросы буду я, вы же будете отвечать на них. Что, по-вашему мнению, маршал военной полиции «и так виден»?
– Протестую! – замахал руками прокурор. – Мнение –
это еще не доказательство.
– Поддерживаю протест! – провозгласил судья в центре. Он посмотрел на адвоката поверх очков. – Суд принимает во внимание тот факт, что обвиняемый любую информацию способен получать телепатически и поэтому свидетель не должен был представляться ему вслух. Продолжайте допрос свидетеля.
Адвокат снова обратился к Хиггинсону:
– Опишите, пожалуйста, во всех подробностях ваше поведение в тот момент, когда вас парализовало.
– Я тогда прицеливался.
– Собирались стрелять?
– Да.
– В обвиняемого?
– Да.
– Это входит в ваши привычки – сначала стрелять, а потом задавать вопросы?
– Привычки свидетеля не относятся к делу, – заявил судья в центре. Он взглянул на Хиггинсона: – Вы можете не отвечать на поставленный вопрос.
Офицер Хиггинсон, удовлетворенно осклабившись, игнорировал вопрос адвоката.
– С какого расстояния вы собирались стрелять? – продолжал допрос адвокат.
– С пятидесяти или шестидесяти ярдов.
– Так далеко? Вы хороший стрелок?
Хиггинсон осторожно кивнул, правда, без всякого чувства гордости. «Определенно этот толстяк – не такой уж простачок», – подумал он.
– В котором часу вы рассчитываете попасть домой на ужин?
Захваченный врасплох этим неожиданным маневром атакующего, свидетель от изумления открыл рот и произнес:
– К полуночи, наверное.
– Ваша жена будет рада узнать об этом. Если бы не радио и телевидение, разве вы могли передать ей это, передать словами?
– Не стану же я орать так, чтоб было слышно в Денвиле, – съехидничал Хиггинсон.
– Конечно, не станете. Человеческий голос без помощи радио и телевидения не может преодолеть такое расстояние. – Адвокат потер подбородок, подумал немного и вдруг воскликнул: – А телепатически «орать» на расстояние пятидесяти или шестидесяти ярдов вы станете?
Ответа не последовало.
– Или ваши телепатические способности превосходят способности обвиняемого, который сообщил мне, что у него они ограничены расстоянием двадцать пять-тридцать ярдов?
Хиггинсон прищурился, но не ответил ничего.
– Вы и сами не знаете своих способностей?
– Не знаю.
– Жаль! – отрезал адвокат и, покачав головой, сел.
Третий свидетель – личность оливкового цвета – мрачно разглядывал свои ботинки, пока прокурор не начал допроса.
– Ваше имя?
– Доминик Лолордо.
Он произнес это тихим голосом, будто хотел, чтобы телезрители не только не видели его, но и не слышали.
– Вы директор рыбного ресторана?
– Да.
– Вы узнаете это существо на скамье подсудимых?
Лолордо скосил глаза.
– Да.
– При каких обстоятельствах вы видели его в последний раз?
– У меня в забегаловке, после закрытия.
– Оно ворвалось в помещение перед самым закатом, и вы проснулись в тот момент, когда оно приступило к грабежу, не так ли?
– Верно.
– Вы не пытались схватить его?
Лолордо состроил гримасу.
– Это его-то? Схватить? Да посмотрите на него!
– Но ведь если вы увидели, что вас грабят, наружность вора вас бы не остановила? – многозначительно заметил прокурор. – Тут, конечно, было что-то еще?
– Оно влезло в окно, – сказал Лолордо уже громче прежнего. – Прямо в окно, проделало в нем дыру, повторившую его собственные очертания. И ушло точно тем же путем – просто еще одна такая же дыра в окне. И ни разбитого стекла, ни осколков – ничего. Что бы вы на моем месте стали делать с зеленым кошмаром, который лезет в окно так, как будто там нет никакого стекла?
– Когда существо проявило свои сверхъестественные способности, вы бросились за помощью?
– А вы как думали?!
– Но помощь пришла слишком поздно? Когда бессовестного грабителя и след простыл?
– Да.
Прокурор жестом дал понять, что кончил, и к допросу приступил адвокат.
– Вы утверждаете, что вас ограбили. Что у вас украли?
– Так, пустяки.
– Это не ответ.
– Разве? – Лолордо зевнул с нарочитым безразличием.
Судья в центре, грозно нахмурившись, наклонился вперед.
– Вы что, хотите схватить срок за неуважение к суду?
– Он украл немного лобстеров и устриц, – неохотно, но поспешно ответил Лолордо.
– Другими словами, плотную еду, а? – спросил адвокат.
– Ну, если хотите…
– Вы не подумали, что обвиняемый был безумно голоден?
– Еще чего не хватало – думать! Я только взглянул на него – и давай бог ноги.
– Так что, если даже обвиняемый успел прочитать ваши мысли о том, что он совершил преступление, у него уже все равно не оставалось времени на извинения или на возмещение причиненных вам убытков?
Ответа не последовало.
– А уж мысли-то вы излучали предельно враждебные?
– Да, конечно, в любви ему не объяснялся, – заметил свидетель.
Адвокат обратился к судьям:
– Свидетель не заслуживает доверия. Дальнейший допрос считаю нецелесообразным.
Судьи посовещались, и тот, что в центре, холодно объявил о решении:
– Содержать под стражей в помещении суда до вынесения приговора.
Лолордо потопал прочь, бросая по сторонам злобные взгляды.
– Четвертый свидетель!
Трибуну занял энергичный человек среднего возраста
– такими в кино представляют солидных президентов банков или знаменитых судей. И, по всей вероятности, с любой из этих ролей он бы великолепно справился.
– Ваше имя?
– Уинтроп Аллен.
– Профессор зоологии, не так ли? – спросил прокурор.
– Совершенно верно.
– Вы узнаете это существо?
– Как не узнать? Несколько месяцев я находился с ним в тесном контакте.
Сделав нетерпеливый жест, прокурор спросил:
– При каких обстоятельствах вы впервые столкнулись с ним?
На такой вопрос, очевидно, можно было бы не отвечать: весь мир знал эти «обстоятельства». О них толковали вкривь и вкось, сопровождая рассказы всякими прикрасами. Тем не менее Аллен ответил:
– Оно появилось в зоопарке через два часа после закрытия. Как оно туда попало, я не знаю.
– Оно всюду совало свой нос, высматривая все, что можно высмотреть, все наматывая на ус?
Аллен заметил с сомнением:
– Что тут можно сказать…
– Осматривало оно все вокруг или нет?
– Конечно, ему многое удалось увидеть в зоопарке, прежде чем служители обнаружили его, но…
– Пожалуйста, отвечайте без выкрутас, профессор Аллен, – жестко заметил прокурор. – Продолжим: благодаря невероятному фурору, произведенному прибытием на
Землю этого существа, и последующим событиям вашим служащим нетрудно было опознать его?
– Конечно. Они сразу сообщили мне о нем.
– Как же вы тогда поступили?
– Занялся этим делом сам. Нашел ему теплое удобное помещение в незанятой секции павильона рептилий.
Все в зале суда, включая и телевизионные камеры, с уважением воззрились на специалиста, который с таким хладнокровием действовал в столь необычных обстоятельствах.
– Как же случилось, что вас при этом не разбил паралич, никто не уничтожил и вообще вы не стали жертвой сверхъестественного рока? – с кислой миной спросил прокурор. – Уж не излучали ли вы при этом самое сердечное приглашение?
Свидетель сухо ответил:
– Совершенно верно, излучал.
– Оставьте ваши шутки до лучших времен, профессор, здесь они неуместны, – сурово оборвал его прокурор. –
Как бы то ни было, суд понимает, что вы отнесли это кошмарное существо к классу рептилий и отвели ему подобающее место.
– Чепуха! Просто павильон рептилий оказался свободен, удобен и поэтому приемлем. Обвиняемый не поддается нашей классификации.
Сделав презрительный жест, прокурор продолжал:
– Вам, вероятно, трудно объяснить суду, какими средствами вы одолели грозные силы и поймали это существо в ловушку?
– Я не ловил его. Я знал, что оно разумно, и соответствующим образом относился к нему.
– Если учесть заявление предыдущих свидетелей, вам крупно повезло, – колко заметил прокурор. – Почему этот уродец позволил вам в отличие от всех других вступить с ним в контакт?
– Просто он понял, что мой разум привык иметь дело с нечеловеческими формами жизни. А отсюда он логически пришел к выводу, что со мной легче, чем с кем-либо другим, наладить контакт.
– Логически пришел к выводу, – повторил прокурор и обратился к судьям: – Прошу, милостивые государи, обратить серьезное внимание на эти слова, учитывая, что данный свидетель находится на особом положении. – И он снова повернулся к Аллену. – Таким образом, вы считаете, что существо обладает разумом?
– Безусловно!
– В течение нескольких месяцев вы имели возможность изучать разум этого незваного агрессора. Какой, по вашему мнению, уровень интеллекта у этого существа?
– Такой же, как и у вас, только он иной, совсем непохож на наш.
– Вы считаете этого субъекта полноценным представителем его расы?
– У меня нет оснований думать иначе.
– То есть его раса равна нашей по разуму?
– Очень возможно. – Профессор Аллен потер подбородок, минуту подумал. – Да, я бы сказал, равна, если вообще можно сравнивать столь непохожие явления.
– А может быть, они даже превосходят нас, и не только умственно, но и численно? – настойчиво гнул свою линию прокурор.
– Не знаю. Сомневаюсь.
– Но можно ли исключить такую возможность?
– Такие произвольные умозаключения меня не удовлетворяют, и поэтому я…
– Не увиливайте от ответа! Существует ли возможность, пусть малейшая, что форма жизни, представляемая этим чудовищем, является самой страшной угрозой роду человеческому за всю его историю?
– Если сильно хотеть, угрозой можно назвать все, что угодно, но…
– Угроза – да или нет?!
Вмешался судья в центре:
– Нельзя требовать определенного ответа от свидетеля на гипотетически поставленный вопрос.
Прокурор невозмутимо поклонился:
– Отлично, ваша честь, я поставлю вопрос иначе. – И
возобновил допрос: – Считаете ли вы как специалист, что интеллектуальный потенциал данной формы жизни достаточно высок, чтобы они напали, победили и поработили человечество, если бы они этого захотели?
– Не знаю.
– Это все, что вы можете сказать?
– Боюсь, что да.
– Но этого вполне достаточно, – резюмировал прокурор, многозначительно глядя в телекамеры на невидимое многомиллионное жюри. – Значит, вы допускаете, что существует опасность, небывалая опасность?
– Я этого не говорил, – возразил Аллен.
– Но вы не утверждали и обратного, – парировал прокурор, занимая свое место с видом самоуверенным и довольным. – Я кончил.
Адвокат помедлил, прежде чем приступить к допросу.
– Профессор Аллен, как освещались в прессе ваши многочисленные заявления, касающиеся обвиняемого?
– Все они без исключения были грубо извращены, –
хмуро ответил Аллен. Он бросил ледяной взгляд на большую группу репортеров, которые в ответ высокомерно улыбнулись.
– Обвиняемого неоднократно рассматривали как шпиона, к которому во избежание худшего нужно применить решительные меры. На основании сведений, которыми вы располагаете, вы поддерживаете эту версию?
– Нет.
– Как бы вы определили общественное положение обвиняемого?
– Он эмигрант, – ответил Аллен.
– Не правда ли, побуждения обвиняемого невозможно рассматривать как враждебные роду человеческому?
– Нет ничего невозможного, – сказал профессор Аллен, потому что он был воплощенная честность. – Обмануть можно и самого хитрого из нас. Но не думаю, чтобы меня обманули. Таково мое мнение, чего бы оно ни стоило. Адвокат вздохнул:
– Как мне уже тут напоминали, мнение – это еще не доказательство. – Он опустился на стул, ворча себе под нос: – Хуже некуда! Какое несчастье!
– Пятый свидетель!..
– Десятый свидетель!.
– Шестнадцатый свидетель!
Шестнадцатый был последним в списке обвинения.
Свидетелей могло быть в пять раз больше, но и этого хватило за глаза! И у каждого из них было что предложить для окончательного всеобщего приговора, соответствовавшего если не здравому смыслу, то по крайней мере предрассудкам, – вполне убедительное, продуманное предложение о том, как поступать с кочующими формами жизни: терпеть их, дать им под зад коленом или сделать что-нибудь похуже. В настоящий момент стоял вопрос об общественной безопасности, и решать, стоит ли подвергать себя риску, должна была сама общественность. Имея это в виду, все шестнадцать свидетелей обвинения составили грозный обвинительный акт против странного златоглазого подсудимого, покушаясь не только на его свободу, но и на саму жизнь.
Чувствуя себя хозяином положения, прокурор обращает повелительный взгляд на обвиняемого и приступает к допросу:
– Без дураков, зачем вы прилетели на Землю?
«Мне надо было сбежать из своего собственного мира».
– И вы думаете, мы в это поверим?
«Я ничего не думаю, – с трудом выводит на доске Мэт.
– Я просто надеюсь».
– На что же вы надеетесь?
«На доброту».
Прокурор смущен. В поисках саркастического ответа он молчит минуту, пока не находит другой путь допроса.
– Так ваш собственный мир вас не устраивал? Что же вам в нем не нравилось?
«Все».
– То есть вы были там отщепенцем?
«Да».
– А наш мир вы рассматриваете как подходящую мусорную свалку для таких отщепенцев, как вы?
Мэт не отвечает.
– Я считаю, что ваше утверждение – сплошная чепуха, что вся ваша история – просто выдумка. Полагаю, что причины вашего появления здесь глубже и неблаговиднее, чем вы хотите нам представить. Пойду дальше и скажу вам, что и прибыли-то вы сюда не из района Проциона, а откуда-то гораздо ближе, с Марса, например.
Мэт по-прежнему хранит молчание.
– Да знаете ли вы, что инженеры-конструкторы межпланетных кораблей подвергли ваш потерпевший крушение корабль длительному и серьезному обследованию и составили отчет об этом?
Мэт стоит совсем спокойно, смотрит отсутствующим взором вдаль и ничего не говорит.
– Знаете ли вы, что, хотя, по их мнению, ваш корабль превосходит все до сих пор сделанное нами в этой области и способен совершать полеты далеко за пределы Солнечной системы, тем не менее он не может достичь не только
Проциона, но и Альфы Центавра?
«Это верно», – пишет на доске Мэт.
– И вы продолжаете упорствовать, что прибыли из системы Проциона?
«Да».
Прокурор недоуменно разводит руками.
– Ваша честь, вы слышали, что говорит это существо.
Его корабль не мог долететь до Земли с Проциона. И все же оно прилетело с Проциона. Чудовище непоследовательно либо в силу своего слабоумия, либо потому – и это, видимо, более вероятно, – что оно неумело лжет. Поэтому мне представляется едва ли целесообразным дальнейший…
«Мой корабль и я ехали на астероиде», – выводит каракулями на доске Мэт.
– Ну вот! – Мистер прокурор саркастически показывает на доску. – Обвиняемый ехал на астероиде! Ничего себе выход из им самим созданного тупика: на астероиде, ни больше и ни меньше! – Он сдвинул брови и посмотрел на обвиняемого. – Ох, и длинный путь вы, должно быть, проделали!
«Да».
– Значит, вы посадили корабль на астероид и, пролетев на нем много миллионов миль, сэкономили таким образом горючее? Вы никогда не слыхали о математической теории вероятностей, по которой вряд ли можно найти свободно плавающий астероид в каком бы то ни было районе космического пространства?
«Это действительно было чрезвычайно редкое явление», – соглашается Мэт.
– И все же вы обнаруживаете такой именно астероид, который вместе с вами проделывает весь путь сюда? Самый поразительный из космических кораблей, не так ли?
«Он не проделал весь путь сюда. Только большую часть пути».
– Ну хорошо, – с легким презрением соглашается прокурор. – Девяносто девять миллионов вместо ста, или сколько там должно быть? И все-таки это поразительно.
«Более того, – продолжает неуверенно писать Мэт, –
это вовсе не был какой-то специально выбранный астероид, который доставил бы меня именно сюда. Это был первый попавшийся астероид, который мог увезти меня куда угодно. У меня не было определенной цели. Это был полет в пустоту, наудачу, на волю случая, навстречу моей судьбе».
– Так если бы вы сели на другой астероид, вас могло занести куда-нибудь еще, да?
«Или вовсе никуда, – дрожащей рукой пишет Мэт. –
Судьба оказалась добра ко мне».
– Не будьте так уверены в этом. – Прокурор засунул пальцы в карман жилета и зловеще посмотрел на обвиняемого. – Если истинные ваши цели, истинные мотивы не похожи на те, что вам приписывают наши вечно бдительные газетчики, то ваша защитительная речь должна быть безукоризненной, она должна убеждать. Представленный же сейчас вами вариант абсолютно бездоказателен. Кроме голословных утверждений, утверждений уродливого иноземца с неизвестными нам намерениями, мы, суд, ничего от вас не получили. – Он передохнул и закончил: – Можете вы представить на рассмотрение суда что-нибудь более существенное, чем ваша фантастическая история?
«Я не знаю, как бороться с недоверием, – пишет Мэт медленно, устало. – Только верой».
Прокурор отвергает это заявление резко и безжалостно:
– Сколько еще подобных вам находится сейчас в нашем мире и приводит в жизнь свои подлые планы, пока вы тут в полном блеске славы морочите нам головы?
До сих пор подобная мысль никому не приходила в голову: ни тем, кто находится в зале, ни за пределами его.
Теперь с полдюжины репортеров втихомолку корили себя за то, что вовремя не набрели на эту ценную идею и не воспользовались ею. С самого начала предполагалось, что на планете пребывает всего один лишь пришелец, что он в надежных руках. Но ведь действительно, где гарантия того, что десятки, а то и сотни других не скрываются в тени, не ждут своего часа? Люди переглядываются, беспокойно ерзают на своих местах.
«Кроме меня, никого на корабле не было», – пишет мелом на доске Мэт.
– Правда. Пожалуй, это первое ваше свидетельство, которое не вызывает сомнений. Ведь эксперты в отчете показали, что корабль, на котором вы прибыли, одноместный, так что, очевидно, вы были на нем один. Но сколько же еще ваших кораблей приземлилось примерно в это же время?
«Ни одного».
– Хотелось бы верить вам, – говорит прокурор, своим замечанием снова внося беспокойство в ряды слушателей.
– На вашей планете существует, видимо, немало кораблей и более мощных, и гораздо более вместительных, чем ваш, верно?
«Много, – соглашается Мэт. – Но они не быстроходнее моего и не могут летать на более далекие расстояния. Они только могут нести большой груз».
– Откуда у вас собственный корабль?
«Украден».
– Неужели вы его украли? – с ухмылочкой поднимает брови прокурор. – Так вы вор, признающийся в собственном преступлении! – Тут он делает вид, что его вдруг озарила идея: – А между прочим, каждый понимает, что лучше признаться в воровстве, чем в шпионаже. – Он дает этой мысли пустить корни, прежде чем нанести следующий удар. – Не будете ли вы добры рассказать нам, сколько еще ваших смелых и отчаянных соотечественников готовы или готовятся последовать вашему примеру в завоевании нашего мира?
Поднимается адвокат и говорит:
– Я рекомендую клиенту не отвечать на этот вопрос.
Его противник нетерпеливым жестом предлагает адвокату сесть и обращается к судьям:
– Ваша честь, я готов изложить версию обвинения.
Судьи смотрят на часы, совещаются между собой, разрешают:
– Приступайте!
Речь прокурора была блистательной, разгромной, продолжительной, камня на камне не оставившей от защиты.
В ней вновь приводились доказательства тяжести преступления, делались намеки, которые наводили невидимую аудиторию на еще более мрачные мысли. Нельзя сказать, что прокурор испытывал истинную ненависть или страх перед незваным гостем – просто он блестяще выполнял свой профессиональный долг.
– Этот процесс, этот необычайный, уникальнейший процесс, – говорил прокурор, – войдет в историю права и законности. Он представляет собой прецедент, в соответствии с которым мы будем строить свои отношения с будущими пришельцами из космоса. И вам, представителям общественного мнения, принадлежит решающая роль в установлении этих отношений; вам и только вам достанется либо пожинать плоды союза с иными цивилизациями, либо… – Он сделал паузу, потом жестко добавил: – Либо взвалить на свои плечи все ужасы инопланетной интервенции. И, позвольте вам заметить, плоды союза могут быть весьма незначительными, в то время как ужасы интервенции безмерны.
Откашлявшись, отпив глоток воды, он снова приступил к делу:
– И вот, чтобы наилучшим образом решить этот вопрос, прийти к правильным выводам, вам не остается ничего другого, как исходить из опыта общения с этим фантастическим типом, которому вы к тому же должны вынести приговор.
Он повернулся к Мэту и дальше на протяжении всей своей речи не спускал с него глаз.
– Это существо не приведено к присяге, так как мы не знаем, чему оно может присягнуть. Его этика – если таковая вообще существует – это их этика, ничего общего не имеющая с нашей. Все, что мы знаем о нем, мы знаем с его слов, почерпнули из его весьма красочной фантастической истории, столь неправдоподобной для человеческого уха, что вряд ли можно винить кого-либо из нас за то, что он считает это существо бессовестным лжецом.
При этих словах огромные глаза Мэта закрылись от боли и страдания, но прокурор решительно продолжал:
– Если вопрос об искренности этого существа можно считать открытым, то в некоторых других аспектах – например, уважение к собственности, к закону – обвинение строится на фактах. А ведь это краеугольные камни нашей цивилизации, они создавались веками, и мы не дадим сокрушить их, пусть ради этого нам придется драться с самыми необыкновенными пришельцами!
Тут он немного перехватил: уж очень явно это маленькое большеглазое существо не подходило на роль сокрушителя цивилизаций. Тем не менее нарисованная им перспектива должна была сформировать мнение тысяч, миллионов людей. Если они еще сомневаются, лучше действовать наверняка.
– Он вор. Более того, человек, сам признающий себя вором. Он обокрал не только нас, но и своих соотечественников, – продолжал наступление прокурор, не замечая, что употребляет в отношении к пришельцу уже местоимение не среднего рода, а мужского и называет его не «существом», а «человеком». – Сокрушитель, и притом разумный сокрушитель, и, возможно, предтеча целого сонма сокрушителей. Я думаю, что там, где прошел один, может пройти и целая армия! – И, не затрудняя себя вопросом, где найти столько астероидов, чтобы доставить к Земле сонмища пришельцев, добавил: – Сотни армий!
То повышая, то понижая голос, то с вызовом, грубо, то мягко, вкрадчиво, он говорил, играя, как органист играет на гигантском органе, на чувствах своих слушателей, взывая к земному патриотизму, потворствуя ограниченности, оправдывая предрассудки, раздувая страхи – страх перед самим собой, страх перед другими, страх перед необычным по форме, страх перед завтрашним днем, страх перед неизведанным. Речь его была высокопарной, насмешливый тон сменялся торжественным, а затем саркастическим.
– Он, – говорил прокурор, указывая на Мэта и все еще употребляя местоимение мужского рода, – он просит считать его гражданином нашего мира. Принять его со всеми его штучками-дрючками, с его сверхъестественными способностями, с его тайными побуждениями, которые, может быть, станут явными, когда будет уже слишком поздно? А не лучше ли – пусть он и в самом деле так чист и непорочен, как он хочет нас уверить, – не лучше ли несправедливо покарать его, чем подвергать бесконечно большему риску великое множество других?
Он с вызовом осмотрел аудиторию.
– Предположим, мы примем его как беженца. Но кто даст ему кров? Кто хочет жить рядом с существом, столь чуждым человеку? – Он ухмыльнулся. – Впрочем, такие есть, жаждущие составить ему компанию. Как бы неправдоподобно это ни звучало, нашлись люди, которым он нужен. Он поднял над головой письмо, чтобы все видели, и сказал:
– Этот человек предлагает ему кров. Он пишет, что во время восьмого воплощения на Проционе сам он стоял на позициях нетерпимости… – Он швырнул письмо на стол.
– Ненормальные встречаются и среди нас. Но, к счастью, судьбу человечества будут решать уравновешенные, разумные граждане, а не хронические идиоты.
Поток слов лился еще полчаса. Закончил он так:
– По нашим законам, шпиона-человека ждет быстрый конец, от человека, подозреваемого в шпионаже, мы легко избавляемся. Не вижу причин, почему инопланетный шпион заслуживает более мягкого обхождения, чем шпион-человек. Вот перед нами существо, в лучшем случае просто нежелательное, в худшем – первый агент разведки грозного врага. Обвинение считает, что в интересах всеобщей безопасности вы должны рассмотреть только два возможных варианта приговора: смертный приговор или немедленный выброс подсудимого в космос, туда, откуда он прибыл. Доказательства его вины весомы, и другой альтернативы у нас нет. Вы не могли не заметить, что все выступавшие здесь свидетели были свидетелями обвинения. Разве не знаменательно то, что у защиты не оказалось ни одного свидетеля? – Он подождал, пока смысл сказанного дойдет до слушателей, и, повторив: – Ни одного! –
окончательно пригвоздил обвиняемого к позорному столбу. Еще один глоток воды, и он сел, аккуратно расправив складку на брюках.
Теперь, кажется, ни у кого не осталось сомнений: Мэт
– гад вонючий.
Адвокат произвел легкую сенсацию, встав и заявив:
– Ваша честь, защита отказывается излагать свою версию.
Судьи смотрели на него так, словно он был в десять раз чуднее своего клиента. Они пошелестели бумагами, пошептались между собой.
Через некоторое время судья в центре спросил:
– Это означает, что вы целиком полагаетесь на вердикт всеобщего голосования?
– В конечном итоге, без сомнения, ваша честь, но еще не теперь. Мне необходимо провести дополнительный допрос и затем построить версию, основываясь на нем.
– Приступайте, – разрешил судья, в сомнении нахмурив брови.
Адвокат обратился к Мэту:
– Все обитатели вашей планеты, так же как и вы, скажем… телепаты и не обладают устной речью?
«Да, все».
– У них общий нейроцентр, или, говоря проще, они прибегают к помощи общественного мозга?
«Да».
– Расскажите суду о своих родителях.
Мэт, закрыв глаза, на какой-то миг погрузился в воспоминания.
«Мои родители были не как все. Они были уродами.
Они удалялись от нейроцентра до тех пор, пока почти не потеряли связь с остальными».
– И они погибли вдали от всех?
«Да», – после долгой паузы, медленно, неуверенно, дрожащими тонкими линиями вывела на доске рука Мэта.
– И вы, видимо, впали в полное отчаяние?
«Да».
Адвокат обратился к судьям:
– Мне хотелось бы задать еще несколько вопросов четвертому свидетелю.
Судьи дали согласие, и профессор Аллен снова прошел к месту свидетелей.
– Профессор, будьте добры, как эксперт и человек, долгое время лично изучавший моего клиента, скажите, пожалуйста, молод он или стар?
– Он молод, – без заминки ответил Аллен.
– Очень молод?
– Довольно молод, – сказал Аллен. – По нашим понятиям, не достиг зрелости.
– Спасибо. – Адвокат обвел мягким бесхитростным взглядом зал. На его полном, добродушном лице ничто не предвещало надвигающегося шторма. Тихим голосом задал он следующий вопрос: – Мужчина это или женщина?
– Женщина, – ответил профессор Аллен.
Репортер уронил блокнот. И в течение нескольких минут звук падения блокнота был единственным звуком в наступившей тишине. А потом раздался общий вздох, застрекотали кинокамеры, спеша запечатлеть Мэт, возгласы удивления прокатились из конца в конец зала.
А наверху, на балконе, остроумнейший из современных карикатуристов рвал на кусочки свое последнее произведение, где он изобразил обвиняемого привязанным к хвосту ракеты, которая отправлялась на Луну. Надпись внизу гласила: «Кактус отправился в путешествие». А теперь куда это годилось? Назвать его… нет, ее, «кактусиха»? В поисках новой темы он почесал в затылке, сознавая в то же время, что какая тут может быть тема: не четвертовать же маленькую одинокую женщину?
Прокурор сидел с поджатым ртом, всем своим видом напоминая фаталиста, из-под ног которого вырвали по крайней мере восемьдесят процентов почвы. Он-то знал эту публику. Он мог оценить общественную реакцию с точностью до десяти тысяч голосов.
Все теперь смотрели только в золотистые глаза Мэт.
Они были огромные, как и прежде, но теперь казались мягче и светились вроде бы ярче. Теперь, когда стало известно, что они принадлежат женщине, все увидели, что в них действительно есть что-то женственное. И каким-то странным, непонятным образом морщинки вокруг глаз вдруг помягчели, в них промелькнуло что-то отдаленно похожее на человеческое.
Полночь. Большой каменный подвал с металлической решеткой, два стула и радий в углу. В камере двое: Мэт и толстяк адвокат. Беседуют, изучают корреспонденцию, посматривают на часы.
– Вообще-то говоря, обвинение село в лужу с этим письмом, – говорит защитник. Он никак не отвыкнет выражать свои мысли вслух, хотя прекрасно знает, что собеседница слышит его мысли, а не слова. Толстым указательным пальцем он похлопывает по пачке писем, которые они только что прочитали. – Мне ничего не стоило положить его на обе лопатки, предъявив эти письма, написанные неделю назад прямо в наш адрес. Но что бы это дало? Лишний раз доказало бы, что люди мыслят поразному.
Он вздохнул, потянулся, зевнул, сотый, наверное, раз взглянул на часы и вынул очередное письмо.
– Вот, послушайте.
И стал читать письмо вслух.
«Мой тринадцатилетний сын докучает нам просьбой предложить вашему клиенту хотя бы недолго пожить у нас в доме. Может быть, вы сочтете за глупость с нашей стороны, что мы ему во всем потакаем, но нам так легче. У
нас здесь есть свободная комната, если ваш клиент чистоплотен и в банные дни не боится пара…»
Последние слова он прочел невнятно, сквозь сдерживаемый зевок.
– Предполагают, что всеобщее голосование должно закончиться к шести часам утра. Но, уверяю вас, раньше восьми или даже десяти им не кончить. Такие вещи никогда не проходят в положенный срок. – Он поерзал на жестком стуле, тщетно стараясь устроиться поудобнее. – Как бы там ни было, что бы ни произошло, я останусь с вами до самого конца. И не думайте, что я у вас единственный друг. – Он потрогал пачку писем. – Вон их сколько, вам остается выбирать.
Мэт все это время была занята чтением записки, написанной неуверенным, неровным почерком. Она дотянулась до карандаша и бумаги и написала:
«Аллен объяснил мне не все слова. Что такое «ветеран»?» Получив от доктора объяснение, она написала:
«Мне больше всех нравится этот. У него травма. Если меня освободят, я приму его приглашение».
– Ну-ка, покажите. – Толстяк взял письмо, прочитал его, похмыкивая, и вернул ей. – Как хотите. Впрочем у вас с ним есть что-то общее, поскольку вы оба не в ладах с этим дурацким миром. – Он снова взглянул на часы и проворчал: – Да идут ли вообще эти часы? Что нам, целую неделю ждать утра, что ли?
Кто-то, звеня связкой ключей, открыл дверь, и в камеру вошел прокурор. Улыбнувшись сопернику, он сказал:
– Эл, вы настолько основательно почувствовали себя узником, что отказываетесь даже от тех немногих удобств, которые предоставлены тюрьмой?
– От чего именно?
– Да от радио!
Адвокат презрительно фыркнул.
– К черту радио! От него только шум. Мы тут занимались чтением писем, в тишине и покое… – Вдруг на его полном лице отразилось замешательство. – А что, мы здесь что-нибудь прослушали, что-нибудь передавали?
– Последние известия в двенадцать. – Прокурор облокотился на край стола, продолжая улыбаться. – Голосование прекращено.
– Не может быть! – Лицо адвоката вспыхнуло от гнева, он встал. – Ведь по всемирному соглашению приговор…
– Может быть… при известных обстоятельствах, –
прервал его прокурор. – А обстоятельства сложились так, что несметный поток голосов в защиту вашего клиента сделал дальнейший подсчет ненужным. – И он повернулся к Мэт: – Только это строго между нами, моя дорогая: я еще никогда так не радовался своему поражению.
Человек средних лет, рано поседевший, с длинными тонкими пальцами, слушал радио в дальней комнате, когда раздался звонок в дверь. В комнате не было телевизора, только по радио звучала нежная полинезийская мелодия. Звонок прорвался сквозь музыку, хозяин выключил радио и встал. Очень осторожно он пересек комнату, открыл дверь и вышел в коридор.
Странно. В этот предвечерний час некому было звонить. Сюда почти никто не заходит. Почтальон обычно заезжает утром, среди дня забредут иногда один-два торговца. А позднее редко кто появляется, чрезвычайно редко. И
сегодня он никого не ждал.
Тихо – толстый ковер заглушал звук шагов, – на ощупь вдоль стены пробирался он по коридору к парадной двери.
Что-то очень необычное было в этом позднем визите.
По мере того, как он приближался к двери, в душу ему закрадывалось удивительное чувство: будто он заранее знал, кто ждет его там, снаружи. В его сознании складывалась картина, пока смутная, как бы переданная каким-то неизвестным ему способом, словно ее проецировал один из тех, кто стоял, исполненный надежд, там, за дверью. Он видел крупного, полного добродушного мужчину в сопровождении крошечного зелено-золотого существа.
Хотя он прошел через суровые испытания и беды – это из-за них он теперь такой, – нервы у него были в порядке, и он ни в коем случае не принадлежал к тому типу людей, которым мерещатся разные небылицы, и вообще он не был склонен к галлюцинациям. И его обеспокоили, расстроили даже эти неизвестно откуда явившиеся видения.
Он никогда раньше не знал большого толстого человека, портрет которого ясно вырисовывался в его сознании, никогда, даже в лучшие времена. А о его спутнике и говорить нечего…
Встречаются, конечно, люди с весьма обостренными чувствами, с необычайно развитыми, удивительными способностями. Были и у него способности – ведь судьба милостива к пострадавшим и старается компенсировать их потери. И трудно ему было бы без этих способностей. Но это было что-то новое, незнакомое.
Пальцы его, обычно такие чуткие, не повиновались ему, когда он нащупывал дверной замок, будто они на какое-то время забыли, где тот находится. Нащупав наконец замок, он повернул ручку, и тут он услышал тонкий, будто птичий голосок, который прозвучал прямо у него в мозгу, ясно, как колокольчик:
– Откройте, пожалуйста, я буду вашими глазами.
Клиффорд САЙМАК
СПЕЦИФИКА СЛУЖБЫ
Ему снился родной дом, и когда он проснулся, то долго не открывал глаз, силясь удержать видение. Что-то осталось, но это «что-то» было смутно, размыто, лишено отчетливости и красок. Родной дом… Он представлял себе его, знал, какой он, мог воскресить в памяти далекое, недосягаемое, но нет: во сне все было ярче!
И все-таки он не открывал глаз, так как слишком хорошо знал, что предстанет его взгляду, и всячески оттягивал встречу с грязной, неуютной конурой, в которой находился. «Если бы только грязь и отсутствие уюта, – подумал он, – а то ведь еще это тоскливое одиночество, это чувство, что ты на чужбине». Пока глаза закрыты, можно делать вид, будто суровой действительности нет, но он уже на грани, щупальца реальности уже протянулись к полной тепла и задушевности картине, которую он тщится сохранить в уме…
Все, дольше нельзя. Ткань сновидения стала чересчур тонкой и редкой, чтобы противостоять реальности. Хочешь не хочешь, открывай глаза.
Так и есть: отвратительно. Неуютно, грязно, безотрадно, и кругом притаилась эта враждебность, от которой можно сойти с ума. Теперь – взять себя в руки, собраться с духом и встать, начать еще один мучительный день.
Штукатурка на потолке потрескалась, осыпалась, получились большие безобразные кляксы. Краска на стенах шелушилась, темные потеки напоминали о дождях. И запах. Затхлый запах давно не проветриваемого жилого помещения…
Глядя на потолок, он пытался представить себе небо.
Когда-то он мог увидеть его сквозь любой потолок. Потому что небо было его стихией, небо и пустынный привольный космос за ним. Теперь он их лишился, они ему больше не принадлежат.
Пометка в трудовой книжке, выговор в личном деле –
все, что требуется, чтобы погубить карьеру человека, навсегда сокрушить все надежды и обречь его на изгнание на чужой планете.
Он сел на край кровати, нашарил пяткой брошенные на пол брюки, надел их, втиснул ноги в ботинки, встал.
Тесная, скверная комнатка. И дешевая. Настанет день, когда ему даже такая будет не по карману. Деньги на исходе, и когда последние уйдут, придется искать работу, любую работу. Может, стоило позаботиться об этом раньше, не тянуть до последнего? Но он не мог себя заставить. Связаться с работой, осесть здесь – значит признать свое поражение, поставить крест на мечте о возвращении домой.
«Дурак, – сказал он себе, – и что тебя потянуло в космос?» Эх, попасть бы только домой, на Марс, и больше его канатом из дома не вытянешь. Вернется на ферму, займется хозяйством, как отец хотел. Женится на Элен, осядет, пусть другие дурни с риском для жизни носятся по
Солнечной системе.
Романтика… Это она кружит голову мальчишкам, юнцам с восторженными глазами. Романтика дальних странствий, дебрей космоса с лучистыми зрачками звезд, романтика поющих двигателей, холодного булата, вспарывающего черноту и безлюдье пустоты, романтика воплощенных в комочке плоти куража и удали, бросающих вызов пустоте.
А романтики-то не было. Был тяжелый труд, вечное напряжение и щемящая тревога, точащий душу страх, который ловил перебои в работе силового устройства…
звонкий удар о металлическую оболочку… – любую из тысяч бед, подстерегающих человека в космосе.
Он взял с ночного столика бумажник, сунул его в карман, вышел в коридор и спустился по шаткой лестнице вниз.
Покосившаяся, ветхая терраса. И зелень, неистовая, буйная зелень Земли. Мерзкий, отвратительный цвет, который оглушает и вызывает внутренний отпор. Все зеленое: трава, кусты, каждое дерево. Если смотреть на зелень чересчур долго, так и кажется, что она пульсирует, трепещет потайной жизнью, и ведь нет спасения от нее, разве что запереться где-нибудь.
Зелень, яркое солнце, изнуряющий зной – все это делает Землю невыносимой. Правда, от света можно уйти, с жарой тоже можно как-то справиться, но зелень вездесуща. Он спустился с крыльца, ища в кармане сигареты. Нащупал смятую пачку и в ней единственную смятую сигарету. Прилепил ее к губе, выбросил пачку и остановился в воротах, соображая, что делать дальше.
Но это усилие мысли было показным, он заранее знал, как поступит. Выбора не было. Одно и то же повторялось изо дня в день уже которую неделю. То же будет и сегодня, и завтра, и послезавтра, пока не уйдет последний цент.
А потом? Да, что потом?
Поступить на работу и попытаться хоть что-то из этого извлечь? Копить деньги, пока не наберется на билет до
Марса? Пусть любая должность на корабле ему заказана, но ведь пассажира-то они обязаны взять! Эх, пустые расчеты все это… Чтобы накопить достаточно, нужно двадцать лет, а где они?
Он закурил и побрел по улице. Даже сквозь сигаретный дым он ощущал запах ненавистной зелени.
Миновав десять кварталов, он очутился у космодрома.
Над полем возвышался корабль. Он постоял, глядя на него, затем направился к убогому ресторанчику позавтракать.
«Корабль, – думал он. – Обнадеживающий признак». В
иные дни ни одного не увидишь, а иногда – сразу тричетыре. Сегодня есть корабль; может, тот самый.
«Когда-нибудь, – сказал он себе, – найду же я корабль, который доставит меня домой». Корабль, которому до зарезу будет нужен механик, и капитан закроет глаза на злополучную запись в трудовой книжке.
Но он знал, что обманывает себя. Каждый день он говорит себе одно и то же. Вероятно, чтобы оправдать свои ежедневные визиты в отдел найма. Самообман, который помогает сохранить надежду, не пасть духом. Самообман, который позволяет даже кое-как терпеть мрачную, душную конуру и зеленую Землю.
Он вошел в ресторан и сел за столик.
Подошла официантка, чтобы принять заказ.
– Опять оладьи? – спросила она.
Он кивнул. Оладьи – дешевая и сытная пища, а ему надо подольше растянуть деньги.
– Сегодня вы найдете свой корабль, – сказал официантка. – У меня такое чувство.
– Возможно, – отозвался он, не очень-то веря.
– Я знаю, что у вас на душе, – продолжала официантка.
– Знаю, как это тяжело. Сама мучилась тоской по родине, когда впервые уехала из дому. Думала, умру.
Он промолчал, чувствуя, что ответить – значит уронить свое достоинство. Хотя на кой оно черт ему теперь, это достоинство!
Конечно, речь шла не об обычной тоске по родине. Это уже планетная ностальгия, тоска по другой культуре, боль от разлуки со всем, к чему привык и к чему привязан.
И тут, сидя в ожидании оладий, он воскресил в памяти сон: уходящие вдаль красные увалы, ласкающий кожу сухой, прохладный воздух, блеск звезд в сумерках, волшебное золото отдаленных песчаных бурь. И низенький дом жмется к земле, и на террасе, обращенной к закату, неподвижно сидит в кресле седой старик…
Официантка принесла оладьи.
«Настанет день, – мысленно сказал он, – когда я не смогу больше выносить этого самоистязания, этой жалости к самому себе». Он давно ее раскусил, и давно пора от нее избавиться. И тем не менее мирился с ней, больше того, она стала определять его помыслы и поступки. Она была его щитом и самооправданием, движущей силой, которая поддерживала его на ходу.
Он доел оладьи и расплатился.
– Счастливо, – сказала официантка, улыбаясь.
– Спасибо, – ответил он.
Он потащился по дороге, по скрипучему гравию, и солнце припекало ему спину, но хоть от зелени он был избавлен. Космодром голый, безжизненный – обожженный и обнаженный.
Он достиг цели и подошел к конторке.
– Опять вы, – сказал уполномоченный по найму.
– Есть рейс на Марс?
– Нет. Хотя постойте. Тут недавно один справлялся…
Уполномоченный поднялся, вышел за дверь и стал кого-то звать.
Через несколько минут он вернулся к конторке. За ним шел свирепый тяжеловес. На голове у тяжеловеса была фуражка с потертыми, тусклыми буквами «КАПИТАН». В
остальном костюм никак не отвечал его званию.
– Вот этот человек, – сказал уполномоченный капитану. – Имя – Энсон Купер. Механик первого класса, но личное дело…
– К черту личное дело! – рявкнул капитан. Он обратился к Куперу: – «Моррисоны» знаете?
– С пеленок, – ответил Купер.
Это была неправда, но он был уверен, что справится с двигателями.
– Они в общем-то ничего, – продолжал капитан, –
только иногда барахлят немного, капризничают. Придется вам понянчиться с ними. Глаз не сводить с них. Зазеваетесь – пиши пропало.
– Как-нибудь, – сказал Купер.
– Мой механик подвел меня, сбежал. – Капитан плюнул на пол, демонстрируя презрение к дезертирующим механикам. – Слабоват в коленках оказался.
– У меня коленки в порядке, – твердо сказал Купер.
Он знал, что его ждет. Но выбора не было. Путь на
Марс лежал через «моррисоны».
– Что ж, тогда пошли, – сказал капитан.
– Минутку, – вмешался уполномоченный. – Так это не делается. Вы обязаны дать ему время собрать свои пожитки.
– Мне нечего собирать, – вставил Купер, вспоминая жалкое барахло, которое осталось в гостинице. – Ничего стоящего.
– Вам должно быть ясно, – продолжал уполномоченный, обращаясь к капитану: – Союз не может поручиться за человека с таким личным делом.
– А мне наплевать, – отрезал капитан. – Лишь бы он знал толк в двигателях. Больше мне ничего не надо.
Идти до корабля было далеко. Он и новый-то не представлял собой ничего особенного, а с годами не стал лучше. Да на таком вообще летать – пытка, не говоря уж о том, чтобы нянчиться с «моррисонами»…
– Не рассыпется, не бойтесь, – сказал капитан. – Он протянет дольше, чем вы думаете. Просто удивительно, на что способна такая посудина всем чертям назло.
«Только еще один рейс, – подумал Купер. – Чтобы доставить меня на Марс. А там пусть рассыпается».
– Корабль великолепен, – сказал он совершенно искренне.
Он подошел к могучему стабилизатору и положил на него ладонь. Тяжелый металл, краска давно облупилась,
рябой от коррозии, и холодок затаился в толще, точно корабль еще не отдал всю впитавшуюся в него космическую стужу.
«Наконец, – подумал он. – После стольких недель ожидания вот оно, наконец, стальное произведение инженерного искусства, которое доставит меня домой».
Он вернулся туда, где стоял капитан.
– Приступим, что ли, – сказал он. – Хочу посмотреть на двигатели.
– Они в порядке, – ответил капитан.
– Возможно. Все-таки я их проверю.
Он ждал, что двигатели будут в скверном состоянии, но не настолько. На что уж корабль выглядел жалко, а «моррисоны» оказались еще хуже.
– Тут надо поработать, – сказал он. – С такими двигателями нельзя выходить в рейс.
Капитан вспылил и выругался:
– Учтите, вылетаем на рассвете! Срочное задание!
– На рассвете и вылетим, – отрезал Купер. – Вы только не вмешивайтесь.
Он расставил людей по местам и сам проработал четырнадцать часов подряд без передышки, не спал и не ел.
После чего зажал большой палец в кулаке и доложил капитану, что все готово.
Они благополучно прошли атмосферу. Купер разжал кулак и облегченно вздохнул. Теперь только следить за тем, чтобы не было перебоев.
Капитан вызвал его к себе и поставил на стол бутылку.
– А вы справились куда лучше, чем я ожидал, мистер
Купер.
Купер покачал головой.
– Мы еще не прилетели, капитан. Впереди немалый путь.
– Мистер Купер, – сказал капитан, – вы знаете, что мы везем?
Купер покачал головой.
– Лекарства, – сказал капитан. – Там эпидемия. Только наш корабль был более или менее готов к рейсу. Вот нас и послали.
– Дали бы сперва сделать капитальный ремонт двигателей.
– Время не позволило. Каждая минута на счету.
Купер глотнул из рюмки, оглушенный всеобъемлющей усталостью.
– Эпидемия, говорите? А что именно?
– Песчаная лихорадка, – ответил капитан. – Знаете, наверно.
Смертельный ужас холодком пополз по спине Купера.
– Знаю. – Он допил виски и встал. – Я пошел, начальник. Надо присмотреть за двигателями.
– Мы надеемся на вас, мистер Купер. Нужно добраться. Он вернулся в машинное отделение и упал в кресло, слушая пение двигателей, пронизавшее все клеточки корабля. Они должны работать без перебоев. Теперь это яснее, чем когда-либо. Дело не только в том, чтобы вернуться домой: родная планета ждет лекарства.
«Обещаю, – сказал он сам себе. – Обещаю, что мы долетим».
Он не щадил команду, не щадил себя – изо дня в день,
под выматывающий душу, почти нестерпимый вой дюз и гром этих чертовых «моррисонов».
Какой там сон – хорошо, если удавалось прикорнуть на несколько минут. Какой там обед – разве что перекусишь чуток на ходу. Работа, работа, но еще хуже – надзор, ожидание, все тело напряжено: сейчас начнут заикаться… Или лязгнет металл, возвещая беду.
«И зачем только, – билась в голове смутная мысль, –
человек выходит в космос? С какой стати идет на такую работу?» Конечно, здесь, в машинном, рядом с изношенными двигателями, чувствуешь себя хуже, чем в других отсеках. Но и там не сладко. Атмосфера корабля насыщена нервозностью, но хуже всего черный, гнетущий страх перед космосом, перед тем, что космос может сделать с кораблем и людьми на борту.
На новых, более крупных кораблях обстановка вроде получше, да и то ненамного. По-прежнему принято пичкать успокоительным пассажиров и переселенцев, летящих осваивать другие планеты. Чтобы не нервничали, не реагировали так остро на неудобства, не поддавались панике.
Но с командой так не поступишь. Она должна быть начеку, готовая ко всему. Она обязана все снести.
Возможно, придет пора, когда корабли будут достаточно велики, двигатели и горючее достаточно совершенны, когда поумерится страх человека перед пустотой космоса. Тогда станет легче. Но до этого, наверно, еще очень далеко. Ведь уже прошло двести лет, как предки Купера в числе первых улетели осваивать Марс.
«Не будь сознания того, что я возвращаюсь домой, –
сказал он себе, – не вынес бы, не выдержал». Даже здесь, где загустела всяческая вонь, он чувствовал запах сухого, прохладного воздуха родной планеты. Сквозь металлическую оболочку летящего корабля, через несчетные темные мили видел нежные краски заката на красных увалах. В
этом его преимущество перед остальными. Если бы не мысль, что он возвращается домой, он бы не выстоял.
Медленно тянулись дни, и двигатели тянули, и крепла надежда в его душе. И наконец надежда сменилась торжеством.
И наступил день, когда корабль вихрем скользнул вниз сквозь холодную, разреженную атмосферу, и пошел на посадку, и сел.
Он протянул руку, повернул ключ – двигатели взревели и смолкли. Тишина объяла изможденную сталь, онемевшую от долгого гула.
Он стоял подле двигателей, оглушенный тишиной, испытывая ужас перед совершенным безмолвием.
Он пошел вдоль двигателей, скользя рукой по металлу, гладя его, точно животное, удивленный и чуть недовольный тем, что в его душе родилось некое подобие странной нежности к машине.
А впрочем, почему бы нет? Двигатели доставили его домой. Он нянчился, возился с ними, проклинал их, надзирал за ними, спал рядом с ними – и они доставили его домой.
А ведь, если быть откровенным, он не очень надеялся на это.
Он вдруг увидел, что остался один. Команда ринулась к трапу, едва он повернул ключ. Пора и ему выходить. И
все-таки он на мгновение задержался в тихом отсеке, напоследок еще раз все окинул взглядом. Полный порядок.
Ничего не упущено.
Он повернулся и медленно пошел по трапу вверх, к люку.
Наверху он встретил капитана. А вокруг ракеты во все стороны расходились красные увалы.
– Все уже ушли, только начальник интендантской службы остался, – сказал капитан. – Я вас жду. Вы отлично справились с двигателями, мистер Купер. Рад, что вы пошли в рейс с нами.
– Последний рейс, – ответил Купер, гладя взглядом красные склоны. – Хватит слоняться по свету.
– Странно, – сказал капитан. – Вы, очевидно, с Марса.
– Точно. И надо было с самого начала сидеть дома.
Капитан пристально поглядел на него и повторил:
– Странно.
– Ничего странного, – возразил Купер. – Я…
– Я тоже списываюсь, – перебил его капитан. – На
Землю этот корабль поведет уже другой командир.
– В таком случае, – подхватил Купер, – я угощаю, как только мы сойдем с корабля.
– Решено. Но сперва – прививка.
Они спустились по трапу и пошли через поле к зданиям космопорта. Навстречу с воем промчались машины, спешащие к кораблю за грузом.
А Купер всецело отдался восприятию того, что испытал во сне в убогой комнатушке на Земле: бодрящий запах прохладного, легкого воздуха, пружинистый – из-за меньшего тяготения – шаг, стремительный взлет четких,
ничем не оскверненных красных склонов в лучах неяркого солнца.
Врач ждал их в своем тесном кабинете.
– Виноват, – сказал он, – но вы знаете правила.
– Ох уж эти мне правила, – ответил капитан. – Да, видно, так нужно.
Они сели в кресла и засучили рукава.
– Держитесь, – предупредил врач. – Укол дает встряску. Так и было.
«Так было и прежде, – подумал Купер. – Каждый раз.
Пора бы уже привыкнуть».
Он вяло откинулся в кресле, ожидая, когда пройдет слабость и шок. Врач сидел за своим столом, следя за ними и тоже ожидая, когда они придут в себя.
– Тяжелый рейс? – спросил он наконец.
– Легких не бывает, – сердито ответил капитан.
Купер покачал головой.
– Этот был хуже всех. Двигатели…
– Простите меня, Купер, – вступил капитан, – Но на этот раз никакого обмана не было. Мы в самом деле везли лекарства. Здесь и вправду эпидемия. И мой корабль оказался единственным. Я хотел поставить его на капитальный ремонт, да время не позволило.
Купер кивнул.
– Припоминаю, – сказал он.
Он с трудом поднялся и посмотрел в окно на холодный, недобрый, чужой марсианский ландшафт.
– Если б не внушение, – решительно сказал он, – я бы ни за что не справился.
Он повернулся к врачу.
– Когда-нибудь мы сможем обходиться без этого?
Врач кивнул.
– Несомненно. Когда корабли станут надежнее. И человек свыкнется с космическими путешествиями.
– Эта ностальгия – уж больно она душу выматывает.
– Другого выхода нет, – сказал врач. – У нас не было бы ни одного космонавта, если бы они каждый раз не летели домой.
– Это верно, – согласился капитан. – Никто, и я в том числе, не смог бы выдержать таких передряг ради одних только денег.
Купер поглядел в окно на песчаные ландшафты, я его кинуло в дрожь. Более унылого места…
«Что за идиотизм – мотаться в космосе, – сказал он себе, – когда дома такая жена, как Дорис, и двое детей». Ему вдруг безумно захотелось увидеть их.
Знакомые симптомы. Снова ностальгия, но теперь –
тоска по Земле.
Врач достал из тумбы бутылку и щедрой рукой наполнил три стопки.
– А теперь примите-ка вот это, – сказал он, – и забудем обо всем.
– Точно мы можем помнить! – усмехнулся Купер.
– В конце концов, – сказал капитан с неестественной веселостью, – надо правильно смотреть на вещи. Речь идет всего-навсего о специфике нашей службы.
Уильям ТЭНН
СРОК АВАНСОМ
Через двадцать минут после того, как тюремный космолет приземлился на нью-йоркском космодроме, на борт допустили репортеров Они бурлящим потоком хлынули в главный коридор, напирая на вооруженных до зубов надзирателей, за которыми им полагалось следовать, – впереди мчались обозреватели и хроникеры, а замыкали лавину телеоператоры, бормоча проклятья по адресу своей портативной, но все-таки тяжелой аппаратуры
Репортеры, не замедляя бега, огибали космонавтов в черно-красной форме галактической тюремной службы, которые быстро шагали навстречу, торопясь не упустить ни минуты из положенного им планетарного отпуска –
ведь через пять дней космолет уйдет в очередной рейс с новым грузом каторжников
Репортеры не удостаивали взглядом этих бесцветных субъектов, чье существование исчерпывается монотонными рейсами из конца в конец Галактики. К тому же жизнь и приключения гетеэсовцев описывались уже столько раз, что тема эта давно была выжата досуха Нет, сенсационный материал ждал их впереди!
Глубоко в брюхе корабля надзиратели раздвинули створки огромной двери и отскочили в сторону, опасаясь, что их собьют с ног и растопчут. Репортеры буквально повисли на прутьях железной решетки, которая отгораживала огромную камеру Их жадные взгляды метались по камере, наталкиваясь на холодное равнодушие и лишь редко на любопытство в глазах людей в серых комбинезонах –
люди эти лежали и сидели на нарах, которые ряд за рядом, ярус над ярусом безотрадно тянулись по всей длине трюма. И каждый человек в сером сжимал в руке пакет, склеенный из простой оберточной бумаги, а некоторые нежно его поглаживали. Старший надзиратель, выковыривая из зубов остатки завтрака, неторопливо приблизился к решетке с внутренней стороны.
– Здорово, ребята, – сказал он, – Кого что вы высматриваете? Я вам не могу помочь?
Кто-то из наименее молодых и наиболее известных хроникеров предостерегающе поднял палец.
– Бросьте эти штучки, Андерсон! Космолет сел с опозданием на полчаса, и нас еще двадцать минут проманежили у трапа. Где они, черт подери?
Андерсон несколько секунд смотрел, как телеоператоры локтями отвоевывают место у самой решетки для себя и своей аппаратуры. Потом он извлек из зуба последний кусочек мяса.
– Стервятники! – бормотал он. – Охотники за мертвечиной! Упыри!
Затем, ловко перехватив дубинку, старший надзиратель стал выбивать частую дробь по прутьям решетки.
– Крэндол! – рявкнул он. – Хенк! Вперед и на середину! Надзиратели, которые, поигрывая дубинками, мерным шагом расхаживали между многоярусными нара ми, подхватили команду:
– Крэндол! Хенк! Вперед и на середину!
Их крики метались по камере, отлетая рикошетом от гигантских сводов:
– Крэндол! Хенк! Вперед и на середину!
Никлас Крэндол сел, поджав ноги, на своих нарах в пятом ярусе и сердито поморщился. Он было задремал и теперь протирал слипающиеся глаза. На тыльной стороне его кисти багровели три параллельных рубца – три прямые борозды, какие может оставить когтистая лапа хищного зверя. Над самыми бровями лоб рассекал темный зигзаг еще одного шрама. А в мочке левого уха чернела круглая дырочка. Кончив протирать глаза, он раздраженно почесал это ухо.
– Торжественная встреча! – проворчал он. – Можно было догадаться заранее! Все та же распроклятой Земля со всеми ее прелестями!
Крэндол перекатился на живот и похлопал по щеке щуплого человечка, который храпел на нарах прямо под ним.
– Отто! – позвал он. – Отто-Блотто, давай, шевелись!
Нас требуют.
Хенк, еще не открыв глаза, сразу подскочил и сел, подобрав под себя ноги. Его правая рука потянулась к шее, покрытой сеткой зигзагообразных рубцов такого же цвета и величины, как шрам на лбу Крэндола. На руке не хватало двух пальцев – указательного и среднего.
– Хенк здесь, сэр! – хрипло сказал он, потряс головой и, открыв глаза, посмотрел на Крэндола. – А, это ты, Ник… Что случилось?
– Мы прибыли, Отто-Блотто. Мы на Земле, и наши свидетельства скоро будут готовы. Еще полчаса, и ты сможешь упиться коньяком, пивом, водкой и поганым виски на всю свою наличность. Тебе уже больше не придется пить тюремную самогонку из консервной банки под нижней койкой, Отто-Блотто.
Хенк крякнул и опрокинулся на спину.
– Через полчаса! Так чего же ты разбудил меня сейчас?
Что я тебе – карманник, который сначала украл, потом отсидел и теперь визжит от нетерпения, ах, где его свидетельство? Ник, а мне приснился еще один способ, как покончить с Эльзой, – совсем новый и такой, что закачаешься…
– Лягаши разорались, – ответил Крэндол по-прежнему негромко и спокойно. – Слышишь? Им требуемся мы – ты и я. Хенк снова сел, прислушался и кивнул.
– Почему такие голоса бывают только у галактических лягашей, а?
– Согласно инструкции, – заверил его Крэндол. – Чтобы стать галактическим лягашом, требуется максимальный рост, минимальное образование и максимально противный голос в сочетании со способностью оглушительно орать. А без этого, какой бы ты ни был мерзопакостной сволочью, придется тебе, брат, сидеть на Земле и отводить душу, штрафуя почтенных старушек на допотопных вертолетах за превышение скорости.
Надзиратель, остановившись под ними, сердито стукнул по металлической стойке.
– Крэндол! Хенк! Вы еще каторжники, не забывайте!
Даю вам две секунды, или я влезу к вам и обработаю напоследок по старой памяти.
– Есть, сэр! Иду, сэр! – отозвались они хором и начали спускаться по нарам, не выпуская из рук пакетов с одеждой, которую они когда-то носили на свободе и вскоре должны были надеть снова.
– Слушай, Отто! – зачастил Крэндол беззвучным тюремным шепотом, наклоняясь к самому уху Хенка, пока они спускались. – Нас вызывают для интервью с телевизионщиками и газетчиками. Нам будут задавать сотни вопросов. Так, смотри, не проговорись про…
– Телевизионщики и газетчики? А почему нас? Hа что мы им сдались?
– Потому что мы знаменитости, олух! Мы отсидели за мокрое дело весь срок! А много таких, как, по-твоему? Заткнись и слушай. Если тебя спросят, кого ты наметил, молчи и улыбайся. На этот вопрос не отвечай. Понял? Не проговорись им, за чье убийство ты отбывал срок. Как бы они к тебе ни приставали, заставить тебя отвечать они не могут. Таков закон.
Хенк на мгновение замер в полутора ярусах над полом.
– Ник! Ведь Эльза знает! Я ей сказал в тот самый день
– перед тем как пошел в полицию. Она знает, что сидеть за убийство я согласился бы только ради нее!
– Она знает, она знает! Ну конечно, она знает! – Крэндол беззвучно и быстро выругался. – Но доказать-то она этого не может, тупица! А стоит тебе объявить об этом при свидетелях, и она получает право приобрести оружие и застрелить тебя без предупреждения – в порядке самообороны. А если ты промолчишь, права на это у нее не будет. Ведь она все еще твоя бедная женушка, которую ты клялся у алтаря любить, почитать и лелеять. С точки зрения всего мира.
Надзиратель привстал на цыпочки и полоснул дубинкой по их спинам. Они свалились на пол и съежились, а он рычал:
– Я вам разрешил точить лясы? Разрешил? Если у нас останется время до того, как вам выдадут свидетельства, я сведу вас, умников, в надзирательскую для последней выволочки. А теперь – живо!
Они покорно побежали, точно цыплята от разъяренной собаки. У решетки, отгораживавшей камеру, надзиратель отдал честь и доложил:
– Допреступники Никлас Крэндол и Отто Хенк, сэр!
Старший надзиратель Андерсон в ответ небрежно поднял руку к козырьку и повернулся к заключенным.
– Эти господа хотят задать вам пару вопросов. Отвечайте – это вам не повредит. Можете идти, О’Брайен.
Голос старшего надзирателя был исполнен величайшего благодушия. На его лице широким полумесяцем играла улыбка. Надзиратель О’Брайен снова отдал честь и отошел, а Крэндол перебрал в памяти все, что он успел узнать об Андерсоне за месяц перелета от Проксимы Центавра.
Андерсон задумчиво покачивает головой, когда этого беднягу Минелли… его ведь звали Стив Минелли?. прогнали сквозь строй вооруженных дубинками надзирателей за то, что он пошел в уборную без разрешения. Андерсон хихикает и бьет ногой в пах седого каторжника, заговорившего с соседом во время обеда… Андерсон…
И все-таки в храбрости ему отказать нельзя – ведь он знал, что на его корабле находятся два допреступника, отбывшие срок за убийство. Впрочем, он, наверное, знал и то, что они не станут тратить свои убийства на него, как бы он ни зверствовал. Человек не отправляется добровольно на долгие годы в ад только ради удовольствия пришить одного из местных дьяволов.
– А мы обязаны отвечать на эти вопросы, сэр? – осторожно спросил Крэндол.
Улыбка старшего надзирателя стала чуть-чуть поуже.
– Я же сказал, что это вам не повредит, верно? А чтонибудь другое может и повредить. Так-то, Крэндол, все еще может. Мне бы хотелось оказать услугу представителям прессы, и вы уж, пожалуйста, будьте полюбезнее и поразговорчивее, ладно? – он слегка повел подбородком в сторону надзирательской и перехватил дубинку.
– Есть, сэр, – ответил Крэндол, а Хенк энергично кивнул. – Мы будем любезны и разговорчивы.
«Черт! – мысленно выругался Крэндол. – Если бы только это убийство не было мне так нужно для другого!
Помни про Стефансона, приятель, только про Стефансона!
Не Андерсон, не О’Брайен и никто другой Только Фредерик Стоддард Стефансон!»
Пока телеоператоры по ту сторону решетки устанавливали камеры, Крэндол и Хенк отвечали на обычные предварительные вопросы репортеров.
– Ну, как вы себя чувствуете, вернувшись на Землю?
– Прекрасно. Просто прекрасно.
– Что вы намерены сделать сразу же, как получите ваши свидетельства?
– Поесть как следует. (Крэндол.)
– Напиться до чертиков. (Хенк.)
– Смотрите, как бы вам опять не угодить за решетку, уже в качестве послепреступника! (Один из хроникеров) Общий добродушный смех, в который, кроме репортеров, вносят свою лепту старший надзиратель Андерсон и
Крэндол с Хенком.
– Как с вами обращались, пока вы находились в заключении?
– Очень хорошо. (Крэндол и Хенк в один голос, задумчиво косясь на дубинку Андерсона).
– А вы не хотите сообщить нам, кого вы намерены убить? Или хотя бы один из вас?
(Молчание).
– Кто-нибудь из вас передумал и решил не совершать убийства?
(Крэндол задумчиво смотрит в потолок, Хенк задумчиво смотрит в пол. Снова общий смех, в котором на этот раз слышится некоторая натянутость. Крэндол и Хенк не смеются.)
– Ну, мы готовы. Повернитесь сюда, пожалуйста, –
вмешался диктор телевидения. – И улыбайтесь – нам нужна настоящая сияющая улыбка.
Крэндол и Хенк покорно расплылись до ушей, и диктор получил даже три требуемых улыбки – Андерсон не преминул примкнуть к сияющей паре.
Две камеры выпорхнули из рук операторов – одна повисла над заключенными, другая быстро задвигалась перед их лицами: операторы управляли ими с помощью маленьких пультов, умещавшихся на ладони. Над объективом одной из камер вспыхнула красная лампочка.
– Итак, уважаемые телезрители и телезрительницы, –
бархатно зарокотал диктор, – мы с вами находимся на борту тюремного космолета «Жан Вальжан», который только что приземлился на нью-йоркском космодроме.
Мы явились сюда, чтобы познакомиться с двумя людьми –
с двумя из той редкой категории людей, которые, добровольно отбывая срок за убийство, сумели отбыть его полностью и по закону получили право совершить по одному убийству каждый. Через несколько минут они будут освобождены, полностью отбыв семь лет заключения на каторжных планетах, – будут освобождены с правом убить любого мужчину или женщину в пределах Солнечной системы, не опасаясь никакого возмездия. Всмотритесь в их лица, дорогие телезрители и телезрительницы, – ведь, быть может, они изберут именно вас!
После этого оптимистического замечания диктор сделал небольшую паузу, и объективы впились в лица двух мужчин в серых тюремных комбинезонах. Затем диктор вошел в поле зрения камер и обратился к тому из заключенных, который был ниже ростом:
– Ваше имя, сэр?
– Допреступник Отто Хенк, номер 525514, – привычно отбарабанил Отто-Блотто, хотя слово «сэр» его немного сбило.
– Как вы себя чувствуете, вернувшись на Землю?
– Прекрасно. Просто прекрасно.
– Что вы намерены сделать сразу же, как получите свидетельство?
Хенк помолчал в нерешительности, потом робко покосился на Крэндола и ответил:
– Поесть как следует.
– Как с вами обращались, пока вы находились в заключении?
– Очень хорошо. Так хорошо, как можно было ожидать.
– Как мог бы ожидать преступник, э? Но ведь вы пока еще не преступник, верно? Вы же допреступник.
Хенк улыбнулся так, словно впервые услышал это определение.
– Верно, сэр, я допреступник.
– Не хотите ли вы сообщить телезрителям, кто то лицо, из-за которого вы готовы стать преступником?
Хенк укоризненно взглянул на диктора, который испустил сочный смешок – на этот раз в полном одиночестве.
– Или, быть может, вы оставили свое намерение относительно его или ее?
Наступила пауза, и диктор сказал несколько нервно:
– Вы отбыли семь лет на полных опасностей неосвоенных планетах, готовя их для заселения человеком. Это максимальный срок, предусмотренный законом, не так ли?
– Да, сэр. С зачетом, положенным допреступникам, отбывающим срок авансом, за убийство больше семи лет не дают.
– Бьюсь об заклад, вы рады, что в наши дни смертная казнь отменена, э? Впрочем, в этом случае отбытие наказания авансом утратило бы смысл, не так ли? А теперь, мистер Хенк – или я все еще должен называть вас «допреступник Хенк»? – может быть, вы расскажете нашим телезрителям, какое происшествие из случившихся с вами за время отбытия срока вы считаете самым жутким?
– Ну-у… – Отто Хенк задумался. – Хуже всего, пожалуй, было на Антаресе VIII, в моем втором лагере, когда большие осы начали откладывать яйца… Видите ли, на
Антаресе VIII водится оса, которая в сто раз больше…
– Там вы и потеряли эти два пальца?
Хенк поднял искалеченную руку и внимательно ее оглядел.
– Нет. Указательный палец я потерял на Ригеле XII.
Мы строили первый лагерь на этой планете, и я выкопал такой странный красный камень, весь в шишечках. Ну, я и ткнул в него пальцем – посмотреть, очень ли он твердый,
– и кончика пальца как не бывало! Фьють – и нет его. А
потом весь палец загноился, и врачи его оттяпали напрочь.
Ну, да мне еще очень повезло. Кое-кто из ребят, из каторжников то есть, наткнулся на камушки побольше моего, так они потеряли кто ногу, кто руку, а один и вовсе был проглочен целиком. На самом деле ведь это были не камни, а живые твари – живые и голодные! Ригель XII так ими и кишит. Ну, а средний палец… средний палец я потерял по глупости на космолете, когда нас перевозили в…
Диктор понимающе кивнул, кашлянул и сказал:
– Но осы, гигантские осы на Антаресе VIII были хуже всего?
Отто-Блотто не сразу сообразил, о чем идет речь, и растерянно замигал.
– А-а… Это точно. Они кладут яйца под кожу обезьян, которые водятся на Антаресе VIII, понимаете? Обезьяне, конечно, приходится туго, зато у осиных личинок есть пища, пока они не вырастут. Ну, мы там обосновались, и тут оказалось, что осы не видят никакой разницы между этими обезьянами и людьми. Все шло гладко, а потом вдруг то один хлопнется без чувств, то другой. Забрали их в больницу, сделали рентген, и оказалось, что они прямо нашпигованы…
– Благодарю вас, мистер Хенк, но наши телезрители уже не меньше трех раз видели осу Херкмира и слушали рассказ о ней во время «Межзвездного полета». Программа эта, как вы, без сомнения, помните, дорогие телезрители, передается по средам от девятнадцати до девятнадцати тридцати по среднеземному времени. А теперь, мистер
Крэндол, разрешите спросить вас, сэр, как вы себя чувствуете, вернувшись на Землю?
Крэндол выступил вперед и подвергся примерно такому же допросу, как и его товарищ. Впрочем, произошло одно значительное отступление от шаблона. Диктор спросил, думает ли он, что Земля за это время сильно изменилась. Крэндол приготовился пожать плечами, потом вдруг усмехнулся.
– Одну заметную перемену я вижу уже сейчас, – сказал он. – Вот эти парящие в воздухе камеры, которыми управляют с помощью маленьких коробочек. В тот день, когда я расстался с Землей, этого еще не существовало. Изобретатель, наверное, неглупый человек.
– А? – диктор оглянулся. – Вы говорите о дистанционном переключателе Стефансона? Его изобрел Фредерик
Стоддард Стефансон лет пять назад. Верно, Дон?
– Шесть лет, – поправил телеоператор. – Пять лет назад переключатель поступил в продажу.
– Переключатель был изобретен шесть лет назад, – пояснил диктор. – А в продажу он поступил пять лет назад.
Крэндол кивнул.
– Ну, так этот Фредерик Стоддард Стефансон, должно быть, очень неглупый человек, очень-очень неглупый, – и он снова усмехнулся в объектив камеры.
«Гляди на меня! – подумал он. – Я ведь знаю, что ты смотришь эту передачу, Фредди! Гляди на меня и трепещи!»
Диктор как будто немного опешил.
– Да… – сказал он. – Вот именно. А теперь, мистер
Крэндол, не расскажете ли вы нам о самом жутком происшествии…
После того как телеоператоры собрали свое оборудование и удалились, репортеры обрушили на обоих допреступников последний шквал вопросов, надеясь выведать что-нибудь пикантное.
«Роль женщин в вашей жизни?» «Ваши любимые книги, ваше хобби, ваши развлечения?» «Встречались вам на каторжных планетах атеисты?» «Если бы вам пришлось повторить все сначала…»
Никлас Крэндол отвечал вежливо и скучно, а сам думал о Фредерике Стоддарде Стефансоне, который сидит сейчас перед своим роскошным телевизором с экраном во всю стену.
Или Стефансон уже выключил телевизор? Может быть, он сейчас сидит, уставившись на погасший экран, и старается разгадать замыслы человека, который выжил, хотя, согласно статистическим данным, у него был на это лишь один шанс из десяти тысяч, и вернулся на Землю, отбыв все семь невероятных лет в лагерях на четырех каторжных планетах…
А может быть, Стефансон, посасывая губы, вертит в руках свой бластер – бластер, которым ему не придется воспользоваться. Ведь если не будет неопровержимо доказано, что он убил, не превысив пределов необходимой обороны, ему придется отбыть за убийство полный срок без зачета в семь лет, положенного тем, кто добровольно отбывает наказание авансом. И он обречет себя на четырнадцать лет в кошмарном аду, из которого только что вернулся Крэндол.
Но может быть, Стефансон сидит, скорчившись в дорогом пневматическом кресле, и угрюмо смотрит на экран невыключенного телевизора – оледенев от ужаса и всетаки не в силах оторваться от увлекательной передачи, которую подготовила телевизионная компания в связи с возвращением двух (нет, вы только подумайте – двух!) допреступников, авансом отбывших срок за убийство.
Сейчас, наверное, передается интервью с какимнибудь земным представителем Галактической тюремной службы, энергичным начальником отдела по связи с прессой, понаторевшим в социологических терминах.
«Скажите, мистер Имярек, – начнет диктор (другой диктор – более солидный и интеллигентный), – часто ли допреступники полностью отбывают срок за убийство и возвращаются на Землю?»
«Статистические данные, – эти слова сопровождаются шелестом бумаги и сосредоточенным взглядом вниз, за кадр, – статистические данные показывают, что человек, полностью отбывший срок за убийство с зачетом, положенным допреступникам, возвращается на Землю в среднем лишь раз в одиннадцать и семь десятых года».
«Таким образом, мистер Имярек, можно сказать, что возвращение двух таких людей в один и тот же день – событие довольно необычное?»
«Весьма необычное, иначе вы, телевизионщики, не подняли бы вокруг него такую шумиху». (Жирный смешок, которому вежливо вторит диктор.)
«А что происходит с теми, кто не возвращается, мистер Имярек?»
(Изящный взмах широкой пухлой руки.)
«Они гибнут. Или отказываются от своего намерения.
Семь лет на каторжных планетах – это не шутка. Работа там не для неженок – не говоря уж о местных живых организмах, как крупных, человекоядных, так и крохотных, вирусоподобных. Вот почему тюремные служащие получают такую высокую плату и такие длительные отпуска. В
некотором смысле мы вовсе не отменяли смертной казни, а только заменили ее общественно полезным подобием рулетки. Любой человек, совершивший или намеренный совершить одно из особо опасных преступлений, высылается на планету, где его труд принесет пользу всему человечеству и где у него нет стопроцентной гарантии, что он вернется на Землю – хотя бы даже калекой. Чем серьезнее преступление, тем длиннее срок и, следовательно, тем меньше шансов на возвращение».
«Ах, вот как! Но, мистер Имярек, вы сказали, что они либо гибнут, либо отказываются от своего намерения. Не будете ли вы так добры объяснить нашим телезрителям, в чем выражается этот их отказ и что тогда происходит?»
Мистер Имярек откидывается в кресле и сплетает пухлые пальцы на округлом брюшке.
«Видите ли, всякий допреступник имеет право обратиться к начальнику лагеря с просьбой о немедленном освобождении, для чего достаточно заполнить соответствующий бланк. Этого человека немедленно снимают с работ и с первым же кораблем отправляют на Землю. Соль тут вот в чем: та часть срока, которую он уже отбыл, полностью аннулируется, и он не получает никакой компенсации. Если, выйдя на свободу, он совершает настоящее преступление, он должен отбыть положенный срок полностью. Если он вновь выражает желание отбыть срок авансом, то опять отбывает его с самого начала, хотя, разумеется, с положенным зачетом. Трое из каждых четырех допреступников подают просьбу об освобождении в первый же год. Эти планеты быстро приедаются».
«Да, я думаю! – соглашается диктор. – Но мы хотели бы узнать ваше мнение о зачете, положенном допреступникам. Ведь многие, как вам известно, считают, что такое сокращение срока вдвое слишком соблазнительно и порождает допреступников».
По холеному благообразному лицу пробегает еле уловимая гримаса злости, которая тотчас сменяется снисходительно-презрительной улыбкой.
«Боюсь, что эти люди, хотя и движимые самыми лучшими побуждениями, не слишком осведомлены в вопросах современной криминалистики и пенологии. Мы вовсе не стремимся уменьшать число допреступников, мы стремимся его увеличивать.
Вы помните, я сказал, что трое из четырех подают просьбу об освобождении в первый же год? Эти индивиды были достаточно благоразумны и попытались отбыть лишь половину срока, положенного за их преступление.
Так неужели же они будут настолько глупы и все-таки совершат преступление с риском получить полный срок без зачета, когда уже убедились, что не могут выдержать и двенадцати месяцев каторги? Не говоря уж о том, что на этих планетах, где выживают лишь отдельные счастливчики, вытянувшие выигрышный билет в лотерее борьбы за существование, они на практике постигают ценность человеческой жизни, необходимость социального сотрудничества и преимущества цивилизованных методов.
А тот, кто не просит об освобождении? Ну, у него есть достаточно времени, чтобы желание совершить задуманное преступление совсем остыло, не говоря уж и о гораздо большей вероятности того, что он погибнет и останется ни с чем. Таким образом, число допреступников, которые возвращаются и совершают задуманное преступление, настолько мало, что общество оказывается в колоссальном выигрыше! Разрешите, я приведу несколько цифр.
Оценка по шкале Лазареса показывает, что уменьшение числа одних только предумышенных убийств со времени введения зачета для допреступников составляет 41%
для Земли, 331/ % для Венеры, 27% для…
3
»
«Плохим, очень плохим утешением послужат Стефансону эти 41% и 331/3%», – с удовольствием подумал Никлас Крэндол. Сам он учитывался в другой графе этих статистических выкладок – человек, который по достаточно веской причине хочет убить некоего Фредерика Стоддарда
Стефансона. Он был остатком на странице вычитаний и погашений – вопреки вероятности он вернулся после семи лет каторги, чтобы получить товар, оплаченный авансом.
Он и Хенк. Два воплощения до нелепости крохотного шанса. Жена Хенка, Эльза… может быть, и она сидит перед своим телевизором, точно птица, завороженная взглядом змеи, в тупом отчаянии надеясь, что объяснения представителя Галактической тюремной службы подскажут ей, как избежать неизбежного, как спастись от столь редкой судьбы, которая ей уготована
Впрочем, об Эльзе пусть думает Отто-Блотто. Пусть радуется, он дорого заплатил за это право. Но Стефансон принадлежит ему, Крэндолу.
«Я хочу, чтобы этот долговязый бандит как следует попотел от страха, я буду выжидать своего часа, и пусть он трясется!»
Репортеры продолжали допрос, но тут громкоговоритель над их головами откашлялся и объявил:
«Заключенные, на выход! Первый десяток собирается и идет в канцелярию начальника корабля. Все правила внутреннего распорядка строго соблюдаются до самого конца. Вызываются: Артур, Ауглюк, Гарфинкель, Гомес, Грэхем, Крэндол, Феррара, Фу-Йен, Хенк…»
Через полчаса они уже шли по центральному коридору к трапу в своей старой гражданской одежде. У выхода они предъявили свидетельства часовому, механическиугодливо улыбнулись Андерсону, когда он крикнул в иллюминатор: «Эй, ребята, возвращайтесь поскорее!», и сбежали по наклонным сходням на поверхность планеты, которую не видели семь долгих мучительных лет.
У выхода их опять поджидали репортеры и фотографы, а также один телеоператор, которому было поручено показать их миру в первые минуты свободы.
Вопросы, вопросы – но теперь они могли позволить себе резкие ответы, хотя им было еще трудно отвечать грубо кому бы то ни было, кроме товарищей по заключению.
К счастью, внимание репортеров отвлек третий допреступник, который шел с ними. Фу-Йен отбыл два года с зачетом за избиение с нанесением увечий. А к тому же он лишился обеих рук и одной ноги в едких мхах Проциона
III всего за месяц до освобождения и теперь медленно ковылял по сходням на здоровой ноге и протезе – держаться за перила ему было нечем
Когда репортеры с неподдельным интересом принялись расспрашивать его, каким образом он намерен осуществить избиение, не говоря уж о нанесении увечий, при столь ограниченных возможностях, Крэндол толкнул Хенка локтем, они быстро сели в ближайшее гиротакси и попросили водителя отвезти их в какой-нибудь бар – поскромнее и потише.
Полная свобода выбора совершенно ошеломила Отто-
Блотто.
– Ник, я не могу! – прошептал он. – Слишком уж тут много всякой выпивки!
Крэндол вывел его из затруднения, заказав для них обоих.
– Два двойных виски, – сказал он официантке. – И
больше ничего.
Когда виски было принесено, Отто-Блотто уставился на рюмку с грустной недоуменной неясностью – так смотрит отец на сына подростка, которого в последний раз видел еще грудным младенцем. Он осторожно протянул к ней трясущуюся руку.
– За смерть наших врагов! – сказал Крэндол и, залпом выпив свое виски, стал смотреть, как Отто-Блотто медленно прихлебывает, смакуя каждую каплю.
– Не увлекайся! – сказал он предостерегающе. – Не то
Эльза и не заметит твоего возвращения – разве что будет возить цветы по приемным дням в клинику для алкоголиков.
– Можешь не опасаться, – проворчал Отто-Блотто в пустую рюмку. – Я вскормлен на этом зелье. Да и в любом случае больше я не пью, пока с ней не разделаюсь. Я так все и задумал, Ник: одна рюмка, чтобы отпраздновать свободу, потом Эльза. Я выдержал эти семь лет не для того, чтобы теперь по собственной промашке остаться в дураках.
Хенк поставил рюмку на стол.
– Семь лет то в одном кромешном аду, то в другом. А
до этого – двенадцать лет с Эльзой. Двенадцать лет она измывалась надо мной как хотела, смеялась мне в глаза и говорила, что по закону она моя жена, что я обязан ее содержать и буду ее содержать, а не то мне же будет хуже. А
чуть только я переставал ползать перед ней на брюхе, она тут же находила способ упечь меня за решетку. Потом через месяц-другой говорила судье, что я, наверное, образумился и она готова меня простить! Я на коленях просил ее дать мне развод, в ногах у нее валялся – детей у нас нет, она здоровая, молодая, а она только, смеялась мне в лицо.
Когда ей надо было засадить меня, так перед судьей она плакала и рыдала, но когда мы оставались с ней вдвоем, она только хохотала, глядя, как меня корчит. Я содержал ее, Ник. Отдавал ей все, что зарабатывал, почти до последнего цента, но этого ей было мало. Ей нравилось смотреть, как я корчусь, она сама мне так и сказала. Ну, а сейчас пришел ее черед корчиться. – И крякнув, он добавил: – Женятся только дураки.
Крэндол поглядел в открытое окно, рядом с которым он сидел. Там на множестве уходящих все ниже и ниже уровней бурлила обычная жизнь Нью-Йорка.
– Может быть, – произнес он задумчиво. – Не берусь судить. Мой брак был очень счастливым, пока он длился –
все пять лет. А потом вдруг счастье исчезло – словно масло прогоркло.
– Во всяком случае, она дала развод, – заметил Хенк. –
А не вцепилась тебе в глотку.
– О, Полли была не из тех женщин, которые вцепляются кому-нибудь в глотку. Я звал ее Прелесть Полли, а она меня – Большой Ник. А потом звездный блеск потускнел, да и я тоже, наверное. Тогда я еще лез из кожи вон, пытаясь добиться, чтобы наша с Ирвом фирма приносила прибыль. Оптовая торговля электронным оборудованием. Ну, и, конечно, нетрудно было понять, что миллионера из меня не выйдет. Возможно, дело было именно в этом. Но так или иначе Полли решила уйти, и я не стал ей мешать. Мы расстались друзьями. Я часто думаю, что она теперь…
Раздался хлопок, похожий на всплеск – словно тюлень ударил ластом по воде. Крэндол взглянул на стол, где между рюмками теперь лежал чуть приплюснутый шар. В
тот же миг рука Хенка подхватила шар и швырнула его в окно. В воздух взвились длинные зеленые нити, но шар уже падал вдоль стены гигантского здания и рядом не было живой плоти, в которую они могли бы впиться.
Уголком глаза Крэндол успел заметить, что какой-то человек стремглав выбежал из бара. Несомненно, это он бросил шар: остальные посетители испуганно смотрели ему вслед и оглядывались на их столик. Стефансон, очевидно, решил, что за Крэндолом стоит установить слежку и обезвредить его.
Отто-Блотто не стал хвалиться быстротой своей реакции. Они оба уже давно научились действовать мгновенно
– чужие смерти преподали им немало полезных уроков. И
Хенк сказал только:
– Одуванчик-бомба с Венеры. Ну, во всяком случае, Ник, этот типчик не хочет тебя убить. Просто искалечить.
– Да, это в духе Стефансона, – согласился Крэндол, когда, заплатив по счету, они направились к выходу, а лица вокруг только еще начали бледнеть. – Сам он этого не сделал бы. Нанял бы исполнителя. И нанял бы его через посредника, на случай, если исполнитель попадет в руки полиции и расколется. Но и это был бы риск: обвинение в уже совершенном убийстве его никак не устроило бы. Вот он и прикинул: небольшая доза одуванчика-бомбы – и я для него уже не опасен. Возможно, он даже навещал бы меня в приюте для неизлечимо больных. Ведь присылал же он мне на каждое рождество открытки все эти семь лет.
И всегда одно и то же: «Еще злишься? Привет! Фредди».
– Этот твой Стефансон парень ничего себе! – сказал
Отто-Блотто, внимательно огляделся по сторонам и только тогда вышел из бара на тротуар пятнадцатого уровня.
– Очень даже. Он держит мир в кулаке и время от времени сжимает кулак покрепче – так просто, для забавы. Я
познакомился с его методами, еще когда мы делили комнату в студенческом общежитии, но думаешь, это мне хоть чуточку помогло? Я случайно встретился с ним: когда наша с Ирвом фирма была уже при последнем издыхании, года через два после того, как мы с Полли разошлись.
Мне было очень скверно и хотелось излить кому-нибудь душу – вот я и рассказал ему, что мой компаньон дрожит над каждым грошом, а я строю воздушные замки, и вдвоем мы доведем до верного банкротства фирму, которая могла бы стать золотым дном. А потом я добрался и до моего дистанционного переключателя – как мне, дескать, хотелось бы заняться им всерьез, да все нет времени.
Отто-Блотто то и дело тревожно оглядывался – не потому, что он опасался нового нападения, а потому, что его как-то смущала возможность ходить свободно. Встречные останавливались, глядя на их старомодные туники до колен.
– Вот так-то! – продолжал Крэндол. – Конечно, я свалял дурака, но поверь, Отто, ты и представления не имеешь, как ловко и убедительно субъекты вроде Фредди
Стефансона умеют разыгрывать дружеское участие. Он сказал мне, что у него есть загородный дом, но он в нем сейчас не живет, а в подвале оборудовал электронную лабораторию с новейшей аппаратурой. И если я захочу, то со следующей недели он отдаст и дом, и лабораторию в мое полное распоряжение. Вот только о своем пропитании я должен буду заботиться сам. Никакой платы ему не нужно: делает он это по старой дружбе и потому, что хочет, чтобы я не разменивался на мелочи, а создал что-то понастоящему большое. Ну, как я мог не попасться на такую удочку?! И только через два года я сообразил, что лабораторное оборудование он установил в этом подвале уже после нашего разговора – когда я предложил Ирву за две сотни выкупить мою долю в нашей фирме. Зачем, собственно, могла понадобиться электронная лаборатория Стефансону, владельцу маклерской конторы? Но подобные вещи как-то не приходят в голову, когда старый товарищ проявляет к тебе такое теплое дружеское участие.
Отто вздохнул и продолжил:
– Ну, и он навещал тебя чуть ли не каждую неделю, а когда твоя новая штучка заработала как миленькая, он захлопнул дверь перед твоим носом, а все твои чертежи и готовую штучку увез неизвестно куда. А тебе сказал, что запатентует ее прежде, чем ты успеешь восстановить хотя бы один чертеж. Да и вообще работал-то ты в его доме. И
он сумеет доказать, что он тебя субсидировал. И тут он расхохотался тебе в лицо, прямо как Эльза. Верно, Ник?
Крэндол закусил губу, вдруг осознав, что Отто Хенк знает его историю наизусть. Сколько раз они делились планами мести и рассказывали друг другу, что привело их на каторгу! Сколько раз каждый повторял все ту же горькую повесть, а товарищ говорил те же слова сочувствия, задавал те же вопросы, одинаково соглашался и даже одинаково возражал!
Внезапно Крэндолу захотелось избавиться от Отто-
Блотто и насладиться блаженством одиночества. Двумя уровнями ниже он увидел сверкающую крышу отеля.
– Пожалуй, я пойду туда. Пора подумать и о ночлеге.
Отто кивнул, догадываясь, чем вызвано это внезапное решение.
– Валяй! Я тебя понимаю. Но не жирно ли это будет, Ник? «Козерог-Ритц!» Не меньше двенадцати кредитов в день.
– Ну и что? Неделю я могу и пороскошествовать. А когда сяду на мель, мне с моей биографией нетрудно будет найти выгодную работу. Сегодня я хочу пошиковать, Отто-Блотто.
– Ну, ладно, ладно. Адрес мой у тебя есть, Ник? Я буду у моего двоюродного брата.
– Да, есть. Ну, желаю удачи с Эльзой, Отто!
– Спасибо. Удачи с Фредди! Ну, и… пока!
Отто-Блотто резко повернулся и вошел в лифт. Когда двери за ним закрылись, Крэндолу вдруг стало грустно.
Хенк был теперь для него ближе родного брата. Ведь они с Хенком не расставались последние годы ни днем, ни ночью. А Дэна он не видел… сколько же это?.. да, почти девять лет.
И Крэндол вдруг почувствовал, как мало, в сущности, осталось у него связей с миром людей, если не считать негативного желания убрать из этого мира Фредди Стефансона. Сейчас ему, пожалуй, была бы нужна женщина – и сойдет почти любая.
Нет, ему гораздо нужнее нечто совсем другое – и времени терять нельзя.
Он быстро зашагал к ближайшей аптеке – очень большой и очень роскошной. В самом центре витрины он сразу увидел то, что ему было нужно.
Подойдя к прилавку, Крэндол спросил продавца:
– Что-то очень уж дешево – может быть, бракованная партия?
Продавец ответил с видом оскорбленного достоинства:
– Прежде, чем мы пускаем товар в продажу, сэр, он подвергается тщательнейшей проверке. А цена такая низкая потому, что мы – самая крупная оптовая фирма во всей Солнечной системе.
– Ну, ладно, дайте мне один среднего калибра. И две коробки патронов.
С бластером в кармане Крэндол почувствовал себя немного спокойнее. Он был вполне уверен, что в нужный момент успеет отпрянуть, увернуться, отпрыгнуть – эту уверенность воспитали долгие годы, когда ему приходилось каждую минуту опасаться нападения хищных тварей с молниеносными реакциями. Однако всегда приятно иметь возможность ответить ударом на удар. Да и Стефансон, конечно, не станет долго тянуть со следующей попыткой.
В отеле Крэндол назвался вымышленной фамилией –
эта хитрость пришла ему в голову в самый последний момент. «И могла бы вовсе не приходить», – подумал он, когда лифтер, получив чаевые, сказал:
– Спасибо, мистер Крэндол. Желаю вам благополучно прикончить вашу жертву, сэр.
Итак, он – знаменитость. Возможно, его лицо знает весь мир. Пожалуй, из-за этого будет труднее добраться до
Стефансона.
Перед тем как пройти в ванную, Крэндол запросил у телесправочного бюро сведения о Стефансоне. Семь лет назад Стефансон уже был достаточно богат и известен в деловых кругах. А теперь благодаря стефансоновскому переключателю (стефансоновскому, черт побери!) он, вероятно, стал еще богаче и гораздо известнее.
Так и оказалось. Телевизор сообщил, что за последний календарный месяц в бюро поступило шестнадцать записей, касающихся Фредерика Стоддарда Стефансона.
Крэндол подумал и попросил, чтобы ему проиграли последнюю. Она была датирована этим днем: «Фредерик
Стефансон, президент Стефансоновского сберегательного банка и Стефансоновской электронной корпорации, отбыл сегодня рано утром в свой гималайский охотничий домик.
Он намерен пробыть там не менее…»
– Достаточно! – крикнул Крэндол из ванны.
Значит, Стефансон струсил. Долговязый бандит ополоумел от страха! Это уже что-то. Неплохой процент с семи лет каторги. Пусть попотеет хорошенько – так, чтобы смерть, когда они наконец полностью сведут счеты, показалась ему облегчением.
Крэндол заказал последние известия и имел удовольствие выслушать последнюю сводку новостей о себе самом – о том, что он поселился в отеле «Козерог-Ритц» под именем Александра Смейзерса. «Но оба эти имени – и
Крэндол, и Смейзерс – неверны, уважаемые слушатели, –
ораторствовала равнодушная запись. – У этого человека есть только одно истинное имя, и это имя – Смерть! Да, сегодня в отеле «Козерог-Ритц» поселился Жнец жизней, и только он один знает, кому из нас не суждено увидеть новый восход солнца. Этот человек, этот Жнец человеческих жизней, этот посланец Смерти – единственный среди нас, кому известно…»
– Заткнись! – в бешенстве завопил Крэндол. За эти семь лет он совсем забыл, какие муки вынужден безропотно сносить свободный человек.
На телевизионном экране вспыхнул сигнал частного телевизионного вызова. Крэндол поспешно вытерся, оделся и спросил:
– Кто это?
– Миссис Никлас Крэндол, – ответил голос телевизионистки.
Крэндол потрясенно уставился на экран. Полли! Откуда она вдруг взялась? И как она узнала, где его найти?
Впрочем, ответить на последний вопрос нетрудно – он же знаменитость!
– Соедините, – сказал он наконец.
Экран заполнило лицо Полли. Крэндол внимательно рассматривал его, слегка улыбаясь. Она немного постарела, но, пожалуй, заметить морщинки можно только при таком увеличении…
И Полли как будто тоже сообразила это: во всяком случае, она повернула рукоятку настройки, и ее лицо уменьшилось до нормальных размеров – теперь была видна вся ее фигура и окружающая обстановка. Полли, повидимому, звонила ему из дома. Комната выглядела, как все гостиные меблированных квартир для небогатых людей, зато сама Полли выглядела прекрасно и смотреть на нее было очень приятно. У Крэндола потеплело на сердце от воспоминаний…
– Полли! Здравствуй! Что случилось? Вот уж не ожидал увидеть тебя!
– Здравствуй, Ник, – она прижала руку ко рту и несколько секунд молча смотрела на него, а потом сказала:
– Ник… Ну пожалуйста! Пожалуйста, не мучь меня!
Крэндол сел на первый попавшийся стул.
– Что?
Полли заплакала.
– Ах, Ник! Не надо! Не будь таким жестоким. Я знаю, почему ты отбыл этот срок, эти семь лет. Едва я сегодня услышала твою фамилию, как сразу все поняла. Но, Ник, ведь, кроме него, никого не было. Только он, он один!
– Один он… что он?
– Я была тебе неверна только с ним. И я думала, что он любит меня, Ник! Я не стала бы разводиться с тобой, если бы представляла, какой он на самом деле. Но ведь ты это знаешь, Ник! Знаешь, как он заставил меня страдать. Я
уже достаточно наказана, Ник, не убивай меня, пожалуйста, не убивай!
– Полли, послушай, – сказал он ошеломленно. – Полли, деточка, ради бога…
– Ник! – истерически всхлипнула она. – Ник, ведь с тех пор прошло одиннадцать лет. Во всяком случае, десять. Не убивай меня за это, Ник, пожалуйста, не убивай. Ник, честное слово, я была неверна тебе только год. Ну, от силы два. Честное слово, Ник. И ведь только с ним одним. Остальные не в счет. Это были так… мимолетные увлечения.
Они ничего не меняли, Ник. Только не убивай меня! Не убивай! – и, закрыв лицо руками, она затряслась в неудержимых рыданиях.
Крэндол несколько секунд смотрел на нее, потом облизнул пересохшие губы. Потом присвистнул и выключил телевизор. Потом откинулся на спинку стула и снова присвистнул – но на этот раз сквозь стиснутые зубы, так что получился не свист, а шипение.
Полли! Полли ему изменяла! Год… нет, два года! И…
как это она выразилась? – остальные! Остальные были лишь мимолетными увлечениями!
Единственная женщина, которую он любил и, кажется, никогда не переставал любить, женщина, с которой он расстался с бесконечным сожалением, виня во всем только себя, когда она сказала ему, что дела фирмы отняли его у нее, но так как было бы нечестно просить его отказаться от того, что, очевидно, столь для него важно…
Прелесть Полли! Полли-деточка! Пока они были вместе, он ни разу далее не посмотрел на другую женщину. А
если бы кто-нибудь посмел сказать… или даже намекнуть… он раскроил бы наглецу физиономию гаечным ключом! Он развелся с ней только потому, что она его об этом попросила, но продолжал надеяться, что, когда фирма окрепнет и основная часть работы ляжет на плечи Ирва, заведовавшего бухгалтерией, они с Полли вновь найдут друг друга. Но дела пошли еще хуже, жена Ирва серьезно заболела, Ирв стал еще реже показываться в конторе и…
– У меня такое ощущение, – пробормотал он вслух, –
будто я сейчас узнал, что добрых волшебников не бывает.
Чтобы Полли… И все эти светлые годы… Один человек!
А остальные – только мимолетные увлечения! Снова вспыхнул телефонный сигнал.
– Кто это? – раздраженно буркнул Крэндол.
– Мистер Эдвард Болласк.
– Что ему нужно? (Чтобы Полли, Прелесть Полли…) На экране появилось изображение чрезвычайно толстого человека. Он настороженно осмотрел номер.
– Я должен спросить вас, мистер Крэндол, уверены ли вы, что ваш телевизор не подключен к линии подслушивания?
– Какого черта вам нужно?
Крэндол почти жалел, что толстяк не явился к нему лично. С каким бы удовольствием он сейчас кого-нибудь хорошенько отделал!
Мистер Эдвард Болласк укоризненно покачал головой, и его щеки заколыхались где-то под подбородком.
– Ну что же, сэр, если вы не можете дать мне такой гарантии, я буду вынужден рискнуть. Я обращаюсь к вам, мистер Крэндол, с призывом простить вашим врагам, подставить под оскорбившую длань другую щеку. Я взываю к вам: откройте душу вере, надежде и милосердию – и главное, милосердию, которое превыше всех остальных добродетелей. Другими словами, сэр, забудьте о ненависти к тому или к той, кого вы намеревались убить, поймите душевную слабость, толкнувшую их сделать то, что они сделали, и простите им.
– Почему я должен им прощать? – в бешенстве спросил Крэндол.
– Потому что так вы изберете благую участь, сэр: я имею в виду не только нравственные блага, хотя не должно забывать и о духовных ценностях, но и материальные блага. Материальные, мистер Крэндол.
– Будьте так любезны, объясните мне, о чем вы, собственно, говорите.
Толстяк наклонился вперед и вкрадчиво улыбнулся.
– Если вы простите того, кто заставил вас принять семь долгих лет страданий, семь лет лишений и мук, мистер
Крэндол, я готов предложить вам чрезвычайно выгодную сделку. У вас есть право на одно убийство. Мне требуется одно убийство. Я очень богат. Вы же, насколько я могу судить, сэр – не поймите это превратно, – очень бедны. Я
могу обеспечить вас до конца ваших дней – и не просто обеспечить, мистер Крэндол, – если только вы откажетесь от своего замысла, от своего недостойного замысла, поборете злобу, отринете личную месть. Видите ли, у меня есть конкурент, который…
Крэндол выключил телевизор.
– Сам отсиди свои семь лет, – ядовито посоветовал он померкнувшему экрану. И вдруг ему стало смешно. Он откинулся на спинку стула и захохотал.
У, жирная скотина! Вздумал пичкать его евангельскими текстами!
Однако этот звонок принес свою пользу. Теперь он увидел смешную сторону их разговора с Полли. Только подумать: она сидит в своей убогой комнатке и трясется из-за грязных интрижек десятилетней давности! Только подумать: она вообразила, что он прошел через семилетний ад из-за такой…
Крэндол представил себе все это и пожал плечами:
– И пусть. Ей это только полезно.
Тут он почувствовал, что очень голоден.
Он хотел было распорядиться, чтобы обед принесли ему в номер, опасаясь еще одной встречи со стефансоновским метателем шаров, но потом передумал. Если Стефансон всерьез охотится за ним, то нет ничего легче, чем подсыпать чего-нибудь в предназначенный ему обед. Куда безопаснее поесть в ресторане, выбранном наугад.
Кроме того, будет приятно посидеть в ярко освещенном зале, послушать музыку, развлечься немного. Ведь это его первый вечер на свободе – и надо как-то избавиться от скверного привкуса во рту, который остался от разговора с Полли.
Прежде чем выйти за дверь, он внимательно осмотрел коридор. Ничего подозрительного. Но ему вспомнилась крохотная планетка вблизи Веги, где они вот так же оглядывались по сторонам каждый раз, когда выбирались из туннелей, образованных параллельными рядами высоких хвощей. А если не оглядеться… неосторожных иногда подстерегал огромный пиявкообразный моллюск, который умел метать куски своей раковины с большой силой и на порядочное расстояние. Обломок только оглушал жертву, но за это время пиявка успевала подобраться к ней. А эта пиявка была способна высосать человека досуха за десять минут.
Один раз такой осколок попал в него, но пока он валялся без сознания, Хенк… Старина Отто-Блотто! Крэндол улыбнулся. Неужели настанет день, когда они будут вспоминать пережитые ужасы с ностальгической грустью?
Так старым солдатам бывает приятно за кружкой пива вспомнить даже самые тяжелые испытания войны. Ну, что ж – во всяком случае, они пережили эти ужасы не ради жирных святош вроде мистера Эдварда Болласка, мечтающих безнаказанно убивать чужими руками.
И если уж на то пошло, не ради подленьких трусливых потаскушек вроде Полли.
«Фредерик Стоддард Стефансон. Фредерик Стоддард…»
Кто-то положил руку ему на плечо, и, очнувшись, он увидел, что уже прошел половину вестибюля.
– Ник!
Крэндол обернулся. Подстриженная бородка клинышком – у него не было знакомых с такими бородками, но глаза были ему мучительно знакомы…
– Ник, – сказал человек с бородой, – я не смог.
Эти глаза… ну конечно же, это его младший брат!
– Дэн! – крикнул он.
– Да, это я. Вот!
Что-то со стуком упало на пол. Крэндол посмотрел вниз и увидел на ковре бластер – большего калибра и значительно более дорогой, чем его собственный. «Почему
Дэн ходит со шпалером? Кто за ним охотится?»
Эта мысль принесла с собой смутную догадку. И страх
– страх перед тем, что может сказать брат, которого он не видел столько лет.
– Я мог бы убить тебя, как только ты вошел в вестибюль, – говорил Дэн. – Я все время держал тебя под прицелом. Но я хочу, чтобы ты знал, что я не нажал на спусковую кнопку не из-за срока, который дают за совершенное убийство.
– Да? – сказал Крэндол на медленном выдохе протяжением во все вновь пережитое прошлое.
– Я просто не мог вынести мысли, что буду еще больше виноват перед тобой. Со времени этой истории с Полли я постоянно…
– С Полли? Да, конечно, с Полли, – казалось, к его подбородку подвесили гирю, она оттягивала его голову вниз, мешала закрыть рот. – С Полли. Этой истории с
Полли.
Дэн дважды ударил кулаком по ладони.
– Я знаю, что рано или поздно ты придешь рассчитаться со мной. Я чуть с ума не сошел от ожидания – и от угрызений совести. Но я не думал, что ты выберешь такой путь, Ник. Семь лет ожидания!
– Поэтому ты и не писал мне, Дэн?
– А что я мог написать? И сейчас – что я могу сказать?
Мне казалось, что я люблю ее, но все кончилось, как только вы развелись. Наверное, меня всегда тянуло к тому, что было твоим, Ник, потому что ты мой старший брат. Другого оправдания у меня нет, и я прекрасно понимаю, чего оно стоит. Ведь я знаю, как было у вас с Полли, и я разрушил все это просто из желания сделать гадость. Но вот что, Ник: я не убью тебя, и я не буду защищаться. Я слишком устал. И слишком виноват. Ты знаешь, где меня найти, Ник. Приходи когда захочешь.
Дэн повернулся и быстро зашагал к выходу. Металлические блестки на его икрах – последний крик моды –
сверкали и переливались. Он не оглянулся, даже когда проходил за прозрачной стеной вестибюля.
Крэндол долго смотрел ему вслед, затем тоскливо пробормотал «Гм!», нагнулся, поднял второй бластер и отправился искать ресторан.
Он сидел, рассеянно ковыряя пряные деликатесы с Венеры, которые оказались далеко не такими вкусными, как представлялось ему в воспоминаниях, и думал о Полли и
Дэне. Всякие мелочи теперь, когда они встали на свое место, всплывали в его памяти одна за другой. А он-то и не подозревал… Но кто мог заподозрить Полли? Кто мог заподозрить Дэна?
Крэндол достал из кармана свое свидетельство об освобождении и начал внимательно его изучать: «Полностью отбыв максимальный семилетний срок тюремного заключения с предварительным зачетом, Никлас Крэндол освобождается со всеми правами допреступника…»
…чтобы убить свою бывшую жену Полли Крэндол?
…чтобы убить своего младшего брата Дэниела Крэндола?
Какая нелепость!
Но им-то это не показалось нелепостью! Оба они были так блаженно уверены в своей вине, так самодовольно считали себя и только себя единственным объектом ненависти, столь свирепой, что жажда мести не отступила даже перед самым страшным из всего, чем располагает Галактика, – оба они были так в этом уверены, что их проверенная на деле хитрость изменила им и они неправильно истолковали радость в его глазах! И Полли, и Дэн легко могли бы оборвать уже начатую исповедь – и он ни о чем не догадался бы! Если бы только они не были так заняты собой и вовремя заметили его удивление, они могли бы и дальше обманывать его. Если не обоим, то уж комунибудь одному-то из них это наверняка удалось бы!
Уголком глаза Крэндол заметил, что возле его столика стоит женщина. Слегка наклонившись, она читала свидетельство через его плечо. Он откинулся и оглядел ее с головы до ног, а она улыбнулась ему.
Незнакомка была сказочно красива. Она обладала не только тем, что делает женщину красивой – идеальной фигурой, лицом, осанкой, волосами, кожей и глазами, – но ко всему этому добавлялись и те завершающие штрихи, которые, как и в любом виде искусства, отличают шедевр от просто прекрасного произведения. Одним из этих штрихов было, конечно, богатство, которое воплощалось в прическе и платье, достойно обрамлявших подобную красоту, и в единственном пеаэа, бесценном камне с Сатурна,
черным пламенем горевшем на ее груди. Но к этим же штрихам можно было отнести и светившийся в ее глазах ум, и породистость, пикантно дополнявшие это великолепное творение, созданное из живой плоти.
– Вы позволите мне сесть рядом с вами, мистер Крэндол? – спросила она голосом, о котором достаточно будет сказать, что он вполне гармонировал с ее обликом.
Эта просьба позабавила Крэндола, но и преисполнила его бодрящим волнением. Он подвинулся, и незнакомка села рядом с ним на диванчике, точно императрица, опускающаяся на трон под взглядами сотни царей-данников.
Крэндол примерно догадывался, кто она такая и чего ищет. Это могла быть либо одна из юных львиц высшего света, либо кинозвезда, совсем недавно вспыхнувшая и еще сохраняющая статус Новой.
А он, только что освобожденный каторжник, владеющий правом жизни и смерти, был редкостной новинкой, которую ей во что бы то ни стало захотелось испробовать.
Конечно, такой интерес к нему был не слишком лестен, но, с другой стороны, при обычных обстоятельствах простому смертному нечего и мечтать о встрече с подобной женщиной, так почему бы ему и не извлечь пользы из своего положения? Он удовлетворит ее каприз, а она в первый его вечер на свободе…
– Это ваше свидетельство об освобождении, не так ли?
– спросила она и перечитала документ еще раз. Кожа на ее верхней губе слегка увлажнилась, и Крэндол удивился, заметив подобный признак усталой пресыщенности у этого живого воплощения победоносной юности и красоты.
– Скажите, мистер Крэндол, – заговорила наконец незнакомка и повернулась к нему. Капельки пота на ее верхней губе заблестели еще ярче. – Скажите, вы же отбыли срок за убийство как допреступник? Но ведь правда, что наказание за убийство и наказание за самое зверское изнасилование одинаковы?
После долгого молчания Крэндол потребовал у официанта счет и вышел из ресторана.
Когда он подошел к своему отелю, он уже успокоился настолько, что не забыл внимательно оглядеть вестибюль за прозрачной стеной. Никого похожего на стефансоновского наемника. Впрочем, Стефансон – осторожный игрок и, потерпев неудачу, пожалуй, не станет торопиться со следующей попыткой.
Но эта девица! И мистер Эдвард Болласк!
В его почтовом ящике лежала записка. Кто-то звонил ему и оставил свой номер, но больше ничего передать не просил.
Поднимаясь к себе, Крэндол раздумывал, кому еще он мог понадобиться. Может быть, Стефансон решил нащупать почву для примирения? Или какая-нибудь глубоко несчастная мать попросит, чтобы он убил ее неизлечимо больное дитя?
Он назвал номер и с любопытством уставился на экран. Экран замерцал, и на нем появилось лицо. Крэндол еле удержался от радостного возгласа. Нет, один друг в Нью-
Йорке у него все-таки есть. Старина Ирв, всегда благоразумный и надежный. Его бывший компаньон.
Но в тот самый миг, когда Крэндол был уже готов выразить свою радость вслух, он вдруг прикусил язык.
Слишком много неожиданностей принес ему этот день. А
в выражении лица Ирва было что-то такое…
– Послушай, Ник, – сумрачно начал Ирв после неловкой паузы. – Я хотел бы задать тебе только один вопрос.
– А именно, Ирв?
– Ты давно знаешь? Когда ты догадался?
Крэндол перебрал в уме несколько возможных ответов и выбрал наиболее подходящий.
– Очень давно, Ирв. Но ведь тогда я ничего не мог сделать.
Ирв кивнул.
– Я так и думал. Ну, так послушай. Я не стану просить и оправдываться. За эти семь лет ты столько перенес, что никакие мои оправдания, конечно, ничего изменить не могут. Но поверь одному: много брать из кассы я начал, только когда заболела жена. Мои личные средства были истощены. Занимать я больше не мог, а у тебя хватало и собственных семейных неприятностей. Ну, а когда дела фирмы пошли лучше, я боялся, что слишком большое несоответствие между прежними цифрами и новыми откроет тебе глаза. Поэтому я продолжал прикарманивать прибыль уже не для того, чтобы платить по больничным счетам, и не для того, чтобы обманывать тебя, Ник, поверь мне, а просто чтобы ты не узнал, сколько я уже присвоил. Когда ты пришел ко мне и сказал, что совсем пал духом и хотел бы уйти из фирмы… ну, тогда, не спорю, я поступил подло. Мне следовало бы сказать тебе правду. Но, с другой стороны, как компаньоны мы не очень подходили друг другу, а тут мне представился случай стать одному хозяином фирмы, когда ее положение уже упрочилось, ну, и…
и…
– И ты выкупил мою долю за триста двадцать кредитов, – договорил за него Крэндол. – А сколько теперь стоит фирма, Ирв?
Ирв отвел глаза в сторону.
– Около миллиона. Но послушай, Ник! В прошлом году оптовая торговля переживала небывалый расцвет. Так что твоего тут уже не было. Послушай, Ник…
Крэндол угрюмо и насмешливо фыркнул.
– Я слушаю, Ирв.
Ирв достал чистую бумажную салфеточку и вытер вспотевший лоб.
– Ник, – сказал он, наклоняясь вперед и изо всех сил стараясь дружески улыбнуться. – Послушай меня, Ник.
Забудь про это, не преследуй меня, и я тебе кое-что предложу. Мне нужен управляющий с твоими техническими знаниями. Я дам тебе двадцать процентов в деле, Ник…
нет, двадцать пять. Я готов дать даже тридцать… тридцать пять…
– И ты думаешь, что это компенсирует семь лет каторги? Ирв умоляюще поднял трясущиеся руки.
– Нет, Ник, конечно, нет. Их ничто не компенсирует.
Но послушай, Ник. Я готов дать сорок пять про…
Крэндол выключил телевизор. Некоторое время он продолжал сидеть, потом вскочил и начал расхаживать по комнате. Он остановился и осмотрел свои бластеры – купленный утром и брошенный Дэном. Достал свидетельство об освобождении и внимательно прочел его. Потом снова сунул в карман туники.
Позвонив дежурной, он заказал межконтинентальный разговор.
– Хорошо, сэр. Но вас хочет видеть один джентльмен.
Мистер Отто Хенк, сэр.
– Пошлите его сюда. И включите мой экран, как только вас соединят, мисс.
Через несколько минут к нему в номер вошел Отто-
Блотто. Он был пьян, но, как обычно в таких случаях, внешне это у него не проявлялось.
– Как ты думаешь, Ник, как ты думаешь, что, черт…
– Ш-ш-ш! – перебил его Крэндол. – Меня соединили.
Телевизионистка где-то в Гималаях сказала:
– Говорите, Нью-Йорк.
И на экране появился Фредерик Стоддард Стефансон.
Он постарел гораздо больше всех тех, кого Крэндол успел повидать в этот день. Впрочем, это еще ни о чем не говорило: когда Стефансон разрабатывал сложную операцию, он всегда казался постаревшим.
Стефансон ничего не сказал. Он только смотрел на
Крэндола, крепко сжав губы. Позади него виднелся зал охотничьего домика – совсем такой, каким подобные залы рисуются воображению телевизионных режиссеров.
– Ну ладно, Фредди, – заговорил Крэндол. – Я долго тебя не задержу. Можешь отозвать своих псов и не стараться больше убить меня или искалечить. Я на тебя теперь даже не зол.
– Даже не зол… – Стефансон с трудом обрел привычное железное самообладание. – А почему?
– Потому что… ну, тут много причин. Потому что теперь, когда мне осталось только убить тебя, твоя смерть не подарит мне семи лет адской радости. И потому, что ты не сделал мне ничего такого, чего не делали все остальные –
кто что мог и, вероятно, со дня моего появления на свет.
Очевидно, я простофиля от рождения. Так уж я создан. И
ты просто этим воспользовался.
Стефансон наклонился, вперил в его лицо внимательный взгляд, потом перевел дух и облегченно скрестил руки на груди.
– Пожалуй, ты говоришь искренне.
– Конечно, я говорю искренне. Видишь? – он показал на два бластера. – Сегодня я их выброшу. С этих пор я не буду носить никакого оружия. Я не хочу, чтобы от меня хоть как-то зависела чья-то жизнь.
Стефансон задумчиво поковырял под ногтем большого пальца.
– Вот что, – сказал он. – Если ты говоришь серьезно –
а, по-моему, это так и есть, – то, может быть, мы чтонибудь придумаем. Скажем, будем выплачивать тебе какую-то долю прибыли. Там поглядим.
– Хотя это не принесет тебе никакой выгоды? – с удивлением спросил Крэндол. – Почему же ты раньше мне ничего не предлагал?
– Потому что я не люблю, чтобы меня принуждали. До сих пор я противопоставлял силу силе.
Крэндол взвесил этот ответ.
– Не понимаю. Но, наверное, ты так создан. Что же, как ты сказал, – там поглядим.
Когда он наконец повернулся к Хенку, Отто-Блотто все еще растерянно покачивал головой, занятый только собственной незадачей.
– Представляешь, Ник? Эльза месяц назад отправилась в увеселительную поездку на Луну. Кислородный шланг в ее костюме засорился, и она умерла от удушья, прежде чем ей успели помочь. Черт-те что. Ник, верно? За месяц до конца моего срока! Не могла подождать какой-то паршивый месяц! Она хохотала надо мной, когда помирала.
Это уж как пить дать!
Крэндол обнял его за плечи.
– Пойдем погуляем, Отто-Блотто. Нам обоим будет полезно проветриться.
«Странно, как право на убийство действует на людей,
– думал он. – Полли поступила на свой манер, а Дэн – на свой. Старина Ирв отчаянно вымаливал себе жизнь – но старался не переплатить. Мистер Эдвард Болласк и девица в ресторане… И только Фредди Стефансон, единственная намеченная жертва, только он не пожелал просить».
Просить он не пожелал, но на милостыню расщедрился. Способен ли он принять от Стефансона то, что в сущности будет подачкой? Крэндол пожал плечами. Кто знает, на что способен он или любой другой человек?
– Что же нам теперь делать, Ник? – обиженно спросил
Отто-Блотто, когда они вышли из отеля. – Нет, ты мне ответь: что нам теперь делать?
– Я, во всяком случае, сделаю вот что, – ответил Крэндол, беря в каждую руку по бластеру. – Только это, и больше ничего.
Он по очереди швырнул сверкающие бластеры в стеклянную дверь роскошного вестибюля «Козерог-Ритца».
Раздался звон, затем снова звон. Стена рухнула, расколовшись на длинные кривые кинжалы. Люди в вестибюле оборачивались, выпучив глаза.
К Крэндолу подскочил полицейский. Бляха на его металлической форме отчаянно дребезжала.
– Я видел! Я видел, как ты это сделал! – кричал он, хватая Крэндола. – Ты получишь за это тридцать суток!
– Да неужто? – сказал Крэндол. – Тридцать суток? – он вытащил из кармана свое свидетельство об освобождении и протянул его полицейскому.
– Вот что, уважаемый блюститель порядка. Сделайтека в этой бумажке надлежащее число проколов или оторвите купон соответствующих размеров. Либо так, либо эдак. А можете и так и эдак. Как вам больше нравится.
ОТКРЫТИЕ МОРНИЕЛА МЕТАУЭЯ
Всех удивляет, как переменился Морниел Метауэй с тех пор, как его открыли, – всех, но не меня. Его помнят на Гринвич-Виллидж – художник-дилетант, немытый, бездарный; едва ли не каждую свою вторую фразу он начинал с «я» и едва ли не каждую третью кончал местоимением «меня» либо «мне». Из него ключом била наглая и в то же время трусливая самонадеянность, свойственная тем, кто в глубине души подозревает, что он второсортен, если не что-нибудь похуже. Получасового разговора с ним было довольно, чтоб у вас в голове гудело от его хвастливых выкриков.
Я-то превосходно понимаю, откуда взялось все это – и тихое, очень спокойное признание своей бездарности, и внезапный всесокрушающий успех. Да что там говорить –
при мне его и открыли, хотя вряд ли это можно назвать открытием. Не знаю даже, как это можно назвать, принимая во внимание полную невероятность – да, вот именно невероятность, а не просто невозможность того, что произошло. Одно только мне ясно: всякая попытка найти какую-то логику в случившемся вызывает у меня колики в животе, а череп пополам раскалывается от головной боли.
В тот день мы как раз толковали о том, как Морниел будет открыт. Я сидел в его маленькой нетопленой студии на Бликер-стрит, осторожно балансируя на единственном деревянном стуле, ибо был слишком искушен, чтобы садиться в кресло.
Собственно, Морниел и оплачивал студию с помощью этого кресла. Оно представляло собой грязную мешанину из клочьев обивки, впереди было высоким, а в глубине –
очень низким. Когда вы садились, содержимое ваших карманов – мелочь, ключи, кошелек – начинало выскальзывать, проваливаясь в чащу ржавых пружин и на прогнившие половицы.
Как только в студии появлялся новичок, Морниел поднимал страшный шум насчет того, что усадит его в потрясающе удобное кресло. И пока бедняга болезненно корчился, норовя устроиться среди торчащих пружин, глаза хозяина разгорались и его охватывало неподдельное веселье. Ибо чем энергичнее ерзал посетитель, тем больше вываливалось из его карманов. Когда прием заканчивался, Морниел отодвигал кресло и принимался считать доходы, подобно тому как владелец магазина вечером после распродажи проверяет наличность в кассах.
Деревянный стул был неудобен своей неустойчивостью, и, сидя на нем, приходилось быть начеку. Морниелу же ничто не угрожало – он всегда сидел на кровати.
– Не могу дождаться, – говорил он в тот раз, – когда наконец мои работы увидит какой-нибудь торговец картинами или критик хоть с каплей мозга в голове. Я свое возьму. Я слишком талантлив, Дэйв. Порой меня даже пугает, до чего я талантлив – чересчур много таланта для одного человека.
– Гм, – начал я. – Но ведь часто бывает…
– Я ведь не хочу сказать, что для меня слишком много таланта. – Он испугался, как бы я не понял его превратно.
– Слава богу, сам я достаточно велик, у меня большая душа. Но любого другого человека меньшего масштаба сломило бы такое всеохватывающее восприятие, такое проникновение в духовное начало вещей, в самый их, я бы сказал, Gestalt6. У другого разум был бы просто раздавлен таким бременем. Но не у меня, Дэйв, не у меня.
– Рад это слышать, – сказал я. – Но если ты не возра…
– Знаешь, о чем я думал сегодня утром?
– Нет. Но по правде говоря…
– Я думал о Пикассо, Дэйв. О Пикассо и Руо. Я вышел прогуляться по рынку, позаимствовать что-нибудь на лотках для завтрака – ты ведь знаешь принцип старины Морниела: ловкость рук и никакого мошенства – и начал размышлять о положении современной живописи. Я о нем частенько размышляю, Дэйв. Оно меня тревожит.
– Вот как, – сказал я. – Видишь ли, мне кажется…
– Я спустился по Бликер-стрит, потом свернул на Вашингтон-сквер-парк и все раздумывал на ходу. Кто, собственно, делает сейчас что-нибудь значительное в живописи, кто по-настоящему и бесспорно велик?. Понимаешь, я могу назвать только три имени: Пикассо, Руо и я. Больше
6 Образ, форма (нем.).
ничего оригинального, ничего такого, о чем стоило бы говорить. Только трое при том несметном количестве народу, что сегодня во всем мире занимается живописью. Три имени! От этого чувствуешь себя таким одиноким!
– Да, пожалуй, – согласился я. – Но все же…
– А потом я задался вопросом: почему это так? В том ли дело, что абсолютный гений вообще очень редко встречается и для каждого периода есть определенный статистический лимит на гениальность, или тут другая причина, что-то характерное именно для нашего времени?
И отчего открытие моего таланта, уже назревшее, так задерживается? Я ломал над этим голову Дэйв. Я обдумывал это со всей скромностью, тщательно, потому что это немаловажная проблема. И вот к какому выводу я пришел.
Тут я сдался. Откинулся на спинку стула – не забываясь, конечно, – и позволил Морниелу излить на меня свою эстетическую теорию. Теорию, которую я по крайней мере двадцать раз слышал раньше от двадцати других художников из Гринвич-Виллидж. Единственно, в чем расходились все авторы, был вопрос, кого надо считать вершиной и наиболее совершенным живым воплощением данных эстетических принципов. Морниел (чему вы, пожалуй, не удивитесь) ощущал, что как раз его.
Он приехал в Нью-Йорк из Питтсбурга (штат Пенсильвания), рослый, неуклюжий юнец, который не любил бриться и полагал, будто может писать картины. В те дни
Морниел восхищался Гогеном и старался ему подражать.
Он был способен часами разглагольствовать о мистической простоте народного искусства. Его произношение звучало как подделка под бруклинское, которое так любят киношники, но на самом деле было чисто питтсбургским.
Морниел быстро распрощался с Гогеном, как только взял несколько уроков в Лиге любителей искусства и впервые отрастил спутанную белокурую бороду. Недавно он выработал собственную технику письма, которую назвал «грязное на грязном».
Морниел был бездарен – в этом можно не сомневаться.
Тут я высказываю не только свое мнение – ведь я делил комнату с двумя художниками-модернистами и целый год был женат на художнице, – но и мнение понимающих людей, которые, не имея причин относиться к Морниелу с предубеждением, внимательно смотрели его работы.
Один из этих людей, критик и отличный знаток современной живописи, несколько минут с отвисшей челюстью созерцал произведение Морниела (автор навязал мне его в подарок и, несмотря на мои протесты, собственноручно повесил над камином), а потом сказал: «Дело не в том, что ему абсолютно нечего сказать графически. Он даже не ставит перед собой того, что можно было бы назвать живописной задачей. Белое на белом, «грязное на грязном», антиобъективизм, неоабстракционизм – называйте как угодно, но здесь нет ничего. Просто один из тех крикливых, озлобленных дилетантов, которыми кишит Виллидж».
Спрашивается, зачем же я тогда вообще знался с Морниелом?
Ну, прежде всего он жил под боком и потом был в нем какой-то своеобразный худосочный колорит. И когда я просиживал ночь напролет, стараясь выдавить из себя стихотворение, а оно никак не выдавливалось, на душе становилось легче при мысли, что можно заглянуть к нему в студию и отвлечься разговором о предметах, не имеющих отношения к литературе.
Тут, правда, был один минус, о котором я постоянно забывал, – у нас всегда получался не разговор, а лишь монолог, куда я едва умудрялся время от времени вторгаться с краткими репликами. Видите ли, разница между нами состояла в том, что меня все же печатали – пусть хоть в жалких экспериментальных журнальчиках с плохим шрифтом, где гонораром была годовая подписка. Он же никогда не выставлялся, ни разу.
Была и еще одна причина, из-за которой я поддерживал с ним отношения. Одним талантом Морниел действительно обладал.
Если говорить о средствах к существованию, то я едва свожу концы с концами. О хорошей бумаге и дорогих книгах могу только мечтать, ибо они для меня недоступны.
Но когда уж очень захочется чего-нибудь – например, нового собрания сочинений Уоллеса Стивенса7, – я двигаю к
Морниелу и сообщаю об этом ему. Мы отправляемся в книжный магазин, входим поодиночке. Я завожу разговор о каком-нибудь роскошном издании, которого сейчас нет в продаже и которое я будто бы собираюсь заказать, и как только мне удастся полностью завладеть вниманием хозяина, Морниел слизывает Стивенса, – само собой разумеется, я клянусь себе, что заплачу сразу, как только поправятся мои обстоятельства.
В таких делах Морниел бесподобен. Ни разу не случилось, чтобы его заподозрили, не говоря уж о том, чтоб
7 Уоллес Стивенс – американский поэт-лирик первой полвины XX века. – Прим. перев.
поймали с поличным. Естественно, я должен рассчитываться за эти услуги, проделывая то же самое в магазине художественных принадлежностей, чтобы Морниел мог пополнять запасы холста, красок и кистей, но в конечном счете игра стоит свеч. Чего она, правда, не стоит, так это гнетущей скуки, которую я терплю при его рассуждениях, и моих угрызений совести по поводу того, что он-то вовсе и не собирается платить за приобретенные товары. Утешаю себя тем, что сам расплачусь при первой же возможности.
– Вряд ли я настолько уникален, каким себе кажусь, –
говорил он в тот день. – Конечно, рождаются и другие с не меньшим потенциальным талантом, чем у меня, но этот талант губят, прежде чем он успеет достигнуть творческой зрелости. Почему? Каким образом?. Тут следует проанализировать роль, которую общество…
В тот миг, когда он дошел до слова «общество», я и увидел впервые эту штуку. Какое-то пурпурное колыхание возникло передо мной на стене, странные мерцающие очертания ящика со странными мерцающими очертаниями человеческой фигуры внутри. Все это было в пяти футах над полом и напоминало разноцветные тепловые волны.
Тотчас же видение исчезло.
Но время года было слишком поздним для тепловых волн, а что до оптических иллюзий – я им не подвержен.
Возможно, решил я, при мне зарождается новая трещина в стене. По-настоящему помещение не предназначалось для студии, это была обычная квартира без горячей воды и со сквозняками, но кто-то из прежних жильцов разрушил все перегородки и сделал одну длинную комнату. Квартира находилась на верхнем этаже, крыша протекала, и стены были украшены толстыми волнистыми линиями в память о тех потоках, что струились по ним во время дождя.
Но отчего пурпурный цвет? И почему очертания человека внутри ящика? Пожалуй, довольно-таки замысловато для простой трещины. И куда все это делось?
– …в вечном конфликте с индивидуумом, который стремится выразить свою индивидуальность, – закончил мысль Морниел. – Не говоря уж о том…
Послышалась музыкальная фраза – высокие звуки один за другим, почти без интервалов. И затем посреди комнаты – на сей раз футах в двух над полом – опять появились пурпурные линии, такие же трепещущие, светящиеся, а внутри – снова очертания человека.
Морниел скинул ноги с кровати и уставился на это чудо.
– Что за…
Видение опять исчезло.
– Что т-тут происходит? – запинаясь, выдавил он из себя. – Что т-такое?
– Не знаю, – отозвался я. – Но что бы это ни было, оно постепенно влезает к нам.
Еще раз высокие звуки. Посреди комнаты на полу появился пурпурный ящик. Он делался все темнее, темнее и материальнее. Звуки становились все более высокими, они слабели и наконец, когда ящик стал непрозрачным, умолкли совсем.
Дверца ящика открылась. Оттуда шагнул в комнату человек; одежда у него вся была как бы в завитушках.
Он посмотрел сначала на меня, затем на Морниела.
– Морниел Метауэй? – осведомился он.
– Д-да, – сказал Морниел, пятясь к холодильнику.
– Мистер Метауэй, – сказал человек из ящика. – Меня зовут Глеску. Я принес вам привет из 2487 года нашей эры. Никто из нас не нашелся, что на это ответить. Я поднялся со стула и стал рядом с Морниелом, смутно ощущая необходимость быть поближе к чему-нибудь хорошо знакомому.
Некоторое время все сохраняли исходную позицию.
Немая сцена.
2487-й, подумал я. Нашей эры. Ни разу не приходилось мне видеть никого в такой одежде. Более того, я никогда и не воображал никого в такой одежде, хотя, разыгравшись, моя фантазия способна на самые дикие взлеты. Одеяние не было прозрачным, но и не то чтоб вовсе светонепроницаемым. Переливчатое – вот подходящий термин. Различные цвета и оттенки неутомимо гонялись друг за другом вокруг завитушек. Здесь, видимо, предполагалась некая гармония, но не такого сорта, чтоб мой глаз мог уловить ее и опознать.
Сам прибывший, мистер Глеску, был примерно одного роста со мною и Морниелом и выглядел только чуть постарше нас. Но что-то в нем ощущалось такое – даже не знаю, назовите это породой, если угодно, подлинным внутренним величием и благородством, которые посрамили бы даже герцога Веллингтонского. Цивилизованность, может быть. То был самый цивилизованный человек из всех, с кем мне до сих пор доводилось встречаться.
Он шагнул вперед.
– Думаю, – произнес он удивительно звучным, богатым обертонами голосом, – что нам следует прибегнуть к свойственной двадцатому столетию церемонии пожатия рук. Так мы и сделали – осуществили свойственную двадцатому столетию церемонию пожатия рук. Сначала Морниел, потом я, и оба очень робко. Мистер Глеску проделал это с неуклюжестью фермера из Айовы, который впервые в жизни ест китайскими палочками.
Церемония окончилась, гость стоял и широко улыбался нам. Или, вернее, Морниелу.
– Какая минута, не правда ли? – сказал он. – Какая историческая минута!
Морниел испустил глубокий вздох, и я почувствовал, что долгие годы, в течение которых ему то и дело приходилось неожиданно сталкиваться на лестнице с судебными исполнителями, требующими уплаты долгов, не пропали даром. Он быстро приходил в себя, его мозг включался в работу.
– Как вас понимать, когда вы говорите «историческая минута»? – спросил он. – Что в ней такого особенного? Вы что – изобретатель машины времени?
– Я? Изобретатель? – мистер Глеску усмехнулся. – О
нет, ни в коем случае. Путешествие по времени было изобретено Антуанеттой Ингеборг в… после вашей эпохи.
Вряд ли стоит сейчас говорить об этом, поскольку в моем распоряжении всего полчаса.
– А почему полчаса? – спросил я. Не оттого, что меня это так уж интересовало, а просто вопрос показался уместным.
– Скиндром рассчитан только на этот срок. Скиндром
– это… В общем это устройство, позволяющее мне появляться в вашем периоде. Расход энергии так велик, что путешествия в прошлое осуществляются лишь раз в пятьдесят лет. Правом на проезд награждают, как Гобелем… Надеюсь, я правильно выразился? Гобель, да? Премия, которую присуждали в ваше время.
Меня вдруг осенило.
– Нобель!. Может быть, вы говорите о Нобеле? Нобелевская премия!
Он просиял.
– Вот-вот. Таким путешествием награждают выдающихся исследователей-гуманитариев – что-то вроде Нобелевской премии. Единожды в пятьдесят лет человек, которого Совет хранителей избирает как наиболее достойного… В таком духе. До сих пор, конечно, эту возможность всегда предоставляли историкам, и они разменивали ее на осаду Трои, первый атомный взрыв в Лос-Аламосе, открытие Америки и тому подобное. Но на сей раз…
– Понятно, – прервал его Морниел дрогнувшим голосом. (Мы оба вдруг сообразили, что мистер Глеску знает имя Морниела). – А что же исследуете вы?
Мистер Глеску слегка поклонился.
– Искусство. Моя профессия – история искусства, а узкая специальность…
– Какая? – голос Морниела уже не дрожал, а, наоборот, стал пронзительно громким. – Какая же у вас узкая специальность?
Мистер Глеску опять слегка наклонил голову.
– Вы, мистер Метауэй. Без страха услышать опровержение смею сказать, что в наше время из всех ныне здравствующих специалистов я считаюсь наиболее крупным авторитетом по творчеству Морниела Метауэя. Моя узкая специальность – это вы.
Морниел побелел. Он медленно добрел до кровати и рухнул на нее, ноги у него стали будто ватные. Несколько раз он открывал и закрывал рот, не в силах выдавить из себя ни единого звука. Затем глотнул, сжал кулаки и обрел контроль над собой.
– Хотите сказать, – прохрипел он, – что я знаменит?
Настолько знаменит?
– Знамениты?.. Вы, дорогой сэр, выше славы. Вы один из бессмертных, гордость человечества. Как я выразился –
смею думать, исчерпывающе – в своей последней книге
«Морниел Метауэй – человек, сформировавший будущее», «…сколь редко выпадает на долю отдельной личности…».
– До такой степени знаменит? – борода Морниела дрожала, словно губы ребенка, который вот-вот заплачет.
– До такой?
– Именно, – заверил его мистер Глеску. – А кто же, собственно, тот гений, с которого во всей славе своей только и начинается современная живопись? Чьи композиции и цветовая гамма доминируют в архитектуре последних пяти столетий, кому мы обязаны обликом наших городов, убранством наших жилищ и даже одеждой, которую носим?
– Мне? – осведомился Морниел слабым голосом.
– Кому же еще?. История еще не знала творца, чье влияние распространилось бы на столь широкую область и действовало бы в течение столь долгого времени. С кем же я могу сравнить вас, сэр, в таком случае? Кого из художников поставить рядом?
– Может быть, Рембрандта, – намекнул Морниел. Чувствовалось, что он старается помочь. – Леонардо да Винчи? Мистер Глеску презрительно усмехнулся.
– Рембрандт и да Винчи в одном ряду с вами? Нелепо!
Разве могут они похвастать вашей универсальностью, вашим космическим размахом, чувством всеобъемлемости?
Уж если искать равного, то надо выйти за пределы живописи и обратиться, пожалуй, к литературе. Возможно, Шекспир с его широтой, с органными нотами лирической поэзии, с огромным влиянием на позднейший английский язык мог бы… Впрочем, что Шекспир? – Он грустно покачал головой. – Боюсь, даже и Шекспир…
– О-о-о! – простонал Морниел Метауэй.
– Кстати, о Шекспире, – сказал я, воспользовавшись случаем. – Не приходилось ли вам слышать о поэте Давиде Данцигере? Многое ли из его трудов дошло до вашего времени?
– Это вы?
– Да, – с энтузиазмом подтвердил я. – Давид Данцигер
– это я.
Мистер Глеску наморщил лоб, раздумывая.
– Что-то не припоминаю… Какая школа?
– Тут несколько названий. Самое употребительное –
антиимажинисты. Антиимажинисты, или постимажинисты.
– Нет, – сказал он после недолгого размышления. –
Единственный известный мне поэт вашего времени и вашей части света – Питер Тедд.
– Питер Тедд? Слыхом не слыхал о таком.
– Значит, его пока еще не открыли. Но прошу вас не забывать, что моя область – история живописи. Не литература. Вполне вероятно, назови вы свое имя специалисту по второстепенным поэтам двадцатого века, он вспомнил бы вас без особого напряжения. Вполне вероятно.
Я глянул в сторону кровати, и Морниел осклабился.
Теперь он полностью пришел в себя и наслаждался ситуацией. Каждой порой тела впитывал разницу между своим положением и моим. Я чувствовал, что ненавижу в нем все, от головы до пят. Отчего, действительно, фортуна решила улыбнуться именно такому типу, как Морниел? На свете столько художников, которые к тому же вполне порядочные люди, и надо же, чтобы это хвастливое ничтожество…
И вместе с тем какой-то участок моего мозга лихорадочно работал. Случившееся как раз доказывало, что лишь в исторической перспективе можно точно оценить роль того или иного явления искусства. Вспомните хотя бы тех, кто были шишками в свое время, а теперь совершенно забыты – какие-нибудь современники Бетховена, например, при жизни считались куда более крупными фигурами, чем он, а сейчас их имена известны только музыковедам. Но тем не менее…
Мистер Глеску бросил взгляд на указательный палец своей правой руки, где беспрестанно сжималось и расширялось черное пятнышко.
– Мое время истекает, – сказал он. – И хотя для меня это огромное, невыразимое счастье, мистер Морниел, стоять вот так и просто смотреть на вас, я осмелюсь обратиться с маленькой просьбой.
– Конечно, – сказал Морниел, поднимаясь с постели. –
Скажите только, что вам нужно, и все будет. Чего бы вы хотели?
Мистер Глеску вздохнул, как если б он достиг наконец врат рая и намеревался теперь постучаться.
– Я подумал, – если вы не возражаете, – нельзя ли мне посмотреть ту вещь, над которой вы сейчас работаете?
Понимаете, увидеть картину Метауэя, еще незаконченную, с непросохшими красками… – Он закрыл глаза, как бы не веря, что такое желание может осуществиться.
Морниел сделал изысканный жест и гоголем зашагал к своему мольберту. Он приподнял материю.
– Я намерен назвать это, – голос его был маслянист, как нефтеносные слои в Техасе, – «Бесформенные формы
№ 29».
Медленно, предвкушая наслаждение, мистер Глеску открыл глаза и весь подался вперед.
– Но, – произнес он после долгого молчания, – это ведь не ваша работа, мистер Метауэй.
Морниел обернулся к нему, несколько удивленный, затем воззрился на полотно.
– Почему? Это именно моя работа. «Бесформенные формы № 29». Разве вы ее не узнаете?
– Нет, – отрезал мистер Глеску. – Не узнаю и очень благодарен за это судьбе. Нельзя ли что-нибудь более позднее?
– Это самая поздняя, – сказал Морниел несколько неуверенно. – Все остальное написано раньше. – Он вытащил из стеллажа подрамник. – Ну хорошо, а вот такая?
Как она вам покажется? Называется «Бесформенные формы № 22». Бесспорно, лучшая вещь из раннего меня.
Мистер Глеску содрогнулся.
– Впечатление такое, будто счистки с палитры положили поверх таких же счисток.
– Точно. Это моя техника – «грязное на грязном» Но вы, пожалуй, все это знаете, раз уж вы такой специалист по мне. А вот «Бесформенные формы № …»
– Давайте оставим эту бесформенность, мистер Метауэй, – взмолился Глеску. – Хотелось бы посмотреть вас в цвете. В цвете и форме.
Морниел почесал в затылке.
– Довольно давно не делал ничего в полном колорите… Хотя… постойте… – Его физиономия просияла, он полез за стеллаж и вынул оттуда холст со старым подрамником. – Одна из немногих вещей, сохранившихся от розово-крапчатого периода.
– Не могу представить себе тот путь… – начал было мистер Глеску, обращаясь скорее к себе самому, чем к нам. – Конечно, это не… – Он умолк и недоуменно пожал плечами, подняв их чуть ли не до ушей – жест, знакомый всякому, кто видел художественного критика за работой.
После такого жеста слова не нужны. Если вы живописец, чью работу сейчас смотрят, вам все сразу становится ясно.
К этому времени Морниел уже лихорадочно вытаскивал из-за стеллажа картину за картиной. Он показывал каждую мистеру Глеску – у того в горле булькало, как у человека, старающегося подавить рвоту, – и хватался за другую.
– Ничего не понимаю, – сказал Глеску, глядя на пол, заваленный полотнами. – Бесспорно, все это написано до того, как вы открыли себя и нашли собственную оригинальную технику. Но я ищу следа, хотя бы намека на гений, который готовится войти в мир. И… – Он ошеломленно покачал головой.
– А что вы скажете насчет вот этой? – Морниел уже тяжело дышал.
– Уберите, – мистер Глеску оттолкнул картину обеими руками. Он снова взглянул на свой указательный палец, и я заметил, что черное пятно стало сжиматься и расширяться медленнее. – Остается мало времени, и я в полном недоумении. Джентльмены, разрешите вам кое-что показать.
Он вошел в пурпурный ящик, вышел оттуда с книгой в руках и поманил нас. Мы с Морниелом встали за его спиной, глядя ему через плечо. Странички книги чуть слышно звякали, когда он их переворачивал, и они были сделаны не из бумаги, уж это точно. А на титульном листе…
ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ КАРТИН
МОРНИЕЛА МЕТАУЭЯ.
1928–1996.
– Ты родился в двадцать восьмом? – спросил я.
Морниел кивнул.
– 23 мая двадцать восьмого года.
И погрузился в молчание. Понятно было, о чем он думает, и я сделал быстрый расчет. Шестьдесят восемь лет.
Не каждому дано точно знать, сколько еще осталось у него впереди. Но в общем шестьдесят восемь – не так уж плохо.
Мистер Глеску открыл книгу там, где начинались репродукции.
Даже и сейчас, когда я вспоминаю свое впечатление от той первой вещи, коленки у меня слабеют и подгибаются.
Это была абстракция в буйных красках, но такая, какой я никогда раньше себе и не представлял. Весь наш современный абстракционизм в сравнении с ней выглядел ученичеством на уровне детского сада
Всякий человек, который не был лишен зрения, восхитился бы таким шедевром, даже если до сих пор он воспринимал одну лишь предметную живопись. Вещь восхищала даже в том случае, если вам вообще было плевать на живопись любого направления.
Не хочется показаться плаксой, но у меня действительно слезы навернулись на глаза. Каждый, у кого есть хоть малейшая тяга к прекрасному, реагировал бы точно так же.
Но не Морниел.
– Ах, в этом духе, – сказал он с облегчением, как человек, который понял в конце концов, чего от него требуют.
– Но почему же вы сразу не сказали, что вам нужно именно в этом духе?
Мистер Глеску схватился за рукав его грязной рубашки.
– Вы хотите сказать, у вас есть и такие полотна?
– Не полотна, а полотно. Единственное. Написал на прошлой неделе в порядке эксперимента, но меня это не удовлетворило, и я отдал вещь одной девице внизу. Желаете взглянуть?
– О да! Очень.
– Прекрасно, – сказал Морниел. – Он потянулся за книгой, взял ее из рук Глеску и самым непринужденным жестом бросил на кровать. – Пошли. Это у нас займет всего минуту или две.
Непривычная растерянность обуяла меня, пока мы спускались по лестнице. В одном только я был убежден так же твердо, как в том, что Джеффри Чосер жил раньше
Алджернона Суинберна, – ни одна вещь, которую написал или способен написать в будущем Морниел, не приблизится к репродукциям книги даже на миллион эстетических миль. И я знал, что он, несмотря на свое всегдашнее хвастовство и неисчерпаемую самонадеянность, тоже это понимает.
Двумя этажами ниже Морниел остановился перед дверью и постучал. Никакого ответа. Подождал две секунды и постучался еще раз. Опять ничего.
– Черт побери! Нет дома. А мне так хотелось показать вам эту вещь.
– Мне нужно ее увидеть, – очень серьезно сказал мистер Глеску. – Мне нужно увидеть хоть что-нибудь похожее на вашу зрелую работу. Но мое время подходит к концу, и…
– Знаете что? – Морниел щелкнул пальцами. – У Аниты там кошки, она просила подкармливать их в свое отсутствие и оставила мне ключ от квартиры… Если я сбегаю наверх и принесу?
– Превосходно, – радостно отозвался Глеску, глянув на свой палец. – Только, будьте добры, поскорее.
– Молниеносно. – Но затем, поворачиваясь к лестнице, Морниел перехватил мой взгляд и подал знак – тот, которым мы пользовались, совершая наши «покупки». Это означало: «Заговори ему зубы. Постарайся его заинтересовать».
Тут-то я и сообразил – книга! Слишком много раз я видел, как действует Морниел, и не мог не догадаться, что небрежный жест, каким он бросил книгу на кровать, таил в себе все, что угодно, кроме небрежности. Морниел просто положил книгу так, чтоб при желании можно было сразу ее взять. Теперь он кинулся наверх прятать книгу, а когда время мистера Глеску истечет, ее просто не удастся найти.
Ловко! Чертовски ловко, я бы сказал. А потом Морниел Метауэй возьмется создавать произведения Морниела
Метауэя. Только он не будет их создавать.
Он их скопирует.
Между тем поданный знак заставил меня открыть рот и автоматически начать болтовню.
– А сами вы рисуете, мистер Глеску? – это было хорошее начало.
– О нет! Конечно, мальчишкой я собирался стать художником – по-моему, с этого начинает каждый искусствовед – и даже собственноручно испачкал несколько холстов. Но они были очень плохи, просто ужасны, потом я понял, что писать о картинах много легче, чем создавать их. А когда взялся за чтение книг о жизни Морниела Метауэя, мне стало ясно, в чем мое призвание. Понимаете, я не только очень хорошо чувствовал суть его творчества, но и сам он всегда казался мне человеком, которого я мог бы понять и полюбить… Вот это меня тоже озадачивает сейчас. Он совсем не таков, каким мне представлялся.
– Уж это точно, – кивнул я.
– Естественно, историческая перспектива обладает способностью как-то возвеличивать, окружать ореолом романтики каждую выдающуюся личность. Признаться, в характере мистера Морниела я уже вижу черты, над которыми облагораживающему влиянию столетий придется как следует пора… Впрочем, не стану продолжать, мистер
Данцигер. Вы его друг.
– Почти единственный в целом мире, – сказал я. – У
него их не так уж много.
При всем том мысль моя работала, стараясь охватить происходящее. Однако чем глубже я вникал в ситуацию, тем больше в ней запутывался. Сплошные парадоксы. Каким образом Морниел Метауэй через пять веков прославится благодаря картинам, если сам впервые в жизни увидел их в книге, изданной через пять веков? Кто написал эти картины – Морниел Метауэй?.. Так говорится в книге, и, поскольку томик теперь у него, он действительно это сделает. Но он будет просто копировать. А кому же тогда принадлежат оригиналы?
Мистер Глеску озабоченно посмотрел на свой палец.
– Времени практически уже нет.
Он бросился вверх по лестнице, и я за ним. Мы ворвались в студию, и я приготовился скандалить насчет книги
– без особого удовольствия, потому что Глеску мне нравился.
Книга исчезла, кровать была пуста. И еще кой-чего не хватало в комнате – машины времени и Морниела Метауэя.
– Он уехал! – задохнувшись, воскликнул мистер Глеску. – И оставил меня здесь! Видимо, прикинул, что, если войти в ящик и захлопнуть за собой дверь, машина сама вернется в нашу эпоху.
– Прикидывать-то он мастер, – сказал я с горечью. Насчет такого я не уговаривался и в таком предприятии не стал бы участвовать. – Пожалуй, он уже прикинул и насчет правдоподобной истории, чтоб объяснить людям вашего времени, как это все получилось. Да и в самом деле, зачем ему из кожи вон лезть в двадцатом веке, когда он может быть признанной, боготворимой знаменитостью в двадцать пятом?
– Но что будет, если они попросят его написать хотя бы одну картину?
– Он скажет, что труд его жизни окончен и он не чувствует себя в силах добавить к этому что-нибудь значительное. Не сомневаюсь, кончится тем, что он еще будет читать лекции о самом себе. Можете за него не беспокоиться, он не пропадет. Меня вот тревожит, что вы здесь увязли. Можно ли надеяться на спасательный отряд?
Мистер Глеску с убитым видом покачал головой.
– Каждый лауреат дает подписку, что он сам несет ответственность в том случае, если возвращение невозможно. Машину запускают раз в пятьдесят лет, а к тому времени какой-нибудь другой ученый будет требовать права посмотреть разрушение Бастилии, присутствовать при рождении Гаутамы Будды и чего-нибудь в таком роде. Я
тут действительно увяз, как вы выразились. Скажите, это очень худо – жить в вашем времени?
Чувствуя себя виноватым, я хлопнул его по плечу.
– Ну, не так уж и худо! Конечно, надо иметь удостоверение личности, – не представляю, как вы будете его получать в таком возрасте. И возможно – конечно, нельзя сказать наверняка – ФБР либо Иммигрантское управление вызовут вас на допрос, поскольку вы все-таки что-то вроде иностранца, проникшего сюда нелегально.
Лицо его перекосилось.
– Боже мой! Ведь это ужасно.
Но в этот миг меня озарила идея.
– Не обязательно… Слушайте, у Морниела есть удостоверение личности – года два назад он поступал на работу. А свидетельство о рождении он держит в ящике стола вместе с другими документами. Почему бы вам не стать
Морниелом? Он-то никогда не уличит вас в самозванстве.
– Вы думаете, я мог бы? Ну, а его друзья, родственники…
– Родители умерли. Ни одного родственника, о котором бы я слышал. И, кроме меня, как я вам уже говорил, никого, близкого к понятию «друг». – Я вдумчиво оглядел мистера Глеску с головы до ног. – По-моему, вы могли бы за него сойти. Может быть, отрастите бороду и покраситесь под блондина. То да се… Правда, серьезная проблема
– чем зарабатывать на жизнь. В качестве специалиста по
Метауэю и направлениям в искусстве, берущим от него начало, на многое вам рассчитывать не приходится.
Он вцепился в меня.
– Я мог бы писать картины. Всегда мечтал стать художником. Таланта у меня мало, но я знаю множество технических приемов живописи, всевозможные графические нововведения, которые неизвестны вашему времени.
Думаю, что даже без способностей этого будет достаточно, чтобы перебиться на каком-нибудь там третьемчетвертом уровне.
И этого оказалось достаточно. Совершенно достаточно. Причем не на третьем-четвертом уровне, а на первом.
Мистер Глеску, он же Морниел Метауэй, – лучший из живущих ныне художников. И самый несчастный среди всех них.
– Послушайте, что происходит с публикой? – разозлился он после очередной выставки. – С ума они, что ли, посходили – так меня расхваливать? Во мне ведь ни унции таланта. Все мои работы не самостоятельны, все полотна до единого – подражания. Я пытался сделать хоть чтонибудь, что было бы полностью моим, но так погряз в Метауэе, что утратил собственную индивидуальность. Эти идиоты-критики продолжают неистовствовать, а вещи-то написаны не мною.
– Кем же они тогда написаны? – поинтересовался я.
– Метауэем, конечно, – ответил он с горечью. – У нас думали, что парадокса времени не существует, – хотелось бы мне, чтоб вы почитали ученые труды, которыми забиты библиотеки. Специалисты утверждали, что невозможно, например, скопировать картину с будущей репродукции, обойдясь таким образом без оригинала. А я – то что делаю – как раз и копирую по памяти!
Неплохо было бы сказать ему правду, он такой милый человек, особенно по сравнению с этим проходимцем Метауэем, и так мучается.
Но нельзя.
Видите ли, он сознательно старается не копировать те картины. Он так упорствует в этом, что отказывается думать о книге и даже разговаривать о ней. Но мне все же удалось недавно выудить из него две-три фразы. И вы знаете, какая штука? Он ее не помнит – только в самых общих чертах.
Удивляться тут нечему – он и есть настоящий Морниел Метауэй, без всяких парадоксов. Но если я ему когданибудь открою, что он просто пишет эти картины, создает их сам, а не восстанавливает по памяти, его покинет даже та ничтожная доля уверенности в своих силах, которая в нем есть, и он совсем растеряется. Так что пусть уж считает себя обманщиком, хотя на самом деле ничего подобного.
– Забудьте об этом, – твержу я ему. – Доллары все равно остаются долларами.
Роберт ШЕКЛИ
ОРДЕР НА УБИЙСТВО
Том Рыбак никак не предполагал, что его ждет карьера преступника. Было утро. Большое красное солнце только что поднялось над горизонтом вместе с плетущимся за ним маленьким желтым спутником, который едва поспевай за солнцем. Крохотная, аккуратная деревушка – диковинная белая точка на зеленом пространстве планеты –
поблескивала в летних лучах своих двух солнц.
Том только что проснулся у себя в домике. Он был высокий молодой мужчина с дубленной на солнце кожей, от отца он унаследовал продолговатый разрез глаз, а от матери – простодушное нежелание обременять себя работой.
Том не спешил: до осенних дождей не рыбачат, а значит, и настоящей работы для рыбака нет. До осени он намерен был немного поваландаться и починить рыболовную снасть.
– Да говорят же тебе: крыша должна быть красная! –
донесся до него с улицы голос Билли Маляра.
– У церквей никогда не бывает красных крыш! – кричал в ответ Эд Ткач.
Том нахмурился. Он совсем было позабыл о переменах, которые произошли в деревне за последние две недели, поскольку лично его они никак не касались. Он надел штаны и неторопливо зашагал на деревенскую площадь.
Там ему сразу бросился в глаза большой новый плакат, гласивший:
ЧУЖДЫМ ЭЛЕМЕНТАМ
ДОСТУП В ПРЕДЕЛЫ ГОРОДА ЗАПРЕЩЕН!
Никаких чуждых элементов на всем пространстве планеты Новый Дилавер не существовало. На ней росли леса и стояла только эта одна-единственная деревушка. Плакат имел чисто риторическое значение, выражая определенную политическую тенденцию.
На площади помещались церковь, тюрьма и почта. Все три здания в результате бешеной деятельности были воздвигнуты за последние две сумасшедшие недели и поставлены аккуратно в ряд, фасадами на площадь. Никто не знал, что с ними делать: деревня уже свыше двух столетий недурно обходилась и без них. Но теперь, само собой разумеется, их необходимо было построить.
Эд Ткач стоял перед только что воздвигнутой церковью, и прищурившись глядел вверх. Билли Маляр с опасностью для жизни балансировал на крутом скате церковной крыши. Его рыжеватые усы возмущенно топорщились. Внизу собралась небольшая толпа.
– Да пошел ты к черту! – сердился Билли Маляр. – Говорят тебе, я как раз на прошлой неделе все это прочел.
Белая крыша – пожалуйста. Красная крыша – ни в коем случае.
– Нет, ты что-то путаешь, – сказал Ткач. – Как ты считаешь, Том?
Том пожал плечами; у него не было своего мнения на этот счет. И тут откуда ни возьмись, весь в поту, появился мэр. Полы незаправленной рубахи свободно колыхались вокруг его большого живота.
– Слезай! – крикнул он Билли. – Я все нашел в книжке.
Там сказано: маленькое красное школьное здание, а не церковное здание.
У Билли был очень рассерженный вид. Он вообще был человек раздражительный. Все Маляры народ раздражительный. Но с тех пор, как мэр на прошлой неделе назначил Билли Маляра начальником полиции, у Билли окончательно испортился характер.
– Но у нас же ничего такого нет. Нет этого самого –
маленького школьного здания, – продолжал упорствовать
Билли, уже наполовину спустившись с лестницы.
– А вот мы его сейчас и построим, – сказал мэр. – И
придется поторопиться.
Он глянул на небо. Невольно все тоже поглядели вверх. Но там пока еще ничего не было видно.
– А где же эти ребята, где Плотники? – спросил мэр. –
Сид, Сэм, Марв – куда вы подевались?
Из толпы высунулась голова Сида Плотника. Он все еще ходил на костылях, с тех пор как в прошлом месяце свалился с дерева, когда доставал яйца из птичьих гнезд.
Все Плотники были не мастера лазать по деревьям.
– Остальные ребята сидят у Эда Пиво, – сказал Сид.
– Конечно, где же им еще быть! – прозвучал в толпе возглас Мэри Паромщицы.
– Ладно, позови их, – сказал мэр. – Нужно построить маленькое школьное здание, да побыстрей. Скажи им, чтобы строили рядом с тюрьмой. – Он повернулся к Билли
Маляру, который уже спустился на землю. – А ты, Билли, покрасишь школьное здание хорошей, яркой красной краской. И снаружи, и изнутри. Это очень важно.
– А когда я получу свою полицейскую бляху? – спросил Билли. – Я читал, что все начальники полиции носят бляхи.
– Сделай ее себе сам, – сказал мэр. Он вытер лицо подолом рубахи. – Ну и жарища! Что бы этому инспектору прибыть зимой… Том! Том Рыбак! У меня есть очень важное поручение для тебя. Пойдем, я тебе сейчас все растолкую.
Мэр обнял Тома за плечи, они пересекли пустынную рыночную площадь и по единственной мощеной улице направились к дому мэра. В былые времена дорожным покрытием служила здесь хорошо слежавшаяся грязь. Но былые времена кончились две недели назад, и теперь улица была вымощена битым камнем. Ходить по ней босиком стало так неудобно, что жители деревни предпочитали лазать друг к другу через забор. Мэр, однако, ходил по улице
– для него это было делом чести.
– Послушайте, мэр, я сейчас отдыхаю…
– Какой теперь может быть отдых? – сказал мэр. – Он ведь может появиться в любой день.
Мэр пропустил Тома вперед, они вошли в дом, и мэр плюхнулся в большое кресло, придвинутое почти вплотную к межпланетному радио.
– Том, – без проволочки приступил к делу мэр, – как ты насчет того, чтобы стать преступником?
– Не знаю, – сказал Том. – А что такое преступник?
Беспокойно поерзав в кресле и положив руку – для пущего авторитета – на радиоприемник, мэр сказал:
– Это, понимаешь ли, вот что… – и принялся разъяснять.
Том слушал, слушал, и чем дальше, тем меньше ему это нравилось. А во всем виновато межпланетное радио, решил он. Жаль, что оно и в самом деле не сломалось.
Никто не верил, что оно когда-нибудь может заговорить. Один мэр сменял другого, одно поколение сменялось другим, а межпланетное радио стояло и покрывалось пылью в конторе – последнее безмолвное звено, связующее их планету с Матерью-Землей. Двести лет назад Земля разговаривала с Новым Дилавером, и с Фордом IV, и с альфой Центавра и с Новой Испанией, и с прочими колониями, входившими в Содружество демократий Земли. А
потом все сообщения прекратились.
Земля была занята своими делами. Дилаверцы ждали известий, но никаких известий не поступало. А потом в деревне начался мор и унес в могилу три четверти населения. Мало-помалу деревня оправилась. Жители приспособились, зажили своим особым укладом, который постепенно стал для них привычным. Они позабыли про Землю.
Прошло двести лет.
И вот две недели назад древнее радио закашляло и возродилось к жизни. Час за часом оно урчало и плевалось атмосферными помехами, а вся деревня столпилась на улице возле дома мэра.
Наконец стали различимы слова:
– …ты слышишь меня? Новый Дилавер! Ты меня слышишь?
– Да, да, мы тебя слышим, – сказал мэр.
– Колония все еще существует?
– А то как же! – горделиво отвечал мэр.
Голос стал строг и официален:
– В течение некоторого времени мы не поддерживали контакта с нашими внеземными колониями. Но мы решили навести порядок. Вы, Новый Дилавер, по-прежнему являетесь колонией Земли и, следовательно, должны подчиняться ее законам. Вы подтверждаете этот статус?
– Мы по-прежнему верны Земле, – с достоинством отвечал мэр.
– Отлично. С ближайшей планеты к вам будет направлен инспектор-резидент, чтобы проверить, действительно ли вы придерживаетесь установленных обычаев и традиций.
– Как вы сказали? – обеспокоенно спросил мэр.
Строгий голос взял октавой выше:
– Вы, разумеется, отдаете себе отчет в том, что мы не потерпим проникновения к нам каких бы то ни было чуждых элементов. Надеюсь, вы меня понимаете, генерал?
– Я не генерал. Я мэр.
– Вы возглавляете, не так ли?
– Да, но…
– В таком случае вы – генерал. Разрешите мне продолжать. В нашей Галактике не может быть места какой бы то ни было человеческой культуре, хоть чем-либо отличающейся от нашей и, следовательно, нам чуждой. Можно управлять, если каждый будет делать, что ему заблагорассудится? Порядок должен быть установлен любой ценой.
Мэр судорожно глотнул воздух и впился глазами в радио.
– Помните, что вы управляете колонией Земли, генерал, и не должны допускать никаких отклонений от нормы, никакого радикализма. Наведите у себя в колонии порядок, генерал. Инспектор прибудет к вам в течение ближайших двух недель. Это все.
В деревне была срочно созвана сходка: требовалось немедленно решить, как наилучшим образом выполнить наказ Земли. Сошлись на том, что нужно со всей возможной быстротой перестроить привычный уклад жизни на земной манер в соответствии с древними книгами.
– Что-то я никак в толк не возьму, зачем нам преступник, – сказал Том.
– На Земле преступник играет чрезвычайно важную роль в жизни общества, – объяснил мэр. – На этом все книги сходятся. Преступник не менее важен, чем, к примеру, почтальон. Или, скажем, начальник полиции. Только разница в том, что действия преступника должны быть антисоциальны. Он должен действовать во вред обществу, понимаешь, Том? А если у нас никто не будет действовать во вред обществу, как мы можем заставить кого-нибудь действовать на его пользу? Тогда все это будет ни к чему.
Том покачал головой.
– Все равно не понимаю, зачем это нужно.
– Не упрямься, Том. Мы должны все устроить на земной манер. Взять хотя бы эти мощеные дороги. Во всех книгах про них написано. И про церкви, и про школы, и про тюрьмы. И во всех книгах написано про преступников.
– А я не стану этого делать, – сказал Том.
– Встань же ты на мое место! – взмолился мэр. – Появляется инспектор и встречает Билли Маляра, нашего начальника полиции. Инспектор хочет видеть тюрьму. Он спрашивает: «Ни одного заключенного?» А я отвечаю:
«Конечно, ни одного. У нас здесь преступлений не бывает». «Не бывает преступлений? – говорит он. – Но во всех колониях Земли всегда совершаются преступления. Вам же это хорошо известно». «Нам это не известно, – отвечаю я. – Мы даже понятия не имели о том, что значит это слово, пока на прошлой неделе не поглядели в словарь». «Так зачем же вы построили тюрьму? – спросит он меня. – Для чего у вас существует начальник полиции?»
Мэр умолк и перевел дыхание.
– Ну, ты видишь? Все пойдет прахом. Инспектор сразу поймет, что мы уже не настоящие земляне. Что все это для отвода глаз. Что мы чуждый элемент!
– Хм, – хмыкнул Том, невольно подавленный этими доводами.
– А так, – быстро продолжал мэр, – я могу сказать: разумеется, у нас есть преступления – совсем как на Земле.
У нас есть вор и убийца в одном лице – комбинированный вор-убийца. У бедного малого были дурные наклонности, и он получился какой-то неуравновешенный. Однако наш начальник полиции уже собрал улики, и в течение ближайших суток преступник будет арестован. Мы запрячем его за решетку, а потом амнистируем.
– Что это значит – амнистируем? – спросил Том.
– Не знаю точно. Выясню. Ну, теперь ты видишь, какая это важная птица – преступник?
– Да, похоже, что так. Но почему именно я?
– Все остальные мне нужны для других целей. И кроме того, у тебя узкий разрез глаз. У всех преступников узкий разрез глаз.
– Не такой уж у меня узкий. Не уже, чем у Эда Ткача.
– Том, прошу тебя, – сказал мэр. – Каждый из нас делает что может. Ты же хочешь нам помочь?
– Хочу, конечно, – неуверенно сказал Том.
– Вот и прекрасно. Ты будешь наш городской преступник. Вот, смотри, все будет оформлено по закону.
Мэр протянул Тому документ. В документе было сказано:
«Ордер на убийство. К всеобщему сведению. Предъявитель сего, Том Рыбак, официально уполномочивается осуществлять воровство и убийство. В соответствии с этим ему надлежит укрываться от закона в темных закоулках, околачиваться в местах, пользующихся дурной славой, и нарушать закон».
Том перечел этот документ дважды. Потом спросил:
– Какой закон?
– Это я тебе сообщу, как только его издам, – сказал мэр. – Все колонии Земли имеют законы.
– Но что я все-таки должен делать?
– Ты должен воровать. И убивать. Это не так уж трудно. – Мэр подошел к книжному шкафу и достал с полки старинный многотомный труд, озаглавленный «Преступник и его среда. Психология убийцы. Исследование мотивов воровства».
– Здесь ты найдешь все, что тебе необходимо знать.
Воруй на здоровье, сколько влезет. Ну, а насчет убийств –
один раз, пожалуй, будет достаточно. Тут перестараться тоже не след.
Том кивнул.
– Правильно. Может, я и разберусь что к чему.
Он взял книги в охапку и пошел домой.
День был нестерпимо жаркий, и весь этот разговор о преступлениях очень утомил и расстроил Тома. Он улегся на кровать и принялся изучать древние книги.
В дверь постучали.
– Войдите! – крикнул Том, протирая глаза.
Марв Плотник, самый старший и самый длинный из всех длинных, рыжеволосых братьев Плотников, появился в дверях в сопровождении старика Джеда Фермера. Они несли небольшую торбу.
– Ты теперь городской преступник, Том? – спросил
Марв.
– Похоже, что так.
– Тогда это для тебя. – Они положили торбу на пол и вынули оттуда маленький топорик, два ножа, гарпун, палку и дубинку.
– Что это вы принесли? – спросил Том, спуская ноги с кровати.
– Оружие принесли, а по-твоему, что, – раздраженно сказал Джед Фермер. – Какой же ты преступник, если у тебя нет оружия?
Том почесал в затылке.
– Это ты точно знаешь?
– Тебе бы самому пора разобраться в этом деле, – все так же ворчливо сказал Фермер. – Не жди, что мы все будем делать за тебя.
Марв Плотник подмигнул Тому.
– Джед злится, потому что мэр назначил его почтальоном.
– Я свой долг исполняю, – сказал Джед. – Противно только писать самому все эти письма.
– Ну, уж не так это, думается мне, трудно, – ухмыльнулся Марв Плотник. – А как же почтальоны на Земле справляются? Им куда больше писем написать надо, сколько там людей-то! Ну, желаю удачи, Том.
Они ушли.
Том склонился над оружием, чтобы получше его рассмотреть. Он знал, что это за оружие: в древних книгах про него много было написано. Но в Новом Дилавере еще никто никогда не пускал в ход оружия. Единственные животные, обитавшие на планете, – маленькие безобидные пушистые зверьки, убежденные вегетарианцы, – питались одной травой. Обращать же оружие против своих земляков – такого, разумеется, никому еще не приходило в голову.
Том взял один из ножей. Нож был холодный. Том потрогал кончик ножа. Он был острый.
Том встал и зашагал из угла в угол, поглядывая на оружие. И каждый раз, когда он на него глядел, у него противно холодело в животе.
Впрочем, пока особенно беспокоиться не о чем. Ведь сначала ему надо прочитать все эти книги. А тогда, быть может, он еще докопается, какой во всем этом смысл.
Он читал несколько часов подряд. Книги были написаны очень толково. Разнообразные методы, применяемые преступниками, разбирались весьма подробно. Однако все в целом выглядело совершенно бессмысленно. Для чего нужно совершать преступления? Кому от этого польза?
Что это может дать людям?
На такие вопросы книги не давали ответа. Том перелистывал страницы, разглядывал фотографии преступников. У них был очень серьезный, сосредоточенный вид; казалось, они в полной мере сознают свое значение в обществе. Тому очень хотелось бы понять, в чем же это значение. Быть может, тогда все бы прояснилось.
– Том? – раздался за окном голос мэра.
– Я здесь, мэр, – отозвался Том.
Дверь приотворилась, и мэр просунул голову в комнату. Из-за его спины выглядывали Джейн Фермерша, Мэри
Паромщица и Элис Повариха.
– Ну, так как же, Том? – спросил мэр.
– Что – как же?
– Когда думаешь начать?
Том смущенно улыбнулся.
– Да вот собираюсь, – сказал он. – Читаю книжки, разобраться хочу…
Три почтенные дамы уставились на него, и Том умолк в замешательстве.
– Ты попусту тратишь время, – сказала Элис Повариха.
– Все работают, никто не сидит дома, – сказала Джейн
Фермерша.
– Неужто так трудно что-нибудь украсть? – вызывающе крикнула Мэри Паромщица.
– Это верно, Том, – сказал мэр. – Инспектор может пожаловать к нам в любую минуту, а нам ему и предъявить будет нечего.
– Хорошо, хорошо, – сказал Том.
Он сунул нож и дубинку за пояс, взял торбу, чтобы было куда класть награбленное, и вышел из дому.
Но куда направиться? Было около трех часов пополудни. Рынок – по сути дела, наиболее подходящее место для краж, – будет пустовать до вечера. К тому же Тому очень не хотелось воровать при свете дня. Это выглядело бы как-то непрофессионально.
Он достал свой ордер, предписывающий ему совершать преступления, и перечитал его еще раз от начала до конца: «…надлежит укрываться от закона в темных закоулках, околачиваться в местах, пользующихся дурной славой…»
Все ясно! Он будет околачиваться в пользующихся дурной славой местах. Там он может выработать себе какой-нибудь план и настроиться на нужный лад. Вот только выбирать-то, собственно, было не из чего. В деревне имелся ресторан «Крошка», который держали две вдовые сестры, было «Местечко отдыха» Джефа Хмеля и, наконец, была таверна, принадлежавшая Эду Пиво.
Приходилось довольствоваться таверной.
Таверна помещалась в домике, мало чем отличавшемся от всех прочих домов деревни. Там была одна большая комната для гостей, кухня и жилые комнаты хозяев. Жена
Эда стряпала и старалась поддерживать в помещении чистоту – насколько ей это позволяли боли в пояснице. Эд за стойкой разливал напитки. Эд был бледный, с сонными глазами и необыкновенной способностью тревожиться по пустякам.
– Здорово, Том, – сказал Эд. – Говорят, тебя назначили преступником.
– Да, назначили, – сказал Том. – Налей-ка мне перриколы.
Эд Пиво нацедил Тому безалкогольного напитка из корнеплодов и беспокойно потоптался перед столиком, за которым устроился Том.
– Как же это так, почему ты сидишь здесь, вместо того чтобы красть?
– Я обдумываю, – сказал Том. – В моем ордере сказано, что я должен околачиваться в пользующихся дурной славой местах. Вот я и сижу здесь.
– Ну, хорошо ли это с твоей стороны? – грустно спросил Эд Пиво. – Разве моя таверна пользуется дурной славой, Том?
– Хуже еды, чем у тебя, не сыщешь во всей деревне, –
пояснил Том.
– Я знаю. Моя старуха не умеет стряпать. Но у нас здесь все по-доброму, по-семейному. И людям нравится заглядывать к нам.
– Теперь все будет по-другому, Эд. Я объявляю твою таверну моей штаб-квартирой.
Плечи Эда Пиво уныло поникли.
– Вот и старайся доставить людям удовольствие, –
пробормотал он. – Они уж тебя так отблагодарят! – Он вернулся за стойку.
Том продолжал размышлять.
Прошел час. Ричи Фермер, младший сынишка Джеда, заглянул в дверь.
– Ты уже стащил что-нибудь, Том?
– Нет пока, – отвечал Том, сгорбившись над столом и все еще стараясь думать.
Знойный день тихо угасал. Вечер начал понемногу заглядывать в маленькие, не слишком чистые окна таверны.
На улице застрекотали сверчки, и первый ночной ветерок прошелестел верхушками деревьев в лесу.
Грузный Джордж Паромщик и Макс Ткач зашли пропустить по стаканчику глявы. Они присели к столику Тома.
– Ну, как дела? – осведомился Джордж Паромщик.
– Плоховато, – сказал Том. – Никак что-то не получается у меня с этим воровством.
– Ничего, ты еще освоишься, – как всегда неторопливо, серьезно и важно заметил Джордж Паромщик. – Уж ктокто, а ты научишься.
– Мы в тебя верим, Том, – успокоил его Ткач.
Том поблагодарил их. Они выпили и ушли. Том продолжал размышлять, уставившись на пустой стакан. Час спустя Эд Пиво смущенно кашлянул.
– Ты меня прости, Том, но когда же ты начнешь красть?
– Вот сейчас и начну, – сказал Том.
Он поднялся, проверил, на месте ли у него оружие, и направился к двери.
На рыночной площади уже шел обычный вечерний меновой торг, и товар грудами лежал на лотках или на соломенных циновках, разостланных на траве. Обмен производился без денег, и обменного тарифа не существовало.
За пригоршню самодельных гвоздей можно было получить ведерко молока или двух рыб или наоборот – в зависимости от того, что кому хотелось променять или в чем у кого возникла нужда. Подсчитывать, что сколько стоит, –
этим никто себя не утруждал. Это был единственный земной обычай, который мэру никак не удавалось ввести в деревне.
Когда Том Рыбак появился на площади, его приветствовали все.
– Воруешь понемногу, а, Том?
– Валяй, валяй, приятель!
– У тебя получится!
Ни одному жителю деревни еще не доводилось присутствовать при краже, и им очень хотелось поглядеть, как это делается. Все бросили свои товары и устремились за
Томом, жадно следя за каждым его движением.
Том обнаружил, что у него дрожат руки. Ему совсем не нравилось, что столько народу будет смотреть, как он станет красть. Надо поскорее покончить с этим, решил он.
Пока у него еще хватает духу.
Он внезапно остановился перед грудой фруктов, наваленной на лотке миссис Мельник.
– Довольно сочные как будто, – небрежно проронил он.
– Свеженькие, прямо из сада, – сказала миссис Мельник. Это была маленькая старушка с блестящими глазками. Тому вдруг припомнилось, как она вела нескончаемые беседы с его матерью в те далекие годы, когда его родители были еще живы.
– Да, очень сочные с виду, – сказал он, жалея, что не остановился у какого-нибудь другого лотка.
– Хорошие, хорошие, – сказала миссис Мельник. –
Только сегодня после обеда собирала.
– Он сейчас начнет красть? – отчетливо прозвучал чейто шепот.
– Ясное дело. Следи за ним! – так же шепотом раздалось в ответ.
Том взял большой зеленый плод и принялся его рассматривать. Толпа затаила дыхание.
– И правда, очень сочный на вид, – сказал Том и осторожно положил плод на место.
Толпа вздохнула.
За соседним лотком стоял Макс Ткач с женой и пятью ребятишками. Сегодня они вынесли на обмен два одеяла и рубашку. Когда Том, за которым двигалась целая толпа, подошел к ним, они застенчиво заулыбались.
– Эта рубашка как раз тебе впору, – поспешил заверить его Ткач. Ему очень хотелось, чтобы народ разошелся и не мешал Тому работать.
– Хм, – промычал Том, беря рубашку.
Толпа выжидающе зашевелилась. Какая-то девчонка нервно хихикнула. Том крепко вцепился в рубашку и начал развязывать свою торбу.
– Постой-ка! – Билли Маляр протолкался сквозь толпу.
На поясе у него уже поблескивала бляха – старая монета с
Земли. Выражение его лица безошибочно свидетельствовало о том, что он находится при исполнении служебных обязанностей.
– Что ты делаешь с этой рубашкой, Том? – спросил
Билли.
– Я?.. Просто взял поглядеть.
– Просто взял поглядеть, вот как? – Билли отвернулся, заложив руки за спину. Затем стремительно повернулся на каблуках и уставил на Тома негнущийся указательный палец. – А мне думается, что ты не просто взял ее поглядеть, Том. Мне думается, что ты собирался ее украсть!
Том ничего не ответил. Уличающая его торба была беспомощно зажата у него в руке, в другой руке он держал рубашку.
– Мой долг как начальника полиции, – продолжал
Билли, – охранять этих людей. Ты, Том, подозрительный субъект. Я считаю необходимым на всякий случай запереть тебя пока что в тюрьму для дальнейшего расследования. Том понурил голову. Этого он не ожидал. А впрочем, ему было все равно.
Если его упрячут в тюрьму, с этим по крайней мере будет покончено. А когда Билли его выпустит, он сможет вернуться к своей рыбной ловле.
Внезапно сквозь толпу пробился мэр; подол рубахи развевался вокруг его объемистой талии.
– Билли! Ты что это делаешь?
– Исполняю свой долг, мэр. Том тут вел себя как-то подозрительно. А в книгах говорится…
– Я знаю, что говорится в книгах, – сказал мэр. – Я сам дал тебе эту книгу. Ты не можешь арестовать Тома. Пока еще нет.
– Так ведь у нас же в деревне нет другого преступника,
– сокрушенно сказал Билли.
– А я чем виноват? – сказал мэр. Билли упрямо поджал губы.
– В книге говорится, что полиция должна принимать предупредительные меры. Полагается, чтобы я мешал преступлению совершиться.
Мэр устало всплеснул руками.
– Билли, неужели ты не понимаешь? Нашей деревне необходимо иметь хоть какое-нибудь преступление на своем счету. И ты тоже должен нам в этом помочь.
Билли пожал плечами.
– Ладно, мэр. Я просто хотел исполнить свой долг. –
Он отвернулся, шагнув в сторону, затем внезапно устремился к Тому. – А ты мне еще попадешься! Запомни: преступление не доводит до добра. – Он зашагал прочь.
– Больно уж ему хочется отличиться, – объяснил мэр. –
Не обращай на него внимания, Том. Давай принимайся за дело, укради что-нибудь. Надо с этим кончать.
Том не отвечал и бочком протискивался сквозь толпу, держа курс на зеленый лес за околицей деревни.
– Ты куда, Том? – с тревогой спросил мэр.
– Я сегодня еще не в настроении воровать, – сказал
Том. – Может, завтра вечером…
– Нет, Том, сейчас, – настаивал мэр. – Нельзя так без конца тянуть с этим делом. Давай начинай, мы все тебе поможем.
– Конечно, поможем, – сказал Макс Ткач. – Ты укради эту рубашку, Том. Она же тебе как раз впору.
– А вот хороший кувшин для воды, гляди, Том!
– Смотри, сколько у меня тут орехов!
Том окинул взглядом лотки. Когда он потянулся за рубашкой Ткача, нож вывалился у него из-за пояса и упал на землю. В толпе сочувственно захихикали.
Том, покрываясь испариной и чувствуя, что он выглядит разиней, водворил нож на место. Он протянул руку, схватил рубашку и засунул ее в свою торбу. В толпе раздались одобрительные возгласы.
Том робко улыбнулся, и у него немного отлегло от сердца.
– Кажется, я помаленьку свыкнусь с этим делом.
– Еще как свыкнешься!
– Мы знали, что ты справишься!
– Укради еще что-нибудь, дружище!
Том прошелся по рынку, прихватил кусок веревки, пригоршню орехов и плетеную шляпу из травы.
– По-моему, хватит, – сказал он мэру.
– На сегодня достаточно, – согласился мэр. – Только это, ты ведь сам понимаешь, в счет не идет. Это все равно, как если б люди сами тебе все отдали. Ты пока что вроде как практиковался.
– О-о! – разочарованно протянул Том.
– Но теперь ты знаешь, как это делается. В следующий раз тебе будет совсем легко.
– Может быть.
– И смотри не забудь про убийство.
– А это в самом деле необходимо? – спросил Том.
– К сожалению, – сказал мэр. – Ну что поделаешь, наша колония существует уже свыше двухсот лет, а у нас еще не было ни одного убийства. Ни единого. А если верить летописям, во всех остальных колониях людей убивали почем зря!
– Ладно, я постараюсь, – согласился Том.
Он направился домой. Толпа проводила его одобрительными возгласами.
Дома Том зажег фитильную лампу и приготовил ужин.
Поев, он долго сидел в глубоком кресле. Он был недоволен собой. Нескладно у него получилось с этой кражей.
Целый день он только и делал, что тревожился и колебался. Людям пришлось чуть ли не насильно совать ему в руки свои вещи, чтобы он в конце концов отважился их украсть.
Какой же он после этого вор?!
А что он может сказать в свое оправдание? Если он никогда еще этим не занимался и никак не может взять в толк, зачем это нужно, – это еще не причина, чтобы делать порученное тебе дело тяп-ляп.
Том направился к двери. Была дивная, ясная ночь.
Около дюжины ближайших звезд-гигантов ослепительно сверкали в небе. Рыночная площадь снова опустела, и в домах затеплились огоньки.
Теперь самое время красть!
При мысли об этом по спине у него пробежала дрожь.
Он испытывал горделивое чувство. Вот как зреют преступные замыслы! Так должно совершаться и воровство –
украдкой, под покровом глубокой ночи.
Том быстро проверил свое оружие, высыпал награбленное из торбы и вышел во двор.
На улице последние фитильные фонари были уже погашены. Том бесшумно пробирался через деревню. Он подошел к дому Роджера Паромщика. Большой Роджер оставил свою лопату снаружи, прислонив ее к стене дома.
Том взял лопату. Он миновал еще несколько домов. Кувшин для воды, принадлежавший миссис Ткач, стоял на своем обычном месте, перед дверью. Том взял кувшин. На обратном пути ему попалась маленькая деревянная лошадка, забытая кем-то из детей на улице. Лошадка последовала за кувшином и лопатой.
Благополучно доставив награбленное домой, Том был приятно взволнован. Он решил совершить еще один набег.
На этот раз он возвратился с бронзовой дощечкой, снятой с дома мэра, с самой лучшей пилой Марва Плотника и серпом, принадлежавшим Джеду Фермеру.
– Недурно, – сказал себе Том. Еще один улов, и можно считать, что ночь не пропала даром.
На этот раз под навесом у Рона Каменщика он нашел молоток и стамеску, а возле дома Элис Поварихи подобрал плетеную камышовую корзину. Он уже собирался прихватить еще грабли Джефа Хмеля, когда услышал какой-то легкий шум. Он прижался к стене.
Билли Маляр тихонько крался по улице; его металлическая бляха поблескивала в свете звезд. В одной руке у него была зажата короткая тяжелая дубинка, в другой –
пара самодельных наручников. В ночном полумраке лицо его выглядело зловеще. На нем была написана решимость любой ценой искоренить преступление, что бы это слово ни означало.
Том затаил дыхание, когда Билли Маляр прокрался в десяти шагах от него. Том тихонечко попятился назад. Награбленная добыча звякнула в торбе.
– Кто здесь? – зарычал Билли. Не получив ответа, он начал медленно оборачиваться, впиваясь взглядом в темноту. Том снова распластался у стены. Он был уверен, что
Билли его не заметит. У Билли было слабое зрение, потому что ему приходилось все время смешивать краски и пыль попадала ему в глаза.
– Это ты, Том? – самым дружелюбным тоном спросил
Билли. Том хотел уже было ответить, но тут он заметил, что дубинка Билли занесена у него над головой. Он замер.
– Я еще до тебя доберусь! – рявкнул Билли.
– Слушай! Доберись до него утром! – крикнул Джеф
Хмель, высовываясь из окна своей спальни. – Тут коекому из нас хотелось бы поспать.
Билли двинулся дальше. Когда он скрылся из глаз, Том поспешил домой и выгрузил добычу на пол, рядом с остальными трофеями. Вид награбленного добра пробудил в нем сознание исполненного долга.
Подкрепившись стаканом холодной глявы, Том улегся в постель и мгновенно погрузился в глубокий мирный сон, не отягощенный никакими сновидениями.
На следующее утро Том пошел поглядеть, как подвигается строительство маленького красного школьного здания. Братья Плотники трудились над ним вовсю; кое-кто из крестьян помогал им.
– Как работка? – весело окликнул их Том.
– Отлично, – сказал Марв Плотник. – И спорилась бы еще лучше, будь у меня моя пила.
– Твоя пила? – недоумевающе повторил Том.
И тут же вспомнил – ведь это он украл ее ночью. Он как-то не воспринимал ее тогда как вещь, которая кому-то принадлежит. Пила, как и все остальное, была просто предметом, который надлежало украсть. Том ни разу не подумал о том, что этими предметами пользуются, что они могут быть кому-то нужны.
Марв Плотник спросил:
– Как ты считаешь, могу я взять обратно свою пилу на время? Часика на два?
– Я что-то не знаю, – сказал Том, нахмурившись. – Она ведь юридически украдена, ты сам понимаешь.
– Конечно, я понимаю. Да мне бы только одолжить ее на время…
– Но тебе придется отдать ее обратно.
– А то как же! Ясное дело, я ее верну, – возмущенно сказал Марв. – Стану я держать у себя то, что юридически украдено.
– Она у меня дома, вместе со всем награбленным.
Марв поблагодарил его и побежал за пилой.
Том не спеша пошел прогуляться по деревне. Он подошел к дому мэра. Мэр стоял во дворе и глядел на небо.
– Стащил мою медную дощечку, Том? – спросил он.
– Конечно, стащил, – вызывающе ответил Том.
– О! Я просто поинтересовался. – Мэр показал на небо:
– Вон видишь?
Том поглядел на небо.
– Где?
– Видишь черную точку рядом с маленьким солнцем?
– Вижу. Ну и что?
– Головой ручаюсь, что это летит к нам инспектор. Как у тебя дела?
– Хорошо, – несколько неуверенно сказал Том.
– Уже разработал план убийства?
– Тут у меня неувязка получается, – признался Том. –
Правду сказать, не двигается у меня это дело.
– Зайдем-ка в дом. Мне надо поговорить с тобой, Том.
В прохладной, затемненной ставнями гостиной мэр налил два стакана глявы и пододвинул Тому стул.
– Наше время истекает, – мрачно сказал мэр. – Инспектор может теперь прибыть в любую минуту. А у меня хлопот полон рот. – Он показал на межпланетное радио. –
Оно опять говорило. Что-то насчет того, что колонии должны быть готовы провести мобилизацию – шут его знает, что это еще такое. Как будто у меня без того мало забот.
Он сурово поглядел на Тома.
– А вы точно знаете, что без убийства нам никак нельзя обойтись?
– Ты сам знаешь, что нельзя, – сказал мэр, – убийство –
единственное, в чем мы проявляем отсталость.
Вошел Билли Маляр, в новой форменной синей рубахе с блестящими металлическими пуговицами, и плюхнулся на стул.
– Убил уже кого-нибудь, Том?
Мэр сказал:
– Он хочет знать, так ли это необходимо.
– Разумеется, необходимо, – сказал начальник полиции. – Прочти любую книгу.
– Кого ты думаешь убить, Том? – спросил мэр.
Том беспокойно заерзал на стуле. Нервно хрустнул пальцами.
– Ну?
– Ладно, я убью Джефа Хмеля, – выпалил Том.
Билли Маляр быстро нагнулся вперед.
– Почему? – спросил он.
– Почему? А почему бы и нет?
– Какие у тебя мотивы?
– Я так считал, что вам просто нужно, чтобы было убийство, – возразил Том. – Никто ничего не говорил о мотивах.
– Липовое убийство нам не годится, – пояснил начальник полиции. – Убийство должно быть совершено по всем правилам. А это значит, что у тебя должен быть основательный мотив.
Том задумался.
– Ну, я, например, не очень-то близко знаю Джефа.
Достаточный это мотив?
Мэр покачал головой:
– Нет, Том, это не годится. Лучше выбери кого-нибудь другого.
– Давайте подумаем, – сказал Том. – А если Джорджа
Паромщика?
– А какие мотивы? – немедленно спросил Билли.
– Ну… хм… Мне, признаться, очень не нравится его походка. Давно уже не нравится. И шумный он какой-то бывает… иногда.
Мэр одобрительно кивнул.
– Это, пожалуй, подходит. Что ты скажешь, Билли?
– Как, по-вашему, могу я раскрыть преступление, совершенное по таким мотивам? – сердито спросил Билли –
Нет, это еще годилось бы, если бы ты убил его в состоянии умоисступления. Но ты же должен убить по всем правилам, Том. И должен отвечать характеристике: хладнокровный, безжалостный, коварный убийца. Ты не можешь убить кого-то только потому, что тебе не нравится его походка. Это звучит глупо.
– Пожалуй, мне надо еще раз хорошенько все обдумать, – сказал Том вставая.
– Только думай не слишком долго, – сказал мэр. – Чем скорее с этим будет покончено, тем лучше.
Том кивнул и направился к двери.
– Да, Том! – крикнул Билли. – Не забудь оставить улики. Это очень важно.
– Ладно, – сказал Том и вышел.
Почти все жители деревни стояли на улице, глядя на небо. Черная точка уже почти совсем закрыла собой маленькое солнце.
Том направился в пользующийся дурной славой притон, чтобы все продумать до конца. Эд Пиво, повидимому, пересмотрел свое отношение к преступным элементам. Он переоборудовал таверну. Появилась большая вывеска, гласившая:
ЛОГОВО ПРЕСТУПНИКА
Окна были задрапированы новыми, добросовестно перепачканными грязью занавесками, затруднявшими доступ дневному свету и делавшими таверну поистине мрачным притоном. На одной стене висело наспех вырезанное из дерева всевозможное оружие. На другой стене большая кроваво-красная клякса производила весьма зловещее впечатление, хотя Том и видел, что это всего-навсего краска, которую Билли Маляр приготавливает из ягод руты.
– Входи, входи, Том, – сказал Эд Пиво и повел гостя в самый темный угол. Том заметил, что в эти часы в таверне никогда не бывало столько народу. Людям, как видно, пришлось по душе, что они попали в настоящее логово преступника.
Потягивая перри-колу, Том принялся размышлять.
Он должен совершить убийство.
Он достал свой ордер и прочел его еще раз от начала до конца. Скверная штука, никогда бы он по доброй воле за такое не взялся, но закон обязывает его выполнить свой долг.
Том выпил перри-колу и постарался сосредоточиться на убийстве. Он сказал себе, что должен кого-нибудь убить. Должен лишить кого-нибудь жизни. Должен отправить кого-нибудь на тот свет.
Но, что бы он себе ни говорил, это не выражало существа дела. Это были слова, и все. Чтобы привести в порядок свои мысли, Том решил взять для примера здоровенного рыжеволосого Марва Плотника. Сегодня Марв, получив напрокат свою пилу, строит школьное здание. Если
Том убьет Марва… Ну, тогда Марв не будет больше строить. Нет, ему все никак не удавалось осознать это до конца.
Ну, ладно. Вот, значит, Марв Плотник – самый здоровенный и, по мнению многих, самый славный из всех ребят Плотников. Вот он стругает доску, прищурившись, крепко ухватив рубанок веснушчатой рукой.
А теперь…
Марв Плотник, опрокинутый навзничь, лежит на земле; остекленелые глаза его полуоткрыты, он не дышит, сердце у него не бьется. Никогда уже больше не будет он сжимать кусок дерева в своих больших веснушчатых руках…
На какой-то миг Том вдруг всем своим нутром ощутил, что такое убийство. Видение исчезло, но воспоминание о нем осталось – оно было настолько ярко, что Том почувствовал легкую дурноту.
Он мог жить, совершив кражу. Но убийство, даже с самыми благими намерениями, в интересах деревни…
Что скажут люди, когда они увидят то, что ему сейчас померещилось? Как тогда ему жить среди них? Как примириться с самим собой?
И тем не менее он должен убить. Каждый житель деревни вносит свою лепту, а это дело выпало на его долю.
Но кого же ему убить?
Переполох начался несколько позже, когда межпланетное радио сердито загремело на разные голоса.
– Это и есть колония? Где ваша столица?
– Вот она, – сказал мэр.
– Где ваш аэродром?
– У нас там, кажется, теперь сделали выгон, – сказал мэр. – Я могу проверить по книгам, где тут прежде был аэродром. Ни один воздушный корабль не опускался здесь уже свыше…
– В таком случае главный корабль будет оставаться в воздухе. Соберите ваших представителей. Я приземляюсь.
Вся деревня собралась вокруг открытого поля, которое инспектор избрал для посадки. Том засунул за пояс свое оружие, укрылся за деревом и стал наблюдать.
Маленький воздушный кораблик отделился от большого и быстро устремился вниз. Он камнем падал на поле, и деревня затаила дыхание, ожидая, что он сейчас разобьется. Но в последнее мгновение кораблик выпустил огненные струи, которые выжгли всю траву, и плавно опустился на грунт.
Мэр, работая локтями, протискался вперед; за ним спешил Билли Маляр. Дверца корабля отворилась, и появилось четверо мужчин. Они держали в руках блестящие металлические предметы, и Том понял, что это оружие.
Следом за ними из корабля вышел дородный краснолицый мужчина, одетый в черное, с четырьмя блестящими медалями на груди. Его сопровождал маленький человечек с морщинистым лицом, тоже в черном. За ними последовало еще четверо облаченных в одинаковую форму людей.
– Добро пожаловать в Новый Дилавер, – сказал мэр.
– Благодарю вас, генерал, – сказал дородный мужчина, энергично тряхнув руку мэра. – Я – инспектор Дилумейн.
А это – мистер Грент, мой политический советник.
Грент кивнул мэру, делая вид, что не замечает его протянутой руки. С выражением снисходительного отвращения он окинул взглядом собравшихся дилаверцев.
– Мы бы хотели осмотреть деревню, – сказал инспектор, покосившись на Грента. Грент кивнул. Одетая в мундиры стража замкнула их в полукольцо.
Том, крадучись, как заправский злодей, и держась на безопасном расстоянии, последовал за ними. Когда они добрались до деревни, он спрятался за домом и продолжал свои наблюдения.
Мэр с законной гордостью показывал тюрьму, почту, церковь и маленькое красное школьное здание. Инспектор, казалось, был несколько озадачен. Мистер Грент противно улыбался и скреб подбородок.
– Так я и думал, – сказал он инспектору. – Пустая трата времени, горючего и ненужная амортизация линейного крейсера. Здесь нет абсолютно ничего ценного.
– Я не вполне в этом уверен, – сказал инспектор. Он повернулся к мэру: – Но для чего вы все это построили, генерал?
– Как? Для того чтобы быть настоящими землянами, –
отвечал мэр. – Вы видите, мы делаем все, что в наших силах. Мистер Грент прошептал что-то на ухо инспектору.
– Скажите, – обратился инспектор к мэру, – сколько у вас тут молодых мужчин в вашей деревне?
– Прошу прощения?. – растерянно переспросил мэр.
– Сколько у вас имеется молодых мужчин в возрасте от пятнадцати до шестидесяти лет, – пояснил мистер
Грент.
– Нам нужны люди для космической пехоты, – сказал инспектор. – Крепкие, здоровые, боеспособные мужчины.
Мы убеждены, что не услышим от вас отказа.
– Разумеется, нет, – сказал мэр. – Конечно, нет. Я уверен, что все наши молодые люди будут рады… Они, правда, не особо большие специалисты по этой части, но зато очень смышленые ребята. Научатся быстро, я полагаю.
– Вот видите? – сказал инспектор, обращаясь к мистеру Гренту. – Шестьдесят, семьдесят, а быть может, и сотня рекрутов. Не такая уж потеря времени, оказывается.
Но мистер Грент по-прежнему был настроен скептически. Инспектор вместе со своим советником направился в дом мэра, чтобы немного подкрепиться. Их сопровождало четверо солдат. Остальные четверо прошлись по деревне, не пренебрегая ничем, что попадало под руку.
Том укрылся в ближайшем лесочке, чтобы все основательно обдумать. В сумерках миссис Эд Пиво, пугливо озираясь по сторонам, вышла за околицу. Миссис Эд Пиво была тощая, начинающая седеть блондинка средних лет.
Невзирая на свое подагрическое колено, она двигалась очень проворно. В руках у нее была корзина, покрытая красной клетчатой салфеткой.
– Я принесла тебе обед, – сказала она, как только увидела Тома.
– Вот как?.. Спасибо, – сказал Том, опешив от удивления. – Ты совсем не обязана это делать.
– Как это не обязана? Ведь это наша таверна – место, пользующееся дурной славой, где тебе надлежит укрываться от закона? Разве не так? Значит, мы за тебя отвечаем и должны о тебе заботиться. Мэр велел тебе кое-что передать.
Том с набитым ртом поглядел на миссис Эд Пиво.
– Что еще?
– Он сказал, чтобы ты поторопился с убийством. Он пока что водит за нос инспектора и этого противного карлика – Грента. Но рано или поздно они с него спросят. Он в этом уверен.
Том кивнул.
– Когда ты это сделаешь, Том? – Миссис Пиво поглядела на него, склонив голову набок.
– Я не должен тебе говорить, – сказал Том.
– Как так не должен! Я же твоя преступная сообщница! – Миссис Пиво придвинулась ближе.
– Да, это верно, – задумчиво согласился Том. – Ладно, я собираюсь сделать это сегодня, когда стемнеет. Передай
Билли Маляру, что я оставлю все отпечатки пальцев, какие только у меня получатся, и разные прочие улики.
– Ладно, Том, – сказала миссис Пиво. – Бог в помощь.
Том дожидался наступления темноты, а пока что наблюдал за происходящим в деревне. Он видел, что почти все солдаты напились пьяными. Они разгуливали по деревне с таким видом, словно, кроме них, никого больше не существовало на свете. Один из солдат выстрелил в воздух и напугал всех маленьких, пушистых, питающихся травой зверьков на много миль в окружности.
Инспектор и мистер Грент все еще оставались в доме мэра.
Наступила ночь. Том пробрался в деревню и притаился в узком проулочке между двумя домами. Он вытащил изза пояса нож и стал ждать.
Кто-то шел по дороге. Человек приближался. Фигура его неясно маячила во мраке.
– А, это ты, Том! – сказал мэр. Он поглядел на нож. –
Что ты тут делаешь?
– Вы сказали, что нужно кого-нибудь убить, вот я и…
– Я не говорил, что меня, – сказал мэр, пятясь назад. –
Меня нельзя.
– Почему нельзя? – спросил Том.
– Ну, во-первых, кто-то должен принимать инспектора.
Он ждет меня. Нужно показать ему…
– Это может сделать и Билли Маляр, – сказал Том. Он ухватил мэра за ворот рубахи и занес над ним нож, нацелив острие в горло. – Лично я, конечно, ничего против вас не имею, – добавил он.
– Постой! – закричал мэр. – Если ты ничего не имеешь
лично, значит, у тебя нет мотива!
Том опустил нож, но продолжал держать мэра за ворот.
– Что ж, я могу придумать какой-нибудь мотив. Я, например, был очень зол, когда вы назначили меня преступником.
– Так ведь это мэр тебя назначил, верно?
– Ну да, а то кто же…
Мэр потащил Тома из темного закоулка на залитую светом звезд улицу.
– Гляди!
Том разинул рот. На мэре были длинные штаны с острой, как лезвие ножа, складкой и мундир, сверкающий медалями. На плечах – два ряда звезд, по десять штук в каждом. Его головной убор, густо расшитый золотым галуном, изображал летящую комету.
– Ты видишь, Том? Я теперь уже не мэр. Я – Генерал!
– Какая разница? Человек-то вы тот же самый.
– Только не с формальной точки зрения. Ты, к сожалению, пропустил церемонию, которая состоялась после обеда. Инспектор заявил, что, раз я теперь официально произведен в генералы, мне следует носить генеральский мундир. Церемония протекала в теплой, дружеской обстановке. Все прилетевшие с Земли улыбались и подмигивали мне и друг другу.
Том снова взмахнул ножом с таким видом, словно собирался выпотрошить рыбу.
– Поздравляю, – с неподдельной сердечностью сказал он, – но ведь вы были мэром, когда назначили меня преступником, значит, мой мотив остается в силе.
– Так ты уже убиваешь не мэра. Ты убиваешь генерала! А это уже не убийство.
– Не убийство? – удивился Том.
– Видишь ли, убийство Генерала – это уже мятеж!
– О! – Том опустил нож. – Прошу прощения.
– Ничего, все в порядке, – сказал мэр. – Вполне простительная ошибка. Просто я прочел об этом в книгах, а ты – нет. Тебе это ни к чему. – Он глубоко, с облегчением вздохнул. – Ну, мне, пожалуй, надо идти. Инспектор просил составить ему список новобранцев
Том крикнул ему вдогонку:
– Вы уверены, что я непременно должен кого-нибудь убить?
– Уверен! – ответил мэр, поспешно удаляясь. – Но только не меня!
Том снова сунул нож за пояс.
Не меня, не меня! Каждый так скажет. Убить самого себя он не мог. Это же самоубийство и, значит, будет не в счет.
Тома пробрала дрожь. Он старался забыть о том, как убийство на мгновение предстало перед ним во всей своей реальности. Дело должно быть сделано.
Приближался еще кто-то!
Человек подходил все ближе. Том пригнулся, мускулы его напряглись, он приготовился к прыжку.
Появилась миссис Мельник. Она возвращалась домой с рынка и несла сумку с овощами.
Том сказал себе, что это не имеет значения – миссис
Мельник или кто-нибудь другой. Но он никак не мог отогнать от себя воспоминания о ее беседах с его покойной матерью. Получилось, что у него нет никаких мотивов убивать миссис Мельник.
Она прошла мимо, не заметив его.
Он ждал еще минут тридцать. В темном проулочке между домами опять появился кто-то. Том узнал Макса
Ткача.
Макс всегда нравился Тому. Но это еще не означало, что у Тома не может быть мотива убить Макса. Однако ему решительно ничего не приходило на ум, кроме того, что у Макса есть жена и пятеро ребятишек, которые очень его любят и очень будут по нему горевать. Он отступил поглубже в тень и позволил Максу благополучно пройти мимо.
Появились трое братьев Плотников. С ними у Тома было связано слишком мучительное воспоминание. Он дал им пройти мимо. Следом за ними шел Роджер Паромщик.
У Тома не было никакой причины убивать Роджера, но и дружить они особенно никогда не дружили. К тому же у
Роджера не было детей, а его жена не сказать чтоб слишком была к нему привязана. Может, всего этого уже будет достаточно для Билли Маляра, чтобы вскрыть мотивы убийства?
Том понимал, что этого недостаточно… И что со всеми остальными жителями деревни у него получится то же самое. Он вырос среди этих людей, делил с ними пищу и труд, горести и радости. Какие, в сущности, могут у него быть мотивы, чтобы убивать кого-нибудь из них?
А убить он должен. Этого требует выданный ему ордер. Нельзя же обмануть доверие односельчан.
«Постой-ка! – внезапно в сильном волнении подумал он. – Можно ведь убить инспектора!»
Мотивы? Да это будет даже более чудовищное злодеяние, чем убить мэра… Конечно, мэр теперь еще и генерал, но ведь это уже был бы всего-навсего мятеж. Да если бы даже мэр по-прежнему оставался только мэром, инспектор куда более солидная жертва. Том совершит это убийство ради славы, ради подвига, ради величия! Это убийство покажет Земле, насколько верна земным традициям ее колония. И на Земле будут говорить: «На Новом Дилавере преступность приняла такие размеры, что появляться там небезопасно. Какой-то преступник просто-напросто взял да и убил нашего инспектора в первый же день его прибытия туда! Во всей Вселенной едва ли сыщется еще один столь страшный убийца!»
Это, несомненно, будет самое эффектное убийство, какое он только может совершить, думал Том. Убийство, которое под стать лишь настоящему знатоку своего дела.
Впервые ощутив прилив гордости, Том поспешил к дому мэра. До него долетели обрывки разговора, который шел внутри.
– …весьма пассивный народ, – говорил мистер Грент.
– Я бы даже сказал, робкий.
– Довольно-таки унылое качество, – заметил инспектор. – Особенно в солдатах.
– А чего вы ожидали от этих отсталых земледельцев?
Хорошо еще, что мы завербовали здесь немного солдат. –
Мистер Грент оглушительно зевнул. – Стража, смирно!
Мы возвращаемся на корабль.
Стража! Том совершенно про нее позабыл. Он с сомнением поглядел на свой нож. Если он бросится на инспектора, стража, несомненно, успеет его схватить, прежде чем он совершит убийство. Их, верно, специально этому обучают.
Вот если бы у него было такое оружие, как у них…
Из дома донесся звук шагов. Том поспешно пошел дальше по улице.
Возле рынка он увидел пьяного солдата, который сидел на крылечке и что-то напевал себе под нос. У ног его валялись две пустые бутылки, оружие небрежно висело на плече.
Том подкрался ближе, вытащил свою дубинку, замахнулся…
Его тень, по-видимому, привлекла внимание солдата.
Он вскочил, пригнулся и успел увернуться от удара дубинки. Он ударил Тома прикладом под ребра, вскинул винтовку к плечу и прицелился. Том зажмурился и прыгнул, лягнув его обеими ногами. Удар пришелся солдату в колено и опрокинул его навзничь. Прежде чем он успел подняться, Том огрел его дубинкой.
Том пощупал у солдата пульс (не было смысла убивать кого попало) и нашел его вполне удовлетворительным. Он взял винтовку, проверил, где что надо нажимать, и пошел разыскивать инспектора.
Он нагнал его на полпути к посадочной площадке. Инспектор и Грент шли впереди, позади них ковыляли солдаты. Том шел, прячась за кустами. Он бесшумно догонял процессию, пока не поравнялся с Грентом и с инспектором. Том прицелился, но палец его застыл на спусковом крючке…
Ему не хотелось убивать еще и Грента. Ведь предполагалось, что он должен совершить только одно убийство.
Том припустил вперед, опередил инспектора и, выйдя на дорогу, преградил ему путь. Его оружие было направлено прямо на инспектора.
– Что это такое? – спросил инспектор.
– Стойте смирно, – сказал ему Том. – Все остальные бросьте оружие и отойдите с дороги.
Солдаты повиновались, как сомнамбулы. Один за другим они побросали оружие и отступили к кустам у обочины. Грент остался на месте.
– Что это ты задумал, малый? – спросил он.
– Я городской преступник, – горделиво отвечал Том. –
Я хочу убить инспектора. Пожалуйста, отойдите в сторону.
– Преступник? Так вот о чем лопотал ваш мэр!
– Я знаю, что у нас уже двести лет не было ни одного убийства, – пояснил Том, – но сейчас я это исправлю.
Прочь с дороги!
Грент прыгнул в сторону от наведенного на него дула.
Инспектор остался один. Он стоял, легонько пошатываясь.
Том прицелился, стараясь думать о том, какой эффект произведет это убийство, и о его общественном значении.
Но он видел инспектора простертым на земле, с остановившимся взглядом широко открытых глаз, с переставшим биться сердцем.
Он старался заставить свой палец нажать на спусковой крючок. Мозг мог сколько угодно убеждать его в том, как общественно необходимо преступление, – рука знала лучше.
– Я не могу! – выкрикнул Том.
Он бросил оружие и прыгнул в кусты.
Инспектор хотел отрядить людей на розыски Тома и повесить его на месте. Но мистер Грент был с ним не согласен. Новый Дилавер – лесная планета. Десять тысяч людей не найдут беглеца в этих дремучих лесах, если он не захочет попасться им в руки.
На шум прибежал мэр и еще кое-кто из жителей деревни. Солдаты образовали каре вокруг инспектора и мистера Грента. Они стояли, держа оружие наизготовку. Лица их были угрюмы и суровы.
Мэр все разъяснял. О прискорбной отсталости деревни по части преступлений. О поручении, данном Тому Рыбаку. О том, как он всех их осрамил, не сумев выполнить свой долг.
– Почему вы дали это поручение именно ему? – спросил мистер Грент.
– Видите ли, – сказал мэр, – я подумал, что если уж кто-нибудь из нас способен убить, так только Том. Он, понимаете ли, рыбак. Это довольно-таки кровавое занятие.
– Значит, все остальные у вас также не способны убивать?
– Никому из нас никогда бы не зайти так далеко, как зашел Том, – с грустью признался мэр.
Инспектор и мистер Грент переглянулись, потом поглядели на солдат. Солдаты с почтительным изумлением взирали на жителей деревни и начали негромко переговариваться друг с другом.
– Смирно! – зарычал инспектор. Он обернулся к Гренту и сказал, понизив голос: – Надо, пока не поздно, поскорее убираться отсюда. Люди, не умеющие убивать…
– Опасная зараза… – весь дрожа, пробормотал мистер
Грент. – Один такой человек, если он не в состоянии выстрелить из винтовки, может в ответственный момент поставить под удар весь корабль… Быть может, даже целую эскадрилью… Нет, так рисковать нельзя.
Они приказали солдатам вернуться на корабль. Солдаты шагали ленивее, чем обычно, и то и дело оборачивались, чтобы поглядеть на деревню. Они продолжали перешептываться, невзирая на то, что инспектор рычал и сыпал приказами.
Маленький воздушный корабль взмыл вверх, исторгнув из себя целый шквал струй. Через несколько минут его поглотил большой корабль. А затем и большой корабль скрылся из виду.
Огромное водянисто-красное солнце уже касалось края горизонта.
– Ты можешь теперь выйти, Том! – крикнул мэр. Том вылез из кустов, где он прятался, следя за происходящим.
– Напортачил я с этим поручением, – жалобно сказал
Том.
– Не сокрушайся, – утешил его Билли Маляр. – Это же невыполнимое дело.
– Похоже, что ты прав, – сказал мэр, когда они шагали по дороге, возвращаясь в деревню. – Я просто подумал –
чем черт не шутит, а вдруг ты как-нибудь справишься. Но ты не огорчайся. Никто у нас в деревне не натворил бы и половины того, что ты.
– Теперь мне, верно, это больше не понадобится, – сказал Том, протягивая свой ордер мэру.
– Да, пожалуй, – сказал мэр. Все сочувственно смотрели на него, когда он рвал ордер на мелкие куски. – Ну что ж, мы сделали, что могли. Просто не вышло.
– У меня ведь была возможность, – смущенно пробормотал Том, – а я вас всех подвел.
Билли Маляр ласково положил руку ему на плечо.
– Ты не виноват, Том. И никто из нас не виноват. Вот что получается, когда к людям двести лет не проникает цивилизация. Поглядите, сколько времени понадобилось
Земле, чтобы стать цивилизованной. Тысячи лет. А мы хотели достигнуть этого за две недели.
– Ну что ж, придется нам снова вернуться в нецивилизованное состояние, – сказал мэр, делая неуклюжую попытку пошутить.
Том зевнул, потянулся и зашагал домой, чтобы хорошенько отоспаться – наверстать упущенное. На пороге дома он взглянул на небо.
Густые, тяжелые облака собирались над головой. Близились осенние дожди. Скоро можно будет снова рыбачить.
Почему он не представил себе инспектора в виде рыбы? Теперь думать об этом было уже поздно.
Он плохо спал в эту ночь.
«ОСОБЫЙ СТАРАТЕЛЬСКИЙ»
Пескоход мягко катился по волнистым дюнам. Его шесть широких колес поднимались и опускались, как грузные крупы упряжки слонов. Невидимое солнце палило сквозь мертвенно-белую завесу небосвода, изливая свой жар на брезентовый верх машины и отражаясь от иссушенных песков.
«Только не спать», – сказал себе Моррисон, выправляя по компасу курс пескохода.
Вот уже двадцать первый день он ехал по Скорпионовой пустыне Венеры, двадцать первый день боролся со сном за рулем пескохода, который, качаясь из стороны в сторону, переваливал через одну песчаную волну за другой. Ехать по ночам было бы легче, но здесь слишком часто приходилось объезжать крутые овраги и валуны величиной с дом. Теперь он понимал, почему в пустыню направлялись по двое: один вел машину, а другой тряс его, не давая заснуть.
«Но в одиночку лучше, – напомнил себе Моррисон. –
Вдвое меньше припасов, и не рискуешь случайно оказаться убитым».
Он начал клевать носом и заставил себя рывком поднять голову. Перед ним, за поляроидным ветровым стеклом, плясала и зыбилась пустыня. Пескоход бросало и качало с предательской мягкостью. Моррисон протер глаза и включил радио.
Это был крупный, загорелый, мускулистый молодой человек, с коротко остриженными черными волосами и серыми глазами. Он наскреб двадцать тысяч долларов и приехал на Венеру, чтобы здесь, в Скорпионовой пустыне, сколотить себе состояние, как это делали уже многие до него. В Престо, последнем городке на рубеже пустыни, он обзавелся снаряжением и пескоходом, после чего у него осталось всего десять долларов.
В Престо десяти долларов ему хватило как раз на то, чтобы выпить в единственном на весь город салуне. Моррисон заказал виски с содовой, выпил с шахтерами и старателями и посмеялся над россказнями старожилов про стаи волков и эскадрильи прожорливых птиц, что водились в глубине пустыни. Он знал все о солнечной слепоте, тепловом ударе и о поломке телефона. Он был уверен, что с ним ничего подобного не случится.
Но теперь, пройдя за двадцать один день 1800 миль, он научился уважать эту безводную громаду песка и камня площадью втрое больше Сахары. Здесь и в самом деле можно погибнуть!
Но можно и разбогатеть: именно это и намеревался сделать Моррисон.
Из приемника послышалось гудение. Повернув регулятор громкости до отказа, он едва расслышал звуки танцевальной музыки из Венусборга. Потом звуки замерли, и слышно было только гудение.
Моррисон выключил радио и крепко вцепился в руль обеими руками. Разжал одну руку, взглянул на часы: девять пятнадцать утра. В десять тридцать он сделает остановку и вздремнет. В такую жару нужно отдыхать. Но не больше получаса. Где-то впереди ждет сокровище, и его нужно найти, прежде чем истощатся припасы.
Там, впереди, непременно должны быть выход, драгоценной золотоносной породы! Вот уже два дня как он напал на ее следы. А что если он наткнется на настоящую жилу, как Кэрк в восемьдесят девятом году или Эдмондсон и Арслер в девяносто третьем? Тогда он сделает то же, что сделали они: закажет «Особый старательский» коктейль, сколько бы с него ни содрали.
Пескоход катился вперед, делая неизменные тридцать миль в час, и Моррисон заставил себя внимательно вглядеться в опаленную жаром желтовато-коричневую местность. Вон тот выход песчаника точь-в-точь такого же цвета, как волосы Джейни.
Когда он доберется до богатых залежей, то вернется на
Землю. Они с Джейни поженятся и купят себе ферму в океане. Хватит с него старательства. Только бы одну богатую жилу, чтобы купить кусок глубокого синего Атлантического океана. Кое-кто может считать рыбоводство скучным занятием, но его оно вполне устраивает.
Он живо представил себе, как стада макрели пасутся в планктонных садках, а он сам со своим верным дельфином посматривает, не сверкнет ли серебром хищная барракуда и не покажется ли из-за коралловых зарослей серостальная акула…
Моррисон почувствовал, что пескоход бросило вбок.
Он очнулся, судорожно сжал руль и изо всех сил вывернул его. Пока он дремал, машина съехала с рыхлого гребня дюны. Сильно накренившись, пескоход цеплялся колесами за гребень. Песок и галька летели из-под широких колес, которые с визгом и воем начали вытягивать машину вверх по откосу.
И тут обрушился весь склон дюны.
Моррисон повис на руле. Пескоход завалился набок и покатился вниз. Песок сыпался в рот и в глаза. Отплевываясь, Моррисон не выпускал руля из рук. Потом машина еще раз перевернулась и провалилась в пустоту.
Несколько мгновений Моррисон висел в воздухе. Потом пескоход рухнул на дно сразу всеми колесами Моррисон услышал треск: это лопнули задние шины Он ударился головой о ветровое стекло и потерял сознание.
Очнувшись, он прежде всего взглянул на часы. Они показывали десять тридцать пять.
«Самое время вздремнуть, – сказал себе Моррисон. –
Но, пожалуй, лучше я сначала выясню обстановку».
Он обнаружил, что находится на дне неглубокой впадины, усыпанной острыми камешками. От удара лопнули две шины, разбилось ветровое стекло и сорвало дверцу.
Снаряжение было разбросано вокруг, но как будто оставалось невредимым.
«Могло быть и хуже», – сказал себе Моррисон.
Он нагнулся и внимательно оглядел шины.
«Оно и есть хуже», – добавил он.
Обе лопнувшие шипы были так изодраны, что починить их было уже невозможно. Оставшейся резины не хватило бы и на детский воздушный шарик. Запасные колеса он использовал еще десять дней назад, пересекая
Чертову Решетку. Использовал и выбросил. Двигаться дальше без шин он не мог.
Моррисон вытащил телефон, стер пыль с черного пластмассового футляра и набрал номер гаража Эла в Престо.
Через секунду засветился маленький видеоэкран. Он увидел длинное, угрюмое лицо, перепачканное маслом.
– Гараж Эла. Эдди у аппарата.
– Привет, Эдди. Это Том Моррисон. С месяц назад я купил у вас пескоход «Дженерал моторс». Помните?
– Конечно, помню, – ответил Эл. – Вы тот самый парень, что поехал один по Юго-Западной тропе. Ну, как ведет себя таратайка?
– Прекрасно. Машина что надо. Я вот по какому делу…
– Эй, – перебил его Эдди, – что с вашим лицом?
Моррисон провел по лбу рукой – она оказалась в крови.
– Ничего особенного, – сказал он. – Я кувыркнулся с дюны, и лопнули две шины.
Он повернул телефон, чтобы Эдди смог их разглядеть.
– Не починить, – сказал Эдди.
– Так я и думал. А запасные я истратил, когда ехал через Чертову Решетку. Послушайте, Эдди, вы не могли бы телепортировать мне пару шин? Сойдут даже реставрированные. А то мне без них не сдвинуться с места.
– Конечно, – ответил Эдди, – только реставрированных у меня нет. Я телепортирую новые по пятьсот за штуку.
Плюс четыреста долларов за телепортировку. Тысяча четыреста долларов, мистер Моррисон.
– Ладно.
– Хорошо, сэр. Если сейчас вы покажете мне наличные или чек, который отошлете вместе с распиской, я буду действовать.
– В данный момент, – сказал Моррисон, – у меня нет ни цента.
– А счет в банке?
– Исчерпан дочиста.
– Облигации? Недвижимость? Хоть что-нибудь, что можно обратить в наличные?
– Ничего, кроме этого пескохода, который вы продали мне за восемь тысяч долларов. Когда вернусь, рассчитаюсь с вами пескоходом.
– Если вернетесь. Мне очень жаль, мистер Моррисон, но ничего не выйдет.
– Что вы хотите сказать? – спросил Моррисон. – Вы же знаете, что я заплачу за шины.
– А вы знаете законы Венеры, – упрямо сказал Эдди. –
Никакого кредита! Деньги на бочку!
– Не могу же я ехать на пескоходе без шин, – сказал
Моррисон. – Неужели вы меня бросите?
– Кто это вас бросит? – возразил Эдди. – Со старателями такое случается каждый день. Вы знаете, что делать, мистер Моррисон. Позвоните в компанию «Коммунальные услуги» и объявите себя банкротом. Подпишите бумагу о передаче им остатков пескохода, снаряжения и всего, что вы нашли по дороге. Они вас выручат.
– Я не хочу возвращаться, – ответил Моррисон. –
Смотрите!
Он поднес аппарат к самой земле.
– Видите, Эдди? Видите эти красные и пурпурные крапинки? Где-то здесь лежит богатая руда!
– Следы находят все старатели, – сказал Эдди. – Проклятая пустыня полна таких следов.
– Но это богатое месторождение, – настаивал Моррисон. – Следы ведут прямо к залежам, к большой жиле. Эдди, я знаю, это очень большое одолжение, но если бы вы рискнули ради меня парой шин…
– Не могу, – ответил Эдди. – Я же всего-навсего служащий. Я не имею права телепортировать вам никаких шин, пока вы мне не покажете деньги. Иначе меня выгонят с работы, а может быть, и посадят. Вы знаете закон.
– Деньги на бочку, – мрачно сказал Моррисон.
– Вот именно. Не делайте глупостей и поворачивайте обратно. Может быть, когда-нибудь попробуете еще раз.
– Я двенадцать лет копил деньги, – ответил Моррисон.
– Я не поверну назад.
Он отключил телефон и попытался что-нибудь придумать. Кому еще здесь, на Венере, он может позвонить?
Только Максу Крэндоллу, своему маклеру по драгоценным камням. Но Максу негде взять тысячу четыреста долларов – в своей тесной конторе рядом с ювелирной биржей Венусборга он еле-еле зарабатывает на то, чтобы заплатить домохозяину, где уж тут помогать попавшим в беду старателям.
«Не могу я просить Макса о помощи, – решил Моррисон. – По крайней мере до тех пор, пока не найду золото. Настоящее золото, а не просто его следы. Значит, остается выпутываться самому».
Он открыл задний борт пескохода и начал разгружать его, сваливая снаряжение на песок. Придется отобрать только самое необходимое: все, что он возьмет, предстоит тащить на себе.
Нужно взять телефон. Походный набор для анализов.
Концентраты, револьвер, компас. И больше ничего, кроме воды – столько, сколько он сможет унести. Все остальное придется бросить.
К вечеру Моррисон собрался в путь. Он с сожалением посмотрел на остающиеся двадцать баков с водой. В пустыне вода – самое драгоценное имущество, если не считать телефона. Но ничего не поделаешь. Напившись вдоволь, он взвалил на плечи тюк и направился на юго-запад, потом, на четвертый день, повернул на юг. Признаки золота становились все отчетливее. Никогда не показывавшееся из-за облаков солнце палило сверху, и мертвеннобелое небо смыкалось над Моррисоном, как крыша раскаленного железа. Он шел по следам золота, а по его следам шел еще кто-то.
На шестой день он уловил какое-то движение, но это было так далеко, что он ничего не смог разглядеть. На седьмой день он увидел, кто его выслеживает.
Волки венерианской породы – маленькие, худые, с желтой шкурой и длинными, изогнутыми, будто в усмешке, челюстями, были одной из немногих разновидностей млекопитающих, которые обитали в Скорпионовой пустыне. Моррисон вгляделся и увидел рядом с первым волком еще двух.
Он расстегнул кобуру револьвера. Волки не пытались приблизиться. Времени у них было достаточно.
Моррисон все шел и шел, жалея, что не захватил с собой ружье. Но это означало бы лишние восемь фунтов, а значит, на восемь фунтов меньше воды.
Раскидывая лагерь на закате восьмого дня, он услышал какое-то потрескивание. Он резко повернулся и заметил в воздухе, футах в десяти слева от себя, на высоте чуть больше человеческого роста, маленький вихрь, похожий на водоворот. Вихрь крутился, издавая характерное потрескивание, всегда сопровождавшее телепортировку.
«Кто бы это мог мне что-то телепортировать?» – подумал Моррисон, глядя, как вихрь медленно растет.
Телепортировка предметов со стационарного проектора в любую заданную точку была обычным способом доставки грузов на огромные расстояния Венеры. Телепортировать можно было любой неодушевленный предмет.
Одушевленные предметы телепортировать не удавалось, потому что при этом происходили некоторые незначительные, но непоправимые изменения молекулярного строения протоплазмы. Кое-кому пришлось убедиться в этом на себе, когда телепортировка только еще входила в практику.
Моррисон ждал. Воздушный вихрь достиг трех футов в диаметре. Из него показался хромированный робот с большой сумкой.
– А, это ты, – сказал Моррисон.
– Да, сэр, – сказал робот, окончательно высвободившись из вихря. – Уильямс-4 с венерианской почтой к вашим услугам.
Робот был среднего роста, с тонкими ногами и плоскими ступнями, человекоподобный и наделенный добродушным характером. Вот уже двадцать три года он представлял собой все почтовое ведомство Венеры – сортировал, хранил и доставлял письма. Он был построен основательно, и за все двадцать три года почта ни разу не задержалась.
– Это я, мистер Моррисон, – сказал Уильямс-4. – К сожалению, в пустыню почта заглядывает только дважды в месяц, но уж зато приходит вовремя, а это самое ценное.
Вот для вас. И вот. Кажется, есть еще одно. Что, пескоход сломался?
– Ну да, – ответил Моррисон, забирая свои письма.
Уильямс-4 продолжал рыться в сумке. Хотя старый робот был прекрасным почтальоном, он слыл самым большим болтуном на всех трех планетах.
– Где-то здесь было еще одно, – сказал Уильямс-4. –
Плохо, что пескоход сломался. Теперь уж пескоходы пошли не те, что во времена моей молодости. Послушайтесь доброго совета, молодой человек. Возвращайтесь назад, если у вас еще есть такая возможность.
Моррисон покачал головой.
– Глупо, просто глупо, – сказал старый робот. – Если б вы повидали с мое… Сколько раз мне попадались вот такие парни – лежат себе на песке в высохшем мешке из собственной кожи, а кости изгрызли песчаные волки и грязные черные коршуны. Двадцать три года я доставляю почту прекрасным молодым людям вроде вас, и каждый думает, что он необыкновенный, не такой, как другие.
Зрительные ячейки робота затуманились воспоминаниями.
– Но они такие же, как и все, – продолжал Уильямс-4.
– Все они одинаковые, как роботы, сошедшие с конвейера,
особенно после того, как с ними разделаются волки. И тогда мне приходится пересылать письма и личные вещи их возлюбленным, на Землю.
– Знаю, – ответил Моррисон. – Но кое-кто остается в живых, верно?
– Конечно, – согласился робот. – Я видел, как люди сколачивали себе одно, два, три состояния. А потом умирали в песках, пытаясь составить четвертое.
– Только не я, – ответил Моррисон. – Мне хватит и одного. А потом я куплю себе подводную ферму на Земле.
Робот содрогнулся.
– Ненавижу соленую воду. Но каждому – свое. Желаю удачи, молодой человек.
Робот внимательно оглядел Моррисона, вероятно, прикидывая, много ли при нем личных вещей, и полез обратно в воздушный вихрь.
Мгновение – и он исчез. Еще мгновение – исчез и вихрь.
Моррисон сел и принялся читать письма. Первое было от маклера по драгоценным камням Макса Крэндолла. Он писал о депрессии, которая обрушилась на Венусборг, и намекал, что может оказаться банкротом, если кто-нибудь из его старателей не найдет чего-то стоящего.
Второе письмо было уведомлением от Телефонной компании Венеры. Моррисон задолжал за двухмесячное пользование телефоном двести десять долларов и восемь центов. Если эта сумма не будет уплачена немедленно, телефон подлежит отключению.
Последнее письмо, пришедшее с далекой Земли, было от Джейни. Оно было заполнено новостями о его двоюродных братьях, тетках и дядях. Джейни писала о фермах в Атлантическом океане, которые она присмотрела, и о чудном местечке, что она нашла в Карибском море недалеко от Мартиники. Она умоляла его бросить старательство, если оно грозит какой-нибудь опасностью; можно найти и другие способы заработать на ферму. Она посылала ему всю свою любовь и заранее поздравляла с днем рождения.
«День рождения? – спросил себя Моррисон. – Погодите, сегодня двадцать третье июля. Нет, двадцать четвертое.
А мой день рождения первого августа. Спасибо, что вспомнила, Джейни».
В эту ночь ему снилась Земля и голубые просторы Атлантики. Но под утро, когда жара усилилась, он обнаружил, что видит во сне многие мили золотых жил, оскаливших зубы песчаных волков и «Особый старательский».
Моррисон продолжал идти по дну давно исчезнувшего озера, где камни сменились песком. Потом снова пошли камни, мрачные, скрученные, изогнутые на тысячу ладов.
Красные, желтые, бурые цвета плыли у него перед глазами. Во всей этой пустыне не было ни одного зеленого пятнышка.
Он все шел в глубь пустыни, вдоль хаотических нагромождений камней, а поодаль, с обеих сторон, за ним, не приближаясь и не отставая, шли волки.
Моррисон не обращал на них внимания. Ему доставляли достаточно забот отвесные скалы и целые поля валунов, преграждавшие путь на юг.
На одиннадцатый день после того, как он бросил пескоход, следы золота стали настолько заметными, что породу уже можно было промывать. Волки все еще преследовали его, и вода была на исходе. Еще один дневной переход – и все будет кончено.
Моррисон на мгновение задумался, потом распаковал телефон и набрал номер компании «Коммунальные услуги». На экране появилась суровая, строго одетая женщина с седеющими волосами.
– Коммунальные услуги, – сказала она. – Чем мы можем вам помочь?
– Привет, – весело отозвался Моррисон. – Как погода в
Венусборге?
– Жарко, – ответила женщина. – А у вас?
– Я даже не заметил, – улыбнулся Моррисон. – Слишком занят: пересчитываю свои богатства.
– Вы нашли золотую жилу? – спросила женщина, и ее лицо немного смягчилось.
– Конечно, – ответил Моррисон. – Но пока никому не говорите. Я еще не оформил заявку. Мне бы наполнить их,
– беззаботно улыбаясь, он показал ей свои фляги. Иногда это удавалось. Иногда, если вы вели себя достаточно уверенно, «Коммунальные услуги» давали воду, не проверяя ваш текущий счет. Это было жульничество, но ему было не до приличий.
– Ваш счет в порядке? – спросила женщина.
– Конечно, – ответил Моррисон, почувствовав, как улыбка застыла на его лице. – Мое имя Том Моррисон.
Можете проверить…
– О, этим занимаются другие. Держите крепче флягу.
Готово!
Крепко держа флягу обеими руками, Моррисон смотрел, как над ее горлышком тонкой хрустальной струйкой показалась вода, телепортированная за четыре тысячи миль из Венусборга. Струйка потекла во флягу с чарующим журчанием. Глядя на нее, Моррисон почувствовал, как его пересохший рот стал наполняться слюной.
Вдруг вода перестала течь.
– В чем дело? – спросил Моррисон.
Экран телефона померк, потом снова засветился, Моррисон увидел перед собой худое лицо незнакомого мужчины. Мужчина сидел за большим письменным столом.
Перед ним была табличка с надписью: «Милтон П. Рид, вице-президент, отдел счетов».
– Мистер Моррисон, – сказал Рид, – ваш счет перерасходован. Вы получили воду обманным путем. Это уголовное преступление.
– Я заплачу за воду, – сказал Моррисон.
– Когда?
– Как только вернусь в Венусборг.
– Чем вы собираетесь платить?
– Золотом, – ответил Моррисон. – Посмотрите, мистер
Рид. Это вернейшие признаки. Вернее, чем были у Кэрка, когда он сделал свою заявку. Еще день – и я найду золотоносную породу…
– Так думает каждый старатель на Венере, – сказал мистер Рид. – Всего один день отделяет каждого старателя от золотоносной породы. И все они рассчитывают получить кредит в «Коммунальных услугах».
– Но в данном случае…
– «Коммунальные услуги», – продолжал мистер Рид, –
не благотворительная организация. Наш устав запрещает продление кредита, мистер Моррисон. Венера – еще не освоенная планета, и планета очень далекая. Любое промышленное изделие приходится ввозить сюда с Земли за немыслимую цену. У нас есть своя вода, но найти ее, очистить и потом телепортировать стоит дорого. Наша компания, как и любая другая на Венере, вынуждена удовлетвориться крайне малой прибылью, да и та неизменно вкладывается в расширение дела. Вот почему здесь не может быть кредита.
– Я все это знаю, – сказал Моррисон, – но я же говорю вам, что мне нужен только день или два, не больше…
– Абсолютно исключено. По правилам мы уже сейчас не имеем права выручать вас. Вы должны были объявить о своем банкротстве неделю назад, когда сломался пескоход. Ваш механик сообщил нам об этом, как требует закон. Но вы этого не сделали. Мы имеем право бросить вас.
Вы понимаете?
– Да, конечно, – устало ответил Моррисон.
– Тем не менее компания приняла решение ради вас нарушить правила. Если вы немедленно повернете назад, мы снабдим вас водой на обратный путь.
– Я пока не хочу возвращаться. Я почти нашел месторождение.
– Вы должны повернуть назад! Подумайте хорошенько, Моррисон! Что было бы с нами, если бы мы позволяли каждому старателю рыскать по пустыне и снабжали его водой? Туда устремились бы десять тысяч человек, и не прошло бы и года, как мы были бы разорены. Я и так нарушаю правила. Возвращайтесь!
– Нет, – ответил Моррисон.
– Подумайте еще раз. Если вы сейчас не повернете назад, «Коммунальные услуги» снимают с себя всякую ответственность за снабжение вас водой.
Моррисон кивнул. Если он пойдет дальше, то рискует умереть в пустыне. А если он вернется? Он окажется в
Венусборге без гроша в кармане, кругом в долгах и будет тщетно разыскивать работу в перенаселенном городе. Ему придется спать в ночлежках и кормиться бесплатной похлебкой вместе с другими старателями, которые повернули обратно. А где он достанет деньги, чтобы вернуться на
Землю? Когда он снова увидит Джейни?
– Я, пожалуй, пойду дальше, – сказал Моррисон.
– Тогда «Коммунальные услуги» снимают с себя всякую ответственность за вас, – повторил Рид и повесил трубку.
Моррисон уложил телефон, хлебнул глоток из своих скудных запасов воды и снова пустился в путь.
Песчаные волки рысцой бежали с обеих сторон, постепенно приближаясь. С неба его заметил коршун с треугольными крыльями. Коршун день и ночь парил на восходящих токах воздуха, ожидая, пока волки прикончат
Моррисона. Потом коршуна сменила стая маленьких летучих скорпионов. Они отогнали птицу наверх, в облачный слой. Летучие гады ждали целый день. Потом их, в свою очередь, прогнала стая черных коршунов.
Теперь, на пятнадцатый день после того, как он бросил пескоход, признаки золота стали еще обильнее. В сущности, он шел по поверхности золотой жилы. Везде вокруг, по-видимому, было золото. Но самой жилы он еще не обнаружил.
Моррисон сел и потряс свою последнюю флягу. Но не услышал плеска. Он отвинтил пробку и опрокинул флягу себе в рот. В запекшееся горло скатились две капли.
Прошло уже четыре дня с тех пор, как он разговаривал с «Коммунальными услугами». Последнюю воду он выпил вчера. Или позавчера?
Он снова завинтил пустую флягу и окинул взглядом выжженную жаром местность. Потом выхватил из мешка телефон и набрал номер Макса Крэндолла.
На экране появилось круглое озабоченное лицо Крэндолла.
– Томми, – сказал он, – на кого ты похож?
– Все в порядке, – ответил Моррисон. – Немного высох, и все. Макс, я у самой жилы.
– Ты в этом уверен? – спросил Макс.
– Смотри сам, – сказал Моррисон, поворачивая телефон в разные стороны. – Смотри, какие здесь формации!
Видишь вон там красные и пурпурные пятна?
– Верно, признаки золота, – неуверенно согласился
Крэндолл.
– Где-то поблизости богатая порода. Она должна быть здесь! – сказал Моррисон. – Послушай, Макс, я знаю, что у тебя туго с деньгами, но хочу попросить тебя об одолжении. Пошли мне пинту воды. Всего пинту, чтобы мне хватило на день или два. Эта пинта может нас обоих сделать богатыми.
– Не могу, – грустно ответил Крэндолл.
– Не можешь?
– Нет, Томми, я послал бы тебе воды, даже если бы вокруг тебя не было ничего, кроме песчаника и гранита. Неужели ты думаешь, что я дал бы тебе умереть от жажды, если бы мог что-нибудь поделать? Но я ничего не могу.
Взгляни.
Крэндолл повернул свой телефон. Моррисон увидел, что стулья, стол, конторка, шкаф и сейф исчезли из конторы. Остался только телефон.
– Не знаю, почему не забрали и телефон, – сказал
Крэндолл. – Я должен за него за два месяца.
– Я тоже, – вставил Моррисон.
– Меня ободрали как липку, – сказал Крэндолл. – Ни гроша не осталось. Пойми, за себя я не волнуюсь. Я могу питаться и бесплатной похлебкой. Но я не могу телепортировать тебе ни капли воды. Ни тебе, ни Ремстаатеру.
– Джиму Ремстаатеру?
– Ага. Он шел по следам золота на север, за Забытой речкой. На прошлой неделе у его пескохода сломалась ось, а поворачивать назад он не захотел. Вчера у него кончилась вода.
– Я бы поручился за него, если бы мог, – сказал Моррисон.
– И он поручился бы за тебя, если бы мог, – ответил
Крэндолл. – Но он не может, и ты не можешь, и я не могу.
Томми, у тебя осталась только одна надежда.
– Какая?
– Найди породу. Не просто признаки золота, а настоящее месторождение, которое стоило бы настоящих денег.
Потом позвони мне. Если это будет в самом деле золотоносная порода, я приведу Уилкса из «Три-Плэнет Майнинг» и заставлю его дать нам аванс. Он, вероятно, потребует пятьдесят процентов.
– Но это же грабеж!
– Нет, просто цена кредита на Венере, – ответил Крэндолл. – Не беспокойся, все равно останется немало. Но сначала нужно найти породу.
– О’кэй, – сказал Моррисон. – Она должна быть где-то здесь. Макс, какое сегодня число?
– Тридцать первое июля. А что?
– Просто так. Я позвоню тебе, когда что-нибудь найду.
Повесив трубку. Моррисон присел на камень и тупо уставился в песок. Тридцать первое июля. Завтра у него день рождения. О нем будут думать родные. Тетя Бесс в
Пасадене, близнецы в Лаосе, дядя Тед в Дуранго. И, конечно, Джейни, которая ждет его в Тампа.
Моррисон понял, что, если он не найдет породу, завтрашний день рождения будет для него последним.
Он поднялся, снова упаковал телефон рядом с пустыми флягами и направился на юг.
Он шел не один. Птицы и звери пустыни шли за ним.
Над головой без конца кружились молча черные коршуны.
По сторонам, уже гораздо ближе, его сопровождали песчаные волки, высунув языки в ожидании, когда же он упадет замертво…
– Я еще жив! – заорал на них Моррисон.
Он выхватил револьвер и выстрелил в ближайшего волка. Расстояние было футов двадцать, но он промахнулся. Он встал на одно колено, взял револьвер в обе руки и выстрелил снова. Волк завизжал от боли. Стая немедленно набросилась на раненого, и коршуны устремились вниз за своей долей.
Моррисон сунул револьвер в кобуру и побрел дальше.
Он знал, что его организм сильно обезвожен. Все вокруг прыгало и плясало перед глазами, и его шаги стали неверными. Он выбросил пустые фляги, выбросил все, кроме прибора для анализов, телефона и револьвера. Или он выйдет из этой пустыни победителем, или не выйдет вообще.
Признаки золота были все такими же обильными. Но он все еще не мог найти настоящую жилу.
К вечеру он заметил неглубокую пещеру у подножия утеса. Он заполз в нее и устроил поперек входа баррикаду из камней. Потом вытащил револьвер и оперся спиной о заднюю стену.
Снаружи фыркали и щелкали зубами волки. Моррисон устроился поудобнее и приготовился провести всю ночь настороже.
Он не спал, но и не бодрствовал. Его мучили кошмары и видения. Он снова оказался на Земле, и Джейни говорила ему:
– Это тунцы. У них что-то неладно с питанием. Они все болеют.
– Проклятье, – отвечал Моррисон. – Стоит только приручить рыбу, как она начинает привередничать.
– Ну что ты там философствуешь, когда твои рыбы больны?
– Позвони ветеринару.
– Звонила. Он у Блейков, ухаживает за молочным китом.
– Ладно. Пойду посмотрю.
Он надел маску и, улыбаясь, сказал:
– Не успеешь обсохнуть, как уже приходится снова лезть в воду.
Его лицо и грудь были влажными.
Моррисон открыл глаза. Его лицо и грудь в самом деле были мокры от пота. Пристально посмотрев на перегороженный вход в пещеру, он насчитал два, четыре, шесть, восемь зеленых глаз.
Он выстрелил в них, но они не отступили. Он выстрелил еще раз, и пуля, отлетев от стенки, осыпала его режущими осколками камня. Продолжая стрелять, он ухитрился ранить одного из волков. Стая разбежалась.
Револьвер был пуст. Моррисон пошарил в карманах и нашел еще пять патронов. Он тщательно зарядил револьвер. Скоро, наверное, рассвет.
Он снова увидел сон, на этот раз ему приснился «Особый старательский». Он слышал рассказы о нем во всех маленьких салунах, окаймлявших Скорпионову пустыню.
Заросшие щетиной пожилые старатели рассказывали о нем сотню разных историй, а видавшие виды бармены добавляли новые подробности. В восемьдесят девятом году его заказал Кэрк – большую порцию, специально для себя.
Эдмондсон и Арслер отведали его в девяносто третьем.
Это было несомненно.
И другие заказывали его, сидя на своих драгоценных золотых жилах. По крайней мере так говорили.
Но существует ли он на самом деле? Есть ли вообще такой коктейль – «Особый старательский»? Доживет ли
Моррисон до того, чтобы увидеть это радужное чудо, выше колокольни, больше дома, дороже, чем сама золотоносная порода?
Ну, конечно! Ведь он уже почти может его разглядеть…
Моррисон заставил себя очнуться. Наступило утро. Он с трудом выбрался из пещеры навстречу дню.
Он еле-еле полз к югу, за ним по пятам шли волки, на него ложились тени крылатых хищников. Он скреб пальцами камни и песок. Вокруг были обильные признаки золота. Верные признаки!
Но где же в этой заброшенной пустыне золотоносная порода?
Где? Ему было уже почти все равно. Он гнал вперед свое сожженное солнцем, высохшее тело, останавливаясь только для того, чтобы отпугнуть выстрелом подошедших слишком близко волков.
Осталось четыре пули.
Ему пришлось выстрелить еще раз, когда коршуны, которым надоело ждать, начали пикировать ему на голову.
Удачный выстрел угодил прямо в стаю, свалив двух птиц.
Волки начали грызться из-за них. Моррисон, уже ничего не видя, пополз вперед.
И упал с гребня невысокого утеса.
Падение было не опасным, но он выронил револьвер.
Прежде чем он успел его найти, волки бросились на него.
Только их жадность спасла Моррисона. Пока они дрались над ним, он откатился в сторону и подобрал револьвер.
Два выстрела разогнали стаю. После этого у него осталась одна пуля. Придется приберечь ее для себя – он слишком устал, чтобы идти дальше.
Он упал на колени. Признаки золота здесь были еще богаче. Они были фантастически богатыми. Где-то совсем рядом…
– Черт возьми, – произнес Моррисон
Небольшой овраг, куда он свалился, был сплошной золотой жилой.
Он поднял с земли камешек. Даже в необработанном виде камешек весь светился глубоким золотым блеском –
внутри сверкали яркие красные и пурпурные точки.
«Проверь, – сказал себе Моррисон. – Не надо ложных тревог. Не надо миражей и обманутых надежд. Проверь».
Рукояткой револьвера он отколол кусочек камня. С виду это была золотоносная порода. Он достал свой набор для анализов и капнул на камень белым раствором. Раствор вспенился и зазеленел.
– Золотоносная порода, точно! – сказал Моррисон, окидывая взглядом сверкающие склоны оврага. – Эге, да я богач!
Он вытащил телефон и дрожащими пальцами набрал номер Крэндолла.
– Макс! – заорал он. – Я нашел! Нашел настоящее месторождение!
– Меня зовут не Макс, – сказал голос по телефону.
– Что?
– Моя фамилия Бойярд, – сказал голос.
Экран засветился, и Моррисон увидел худого желтолицего человека с тонкими усиками.
– Извините, мистер Бойярд, – сказал Моррисон, – я, наверное, не туда попал. Я звонил…
– Это неважно, куда вы звонили, – сказал мистер Бойярд. – Я участковый контролер Телефонной компании Венеры. Вы задолжали за два месяца.
– Теперь я могу заплатить, – ухмыляясь, заявил Моррисон.
– Прекрасно, – ответил мистер Бойярд. – Как только вы это сделаете, ваш телефон снова будет включен.
Экран начал меркнуть.
– Подождите! – закричал Моррисон. – Я заплачу, как только доберусь до вашей конторы! Но сначала я должен один раз позвонить. Только один раз, чтобы…
– Ни в коем случае, – решительно ответил мистер Бойярд. – После того как вы оплатите счет, ваш телефон будет немедленно включен.
– Но у меня деньги здесь! – сказал Моррисон. – Здесь, со мной.
Мистер Бойярд помолчал.
– Ладно, это не полагается, но я думаю, мы можем выслать вам специального робота-посыльного, если вы согласны оплатить расходы.
– Согласен!
– Хм… Это не полагается, но я думаю… Где деньги?
– Здесь, – ответил Моррисон. – Узнаете? Это золотоносная порода!
– Мне уже надоели эти фокусы, которые вы, старатели, вечно пытаетесь нам устроить. Показываете горсть камешков…
– Но это на самом деле золотоносная порода! Неужели вы не видите?
– Я деловой человек, а не ювелир, – ответил мистер
Бойярд. – Я не могу отличить золотоносной породы от золототысячника.
Экран погас.
Моррисон лихорадочно пытался снова дозвониться до него. Телефон молчал – не слышно было даже гудения. Он был отключен.
Моррисон положил аппарат на землю и огляделся. Узкий овраг, куда он свалился, тянулся прямо ярдов на двадцать, потом сворачивал влево. На его крутых склонах не было видно ни одной пещеры, ни одного удобного места, где можно было бы устроить баррикаду.
Сзади послышался какой-то шорох. Обернувшись, он увидел, что на него бросается огромный старый волк. Не раздумывая ни секунды, Моррисон выхватил револьвер и выстрелил, размозжив голову зверя.
– Черт возьми, – сказал Моррисон, – я хотел оставить эту пулю для себя.
Он получил отсрочку на несколько секунд и бросился вниз по оврагу в поисках выхода. Вокруг красными и пурпурными искрами сверкала золотоносная порода. А позади бежали волки.
Моррисон остановился. Излучина оврага привела его к глухой стене.
Он прислонился к ней спиной, держа револьвер за ствол. Волки остановились в пяти футах от него, собираясь в стаю для решительного броска. Их было десять или двенадцать, и в узком проходе они сгрудились в три ряда.
Вверху кружились коршуны, ожидая своей очереди.
В этот момент Моррисон услышал потрескивание телепортировки. Над головами волков появился воздушный вихрь, и они торопливо попятились назад.
– Как раз вовремя, – сказал Моррисон.
– Вовремя для чего? – спросил Уильямс-4, почтальон.
Робот вылез из вихря и огляделся.
– Ну-ну, молодой человек, – произнес Уильямс-4, –
ничего себе, доигрались! Разве я вас не предостерегал?
Разве не советовал вернуться? Посмотрите-ка!
– Ты был совершенно прав, – сказал Моррисон. – Что мне прислал Макс Крэндолл?
– Макс Крэндолл ничего не прислал, да и не мог прислать.
– Тогда почему ты здесь?
– Потому что сегодня ваш день рождения, – ответил
Уильямс-4. – У нас на почте в таких случаях всегда бывает специальная доставка. Вот вам.
Уильямс-4 протянул ему пачку писем – поздравления от Джейни, теток, дядей и двоюродных братьев с Земли.
– И еще кое-что, – сказал Уильямс-4, роясь в своей сумке. – Должно быть кое-что еще. Постойте… Да, вот.
Он протянул Моррисону маленький пакет.
Моррисон поспешно сорвал обертку. Это был подарок от тети Мины из Нью-Джерси. Он открыл коробку. Там были соленые конфеты – прямо из Атлантик-Сити.
– Говорят, очень вкусно, – сказал Уильямс-4, глядевший через его плечо. – Но не очень уместно в данных обстоятельствах. Ну, молодой человек, очень жаль, что вам придется умереть в день своего рождения. Самое лучшее, что я могу пожелать, – это быстрой и безболезненной кончины.
Робот направился к вихрю.
– Погоди! – крикнул Моррисон. – Не можешь же ты так меня бросить. Я уже много дней ничего не пил. А эти волки…
– Понимаю, – ответил Уильямс-4. – Поверьте, это не доставляет мне никакой радости. Даже у робота есть какие-то чувства.
– Тогда помоги мне!
– Не могу. Правила почтового ведомства это категорически запрещают. Я помню, в девяносто седьмом меня примерно о том же просил Эбнер Лэти. Его тело потом искали три года.
– Но у тебя есть аварийный телефон? – спросил Моррисон.
– Есть. Но я могу им пользоваться только в том случае, если со мной произойдет авария.
– Но ты хоть можешь отнести мое письмо? Срочное письмо?
– Конечно, могу, – ответил робот. – Я для этого и создан. Я даже могу одолжить вам карандаш и бумагу.
Моррисон взял карандаш и бумагу и попытался собраться с мыслями. Если он напишет срочное письмо
Максу, тот получит его через несколько часов. Но сколько времени понадобится ему, чтобы сколотить немного денег и послать воду и боеприпасы? День, два? Придется чтонибудь придумать, чтобы продержаться…
– Я полагаю, у вас есть марка? – спросил робот.
– Нет, – ответил Моррисон. – Но я куплю ее у тебя.
– Прекрасно, – ответил робот. – Мы только что выпустили новую серию Венусборгских треугольных. Я считаю их большим эстетическим достижением. Они стоят по три доллара штука.
– Хорошо. Очень умеренная цена. Давай одну.
– Остается решить еще вопрос об оплате.
– Вот! – сказал Моррисон, протягивая роботу кусок золотоносной породы стоимостью тысяч в пять долларов.
Почтальон осмотрел камень и протянул его обратно:
– Извините, но я могу принять только наличные.
– Но это стоит дороже, чем тысяча марок! – сказал
Моррисон. – Это же золотоносная порода!
– Очень может быть, – ответил Уильямс-4, – но я не запрограммирован на пробирный анализ. И почта Венеры основана не на системе товарного обмена. Я вынужден попросить три доллара бумажками или монетами.
– У меня их нет.
– Очень жаль.
Уильямс-4 повернулся, чтобы уйти.
– Но ты же не можешь просто уйти и бросить меня на верную смерть!
– Не только могу, но и должен, – грустно сказал Уильямс-4. – Я всего лишь робот, мистер Моррисон. Я был создан людьми и, естественно, наделен некоторыми из их чувств. Так и должно быть. Но есть и предел моих возможностей, – по сути дела, такой предел есть и у большинства людей на этой суровой планете. И в отличие от людей я не могу переступить свой предел.
Робот полез в вихрь. Моррисон непонимающим взглядом смотрел на него. Он видел неяркое сверкание золотоносной породы стоимостью в несколько миллионов долларов, покрывавшей склоны оврага.
И тут что-то в нем надломилось.
С нечленораздельным воплем Моррисон бросился вперед и схватил робота за ноги. Уильямс-4, наполовину скрывшийся в вихре телепортировки, упирался, брыкался и почти стряхнул было Моррисона. Но тот вцепился в него как безумный. Дюйм за дюймом он вытащил робота из вихря, швырнул на землю и придавил его своим телом.
– Вы нарушаете работу почты, – сказал Уильямс-4.
– Это еще не все, что я собираюсь нарушить, – прорычал Моррисон. – Смерти я не боюсь. Это была моя ставка.
Но будь я проклят, если намерен умереть через пятнадцать минут после того, как разбогател!
– У вас нет выбора.
– Есть. Я воспользуюсь твоим аварийным телефоном.
– Это невозможно, – ответил Уильямс-4. – Я его не дам. А сами вы до него не доберетесь без помощи Механической мастерской.
– Возможно, – ответил Моррисон. – Я хочу попробовать.
Он вытащил свой разряженный револьвер.
– Что вы хотите сделать? – спросил Уильямс-4.
– Хочу посмотреть, не смогу ли я превратить тебя в металлолом без всякой механической мастерской. Думаю, что будет логично начать с твоих зрительных ячеек.
– Это действительно логично, – ответил робот. – У меня, конечно, нет инстинкта самосохранения. Но позвольте заметить, что вы оставите без почтальона всю Венеру. От вашего антиобщественного поступка многие пострадают.
– Надеюсь, – сказал Моррисон, занося револьвер над головой.
– Кроме того, – поспешно добавил робот, – вы уничтожите казенное имущество. Это серьезное преступление.
Моррисон засмеялся и взмахнул револьвером. Робот сделал быстрое движение головой и избежал удара. Он попробовал вывернуться, но Моррисон навалился ему на грудь всеми своими двумястами фунтами.
– На этот раз я не промахнусь, – пообещал Моррисон, примериваясь снова.
– Стойте! – сказал Уильямс-4. – Мой долг – охранять казенное имущество даже в том случае, когда этим имуществом оказываюсь я сам. Можете воспользоваться моим телефоном, мистер Моррисон. Имейте в виду, что это преступление карается заключением не более чем на десять и не менее чем на пять лет в исправительной колонии на
Солнечных болотах.
– Давайте телефон, – сказал Моррисон.
Грудь робота распахнулась, и оттуда выдвинулся маленький телефон. Моррисон набрал номер Макса Крэндолла и объяснил ему положение.
– Ясно, ясно, – сказал Крэндолл. – Ладно, попробую найти Уилкса. Но, Том, я не знаю, чего я смогу добиться.
Рабочий день окончен. Все закрыто…
– Открой! – сказал Моррисон. – Я могу все оплатить. И
выручи Джима Ремстаатера.
– Это не так просто. Ты еще не оформил права на заявку. Ты даже не доказал, что это месторождение чего-то стоит.
– Смотри. – Моррисон повернул телефон так, чтобы
Крэндоллу были видны сверкающие стены оврага.
– Похоже на правду, – заметил Крэндолл. – Но, к сожалению, не все то золотоносная порода, что блестит.
– Как же нам быть? – спросил Моррисон.
– Нужно делать все по порядку. Я телепортирую к тебе
Общественного Маркшейдера. Он проверит твою заявку, определит размеры месторождения и выяснит, не закреплено ли оно за кем-нибудь другим. Дай ему с собой кусок золотоносной породы. Побольше.
– Как мне его отбить? У меня нет никаких инструментов.
– Ты уж придумай что-нибудь. Он возьмет кусок для анализа. Если порода достаточно богата, твое дело в шляпе.
– А если нет?
– Может, лучше нам об этом не говорить, – сказал
Крэндолл. – Я займусь делом, Томми. Желаю удачи.
Моррисон повесил трубку, встал и помог подняться роботу.
– За двадцать три года службы, – произнес Уильямс-4,
– впервые нашелся человек, который угрожал уничтожить казенного почтового служащего. Я должен доложить об этом полицейским властям в Венусборге, мистер Моррисон. Я не могу иначе.
– Знаю, – сказал Моррисон. – Но мне кажется, пять или даже десять лет в тюрьме – все же лучше, чем умереть.
– Сомневаюсь. Я и туда, знаете, ношу почту. Вы сами увидите все месяцев через шесть.
– Как? – переспросил ошеломленный Моррисон.
– Месяцев через шесть, когда я закончу обход планеты и вернусь в Венусборг. О таком деле нужно докладывать лично. Но прежде всего нужно разнести почту.
– Спасибо, Уильямс. Не знаю, как мне…
– Я просто исполняю свой долг, – сказал робот, подходя к вихрю. – Если вы через шесть месяцев все еще будете на Венере, я принесу вам почту в тюрьму
– Меня здесь не будет, – ответил Моррисон. – Прощайте, Уильямс.
Робот исчез в вихре.
Потом исчез и вихрь.
Моррисон остался один в сумерках Венеры.
Он разыскал выступ золотоносной породы чуть больше человеческой головы, ударил по нему рукояткой револьвера, и в воздухе заплясали мелкие искрящиеся осколки. Спустя час на револьвере появились четыре вмятины, а на блестящей поверхности породы – лишь несколько царапин.
Песчаные волки начали подкрадываться ближе. Моррисон швырнул в них несколько камней и закричал сухим, надтреснутым голосом. Волки отступили.
Он снова вгляделся в выступ и заметил у его основания трещину не толще волоса. Он начал колотить в этом месте. Но камень не поддавался.
Моррисон вытер пот со лба и собрался с мыслями.
Клин, нужен клин…
Он снял ремень. Приставив к трещине край стальной пряжки, он ударами револьвера вогнал ее в трещину на какую-то долю дюйма. Еще три удара – и вся пряжка скрылась в трещине, еще удар – и выступ отделился от жилы. Отломившийся кусок весил фунтов двадцать. При цене пятьдесят долларов за унцию этот обломок должен был стоить тысяч двадцать долларов, если только золото будет такое же чистое, каким оно кажется.
Наступили темно-серые сумерки, когда появился телепортированный сюда Общественный Маркшейдер. Это был невысокий, приземистый робот, отделанный старомодным черным лаком.
– Добрый день, сэр, – сказал Маркшейдер. – Вы хотите сделать заявку? Обычную заявку на неограниченную добычу?
– Да, – ответил Моррисон.
– А где центр вашего участка?
– Что? Центр? По-моему, я на нем стою.
– Очень хорошо, – сказал робот.
Вытащив стальную рулетку, он быстро отошел от
Моррисона на двести ярдов и остановился. Разматывая рулетку, робот ходил, прыгал и лазил по сторонам квадрата с Моррисоном в центре. Окончив обмер, он долго стоял неподвижно.
– Что ты делаешь? – спросил Моррисон.
– Глубинные фотографии участка, – ответил робот. –
Довольно трудное дело при таком освещении. Вы не могли бы подождать до утра?
– Нет!
– Ладно, придется повозиться, – сказал робот. Он переходил с места на место, останавливался, снова шел, снова останавливался. По мере того как сумерки сгущались, глубинные фотографии требовали все больше и большей экспозиции. Робот вспотел бы, если бы только был на это способен.
– Все, – сказал он наконец. – Кончено. Вы дадите мне с собой образец?
– Вот он, – сказал Моррисон, взвесив в руке обломок золотоносной породы и протягивая ее Маркшейдеру. –
Все?
– Абсолютно все, – ответил робот. – Если не считать, конечно, того, что вы еще не предъявили мне Поисковый акт. Моррисон растерянно заморгал.
– Чего не предъявил?
– Поисковый акт. Это официальный документ, свидетельствующий о том, что участок, на который вы претендуете, согласно правительственному постановлению не содержит радиоактивных веществ в количествах, превышающих пятьдесят процентов общей массы до глубины в шестьдесят футов. Простая, но необходимая формальность.
– Я никогда о ней не слыхал, – сказал Моррисон.
– Ее сделали обязательным условием на прошлой неделе, – объяснил съемщик. – У вас нет акта? Тогда, боюсь, ваша обычная неограниченная заявка недействительна.
– Что же мне делать?
– Вы можете вместо нее оформить специальную ограниченную заявку, – сказал робот. – Поискового акта для нее не требуется.
– А что это значит?
– Это значит, что через пятьсот лет все права переходят к правительству Венеры.
– Ладно! – заорал Моррисон. – Хорошо! Прекрасно!
Это все?
– Абсолютно все, – ответил Маркшейдер. – Я захвачу этот образец с собой и отдам его на срочный анализ и оценку. По нему и по глубинным фотографиям мы сможем вычислить стоимость вашего участка.
– Пришлите мне что-нибудь отбиваться от волков, –
сказал Моррисон. – И еды. И послушайте, я хочу «Особый старательский».
– Хорошо, сэр. Все это будет вам телепортировано, если ваша заявка окажется достаточно ценной, чтобы окупить расходы.
Робот влез в вихрь и исчез.
Время шло, и волки снова начали подбираться к Моррисону. Они огрызались, когда тот швырял в них камнями, но не отступали. Разинув пасти, высунув языки, они проползли оставшиеся несколько ярдов.
Вдруг волк, ползший впереди всех, взвыл и отскочил назад. Над его головой появился сверкающий вихрь, из которого упала винтовка, ударив его по передней лапе.
Волки пустились наутек. Из вихря упала еще одна винтовка, потом большой ящик с надписью «Гранаты. Обращаться осторожно», потом еще один ящик с надписью
«Пустынный рацион К».
Моррисон ждал, вглядываясь в сверкающее устье вихря, который пронесся по небу и остановился в четверти мили от него. Из вихря показалось большое круглое медное днище. Устье вихря стало расширяться, пропуская еще большую медную выпуклость. Днище уже стояло на песке, а выпуклость все росла. Когда наконец она показалась вся, в безбрежной пустыне возвышалась гигантская вычурная медная чаша для пунша. Вихрь поднялся и повис над ней.
Моррисон ждал. Запекшееся горло саднило. Из вихря показалась тонкая струйка воды и полилась в чашу. Моррисон все еще не двигался.
А потом началось. Струйка превратилась в поток, рев которого разогнал всех коршунов и волков. Целый водопад низвергался из вихря в гигантскую чашу.
Моррисон, шатаясь, побрел к ней. «Попросить бы мне флягу», – говорил он себе, мучимый страшной жаждой, ковыляя по песку к чаше. Вот наконец перед ним стоял
«Особый старательский» – выше колокольни, больше дома, наполненный водой, что была дороже самой золотоносной породы. Он повернул кран у дна чаши. Вода смочила желтый песок и ручейками побежала вниз по дюне.
«Надо было еще заказать чашку или стакан», – подумал Моррисон, легка на спине и ловя открытым ртом струю воды.
Джек ФИННЕЙ
ХВАТИТ МАХАТЬ РУКАМИ
Ну ладно, хватит там махать руками, слышишь, мальчик? Знаю, что ты был летчиком. Ты хорошо летал на войне, а как же иначе – ведь ты мой внук! Только ты не думай, сынок, что все на свете знаешь о войне да и о летающих машинах тоже. Не было войны труднее, чем та, что мы кончили в шестьдесят пятом, ты этого не забывай.
Большая была война, и большие люди тогда воевали! Что там твой Паттон, или Арнольд, или Стилуэлл – нет, они, конечно, тоже не промах, ничего не скажешь, но кто был настоящий генерал, так это Грант. Я тебе об этом никогда не рассказывал, потому что самому генералу дал клятву молчать, но теперь, я думаю, уже можно, срок уже прошел. Так вот, угомонись, мальчик, спрячь руки в карманы и слушай меня!
В ту ночь, про которую я расскажу – когда я встретился с генералом, – я ничего такого не ожидал. Я знал одно: едем мы с майором верхом по Пенсильвания-авеню, а куда и зачем – он не сказал. И вот трясемся мы себе не спеша, держа поводья в одной руке, и у майора к седлу приторочен спереди какой-то большой черный ящик, а его острая бороденка так и мотается вверх и вниз.
Было поздно, одиннадцатый час, и все уже спали. Но сквозь деревья ярко светила полная луна, и ехать было приятно – четкие тени от лошадей скользили рядом с нами, и ни звука вокруг, только гулкий стук копыт по утоптанной земле. Ехали мы вот уже два дня, по дороге я то и дело прихлебывал трофейной яблочной водки – только это еще не называлось трофеями, мы говорили «отправиться на фуражировку», – и теперь я дремал в седле, а за спиной у меня болталась моя труба. Потом майор толкнул меня в бок, я проснулся и увидел впереди Белый дом.
– Так точно, сэр, – сказал я.
Он поглядел на меня. В лунном свете эполеты у него на плечах блестели золотом.
– Этой ночью, мой мальчик, мы, может быть, выиграем войну, – сказал он тихо, таинственно улыбнулся и похлопал по черному ящику. – Мы с тобой, одни. Ты знаешь, кто я?
– Так точно, сэр.
– Нет, не знаешь. Я профессор. Из Гарвардского колледжа. Был профессором, во всяком случае. Рад, что я опять в армии. Дураки они там, почти все – дальше своего носа не видят. Так вот, мой мальчик, этой ночью мы, может быть, выиграем войну.
– Так точно, сэр, – ответил я. Чуть ли не все офицеры выше капитана – немного чокнутые, это я давно заметил, а майоры – особенно. Так тогда было – да и сейчас, наверное, так осталось, даже в авиации.
Мы остановились на краю лужайки у Белого дома и постояли, глядя на большое старинное здание, серебристобелое в лунном свете. Лучи от фонаря над дверью проходили между колоннами крыльца и падали на дорожку. В
крайнем к востоку окне первого этажа горел огонь, и я все надеялся, что увижу там президента, но никого видно не было.
Майор открыл свой ящик.
– Знаешь, мальчик, что это такое?
– Никак нет, сэр.
– Это мое собственное изобретение, основанное на моей собственной теории. Там, в колледже, меня принимают за сумасшедшего, но оно, по-моему, должно сработать.
Выиграть войну, мой мальчик.
Он передвинул маленький рычажок внутри ящика.
– Я не хочу забираться слишком далеко вперед, сынок, иначе мы ничего не поймем в тогдашней технике. Скажем, лет на девяносто вперед – как ты думаешь, хватит?
– Так точно, сэр.
– Ладно.
Майор ткнул большим пальцем в какую-то маленькую кнопку внутри ящика; послышалось жужжание, оно становилось все тоньше и тоньше, пока у меня в ушах не засвербило. Потом майор поднял руку.
– Ну вот, – улыбнулся он, кивая головой и тряся своей острой бородкой, – сейчас прошло девяносто с чем-то лет.
Он кивнул в сторону Белого дома.
– Приятно видеть, что он еще тут стоит.
Я еще раз посмотрел на Белый дом. Он был точно такой же, и свет все еще пробивался наружу между белыми колоннами, но я ничего не сказал.
Майор тронул повод и повернулся ко мне.
– Ну, мой мальчик, пора за работу. Поехали.
И он пустил лошадь рысью по Пенсильвания-авеню, а я – за ним. Скоро мы свернули к югу, и майор, обернувшись в седле, сказал:
– Теперь вопрос в том, что у них там, в будущем, есть.
Он поднял вверх палец, как учитель в школе, и тут я поверил, что он в самом деле профессор.
– Мы пока этого не знаем, – продолжал он, – но знаем, где это можно выяснить. В музее. Идем в Смитсоновский институт, если он еще стоит на своем месте. Для нас это будет настоящий склад техники будущего.
Я точно знал, что еще неделю назад Смитсоновский институт стоял на своем месте. Через некоторое время он появился впереди, на другой стороне лужайки, – знакомое каменное здание с башнями, как у замка, и выглядел он точь-в-точь как всегда, только окна были черно-белые в лунном свете.
– Все еще стоит, сэр, – сказал я.
– Прекрасно, – отозвался майор. – Теперь на разведку.
Мы въехали в переулок. Впереди стояло несколько домов, которых я никогда раньше не замечал. Мы подъехали к ним и спешились. Майор ужасно волновался и все время шептал:
– Что нам нужно – это какое-нибудь новое оружие, которое уничтожит сразу всю армию мятежников. Если что-нибудь в этом роде увидишь, мой мальчик, скажи мне.
– Так точно, сэр, – ответил я и чуть не наткнулся на какую-то штуку, которая стояла перед зданием прямо под открытым небом. Она была большая и сделана вся из толстого железа, а вместо колес у нее были два подвижных ремня, тоже железные, из больших плоских звеньев, соединенных вместе.
– Похоже на какой-то ящик, – сказал майор, – только непонятно, что они в нем держат. Пойдем, мой мальчик: эта штука для боя явно не годится.
Еще шаг вперед – и мы увидели перед собой громаднейшую пушку, раза в три больше, чем самая большая, какую мне доводилось видеть. У нее был необыкновенной длины ствол, колеса ростом почти с меня, и раскрашена она была какими-то странными волнистыми полосами и пятнами, так что при луне ее почти не было видно.
– Посмотри: вот это да! – тихо сказал майор. – Такая за час сотрет в порошок всю армию Ли, но только неизвестно, как нам ее доставить.
Он покачал головой.
– Нет, это не то. Интересно, а что у них там внутри?
Мы подошли и заглянули в окно. Там был длинный, высокий зал; с одной стороны через все окна косо светила луна, а по всему полу стояли и даже висели под потолком такие странные штуки, каких я сроду не видывал. Каждая была величиной с повозку или даже больше, а около переднего конца у них были колеса, только не по четыре, а по два у каждой. Я пытался сообразить, что бы это могло быть, когда майор снова заговорил.
– Самолеты, клянусь богом! – воскликнул он. – У них есть самолеты! Мы выиграем войну!
– Само… что, сэр?
– Самолеты. Летающие машины. Они летают по воздуху. Разве ты не видишь крылья, мой мальчик?
У каждой из машин, которые там стояли, с обеих сторон торчало что-то вроде гладильных досок, только побольше, но они были жесткие на вид, и я не мог понять, как ими можно махать наподобие крыльев.
– Так точно, сэр, – сказал я.
Но майор снова покачал головой.
– Слишком уж они совершенные, – сказал он. – Мы с ними не справимся. Нам нужно более раннюю модель, а здесь я таких не вижу. Пойдем, мой мальчик, не задерживайся.
Ведя в поводу лошадей, мы пошли дальше, к другому зданию, и заглянули в дверь. Там, на полу, среди инструментов и пустых ящиков, как будто только что распакованная, лежала еще одна такая же летающая машина.
Только эта была куда меньше и напоминала просто деревянную раму, как от большого воздушного змея, с маленькими парусиновыми штуками, которые майор называл крыльями. И колес у нее не было, а только пара полозьев, как у санок. У стены был прислонен плакатик с надписью, как будто его еще не успели установить на место. Лунный свет едва до него доставал, и я не смог прочесть все, что там было написано, а только некоторые слова: «ПЕРВЫЙ
В МИРЕ» и еще «КИТТИ-ХОК».
Майор стоял и глазел с минуту как ошалелый, потом пробормотал про себя:
– Очень похоже на наброски да Винчи; но эта штука, очевидно, летала.
Вдруг он ухмыльнулся во весь рот.
– Это оно самое, мой мальчик. Вот за чем мы сюда явились.
Я понял, что у него на уме, и мне это не понравилось.
– Вам сюда никогда не вломиться, сэр, – сказал я. –
Эти двери на вид ужасно крепкие, и бьюсь об заклад, что охрана здесь, как в казначействе.
Майор опять таинственно улыбнулся.
– Конечно, сынок. Это сокровищница нации. Отсюда никому ничего не вынести, не говоря уж об этом самолете, при обычных обстоятельствах. Но не беспокойся, мой мальчик, предоставь это мне. Сейчас нам нужно топливо.
Он повернулся, подошел к своей лошади, взял ее под уздцы и повел прочь. Я пошел за ним. Мы остановились под какими-то деревьями поодаль, рядом с чем-то вроде парка. Майор повернул рычажок в своем черном ящике и нажал на кнопку.
– Снова тысяча восемьсот шестьдесят четвертый, –
сказал он и принюхался. – А воздух тут посвежее. Теперь садись на коня, скачи в штаб здешнего гарнизона и привези сколько можешь бензина. Это такая жидкость, они ею чистят мундиры. Скажи им, что за все отвечаю я. Понял?
– Так точно, сэр.
– Ну, скачи. Встретимся на этом месте.
Майор повернулся и пошел прочь вместе со своей лошадью.
В штабе часовой разбудил дежурного солдата, который разбудил капрала, который разбудил сержанта, который разбудил лейтенанта, который разбудил капитана, который облаял меня, а потом снова разбудил дежурного и велел дать мне, что нужно. Дежурный ушел, бормоча что-то про себя, и скоро пришел с шестью кувшинами по пять галлонов каждый; я привязал их к седлу, написал шесть расписок в трех экземплярах и повел коня назад по залитым лунным светом улицам Вашингтона, время от времени прикладываясь к своей фляге с яблочной водкой.
На обратном пути я нарочно снова проехал мимо Белого дома – и на этот раз в освещенном окне, крайнем к востоку, был виден чей-то силуэт. Высокий, худой, сутулый человек стоял с опущенной головой – так и чувствовались в нем безмерная усталость и в то же время сила духа, и воля, и величие. Я был убежден, что это он, но не могу утверждать с полной уверенностью, что видел президента: я человек правдивый и в жизни слова не приврал.
Под деревьями меня ждал майор, и я разинул рот: рядом стояла летающая машина.
– Сэр, – сказал я, – как это вы…
Майор прервал меня, улыбаясь и поглаживая бороденку
– Очень просто. Я встал у двери и передвинулся во времени, – он похлопал по черному ящику на своем седле,
– назад, к тому моменту, когда еще не было даже Смитсоновского музея. Потом я взял ящик под мышку, сделал несколько шагов вперед, снова повернул рычаг, передвинулся на нужное время в будущее и оказался около летающей машины. Таким же способом я и вышел вместе с ней –
лошадь вытащила ее сюда на полозьях.
– Так точно, сэр, – ответил я. Я решил, что буду вместе с ним дурака валять, пока ему не надоест, хотя никак не мог понять, как же он все-таки вынес эту летающую машину
Майор ткнул пальцем вперед.
– Я осмотрел местность, – сказал он. – Земля здесь очень твердая и каменистая.
Он повернулся к своему черному ящику, установил циферблат и нажал кнопку.
– Теперь здесь парк. Это примерно сороковые годы будущего века.
– Так точно, сэр, – ответил я.
Майор показал мне на узенькое горлышко сбоку машины.
– Заправь ее, – сказал он, я отвязал один кувшин, откупорил его и начал выливать в горлышко. Судя по звуку, там было совсем пусто, и из горлышка вылетело облачко пыли. Бензина влезло не очень много, всего несколько кварт, и майор начал отвязывать остальные кувшины.
– Привяжи их к машине, – сказал он, и пока я это делал, он шагал взад-вперед, бормоча про себя: «Чтобы завести ее, нужно, по-моему, просто повернуть пропеллер.
Но ей нужно будет помочь подняться в воздух». Он все ходил и ходил, теребя свою бороденку, а потом кивнул головой.
– Да, – сказал он. – Этого, наверное, будет достаточно.
Он остановился и поглядел на меня.
– Нервы у тебя в порядке, мой мальчик? Рука тверда?
– Так точно, сэр.
– Хорошо, сынок. Летать на этой штуке должно быть нетрудно. Главное, скорее всего, – это держать равновесие. Он указал на что-то вроде седла впереди машины.
– Я думаю, нужно просто лечь на живот, опираясь на это седло: оно соединено тросами с рулем и крыльями.
Переваливаясь из стороны в сторону, ты сможешь управлять машиной.
Потом он показал на какой-то рычаг.
– А это нужно поворачивать рукой, чтобы подниматься выше или опускаться ниже. Вот и все, насколько я могу судить, а если я упустил какую-нибудь мелочь, Ты в воздухе попробуешь так и сяк и сам сообразишь, что нужно делать. Ну как, мой мальчик, сможешь лететь на ней?
– Так точно, сэр.
– Прекрасно, – сказал он, ухватился за один из пропеллеров сзади машины и принялся его поворачивать. Я взялся за другой, но ничего не получалось: они только скрипели, как заржавленные. Но мы все крутили сильнее и сильнее, и скоро машина кашлянула.
– Давай, мой мальчик, давай! – заорал майор, и мы взялись за дело с новыми силами, и теперь машина кашляла каждый раз. Наконец мы так крутанули пропеллеры, что чуть сами не взлетели, – и тут машина, кашлянув, тут же кашлянула снова, еще и еще раз и уже не переставала кашлять, как будто чем-то подавилась. Потом она вроде как прокашлялась, чихнула, но не остановилась, а заработала гладко и ровно. Пропеллеры вертелись, сверкая в лунном свете, так быстро, что их почти не было видно, а летающая машина отряхнулась, как мокрая собака, и из всех ее частей вылетели облачка пыли.
– Отлично, – сказал майор и чихнул. Потом он связал вместе поводья наших лошадей, и получился один длинный повод. Он поставил лошадей впереди машины и сказал:
– Залезай, мой мальчик. У нас сегодня ночью еще много дел.
Я лег в седло, а он забрался на верхнее крыло и лег там ничком.
– Берись за рычаг, а я буду держать повод. Готов?
– Так точно, сэр.
– Пошел! – крикнул майор, дернув за повод, и лошади тронулись, опустив головы и зарываясь копытами в землю. Летающая машина запрыгала по траве на своих полозьях, но скоро выровнялась и заскользила вперед гладко, как санки по укатанному снегу. Лошади подняли головы и перешли на рысь, а мотор пыхтел себе и пыхтел.
– Труби «вперед», – сказал майор, я вынул из-за спины свою трубу и затрубил. Лошади налегли, и мы заскользили так быстро, что делали, наверное, миль пятнадцать, а то и двадцать в час.
– Теперь «атаку»! – заорал майор, и я протрубил «атаку». Копыта барабанили по дерну, кони храпели и ржали, мотор пыхтел все чаще и чаще, сзади завывали пропеллеры – и вдруг оказалось, что трава в добрых пяти футах под нами и повод тянется вниз. Потом – на секунду я испугался – мы обогнали лошадей, проскользнув прямо над ними, и они остались позади, а майор, бросив повод, завопил:
– Рычаг на себя!
Я налег на рычаг, и мы взлетели в воздух, как ракета.
Я вспомнил, что говорил майор о том, чтобы попробовать так и сяк, и немного отпустил рычаг. Машина вроде как выровнялась, и мы продолжали лететь – так быстро, как мне сроду не приходилось ездить. Здорово было. Я
глянул вниз, а там простирался Вашингтон – он был куда больше, чем я думал, и огней там светилось столько, что хватило бы на весь мир. Горели они ярко, совсем не так, как свечи или керосиновые лампы. В стороне, ближе к центру города, виднелось несколько красных и зеленых огней, они были такие яркие, что освещали даже небо.
– Берегись! – заорал майор. Прямо впереди на нас неслась высокая каменная игла – наверное, какой-нибудь огромный монумент. Сам не знаю почему, но я перевалился в седле влево, толкнув рычаг от себя. Одно крыло поднялось вверх, и летающая машина круто отвернула в сторону, чуть не задев этот монумент кончиком крыла. Потом я снова улегся прямо, крепко держа рычаг, и машина выровнялась. Все было точь-в-точь как в тот раз, когда я впервые в жизни управлял целой упряжкой. Я почувствовал, что я, оказывается, прирожденный погонщик летающей машины.
– Назад, в штаб-квартиру, – сказал майор. – Найдешь дорогу?
– Так точно, сэр, – ответил я и повернул на юг. Майор покрутил циферблат в своем черном ящике и нажал на кнопку. Тут я разглядел внизу в лунном свете немощеную дорогу, которая вела из Вашингтона в штаб-квартиру. Я
обернулся, чтобы в последний раз взглянуть на город, но теперь там виднелось очень мало огней, да и горели они совсем не так ярко, а красных и зеленых вовсе не было.
Но дорогу ярко освещала луна, и мы неслись вдоль нее, когда она шла прямо, а когда начинала петлять, срезали повороты и делали миль сорок в час, не меньше. Вокруг свистел холодный ветер, я достал белый шарф, который связала мне бабка, и обернул вокруг шеи. Конец шарфа мотался сзади и хлопал на ветру. Потом я подумал, что у меня может сдуть фуражку, и перевернул ее задом наперед. Теперь я чувствовал, что похож на настоящего погонщика летающей машины. Жалко, что меня не могли видеть девушки из нашего городка.
Некоторое время я привыкал к рычагу и седлу: вздымался вверх, пока мотор не начинал кашлять, поворачивал и нырял вниз, чтобы посмотреть, как низко я могу лететь над дорогой. Но в конце концов майор заорал, чтобы я перестал. Время от времени мы замечали, как на какойнибудь ферме загорается свет, а оглянувшись, видели качающийся огонек – это фермер выходил на двор с фонарем посмотреть, что это за шум слышен с неба.
Несколько раз по дороге мы подливали горючего, и довольно скоро, часа через два или даже меньше, у нас под крыльями поплыли огни лагеря. Майор стал свешиваться то в одну, то в другую сторону, глядя вниз. Потом он показал вперед.
– Вон на то поле, мой мальчик. Сможешь посадить эту машину с выключенным мотором?
– Так точно, сэр, – ответил я, остановил мотор, и машина заскользила вниз, как санки с горы, а я слегка шевелил рычагом и смотрел, как мне навстречу поднимается поле, становясь все больше и больше. Теперь мы летели совсем беззвучно – только ветер вздыхал в проволочных оттяжках, и мы опускались вниз, залитые белым лунным светом, как привидения. Линия нашего полета уперлась точно в край поля. За мгновение до этого я потянул рычаг на себя, и полозья с шуршанием коснулись травы. Немного попрыгав по земле, мы остановились и некоторое время сидели молча. В траве снова зазвенели цикады.
Майор сказал, что на краю поля есть обрыв, мы нашли его и подтащили машину к краю, а потом пошли через поле, высматривая какую-нибудь тропинку или часового.
Часового я нашел сразу – он охранял тропинку, лежа на траве с закрытыми глазами. У меня кончилась яблочная водка, так что я растолкал его и сказал, что мне нужно.
– Сколько дашь? – спросил он.
– Доллар, – сказал я.
Он пошел в лес и скоро вернулся с кувшином.
– Хорошая водка, – сказал он. – Самая лучшая. И как раз на доллар – почти полный кувшин.
Я попробовал – водка и в самом деле была хорошая, –
расплатился, отнес назад кувшин и привязал его к машине.
Потом я вернулся, позвал майора, и он подошел. Часовой повел нас по тропинке к палатке генерала.
Палатка была квадратная, в виде шатра; внутри горел фонарь, и передняя стенка была откинута. Часовой отдал честь.
– Майор из кавалерии, сэр, – он произнес это так, как и полагается неотесанной пехтуре. – Говорит, дело секретное и срочное.
– Впусти кавалерию, – послышался голос изнутри, и я сразу понял, что генерал – кавалерист в душе. Мы вошли и отдали честь. Генерал сидел на табуретке, поставив на большой деревянный бочонок ноги в старых башмаках с незавязанными шнурками. Он был в черной широкополой шляпе и расстегнутой куртке с погонами, на которых я заметил три серебряных звезды. У него были голубые глаза, твердый взгляд и окладистая борода.
– Вольно, – сказал он. – Ну?
– Сэр, – сказал майор, – у нас есть летающая машина, и я предлагаю, с вашего разрешения, использовать ее против мятежников.
– Что ж, – сказал генерал, раскачиваясь на табуретке, –
вы явились в самое время. Вся армия Ли собралась у
Колд-Харбора, и я сижу тут всю ночь за бутыл… то есть за разработкой плана. Их нужно разгромить, прежде чем…
Как вы сказали – летающая машина?
– Так точно, сэр, – ответил майор.
– Хммм, – сказал генерал. – А где вы ее взяли?
– Это долгая история, сэр.
– Должно быть, – сказал генерал, взял со стола окурок сигары и задумчиво сунул в рот. – Если бы я не сидел тут всю ночь за бутыл… то есть за работой, я бы, конечно, не поверил. А что вы предлагаете делать со своей летающей машиной?
– Погрузить на нее гранаты! – глаза у майора загорелись. – Сбросить их прямо на штаб мятежников! Заставить их немедленно сдаться!.
Генерал покачал головой.
– Нет, – сказал он. – Мне это не по душе. Военновоздушные силы – это еще не все, сынок. Никогда ваши машины не заменят солдат, помяните мое слово. Впрочем, и они могут пригодиться. Это хорошо, что вы ее привезли.
Он взглянул на меня.
– Ты ее погонщик, сынок?
– Так точно, сэр.
Он снова повернулся к майору.
– Я хочу, чтобы вы взлетели с картой, нанесли на нее позиции Ли и вернулись. Если вы это сделаете, майор, то завтра, третьего июня, после битвы под Колд-Харбором, я своими руками приколю вам на мундир серебряные листья. Потому что я тогда возьму Ричмонд, как… ну, не знаю как. Что до тебя, сынок, – он взглянул на мои нашивки, – ты станешь капралом. Может быть, я даже придумаю для тебя новую эмблему – пару крыльев на груди или чтонибудь в этом роде.
– Так точно, сэр, – сказал я.
– Где машина? – спросил генерал. – Пожалуй, я пройдусь, погляжу на нее. Проводите меня.
Мы с майором отдали честь, повернулись кругом и вышли, а генерал сказал:
– Идите, я вас догоню.
На краю поля он нас догнал, запихивая что-то в задний карман – платок, должно быть.
– Вот вам карта, – сказал он и протянул майору сложенную бумагу. Майор взял ее, отдал честь и сказал:
– Во имя Союза, сэр! За победу…
– Только без речей, – прервал его генерал. – Оставим их до предвыборной кампании.
– Так точно, сэр, – ответил майор и повернулся ко мне.
– Заправляй!
Я залил бак, мы раскрутили пропеллеры, и на этот раз машина завелась сразу. Мы влезли, я опять перевернул фуражку задом наперед и повязался шарфом.
– Хорошо, – одобрительно заметил генерал. – Это покавалерийски.
Мы оттолкнулись и камнем полетели вниз с обрыва, навстречу земле. Потом крылья зацепились за воздух, я потянул на себя рычаг, и мы взмыли вверх, ревя мотором и набирая высоту. Я сделал пологий разворот и два круга над полем – сначала футах в пятидесяти, потом в ста. В
первый раз генерал так и стоял там, задрав голову и разинув рот, и видно было, как сверкают в лунном свете его медные пуговицы. Когда я делал второй круг, его голова все еще была задрана вверх, но он, кажется, на нас не смотрел. Его рука была около рта, и он пил, по-моему, воду из стакана – я так подумал, потому что, как раз когда мы выровнялись и взяли курс на юг, он изо всех сил швырнул что-то в кусты, и я видел, как в лунном свете блеснуло стекло. Потом он быстро зашагал назад, в штаб.
Должно быть, спешил опять сесть за работу.
Моя машина ржала, брыкалась, резвилась – я только о том и думал, как бы не дать ей встать на дыбы, и жалел, что у нее нет поводьев. Внизу холодно поблескивала в лунном свете Джеймс-ривер, уходившая на восток и на запад, и виднелись огни Ричмонда, но разглядывать их мне было некогда. Машина заупрямилась, задрожала, и я не успел опомниться, как она закусила удила и ринулась прямо вниз. Ветер выл в оттяжках, и вода неслась нам навстречу.
Ну, объезжать норовистых лошадок мне не впервой. Я
налег на рычаг, чтобы задрать ей голову, и она снова устремилась наверх, как будто брала барьер. Но на этот раз в верхней точке подъема она не закашлялась, а фыркнула носом, почуяв свою силу, и я только успел крикнуть майору: «Держитесь!» – как она перевернулась на спину и снова понеслась вниз, к реке. Майор что-то завопил, но у меня внутри играла яблочная водка, и все это мне ужасно нравилось, и я тоже заорал от радости. Потом я снова потянул рычаг на себя, и мы опять перевернулись. Крылья скрипели, как седло на галопе. Высоко поднявшись, я круто наклонил машину влево, и мы описали широкую красивую дугу. Никогда еще я так не веселился.
Теперь машина немного приутихла. Я знал, что она еще не объезжена как следует, но она почувствовала, что в седле настоящий всадник, и решила переждать, а пока придумывала, что бы ей такое еще выкинуть Майор перевел дух и принялся ругаться. Я такого сроду не слыхивал, а ведь я с самого начала войны в кавалерии. Это было великолепно.
– Так точно, сэр, – сказал я, когда он остановился чтобы перевести дух. По-моему, он еще много чего собирался сказать, но у нас под крыльями заскользили огоньки лагеря, и ему пришлось вытащить карту и приняться за работу.
Мы летали взад и вперед параллельно реке, а он все возился с картой и карандашом. И мне и машине стало скучно. Я начал размышлять о том, видят ли нас мятежники, и подбирался все ближе к земле, и скоро прямо перед нами на полянке показался костер, а вокруг него – люди. Не знаю, кто это придумал – я или машина, но только я едваедва дотронулся до рычага, а она уже ринулась прямо вниз, на огонь.
Тут-то уж они нас и увидели, и услышали. С криками и руганью они разбежались, а я перегнулся через борт, крыл их почем зря и хохотал как сумасшедший. До земли оставалось футов пять, когда я снова потянул за рычаг, и огонь опалил нам хвост. Но на этот раз на подъеме мотор заикал, мне пришлось повернуть и медленно скользить вниз, чтобы дать ему перевести дух, а люди внизу уже схватились за свои мушкеты. И разозлились же они! Они стреляли с колена влет, как по утке, и вокруг нас свистели пули.
– Давай-давай! – заорал я, бросил машину вбок, достал свою трубу и заиграл «атаку». Мы неслись вниз, машина ржала как бешеная, люди побросали мушкеты и разбежались кто куда, а мы пролетели над самым костром и снова пулей взвились вверх под торжествующий рев машины.
Потом я повернул, и мы пронеслись над верхушками деревьев, упершись одним крылом в луну.
– Прошу прощения, сэр, – сказал я, не дожидаясь, пока майор опомнится. – Она резвится, молодая еще. Но меня она, кажется, уже слушается.
– Тогда поворачивай в штаб, пока ты нас не угробил, –
сказал он ледяным голосом. – Потом поговорим.
– Так точно, сэр, – ответил я, разыскал в стороне реку и полетел над ней. Сориентировавшись, майор вывел нас обратно к тому же полю.
– Подожди здесь, – сказал он, когда мы приземлились, и быстро пошел по тропинке к палатке генерала. Меня это вполне устраивало: я чувствовал, что пора бы выпить, и потом я уже полюбил эту машину и хотел о ней позаботиться. Я обтер ее своим шарфом и пожалел, что не могу задать ей какого-нибудь корму. Потом я пошарил внутри и начал крыть того часового, по-моему, даже почище, чем майор крыл меня. Водка-то моя пропала! Я знал, как было дело: он подобрался к машине и стащил кувшин, пока мы с майором были в палатке у генерала, а теперь, наверное, попивает у себя в караулке мою водку и посмеивается.
Тут быстрым шагом подошел майор.
– Назад, в Вашингтон, и поскорее, – сказал он. – Ее нужно доставить на место до рассвета, иначе прервется пространственно-временной континуум, и тогда неизвестно что будет.
Мы залили бак и полетели назад, в Вашингтон. Я притомился, да и машина, по-моему, тоже. Она чувствовала, что летит домой, в свое стойло, и мирно пыхтела.
Мы приземлились у тех же деревьев и вылезли, скрюченные от усталости. Машина немного поскрипела, повздыхала и успокоилась. Ей тоже изрядно досталось. В
крыльях у нее я нашел несколько дырок от пуль, и хвост был немного опален, а так ничего не было заметно.
– Шевелись, мальчик! – сказал майор. – Иди-ка, поищи лошадей, а я поставлю машину на место.
Он взялся за летающую машину и принялся толкать ее вперед.
Лошади паслись неподалеку. Я привел их и привязал к дереву. Когда майор вернулся, уже начинался рассвет. Мы пустились в обратный путь.
Ну, в общем, повышения я так и не получил. И крыльев на мундир тоже. Стало пригревать, и скоро я задремал.
Через некоторое время майор закричал: «Эй, мальчик!» – я проснулся и отозвался, но он звал не меня. Мимо бежал мальчишка-газетчик, и когда майор купил газету, я подъехал к нему, и мы вместе стали читать, сидя в седлах на окраине Вашингтона.
«БИТВА ПОД КОЛД-ХАРБОРОМ», – было написано там, а ниже множество заголовков поменьше: «ПОРАЖЕ-
НИЕ АРМИИ СОЮЗА! НЕУДАЧНАЯ АТАКА НА РАС-
СВЕТЕ! ОТБРОШЕНЫ ЧЕРЕЗ ВОСЕМЬ МИНУТ! СВЕ-
ДЕНИЯ О ПОЗИЦИЯХ МЯТЕЖНИКОВ ОКАЗАЛИСЬ
НЕВЕРНЫМИ! ПОТЕРИ КОНФЕДЕРАТОВ НЕВЕЛИКИ, НАШИ ОГРОМНЫ! ГРАНТ ОТКАЗЫВАЕТСЯ ДАТЬ
ОБЪЯСНЕНИЯ, ПРЕДСТОИТ РАССЛЕДОВАНИЕ!».
Дальше все излагалось подробно, но мы читать не стали.
Майор швырнул газету в канаву и пришпорил лошадь, а я
– за ним.
К полудню мы были уже в расположении своей части, но генерала разыскивать не стали. Мы решили, что это лишнее – не иначе как он сам нас разыскивает. Правда, он нас так и не нашел: может быть, из-за того, что я отрастил бороду, а майор свою сбрил. А как нас зовут, мы ему не говорили.
В конце-то концов Грант взял Ричмонд – это был настоящий генерал, – но ему пришлось долго держать осаду.
С тех пор я видел его только раз, много лет спустя, когда он уже не был генералом. Это было в Новый год, я попал в Вашингтон и увидел, что у Белого дома стоит длинная очередь. Я сообразил, что это, наверное, публичный прием, который президент устраивает каждый Новый год.
Я встал в очередь и через час вошел к президенту.
– Вы помните меня, генерал? – спросил я. Он поглядел, прищурившись, потом весь побагровел и начал сверкать глазами. Но потом вспомнил, что я тоже избиратель, сделал глубокий вдох, заставил себя улыбнуться и показал головой на дверь сзади себя.
– Подожди там, – сказал он.
Скоро прием кончился, и генерал уселся напротив меня за большой стол, сунув в рот огрызок сигары.
– Ну, – сказал он, не тратя времени на вступление, –
что там у вас тогда случилось?
Я ему и рассказал – я уж давно все сообразил. Рассказал, как наша летающая машина взбесилась и начала выкидывать коленца, пока мы не перестали понимать, где верх, а где низ, и как мы полетели обратно, на север, и сняли план наших собственных позиций.
– Это-то я понял сразу, как только приказал начать атаку, – сказал генерал.
Тогда я рассказал ему про часового, который продал мне краденую водку, и как я думал, что он опять ее у меня украл, а он этого вовсе и не делал. Генерал кивнул.
– Значит, вы заправили машину водкой вместо бензина?
– Так точно, сэр, – ответил я. Он снова кивнул.
– Ну ясно – конечно, машина взбесилась. Это был мой специальный сорт, тот самый, что так любил Линкольн.
Проклятый часовой всю войну ее у меня воровал.
Он откинулся в кресле, дымя сигарой.
– Ну что ж, пожалуй, даже хорошо, что у вас ничего не получилось. Ли тоже так думал. Мы говорили об этом в
Аппоматоксе перед его капитуляцией, когда ненадолго остались с ним наедине в домике фермера. Я никому никогда не говорил, о чем мы тогда разговаривали, и с тех пор все над этим голову ломают. Так вот, сынок, мы говорили о военно-воздушных силах, и Ли был против них, и я тоже. Войну нужно вести на земле, мой мальчик, а если когда-нибудь ее перенесут в воздух, то непременно начнут бросать бомбы, помяни мое слово, и ни к чему хорошему это не приведет. Поэтому мы с Ли решили помалкивать о воздушных машинах и сдержали слово – ни у меня, ни у него в мемуарах об этом ни звука нет. Правильно сказал
Билли Шерман: «Война – это ад, и нечего думать над тем, как бы сделать ее еще хуже». Так что ты тоже помалкивай про Колд-Харбор. Ни слова, пока тебе сто лет не стукнет.
– Так точно, – сказал я и помалкивал.
Но теперь мне, сынок, уже порядком за сто; если бы генерал хотел, чтобы я молчал и дальше, он бы мне так и сказал тогда. Так что нечего там махать руками, слышишь, мальчик? Подожди, пока кончит говорить самый что ни на есть первый пилот на свете!
ЛИЦО НА ФОТОГРАФИИ
На одном из верхних этажей нового Дворца правосудия я нашел номер комнаты, которую искал, и открыл дверь. Миловидная девушка взглянула на меня, оторвавшись от пишущей машинки, и спросила с улыбкой:
– Профессор Вейган?
Вопрос был задан только для проформы – она узнала меня с первого взгляда, – и я, улыбнувшись в ответ, кивнул головой, пожалев, что на мне сейчас профессорское одеяние, а не костюм, более подходящий для развлечений в Сан-Франциско. Девушка сказала:
– Инспектор Айрин говорит по телефону, подождите его, пожалуйста, – и я сел, улыбаясь снисходительно, как и подобает профессору.
Мне всегда мешает – несмотря на худощавое, задумчивое лицо научного работника – то, что я несколько моложав для моей должности профессора физики в крупном университете. К счастью, я уже с девятнадцати лет приобрел преждевременную седую прядку в шевелюре, а в университетском городке я обычно ношу эти ужасающие, оттопыренные мешками на коленях шерстяные брюки, которые, как принято считать, полагается носить профессорам
(хотя большинство из них предпочитает этого не делать).
Эта одежда, а также круглые, типично профессорские очки в металлической оправе, в которых я, в сущности, не нуждаюсь, и заботливый подбор чудовищных галстуков с дикими сочетаниями ярко-оранжевого, обезьяньеголубого и ядовито-зеленого цветов дополняли мой образ, мой «имидж». Это популярное ныне словцо в данном случае означает, что если вы хотите стать настоящим профессором, вам надо полностью отказаться от внешнего сходства со студентами.
Я окинул взглядом небольшую приемную: желтые оштукатуренные стены, большой календарь, ящики с картотекой, письменный столик, пишущая машинка и девушка.
Я следил за ней исподлобья – на манер, который я перенял у своих наиболее взрослых студенток, – изобразив отеческую улыбку на случай, если она поднимет головку и поймет мой взгляд. Впрочем, я хотел только одного: вынуть письмо инспектора и перечитать его еще раз, в надежде найти там незамеченный ранее ключ к ответу на вопрос, что ему от меня нужно! Но я испытываю трепет перед полицией, я чувствую себя виновным, даже когда спрашиваю у полисмена дорогу, и подумал, что если буду перечитывать письмо именно сейчас, то выдам свою нервозность, и мисс конфетка незаметно сигнализирует об этом инспектору.
В сущности, я знал наизусть то, что говорилось в письме. Это было адресованное в университетский городок официально-вежливое приглашение в три строчки –
явиться сюда для встречи с инспектором Мартином О.
Айрином, если не затруднит, когда Вам будет удобно, не будете ли Вы так любезны, пожалуйста, сэр. Я сидел, размышляя, что бы он предпринял, если б я в таком же учтивом стиле отказался; но тут зажужжал зуммер, девушка улыбнулась и сказала:
– Заходите, профессор.
Я поднялся, нервно глотая слюну, открыл дверь и вошел в кабинет инспектора.
Он встал из-за стола медленно и неохотно, словно колебался, не отправить ли меня в скором будущем за решетку. Протянув руку и глядя на меня подозрительно и без улыбки, он процедил:
– Очень любезно с вашей стороны, что вы пришли.
Я сел у его стола, догадываясь, что ожидало бы меня, откажись я от приглашения инспектора. Он простонапросто пришел бы в мою классную комнату, защелкнул бы на мне наручники и приволок сюда.
Я вовсе не хочу этим сказать, что у инспектора Айрина было отталкивающее или вообще чем-либо характерное лицо: оно было вполне заурядным. Столь же заурядным были его темные волосы и строгий серый костюм. Он был чуть моложе средних лет, несколько выше и крупнее меня, и по его глазам видно было, что во всей Вселенной его ничто не интересует, кроме службы. У меня сложилось твердое убеждение, что, помимо уголовной хроники, он ничего не читает, даже газетные заголовки; что он умен, проницателен, восприимчив и начисто лишен чувства юмора, что он ни с кем не знаком, разве что с другими полицейскими, которые ему также безразличны. Это был ничем не примечательный и все же страшный человек, и я знал, что моя улыбка была вымученной.
Айрин сразу же приступил к делу: чувствовалось, что он больше привык арестовывать людей, чем общаться с ними. Он сказал:
– Мы не можем найти несколько личностей, и я подумал: не окажете ли вы нам помощь. – Я изобразил вежливое удивление, но он игнорировал это. – Один из них работал швейцаром в ресторане Хэринга: вы знаете это заведение, ходите туда много лет. В конце трехдневного уикэнда он исчез с их полной выручкой – около пяти тысяч долларов. Он оставил записку, где написал, что любит ресторан Хэринга и с удовольствием там работал, но десять лет ему не доплачивали жалованье, и теперь он считает, что они квиты. У этого парня своеобразное чувство юмора. – Айрин откинулся в своем вертящемся кресле и бросил на меня хмурый взгляд из-под бровей. – Мы не можем его найти. Вот уже год, как он смылся, а мы все еще не напали на след.
Я решил, что он ждет от меня ответа, и выпалил первое, что пришло в голову:
– Возможно, он уехал в другой город и сменил фамилию?
Айрин посмотрел на меня удивленно, словно я сморозил еще большую глупость, чем он мог от меня ожидать.
– Это ему не поможет, – сказал он раздраженно.
Мне надоело чувствовать себя запуганным, и я храбро спросил:
– А почему бы и нет?
– Люди воруют не для того, чтобы спрятать добычу навсегда, они крадут деньги, чтобы их тратить. Сейчас он уже истратил эти деньги, думает, что о нем забыли, и снова нашел где-нибудь работу в качестве швейцара. – Наверное, у меня был скептический вид, потому что Айрин продолжал: – Разумеется, швейцара; он не сменит профессию. Это все, что он знает, все, что умеет. Помните Джона
Кэррэдайна, киноактера? Я видел его когда-то на экране.
У него было лицо длиной с целый фут, один сплошной подбородок и челюсть. Так вот, они очень похожи.
Айрин повернулся в кресле к картотеке, открыл ящик, вытащил пачку глянцевых листов бумаги и протянул мне.
Это были полицейские объявления о розыске преступника, и если человек на фотографии не слишком походил на киноактера, то во всяком случае у него было такое же редкостное лицо с длинной лошадиной челюстью.
– Он мог уехать и мог сменить имя, – отчеканил Айрин, – но он никогда не сможет изменить это лицо. Где бы он ни скрывался, мы должны были найти его еще несколько месяцев назад: эти объявления были разосланы повсюду. Я пожал плечами, и Айрин снова повернулся к картотеке. Он вынул оттуда и протянул мне большую старомодную фотографию, выполненную в тоне сепии и наклеенную на плотный серый картон. Это был групповой снимок, какой сейчас редко можно увидеть – все служащие мелкого заведения выстроились в ряд перед его фасадом.
Дюжина усатых мужчин и женщина в длинном платье улыбались и щурились на солнце, стоя перед небольшим зданием, которое я сразу узнал: это был ресторан Хэринга, и он не очень отличался от нынешнего.
– Я обнаружил это на стене в конторе ресторана; не думаю, чтобы кто-нибудь за все годы хоть раз взглянул на эту фотографию. Крупный мужчина в центре – первый хозяин ресторана, оставивший его в 1885 году, когда и был сделан снимок. Всех остальных на фото никто не знает. Но посмотрите внимательней на эти лица.
Я послушался и сразу понял, что он имел в виду: одна из физиономий на снимке как две капли воды была похожа на ту, в объявлении о розыске. Такое же поразительно длинное лицо, такой же лошадиный подбородок, по ширине чуть ли не равный скулам. Я взглянул на Айрина.
– Кто это? Его отец? Его дедушка?
– Возможно, – ответил он неохотно. – Конечно, это не исключено. Но не слишком ли он смахивает на того парня, за которым мы охотимся? И посмотрите, как он ухмыляется! Словно он специально устроился снова на работу в ресторан Хэринга в 1885 году и теперь оттуда, из прошлого, насмехается надо мной!
– Инспектор, – сказал я, – то, что вы рассказали, необычайно интересно и даже захватывающе. Поверьте, вы полностью завладели моим вниманием, и я никуда не тороплюсь. Но я не совсем понимаю…
– Вы ведь профессор, не так ли? А профессора – народ сообразительный, верно? Я ищу помощи всюду, где могу ее найти. У нас накопилось с полдюжины нераскрытых дел вроде этого: люди, которых мы, безусловно, должны были поймать, и притом без труда! Вот еще один – Вильям Спэнсер Гризон. Слышали когда-нибудь это имя?
– Еще бы! Кто же не слышал о нем в Сан-Франциско?
– Это точно, его хорошо знали в обществе. Но известно ли вам, что у него за душой не было ни цента собственных денег?
Я пожал плечами.
– Откуда мне знать? Я был уверен, что он богат.
– Богата его жена. Полагаю, из-за этого он и женился на ней, хотя люди болтают, что она сама за ним гонялась.
Она намного старше его. Я беседовал с ней: женщина со скверным характером. Он молод, красив и обаятелен, но, по слухам, очень ленив; вот почему он на ней женился.
– Я встречал его имя в газетных столбцах – в театральной хронике. Кажется, он имел какое-то отношение к театру?
– Всю жизнь он питал страсть к сцене, пытался стать актером, но не смог. Когда они поженились, она дала ему денег, чтобы он мог ездить играть в Нью-Йорк; это сделало его на некоторое время счастливым, он летал на восточное побережье для репетиций и загородных пробных спектаклей. Там он сблизился с молоденькими смазливыми актрисами. Жена наказала его как маленького ребенка.
Притащила его обратно сюда, и с той поры – ни цента на театр. Деньги на что-нибудь другое – пожалуйста, но он не мог купить даже билета на театральное представление: он был провинившимся мальчиком. Тогда он сбежал, прихватив с собой 170 тысяч ее долларов, и с тех пор о нем ни слуху ни духу. И это противоестественно, потому что он не может, понимаете вы, не может быть вдали от театра!
Он давно уже должен был объявиться в Нью-Йорке под чужим именем, в парике, с усами и прочей ерундой. Мы должны были поймать его несколько месяцев назад, но не поймали. Он тоже канул в воду. – Айрин встал с кресла. –
Надеюсь, вы говорили всерьез, что не торопитесь, потому что…
– В общем, конечно…
– Потому что у меня назначена встреча для нас обоих.
На Пауэлл-стрит, возле Эмбаркадеро. Пойдемте.
Он вышел из-за стола, взяв лежавший на краю большой конверт. Я заметил, что конверт был с обратным адресом Нью-йоркского полицейского управления и адресован Айрину. Он направился к дверям не оглядываясь,
словно не сомневался, что я последую за ним. Внизу, возле дома, он сказал:
– Мы можем взять такси – вместе с вами я смогу за него отчитаться. Когда я езжу, то пользуюсь фуникулером.
– В такой чудесный день, как сегодня, брать такси вместо трамвая – такое же безумие, как идти работать в полицию.
– Ну что ж, мистер турист! – сказал Айрин, и мы пошли в полном молчании. Трамвай как раз делал круг, и мы заняли наружные места. Стоял типичный день позднего сан-францисского лета, полный солнца и голубого неба; но Айрин мог с таким же успехом ехать в нью-йоркской подземке.
– Так где, по-вашему, находится сейчас Вильям Спэнсер Гризон? – спросил он, уплатив за проезд. – Я запросил нью-йоркскую полицию, и они разыскали его для меня за несколько часов – в городском историческом музее. – Айрин открыл конверт, вынул оттуда пачку подколотых листов серой бумаги и протянул мне верхний лист. Это была фотокопия театральной афиши в старомодном стиле, длинной и узкой. – Слыхали когда-нибудь об этой пьесе? –
спросил он, читая через мое плечо. Афиша гласила: «Сегодня и всю неделю! Семь гала-представлений!» И ниже, крупным шрифтом: «Здравствуйте, я ваш дядюшка!»
– Ну, кто же ее не знает! – ответил я. – Шекспир, не так ли?
Мы проезжали Юнион-сквер и отель святого Франциска.
– Приберегите свои шуточки для ваших студентов.
Прочтите лучше список действующих лиц.
Я прочел длинный перечень имен; в те давние времена на сцене бывало не меньше народу, чем в зрительном зале.
В конце списка стояло: «Участники уличной толпы», а дальше – добрый десяток исполнителей, и среди них –
Вильям Спэнсер Гризон.
– Этот спектакль шел в 1906 году, – сказал Айрин. – А
вот другой – зимнего сезона 1901 года.
Он всучил мне вторую фотокопию, ткнув пальцем в самый конец списка действующих лиц. Я прочел: «Зрители на Больших скачках»; мельчайшим шрифтом шла целая куча имен, третьим из которых было Вильям Спэнсер Гризон.
– У меня имеются фотокопии еще двух театральных афиш, – сказал Айрин, – одна от 1902, года, другая от
1904-го, и всюду среди исполнителей – его имя.
Трамвай остановился, мы вышли из вагона и пошли дальше по Пауэлл-стрит. Возвращая фотокопию, я предположил:
– Это его дедушка. Может быть, Гризон унаследовал от него свою страсть к сцене?
– Не слишком ли много дедушек вы обнаружили сегодня, профессор? – Айрин вкладывал снимки обратно в конверт.
– А что обнаружили вы, инспектор?
– Сейчас я вам покажу, – ответил он, и мы продолжали путь молча. Впереди виднелся залив, очень красивый в солнечном освещении, но Айрин даже не смотрел в ту сторону. Мы подошли к невысокому зданию с табличкой на дверях: «Студия 17: коммерческое телевидение». Мы вошли внутрь, миновали пустую контору, затем громадную комнату с бетонированным полом, на котором плотник мастерил переднюю стену маленького коттеджа.
Пройдя помещение, инспектор – он явно уже был здесь ранее – толкнул двойную дверь, и мы очутились в крохотном кинозале. Я увидел белый экран, дюжину кресел и проекционную будку. Голос из будки спросил:
– Инспектор?
– Да. Вы готовы?
– Сейчас, только вставлю пленку.
– Хорошо. – Айрин показал мне на кресло и уселся рядом со мной. Тоном доверительной беседы он начал: – В
этом городе жил чудак и оригинал по имени Том Вилей –
фанатик спорта, настоящий маньяк. Он посещал все боксерские схватки, все спортивные игры и соревнования, все автогонки и дерби, и все они вызывали у него одно лишь недовольство. Мы его знали, потому что он то и дело бросал свою жену. Она ненавидела спорт, придиралась к мужу, а нам приходилось ловить и возвращать его, когда она подавала жалобы на беглеца, не желающего содержать семью. К счастью, он никогда не удирал далеко. Но даже когда мы его ловили, все, что он говорил в свое оправдание,
– это что спорт умирает, а публике на это наплевать, и самим спортсменам тоже, и что он мечтает вернуться в те славные и далекие времена, когда спорт был поистине велик. Вы улавливаете мою мысль?
Я кивнул. Кинозал погрузился во тьму, и над нашими головами зажегся яркий луч света. На экране замелькали кадры кинофильма. Он был черно-белым, квадратным, по размеру кадра; движения – отрывистые и более быстрые, чем мы привыкли видеть. К тому же фильм был немым,
даже без музыки, и было странно следить за движущимися фигурами, не слыша никаких звуков, кроме жужжания проектора. На экране показался Янки-стадион – его общий вид, затем я увидел человека с битой в руках. Камера приблизилась к нему, и я узнал знаменитого бейсболиста Бэйба Рута. Он изготовился, ударил битой по мячу и побежал, радостно смеясь. На экране возникла надпись: «Бэйб снова совершил это!» – и дальше говорилось, что это его пятьдесят первый успех в сезоне 1927 года и что, похоже, Рут поставит новый рекорд.
Лента кончилась, на экране замелькали какие-то бессмысленные цифры и перфорация, и Айрин сказал:
– Голливудская киностудия устроила этот просмотр для меня, бесплатно. Они иногда снимают здесь свои телевизионные фильмы про полицейских и гангстеров, так что им выгодно сотрудничать с нами.
Неожиданно на экране появился Джек Демпси, он сидел на табуретке в углу ринга, над ним хлопотал секундант. Пленка была плохой: ринг находился на открытом воздухе, солнце мешало съемкам. И все же это был великий Демпси собственной персоной, во всей своей красе, года в двадцать четыре, небритый и хмурый. Покружив по рингу, камера показала ряды зрителей в соломенных шляпах с плоским верхом, в жестких воротничках; одни засунули за шею носовые платки, другие вытирали пот с лица. Затем, в странной тишине, Демпси вскочил, низко пригибаясь, пошел к центру ринга и стал боксировать с необычайно медлительным противником; мне показалось, я узнал Джесса Виларда. Внезапно лента оборвалась.
– Я потратил шесть часов на просмотр всех этих фильмов и отобрал три. Сейчас будет последний.
На экране возникла лужайка для игры в гольф; тут и там у кромки стояли зрители. Спортсмен, улыбаясь, примеривался клюшкой к мячу; на нем были короткие широкие штаны до колен, волосы разделены посередине пробором и зачесаны назад. Это был Бобби Джонс, один из сильнейших игроков в гольф во всем мире, в зените своей славы в 1920 году. Он ударил клюшкой по мячу, мяч завертелся и упал в лунку. Джонс поспешил за ним, а толпа зрителей кинулась на травяное поле за своим любимцем –
все, кроме одного. Ухмыляясь, этот зритель пошел вперед, прямо на кинокамеру, остановился, помахал шляпой в знак приветствия и отвесил поясной поклон. Камера повернула от него, чтобы следовать за Джонсом, который наклонился, доставая мяч из лунки. Затем Джонс двинулся дальше по лужайке; человек, салютовавший нам шляпой, тоже последовал за игроком вместе с толпой зрителей, пересек весь экран и скрылся из виду навсегда. Лента кончилась, в зале зажегся свет.
Айрин повернулся ко мне лицом.
– Это был Вилей, – отчеканил он, – и бесполезно уверять меня, что это его дедушка, так что и не пытайтесь. Он еще даже не родился, когда Бобби Джонс выиграл чемпионат по гольфу, и все же это был, абсолютно точно и бесспорно, Том Вилей – фанатик спорта, исчезнувший из
Сан-Франциско полгода назад. – Он умолк в ожидании ответа, но я не отвечал: что я мог возразить? Айрин продолжал: – Он также сидел на стадионе, когда Рут делал перебежку, хотя его лицо было в тени. И я подозреваю, что это он корчил гримасы вместе с другими зрителями возле ринга, когда Демпси вел бой, хотя я и не полностью уверен.
Проекционная будка открылась, киномеханик вышел со словами: «На сегодня все, инспектор?», и Айрин ответил: «Да». Механик взглянул на меня, бросив: «Привет, профессор!», и ушел.
Айрин кивнул:
– Да, профессор, он вас знает. Он помнит вас. На прошлой неделе он крутил для меня эти ленты, и когда мы смотрели фильм про Бобби Джонса, он заметил, что уже демонстрировал его кому-то несколькими днями раньше.
Я спросил – кому же? – и он ответил: профессору из университета по фамилии Вейган. Профессор, мы с вами –
единственные два человека во всем мире, заинтересованные в этом маленьком отрывке кинофильма. Поэтому я занялся вами; я выяснил, что вы – профессор физики, блестящий ученый с незапятнанной репутацией, но это мне ни о чем не говорит. Вы не зарегистрированы в уголовной полиции, во всяком случае, у нас; но и это ничего не значит: большинство людей не зарегистрированы как уголовники, хотя по меньше мере половина из них этого заслуживает. Тогда я обратился к газетам и обнаружил в архиве
«Кроникл» подборку вырезок, посвященных вам. – Айрин поднялся. – Пойдемте отсюда.
Выйдя наружу, мы свернули к заливу, прошли до конца улицы и вышли на деревянную пристань. Мимо проплывал большой танкер, но Айрин даже не взглянул на него. Он сел на скамью, указав мне на другую рядом с ним, и вынул из нагрудного кармана газетную вырезку.
– Здесь сказано, что вы выступали перед Американоканадским обществом физиков в июне 1961 года в отеле
Фэйрмонт.
– Разве это преступление?
– Возможно; я не слышал вашего доклада. Он назывался «О некоторых физических аспектах времени» – так написано в заметке. Но я не утверждаю, что понял остальное.
– Это был специальный научный доклад.
– И все же я уловил главную мысль: вы заявили, что существует реальная возможность отправить человека в прошлое.
Я улыбнулся.
– Многие люди думали так же, включая Эйнштейна.
Это широко распространенная теория. Но только теория, инспектор!
– Тогда поговорим кое о чем более практическом, чем теория. Мне удалось выяснить, что более года назад Сан-
Франциско стал очень бойким рынком сбыта старинных денег. Все торговцы старыми монетами и банкнотами приобрели новых заказчиков – люди странные и эксцентричные, они не называли себя, их не волновало, в каком состоянии находятся старинные деньги. И чем больше банкноты были подержаны, грязны и измяты – а значит и дешевле – тем больше их это устраивало. Одним из клиентов примерно год назад был человек с необычайно длинным худым лицом. Он скупал монеты и банкноты всех видов и достоинств, лишь бы они были выпущены не позже
1885 года. Другой клиент, молодой, привлекательный и обходительный, скупал деньги, выпущенные не позже начала 1900 годов. И так далее. Вы догадываетесь, почему я привел вас сюда?
– Нет.
Он показал на пустынную пристань.
– Потому что здесь никого нет. Мы тут одни, без свидетелей. А теперь расскажите мне, профессор – я ведь не смогу использовать ваши слова как доказательство вины,
– каким образом, черт побери, вы это делали? Мне кажется, вы жаждете с кем-нибудь поделиться. Так почему бы не со мной?
Как ни странно, он был прав: я действительно мечтал рассказать кому-нибудь! Поспешно, чтобы не передумать, я начал:
– Я использую маленький черный ящичек с кнопками.
Медными кнопками. – Я остановился, несколько секунд смотрел на белый сторожевой катер, ускользавший из виду за островом Ангела, потом пожал плечами и снова повернулся к Айрину. – Но вы же не физик, как я смогу вам объяснить? Скажу лишь одно: человека действительно можно отправить в прошлое. Это намного легче, чем предполагал любой теоретик. Я регулирую кнопки и циферблат и фокусирую черный ящик на объекте наподобие фотокамеры. Затем я включаю специальное устройство и выпускаю наружу очень точно направленный луч – поток электронов. С этого момента человек – как бы это лучше выразиться? – словно плывет по течению сам по себе, он фактически свободен от времени, которое движется вперед без него. Я высчитал, что прошлое нагоняет его со скоростью двадцать три года и пять с половиной месяцев за каждую секунду того времени, пока включен поток.
Пользуясь секундомером, я посылаю человека в любой период прошлого, куда он пожелает, с поправкой плюсминус три недели. Я знаю, что это срабатывает, ведь Том
Вилей – только один из примеров. Все они пытались так или иначе сообщить мне, что прибыли благополучно. Вилей обещал разбиться в лепешку, но попасть в кадры кинохроники, когда Джонс выиграет открытый чемпионат по гольфу. На прошлой неделе я посмотрел эту хронику и убедился, что он сдержал слово.
Инспектор кивнул головой.
– Хорошо. А теперь скажите: зачем вы это делали?
Они преступники, вы это знали, и все же помогли им бежать.
– Нет, инспектор, я не знал, что они преступники. И
они мне об этом не говорили. Просто они были похожи на людей, которые не могут справиться с грузом своих забот.
А я им помогал, потому что нуждался в том же, в чем нуждается врач, открывший новую сыворотку – в добровольцах, чтобы испытать ее! И я их нашел: ведь вы не единственный, кто прочел то сообщение в газете.
– И где вы это делали?
– За городом, на берегу. Поздно ночью, когда никого не было вокруг.
– Почему именно там?
– Есть опасность, что человек окажется на участке времени и пространства, уже занятом каменной стеной или зданием. Его молекулы перемешаются с другими молекулами, чужеродными, что будет крайне неприятно. Но на берегу залива никогда не было зданий. Конечно, в различные времена уровень берега мог быть немного выше, чем сейчас. Поэтому, чтобы исключить всякий риск, я предлагал каждому из них подняться на спасательную вышку в одежде того времени, в которое он собирался отбыть, и с запасом денег в кармане, имевших хождение в тот период. Я осторожно направлял на него черный ящичек, так, чтобы исключить вышку из сферы действия аппарата, включал поток электронов на определенное время, и человек оказывался на берегу пятьдесят, шестьдесят, семьдесят, восемьдесят или девяносто лет назад.
Некоторое время инспектор сидел, кивая головой, глядя отсутствующим взором на шершавые доски у пристани.
Потом он снова посмотрел на меня и сказал, энергично потирая ладони:
– Так вот, профессор, а теперь извольте-ка вернуть их всех назад!
Я отрицательно замотал головой, но он мрачно усмехнулся:
– Нет, вы их вернете, или я поломаю всю вашу карьеру! Это в моей власти, вы это знаете. Я выложу все, что рассказал вам одному, и докажу, что вы замешаны в этом деле. Каждый из пропавших людей посещал вас более чем однажды, и, вне всякого сомнения, кого-нибудь из них заметили. Вас даже могли видеть на берегу. Как только я выложу все это, ваша педагогическая деятельность закончится навсегда.
Я все еще мотал головой, и он спросил подозрительно:
– Хотите сказать, что не желаете это сделать?
– Я хочу сказать, что не могу это сделать, идиот! Каким образом, черт побери, я до них доберусь? Они находятся в прошлом – в 1885-м, 1906-м, 1927-м или других годах; абсолютно невозможно вернуть их обратно! Они ускользнули от вас, инспектор, и навеки!
Айрин буквально побелел.
– Нет! – закричал он. – Нет, они преступники и должны быть наказаны, должны!
Я был изумлен.
– Но почему? Никто из них не причинил большого вреда. Для нас они больше не существуют. Забудьте о них!
Инспектор заскрежетал зубами.
– Никогда, – прошептал он и перешел на крик: – Я никогда не забываю тех, кто находится в розыске!
– Я вас понял, Жавер.
– Кто, кто?
– Вымышленный полицейский из книги под названием
«Отверженные». Он потратил полжизни, охотясь за человеком, которого никто уже не разыскивал.
– Настоящий служака. Хотел бы я иметь его в своем управлении!
– Обычно о нем отзываются невысоко.
– Но он в моем вкусе! – Айрин начал медленно ударять кулаком об ладонь, бормоча: – Они должны быть наказаны, должны быть наказаны! – Затем, метнув на меня гневный взор, заорал: – Убирайтесь отсюда! Живо!
Я с радостью выполнил его приказ и пошел прочь.
Пройдя квартал, я обернулся: он все еще сидел на том же месте у пристани, ударяя кулаком об ладонь.
Я думал, что никогда больше не увижу его, но ошибся.
Мне пришлось встретиться с инспектором Айрином еще раз. Однажды поздно вечером, дней через десять, он позвонил мне на квартиру и попросил – нет, приказал – немедленно явиться с моим черным ящичком, и я подчинился, хотя уже приготовился ко сну: Айрин был не из тех, кого можно легко ослушаться. Когда я подошел к большому темному зданию Дворца правосудия, он уже ждал в подъезде. Не сказав ни слова, он кивнул мне на машину, мы уселись и поехали в полном молчании в тихий, малонаселенный район. Улицы были пусты, дома затемнены; было около полуночи. Мы остановились на освещенном углу одной из улиц, и Айрин сказал:
– С тех пор, как мы виделись в последний раз, я много размышлял и провел некоторые изыскания. – Он показал на почтовый ящик около фонаря в дюжине футов от нас. –
Это один из трех почтовых ящиков в городе Сан-
Франциско, которые находятся на одном и том же месте в течение почти девяноста лет. Разумеется, сами ящики могли смениться, но место – то же самое. А теперь мы отправим несколько писем.
Инспектор вынул из кармана пальто пачку конвертов, надписанных пером и чернилами, с наклеенными марками. Он показал мне верхний конверт, засунув остальные обратно в карман:
– Видите, кому они адресованы?
– Начальнику полиции.
– Совершенно верно: начальнику сан-францисской полиции в 1885 году! Это его имя, его адрес и тот вид марок, который был тогда в ходу. Сейчас я подойду к почтовому ящику и буду держать конверт у щели. Вы сфокусируете ваш аппарат на конверте, включите поток в момент, когда я буду опускать конверт в щель, и он упадет в почтовый ящик, висевший здесь в 1885 году!
Я в восхищении покачал головой: это было очень изобретательно и остроумно!
– А что говорится в письме?
Он усмехнулся зловещей дьявольской усмешкой.
– Я вам скажу, о чем там говорится! Каждую свободную минуту с тех пор, как мы виделись с вами последний раз, я тратил на чтение старых газет в библиотеке. В декабре 1884 года произошло ограбление, похищено несколько тысяч долларов, и после этого в течение многих месяцев в газетах не было ни слова о том, что преступление раскрыто. – Он поднял вверх конверт. – Так вот, в этом письме я советую начальнику полиции заняться расследованием одного человека, работающего в ресторане
Хэринга, человека с необычайно длинным и худым лицом.
И что если они обыщут его комнату, то, возможно, найдут там несколько тысяч долларов, в которых он не сможет отчитаться. И что у него – это абсолютно точно! – не будет алиби на время совершения грабежа в 1885 году! –
Инспектор улыбнулся, если только это можно было назвать улыбкой. – Этого для них вполне достаточно, чтобы отправить его в Сан-Куэнтинскую тюрьму и считать дело закрытым; в те времена они не церемонились с преступниками!
У меня отвисла челюсть.
– Но ведь он же не виновен в этом грабеже!
– Он виновен в другом – почти таком же! И он должен быть наказан, я не позволю ему скрыться, даже в 1885 год!
– А другие письма?
– Можете догадаться сами. В каждом говорится об одном из тех, кому вы дали удрать, и каждое адресовано полиции в соответствующее место и время. И вы поможете мне отправить все эти письма, одно за другим. А если откажетесь, я вас уничтожу, профессор, обещаю вам твердо!
– Он открыл дверцу, вышел из машины и пошел к углу, даже не оглянувшись.
Кое-кто наверняка скажет, что мне следовало отказаться применить свой аппарат независимо от последствий.
Что ж, может быть, и так. Но я не отказался. Инспектор говорил правду, когда угрожал мне – я это знал и не хотел разрушать свою карьеру, нынешнюю и будущую. Я сделал лучшее, что мог: просил и умолял. Когда я вышел из машины с моим аппаратом, инспектор ждал у почтового ящика.
– Пожалуйста, не принуждайте меня! – воскликнул я. –
Пожалуйста! В этом нет необходимости! Вы ведь никому не рассказывали о своем плане, не так ли?
– Конечно, нет. Меня бы подняла на смех вся полиция!
– Тогда забудьте об этом! Зачем преследовать несчастных людей? Не так уж они и виновны. Они никому не причинили слишком большого вреда. Будьте гуманны!
Простите их! Ваши взгляды противоречат современным представлениям о реабилитации преступников!
– Надеюсь, вы кончили, профессор? Так вот, знайте: ничто в мире не заставит меня переменить свое решение.
А теперь включайте ваш ящик, будь он проклят!
Я безнадежно пожал плечами и стал подкручивать стрелки на циферблате.
Я глубоко убежден, что самый загадочный случай за всю историю сан-францисского Бюро розыска пропавших никогда не будет раскрыт. Только мы двое – я и инспектор
Айрин – знаем ответ, но мы никогда не расскажем. Некоторое время имелся ключ к разгадке, и кто-нибудь мог на него случайно наткнуться, но я его обнаружил. Ключ этот находился в отделе редких фотографий в публичной библиотеке. Там хранились сотни снимков старого Сан-
Франциско, и я все их просмотрел, пока не нашел нужный.
Затем я украл этот снимок: одним преступлением больше в моем списке провинностей – это уже не имело значения.
Время от времени я достаю эту фотографию и рассматриваю ее: на ней изображена группа людей в форме, выстроившихся в ряд перед сан-францисским полицейским участком. Снимок напоминает мне старинную кинокомедию: все они одеты в длинные форменные пальто до колен, а на головах – высокие фетровые шлемы с загнутыми вниз полями. Почти у всех – обвисшие усы, и каждый держит на плече длинную трость, словно собирается обрушить ее на чью-то голову. С первого взгляда эти люди похожи на каменные изваяния, но приглядитесь к их лицам внимательней, и вы измените мнение.
Особенно тщательно вглядитесь в лицо человека с сержантскими нашивками, что стоит в самом конце шеренги. На этом лице застыло выражение лютой ярости, и оно смотрит (или мне это постоянно кажется?) прямо на меня. Это – неукротимое в своем бешенстве лицо Мартина
О. Айрина из сан-францисской полиции; он находится в прошлом, к которому действительно принадлежит, в прошлом, куда я отправил его с помощью моего маленького черного ящичка, в 1893 году.
Роберт ЯНГ
НА РЕКЕ
В тот момент, когда он уже начал было подумывать, что Река предоставлена всецело лишь ему одному, Фаррел вдруг увидел на берегу девушку. Вот уже почти два дня, два речных дня, он плыл вниз по течению. Он был убежден, хотя и не мог выяснить это-то наверняка, что время на этой Реке мало что имеет общего с реальным временем.
Были тут и дни и ночи, это так, а от одного заката до другого протекали двадцать четыре часа. И все-таки между тем временем, в котором он когда-то жил, и теперешним существовала какая-то неуловимая разница.
Девушка стояла у самого края воды и махала маленьким носовым платком. Очевидно, ей нужно переехать на другой берег. Что ж? Работая шестом, он погнал плот по спокойной воде к небольшой заводи. В нескольких ярдах от берега плот коснулся дна, и Фаррел, опершись о шест, чтобы удержать плот на месте, взглянул вопросительно на незнакомку. Он был удивлен при виде ее молодости и красоты, а этого, по его предположению, никак не должно было быть. Допустим, что он сам создал ее, тогда вполне логично, что он создал ее приятной на вид. Ну, а если нет, тогда было бы крайне нелепо предполагать, что лишь только потому, что тебе тридцать лет, другим для разочарования в жизни также потребуется достичь именно этого возраста.
Волосы девушки, коротко подстриженные, были лишь чуть темнее яркого полуденного солнца. У нее были голубые глаза, россыпь веснушек усеяла ее маленький носик, слегка прихватив и щеки. Она была тонкой и гибкой и сравнительно высокой.
– Могу ли я сесть на ваш плот и поплыть с вами вместе? – донесся ее вопрос с берега – их разделяло несколько ярдов. – Мой собственный сорвало этой ночью с причала и унесло, и я с утра иду пешком.
Фаррел заметил: ее желтенькое платье в нескольких местах порвано, а изящные домашние туфли, охватывающие лодыжки, в таком состоянии, что их оставалось лишь выбросить.
– Разумеется, можно, – ответил он. – Только вам придется добираться до плота вброд. Я не могу подогнать его ближе.
– Это ничего…
Вода оказалась ей по колено. Фаррел помог незнакомке взобраться на плот и усадил рядом с собой, затем сильным толчком шеста погнал плот на середину Реки. Девушка встряхнула головой так, словно некогда носила длинные волосы, и, забыв, что теперь они коротко подстрижены, хотела подставить их ветру.
– Меня зовут Джил Николс, – сказала она. – Впрочем, теперь это неважно.
– А меня Клиффорд, – ответил он, – Клиффорд Фаррел. Она сняла мокрые туфли и чулки. Положив шест, он сел рядом с ней.
– Я уже было начал подумывать, что на этой Реке я один-одинешенек.
Свежий встречный ветерок дул на Реке, и она подставила ему лицо, будто надеясь, что волосы начнут развеваться. Ветерок старался вовсю, но сумел только слегка взъерошить маленькие завитки, спадавшие на матовый лоб.
– Я тоже так думала.
– По моим предположениям, эта Река являлась лишь плодом моего воображения, – сказал Фаррел. – Теперь я вижу, что ошибался – если, конечно, вы сами не плод моего воображения.
Она с улыбкой посмотрела на него.
– Не может быть! А я думала, что вы…
Он улыбнулся в ответ. Улыбнулся впервые за целую вечность.
– Быть может, сама Река – аллегорический плод нашей с вами фантазии. Быть может, и вам следует пройти такой же путь. Я хочу сказать, что и вам нужно плыть вниз по темно-коричневому потоку с деревьями по сторонам и голубым небом над головой. Верно?
– Да, – сказала она. – Я всегда думала, что, когда придет время, все будет выглядеть именно так.
Его осенила неожиданная мысль.
– Я считал это само собой разумеющимся, ибо попал сюда по доброй воле. Вы тоже?
– Да…
– Наверное, – продолжал он, – два человека, выражающие какую-то абстрактную идею посредством одной и той же аллегории, способны воплотить эту аллегорию в реальность. Быть может, на протяжении ряда лет мы, сами того не сознавая, вызывали Реку к существованию.
– А потом, когда время пришло, мы бросились плыть по ее течению… Но где находится эта Река, в каком месте? Не может быть, чтобы мы все еще пребывали на Земле.
Он пожал плечами.
– Кто знает? Возможно, реальность имеет тысячи различных фаз, о которых человечество ничего не знает. Не исключено, что мы в одной из них… Сколько времени вы уже плывете по Реке?
– Немногим больше двух дней. Я сегодня несколько замешкалась, потому что вынуждена была идти пешком.
– Я на ней почти два дня, – сказал Фаррел.
– В таком случае я отправилась первой… первой бросилась плыть…
Она выжала чулки и разложила их на плоту сушить, потом поставила неподалеку от них свои запачканные туфли. Некоторое время она молча смотрела на них.
– Интересно все-таки, зачем мы все это проделываем в такое время, – заметила она. – Ну какая для меня теперь разница, будут ли мои чулки сухими или мокрыми?
– Говорят, привычка – вторая натура, – сказал он. –
Прошлый вечер в гостинице, в которой остановился на ночь, я побрился. Правда, там имелась электробритва, но мне-то, спрашивается, с какой стати было беспокоиться.
Она криво усмехнулась.
– Что же, и я вчера вечером в гостинице, где остановилась на ночь, приняла ванну. Хотела было сделать укладку, да вовремя опомнилась. Похоже, не так ли?
Да, так, но он промолчал. Впрочем, что тут скажешь?
Постепенно разговор перешел на другие темы. Сейчас плот проплывал мимо маленького островка. Тут на Реке было множество таких островков – большей частью маленьких, лишенных растительности насыпей из песка и гравия, правда, на каждом из них хоть одно деревцо, да имелось. Он взглянул на девушку. Видит ли и она этот остров? Взгляд ее подсказал ему, что видит.
И тем не менее он продолжал сомневаться. Трудно было поверить, что два человека, которые по сути никогда и в глаза друг друга не видели, могли трансформировать
процесс смерти в аллегорическую форму, живую до такой степени, что ее невозможно было отличить от обычной действительности. И еще более трудно было поверить, что те же самые два человека могли так вжиться в эту иллюзию, что даже встретились там друг с другом.
Все происходящее было чересчур странным. Он ощущал окружающее вполне реально. Дышал, видел, испытывал радость и боль. Да, дышал, видел и в то же время знал, что фактически не находится на Реке по той простой причине, что в другой реальной фазе действительности сидит в своем автомобиле, стоящем в гараже с включенным двигателем, а двери гаража крепко заперты на замок.
И тем не менее каким-то образом – каким, он не мог понять – Фаррел находился на этой Реке, плыл вниз по течению на странном плоту, которого он в жизни никогда не строил и не покупал, о существовании которого не знал, пока не обнаружил себя сидящим на бревнах два дня назад. А может, два часа?.. Или две минуты?.. Секунды?..
Он не знал. Все, что ему было известно, так это то
(субъективно по крайней мере), что почти сорок восемь часов прошло с той поры, как он увидел себя на Реке. Половину этого времени он провел непосредственно на самой Реке, а другую – в двух пустых гостиницах; одну он обнаружил на берегу вскоре после обеда в первый день, другую – во второй.
Еще одна странность озадачивала его здесь. По Реке почему-то оказалось невозможным плыть по ночам. Не изза темноты, хотя в темноте плыть опасно, а вследствие непреодолимого отвращения, которое он испытывал, отвращения, связанного со страхом и страстным желанием прервать неотвратимую поездку на срок достаточно долгий, чтобы отдохнуть. Достаточно долгий, чтобы обрести покой. Но почему покой, спросил он себя. Разве не к вечному покою несет его Река? Разве полное забвение всего не является единственным реальным покоем? Последняя мысль была банальной, но другого ничего не оставалось.
– Темнеет, – промолвила Джил. – Вскоре должна появиться гостиница.
Ее туфли и чулки высохли, и она снова надела их.
– Как бы нам не пропустить ее. Вы следите за правым берегом, я за левым.
Гостиница оказалась на правом берегу. Она стояла у самой кромки воды. Маленький волнолом вдавался в воду на десяток футов. Привязав к нему плот за причальный трос, Фаррел ступил на толстые доски и помог взобраться
Джил. Насколько он мог судить, гостиница, внешне по крайней мере, ничем не отличалась от двух предшествующих, в которых он ночевал до этого. Трехэтажная и квадратная, она сверкала в сгустившихся сумерках теплым золотом окон.
Интерьер по существу также оказался во всем похожим, а небольшие отличия зависели, безусловно, от сознания Джил, поскольку и она ведь должна была принять участие в создании этой гостиницы. Небольшой вестибюль, бар и большая столовая. На второй и третий этажи вела, извиваясь, лестница из полированного клена, а вокруг горели электрические лампочки, вмонтированные в газовые рожки и керосиновые лампы.
Фаррел оглядел столовую.
– Похоже, мы с вами отдали дань старому колониальному стилю, – сказал он.
Джил улыбнулась.
– Ну, это потому, что у нас с вами, видимо, много общего, так я полагаю?
Фаррел показал на сверкающий автомат-пианолу в дальнем углу комнаты и сказал:
– Однако же кто-то из нас немного напутал. Этот автомат никакого отношения к колониальному стилю не имеет.
– Боюсь, тут отчасти виновата я. Точно такие автоматы стояли в тех двух гостиницах, где я ночевала до этого.
– По-видимому, наши гостиницы исчезают в ту же минуту, как мы покидаем их. Во всяком случае я не заметил и признака ваших отелей… Вообще меня не покидает желание понять, являемся ли мы с вами той единственной силой, на которой все держится? Быть может, как только мы, да… как только мы уезжаем – вся эта штука исчезает.
Допускаю, конечно, что она существовала и до этого вполне реально.
Она показала на один из обеденных столов. Застланный свежей полотняной скатертью, он был сервирован на двоих. У каждого прибора горели в серебряных подсвечниках настоящие свечи – то есть настоящие настолько, насколько могли быть настоящими предметы в этом странном мире.
– Ужасно хочется знать, что же все-таки мы будем есть.
– Полагаю, обыкновенную пищу, какую мы всегда едим проголодавшись. Прошлым вечером у меня оставалось денег на одного цыпленка, и именно он оказался на столе, когда я сел обедать.
– Интересно, каким образом нам удается творить подобные чудеса, когда мы решились на такой отчаянный шаг, – сказала девушка и добавила: – Пожалуй, надо принять душ.
– Пожалуй, да…
Они разошлись в душевые. Фаррел вернулся в столовую первым и стал ждать Джил. За время их отсутствия на полотняной скатерти появились два больших закрытых крышками подноса и серебряный кофейный сервиз. Каким образом эти предметы очутились там, он не мог понять, да, впрочем, и не слишком утруждал себя этим.
Теплый душ успокоил его, наполнив блаженным чувством довольства. У него даже появился аппетит, хотя
Фаррел и подозревал, что это ощущение столь же реально, сколь та пища, которой ему предстояло удовлетворить его.
Но какое это имеет значение? Он подошел к бару, достал бутылку крепкого пива и со смаком выпил. Пиво оказалось холодным, вяжущим и тут же ударило в голову. Вернувшись в столовую, он увидел, что Джил уже спустилась вниз и ожидает его в дверях. Она как могла заштопала дыры на платье, вычистила туфли. На ее губах была губная помада, а на щеках немного румян. И тут он окончательно понял, что она в самом деле чертовски красива.
Когда они сели за стол, свет в зале слегка померк, а из пианолы-автомата послышалась тихая музыка. Кроме двух закрытых подносов и кофейного прибора на волшебной скатерти стояла материализованная полоскательница. При свете свеч медленно, смакуя каждый кусочек, они съели редиску, морковь. Джил налила дымящийся кофе в голубые чашечки, положила сахару и добавила сливок. Она «заказала» себе на ужин сладкий картофель и вареный виргинский окорок, а он – бифштекс и жаркое пофранцузски. Пока они ели, пианола-автомат тихо наигрывала в гостиной, а пламя свечей колыхалось под нежным дуновением ветра, проходившего сквозь невидимые прорези в стенах.
Покончив с едой, Фаррел направился в бар и вернулся оттуда с бутылкой шампанского и двумя фужерами. Наполнив их, они чокнулись.
– За нашу встречу, – провозгласил он, и они выпили.
Затем они танцевали в пустом зале. Джил была в его руках легка, как ветер.
– Вы, наверное, танцовщица? – сказал он.
– Была…
Он промолчал. Музыка звучала как волшебная флейта.
Просторный зал был полон мягкого света и легких невидимых теней.
– А я был художником, – произнес он спустя некоторое время. – Одним из тех, чьи картины никто не покупает и кто продолжает творить и поддерживает себя обманчивыми надеждами и мечтой. Когда я впервые начал рисовать, то мои картины казались мне вполне стоящими и прекрасными. Однако этой уверенности хватило ненадолго, и, придя к выводу, что своими картинами мне не заработать даже на картофельное пюре, я сдался, и вот теперь я здесь.
– А я танцевала в ночных клубах, – сказала Джил. – Не совсем стриптиз, но нечто близкое к этому.
– Вы замужем?
– Нет, а вы женаты?
– Только на искусстве. Правда, я распрощался с ним недавно. С того самого момента, как взялся за раскраску визитных карточек.
– Интересно, никогда не думала, – сказала она – что все будет выглядеть именно таким вот образом. Я имею в виду процесс смерти. Всякий раз, представляя себе эту Реку, я видела себя одинокой.
– Я тоже, – сказал Фаррел и добавил: – Где вы жили, Джил?
– Рапидс-сити.
– Послушайте, так ведь и я там живу. Видимо, это каким-то образом связано с нашей встречей в этом странном мире. Жаль, что мы не знали друг друга раньше.
– Что же, теперь мы восполнили этот пробел.
– Да, это, конечно, лучше, чем ничего.
Некоторое время они продолжали танцевать молча.
Гостиница спала. За окном темно-коричневая под звездами ночи несла свои воды Река. Когда вальс кончился, Джил сказала:
– Я думаю, завтра утром мы встанем, не так ли?
– Конечно, – ответил Фаррел, глядя ей в глаза. – Конечно, встанем. Я проснусь на рассвете – я знаю, что проснусь. Вы тоже?
Она кивнула.
– Это обязательное условие пребывания здесь… вставать с рассветом. Это и еще необходимость прислушиваться к шуму водопада.
Он поцеловал ее. Джил замерла на минутку, а затем выскользнула из его рук.
– Спокойной ночи, – бросила она и поспешно ушла из зала.
– Спокойной ночи, – прозвучало ей вслед.
Некоторое время он стоял в опустевшей гостиной. Теперь, когда девушка ушла, пианола умолкла, свет ярко вспыхнул и утратил теплоту. Фаррел услышал шум Реки.
Шум Реки навевал ему тысячи печальных мыслей. Среди них часть были его собственные, другие принадлежали
Джил.
Наконец он тоже покинул зал и взошел по лестнице.
На минутку приостановившись возле дверей Джил, он поднял руку, чтобы постучать, и замер. Слышались ее движения в комнате, легкий топот ее босых ног по полу, шелест платья, когда она его снимала, собираясь лечь в постель. Потом мягкий шорох одеяла и приглушенный скрип пружин. И все время сквозь эти звуки доносился до него тихий, печальный говор Реки.
Он опустил руку, повернувшись, зашагал через холл в свой номер и решительно захлопнул за собой дверь. Любовь и смерть могут шествовать рядом, но флирт со смертью – никогда!
Пока он спал, шум Реки усилился, и к утру ее властный говор гремел в его ушах. На завтрак были яйца и бекон, гренки и кофе, подаваемые невидимыми духами; в сумрачном свете утра слышался печальный шепот Реки.
С восходом солнца они отправились дальше, и вскоре гостиница скрылась из виду.
После полудня до них стал доноситься шум водопада.
Сначала он был еле слышен, но постепенно усилился, возрос, а Река сузилась и теперь текла меж угрюмых серых скал. Джил подвинулась ближе к Фаррелу, он взял девушку за руку. Вокруг плясали буруны, то и дело окатывая их ледяной водой. Плот швыряло то туда, то сюда, по прихоти волн, но перевернуться он не мог, потому что не здесь, на порогах, а там, за водопадом, должен был наступить конец.
Фаррел, не отрываясь, смотрел на девушку. Джил спокойно стояла, глядя вперед, словно стремнины и пороги для нее не существовали, как и вообще ничего не существовало, кроме нее самой и Фаррела.
Он не ожидал, что смерть наступит так скоро. Казалось, что теперь, когда он встретился с Джил, жизнь должна бы продлиться еще некоторое время. Но видимо, этот странный мир, вызванный ими к реальности, был создан не затем, чтобы спасти их от гибели.
Но разве гибель – это не то, что ему нужно? А? Неужели неожиданная встреча с Джил в этом странном мире повлияла на его решимость и тем более на решимость Джил?
Эта мысль поразила его, и, перекрывая шум бурлящего потока и грохот водопада, он спросил:
– Чем вы воспользовались, Джил?
– Светильным газом. А вы?
– Угарным.
Больше они не проронили ни слова.
Далеко за полдень Река снова расширилась, а крутые скалы постепенно сменились пологими берегами. Где-то вдали смутно виднелись холмы, и даже небо поголубело.
Теперь грохот водопада стих, а сам водопад, казалось, находился где-то далеко впереди. Быть может, это еще не последний день в их жизни.
Наверняка не последний. Фаррел понял это сразу же, как только увидел гостиницу. Она стояла на левом берегу и появилась перед самым заходом солнца. Теперь течение было сильным и очень быстрым: потребовались их совместные усилия, чтобы загнать плот за маленький волнолом.
Запыхавшиеся и промокшие до нитки, они стояли, прильнув друг к другу, до тех пор, пока не отдышались немного.
Затем вошли в гостиницу.
Их встретило тепло, и они обрадовались ему. Выбрав себе номера на втором этаже, Фаррел и Джил обсушили одежду, привели себя в порядок, а потом сошлись в столовой, чтобы поужинать. Джил «заказала» ростбиф, Фаррел
– запеченную картошку и лангет. Никогда в жизни он не ел ничего более вкусного и смаковал во рту каждый кусочек. Боже, что за счастье быть живым!
Удивившись собственной мысли, он уставился на пустую тарелку. Счастье быть живым?!
Если так, то зачем сидеть в автомобиле с включенным мотором за запертыми дверьми гаража в ожидании смерти? Что он делает на этой Реке? Фаррел взглянул в лицо
Джил и по смущению в ее глазах понял, что и для нее облик всего этого мира изменился. И было ясно, что как она ответственна за его новый взгляд на вещи, так и он ничуть не меньше виноват перед ней.
– Почему ты это сделала, Джил? – спросил он. – Почему ты решилась на самоубийство?
Она отвела взор.
– Я же говорила, что выступала в ночных клубах в сомнительных танцах, хотя и не в стриптизе… в строгом смысле этого слова. Мой номер был не так уж плох, но все же достаточно непристоен, чтобы пробудить во мне что-то такое, о чем я даже не подозревала. Так или иначе, но однажды ночью я сбежала и спустя некоторое время постриглась в монахини.
Она посидела молча немного, он тоже. Затем девушка взглянула ему прямо в глаза:
– Забавно все-таки с этими волосами, какое они могут, оказывается, иметь символическое значение. У меня были очень длинные волосы. И они составляли неотъемлемую часть моего номера на сцене. Его единственную скромную часть, ибо только они прикрывали мою наготу во время выступления. Не знаю почему, но волосы стали для меня символом скромности. Однако я не догадывалась об этом до тех пор, пока не стало поздно. С волосами я еще могла как-то оставаться сама собой: без них я почувствовала себя лишней в жизни. И я… я опять убежала, теперь же из монастыря в Рапидс-сити. Там нашла работу в универмаге и сняла маленькую квартирку. Но одной скромной работы оказалось недостаточно – мне нужно было чего-то еще.
Пришла зима, и я свалилась с гриппом. Вы, наверное, знаете, как он иногда изматывает человека, каким подавленным чувствуешь себя после этого. Я… Я…
Она взглянула на свои руки. Они лежали на столе и были очень худыми и белыми, как мел. Печальный рокот
Реки наполнил комнату, заглушив звуки музыки, льющейся из пианолы-автомата. А где-то на фоне этих звуков слышался рев водопада.
Фаррел посмотрел на свои руки.
– Я, должно быть, тоже переболел, – сказал он. – Видимо, так. Я чувствовал какую-то опустошенность и тоску. Испытывали вы когда-нибудь настоящую тоску? Эту огромную, терзающую вашу душу пустоту, которая окружила и давит на вас, где бы вы ни находились. Она проходит над вами огромными серыми волнами и захлестывает, душит. Я уже говорил, что не мой отказ от искусства, которым я хотел заниматься, виноват в том, что я нахожусь на этой Реке, во всяком случае не виноват прямо. Однако тоска являлась реакцией на это. Все для меня потеряло смысл. Похоже на то, когда долго ждешь наступления веселого Рождества, а когда оно наступило, находишь чулок пустым, без рождественских подарков. Будь в чулке хоть что-нибудь, я, пожалуй, чувствовал бы себя лучше. Но там ничего не было совершенно. Сейчас мне ясно, это была моя ошибка, что единственный способ найти что-то в чулке – это положить туда требуемое в ночь перед Рождеством. Я понял, что пустота вокруг является просто отражением моего собственного бытия. Но тогда я этого не знал.
Он поднял взор и встретился с ней взглядом.
– Почему нам нужно было умереть, чтобы найти друг друга и жаждать жизни?. Почему мы не могли встретиться подобно сотням других людей в летнем парке или в тихом переулке? Почему нам надо было встретиться на этой
Реке, Джил? Почему?
Она в слезах встала из-за стола.
– Давайте лучше танцевать, – сказала она. – Будем танцевать всю ночь.
Они плавно кружились в пустом зале, музыка звенела вокруг, захватив их; лились печальные и веселые, хватающие за душу мелодии, которые то один, то другой вспоминал из той далекой жизни, которую они покинули.
– Это песня из «Сеньора Прома», – сказала она.
– А вот эту, которую мы сейчас танцуем, я слышал в те далекие дни, когда был совсем ребенком и думал, что влюблен.
– И вы любили? – спросила она, нежно глядя на него.
– Нет, не тогда, – ответил он. – И вообще никогда… до сегодняшнего дня.
– Я тоже вас люблю, – сказала она, и из пианолыавтомата полилась задушевная музыка, продолжавшаяся всю ночь.
На рассвете она сказала:
– Я слышу зов Реки, а вы?
– Да, слышу, – ответил он.
Фаррел пытался пересилить этот зов, Джил тоже, но безуспешно. Они оставили в гостинице невидимых духов, пляшущих в предрассветной мгле, вышли на мостик, сели на плот и отчалили. Течение алчно подхватило их и понесло, водопад загремел победным хором. Впереди над ущельем в тусклых лучах восходящего солнца курился легкий туман.
Усевшись на плоту, обнявшись за плечи, они плотнее прижались друг к другу. Теперь даже воздух был наполнен шумом водопада, и по Реке стлался сизый туман.
Вдруг сквозь туман смутно замелькали неясные очертания какого-то предмета. «Неужели еще один плот?» – подумал
Фаррел. Он устремил взгляд сквозь прозрачную пелену и увидел песчаный берег, маленькое деревцо. Какой-то остров…
Внезапно он понял, что означают острова на этой Реке.
Никто из них, ни он, ни Джил, не хотят смерти, а значит, эти островки являются аллегорическими островами спасения. Значит, еще можно отсюда выбраться живым и невредимым!
Вскочив на ноги, он схватил шест и начал толкать им плот.
– Джил, помоги-ка мне! – вскричал он. – Это наш последний шанс на спасение.
Девушка тоже увидела остров и тоже все поняла. Она присоединилась к Фаррелу, и они принялись вместе работать шестом. Но теперь течение стало свирепым, стремнины – неистовыми. Плот качало и швыряло из стороны в сторону. Остров приближался, постепенно увеличиваясь в размерах.
– Сильней, Джил, сильней, – задыхаясь, шептал Фаррел. – Нам надо вернуться. Надо выбраться отсюда.
Но потом он понял, что им ничего не удастся сделать, что, несмотря на их совместные усилия, течение продолжает нести их дальше, мимо последнего на этой Реке островка, связывающего их с жизнью. Оставался только единственный выход. Фаррел сбросил ботинки.
– Джил, держи крепче шест! – закричал он, схватил в зубы кончик линя, бросился в кипящую стремнину и поплыл изо всех сил к острову.
Плот резко накренился, шест вырвался из рук Джил, и ее сбросило на бревна. Однако Фаррел ничего этого не видел, пока не достиг острова и не оглянулся. В его руках оставалось как раз столько троса, чтобы успеть обмотать им маленькое деревцо и крепко привязать к нему плот.
Когда линь натянулся, деревцо покачнулось, плот рывком остановился на расстоянии каких-нибудь пяти-шести футов от края пропасти. Джил стала на четвереньки, отчаянно стараясь удержаться на плоту и не сорваться. Схватив трос обеими руками, Фаррел хотел подтянуть плот к себе, но течение было настолько сильным, что с равным успехом он мог бы попытаться придвинуть остров к плоту.
Маленькое дерево кренилось, корни его трещали. Рано или поздно его вырвет с корнем из земли, и плот исчезнет в пучине. Оставалось только одно.
– Джил, где твоя квартира? – закричал он, перекрывая грохот водопада и шум Реки.
Слабый, еле слышный ответ донесся до него.
– Дом 229, Локаст-авеню, квартира 301.
Он был поражен. Дом 229 по Локаст-авеню – так они же соседи! Вероятно, проходили мимо друг друга десятки раз. Быть может, встречались и забыли. В городе такие вещи случаются на каждом шагу.
Но не на этой Реке.
– Держись, Джил! – закричал он. – Я сейчас доберусь до тебя в обход.
…Неимоверным усилием воли Фаррел очнулся и оказался в своем гараже. Он сидел в автомашине, голова гудела от адской, тупой боли. Выключив зажигание, он вылез из автомашины, распахнул двери гаража и выскочил на пронзительно холодный вечерний зимний воздух. Он спохватился, что оставил пальто и шляпу на сиденье.
Пусть! Он вдохнул полной грудью свежий воздух и потер снегом виски. Затем бросился бежать по улице к соседнему дому. Успеет ли? В гараже потеряно минут десять, не больше, но, может быть, время на Реке движется гораздо быстрее? В таком случае прошло много часов с тех пор, как он покинул остров, и плот уже успел сорваться в водопад.
А что, если никакого плота, Реки и девушки со светлыми, как солнышко, волосами вообще нет? Что, если все это просто привиделось ему во сне, в том самом сне, который подсознание нарисовало, чтобы вырвать его из рук смерти?
Мысль эта показалась ему нестерпимой, и он отбросил ее. Добежав до дома, Фаррел ворвался в подъезд. Вестибюль был пуст, лифт занят. Он бегом проскочил три лестничных пролета и остановился перед дверью. Заперто.
– Джил! – закричал он и вышиб дверь.
Она лежала на кушетке, лицо ее при свете торшера было бледным, как воск. На ней было то самое желтое платьице, которое он видел в своем сне, но не порванное, и те же туфли, но не запачканные.
Однако волосы остались такими же, какими они запомнились ему на Реке, – коротко подстриженными, слегка вьющимися. Глаза были закрыты.
Он выключил газ на кухне и широко распахнул окна в квартире. Подняв девушку на руки, он бережно отнес ее к самому большому окну на свежий воздух.
– Джил! – шептал он. – Джил!
Веки ее дрогнули и приоткрылись. Голубые, наполненные ужасом глаза, не мигая смотрели на него. Но постепенно ужас сменился пониманием окружающего, и она узнала Фаррела. И тогда он понял, что для них той Реки уже больше не существует.
В СЕНТЯБРЕ ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ
Объявление в окне гласило:
ПРОДАЕТСЯ! ОЧЕНЬ ДЕШЕВО!
ШКОЛЬНАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА!
А чуть ниже мелкими буквами было добавлено: МОЖЕТ ГОТОВИТЬ ОБЕД, ШИТЬ И ВЫПОЛНЯТЬ
ЛЮБУЮ РАБОТУ ПО ДОМУ
При слове «школа» Денби вспомнил парты, ластики и осенние листья; учебники, школьные мечты и веселый детский смех.
Владелец маленького магазина подержанных вещей нарядил учительницу в яркое цветастое платье и маленькие красные сандалеты, и она стояла в окне в прямо поставленной коробке, словно большая, в человеческий рост кукла, в ожидании, когда кто-то явится и пробудит ее ото сна. Денби шел по оживленной улице, пробираясь на стоянку к своему малолитражному бьюику. Было понятно, что дома уже, видимо, заказан по номеронабирателю ужин, что он стынет на столе, и жена разгневается за опоздание, однако он остановился и продолжал стоять на месте, высокий и худой, рядом со своим детством, блуждавшим в его задумчивых глазах, робко выглядывавших на мягком лице.
Денби всегда раздражала собственная апатичность. Он тысячу раз проходил мимо этого магазина на пути от стоянки автомобилей к месту службы и обратно, но почемуто только сегодня впервые остановился и обратил внимание на витрину.
Но, может быть, только сейчас что-то такое, в чем он крайне нуждался, впервые появилось в самой витрине.
Денби задумался, нужна ли ему учительница. Вряд ли.
Однако Луаре несомненно необходим помощник в доме, а купить автоматическую служанку они не в состоянии. Да и Билу наверняка не помешают дополнительные занятия к предстоящим переходным экзаменам сверх программы обучения, даваемой по телевидению, а…
А… а ее волосы напомнили ему сентябрьское солнце, ее лицо – сентябрьский день. Осенняя дымка окутала Денби, – совершенно внезапно апатия прошла, и он двинулся, но не к стоянке автомобилей.
– Сколько стоит учительница, что выставлена в витрине? – спросил он.
Всевозможные антикварные вещи были раскиданы на полках этого магазина. Да и сам хозяин – маленький подвижный старичок с седенькими кустистыми волосами и пряничными глазами – напоминал одну из них.
Услышав вопрос Денби, он весь засветился.
– Вам она понравилась, сэр? Она просто прелесть!
Денби покраснел.
– Сколько же? – повторил он.
– Сорок пять долларов девяносто пять центов, плюс пять долларов за коробку.
Денби едва верил сказанному. Сейчас, когда учителя столь редко встречаются, было бы естественно рассчитывать, что цены на них возрастут, а не наоборот. К тому же и года не прошло, как он собирался купить какого-нибудь третьесортного, побывавшего в ремонте учителя, чтобы помочь Билу готовить уроки, и самый дешевый, которого он отыскал, стоил больше ста долларов. Даже и за такую сумму он его купил бы, если бы не Луара, которая отговорила его. Она никогда не ходила в настоящую школу, поэтому не знала, что это такое.
А тут сорок пять долларов девяносто пять центов! Да еще умеет шить и готовить! Уж теперь Луара наверняка не станет возражать…
Конечно не станет, если он не даст ей такую возможность.
– А-а она в хорошем состоянии?
Лицо старичка помрачнело.
– Она прошла капитальный ремонт, сэр. Заменены полностью все батареи и серводвигатели. Ленты прослужат еще лет десять, а блоки памяти и того больше. Сейчас я вытащу ее и покажу.
Хотя коробка стояла на роликах, управляться с нею было нелегко. Денби помог старичку вытащить учительницу из витрины и поставить возле двери, где было посветлей.
Старичок отступил назад в восхищении.
– Я, быть может, несколько старомоден, сэр, – заявил он, – однако должен вам сказать, что современные телепедагоги и в подметки ей не годятся. Вы когда-нибудь учились в настоящей школе?
Денби кивнул головой.
– Я так и подумал. Интересно…
– Включите мне ее, пожалуйста, – прервал Денби.
Учительница приводилась в действие с помощью маленькой кнопки, спрятанной за мочкой левого уха. Хозяин магазина немного покопался, прежде чем найти включатель, затем послышалось легкое «Щелк!», сопровождаемое еле слышным гудением. Вскоре на щеках учительницы заиграли краски, грудь начала ритмично вздыматься и опускаться, раскрылись голубые глаза…
Денби так сжал кулаки, что ногти впились в ладони.
– Попросите ее сказать что-нибудь!
– Она откликается и реагирует почти на все, сэр, – заметил старичок. – На слова, фразы, сцены, события…
Возьмите ее, сэр, и, если она вам не подойдет, можете привезти обратно, и я с удовольствием верну вам деньги.
Старичок заглянул в коробку.
– Как вас зовут? – спросил он.
– Мисс Джоунс, – в голосе ее слышался шепот сентябрьского ветра.
– Ваша профессия?
– Основная – учительница четвертого класса школы, сэр. Но могу преподавать в первом, втором, третьем, пятом, шестом, седьмом и восьмом классах и имею хорошую подготовку по гуманитарным дисциплинам. Кроме того, умею петь в домашнем хоре, готовить обед и выполнять простейшие операции по шитью – штопать дырки, пришивать пуговицы, поднимать петли на чулках.
– В последние модели фирма внесла много новшеств, –
заметил старик, обращаясь к Денби. – Когда они в конце концов поняли, что телеобучение приобретает популярность, они стали делать все, что в их силах, чтобы побить конкурирующие компании пищевых концентратов. Но толку не добились. Ну-ка, мисс Джоунс, выйдите из коробки и покажите-ка нам, как мы ходим.
Она прошлась по захламленной комнате; ее маленькие красные сандалеты мелькали по пыльному полу, яркое платье чем-то напоминало золотую осень. Затем она вернулась и встала в ожидании возле дверей.
Денби не в силах был сказать ни слова.
– Хорошо, – вымолвил он наконец. – Положите ее обратно в коробку. Я беру ее.
– Пап, это для меня? – закричал маленький Бил. – Да?
– Так точно, – ответил Денби, и вручную подкатил коробку к дому, поднял ее на маленькую веранду, а затем сказал, – и для нашей мамочки также.
– Ну когда это кончится? – сердито спросила Луара, стоя со скрещенными руками в дверях. – Ужин давно остыл, а тебя все нет.
– Ничего, можно подогреть, – отвечал Денби. – Бил, смотри!
Он, слегка запыхавшись, перетащил коробку через порог и покатил ее дальше по небольшому коридорчику в гостиную. В этот момент гостиной всецело завладел какой-то уличный торговец в красном, ворвавшийся туда через 120-дюймовый экран телевизора и вовсю расхваливавший новую модель «линкольна» с откидным верхом.
– Осторожней, ковер! – вскричала Луара.
– Да не волнуйся, ничего с твоим ковром не случится,
– сказал Денби, – и пожалуйста, выключи этот телевизор, а то ничего не слышно.
– Пап, сейчас я выключу!
Девятилетний Бил маленькими шажками подскочил к телевизору и одним ударом прикончил торговца в красном и все остальное.
Денби, чувствуя на своем затылке дыхание Луары, развязывал коробку.
– Учительница! – задохнулась от изумления Луара, когда коробка наконец была открыта. – Это все, что взрослый мужчина мог купить своей жене! Учительница!
– Она не просто учительница, – возразил Денби. – Она также может готовить обед, шить… Она… она может делать все, что угодно. Ты всегда говорила, что тебе нужна помощница, вот ты ее и получила теперь. Кроме того, у
Била будет учительница, чтобы помочь ему готовить уроки.
– И сколько же она стоит?
Денби впервые обнаружил, какое скаредное у жены лицо.
– Сорок пять долларов, девяносто пять центов.
– Сорок пять! Да ты с ума сошел, Джордж! Я экономлю буквально каждый цент, чтобы приобрести вместо нашего старенького бьюика кадилетт, а ты швыряешь такие деньги за какую-то старую поломанную учительницу! Что она понимает в телеобучении? Да она же отстала лет на пятьдесят, не меньше.
– Такая помочь мне не сможет, – заявил Бил, сердито поглядывая на коробку. – Мой телепедагог сказал, что старые учителя-андроиды никуда не годятся. Они… они бьют детей…
– Ну это чепуха, – сказал Денби. – Никого они никогда не били, я знаю это точно, потому что сам ходил в настоящую школу.
Он обернулся к Луаре.
– И вовсе она не поломанная и не отстала на пятьдесят лет. О настоящем образовании она знает больше, чем все твои телепедагоги когда-либо узнают. И к тому же она умеет еще и шить, и варить…
– Ну ладно, прикажи ей подогреть ужин.
– Сейчас.
Денби склонился над коробкой, нажал маленькую кнопку за ухом и, когда голубые глаза раскрылись, сказал:
– Пойдемте со мной, мисс Джоунс, – и повел ее на кухню.
Он был восхищен тем, как она легко, с полслова схватывает его указания, где какие кнопки нажать, какие рычаги поднять или опустить, что означают те или иные цифры на индикаторах.
Минута – ужин исчез со стола и в мгновение ока принесен обратно: горячий, дымящийся, вкусный.
Луара и та смягчилась.
– Ну ладно, – сказала она.
– Я тоже так думаю, – обрадовался Денби. – Я же говорил, что она умеет готовить. Теперь тебе не придется жаловаться на заедание кнопок, поломку ногтей и…
– Ну помолчи, Джордж. Хватит об этом.
Лицо жены вновь приняло нормальное для нее выражение ограниченности, которое в обычных условиях, вместе с темными горящими глазами и сильно накрашенным ртом даже придавало ей некоторую привлекательность. Но сейчас грудь Луары воинственно вздымалась, и она выглядела довольно грозной в своем новом золотисто-алом халате. Чтобы не осложнять положения, Денби решил промолчать. Он взял ее за подбородок и поцеловал в губы.
– Пойдем-ка есть.
Денби почему-то совсем забыл о Биле. Глянув из-за стола, он увидел собственного сына, стоящего в дверях и зло поглядывавшего на мисс Джоунс, которая в эту минуту варила кофе.
– Она не должна бить меня! – заявил Бил в ответ на вопросительный взгляд отца.
Денби рассмеялся. Теперь, когда сражение было наполовину выиграно, он чувствовал облегчение. Другой половиной можно заняться попозже.
– Конечно, не будет! – сказал он. – Иди сюда, садись ужинать. Будь хорошим мальчиком.
– И поторопись, – добавила Луара. – Сейчас начнется фильм «Ромео и Джульетта», так что давай побыстрей.
Бил смягчился.
– Вот это здорово! – Однако, проходя на кухню, чтобы усесться за стол, он обошел мисс Джоунс стороной.
…Ромео Монтекки ловко свернул сигарету, сунул ее в рот, скрытый от взоров телезрителей огромным сомбреро, и, прикурив от кухонной зажигалки, направил свои стопы по залитому лунным светом склону холма к ранчо Капулетти.
«Мне, надо полагать, поостеречься лучше малость, –
начал он свой монолог. – Ведь эти подлые Капулетти, простолюдины – пастухи, являющиеся кровными врагами моих родных и близких, благородных скотоводов, пристрелят меня так, что и пикнуть не успеешь. Впрочем, девчонка, которой я свидание назначил, стоит небольшого риска».
Денби нахмурился. Он не имел ничего против переделывания классиков на современный лад, однако ему казалось, что на сей раз переделыватели зашли чересчур далеко в своем увлечении ковбойскими кинобоевиками. Но
Луару с Билом это, видимо, нисколько не тревожило. Они с таким увлечением, склонившись вперед к экрану, смотрели картину, что невольно думалось – переделыватели классиков знают свое дело.
Даже мисс Джоунс и та вроде бы заинтересовалась.
Правда, Денби тут же подумал, что вряд ли она может увлечься картиной. Ведь как бы разумно ни светились ее голубые глаза, единственное, что она, сидя здесь, фактически делает, так это попросту расходует батареи питания.
Денби не мог последовать совету Луары и выключить учительницу. Было бы жестоко лишить ее жизни, пусть даже временно…
Он раздраженно заерзал в своем видеокресле, опомнившись: «Фу, черт, придет же в голову такая чепуха!» – и тут же обнаружил к собственной досаде, что нить пьесы им потеряна. К тому моменту, когда он снова стал понимать, что к чему, Ромео уже перелез через ограду ранчо
Капулетти, прошел через парк и встал под низким балконом в безвкусном, аляповатом цветнике.
Джульетта открыла старинные французские двери, выглядевшие на общем фоне нелепым анахронизмом, и вышла на балкон. На ней была коротенькая мини-юбка и широкополое сомбреро, которое увенчивало ее крашеные, светлые локоны. Она склонилась над перилами балкона, всматриваясь в гущу сада.
– Ромео, где ты? – протянула она.
– Что за чепуха! – неожиданно раздался голос мисс
Джоунс – Эти слова, костюмы, место действия – какая-то пошлятина.
Денби с удивлением уставился на нее. Он вспомнил вдруг, что владелец магазина говорил, будто учительница реагирует не только на слова, но и на сцены и события. В
тот момент он полагал, что старичок имеет в виду сцены и события, непосредственно связанные с ее педагогическими обязанностями, а не любые…
Его охватило неприятное предчувствие. Он заметил, что Луара и Бил перестали смотреть пьесу и с нескрываемым удивлением разглядывают мисс Джоунс. Минута была критической.
Он откашлялся.
– Пьеса не так уж плоха, мисс Джоунс. Это просто переделка. Понимаете, оригиналы никто не хочет смотреть, а раз так, какой же смысл тратиться на их постановку.
– Но зачем понадобилось переделывать Шекспира в кинобоевик?
Денби с тревогой глянул на свою жену. Удивление в ее глазах сменилось бурным негодованием. Он не торопясь повернулся к мисс Джоунс.
– Сейчас боевики распространились словно эпидемия.
Похоже, что возрождается ранний период телевидения.
Боевики нравятся людям, поэтому рекламные агентства, естественно, заказывают их. Писатели-сценаристы идут на поводу у заказчиков и рыщут в поисках новых сюжетов.
– Джульетта в мини-юбке… Это ниже всякой критики!
– Ну, хватит, Джордж, – голос Луары был холоден и резок. – Я тебе говорила, что она отстала на пятьдесят лет.
Либо ты выключишь ее, либо я ухожу спать!
Денби со вздохом поднялся. Он испытывал стыд, когда подошел к мисс Джоунс и нащупал у нее за ухом маленькую кнопку. Учительница глядела на него спокойным, немигающим взглядом, руки неподвижно покоились на коленях, воздух ритмично проходил сквозь синтетические ноздри.
Это напоминало убийство. Денби прямо передернуло, когда он вернулся и сел в свое видеокресло.
– Ты и твои учительницы… – начала было Луара.
– Заткнись, – коротко сказал Денби.
Он уставился на экран, силясь вникнуть в суть пьесы.
Но из этого ничего не получалось, он оставался равнодушным. Потом начали передавать другую вещь – детектив под названием «Леди Макбет». Фильм нагнал на него еще большую скуку. Он продолжал изредка поглядывать на мисс Джоунс. Теперь, когда дыхание ее замерло, глаза закрылись, комната показалась ему страшно пустой.
Наконец он не выдержал и встал.
– Пойду прокачусь немного, – бросил он на ходу Луаре и вышел.
Он вывел из гаража бьюик и направился по тихой улочке к бульвару, вновь и вновь спрашивая себя, почему его так взволновала какая-то устаревшая учительница. Он понимал, что тут не просто тоска по прошлому, безвозвратно ушедшему, хотя тоска и играла в этом определенную роль – тоска по сентябрю, по настоящей школе. Ему до страсти захотелось прийти снова сентябрьским утром в класс и увидеть, как учительница выходит после звонка из маленького кабинета, поднимается к доске и говорит:
– Доброе утро, мои маленькие друзья! Какой сегодня чудесный день для занятий, не так ли?
Нет, он не больше других ребят любил школу и сейчас понимал, что сентябрь воплощает в себе не просто учебники и юные мечтания. Этот месяц являлся символом чего-то такого, что он потерял навсегда, чего-то неопределенного, но крайне нужного ему сейчас.
На своем бьюике он обгонял спешащие автомобилетты. Свернув на боковую улицу, ведущую к бару Френдли
Фреда, он заметил на углу новый небольшой павильон, а рядом объявление: СКОРО! СКОРО!
Открывается сосисочная с жаровней
на настоящем древесном угле.
Будут настоящие горячие сосиски, поджаренные
на настоящем огне!
Он проехал дальше по сверкающей вечерними огнями улице, втиснулся на стоянку автомобилеттов вблизи бара
Фреда и, вылезши из бьюика, направился к дверям. Бар был переполнен, но Денби посчастливилось найти свободную кабинку. Он закрылся в ней, сунул четвертак в щель распределителя напитков и набрал номер пива. Когда в запотевшем от холода бумажном стаканчике пиво появилось на столике, он принялся задумчиво потягивать его. Маленькая душная кабинка пропиталась запахом какой-то синтетической дряни, которую пил предшествующий посетитель. Денби на минутку отвлекся от своих мыслей. Он помнил этот бар еще с тех незапамятных времен, когда крошечных отдельных кабинок на одного человека не было и в помине и можно было стоять бок о бок с другими завсегдатаями и наблюдать, кто как пьет и сколько пьет. Затем его мысли вернулись к мисс Джоунс.
Над распределителем напитков виднелся маленький экран с надписью:
«Есть неприятности? Включитесь на бармена Френд-
ли Фреда – он выслушает вас! (Только 25 центов за 3 ми-
нуты разговора)».
Денби сунул четвертак в щель автомата. Послышался легкий щелчок, и монета загремела в тарелке возврата денег, а записанный на пленку голос Фреда произнес:
«Сейчас занят! Позвоните попозже!»
Выждав некоторое время и заказав другой стаканчик пива, Денби снова сунул монету в щель автомата. На сей раз экран двухсторонней телесвязи загорелся и на нем четко возникло полное, румяное приветливое лицо
Френдли Фреда.
– Хеллоу, Джордж, как она, жизнь?
– Да ничего, не так уж плохо, Фред, не так плохо.
– Однако не мешало бы лучше, так ведь?
Денби кивнул головой.
– Ты отгадал, Фред, что верно, то верно.
Он взглянул на столик, где в одиночестве стоял стакан с пивом.
– Слушай, Фред… я… я купил школьную учительницу, – сказал он.
– Учительницу?
– Да. Я понимаю, вещь не совсем обычная, но я думал, быть может, ребенку потребуется помощь в подготовке уроков по телевидению – скоро экзамены, а сам понимаешь, как ребята переживают, когда дают неправильные ответы и не получают награды. А потом., я думал, она…
Это, понимаешь, особенная учительница. Я думал, она сможет помочь Луаре по дому. Такие вещи…
Денби замолчал и глянул на экран. Френдли Фред важно кивал головой. Его толстые румяные щеки колыхались.
Потом он сказал:
– Послушай, Джордж! Брось-ка ты эту училку. Слышишь? Брось ее. Эти учителя-андроиды ничуть не лучше прежних настоящих учителей, ну тех, я имею в виду, которые дышали и жили, как мы с тобой. Поверь мне, Джордж, я знаю. Они обычно бьют детей. Это точно. Бьют их за…
Тут послышалось какое-то жужжание и экран погас.
– Время истекло, Джордж. Хочешь поговорить еще на четвертак?
– Нет, спасибо, – ответил Денби. Он осушил стакан и вышел.
Почему никто не любит школьных учителей и почему в таком случае всем нравятся телепедагоги?
Весь следующий день на работе Денби размышлял над этим парадоксом. Пятьдесят лет назад казалось, что учителя-андроиды решат проблему образования столь же капитально, как снижение цен и размера личных автомашин разрешило экономические проблемы столетия. И действительно, проблема нехватки преподавательских кадров полностью отпала, однако тут же возникло другое – недостаток школьных помещений. Что из того, что учителей много, если заниматься негде. А как можно ассигновать достаточную сумму на постройку новых школ, когда в стране не хватает хороших шоссейных дорог?
Конечно, глупо было бы утверждать, что строительство новых школ важнее строительства дорог. Ведь если перестать строить новые дороги, автоматически сокращается спрос на автомобили, а следовательно, экономика падает, растет депрессия, а это ведет к тому, что строительство новых школ становится делом еще более бессмысленным и ненужным, чем вначале.
Теперь, когда этот вопрос уяснен, нужно откинуть прочь ненависть к компании пищевых концентратов. Введя телеобучение, они спасли положение. Один педагог, стоящий в маленькой комнате с классной доской на одном конце и телекамерой на другом, может обучать сразу чуть ли не пятьдесят миллионов детей, а если кому-то из них не понравится, как он преподает, все, что нужно сделать, так это переключиться на другой канал телепередачи. Разумеется, родители должны следить, чтобы ребенок не перескакивал из одного класса в другой, более высший, и не настраивался на программу следующего года обучения без предварительной сдачи переходных экзаменов.
Главное же в этой конгениальной системе обучения заключалось в том приятном факте, что компании пищевых концентратов платили за все, освобождая тем самым налогоплательщиков от одного из самых обременительных расходов, оставляя его кошелек более податливым к уплате различных пошлин и налогов. И единственное, что компании просили взамен от общества, так это, чтобы ученики (и по возможности родители) потребляли их пищевые концентраты.
Таким образом, никакого парадокса и в помине не было. Школьную учительницу предали анафеме, ибо она символизировала собой дополнительные расходы для налогоплательщиков; телепедагог являлся уважаемым слугой общества потому, что он давал людям весьма ощутимую надбавку в их бюджете. Но Денби понимал, что последствия оказались более серьезными.
Несмотря на то что ненависть к школьной учительнице представляла собой некий атавизм, злоба эта была в основном порождением той пропагандистской шумихи, которую подняли компании пищевых концентратов, когда впервые приступили к осуществлению своего плана.
Именно они ответственны за широкое распространение мифа, будто учителя-андроиды бьют учеников, и этот жупел до сих пор еще пугает инакомыслящих.
Беда в том, что большинство людей обучались по телевидению и, следовательно, не знали истины. Денби представлял счастливое исключение. Он родился и вырос в маленьком городе, расположенном высоко в горах, затруднявших и делавших невозможным прием телепередач, и ему пришлось, прежде чем его семья переехала в большой город, ходить в настоящую школу. Он-то знал, что учительницы никогда не били и не бьют своих учеников.
Конечно, могло случиться, что фирма «Андроиде инкорпорейшн» выпустила по ошибке две-три неудачные модели, да и то вряд ли. «Андроиде инкорпорейшн» была фирмой солидной. Возьмите, например, рабочих для работы на станциях обслуживания автомобилеттов или отличных стенографисток, официанток и домработниц, которых она выпускает в продажу. Конечно, рядовой служащий или средний домовладелец не может себе позволить купить их. Так почему же тогда Луаре не удовольствоваться
(мысли Денби путались, перескакивали с одного предмета на другой) временной служанкой?
Однако она не удовольствовалась. Когда он вечером вернулся с работы домой, ему достаточно было бросить беглый взгляд на Луару, чтобы тут же, без всяких колебаний установить, что она недовольна их приобретением.
Никогда прежде он не видел у нее такого красного лица и гневно сжатых губ.
– Где мисс Джоунс? – спросил он.
– Она в коробке, – ответила Луара. – И завтра же утром ты отвезешь ее туда, откуда привез, и получишь обратно наши сорок пять долларов!
– Она больше не будет бить меня! – сказал Бил, сидя по-индейски на корточках перед телевизором.
Денби побелел.
– Она его била?
– Почти, – ответила Луара.
– Била или нет? – повторил Денби.
– Мам, расскажи ему, что она сказала о моем телепедагоге! – закричал Бил.
Луара презрительно фыркнула.
– Она сказала: стыд и срам делать из классической вещи, такой, как «Илиада», ковбойско-индейскую мелодраму и называть это образованием.
Дело постепенно прояснилось. Очевидно, мисс Джоунс сразу же, как только Луара включила ее утром, начала интеллектуальную борьбу и продолжала ее вести до тех пор, пока ее не выключили. По мнению мисс Джоунс, все в доме Денби обстояло не так, как надо: и телеобразовательные программы Била, которые транслировались по маленькому телевизору в детской; и дневные программы большого, установленного в гостиной телевизора, развлекавшие Луару; и рисунок обоев в вестибюле – маленькие красные кадилетты, стремительно мчащиеся по переплетениям дорог; и полное отсутствие в доме книг.
– Только представь, она воображает, что у нас до сих пор еще издаются книги, – сказала Луара.
– Все, что я хочу знать, – сказал Денби твердо, – так это била она его или нет?
– Я подхожу к этому…
Часов около трех дня мисс Джоунс прибирала в детской. Бил послушно смотрел урок по телевидению, сидя за партой – такой смирный и хороший, просто загляденье –
весь поглощенный усилиями ковбоев захватить индейскую деревушку под названием Троя. Вдруг учительница совершенно неожиданно, словно сумасшедшая, пересекла комнату и с кощунственными словами относительно подобной переделки «Илиады» выключила телевизор прямо на пол-уроке. Бил поднял крик, и Луара, когда ворвалась в детскую, увидела, как мисс Джоунс держит одной рукой его за плечо, а другую подняла, готовясь дать ему подзатыльник.
– Хорошо, что я подоспела вовремя, – заявила Луара. –
Незачем говорить, что она могла сделать. Она же убила бы его.
– Мне что-то не верится во все это, – сказал Денби. – А
что потом произошло?
– Я вырвала Била и приказала ей вернуться в коробку.
Затем я выключила ее и закрыла крышку. И знайте, Джордж Денби, коробка останется закрытой. И, как я сказала, завтра утром вы отвезете ее обратно… если хотите, чтобы мы с Билом оставались жить в этом доме!
Денби весь вечер пребывал в раздраженном состоянии.
Он ворчал за ужином, томился при просмотре очередного кинобоевика, то и дело, когда был уверен, что Луара на него не смотрит, поглядывая на стоящую безмолвно возле дверей закрытую коробку.
Главная героиня фильма – блондинка-танцовщица
(объем бюста 39 дюймов, талии – 24, бедер – 38) – звалась
Антигоной. Кажется, два ее брата убили друг друга во время перестрелки из пистолетов, и местный шериф, герой по имени Креонт, – разрешил похоронить только одного из них, необоснованно настаивая на том, что другого следует бросить на пустыре на растерзание зверям. Антигона совершенно не в силах понять логики этого приказа. Она говорит, что если один из братьев достоин погребения, то другой заслуживает его ничуть не меньше. Она просит свою сестру Йемену помочь ей похоронить второго брата.
Робкая и слабохарактерная Йемена отказывается, поэтому
Антигона заявляет: раз так, она одна справится с этим и совершит все нужные обряды над убиенным. Затем в городе появляется дряхлый старатель Тиресей…
Денби медленно поднялся, прошел на кухню, а затем через черный ход вышел на улицу. Он уселся за руль своего бьюика и направился к бульвару, опустив стекла, чтобы теплый летний ветер освежил его. Он проехался взад и вперед по бульвару.
Строящаяся на углу улицы сосисочная была почти готова. Он скользнул по ней безразличным взглядом, когда сворачивал на боковую улицу. Бар Френдли Фреда был пуст наполовину, и Денби закрылся в первой свободной кабинке. Он выпил в одиночестве пару стаканов пива, стоявших на маленьком голом столике, и крепко призадумался. Потом, прикинув, что жена с сыном уже спят, он вернулся домой, открыл коробку мисс Джоунс и включил ее.
– Вы сегодня намеревались побить моего сына? –
спросил он.
Голубые глаза открыто смотрели на него, ресницы ритмично вздымались и опускались, расширенные зрачки медленно сузились под действием яркого света лампы, которую Луара оставила горящей в гостиной. Наконец мисс
Джоунс ответила:
– Сэр, я не могу ударить человека. Полагаю, это записано в моем гарантийном паспорте.
– Боюсь, мисс Джоунс, ваш гарантийный срок давно истек, – возразил Денби грубо и добавил, – впрочем, сейчас это не имеет значения. Вы схватили его за руку, так?
– Да, сэр.
Денби нахмурился. Его слегка качало, когда он поплелся обратно в гостиную на ставших вдруг ватными ногах.
– Миш… мисс Джоунс, подите-ка сюда, сядьте и расскажите все по порядку, – сказал он.
Он смотрел, как она вылезла из коробки и пошла по комнате. Было что-то странное в ее походке. В ней не чувствовалось прежней легкости: мисс Джоунс двигалась неуклюже, а ее прямой стан как-то скособочился. Он с первого же ее шага понял, что она хромает.
Мисс Джоунс тяжело опустилась на кушетку, а он присел рядом с ней.
– Он, наверное, пнул вас ногой, так? – спросил Денби.
– Да, сэр. Мне пришлось схватить его за руку, чтобы он еще раз не ударил.
Красный туман разлился по комнате и поплыл перед его глазами.
Потом туман медленно рассеялся, однако в душе остался какой-то неприятный осадок.
– Я страшно огорчен, мисс Джоунс. Боюсь, Бил слишком агрессивен.
– Вряд ли его можно винить в чем-либо, сэр. Я сегодня была совершенно ошеломлена, когда узнала, что ужасные телепередачи, которые он смотрит во время уроков, составляют его единственную духовную пищу. Ведь его телеучитель лишь немногим лучше полуобразованного члена конгресса, чьей главной заботой является стремление помочь своей компании выгодно сбыть очередную партию кукурузных хлопьев. Теперь мне понятно, почему ваши писатели вынуждены обратиться за идеями к классике. Их творческие силы разрушаются штампами еще до того, как вышли из эмбрионального состояния.
Денби был потрясен. Никогда еще до этого ему не приходилось слышать такого. Поражали не только слова, какими это было сказано, а и убежденность, сквозившая в интонациях учительницы, в ее голосе – хотя он исходил из искусно смонтированного громкоговорителя, связанного с невообразимо сложными блоками памяти.
Так сидя рядом с мисс Джоунс, следя за каждым движением ее губ, видя частый взмах ее черных ресниц над иссиня-голубыми глазами, он почувствовал, что к ним в дом пришел сентябрь месяц и сидит в гостиной. Внезапно чувство глубокого умиротворения охватило Денби. Богатые, полные изобилия сентябрьские дни проходили длинной чередой перед его глазами, и он понял, чем они отличались от остальных дней: осенние дни были полны содержания, красоты и спокойствия, ибо их голубое небо вселяло надежду и уверенность, что наступят дни еще более богатые и содержательные…
Они отличались тем, что были полны смысла.
Мгновение было столь мучительно сладостным, что
Денби страстно хотел, чтобы оно оказалось вечным. Даже мысль, что оно пройдет, потрясла его невыносимой болью, и он инстинктивно сделал то единственное, что мог сделать: он повернулся к мисс Джоунс и обнял ее за плечи. Она не шелохнулась и продолжала сидеть спокойно, грудь ее равномерно вздымалась и опадала, длинные черные ресницы взмахивали словно крылья птицы, скользящей над голубыми прозрачными водами…
– Скажите, чем вам не понравилась вчерашняя постановка «Ромео и Джульетта»? – спросил он.
– Она просто ужасна, сэр. Это же по сути пародия, дешевка, где красота шекспировских строк или искажена или утрачена совершенно.
– Вам известны эти строки?
– Да, часть.
– Прочтите их мне, пожалуйста.
– Хорошо. В конце сцены у балкона, когда двое влюбленных расстаются, Джульетта говорит:
Желаю доброй ночи сотню раз!
Прощанье в час разлуки
Несет с собою столько сладкой муки, Что до утра могла б прощаться я…
А Ромео отвечает:
Спокойной ночи очам твоим, мир – сердцу!
О, будь я сном и миром, чтобы тут
Найти подобный сладостный приют!
– Почему они выбросили это, сэр? Почему?
– Потому, что мы живем в обесцененном мире, – ответил Денби, удивленный собственной проницательностью,
– а в дешевом мире, таком, как наш, драгоценности души ничего не стоят. Повторите, пожалуйста, еще раз эти строки, мисс Джоунс.
Желаю доброй ночи сотню раз!
Прощанье в час разлуки
Несет с собою столько сладкой муки, Что до утра могла б прощаться я…
– Дайте мне закончить, – Денби сосредоточился: Спокойной ночи очам твоим, мир – сердцу!
О, будь я сном или миром, чтобы… сладостный…
Чтобы найти сладостный приют!
Вдруг мисс Джоунс резко встала.
– Доброе утро, мадам, – сказала она.
Денби встать не удосужился. Да ни к чему хорошему это все равно не привело бы. Он достаточно хорошо знал свою жену. Она стояла в дверях гостиной в новой пижаме, разрисованной кадилеттами. Когда она крадучись спускалась по лестнице, ее босые ноги не вызывали ни шороха.
Двухместные кары на ее пижаме выделялись яркокрасными пятнами на золотистом фоне, и, казалось, Луара опрокинулась навзничь, а они неистово носятся по ее телу, дефилируя по ее роскошной груди, животу, ногам…
Он увидел ее заострившееся лицо, холодные безжалостные глаза и понял, что бесполезно ей что-либо объяснять, что жена не захочет, да и не сможет его понять. Он увидел с потрясающей ясностью, что в мире, в котором живет, сентябрь ушел на долгие годы, и четко представил, как этим утром грузит коробку с учительницей на машину и везет ее по сверкающим городским улицам в маленькую лавочку подержанных вещей. Ему отчетливо представились двери магазина, но тут он очнулся и, посмотрев по сторонам, увидел, как мисс Джоунс стоит в какой-то нелепой позе перед Луарой и повторяет словно испорченный патефон: «Что случилось, мадам… Что случилось…»
Несколько недель спустя Денби вновь захотелось побывать в баре Френдли Фреда и пропустить пару пива. К
этому времени они с Луарой уже помирились, но то был уже не прежний мир. Денби вывел автомашину, выехал на улицу и погнал к сверкающему огнями бульвару. Стоял чудный июньский вечер, звезды булавочными головками утыкали небо и сверкали над залитым неоновым светом городом.
Сосисочная, что строилась на углу улицы, была открыта. У сверкающего хромированного прилавка виднелось несколько посетителей, а у пламенеющей жаровни официантка переворачивала шипящие шницеля. Было что-то странно знакомое в том, как она двигалась, в ярком каскаде ее платья, в мягких, цвета восходящего солнца волосах, обрамлявших кроткое лицо… Ее новый владелец стоял в некотором отдалении, грузно склонившись над прилавком, и о чем-то оживленно беседовал с клиентом.
В груди Денби тревожно заныло. Он резко остановил машину, вылез и, перешагнув цементный порог, направился к буфетной стойке – кровь ударила ему в голову, в нем все напряглось, как перед боем. Есть вещи, мимо которых вы не можете пройти равнодушно, вы непременно вмешиваетесь, не задумываясь над последствиями. Он подошел к прилавку, где стоял хозяин сосисочной, и уже собирался, перегнувшись через стойку, ударить по толстой загорелой физиономии, как вдруг увидел маленькое картонное объявление, прислоненное к горчичнице, на котором было написано:
ТРЕБУЕТСЯ МУЖЧИНА
От сентябрьского класса школы до сосисочной лежит долгий путь, и учительница, раздающая жареные сосиски, не идет ни в какое сравнение с учительницей, разносящей вокруг мечты и надежды. Но коли вам чего-то страстно хочется, вы любой ценой, но своего добьетесь.
– Я могу работать только вечерами, – сказал Денби владельцу сосисочной. – Скажем, от шести до двенадцати…
– Что ж, прекрасно, – ответил тот. – Правда, боюсь, что я не смогу платить сразу помногу. Понимаете ли, дело едва открылось…
– Не беспокойтесь, – сказал Денби. – Когда мне приступить?
– Чем скорее, тем лучше…
Денби обогнул буфетную стойку, зашел за прилавок и снял пиджак. Если Луаре это не понравится, пусть катится к чертям. Впрочем, он знает, что дома будут довольны, ибо деньги, которые он здесь заработает, дадут жене возможность купить предмет ее мечтаний – новый кадилетт.
Он напялил на себя фартук, что вручил ему владелец сосисочной, и присоединился к мисс Джоунс, стоящей у жаровни с настоящим древесным углем.
– Добрый вечер, мисс Джоунс, – сказал он.
Она обернулась, и ему показалось, что глаза ее вспыхнули, а волосы засверкали словно солнце, встающее туманным сентябрьским утром.
– Добрый вечер, сэр, – ответила она, и по сосисочной в этот июньский вечер прошелся сентябрьский ветерок; стало похоже, что после бесконечно длинного скучного лета наступил новый, полный смысла учебный год.
ИТАК, КНИГА ПРОЧИТАНА…
Итак, книга прочитана А теперь зададимся вопросом: как, почему и зачем? Отвечая какой внутренней потребности человека вообще и каким обстоятельствам времени и места, в середине 20-х годов в США возник, захватив потом Англию и другие страны, фантастический по масштабам бум научной фантастики? В силу каких причин сегодня чуть ли не по всему свету распространились свободные объединения миллионов любителей научной фантастики, которые переписываются между собой, пересылают друг другу книги, встречаются на съездах, конференциях, просто дружат? Американские исследователи называют год, когда фантастика впервые становится литературой массового спроса: 1926-й. Незадолго до этого в США появился предприимчивый инженер-эмигрант Хьюго Гернсбек (1884–1967) Желая заработать и будучи по натуре просветителем, он затеял журнал, посвященный проблемам электротехники, а затем решил, что издание могут оживить такие произведения, где научный и технический материал будет преподнесен в виде занимательных рассказов. Он сам сочинял их поначалу – такие, как «Новые приключения барона Мюнхаузена на Марсе», «Новые приключения Мюнхаузена на Луне» Нововведение пришлось публике по вкусу. Гернсбек основывает первый в мире научно-фантастический журнал «Удивительные истории». Поражающий успех «Историй» вызвал к жизни целую серию изданий подобного рода, появился спрос на научно-фантастические рассказы, молодые авторы взялись за перо. Как писатель X. Гернсбек не оставил скольконибудь заметного следа в литературе, и вряд ли ктонибудь станет сейчас перечитывать даже высшее его достижение – неуклюжий роман о жизни в 2660 году «Ральф
214 С 41+». Но тот мощный импульс, который он сумел придать жанру фантастики, не был забыт. До самой кончины первый издатель «Удивительных историй» был всеми почитаемым отцом-основателем современной американской научной фантастики и на склоне лет, в ходе специально организованного торжества, удостоился премии своего собственного имени – единственный, пожалуй, в мире случай.
Что же было в Америке конца 20-х и начала 30-х годов, что определило общественный интерес к научной фантастике? Почему благодатной оказалась почва для тех семян, что бросил в нее Гернсбек?
Предшествующее десятилетие, «джазовые, поющие годы» ничего плохого, казалось, не предвещали. Заводы, фабрики выпускали все больше товаров, неуклонно повышалась зарплата рабочих и доходы предпринимателей, обеспечивая тем самым растущую покупательную способность американцев. К 1928 году один лишь Форд продал в стране с населением в сто двадцать три миллиона пятнадцать миллионов своей «Модели Т», а ведь, кроме него, были Крейслер и другие автомобильные короли. Едва ли не каждая семья обзавелась радиоприемником, заговорил в кинотеатрах Великий немой, в больших городах устремлялись вверх небоскребы. Ни одно поколение американцев, да и ни одна держава на Земле не вкушала столь сладких плодов своего экономического преуспеяния, и американские публицисты с гордостью заявляли: «Только одна первоклассная цивилизация существует в сегодняшнем мире. И она как раз здесь, в Соединенных Штатах».
Все рухнуло 29 октября 1929 года. Беда началась биржевым кризисом на Уолл-стрите и переросла в общий кризис капиталистической системы. Лопались банки, закрывались фабрики, отели, магазины, затворенные ворота одних предприятий лишали денег выкинутых вон рабочих, и они уже не могли покупать продукцию, выпускаемую другими, которым, в свою очередь, приходилось увольнять персонал. Все, казалось, было по-прежнему на месте: сырье, станки, умелые руки – и все словно исчезло. Не только рядовой труженик не мог разобрать, где концы, где начала, почему на ровном месте свалилась «первоклассная цивилизация», но и верха растерялись. Ничто в прошлом опыте промышленно-финансовой элиты и правительства не подсказывало, как поступать перед лицом катастрофы такого масштаба. «Что нам действительно надо, – заявил в
1930 году тогдашний президент Гувер, – так это как следует расхохотаться. Если бы кто-то мог отпускать хорошую шутку хотя бы раз в десять дней, я думаю, все трудности остались бы позади». Но миллионам безработных, в поисках пищи рывшихся на помойках, было не до шуток.
Для них вопрос стоял о том, как остаться в живых. Мужчины на городских улицах протягивали руку за милостыней, и чтобы не трогала полиция, делали вид, будто продают яблоко или коробку спичек. За городом – брошенные фермы, повалившиеся заборы, необработанные поля. Распад семей, изгнанных из своих жилищ, за которые нечем стало платить, дети, потерявшие родителей… Сравнивая недавнее триумфальное прошлое с жалким настоящим,
один из сенаторов отпустил облетевшую всю Америку «шутливую» фразу: «Мы первая в мире нация, которая на собственном автомобиле въезжает в ночлежку для нищих».
Драмой депрессии так или иначе были задеты все английские и американские фантасты, представленные в этом сборнике. Одни скитались с родителями из города в город, когда глава семьи искал и не мог найти работу, другие, родившиеся в многодетных семьях, даже побывали на грани голодной смерти… Отсюда в творчестве поколения, пережившего общенациональную трагедию, глубокая заинтересованность в общественных проблемах, напряженность чувства (соответственно сюжета) в произведениях и широчайший его диапазон, где ненависть, презрение к тем, кто в погоне за наживой и властью вверг Соединенные Штаты и может ввергнуть все человечество в катастрофу, переплетаются с искренней симпатией к угнетенным, где рядом любовь и сарказм, отчаяние и надежда –
короче, то, что делает литературу литературой.
Но были и другие, более общие причины, породившие около середины нашего века не затухающий до сих пор массовый интерес к научной фантастике. В первую очередь это великие социальные сдвиги – Октябрьская революция и последовавшее за ней крушение мировой колониальной системы. Затем – растущая роль науки и техники, лавина открытий, изобретений, резко приблизивших будущее и постоянно меняющих – как правило, непредсказуемо – нашу жизнь. Этот гигантски увеличившийся размах человеческой деятельности на планете придает иную глубину, иные масштабы и нашему мышлению, вызывая желание проникнуть за грани нынешней реальности, к тем альтернативам, что обещают осуществиться завтрапослезавтра.
В годы депрессии Англия и Америка, наиболее развитые в промышленном отношении державы, первыми испытали на себе то непредсказуемое, что приносят успехи технологии. Именно непредсказуемое, ошеломляющее. А
потому выходившие прежде, в 20-х годах, изящные томики сусальной беллетристики вызывали теперь у публики лишь горечь и раздражение. Единственное, к чему испытывал интерес массовый читатель, была научная фантастика. Тем, кто послабее, она позволяла на часок–другой забыться, уйти от пугающей реальности. Более сильные черпали в ней надежду, веру в то, что мир не застыл, что человек все преодолеет. Приостановившиеся было типографские станки пришли в движение, оттискивая все новые тетрадочки научно-фантастических журналов и недорогие, в мягкой обложке, на плохой бумаге книжечки.
Вот так в США в начале второй трети нашего века научная фантастика впервые стала литературой массового спроса. Дорогу к читателю торили одаренные фантасты, но довольно скоро этот жанр захватила и начала «разрабатывать» коммерческая фантастика – непритязательная мешанина из драконов, компьютеров, черной магии, звездолетов, рыцарских турниров и психоанализа, создатели которой, диктуя машинистке свои опусы, частенько не знают, чем закончится начатый ими абзац.
От времен Гернсбека и до нынешних дней коммерческая фантастика почти не изменилась. Год от года вбирает она в свой арсенал понятия и термины НТР да отштамповывает новые псевдонаучные словечки, создавая тем не менее атмосферу жесткой конкуренции, которая заставляет стоящего молодого автора отковывать, закалять свой талант.
Фантастику порой называют «литературой мечты»,
«литературой о будущем». Однако правильно ли это?
Брэдбери однажды высказался в том духе, что фантастика связана лишь с настоящим и не имеет ничего общего с будущим, хотя способна на последнее влиять. Пожалуй, здесь и пролегает водораздел между унылой коммерческой фантастикой и блеском подлинного таланта. Настоящее художественное произведение создается не затем, чтобы показать силу писательского воображения – выдумать легко все что угодно, вплоть до человека, который «всосал самого себя внутрь». – а для того, чтобы в фантастическом ключе, через художественный образ поделиться с читателем тем, что автор понял о Земле и о времени, в котором мы живем.
Важнейшее начало, объединяющее рассказы сборника,
– их приобщенность к болям, надеждам и радостям нашей эпохи. В звездолете, на другой планете, на машине времени в прошлое либо будущее – все это про нас, повсюду предмет авторского интереса – современный человек в его отношениях с миром. Авторы озабочены не тем, чтобы рассказать о грядущих веках, – они советуются с нами, как жить сегодня обитателям Земли: в мегаполисах и маленьких провинциальных городах, на ферме и в деревне.
Вот небольшой рассказ Артура Порджесса о математике Саймоне Флэгге, вызвавшем дьявола. Всего лишь шутка, однако написан рассказ так, что мы видим как живого незадачливого посланца ада, когда, желая обсудить вариант решения теоремы, черт садится рядом с ученым и подтыкает под себя хвост. Мы даже думаем, что зря подоткнул, поскольку хвост твердый, с позвонками… С улыбкой перелистывая страницы, мы не можем не ощутить величие науки, перед которой спасовал даже всесильный дьявол, не можем не проникнуться уважением к длинной, исчезающей во тьме прошлого шеренге ученых, что, неустанно трудясь, складывали угнанное и понятое в некую драгоценную шкатулку, врученную нам.
Теме науки посвящен и рассказ Артура Кларка, видного английского ученого, председателя Британского астрономического общества, лауреата премии Калинги, дающейся за исключительные заслуги в распространении знаний. В его лучших произведениях понятия и формулы астрономии, физики, химии становятся сюжетообразующим началом, определяют судьбы героев, очеловечиваются, зовут к деятельности ума и рук. Читатель здесь прикоснется к пугающей и манящей тайне бесконечности материи, почувствует, что человечество лишь на пороге пути, озаряемого подвигами разума; что сегодня, в конце XX века, перед нами не тупик, а неохватный горизонт, зовущая даль.
А нужна ли нам тайна вообще?
Очень нужна! Потому что воспитательный эффект необъясненного поистине огромен. То, что понято, измерено, разложено по полочкам, – сухо и скучно, из него как бы вынута душа. Одним из залогов радости научного творчества как раз и является принципиальная непознаваемость мира. Именно это пробуждает энтузиазм, стремление, энергию исследователя. При объясненности массы окружающих феноменов, используемой человеком в практике бытия, непознанным остается главное: причина существования всего и вся. Она-то и заставляет настоящего ученого заниматься частностями – он ощущает их своего рода ступеньками, приближающими к важнейшему.
Нераскрытая тайна является центром многих включенных в сборник рассказов. Исподволь в «Стреле времени»
Кларка наступает на Вселенную угрожающая ей энергетической смертью энтропия; угрюма, величава черная бездна космоса в «Специфике службы» Клиффорда Саймака; в мир отвлеченных математических идей, в непостижимую бесконечность уводят читателя загадочные четвертое и пятое измерения, описанные Мартином Гарднером в
«Нульстороннем профессоре»; подходом к парадоксу времени выступает почти детективный рассказ «Лицо на фотографии» Джека Финнея, а тема рассказа писательницы
Ле Гунн – невозможность оторваться от собственного «я», чтобы постигнуть другое. И всему изображенному веришь, ибо после того, как принял первую и единственную фантастическую посылку автора, все остальное подчиняется строгой логике причин и следствий.
«Девять жизней» Урсулы Ле Гуин – одно из первых ее произведений. Подобно метеору ворвалась эта американская писательница в среду признанных мастеров научной фантастики и сразу заняла там почетное место, сумев ввести в жанр новый для него материал, прибавив к традиционно близким фантастике точным наукам еще и гуманитарные: этнографию, историю, социологию.
Если признать, что в фантастике есть «физики» и «лирики», то последнее направление, бесспорно, возглавляет автор знаменитых «Марсианских хроник» Р. Брэдбери –
не столько певец достижений, рожденных в лабораториях и конструкторских бюро США, сколько исследователь той части нашего внутреннего мира, куда расчеты и таблицы не имеют доступа. Вера – вот что движет его пером. Вера в высокое призвание человека, в его абсолютное будущее, в то, что самому устройству Вселенной свойственны любовь, доброта и честь. И наука, как ни бесстрастны ее формулы, имеет движителем именно нематериальные категории – веру и энтузиазм. Ибо продолжать трудиться и исследовать можно лишь до той поры, пока, как мы уже говорили, к этому есть страстный интерес, зависящий, в свою очередь, от желания стремиться к совершенству. Самые величественные подвиги знания вызваны в конечном счете сердцем. «Апрельское колдовство» и «Холодный ветер, теплый ветер» – о том трепетном, тонком и нежном, что есть в нашей душе, о нашей неотделимости не только от жизненной суеты, но от животных и растений, дождя и ветра, от всего огромного, что зовется мирозданием.
В книгах Айзека Азимова научная фантастика выходит на сцену в одной из лучших своих ролей. Даже самые фантастические посылки автора ни в коем случае не антинаучны и при всей сложности заключенного в них материала приводятся к человеческому смыслу, становятся художественной литературой, доступной любому читателю и неизменно занимательной. А Роберт Шекли, которого любят и почитают поклонники научной фантастики во всем мире, – это легкое, быстрое перо, острый, с неожиданными поворотами сюжет, смелый гротеск при точных подробностях жизни, не знающая удержу фантазия,
праздничное изобилие эмоций. И все это не просто так, не для забавы, но затем, чтобы выделить ту или иную из проблем, осаждающих сегодня современников, высказать о ней вполне определенное, очень часто парадоксальное мнение.
Еще раз бросим взгляд на составленную из разных произведений панораму, где веселое смешано с жутким, светлые пророчества соседствуют со сценами такого будущего, которого мы никак не пожелали бы. Да, с мафией сотрудничают те, кому надлежит ловить преступников, как в рассказе Г. Гаррисона «Полицейский робот». Правительство голодающей Англии («День статистика» Д. Блиша) планомерно уничтожает «лишних», с его точки зрения, едоков. В нечеловеческих условиях отбывают долгие годы каторги персонажи рассказа «Срок авансом» У. Тенна, и насмерть бьется на ринге с машиной голодный боксер, которого в «Стальном человеке» показал нам Р. Матесон. Неужто так может быть, неужто будет?. Нет, не будет, это доказывают сами герои рассказов – умные, смелые, неунывающие, готовые пожертвовать собой для дела, для друга, для человечества. Разве они не заслуживают лучшего будущего?
Летит стрела времени, уходит в прошлое та, по словам
Бальзака, «чудесная материя», из которой сделана наша жизнь. Чем же мы обогатились, затратив часы на знакомство со сборником?
Если, читая рассказ «Девять жизней», мы задумались о том, что встретит юношу на дальней планете, если сердце наше сжалось, когда герои рассказа Р. Янга «На реке» поняли, что не могут жить без поддержки друг друга, – значит, книга выполнила свою задачу. Если в конце рассказа
Э. Рассела «Свидетельствую» задел нам душу тоненький голосок похожей на кактус инопланетянки, а при чтении
«Все те´нали бороговы
´ …» Л. Пэджетт вдруг возникла тревога за собственных детей и новый удивленный интерес к ним – значит, существует внутри нас, не исчез тот фонд доброго, отзывчивого, который ждет, чтобы из него черпали и черпали…
С. Гансовский
Document Outline
СТРЕЛА ВРЕМЕНИ
МОЙ СЫН – ФИЗИК
ЧУВСТВО СИЛЫ
ДЕНЬ СТАТИСТИКА
АПРЕЛЬСКОЕ КОЛДОВСТВО
ХОЛОДНЫЙ ВЕТЕР, ТЕПЛЫЙ ВЕТЕР
НУЛЬСТОРОННИЙ ПРОФЕССОР
ПОЛИЦЕЙСКИЙ РОБОТ
СТРЕЛА ВРЕМЕНИ
ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ
СТАЛЬНОЙ ЧЕЛОВЕК
«ВСЕ ТЕНАЛИ БОРОГОВЫ…»
САЙМОН ФЛЭГГ И ДЬЯВОЛ
СВИДЕТЕЛЬСТВУЮ
СПЕЦИФИКА СЛУЖБЫ
СРОК АВАНСОМ
ОТКРЫТИЕ МОРНИЕЛА МЕТАУЭЯ
ОРДЕР НА УБИЙСТВО
«ОСОБЫЙ СТАРАТЕЛЬСКИЙ»
ХВАТИТ МАХАТЬ РУКАМИ
ЛИЦО НА ФОТОГРАФИИ
НА РЕКЕ
В СЕНТЯБРЕ ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ
ИТАК, КНИГА ПРОЧИТАНА…
Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg
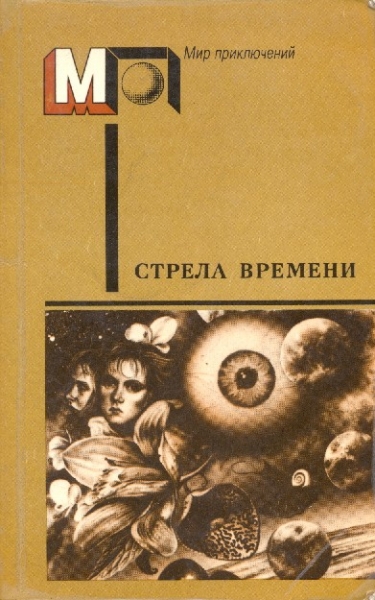


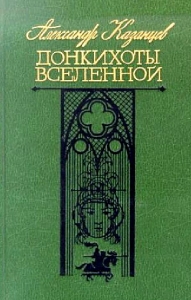
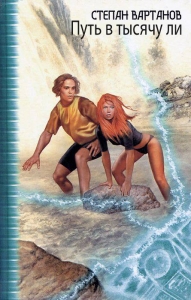
Комментарии к книге «Стрела времени», Айзек Азимов
Всего 0 комментариев