Боргус Никольсен ГЛОРИАНА Фантастический роман Советская авантюрно-фантастическая проза 1920-х гг. Т. XXV Серия «Polaris: Путешествия, приключения, фантастика» Вып. СССIV
I
Профессор Джон Коллинс встал сегодня очень рано. Он не сомкнул глаз в течение всей ночи. Так его волновало новое изобретение.
Джон Эдвин Коллинс уже более двадцати лет состоял профессором Колумбийского университета. Известность его в ученом мире началась еще на школьной скамье, т. е. лет сорок тому назад. Широкой публике профессор Коллинс стал известен с той поры, когда открыл способ собирать посредством особого аппарата солнечную теплоту и консервировать ее в особых конденсаторах на зиму, подобно тому, как заботливый хозяин запасает дрова или овощи. Это изумительное открытие должно было перевернуть вверх дном всю систему отопления фабрик, заводов и пароходов и, несомненно, вошло бы в употребление во всех закоулках цивилизованного мира, если бы только можно было легко добывать необходимый для устройства аккумуляторов металлический сплав, секрет которого никому в мире, кроме самого профессора Коллинса, не был известен, и если бы этот состав… стоил немного подешевле.
Одновременно с этим знаменитый профессор небезуспешно работал над проблемой междупланетных сношений и кое-какие его выводы предупредили пресловутую теорию относительности Эйнштейна, который, таким образом, мог бы считать проф. Коллинса своим папашей, если бы последний был менее скромен и более склонен к преждевременному шуму и рекламе. Несмотря на свое чисто американское происхождение, знаменитый изобретатель питал истинное отвращение к «буму».
В настоящий момент профессор Коллинс изобрел нечто совершенно небывалое и, в истинном значении этого слова, сказочное!
Занимаясь явлениями спектра, он открыл, что темные, т. е. невидимые лучи — восьмой и девятый — имеют свойство сообщать «освещаемым» ими предметам незримость. Красный луч, попадая на предмет, окрашивает его в красный цвет. Инфракрасный и ультрафиолетовый или темные невидимые лучи, при известных условиях и при помощи особых технических приспособлений, падая на предмет, делали его тоже темным и даже невидимым — таким же невидимым для бедного и жалкого человеческого глаза, как и сами эти лучи…
Профессор Коллинс целые шесть месяцев, почти не выходя из лаборатории и никого в нее не пуская, добивался тех особых условий, при наличии которых можно было освещать темными лучами предметы. Как средневековый алхимик, он варил, плавил, пережигал всевозможные элементы и минералы, испытывал всевозможные сплавы и изучал их спектры. Его лаборатория вся прокоптела от множества очагов, печей и горелок под колоссальными ретортами. Сам он исхудал (ему некогда было — есть!), загрязнился (некогда было — мыться!) и от эманаций радия у него вылезли последние волоски на голове.
Шесть месяцев надежд, разочарований, неудач, снова надежд и снова разочарований!
Но вот, вчера у него вдруг все пошло на лад. Новый (тысяча седьмой по счету) сплав известных ему одному веществ дал профессору то, чего он так страстно добивался: возможность постоянного излучения темных лучей, а также возможность конденсирования их в особом аккумуляторе. Этот сплав стоил профессору Коллинсу громадных денег: он истратил почти все свое имущество на приобретение очень малого количества некоего радиоактивного минерала. Это была последняя ставка в отчаянной игре. В кусочке этого металла как бы выкристаллизировалось все его состояние и все его надежды. Это был поистине кусочек его собственной жизни.
Несколько предварительных опытов вчера вечером убедили его, что ставка блестяще выиграна. Нужно было теперь лишь дождаться охлаждения сплава, который отличался удивительной теплоемкостью и остывал крайне медленно. А затем приготовить из него небольшой, очень портативный аппарат — настолько же простой, сколь и могущественный по своей силе.
Всю ночь профессор Коллинс не мог ничем спокойно и систематически заниматься. Он то начинал читать, то бросал книгу и бродил из угла в угол, машинально разговаривая сам с собой. И по полутемной лаборатории бродила из угла в угол длинная тень — такая же стариковски-тощая и согбенная, как сам профессор. Тень пробегала по темному потолку, забегала и пряталась в углы, обгоняла профессора и суетилась, словно что-то искала во всех углах.
Профессор чувствовал себя так же, как чувствует себя полководец в ночь перед генеральным сражением. Опыты были доказательны, но несовершенны и не абсолютны. Это была удачная разведка — не более того. Предстоял решительный и решающий момент. И профессор ждал его с давно небывалым волнением. Он нервно потирал руки. На красном лице ясно выступали — точно фантастическая географическая карта — шрамы и следы многочисленных ожогов. Глаза горели молодым блеском: профессору казалось, что он, как доктор Фауст, переживает свое возрождение.
Рассветало. Огонь погас. Согбенная тень перестала суетиться из угла в угол. Профессор Коллинс подошел к платиновому очажку, от которого шли электрические провода, уже давно разобщенные, и потрогал лежавший на очаге небольшой кусочек. Кусочек остыл.
— Ну, доктор! — обратился профессор к самому себе. — Прежде всего — хладнокровие!
Много лет тому назад ученый математик вычислил на бумаге, что там-то и тогда-то на небе должна показаться новая планета. Легко представить, с каким волнением он искал ее потом на небе в телескопе в назначенный момент! Легко представить себе также и его восторг, когда планета в самом деле оказалась на указанном месте.
Профессор Коллинс, конечно, знал об этом ученом и мог бы провести аналогию между собой и им. Но ему было теперь не до аналогий. Он торопливо вытащил аппарат — размерами около фута, с отгибающимися вилками и небольшой рукояткой, и вставил в особые отверстия на концах вилок по кусочку драгоценного вещества, имевшего вид медной бляхи.
И это было все! Роковой момент наступил!
— Мужайтесь, доктор! — снова обратился профессор к самому себе. — Все идет хорошо! All right!
Он поместил между вилками аппарата книгу.
И от волнения закрыл глаза.
С минуту он стоял с закрытыми глазами и думал: что-то будет?
И открыл глаза…
Книги не было!
Вилки сжимали ее. Профессор ясно чувствовал давление. Мало того, он потрогал пустое место рукой: на ощупь книга чувствовалась, но ее не было видно. И вдруг все существо профессора задрожало от безумной радости: его рука — его собственная рука, трогавшая книгу, исчезла! Ее тоже не было видно! Она исчезла по локоть, и только около локтя выплывала, словно из тумана, неясными контурами.
Профессор стал прикладывать аппарат то к одному, то к другому предмету — и предметы исчезали. Некоторые из них, например, чашка, портсигар, платиновый очажок, исчезали не сразу, но с некоторой постепенностью, словно окутываясь туманом. Другие, например, его руки и вообще части тела, пропадали мгновенно.
Профессор положил аппарат на стол и, совершенно обессилев от радости и усталости, упал на кресло и, полулежа в нем, принялся мечтать о том, что может дать человечеству его изобретение.
* * *
В передней позвонили.
Правду говоря, там звонили уже несколько минут, но профессор был занят своими мечтами и ничего не слышал. Звонок пробудил его нормальное сознание. Он наскоро одел туфли и, шлепая, прошел в переднюю и открыл двери.
— Это ты, Джек?
— Это я, профессор!
— Ты, Джек, чудесный малый! Входи!
Профессору Коллинсу сейчас все люди казались чудесными малыми.
— А я думал, что вы спите, профессор! Потом мне пришло в голову, что с вами что-то случилось.
— Действительно, кое-что случилось! — промолвил профессор. — У меня сегодня большой праздник, Джек! Ты получишь не в счет жалованья пять долларов.
— Ого! — улыбнулся молодой человек. — Это в самом деле походит на праздник! А в чем дело, профессор? Можно узнать?
— Ты узнаешь в свое время, Джек! Все узнают! А пока приготовь, как всегда, кофе и займись уборкой.
Молодого человека звали Яковом Швиндом. Он был по происхождению немец, но родился в Нью-Йорке и считал себя американцем. Он был портовым рабочим, но, не имея в данное время места, временно приходил к профессору каждое утро для домашних услуг. Он зажег газовую кухню и стал кипятить кофе. Он занимался этим делом в маленькой кухне, примыкавшей к лаборатории и соединенной с нею стеклянной дверью. Профессор, между тем, снова взялся за свой аппарат и решил немного его исправить. Ему не нравилось, что действие лучей имело слишком ограниченную площадь: он приставлял вилку к самому себе, и у него исчезала только половина тела и даже менее того. У стола оставались видимыми ножки. Профессор немного переместил металлические бляшки — и результат оказался совсем иной: получилось полное исчезновение любого предмета.
Джек вскипятил кофе, оставил его на плите и, подойдя к дверям, внимательно наблюдал за профессором и его манипуляциями. Они очень заинтриговали Джека, и то, что он увидел через стеклянную дверь, окончательно вывело его из душевного равновесия.
— Если он не сам дьявол, — подумал юноша, — то я даю голову на отсечение, что он свел с ним шашни!
Он отнес кофе в примыкавшую к кухне маленькую столовую и позвал профессора завтракать. Рассеянный и взволнованный, профессор положил аппарат на стол в лаборатории и отправился пить кофе.
В передней опять позвонили: это был почтальон с утренней газетой и письмами. Джек принял у него то и другое и отнес профессору. Утренняя газета составляла для профессора необходимую часть его существования. Какие бы волнения он ни переживал, он никогда не отказывался от чтения своей газеты и читал ее непременно всю, от начала и до конца, не брезгуя никакими бульварными сенсациями и пробегая даже матримониальные объявления, хотя уже давным-давно отказался от всяких надежд на брак.
Так и сегодня. Получив свой «Геральд», он углубился в чтение и совершенно не обращал внимания на окружающее. И не заметил, куда девался Джек и что он делал…
* * *
А Джек делал вот что.
Таинственная вилка поглощала все его внимание. Он не мог понять: что это за странная штука?
Он пробрался в лабораторию и стал проделывать те же опыты, которые делал давеча на его глазах профессор. И у Джека получились те же самые результаты. От этих результатов у него голова пошла кругом.
Побаловавшись с вилкой, он приложил ее к себе и соединил оба полюса, т. е. металлические бляшки, у себя на шее. И в это самое мгновение красовавшийся против него в зеркале Джек внезапно исчез… Исчез и подлинный Джек — тот, который стоял против зеркала… В первый момент Джеку стало жутко: уж не умер ли он, чего доброго? Он снял вилку с шеи — и оба Джека снова появились в своем полном виде… Снова надел вилку — и опять оба исчезли!
— Надо проверить это! — решил Джек. — Может быть, мне все это только кажется!
Соединивши бляшки на шее и снова исчезнув, он прошел на цыпочках в столовую, где профессор пил остывший кофе и дочитывал «Геральд». Джек остановился прямо перед ним. Профессор читал, не поднимая глаз.
В передней позвонили.
Профессор поднял глаза и, отвернувшись от Джека, стоявшего перед ним, громко крикнул:
— Джек! Куда ты девался? Поди, отопри!
Джек не шевелился, и внутри его все играло… «Он меня не видит», — думал он.
Профессор опустил глаза на газету. Снова позвонили.
— Джек! — сердито крикнул профессор. — Куда тебя унесли черти?
Тихо-тихо, на цыпочках Джек пробежал в переднюю, открыл дверь, нарочно громко стукнув ею, и уже без аппарата, в своем естественном «видимом» виде вошел в столовую:
— Вам телеграмма, сэр!
— Давай ее сюда!
Профессор углубился в телеграмму. Джек решил не терять понапрасну времени. Его подмывало устроить с чудесным аппаратом что-нибудь такое, чтобы чертям тошно стало: какое-нибудь неслыханное и невиданное озорство, чтобы можно было животики надорвать от хохота.
Справедливость требует сказать, что, кроме мальчишеских мечтаний об озорстве, Джеком владели и некоторые материальные расчеты… Он сразу смекнул, что, превратясь в невидимку, можно сделать какое-нибудь дело… В эту минуту он забыл обо всем. Забыл и о профессоре. До такой степени он был увлечен своими новыми проектами.
Профессор продолжал читать. Джек надел на шею аппарат и вышел из квартиры. Выйдя на площадку лестницы, он увидал, что у решетки лифта стояла молодая дама в ожидании машины. Джек спокойно дождался спускавшейся кабинки и вошел в нее вместе с дамой и даже слегка толкнул ее, на что она не обратила ни малейшего внимания, вероятно, решив, что задела за диванчик кабинки. Джек помирал от внутреннего хохота. Он глядел на свою соседку во все глаза, наклоняясь прямо перед нею, и скорчил самую смешную гримасу. Дама хоть бы что!..
Джек вышел на улицу. А со стороны как будто и ровно ничего не вышло: прохожие видели, как выходная дверь сама собою отворилась и затворилась. Но прохожие не обратили на это ни малейшего внимания; мало ли каких технических чудес не бывает в Новом Свете? Может быть, это пробовали изнутри здания особый усовершенствованный способ отворять двери без помощи швейцара?
На углу Houston-Street и Broadway Джек остановился. Поезд надземной железной дороги с грохотом и визгом пронесся по эстакаде над ним и обдал его густыми облаками пара. Джек на мгновение замешкался на перекрестке, соображая, куда ему идти? И забыл в это мгновение, что он невидим. Прямо на него со всех ног бежала, очевидно, торопясь к трамвайной остановке, полная дама, обвешанная покупками и со свертками в обеих руках. Джек зазевался, и полная леди с разлета наскочила на него, как на пустое пространство.
Через секунду она лежала на тротуаре, визжа благим матом от негодования и страха. Покупки валялись по обеим сторонам. Около нее мгновенно образовался затор: столпились прохожие и бежал полисмен. Джек бросился первым помогать даме, но едва он схватил ее под руки, чтобы помочь ей встать, как дама с неистовым ужасом заорала. Она чувствовала прикосновение рук, но самих рук не видела. Джек вспомнил, что он невидим, и хотел снять вилку. Но в толпе это было неудобно. Подбежал полисмен, важный, толстый, с белой палочкой, в белом шлеме. Дама убедилась, что перед ней не привидение, и охотно отдалась в его руки, все еще продолжая охать.
Джек незаметно вытащил у полисмена палочку и заткнул ему ее за шиворот. И, довольный своей проделкой, побрел дальше, хихикая от удовольствия.
Идя все дальше по Бродвею, он заметил парфюмерный магазин, у дверей которого в простенках были вделаны зеркала. Джек подошел к зеркалу и взглянул: в зеркале было пусто… То есть, там было все, что угодно — улица, дома, прохожие, но только не было Джека. Тогда Джек снял вилку и бережно спрятал ее в карман, разобщив полюса. И в зеркале любезно улыбнулась ему знакомая юношески-румяная физиономия. Проходивший мимо него господин удивленно поглядел на внезапно появившегося перед зеркалом человека и подумал, что…
Впрочем, кто ж его знает, что он подумал.
* * *
Кончив пить кофе и прочитав до конца газету, профессор Коллинс вернулся в лабораторию.
— Куда ж я девал мой аппарат? — подумал он. — Можно ли быть таким рассеянным?
Он обшарил весь стол, заглянул под него, под стулья, снял с места платиновый очаг. Вилки нигде не было! Профессор вывернул все карманы, хотя такой крупный предмет, как вилкообразный аппарат, конечно, сразу почувствовался бы в кармане. Затем он прошел обратно в столовую: ему пришло в голову, что по рассеянности он мог оставить вилку там.
Но и там не было ничего!
У профессора выступил холодный пот. Сердце сжалось почти физической болью.
— Джек!
Молчание.
— Джек! Ты здесь?
Нет, и в кухне Джека не было!
Профессор Коллинс постоял в дверях, подумал и, согнувшись и сразу постарев на десять лет, тихо прошел в свою лабораторию.
II
Джек заметил у себя один крупный недостаток, сразу бросившийся ему в глаза, когда смотрел на себя в зеркало:
Он был без шляпы.
Впопыхах, торопясь уйти из квартиры профессора, он оставил там свою старенькую мягкую шляпу. Возвращаться к профессору он не имел ни малейшего намерения. Ходить по улицам без шляпы не представляло ничего особенного: в толпе, сновавшей взад и вперед и гонявшейся за счастьем и за деньгами, можно было бы появиться даже и без жилета. Никто бы на это не обратил внимания. Но было жарко. А главное — Джеку хотелось иметь приличествующий джентльмену вид. Он вообще был склонен немного пофрантить.
Но где достать шляпу?
Первым и чисто инстинктивным движением Джека было схватиться за карман. Но, увы, в кармане позвякивало лишь два цента — весь наличный капитал. Но в это же мгновение Джек нащупал в кармане и другую вещь…
Это была вилка.
Джек широко улыбнулся. И, прибавив шагу, вскоре остановился около шикарного шляпного магазина. И вошел в него уверенно, со спокойным и независимым видом.
— Что вам угодно, сэр?
Джек еще раз удостоверился, что вилка с ним. И небрежно бросил вежливому комми:
— Шляпу Борсалино, мягкую, фетровую, мышиного цвета.
— Сию минуту, сэр!
Приказчик снял мерку с головы Джека и взял с полки несколько коробок со шляпами. Джек выбрал наиболее подходящую и надел ее. Приказчик наклонился к прилавку и стал писать чек. У Джека сильно билось сердце. Незаметно вынув из кармана свой аппарат, он приложил вилку к шее и соединил полюсы.
И вышел из магазина.
Приказчик кончил писать и, удивленный, обернулся, ища глазами покупателя. Затем он с величайшим волнением выбежал на тротуар и что-то крикнул. Джек видел, как к нему подбежали прохожие, махали руками, вертелись на одном месте, словно флюгера. И к ним уже спешил полисмен…
Джек усмехнулся и, чрезвычайно довольный собой, пошел дальше… Вилка уже снова лежала в кармане. Он несколько раз подходил к зеркальным витринам, к зеркалам и любовался шляпой. Это первое приобретение, добытое посредством аппарата, разожгло в нем и дальнейшие аппетиты.
Джек убедился, что его пальто и пиджак не гармонируют с новой шляпой. Франтить, так уж франтить до конца!
— Черт возьми! — пробормотал он. — Кажется, мне теперь нечего стесняться! Если я и не так богат, как Форд или Вандербильдт, то все-таки и у меня есть кое-что! Пожалуй, я теперь даже побогаче их!
Он вскоре заметил целых три магазина готового платья, и ему оставалось лишь сделать выбор.
Машинально потрагивая заветный аппарат, Джек вошел в магазин, уставленный вешалками с всевозможным одеянием. Но тут явилось затруднение: костюмов было множество, и все они казались Джеку одинаково прекрасными, и каждый из них был в своем роде соблазнителен. Выбор был труден!
— Не желает ли сэр вот этот костюм из английского шевиота? — спрашивал приказчик. — Размер подходящий. Цвет восхитительный! Фасон по последнему журналу.
Джеку не нравился цвет — слишком синий.
— В таком случае, не угодно ли жакетный костюм? Легкость необыкновенная! Вы не почувствуете его на своем теле, сэр!
У Джека разбегались глаза: он вспомнил, что ему крайне необходимо иметь смокинг. Но сейчас, утром, в смокинге ходить было неудобно.
— Дайте мне светлый костюм и легкое пальто.
— Пальто, конечно, на шелковой подкладке? — заботливо осведомился приказчик.
— Ну, само собой разумеется!
У приказчика был очень приятный вид. Он всеми мерами старался понравиться и угодить Джеку, и Джек ему, очевидно, нравился. Пока Джек примерял костюм, он успел поговорить с приятным приказчиком о всевозможных вещах, осведомился, где продаются лучшие трости, и не знает ли он, какие трубки теперь в моде: короткие или подлиннее? Приказчик с любезнейшим видом давал Джеку все эти сведения, и через какие-нибудь десять минул Джек чувствовал себя приятелем с ним.
— Мне будет очень неудобно надуть его! — с беспокойством подумал он. — И зачем я сунулся в этот магазин!
У него уже мелькнула мысль отказаться от покупки и пойти в другой магазин, где приказчики — не такие славные малые. Но было уже поздно: костюм и пальто так очаровали его своей красотой, что он забыл про свои угрызения.
Джек оделся перед громадным трехстворчатым зеркалом во все новое. Он никак не мог стереть со своего лица широчайшую улыбку радости: он имел теперь вид самого заправского джентльмена. И подумать только, что этот замечательный джентльмен еще сегодня утром приходил в качестве лакея к профессору Коллинсу мыть посуду и убирать комнаты!
— А что будет, — подумал с восторгом Джек, — когда я надену смокинг!
Примерка была окончена. И костюм, и пальто сидели очаровательно. Теперь во внешности «джентльмена» был один лишь изъян: старые стоптанные ботинки. Но это была уже пара пустяков для Джека. Ботинки можно купить немного погодя!..
— Костюм к вам удивительно идет, сэр! — воскликнул новый приятель Джека.
Теперь нужно было приступить к заключительным действиям. Джеку положительно не хотелось огорчать чудесного приказчика…
Но как раз в этот момент молодого приказчика отозвали в контору. Вместо него перед Джеком появился какой-то рыжий грубоватый детина, что-то жевавший и неодобрительно посматривавший на Джека. У Джека сразу отлегло от сердца: с этим толстокожим не стоило церемониться!
— Вы берете костюм, сэр?
— Беру!
— Хорошо! Получите чек!
Джек взял чек и пошел к кассе. Свой старый костюм он решил оставить в магазине. Подручный негритенок уже завязывал его веревочкой, тщательно и красиво упаковав в желтую бумагу. По дороге Джек обернулся назад: грубый детина, новый приказчик, рассеянно смотрел в окно. Негритенок связал костюм Джека и с восхищением любовался своим произведением, покачивая его на веревочке. Джек с величайшим хладнокровием вынул аппарат, приложил к шее и вышел на улицу.
Отойдя шагов пятьдесят, он оглянулся.
Из магазина стремглав вылетел негритенок, получивший подзатыльник. Следом за ним выскочили двое приказчиков. Джек остановился наблюдать. Сердце у него билось спокойно. Он уже стал привыкать к таким происшествиям.
Приказчики кинулись в противоположную сторону и неистово погнались за кем-то… Но за кем? Джек недоумевал.
Через две-три минуты они появились в сопровождении полисмена. Последний вел, крепко держа за шиворот, какого-то молодого человека в очень похожем на костюм Джека светлом жакете. Молодой человек упирался и кричал, но полисмен подталкивал его… Негритенок отплясывал около них какой-то танец, вне себя от восторга.
Вся эта компания скрылась за дверями магазина.
* * *
— Это отлично! — сказал Джек. — Это как в кинематографе: приключения Поксона!
Смеясь от восторга, он не шел, а почти летел по Бродвею. Он казался себе могущественным волшебником. Все теперь к его услугам: лучшие магазины, самые дорогие товары, самые изысканные удовольствия! Вот, например, роскошный колониальный магазин. Сколько раз, бывало, Джек с завистью и голодной тоской созерцал витрины, где были навалены груды превосходных ананасов, бананов и апельсинов величиной с детскую голову! А бутылки с каким-то неведомым Джеку красным вином — пузатенькие, в желтых плетенках. А вазы с леденцами! А шоколадные торты величиной с колесо? Подумать только, что теперь все это доступно Джеку!
Дверь в магазин была широко открыта. Оттуда веяло ароматной и слегка сыроватой прохладой. Несколько человек входили туда, сталкиваясь при входе с выходившими. Джек приложил вилку к шее и смело вошел в магазин соблазнительных вещей. Он прямо направился к витрине и, наклонясь к окну, никем не видимый, выбрал и положил в карманы несколько великолепных груш и персиков, несколько плиток шоколада с орехами и горсть карамели. И вышел обратно на тротуар как ни в чем не бывало! Его появление и его действия в магазине были не более заметны, чем визит мухи, которая залетела в витрину и посидела с минуту на леденцах…
— Что дальше? — думал он, отламывая и отправляя в рот кусок шоколада. — Куда теперь? Что нужно еще «купить»?
Нужно было добыть ботинки.
Жуя шоколад, Джек шел, не торопясь, по шумной и людной улице. Трамваи звонили, а автомобили визжали, ревели, выли вокруг него разными голосами, словно звери в каком-то громадном зверинце. Люди метались как сумасшедшие, обгоняя друг друга, вскакивая на ходу в трамваи с риском попасть под мотор, перебегали через улицу. Джеку было тепло и весело. Его разбирала охота сошкольничать, выкинуть какой-нибудь фарс в духе Поксона. Впереди него шли, покачиваясь и напевая, два подвыпивших джентльмена — один за другим, на расстоянии четырех-пяти футов друг от друга. По-видимому, они не были знакомы друг с другом. Джек проворно превратился в невидимку и щелкнул переднего джентльмена по затылку. Тот мгновенно обернулся и накинулся на заднего джентльмена:
— Сэр?!
— Сэр?!
— Вы осмелились подвергнуть меня оскорблению?!
— Я вас не понимаю!
— Вы ударили меня!
— Н-ничего п-подобного!
— Вы лжете!
— Я лгу? Какой негодяй сказал это? К-который?
— Вы сами негодяй!
Кругом ссорившихся немедленно собралась толпа. Мальчишки, обрадовавшись, подняли улюлюканье. Джентльменов подзадоривали, натравливая друг на друга. Джек принял видимое естество и с величайшим удовольствием участвовал в скандале. Сапожник с парой новых сапог в руке, в грязном переднике, кричал переднему джентльмену:
— Ударьте его, сэр! У него рыжие волосы!
Другой прохожий советовал:
— Бейте сразу полным кулаком, сэр! Он слабее. Не бойтесь!
Двое матросов, судя по надписям на ленточках, англичане, уже держали пари: один за рыжего, другой за длинного.
Сквозь толпу пробирался со своим белым жезлом высокий бобби в белом шлеме:
— Прошу разойтись, джентльмены!
Но было уже поздно. Джентльмены, поощряемые со всех сторон, кинулись друг на друга и через секунду покатились клубком по тротуару. А еще через секунду длинный сидел на рыжем и тузил его кулаками с деловым и почти спокойным видом. На империале проезжавшего автобуса пассажиры стояли на ногах и с интересом созерцали зрелище. Один из матросов уплачивал другому проигранное пари, и вслед за тем оба скрылись в пивной — пропивать сообща, по-братски, выигрыш.
Джек наслаждался от души. Давно уж он не хохотал так, как сейчас. Это было лучше всякого кинематографа! Необыкновенный аппарат давал ему, положительно, все: обеспеченность и наслаждения. Что бы еще предпринять?
Нет, надо сначала покончить со своей внешностью. Надо добыть ботинки!
Джек в сотый раз ощупал благодетельный аппарат. Он был по-прежнему в кармане.
* * *
В громадном магазине было тихо и пахло приятно кожей. Джек выбрал отличные ботинки, о каких раньше и мечтать не смел. Он надел их и попросил завернуть старые в бумагу. Он намеревался выкинуть их по дороге или «забыть» в трамвае. Приказчик уже писал чек, и Джек запустил руку в карман, чтобы достать аппарат…
Вдруг у него захолонуло сердце. Волосы на голове зашевелились, словно под ветром.
Вилки в кармане не было!
Джек бессильно опустился на скамью. Он был бледен, как полотно, и дышал короткими и частыми вздохами. Приказчик удивился, глядя на него:
— Что с вами, сэр?
— Н-ничего… — пробормотал Джек, — я, кажется, потерял одну свою вещь…
— Не деньги ли, сэр?
— Да… то есть, нет… Маленький аппарат… Он был у меня в кармане.
Он нагнулся и стал шарить по полу и под скамьей. Приказчик помогал ему. Но вилки и след простыл. Джек от волнения не мог припомнить, когда и где он в последний раз ощупывал ее в кармане? Ему представлялось страшное будущее: профессор, конечно, заявил в полицию, Джека уже ищут, его арестуют. И прощай, привольная жизнь — та новая, необыкновенная, которую он только что начал познавать!
— Я ничего не понимаю! — сказал он. — Эта вещь была у меня в кармане, когда я входил сюда в магазин. Она должна быть где-нибудь здесь!
Приказчик был смущен. Джек, очевидно, не лгал. У него был слишком взволнованный вид. Кроме того, он имел джентльменскую внешность и был одет в превосходное пальто. Все это внушало приказчику доверие.
— Нужно во что бы то ни стало найти ее! — сказал Джек.
— Какой она имеет вид, сэр?
Джек хотел было описать аппарат. Но вдруг слова замерли у него на губах: у самых дверей магазина вертелась собачонка и… и играла с его вилкой, хватая ее зубами и подбрасывая…
Джек закричал во все горло и бросился к ней. Но собачонка, не будь плоха, схватила аппарат и кинулась с ним на улицу.
Не помня себя, Джек выскочил в новых ботинках на улицу и погнался за собакой. За ним выскочил и погнался приказчик, за приказчиком еще кто-то, и через минуту целая вереница людей мчалась по улице, сшибая с ног встречных, крича благим матом и ничего не понимая…
Но Джек все понимал. Надо было во что бы то ни стало догнать эту проклятую собачонку. Джека снедал неописуемый страх! Собачонка могла испортить аппарат… Догнать ее было невозможно даже при участии полисмена, если бы собачонку не охватило игривое настроение: она вертелась временами на месте, играя с вилкой, бросала ее на землю, снова хватала и почти из-под ног настигавших ее преследователей удирала дальше. Джек три раза едва не попал под мотор.
Наконец, ему удалось догнать собаку. Он нагнулся и уже совсем было схватил ее… Но вдруг собака исчезла…
Исчезла у него на глазах! Словно растаяла!
Джек понял, что это значит!
Аппарат, значит, еще действовал. Очевидно, полюса соединились, и собака стала невидимой…
Он сел прямо на тротуар и заплакал. Кругом него собралась толпа. Тут были и приказчики из сапожного магазина. Они кричали, чтобы он вернул ботинки или, по крайней, мере уплатил бы за них. Джек ничего не отвечал, плакал горькими слезами. Какая-то сердобольная леди, не зная, что тут происходит, пробралась через толпу и протянула Джеку пятьдесят центов.
— Вы потеряли вашу мать? Не правда ли? — промолвила она, сочувственно смотря на беднягу.
Джек проливал слезы. Приказчики во все горло ругались и поносили Джека. И неизвестно, чем бы все это кончилось… Но вдруг шагах в пятидесяти на тротуаре началась собачья драка. Джек взглянул туда: проклятая собачонка воскресла. Она дралась с другой собакой, а около нее на тротуаре валялась драгоценная вилка!
Только зоркие глаза Джека заметили это. С непостижимой быстротой он вскочил и кинулся туда. И, на бегу схватив аппарат, приложил его к шее.
Ура! Аппарат действовал! Джек пропал из виду!
Сзади него приказчики и публика в полном недоумении махали руками, кричали, подзывали таксомотор, чтобы поехать вдогонку за пропавшим молодым человеком. Джек замирал от счастья. Его огорчало лишь одно: он не успел дать пинка проклятой собачонке, так испортившей ему настроение.
Он бежал, сам не зная куда. Так взволновала его вся эта история! Он не обращал внимания на странное обстоятельство: около него с криками изумления бежали люди, и толпа бежавших все увеличивалась. Люди что-то кричали и указывали на него…
Джеку, наконец, это бросилось в глаза. Его охватил страх: может быть, аппарат перестал действовать, его заметили, узнали и бегут за ним в погоню, чтобы схватить и отдать полиции? Джек с пылающими от волнения щеками схватился за шею: аппарат сидел на месте… В чем же тут дело?
Какой-то чернокожий мальчишка с выражением недоумения и ужаса прыгал галопом около него и кричал:
— Бегут! Бегут! Они бегут!
Кто бежит? Джек ничего не понимал.
Толпа свистела, вопила. Какую-то леди, упавшую в обморок, укладывали в подъехавший автомобиль. Двое необыкновенно проворных молодых людей с записными книжками в руках гнались за Джеком, что-то записывая на бегу. Несчастный, чуя неладное, улепетывал со всех ног… Он решил, что это агенты тайной полиции и что они уже составляют протокол!
На бегу он случайно взглянул себе на ноги и ахнул!
Его ноги были видны… Тело сверху и до щиколоток было невидимо, а ботинки — новенькие, блестящие ботинки, были видимы — и они бежали!
Одни ботинки — сами собой, как живые, бежали по улице. Вообразите изумление и суеверный ужас толпы! Недаром почтенная леди упала в обморок! Недаром за ботинками гнались два репортера из «Геральда»! Случай был действительно из ряда вон выходящий. Какая-то старушка на углу улицы воздевала руки к небу и голосила:
— Последние времена пришли! Светопреставление!
А ее приятельница рассказывала подошедшей даме:
— Миссис Джибсон! Из магазина обуви Петерсона убежала пара ботинок. Честное слово, я не лгу! Я сама видела, вот, как сейчас вижу вас! Клянусь, что это правда!
Дама сочувственно кивала головой и кудахтала:
— Ах, это бывает!.. Ах, это бывает!..
И кто-то кричал во все горло:
— Вон, вон, бегут! Ловят! Поймали!..
Но это было не совсем так. Поймать — поймали, но не ботинки, а черного котенка, который перебегал как раз через улицу.
Джек был вне преследования. Он сообразил, что с аппаратом стряслось что-то неладное. Очевидно, он стал действовать хуже, освещая лишь часть его тела. Это взволновало и огорчило Джека, тем более что сам он, конечно, не смог бы исправить вилку. Добежав до парка, он прыгнул в кусты, окаймлявшие парк живой изгородью, и внезапно оказался за пределами чьей-либо досягаемости.
Он стал осторожно снимать вилку. И, снимая, убедился, что второпях плохо надел ее. Она хлябала. Один из полюсов плохо прилегал к шее, и Джек этого раньше не замечал. Он нацепил вилку, как следует, и убедился, что опять стал невидим весь целиком.
От усталости и пережитого волнения он ослабел и лег на траву. Громадный город гудел рядом, но здесь было тихо и безлюдно. Джек размышлял по поводу случившегося. Ему было ясно, что вилка — не игрушка, и что злоупотреблять ею не следует. Необходимо приберегать ее лишь для важных случаев и не таскать ее просто в кармане, откуда она легко может выпасть, что уже и случилось, и откуда ее легко могут выкрасть где-нибудь в толпе или в вагоне. Вообще, к ней требовалось особое внимание. Малейшая оплошность, вроде той глупой истории, которая только что произошла с ботинками, и Джек может вляпаться в прескверную историю…
* * *
Полежав и отдохнув, Джек почувствовал, что он страшно голоден. Он съел весь шоколад и фрукты. Нужно было опять предпринимать рискованные шаги. Ему пришло в голову, что не мешало бы добыть денег. С деньгами все пойдет гладко, без излишних осложнений и нежелательной, хотя и забавной чертовщины. А деньги достать поможет все та же драгоценная вилка. Каким образом? Об этом нужно было подумать. А пока голод так давал себя чувствовать, что Джек поспешил опять на улицу — искать подходящий ресторан.
Он дошел до Maydon Street, где находится превосходный ресторан «Калифорния», знакомый Джеку только по вывеске.
Долго было бы описывать вступление Джека в этот шикарный ресторан и его пребывание там. Это целая феерия в шести актах и бесчисленных картинах. Шесть актов — это шесть обеденных блюд, которые суждено съесть Джеку и которые он успешно съедает при помощи своего богатого юношеского аппетита и после возбуждающих событий этого дня… А что касается картин… Его воображение поражено картиной блестящего обеденного зала с лепным потолком, золотыми украшениями, люстрами и декорациями обеденных столов. Далее Джек поражен красными фраками музыкантов, играющих во время обеда на особой эстраде. Джеку кажется, что музыканты завидуют обедающим, и с досады и от голода нарочно как можно хуже пиликают на скрипках и дудят во флейты. Джек вообще не любит музыку. Он признает только военные марши, изрыгаемые громадными, медными, блестящими трубами полковых музыкантов, причем и тут Джеку всего более нравится, собственно барабан… А все эти скрипки, флейты и, как там это называется — одна чепуха, пригодная только для расстраивания нервов!
А какие важные и знатные господа здесь обедают! Наверное, принцы, графы и маркизы! Это тоже картина и еще какая! Картина человеческого тщеславия и дамских туалетов. Джек видит здесь совсем близко великолепных пышных дам, настоящих леди, о которых пишут в романах. Они так грациозны и красивы, что у Джека мутится в голове… Одним словом, Джек чувствует себя в каком-то бреду. Его преследует дерзкая мысль: а что, если завязать знакомство с какой-нибудь леди? Погулять с ней по авеню, зайти в кафе, покутить, побывать в театре?..
Все это, вероятно, вполне осуществимо! Для храбрости Джек требует бутылку вина. Ему хотелось бы шампанского, но он никогда еще не пивал его и не знает: как его пьют? Еще, пожалуй, осрамишься на глазах у этой «важной» публики!
Конец обеда завершается обычной процедурой: аппарат приставлен к шее, Джек исчез. Закурив сигару, он спокойно выходит на улицу, в то время как в ресторанной зале происходит волнение и поиски сбежавшего гостя. Джек уже не видит этой суматохи. Ему хочется пить, и он заходит в бар, тут же на улице.
Он сидит на высоком стуле у прилавка и тянет через соломину ice cream sherry. Пьет долго, смакуя напиток. Рядом с ним трое студентов пьют пиво. Студенты заметно навеселе, и им, очевидно, хочется вовлечь Джека в свою компанию. Но Джек держит теперь себя таким джентльменом, что к нему не приступишься! В общем, ему теперь не до приятелей, потому что у него в голове крепко засела прекрасная леди у соседнего стола, с которой необходимо свести знакомство и провести вечер. Ради этой цели Джек сейчас и набирается в баре храбрости.
Ice cream sherry выпито. За ним следует эль. За элем портер. Джек уже за глаза набрался храбрости, но ему просто нравится пить портер. Дама начинает туманиться в его голове и превращается в белого лебедя, которого Джек видел сегодня в парке.
— Я, кажется, выпил лишнее! — думает Джек. — Какого черта эти студенты на меня смотрят?.. Дураки! Я им покажу!
Ему приходит в голову довольно дикая идея: пусть студенты узнают, каким аппаратом обладает сейчас Джек!
Он вынимает вилку и, воспользовавшись моментом, когда студенты оборачиваются к окну, чтобы поглазеть на рекламную процессию фабрики Джона Вильсона, он надевает аппарат на голову и исчезает.
Но, озорства ради, Джек слегка отодвигает от шеи одну из бляшек, и у него становятся видны руки и стакан, который он держит в руке. Он подносит стакан ко рту и пьет.
Студенты тупо глядят на него. Один из них говорит товарищу:
— Видишь?
— Что?
— Рука!
— Пустяки! Не обращай внимания!
Молчание. Затем студент снова обращается к приятелю:
— Джимми!
— Ну?
— Или я сошел с ума, или это факт! Я видел, как стакан сам снялся с прилавка и поплыл вверх.
— Ну, так что же?
— Но ведь это странно!
— Ты сколько бутылок выпил?
— Две… И еще две… Значит, пять!
— Ну, значит, все в порядке. Не обращай внимания.
И студенты отвернулись.
Джек возмутился. Какие дураки! Вообще, студенты — идиоты, и необходимо проучить их!
Закрепив вилку, Джек уходит из бара. Результат обычный — внутреннее смятение и поиски исчезнувшего. Бармен и слуга-негритенок пристают к студентам с расспросами. Но то, что студенты рассказывают о молодом человеке, который пил портер, а потом исчез, превосходит всякое вероятие. Они бормочут что-то такое о руках, которые отделились от туловища, о стаканах, плавающих в воздухе, и т. п. Бармен машет рукой и уходит в свой офис. С людей, выпивших по несколько бутылок доброго луизианского пива, нечего и спрашивать!
Студенты тоже хотели бы исчезнуть. Но они не умеют сделать это достаточно чисто. Поэтому они предпочитают исчезнуть по-джентльменски, т. е. предварительно расплатившись. Затем, взявшись под руки и изображая корабль во время бури, они выходят на улицу.
И на улице происходит то, что называется «продолжением в следующем номере».
Джек с аппаратом на шее, т. е. невидимый, стоит у входа в бар. Он размышляет о глупости студентов и о том, что хорошо бы задать им жару. В этот момент студенты, точно желая угодить ему, вываливаются из бара и лезут прямо на Джека. Лезут совершенно добросовестно, потому что Джек для них невидим, как и для всех остальных людей. Но пьяный Джек вламывается в амбицию. Он уже забыл, что он невидим. Он убежден, что студенты хотят оскорбить его и нахально прут на него именно с этой целью.
— Стоп! — гневно кричит он им. — Назад!
Студенты с недоумевающим видом наталкиваются на него и качаются, остановившись на месте.
— Нахалы! — кричит Джек.
— Джимми! — обращается студент к товарищу. — Слышишь?
— Не обращай внимания!
— Дураки! Идиоты!
— Джимми! Небывалая вещь: говорящий воздух!
Джек делает энергический жест. Студент продолжает:
— Еще более странная вещь! Воздух дерется!
Но тут к студентам присоединяется кое-кто из прохожих, заинтересовавшись странным явлением. Джек так взбешен и зол на студентов, что совершенно не в состоянии вспомнить, что он невидим. Он убежден, что над ним издеваются. Вне себя, он осыпает студентов и остальную публику ругательствами, вертится на месте, и публика с недоумением видит, что перед ней происходит что-то непонятное: какой-то крутящийся вихрь криков, ругательств и незримых толчков. Одни говорят о странном явлении электрического разряда, другие склонны объяснить это проявлением четвертого измерения. Третьи видят здесь явление коллективной галлюцинации. Джек совершенно выходит из себя и с остервенением кидается на студентов. Те в страхе бегут. Подходят два репортера из «Геральда» и торопливо расспрашивают, что случилось, и тут же пишут заметку для газеты.
— Странный день! — говорит один из них. — Давеча, помнишь, эти бегающие ботинки? А сейчас говорящий воздух!
— Да, между этими явлениями несомненная связь!
— О, да!
Джек, между тем, уже снова идет по улице. У него кружится голова. Ему душно, нехорошо. Шею сдавливает какой-то железный обруч. Он вспоминает, что это аппарат, и снимает его. И ему становится ясно, что он пьян и наделал глупостей.
— Надо освежиться! — говорит он.
По дороге он случайно останавливается у входа на биржу. Оттуда валит народ. Притиснутый к решетке, Джек видит, как толстые биржевики с портфелями садятся в автомобили и уезжают. Блестящая идея приходит ему в голову. Он быстро надевает аппарат, подходит к элегантному лимузину и садится в него.
Через минуту в автомобиль влезает пузатый краснорожий биржевик и, не замечая Джека, приказывает шоферу ехать. Джек осторожно, стараясь не шевелиться, прижимается в уголок, покачиваясь на мягких кожаных подушках. А сам потихоньку потягивает из-под мышки биржевика его портфель.
Эта работа ведется им всю дорогу. Вот завернули за угол Пятой авеню — этой улицы нью-йоркских богачей. Вот лимузин останавливается у подъезда небоскреба.
Портфель мягко падает на подушку. Джек ловко и беззвучно подхватывает его и в одно мгновение спрыгивает на мостовую.
Теперь ищите его, поднимайте на ноги всю полицию, обещайте молодцам-бобби тысячные награды — все будет напрасно! Портфель исчез, растаял в воздухе…
III
— Вас как зовут?
— Джек Швинд. А вас?
Дама смеется:
— Фата Моргана!
Джеку чудится что-то знакомое в этом имени.
— Вы не родственница миллиардеру Моргану?
Его новая знакомая разражается хохотом. У ней появляются очаровательные ямочки на щеках, и вся она становится такой прелестной, что Джеку смертельно хочется расцеловать ее. Тем не менее, он смущен ее смехом. По-видимому, он сделал какой-то промах.
— Отчего вы смеетесь? — говорит он ей. — Что тут смешного? Пирпонт Морган — всеми уважаемый знаменитый человек! Он сделал себе миллиарды!
— Вы очаровательны своей наивностью! — говорит дама.
— Вы такой свеженький и нетронутый, словно теплый пятицентовый хлебец, только что вынутый из печки! Повернитесь ко мне боком! Ну, так и есть! У вас даже молочко на губах еще не обсохло!
— Это только так кажется! — протестует Джек. — Мне уже двадцать три года. Я много видел на свете, много путешествовал.
— Вот как! Где же вы были?
Насчет путешествий Джек сболтнул для красоты слова. И теперь сам не знает, как ему вывернуться.
Он пытается переменить разговор.
— А я хотел вам предложить кое-что. Но боюсь, что вы обидитесь.
Дама делает строгое лицо. Но и в строгом виде она прелестна. Пожалуй, еще лучше, чем в насмешливом виде.
— Что ж, может быть, и обижусь. Смотря по обстоятельствам.
— Но я не имею в виду ничего дурного!
— Что же вы хотите со мной сделать? Предложить стакан содовой воды?
— Совсем нет! — обижается Джек. — Поехать в театр… А потом поужинать в ресторане…
Фата Моргана с деланным, а может быть, отчасти и искренним удивлением смотрит на своего случайного соседа по скамейке в городском парке.
— Ого! Вы малый не промах! Это стоит того, чтобы подумать… Но ведь для этого требуются средства?
— О, за этим дело не станет!
— Браво! Но откуда у вас деньги, молодой человек?
— Я состою на службе! — сказал Джек обиженным тоном.
— А? На какой?
Джек поперхнулся.
— На очень хорошей службе… У одного… (Джек хотел сказать «профессора», но снова поперхнулся.) У одного коммерсанта… Секретарем!
— Ага, понимаю! Это в самом деле хорошая должность. И что же? В качестве секретаря вы ухаживаете в парке за молодыми дамами?
— Но согласитесь сами… Такая чудная погода… Женщины так украшают общество…
Фата Моргана снова расхохоталась и добродушно-фамильярно потрепала Джека по плечу. Джек расхрабрился и повел атаку с такой уверенностью, что дама мало-помалу смягчила свое злословие и изъявила согласие ехать в театр, в кино, в дансинг, в ресторан, куда угодно.
Джек был снова на верху блаженства.
* * *
Фата Моргана, разумеется, ни с которой стороны не приходилась ни родственницей, ни свойственницей знаменитому Пирпонту. Это был ее псевдоним, изобретенный на скорую руку.
Это была одна из тех провинциальных женщин, которые живут вдали от большого и шумного города и в стороне от проезжих дорог до зрелого возраста, выходят замуж за нелюбимых мужей и ведут скромную и бесцветную жизнь. А затем словно сходят внезапно с ума и бросаются очертя голову в удовольствия и авантюры.
Лукреция Шельдон, жена провинциального нотариуса в небольшом городке, недавно лишилась мужа. Она провела установленное обычаем время траура у себя дома, никого не принимала, никуда не выходила, и все в городе считали ее необыкновенно добродетельной и благочестивой женщиной, и ставили ее в пример всем другим молодым и красивым женщинам.
А отбыв траур и вступив во владение оставленными ей супругом долларами, Лукреция Шельдон в один прекрасный день села в поезд и укатила. Сначала к родственникам в Охайо, где проплакала в их объятиях полчаса и вела в остальное время душеспасительные разговоры.
Отбыв и эту последнюю каторгу, молодая женщина, оставшись наконец одна в поезде, улыбнулась, попудрилась и стала читать роман.
Она страстно любила романы. С ранней юности она читала все, что попало — и французских легкомысленных романистов, и сентиментального Диккенса, и устаревшего Вальтер-Скотта, и Льва Толстого, причем читала не только одни «разговоры», как большинство женщин, но и описания… В особенности ей нравились французские романисты. Она бредила Парижем и его бульварными развлечениями и, не бывав никогда во Франции, ни вообще за границей, отлично знала даже план Парижа и местонахождение наиболее знаменитых увеселительных заведений и ресторанов.
В Нью-Йорке она была сегодня с утра. Остановившись в довольно фешенебельной гостинице, она с утра, с самого своего приезда, ходила по магазинам и кафе, делала закупки, завтракала, пила кофе и, как все американки, страстно любящие сладкое, с утра ела мороженое и жевала шоколад и тянучки. У ней здесь не было решительно ни одной живой души знакомой…
С Джеком молодая женщина познакомилась в парке. Он ей понравился своей цветущей молодостью и красивой внешностью, а также и своим безукоризненным джентльменским видом. Знакомство состоялось почти мгновенно, с двух-трех слов. И, вот они оба уже выходили из кафе, куда Джек увлек ее перед театром.
— Я хочу пойти в оперу, — пролепетала Фата Моргана.
Джек никогда не бывал в опере и имел самое слабое представление о том, что это такое. Он предпочел бы мюзик-холл, где много было всяких интересных штук, говорящих тюленей, кривляющихся негров и т. п. Но Фата Моргана тоже никогда еще не бывала в опере и решила во что бы то ни стало испробовать, прежде всего, это фешенебельное зрелище, о котором она так много читала в романах…
Величественное здание оперного театра подействовало на Джека на первых порах ошеломляющим образом. Фата Моргана с сожалением сказала: «Жаль, что сегодня не поет Карузо!» Джек слыхал о Карузо и тоже слегка пожалел, что не увидит его.
Усевшись на места, Джек и его спутница с любопытством разглядывали залу, уже полную джентльменов и леди. Фата Моргана ахала при виде бриллиантов и старалась оценить то или иное колье или диадему. Джек, у которого в голове все еще шумело после портера, вмешивался в ее оценку, противоречил ей, хотя сам ровно ничего не понимал в драгоценных камнях.
Потом началась музыка и вместе с тем непроходимая, угнетающая скука для Джека.
Сначала музыка пиликала что-то жалостное. Сперва очень тихо, а потом все громче и назойливее. Скрипки словно держали пари, кто из них перегонит друг друга, и не было казалось никакой возможности удержать их. Джек решительно не понимал: к чему музыка в театре? Неужели нельзя обойтись совсем без нее? Если бы еще здесь танцевали, как в дансинге.
Поднялся занавес. На сцене были ярко разрисованные стены какого-то странного дворца с фигурами животных и людей в неестественных позах. Потом появились так же пышно разрисованные и одетые в яркие костюмы люди и запели, размахивая руками.
— Это Египет и египтяне, — прошептала Фата Моргана.
Джеку хотелось знать, что будут говорить и делать эти поющие пестрые люди. Но они все лишь пели и разводили руками. Неужели египтяне не умеют говорить по-человечески, а только поют?
— Когда же они кончат? — недоумевающе спросил он.
— Что кончат? — в свою очередь недоумевала его спутница.
— Петь!
Фата Моргана не могла удержаться от смеха.
— Молчите, — прошептала она, фыркая, — в опере всегда поют.
Джек недоумевал. Он и сам был не прочь иногда помурлыкать какую-нибудь песенку, например: «Лиззи гуляла по лесу, бум, бум». Но нельзя же петь все время и на улице, и на службе, и в разговоре с важным начальником. Попробовал бы Джек запеть своему профессору: «Кофе гото-о-ов!»
Воображаю, какая была бы история.
Но всего глупее было то, что ровно ничего нельзя было понять, что делается на сцене. Эти дураки-египтяне говорили, очевидно, на каком-то египетском языке, потому что Джек решительно не понимал ни одного слова.
— Что он ей говорит? — спросил он свою спутницу, кивая на египтянина в блестящих латах, который тонким и завывающим голосом, по-видимому, упрекал какую-то черномазую негритянку в ярких тряпках. Негритянка с недовольным видом отворачивалась от него и глядела на подскакивавшего на своем стуле и махавшего палочкой дирижера. Вокруг египтянина и негритянки ходили взад и вперед другие египтяне.
Фата Моргана прошептала:
— Он объясняется ей в любви.
Джек вытаращил глаза:
— Негритянке?!
Надо знать презрение, питаемое американцами к «низшей расе», т. е. к неграм, чтобы понять это восклицание… Объясняться в любви к чернокожей, толстогубой, пахнущей кокосовым маслом негритянке! До этого могут додуматься только такие дураки, как египтяне!
— Молчите, она принцесса, — прошептала Фата Моргана.
— Хотя бы даже принцесса. Но еще нелепее объясняться на площади среди белого дня в присутствии других египтян, во все горло: «Я вас люблю! По-о-едемте в ре-е-е-сто-ра-ан!»
И хоть бы одно слово понять из этого проклятого египетского языка! К тому же, как назло и музыка мешает. Только что начнешь что-то как будто понимать, как опять взыграют эти пронзительные скрипки, и все исчезает в вихре их визгливых голосов… Для чего создана музыка? Неужели для того, чтобы мешать людям говорить?
Джек почувствовал едкую скуку. От нечего делать он стал наблюдать капельмейстера, внутренне подсмеиваясь над его странными и нелепыми движениями. Джеку казалось, что капельмейстер танцует на своем стуле. Единственный человек в театре, который танцует под эту музыку. И зачем он все время машет палочкой, точно собирается поколотить музыкантов?
Наконец, занавес опустился. Джек разочарованно промолвил:
— Он никого не ударил!
— Кто? — спросила Фата Моргана.
— Этот начальник оркестра!
Фата Моргана опять расхохоталась. Джеку положительно становилось невтерпеж.
В антракте он утешался только тем, что съел в буфете громадное количество мороженого. А затем опять началась каторга.
На сцене был ярко размалеванный храм с каким-то чучелом посередине. И идиоты-египтяне поклонялись чучелу с негритянской физиономией и опять пели и выли на разные голоса. Музыка опять мешала слушать, капельмейстер опять зря махал своей палкой. Джеку все это надоело до крайней степени.
От фешенебельной оперы у Джека осталось (вероятно, уже на всю жизнь) впечатление, что египтяне не говорят по-человечески, а поют, и что они сплошные идиоты. Фата Моргана тоже была разочарована фешенебельным зрелищем. Когда, по окончании второго действия, Джек предложил ей покинуть театр и отправиться вместо того в кино или в мюзик-холл, она охотно согласилась. Но объяснила свое разочарование и недовольство спектаклем только тем, что сегодня не пел Карузо.
— В мюзик-холле выступает аргентинец, который отлично передразнивает Карузо! — утешил ее Джек.
— Вы слышали его?
— Нет, мне говорил один мой знакомый.
Джек умолчал, что этот знакомый был не кто иной, как приятный молодой приказчик из магазина готового платья.
В мюзик-холле, носившем громкое название «Пикадилли-Палас», было много шума, грохота от катающихся по рельсам столиков с ресторанными блюдами, кухонного чада и табачного дыма и гораздо меньше (к удовольствию Джека) музыки… В конце громадного белого, уставленного столиками, зала имелась эстрада и там выступали «номера»:
Шпагоглотатель Ричмонд из Лондона.
Оперный певец Рыкалов из Москвы.
Ученая обезьяна Аякс.
Солист на гармонике негр Киви из Техаса.
Ученые белые мыши.
Русская балерина Петрова из императорского балета.
Чревовещатель из Индии.
Чемпион мира, силач Железная Маска.
Виртуозы на барабане, братья Крукс.
Само собой разумеется, что в программу также входило танго между столиками и иные танцы и… по желанию, шампанское.
Джек и его спутница заняли места близ самой эстрады. Фата Моргана (м-сс Шельдон так и не сочла нужным раскрыть Джеку свой псевдоним) была в восторге. В самом деле, это было в миллион раз веселее оперы! Громадный, роскошный зал с электрическими люстрами казался ей чем-то вроде районного отделения рая. Публика, состоявшая более чем наполовину из мелкомещанской толпы и разных третьесортных иностранцев, представлялась ей, так же, как и Джеку, верхом изящества — нисколько не хуже, чем там, в опере. М-сс Шельдон пила шерри со льдом, хохотала, болтала всякий вздор и подсмеивалась над Джеком. Последний с каждой минутой приобретал все больший апломб и даже начинал задевать своей ногой колено Фата Морганы. Фата Моргана не протестовала, находя, что так оно и полагается, согласно кодексу французских романов. Джек был на седьмом небе. Его любила (он был уже уверен в этом!) таинственная графиня, вышедшая замуж за простого бизнесмена и скрывавшая свое прошлое. На эту мысль его натолкнуло поразительное знакомство его дамы с Парижем и с правилами большого света. Конечно, надо сохранить связь с ней и дальше. Но не следует ни звуком, ни словом обмолвливаться о драгоценном аппарате. Женщины так болтливы!
Джек теперь с особенной рачительностью берег свою вилку. Он решил теперь пока не пускать ее в ход, так как у него были немалые деньги. Правда, он рассчитывал на большее, и банкир его обманул: в портфеле оказалось много именных акций, которые было невозможно спустить. Вилка лежала в боковом кармане, обвязанная носовым платком. Джек чувствовал ее присутствие каждую минуту. Она могла ему понадобиться не ранее утра, когда Джек хотел вернуться к себе на квартиру за кое-какими вещами, а главное, чтобы отоспаться после своих похождений. Его беспокоила мысль, что профессор уже дал знать полиции, и за ним, Джеком, уже следят. Хорошо еще, что Джек совсем недавно переехал на новую квартиру, и профессор не знал его нового адреса.
«Номера» один за другим появлялись на эстраде. Джеку после оперы все казалось здесь верхом совершенства. Фата Моргана пришла в восторг от русского певца, красивого брюнета, который с необыкновенной слащавостью исполнял французские романсы. Джек даже слегка приревновал ее к этому «шарлатану», за что Фата Моргана ударила его по руке и сказала: «Вы противный! Не смейте его так называть! Это — великий талант!»
Но всего более им обоим понравились ученые белые мыши. Правда, миссис Фата Моргана боялась мышей и завизжала, когда мыши забегали по эстраде. Впрочем, вся женская половина мюзик-холла завизжала, и многие леди даже вскочили на столы и подобрали свои и без того короткие юбки. Но мыши были так милы, так послушны, так отлично танцевали, что публика проводила их громом аплодисментов. Русский певец корчился от злобы в своей уборной. Ему не досталось на долю и одной десятой части этих оваций!
Но вот оркестр заиграл тягучий мотив. На эстраде появились танцор с танцоркой. Медленно изгибаясь и качаясь, они сплелись руками и, виляя туловищем и по-змеиному извиваясь, начали свой знаменитый танго…
Джек умел танцевать танго. Он спросил свою даму:
— Давайте, отваляем?
Та расхохоталась:
— Боже мой, как вы выражаетесь! Даже у нас в маленьких городах, приглашая девушек танцевать, выражаются изящнее, встают в грациозную позу и предлагают руку. А вы выпаливаете, сидя на месте, как из ружья: «Отваляем!» В скольких водах надо еще мыть вас, милый Джек?
Джек встал и, изогнувшись самым неправдоподобным образом, предложил ей руку. М-сс Шельдон не стала себя долго упрашивать, и оба они пустились танцевать вдоль столиков, их примеру последовало еще несколько пар, и вскоре весь зал наполнился качающимися парами во фраках, смокингах, пиджаках и даже бразильских «болеро» с бронзовыми пуговками и широчайшими поясами, в дамских туалетах, начиная от вызывающе-открытых вечерних туалетов и кончая скромными блузками маленьких швеек и работниц.
Оркестр гремел. Люстры сияли. Джек раскраснелся. Ему было нестерпимо жарко. Ему стало, наконец, невмочь. А его дама с томным видом покачивалась и изгибалась, и на лице ее было написано самое настоящее блаженство. Она видела в своих грезах Париж…
Джек не вытерпел:
— Погодите немножко! Постойте!
Фата Моргана опустила на него свой взор:
— Что такое?
— Постойте, ради бога. Не могу!
Фата Моргана окончательно перенеслась из Парижа в Нью-Йорк. Ее кавалер пыхтел перед ней, как опоенная лошадь.
— Что с вами?
— Вспотел!
Она с негодованием отшатнулась от него.
— Невежа!
Джек удивился.
— Почему вы сердитесь?
— И он еще спрашивает!
Фата Моргана с гневным видом направилась обратно к столику. Джек едва поспевал за нею.
— За что вы на меня рассердились? — спросил он. — Я ведь потом опять буду танцевать. Мы еще успеем натанцеваться! У них (он кивнул на музыкантов) громадный запас музыки. Когда выйдет одно танго, они начинают другое. И в других холлах тоже везде громадные запасы танго.
Фата Моргана все еще гневалась, но Джек уже опять начинал смешить ее.
— Велите подать еще мороженого! — строго сказала она ему. — Невежа!
Джек исполнил ее приказание.
— Вы называете меня невежей, — протестовал он. — За что? Я, кажется, стараюсь доставлять вам всевозможные удовольствия!
Она возразила:
— Кроме самого главного: быть изысканным кавалером, с которым не стыдно показаться где угодно…
— А разве я…
Она расхохоталась так, что у нее запрыгали на лице все ее соблазнительные ямочки.
— Скажите, Джек, где вы приобрели вашу замечательную изысканность? С вами прямо умрешь со смеха. Вы — славный малый, и с вами не соскучишься, хотя вы говорите ужасные вещи!
— Что же я сказал ужасного? — недоумевал Джек. — Я задыхался в этой жаре и обливался потом. Это всякий бы сказал на моем месте! Вам хорошо: у вас такое легкое платье, да еще вырез на груди и на спине вроде форточек (м-сс Шельдон так и покатилась со смеха). У вас все пары сразу выходят наружу (м-сс Шельдон едва сидела на стуле), а у меня они сгущаются под крахмальной сорочкой, да еще под жилетом, да еще…
Фата Моргана, не в силах сказать ни слова, только махала руками.
— Молчите! Молчите!..
Джек не унимался.
— Я и хотел немного передохнуть, чтобы пот высох, а потом можно и опять.
М-сс Шельдон ударила его по руке.
— Замолчите же, ужасный человек! Давайте говорить о другом.
Раздались веселые звуки фокстрота. И новые пары быстро забегали по залу, семеня ногами и подражая торопливому бегу лисицы.
— Позвольте просить вас!
Джек встал в грациозную позу.
Дама прервала его.
— Нет, нет… У вас опять пары…
Она не докончила и рассмеялась.
Джек возразил:
— Я уже высох! Уверяю вас! Ну, пожалуйста!
— Нет, нет, ни за что!
Джек почувствовал при этом упорном отказе, что его светская карьера потерпела крушение. Он молча, с мрачным видом уселся снова за столик и сердито выскреб из бокала остатки мороженого.
— Пойдемте лучше в ресторан, в отдельный кабинет! — предложила она. — Вы знаете, какой здесь самый шикарный ресторан?
— «Лузитания», я думаю.
Она поморщилась.
— Я никогда не слыхала о «Лузитании». Я знаю «Дель-Монико», «Палас-Отель-ресторан»… Вероятно, есть и еще какие-нибудь первоклассные рестораны. Сведите меня туда. Это, вероятно, на Пятой авеню.
Это было не совсем по душе Джеку. Он стал теперь сильно сомневаться в своей светскости и боялся, что Пятая авеню с ее настоящими светскими и фешенебельными учреждениями окончательно покажет его в самом нежелательном свете перед его прелестной дамой.
Но Фата Моргана настаивала. Она поставила своей задачей познакомиться с самыми шикарными ночными развлечениями парижского жанра.
— Вы в самом деле младенец! — небрежно уронила она. — Вы, кажется, боитесь показаться в настоящем обществе?
— Я боюсь не за себя, а за вас.
— Что такое? Вы боитесь, что я скомпрометирую вас?!
— Нет, я хочу сказать другое: вы знаете, там, в этих ресторанах, разные опасные иностранцы, сыщики, шпионы…
— Это-то и есть самое интересное… Как в романах!
— Нас могут арестовать, посадить в тюрьму!
— Какой вздор? С какой стати?
— Да так…
— Глупости! Расплачивайтесь и нанимайте таксомотор на Пятую авеню!
* * *
Эта ночь прошла для Джека в совершенном чаду.
Не потому, чтобы он был пьян, хотя выпито было немало, причем он первый раз в жизни узнал вкус настоящего французского шампанского. Но потому, что рядом с ним все время была красивая молодая женщина, смеявшаяся над ним и в то же время отдававшаяся ему. Он чувствовал себя с нею запанибрата, хотя и боялся каждую минуту, что она опять начнет высмеивать его. Он старался выражаться изысканно и мудрено. Фата Моргана смеялась еще больше, но в конце концов проявила к нему свою милость до самого конца, исчерпав таким образом всю программу парижского ночного шика.
Страшный ресторан на Пятой авеню оказался в конце концов страшным только по своим ценам. Но у Джека оставался еще порядочный запас банкирских денег и самое главное — оставалась драгоценная вилка, которая всегда могла выручить его в нужный момент. В ресторане их встретили чопорные, элегантные, как министры, лакеи, но их чопорность совершенно исчезла, когда Джек потребовал предоставить им отдельный кабинет и подать роскошный ужин, вино и фрукты.
А в отдельном кабинете Джек вскоре почувствовал себя уже совершенно, как дома.
Даже более, чем дома…
… — Ваш счет, сэр!
Джек взял изящный бланк счета и полез в карман за деньгами. Фата Моргана оправляла перед зеркалом прическу.
Вдруг ему пришла в голову шальная идея.
— Хорошо! — сказал он лакею. — Я, кажется, забыл деньги в пальто.
Он опустил счет в карман и повернулся к дверям маленькой передней, где висело их верхнее платье. Джек надел пальто, порылся в карманах… Лакей в почтительной позе стоял с серебряным подносом шагах в десяти от него. М-сс Шельдон видела Джека в зеркале.
Джек спокойно вынул из кармана вилку и на глазах у них приложил ее к шее. Он выделялся силуэтом на фоне открытых дверей. Лакей, по-видимому, подумал, что гость, прокутивший в эту ночь вместе с дамой свыше полтысячи долларов, собирается пустить себе пулю в лоб… Он сделал поспешно шаг к нему.
Джек растаял в воздухе…
Лакей стоял с разинутым ртом, не веря своим глазам, а м-сс Шельдон остановилась, как в столбняке, и кричала:
— Мистер Джек… Послушайте!.. Послушай… Послу… По…
Через минуту она уже лежала в обмороке.
А Джек в это время в нижнем этаже ресторана, в конторе, говорил обер-кельнеру:
— Получите с меня, пожалуйста, по этому счету! И еще десять процентов прислуге.
И, довольный своей выходкой, он зажег сигару и спокойно вышел на улицу.
* * *
Было семь часов утра.
Город пробуждался к нормальной трудовой жизни. По улицам брели группы рабочих с инструментами за плечами. С линии железной дороги доносился непрерывный свист маневрирующих паровозов и первых утренних поездов. Грохотали поезда надземной линии, трубили кондуктора автобусов.
Джек, измятый и словно постаревший за эту ночь, шел к себе домой. Он сам не отдавал себе ясного отчета, зачем он туда идет? Возможно, что там ждала его засада. Но ему нужно было куда-нибудь деваться и хоть немного отоспаться. Он буквально падал с ног от усталости.
По улицам бежали мальчишки со свежими номерами утренних газет и, словно оперные певцы, распевали их названия. Джек купил «Геральд» и с первых же строк натолкнулся на громадные черные заголовки:
«Таинственная кража».
«Говорящий воздух».
«Убежавшие из магазина ботинки».
«Загадочный случай с призраком».
И, наконец, самое страшное:
«Знаменитый профессор Коллинс обокраден!».
У Джека потемнело в глазах.
Теперь он был вполне уверен, что за ним следят. Может быть, сыщики уже проследили шаг за шагом все его похождения. Быть может, сейчас несколько пар глаз глядят на него и выслеживают каждый его шаг. Он удостоверился, с ним ли его вилка. Конечно, вилка — великое дело, но кто ж ее знает? Вдруг она в самый критический момент утратит силу и перестанет действовать? Джек не имел ни малейшего понятия об ее устройстве и ни за что не смог бы ее исправить… К тому же, вилка уже побывала на собачьих зубах, и это не могло не подействовать на нее дурным образом. В особенности Джека пугал случай с бегающими ботинками: вдруг такой казус случится как раз в тот момент, когда его схватит полиция! Полиция ведь — не старая леди: она не боится призраков и не верит в них. Бобби просто схватит бегущие ботинки и вместе с ними схватит и настоящего Джека — и кончено.
Джек брел по улице, озираясь на каждом шагу. Ему в каждом прохожем чудился переодетый полицейский. Каждая собака, бежавшая навстречу, казалась полицейским четвероногим сыщиком. Сердце у него билось так, словно Джека уже схватили и вели в тюрьму…
Но, дойдя до своей улицы, он приободрился.
— В конце концов, без риска не обойдешься! — промолвил он. — А главное, аппарат со мной. А там будь, что будет!
И он смело направился по лестнице к себе в десятый этаж…
IV
…Он проснулся в полдень с тяжелой головой и долго не мог прийти в себя.
Что с ним такое было? Сон? Нелепый, хотя и не лишенный приятных ощущений сон?
Но на стуле лежало небрежно брошенное новое платье — такое, какого Джек никогда не нашивал. На полу валялись великолепные новые ботинки. Очевидно, все это было приобретено не во сне, а наяву. Тяжелая голова, отвратительный вкус во рту и чувство своеобразного недомогания говорили об излишне выпитом вине, которое было выпито тоже отнюдь не во сне…
А вилка?
Джек вздрогнул и бросился к своей новой пиджачной паре. Да! Вилка была здесь, в кармане. Джек с почти благоговейной осторожностью потрогал ее. Значит, все это было не во сне, а наяву, хотя явь была такого свойства, что всего более походила на сон.
Джек умылся, привел себя в порядок и долго причесывался. Причесывание сопровождалось размышлениями: на Джека нахлынули новые, совершенно неожиданные мысли. Он видел теперь все проделанное им вчера в новом свете и с совершенно иной точки зрения…
— А ведь я вор! — думал Джек. — Я украл шляпу, ботинки, костюм. Я пил и ел на чужой счет, как самый настоящий мошенник! Я обокрал банкира!..
Он вспомнил о профессоре Коллинсе и невольно закрыл лицо руками от стыда и застонал:
— Что я с ним сделал!..
Вчера он ровно ничего не думал об этом. Покаянные мысли пришли только сегодня. Вчера все казалось Джеку просто интересным фарсом, забавным мальчишеством. Он вел себя как школьник, ни о чем не думая. И едва не потерял и не погубил аппарат — это замечательное изобретение, которое было создано, конечно, вовсе не для того, чтобы воровать при помощи его чужие вещи и обедать, не платя денег, в ресторанах или же устраивать скандалы и озорства…
— Я вовсе не вор и не мошенник! — подумал Джек. — Я честный труженик. До сих пор я честно зарабатывал свой хлеб. Нужно опять встать на рельсы… Это меня сбила с толку вилка: я с ума сошел из-за нее! Нужно прийти в себя!
Он вспомнил о профессоре. Старик, очевидно, был вне себя от горя. Необходимо сегодня же пойти к нему, раскаяться и возвратить аппарат.
Но тут Джек снова задумался и встал, как в столбняке, посреди своей крошечной комнатки в одном жилете.
— А что там меня ждет, у профессора?
Профессор Коллинс был очень добрый человек. Но и добрые люди добры только до известного предела. Трудно было предполагать, чтобы он теперь прослезился от радости при виде Джека. Всего естественнее было ожидать, что для него готовится какая-нибудь крупная неприятность… Правда, до сих пор Джек еще был на свободе; у себя на квартире он не застал никаких полицейских агентов, никто его не хватал и не тащил, и он спокойно выспался в своей комнате. Но было бы ребячеством думать, что полиция ровно еще ничего не знает о краже и о том, что Джек служил у профессора и исчез одновременно с вилкой. Кто знает? Может быть, у профессора-то и устроена засада для него! Почему всеведущая нью-йоркская полиция оставила квартиру Джека в покое? Разве можно угадать мысли и намерения полиции? Над этим нечего ломать голову, а надо придумать, как спастись!
Джек решил:
— Всего лучше подбросить вилку профессору… Как будто ничего не было…
Но как подбросить?
Войти незамеченным к нему в квартиру, конечно, ничего не стоит при помощи аппарата. Но как выйти, когда аппарат уже будет подброшен, и его уже не будет в руках у Джека? Это немного потруднее… Но все равно, будь, что будет!
Джек почувствовал, что он совершенно запутался в своих намерениях вернуться к добродетельной жизни. Но оставаться вором ему совсем не хотелось. И, не предрешая будущего своего поведения, он все-таки решил пробраться невидимкой к профессору. А там будет видно…
Он надел пиджак и вышел.
В дверях он столкнулся со своей квартирной хозяйкой, миссис Сибиллой Снегсби. Она была бледнее полотна и вся дрожала.
— Силы небесные! Мистер Джек! Разве вы дома?
— Как видите, миссис!
— И ночевали?
— Ну да!
— Когда же вы пришли? Ночью никто не приходил, а утром я отпирала только почтальону!
Джек смущенно пробормотал:
— Я, знаете ли, миссис Снегсби, вошел сюда как-то незаметно… как-то так нечаянно… Даже сам не заметил…
Хозяйка таращила на него глаза, ничего не понимая…
В передней позвонили. Джек вздрогнул. Не за ним ли?..
Миссис Снегсби торопливо пошла отпереть. Джек насторожился… Через минуту в передней послышался топот нескольких пар мужских солидных ног и грубые голоса. А еще через минуту вбежала совершенно растерянная хозяйка и лепетала трясущимися губами:
— Полиция!!.
У Джека затряслись поджилки. Но он призвал к себе все свое мужество и хладнокровие и ощупал карманы. Портмоне с остатками банкирских денег было при нем. Вилка была в кармане. Он вынул ее и, не заботясь о том, какое впечатление это произведет на нервную м-сс Снегсби, приложил аппарат к шее…
И, надевши пальто, на цыпочках прошел в переднюю. М-сс Снегсби с раздирающим душу криком упала в обморок.
Двое рослых бобби входили из передней в коридор. Джек вежливо посторонился, прижавшись к стене, и проскользнул мимо них в переднюю. У выходных дверей стоял на страже третий бобби, самый крупный. Он стоял неподвижно, как надгробный памятник, и держал дверную ручку. Джек искренне пожалел, что вилка не дает возможности проникать сквозь стену…
В соседней комнате слышались рыдания хозяйки и грубые голоса полицейских. Джек стоял лицом к лицу с неподвижным стражем и соображал: что предпринять?
Снаружи позвонили. Бобби, не шевелясь, ответил густым басом:
— Нельзя! Здесь полиция!
Джека осенила идея. Он прошел в соседнюю кухню и взял из шкапика м-сс Снегсби бутылку с крепким нашатырным спиртом, который м-сс употребляла при своих нервных кризисах. Кроме того, там же Джек нашел тонкое и длинное перышко, служившее для смазывания сковородок.
С этими двумя предметами Джек прошел обратно в переднюю и подошел вплотную к бобби. Откупорив и зажав пальцем бутылку со сногсшибательным спиртом, он стал осторожно вводить другой рукой перышко в ноздри бобби.
Последний скосил глаза и с недоумением покрутил головой. Но перышко снова забралось к нему в самую глубину носа. Бобби фыркнул, дунул, сделал свободной рукой жест, которым ловят мух. Перышко неумолимо сидело у него в носу и щекотало слизистую оболочку. Бобби произнес ругательство, но, не окончив его, чихнул. И с шумом вобрал в себя воздух. И снова чихнул. Джек с необычайной ловкостью воспользовался моментом и поднес к носу бобби флакон… с нашатырем. И бобби широко втянул в себя летучий спирт…
И ополоумел…
Он пошатнулся и выпустил ручку двери. Джеку только это и нужно было. Он бросился к двери, отомкнул затвор и выскочил наружу…
Но бобби успел опомниться и с силой захлопнул дверь. И ущемил борт пальто Джека…
Последний не стал долго рассуждать и колебаться. Он торопливо скинул пальто и побежал вниз по лестнице, свободный, как ветер…
* * *
— И вы убеждены, профессор, что этот юноша, — ваш слуга…
— Почти убежден…
— Но каким образом?
— Я не знаю, каким образом… До сегодняшнего утра я колебался и не заявлял полиции. Я думал, что я сам куда-нибудь девал аппарат… Но еще вчера меня интервьюировали из «Геральда» относительно каких-то странных явлений в городе. И я подумал, не моя ли Глориана гуляет по Нью-Йорку?
— Глориана?
— Да, я так назвал мой новый аппарат. Вилку с полюсами, о которой идет речь.
Профессор Коллинс машинально налил себе кофе и продолжал:
— Сегодня утром в газетах уже пишут: «Профессор Коллинс обокраден… У профессора Коллинса выкрали его новое изобретение…» И целый ряд странных происшествий в хронике. Я не помню, может быть, в разговоре с интервьюером я как-нибудь в самом деле обмолвился о вилке в связи с психофизическими фактами, о которых шла речь. Я был так расстроен! Но я еще не думал, что это в самом деле Джек… В моем мозгу как-то не укладывалась мысль, что этот преданный и милый юноша, с которым мы так хорошо ладили, подложил мне такую свинью… Ведь я потерял буквально все свое состояние! Я теперь ничто! Неужели Джек способен на такую подлость? Но сегодня утром, когда я поуспокоился и пообдумал все это, я пришел к почти полному убеждению, что это именно дело рук Джека. Кроме него, у меня в то утро никого не было. И он, по-видимому, проследил мои манипуляции с Глорианой… Надо сознаться, я сам был неосторожен!
Собеседник профессора заметил:
— И сегодня он не явился к вам…
Профессор кивнул отрицательно головой.
Джек стоял за спиной у профессора и с замиранием сердца и ощущением стыдливой неловкости слушал его слова. Джек без особых хлопот и неудобств пробрался сейчас к профессору, воспользовавшись открытой для почтальона дверью и ловко проскользнув под рукой у самого профессора в то время, когда тот открывал дверь. И теперь он слушал разговор профессора Коллинса с его гостем, доктором Стивенсом, и, придя к полному убеждению в своей непозволительной подлости, не знал, что ему предпринять.
Подбросить вилку? Это было бы чудесно. Профессор обрадуется, начнет обнимать от восторга доктора Стивенса. Джек с удовольствием представлял себе эту радостную сцену… Но что же, в конце концов, будет с ним, с Джеком? Куда ему деваться? За ним следит полиция, в квартире у него засада и обыск; репутация у него совершенно скомпрометирована, и если даже он каким-нибудь чудом избежит немедленного ареста и суда, то все-таки попадет в число нелегальных прячущихся существ, которыми полна трущобная жизнь великого города и которые живут и умирают, лишенные нормального гражданского общения… Джеку очень не хотелось попасть в разряд этих деклассированных отбросов общества. В другое время он, пожалуй, и не прочь был бы помечтать о разбойничьих приключениях в каких-нибудь подземельях китайского квартала или среди колоссальных доков нью-йоркского порта. Но одно дело мечтать и совсем другое дело — испытывать все последствия этих авантюр на своей собственной шкуре. Джек, при всей своей молодости, был человеком рассудительным и не лишенным сообразительности!
Уж не покаяться ли пред профессором? Не сжечь ли корабли? Не явиться ли сейчас в «видимом» образе с аппаратом в руках (какое красивое название «Глориана»! — подумал Джек) и не сказать ли, опустив низко голову:
— Дорогой сэр, простите меня! Я сделал это необдуманно, не желая причинять вам вреда. Я негодяй и вор, но все-таки я порядочный человек! Не губите меня!
И как будто кто-то стоял сзади Джека и подталкивал его в затылок и говорил ему:
— Покайся! Сознайся! Повинись!
Под влиянием этих незримых подзатыльников, Джек чуть-чуть было не покаялся в самом деле. Он уже начал снимать Глориану с шеи. Но его остановил ложный стыд… Он стеснялся доктора Стивенса. Если бы здесь был один профессор Коллинс, тогда — другое дело! Но доктор Стивенс, маленький, худощавый и язвительный насмешник, мешал своим присутствием Джеку осуществить благое намерение… «Кто знает, — подумал Джек, — как еще отнесется доктор Стивенс к моему покаянию? Он еще подольет масла в огонь и натравит профессора на меня!»
И Джек опять впал в нерешительность и, стоя за спинкой профессорского кресла, ждал, что будет дальше, и слушал разговор.
Доктор Стивенс выразил свое сомнение: действительно ли удалось профессору Коллинсу «делать людей невидимыми»?
— Не галлюцинировали ли вы, дорогой профессор? Как заставить людей XX века поверить в такую сказку, как человек-невидимка?
Джек чуть не фыркнул за спиной у профессора при этих словах.
— Позвольте! — вспылил профессор, и его расцвеченная пятнами от ожогов физиономия запылала. — Сказка? А что такое вообще невидимость? Невидимость — самое простое явление, подчиняющееся физическим законам. Невидимость зависит от способности данного предмета отражать или поглощать световые лучи. Возьмите кусочек стекла: он, надеюсь, прозрачен?
— Прозрачен, — согласился доктор.
— Хорошо. Теперь положите его, дорогой сэр, в воду: я убежден, что он покажется вам невидимым.
— Я тоже убежден в этом, — промолвил доктор Стивенс.
— А теперь потрудитесь этот же самый кусочек стекла истолочь. Истолкли?
— Истолок, — улыбнулся доктор, спокойно помешивая ложечкой кофе и не думая ничего толочь.
— И данный кусочек, превращенный в порошок, стал опять видим и притом очень отчетливо. Он утратил свою былую призрачность… Итак, значит, одно и то же вещество при различных условиях может быть видимым и невидимым, смотря по тому, как оно реагирует на световые лучи…
— Да, но человек?
— Что ж такое, человек? Что такого особенного в человеке? Вы, несомненно, знаете, что теперь в медицине уже пользуются для учебных целей прозрачными анатомическими препаратами человеческого тела. Я даже назову вам изобретателя этих препаратов — это немец, профессор Шпальтегольц. А от прозрачности тела до его невидимости — лишь один шаг… И шаг этот мною и сделан! Изобретение Шпальтегольца вас не удивляет, вы не считаете его сказкой. Почему же вас удивляет моя Глориана?
— Ну, мертвый анатомический препарат — это одно дело… А живой человек… — бормотал доктор Стивенс, не зная уже, что возразить.
— Пустяки! Просто у вас нет широты миросозерцания. Вы не можете оторваться от привычных представлений. Во времена Галилея вы, наверное, вместе со святыми отцами осудили бы его за ересь.
Стивенс рассмеялся.
— Пожалуй, вы и правы! Но оставим это! Меня интересует…
Но профессор не унимался. Он был раздражен на доктора за его неверие.
— Галлюцинация! — ворчал он. — А вот то, что описывается в газете, все эти бегающие ботинки, скандалы, говорящий воздух — это тоже галлюцинация? Ну, положим, тоже! Но почему же они появились как раз в тот день, когда у меня украли Глориану? Нет-с, дорогой доктор, дело ясное. Аппарат уже приведен в действие!..
И зачем этому мальчишке понадобилась моя Глориана? — вздохнул профессор. — На кой черт ему она? Что он с ней устроит? Только шалости и мелкие скандалы — больше ничего!
— Ну, позвольте! — возразил доктор. — Я уверен, что мы услышим и о серьезных историях… Ваш Джек может ограбить любого миллиардера, любой банк — и сделает это так чисто, что люди только руками разведут! Вандербильдт, Рокфеллер, Морган — я советую им не попадаться на пути этого молодого человека, вооруженного вашим ужасным орудием! А попади он в наш национальный банк — воображаю, что он там натворит! Эти «шалости» пахнут колоссальными денежными суммами, крахом целых состояний, может быть, гибелью предприятий. Ни один мошенник в мире еще не располагал такими могущественными средствами для осуществления своих преступных целей, как ваш Джек, которого вы снабдили…
— Я снабдил!.. Снабдил?.. — воскликнул профессор.
— Во всяком случае, ваше изобретение — палка о двух концах. Вы имели в виду благо человечества, но Джек повернет Глориану другим концом, и тогда…
— Тогда мы и сыщиков сумеем снабдить такими же аппаратами! — воскликнул профессор. — Государство придет мне на помощь, даст мне средства… О, если бы только мне удалось опять найти нужные элементы… Но как это трудно! Ах, как это трудно, дорогой доктор!..
Профессор схватился за голову и в отчаянии заходил взад и вперед по комнате.
Джек почувствовал, что его благие намерения — тоже палка о двух концах. Он был оскорблен высказанным доктором замечанием о том, что он, Джек, совершит преступные действия и обратит Глориану во зло.
Нет, извините, сэр! Джек сумеет повернуть Глориану как раз тем самым концом, каким надо! Никаких шалостей и озорства! Аппарат будет служить делам благотворения!
Подкидывать вилку профессору не стоит! Каяться и повергать себя в неприятное состояние провинившегося озорника тоже не стоит. Все это повлечет за собой только массу неприятностей и еще неизвестно, чем кончится. Но продолжать вчерашние похождения тоже не следует. Это глупо! Нужно совершить что-нибудь серьезное, даже великое. И поверьте, джентльмены, что Джек, при всей своей молодости и кажущейся легкомысленности, сумеет это сделать не хуже самого изобретателя Глорианы.
В передней позвонили. Это был удобный момент для Джека покинуть профессорскую квартиру. И он проделал эту операцию с уже привычной ловкостью. В дверях он, правда, столкнулся с вошедшим посетителем, который с недоумением выругался, но Джек, разумеется, не стал дожидаться никаких продолжений и поспешил на улицу.
* * *
В голове Джека, словно озарение свыше, крепко засела мысль о банке.
Не о миллиардерах (где их возьмешь, и как к ним приступишься?), а именно, о банке. О том великолепном храме золота, мимо которого Джек неоднократно проходил, но внутри которого еще ни разу не бывал.
Войти в этот храм в качестве незримого, но могущественного владыки, забрать золота, сколько хватит сил, и… помогать обездоленным. Разве это не великое дело? Джек уже видел мысленно сотни протянутых к нему рук, тысячи судорожно скорчившихся от голода бедняг… И он всех их накормит, всех ублаготворит! Разве не стоит пустить в ход знаменитую Глориану для этой высокой цели? Конечно, он и себя не забудет: возьмет себе, сколько требуется для того, чтобы честно и безбедно жить где-нибудь в укромном уголке… Разумеется, только не в Нью-Йорке… Из Нью-Йорка придется бежать! И поскорее!
Преследуемый этими думами и мечтами, Джек не заметил, как очутился у самого подъезда «храма золота».
Он с недоумением оглянулся: его ноги, словно подчиняясь какому-то внушению, сами собой принесли его на Wall Street к величественному зданию First National Bank.
Множество людей входили и выходили из этого капища. Вращавшаяся тройная стеклянная дверь не успевала пропускать всех желающих войти, и на тротуаре образовалась живая очередь. Джек встал в очередь, и вскоре вертящаяся дверь поглотила и его.
Очутившись в огромном вестибюле, Джек, подавленный его великолепием, машинально ощупал в кармане Глориану и подумал:
— Да, это будет в последний раз! И если это будет удачно, я пошлю вилку к профессору с посыльным, а сам уеду подальше куда-нибудь! В Сан-Франциско, например! Там, говорят, очень хорошо.
Он поднялся по широкой мраморной лестнице в операционный зал. У красивой ограды перед окошечками толпились посетители. Другие отдыхали или что-то писали на бланках, сидя за красивыми дубовыми письменными столами посредине зала. За окошечками суетились стройные, отлично одетые молодые клерки. Важные чиновники сидели, уткнув носы в громадные книги. И высоко над всем этим людом и над окошечками и решетками, над кассами, столами, пишущими машинами, телефонами, толстыми книгами, вывесками: «аккредитивами», «текущими счетами» и «заграничными переводами», вздымался широкий и величавый потолок с лепными орнаментами и матовыми шарами электрических фонарей. И над смутным и смешанным гулом голосов, телефонных звонков и неуловимого шелеста и шороха работы звучал неумолкавший, кристально-чистый звон золота…
Этот звон, как магнит, манил и тянул Джека…
Пройдя мимо нескольких отделений, Джек остановился у большого кассового отделения.
Это было огромное помещение. Оно было отделено от остального зала массивной дубовой перегородкой, способной, казалось, выдержать даже бомбардировку. В конце его под аркой виднелся спуск в подземелье, где таились сейфы. В многочисленных окошечках, словно птицы в клетках, сидели кассиры и подсчитывали монеты, аккуратно свертывая их в пакеты и столбики. Джек видел только одни их головы. Он недоумевал: каким образом люди попадали в это помещение и выходили из него? Решительно нигде не было видно ни малейшего признака дверей. Может быть, тут были какие-нибудь таинственные входы и выходы? Иначе оставалось предположить, что эти люди действительно сидели в клетке! Не спускались же они с потолка?
Джек ничего не понимал и тщетно ломал себе голову над этим вопросом. Но его беспокоило не столько то обстоятельство, что кассиры, по-видимому, безвыходно жили в кассовом помещении за решеткой, сколько вопрос о том, как ему, Джеку, попасть в это заколдованное царство?..
Глориана, конечно, делала его невидимкой. Но и невидимка подчинялся остальным физическим законам и не мог ни летать по воздуху, ни проходить сквозь стены…
Джек решил остаться здесь до конца операционного дня, чтобы посмотреть: каким образом кассиры выберутся из клетки?
До конца рабочего дня оставалось еще целых четыре часа. Нужно было как-нибудь убить время. Джек решил пойти прогуляться по Центральному Парку. Погода стояла великолепная, теплая. Можно было обойтись без пальто. Джек неоднократно вздохнул о чудесном новом пальто, попавшемся в руки полиции… Но ничего не поделаешь! Было бы хуже, если бы в придачу к пальто попал в полицию и сам он… Добыть новое пальто? Нет, Джек категорически отказывался от каких-либо новых магазинных надувательств. Сначала нужно сделать серьезное дело, а затем начать честную жизнь, покупать все на наличные деньги, не повергая приказчиков в недоумение и отчаяние.
Он быстро прошел по царственным покоям банка, спустился по величавой лестнице и очутился на залитой летним солнцем улице…
* * *
— Ай! Ай! Помогите!!.
Резкий женский крик зазвенел в жарком воздухе пыльной, многолюдной улицы, Джек обернулся: посредине улицы образовалась какая-то беспорядочная толчея: громадный автомобиль встал боком, загораживая движение. Толпа народа бежала к нему. Визжала неистовым истерическим криком какая-то женщина.
Джек сразу сообразил, в чем дело. Произошла обычная уличная катастрофа: лошадь испугалась автомобиля, понеслась прямо, очертя голову, и наскочила на другой автомобиль. В этот момент через улицу переходила молоденькая девушка с картонкой в руках. В суматохе нельзя было разобрать, как все это произошло, но она оказалась почти под колесами автомобиля, на земле, помятая, оглушенная…
В одно мгновение Джек был около нее и помог ей подняться. Девушка рыдала и кричала от страха, хотя опасность уже миновала. Это было худенькое, бледное создание, эфемерное, как те летние беленькие бабочки, которые в один прекрасный вечер являются неведомо откуда, словно рождаясь в воздухе — и так же быстро исчезают, оставляя после себя, если возьмешь их в руки, только нежную серебристую пыль…
Джек сразу почувствовал к нежному и хрупкому созданию глубочайшую нежность и симпатию. Он ласково расспрашивал ее, как она себя чувствует, помог ей вместе с другим, оставшимся неизвестным мужчиной подняться в аптеку и, довольно ловко устранив этого мужчину, хлопотал около девушки, успокаивая ее. Он разрывался на части: ему хотелось помочь девушке и столь же сильно хотелось бежать наблюдать продолжение скандала. Лошадь бросилась на панель, разбила громадное зеркальное стекло магазина пишущих машин «Ундервуд», вломилась в витрину и произвела ужасающий разгром. Она била передними ногами по машинам, коверкала их, рвала бумагу, пишущие ленты и обливалась кровью от бесчисленных порезов, а рядом стоял владелец магазина и рвал на себе волосы. Поистине, еще никто никогда, даже самые свирепые переписчицы, не обращались так безобразно с великолепными «дактило», как эта лошадь?
Джек созерцал все это через окно аптеки. Он негодовал на лошадь. Какое идиотское животное! То ли дело, хороший автомобиль!
— Ну, как вы себя чувствуете? — обратился он к девушке.
Она с улыбкой взглянула на него:
— Как вы добры! Мне теперь гораздо лучше. Я думаю, что я просто испугалась, и больше ничего.
— У вас ничего не болит?
— Ничего! Немного кружится голова.
Джек дал ей руку, и они оба вышли опять на улицу. Скандал кончился, лошадь увели.
Он только сейчас догадался спросить, как ее зовут. Девушку звали Лиззи. Джек любил это имя. Он вспомнил свою любимую песенку — «Лиззи гуляла по лесу, бум, бум!», — и улыбнулся.
— Позвольте проводить вас до дома? — промолвил он.
— Вы где живете?
— Ах, это очень далеко!
Лиззи назвала квартал, о котором Джек знал кое-что только понаслышке. Это был квартал городской нищеты, — одно из тех фабричных предместий, которые окружают большие города кольцом скорби, голода, нищеты и неизбывной классовой ненависти.
— Я сегодня свободен, — продолжал Джек, — а вы, мне кажется, все еще нуждаетесь в помощи. Вы, чего доброго, упадете в обморок от слабости. Почему вы такая худая и бледная? Вы нездоровы?
— Нет, я здорова, — пролепетала Лиззи, — но, видите ли, с тех пор, как моего отца убило машиной на заводе, мне приходится много работать и мало есть… Это, вероятно, поэтому!
Джек кивнул головой:
— Ну, еще бы!
У него сами собой зашевелились в кармане банкирские деньги, очень сильно «поврежденные» вчерашними развлечениями, но все-таки еще не до конца исчерпанные… Он предложил Лиззи зайти в ресторан (ему самому сильно хотелось есть), но девушка боялась ресторанов, боялась толпы, боялась, что ее осудят за плохой костюм. Тогда Джек купил по дороге сэндвичи и шоколада. И они стали есть на ходу, тесно прижавшись друг к другу, никому не ведомые в бесчисленной толпе проходящих людей, и почти столь же неведомые и друг для друга…
Потом они сели в поезд городской дороги и долго ехали до предместья. Дорогой Лиззи рассказала Джеку почти всю свою невеселую биографию. Мать у ней умерла, когда Лиззи было всего два года. Отец погиб два года тому назад. Девушка была совсем одинока на белом свете, работала «на магазин»: шила белье и немного прирабатывала отдельными заказами от частных клиентов. Работы было много, но оплачивалась она плохо. Магазин, на который работала Лиззи, требовал самой лучшей работы и давал за эту самую лучшую работу самую плохую плату, причем часто браковал работу и делал вычеты. Частные клиенты, которым Лиззи шила белье, поступали не лучше. Джек ясно видел, что девушка была жертвой самой беззастенчивой эксплуатации со стороны сытых, обеспеченных и жестоких людей.
— Это ужасно, как вы живете! — вздохнул он. — Этого не должно быть!
Девушка возразила:
— Мне живется еще сносно. Посмотрели бы вы, как живут другие рабочие! Вы никогда не бывали в наших краях?
Джек сознался, что он только однажды проезжал мимо по железной дороге, но, в общем, все время жил в центре.
— Ах, у нас так много горя и забот! — вздохнула она.
— Этого не должно быть! — повторил Джек. — Знаете, я до сих пор мало думал об этом. Меня лично как-то мало эксплуатировали (он вспомнил о профессоре). Я работал, правда, в качестве поденщика, иногда ходил в доки и на пристани на океанские пароходы помогать пассажирам получать и сдавать багаж, служил в транспортной конторе, но все это нетрудная работа, и у меня всегда оставалось довольно времени, чтобы побывать в колледже, почитать и даже повеселиться. И я никогда по-настоящему не голодал! Никогда! Вы редко едите мясо?
— Очень редко. С тех пор, как умер отец, почти никогда!
— У вас очень, очень болезненный вид, — заметил Джек. И, словно про себя, сказал тихим голосом: — Этого не должно быть. И этого не будет!
— Вы что сказали? — спросила Лиззи.
— Так, ничего!
* * *
Джек никогда не мог себе представить, что в громадном, блестящем Нью-Йорке, которым он так гордился, существуют такие ужасные закоулки, по каким повела его Лиззи, когда они покинули железную дорогу и пошли пешком. Это была одна сплошная грязная трущоба, над которой, словно черные похоронные знамена, вились густые клубы дыма из фабричных труб… Улицы были полны грязных, худых ребятишек. Они копошились в грязи, дрались, играли с худыми же собаками и кошками. Попадавшиеся навстречу взрослые мужчины и женщины имели унылый, болезненный вид. Было много пьяных. Джек обратил внимание на то, что здешние люди как-то мало походили на американцев. Он встретил многих китайцев с раскосыми глазами, каких-то желтых людей с косичками, длиннобородых блондинов, совсем не похожих на янки, и черноволосых сухощавых южан со злобно сверкающими глазами.
— Настоящих американцев у нас мало! — подтвердила Лиззи. — На фабриках работают китайцы, негры, немцы, итальянцы, аргентинцы, русские… У нас тут — настоящий Вавилон! А говорят здесь на таких языках, что я иногда ничего не понимаю!
— Как в опере! — усмехнулся Джек.
Лиззи никогда не была в опере и могла лишь поверить ему на слово…
— А вот и наш дом!
Это была трущоба из трущоб. Джеку стало даже немного страшно, когда Лиззи повела его к себе в пятый этаж. Стена дома наклонялась вперед и грозила обвалиться. Во многих окнах были совершенно выбиты стекла и заменены папкой, деревянными фанерами или просто заткнуты грязным тряпьем. Все было закопчено, загрязнено. На железной лестнице можно было двадцать раз поскользнуться от липкой и зловонной грязи.
Внутри было еще хуже. Джек шел по длинным, мрачным и зловонным коридорам, в глубине которых чуть мерцали в облаках пара и сизого тумана керосиновые лампочки. Из открытых дверей валил чад, неслись дикие голоса и женский и детский плач. Джек спрашивал себя, не сон ли все это? Точно такой же вопрос он задавал себе вчера в позолоченных чертогах оперы и роскошного ресторана… То был тоже сон. Но как он отличался от сегодняшнего страшного сна!.. И такие противоречивые сны могут сниться в одном и том же городе, на пространстве каких-нибудь пяти- шести квадратных миль всего!
— Один раз у нас случился пожар! — рассказывала Лиззи. — Господи, что это было! Загорелось в коридоре. Выбраться на лестницу и думать нельзя. Мы все столпились в последней комнате, открыли окна и стали ждать смерти. Хорошо, что пожарные приехали вовремя!
Лиззи жила вместе с семейством рабочего, который потерял место на заводе, работал в доке за грошовое вознаграждение и часто с горя пьянствовал. Семейство состояло из восьми душ, причем подавляющее большинство были души совсем еще маленькие, ползавшие по полу, жалобно кричавшие и поминутно требовавшие пищи. Истощенная, измученная мать, казавшаяся согбенной старухой, разрывалась на части: в одно и то же время кормила грудью самую маленькую из душ, била других душ побольше, готовила на керосинке жареный картофель и еще что-то мыла и развешивала. Мужа не было дома.
Лиззи занимала в комнате крошечный угол, отделенный занавеской. Джек остановился на пороге, оглушенный визгом, криком, чадом керосинки: он не понимал, как можно жить в таких условиях. До сих пор он считал себя нищим и пролетарием. Но разве могла сравниться его чистенькая и комфортабельная комната с этой обстановкой…
— Здравствуйте, миссис Хованская! — обратилась Лиззи к хозяйке. — Со мной случилось маленькое несчастие, и вот, господин был так добр, что привел меня сюда…
Она покраснела при этих словах. И как ни был наивен и юн наш Джек, он смекнул, что Лиззи конфузится его появления и боится, что м-сс Хованская и остальные соседи могут подумать о ней дурно…
Он счел нужным вступить в разговор и дать со своей стороны соответствующие объяснения… Его со всех сторон обступили грязные, жалкие ребятишки. Откуда-то появились еще какие-то люди, и все с удивлением глазели на элегантного юного джентльмена, забредшего в эту трущобу. Его это стесняло до крайности. Ему хотелось побыть с Лиззи наедине, потолковать с ней о том, как ей помочь?
Но он ничего не мог придумать другого, как только сказать ей со смущением:
— Ну, я пойду обратно, Лиззи! Может быть, вы будете так добры немного проводить меня. Мне нужно сказать вам пару слов!
Лиззи еще пуще покраснела и с виноватым видом оглянулась на м-сс Хованскую. Но замученной женщине, очевидно, было вовсе не до Лиззи и не до Лиззиных гостей. Она даже не взглянула на девушку, поглощенная керосинкой и своим младенцем…
И опять кошмарный коридор. Опять кошмарная лестница. Джек торопливо на ходу говорил Лиззи:
— Послушайте, Лиззи, так жить нельзя! Перебирайтесь в другое помещение. Я вам помогу… Ради бога, не отказывайтесь! Я имею возможность помочь… А потом мы придумаем с вами, как помочь и вашим соседям. Неужели вы рассердились на меня, Лиззи?
Девушка закрыла руками лицо и зарыдала.
Она ничего не говорила, она только громко плакала, не стесняясь тем, что они стояли на лестнице, где каждую минуту могли появиться люди. Она плакала так горько, что незнающий человек мог подумать, что Джек наговорил ей кучу оскорбительных слов и, пожалуй, даже побил ее… В этом доме и на этой самой лестнице так часто девушки и женщины рыдали именно из-за этого! Это был, воистину, дом плача и скорби!
— Ну, полноте, Лиззи! Ну, что вы, в самом деле? — смущенно говорил ей Джек.
— Простите меня! — всхлипывала Лиззи. — Я такая дура. Я сама не понимаю, что со мной делается… Но я так замучена… После того, как умер отец, со мной еще никто так не разговаривал…
— Значит, вы послушаетесь меня, Лиззи?
Она несколько раз кивнула головой, будучи не в силах говорить. Джек в пять минут уладил все дело. Он передал Лиззи почти половину остававшихся у него банкирских денег, и Лиззи должна была на другой день прийти в Центральный Парк, и Джек там узнает от нее ее новый адрес. Назначив час и точное место в парке, Джек решил, что пора отправляться обратно в город, в банк… Он и так потерял уже много времени. Нужно было торопиться, чтобы не опоздать…
— Прощайте, Лиззи!
Он наклонился к ней. Девушка с секунду колебалась, но, подчиняясь ласке его слов и непреодолимому инстинкту, который загорается в людях от таких слов и зовется чудесным именем любви, подняла к нему свое заплаканное лицо, обвила его шею руками и поцеловала.
Через минуту Джек быстро спускался по ужасной лестнице, рискуя поскользнуться и провалиться куда-нибудь в неописуемую темную пропасть (лестница была, конечно, без перил). Внутри его все пело и играло… Над ним загорелось солнце — гораздо более яркое, чем то, что светило на улице, указывая людям, что уже давно прошел полдень, и скоро наступит час для окончания работ в офисах, правлениях и банках…
На последней площадке Джека нагнал какой-то подозрительный человек. У него было небритое четырехугольное лицо, оплывшие от пьянства глаза и шрам на лбу.
— Сэр, нет ли у вас спичек? — проговорил он хриплым басом, наступая на Джека. — Смертельно хочется покурить!
Джек вынул портсигар и сам за курил папироску. У него кружилась голова от всего окружающего зловония и чада. Незнакомец с довольным видом смотрел на него, а затем близко наклонился к нему и стал прикуривать у него.
— Знаете, сэр, без папироски — жизнь не в жизнь… А выкуришь, и легче!.. Проклятая папироска, как долго не закуривается… Это оттого, сэр, что она подмочена…
Папироска, в самом деле, закуривалась слишком долго. Джек терял терпение. Незнакомец стеснял его… Наконец, он прикурил и пыхнув дымом, поблагодарил Джека в изысканных выражениях:
— Чрезвычайно обласкан вами, сэр! Навсегда сохраню о вас чувствительное воспоминание!
Джек выскочил из кошмарной трущобы и почти бегом двинулся по улице к месту остановки поезда. В сердце у него пело что-то, и Джек стал напевать свою любимую песенку:
«Лиззи гуляла по лесу, бум, бум! В своем новом розовом платье, бум, бум! Ей встретился там охотник, бум, бум! В шляпе с перьями, бум, бум!»В этой песне Джеку всего более нравился припев «бум, бум». Он походил на удары барабана, и Джек был убежден, что барабанный аккомпанемент годится для чего угодно, даже для любовной песни…
Но вдруг песня оборвалась: и в сердце и на устах. Джек схватился за карман… Бумажника с остатком банкирских денег, с документами, не существовало.
Юноша остановился. Он вспомнил витиеватого верзилу, который так долго прикуривал у него на лестнице — и понял все!
Ужас охватил его. Он подумал о вилке. Неужели и она?..
Но нет! Вилка была в кармане.
Из-за угла мелькнула эстакада надземной дороги. Громыхал подходящий поезд. У Джека не было ни одного цента, чтобы заплатить за проезд. Приходилось опять прибегнуть к Глориане. Пройдя незамеченным через турникет, он вскочил в вагон и всю дорогу смиренно сидел в уголке и неотступно думал о Лиззи, о ее ужасном житье и о том, как она устроится теперь. Опять пришел на память верзила, и Джек гневно сжал кулаки. Если этот тип вздумает что-нибудь сделать Лиззи, то горе ему!
Джек с благодарностью погладил прильнувшую к его шее Глориану.
V
Была половина четвертого.
Джек, запыхавшись, подбежал к вестибюлю банка. Публику еще пропускали внутрь. Пройдя в операционный зал, Джек сел на диванчик против кассового помещения и стал наблюдать: что делается там, за перегородкой, и как чувствуют себя заточенные там кассиры?
Кассиры кончали считать деньги и стали уносить пачки банкнот и столбики монет вниз, в сейф. Скоро на длинных столах и прилавках стало пусто. Недосчитанные деньги укладывались без счета в особый железный ящик. Пробило четыре часа, и все окошечки, словно по волшебству, сразу мягко и беззвучно закрылись.
В присутствии нескольких лиц железный ящик был заперт на ключ и опечатан, и его тоже отнесли в подземелье. Публика почти вся уже разошлась. Джек сообразил, что он теперь должен обращать на себя общее внимание, оставаясь в зале. Он достал Глориану, незаметно одел ее на шею и стал невидим.
Наступал самый интересный момент: кассиры должны были куда-нибудь деваться, и Джек напряженно следил за ними, стараясь рассмотреть, не появится ли где-нибудь скрытая дверь, или не разверзнется ли стена или пол в последний момент. Остальные служащие уже разошлись, а кассиры в пальто, шляпах и с тросточками стояли и сидели в напряженных позах и чего-то ждали…
Прошло еще несколько минут, и в зале стало совершенно пусто. Джек оглянулся и увидел, что двое служителей несли из глубины залы двойную лестницу-стремянку. Они приставили ее к краю перегородки, отделявшей кассовое помещение от общего зала, и перекинули другой конец лестницы внутрь, к кассирам. Затем были таким же способом перекинуты и установлены поручни, и заключенные узники один за другим стали перебираться по лестнице наружу и уходить из банка…
Джек глядел во все глаза на это шествие, невольно усмехаясь. Кассиры тоже посмеивались и в шутку говорили друг другу, что это они «переходят через Кордильеры». Джек соображал: что ему делать? Забраться ли сейчас в кассу по стремянке и сидеть там до утра и весь завтрашний операционный день? Или же остаться на ночь в остальных помещениях банка, более комфортабельных, и перейти через «Кордильеры» завтра утром?
И в том, и в другом случае ему пришлось бы провести, с Глорианой на шее, в незримом состоянии около суток, потому что, забравшись с утра в кассовое отделение для затеянных им «операций», он должен был дожидаться вечернего перехода через «Кордильеры». Но что же делать? Миллионы достаются недаром! Это вам скажет всякий миллионер.
В зале стало тихо. Пришли те же двое служащих и убрали стремянку. Затем в зал вошли женщины с ведрами горячей воды и щетками на длинных палках. Они встали в ряд, намылили щетки и стали усердно мыть блестящий мозаичный пол. Служители открыли громадные электрические вентиляторы, которые сейчас же загудели, словно пропеллеры аэропланов.
Вымыв пол и прибрав, женщины ушли. Тогда в зал вошли часовые с контрольными часами на груди. Один из них сел на диванчик перед кассами, рядом с Джеком, и стал читать измятую газету. Джек мог ущипнуть его, нахлобучить ему на нос головной убор. Но какой смысл был в этом мальчишестве? И, оставив часового в покое, Джек поднялся и пошел искать приюта на ночь.
Он нашел себе пристанище в кабинете директора банка. Здесь было очень уютно. Мебель была мягкая, кожаная, чрезвычайно удобная. Джек облюбовал один диван и решил расположиться на ночь на нем. «Дежурить» при таких условиях было не трудно, тем более, что Джек догадался захватить с собой для ночевки разных закусок.
Все было бы очень хорошо, но Джека беспокоила легкая боль и какие-то неприятные ощущения на шее. Он подошел к зеркалу, снял аппарат и полюбопытствовал, что с ним случилось. Кожа на шее, на местах прикосновения бляшек, была воспалена и покрыта красной сыпью, словно от ожога крапивой. Джек встревожился. Очевидно, это был результат слишком продолжительного употребления вилки.
— Кто ее знает, как она действует на организм? Нет, надо кончать с этой вилкой! Возьму завтра денег из банка и отправлю вилку профессору!
Снаружи было тихо. Он вынул свои закуски и стал есть бутерброды и холодную лососину. Ему вспомнилось, что в боковом кармане лежит утренняя газета, которую он так и не удосужился до сих пор прочитать. Он вынул ее и стал пробегать громадные страницы. Прочел репортерские отчеты о бегающих ботинках и говорящем воздухе и расхохотался.
И, спохватившись, с испугом замолчал. Его хохот прозвучал странно в гробовом безмолвии опустевшего банка. Часовые, наверное, слышали его… Что теперь будет? Джек с замиранием сердца прислушался. Снаружи послышались шаги. Кто-то подошел к двери. Джек едва имел время надеть Глориану. Дверь кабинета отворилась, и показался какой-то господин, а за ним служитель.
— Вы убирали здесь? — спросил он служителя.
— Да, сэр!
— Почему же здесь валяется это? — строго спросил господин (по-видимому, смотритель банка).
Джек безмолвно схватил себя за голову: на столе лежали его бутерброды и лососина, которые он не успел припрятать.
— Что это за свинство! — распекал несчастного служителя смотритель. — Как вы смели оставить эту грязь в кабинете господина директора? Вы не знаете своих обязанностей.
— Мы все убрали, сэр, — пробормотал ни в чем не повинный служитель, недоумевая. Он забрал с собой всю «грязь», и Джек имел случай убедиться, как нехорошо бывает не прибирать за собою и взваливать свою вину на чужие головы. В то же время ему пришлось убедиться, что за виной обыкновенно следует и наказание: а именно, он был лишен за свое неряшество своих вкусных закусок!
— Ну, ничего! — подумал он. — Авось, не умру с голода!
* * *
— Мистер Хопкинс, куда вы девали пачку банкнот с двадцатью тысячами?
— Я ее не трогал, мистер Фаруэлль! Почему вы меня спрашиваете?
— Она только что лежала здесь. Я сам ее положил.
— Ну, так сами и ищите ее. Я-то тут при чем?
Мистер Фаруэлль в большой тревоге полез под стол искать исчезнувшую пачку кредитных билетов. В этот момент его сосед, мистер Хопкинс, тоже обнаружил пропажу.
— Что за черт! Где же мои тридцать тысяч? Мистер Максвелль, уберите ваши бумаги. Наверное, под ними!
Не успел мистер Хопкинс кончить свои поиски, как его дальнейшие соседи также помянули черта. И по той же самой причине: у одного из них пропала только что отсчитанная и аккуратно завернутая в бумагу стопка золотых монет, у другого — связка облигаций на очень крупную сумму.
Затем «черт» стал порхать от одного стола к другому. Кассиры не могли понять, что такое делается: прямо из-под рук у них исчезали крупные суммы. Мистер Фаруэлль, весь в поту, с помятыми манжетами, вылез из-под стола. Он был бледен и заикался, чего с ним никогда не бывало раньше.
— Я… я не понимаю… — бормотал он. — Это черт знает что… Тысяча дьяволов! Были деньги, и нет их! Пусть меня повесят, если тут хоть что-нибудь понимаю!
Он вдруг завопил сдавленным от ужаса голосом, и волосы встали у него дыбом… Он ясно увидел, как на соседнем столе громадная пачка денег сама собой поехала к краю стола, потом поднялась на воздух и исчезла. Глаза мистера Фаруэлля остановились на одной точке. Он пробормотал:
— Со мной… галл… галлюци…
И упал в обмороке на стул. Мальчишка-негр, заточенный в темницу вместе с кассирами и обреченный прислуживать им, догадался принести графин с водой и вылил его несчастному на голову. Воротничок злополучного кассира сразу превратился в кисель, пряди волос повисли мокрыми косицами. На полу около него образовалась громадная лужа воды.
Кассиры собрались посредине комнаты и громко толковали, взволнованные странным происшествием. Как раз сегодня они принимали и подсчитывали очень крупные суммы от банка Дайтон в Охайо — почти исключительно в банкнотах. Это была кропотливая работа, требовавшая особого внимания.
И вдруг все спуталось, и сами деньги пропали. Это был неслыханный скандал.
Заведующий кассовым отделением, прибежавший на шум, прежде всего телефонировал в правление, а затем приказал приостановить работу, собрать оставшиеся деньги и опечатать их для того, чтобы установить пропавшую сумму. Но этого ему показалось мало. Он предложил всем кассирам немедленно пройти вниз, в сейф, и там подвергнуться обыску в присутствии администрации.
Для того, чтобы публика не узнала о царившей в кассовом отделении панике, отделение было закрыто и все операции прекращены. Неудобства системы «Кордильеров» сказались самым наглядным образом: для того, чтобы администрация могла попасть в кассовое отделение, пришлось на виду у публики подать лестницу. Удалять публику из банка было сочтено неудобным! Разумеется, собрались любопытные, и в толпе клиентов банка стали циркулировать слухи, что в кассовом отделении пожар, и там гибнут банкноты Дайтон-Охайо. Неведомыми путями слух этот быстро проник на биржу и оказал там соответствующее действие, разорившее одних и обогатившее других…
В это время злополучные кассиры гуськом потянулись вниз, в подземелье. Неизвестно для чего, туда же понесли и впавшего в обморочное состояние мистера Фаруэлля. Двое его товарищей взяли его за ноги и за голову и потащили, как покойника, в склеп. Печальное шествие очень напоминало похороны. Но по дороге покойника на лестнице уронили и ушибли. Он помянул черта и воскрес.
А наверху артельщики тщательнейшим образом перебирали и перерывали все столы со всем их содержимым в чаянии найти где-нибудь пропажу. Пожаловала и администрация, т. е. двое директоров банка, смотритель, комендант охраны и представитель гражданской полиции. Началась процедура подсчета и опечатывания оставшихся банкнот.
Прошло полчаса. Артельщики не нашли ровно ничего. Сам директор банка, мистер Арчибальд Армстронг, подошел к одному из столов и для примера сделал вид, будто ищет пропажу. Но, конечно, и десяток директоров при всем их могуществе ничего не нашли бы.
Между тем, с подсчетом и опечатанием оставшихся денег стало тоже твориться что-то неладное.
Подсчитали, потом еще раз пересчитали, проверили, записали. Стали для большей осторожности еще раз подсчитывать — и оказалось на двадцать пять тысяч долларов меньше. Артельщики были сконфужены. Еще никогда им не случалось так просчитываться…
— Еще раз пересчитайте! — приказал мистер Армстронг.
Он сам присоединился к ним. Пересчитали с самой рачительной тщательностью, ощупывая каждую бумажку и складывая ее на другие бумажки с самой изысканной осторожностью. Записывали каждую цифру, внушали друг другу: «Мистер Лебоди, запомните, вот тут ровно десять тысяч», «Прошу вас, мистер Флик, удержать в памяти: здесь тридцать пять тысяч долларов в облигациях Дайтон-Охайо!» Казалось, немыслимо уже и на этот раз ошибиться. Суммировали подсчитанное — получилось еще на сорок тысяч долларов меньше!
Артельщиков прохватил озноб. Армстронг побледнел при всей своей выдержке.
— Еще раз считайте! — глухим голосом проворчал он.
— Но, сэр…
Он крикнул:
— Считайте, хотя бы оставалось всего пять центов!
Артельщики образовали полную цепь, крепко прижавшись друг к другу плечами. Директор Армстронг взял все пачки себе в руки и передавал их при подсчете из рук в руки. Подсчет тянулся долго. И наконец, о счастье, сумма подсчитанного равнялась сумме, полученной при предыдущем подсчете. На этот раз дефицита не было.
Директор, отдуваясь и пыхтя, точно он взобрался на высокую гору, распорядился положить деньги в ящик и опечатать.
Все это было немедленно проделано. Но бечевка непонятным образом запутывалась в руках у артельщиков и совершенно неожиданно один конец ее оказался привязанным к ножке стола, а другой к ноге директора. Директор был вне себя и ругал ни в чем не повинных артельщиков.
— Печать! Кладите печати!
Сургуч горел ярким пламенем на свечке… Но печати не было! Теперь опять исчезла печать! Директор бесился и кричал как сумасшедший, потеряв всякое самообладание.
Ему казалось, что артельщики взбунтовались, затеяли гнусную интригу… Ему уже приходило в голову вызвать отряд полиции и арестовать весь состав служащих банка.
— Печать здесь! — радостно воскликнул артельщик.
Наконец, после стольких трудов, деньги были кое-как опечатаны и унесены в сейф. Тогда приступили к составлению протокола о случившейся пропаже.
Обысканные (конечно, безрезультатно) кассиры были вызваны снова наверх и подвергнуты допросу. Но как ни старался мистер Армстронг выпытать у них хоть сколько-нибудь связные показания, они твердили в смущении: «Ничего не знаю, сэр! Были деньги — и вдруг пропали!» А кассир Фаруэлль, все еще мокрый и растерянный, плакал, как ребенок, и твердил: «Мне показалось… Мне показалось…»
— Что вам показалось, черт возьми! — загремел директор.
— Мне показалось, что деньги ползут сами по столу…
Директор пожал плечами и промолвил:
— Это какой-то бедлам!
Комендант охраны, вызвавшийся составить протокол, жаловался, что ему почему-то очень трудно писать. И некоторые слова выходили у него ни с чем не сообразными. Так, вместо «Первый Национальный Банк», у него почему-то вышло «Первый Национальный Брак», вместо «в присутствии нижеподписавшихся» — «в присутствии низкопоклонившихся» и даже вместо «после продолжительных исканий» — «после продолжительных иканий».
Директор нахмурился и попросил другое лицо составить акт. На этот раз все обошлось более или менее благополучно.
Когда протокол был наконец составлен и прочитан, директор приступил вместе с остальными представителями администрации к подписыванию его.
— Действительно, очень трудно писать, — пробормотал он, — перо словно задевает за что-то.
Пальцы у него были словно парализованы, и получалось такое ощущение, как будто пером директора водило другое лицо. «Вероятно, это оттого, что я устал и взволнован», — подумал мистер Армстронг и передал перо коменданту охраны.
По окончании церемонии директор бегло просмотрел составленный и подписанный акт — и у него встали волосы дыбом, и на спине выступил холодный пот.
Официальный акт был подписан следующими лицами:
Директор Первого Национального Банка, Архиепископ Абракадабра.
Комендант Охраны Банка Тарарабумбия.
Смотритель Банка, Ричмонд Чепуха.
И в заключение неведомо кем написанная фраза:
«Ничего этого не было! не верьте ни единому слову!»
И таинственная подпись:
«Глориана».
Директор с помутившимся взором спрятал бумагу в карман, решив предать ее уничтожению. Ему казалось, что он сходит сума…
* * *
…Нагруженный пачками кредиток и банкнот, с оттопырившимися карманами и значительно потолстев в талии, Джек вышел из кассового отделения вместе с освобожденными кассирами. Последние были еще раз обысканы при выходе. Их пригласили в приемную и там предлагали раздеться догола, причем просили даже раскрывать рот, хотя трудно было предположить, чтобы простой смертный кассир мог хранить банкноты у себя во рту.
Джек спокойно пережидал в вестибюле эту церемонию. Потом кассиров выпускали одного за другим через стеклянную вращающуюся дверь. Джек выбрал момент, когда в двери проходил сухощавый и низенький старичок, и увязался с ним вместе. Он несколько раз толкнул этого старичка, но последний был так удручен, что ничего не заметил.
И вот Джек, наконец, на свободе…
Джеком владели самые разнообразные чувства: безумная радость, дикая, почти сумасшедшая гордость — ибо он чувствовал себя героем колоссальной катастрофической истории, о которой целый месяц будут кричать разные «Геральды» и больше года будут заниматься следователи, прокуроры, судьи и полиция… Необыкновенное удовлетворение от удачи заставляло дрожать в Джеке каждый фибр. Он не шел, а словно летел по улице. Наконец — и это было, пожалуй, самое серьезное сейчас чувство — Джек был в большом смущении: что делать ему с его богатством и куда его девать?
Кроме того, он был очень голоден!
Прежде всего, ему необходимо было как-нибудь устроиться с деньгами. У него не было портфеля, да и никакой портфель не вместил бы всех этих пачек. К счастью, Джек решил не брать золота (да его в банке было немного). Он взял только небольшой сверток золотых монет и страшно боялся, что лучи Глорианы не действуют на металл и что золото будет замечено, как были замечены вчера его ботинки… Но и бумажных денег было так много, что Джек был нагружен ими, словно почтенная леди, возвращающаяся с базара домой с покупками.
Для того, чтобы привести себя в некоторый порядок, Джек зашел в общественную уборную. Там, все еще не снимая вилки, он поаккуратнее рассовал свертки по карманам и под одеждой, большую часть пакетов завернул в газетный лист и перевязал случайно оказавшейся в кармане веревкой. И положил в жилетный карман несколько штук не очень крупных купюр, чтобы сейчас же можно было расплатиться в ресторане и в магазине.
Затем, освободившись, наконец, от аппарата и потирая зудевшую шею, Джек зашел в подвернувшийся магазин дорожных вещей и купил среднего размера чемодан. И, опять посетив уборную, уложил в него все деньги и запер чемодан на ключ. Затем купил себе новое пальто взамен прищемленного в дверях своей квартиры при утреннем обыске.
Теперь он был снова элегантный, изящно одетый джентльмен с превосходным чемоданом в руках. Можно было подумать, что он спешит на поезд, и ровно ничего подозрительного в его внешности не было… Попробуйте-ка теперь догадаться, что этот корректный господин с чемоданом только что подверг разгрому целый банк.
Зато он был отныне прикован к своему богатству, как каторжник к ядру!
У него мелькала мысль, не положить ли хотя бы часть денег в тот же «Первый Национальный Банк» на текущий счет. Это было бы курьезно — ограбить банк и дать ограбленному банку на хранение похищенные у него же деньги! Джек так любил фарсы! Но, во-первых, банк сегодня уже не работал после всех этих потрясений, а, во-вторых, класть туда только что похищенные деньги было, пожалуй, и страшновато.
Но все это можно обдумать потом. Теперь надо поскорее утолить голод!
Элегантный молодой джентльмен зашел с чемоданом в руках в один из бесчисленных маленьких ресторанов, окружающих банк. Здесь в часы ленча и после окончания занятий в офисах деловые люди на скорую руку ели и пили, пропускали по рюмочке виски и проделывали все это, не отрывая глаз от биржевого бюллетеня или от полученных деловых писем. Это было поистине деловое утоление голода. Глядя на эти рассеянные, погруженные в деловую задумчивость или в деловой разговор фигуры, можно было задать вопрос: чем, собственно, насыщаются они — бараньей котлетой или бюллетенем фондовой биржи?
Джек занял место среди нескольких таких деловых людей, только что вырвавшихся из офиса, и спросил котлету и чай. Деловые люди сегодня были поглощены оживленной беседой о событии в банке. Пропажа крупных сумм (Джек, кстати, даже сам не знал, сколько именно он похитил) трактовалась на всевозможные лады. Один джентльмен уверял, что кража совершена группой международных бандитов, которые просверлили потолок и перерезали сторожей. Его собеседник горячо протестовал против такой версии и говорил, что деньги похищены кассирами, образовавшими для этой цели преступное сообщество, в которое вовлекли стражу, артельщиков и даже одного из членов правления, и что у них все было подстроено с необыкновенной ловкостью.
Джеку слишком долго не несли еду. И от скуки ему захотелось ввязаться в разговор и мистифицировать своих соседей.
— Нет, нет, сэр, вы ошибаетесь! — промолвил он. — Прошу извинения, но это не так! Никакой кражи в действительности не было!
Оба соседа возмущенно запротестовали:
— Как не было! Что вы говорите!
— Не было! — стоял на своем Джек с восхитительной уверенностью. — Все это блеф!
— Блеф?
— Ну да! Я был там… Я принимал участие…
Собеседники вытаращили глаза:
— Блеф? Но с какой целью?!
— Это было представление… для кинематографа! — выпалил Джек.
— И вы, сэр?…
— Ну да… Я участвовал… Я артист!
Оба джентльмена покосились на чемодан Джека… Не было никакого сомнения: там находился его сценический костюм…
— Да позвольте, сэр… Вы, может быть, Чарли Чаплин?
— Ну да! Это я! — скромно сознался Джек.
Джентльмены встали, раскланялись и потрясли Джеку руку. И не прошло и двух минут, как ресторан облетела магическая весть, что здесь сам Чарли Чаплин, который только что участвовал в грандиозной съемке новой сенсационной мировой фильмы «Ограбление банка»… Джек и ахнуть не успел, как его окружили со всех сторон, приветствовали и жали ему руку. Какая-то барышня умоляла подарить ей бутоньерку, красовавшуюся на жакете Чарли… Весть о Чарли перекинулась на улицу. В двери заглядывали и уже начинали вваливаться многочисленные поклонники «Короля смеха».
Джек понял, что он пересолил. Внезапная слава и популярность встали Джеку поперек дороги. Нужно было спасаться.
Он схватил чемодан и выбежал на улицу. А за ним бежали поклонники и поклонницы, указывая пальцами:
— Смотрите, это бежит Чарли Чаплин!
Джек юркнул в спасительную уборную. Толпа остановилась поджидать его. Мнимый Чарли Чаплин поспешил надеть драгоценную вилку и, воспользовавшись удобным моментом, вышел невидимкой на улицу. Толпа ждала его… Наиболее нетерпеливые даже стучали в дверь уборной…
За первым углом Джек снял Глориану и поспешил в другой ресторан. Здесь он уже не стал добиваться популярности, смиренно примостился в уголке и заказал себе опять котлету и чай. Чемодан был поставлен под стол.
Здесь были такие же рассеянные и молчаливые деловые люди, погруженные в чтение и расчеты… Джек получил свою котлету и с жадностью съел ее. Прихлебывая чай, он наблюдал деловых людей: он пришел к заключению, что они совершенно не отдают себе отчета в том, что именно они едят. Ему захотелось проверить это на опыте. Пользуясь тем, что никто в этой деловой сфере не обращает на него никакого внимания, он нацепил вилку. Затем ловким движением переставил у соседей блюда: тому, кто кушал яичницу, он подставил фаршированный перец, обильно приправленный красным кайенским перцем… Кушавший перец получил баранью котлету. А тому сэру, который наслаждался десертом, Джек любезно подставил пепельницу, наполненную окурками…
Джентльмены продолжали невозмутимо кушать, не глядя на свою еду, поглощенные газетой или таблицами цифр. Только один джентльмен проявил беспокойство — именно тот, который получил окурки. Он забрал на ложку несколько штук и отправил их в рот. Через минуту он с недовольным выражением лица крикнул официанту-негру:
— Бой! Перемените блюдо! Оно дурно приготовлено!
Негр подбежал и, к радости Джека, с великим недоумением принял протянутое ему «блюдо»…
Джек поел, напился, отдохнул. Пора было отправляться в парк на свидание с Лиззи. Ее милый образ сразу всплыл в его воображении и властно позвал к себе Джека.
Юноша схватил из-под стола чемодан, расплатился с негром и вышел. На ближайшей трамвайной остановке он сел в вагон и покатил. Но не успел он проехать и половины дороги, как им овладело большое смущение: ему показалось, что его чемодан стал гораздо тяжелее и, что всего удивительнее, значительно больше размерами!
И вдруг страшное подозрение охватило Джека…
Дрожащими руками он открыл чемодан…
Там были книги и какие-то документы…
— Боже мой!! Это не мой чемодан!!
Этот вопль заставил всех пассажиров трамвая повернуть головы к Джеку. Несчастный, схватив себя за волосы, скорчился от тяжкой душевной муки…
Еще мгновение — и, не помня себя, он устремился из вагона и на полном ходу выскочил на улицу.
В этот момент проходил встречный трамвай, и Джек устремился со всех ног к вагону. И, невзирая на угрозы кондуктора, вскочил на ходу…
Еле дождавшись остановки, он со всех ног побежал в вышеупомянутый ресторан.
Бой-негр встретил его с громкими восклицаниями. За две минуты перед тем джентльмен, который сидел с молодым джентльменом за одним столом и кушал яичницу, потерял свой желтый чемодан и получил взамен его чужой, значительно меньший объемом и гораздо более дешевый… Но всего ужаснее было то, что у джентльмена в его чемодане находились важные документы, без которых он просто погибал!
— Знаете, сэр, — говорил негр Джеку, — он ужасно ругал похитителя. Он призывал на него такие проклятия, что я не мог слышать…
— Но где же мой чемодан? — возопил Джек. — Что сделал он с моим чемоданом?
— Он взял его с собой, сэр! Потому что надо же ему было получить что-нибудь взамен!
— Кто он? Где он живет?
Негр ушел к хозяину ресторана совещаться. И, вернувшись, доложил:
— Это адвокат из Арканзаса, сэр! Он погнался за вами на железную дорогу! Ему сказали, что вы поехали в автомобиле на вокзал!
Джек бессильно опустился на стул и чуть не заплакал… чужой чемодан смирно лежал у его ног, и, казалось, разделял его горе. Негр по собственной инициативе, не дожидаясь заказа, поставил перед Джеком стакан с шерри-коблером.
— Все пропало!
Эта горючая мысль жгла Джека, как огонь! Он даже забыл о Глориане…
Вдруг дверь распахнулась, и на пороге появилась долговязая фигура с желтым чемоданом.
— Все пропало! — простонал он. — Этот дьявол бесследно исчез!
— Сэр, он здесь! — почтительно доложил негр, ставя и перед ним шерри-коблер.
— Как? Здесь?!
Через мгновение Джек, и долговязый арканзасец обнимали друг друга. А затем совершился акт обмена чемоданов.
— Удружили же вы мне, сэр! — ворчал адвокат. — Подсунули мне ваш дурацкий чемодан и схватили мой чемодан с драгоценнейшими бумагами и книгами! Как это вас угораздило!
Джек схватил свое сокровище и, благословляя судьбу за то, что рассеянный адвокат, которого он накормил окурками, остался рассеянным до конца и не обратил должного внимания на содержимое чемодана, побежал снова к трамваю.
Он уже опоздал на двадцать минут. Лиззи, вероятно, уже давно ждала его в парке.
Она в самом деле ждала его.
Если горе не красит человека, то счастье, а в особенности, такое сверкающее всеми цветами радуги счастье, как любовь, втройне красит его. Лиззи была недурна собой, но сейчас она выглядела настоящей красавицей. Так, по крайней мере, показалось Джеку. Он вспомнил Фата Моргану и компрометирующие подробности их знакомства и невольно сравнил ее с Лиззи. Родственница Пирпонта была тоже неплоха, но все-таки какое же сравнение! Там уже пожившая, эксцентричная, свысока относившаяся к Джеку шальная бабенка, а здесь расцвет молодости, свежести, честной и милой простоты. И как счастлива была эта худенькая, болезненная девушка, замученная работой и хроническим недоеданием! С каким наивным восторгом глядела она на Джека. Джек ясно чувствовал, что он теперь для нее все: брат, отец, покровитель, защитник — и, наконец, просто самый близкий и любимый — о, да, горячо любимый человек!
У него сладко забилось сердце, когда он увидел под деревьями ее худенькую, скромно одетую фигурку. Вот уже, именно: «Лиззи гуляла по лесу, бум, бум!» Правда, не по лесу, а по парку, но это все равно!
— Здравствуй, Лиззи! — сказал он девушке, беря ее под руку. И, не в силах удерживаться от распиравшего его чувства собственности (чемодан был у него в руке) — он тут же прибавил: — Я богат, Лиззи! Я страшно богат!
Она засмеялась, радуясь его радости, и прижалась к нему, ничего не говоря.
— Я немножко не так выразился, Лиззи, — продолжал он. — Не я богат, а мы богаты. Ведь у нас теперь все общее, не правда ли?
Лиззи густо покраснела, смущенная. Джек вдруг сообразил, что он, кажется, предупреждает события. Но его словно подхватило что-то и понесло, закусив удила, как пришедшая в азарт лошадь. И, уподобившись египтянам, которые объясняются в любви на площадях и в иных людных местах, Джек произнес нижеследующую, не совсем складную фразу:
— Дело в том, Лиззи, что я, кажется, собираюсь жениться… И ты, надеюсь, понимаешь, в чем тут дело?
Лиззи от радости не совсем поняла. Но глаза у нее засияли, как самые драгоценные алмазы. Она робко попросила разъяснений.
— Я окончательно решил жениться, Лиззи! — разъяснял Джек. — Какого черта! я так ужасно богат, и так люблю тебя… Впрочем, какой я, однако, идиот. Я не сказал тебе самого главного… Ведь я не сказал, на ком я собираюсь жениться…
Но этого объяснять, пожалуй, было уже и не нужно. Теперь Лиззи поняла… Она смутно поняла это еще вчера, но только никак не ожидала, что это выльется в ясную форму так скоро!
Джек и сам не ожидал этого… Все это произошло, словно по вдохновению. Но теперь он сам был рад, что все выяснилось и определилось. Теперь, в самом деле, оставалось только жениться на Лиззи, а за счастьем остановки уже не будет!
— Постой, Лиззи! — вдруг остановился он. — Я совсем забыл тебя спросить. Как же ты устроилась? Ты переехала оттуда, из этого гадкого дома?
— Да, переехала. Но только в том же доме. Я наняла отдельную комнату. Целую комнату, Джек! как настоящая леди! И очень дорогую… (при последних словах Лиззи густо покраснела). Хотя у меня все-таки осталось много денег… Вот, они тут все!
Джек поморщился… Опять этот кошмарный дом… Эти женщины никогда не умеют распорядиться по-настоящему! И чего скаредничать?
— Ну, это уж я сам устрою, Лиззи! — решил он. — А теперь поедем к тебе!
* * *
В битком набитых домах рабочего предместья, где обитают перегруженные трудом люди, всегда найдется несколько десятков праздных и, обычно, пьяных людей. Они бесцельно толкаются у ворот, или курят целыми часами у лестниц, или, высунувшись из окон, созерцают грязный двор, занимаясь от нечего делать натравливанием мальчишек друг на друга, или какой-нибудь несчастной и голодной собаки на столь же несчастную и голодную кошку. Это далеко не всегда безработные. Обычно это прирожденные трутни, живущие на содержании жен и пропивающие в соседних пивных их заработки. А так как женский труд не всегда бывает достаточен для того, чтобы прокормить таких «джентльменов», то последние не прочь кое-что раздобыть предосудительными способами… У большинства из них общие типичные черты: опухшие, блаженные или зверские, смотря по обстоятельствам, физиономии, колеблющаяся, неуверенная, как у трансатлантического корабля, походка и цветистое красноречие, чрезвычайно быстро переходящее в не менее красноречивую и цветистую ругань…
Джек и Лиззи имели неосторожность подкатить к дому на автомобиле. Богатый Джек счел излишним на этот раз месить грязь от железной дороги до трущобного квартала, а, главное, ему до смерти захотелось прокатить на шикарном автомобиле Лиззи, которая никогда в жизни еще не испытывала этого удовольствия. И само собой разумеется, что прибытие этих богатых и знатных лиц произвело не только в том доме, где обитала Лиззи, но и в соседних домах большую сенсацию.
Праздные, распухшие люди с трубками в зубах окружили автомобиль. Ребятишки облепили его с разинутыми ртами, созерцая приезжих почти с ужасом. Из окон высовывались изумленные женские лица. Некая миссис, только что принявшаяся дубасить непокорного сына, застыла от изумления на месте, и сын избежал заслуженного наказания… Джек имел неудовольствие заметить здесь и того верзилу с четырехугольным лицом, который прикуривал у него… Верзила, узнав Джека, немедленно куда-то скрылся. Приятель же его, желтолицый, черноволосый человек с плоским носом и косыми глазами — явный китаец — наоборот, приблизился к Джеку и на своем детски-сюсюкающем языке клянчил милостыню, не отрывая жадных глаз от блестящего желтого чемодана, с которым Джек ни на секунду теперь не расставался. Подошел еще какой-то гигантский и тоже распухший негр и также просил: «Масса, дай зелененькую!» (В Америке кредитные билеты имеют одну сторону зеленого цвета, независимо от их достоинства). Джеку стало немного жутко. В особенности тягостное впечатление, неизвестно почему, произвел на него китаец. Вероятно, те же чувства испытывала и Лиззи, потому что она съежилась и шепнула своему спутнику:
— Пойдем скорее!
Джека одолевала филантропия. Ему ужасно хотелось начать сейчас же оделять деньгами всех окружающих — мальчишек, девчонок, женщин, мужчин — невзирая даже на их красные носы и распухшие физиономии. Он вспомнил, конечно, и о жалкой м-сс Хованской… Ничего! Теперь эта бедная женщина уже не будет бедствовать! У Джека найдется для нее достаточное число «зелененьких»!
Лиззи нетерпеливо тянула его, и они втроем — Лиззи, Джек и чемодан (Джеку положительно, казалось, что чемодан с заключавшимися в нем сокровищами — какое-то особое живое существо, наделенное большим могуществом) вступают в темные дебри трущобных коридоров. За ними увязывается несколько человек, и Джек при всей своей рассеянности замечает, что всеобщее внимание привлекает, главным образом, его желтый приятель, крепко и как будто даже пугливо прижимающийся к Джеку…
Лиззи живет теперь во втором этаже. Это очень удобно. Не нужно, по крайней мере, подыматься высоко по противным лестницам… У ней маленькая отдельная комнатка. Отдельная, в сущности, только по названию, так как она отделена от других комнат тонкой перегородкой, немногим отличающейся от простой занавески. Лиззи наняла комнату с мебелью, но уже успела купить свое собственное хорошенькое зеркальце, пышное розовое одеяло и новенькую швейную машину. Это не роскошь, а необходимость: старая уже отказывалась служить. Джек с умилением и некоторой снисходительностью смотрит на эту машинку: к чему она?
Лиззи теперь достаточно богата, чтобы бросить это изнурительное занятие.
— Ах, нет! — говорит Лиззи. — Знаешь, Джек, я еще должна кое-что окончить из моих заказов. Нечестно бросить их и не сдержать данного слова. А кроме того, мне кажется, что я буду скучать без работы… Ведь я привыкла…
Джек засовывает руки в карманы (приятель-чемодан выпущен из рук и лежит на стуле. Джеку показалось неприличным бросать такую важную персону на пол). Ему не сидится на месте. Он принимается ходить по комнате взад и вперед и обращается к Лиззи:
— Ну, теперь поговорим о делах!
Лиззи понимает выражение «дела» как-то по своему; она прижимается к Джеку, смеется и успокаивается только тогда, когда Джек наскоро и с деловым видом целует ее.
— Видишь ли, Лиззи, в чем дело? Прежде всего, надо дать миссис Хованской денег.
— О, да! Дай, Джек, я отнесу ей!
— Но сколько? Тысячу долларов? Или это, пожалуй, мало?.. Пять тысяч?
— О, Джек!!. — задыхается от изумления Лиззи. — Она с ума сойдет!
— Пойдем к ней вместе! Я хочу посмотреть, какое у нее будет лицо!
И вот деловые разговоры временно прерваны. Джек и Лиззи с чемоданом (не оставлять же его одного!) опять втроем идут по кошмарному коридору и подымаются по кошмарной лестнице… А в той комнате, которая отделена от новой комнатки Лиззи тоненькой перегородкой, чьи-то уши отрываются от перегородки, и кто-то в величайшем изумлении поминает черта. Уши тихонько выходят в коридор и пробираются вдоль стен за нашими тремя героями…
М-сс Хованская близка к обмороку. Она плачет, становится на колени, молится богу и отказывается принять такие деньги. Джек помирает от хохота, глядя на ее лицо. Лиззи, наоборот, плачет. В конце концов, деньги силой всучены несчастной женщине, и благодетели удаляются, оставив м-сс Хованскую в состоянии, близком к сумасшествию.
В комнате Лиззи деловой разговор возобновляется. Временами его прерывают интермедии с поцелуями и мечтами о близком будущем.
— Джек, я хотела бы купить немного земли, в рассрочку, и построить ферму! У нас некоторые рабочие купили. Только я не знаю, хватит ли у тебя денег?
— Хватит, Лиззи! Это очень хорошая мысль! Я думаю, — шесть комнат и наверху детская. И веранда, с диким виноградом.
— Я непременно заведу кур и уток! Ты любишь, Джек, кур?
— Кур? Ужасно люблю! В особенности петухов! Они будут у меня драться!
— А куры будут нести яйца… Мы будем есть яиц, сколько захотим! Джек, а можно будет завести белых голубей?
— Можно, можно, дорогая!
— Джек, а откуда у тебя столько денег?
Когда язык не знает ни минуты отдыха, то можно в течение короткого времени переговорить о многом. Джек и Лиззи говорили, не уставая, в течение целых часов. Уже давно настала ночь, и стихал неугомонный город, а они все сидели в тесной комнатке и беседовали…
Была взаимно рассказана друг другу личная биография. И Лиззи и Джек ознакомили друг друга со своими вкусами, привычками, взглядами на жизнь. Затем кое что решили и установили относительно брака и грядущей обновленной жизни. Потом Джек не утерпел и кое-что поведал о своих приключениях с чемоданом. Но о происхождении денег и о вилке он все-таки умолчал. Ему казалось неудобным смущать воображение Лиззи. Относительно денег он просто соврал и сказал, что получил наследство, и Лиззи этим вполне удовлетворилась.
Потом разговор перешел на более общие темы. Лиззи много рассказывала Джеку о житье-бытье рабочих, об их чаяниях, страданиях, о борьбе с капиталом. Ее простые, не блещущие красноречием, но почерпнутые непосредственно из живого источника рассказы произвели на Джека глубокое впечатление. Он вспомнил о вилке и подумал:
— Чем заниматься глупостями, нужно пустить в дело Глориану, чтобы помочь рабочим!
Лиззи сказала:
— Ты знаешь, наши рабочие сейчас страшно интересуются пенсильванцами!
— Это почему?
— В Пенсильвании, около Питсбурга, сейчас бастуют углекопы. У них каторжная работа, а трест и слышать не хочет ни о чем! Они борются, Джек, за лучшее будущее!
Джек воспламенился:
— Лиззи, я туда поеду!
— Когда? — опечалилась девушка.
— Чем скорей, тем лучше… Завтра!
Лиззи не стала отговаривать его. Она слишком хорошо понимала положение бастующих и их голодных жен и детей, и денежная помощь могла, конечно, очень облегчить их положение. Было бы бессовестно удерживать его около своей юбки!
— Я ему покажу, этому тресту! — не унимался Джек, весь красный от негодования. — Он у меня запляшет!
Джек отлично знал, что такое трест. Но тем не менее, пылкое воображение юноши сейчас представляло его в виде какого-то громадного, отвратительного и наглого великана с мерзкой негритянской рожей и острыми людоедскими клыками. Джек мысленно дубасил его по спине и по голове, втыкался с разбега ему головой в живот, проезжался боксом по его мясистому лицу… Конечно, под охраной верной Глорианы!
— Что же ты с ним сделаешь, Джек? — недоверчиво спросила Лиззи. — Я думала, что ты хочешь просто дать денег бастующим…
— Это само собой. Но этого — мало! Я ему тоже задам!
* * *
Джек условился с Лиззи, что он поедет в Питсбург действительно завтра же с первым утренним поездом, а она подождет его здесь. А затем они уедут совсем из Нью-Йорка. Джек полагал, что ему не житье в этом городе после происшествий с Глорианой. Профессор Коллинс, наверное, не успокоится, пока не предаст его суду. А там, пожалуй, и Глориана не поможет.
Было уже поздно. В мрачном и зловещем предместье бедноты и труда все спали. Лишь порой свистали отважные полисмены. Джек сообразил, что пора уходить домой…
Страшные коридоры тоже спали. Тусклые лампочки еле освещали этот ад кромешный. Джек в последний раз поцеловал Лиззи и захватил чемодан. Несмотря на протесты девушки, он оставил ей свыше двадцати тысяч долларов.
— Не надо, Джек! — возражала она. — Я потеряю! Я потеряю!
— А ты не теряй! — резонно посоветовал юноша, засовывая пачки банкнот ей под подушку.
Лиззи улыбнулась:
— Ты, вероятно, хочешь, чтобы я была настоящей леди? Что ж, я пожалуй, начну транжирить, куплю трюмо.
Он окончательно простился с Лиззи, засунул, сам не зная для чего, добрую половину денежных пачек опять за пазуху и бодро направился к выходу…
Он миновал лестницу, вышел на улицу и, руководствуясь отдаленной линией уличной вереницы фонарей, направился в темноте туда. Здесь в ближайшей окрестности фонарей не было. Можно было думать, что все они украдены и пропиты обывателями…
Вдруг около Джека выросла темная таинственная фигура.
— Сэр, не знаете ли который час?
— Не знаю! — совершенно искренне ответил Джек, прибавляя ход.
Новая темная фигура пересекла ему дорогу и загородила путь:
— Сэр, позвольте закурить!
Джек сообразил, что дело неладно…
— Убирайтесь к черту! — крикнул он и полез в карман за спасительной Глорианой… Как досадовал он, что не надел ее заблаговременно…
О, ужас! Глорианы не было!..
Джек похолодел… Он судорожно сжимал чемодан и шарил… шарил другой рукой в кармане… Потом — в другом кармане… Тщетно!
Это походило на страшный сон. Джеку смертельно хотелось проснуться. А темные фигуры наступали на него. Их было уже три. И вероятно, в темноте прятались еще другие…
— Дик! — проворчала хриплым басом одна из фигур. — Валяй!
Джек почувствовал, что ему приходит конец. Он кинулся головой вперед и уткнулся одному из нападавших в живот. Тот крякнул и пошатнулся. Но в ту же минуту у Джека из глаз посыпались искры, и он почувствовал тяжелый удар по голове. В полусознательном состоянии он опустился на землю и ясно ощущал, как земля ходит под ним волнами. Чьи-то руки схватили его за горло.
Инстинкт самосохранения так велик у человека, что он иногда совершает чудеса силы и храбрости, чтобы отвоевать свое существование. Джек вдруг вспомнил: у него был револьвер!
Он еще вчера купил его. Это был хорошенький малокалиберный Ивер Джонсон. Джек собирался испробовать его, да все не было случая, и в конце концов он просто позабыл о нем.
В страшные минуты самообороны он, однако, вспомнил… И было время!.. Со страшным напряжением всех своих сил, он извлек его, нажал на гашетку и выстрелил…
Эффект был необыкновенный… У нападающих револьверов не было: они были давным-давно пропиты. Джек выпалил еще два раза — и почувствовал, что он спасен. Он был свободен. Темные фигуры улепетывали с дикими проклятиями…
И все стихло. Никто не отозвался на револьверные выстрелы: ни полицейские, ни обыкновенные смертные. Темная трущоба молчала. Молчала и улица. Джек поднялся на ноги. Сознание в полной мере возвращалось к нему. И опять вернулась мысль о Глориане и вместе с ней другая — жестокая мысль:
— Где чемодан?
Джек только что сжимал его в руке. Но теперь в его руке уже ничего не было! Он пошарил кругом себя, но с горьким разочарованием махнул рукой. Все было ясно… Коварный желтый друг покинул Джека! И, вероятно, навсегда!
Но Глориана, Глориана! Что же с ней? Где же она? Если она осталась у Лиззи, то еще не все погибло. Но как попасть теперь к Лиззи? Это было по тысяче причин неудобно.
Ждать следующего дня? Но, не говоря уже о страшной тревоге, которая мучила его, Джек боялся, что Лиззи, если вилка в самом деле случайно обронена у нее, по неведению может испортить ее… Нужно было, во что бы то ни стало, теперь же выяснить это дело и, значит, вернуться к Лиззи.
Было уже далеко за полночь. Почти в полной темноте, руководясь скорее инстинктом, чем знанием дороги, Джек пробрался на лестницу, отыскал коридор и, сжимая в руке револьвер с оставшимися двумя пулями, ринулся вперед. В нижнем коридоре несколько дверей еще были открыты, оттуда вырывался свет, клубы табачного дыма и дикие голоса. Там пировали, или играли в карты, а может быть, совершали что-нибудь похуже… Может быть, там были похитители чемодана? Джек, однако, не стал останавливаться. В глубине коридора, где молчали комнаты честных и скромных жильцов, пряталась заветная дверь…
— Лиззи, это я!
— Боже мой, что такое? Что случилось?
— Лиззи, отвори!.. Ради всего святого!
За дверью смутный шорох, подавленные восклицания. У Джека сердце бьется так сильно, что — того и гляди, разорвется. Вторгаться к девушке в такие часы… Но что же делать, если Глориана!..
Дверь открывается.
— Лиззи, это я, Джек…
Дешевенькая лампочка с пунцовым абажуром в виде бабочки достаточно ярко освещает комнатку…
— Что с тобой, Джек? Что ты так странно на меня смотришь?
Не отвечая на расспросы, Джек стал искать на полу потерянную Глориану. Его радости не было границ, когда он увидел блестящий предмет на коврике перед кроватью Лиззи.
— Что это такое? — спросила с любопытством Лиззи.
— Это… это кастет…
Джек рассказал о нападении, о гибели чемодана. Они оба погоревали. Потом Джек вспомнил, что у него за пазухой остается еще очень много денег, и они рассмеялись и утешились, и Лиззи не находила слов, чтобы похвалить его за предусмотрительность…
…Джек уже не думал теперь о том, чтобы уходить домой. Было слишком поздно. Вернее, слишком рано. Светало. А потом…
А потом настало полное утро. Джек в сотый раз поцеловал свою возлюбленную и отправился в поход — бороться с капиталом, угнетавшим пенсильванских рабочих!
Лиззи плакала, обнимая его:
— Как грустно, что ты уезжаешь! Но не смущайся, милый! Поезжай! Это необходимо!
Она опять просила его взять оставленные у нее деньги обратно. Но Джек с непонятным упорством отказался…
В коридоре ему попался вчерашний китаец. Джек, сам не зная почему, вздрогнул и невольно потянулся к своему револьверу. Желтый человек улыбнулся и раскланялся. И уже, пройдя несколько шагов, Джек все еще чувствовал на своей спине его взгляд. Не этот ли косоглазый утащил его чемодан? В сущности, следовало бы заявить полиции… Но Джек чувствовал к полиции большое недоверие, и ему не хотелось иметь с ней никаких дел…
Условясь с Лиззи относительно того, где они встретятся, Джек, наконец, покинул трущобу и поспешил на вокзал.
* * *
По дороге на вокзал он зашел в магазин дешевого верхнего платья и купил рабочую блузу и фуражку. Он решил, что неудобно выступать среди рабочих в франтовском костюме.
В другом магазине он приобрел новый чемодан — далеко уже не такой блестящий, как украденный, и уложил в него рабочее одеяние.
Мальчишки-газетчики кричали и пели на разные голоса:
— «Нью-Йорк-Геральд!» Новые газеты! Таинственное ограбление Национального Банка! Виновник заключен в тюрьму!
Джек, крайне заинтересованный судьбой «виновника», приобрел пять-шесть утренних газет.
И в хорошем настроении, скучая лишь немножко по Лиззи, он прошел в буфет, выпил содовой воды с виски и, плотно позавтракав, сел в вагон…
VI
В «демократической» Америке, согласно благородному принципу равенства, на железных дорогах официально существует только один класс для всех граждан.
Но так как в Америке имеется особый народ, негры, которые там совсем не считаются за людей, то для перевозки этих нелюдей употребляют особые вагоны — негритянские, очень плохие и совершенно некомфортабельные.
А с другой стороны, в той же демократической Америке имеется особый класс богачей, которые считаются сверхлюдьми, и для них ставят особые вагоны — чрезвычайно роскошные, с такими удобствами и утонченностями комфорта, которые простым смертным и недоступны и даже неизвестны.
Джек не принадлежал ни к нелюдям, ни к сверхлюдям. Поэтому он ехал в единственном «первом» классе.
Ехал он, надо сказать правду, с большими удобствами. Сиденья были мягкие, крытые бархатом. Поезд был курьерский и летел с головокружительной быстротой, лишь слегка замедляя ход на поворотах. Джек посидел в вагоне-ресторане с расписными стенами и потолком, выпил бокал Manhattan Cocktail, смакуя вкусный напиток через соломинку, и прочел все газеты.
Два события, главным образом, интересовали его: ограбление банка и пенсильванская забастовка…
Относительно ограбления говорился всякий вздор, над которым Джек хохотал от всей души. Громадные, полуаршинными буквами, заголовки гласили: «Непонятное ограбление Национального Банка — похищено несколько миллионов». «Директор Национального Банка м-р Арчибальц Армстронг проявляет признаки психического расстройства». «Виновники похищения скрылись». «Злодеи, произведшие ограбление, схвачены и заключены в тюрьму». «По слухам, вся сумма похищенного найдена у одного из служителей, который оказался беглым бразильским бандитом, убившим у себя на родине епископа». «Несколько миллионов народного достояния бесследно погибло!» И наконец: «Виновник найден! Это кассир, м-р Фаруэлль!»
И так далее…
Джека немножко встревожило известие об аресте ни в чем не повинного мистера Фаруэлля. Он припомнил, что так звали служащего, который первым заметил исчезновение денег, полез под стол и потом упал в обморок. В тексте газетного сообщения было сказано, что м-р Фаруэлль дал сбивчивые и «детски-наивные» показания, рассказывая о каких-то видениях и галлюцинациях. И что его «поведение» и проявленная им странная растерянность послужили главным поводом к обвинению его в преступлении. Ему вменялось в вину не только само похищение денег, но и неприличные издевательства над администрацией и даже… нарушение американской конституции! Это было уже совсем непонятно для Джека. Во всяком случае, он решил немедленно по возвращении в Нью-Йорк навестить несчастного Фаруэлля и помочь ему материально.
Затем он наткнулся на интервью с профессором Коллинсом — и похолодел.
Профессор прямо и определенно указывал, как на виновника хищения, на Джека Швинда. В газете так-таки прямо всеми буквами и стояла фамилия Джека. Это было ужасно! Он теперь прямо панически боялся всемогущего профессора. Джеку казалось сейчас, что стоит ему показаться в Нью-Йорке, как его мгновенно схватят. Он не заметил иронического тона интервью и не сумел прочитать между строк того безмолвного издевательства над профессором и осуждения его фантазий и бреда, которые в этом интервью содержались. Джек еще не умел читать между строк. Его удивило только то, что, несмотря на такое категорическое заявление профессора, все-таки схватили и посадили несчастного Фаруэлля. Но он объяснил это тем, что администрация еще не успела ознакомиться с мнением профессора. А вот, прочитают это интервью и, как только Джек покажется в городе, потащат его: «Пожалуйте! Фаруэлль уже достаточно посидел — теперь посидите вы!» Ну, а Глориана? И Глориана не поможет, потому что профессор — страшный, всемогущий изобретатель, профессор Коллинс — наверное, уже придумал средство против Глорианы!
Из всего этого вытекало, что в Нью-Йорк возврат для Джека был отныне невозможен. Помилуйте! Даже в газете напечатана его фамилия. Джек решил послать телеграмму Лиззи, чтобы она переехала из Нью-Йорка в Вашингтон. Почему в Вашингтон? Джек никогда не бывал в этом городе, но слыхал, что это спокойный, тихий город. Ну, а в тихом городе вообще все тихо, в нем и полиция смирная. Джек решил из Пенсильвании проехать прямо в Вашингтон. Пусть Лиззи наймет там квартиру, устроится и ждет его там.
Интервью так взволновало и обескуражило Джека, что он уже не испытывал особого удовольствия, читая хроникерскую заметку под заглавием: «Новый трюк Чарли! Чарли Чаплин в уборной!» В заметке рассказывалось, как знаменитый Чарли, любимец нью-йоркской публики, спрятался на виду у всех в уборную и там «пропал»… Публика два часа стояла толпой около уборной, стуча в двери и мешая гражданам пользоваться этим учреждением, но оказалось, что Чарли там вовсе и нет!..
— Какие глупости! — вздохнул благоразумный Джек и перешел к известиям о пенсильванской забастовке.
Пенсильванские углекопы воевали с могущественным каменноугольным трестом, который объединил несколько отдельных предприятий, понизил заработную плату и целыми сотнями вышвыривал рабочих, принадлежащих к трэд-юнионам, т. е. профессиональным союзам, и заменял их «свободными» рабочими, т. е. не состоящими в юнионах. Частичные забастовки, протесты, жалобы и манифестации не приводили ни к чему. И рабочие, доведенные до отчаяния, подняли в окрестностях Питсбурга и в западной Пенсильвании настоящее восстание. «Свободных» били, зашвыривали грязью, стреляли в них из револьверов. Трэд-юнионисты дружно забастовали, и громадное большинство копей не работали. По словам газеты, ожидалось прибытие в Питсбург большого отряда войск. Ожидались крупные события.
В газете приводились справки о прежних забастовках и рабочих волнениях. Джек узнал, между прочим, что еще в 1877 году вспыхнула в Пенсильвании грандиозная забастовка железнодорожников, которые овладели Питсбургским узлом, остановили все движение, сожгли свыше полутора тысяч вагонов и вступили в настоящее сражение с войсками, причем с обеих сторон действовала даже артиллерия…
Другое крупное рабочее восстание в той же Пенсильвании было в 1892 году. Рабочие громадного железоделательного завода Карнеджи, около Питсбурга, недовольные обращением завода к «нон-юнион-мэнам», объявили стачку и заняли все заводские помещения. Полиции, явившейся выживать их с завода, было заявлено, что «рабочие не желают производить беспорядки и находятся здесь для охраны заводского имущества, а потому просят полицию удалиться во избежание осложнений…» Полиция послушно удалилась, но через некоторое время бастующие заметили, что по реке Мононгаэле, на берегу которой находился завод, плывут какие-то две чересчур скромные с виду баржи. Скромность показалась подозрительной, и забастовщики «взяли на изготовку»… И действительно, как только смирные баржи поравнялись с заводом, с них был открыт ружейный и артиллерийский огонь по заводу. Но завод был в изобилии снабжен броневыми плитами собственного изделия, и рабочие не пострадали от огня. Они в свой черед раздобылись пушкой и встретили высаживавшийся с барж «десант» такими залпами, что те принуждены были позорно бежать обратно на баржи. Началась перестрелка, которая тянулась два дня. У рабочих оказались на другом берегу союзники; они тоже стали обстреливать баржи — и в конце концов на баржах был поднят белый флаг, и они сдались. Стачечники около двух недель держали завод Карнеджи в своих руках, пока, наконец, не явились войска и не взяли завод штурмом…
Что предстояло восставшим на этот раз? У Джека замирало сердце, когда он представлял себе эту войну. И он инстинктивным жестом ощупывал свой Ивер-Джонсон. Воевать, так уж воевать! Но вслед за тем Джек таким же инстинктивным движением ощупал и Глориану. Он питал к ней гораздо больше доверия, чем к Джонсону.
В окнах мелькали расплывавшиеся линии пейзажа. Джек размечтался, развалившись в своем уютном кресле. Он воображал себя рабочим вождем, великим общественным деятелем. Он еще сам не знал, что, собственно, он будет делать в Питсбурге, и планы его походили на расплывавшийся от быстрого движения поезда пейзаж. Денег у него оставалось после кражи чемодана не так уж много, и денежная помощь громадному числу забастовщиков уже не занимала в его воображении слишком большого места. Очевидно, придется делать что-то иное. Но что?
Из разговоров пассажиров Джек узнал, что по случаю питсбургских событий в поезде, не доезжая Питсбурга, производится осмотр пассажирского багажа и пассажирских карманов — в особенности у тех, кто едет в сам Питсбург. Джек принял это к сведению и решил исчезнуть.
* * *
На предпоследней станции в вагон вошел лейтенант в сопровождении двух сержантов и обер-кондуктора.
— В этом вагоне есть пассажир до Питсбурга, — сказал обер-кондуктор. — Вот его багаж.
Чемодан Джека лежал на диване, раскрытый, как доверчивая душа. Лейтенант, не дотрагиваясь до него, приказал сержантам произвести осмотр. Прежде всего им бросилась в глаза рабочая блуза и фуражка.
Лейтенант строго спросил обера:
— Это рабочий?
— Не знаю, сэр! По виду он скорее походит на джентльмена.
— Взять в комендатуру! — приказал лейтенант, кивнув на чемодан.
Джека это нисколько не обеспокоило. Он решил, что нет ничего проще взять чемодан обратно прямо из-под носа у сержантов: стоит лишь высмотреть, куда его положат. Его гораздо больше беспокоило сомнение: не откажется ли в нужный момент действовать Глориана? Но пока все шло благополучно. Джек был до такой степени невидим, что кондуктор уже начинал не то что беспокоиться (американские кондуктора мало беспокоятся о пассажирах), но крайне интересоваться загадочным исчезновением джентльмена. Джек успел обратить на себя его внимание, тем более, что пассажиров, ехавших в «бунтующий» Питсбург, было совсем мало. Кондуктор несколько раз проходил мимо Джека и вздыхал, словно ему было до слез жаль безвременно погибшего, очевидно, свалившегося под поезд молодого человека…
* * *
Поезд быстро мчался…
Темные облака дыма — обычный суровый ореол всех больших фабричных городов — вскоре дали знать Джеку о том, что «Великий Питсбург», состоящий из нескольких отдельных городов, громадный «город первого английского министра Питта», или вернее, город всесильного железного короля Карнеджи, совсем уже близко. Сверкнула полоса реки Охайо с белыми, как лебеди, двухэтажными пароходами и четырехугольными, низкобортными, похожими на плавучие коробки — угольными баржами. Целый лес карнеджиевских фабричных труб вырос на горизонте. Поезд влетел, как сумасшедший, под величавую маркизу вокзала и с размаха остановился.
Джек спокойно вышел на перрон. Он неотступно следовал за своим чемоданом, который плыл впереди него на плечах дюжего сержанта, словно путеводная лоцманская шлюпка. Лейтенант по дороге куда-то исчез. Путеводная шлюпка привела Джека в комендатуру. Там было очень накурено и сидел за отдельным столом важный комендант, полковник. Чемодан был положен на скамью, и сержант сделал доклад. Джек стоял в ожидании удобного момента.
Немного погодя, вошел лейтенант. По-видимому, он успел побывать в буфете, потому что лицо у него было чересчур красно, а глаза глядели слишком сосредоточенно. Он поздоровался с полковником и закурил сигару.
— Что нового, полковник? — спросил он.
— Ничего особенного. Рабочие сломлены голодом. Обойдется и без нашего вмешательства. Не сегодня-завтра забастовка будет ликвидирована.
— Жаль! — проворчал лейтенант, похлопывая по креслу своим стеком. — Я рассчитывал, знаете, немножко поиграть с пулеметом. Я везу с собой конфетки.
— Давно уж не игрывали, — заметил полковник. — Я думаю, ваши конфетки отсырели за эти годы.
— Ничего! Я привез свеженьких! Целый ящик! Угостим пенсильванцев на славу!..
Джек почесал затылок. Он понял, о каких конфетках шла речь. Между тем, полковник обратил внимание на чемодан.
— У кого вы конфисковали? — спросил комендант, кивая на чемодан.
— Не знаю… Какой-то джентльмен, а в чемодане рабочая блуза.
Полковник поднял брови и выпустил клуб дыма.
— Джентльмен? Знаем мы этих джентльменов. Это агитатор! Как же вы его прозевали? Где он?
— Я его даже не видел! — сознался лейтенант. — Да это не важно. Кондуктор уверял меня, что он свалился с поезда. Не думаете ли вы, что это самый лучший исход и для него, и для рабочих?
Полковник захохотал и уронил сигару. Джек ловко нагнулся, поднял ее и сунул зажженным концом ему в карман.
— Да, это верно! — хохотал полковник, сотрясаясь своим тучным телом и машинально ища сигару. — Ловко это вы заметили! Тысяча чертей! Куда девалась моя сигара?
Он взял другую из ящика, встал и заметил:
— Однако, лейтенант, я пойду завтракать. Вы подежурьте здесь. Я вас не задержу слишком долго!
Лейтенант, оставшись один (Джек, конечно, не шел в счет) комфортабельно развалился в кресле и задремал. За окном прогремел новый, только что подошедший поезд, сотрясая все окружающее. Джек решил воспользоваться моментом.
Не обращая внимания на дремавшего лейтенанта, он нагнулся к чемодану, поднял его и…
От неловкого движения Глориана соскочила с его головы и со звоном упала на пол. Лейтенант повернул к нему голову с крайне удивленным видом.
— Что вы тут делаете, черт возьми! Как вы сюда попали?
К Джеку уже вернулось самообладание. Ему захотелось выкинуть фарс.
— Вы кто такой? — гневно продолжал лейтенант. — Что вам нужно?
— Я хозяин этого чемодана! — спокойно ответил Джек.
— И я беру его с собой!
— Черт возьми, но ведь вы упали с поезда и убились? — недоумевал офицер.
— Да, но я воскрес! — возразил Джек и повернулся с чемоданом к выходу.
— Стоп! Ни с места! — заорал лейтенант. — Ни с места, или я буду стрелять!
Джек хладнокровно нацепил Глориану. Лейтенант остался пригвожденным к креслу с вытаращенными глазами. Он ясно видел, что «джентльмен-агитатор» растаял в воздухе, а чемодан, или точнее, только одна верхняя половина чемодана, поплыла в воздухе, покачиваясь, к дверям.
Лейтенант хотел крикнуть, позвать стражу, стрелять. Но он сообразил, что может оказаться в смешном положении. После изрядной выпивки, да еще в дремотном состоянии, может показаться всякая чушь, вплоть до появления самого черта. Стоит ли заводить истории из-за таких пустяков и явного вздора?
Он потянулся, зевнул и с истинной американской флегмой снова растянулся в кресле, задрав ноги выше головы.
Джек вышел на платформу. В стороне стояла группа железнодорожных служащих. Там что-то случилось. Джек полюбопытствовал, в чем дело.
Это был пожар: горел полковник, или точнее, горела его куртка. Двое кондукторов поливали его водой. Полковник был красен, как вареный рак, и ругался так свирепо, как может ругаться только разозленный американец. Сигара, от которой произошел пожар, валялась на перроне.
— Извините меня, сэр, — говорил один из пожарных, — вы, вероятно, сами, по рассеянности, сунули сигару в карман.
Полковник обдал его таким залпом ругательств и призвал такое количество чертей, что бедный пожарный осекся на полуслове.
Этим пожаром начались военные действия, предпринятые Джеком от имени пенсильванских рабочих против североамериканской регулярной армии…
— Конфетки! — бормотал Джек, идя на улицу. — Я им покажу конфетки!..
* * *
Питсбург в этот день был заинтересован двумя событиями.
Во-первых, забастовкой. А во-вторых, выборами нового мэра, т. е. городского головы. Джек по дороге в отель, где он решил остановиться перед дальнейшими похождениями, купил местную газету и прочел прежде всего крупный заголовок с несколькими восклицательными знаками: «Говорят, что он будет сердечно разговаривать со всяким, кто бы к нему ни пришел!..» Немного дальше красовался еще более жирный заголовок: «Конкуренция с ангелами!.. Вотируйте за Дженкинсона!.. Дженкинсон даст любому ангелу сто очков вперед по своей доброте!..» Еще дальше: «Неужели вы доверяете такому сомнительному общественному деятелю, как Гютри? Дженкинсон в сто раз энергичнее его. Он настоящий бизнесмен!».
О забастовке заголовки гласили: «Забастовка кончается! Рабочие раздавлены!» «В Питсбург прибыли войска».
Джек нахмурился. У него невольно сжалось сердце. Он опоздал со своими благими намерениями… Какое преступление было с его стороны не интересоваться борьбой рабочих! Ведь об этом было же хоть что-нибудь в нью-йоркских газетах еще ранее того, как Джек познакомился с Лиззи? Ах, Лиззи, Лиззи! Как она будет теперь огорчена! Она так близко принимала к сердцу эту забастовку!
В отеле Сенлей, где Джек занял комнату и устроил на жительство свой чемодан, вся прислуга отправилась на выборы. Коридорный «бой», вместо всякого приветствия, спросил Джека: «Вы за кого, сэр? За Гютри или за Дженкинсона?» Джек возразил серьезным тоном: «Я предпочел бы мистера Плумпуддинга: он еще добрее, чем Дженкинсон!»
В отеле Джек не стал засиживаться. Позавтракав на скорую руку, он переоделся в рабочую блузу и с Глорианой на шее незаметно ушел из гостиницы. Он торопился поскорее попасть на место действия, т. е. в каменноугольные копи 1-го Пенсильванского Каменноугольного Треста. Он знал, что они находятся где-то под самым городом.
Он почти не интересовался новым для него городом, Питсбургом. Мельком, из окна трамвая, Джек видел широкую реку с пароходами и с целой вереницей мостов, потом видел другую реку, поуже, которая сливалась с этой первой рекой. Он видел красивые здания, высокие небоскребы и приземистые церкви, видел два-три роскошных дворца с надписью «Библиотека Карнеджи», и у него осталось такое впечатление, как будто Карнеджи только тем и занят, что строит в Питсбурге великолепные библиотеки.
Джек ехал в трамвае и все ждал, когда кончится город. Но город все не кончался. Он перешел в другой город, потом в третий, где опять были библиотеки Карнеджи. Джек стал терять терпение. Оказывалось, что каменноугольный поселок был вовсе не так близко, как он воображал. «Под городом»… Но под каким городом, черт возьми, если их тут несколько? В Нью-Йорке, по крайней мере, везде Нью-Йорк, а здесь то Питсбург, то Брэддок, то Аллегэни, то еще что-то такое. Извольте разобраться в этой географии!
Приехав еще в какой-то город и встретив и здесь библиотеку Карнеджи, Джек окончательно вышел из себя и направился к полисмену наводить справки. Он привык обращаться за такими услугами к полицейским. Добродушный бобби, казалось, готов был всем сердцем пойти к Джеку навстречу, но вдруг Джека словно кто-то толкнул в бок.
— Да ведь он, чего доброго, сцапает меня! — встрепенулся он, — ведь на мне рабочая блуза! Он сразу решит, что я направляюсь в поселок с противозаконными намерениями!
И Джек почти у самого носа полицейского сделал крутой оборот и, к удивлению бобби, проследовал быстрым шагом мимо него. Бобби флегматично обвел Джека взглядом и не тронулся с места. Пройдя несколько шагов, Джек увидел шедшую ему навстречу такую же рабочую блузу, какая была на нем.
— Отлично! Вот этот гражданин мне все расскажет! — решил Джек и обратился к рабочему.
— Это в двенадцати верстах отсюда! — объяснил рабочий. — Только вряд ли вы туда попадете. На дороге везде патрули, всех проезжих обыскивают, а рабочих прямо арестуют.
Джек подробно расспросил дорогу и уверенно направился по указанному направлению…
За городом, если можно было назвать «за городом» продолжение все того же бесконечного разноименного города Питсбурга, с бесконечными заводами, складами, магазинами и изящными загородными виллами богачей, Джек довольно долго шел пешком. Наконец, склады и фабрики стали попадаться реже, и потянулось широкое шоссе. Джек стал подумывать о том, что недурно было бы нанять извозчика, раз речь идет о десяти-двенадцати верстах. Но вдруг внимание его было привлечено небольшим обозом, который тянулся впереди его. Обоз сопровождали солдаты.
— А ведь это туда! — решил Джек. — Это очень хорошо! Пускай они подвезут и меня. А я дорогой кое-что подслушаю!
Он надел Глориану и, смело добежав до первой подводы, вскочил на нее и довольно комфортабельно разлегся на тюках и ящиках.
Возница беседовал с конвойным:
— Что ж, и вправду стрелять в них будете?
— Велят, так будем!
— Из винтовок?
— Нет, из пивных бутылок!
Конвойный произнес эту фразу самым серьезным тоном, без малейшей улыбки. Извозчик так же серьезно принял ее. Он сплюнул и сказал:
— А вы не сразу! Вы сначала просто попугайте их. А то как бы вам самим не попало. Их ведь много! Разозлятся, да как начнут вас чесать!
— Чем?
— Пивными бутылками!
На этот раз возница и солдат обменялись улыбками. Рабочие, как всякие граждане U. S. А., конечно, были вооружены: если не бутылками, то, во всяком случае, револьверами. Джек тоже понял это, и у него по спине пробежал приятный холодок.
Солдат медленно произнес:
— Им с нами не справиться. Они ослабели. Говорят, что они хотят идти на уступки.
Извозчик, которому, по-видимому, не нравилось бахвальство конвойного, заметил как бы про себя:
— Все бы ничего, но дело в том, что они сильно не любят тринадцатидолларников. Это им придаст куражу!
При намеке на оскорбительное прозвище представителей армии солдат нахмурился, но молчал, посасывая трубку. Возница продолжал все тем же невозмутимым тоном:
— В особенности они не терпят тех из них, кто называется «Каинами в золотых пуговках»… Они просто бесятся при виде их!
Солдат не выдержал.
— Ты видал когда-нибудь филадельфийский бокс? — промолвил он.
— Нет, не видал, но я видел питсбургский. Он крепче!
— Посмотрим!
И совершенно хладнокровно, почти равнодушно, оба они стали угощать друг друга тумаками. Извозчик перестал править лошадью, но та, нимало не смущаясь, продолжала идти прежним шагом и только оборачивалась все время назад, словно ей было крайне интересно узнать, кто победит!
Но узнать это ей так и не удалось, потому что бокс был замечен не только лошадью, но и унтер-офицером, который сопровождал обоз. Унтер живо вырос перед состязавшимися и в одно мгновение водворил мир между ними.
Возница утирал расшибленный нос и бормотал:
— У нас в Питсбурге это и за бокс не считается!
Спустя пять минут возобновился прежний мирный разговор. Извозчик интересовался, действительно ли солдаты будут стрелять по-настоящему, или это только «блеф»? Солдат опять пришел в дурное настроение и воскликнул:
— Какой же это блеф, когда ты сам везешь боевые патроны?
— Где они?
— Где? А вот, в этом ящике! Целый ящик с костоломками! Вот тебе и блеф!
Солдат указал на ящик, на котором с большим удобством восседал Джек. Джек даже вздрогнул: не от страха, а от неожиданности. Это было для него настоящим откровением…
Солдат продолжал свои откровенности:
— Те ящики с холостыми патронами, а этот с боевыми. Сначала для острастки выпалим, сколько потребуется, холостыми, а там и за костоломки примемся!
Джек решил взять ящик под свое особое покровительство… У него в голове уже складывался некий план.
— Эй, вы! — кричал всевидящий унтер, — брось курить! Сколько раз вам говорить, что не полагается в обозе курить!
* * *
Два раза их останавливала вооруженная застава и требовала пропуск и наряд. И чем ближе они подъезжали к поселку углекопов, тем чаще стали попадаться конные и пешие, вооруженные до зубов воины. И уже около самого поселка их обогнало три автомобиля, битком набитых солдатами.
Поселок… Впрочем, это был целый город. И как в любом промышленном городе, здесь была пролетарская часть и часть аристократическая. Последнюю составляли дома администрации, инженеров и торговых агентов, покупавших уголь. Пролетариат же жил в скверных домишках и даже мазанках. В противоположность большинству других предприятий, 1-ый Каменноугольный Трест предоставлял своим рабочим устраиваться, как они хотят и упорно отказывался строить за свой счет «казенные» рабочие дома-особнячки, как это практиковалось в очень многих больших предприятиях. Такие особнячки, в общем, довольно плохие и удручающе трафаретные, все-таки придают рабочим поселкам если не щеголеватость, то некоторую порядливость и хозяйственность. Здесь ничего этого не было: рабочий поселок состоял из убогих хижин, позоривших капиталистическую красоту U. S. А. и придававших селению необыкновенно удручающий и безнадежно-гиблый вид. Громадные кучи каменного угля, сваленные здесь и там на улицах, и липкая угольная грязь, очевидно, типичная для этих мест, также нельзя сказать, чтобы слишком украшали поселок и развлекали взор путешественника.
Джек снял начинавшую сильно беспокоить его Глориану и, уже не привлекая ничьих любопытных взоров своей блузой и каскеткой, пошел по улице, с любопытством присматриваясь и прислушиваясь ко всему. Взятый им под свое покровительство ящик с патронами был только что перед тем под его наблюдением внесен в сарай, отведенный для военных принадлежностей, и поставлен там в угол. На этот счет Джек уже не беспокоился…
В поселке было тихо и довольно пустынно. Джек ожидал встретить здесь войну: пальбу, пушки, пулеметы, раненых и убитых. Ничего этого не было. Солдаты, за исключением патрулей, изредка попадавшихся навстречу, прятались по сараям. Рабочие довольно часто попадались навстречу или стояли группами человека в три-четыре у ворот домов, но никаких вызывающих действий не проявляли. Это были бледные, истощенные люди. Джек вспомнил, что они почти никогда не видят солнца, работая под землей… Ему стало страшно при этой мысли.
Над поселком нависла тяжелая, свинцовая усталость. Видно было, что эти бледные люди, и не они одни, но и их бледные жены и жалкие ребятишки, устали не только бороться, но и жить. Они еле двигались, вяло разговаривали, сидели, почти не шевелясь, у ворот. Рабочие были удручены провалом забастовки. Она ничего не принесла для рабочих и только зря съела все их сбережения.
Смеркалось. Джек был голоден. Он зашел в открытую лавчонку, где еще торговали, очевидно, уповая на солдат, купил хлеба и ветчины и поел. Но тут же понял, что здесь нельзя спокойно есть — по крайней мере, спокойно для совести. Не успел он проглотить двух-трех кусков, как его окружили несчастные, изможденные дети и с завистливым удивлением смотрели на странного человека, который ест! Да еще ветчину!
Джека опять одолела филантропия. Он раздал ребятишкам всю свою еду. Потом пошел и купил новый запас и снова раздал. Затем проделал еще раз тоже самое. Он всякий раз пытался и сам поесть, но никак не удавалось. И он так и прекратил бесполезные попытки насытиться, забрав почти весь запас съестных припасов, какой был в лавочке, и рискуя привлечь на себя самого общее внимание…
О нем, по крайней мере, в детской среде, уже стали говорить.
Следовало подумать о ночлеге. Но погода стояла прекрасная, и Джек решил ночевать в сарае — хотя бы, например, с солдатами. Это было небесполезно в смысле разведки. Но спать было еще рано. Кто-то в темноте окликнул его: «Чарли! Это ты? Идем на митинг, в „Чрево китово“!..» Джек ответил: «Хорошо, иду, Джонни!..» Неизвестный, которого, по-видимому, действительно звали Джонни, нисколько не удивился реплике Джека и флегматически, усталой походкой продолжал свой путь. Джек пошел за ним и через несколько минут оказался во «Чреве».
Это было не что иное, как контора одного из рудников, забастовавшего, как и все другие. Довольно большое здание было связано с крытой ротондой, где находились спуски в рудник и подъемные машины. Машины были мертвы, летучки-платформы, на которых рабочие спускаются в шахты, были вытащены наружу и валялись на земле. Везде была черная липкая грязь, копоть, пыль…
Но если машины были мертвы, то собравшаяся здесь толпа все еще дышала жизнью. Это была последняя вспышка ненависти к эксплуататорам — последняя, потому что силы у всех были на исходе. У рабочих умирала уже и ненависть, задавленная голодом. Еще день — еще, быть может, несколько часов, и они опять станут безмолвными и безвольными рабами капитала. Но сегодня их подхлестнуло прибытие солдат и ожидавшаяся расправа со стороны «Каинов в золотых пуговках».
До самого последнего дня рабочие не верили, что администрация обратится к военной силе.
Толпа слушала оратора. Он убеждал не сдаваться и бороться до самой последней возможности. Это был, очевидно, человек, потерявший все в жизни. Он горел ненавистью и заражал ею. Джек почувствовал, что у него по коже пробегают искры… Искры падали прямо в сердце и зажигали и его. И не успел этот оратор кончить, как Джек крикнул, неожиданно для самого себя:
— Товарищи! Никаких уступок! Стачка продолжается!
Начался общий шум, и председатель митинга тщетно старался восстановить порядок. Кое-кто пытался протестовать против стачки… Джек слышал чьи-то слова:
— Нечего есть! Дети умирают! До каких пор терпеть? Что нам дал юнион? Что сделал для нас забастовочный комитет? Где деньги, где продукты?
— Мы подохнем и с забастовкой и без забастовки! Один конец!
— Нас завтра же всех перестреляют!
Джек опять возопил:
— Товарищи! Держитесь крепче! Деньги у вас будут! Продукты будут!
— Откуда их взять? Чего он там врет! Кто это там болтает?
Джек видел, что настроение падало, и ненависть, зажженная было оратором, ослабевала. Он пришел в азарт.
— Это я вам говорю! Деньги будут! Они уже есть!
— Да вы кто такой?
— Это провокатор! Не слушайте его!
Провокатор? Это было уже слишком! Джек не ожидал такого афронта. Он им покажет провокатора!
Деньги — остаток сокровищ Дайтон-Охайо — остаток еще чрезвычайно солидный, был у Джека под руками, за пазухой и в карманах. Он не доверял теперь чемоданам! Джек привык действовать по вдохновению. Мгновение — и он швырнул бы все эти деньги, суммы, которых он даже не знал в точности, несчастной, замученной голодом и отчаянием толпе. Но что-то остановило его от этого театрального жеста. Джек вытащил только одну пачку кредиток и показал ее:
— Вот!
Толпа загудела:
— В комитет! Передать деньги в комитет!
Джек обрадовался. Ему подсказывали самый разумный выход. Дисциплинированная толпа рабочих, привыкшая к определенной общественной закономерности, сама отказывалась от шального швыряния деньгами. Кругом него раздавались голоса:
— В кооперативе все равно ничего не дадут и за деньги! Там выдают только по жестянкам!
— Купим в другом месте!
— Не выпустят!
Правильное течение собрания было нарушено. Возбужденная толпа долго не могла ни на чем остановиться. Джека окружили, расспрашивали, откуда он. Джек сначала говорил, что он агент «Христианского общества помощи забастовщикам» в Иллинойсе (он тут же придумал это общество). Но когда кто-то из рабочих, уроженец Иллинойса, заметил, что ничего подобного там нет и не бывало, Джек тогда поправился: «Я хотел сказать, из Сан-Франциско! Я просто обмолвился!..» В конце концов Джек решил, что самое лучшее — не вдаваться ни в какие рассуждения, а просто действовать. Он разыскал забастовочный комитет, который заседал в соседнем помещении, вызвал главу комитета, товарища Дика Бертона, и заявил, что хочет передать ему деньги.
Дик Бертон с американской деловитостью, также не вдаваясь в лишние разговоры, принял пачки кредиток и банкнот и тут же пересчитал их.
— Сорок тысяч. Это хорошо! Спасибо, товарищ!
И сунул их за пазуху. Джек был разочарован. Он воображал, что денег у него больше. Он проклинал жуликов, ограбивших его вчера у Лиззи. Как пригодились бы теперь все тогдашние деньги. Но и это было неплохо. И эти деньги давали возможность рабочим просуществовать довольно много времени, выдерживая забастовку.
Дик Бертон поднялся на стол среди собрания и крикнул:
— Товарищи, ура! У нас есть деньги! Долой капитал! Долой эксплуататоров! Забастовка продолжается!
Поднялся страшный шум. Джек торжествовал. Он выкрикивал, что было сил, разные революционные лозунги, даже сам не зная, откуда они пришли к нему на ум.
Вдруг из толпы выделился какой-то невзрачный человечек в серой пиджачной паре и в котелке. Он спокойно подошел к Дику Бертону и промолвил:
— Я вас арестую именем закона! Передайте мне полученные вами деньги!
Это был шериф. Джек недоумевающе таращил глаза. Он никак не ожидал, чтобы произошло такое свинство! Какие мерзавцы эти шерифы!
Как из-под земли выросли полисмены и арестовали Дика. У несчастного и руки опустились. Началась общая паника. Рабочие стали разбегаться. Но это удалось не всем: у выходов стояли солдаты.
Джек крепко сжал Глориану… Он пылал негодованием!
— Я закрываю собрание! — визгливо прокричал шериф.
Джек вскочил на стол:
— А я снова открываю собрание! — заорал он во всю силу своих юных легких. — Товарищи! Много есть на свете всякой пакости, но всего омерзительнее разные полисмены и шерифы. Это такие негодяи…
— Я арестую вас! — завизжал шериф.
Полисмены кинулись к Джеку. Глориана была моментально нацеплена, и Джек исчез. Но не прошло и минуты, как на другом конце комнаты опять раздался задорный юношеский голос, и выросла на другом столе фигура Джека.
— Долой полицию! К черту шерифа!
Полисмены, уцепившиеся за стол, на котором только что стоял молодой человек, никак не могли с этим столом расстаться. А Джек громил правительство, поносил армию. Шериф уже не визжал, а хрипел.
Полисмены, наконец, поняли, что арестовать пустой стол нет никакого смысла и кинулись к живому Джеку. Джек разрешил себе удовольствие пустить в них стулом и исчез. Но не прошло и двух секунд, как Джек появился опять на первом столе и крикнул шерифу:
— Какой маленький человечек! Но какой скверный!
Полисмены крепко держали на другом конце конторы пустой стол. Шериф был близок к умопомешательству, а Джек громил правительство и поносил шерифа.
В контору входили солдаты. Джек надел Глориану, соскочил со стола и наградил шерифа хорошим подзатыльником, промолвив:
— Нью-Йоркский бокс тоже недурен!..
* * *
Шериф был с портфелем. Джек это отлично заметил. Конфискованные у Дика Бертона деньги он, очевидно, положил в этот портфель.
Дика куда-то увели. Туда же, несомненно, увели бы с величайшим удовольствием и Джека, если бы у него не было Глорианы. Но Джек был свободен, как птица небесная, и неотступно следовал по пятам за шерифом. И когда тот стал садиться в автомобиль, невидимый Джек оттолкнул его, выхватил портфель и побежал…
Раздались револьверные выстрелы, крики. Полисмены и солдаты побежали в разные стороны. Джек схватил комок грязи и швырнул в автомобиль, где сидел на мягких подушках его новый враг, шериф. Редко когда Джек испытывал большее удовлетворение, чем в ту минуту, когда влажный шлепок возвестил ему, что выстрел попал в цель.
Торжествующий, гордый, но, к сожалению, очень голодный, Джек забрался в сарай, где спали солдаты, и улегся на сене. Было темно, и он не мог убедиться, что заключалось в похищенном портфеле.
Его разбудили звуки сигнального солдатского рожка. Играли зорю. Джек вскочил на ноги и прежде всего исследовал портфель…
Денег не было! Были какие-то бумажонки, и Джек с негодованием их выкинул. Стоило после этого возиться с портфелем. Но куда же шериф девал деньги?.. Неужели они так-таки и пропали?
Немного обескураженный этой неудачей, Джек побрел по поселку. Утром, при солнечном свете, селение выглядело ничуть не веселее, чем накануне. Яркий свет лишь подчеркивал и беспощадно обнаруживал всю нищету этого злополучного места. Желая познакомиться с бытом и обстановкой жителей, Джек под разными предлогами заходил туда и сюда и почти везде встречал одну и ту же печальную картину: холодный очаг, скудная меблировка, худые, почти сплошь больные дети, раздраженная, плачущая хозяйка. Забастовка доконала всех.
— Вот, видите, едим картофельную шелуху! — сказала Джеку в одном доме жена рабочего.
— Ничего! — утешал ее Джек. — Держитесь крепче! Дело наладится!
Она рассердилась, обозвала Джека смутьяном, который только зря баламутит рабочих, и высказала предположение, не член ли он какой-то лиги, которая якобы и затеяла забастовку. И в конце концов стала так сильно ругать Джека, что тот пожал плечами и ушел. Что ж было делать с явно обезумевшей от отчаяния женщиной? А ведь большинство из них были именно в таком настроении и, конечно, влияли на мужей самым деморализующим образом.
— Негодяй! — мысленно (и даже вслух) ругал Джек шерифа, отнявшего у Дика деньги.
У Джека не было ни гроша. Он все отдал вчера Дику Бертону, и все пропало у шерифа. Джек ничем не мог помочь бедной женщине. Он и сам был голоден. Выходя из этого овеянного смертной тоской дома, он вдруг набрел на блестящую идею…
Аристократическая часть поселка была под рукой — всего в двух шагах. Джек направился туда и, нацепив Глориану, свободно вошел в квартиру главного инженера. Он прошел прямо в столовую. Был как раз час первого утреннего завтрака, и в столовой, за круглым столом, собралась инженерская семья. На отдельном столике рядом были аккуратно и аппетитно разложены тарелки и приборы, нарезанный хлеб в корзинке, кекс и фрукты и кипел чайник. Джек беззвучно и безмолвно взял тарелку, нож, вилку и, взяв солидный кусок поджаренной в масле ветчины и гренок, стал уплетать жирное мясо с волчьим аппетитом. Потом положил себе рыбы с майонезом, затем баранью котлетку. И в конце концов, не торопясь, налил себе чая.
Завтракавшие разговаривали о забастовке.
Сам глава семейства, инженер Чарльз Шваб, уверял, что забастовка сорвана, что рабочие не продержатся и двух дней, потому что вожаки получили приглашение от конкурирующей компании, и им нет теперь никакого смысла ввязываться дальше в эту историю и будоражить массу. Завтракавший гость, тоже инженер, возражал. Он уверял, что конкурирующая компания приложит все усилия к тому, чтобы поддержать забастовку и довести благодаря ей Первый трест до кризиса. По его словам, уже появились среди рабочих эмиссары от конкурентов с деньгами и продуктами, и что вчера ночью даже арестовали одного такого эмиссара. А это не походило на срыв и ликвидацию забастовки.
— Еще неизвестно, кто дольше продержится, мы или они! — меланхолически заключил он. — У нас колоссальные срочные платежи и мертвая петля неустоек…
Шваб поморщился, нервно намазывая масло на тартинку.
— Возможно, что вы правы! — пробормотал он. — Я давно говорил правлению, что необходимо во что бы то ни стало вовлечь конкурентов в наш трест. Какой смысл в трестировании, когда мы все-таки и при тресте имеем конкурентов?
— Но солдаты… — рискнул заметить еще один собеседник.
Инженер-хозяин пожал плечами.
— Американские солдаты очень любят играть в футбол, но укрощать рабочих — это далеко не самое любимое у них занятие! От укрощения и до братанья один шаг!
Из этих разговоров Джек вывел ясное заключение, что дела у треста стоят вовсе не так уж блестяще. Это ободрило его и внушило кое-какие надежды. Во всяком случае, теперь он был и курсе многого и мог действовать с большей уверенностью.
Он наелся досыта. Но не забыл и других. Он захватил гору яблочных оладий, несколько штук котлет, ломтей ростбифа, кусок холодной лососины и целый длинный хлеб, свалил все это вместе в салфетку и удалился восвояси.
Через несколько минут он снял Глориану и был у окна того домика, откуда его прогнала озлобленная несчастная женщина. Он постучался прямо в окно и, когда оно отворилось, сунул туда съестные припасы без всяких разговоров и поспешил уйти прочь.
Было уже около полудня. На одной из улиц Джек заметил толпу у дверей какой-то лавчонки. Толпа была настроена бурно, шумела, свистела. Поодаль похаживали полисмены, по-видимому, опасаясь принять решительные меры или выжидая момент.
Это был кооператив треста.
Но кооператив сегодня не торговал, хотя товара на полках было немало, и стояли бочки соленой рыбы и картофеля. Из объяснений товарищей Джек узнал, что рабочие большую часть заработной платы получают «жестяными деньгами» — металлическими бляхами, по которым кооператив отпускает им продукты. Но цены в кооперативе были взвинчены, продукты были плохие, и рабочие жаловались на это принудительное навязывание им плохого товара по высокой цене. Кооператив сам по себе производил довольно плохое впечатление грязью и беспорядочностью. Но всего хуже было то, что сейчас у рабочих даже жестяных денег не было, а в кооператив, как назло, привезли товар, и выставленные там продукты раздражали голодных рабочих. Они собрались сейчас толпой и требовали продуктов в долг до первой получки платы. Очевидно, они уже не верили в забастовку.
Заведующий отказывал. Так обстояло это дело, когда Джек зашел сюда.
У него явилась идея…
— А где эти жестянки? — спросил он.
На него посмотрели с недоумением.
— Как где? Понятное дело, у главного кассира. Там же, где и деньги.
— А где главный кассир?
— Что болтать вздор! Зачем вам это?
— Я возьму у него немножечко жестянок! — объяснил Джек.
На него взглянули с сожалением, как на тронувшегося, и отвернулись.
Но Джек не смутился. Он явился в главную контору, узнал, где находится главный кассир и прошел к нему с такой же уверенностью, как если бы он был главой Первого Каменноугольного Треста. Нет надобности добавлять, что уверенность эту порождала в нем ласково прильнувшая к его шее Глориана.
Главный кассир, человек очень аккуратный и влюбленный в бухгалтерию, просматривал платежные ведомости и подсчитывал жестянки в ожидании предстоящих увольнений забастовщиков. Достаточно было бросить в его святилище хотя бы косвенный взор, чтобы убедиться, что жестянок было больше, чем денег.
Здесь не знали ничего о «системе Кордильеров», и в кассовое отделение можно было пройти человеческим способом и без особых затруднений, в особенности невидимке…
Джек подошел к кассиру, с интересом наблюдал за его работой и, выждав момент, когда влюбленный в бухгалтерию человек погрузился в кассовые книги, загреб целый ворох жестянок. Да, кстати, прихватил и настоящих денег.
До кооператива было пять минут ходьбы. Джек, однако, не торопился. Он соображал, как ему поступить. Прямо раздавать всем сразу жестянки ему казалось неудобно.
Засунув руки в карманы, нахлобучив фуражку набок, он подошел, покачиваясь и мурлыкая песенку, к толпе, все еще стоявшей у кооператива.
Слегка покачнувшись, он толкнул плечом одного рабочего и небрежно промолвил сквозь зубы:
— Эй, Томми, послушай!
— Я такой же Томми, как ты Бобби! — недовольно проворчал рабочий. — Пьян ты, что ли?
— Я ошибся, — процедил Джек, — слушай, Вилли.
— Убирайся ты к черту! Шут этакий!
— Не сердись, Томми. Не хочешь ли жестяночку? Даром отдаю!
И Джек из-под полы показал бляху. У его собеседника засверкали глаза:
— Откуда у тебя? Давай! Разве выдают?
— Тише, старина! Пойдем за угол, я тебе все объясню! Ты где живешь?
За углом Джек перестал ломаться и просто и ясно сказал рабочему, чтобы тот передал товарищам, что в его квартире выдают жестянки и чтобы желающие шли туда потихоньку и не собирались кучей…
Томми жил поблизости. И через несколько минут в его домишке открылась контора по выдаче жестянок. Джек с важным видом заседал там и производил эту несложную операцию без всяких формальностей, пока не вышли все жестянки.
Рабочие не могли взять в толк, откуда эта благодать. Но голодный человек много не рассуждает, и вскоре картина у кооператива совершенно изменилась: вместо озлобленной и бунтующей толпы там стоял большой хвост покупателей. Заведующий кооперативом разводил руками, пожимал плечами, звонил куда-то в телефон. Но, по-видимому, пропажа жестянок еще не везде была известна и, так как скромные покупатели начинали терять терпение и поговаривали о линчевании заведующего, то ему не оставалось ничего делать, как выдавать по жестянкам товар.
— Вероятно, правление пошло на уступки! — решил заведующий.
И только когда был отпущен последний покупатель, в кооператив позвонили из конторы с требованием не выдавать по жестянкам ни зерна, ни крошки, потому что жестянки кем-то похищены…
Заведующий рвал на себе волосы…
* * *
Джек тоже попользовался кооперативом. С Глорианой на шее, он внимательно осмотрел весь товар, выбрал довольно большой ящик с каким-то товаром, взял его не без усилий под мышку и унес с собой.
Куда он его девал — читатели узнают несколько позднее. Зачем он понадобился Джеку? Ответим просто и ясно: для нужд забастовки. Этому ящику было суждено сыграть немаловажную роль в истории забастовки пенсильванских углекопов.
Совершив эту таинственную экспроприацию, Джек заглянул в солдатский сарай; там он тоже произвел кое-какие таинственные манипуляции и между прочим, улучив момент, побывал в складе, где находились воинские припасы.
Но что же происходило в это время в поселке?
А вот что:
Среди рабочих быстро разнеслась весть, что в кооперативе выдают «по жестянкам». И уже не прежняя толпа собралась у злополучной лавчонки, а громадная человеческая лавина. Рабочие не понимали: почему часть их товарищей получила продукты и жестянки, а им отказывают? Умы были страшно взбудоражены, а голод подхлестывал их.
Человеческая лавина росла, требовала, грозила, начинала кидать камнями. Было ясно, что с минуты на минуту может произойти разгром кооператива, могут начаться всевозможные насилия и эксцессы. В правлении и конторе заволновались. Задребезжали телефонные звонки, зафыркали по улицам мотоциклетки. В них, разумеется, немедленно полетели камни и палки.
Не прошло и получаса, как майор Адольфус В. Грэлли, начальник воинского отряда, получил предложение оцепить толпу, бушевавшую у кооператива и, если понадобится, приступить к боевым действиям…
Солдаты выступили в боевом порядке. Горнист играл сигналы, грохотал барабан. У Джека, который опять вертелся в толпе забастовщиков, пробежали приятные мурашки по спине: война!
А толпа еще больше разрослась. Всем было ясно, что начинается последняя и притом серьезная игра. Даже Джек понимал, что теперь уже не в одном кооперативе дело, и что от кооператива до главной конторы и до квартир начальства рукой подать… События росли, как снежный ком…
— Разойдись! — кричал майор Грэлли.
В ответ летели комья грязи и ругательства:
— Тринадцатидолларники! Каины! Палачи!
Джек кричал рабочим:
— Ни шагу назад! Держись! Будут деньги! Будут продукты! Потерпи!
Среди рабочих уже циркулировал слух, что конкурирующая компания ассигновала на забастовщиков средства. Этот слух поддерживал в забастовщиках бодрость.
— Разойдись! Буду стрелять!
В ответ грянул хохот:
— Стреляй!
Рабочие знали, что первые выстрелы будут холостые. Майор Грэлли счел нужным сделать предупреждение:
— Именем закона объявляю, что после третьего сигнала будет открыт боевой огонь! В третий раз приглашаю разойтись!
Увы, таким приглашениям всегда, во всех историях забастовок и восстаний, суждено оставаться мертвыми. Толпа свистела, кидала камнями с еще пущим азартом. Запел рожок.
На минуту все стихло. И затем вдруг словно рвануло что-то: грянул залп.
«Мятежники» встретили его аплодисментами и криками. Залп был холостой.
Майор Грэлли крикнул:
— Горнист, играй!
Запел второй раз рожок. На этот раз его пение уже не произвело никакого впечатления. Толпа напирала на кооператив, двери которого трещали и подавались. Майор Грэлли делал последние распоряжения. Еще минута — и должен был зазвучать последний роковой сигнал…
Но его не последовало…
Налитый кровью, взбешенный майор топал ногами на своего субалтерна:
— Где же обоймы? Почему они не готовы? Где ящик?
Субалтерн лепетал трясущимися губами:
— Ящик — ящик… Здесь, господин майор!
— Где же? Что же вы прячете? Вы заодно с забастовщиками? Я вас расстреляю!
— Но, господин майор… Этот ящик…
— Да что такое? Мямля!
— Этот ящик никуда не годный!..
Майор Грэлли приказал принести ящик. Ящик был открыт. В нем были…
Обоймы? Патроны? Плохие?..
Нет! Конфеты! Очень хорошие.
Джек заливался хохотом. Он один в стане рабочих понимал, что такое происходит во вражеском стане.
— Я им покажу конфетки! — бормотал он.
Это были конфеты из кооператива. Джек взял там непочатый ящик карамели и подменил им патронный ящик, а последний был не без труда брошен в реку.
Солдаты стояли, не предпринимая никаких действий. Майор Грэлли поручил командование лейтенанту, а сам поскакал на телеграф и в правление. Он требовал подкреплений и высылки боевых припасов.
Между тем, среди сражавшихся наступила благодетельная реакция. Ничто в мире не остается слишком долго в секрете. Ящик с конфетами трудно было уберечь от любопытных… И началось предвиденное инженером еще поутру братание: солдаты кидали конфеты в забастовщиков, последние отвечали шутками. Боевое настроение совершенно упало.
А в правлении решался вопрос: как быть с забастовщиками? Правлению было известно, что забастовщики получили многотысячные суммы из неизвестного источника (гм…) и что в некоторых домах уже задымились очаги и запахло едой. Кооператив был почти разгромлен, и не было смысла охранять его вооруженной силой. Все сильнее и сильнее говорилось о какой-то могущественной посторонней поддержке забастовщиков. Их поддерживала и ими руководила какая-то мощная рука, настолько уверенная в себе, что она даже позволяла себе насмешки и фарсовые издевательства по адресу Первого Треста и охранявшей его государственной военной силы…
Психический момент побеждал момент фактический. Психика правленцев была поколеблена. И скандальная история с конфетами окончательно подорвала их.
К вечеру правление треста просило майора Грэлли увести солдат и вызвало представителей рабочих для переговоров.
Кооператив был открыт, и рабочие получали в кредит все, что угодно.
Выпущенный на свободу Дик Бертон сидел в кабачке с Джеком и крепко хлопал его по плечу своей мускулистой, закаленной в труде рукой.
— Спасибо, товарищ! Выручил!
Джек чувствовал небывалую гордость. И вдруг что-то бесконечно милое и нежное расцвело в его сердце, как купальский цветок. Он вспомнил о Лиззи. И его потянуло к ней с несказанной силой…
Как она будет рада!..
VII
— Лиззи, Лиззи, хрупкий и нежный цветочек, что ты поделываешь? Распустилась ли ты краше прежнего, или увяла от тоски по Джеку?..
Джек теперь не может ни о чем другом думать. Он ясно представляет ту минуту, когда он войдет к ней и скажет: «Мы победили, Лиззи! Трест пошел на уступки: жестянки отменены, заработная плата увеличена, в субботу сбавлено 2 часа работы! И все это благодаря тебе, Лиззи, потому что ты направила меня к рабочим!»
Одно беспокоит Джека: послушалась ли она его? Переехала ли она в Вашингтон, как телеграфировал ей еще с дороги Джек? Возвращаться в Нью-Йорк Джек совершенно определенно не хотел: там его знали, и имя Джека Швинда было слишком скомпрометировано. Правда, можно переменить фамилию и даже достать себе новый матрикул, но все-таки Джек слишком высоко ценит всеведение и всемогущество нью-йоркских бобби, которые в этом отношении почти приближаются к самому господу богу…
Джек вернулся в Питсбург и в отель Сенлейт поздно вечером. Бой с радостью сообщил ему: «В майоры выбран Дженкинсон, сэр. Надеюсь, вы рады этому?» Джек промолвил в ответ усталым голосом: «Надеюсь, что он сердечно примет меня, а впрочем, пусть он провалится к черному дьяволу в преисподнюю!» Бой дико поглядел на Джека и исчез. И Джек в этот вечер уже не мог его дозваться.
Джек был расстроен. Он рассчитывал получить в отеле письмо или хотя бы телеграмму от Лиззи. Но от Лиззи не было ничего. Поленилась ли она, или почему либо не получила телеграмму от Джека? Или почему-либо сплоховало почтовое отделение, не доставив Джеку желанной весточки? Джек тщетно ломал себе голову, что бы это значило? И с тяжелым сердцем лег спать в роскошную и мягкую постель, уготовленную для знатных посетителей отеля Сенлейт — этого шикарнейшего отеля в Питсбурге.
Так как денег у Джека не было ни гроша и все его последние тысячи пропали за тощим шерифом, Джек решил опять прибегнуть в момент расплаты к Глориане. Он успокаивал себя тем, что у Лиззи остается еще порядочно денег и, по приезде к ней, он возьмет у нее сколько нужно и вышлет сюда по адресу отеля. Он решил раз навсегда прекратить мошеннические выходки. Таким же манером он расплатится со всеми вообще кредиторами.
На следующий день Джек проснулся с приятными воспоминаниями о победе углекопов и с тревогой о Лиззи: от нее все еще не было никакой весточки!
Джек не вытерпел и не пивши, не евши, спозаранку отправился на вокзал и уселся в вашингтонский поезд. На вокзале он послал еще одну телеграмму Лиззи, умоляя ее бросить все и скорее ехать в Вашингтон.
Эта телеграмма была отправлена на случайно найденные в боковом кармане несколько центов. Очевидно, это были уже самые последние деньги Джека. Но он не унывал. Эта находка даже подняла его настроение: Джек решил, что это хорошая примета и что в Вашингтоне, в отеле «Континенталь» он встретит Лиззи…
Дорогой, в вагоне, Джек познакомился со славным молодым человеком, который тоже ехал в Вашингтон. Молодой человек вызвался быть путеводителем Джека в этом городе, который он, по его словам, знал в совершенстве., Путешествие было веселое: Джек и его спутник болтали всякий вздор, спорили о приемах игры в бейсбол. В результате этого путешествия Джек узнал с десяток новых анекдотов, постиг новые тонкости бейсбола и выучил новую песенку: «Мы с Чарли Чаплин<ым> пара славных ребят, тра-ра-рам!»
Вашингтон произвел на Джека сильное впечатление. Широкие улицы, невысокие, красивые дома, элегантные экипажи и спокойная, а не сумасшедшая, как в Нью-Йорке, публика — все это говорило о совершенно ином характере и темпе здешней жизни. Джек чувствовал, что здесь главный тон дают политические и общественные деятели, а не бизнесмены, как в его родном городе, где на одного праведника, профессора Коллинса, приходилось, как в Содоме и Гоморре, сотня тысяч греховодников разного оттенка. В Вашингтоне, наоборот, жили, по-видимому, одни праведники: они чинно ходили по улицам, не устремляясь, сломя голову, под автобусы и не расшвыривая мимопроходящих в диком беге. Они часто останавливались на перекрестках и беседовали о Сербии и Австрии. Даже полисмены здесь имели добродушно-кроткий вид, словно ученые слоны. Джеку все это ужасно нравилось, и он решил, что всю свою жизнь проведет в Вашингтоне.
В «Континентале» Джека встретили важные, словно министры, стюарды. Вежливый и не пристающий с глупостями «бой» провел Джека в отличный номер с ванной. Все это было очень хорошо — лучше не надо. Но на сердце Джека опять легла тень от одного очень темного облака: от Лиззи и здесь не было ни строчки. А Джек был уверен, что застанет тут ее самое!
Тень еще более сгустилась. Джек вдруг подумал, что Лиззи ему изменила… Это было невероятно, но в то же время это было вполне допустимо… Женщины ветрены, а в особенности, если они получают большие деньги и начинают ими сорить… Милый образ внезапно затуманился и словно запылился в сердце Джека, как будто какой-то злой чародей обесцветил и исказил его.
Он уже злился на Лиззи и придумывал разные грубости, которые он скажет ей при встрече. С досады он даже вспомнил о Фата Моргане: недурно бы встретить ее здесь и, в виде реванша, поухаживать снова за ней…
С досады Джек решил пойти гулять по городу и позавтракать в ресторане. Он зашел за своим новым приятелем, и они оба направились, помахивая тросточками, по широкой авеню.
Пройдя несколько сот шагов, наши приятели увидели знаменитый «Белый дом» — жилище президента Соединенных Штатов. Сквозь деревья парка просвечивали скромные белые стены этого исторического здания. Джек преисполнился благоговением и прибавил шаг, чтобы поближе разглядеть его. А его спутник заметил:
— Сегодня у него приемный день.
— Вы уверены в этом? — спросил Джек.
Как всякий американец, Джек прекрасно знал, что у президента имеется особый приемный день в неделю, когда всякий гражданин, кто бы он ни был, может войти к нему и пожать ему руку. Это исконный традиционный обычай, и президенту волей-неволей приходится в течение нескольких часов улыбаться и пожимать руки совершенно неведомым ему людям.
Спутник Джека указал на длинный хвост людей у открытых ворот президентского дома:
— Видите? Они идут пожать ему руку. Почему бы и нам не присоединиться к ним?
Недолго думая, оба они встали в очередь. Джек никогда не видал в лицо нынешнего президента и, само собой разумеется, ни разу еще не бывал у него на приеме. Побывать у президента — разве это не лестно? А кстати, Джек сообщит ему известие о счастливом окончании пенсильванской забастовки. Президенту будет интересно выслушать рассказ об этом от очевидца и даже активного участника…
Очередь подвигалась вперед довольно быстро. Очевидно, президент не очень задерживал посетителей разговорами. Люди поодиночке продвигались через ворота и по небольшому двору к внутреннему подъезду мимо двух полисмэнов. Джек на минуту струхнул при виде последних: вдруг они узнают, что он тот самый Джек Швинд, который… У него даже мелькнула мысль, не нацепить ли Глориану, или — еще проще — не удрать ли? Но он вспомнил, что вашингтонские полисмены другой породы, нежели нью-йоркские, и решил спокойно пройти мимо них, как будто это не он ограбил банк и на чем свет стоит изругал правительство во время забастовочных волнений…
Стоявшая в хвосте публика читала газеты и горячо обсуждала какое-то событие. Джек газеты не имел и не понимал, о чем идет речь. Кто-то кого-то и где- то убил.
— Не думаете ли вы, что для Сербии это грозит войной? — спрашивал один бритый джентльмен другого.
— О, да! И не для одной только Сербии.
— Дипломатам теперь предстоит тяжелая работа.
— А также и пушечным заводам!
Война? Джек насторожил уши. Он не решался заговорить с неизвестными, а газетчика здесь поблизости не было.
— Но какое насилие! Убить ни в чем не повинную женщину!
— Она виновна в том, что была его женой…
— И убийца совсем еще мальчик?
— Да, да! Это ужасно!
Приятель Джека тоже не знал, в чем дело. Какую женщину убили? Какой мальчик убил ее? И почему это важно для Сербии? Джек к тому же совершенно неясно представлял себе, что такое Сербия и где она, и смешивал ее с Сирией. И вообще, он чувствовал, что ему ровно никакого дела до этой Сербии нет… Друг Джека, наоборот, заинтересовался историей этого убийства и уже обратился было к соседу за разъяснениями, но в этот момент они входили в вестибюль президентского дома, и все разговоры смолкли.
Из скромно отделанного вестибюля они прошли в большую залу, битком набитую людьми. Посередине было узкое пространство, оставленное для прохода публики. Кого только тут не было! Военные, промышленники, дипломаты, писатели, носильщики тяжестей в праздничном сюртуке, торговцы в высоких цилиндрах, члены конгресса, представители крупных предприятий, трубочисты, иностранцы… Всех их объединял общий скромный праздничный костюм, типичное сходство бритых лиц и сосредоточенное торжественное настроение. Все они потихоньку двигались вперед, а за ними наблюдали во все глаза какие-то проницательные субъекты, очевидно, агенты тайной полиции. И над всем и всюду царило глубокое молчание.
Наконец, Джек и его спутник вступили в маленькую проходную комнату. Здесь на небольшом возвышении стоял господин в простом сюртуке, с благообразным бритым лицом и с застывшей приятной улыбкой. Это был Вудро Вильсон, президент U. S. А.
Один за другим подходили к нему люди, обменивались с ним рукопожатием и быстро отходили в сторону. Все это происходило в совершенном молчании, словно и посетители и сам Вильсон были автоматы, лишенные дара человеческой речи…
— Как это глупо! — подумал Джек. — Они ничего не говорят…
И вот очередь дошла и до него…
Джека точно что-то подхватило. И он сказал против своей воли, совершенно неожиданно для самого себя:
— О, как вы поживаете?
Кругом зашелестел шепот изумления и, может быть, негодования. Лицо президента озарилось совсем другой улыбкой — сознательной и веселой.
И он произнес слегка удивленно:
— Благодарю вас! А как вы поживаете?
— Очень хорошо. Знаете, сэр, забастовка в Пенсильвании окончилась. Рабочие победили!
— Да что вы говорите?
— Ей-богу! Я сам там был!
Джека толкали со всех сторон. Тайные агенты сделались явными и, подхватив Джека под руки, осторожно увлекали его к выходу. Собрание было до такой степени шокировано, что в приеме произошло маленькое замешательство. На диво сложенная машина заработала с перебоями, словно в шестерню попала какая-то щепочка или гвоздик…
Джека пригласили отдохнуть в соседний салон. Он был красен, как вареный рак. Его приятеля и след простыл.
— Разве вы не знаете, что во время церемонии не полагается разговаривать с президентом? — спросил Джека какой-то строгий господин.
— Я не сказал ничего дурного, сэр! — смущенно возразил Джек.
— Кто вы такой?
Джек назвал себя. Он чувствовал, что теперь за ним будут следить. И, пожалуй, засадят в тюрьму. И осторожно ощупал Глориану. Глориана, к счастью, была на месте…
— Можете идти! — сказал после некоторой паузы строгий господин.
И Джек вышел из Белого Дома. И вынес с собой не совсем лестное представление об американской конституции и о лицемерии некоторых демократических обычаев, в которых так причудливо смешивается демократическое равенство, свобода, тайная полиция, идолопоклонство и просто глупость…
— Надо пойти в ресторан! — решил Джек.
Ему захотелось стряхнуть этот противный налет оскорбительной глупости. Приятель поджидал его за воротами президентского дома и размахивал руками от восторга. Его умиляло поведение Джека.
— Пойдемте пить шампанское! — предложил он. — Нужно отпраздновать вашу Пенсильванскую победу.
— У меня нет денег! — сознался Джек. — Меня обокрали в Пенсильвании.
— Пустяки!
У приятеля денег было более, чем достаточно, а у Джека, кроме того, была Глориана. Кутить — так кутить.
Они весело направились в ресторан «Континенталь». По дороге им встретился знакомый приятеля Джека — тоже молодой человек. У него в руках был довольно большой венок, слегка обернутый бумагой. На шляпе у него был траурный флер.
— Поль! — обрадовался ему приятель Джека. — Куда ты?
Поль, при своем трауре, имел довольно жизнерадостный вид.
— На похороны. У меня умерла тетка…
— Брось! Поедем в ресторан! Мы решили сегодня повеселиться после президентского приема!
Поль колебался:
— Я могу, пожалуй, провести с вами некоторое время. Еще рано. Но куда девать венок?
— Возьмем с собой. Ему, надеюсь, ничего не сделается.
Венок был лавровый и очень красивый. От него спускалась широкая фиолетовая лента с золотой надписью: «Спи спокойно, дорогая тетя!» Его положили в уголок в швейцарской. Молодые люди основательно закусили, выпили шампанского. Потом отправились играть на биллиарде. Поль совершенно забыл о тетке и вдруг спохватился:
— Боже мой! Уже три часа!
— Ну, так что же?
— Ее уже похоронили!
— Тем лучше! Оставайся с нами!
— Нет, я не могу. Я должен туда поехать. Может быть, я еще застану похороны! И возложу венок!
Джек спросил еще бутылку шампанского. Поля никто не удерживал… Что ж, если нужно хоронить тетю, — то ничего не поделаешь. Но Поль взглянул еще раз на часы, подумал, сообразил — и решил, что у него еще есть немножко времени. И игра на биллиарде продолжалась. Поль проигрывался и мечтал о реванше.
— Еще одну партию! — предложил он и вдруг встрепенулся, — Нет, нет! Я должен ехать на кладбище! Бедная тетя! Я так ее любил!
Ему стало неловко, но он быстро утешился за биллиардом и выиграл партию. Когда партия была окончена, часы пробили, по мнению Джека, пять, а по уверению Поля — семь. На кладбище ехать было уже поздно!
— Ничего! — утешал Поля друг Джека. — Ты ее похоронишь в другой раз!
Приятели решили поехать в мюзик-холл. Венок с надписью был захвачен с собой…
Это был нелепый, дурацкий, но на редкость веселый день в жизни Джека. Им вновь овладело мальчишеское, озорное настроение. Еще никогда он так не веселился! Он много пил, но почти не был пьян. Ему лишь все на свете казалось окрашенным в какой-то особый розовый оттенок веселости и беззаботности. Его приятель и в особенности меланхолический (после шампанского!) Поль забавляли его, и Джек подшучивал над ними.
В мюзик-холле им очень понравилась молоденькая певичка, немного походившая на Фата-Моргану. Она чудесно танцевала и премило пела народные песенки. Поль изо всех сил аплодировал ей.
— Послушайте, — обратился к Полю Джек. — Вам она нравится?
— О! Очень!
— На вашем месте я подарил бы ей что-нибудь!
Поль воодушевился:
— Я завтра съезжу в магазин и выберу ей… зонтик!
— Это не годится! Певицам подносят букеты, а еще лучше венок! И это надо сделать сейчас-же!
Поль задумался. Приятель Джека помирал со смеху.
— Слушайте, Поль! — убеждал Джек. — У вас есть венок! Не отпирайтесь! Все знают, что он у вас есть! Куда он вам теперь?
…И певичке был поднесен роскошный венок с фиолетовой лентой и золотой надписью: «Спи спокойно, дорогая тетя!..»
Никогда в жизни Джек так не веселился!
VIII
На другое утро Джек проснулся с легкой головной болью и с большой тревогой. Вчерашнее легкомысленное настроение слетело с него, словно пушок одуванчика.
Лиззи молчала! Лиззи не приезжала!
Сердясь на Лиззи, подозревая ее в неверности, Джек так тосковал по ней, что уже не мог оставаться более ни одного дня в Вашингтоне. Положение у него было неопределенное, денег не было, грабить банки не хотелось. Хотелось жениться на Лиззи и зажить честной и сознательной жизнью, предпринимая лишь серьезные затеи с Глорианой — на пользу людям…
Не простившись с приятелями и даже не давая им ничего о себе знать, Джек сел в поезд и покатил в Нью-Йорк. Он по-прежнему боялся полиции, но тоска по Лиззи была сильнее, чем этот страх.
В вагоне он развернул вчерашнюю газету. Он так и не удосужился прочесть ее вчера. И, пробежав несколько строк, он понял, о чем вчера рассуждали джентльмены, стоявшие в хвосте у Белого Дома…
На видном месте была напечатана крупным шрифтом телеграмма:
САРАЕВО (срочная).
«После торжественного приема в ратуше, когда эрцгерцог Франц-Фердинанд с супругой, герцогиней Гогенберг, проезжали по городу, произведено было второе покушение: гимназист 8-го класса, по фамилии Принцип, из Грахова, выстрелил из браунинга и тяжело ранил эрцгерцога в лицо, а герцогиню в живот. Оба раненые перенесены во дворец, где вскоре скончались. Убийца арестован».
Джек не имел никакого представления о том, кто был эрцгерцог Франц-Фердинанд. И эта телеграмма, гласившая о роковом событии, которому суждено было перевернуть все европейское равновесие и войти потом, так или иначе, в жизнь громадного большинства людей почти на всем земном шаре, — телеграмма эта вызвала у Джека единственный отклик — он подумал:
— Как жаль, что у него не было моей Глорианы. Тогда его бы не арестовали!.
И после этого он перестал думать об эрцгерцоге и о гимназисте, носившем странное имя — Принцип. Мировые события назревали, росли, разворачивались где-то в неведомой вышине и пространстве, но человеческий мозг даже у тех людей, которым было суждено принять потом деятельное участие в этих великих событиях, оставался вне сферы их движения и влияния и еще ничего не подозревал о них…
Джек был всего более занят думами о Лиззи.
Приехав в Нью-Йорк, он отправился в рабочий квартал. Приходилось начать поиски коварной Лиззи снова в этих трущобных местах.
Он едва нашел дом, где жила Лиззи: половина дома обвалилась, и внешний вид его совершенно изменился. На месте катастрофы копошились бледные, испуганные и измученные люди и опухшие пропойцы-трутни, искавшие и здесь добычи. У Джека захолонуло сердце, когда он увидел эту картину разрушения…
Прежнего входа не существовало, и надо было пробираться в уцелевшую половину здания с другой стороны. Джек двадцать раз падал и ушибался о камни и гнилые балки. Двадцать раз он терял дорогу в лабиринте развалин, он вспотел, выпачкался, измучился. Однажды у него выскользнула из кармана Глориана, и Джек прямо задрожал от ужаса при мысли, что аппарат мог здесь бесследно пропасть…
Его окликнул женский голос:
— Дорогой сэр! Это вы?
Джек порывисто обернулся. Пред ним стояла с ребенком на руках худая, бледная м-сс Хованская.
— Здравствуйте! — обрадовался Джек. — Помогите мне, пожалуйста, пробраться к Лиззи. Она здесь?
М-сс Хованская покачала головой:
— Вчера и сегодня я не видала Лиззи. Правда, она живет теперь в другом этаже, да и мне не было времени зайти к ней. К тому же она, кажется, собиралась совсем уехать отсюда…
Она пошла впереди Джека, осторожно пробираясь между руин к уцелевшей части дома.
— Зайдемте к ней вместе! — предложила она. — Мне, кстати, нужно ей кое-что передать.
Да, эта часть дома была цела. У Джека отлегло от сердца. Квартира Лиззи была здесь. Маленькая дверка ее комнаты скромно белела в темноте коридора. Джек, замирая от волнения, постучал:
— Лиззи, это я, Джек!
Ответа не было. За дверью было тихо. Джек еще раз постучал.
— Ее нет дома! Она выехала отсюда!
М-сс Хованская воскликнула:
— Но дверь не заперта!
Дверь в самом деле была открыта. Джек порывисто распахнул ее и вошел в комнату.
…На кровати, свернувшись в клубочек, лежала Лиззи с громадной кровавой раной на виске. Кровать, пол, стены — все было залито густыми потоками крови.
Джек зашатался и сел на пол, как подкошенный. За его спиной дико, не по-человечески, кричала бледная женщина и неистово плакал и бился ребенок.
…Маленькие, нежные бабочки-однодневки живут всего только несколько часов и умирают, когда наступает вечер. И от них остается лишь нежная серебристая пыль…
…Маленькие, нежные, больные девушки живут дни и годы, которые в общем счете вечности кажутся мгновениями. И когда они умирают, от них остается серебристое, милое воспоминание…
Лиззи совсем не была виновата в том, что это серебристое воспоминание о ней окрасилось багряным оттенком пролитой крови. Это не ее вина! Она была нежнее и чище снега и белее дневного света…
* * *
— Это — китаец!
— Нет, это тот долговязый из Техаса!
— Вы ошибаетесь! Это дело рук негра!
Джек сжал кулаки и с диким воплем побежал по коридору:
— Я убью его!
За ним бежали жильцы страшного дома, уговаривали его:
— Сэр, успокойтесь! Сэр, это ни к чему! Вся эта компания уже погибла. Они все убиты!
Джек остановился. К нему подошел высокий худой рабочий и положил ему руку на плечо:
— Они уже получили возмездие, товарищ! Их убило обвалом!
И прибавил:
— Не время теперь упрекать вас, товарищ, но вы сами виноваты! Не нужно было в таком месте, как здесь, сорить деньгами и раздавать их направо и налево…
— Зачем я не взял ее с собой в Питсбург! — стонал Джек.
Ему было душно, и он плохо сознавал, что ему делать.
Но самое главное, — хотелось остаться совсем одному, без людей, без сочувствующих или любопытных глаз, смотревших на него со всех сторон… Джек, шатаясь, побрел за угол, вытащил дрожащими руками Глориану и надел ее. Он куда-то побрел. Куда — сам он не замечал и не соображал. Ему хотелось выйти на свежий воздух, опомниться, одуматься…
Ему кричали:
— Сэр, не ходите туда! Туда нельзя! Там падают кирпичи.
Джек остановился. Его удивило, что ему кричат. Разве он видим? Он ощупал шею. Глорианы не было!
— Сэр, вы потеряли что-то! — кричал ему, подбегая, рабочий. — Это не ваш ли инструмент?
— Я выронил ее! — пронеслось в голове у Джека. — А ведь я ее надел… Что это значит?
Он держал Глориану в руке. Рабочий взял его за руку и повел.
— Здесь опасно, сэр!
Но не успели они сделать трех шагов, как раздался сильный грохот. Повалилась еще одна часть полуразрушенной стены. Рабочий отскочил в сторону и уцелел. А Джека задело тяжелым куском штукатурки. Его ударило по голове и руке. Он упал в беспамятстве.
Рабочий подошел к нему, пренебрегая опасностью. Словно во время землетрясения, падали кирпичи, вздымались тучи пыли, кричали и падали люди. И еще не скоро в этот забытый угол Нью-Йорка прибыли кареты скорой помощи и санитары с носилками…
Не дожидаясь их, рабочий поднял Джека и понес его через развалины на улицу. В сжатой руке Джека находилась Глориана. Рука разжалась, и она выпала из его рук. Рабочий нагнулся и поднял с земли другую часть вилки, оглядел ее и сунул в карман Джеку.
* * *
Джек очнулся в больнице. Он был забинтован, рука его была вытянута в неподвижной повязке. На груди словно лежал какой-то тяжелый камень. Придя в сознание, Джек понял, что никакого камня не было, а была тяжкая дума о Лиззи.
Эта дума не покидала его в течение всего времени, пока он лежал в больнице. Потом к ней присоединилась другая печальная дума: Глориана испортилась. Сестра милосердия хотела выкинуть ее вон. Джек заплакал, и она положила ее под подушку. Очевидно, это был каприз больного человека, — подумала добрая женщина…
Когда он стал поправляться, он попросил однажды почитать. Ему принесли ворох газет. Сестра милосердия решила, что свежие газеты могут взволновать Джека, и приказала подать ему старые. Но для Джека они были новостью.
И он прочитал в одной из них:
«Вчера покончил с собой знаменитый профессор Коллинс. Покойного за последнее время преследовали неудачи, он потерял состояние, был обокраден. Его нашли в лаборатории, в кресле. Он принял яд».
Джек потерял сознание. Доктор упрекал сестру за то, что она разрешила слабому больному читать газеты.
Когда Джек пришел в себя, больница показалась ему концом его существования. Что ждало его дальше? Горизонт замыкался пред ним. Ему казалось, что для него нет места на земле и что ему нечего здесь делать. Прошлое казалось ему сном, настоящее же — хуже, чем сном. Оно представлялось ему смертью.
Но постепенно, день за днем, он стал интересоваться жизнью. В мире совершались небывалые, великие и жестокие события. Из револьверного выстрела гимназиста Принципа родилась всемирная война. Казалось, что рождаются и умирают целые народы. Это был ряд великих катастроф, и пред ними бледнела катастрофа, вторгшаяся в жизнь Джека.
— Может быть, мне еще придется принять участие в этих событиях! — подумал Джек. — Может быть, я еще не совсем пропал и мою Глориану можно починить!
Да, любезные читатели. Это очень может быть!..
* * *
Роман «Глориана» публикуется по первоизданию: Никольсен Б. Глориана: Фантастический роман. Л.: Рабочее изд. — во «Прибой», 1924. В тексте исправлены очевидные опечатки и некоторые устаревшие обороты; орфография и пунктуация приближены к современным нормам. Заставка и концовка взяты из оригинального издания.

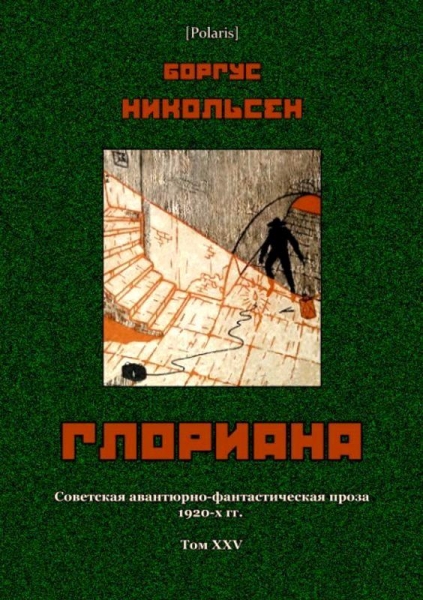


Комментарии к книге «Глориана», Боргус Никольсен
Всего 0 комментариев