Писателям, мыслителям,
УЧИТЕЛЯМ
БРАТЬЯМ СТРУГАЦКИМ
посвящается эта книга
Борис Стругацкий К вопросу о материализации миров
Должен сразу же признаться: сначала мне отнюдь не понравилась идея этой книги. Она противоречила всем моим представлениям о законченности литературного произведения. Если повесть закончена, она закончена совсем и навсегда. Ни убавить, ни прибавить. Ни переписать, ни тем более дописать. Как куриное яйцо. Нельзя «продолжить» или «развить» куриное яйцо, в лучшем случае его можно только повторить. Но какой смысл повторять даже самое великое из литературных произведений? Да, скажете вы, однако куриное яйцо можно, например, сварить или поджарить. Да, отвечу вам я, однако яичница или «яйко в шклянце» уже не есть собственно яйцо. Это уже, так сказать, другой жанр. Экранизация, скажем. Или инсценировка. Или балет по мотивам. Я сильно сомневался, что из затеи Андрея Черткова выйдет прок.
С другой стороны, прен-цен-денты имели место. Это тоже верно.
Я, разумеется, помнил «Ледяной сфинкс» — попытку одного знаменитого писателя продолжить роман другого (еще более?) знаменитого писателя. Эдгар По оборвал повествование своего героя — Артура Гордона Пима из Нантакета — буквально на полуслове. Жюль Верн соблазнился восстановить утраченное навсегда и написал роман замечательный, может быть, лучший у него, совсем не похожий на все его прочие романы, да и на «первоисточник» тоже.
Лазарь Лагин написал повесть «Майор Велл Эндъю», погрузив своего образцово омерзительного героя в мир, созданный за полвека до того Гербертом Джорджем Уэллсом. И если бы не прискорбно назойливая политическая ангажированность (тошнотворная мета тех тошнотворных времен), «Майор…» вполне мог бы претендовать на роль произведения выдающегося — и по выдумке своей, и по изяществу исполнения, и по точности стилизации.
А вот пример из литературы самой высокой: «Песни западных славян». Ибо вдохновленный тем странным и красочным миром, который столь искусно создал Мериме, Александр Сергеевич не просто и не только перевел его «La Guzia», но многие из песен основательно переработал, а некоторые и вовсе создал заново, вызвав их из небытия и обогатив ими мир, до него придуманный и столь его восхитивший.
Так что прен-цен-денты были. Никуда не денешься. И прецеденты, заметьте, самые что ни на есть соблазнительные. Первоначальная моя неприязнь к самой идее сборника поколебалась.
Далее за меня взялись энтузиасты. Всех я уже не помню, но самым настойчивым был, сами понимаете, Андрей Чертков, «отец-основатель». Он был вполне убедителен и сам по себе, но при том он натравил на меня еще и Антона Молчанова, и, кажется, Алана Кубатиева, и еще кого-то из тех, кто оказался у него под рукой.
И я сдался.
Теперь, когда этот сборник лежит передо мною, уже готовый и прочитанный, я нисколько не жалею о своей уступчивости. Эксперимент удался. Миры, выдуманные Стругацкими, получили продолжение, лишний раз этим доказав, между прочим, свое право на независимое от своих авторов существование. Я всегда подозревал, что тщательно продуманный и хорошо придуманный литературный мир, вырвавшись на свободу, обретает как бы самостоятельное существование — в сознании читателей своих. Он начинает жить по каким-то своим собственным законам, обрастая многочисленными новыми подробностями и деталями, которыми услужливо снабжает его читательское воображение. И остается только сожалеть, что не существует некоего суперментоскопа, с помощью которого можно было бы этот многократно обогащенный и усложнившийся мир сделать всеобщим достоянием. Что ж, этот вот сборник — пусть несовершенный, но все-таки прибор именно такого рода: он возвращает нам ставшие уже привычными миры, увиденные другими глазами и обогащенные иным воображением.
Я не стану утверждать, что прочел все предлагаемые произведения с равным удовольствием, но, безо всякого сомнения, я прочел их все с равным интересом. Мне было интересно. Я искал новые повороты сюжета и находил их с удовольствием. Я загадывал, «что там у него будет дальше», и с удовольствием убеждался, что не угадал. Я следил, как незнакомо разворачиваются передо мною знакомые миры, с ревнивым удовольствием родителя, на глазах которого любимое дитя обнаруживает вдруг, оказавшись в гуще жизни, совершенно необыкновенную ловкость и неожиданные повадки, доселе скрытые от родительского глаза. Я радовался ловкости и мастерству изобретательных авторов, я радовался за братьев Стругацких, которым удалось не только заполучить таких высококвалифицированных и благодарных читателей, но и вдобавок вдохновить их и поощрить к творчеству.
Вселенная наша такова, что даже самый тщательно и подробно придуманный мир не способен в ней материализоваться. Такое под силу разве только Демиургу, но уж никак не человеку. Но какие-то элементы материализации миров все-таки могут, по-видимому, иметь место. Например — этот вот сборник. Разве не есть он в определенном смысле материализация совершенно идеального мира, никогда не существовавшего и созданного человеческим воображением? И кто знает, не найдутся ли по этому поводу примеры гораздо более грандиозные?
В последнем романе братьев Стругацких, в значительной степени придуманном, но ни в какой степени не написанном; в романе, который даже имени-то собственного лишен (даже того, о чем в заявках раньше писали: «Название условное»); в романе, который никогда теперь не будет написан, потому что братьев Стругацких больше нет, а С. Витицкому в одиночку писать его не хочется, — так вот в этом романе авторов-разработчиков соблазняли главным образом две выдумки.
Во-первых, им нравился (казался оригинальным и нетривиальным) мир Островной Империи, построенный с безжалостной рациональностью Демиурга, отчаявшегося искоренить зло. В три круга, грубо говоря, укладывался этот мир. Внешний круг был клоакой, стоком, адом этого мира — все подонки общества стекались туда, вся пьянь, рвань, дрянь, все садисты и прирожденные убийцы, насильники, агрессивные хамы, извращенцы, зверье, нравственные уроды — гной, шлаки, фекалии социума. Тут было ИХ царствие, тут не знали наказаний, тут жили по законам силы, подлости и ненависти. Этим кругом Империя ощетинивалась против всей прочей ойкумены, держала оборону и наносила удары.
Средний круг населялся людьми обыкновенными, ни в чем не чрезмерными, такими, как мы с вами, — чуть похуже, чуть получше, еще не ангелами, но уже и не бесами.
А в центре царил Мир Справедливости. «Полдень, XXII век». Теплый, приветливый, безопасный мир духа, творчества и свободы, населенный исключительно людьми талантливыми, славными, дружелюбными, свято следующими всем заповедям самой высокой нравственности.
Каждый рожденный в Империи неизбежно оказывался в «своем» круге, общество деликатно (а если надо — и грубо) вытесняло его туда, где ему было место, — в соответствии с талантами его, темпераментом и нравственной потенцией. Это вытеснение происходило и автоматически, и с помощью соответствующего социального механизма (чего-то вроде полиции нравов). Это был мир, где торжествовал принцип «каждому — свое» в самом широком его толковании. Ад, Чистилище и Рай. Классика.
А во-вторых, авторам нравилась придуманная ими концовка. Там у них Максим Каммерер, пройдя сквозь все круги и добравшись до центра, ошарашенно наблюдает эту райскую жизнь, ничем не уступающую земной, и, общаясь с высокопоставленным и высоколобым аборигеном, и узнавая у него все детали устройства Империи, и пытаясь примирить непримиримое, осмыслить неосмысливаемое, состыковать нестыкуемое, слышит вдруг вежливый вопрос: «А что, у вас разве мир устроен иначе?» И он начинает говорить, объяснять, втолковывать: о высокой Теории Воспитания, об Учителях, о тщательной кропотливой работе над каждой дитячьей душой… Абориген слушает, улыбается, кивает, а потом замечает как бы вскользь: «Изящно. Очень красивая теория. Но, к сожалению, абсолютно не реализуемая на практике». И пока Максим смотрит на него, потеряв дар речи, абориген произносит фразу, ради которой братья Стругацкие до последнего хотели этот роман все-таки написать.
— Мир не может быть построен так, как вы мне сейчас рассказали, — говорит абориген. — Такой мир может быть только придуман. Боюсь, друг мой, вы живете в мире, который кто-то придумал — до вас и без вас, — а вы не догадываетесь об этом…
По замыслу авторов эта фраза должна была поставить последнюю точку в жизнеописании Максима Каммерера. Она должна была заключить весь цикл о Мире Полудня. Некий итог целого мировоззрения. Эпитафия ему. Или — приговор?
Я рассказал здесь эту историю потому, что она пришлась к слову: еще один пример к вопросу о материализации придуманных миров. Причем не только пример, но, если угодно, и — некий материал для игры воображения и для размышлений о том мире, в котором приходится существовать нам с вами.
Санкт-Петербург март 1996 г.Сергей Лукьяненко Временная Суета
Почему я это написал…
Если честно — то все мы начинали именно с этого. Продолжали, дописывали (в уме, или на бумаге) свои любимые книги, воскрешали погибших героев и окончательно разбирались со злом. Порой спорили с авторами — очень-очень тихо. А как же иначе — литература не футбол, на чужом поле не поиграешь.
Где-то в глубинах письменных столов, в компьютерных архивах, просто в уголке сознания, у каждого писателя, наверное, спят вещи, которые не будут изданы. Потому что писались они для себя, как дань уважения авторам, любимым с детства. Нет в этом большой беды для читателей — подражание не может стать лучше оригинала. И всем нам хочется быть не «последователями Стругацких» или «русскими Гаррисонами и Хайнлайнами», а самими собой. Но как здорово, что дана была эта возможность — пройти по НИИЧАВО, увидеть Золотой Шар, побывать в Арканаре! Андрей Чертков, придумавший и осуществивший эту идею, Борис Стругацкий, разрешивший воплотить ее в жизнь, подарили нам удивительное право — говорить за чужих героев. Хотя какие они чужие — Быков, Румата, Рэд Шухарт, Александр Привалов… Они давным-давно с нами, без них мы были бы совсем другими. И всегда хотелось встретиться с ними еще раз.
Я выбрал продолжение «Понедельника» даже не потому, что он наиболее любим, есть и другие книги братьев Стругацких, которые дороги мне ничуть не менее. Просто для меня это была наиболее сложная тема. Писать «продолжение» книги, наполненной духом шестидесятых годов, светом и смехом давно ушедших надежд. Рискнуть.
Но это — уже совсем другая история.
История первая. Колесо фортуны
И долго еще определено мне чудной властью идти об руку с моими странными героями…
Н. В. Гоголь1
…судя по всему, мое житье-бытье час от часа становилось все нестерпимее…
Г. Я. К. Гриммельсгаузен, «Симплициссимус»Было раннее утро конца ноября. Телефон зазвонил в тот самый момент, когда «Алдан» в очередной раз завис. В последнее время, после одушевления, работать с машиной стало совсем трудно. Я со вздохом щелкнул «волшебным рубильником» — выключателем питания, и подошел к телефону. «Алдан» за моей спиной недовольно загудел и выплюнул из считывающего устройства стопку перфокарт.
— Не хулигань, на всю ночь обесточу, — пригрозил я. И, прежде чем взять трубку, опасливо покосился на эбонитовую трубку телефона, где тянулся длинный ряд белых пластиковых кнопок. Слава богу, вторая справа была нажата, и это означало, что мой новенький телефон принимает звонки только от начальства — от А-Януса и У-Януса, да Саваофа Бааловича. Впрочем, зачем гадать?
— Привалов слушает, — поднимая трубку, сказал я. Очень хорошим голосом, серьезным, уверенным, и в то же время усталым. Сотрудника, отвечающего таким голосом, никак нельзя послать на подшефную овощную базу, или потребовать сдачи квартального отчета об экономии электроэнергии, перфокарт и писчей бумаги…
— Что ты бормочешь, Сашка! — заорали мне в ухо так сильно, что на мгновение я оглох. — …рнеев говорит. Слышишь?
— А… ага… — выдавил я, отставляя трубку на расстояние вытянутой руки. — Ты где? У Ж-жиана?
— В машинном зале! — еще сильнее гаркнул из трубки грубиян Корнеев. — Уши мой!
На мгновение мне показалось, что из трубки показались Витькины губы.
— Дуй ко мне! — продолжил разговор Корнеев.
В трубке часто забикало. Я с грустью посмотрел на «Алдан» — машина перезагрузилась, и сейчас тестировала системы. Работать хотелось неимоверно. Что это Корнеев делает в машинном? И как сумел дозвониться? Я скосил глаза на телефон, потом, по наитию, на провод. Телефон был выключен из розетки. Сам ведь его выключил утром, чтобы не мешали писать программу.
— Ну, Корнеев, ну, зараза… — с возмущением сказал я.
— Дуй в машинный…
Я с мстительным удовольствием подул в микрофон.
— Привалов! Как человека прошу! — ответила мне трубка.
— Иду-иду, — печально сказал я, и отошел к «Алдану». К Витькиным выходкам я привык давно, но почему он так упрямо считает свою работу важной, а мою — ерундой? На мониторе «Алдана» тем временем мелькали зеленые строчки:
Триггеры… норма.
Реле… норма.
Лампы электронные… норма.
Микросхема… норма.
Бессмертная душа… порядок!
Проверка печатающего устройства…
Печатающим устройством «Алдану» служила электрическая пишущая машинка, с виду обычная, но снабженная виртуальным набором литер. Благодаря этой маленькой модернизации она могла печатать на семидесяти девяти языках шестнадцатью цветами, а также рисовать графики и бланки требований на красящую ленту. Сейчас машинка тарахтела, отбивая на бумаге буквы — от «А» до непроизносимых согласных языка мыонг. В конце она выдала «Сашка, будь челове…», после чего замерла с приподнятой литерой «К». «Алдан» снова завис.
Обесточив машину, я вышел из лаборатории. Ну, Корнеев! Даже в «Алдан» залез! «Будь чело…» Я остановился, как громом пораженный. Если уж грубиян Корнеев просит помочь — значит, дело серьезное! Мысленно приказав кнопке вызова лифта нажаться, я бросился по коридору… Молоденького домового, уныло оттирающего паркет зубной щеткой, я не заметил до самого момента спотыкания. Отдраенный паркет метнулся мне навстречу, я отчаянно попытался левитировать, но в спешке перепутал направление полета. Когда я наконец-то пришел в себя, на лбу имелся прообраз будущей шишки, а заклинание левитации упрямо прижимало меня к полу, пытаясь доставить к центру Земли. Ошибись я с заклинанием на улице, так бы скорее всего и получилось. Но в институте, на мое счастье, и полы, и стены, и потолки были заговорены опытными магами, и моим дилетантским попыткам не поддавались. Я перекрестился, что отменяло действие заклинания, сел на корточки и потер лоб. Домовой, забившийся поначалу в угол, осмелел и подошел поближе. Длинные, не по росту, хлопчатобумажные штаны унылого буро-зеленого цвета волочились за ним по полу. Широкий ремень из кожзаменителя съехал вниз. Латунные пуговицы были нечищены, одна болталась на ниточке.
— Жив? — шмыгая носом и утираясь рукавом, спросил домовой.
— Жив, — машинально ответил я, не обращая внимания на панибратский тон домового. А тот добродушно улыбнулся и добавил:
— Дубль…
— Какой дубль? — уже опомнившись, спросил я. Происходящее становилось интересным. Домовые слыли существами робкими, забитыми, в разговоры вступали неохотно. Только самые старые и смелые из них, вроде тех, что прислуживали Кристобалю Хозевичу, были способны иногда на осмысленную, но крайне уклончивую беседу.
Домовой внимательно осмотрел меня и сказал:
— Удачный. Очень удачный дубль. Привалов-то наш научился, все-таки…
Я ошалел. Домовой принял меня за моего собственного дубля! Позор! Неужели я становлюсь похожим на дублеподобных сотрудников?
— Ты так по коридорам не носись, — поучал меня тем временем домовой. — Привалов… он того, неопытный. Сквозь стены видит плохо, можно при нем побежать, чтобы он убедился — стараешься, и обратно когда идешь ходу ускорить… Тихо!
Мимо нас прошел бакалавр черной магии Магнус Федорович Редькин. Был он в потертых на коленках джинсах-невидимках, в настоящий момент включенных на половинную мощность. Магнус Федорович от этого выглядел туманным и полупрозрачным, как человек-невидимка, попавший под дождь. На нас с домовым он даже не посмотрел. Тоже принял меня за дубля? Почему? И лишь когда Редькин скрылся в дверях лифта — мной, между прочим, вызванного, я понял. Ни один сотрудник института не споткнется о зазевавшегося домового. На это способен лишь дубль… В душе у меня слегка просветлело. Для полной гарантии я поковырял пальцем в ухе, но следов шерсти не обнаружил. Надо было вставать и бежать к Корнееву.
— Все путем, — неожиданно сказал домовой. — Он не заметил, что мы разговаривали. Ладно, ты беги, а то и Привалов забеспокоится. Если что, заходи в пятую казарму, спроси Кешу. Знаешь, где казармы? За кабинетом Камноедова. Бывай…
Домовой сунул мне теплую волосатую ладонь и исчез в щели между паркетинами. А я, глядя под ноги, побрел к лифту. На этот раз на кнопку пришлось давить минут пять, прежде чем лифт соизволил остановиться. Я юркнул в двери и с облегчением отправил лифт вниз. Третий этаж лифт проскочил без заминки. А между вторым и первым застрял. И зачем я поехал на нем, есть же нормальная черная лестница… Со вздохом оглядевшись — если кто-то рядом и был, то очень хорошо замаскированный, я нарушил второе правило пользование лифтом и вышел сквозь стену. На первом этаже было хорошо. Пронзительно пахло зелеными яблоками и хвойными лесами, что, почему-то, вызывало в памяти популярные болгарские шампуни. Мимо пробежала хорошенькая девушка, мимоходом улыбнувшаяся мне. Она улыбалась всем, даже кадаврам. Это было ее специальностью — она, как и все хорошенькие девушки института, работала в отделе Линейного Счастья. Здороваясь по пути со славными ребятами из подотдела конденсации веселого беззлобного смеха, я пробирался к машинному залу. Путь был нелегким. Начать с того, что отдел Линейного Счастья занимал абсолютно весь первый этаж. Места для машинного зала на нем попросту не оставалось. Но, если вначале спуститься в подвал, а потом уже подняться на первый этаж, то можно было попасть в машинный зал, обеспечивающий весь институт энергией. Как это получалось — было тайной, такой же непостижимой для меня, как огромные размеры НИИЧАВО, маленького и неприметного снаружи. Сегодня мне почему-то не везло. Я трижды споткнулся, но, наученный горьким опытом, не упал. Выдержал долгую беседу с Эдиком Амперяном, которому позарез хотелось поделиться с кем-нибудь своей удачей — он добился, с помощью Говоруна, потрясающих результатов в деле сублимации универсального гореутолителя. Какую роль сыграл Клоп Говорун в этом процессе, я так и не понял — уж очень специфические термины использовал Эдик. Но от его удачи мне стало полегче, словно я и сам надышался парами гореутолителя. Пообещав Амперяну провести для него расчет эффективности вне очереди, я сбросил его на проходящего мимо дубля Ойры-Ойры со строгим приказом: отвести Эдика домой и уложить в постель, после чего, уже без приключений, добрался до машинного зала. У дверей стоял Корнеев. Вид у него был невозмутимый.
— Витька, что случилось? — с облегчением поинтересовался я. — Зачем такая спешка?
— Привалов, пройди, пожалуйста, внутрь, — бесцветно сказал Витька.
И я понял, что никакой это не Корнеев, это его дубль, запрограммированный лишь на одно — пропустить внутрь меня и преграждать дорогу всем остальным. Мне стало страшно. Я отпихнул дубля, неуклюже взмахнувшего руками, распахнул тяжелую дверь и влетел в машинный зал. Витька сидел на Колесе Фортуны, том самом, чье вращение давало институту электроэнергию. При моем появлении он взглянул на часы и сообщил:
— Когда решу помирать, тебя за смертью пошлю. Девять минут шел, м-ма-гистр.
К Витькиным издевательствам я привык. Проигнорировав «м-магистра» — Корнеев прекрасно знал, что я до сих пор хожу в «учениках чародея», я осмотрелся. Машинный зал производил странное впечатление. Вначале, из-за темноты, я заметил лишь Витьку, который светился бледным зеленым светом — с опытными чародеями такое случалось при сильном магическом переутомлении, теперь же передо мной открылась вся картина. Между огромными трансформаторами застыли странные темно-серые статуи, изображающие бесов. Через мгновение я сообразил, что это и есть бесы — из обслуживающего персонала. Кто-то, и я был на сто один процент уверен, что это Витька, наложил на них заклятие окаменелости. А вдоль Колеса Фортуны, походившего на блестящую ленту, выходящую из одной стены и входящую в другую, застыли Витькины дубли — неподвижные и почти неразличимые. Была в дублях одна странность — каждый последующий был немного ниже предыдущего. Те, которых я еще мог разглядеть, выглядели просто пятнышками на цементном полу, но у меня появилось страшное подозрение, что они вовсе не являются крайними в этой дикой последовательности.
— Когда я позвонил, тебе везло? — внезапно поинтересовался Корнеев.
— Что? Ну… У меня «Алдан» завис.
— А после?
— Что после?
— После звонка тебе везло или нет, дубина? — печально и тихо спросил Корнеев.
— Нет. Я упал, потом лифт…
Я замолчал. Я все понял. Лишь теперь, наблюдая за Витькой, я осознал, что он сидит на Колесе, но остается неподвижным. Колесо Фортуны остановилось!
— Это я, — с напускной гордостью сказал Витька.
— Да? — с внезапной дрожью в голосе поинтересовался я.
— Я его остановил, — зачем-то уточнил Корнеев.
— Как?
— Дублей видишь? Я сделал дубля и дал ему приказ — крепко держать Колесо Фортуны и производить следующего дубля, уменьшенного в размерах и с той же базовой функцией.
Схватившись за голову я простонал:
— Научил я тебя, Корнеев. Базовая функция… Ты, может, еще на бумаге эту программу составил?
— Ага, — подтвердил Витька. И с людоедской радостью добавил: — А вчера у тебя на «Алдане» проверял. Могучая машина.
— И что вышло?
— Что число дублей будет бесконечным, а сила торможения ими Колеса — бесконечно большой. Вот… Так и вышло. Остановили они Колесо Фортуны.
…Вскоре мне стала ясна вся картина происходящего. Витьке, для его грандиозной идеи превращения всей воды на Земле в живую, не хватало самой малости — устойчивости процесса. Придуманная им цепная реакция перехода обычной воды в живую останавливалась от шума проезжающей машины, чиха Кащея или выпадания града в соседней области. И тут-то Витьку осенило. Если остановить Колесо Фортуны в тот момент, когда процесс перехода воды идет хорошо, то удача останется на его стороне! Вся вода в мире станет живой, для исцеления ран надо будет лишь облиться из ведра или залезть под душ, чтобы вылечить ангину — прополоскать рот. Врачи станут ненужными, войны потеряют смысл… И Витька придумал гениальную идею с бесконечным количеством дублей, что будут с бесконечной силой тормозить Колесо.
План его удался лишь частично. За те секунды, пока Колесо Фортуны останавливалось, лаборантка в отделе Универсальных Превращений уронила умклайдет на диван, инвентарный номер 1123. Результаты были катастрофические. Вода стала превращаться не в живую, и даже не в мертвую, а в дистиллированную. Ничего страшного в этом не было, во всяком случае, пока процесс не дошел до морей и океанов. Но шел он теперь безостановочно, ибо Колесо Фортуны стояло. В этот самый миг жизнь людей радикально изменилась. У меня, так же как у Корнеева и еще примерно половины человечества, началась нескончаемая полоса невезения. У Эдика Амперяна и прочих счастливчиков началась бесконечная полоса удач. Бесконечная!
Я даже зажмурился от осознания этого факта. Я представил, как Амперян поит меня своим гореутолителем… и он действует, я становлюсь счастливым, хоть мне и не везет. У меня ломается «Алдан» — а я доволен. У Витьки не получается простейшего превращения — он тоже счастлив. Потому что Эдик изобрел… Да что я привязался к Эдику! Человечество отныне разделилось на две категории — везунчиков и неудачников. Представив, как меня сочувственно хлопают по плечу «везунчики», я не выдержал и заорал:
— Корнеев, запускай Колесо обратно! Немедленно!
— Не могу, — хмуро сказал Корнеев. — Что я, дурак, что ли? Сам знаю, надо запускать, пока магистры не узнали. Позора не оберешься…
Последнюю фразу он произнес с мечтательным выражением, словно смакуя предстоящий позор.
— Почему не можешь? — я поправил очки и растерянно оглядел бесконечный ряд дублей. — Прикажи им, пусть толкают Колесо, со своей бесконечной силой… черт бы ее побрал!
Одно из стоящих вблизи изваяний слегка шевельнулось. Витька вперил в него грозный взгляд, и черт окаменел вторично.
— Глаз нет, да? Совсем слепой? — с акцентом Амперяна, но собственной грубостью поинтересовался Корнеев. — Лопнул обод у колеса, видишь?
Я подошел к Колесу и убедился, что двухметровой ширины лента действительно разделена тонкой щелью. Концы разрыва подрагивали, словно кончики стальной пружины.
— А зарастить нельзя? — шепотом поинтересовался я. — Ты же… это… умеешь. Помнишь, червонец мне склеил?
Витька грустно кивнул. И докончил свой печальный рассказ. Оказывается, когда Колесо Фортуны остановилось, оно тут же лопнуло. Концы обода стали дергаться, носиться по залу, разбрасывая дублей и перекручиваясь во все стороны. Когда, наконец, ошалевшие от неожиданности дубли и перепуганный, а от этого грубый более, чем обычно, Корнеев поймали их, установить, где левая, а где правая сторона, где верх, а где низ ленты уже не представлялось возможным. Корнеев кое-как совместил концы порванного обода, но уверенности в своей правоте не имел.
— Что если я его лентой Мебиуса соединил? — хмуро сказал он. — Что будет?
Я пожал плечами. Корнеев, слегка подпрыгивая на ободе, и светясь все более энергично, стал рассуждать:
— Может так получиться, что любая наша удача превратится в неудачу. И наоборот. Или же, удачи и неудачи сольются воедино…
Увлекшись, он перегнулся назад, и, кувыркнувшись через обод Колеса, полетел вниз.
— Знаешь, Витька, — садясь для безопасности на пол, сказал я, — лучше уж соединение удач и неудач, чем сплошная невезуха.
— Невезуха, — потирая затылок, горько сказал Корнеев. — Надо это прекращать…
— Я-то зачем тебе понадобился? Рассчитать, правильно ли соединен обод? Это я и без «Алдана» скажу. Пятьдесят на пятьдесят.
— Понимаю, — неожиданно мягко признался Корнеев. — Но не могу же я сейчас сам решать, правильно ли Колесо соединено! Я же теперь невезучий, обязательно ошибусь!
— А я везучий? Мой совет тебе не поможет!
— Понял уже…
Мы немного помолчали, разглядывая неподвижное Колесо Фортуны. Господи, ну и дела! Что сейчас с людьми происходит! Есть, конечно, и счастливчики…
— Витька! — прозревая завопил я. — Нужно спросить у человека, которому везет! Он не ошибется!
— А кому везет? — тупо спросил Корнеев. Временами он был самим собой.
— Амперяну. Точно знаю, он универсальный гореутолитель сублимировал.
— Сейчас спросим, — оживившись сказал Корнеев, доставая из воздуха телефонную трубку. Послышались долгие гудки.
— Амперян сейчас дома, я его спать отправил, — торопливо подсказал я. Витька отмахнулся — неважно.
Трубку наконец-то взяли.
— Эдик! — громовым голосом заорал Корнеев. — Извини, что разбудил, это Сашка, дубина, настоял. Скажи только одно, и можешь вешать трубку: правильно соединили?
— Нет, — буркнул Амперян чужим со сна голосом, и повесил трубку. Витька небрежным жестом растворил в воздухе свою и радостно улыбнулся.
— Видишь, Привалов, получилось! Бывают и у тебя озарения!
Он небрежно схватился за один край порванного обода и без всяких видимых усилий перевернул его на сто восемьдесят градусов. Интересно, а в ту ли сторону повернул?
— Корнеев… — неуверенно начал я. Но Витька не реагировал. Он был сторонником разделения умственного и физического труда, так что в процессе работы думал мало, а на внешние раздражители не реагировал. Двумя уверенными пассами, без всяких дилетантских заклинаний, даже не заглядывая в «Карманный астрологический ежегодник АН», Корнеев восстановил целостность Колеса Фортуны. Потом окинул взглядом бесконечную, а точнее — двусторонне бесконечную череду дублей, и громко скомандовал:
— Нава-лись!
Как ни странно, дубли такую странную команду поняли. И даже толкнули в одну и ту же сторону. Колесо заскрипело и начало вращаться. Правда, пожалуй, быстрее чем раньше. Я достал из кармана сигареты, закурил… Выронил сигарету, но возле самого пола поймал ее. Снова сунул в рот, но горящим концом. Вовремя это понял, и перевернул фильтром к губам. Сигарета уже успела потухнуть.
— Корнеев, — умоляюще прошептал я, — притормози его! Слишком быстро вращается, удача за неудачей…
Сигарета зажглась сама по себе. Я бросил ее на пол и затоптал — а то еще взорвется… Витька с дублями навалились на колесо, и то начало притормаживать.
— Глянь по пульту, Привалов! — велел Корнеев. — Там есть тахометр, стрелка должна быть на зеленом секторе.
Я подошел к пульту. С некоторым трудом нашел тахометр, явно переделанный из зиловского спидометра. Поглядел на стрелку, подползающую у зеленой черте, и скомандовал Корнееву остановку. Колесо вращалось, тихо гудя. Корнеев утер со лба пот, потом кивнул дублям, и те дематериализовались.
— Нормально, Сашка? — поинтересовался Корнеев.
Я подозрительно огляделся. Закрыл глаза и подпрыгнул на одной ножке. Не упал.
— Нормально, — с облегчением сказал я. — Что, пойду я работать?
— Валяй-валяй! — жизнерадостно заорал Витька. — Мне еще чертей расколдовывать, да память им заговаривать, меньше будешь под ногами мешаться…
Вздохнув, я вышел из машинного, на прощание мстительно бросив Корнееву:
— Вот будет удивительно, если никто из магистров не узнает о твоих художествах…
Оставив Витьку размышлять над этим оптимистическим заявлением, я пошел к себе, в электронный зал. Фортуна явно повернулась ко мне, я не спотыкался, не налетал на встречных, вежливо поздоровался с Кивриным, одолжил считавшему посреди коридора Амперяну свою логарифмическую линейку, вызвал лифт…
И побежал обратно. Амперян, виртуозно пользуясь линейкой, что-то подсчитывал, записывая в блокнот.
— Давно из дома, Эдик? — вкрадчиво поинтересовался я.
— С утра, — не поднимая глаз от формул, в которых я опознал уравнение Сташефа-Кампа, ответил Эдик.
— Ты же с Ойра-Ойрой… тьфу, с дублем его, домой пошел!
— Ну… — Эдик поднял на меня задумчивый взгляд и объяснил: — Пошел. А потом думаю, чего я на кровати буду валяться, радостный и довольный, когда тут самая работа начинается? Выпил антигореутолитель, и стал экономическую целесообразность процесса подсчитывать.
— Целесообразно? — не зная, как подступиться к главному, спросил я.
— Не знаю, — хмуро признался Эдик. Удача, похоже, его покинула.
— Корнеев тебе звонил? — напрямик спросил я.
Эдик обвел взглядом выкрашенный зеленой масляной краской коридор, мутные плафоны на потолке, и резонно спросил:
— Куда звонил?
— Десять минут назад! Сам слышал! — отчаянно сообщил я.
— Он спросил, правильно ли соединили, а ты сказал, что нет.
— Как он спросил?
Я напряг память.
— Ну… Примерно так: «Эдик, скажи, правильно соединили?»
— И тот, кто взял трубку, ответил, что «нет», — закончил Эдик. — Что соединились вы неправильно…
Он снова нырнул в свои вычисления, а я, совершенно запутавшись, пошел дальше. Итак, отвечал не Амперян.
Но совет оказался правильным, значит, отвечавший тоже был «удачливым»? Или же неправильным, просто мы еще не заметили последствий своей ошибки? А как заметишь, неизвестно, какими они могут быть! У дверей электронного зала смирно сидел дубль Володи Почкина. Больше пока никого не было.
— Скажешь Володе, пусть сам придет, — грубо сказал я дублю. Корнеев всегда на меня так влияет. — Он мне пятерку уже неделю должен.
Дубль поднял на меня потрясенный взгляд и прошептал:
— Я не дубль. Я Володя. Могу пропуск показать, с фотографией и печатью. А пятерку я после обеда занесу…
Было видно, что здоровяк Почкин пребывает в состоянии, близком к шоковому. Я схватился за голову. Потом схватил Володю за плечи, затащил в зал, и стал отпаивать чаем с бутербродами — настоящими, из буфета, а не сотворенными магическим образом. Попутно я пообещал ему рассчитать за сегодня все задачи, которые он принес еще неделю назад, а вечером взяться за написание программы для новых. Володя медленно приходил в себя. Видимо, еще никто и никогда не принимал его за дубля, так что с непривычки он был расстроен.
— Заметку в стенгазету напишешь? — неожиданно спросил он. Видимо, отошел.
— Напишу-напишу! — радостно сказал я. — Про Брута?
— А что он натворил?
— Не знаю. Но как-то принято…
— Нет. Надо про новые плакаты в столовой.
— Какие плакаты?
Глаза у Почкина загорелись.
— Ты еще не видел? Посмотри, — вкрадчиво посоветовал он. — Пойдешь обедать, и посмотри.
Я пообещал сходить в столовую и посмотреть. Потом пожаловался Володе, какой был ужасный день: вначале меня приняли за дубля, потом я Витькиного дубля принял за Витьку, а под конец Володю за дубля… Язык чесался рассказать про Корнеева и Колесо Фортуны, но я подавил искушение.
Почкин в ответ ободрил меня рассказом о том, как наши институтские ребята поодиночке сматывались с затеянного месткомом празднования трехсотлетия изобретения волшебной палочки, оставляя вместо себя дублей. Под конец в огромном зале, где проходило торжество, не осталось ни одного человека: только сотня небрежно запрограммированных дублей. Когда, наконец, ушедшие работать магистры и ученики сообразили, что произошло, то дубли оставались без присмотра уже больше трех часов. К ним отправился Федор Симеонович.
Вышел он через полчаса, предварительно дематериализовав всех дублей. На лице его блуждала странная улыбка, но о своих наблюдениях он никому никогда не рассказывал, а делу Линейного Счастья начал посвящать еще больше времени, чем раньше. История мне правдивой не показалась: во-первых, что такого могли натворить дубли, даже плохо сделанные, а во-вторых, работать больше, чем обычно, Федор Симеонович уже никак не мог. Выпроводив Почкина, я наконец-то вернулся к «Алдану». Опасливо включил питание и стал смотреть, как машина тестирует себя. Бойко протараторила по бумаге виртуальными литерами пишущая машинка, и «Алдан» ласково заморгал зелеными огоньками. Усевшись перед перфоратором, я взял стопку чистых перфокарт, составленную девочками программу и облегченно вздохнул. Кончились неприятности с Колесом Фортуны и дублями. Жизнь возвращалась в свою колею. Ошибался я в этот момент здорово, как никогда. Но о том, что я ошибаюсь, не знал никто. Даже У-Янус. Так уж получилось.
2
Товарищ! Мы вместе решили с тобой: Покушав, посуду убрать за собой.
Автор неизвестен.Где-то около двух я с сожалением оторвался от присмиревшего «Алдана», встал, потянулся и направился в столовую. По пути заглянул к Витьке, потом к Роману, но ни того, ни другого не нашел. Взяв стакан кефира и тарелку жареной печенки с вермишелью, я направился к своему любимому столику. Знаменит он был тем, что над ним висел огромный плакат с бодрой надписью: «Смелее, друзья! Громче щелкайте зубами! Г. Флобер.» Время от времени плакат подновляли, и при этом текст чуть-чуть менялся — поклонник Флобера каждый раз пользовался новыми переводами. Усевшись под словом «щелкайте» я, прежде чем воспользоваться советом и начать щелкать, глотнул кефира — тот оказался вчерашним, если не хуже. Потом, вспомнив слова Почкина, зашарил глазами по стенам. Первый из плакатов я увидел на стене напротив. Он гласил:
«Пальцем в солонку? Стой! Что ты себе позволяешь?! Мало ли где еще Ты им ковыряешь!»Поперхнувшись кефиром, я протер очки. Плакат не изменился. Нормальный, аккуратно нарисованный плакат. Под ним сидели нормальные, аккуратные девочки из отдела Универсальных Превращений. Девочки ели борщ, обильно посыпая его солью, и ничуть не смущаясь необходимостью окунать пальцы в солонку.
Мною овладел исследовательский зуд. Низко пригнувшись над тарелкой, рассеянно нанизывая на алюминиевую вилку куски лука, печенки и вермишелины, я смотрел по сторонам.
Над кассовым аппаратом я обнаружил чудесный, прекрасно зарифмованный плакат на вечную тему: люди и хлеб.
«Мой знакомый по имени Глеб Повсюду разбрасывал хлеб. Не знает, наверное, Глеб, Как трудно дается хлеб.»Перебрав в памяти всех знакомых ребят, я успокоился. Похоже, имелся в виду не какой-нибудь там конкретный Глеб из НИИЧАВО, а обобщенный негодяй. Кончиком вилки я извлек из солонки сероватую соль, посыпал вермишель и быстренько доел. Закончил обед кефиром и пошел к выходу. На дверях меня ждал третий плакат.
«Уходящий товарищ, ты сыт? Зря спросил. Это видно на вид. Администрация.»Слово «Администрация» меня добило. Я остановился, поджидая кого-нибудь знакомого. Эмоции требовали выхода. Теперь я понимал Володю, чей графоманский опыт исчерпывался знаменитым двустишием о едущем по дороге ЗИМе. Разумеется, в нашей столовой работают не магистры, и даже не бакалавры, а беззаветная любовь заведующего к Флоберу не панацея от отсутствия вкуса. Самым удивительным было то, что никто не возмущался этими жуткими виршами! Я вдруг перепугался, вспомнив утреннее приключение с Колесом Фортуны. Вдруг мы каким-то образом исказили человеческие вкусы, и теперь ЭТО считается нормальным? И Кристобаль Хозевич одобрительно кивает, глядя на стихи о Глебе и хлебе…
В дверь проскользнул Юрик Булкин, наш новый сотрудник из отдела Универсальных Превращений. По профессии он был энтомолог, но ухитрился увлечься василисками — животными редкими и опасными. Теперь он вел тему: «О свойстве василисков превращать живое в камень, и о возможности превращения ими в камень воды». Как я слышал, теме придавалось большое значение, так как с помощью дрессированных василисков намного упростилось бы строительство плотин и был бы досрочно выполнен поворот сибирских рек в Среднюю Азию.
Поймав Юрика за руку, я спросил:
— Слушай, Булкин, ты плакаты на стенах видишь?
— Вижу, — целеустремленно вырываясь сказал Юрик. — Я их сам писал…
Я остолбенел. Юрик слыл бардом, пел под гитару веселые песни, и от его заявления упрочились мои худшие опасения. Видимо, оценив мою реакцию, Булкин прервал движение к очереди алчущих пищи сотрудников и разъяснил:
— Меня знакомые ребята-социологи попросили. Они исследование проводят, «ЧВ» — «Чувство вкуса». Какой процент сотрудников возмутится этими плакатами за три дня. Нормальный показатель — двадцать пять процентов.
— А у нас? — успокаиваясь поинтересовался я. — Вытянем норму?
— Тридцать процентов за полдня, — утешил меня Булкин. — И один, похваливший плакаты.
— Выбегалло, — сказал я.
— Выбегалло, — подтвердил Булкин. — Подошел ко мне и говорит: — «А ты, эта, значит, написал правильно. Эта, инициативу проявил. На ученом совете вопрос буду ставить, как почин поддержать».
В глазах Булкина мелькнуло легкое злорадство.
— А ведь поставит, — задумчиво сказал я. — Еще и Модест поддержит, а остальные решат не связываться… Так что ты готовься, Юрик, пиши плакаты впрок…
Оставив Юрика в растерянности, я скрылся из столовой. Настроение улучшилось, кефир весело булькал в желудке, создавая приятную иллюзию сытости. Навстречу мне по коридору шел У-Янус.
— Янус Полуэктович, — поздоровавшись сказал я ему, — вы вчера просили сделать расчет… Так он готов, я сейчас пошлю девочек вам занести…
Янус открыл было рот, чтобы спросить, какой именно расчет я для него делал, но передумал, видимо, решив посмотреть по результату, что я вычислял. Вместо этого ласково взглянул на меня и сказал:
— Александр Иванович, вы сегодня не засиживайтесь на работе. Понедельник-понедельником, суббота-субботой, но сегодня-то вторник… да? Неделя вам предстоит сложная, отдохните.
— Очень сложная? — беспомощно спросил я.
Янус Полуэктович грустно улыбнулся и прошел в столовую. А я отправился в электронный зал в дурном расположении духа. Директор не злоупотреблял возможностью предсказывать будущее, и очень редко ее демонстрировал.
Ушел я с работы, когда еще и семи не было. То ли таинственное предупреждение У-Януса сказалось, то ли захотелось посмотреть свежую серию «Знатоков» по телевизору, сам не пойму.
Для очистки совести я сотворил двух дублей. Одного — заканчивать на «Алдане» расчет задачи для Почкина, а другого — присматривать, чтобы первый не отлынивал. Есть у меня такая нехорошая черта — мое настроение в момент создания дубля очень легко этому дублю передается. Из института я выбрался тихонько, стараясь не попадаться ребятам на глаза. Но на улице настроение быстро улучшилось. Был легкий морозец. Девушки, попадающиеся мне навстречу, весело смеялись, обсуждая переменчивую соловецкую погоду и свежие сплетни. Компания ребят с рыбзавода имени Садко прошла навстречу, что-то весело напевая под гитару и явно направляясь к ближайшему кафе. На мгновение мне тоже захотелось устроить маленький загул, выпить легкого болгарского винца «Монастырская изба», что недавно завезли в Соловец, или даже дернуть сто грамм грузинского коньячка под бутерброд с балыком. Но я вовремя сообразил, что в кармане лишь рубль, зарплата будет в четверг, а Володя мне пятерку завтра никак не отдаст. Пообещав той части своего сознания, что требовала разгульного образа жизни, реванш в субботу, я направился в столовую номер 11, где можно было перехватить чего-нибудь на ужин. Хмурая старушка-уборщица уже бродила между столами со шваброй, намекая на скорое закрытие столовой. Но я все же успел встать в хвост маленькой очереди и нахватать с подноса теплых пирожков. Возле кассы меня поджидала еще одна удача — из недр столовой вынесли остаток молочного, и я разжился сырком с изюмом и бутылкой кефира.
Обедневший ровно наполовину, но отягощенный грузом продуктов в авоське, я быстрым шагом направился к общежитию. Морозец крепчал, и пирожки, утратив остатки тепла, стали гулко постукивать друг о друга, когда я, потрясая перед лицом вахтерши пропуском, вбежал в вестибюль.
По пути в комнату я забежал на кухню. Там, конечно, никого еще не было. Может быть, на всем этаже я был один, остальные еще сидели в институте. Ставя на плиту чайник, я тщетно боролся с чувством стыда.
Нет, и что на меня сегодня накатило?
Я открыл свою комнату, включил свет и собрался было уже выгрузить продукты на стол, когда за спиной что-то гулко хлопнуло. Обернувшись, я увидел Корнеева. Корнеев был подозрительно тих и печален. Он парил в воздухе возле стены, яростными рывками выдирая застрявший в штукатурке каблук.
Злорадно подумав, что и у магистров не всегда удачно получается трансгрессироваться, я все же подошел к Витьке, схватил его за плечи и потащил. Витька сопел, колотя свободной ногой по стене. Наконец штукатурка не выдержала, и мы полетели на пол.
— Какой ты неуклюжий, Сашка, — вздохнул Корнеев, вставая и поглядывая на стену. В штукатурке зияла круглая дыра.
От возмущения я поперхнулся, но все же сказал:
— Завтра заделаешь!
— А что? Могу и сейчас… — Витька взмахнул было руками, но под моим укоризненным взглядом слегка смутился и заклинания не произнес.
— По-нормальному заделаешь, — объяснил я. — Возьмешь в институте цемента, песочка, и…
— Ладно, — сдался Витька. — Ретроград ты, Привалов… О! Пирожки! Это ты угадал.
Он уселся за стол, вытряс авоську. Подумал, протянув руку, вытащил из воздуха кипящий чайник, но заколебался:
— Эй, а может ты его хотел так принести… по-нормальному?
Махнув рукой, я уселся рядом. Спросил:
— Что ты так рано-то?
— А ты?
— Меня Янус напугал. Сказал, что…
— Неделя тяжелая будет, — кивнул Корнеев. — Во-во.
— И тебе тоже?
Витька мрачно откусил половину пирожка. Спросил:
— Чего он темнит, а, Привалов? Может уже про Колесо узнал?
— Не исключено.
— Скандал… — радостно сказал Корнеев. — Нет, не похоже. Сашка, может, нас на овощную базу отправляют?
С минуту мы обдумывали и эту версию. Но все же решили, что по такому мелкому поводу директор нас запугивать не стал бы.
— Ладно, нечего гадать, — первым сдался Корнеев. — Слушай, я вот что подумал — с Колесом…
— Ну? — содрогнувшись спросил я.
— А если его остановить, когда все люди на Земле счастливы? Когда всем — везет?
— Здорово, — признал я. — Вот только — когда? Разве так бывает?
— Ну, если объявить всему миру, что… э… в двенадцать ноль-ноль по Гринвичу, например, всем надо быть счастливыми и удачливыми.
Пришлось покрутить пальцем у виска. Корнеев фыркнул.
— Что смеешься? Ну немножко-то можно потерпеть? Сесть с хорошей книжкой у окна, смотреть на красивых девушек. Или собраться большими компаниями, комплименты друг другу говорить, подарки делать!
— А тебя в этот момент комар укусит. Или у соседа труба лопнет, и потолок зальет.
— Полагаешь — никак? — серьезно спросил Витька.
— Угу. Нереально. Обязательно кому-нибудь да не повезет.
— Потерпели бы ради большинства! — уже отступая высказался Корнеев. — Такая идея славная!
— Глупая твоя идея, Витька.
— Ладно. Допускаю — преждевременная! — Корнеев выхватил из-под моих пальцев последний пирожок и в запале помахал им перед моим лицом. Я с трудом удержался от того, чтобы облизнуться. — А если — не сейчас? Через десять лет, через двадцать? Когда уж точно можно будет добиться всеобщего счастья?
— А зачем тогда еще и Колесо останавливать? Масло масляным делать? Знаешь… если уж люди станут счастливы, то мелкое невезение их не расстроит.
Это был еще тот удар! Корнеев запнулся на полуслове, глотнул воздуха и скис. Положил пирожок на стол, поднялся, и, смерив меня обиженным взглядом, провалился на первый этаж.
— Витька, брось дурить, — позвал я. Но Корнеев не появился. Обиделся…
Вздохнув, я налил себе хорошего, грузинского чая. Съел оставшийся пирожок и пошел в холл. Телевизор был выключен… значит точно, один я на этаже. Включив новенький «Огонек» и устроившись на продавленном кресле, я приготовился наслаждаться зрелищами.
Но знатоки меня разочаровали. Минут двадцать я смотрел, как Знаменский с Томиным расследовали кражу двух рулонов ситца на фабрике. Вроде бы всем уже было ясно, что главная воровка — замдиректора по хозяйственной части, женщина умная, но с большими пережитками в сознании, однако знатоки упорно это не замечали. Сообразив, что поймут они это лишь к концу второй серии, я тихонько выбрался из кресла, выключил телевизор, сполоснул кефирную бутылку и отправился спать.
Минут двадцать я честно пытался заснуть. Считал в двоичном коде от нуля до тысячи, вспоминал всякие забавные, хорошие истории, случавшиеся в институте на моей памяти — как Ойра-Ойра помогал Магнусу Федоровичу испытывать джинсы-невидимки, и какой конфуз из этого вышел, или как Кристобаль Хозевич решил-таки на «Алдане» принципиально нерешаемую задачу, но результат оказался принципиально непостижимым…
Подумав об «Алдане» и двух своих неумело сделанных дублях, шатающихся сейчас возле пульта, я загрустил. Они Володьке насчитают… так насчитают, что извиняться устану. А ведь можно часам к десяти все закончить, а потом повозиться в свое удовольствие…
Додумывая эту мысль, я поймал себя на том, что уже не лежу в кровати, а приплясываю посреди темной комнаты, одеваясь. Ну и ладно. Нечего бездельничать. Не запугает меня Янус…
…Вахтерша приоткрыла окошечко, когда я сбежал в вестибюль, и с легкой надеждой спросила:
— В кино пошел, Саша?
— Нет, на работу… забежать надо на минутку… — виновато ответил я. Вахтерша наша, Лидия Петровна, словно поставила своей основной целью следить за соблюдением трудового законодательства сотрудниками института.
На улице было холодно и пустынно. Чтобы не замерзнуть, я пробежался до института и влетел в двери так энергично, что какой-то домовой, вытирающий пыль с прикованного у двери скелета, испуганно шарахнулся в сторону, а скелет попытался зажмуриться. Мне стало немножко стыдно, и я перешел на шаг. Работа кипела вовсю. По второму этажу десяток лаборантов тащили самое настоящее бревно, облепив его, словно муравьи спичку. Я секунду постоял, соображая, не нужна ли ребятам помощь, как они собираются протащить бревно в узкую дверь, и зачем им это самое бревно нужно. Но лаборанты были такими шумными и энергичными, что я не рискнул вмешиваться и пошел к себе, на четвертый. У дверей электронного зала я секунду постоял, вслушиваясь, потом резко вошел. Как ни странно, все было в полном порядке. Первый дубль сидел за столом и что-то писал на бумажке. Второй, пристроившись у него за спиной, бормотал:
— Запятую, запятую не туда поставил…
Я подошел и глянул. Дубль самонадеянно проверял мою программу. Запятая и впрямь была не на месте. Я вздохнул. Первый дубль покосился на меня и быстро исправился.
— Работать-работать, — сурово велел я, отходя к «Алдану».
Машина работала вовсю. Гудели ферритовые накопители, щелкали реле, перемигивались лампочки. Я погрозил дублям пальцем и величественно вышел. Меня посетила хорошая мысль.
Безалаберный Витька, конечно же, и не подумает взять цемент для ремонта. Следовало запастись им самому, а завтра поутру принудить Корнеева к трудотерапии. Ухмыльнувшись, я поднялся на пятый этаж и подошел к кабинету Камноедова.
Кабинет, конечно же, был закрыт и охранялся суровыми ифритами. Модест Матвеевич трудовую дисциплину никогда не нарушал…
Я быстренько прошел мимо стражей и свернул в маленький темный коридорчик. Вел он в казармы домовых, у которых всегда можно было раздобыть известки, гвоздей или шпингалеты. Домовые — существа крайне запасливые, и все сотрудники по мелочам пользовались их услугами.
Дверца, ведущая в казармы, была замаскирована под картину, изображавшую бревенчатый домик на краю пшеничного поля. Домовых, похоже, частенько одолевала ностальгия, ибо картину эту, по слухам, нарисовал кто-то из них. Я постучал пальцем по нарисованному домику, пытаясь попасть по крошечной двери, и картина плавно повернулась, пропуская меня в казарму.
Здесь было темно и тихо. Впрочем, тишина казалась ненатуральной, словно только что шел галдеж и веселье, а теперь остались лишь шорохи по углам. Открыв рот, я уже собрался было гаркнуть, подзывая дневального, когда кто-то подскочил ко мне из темноты.
— О, кто пришел…
Онемев от такого панибратского тона, я оглянулся и увидел домового. Знакомого по утреннему падению…
— Давай, не смущайся, проходи, — домовой цепко схватил меня за рукав и крикнул: — Мужики, это свой!
Сразу же где-то в глубине казармы вспыхнул свет, и домовой потащил меня туда, тихонько напутствуя:
— Ниче, не робей. Держись спокойно, сам не груби, но ежели кто начнет подсмеиваться — ответь достойно.
— Э… Кеша… — с трудом вспомнив имя домового ответил я. — Мне бы цемента немножко…
— Ладно, остынь! — домовой замахал волосатой лапкой. — Подождет твой Привалов, не сахарный. Посидишь у огонька…
Огибая двухъярусные железные койки, мы вышли в центр казармы, где высилась самая настоящая русская печь. Вокруг нее на полу сидело десятка два домовых, подозрительно оглядывая меня. Я лишь покачал головой, при виде такого нарушения правил пожарной безопасности, но решил, что домовые в русских печах толк знают.
— Свой он, свой, Гена! — сообщил Кеша. — Приваловский дубль, мы утречком познакомились!
— Компанейский ты мужик, Иннокентий, — сурово ответил один из домовых, разлегшийся у самого огня и помешивающий угли босой ногой. — Всех к нам тянешь. Отвел бы дубля куда следует…
Кеша немного скис. Видимо, Гена был поглавнее его.
— Ладно, — сменил гнев на милость домовой у печки. — Пущай посидит…
Заинтригованный до последней степени, я присел рядом с Кешей. Мало кто мог похвастаться тем, что знает детали жизни домовых. Пожалуй, любой из магистров не отказался бы побыть на моем месте.
Внимания особого на меня не обращали. Домовые, рассевшись и разлегшись поудобнее, уставились на Гену.
— Ну, значит, — продолжил тот рассказ, очевидно прерванный моим появлением, — стоит Васек у почетного вымпела победителей соцсоревнования, а смены все нет и нет. Захотелось ему… на минутку… а как вымпел-то оставить? Взял он его под мышку, и в туалет…
Домовые тихонько засмеялись.
— А тут, как на грех, Модесту Матвеевичу, — без особой почтительности сказал Гена, — вздумалось проверку учинить. Заглянул он в кабинет, глядь, а вымпела, инвентарный номер триста шестьдесят пять — дробь двенадцать, и нету! Ну, паника, сами понимаете, завопил он, побежал, позвал меня, Тихона. Ифритов своих прихватил… тьфу, нечисть заморская! А Васек-то все слышал, соображает, что делать? Бросился опять на пост, вымпел расправил, и стоит, в носу ковыряет…
Домовые начали хохотать.
— Мы с Модестом, — Гена вытащил ногу из огня, засунул другую, — прибегаем — а Васек на посту! И вымпел цел. Камноедов как закричит — мол, «службу не знаешь, куда уходил, негодник!» А Вася, не будь дураком, и отвечает: «Стоял на посту, охранял вымпел. Подошли вы, посмотрели сквозь меня, за голову схватились, заорали, и бежать…»
Хохот перешел в настоящее ржание. Двое домовых от смеха свернулись в мохнатые комки и стали кататься по полу. Даже я не удержался и хихикнул, представив растерянное лицо Камноедова, одураченного хитрым домовым. Единственное, что меня смущало — история эта казалась смутно знакомой…
— Ну, значит, три дня Камноедов на больничном провел, — продолжал довольный Гена. — Окулиста посетил, валерьянку попил, потом отошел. Но в одиночку больше проверок не учиняет!
— Извините, — не выдержал я, — по-моему, вы придумываете, все-таки. Я уже слышал такую историю, только не про Камноедова…
Гена окинул меня гневным взглядом, и я осекся.
— Кеша, кого ты привел, а? Ишь ты, говорливый какой дубль… День как от роду, а уже спорит!
Кеша пихнул меня в бок.
— Отведи его к дружкам, пусть культуре поучится, — распорядился Гена, и утратил ко мне всякий интерес. — А вот, еще раз такое было, мужики… Устроил Янус наш, который А-Янус, большущую…
Вслед за Кешей я отошел от печи, виновато посмотрел на домового.
— Ладно, ничего, — буркнул Кеша. — Молод ты еще… Что там Привалову надо, цемента?
— Угу.
— Пойдем…
Из какого-то шкафа Кеша кряхтя достал мешок с цементом, кадку с песком, отсыпал мне в крепкие бумажные пакеты и того, и другого.
— Во, нормалек… К своим-то заглянешь?
— К кому?
— Ой, совсем ты теленок… — Кеша привстал на цыпочки и снисходительно похлопал меня по плечу. — К дублям, вольноотпущенным…
Я хлопал глазами, ничего не понимая.
— Пошли, — решил Кеша. — Провожу попервости.
Раздвинув стену, он двинулся по какому-то узкому и сырому коридору. Опасливо озираясь, я пошел следом.
— Ты того… как почуешь, что Привалов тебя распылять собрался, сразу линяй, — поучал меня Кеша. — Нечего дожидаться… придешь ко мне, или к своим, сразу…
Конечно, знатоком института я себя не считаю. Куда мне до Корнеева или Ойры-Ойры! И все же шли мы путями такими удивительными, что порой у меня глаза на лоб лезли. То узкий коридор, по бокам которого текли булькающие огненные ручейки, то зал, заполненный зелеными пупыристыми пузырями, упругими как резиновые мячи. Среди них приходилось проталкиваться, причем, по словам Кеши, делать это следовало осторожно, «чтоб не взорвались». Какое-то время я тешил себя гордой мыслью, что первым посещаю эти катакомбы, но потом обнаружил на попавшемся под ноги зеленом кристалле бирку с инвентарным номером и надписью «Ключ, зеленый», и загрустил.
Коридор, наконец, кончился, и мы вышли в большую, гулкую пещеру, видимо, где-то глубоко под фундаментом НИИЧАВО. Здесь, как ни странно, пахло обжитостью и каким-то уютом. Вдоль стен тянулись делянки какого-то мха, перемежаемые маленькими хижинами, грубо сколоченными из досок и кусков картона. Стены их были испещрены непонятными картинками. Над дверью одной я с удивлением обнаружил надпись «Машина вычислительная электронная „Алдан“», и на мгновение замер. Присмотревшись, однако, я понял, что хижины сооружены из пустых упаковочных ящиков.
С каждой минутой происходящее становилось все интереснее.
— Вот тут лифт, обратно на нем поднимешься, — ткнув пальцем в ржавую железную дверь в стене, сказал Кеша. — Через казармы не ходи, заплутаешь… Во! Твои сидят, пошли!
В дальнем углу пещеры и впрямь горел небольшой костер, возле которого сидела кучка людей. Вслед за Кешей я двинулся к ним… и остановился, как громом пораженный. Здесь были все наши! Витька Корнеев, Роман, Володька… ой… А-Янус и У-Янус! И Кристобаль Хозевич, и Федор Симеонович!
Самым удивительным мне показалось даже не их странное собрание, а то, как бесцеремонно себя вели Витька и Роман. Они спорили с Кристобалем Хунтой, причем без малейшей тени пиетета.
— Да ты сам посуди! Не будет твое заклинание работать! — кипятился Роман.
Кристобаль Хозевич пожимал плечами, но возражать не пытался.
— Эй, дубляки! Я вам приваловского привел! — крикнул Кеша. И я наконец-то понял — передо мной сидели вовсе не сотрудники института, а их дубли.
Ой. Кристобаль Хозевич… да нет, не он, конечно же, а его дубль, поднялся.
— Садитесь, наш юный товарищ, — вежливо сказал он. — Не смущайтесь, все мы поначалу смущались, но это быстро пройдет.
— М-милости п-просим, — Федор Симеонович подвинулся, тяжело ерзая на длинной доске, водруженной на пару чурбанов.
— Мы тут п-проблему обсуждаем… обычную, знаете ли, о п-падении м-магических способностей у д-дублей.
Я стоял как вкопанный.
— Да садись, дубляк заторможенный! — завопил дубль Корнеева, и привычная грубость привела меня в чувство. Я бухнулся на скамью рядышком с дублем Киврина и услышал деликатное покашливание домового Кеши.
— Ну, пошел я…
Вяло помахав ему рукой, я стал оглядывать собравшихся. Были они вполне похожи на себя-настоящих: Кристобаль Хозевич ничуть не терял элегантности, Корнеев — грубости, Киврин заикался не меньше, чем раньше. На меня деликатно не обращали внимания, и я стал приходить в себя. Как ни странно, но сознание мое упорно отказывалось считать сидящих вокруг дублями…
— П-полагаю, следует п-попробовать еще раз, — сказал Федор Симеонович и стал делать пассы. На него внимательно смотрели.
— Не так, Федор Симеонович, не так, — быстро проговорил Ойра-Ойра, увидев, что Киврин старательно рисует в воздухе задом наперед букву «Е». — Это получается цифра «3».
— Ах ты г-господи! Да неужто? — сказал Киврин, разглядывая слабо светящийся в воздухе след. — С моей с-стороны — так все н-нормально!
— Любезный Теодор, заклинание ваше должно быть ориентировано вовне, а не на вас самих, — сообщил Хунта.
Киврин закивал и стал терпеливо рисовать букву дальше.
— А настоящие за что ни возьмутся — у них все спорится! — сказал Володя Почкин, поднимая взгляд на меня. — Вот, даже Привалов дубля сотворил — не придерешься! До чего же любопытно, прямо засмотришься!
— Да ну, «не придерешься», — оборвал его Корнеев. — Сразу видно — дубляк! Ухо левое вниз съехало, глаза дурные, рот полуоткрыт все время…
Я торопливо захлопнул отвисшую челюсть. Федор Симеонович продолжал старательно чертить в воздухе знаки… как я понял, он собирался провести простейшую материализацию.
А-Янус и У-Янус строго и молча следили за его усилиями.
Кристобаль Хозевич положил руку мне на плечо, негромко сказал:
— Я пребываю здесь уже три года, молодой человек. Честно говоря, не самое плохое место для сбежавшего дубля. Но если бы ты знал, как стосковалось мое сердце по простым, привычным вещам… Нет ли у тебя с собой кусочка сыра?
— Но… вы же… не едите… — пробормотал я. Хунта смерил меня ироническим взглядом.
— Разумеется, так же как и ты, юноша. Но просто вдохнуть аромат сыра… посидеть с бокалом амонтильядо…
Киврин прервал свои попытки и почесал затылок. Неуверенно сказал:
— Уже лучше, д-да? К-кристо, не мучь н-новичка своим с-сыром.
Хунта гордо отвернулся. Несколько минут дубли сидели молча. Потом Ойра-Ойра негромко запел:
Нам колдовать нелегко, нелегко! Хай-хай-эй-хо! Сатурн в Весах, а луна высоко! Хай-хай-эй-хо! Хай-эй-хай-хо!Роман отчеканивал ритм песни, не особенно заботясь о словах, а остальные подтягивали ему хором:
Хай-хай-эй-хо! Хай-эй-хай-хо!Мне стало не по себе. Я встал, едва не уронив пакеты, и робко спросил:
— Пойду?
— Куда пойдешь-то? — удивился Корнеев.
— Наверх… к П-привалову, — начиная заикаться соврал я.
— Смотри, развеет он тебя, — мрачно пригрозил Корнеев.
— Ну, сам решай.
Я бросился к двери лифта. Открыл ее — там и впрямь оказалась маленькая кабинка с одной единственной кнопкой. Надавив ее, я прислонился к стене и шумно выдохнул.
Лифт шел вверх.
Стоит ли рассказывать о случившемся ребятам? Поверят ли мне? А если поверят, то чем все кончится?
Меня забила дрожь. Это ж надо. Сходил за цементом. Угораздило Витьку каблуком в стене завязнуть! Посмотрел на часы — я не удивился бы, если уже наступило утро, но еще не было и одиннадцати.
Так ничего и не придумав, я открыл дверцу остановившегося лифта и оказался в вестибюле. Выход оказался очень удачно замаскированным между колоннами, за грудой древних идолов. Споткнувшись о гипсовую курительную трубку неимоверных размеров, я выбрался к лестнице и побежал наверх.
В электронном зале уже было тихо. «Алдан», закончив расчет, сонно помаргивал лампочками, мои дубли сидели за столом и неумело играли в карты. При моем появлении оба вскочили. Я зажмурился, кинул пакеты на пол и пулей вылетел в коридор.
Так. К Витьке, немедленно. Из-за него эта каша заварилась, пускай он голову и ломает.
Через минуту я уже был на шестом этаже и словно вихрь ворвался в двери Витькиной лаборатории.
3
— Это д-дубли у нас простые!..
А. и Б. СтругацкиеКорнеев сидел на диване, заложив ногу за ногу. Одна нога была босой, и мне сразу вспомнился домовой Геннадий. Покосившись на меня, Витька продолжил странное занятие — капать из пробирки бесцветной жидкостью на пятку.
— Ты чего? — спросил я.
— Болит, — Корнеев выплеснул на ногу всю пробирку. — Нет, ты сам посуди! Хорошая живая вода. Очень свежая. Если бы, к примеру, у меня пятка была напрочь оторвана, то приросла бы в момент. А вот ушиб — не проходит!
— Так отрежь пятку, потом займись лечением, — ехидно посоветовал я.
Корнеев покачал головой:
— Нет, Сашка. Это выход простейший, примитивный…
— Корнеев, покажи пропуск, — попросил я.
Витька вытаращил глаза.
— Ты… чего?
— Пропуск покажи!
Видимо, тон мой был настолько серьезен, что Корнеев от растерянности подчинился. Убедившись, что он не собирается рвать в клочки бумажку с ненавистной печатью на фотографии, я присел рядом.
— Витька, разговор есть серьезный. Очень важный.
— Ну? — насторожился Корнеев.
— Дубли… они живые?
— Жизнь — отчеканил Корнеев, — есть форма существования белковых тел! Бел-ко-вых! А дубли у нас — кремнийорганические, ну или германиевые…
Я разозлился.
— Витька, ты мозги не пудри! Тоже мне… Амперян…
— Сашка, да никто этого толком не знает! Лет двести уже споры идут! Какая тебе, фиг, разница?
— Как это — какая? Если они живые, так какое право мы имеем их эксплуатировать?
Витька едва не упал на пол.
— Привалов, очнись! Тебе чайник эксплуатировать не стыдно? Или «Алдан» свой любимый?
— Разные вещи! — я вздохнул. И рассказал Витьке всю историю.
Корнеев явно растерялся. Минуту смотрел на меня, словно надеялся, что я рассмеюсь и признаюсь в розыгрыше. Потом напрягся, щелкнул пальцами, и перед нами возник дубль. Сходство с самим Витькой и грубияном из подвала было такое разительное, что я поежился.
— Как дела? — спросил Витька дубля.
— Пятка болит, — дубль бесцеремонно вырвал у него пробирку, уселся рядом и занялся самолечением.
— Во. Иллюзия разумного поведения, — сообщил Витька. — Поскольку таким запрограммирован. Но все равно — дурак-дураком.
Я неуверенно кивнул.
— Побейся головой о стену! — приказал дублю Корнеев.
Дубль строптиво осведомился:
— А нафига?
— Качество штукатурки проверяем.
Дубль встал и принялся колотить лбом о стену. Монотонно, но далеко не в полную силу, отлынивая.
— Вот, — Витька махнул рукой. — Живой пример! То есть, не живой, материальный! Живой себя так вести не будет!
Дубль, заметив, что Витька уже на него не смотрит, снизил амплитуду ударов до минимума.
— Понимаешь, Саша, ты человек в институте все же новенький, да и маг неопытный, — принялся рассуждать Корнеев.
— К тому, что «Алдан» может за день такое рассчитать, на что сотне математиков месяц нужен, ты привык. А к тому, что машина может с виду на человека походить, пререкаться, беседу поддерживать — еще нет.
— Витька, уж больно самостоятельно они себя вели…
— Ну и что? Дубль — это продукт жизнедеятельности магов. А маги, знаешь ли, всегда склонны к самостоятельности. Вот гляди… надо мне, к примеру, вместо себя дубля на свидание послать.
— Ну?
— Делаю я его самопрограммируемым и самообучающимся. Дабы ни одна девушка не заподозрила, кто ее домой из кино провожает. Если вдруг она его пригласит домой, чаек попить и с родителями познакомить, дубль должен проявить инициативу, вести себя так, чтобы в следующий раз меня дорогим гостем считали.
— Что потом?
— Если я дублю велел самоликвидироваться по выполнению задания, то все в порядке. Если нет… ну, не подумал… то выйдет он за порог, и начнет дальше мной притворяться. Программа такая. И будет бродить, пока энергия не кончится. День, месяц… ну, смотря на какой срок я его зарядил.
— А три года?
— У Кристобаля Хозевича — возможно, — подумав сказал Витька. — Помнится, был у него дубль, который ездил в годичную командировку. Что скажешь, мастер…
Витькин дубль зевнул, привалился лбом к стене, поморгал и исчез.
— Во. Так оно и должно быть, — бодро сказал Витька. — Но бывают промашки. Что, пойдем в подвал, с дубляками разбираться?
Я помотал головой.
— Нет, Корнеев. Не надо. Знаешь, пусть лучше сидят… колдовать пытаются. Жалко.
— Жалко… — пробурчал Корнеев. — Я же тебе все объяснил!
И все-таки он казался изрядно смущенным и настаивать не пытался.
— Может, еще с магистрами посоветоваться? — спросил я.
— Это ты сам решай, — Витька стал обувать ушибленную ногу. — Во, проходит помаленьку… Чего ты дома-то не усидел?
— Непривычно, — сознался я. — Решил еще поработать. Что, пойдем?
— Давай через полчасика, — Витька покосился на заставленный колбами стол. — Я нас обоих странгрессирую, прямо в комнату. Лады?
— Лады, — я поднялся и вышел в коридор. Витька меня все же немного успокоил. Но стоило припомнить унылое пение дублей, как по спине забегали мурашки. Нет, не все так просто.
Было уже заполночь, и народ, похоже, начинал расползаться по домам. Я прошел в электронный зал — моих дублей уже не было, а в воздухе пахло озоном. Растворились… моей магической энергии никогда не хватало больше чем на пару часов. Я подошел к «Алдану», постучал пальцем по дисплею, потом потянулся к выключателю питания. Затарахтела пишущая машинка, скосив глаза я прочитал:
«Только попробуй!»
Вздохнув, я убрал руку. Пускай работает. Чем бы занять полчасика… точнее — часок, знаю я Корнеева…
В дверь деликатно постучали, и я обрадованно крикнул:
— Войдите!
Появившийся в дверях лысый старичок с выбритыми до синевы ушами был мне знаком. Не то, чтобы часто пересекались, но все-таки однажды мне довелось поучаствовать в его эксперименте.
— Проходите, Луи Иванович! — поднимаясь, сказал я. — Садитесь.
Луи Седловой, кашлянув, прошел в зал. Изобретатель машины для путешествий по описываемому времени был мне очень симпатичен. Многие, Витька например, относились к нему с иронией, считая Луи Ивановича кем-то вроде Выбегалло. Действительно, работы Седлового грешили такой же красивостью и показушностью, но, все-таки, были куда интереснее и полезнее. Машиной времени, например, очень заинтересовались историки и литературоведы, а Союз Писателей уже выступил с предложением запустить ее в широкое производство — дабы каждый автор мог побывать в собственноручно сотворенном мире и поглядеть на все безобразия, которые там творятся.
Нравилось мне в Седловом и то, что мужественно борясь с шерстью на ушах, он никак не пытался скрыть ее существования. Каждый день он появлялся с залепленными пластырем царапинами, и виновато объяснял в ответ на иронические взгляды: «Вот… лезет, проклятая… особенно по осени, к холодам…»
— Александр, здравствуйте, милейший… — Седловой казался изрядно смущенным. У меня закралось легкое подозрение, что заглянул он ко мне не случайно.
— Садитесь, Луи Иванович, — повторил я. — Может, кофе сварить?
— Нет, нет, ненадолго я… — Седловой отвел глаза. — Александр, вы уж простите за такой вопрос… вы не в курсе, куда моя машина времени подевалась?
— Ну… осталась где-то там, у Пантеона-Рефрижератора, рядом с Железной Стеной, — растерянно ответил я. — Помните же, я вернулся без нее…
— Да нет, нет, не та, новая, вторая модель, которую я для писателей собирал…
Секунду я ничего не мог понять. Потом понял и пожалел об этом.
— Луи Иванович… — пробормотал я. — Простите, не в курсе. Не брал.
Мне стало гадко и стыдно.
Седловой протестующе замахал руками.
— Александр, да что вы, что вы! Как я мог такое предположить! Я, знаете, крайне вам признателен, еще с тех самых пор, как вы мне с демонстрацией помогли! Очень высокого мнения о вас! Совсем о другом речь…
Смущаясь и временами трогая мочки ушей, Седловой принялся торопливо объяснять. Оказывается, вот уже с неделю, как он замечал странные вещи. Началось с того, что, зайдя утром в лабораторию, он обнаружил машину времени передвинутой в другой угол. Значения этому Луи Иванович не придал, списав все на бестолковых домовых. Но странности продолжались. С дивной регулярностью машина времени меняла расположение, укрепляя Седлового в мысли, что кто-то по ночам ей тайком пользуется. Как правило, Луи Иванович, человек немолодой, а недавно еще и женившийся, уходил домой рано. Сегодня, однако, он попытался подкараулить таинственного визитера. Но стоило ему на полчаса выйти из лаборатории, как я понял — к старому приятелю Перуну Марковичу, как машиной времени воспользовались снова. Мало того, что воспользовались — машина оказалась забрызганной грязью, а возле нее валялся очень странный предмет…
И Луи Иванович смущенно достал что-то из кармана и подал мне.
С минуту я разглядывал удивительный предмет. Была это маленькая пластмассовая пластинка на пластиковом же ремешке. Пластинка была прикрыта тонким стеклом, под которым на сером фоне четко вырисовывались черные цифры. Сейчас они показывали «00:21». С боку пластинки были две крошечные кнопки, нажав на одну из них я заметил, что стекло слабо подсветилось изнутри, нажав на другую — добился смены цифр на «30:11».
— Какой-то прибор, — сказал я, с восхищением разглядывая устройство. — Удивительное устройство дисплея… интересно, что он может измерять…
Седловой кашлянул и виновато сказал:
— Полагаю — время…
Я схватился за голову. Посмотрел на свой «Полет» — полпервого ночи. Только и нашелся, что сказать:
— Отстают.
— Нет, Саша, я проверял, очень точно идут. Прямо-таки хронометр. Это ваши — спешат.
— Вторая цифра, видимо, дата, — предположил я. — Великолепно. Луи Иванович, это надо как следует исследовать!
— Да, конечно. Александр, вы не подскажете, где применяются такие устройства?
— Я, конечно, не специалист… — признал я. — Но с подобными часами не встречался.
— А сложно такое сделать? Вещица-то электронная, вам виднее. Я попытался представить себе электронное устройство для измерения времени. Самое простое, которое только можно сделать. На германиевых транзисторах, или на микросхеме, вроде той, что недавно вмонтировали в «Алдан»… Наручных часов никак не получалось. Будильник получался, очень симпатичный, со светящимися циферками на электронных лампах-индикаторах и с питанием от розетки. А наручные часы — никак.
— Луи Иванович, — признался я. — Ума не приложу, как такое сделать. Возможно, какая-то магическая разработка?
Седловой покачал головой.
— Да я вначале так и подумал, Саша. Проверил, как мог, магии нет.
— Луи Иванович, — предложил я. — А давайте еще у кого-нибудь спросим? У Витьки Корнеева… он по таинственным исчезновениям специалист. Сколько раз диван из запасника вытаскивал.
— Полагаете, он? — заинтересовался Седловой.
— Нет, нет, — запротестовал я. — Ну… просто опыт какой-то…
— Пойдемте. Если вам не очень сложно…
Я замахал руками. Мне было интересно. Мне было прямо-таки крайне интересно. Если где-то делают подобные механизмы — то… Все мои представления об электронике летели к чертям.
Мы отправились к Витьке. Седловой суетливо бежал рядом, бдительно поглядывая на часы в моей руке.
— Только не уроните… — попросил он.
Но я держал часы крепко, борясь с искушением нацепить их на руку. Мы вошли к Витьке в тот момент, когда он наполнял водой из крана большое ведро. Корнеев покосился на нас и поздоровался с Седловым.
— В живую воду будешь превращать? — спросил я.
— Нет, конечно. Пол хочу протереть, насорил за день, неудобно так оставлять. Сейчас я…
— Витька, погляди…
Я протянул ему часы, и Луи Иванович принялся рассказывать историю их таинственного появления. Корнеев заинтересовался.
— Хорошо сделаны, — одобрительно заявил он, покачивая часы на ладони. — Изящно.
— Магия? — полюбопытствовал я.
— Да нет, и не пахнет… Сашка, ты их открывал?
— Нет.
Витька порылся в столе, достал тонкую отвертку. Задумчиво посмотрел на часы, и поддел заднюю крышечку. Та, щелкнув, отвалилась.
— Осторожно-осторожно! — заволновался Луи Иванович.
Мы склонились над часами.
Внутри они были заполнены крошечными детальками, соединенными совсем уж тонкими проводочками. Я углядел что-то, напоминающее резистор, но больше знакомых элементов не было. Крошечная металлическая таблеточка, занимавшая чуть ли не треть объема часов, почему-то вызвала живейшее любопытство Корнеева. Он потрогал ее пальцем и заявил:
— Батарейка. Слабенькая. Одна десятая ампера.
Мы стали изучать часы дальше и обнаружили на крышке надпись, из которой следовало, что сработаны они в Гонконге.
— Ничего не понимаю, — признался я. — С каких пор в Гонконге такое делают?
— Да, это тебе не дублей пугаться, — признал Витька. — Слушай, а ведь если на таких деталей ЭВМ собрать, так она в чемодан влезет.
— Брось. Еще шкаф для устройства памяти потребуется!
— Может быть… — Корнеев уселся на стол. — Луи Иванович… вы никому про эту штуку не говорили?
Седловой покачал головой.
— Только Саше. Он все-таки специалист. Я-то больше по старинке… полихордальные передачи, темпоральные фрикционы… электроникой не балуюсь.
— А не могло ли такое случиться, — предположил Витька, — что некто, пользуясь вашей машиной времени, добыл это устройство из мира вымышленного будущего?
Луи Иванович потер затылок.
— Сомнительно, коллега. Крайне сомнительно. Товарищ Привалов это будущее наблюдал собственными глазами… оно крайне разрежено и малореально. Предметы оттуда не возьмешь, сразу дематериализуются.
— Точно?
Я покачал головой:
— Витька, ты помнишь, как меня высмеивал с попугаем? Мол, ни один писатель не придумает такого попугая, чтобы он выжил в реальном мире!
— Это попугай, он живой! А материальные предметы — они проще…
— Ну, какую-нибудь лопату или кирпич привести можно, — признал Седловой. — Если автор их хорошо представляет, и описывает очень реально. Но чтобы добиться реальности столь сложного устройства, ему пришлось бы в деталях представить его работу. Так реально, как если бы он мог его собственноручно собрать!
— Давайте осмотрим место происшествия, — предложил Витька.
— Пойдемте, — обрадовался Седловой. — Честно говоря, я уже подумывал, не привлечь ли соответствующие органы… но ведь состава преступления нет, правда?
Мы отправились в его лабораторию.
В отделе Абсолютного Знания уже никого не было. Абсолютники редко задерживались сверх установленного рабочего времени, и свет дежурных ламп делал коридоры нескончаемо длинными и неуютными. Вдалеке свет горел ярче, и я немного удивился, что в отделе профессора Выбегалло кто-то, по-видимому, еще работал.
— Сейчас, сейчас, — хлопая по карманам в поисках ключей, сказал Луи Иванович. — Куда же я их положил… ох, на столе ведь оставил!
Он толкнул незапертую дверь, и мы вошли.
Лаборатория Седлового напоминала слесарную мастерскую. Может быть, уши у него обрастали шерстью, но все свои странные изобретения он собирал собственными руками. Здесь было светло, пахло смазкой и свежими стружками. На верстаке высилась немыслимая конструкция из алюминиевых трубок и стеклянных шаров, слегка задрапированная брезентом. Не знаю, что уж это такое было, но Седловой смутился. Однако удивительным было не это. В дальнем углу, на деревянном помосте, рядом с машиной времени, копошилась какая-то четвероногая мохнатая фигура. Вначале мне показалось, что это старый облезлый медведь, и я попятился. Но уже в следующую секунду мне стало ясно, что зверь попался куда более крупный. Это был не кто иной, как Амвросий Амбруазович Выбегалло.
— А… добрый вечер, Амвросий Амбруазович… — растерянно сказал Луи Иванович. — Чему обязан?
Выбегалло степенно поднялся с колен и окинул нас ничуть не смущенным взглядом.
— Я тут, значится, вещичку одну потерял, — сообщил он.
— Посторонние тут часто бывают, нес па?
Седловой растерянно посмотрел на Корнеева. Витька торжественно поднял за ремешок часы.
— Не эту ли вещичку?
— Ма монтр![1] — воскликнул Выбегалло, быстро направляясь к нам. — Мои часы, так! Нехорошо, понимаете, молодой человек! Мораль надо соблюдать!
Он ловко выхватил из рук Витьки часы и принялся, сопя, надевать их на правое запястье — на левом часы уже имелись. Получалось у него плохо, так как ремешок явно был мал, может быть, даже рассчитан на женскую или детскую руку.
— Как прискорбно, — не прекращая своих попыток, сказал Выбегалло, — что и в стенах института… Да. Корнеев ваша фамилия?
Витька позеленел, и я понял, что сейчас начнется нечто страшное.
— Амвросий Амбруазович, — быстро спросил я, — откуда такая дивная вещь? Ваше изобретение?
Выбегалло спрятал часы в карман и подпер бока руками.
— Вопрос ваш, мон шер, преждевременный и провокационный. Мы его гневно отметаем. Завтра в одиннадцать ученый совет, приходите, любопытствуйте.
Он повернулся к Седловому и более добродушным тоном продолжил:
— Возвращаюсь к себе, значится, смотрю — ан нет часов! Жэ пэрдю,[2] не поймите превратно, ма монтр! Где, думаю? Здесь, у вас, ответ несомненен! Я-то думаю, приду обратно, они лежат, ждут, понимаете ли, хозяина! Ан нет!
— Товарищ Выбегалло, — ледяным голосом спросил Корнеев, — а что вы делали в лаборатории Луи Ивановича?
Амвросий Амбруазович покосился на Витьку.
— Вопрос ваш, юноша, слабоадекватен! Позволительно его задавать товарищу Седловому, а не вам… да еще после сомнительной истории с часами!
Корнеев приобрел бледно-зеленую раскраску, пошел пятнами, и исчез. Через мгновение из коридора донеслись такие звуки, словно кто-то яростно рвал волосы из чьей-то клочковатой бороды. Еще через мгновение Витька странгрессировался обратно, немного успокоившийся, но в нормальную окраску так и не вернувшийся. Самым забавным было то, что звуки из коридора не стихли — очевидно, не удовлетворенный краткостью расправы с дублем Выбегалло, Корнеев сотворил еще и собственного двойника, который эту экзекуцию заканчивал.
— Амвросий Амбруазович… мне тоже очень интересно… чем обязан вашему визиту… — слабо сказал Седловой.
— Хорошо! Мы от прямых вопросов не уходим, а достойные ответы имеем на все происки! — Выбегалло положил руку на плечо Седлового, и тот слегка присел. — Шер мой ами, Иваныч! Как вы помните, мы с вами еще в прошлом году договаривались о совместных экспериментах и использовании оборудования друг друга! С целью экономии средств и повышения производительности!
— Это когда мне автоклав потребовался? — моргая спросил Седловой. — Но… я полагал, что вы будете ставить меня в известность… все-таки ценная техника…
— Ву завэ тор![3] — изрек Выбегалло. — Всяческим… данфан,[4] — он сверкнул в мою сторону глазами, — вы оборудование доверяете! А во мне сомневаетесь?
— Нет, но…
— Ваше участие в моем гениальном эксперименте будет упомянуто. В том или ином разрезе, — сообщил Амвросий Амбруазович. — Можете не сомневаться. А вот всяческую бумажную волокиту, когда она мешает нам лично, мы отвергнем как бюрократизм и перестраховщину!
Луи Иванович часто заморгал. Похоже, человеком он был мягким и сильно комплексующим из-за собственной ушной растительности.
— Да, но… — забормотал он.
Тем временем звуки в коридоре смолкли и в дверь заглянул корнеевский дубль.
— В ушах — рвать? — спросил он.
— Конечно, — мстительно сказал Витька. Дубль исчез, и звуки возобновились, причем даже стали громче.
— Это недостойные происки, — косясь на дверь, сказал Выбегалло. Похоже, несмотря на то, что был он дурак и подлец, но сметки житейской не утратил.
— О чем вы? — предельно вежливо спросил Витька. Выбегалло поежился и пробормотал, обращаясь только к Седловому и начисто нас игнорируя:
— Де рьен,[5] Луи Иванович. Приходите завтра на ученый совет. А демэн.[6]
Звуки в коридоре снова стихли и вновь появился Витькин дубль. Взгляд у него был растерянный, как у любого хорошо сделанного дубля, выполнившего задание, но не оставшимся вполне удовлетворенным. Он раскрыл рот, собираясь было что-то еще спросить, но тут увидел Выбегалло, расцвел в улыбке и направился к нему. Выбегалло попятился. Корнеев тоскливо посмотрел на целеустремленную поступь дубля, его засученные рукава, потом вздохнул и щелкнул пальцами. Дубль растворился.
— За гнусные диффамации… — пробурчал с облегчением Выбегалло. И, шаркая валенками, вышел.
— Все-таки, уважаемый Амвросий Амбруазович не совсем прав, полагаю, — робко сказал Седловой. — Не так ли, молодые люди?
Корнеев посмотрел на него и вздохнул:
— Таких как Выбегалло, надо брать за воротник и рвать шерсть из ушей. Это однозначно, Луи Иванович. На вашем месте…
Седловой густо покраснел.
— Шерсть, молодой человек, это беда общая, и не стоит так на ней акцентировать…
Витька смутился.
— Был бы он просто дурак, хам или подлец, — сказал я. — А так ведь — все сразу, и в одном флаконе.
— Луи Иванович, нет никаких сомнений, что Выбегалло при помощи вашей машины принес часы из воображаемого будущего, — сказал Корнеев. — И, полагаю, не только часы.
— Ну, ничего криминального в этом нет. Удивительно лишь, что он нашел мир, где подобные изобретения реальны.
Витька двинулся к машине времени. Осмотрел ее, едва ли не обнюхал, потрогал какие-то шестерни и покачал головой.
— Внешний вид надо улучшать, — быстро сказал Седловой.
— Дизайн, так, если не ошибаюсь, ныне принято говорить. А то даже корреспондентам показать неудобно. Но сама машина вполне работоспособна!
Пережитки в сознании у него все-таки наличествовали в полной мере.
— Луи Иванович, — спросил Витька, — возможно выяснить, где побывал Выбегалло?
— Нет, друг мой, — вздохнул Седловой. — Я работаю над механизмом автопилота, но пока… Надо у Амвросия Амбруазовича спросить.
— Так он и ответит, — Витька выпрямился. — Да. Интересный расклад получается. Сашка, тебе хоть один реальный мир попадался?
— Откуда? Да я и был-то недолго.
— Пошли домой, — решил Витька. — Завтра на ученом совете следует быть свежими и отдохнувшими. Похоже, У-Янус об этом нам и говорил.
Я кивнул. У меня складывалось нехорошее ощущение, что Витька прав. И что каша завтра заварится еще та… Но я все же заметил:
— Меня-то вряд ли на ученый совет пригласят.
— Пригласят. Кто у нас по электронным делам специалист? А Выбегалле теперь дороги назад нет, часики придется показывать. Луи Иванович, вас домой подбросить?
Седловой замахал руками:
— Нет, нет. Я так… пешочком. Воздухом подышу, подумаю. Спасибо, юноша.
Мы вышли в коридор, чтобы, трансгрессируя, случайно не попортить какого-нибудь оборудования. Корнеев мстительно пнул ногой гору клочковатой грязной шерсти на полу, и мы перенеслись в общежитие.
4
О достойный герой и славный господин, тот, кто овладеет этой книгой, станет властелином всех земель эфиопов и суданцев, а они станут его слугами и рабами, цари этих стран будут приносить ему дань, и он будет править всеми царями своего времени.
Жизнеописание Сайфа, сына царя Зу ЯзанаВ это утро мы с Витькой проснулись одновременно, и молча, не сговариваясь, двинулись умываться. Настроение у нас было, как у солдат перед боем. Корнеев фыркал, плескаясь холодной водой, и временами приговаривал:
— За гнусные диффамации, значит… Будет вам диффамация, гражданин Выбегалло…
— Витька, ну а что мы реально сделать можем? — спросил я. — Даже если Выбегалло натащил из придуманного будущего всяких фантастических изобретений — в чем его обвинять? Он же скрывать не будет, что не сам все придумал.
— Теперь не будет!
— Угу. Теперь. Он в свою заслугу поставит тот факт, что к нам доставил.
— Использование магии в корыстных целях, — Корнеев был жизнерадостен и уверен в победе. — Знаешь про такую статью?
— Это еще доказать надо, что в корыстных.
— Докажем!
Мы отправились в столовую, где вступили в победоносную схватку с тушеной капустой. На середине завтрака к нам подсел бледный Юрик Булкин.
— Ребята, тут такие дела… с меня Выбегалло плакаты новые требует. Об экономии продуктов, правильном пережевывании пищи и прочем…
— Дошутился? — Корнеев захохотал, хлопая его по плечу.
— Плюнь. Забудь.
— Как это — забудь? Мне Жиан велел адекватно отреагировать!
— А, — Витька прищурился. — Адекватно? У тебя василиски еще остались?
— Остались.
— Так вот возьми одного, и доставь на рандеву с Выбегаллой. А потом укрась вестибюль статуей.
Юрик испытующе смотрел то на меня, то на Витьку. Человек он был в институте новый, и не всегда понимал, где шутка, а где правда.
— Виктор, а ты уверен, что Жиакомо именно это имел в виду? — спросил Юрик с проснувшейся надеждой.
— Не уверен, — неохотно признал Корнеев. — Просто плюнь и забудь. Это и имелось в виду. А у Амвросия сегодня будет достаточно проблем… не до тебя ему будет.
Булкин благодарно закивал. Шепотом спросил:
— Говорят, Выбегалло сегодня доклад на ученом совете делает?
— Делает, — признал я.
— Можно там поприсутствовать? Говорят, тот еще цирк ожидается.
— Вряд ли. Да ты спроси Жиана, он же твой начальник. Может и проведет.
Юрик помотал головой. Перед Жианом он робел больше, чем перед живым василиском.
— А, ладно… потом расскажешь, Витька?
Корнеев кивнул, и Юрик побрел к кассе, подхватив со стола свободный поднос. Я его вполне понимал, Жиан Жиакомо был личностью крайне уважаемой, магом потрясающей силы, но при этом каким-то неуловимым, держащимся от всех в отдалении. Даже Кристобаль Хозевич, с которыми они были так похожи, что я поначалу их путал, казался по сравнению с Жианом рубаха-парнем.
— Значит так, Сашка, — рассуждал Корнеев. — Ты первым в бой не лезь. Действуй по моему сигналу, если что. Я сейчас поговорю с Ойра-Ойрой, с Почкиным, с Амперяном. Старики пускай с Выбегалло по-интеллигентному воюют, а мы его будем бить его же методами.
— Это как?
— Увидишь, — Корнеев потер ладони. — Преклонение перед Западом… часики-то гонконговские…
— Это восток.
— А, какая разница! Некорректное использование чужих приборов, отсутствие прикладного эффекта…
— Витька. Нельзя бороться с дураками и резонерами их оружием, — отхлебывая какао, сказал я.
— Почему?
— Они этим оружием лучше владеют, поверь. Либо проиграешь… либо шерсть из ушей полезет.
Корнеев загрустил.
— Ну что ты такой пессимист, Сашка! Надо же что-то делать!
— Надо, — признал я. — Но — не это.
Мы еще поспорили немного, и по лабораториям разошлись, едва не поссорившись. Работалось плохо. Я отдал забежавшему Володьке его расчет, мы немного посудачили о Выбегалло и решили, что надо ориентироваться по ситуации. Потом девочки подошли ко мне с вопросом о никак не поддающейся оптимизации программе, и почти на час я полностью забыл об Амвросии Амбруазовиче. Это был хороший час. Но он кончился телефонным звонком.
— Александр Иванович? — вежливо поинтересовался У-Янус.
— Да, Янус Полуэктович, — непроизвольно вставая, сказал я.
— Вы сидите, сидите… Не могли бы вы минут через двадцать подойти к нам на ученый совет? Может потребоваться ваша консультация.
— Конечно, Янус Полуэктович.
— Спасибо большое, Саша… Тяжелый денек сегодня будет.
Я опустил трубку и посмотрел на весело щелкающий «Алдан».
Началось…
Малый ученый совет проводили в кабинете у Януса Полуэктовича. Кто-то из магов его временно расширил, и, помимо огромного овального стола, там появилась площадка с до боли знакомой машиной времени Луи Седлового. Сам Луи Иванович сидел в сторонке, крайне смущенный и начисто выбритый. Были все великие маги. Киврин ласково кивнул мне, и я, отводя глаза, пожал ему руку. Никак не выходило из головы, как дубль Федора Симеоновича пытался колдовать. В углу жизнерадостно топтались Г. Проницательный и Б. Питомник. Пристроившись между Витькой и Эдиком, я стал ждать.
Выбегалло расхаживал вдоль трибуны, раскланиваясь с подходящими. При появлении Кристобаля Хозевича он гордо вскинул бороду и отвернулся. Хунта не обратил на это ни малейшего внимания.
— Все собрались? — Янус Полуэктович поднялся. — А, Привалов, вы уже подошли…
Все посмотрели на меня. Растерянный таким вниманием, я потупился. Выбегалло, мгновенно сориентировавшись, воскликнул:
— Дорогой мой, рад вас видеть!
Мне стало противно. Тем временем Янус Полуэктович продолжал:
— Мы собрались по просьбе Амвросия Амбруазовича, чтобы выслушать доклад о проведенной им, совместно с товарищем Седловым, работе. Прошу.
Я заметил, что при слове «совместно» Выбегалло дернулся, как кот, которому мимоходом наступили на хвост, но промолчал. Потрепал бороду и бодро начал:
— Товарищи! Чего мы все хотим?
Витька засучил руками, как девица, щиплющая пряжу, но промолчал.
— Хотим мы все внести свой вклад в закрома Родины! — продолжил Выбегалло. — Так, Янус Полуэктович?
Невструев поморщился и вежливо ответил:
— Без сомнения. Реальный вклад, а не демагогическую болтовню.
Кое-кто хихикнул, но Выбегалло сделал вид, что ничего не понял.
— Что мы на данный момент наблюдаем? — продолжал Амвросий Амбруазович. — Страна шагает вперед семимильными шагами — но ведь без помощи сапогов-скороходов. Космические корабли бороздят просторы галактики, но что вынуждены есть наши героические звездопроходцы, покорители Марса и Венеры, наши славные Быковы и Юрковские? Всяческую водоросль и иную консерву! Некоторые личности занимаются производством живой воды, но так и не наладили ее полноводный поток на целинные поля, которые нас всех кормят!
На мое удивление Витька прореагировал очень спокойно. Негромко сказал:
— Докладчик сегодня плохо позавтракал, — и продолжал слушать Выбегалло.
— Итак, вклад наш в общенародное хозяйство никак не отвечает возросшим потребностям населения…
— Можно конкретнее? — осведомился Янус Полуэктович. — Самовыкапывающаяся морковь плохо себя оправдала.
— Есть у нас отдельные недостатки, — признал Выбегалло, косясь на корреспондентов. — Кто много работает, тот и ошибается… порой. А в чем мастерство подлинного ученого? В том, чтобы, эта, обращать внимание на дела своих коллег, и творчески их доработав, обратить на пользу материальным потребностям народа! Вот сидит мой скромный товарищ, Луи Иванович Седловой, создавший малополезную штуку — машину, для путешествия по придуманному, значится, будущему…
— Вот гад, — сказал Эдик. — Сашка, надо было вам вчера…
— Не помогло бы, — отмел я недоконченную идею. Смущенный Седловой съежился в кресле.
— Зачем советскому человеку путешествовать в выдуманные миры? — вопрошал Выбегалло. — Не будет ли это уклонизмом, и, не побоюсь этого страшного термина — диссидентством? Ежели кто хочет книжку почитать, так это дело хорошее. Много чего напечатано, одобрено, и стоит на нашей книжной полке. Читай хоть журналы, хоть газеты, хоть иную литературу. А заглядывать туда из порожнего любопытства — вещь смешная, ненужная. Этим пусть оторвавшаяся от труда молодежь занимается, чтобы нам было что пресекать.
Янус Полуэктович глянул на часы и повторил:
— И все же, я просил бы вас быть конкретнее. На данный момент лучшие умы института собрались выслушать вас… понимаете?
Выбегалло закивал:
— Вот я и обдумал, нет ли в придумке с машиной времени хоть какого-то полезного зернышка? И вспомнил совет всеми нами любимого товарища Райкина — можно все поставить на пользу обществу, даже хождения писателя по комнате, когда ему, значится, слов не хватает, и он их где-то там ищет.
Питомник и Проницательный громко засмеялись. Им явно не доводилось заниматься поисками недостающего слова, данный в начальных классах запас их вполне устраивал.
— Ежели можно посмотреть на то, что писателя наши навыдумывали, то следует все это и взять для изучения, — продолжал Выбегалло. — Известно, что литература наша много чего полезного напридумывала. Это и сеялки с атомной тягой, и подводные лодки для сбора морской капусты, и прочие полезные вещи.
Кристобаль Хозевич поднялся и спокойно сказал:
— Полагаю, все мы убедились, что имеем дело с очередной прожектерской идеей. Из миров выдуманного будущего, равно как настоящего или прошлого, невозможно что-либо принести в наш мир. По причинам, понятным всем… здравомыслящим людям.
— Мне к-кажется, что, несмотря на определенную резкость тона, К-кристобаль Хозевич п-прав, — осторожно заметил Киврин. — Амвросий Ам-мбруазович, видите ли…
Странно, но Выбегалло словно обрадовали слова Хунты!
— Неправ! Неправ наш любимый Кристобаль, понимаете, Хозевич! — он даже слегка поклонился Хунте, и я впервые увидел бывшего Великого Инквизитора растерянным. Довольный эффектом, Амвросий Амбруазович продолжил: — Мои сверхурочные работы с машиной времени дали результат, прямо-таки феноменальный, говоря человеческим языком — недюжинный! И это сейчас будет объяснено и продемонстрировано, к восторгу населения и посрамлению скептиков от магии! Труд, эта… духовный, привел к появлению плодов материальных! В полном, понимаете, соответствии с законами единства и борьбы одного с другим!
Выбегалло взмахнул рукой, и два его лаборанта, скромно стоящие в углу, подтащили к столу большие, закрытые мешковиной, носилки. Корнеев крякнул и шепнул:
— Вот ведь натаскал… Выносилло наш недюжинный!
И все же даже Витька казался смущенным и заинтригованным.
Амвросий тем временем сдернул с носилок мешковину и, отпихивая лаборантов, принялся выкладывать на стол перед магами самые разнообразные предметы, приговаривая:
— Все заучтено и заоприходовано, ничего не пропадет…
Предметы пустили по рукам.
Много чего здесь было. И те самые часы, правда с порванным ремешком — видимо уж очень старался Выбегалло их нацепить на себя. Небольшой, очень симпатичный импортный телевизор, зачем-то соединенный шнуром с совершенно непонятным плоским ящичком, аккуратный пластиковый чемоданчик, женские колготки, что-то вроде кинокамеры, но очень изобильно украшенной кнопками… Как ни странно, но лежала даже пара книжек, точнее — огромных цветных альбомов, с надписью на английском — «OTTO».
— Смотрите, смотрите, удивляйтесь, — покровительственно сообщил Выбегалло. Все смотрели. Только Янус Полуэктович с усмешкой пролистал альбом, передал его дальше по столу, и, подперев голову руками, стал наблюдать за Амвросием.
— Как я п-понимаю, — сказал Киврин, — все это — просто з-западный ширпотреб. Г-где-то там с-сделанный.
— Нет, — замотал головой Выбегалло. — Подвело вас чутье, товарищ Киврин! Не «г-где-то там», а у нас! В мире, созданном талантливым писателем!
— А почему тогда все импортное? — ехидно спросил Корнеев.
— В будущем это уже значения иметь не станет! — изрек Выбегалло. Я толкнул Витьку и шепнул:
— Бесполезно. Ты его не подловишь. Молод еще.
То ли Выбегалло услышал мои слова, то ли уловил движение — но, схватив чемоданчик, передал его мне:
— А это для изучения нашего уважаемого специалиста! Откройте!
Я открыл. Внутри чемоданчик оказался прибором. С оборотной стороны крышки — тускло-серый экран. Была и клавиатура, напоминающая пишущую машинку, но с буквами и русскими, и английскими.
— Что это? — спросил я, совершенно очарованный.
Выбегалло, извлекая из недр зипуна грязный клочок бумаги, навис над моей спиной. Неуклюже нажал какую-то кнопку.
Экран слабо засветился синим, на нем появилась какая-то желтая таблица с английскими надписями.
— Это, дорогой мой, гений мысли человеческий, электронная вычислительная машина!
Корнеев страшным шепотом произнес:
— «Шкаф для устройства памяти», да?
— А… как она работает?
— Сейчас-сейчас… — Выбегалло поводил грязным пальцам по клавишам, бормоча: «стрелочка вниз, стрелочка вниз, эн-те, еще раз стрелочка вниз, эн-те, пять раз стрелочка вниз… эн-те!»
Из глубины чемоданчика донеслась тихая, тревожная музыка. Появилась цветная — цветная! — картинка — человек, обвешанный жутким оружием, и наседающий на него страшный монстр.
— Сейчас… — бормотал Выбегалло, сверяясь с бумажкой.
— Сейчас…
Картинка растаяла. Вместо нее появилось что-то вроде мультфильма — мрачные коридоры, бродящие по ним чудовища, торчащая вперед рука с пистолетом.
— А! — радостно заорал Выбегалло. Все уже стояли вокруг, затаив дыхание, лишь Янус Полуэктович негромко беседовал с Хунтой.
— Вот так, значится, она ДУМАЕТ! — закричал Выбегалло, безжалостно давя на хрупкие кнопки. Изображение сместилось. Я понял, что он управляет происходящим на экране! Пистолет дергался, стрелял, чудовища выли, падали и кидались в экран желтыми огненными клубками. Все было настолько реально, что я подавил желание отпрянуть. А Выбегалло, оттесняя меня, бил по кнопкам и вопил: — Так мы ДУМАЕМ! Так мы всех врагов побеждаем! Так!
Экран покраснел, изображение сместилось к полу, словно неведомый стрелок упал. Только дергались чьи-то уродливые ноги. Выбегалло кашлянул и захлопнул крышку чемоданчика. Я обернулся.
Все, все стоящие рядом завороженно следили за экраном. На лице Федора Симеоновича блуждала счастливая улыбка, он тихо повторял:
— В каком же г-году… память не та… ш-шестьсот… не та память… Молодой был, д-дурной…
— Сашка, на «Алдане» такое возможно? — спросил Ойра-Ойра. Вроде бы деловым тоном, но слишком уж заинтересовано.
— Нет, — сказал я.
Первым опомнился Витька.
— Ха! Игрушка! — завопил он. — Такую детям не дашь, перепугаются насмерть! А взрослым она зачем?
Магистры неуверенно закивали. Я вздохнул, закрыл глаза и сказал:
— Корнеев, ты не прав. Это ведь просто программа… для игры. Представь, какая мощность должна быть у машины, чтобы так быстро обрабатывать графическую информацию!
— И ты, Брут… — прошептал Витька.
— Тут одной памяти… не меньше мегабайта! — слегка преувеличил я. — Корнеев, я на такой машине, если с управлением разберусь и перфоратор подключу, за час все дневные расчеты сделаю.
— Что нам говорит молодежь? — спросил Выбегалло, облокотившись на мое плечо. — А молодежь, отбросив заблуждения, восхищена прогрессом человеческой мысли! Но ведь еще не все, не все!
Подхватив чемоданчик с ЭВМ, Амвросий кинулся к телевизору. Требовательно посмотрел на У-Януса.
— Эта… розетка нужна.
Янус Полуэктович провел ладонью по столу, в котором немедленно образовалась розетка. Выбегалло, заглядывая в другую бумажку, стал возиться с телевизором и ящичком.
— В чем нас обвиняют? — вопрошал он. — В недооценке культуры, духовности! А вот нет! Нет и нет! Рост культуры материальной, торжествующее потребление — оно завсегда порождает такую культуру, что раньше и присниться не могла!
Экран телевизора засветился. Я уже не удивился, что и тут изображение было цветным. На экране, в очень хорошо обставленной комнате, сидела большая семья, симпатичные, но какие-то уж больно прилизанные люди. Заиграла знакомая музыка… и внизу экрана поползли строчки текста. Явно не отрывая глаз от этих титров, Выбегалло запел:
— Ши-ро-ка страна мо-я род-на-я!
Мно-го в ней ле-сов, по-лей и рек!
Все онемели. Пел Выбегалло ужасно, но, видимо, следя за титрами, в размер попадал. Так продолжалось минуты три. Люди на экране беззвучно открывали рты, временами Выбегалло нажимал какую-то кнопку, и они начинали ему подпевать. Картина была такой… такой… даже и не знаю, как ее назвать.
Когда Амвросий Амбруазович допел, выключил телевизор и торжествующе оглядел зал, все молчали. Только в уголке девушки, не замечая происходящего, листали альбом, срисовывая из него какие-то фасоны платьев и временами ойкая — видимо, находя что-то уж совсем удивительное.
— Хорошо, — сказал наконец Янус Полуэктович. — В работоспособности доставленных приборов мы убедились, вопрос их полезности можно продискутировать отдельно. Теперь поговорим конкретно. Амвросий Амбруазович, откуда вами, с помощью машины Луи Ивановича, были доставлены данные вещи?
Выбегалло всплеснул руками:
— Из будущего, значит! Из придуманного, нашего, хорошего!
— А в какой именно книге оно было описано?
— Же сюи трэ шагринэ![7] — Выбегалло изобразил оскорбленную невинность. — Не имею понятия! Мы работаем, нам книжки читать некогда.
Кристобаль Хозевич, переглянувшись с Невструевым, сказал:
— Предметы данные, полагаю, имеют немалую ценность в любом мире.
Выбегалло гордо закивал.
— И каким же образом вы взяли их в мире вымышленного будущего?
Нет, сегодня Амвросия смутить было невозможно:
— В целях эксперимента и технического прогресса, я купил их на личные сбережения! — заявил он. — Смета мною будет приложена, и, надеюсь, оплачена!
— Он неуязвим, — тоскливо прошептал Витька.
Самым неприятным было то, что я уже запутался, стоит ли с Выбегалло бороться. Да, конечно, его «эксперименты» с чужим оборудованием пахли весьма дурно. Но оттереть Луи Ивановича в сторону ему маги не дадут. А вещи-то, действительно, интересные… Я вздохнул. И в наступившей тишине вздох мой прозвучал очень громко.
— Вы что-то хотите предложить, Привалов? — спросил Невструев.
— Я? Нет… в общем-то…
Янус Полуэктович кивнул.
— Хорошо. Мы выслушали мнение профессора Выбегалло… теперь, полагаю, для чистоты эксперимента надо повторить его независимому эксперту. Предлагаю кандидатуру Привалова. Вы против, Амвросий Амбруазович?
Выбегалло заколебался.
— Эта… молодежь… она…
— Могу я! — привстал Корнеев. Выбегалло замахал руками:
— Привалов вполне, вполне… Юноша талантливый, пуркуа бы не па?
— Александр Иванович, вы согласны посетить мир, где имеются подобные… технологии? — Невструев пристально посмотрел на меня. И едва заметно подмигнул.
Я поднялся. Витька пихнул меня в спину и прошептал:
— Что хочешь делай, но если Выбегалло поддержишь — ты мне больше не друг!
— Саша, на тебя надежда, — сказал вслед Эдик Амперян.
Неуверенно подойдя к машине времени, я покосился на магов. Кристобаль Хозевич полировал пилочкой ногти, с сомнением поглядывая на меня. Киврин доброжелательно улыбался. Седловой достал носовой платок и принялся смахивать с машины пылинки.
— Янус Полуэктович, что именно мне проверять? — спросил я.
— Все. Постарайтесь выяснить, например, что это за книга, — Янус Полуэктович был воплощенным вниманием. — Подумайте, имеет ли смысл что-то оттуда привозить в наш мир. Посмотрите сами, по обстановке.
Я кивнул, усаживаясь на машину. Спросил Выбегалло:
— Так куда мне отправляться… Амвросий Амбруазович?
— Ты… эта… по газам, по газам! Гони вперед, не останавливайся. Все уже кончится, а ты гони!
Инструкция была столь же простой, сколь и странной. Пожав плечами, я поставил ногу на сцепление.
— Давайте, давайте, — прошептал Седловой. — Вам не в первый раз, вы путешественник опытный…
Я нажал на клавишу стартера, и мир вокруг расплылся.
5
Но это уже другая история, и мы расскажем ее как-нибудь в другой раз.
Михаэль ЭндеВидимо, сказывался прежний опыт. С путешествиями во времени — это как с ездой на велосипеде, и сам процесс очень похож, и навык приобретенный не теряется. Машина шла на полном газу, и античные утопии так и мелькали вокруг. Я даже немного отвлекся от сути своего задания — так интересно было посмотреть на знакомые места. Возникли знакомые граждане в хитонах с шанцевым инструментом и чернильницами, я помахал им рукой и подбавил газку. Пронеслись гигантские орнитоптеры, я замедлил ход, чтобы получше их разглядеть — и обнаружил, что на крыльях восседают солдаты с ружьями, энергично и бестолково паля друг в друга. Менялась архитектура призрачных городов, из стен и крыш начали вырастать антенны, забегали могучие механизмы, колесные, гусеничные и многоногие. Как и раньше, люди в большинстве своем носили либо комбинезоны, либо отдельные, очень пестрые, предметы туалета. Я попытался представить, можно ли отсюда что-нибудь вынести в реальный мир, и покачал головой. Сомнительно.
Хотя Выбегалло, наверняка, пробовал. «Нестирающиеся шины с неполными кислородными группами» должны были поразить его воображение. Я снова полюбовался массовым отлетом звездолетов и космопланов, вереницей женщин, текущей в Рефрижератор, и прибавил ходу. Было в этих картинах что-то древнее, титаническое… и вместе с тем невыразимо грустное. Когда пошли лакуны во времени, лишь Железная Стена продолжала служить мне ориентиром. Дождавшись появления колыхающихся хлебов, я сбавил ход и остановился. Было очень тихо. Я слез с машины времени, сорвал пару колосьев, внимательно рассмотрел их. Н-да. Пожалуй, даже колосок отсюда не привезешь. Авторы романов про будущее в большинстве своем пшеницу видели лишь в виде батонов… Тоскливо оглядевшись, я поискал взглядом маленького мальчика, который в прошлый визит пояснял мне назначение Железной Стены. Но его не было. Наверное, выступал где-нибудь на Совете Ста Сорока Миров.
Спросить некого. Значит, надо отправляться дальше.
Я снова запустил машину времени и двинулся вперед. У меня стала зарождаться идея, что Выбегалло что-то напутал, или мир, куда он путешествовал, саморассосался.
Но тут вдруг началось что-то необычное. Из-за Железной Стены, озаряемой далекими ядерными взрывами, полыхнуло особенно сильно — и Стена дернулась, накренилась. Я притормозил, выпучив глаза.
Мир Гуманного Воображения, по которому я несся, менялся на глазах! Его стали озарять такие же адские взрывы, а сверкающие купола и виадуки вдали стремительно превращались в руины вполне заурядных домов. Небо потемнело, повалил серый снег. Выжженные нивы покрылись сугробами. Дождавшись, пока взрывы по эту сторону стены стихли, я затормозил.
Было очень холодно. Лениво падал снег. На много километров вокруг простирались лишь запорошенные снегом развалины. Я поежился, попытался поднять комок грязного снега. Снег был вполне реален, его явно можно было привезти домой. Потом я подумал, что снежок этот радиоактивен, выбросил его и торопливо вытер руки. В это мгновение кто-то тронул меня за колено. Подскочив в седле, я обернулся и увидел маленького мальчика в резиновом балахоне и противогазе. Из под стекла противогаза нездорово светились запавшие, глубоко посаженные глаза. Секунду я размышлял, тот это мальчик или не тот, но, так ничего и не решив, спросил:
— Тебе что, малыш?
— Твой аппарат поврежден? — глухо осведомился он из-под противогаза.
— Нет… — прошептал я.
Мальчик без особой радости кивнул и присел на снег. Похоже, он очень устал и замерз. Я растерянно подумал, что надо схватить его и привезти в реальный мир… Конечно, был риск, что привезу я лишь противогаз, но мальчик был таким измученным и несчастным, что выглядел реальным. Однако мальчик, отдохнув, поднялся и побрел дальше.
— Эй! — завопил я. — Подожди! Пойдем со мной!
Мальчик на ходу покачал противогазным хоботом и ответил:
— Не принято… уже…
— Что случилось-то? — в отчаянии осведомился я.
— Стенка железная рухнула, — равнодушно ответил мальчик, исчезая среди сугробов.
Мне стало так страшно, что я едва удержался от нажатия на газ. Соскочил с машины времени, бросился за ребенком — но его среди сугробов уже не было. Видимо, в данной книге догнать его было «не принято»… С ловкостью велогонщика я заскочил в седло и дал по газам. Опять начались взрывы. Стена кренилась и рушилась все больше. Из-за нее в мою сторону пробежал детина с автоматом и в кожаной куртке на голое тело. Рядом с ним неслась чудовищных размеров псина, и оба они смерили меня плотоядными взглядами. Я ускорился, но это было как наваждение — лет через тридцать по спидометру очень похожий мужик с очень похожей собакой пробежал в обратную сторону. Это было похоже на некий обмен дружескими делегациями.
Кошмар!
Несколько минут я мчался мимо остатков Железной Стены, наблюдая взрывы и оборванцев с оружием. Потом, вроде бы, все поутихло. Оборванцы стали чище, автоматы и базуки сменились мечами. Вместо собак временами пробегали демоны. Вместо руин появились мрачные храмы. Я по-прежнему не решался сбросить скорость и продолжал движение.
К моей дикой радости, взрывы больше не повторялись, мужики с автоматами исчезли вовсе, а граждане с мечами хоть и продолжали бегать, но стали совсем уж прозрачными и невнятными. Руины быстро отстроились, превратившись в довольно реальные здания, по улицам двинулись почти настоящие люди. Я остановился. Мир вокруг казался настоящим. Люди были одеты нормально, по улицам ездили очень красивые, но правдоподобные машины. Воздух, насыщенный выхлопными газами, однако, казался не радиоактивным. В витринах магазинов стояли муляжи продуктов. Я взвалил машину времени на плечи и зашел в один из магазинов. Там стояла длинная очередь за разливным молоком, и еще более длинная — за водкой. Поежившись, я выскочил обратно.
На меня стали обращать внимание. Кое-кто просто озирался, а какой-то тощий, подозрительно знакомый мальчик, улучив момент, когда я поставил машину времени на тротуар, попытался ее утащить. Впрочем, аппарат оказался для него достаточно тяжелым, и я отобрал его без особых хлопот.
Было так неуютно, что я торопливо двинулся к поросшим травой останкам Железной Стены. За ней, как ни удивительно, было куда чище и пристойнее. Там высились полупрозрачные купола и сверкающие акведуки. В небе пролетали космолеты. Какие-то люди, разукрашенные татуировками и частично состоящие из кибернетических протезов, вели странные, заговорщицкие беседы, но, по крайней мере, на меня смотрели снисходительно и почти дружелюбно.
— Хеллоу! — выдохнул я.
— Русский? — полюбопытствовала красивая девушка в переливающихся одеждах.
— Да…
— Ну заходи… посидишь в сторонке.
Некоторое время я посидел, слушая их разговоры. Но они, в основном, велись о проблемах лингвистики, борьбе с цивилизацией кристаллических насекомых и последних дворцовых сплетнях. Мимоходом я услышал, что девушку собираются разобрать на внутренние органы для трансплантации их собеседникам. Мне стало совсем плохо, и я заскочил в седло.
— Не советоваю, — сказала девушка вслед. Я не внял предупреждению и отправился в путь.
По эту сторону Железной Стены было одно и то же. Варвары с мечами, красивые девушки, киборги. Остановившись через пару лет, я торопливо перетащил машину времени на свою сторону и снова двинулся вперед.
Местность особенно не менялась. Видимо, сверкающие купола, тучные хлеба и астропланы совсем уж вышли из моды. Высились нормальные здания, бродили нормальные пешеходы. Я снова остановился и подобрался к какому-то магазину. Витрины были заполнены продуктами, почему-то сплошь — импортными. Внутри люди оживленно и со вкусом занимались покупками. Я почувствовал, что близок к цели. Мир этот, в общем, казался достаточно приличным и реальным. Побродив среди прохожих, я убедился, что разговоры они ведут вполне человеческие, вот только очень уж мрачные. Все они делились на две группы — одна, большая, состояла из каких-то кадаврообразных граждан, озабоченных вопросом, что сейчас модно, где и что можно купить дешевле, и как «отхватить» побольше денег. Были они настолько мерзкими и прямолинейно подлыми, что слушать их было просто противно. Вторая, более симпатичная, хоть и малочисленная группа, состояла сплошь из рефлексирующих интеллигентов. Они смотрели друг на друга и на меня с печальной, обреченной добротой. Они говорили о прекрасном, цитируя известных и элитарных авторов. Смысл их разговоров сводился к тому, что человек, по сути своей, мерзок и гнусен. Сами они, очевидно, были редкими исключениями, но никаких надежд для рода людского не питали. Наиболее потрясающим было то, что многие из них являлись телепатами, воплощениями Всемирного Разума, второй инкарнацией Христа, их охраняли законы природы и космические силы. Любой из них был способен накормить пятью хлебами тысячу голодных, не считая женщин и детей. Но они к тому вовсе не стремились, ибо были уверены, что начав действовать, немедленно поддадутся самым гнусным устремлениям и побуждениям. Немногие активные индивидуумы, пытающиеся что-либо совершить, служили иллюстрацией этого тезиса, кратковременно становясь диктаторами, извергами и кровавыми тиранами. Кажется, основной идеей, витавшей в воздухе, была пассивность, позволяющая второй группе остаться хорошими, пусть и беспомощными людьми.
Особенно меня потряс какой-то несчастный школьный учитель, потрясающе реальный и невыносимо несчастный. Он считал, что все окружающее — лишь чей-то гнусный эксперимент, и весь мир вокруг — некая модель реального, счастливого мира, крошечный кристаллик, помещенный под микроскоп. Он кричал о летающих тарелках, которые являются объективами микроскопов, о том, что жить надо достойно и радостно. Конечно же, его никто не слушал. Когда я сообразил, что бедного учителя вот-вот убьют собственные ученики, я зажмурился и перескочил на десяток лет вперед.
Ничего не изменилось!
Жадно дыша вонючим воздухом, я озирался по сторонам. Город вокруг стал настоящим донельзя, я его даже узнал — и содрогнулся. Рефлексирующие интеллигенты мужественно брали в руки автоматы Калашникова и палили по цепочкам солдат, по несущимся в небе призракам, по вылезающим из земли исполинским зверям. Все было тускло, серо, гнило, омерзительно — и при этом словно бы правдиво. Мне захотелось лечь на грязную мостовую и помереть. Из ступора меня вывел очередной малыш с горящими глазами, который попросил у меня машину времени — покататься. Стало страшно, и я дал по газам, провожаемый возгласами ребенка о том, как он во мне ошибся и насколько плохи большинство взрослых.
Не знаю, сколько я несся вдоль этих миров — я закрыл глаза. Порой звучали атомные взрывы, изредка грохотали звездолеты, иногда знакомо трещали автоматы. Я ни на что не смотрел. В душе было пусто и тихо, ничего в ней не осталось, это будущее высосало меня до последней капли, заставило поверить в себя — и отшвырнуло, словно использованную зубочистку.
Потом стало тихо. Земля исчезла вообще. Я несся среди космоса, вокруг тихо угасали звезды и сворачивались в клубки туманности. Редкие звездолеты были чудовищно огромны, но необратимо разрушены. Потом Вселенная начала сворачиваться в точку, и я положил руку на клавишу стартера. Надо было возвращаться.
Но единственное, что меня еще держало — это взгляд Януса Полуэктовича и слова Корнеева. Где-то там, далеко позади, в настоящем и солнечном мире, остались друзья и коллеги, остался НИИЧАВО и Соловецк, Наина Киевна и Хома Брут, даже Амвросий Амбруазович Выбегалло…
А вокруг было Ничто. Вселенная сжалась в точку — над которой парила моя машина времени. Секунду — или миллион лет, ибо времени уже не стало, а спидометр зашкалило, она дрожала в сингулярности. Это было так тоскливо, что я закричал. Не помню уже, что я сказал, кажется, что-то очень известное и избитое. Но Вселенная стала вновь расширяться.
Звезды фейерверком пронеслись сквозь меня и превратили Ничто — в небо. Гирлянды созвездий и паутина туманностей на мгновение воссияли вокруг, но тут вспыхнуло солнце и под ногами вспухла Земля. Вокруг замелькали какие-то волосатые кроманьонцы, люди в тогах, рыцари в броне, алхимики над ретортами. Я дождался, пока мир приобрел привычные очертания, и остановился. Все было реально.
Люди — может быть, чуть поскучнее, чем в реальности, но абсолютно убедительные. Ни одного прозрачного изобретателя или идиота с мечом и автоматом. Минуту я переводил дыхание, озираясь. Вот пробежал мальчик с удочкой, но он вовсе не стремился завести со мной умную беседу или спереть машину времени. Вот подошел милиционер, очень похожий на сержанта Ковалева. Он-то явно собирался со мной побеседовать, но я дал по газам, и перенесся на пару лет вперед. Кажется, это и был тот мир, который я искал.
Я закурил, оглядываясь по сторонам. Здесь, конечно, еще не делали ЭВМ, помещавшихся в маленький чемоданчик. Но все было столь вещественно, что я не сомневался — именно здесь пиратствовал Выбегалло.
Решив останавливаться каждые два года, я выжал сцепление и отправился в путь. Мне потребовалось совсем немного времени. Всего пятнадцать остановок. Потом я ударил по клавише стартера, и машина времени провалилась обратно.
В реальность…
— …Это м-мерзко и от-твратительно! — кричал где-то рядом Федор Симеонович. — В-вам придется отвечать, г-гражданин Выбегалло!
— Позвольте-позвольте! — грохотал бас Амвросия Амбруазовича. — Же-не сюи па фотиф![8] Молодежь нынче пошла… слабонервная! Нас царские жандармы не запугали! Не смейте мне хамить, Киврин!
— Тихо, — сказал Янус Полуэктович. Очень спокойно, но веско. И сразу наступила тишина. Я открыл глаза и увидел, что все смотрят на меня. С таким сочувствием, что мне стало неудобно.
— Ребята… бросьте вы… — прошептал я, поднимаясь. Корнеев помог мне, радостно гаркнув:
— О, очухался Привалов!
Поддерживаемый Витькой и Романом, я встал. Растерянно сказал:
— Извините, пожалуйста…
— Что вы, что вы, г-голубчик, вы прекрасно д-держались… — отворачиваясь, сказал Киврин. Кристобаль Хозевич молча подошел ко мне, хлопнул по плечу, и, словно смутившись своего порыва, отошел в сторону.
— Полагаю, все мы убедились… мир тот — достаточно материален, — сказал Невструев. Выбегалло радостно закивал.
— Единственный вопрос, стоящий перед нами, каким законным образом можно осуществлять… ну, скажем мягко — обмен технологиями с этим миром.
— Как это каким? — завопил Выбегалло. — Налицо, понимаете ли, мой героический эксперимент… и экскурсия товарища Привалова — налицо! Садимся, едем, и добываем культуру материальную и духовную! Милости просим!
— Привалов, вы согласились бы еще раз там побывать? — спросил Невструев.
Я покачал головой.
— Нет, Янус Полуэктович. Извините, нет. Давайте лучше я на картошку съезжу.
— Полагаю, это общее мнение? — спросил Невструев. Никто ему не возразил.
Тогда Выбегалло всплеснул руками:
— Как же это, товарищи? Где ваше гражданское мужество?
— Вы проделали это путешествие без колебаний, не так ли, Амвросий Амбруазович? — спросил Хунта.
Выбегалло гордо кивнул:
— Да! И никакое слабоволие и малодушие надо мной не довлело!
— Это не малодушие. Это чистоплотность, — холодно сказал Невструев. — Что ж, тогда это тема будет поручена вам лично, Амвросий Амбруазович. Опыт у вас есть, силы духа — не занимать. Поработайте во благо народных закромов.
Выбегалло замолчал, хватая ртом воздух. А Янус Полуэктович продолжил:
— Остаются, конечно, открытыми ряд вопросов. Например — с обменом валюты, ибо даже новые, шестьдесят первого года, рубли вам не помогут. Но мы, со своей стороны, добьемся валютных ассигнований. Иной вопрос — как к вам отнесутся… там?
— Инсинуации, — косясь на корреспондентов, сказал Амвросий Амбруазович. — Выбегалло чист перед законом!
— Работа вам предстоит трудная, но интересная, — никак не реагируя на Выбегалло, говорил Невструев. — Вы согласны, не так ли?
Амвросий Амбруазович помолчал секунду. Похоже, он взвешивал все плюсы и минусы. По лицам ребят я видел, что они волнуются. Но я был спокоен.
Они просто наблюдали за моим путешествием.
А я — был там.
Выбегалло, конечно, не прочь урвать «чего-нибудь этакого» из мира за пределом времен. Но бывать там регулярно…
Он был, конечно, дурак, но дурак осторожный и трусливый.
— Своевременно заостренный вопрос! — сказал Выбегалло. — Очень правильная постановка проблемы! Что нам эти вещи… сомнительного производства? Что, я спрашиваю, товарищи? Что лучше — несуществующая культура придуманного мира, или наши дорогие сотрудники?
— Как ни странно, даже вы — лучше, — сказал Жиан Жиакомо. — Никогда не подозревал себя в возможности такого признания… но, сеньоры… честность побуждает признаться.
А Выбегалло несло…
— Надо еще разобраться со многими вопросами! — размахивая руками перед шарахающимся Питомником, говорил он. — Кто создал этот… с позволения сказать — времяход? Кто напридумывал эти неаппетитные миры, а? Имя, товарищи, имя!
Все уже постепенно расходились. Киврин и Хунта дискутировали вопрос, что лучше — отправить все привезенные предметы назад, в будущее, или сдать на хранение в Изнакурнож. Янус Полуэктович что-то дружелюбно говорил Седловому, и тот растерянно кивал головой… Корнеев грубо пихал меня под ребра и усмехался. Ойра-Ойра, поглядывая на чемоданчик с ЭВМ, спросил:
— Скоро у нас такие появятся, Сашка? Что-то я невнимательно за спидометром следил…
— Лет тридцать, — сказал я. — Впрочем, не знаю. Это там — тридцать лет. А как у нас… не знаю.
— Пойдем, перекурим, — предложил мне Амперян. И таинственно похлопал себя по оттопыренному карману пиджака. Я вспомнил, что к Эдику на днях приезжал в гости отец из Дилижана, и кивнул:
— Сейчас, Эдик. Минутку.
Из кабинета уже почти все вышли, когда я подумал — а зачем, собственно? Неужели мне хочется знать ответ?
И я тоже двинулся к выходу, когда Янус Полуэктович негромко сказал:
— А вас, Привалов, попрошу остаться.
И почему-то усмехнулся…
Мы с директором остались вдвоем, и Невструев, прохаживаясь у стенда с машиной времени, сказал:
— Все-таки, Саша, вы по-прежнему думаете, что одним правильно поставленным вопросом можно разрешить все проблемы… Ну, спрашивайте.
Я колебался. Мне и впрямь хотелось знать, почему тот мир в конце времен был так реален. И возможно ли было его придумать… в человеческих ли это силах? Но я справился с искушением и покачал головой:
— Янус Полуэктович, можно, я лучше другое спрошу? Мы с Корнеевым… правильно соединили?
— Колесо Фортуны? — Невструев покачал головой. — Нет, конечно. Ни одна попытка остановить Колесо Фортуны не заканчивалась удачей. Равно как попытки разогнать его… или остановить. И попытка вернуть его в прежнее состояние — тоже лишь благая мечта, которую уже не осуществить.
Мы оба молчали. Я ждал, пока Невструев закончит, а он смотрел куда-то далеко-далеко… в будущее. Янус вздохнул и продолжил:
— Но самое удивительное, что ничего страшного в этом нет, Привалов. Поверьте.
— Я хочу вам верить, — признался я. — Можно идти? У меня работы еще… невпроворот.
— Идите, Саша. Работа… да и Амперян с Корнеевым вас ждут.
У самых дверей, когда я посторонился, пропуская грузчиков-домовых, среди которых мелькнула добродушная физиономия Кеши, я не утерпел и снова повернулся к Невструеву.
— Янус Полуэктович, а почему вы вчера мне говорили, что неделя будет тяжелая?
— Говорил? Вчера? — Невструев приподнял брови и улыбнулся. — Запамятовал, признаться… Ну, так неделя ведь только начинается, Саша.
— Да? — растерянно спросил я.
— Конечно, — с иронией ответил Невструев. — Вы это скоро поймете.
Позже я действительно это понял.
Но это, конечно, уже совсем-совсем другая история.
Ант Скаландис
Предисловие автора
Так уж вышло, что я поздно познакомился с творчеством Стругацких. Я был уже в десятом классе, когда мне впервые попала в руки книга этих авторов — «Полдень. XXII век» и «Малыш» под одной обложкой. А может быть, и не поздно, может быть, в самый раз?
«Малыш» оказался не совсем понятной, но завораживающей, потрясающе красивой, поэтичной сказкой, в которую я влюбился раз и навсегда. Несколько лет спустя, не в силах расстаться с этой повестью, я решил выучить ее наизусть, уезжая на два месяца в стройотряд. Времени и сил хватило на первые три главы, но думаю, что и сегодня я могу, что называется, с похмелья и спросонья выдать наизусть начало этой книги — страницы две, как минимум.
А вот «Полдень» стал для меня сразу законченным образом того мира, который хотелось строить и в которой хотелось жить. Я, как и многие тогда, еще верил в коммунизм (шел 1976 год), и как прекрасно, что у меня была возможность верить в коммунизм по Стругацким. Честно говоря, я в него до сих пор верю, несмотря на все перестройки и путчи, и, скажу вам по секрету, не вижу никакой разницы между коммунизмом Стругацких и «коммунизмом» Азимова, Кларка или Саймака. Просто они этого одиозного слова не употребляют — вот и вся разница.
Ну а потом был седьмой том «БСФ» — «Трудно быть богом» — поразительный взлет героической романтики и сатиры, философии и тонкой лирики; и «Понедельник» — абсолютно новый для меня жанр, открывший одновременно окошко в прошлое — в ностальгически идеализируемые мною шестидесятые годы; и — окошко в будущее — в конкретное, мое, личное будущее, в весьма счастливый период работы в двух «совковых» НИИ, а также в абстрактное счастливое будущее абстрактного человека, у которого понедельник начинается в субботу.
Ну а потом, как говорится, началось. Началась охота за всеми вещами Стругацких, и жадное многократное чтение, и перепечатка на машинке, и снятие фотокопий, и ксерокс, и покупка книг на Кузнецком за сумасшедшие деньги. В нашем институте фактически существовал неофициальный клуб поклонников Стругацких, так же как и я сходивших с ума по всему написанному ими. Да, мы были не слишком оригинальны, но мы же ничего не знали тогда об уже зарождавшихся фэн-клубах и будущих конвенциях. Мы просто читали Стругацких.
Выделю еще лишь три повести, вошедшие в мою жизнь в те годы: «Пикник», вдруг перевернувший, поставивший с ног на голову все мое пижонское, диалектически парадоксальное, почти манихейское мировоззрение, заставивший враз поверить в счастье для всех и даром, «Миллиард», потрясший своей чисто литературной силищей, глобальностью философского замаха и — тогда еще не дошедшей, но воспринятой на уровне ощущения — жгучей актуальностью; «Жук» — по-настоящему испугавший, повергший в тоску и метафизический ужас перед силами, зла и жестокими законами реальной жизни.
А потом наконец свершилось.
Первый раз повесть «Гадкие лебеди» я прочел в 1980 году. Кажется, к тому моменту я познакомился уже со всеми вышедшими вещами Стругацких. А «Лебеди» были самой запрещенной, самой труднодоставаемой, самой скандальной книгой. О ней ходило много всяких слухов. О публикации в «Звезде Востока» и перечислении гонорара пострадавшему от землетрясения Ташкенту, об изъятом тираже этого журнала, о несогласованной с авторами переправке через границу рукописи и бесчисленных изданиях во всех «Посевах» и «Чехов паблишерз», о том, как Аркадия Натановича вызывали на Лубянку (или Бориса Натановича в Большой дом) и спрашивали: «Ну, как там ваши птички?» А на черном рынке зарубежное издание «Гадких лебедей» на русском языке стоило 250 (!) рублей. Переведите в современные цены — какая книга сегодня может стоить два с половиной миллиона?
В общем, когда в перерыве между лекциями я сел в скверике на Миусской и открыл наконец-то попавших мне в руки «Лебедей», ожидания были велики. И это оказался тот случай, когда книга не обманула ожидании. Я до сих пор считаю ее лучшей у Стругацких. А тогда… Ни на какие лекции я уже, конечно, не попал, потому что просто не смог подняться со скамейки, не перелистнув последнюю страницу. А страница была большая. Из почти папиросной бумаги. Пятый экземпляр на машинке, перепечатанный хорошо если не в десятый раз. Можно себе представить, сколько там было опечаток, ошибок и даже пропусков.
А позднее — это было уже в 82-м — мне дали на неделю какой-то четвертый ксерокс с парижского, как уверяли, издания (титульный лист отсутствовал). Многие места читались по этому тексту с трудом, но все-таки это было издание, вычитанное профессиональным редактором и корректором. В общем, я взялся править свой экземпляр. Это была долгая, трудная и приятная работа. Я воссоздавал любимую книгу, как реставратор. Я открывал для себя новые, ранее не читанные слова, фразы, а иногда целые абзацы и даже страницы. А в некоторых местах провалы ксерокса трагически совпадали с пропусками перепечатки, и тогда мне что-то приходилось додумывать, достраивать, дописывать самому. Так что к концу работы мне уже начинало казаться, что я сам написал эту книгу, — этакая мания величия.
И конечно, сколько раз я ни перечитывал эту повесть, мне всегда ее не хватало: хотелось еще, хотелось дальше, дальше, дальше… Кто бы написал? Самому, что ли, написать? Смешно…
Мог ли я подумать тогда, что тринадцать лет спустя действительно буду сочинять продолжение «Гадких лебедей» — не просто сочинять — серьезно работать для публикации в этой (!) стране, да еще по заказу? Дурдом!
И, знаете, мне было очень легко работать над этой вещью. Ведь мое (да не только мое — целого поколения!) творчество выросло на книгах Стругацких, и с самого начала профессиональной литературной работы я старательно, последовательно и не без труда (ох, не без труда!) давил в себе естественное стремление подражать стилю Стругацких. Господи! Как приятно было расслабиться на этот раз!
Вот почему я не мог не написать эту повесть. Вот почему, собственно, я написал именно эту.
И как же жаль, что нет уже Аркадия Натановича. И как же хорошо, что по-прежнему с нами Борис Натанович.
Вторая попытка
1
Вдоль потрескавшегося, запорошенного пылью бордюрного камня четко виднелась вереница маленьких следов на размякшем асфальте — круглые дырочки от каблучков-шпилек примерно через каждые полметра и практически на одной линии. Дырочки были неглубокие.
«Удивительно красивая походка, — подумал Виктор. — Так ходят канатоходцы и манекенщицы. Идет как пишет. — И тут же вспомнилось лишнее. Из классики: — А пишет как Лева. А Лева…»
Виктор отогнал эту ассоциацию и представил себе, как шла по улице эта легкая, изящная, нездешней красоты девушка. Белое, да, обязательно белое, очень короткое и совершенно воздушное платье, сильные загорелые ноги, руки тонкие, невесомые, как крылья, высокая девичья грудь, черные локоны по плечам, брови вразлет и огромные синие глаза. Она шла улыбаясь, победительно глядя перед собой и поверх этой улицы, поверх чахлых деревьев и кособоких выцветших ларьков, поверх всех мужчин, против воли оглядывающихся на нее, и их жен, грубо отворачивающих ладонями лица своих благоверных со словами: «И ты туда же, старый козел, — на девочек потянуло!»
Виктор автоматически, не думая, пошел вдоль цепочки чарующих следов и свернул с проспекта Свободы в переулок, где уже не было ни полусдохших лип, ни пыльных киосков, а сквозь асфальт тротуара нагло пролезала настоящая верблюжья колючка. Здесь было совсем тихо. Молчаливые двухэтажки и пустая выжженная солнцем дорога, насколько хватал глаз. Лишь в самом далеке, где этот переулок с издевательским названием «улица Прохладная» сбегал вниз, к бывшей набережной, что-то шевелилось, но было не разобрать, люди это, машина или лошадь, а может быть, просто колышется раскаленное марево.
Народу на улицах в такой час вообще попадалось не много. Три пополудни. Сиеста.
Господи, подумал Виктор, кто в этом городе вообще слышал такое слово — сиеста! — в те времена, когда перед самой войной он проходил здесь службу. В самоволку они бегали с ребятами купаться на реку, переплывали без малого полкилометра и подкарауливали на том берегу деревенских девок, купавшихся без одежды, таскали с грядок огурцы, яблоки из садов — садов было полно прямо в городе; мерзли холодными августовскими ночами, если случалось оказаться в карауле. Их часть стояла неподалеку от Лагеря бедуинов на высоком берегу реки. Бедуины мерзли еще сильнее, кутались в свои синие балахоны, жгли костры. Поговаривали, что никакие они на самом деле не бедуины. Ну помилуйте, какие в нашей средней полосе бедуины? Говорили, что это просто цыгане, только мусульманской веры. Другие утверждали, что это депортированные чеченцы. Были еще какие-то предположения относительно национальности беженцев, но весь город все равно называл их бедуинами. А потом грянула война. Часть, где служил Виктор, бросили на фронт, и никогда больше он не попадала этот город, да и что в нем было делать? А вот теперь занесло.
— Здравствуйте, господин Банев, — отвлек его от воспоминаний незнакомый вежливый голос.
Виктор поднял глаза от дырочек на асфальте и увидел идущего навстречу бедуина, заросшего до глаз черной бородой и угрюмо смотрящего из-под синего своего капюшона.
— Здравствуйте, — так же вежливо ответил Виктор, недоумевая, с чего это незнакомый человек решил здороваться.
Давно прошли те времена, когда его узнавали на улице как модного писателя, часто мелькавшего на телевидении.
Ох, не к добру это все, мелькнуло в голове, ох, не к добру. И стало как-то по-особенному жарко и душно, хотя, казалось бы, уже пора привыкнуть к тридцати двум в тени и неподвижному воздуху.
Именно здесь, на Прохладной, находился ресторанчик «У Тэдди». Виктор не планировал заходить туда так рано, но теперь понял, что настало время пропустить хоть один стаканчик сухого «мартини» со льдом и лимонным соком или… А как же следы? Ну что за мальчишество, право? И все-таки сначала стаканчик, потом дальше по следам.
Он представил себе полумрак ресторанной залы (да, именно залы, а не зала), приглушенную музыку, вентиляторы над столами (или уже починили кондиционеры?) и высокий, узкий, запотевший бокал с мутноватой чуть желтой жидкостью, в которой плавают хрустально блестящие кубики. Он даже чуть было не ускорил шаг, забыв, что от этого сразу лоб покрывается испариной, а рубашка прилипает к спине.
Волшебные следы на асфальте свернули точно к дверям ресторана. Виктор пригляделся. Второго, обратного ряда ямочек нигде видно не было. Едва ли она ушла босиком. Вот это сюрприз!
— Жарко сегодня, — традиционно полуспросил-полусообщил старик-швейцар, словно за последние два года здесь хоть один день было не жарко.
А когда глаза привыкли к полутьме, он сразу увидел ее. У тонких каблучков чистых как снег босоножек кончики были выпачканы асфальтом, а вместо белого платья она надела линялые джинсовые шорты с бахромой и лимонно-желтую яркую рубашку, кажется мужскую, завязанную узлом на животе. В остальном Виктор все угадал. Девушка, лет семнадцати от роду, была само совершенство. Она сидела на высоком табурете, чуть покачивая сильными загорелыми ногами, и, изящно отбросив со лба черную прядь тонкими пальцами пианистки, с любопытством уставила на вошедшего Виктора свои огромные — нет, не синие (еще одна ошибка!) — зеленые, ярко-зеленые глаза, зеленее, чем замороженный «дайкири» в высоком бокале перед ней.
И вдруг пропали все звуки ресторана, а тяжелый сумрак стал растворяться в розовато-золотистом тумане, как это бывает в лесу на восходе, и тишина наполнилась нежным шелестом деревьев, птичьими трелями, тихими звуками падающих капель росы, и среди этой зелени и свежести не было никого, только она, и губы ее шептали, и было не слышно что, но было же ясно, ясно… И Виктор пошел ей навстречу, как лунатик, и зацепился за чье-то кресло и чуть не упал. Мир вернулся в свое обычное состояние.
По какому-то наитию, быть может с подачи только что встреченного бедуина, он кивнул девушке как давней хорошей знакомой, и она, обворожительно улыбнувшись, сказала:
— Здравствуйте.
И, к счастью, не добавила «господин Банев» — это бы его сейчас не порадовало.
— Привет, Виктор, — сказал Тэдди. — Тебе как всегда?
— Привет, Тэдди. И, пожалуйста, тарелочку свекольника. Можно тоже со льдом.
— Разумеется!
Кажется, Тэдди теперь уже ничего не подавал безо льда. Появились какие-то немыслимые блюда типа замороженного плова и яичницы под снегом, а также сугубо сухопутный напиток — ледяной грог, то бишь охлажденный разбавленный ром с сахаром.
Виктор зажмурился, не в силах просто отвернуться от девушки, и наконец посмотрела зал. За обычным столиком уже сидела обычная компания. И увидев Рема Квадригу, доктора гонорис кауза в белой рубашке и ярко-красном шейном платке, он вдруг понял, почему сегодня все собрались тут в несусветную рань. Праздник же. День Независимости. Но у нас не Америка, где Четвертое июля не заметить никак нельзя, у нас про этот новый праздник мало кто помнит, особенно среди такой публики: одни совсем не работают, другие работают странно, в общем, понятие выходного дня для всех стало относительным.
В кресле у окна грузно расплылся Голем со стаканом пива. Слева от него Квадрига пялился уже мутными глазами в полупустую, но еще потную бутылку рома. Заказывать ром бутылками было глупо, он слишком быстро нагревался даже здесь, но доктор не мог изменить своим привычкам. А вот справа от Голема сидел подтянутый нестарый человек с военной выправкой, но одетый в спортивные брюки и тенниску. Молодой генерал на отдыхе. Ну, может быть, не генерал, но уж полковник точно.
— Познакомьтесь, Виктор, это губернский инспектор по делам национальностей господин Думбель.
— Антон, — представился Думбель, чуть подавшись вперед в кресле.
— А что, Антон, — поинтересовался Виктор, глядя на два принесенных ему стаканчика и выбирая между ледяным финским «минтту» и итальянским сухим «мартини», — какие-то национальности в нашей стране уже требуют инспектирования?
— Удивительная неосведомленность для писателя! — хмыкнул Антон. — Национальный вопрос всегда был у нас самым важным, я бы сказал, больным вопросом, а сегодня, когда все так накалилось… Вы что, в самом деле газет не читаете?
— Я же вам объяснял, Антон, — сказал Голем, — писатели — народ удивительно необразованный и ничем не интересующийся, кроме собственной персоны.
— Ну, уж это вы слишком, — обиделся Виктор.
— Кстати, о писателях, — сказал Думбель. — Дайте почитать вашу последнюю книгу.
— Какую именно? — Виктор решил проверить новоявленного поклонника.
— «Черный рассвет», разумеется.
— О! А что, остальные мои книги вы уже все прочли?
— Практически все, — ответил Думбель серьезно.
— Но у меня нет с собой «Черного рассвета», — немного растерялся Виктор. — Я попрошу, чтобы мне прислали для вас.
— Саксаулы, — проворчал Квадрига. — Вараны. И раскаленный песок.
— Вот что, Голем, — Виктор повернулся вполоборота в кресле, чтобы видеть зеленоглазую девушку, — вы же все и всех знаете. Расскажите мне, кто эта прекрасная юная леди за стойкой бара. Лучше бы, в самом деле, с ней меня познакомили, чем с каким-то инспектором по делам лиц юго-восточной национальности.
— Экий вы, право, неприветливый! — буркнул Антон и тоже поглядел на девушку.
А к юной леди в этот момент подошел юный джентльмен в форме цвета сафари с кобурой на боку, и они начали мило чирикать.
— Так это же Селена, — сообщил Голем, — дочка нового губернатора. А с нею рядом Фарим — председатель СВПВ, Совета ветеранов Последней войны.
— Того, кто с нею рядом, я предпочел бы не видеть, — заметил Виктор.
— Вот видите, какой вы! — подначил Голем. — Это же нетерпимость. А не хотите признавать национальных проблем.
— Не хочу. Национальные проблемы специально придумывают для того, чтобы потом списать на них все: от стихийных бедствий и венерических болезней до бездарности правительства. И потом, кто вам сказал, что я не люблю этого молодого человека за его национальность или за его принадлежность к Совету ветеранов. Я просто не люблю всех молодых людей, стоящих рядом с такими милыми девушками.
— Седина в бороду — бес в ребро, — прокомментировал Антон.
— Так точно, господин…
— Капитан, — подсказал Думбель.
«Неужели?» — подумал Виктор. А впрочем, в известных ведомствах быть капитаном — немалая честь, да и зарплата там у капитана, думается, приличная. А ведь ты похож на человека оттуда, похож, Антон Думбель.
Потом он подумал о другом. «Седина в бороду…» Он давно уже перестал понимать, сколько ему лет. На здоровье не жаловался, и любовницы на него не жаловались, он был в отличной форме, но… совершенно взрослая, уже слишком взрослая Ирма, и двое внуков, и столько всего позади… Однако это прошлое было теперь словно в дымке, словно и не с ним это было, просто он все сочинил, а сегодня начал с нуля, сел к столу перед чистым листом бумаги и начал…
Потягивая холодный «мартини», он непроизвольно расправил плечи, как, бывало, много лет назад в этом же городе, стоя на плацу, много лет назад, когда на стрельбах было еще интересно и романтично держать в руках автоматическую винтовку, потому что тогда еще никого не надо было из этой винтовки убивать… И он вдруг почувствовал себя ужасным стариком — старше согбенного Квадриги и располневшего, тучного Голема.
Лихой юноша Фарим неожиданно распрощался с дочкой губернатора, и Голем окликнул ее:
— Селена! Идите к нам. Или вы предпочитаете компанию Тэдди?
Тэдди, довольный, улыбнулся, а Селена приняла приглашение и, забрав свой бокал с тростинкой, подсела к столу прямо напротив Виктора.
Квадрига галантно поцеловал ей ручку и немедленно представился:
— Доктор гонорис кауза Рем Квадрига. Вы согласитесь позировать мне, мисс?
— Я подумаю, — ответила Селена очень просто и мило.
— Вы бы для начала поинтересовались, в одежде или без, — с армейской прямотой посоветовал Антон.
— Это неважно, — так же просто и небрежно откликнулась девушка.
— Вам заказать еще «дайкири»? — предложил Виктор.
— Да, — сказала она ему, словно они уже час сидели тут вместе. — И учтите: сегодня я пью только «дайкири». Я вообще, как правило, пью только замороженный «дайкири».
— Это прекрасно, Селена, просто замечательно! — заявил Виктор, чувствуя, как начинает пьянеть, и радуясь этому. — «Дайкири» для юной леди и двойную ментоловой для меня. А вот скажите, Селена, мы тут с господином инспектором несколько по-разному смотрим на национальный вопрос. Как вы относитесь к этой проблеме?
— Что именно вам хотелось бы узнать? — улыбнулась Селена.
— Голем, объясните, у вас это лучше получается.
— Отчего же лучше?
— Оттого, что вы — коммунист, а коммунисты давно решили национальный вопрос, создав новую общность людей — советский народ.
— Вы забываете, Виктуар, что я не просто коммунист, — решил откреститься Голем от советского народа. — Я — коммунист с человеческим лицом.
— Зюгановец, что ли? — робко поинтересовался Антон, но не был услышан и задал другой вопрос: — А бывает фашизм с человеческим лицом?
— Думаю, что нет, — серьезно ответила Селена. И вдруг добавила: — Зато бывает фашизм с лицом бедуина.
За столиком стало невероятно тихо. Не хватало только мухи, которой в таких случаях полагается пролететь.
Потом Квадрига сказал:
— Барханы. Суховей. Пробковые шлемы. И кипяток в кожухе пулемета.
Сделалось еще тише. Антон едва заметно повернул голову и быстро поводил глазами из стороны в сторону.
За столик в углу усаживались двое — постоянные посетители ресторана «У Тэдди», — долговязый, которого Виктор окрестил профессионалом, и его спутник — молодой человек в сильных очках и с неизменным портфелем.
— Ты абсолютно уверена в этом? — спросил Голем незнакомым Виктору вкрадчивым голосом. И глаза у него при этом стали какие-то странные, мутные, словно он вдруг начал засыпать.
— Да! — с вызовом ответила Селена.
Она была ужасно красивой в этот момент, и Виктор совершенно не представлял себе, как ему надо реагировать.
— Уволю, — прошипел Голем.
— Ну и ладно, пойду к папаше в департамент, — отпарировала Селена.
— Не пойдешь, — сказал Голем. — Ты там помрешь от скуки.
— И то верно, — миролюбиво согласилась Селена.
Инцидент, кажется, был исчерпан.
И вдруг Квадрига вопросил совершенно трезвым голосом:
— А разрешите поинтересоваться, господа, почему это Лагерь бедуинов охраняют подразделения президентской гвардии?
Снова над столиком повисла тишина, а потом всезнающий Голем сообщил:
— Потому что национальный вопрос в нашей стране всегда был самым важным.
— Для справки, — доверительно шепнул Думбель Виктору, нарочито не реагируя на реплику Голема, — Лагерь бедуинов охраняют не подразделения президентской гвардии, а спецподразделения самообороны бедуинов.
— Правда? — Виктор удивленно поднял брови и налил себе почему-то рому из бутылки доктора гонорис кауза. — У них уже есть подразделения самообороны?
— О, дорогой мой необразованный писатель, у них еще, много чего есть, о чем мы с вами и не догадываемся.
Виктор вдруг вспомнил: бедуины всегда считались выдумщиками. Они точно предсказывали погоду, на территории Лагеря выращивали всякие странные овощи и грецкий орех (кто бы поверил, но на городском рынке орехи были дешевле, чем в южных провинциях), показывали удивительные карточные фокусы, а игрой на флейте усыпляли крыс, после чего мальчишки таскали животных за голые хвосты и бросали в реку. Может быть, крысы и просыпались, но уже под водой. Ходили слухи, что они и с людьми могут так же. Бедуинов побаивались. Но ненависти к ним никогда раньше не было. А вот теперь ненависть налицо. И у этого лощеного подозрительного Антона, и у очаровательной Селены. Виктор просто отказывался понимать, что происходит. Он выпил еще рюмку ментоловой и спросил:
— А что, Голем, бедуины действительно больные люди?
— Физически — нет, конечно.
— Бросьте, Голем, вы же психиатр, и я не о физических болезнях вас спрашиваю.
Голем опрокинул рюмку коньяку, несмотря на изрядное количество выпитого до этого пива, и сказал:
— Видите ли, Виктуар, о том, что такое психическое заболевание, современная наука имеет очень слабое представление. Совершенно не исключено, что это мы все больны, а бедуины абсолютно здоровы.
— Простите, доктор, но это же старо как мир, — отмахнулся Антон, — мне просто скучно вас слушать.
— А мне скучно слушать вас всех, — вдруг жарко зашептала на ухо Виктору Селена. — Пойдемте отсюда, а!
— Куда? — также шепотом поинтересовался Виктор.
— Какая разница — куда. Я давно хотела с вами поговорить.
— Хорошо, милая. Сейчас пойдем. Подождете минутку?
«Вот это да, — думал Виктор, вставая и подходя к стойке, — вот это да!»
— Тэдди, сделай мне «мартини» со льдом в термосе. И джину — в маленьком плоском. Ладно? Я возьму с собой.
— Господин Банев, у меня для вас всегда готово заранее. Возьмите.
Он попрощался со всеми кивком, демонстративно взял Селену под руку и, выходя из ресторана, еще услышал, как Квадрига вещал за столиком:
— Скорпионы. Кактусы. «Стингер» на плече. И песчаные бури.
2
Было такое ощущение, что на улице стало еще жарче. Селена взяла невероятно высокий темп, и Виктор мгновенно взмок.
— Мы куда-то торопимся? — поинтересовался он.
— Да, — откровенно призналась девушка. — На самом деле я бы очень хотела быть на центральной площади ровно в пять.
— А-а-а, — протянул Виктор.
Очень мило, если эта хитрая девчонка назначила на пять часов свидание, а меня решила использовать в качестве провожатого (в сиесту, говорят, небезопасно ходить по городу одной) или, того веселее, если она станет давить на психику своего хахаля: «Видал, какие люди со мной ходят. Сам писатель Банев! Не читал, что ли, темнота?!»
На углу проспекта Свободы и улицы Новых гуманистов (бывшей Патриотической) стоял огромный туравтобус, и в него грузились загорелые мордовороты из прославленной команды ватерполистов «Речные волки». В городе поговаривали, что бассейн в спортивном комплексе переоборудован в обычную площадку и «Волки» готовятся теперь к чемпионату по гандболу, вспоминали даже анекдот про психов, которым обещали налить воду в бассейн, если будут хорошо себя вести. А несчастным спортсменам, похоже, и того не обещали: лица у них были понурые и блестящие от пота.
«Господи, куда же она так несется? — еще раз подумал Виктор. — Действительно, опаздывает на свидание».
Но когда перед ними открылась площадь, он оставил эти мысли. На площади было что-то не в порядке. Слишком много народу было на площади. День Независимости, понятно. Но как-то совсем не празднично гулял сегодня городской люд: все кучнились небольшими группками — старики отдельно, женщины отдельно, военные — отдельно. Большим красным пятном выделялись коммунисты. И серыми крысами шныряли президентские гвардейцы. Длинные черные фигуры полицейских маячили в специально отведенных для них местах, усиленно пытаясь убедить себя и окружающих, что все в порядке, все хорошо, пока они стоят на страже закона, хотя давно уже стало общеизвестно: сторожить в этом городе и нечего, и некому.
И вдруг Виктор понял, что было самым странным на центральной площади. Здесь совсем не было случайных людей: одиноких старушек, мамочек с колясками, веселых пьяниц, распевающих патриотические песни, деловитых бизнесменов с дипломатами, работающих даже по выходным, зевак, пришедших поглазеть на демонстрацию и митинг, бедуинов, молчаливо бредущих сквозь толпу, праздношатающейся молодежи, и совсем, совсем не было детей — этих вездесущих мальчишек и девчонок, удравших из дома несмотря на запреты родителей.
Виктор мог бы счесть себя единственным случайно пришедшим человеком, но это тоже было не так — ведь его привела Селена, спешащая точно к пяти часам.
Было уже без двух, когда со стороны набережной послышался приглушенный неясный шум, а затем в облаке пыли на площадь вступила колонна демонстрантов. Демонстрантов ли?
Все в одинаковой песочной форме цвета сафари, в панамах, в высоких легких ботинках на пробковой подошве и с голыми руками. Оружие было только у лидеров, вышагивающих впереди, — пистолеты в кобурах и несколько автоматов. Они шли молча, без музыки, без флагов и транспарантов, не в ногу, но очень, очень стройными рядами.
Полицейские даже не шелохнулись. А собравшиеся на площади уступили колонне дорогу. Все, даже краснознаменные коммунисты, опасливо сместившиеся в угол. Гвардейцы же двигались вдоль колонны с обеих сторон, явно сопровождая ее, непонятно было только, охраняют ли они колонну от толпы или, наоборот, всех остальных людей — от демонстрантов.
Демонстранты… Это были дети. Ну, может быть, не совсем дети, правильней было бы сказать, тинейджеры, но среди них точно не было никого старше двадцати, и Виктор готов был поклясться, что пареньку и девчушке, шагавшим с автоматами в руках по обе стороны от уже знакомого ему Фарима в первом ряду, не исполнилось еще и пятнадцати. На загорелых, свежих, совсем не потеющих в эту жару лицах была радость и уверенность в себе, они шли как победители, как хозяева этого города. Младшие ни в чем не отставали от старших, девчонки — от ребят. Дети-солдаты, нет — дети-офицеры, дети, облеченные знанием и властью.
Зрелище было ошарашивающе непривычным, диковатым даже, но — вот удивительно! — не страшным. Вспоминался почему-то не гитлерюгенд, а скаутский лагерь и массовые спортивные праздники времен его детства.
Виктор посмотрел на Селену. Она улыбалась. Губами — лишь чуть-чуть, едва заметно, а в глазах ее зеленым костром пылал настоящий восторг.
— Почему ты не с ними? — спросил Виктор, очень естественно перейдя на «ты». В тот момент он говорил ей «ты» не как женщине, а как ребенку, восторженному ребенку, любующемуся красивым праздничным шествием.
— Не знаю, — ответила она рассеянно, не оборачиваясь, а потом сверкнула глазами в его сторону и добавила: — У нас нет обязаловки. А сегодня я просто хотела посмотреть на наших со стороны. Иногда это бывает очень важно.
Колонна уже целиком заполнила площадь и вдруг по едва слышному приказу с невероятной быстротой перестроилась в гигантское кольцо, в центре которого начала стремительно вырастать живая пирамида. Гвардейцы тоже быстро перестраивались в линию по кругу.
— Правда, здорово?! — выдохнула Селена, оглянувшись на Виктора всего на какое-то мгновение.
— Не знаю, — раздумчиво произнес Виктор в тон ее предыдущему ответу. — Ты можешь мне, в конце концов, объяснить, что здесь происходит?
— Не сейчас, — почему-то шепотом ответила Селена.
Тысячи детских фигур цвета сафари застыли, словно окаменевшие, и все остальные на площади тоже настороженно замерли. Только раскаленный воздух дрожал над толпой, над домами, над высохшими деревьями. И если бы не струйки пота, противно стекающие по вискам и по спине Виктора, можно было бы решить, что это само время остановило свой бег.
На самой верхушке пирамиды в середине живого кольца Фарим вскинул вверх левую руку со сжатыми в кулак пальцами, и этот жест над абсолютной неподвижностью тысяч окаменевших тел показался криком в тишине. Все взоры на площади были сейчас прикованы к его поднятой руке. Стало как будто еще тише, если только это было возможно. И тогда Фарим закричал:
— Бедуины!!! Вы слышите меня, бедуины!
Никаких бедуинов вокруг не было, и Виктор подумал, что, видимо, кто-то из них сошел с ума: либо он сам, либо этот предводитель игрушечных солдатиков.
— Бедуины! — кричал юный вождь. — Ваше время кончилось! Теперь наступает наше время! Вам конец, бедуины! Наступает время новых людей! Время свободы и независимости!
И Виктор уже приготовился заскучать от привычного до оскомины потока фраз, с неизбежностью завершаемого здравицами типа «Слава свободному народу!» или «Слава господину президенту!», когда Фарим неожиданно оборвал свое помпезное выступление, выкрикнув напоследок совсем иные слова:
— Смерть бедуинам!
— Смерть бедуинам!!! — громовым эхом отозвался весь строй цвета сафари.
И в тот же миг пирамида рассыпалась, а кольцо, окружавшее ее, стало стремительно шириться, шириться, не теряя при этом своей идеально круглой формы. И в этой невозможной, немыслимой слаженности движений было что-то дьявольское, они действовали как машины — не как люди, и они уже не шли по площади, а бежали, рассекая толпу, пронзая оцепление, легко перепрыгивая через железные ограждения, изящно огибая углы домов и припаркованные автомобили, прошивая насквозь дворы, переулки, сады с чахлыми деревьями, они бежали лучами, от центра к окраинам города, но не панически, спасаясь от кого-то (от кого им было спасаться?) и не стремясь успеть куда-то (куда им было спешить?) — нет, они бежали грациозно, как чемпионы, совершающие круг почета, и яростно, как солдаты, поднявшиеся в атаку и уверенные в своей победе.
Очень скоро площадь опустела. И вот тогда Виктор увидел бедуинов. Он бы не поручился, что их там не было раньше, но увидел он их только теперь. Бедуины стояли на крышах всех домов вокруг площади, очень близко к краям, через равные, метра в три, промежутки друг от друга, стояли молчаливые, темно-синие и безоружные. Как всегда. Стояли и смотрели вниз на суетливо мельтешащие красные флаги, на испуганно вжавшихся в стены женщин и стариков, на неподвижных, невозмутимых, словно неживых полицейских, на гвардейцев, привычно вскинувших карабины, отступающих поближе к домам и глупо водящих стволами из стороны в сторону.
— Отсюда надо уходить, Виктор, — сказала Селена все тем же шепотом, то ли испуганным то ли восторженным. — Пора. Пойдемте!
— Куда? — поинтересовался он, впрочем совершенно с нею согласный, что отсюда в любом случае пора уходить.
— Ко мне на дачу, — шепнула Селена. — Я же хотела с вами поговорить.
И в этот момент раздался первый выстрел. Очевидно, кто-то из гвардейцев все же не выдержал. Не дожидаясь второго выстрела и натиска очумевшей толпы, они кинулись вверх по переулку петляющим шагом. Виктор только еще успел оглянуться и заметить, что над крышами стало пусто, — ни одного бедуина, ни одного, только белое, выцветшее небо.
3
— Тебе не жарко? — спросил Виктор, когда они уже миновали пару кварталов и шли по совсем пустой улице в сторону вокзала. Сам он был очень мокрый и тяжело дышал.
— Жарко, — сказала Селена, — просто я тренированная, вот и не потею.
«Просто ты молодая», — подумал Виктор, но не сказал этого.
Зачем подчеркивать разницу в возрасте, тем более после всего, что они видели на площади? Он как-то совсем не хотел комментировать увиденное, заранее чувствуя, что у них будет слишком разное отношение к этим ребятам. И к бедуинам. И даже к коммунистам. Может быть, только к серым гвардейцам они относятся одинаково нежно. Но это уже не спасает дела. А ему хотелось сегодня чувствовать себя молодым и влюбленным, да он и был таким, и эта девчонка ему чертовски нравилась независимо от ее политических взглядов.
— Может быть, нам следует что-то купить по дороге? — поинтересовался Виктор. — Мороженого или фруктов. А «мартини» у меня с собой, в термосе.
— Но я же сказала, что пью сегодня только замороженный «дайкири».
— А ты его делаешь прямо у себя дома?
— Да. Имеется шейкер и все необходимое. Мороженое и фрукты тоже есть.
— Ладно, — смирился Виктор (он как-то не подумал, на какую именно дачу его пригласили), — тогда я тоже согласен пить исключительно «дайкири». А мы что, поедем на поезде?
Они пересекали вокзальную площадь, посреди которой торчал бэтээр в маскировочной пустынной раскраске и два измученных жарою десантника лениво опирались на автоматы рядом с броней.
— На электричке, — поправила Селена. — Три остановки. Просто мой «ситроен» остался в гараже, потому что меня привезли в город. А обратно я вас подброшу.
— Давненько я не ездил на электричках, — сообщил Виктор. — А что, они еще функционируют?
— Не знаю, я тоже очень редко на них езжу. Заодно и посмотрим.
Электрички функционировали. Впрочем, из четырех выжженных солнцем перронов лишь один проявлял признаки жизни: вдоль него к шестивагонному составчику, объявленному к отправлению через восемь минут, подтягивались немногочисленные пассажиры.
Вагон, в который вошли Селена и Виктор, был практически пуст, только с одной стороны, прислонившись к стеклу, сидел бедуин. Кисти рук его были спрятаны в рукава, ступней не было видно под сиденьем, а капюшон, надвинутый на глаза, практически закрывал лицо. Из синего бурнуса торчала лишь курчавая черная борода.
Селена ничего не сказала, и Виктор решил промолчать, лишь слегка покосился в сторону девушки. А бедуин как бы и не заметил их, может быть, действительно дремал.
С трудом найдя скамейку с непорезанным сиденьем, Виктор пропустил Селену к окну и сел сам, выбирая тему для светской железнодорожной беседы. Ситуация была для него несколько нестандартной, но в следующую секунду она стала еще нестандартней.
В вагон с решительностью линейного патруля вошли шесть или семь мальчишек в сафари, очевидно только что вернувшихся с площади, и сразу обступили бедуина. Бедуин поднял глаза черные, как маслины, и, выбрав, по своему разумению, старшего среди юнцов, принялся его изучать усталым, спокойным взором.
Заговорил другой, причем заговорил громко, как Фарим на митинге:
— Уважаемый господин, вы должны покинуть муниципальный транспорт! Немедленно!
Виктор уже почувствовал, как у него зачесались кулаки, но на всякий случай полюбопытствовал, наклонившись к ушку Селены:
— Мы с тобой что, сели в вагон «только для белых»? У нас уже появились такие?
— Да нет, — слегка раздраженно и быстро принялась объяснять Селена, — у нас муниципальный транспорт бесплатный, городские власти еще с начала прошлого года установили специальный транспортный налог, а бедуины, как известно, никаких налогов не платят, ну, поэтому им и не полагается пользоваться трамваями, автобусами и электричками.
— Вот как? А еще кому? Детям, инвалидам, многодетным матерям, рэкетирам, торговцам, работающим «в черную»? Кто там у нас еще не платит налогов? Может быть, писателям, издающимся за границей?
— Успокойтесь, Виктор! Я же не сказала, что сама считаю точно так же.
— Ну уж нет! — Виктор поднялся. — Пусть лучше эти твои друзья успокоятся.
А друзья совсем не собирались успокаиваться. Поскольку бедуин упрямо и в общем-то вызывающе молчал (Виктору даже показалось, что он разглядел в густой черной бороде легкую, едва заметную улыбку), молодежь заводилась все сильнее.
Первый уже кричал:
— Нет, вы покинете этот вагон! Я сказал! Вам остается одна минута, уважаемый, чтобы добровольно выйти отсюда!
(Слово «уважаемый» произносилось, конечно, с недвусмысленной интонацией.) Двое других не слишком внятно за криками первого бормотали что-то вроде: «Убирайтесь в свой Лагерь! Ишь, расходились по городу, как по пустыне! Мы вас, душманов, научим, как себя вести!»
В общем было ясно, что осталась действительно минута. И даже минуты уже не осталось, потому что один из мальцов придвинулся к бедуину вплотную.
— Не надо, не вмешивайся, — шептала Селена, от испуга, наверное, перейдя на «ты», — с ними так нельзя, ты же просто не понимаешь!
Но он не слышал ее.
«Подонки, — думал Виктор. — Шестеро на одного больного человека. Подонки».
Они его не замечали, и он подошел совсем близко и громким командным окриком перекрыл их ломающиеся от полового созревания голоса:
— Смирна-а-а!
И уже чуть тише, но так же твердо:
— Оставьте в покое этого человека.
Обычной в подобных случаях реакции — бега врассыпную, или нагловато-трусливого отступления с оскорбительными выкриками, с попытками сделать хорошую мину при плохой игре, или, наконец, делегирования одного, самого крепкого и смелого для решающего поединка с незнакомым врагом — ничего этого Виктору наблюдать не пришлось. Реакция была совершенно неожиданной.
Двое молниеносно схватили его за руки жестким хватом профессиональных полицейских, а остальные мгновенно, похоже просто инстинктивно, приняли боевые стойки, обменялись молчаливыми сигналами и приготовились к любым неожиданностям.
Это были не дети. Это были настоящие коммандос, вышколенные где-нибудь в Лэнгли или в «Мидраше» под Тель-Авивом.
Трудно сказать, что могло бы произойти дальше. Виктор так и не узнал этого. Из-за спины раздался звонкий голос Селены:
— Ребята, спокойно! Это писатель Банев, он со мной. Простите, мы просто немного выпили. Я задремала, а господин Банев… чуточку излишне понервничал.
Хватка ослабла, и Виктор позволил себе обернуться. Селена была по-военному подтянута, несмотря на свой легкомысленный наряд, смотрела строго, как начальница, что, кстати, совершенно не портило ее, а в левой руке держала развернутую желтую книжечку.
Ах, какими же всесильными были у нас всегда эти книжечки! Были и остаются. И на этих малолетних янычаров тоже подействовали не волшебные чары Селены, а ее желтая книжечка. Аусвайс.
Они уже не держали Виктора. А бедуин вновь спокойно прислонился к окну.
— Этот тоже с вами? — как бы не совсем всерьез поинтересовался старший в группе.
— Да, — решительно ответила Селена. — Мы его сопровождаем.
— Тогда и сидите рядом, — буркнул старший из младших.
— А уж это, ребята, я сделаю так, как сочту нужным. Договорились?
Старший понимающе улыбнулся и скомандовал своей банде на выход. Они едва успели выскочить, когда двери с шипением закрылись и старый раздолбанный состав, скрипя и пошатываясь, тронулся вон из города.
— Что ты им показала? — спросил Виктор спустя минут пять, когда дар речи наконец вернулся к нему. — Удостоверение дочери губернатора?
— Нет. — Она не приняла шутки. — Я — член Президиума Совета ветеранов Последней войны.
— Так ты что же, воевала?
Слова вырвались непроизвольно, и Виктор сразу почувствовал искусственность этого почти риторического вопроса.
— Да, — ответила Селена.
И они еще минут пять молчали.
Боже, думал Виктор, что же происходит в этом безумном мире? Дети воюют, взрослые пьют и развлекаются, солдаты охраняют город в мирное время, полиция не замечает происходящего вокруг, а тайная полиция, одевшись в форму, выходит на улицы с откровенностью паяцев и музыкантов. Очевидно, мир сошел с ума.
— Сколько тебе лет? — спросил Виктор.
— Двадцать, — сказала она, но он был не уверен, что услышал правду.
— Мы действительно сопровождаем этого бедуина?
— Нет.
— Тогда почему ты вступилась за него?
— Я думала, тебе это будет приятно. Ничего, что я так сразу перешла на «ты»?
— Нормально.
— Просто, когда говоришь «вы», возникает какая-то дурацкая дистанция, словно общаешься с командиром части. А я всем, вплоть до комбатов, привыкла говорить «ты».
— Тогда со мной можешь чувствовать себя спокойно, — сказал Виктор. — Я был всего лишь командиром отделения.
Через десять минут они сошли на пустую полурассыпавшуюся платформу и, дойдя до разрыва в покосившемся ржавом заборчике возле единственной на весь полустанок запыленной надписи «ПЕРЕПЕЛКИН ЛЕС», свернули по деревянным сходням в колючие придорожные заросли боярышника. За ними начиналась знаменитая, некогда красивая и тенистая дубовая роща.
Теперь деревья уже не справлялись с затянувшейся засухой. Подлесок практически вымер, трава стала бледно-желтой и мертвой, какой она бывала раньше разве что в ноябре да в середине марта. Нижние ветки даже у самых могучих дубов, вязов и елей постепенно отсыхали и падали. Странно было вспомнить, что когда-то в лес ходили за грибами и ягодами. В этот лес можно было ходить только за дровами. А кое-где дрова начинали гореть, не дожидаясь перемещения в печку. Черные пятна выжженной пожарищами земли попадались по пути несколько раз. Впрочем, по размеру пятен было видно, что на тушение лесных пожаров в эти места выезжают оперативно. Ближайшие пригороды вроде поселка Перепелкин Лес входили в так называемую санитарную зону вокруг губернского центра, но дело было, конечно, не в этом, а в расположенных здесь дачах, точнее сказать виллах ответственных работников, в том числе и из столицы.
Значимость этих затаившихся в лесной чаще «объектов» никто в общем-то и не скрывал: так, на пути к губернаторской даче Селена и Виктор миновали три поста охраны. Сначала — полицейскую будочку с козырьком, затем — двух гвардейцев в штатском и, наконец, — уже знакомых по площади и электричке суровых малолеток в сафари.
На входе в поселок Селену окликнул старик, возившийся в огороде:
— Здравствуй, Леночка! Давно не видел тебя. Скажи, у тебя помидоры растут в этом году?
— Здравствуйте, дядя Фил! Вы забыли, я не сажаю помидоров.
— А что же ты сажаешь, ласточка моя?
— Только цветы, дядя Фил.
— Цветы — дело хорошее, но пустое. То ли, скажем, огурцы. Вот славный овощ. Но они у меня уже второй год какие-то черные и совсем горькие. А помидоры просто посохли. Тяжело стало, Леночка, воду носить. Старею. Думаю вот арбузы посадить.
— Арбузы?! — удивилась Селена. — А разве им мало воды нужно?
— Да мне друг Паладин с Северной окраины обещал специальный сорт принести, говорит, вызревают практически без полива, на одной росе. А вот посмотрите, ты тоже посмотри, мил человек, — обратился он к Виктору, держа в руках клубок ярко-желтых корней, похожих на сплетенные пальцы. Один округлый корешок нахально вытарчивался в сторону, отчего весь корнеплод напоминал кулак, сложенный в форме кукиша. — Посмотри, как вот эта дрянь лезет. Поливай не поливай ее — лезет, окаянная, я уж притомился выпалывать.
— Зачем же ее выпалывать, дядя Фил, это же ручная репа.
— А ну ее к бесам, эту репу. Ручные бывают гранаты и животные. А репы у нас такой отродясь не было. Дурная она.
— Да нет, дядя Фил, — не согласилась Селена, — она вкусная.
— Ну ее к аллаху, дурная она, ей-Богу дурная…
Они уже пошли дальше, а старик все продолжал ворчать.
Виктор вспомнил ручную репу. Ее выращивали бедуины еще в те годы, когда он здесь служил. Тогда считалось, что диковинку завезли из Африки. А уже много лет спустя кто-то рассказал ему, что ни в Африке, ни в какой другой части света ничего подобного не встречается. Ручная репа была местным эндемиком и, очевидно, мутантом. От одного стебля уходило в почву несколько длинных желтых корней — этакая помесь хрена с морковкой. А когда овощ выдергивали по осени, полагалось сжимать его рукою посередине, и корни прямо на глазах, словно живые, причудливо скручивались, образуя каждый раз новую фантастическую фигуру. Конечно, в ручную репу любили играть дети. Правда, особо крупные экземпляры корнеплодов иногда больно сдавливали пальцы, и по городу даже ходили слухи о гигантской ручной репе, задушившей двухлетнего мальчика. Слухам Виктор не верил. Но ворчание добродушного симпатичного дяди Фила оставило в душе неприятный осадок.
А дача губернатора оказалась каменным особняком явно довоенной постройки, принадлежавшим тогда какому-нибудь министру или автору бессмертных эпопей о трудовом народе. Участок был огромный, с соснами, орешником и жасмином, в меру заросший, в меру солнечный, масса цветов, дорожки, посыпанные желтым песком, чуть в сторону от дома за фантастическим буйством тропической зелени посверкивало зеркало пруда или, может быть, бассейна, а перед парадным крыльцом нагло бил мощной струей настоящий фонтан. Город давно забыло таком изобилии жидкости, и в какой-то момент Виктор почувствовал себя героем Сент-Экзюпери — бедуином (или мавром, но это, кажется, одно и то же), доставленным из Сахары во Францию, который, простояв уже добрый час у водопада в Альпах, отказывается уходить, пока не кончится эта вода.
«Бедуином, — повторил он невольно. — Почувствовать себя бедуином». Да, в этом городе такие слова звучали совершенно особенно.
— Селена, — спросил он уже на ступеньках перед входом, — за что вы так не любите бедуинов?
— А вот об этом я и хотела поговорить, — охотно откликнулась Селена. — Проходи, пожалуйста.
— Папа дома? — осторожно поинтересовался Виктор на всякий случай.
— Папа живет не здесь. В пяти километрах к юго-востоку у них с мамой свой новый дом, а это — моя дача. Мы будем здесь совершенно одни, — добавила она заговорщицким тоном. — И никто-никто не помешает мне рассказать, за что я так не люблю бедуинов.
4
Но разговор начался совсем с другого.
Ослепительно белая комната на втором этаже была словно вырубленная во льду пещера. Удивительный материал пушистых мягких кресел походил на январский рассыпчатый снег, кондиционер накачивал в помещение студеный воздух с отчетливым запахом моря, фрукты, вынутые из холодильника, покрылись бусинками росы, а пенистый «дайкири» цвета карибского прибоя ничем не уступал приготовленному Тэдди. И звучала тихая ненавязчивая музыка, будившая сладковато-грустные воспоминания о юности, мечты о далеких странах и о несбыточном. Захотелось выпить просто джину. Можно даже неохлажденного. Но они договорились пить только «дайкири». И он потягивал через соломинку зеленоватый коктейль, курил и смотрел на Селену. Селена была красива. Волшебно красива.
— Ты не куришь? — спросил он. — У меня настоящие, американские.
— Нет, я никакие не курю. Я же все-таки спортсменка. Надо поддерживать форму.
— А как же «дайкири»?
— Это другое дело. Алкоголь при достаточно интенсивных тренировках полностью выводится из организма, если, конечно, пить не каждый день. Никотин — нет. Он накапливается, как все самые гнусные яды. А к тому же необратимое загрязнение легких смолами, не говоря уже о канцерогенах.
Виктор, несколько растерявшийся от этой неожиданной санпросветагитации, чуть было не загасил сигарету, но потом решил, что это будет дешевое позерство, и предпочел отделаться банальной и уже давно несмешной шуткой:
— Кто не курит и не пьет, тот здоровеньким помрет.
— Я больше люблю другое высказывание по поводу вредных привычек: «Жить вообще вредно. От этого умирают».
— Ну, это уже философия…
Они помолчали, смакуя коктейль и ощущение мягкой прохлады.
— Вот что, Виктор, мне говорили, то есть я знаю, что вы — известный писатель.
Она сделала паузу, споткнувшись об это «вы».
— Прости, я иногда еще буду сбиваться на такое обращение. И потом, по-моему, в этом контексте лучше звучит «вы».
— Сейчас нет известных писателей, — возразил Виктор. — Есть получившие признание раньше, и есть те, которых читают сегодня. Я не отношусь ни к первым, ни ко вторым. Правда, в прежние годы меня считали модным романистом.
— Ну, это вы скромничаете, — улыбнулась Селена. — Вы все-таки были по-настоящему известным, у вас было признание, вас и сегодня многие помнят, и в некоторых кругах ваше имя, я думаю, будет звучать достаточно сильно.
— В некоторых кругах, — подхватил Виктор, — точнее в некоторых ведомствах, мое имя действительно до сих пор действует как красная тряпка на отдельные виды животных. Вот только меня это совсем не радует. Да, было время, было, когда мы, сами того не осознавая, писали для них, не для читателей, а именно для них, заранее представляя себе и смакуя такую картину: вот цензор прочел мою фразу, вот рожа его перекосилась, вот сжался кулак… Теперь нет цензоров. Теперь они борются с нами по-другому. Экономически. И вот одна половина пишущей братии искренне и благородно творит по заявкам трудящихся увлекательную чушь, за которую трудящиеся охотно платят свои честно заработанные деньга, а другая — безумцы вроде меня — сочиняет ни для кого, зато нечто очень умное, но денег за это, разумеется, никто не платит. Я не утомил тебя, девочка, столь долгим пассажем?
— Ты считаешь меня ребенком? — резко спросила она.
— Господь с тобой, Селена! Во-первых, ты мне нравишься…
Он помолчал, прислушиваясь к участившимся ударам сердца, и добавил:
— Как женщина. А во-вторых, я не считаю для себя возможным учить тебя жизни, объяснять, что такое хорошо и что такое плохо. Я в этом и сам порядком запутался, а к тому же чувствую: вы живете по каким-то своим, совсем новым законам. И скорее мне хочется просто понять их, может быть, даже чему-то поучиться. Упаси меня Бог навязывать молодым свою мораль! Так что отношения «ребенок — взрослый» между нами полностью исключены.
— Ну слава Богу, — сказала Селена, расслабляясь. — Мне еще нет двадцати, мне только будет двадцать. Но я командовала взводом спецназа и лично убила трех моджахедов, у меня орден Доблести второй степени, два легких ранения, знание четырех языков — на уровне общения, конечно, и… Впрочем, я сейчас не об этом. Я хочу, чтобы ты написал про нас и про моджа… то есть про бедуинов. Я, правда, боюсь, что ты не поймешь зачем, но я очень хочу, чтобы ты написал.
— Что написал? — не понял Банев. — Книгу?
— Да нет, — задумалась Селена, — наверное, не книгу. Ты же сам говоришь, что умные книги теперь никто не читает.
— Ну почему никто, случается, читают некоторые. Вот Голем, например, читает. Или этот, Антон, всего лишь капитан, а интересовался моим романом.
— При чем здесь Антон? — вздрогнула Селена. — Не сбивайте меня, пожалуйста. Я хочу, чтобы вы… чтобы ты написал большую статью в центральную газету, потом, возможно, выступил на телевидении, я хочу, чтобы вся страна, весь мир узнали, что у нас здесь творится. Банев — это все-таки имя. Люди будут читать, будут слушать…
— Стоп, стоп, стоп! — прервал ее Виктор. — Во-первых, спасибо за высокую оценку. Во-вторых, налей мне еще «дайкири». Видишь, я сижу с пустым бокалом. В-третьих, я действительно плохо разбираюсь в том, что у вас здесь творится. И, наконец, как я понял, меня ангажируют. А это очень серьезно, девочка. Я ведь должен понять прежде всего, кто, зачем и сколько будут платить. Писатели — ужасные циники, девочка. Главный заказчик кто, папа?
— При чем тут папа?! — вспыхнула Селена. — Ты действительно ничего, ничего не понимаешь.
Она вскочила, выпила залпом остаток «дайкири» и, впившись зубами в персик, принялась ходить по комнате.
— Папа — замечательный человек. У него много денег и большие связи. Но здесь, в городе, да и во всем округе, он не имеет реальной власти.
— Понятно, — сказал Виктор, — реальная власть принадлежит Особой гвардии президента.
— Принадлежала, — поправила Селена, — пока она была Федеральным Бюро и не развалилась на восемь различных спецслужб. А теперь реальная власть в руках у бедуинов.
— У кого?! — Виктор чуть не выронил пустой стакан. — Нет, вот теперь ты точно должна мне сделать новую порцию, иначе я просто сойду с ума.
— Я же говорила, не поймешь, — пробормотала Селена.
В представлении Банева бедуины были некой своеобразной общиной, некой диаспорой чеченско-цыганской загадочной национальности, неким масштабным явлением этнографического и научно-медицинского порядка, возможно, в силу всего этого они представляли собой и некую разменную карту в большой политике и, безусловно, оказывали определенное влияние на жизнь города и окрестностей, но бедуины у власти — это был абсурд.
— Я не шучу, — продолжала Селена, наконец остановившись и принимаясь за коктейли. — Нам уже давно не до шуток. Ты должен понять, что происходит. Власти элементарно прохлопали тихую экспансию бедуинов. Пока президент и парламент выясняли между собой, кто больше украл, пока особые гвардейцы, контрразведка, департамент безопасности и все прочие спецслужбы делили кабинеты и обязанности, пока мы сами воевали с мусульманами в других странах, бедуины здесь взяли под контроль все. И что теперь может сделать папина губернская полиция даже с приданными ей федеральными войсками? Ничего. Они уже проиграли три войны моджахедам. Они хотят проиграть четвертую. Потому что бедуины — это те же моджахеды, это просто пятая колонна мусульман в нашем христианском мире. Президент со всеми своими танками и со всеми своими ищейками уже проиграл бедуинам. Вот только мы не хотим сдаваться. И отныне мы будем решать, кому стоять у власти. Мы, ветераны Последней войны, заменим собой все эти окончательно разложившиеся и развалившиеся спецслужбы, армию и полицию. Они думают, что мы еще дети, что мы играем, а мы уже давно не дети, с того самого момента, как нас бросили на фронт, в самое пекло. Мы умеем выживать там, где даже верблюжья колючка загибается от жары и ядовитого дыма, и мы умеем убивать. И мы будем убивать, пока это будет необходимо. И мы спасем этот очумевший мир от мусульманской угрозы, мы победим бедуинов и наведем здесь порядок…
От слова «порядок» Виктор ощутил жгучую боль в затылке, и к горлу даже подкатила тошнота.
— Новый порядок? — тихо спросил он, глядя в стол.
Селена не услышала. Она увлеклась своим яростным монологом и была ужасно красивой в этот момент. Слушать ее больше не хотелось. Хотелось только смотреть на нее. А еще — хотелось стянуть с нее джинсовые шорты с бахромой и отшлепать негодницу по круглой аппетитной попке, а потом… Ну известно, что бывает потом, после того как отшлепаешь красивую девчонку по упругим ягодицам.
Виктору сделалось вдруг невыносимо жарко, словно он пил не замороженный «дайкири», а горячую водку с перцем. Еще минута — и он действительно кинулся бы стаскивать шорты с этой разбушевавшейся медсестрички. Но ведь нельзя же забывать, что она еще и командир взвода спецназа, а стало быть, незадачливого насильника-романиста может постигнуть участь тех трех моджахедов.
— Дорогая моя, извини ради Бога, — молвил Банев, — можно мне пойти душ принять?
— Что? — ошарашенно замолчала Селена. — Душ? Какой душ? — Ей было очень трудно переключиться с высоких материй на прозу быта. — У меня есть бассейн. Ты не хочешь искупаться в бассейне?
— Боже! Я и забыл про такую роскошь, — воскликнул Банев. — Конечно, хочу!
Он висел у самой поверхности чистейшей голубой воды, разбросав по сторонам руки и ноги, и наслаждался забытым ощущением прохлады. За такое купание в этом безумном иссушенном городе можно было отдать многое. Да, Селена покупала его с размахом. И со вкусом. В этом ей трудно было отказать. Но вообще-то Виктор хорошо знал, что купить его практически невозможно, знал по опыту. При всех режимах его малодушные и самоотверженные попытки грубо продаться тем или иным властям заканчивались плачевно. Система менялась, трансформировалась, становилась с ног на голову, а он снова и снова оказывался в оппозиции к ней, снова и снова шел врукопашную на танки и с отчаянной смелостью доставал носовой платок, когда из державных уст летели в него разъяренные брызги. И если теперь он станет что-то писать по просьбе Селены, то не за прохладный бассейн и, уж конечно, не за деньги, на которые, как известно, можно ящиками покупать джин «Бифитер» и бочками — маринованных миног. Если он и будет писать, то лишь по одной причине: он влюбился в эту юную предводительницу христианских боевиков, влюбился как мальчишка и готов верить ей (кому-то же надо верить!) и помогать. Верить и помогать.
— Виктор! — раздался ее звонкий голосок с веранды. — Я страшно не люблю залезать в воду в купальнике. Тебя не будет шокировать моя нагота?
Да, ее приемы обольщения были по-армейски прямолинейны, но вместе с тем было в этом вопросе и что-то наивное, детское, трогательное. Виктор хотел объяснить, какое именно воздействие окажет на него ее нагота, но передумал и сказал другое:
— Нет, девочка, шокировать точно не будет. За свою жизнь я уже видел пару раз обнаженных женщин. Я, правда, уверен, что они не были так красивы, как ты.
Селена сбежала по ступенькам и на мгновение замерла у края воды в восхитительно естественной позе. Нет, не танцовщица на сцене, не фотомодель перед камерой — скорее дикая лань, выбежавшая из лесу на водопой. Так грациозны были ее движения, так скульптурно точны линии тела. Селена улыбалась. Улыбалась и закатному солнцу, и прохладной воде, и Виктору улыбалась тоже, и она, конечно же, сознавала свою красоту, свое совершенство.
Радостный крик, всплеск, веер радужных брызг, и вот уже стремительное сильное русалочье тело пронеслось под ним и, вновь появившись над водой, оказалось совсем, совсем близко…
Да, она была диковатой: полное отсутствие стыдливости и каких-либо комплексов. Виктору доводилось встречать таких женщин, но у тех это было от опыта, иногда профессионального, у Селены — просто от природы.
«Никому не отдам эту потрясающую девчонку! — подумал вдруг Виктор. — Ни красным, ни коричневым, ни зеленым, ни черным, ни бедуинам, ни этим юным спецназовцам в сафари — никому не отдам, потому что уже люблю ее, потому что она лучше их всех, вместе взятых, потому что из нее просто необходимо вылепить настоящего человека… Или просто нельзя пить так много замороженного „дайкири“, особенно после финской ментоловой?..»
— Слушай, мы что, тюлени? — шепнул он ей в пылу необычной, но очень приятной возни под водой. — Пошли наверх, я хочу тебя там, в той белой комнате…
— Я тоже, — выдохнула в ответ Селена. — Поплыли…
5
Их разбудил стук в окно. Кто-то бросил камешек, а может быть, шишку. Стекло, во всяком случае, уцелело. Потом раздался голос:
— Танки в городе!
Селена выскочила из постели с проворством и бесшумностью кошки. Уже через какое-то мгновение она стояла у окна, держа в руках коротенький, но очень серьезный на вид пистолет-автомат. (Под подушкой она его, что ли, держит?) Открыла стволом форточку и крикнула в предрассветный сумрак:
— Эй! Что?!
Никто не ответил. Может быть, в первый раз и не ей кричали.
Селена постояла секунд пять, показавшихся Виктору безумно долгими, не шевелясь и напряженно вслушиваясь в тишину на улице. Потом сказала негромко:
— Началось.
И, положив автомат на кресло, принялась быстро одеваться.
— Что началось?! — ошарашенно спросил Виктор. — Я спать хочу.
— Собирайся, — очень жестко и коротко сказала Селена.
Это был приказ, и объяснений в ближайшее время ждать не приходилось.
Селена пощелкала выключателем: свет не зажегся. Обычное дело для дачи, подумал Виктор. Впрочем, не для такой же…
— А вот это уже совсем плохо. — Девушка держала в руках молчащую трубку радиотелефона с грустно мигающим зеленым огоньком.
— Но не могли же они все отключить! — прошипела она с необыкновенной злостью и пошла в другую комнату.
«Господи, да кто? Кто они?» — хотел спросить Виктор, но сдержался.
В соседней комнате Селена, победоносно улыбаясь, стояла в наушниках и наговаривала в микрофон портативной радиостанции какую-то абракадабру позывных, условных сигналов и цифр.
— Едем, — сообщила она наконец.
— Едем, — покорно согласился Виктор. — Закурить можно?
— Разумеется, хотя и не стоило бы натощак. А чуть позже мы позавтракаем.
Но еще сильнее ему хотелось выпить. Натощак. Именно натощак. Холодного, ничем не разбавленного джину. Он только боялся, что Эта очаровательная некурящая спортсменка, пьющая, как правило, только замороженный «дайкири», вряд ли позволяет себе спиртное до сиесты и наверняка осудит его. Смешно, но ему было стыдно перед девушкой.
Только уже в гараже настойчивое желание организма одержало победу над интеллигентским смущением, и он предложил Селене, достав из кармана любимый маленький плоский термос:
— Глотнешь?
— Что это? — спросила она рассеянно.
— «Гордонс». Из холодильника. Я больше люблю «бифитер», но на этот раз у Тэдди не было.
— Давай, — сказала Селена. — Капельку. А то даже за руль садиться тошно.
Было уже совсем светло, когда они свернули с асфальта на насыпную грейдерную дорогу. Становилось ощутимо теплее, и только что еще совсем прозрачный утренний воздух начинала заволакивать уже привычная знойная дымка.
— Куда мы едем? — поинтересовался наконец Виктор, нарочито зевнув.
— В город. Просто я хочу проехать по шоссе, идущему от Лагеря.
— А на работу тебе туда не надо?
Виктор вдруг вспомнил, что она еще и медсестра у Голема в Лагере бедуинов. Об этом они почему-то не поговорили накануне.
— На работу мне сегодня именно в город.
— А доктор Голем с утра в Лагере?
— Должен быть. А почему ты спрашиваешь? — В голосе ее появились агрессивные нотки.
— Хотелось поболтать с ним, — сказал Виктор.
— Зачем? — пожала плечами Селена. — Голем очень много знает, больше нас всех. Но очень мало говорит. Он и тебе ничего не скажет. Если ты хочешь узнать о бедуинах.
— Не только… Но почему ты ненавидишь бедуинов, а Голем любит их? Ведь он же их лечит.
— Это он тебе сказал? Лечит! Чего их лечить? Они не болеют.
— Н-ну… — замялся Виктор. — Так многие говорят.
— Голем их просто изучает, — сформулировала Селена. — А любит ли он их? Не знаю. Физики из лос-аламосской лаборатории любили атомную бомбу? Наверно, любили…
— Милое сравнение, — заметил Виктор.
— А так и получается, — сказала Селена.
— Да… но…
Он не успел ничего сказать, потому что за резким поворотом дороги открылся вид на шоссе, Селена резко затормозила, одновременно открывая дверцу и высовываясь из машины, чтобы лучше видеть происходящее, и неясный далекий гул, появившийся с минуту назад и сильно приглушенный лесополосой и хорошей звукоизоляцией «ситроена», мгновенно превратился в оглушительный рев, навалившийся словно со всех сторон сразу.
По шоссе в раскаленном мареве, в черном дыму выхлопов и грязно-желтых клубах придорожной пыли шли танки. Удушливый запах горелой солярки и нагретой брони ударил в нос резким контрастом после кондиционированной внутрисалонной атмосферы с тонкой примесью дорогих духов и аромата хорошего джина.
Селена вышла, не глуша мотора, и какое-то время почтительно созерцала движение циклопических механизмов. Потом забралась назад и хлопнула дверцей.
— Поедем вдоль колонны, — сообщила она, не слишком советуясь с Виктором.
Тот хотел было сказать, что движение по шоссе вместе с колонной бронетехники — занятие малоприятное, да и небезопасное, но машина уже тронулась. Селена глядела вперед решительно и явно была не расположена к дискуссиям.
В месте пересечения грейдерной дороги и главной трассы было нечто вроде пандуса, на который в свое время не пожалели асфальта, но покрытие было старым, растрескавшимся, и безусловно, тут полагалось сбрасывать скорость практически до нуля. Но Селена, торопясь выскочить на дорогу в случайно образовавшийся большой промежуток между танками, гнала машину по колдобинам, как автогонщик, давя одновременно на газ и на тормоз. Все ее внимание было сосредоточено на приближавшемся слева по шоссе танке, поэтому, когда из плотной пылевой завесы справа выскочил бэтээр, двигавшийся по обочине навстречу колонне, заметил его первым Виктор.
— Эй! — закричал он. — Справа!
И, не слишком надеясь на быстроту ее реакции, одной рукой надавил на ее левое колено, пытаясь таким образом выжать тормоз, а другой резко крутанул руль влево. Селена в ужасе смотрела мимо него и чуть назад. На газ она уже не давила, но и на тормоз, кажется, тоже.
Удар пришелся в правый задний угол и оказался достаточно сильным для того, чтобы Селена вылетела из машины через незахлопнутую водительскую дверцу, а Виктор упал грудью на руль и пребольно стукнулся головой о переднюю стойку.
Селена, профессионально перекувырнувшись, вскочила на ноги с проворностью ничуть не пострадавшего человека, и Виктор, потирая мгновенно вздувшуюся шишку на лбу, подумал: «Ф-фу. Кажется, обошлось. Без крови и переломов». Дверца рядом с ним не открывалась. Он вылез через водительскую.
Да, им повезло. Машина могла и перевернуться. А еще он очень своевременно вывернул руль. Иначе не задняя, а передняя дверца была бы сейчас похожа на смятую серебристую бумажку от конфеты. Не хотелось думать о возможной судьбе пассажира, который сидел за этой тонкой металлической оболочкой.
Бэтээр нависал над ними пятнистой пыльной громадиной. Наконец распахнулся люк, и в дрожащем над броней раскаленном воздухе появилась красная рожа в офицерской фуражке.
— Какая сволочь! Ну, сейчас он у меня получит, — пыхтела Селена, уже державшая в руках автомат, словно на нее совершили настоящее военное нападение.
Виктор даже испугался и попытался увещевать:
— За что получит? Ты же сама виновата.
Селена не слышала. Она размахивала автоматом и буквально вопила, пытаясь перекричать шум колонны. Когда мимо грохотало очередное железное чудовище, становилось совсем ничего не слышно, затем прорывались отдельные слова: «Ну ты, козел, ослеп… Дура размалеванная… Президентский холуй!» Потом снова все тонуло в адском реве, а выныривали из него все более непристойные выкрики: «Выблядок бедуинский… Помолчи, проститутка… Ты хоть знаешь, с кем говоришь… А мне насрать, сука драная…»
Краснорожий офицер старался не отставать, и Виктор почувствовал, что пора вмешаться. Причем на стороне Селены. Конечно, девушка была изначально не права, но он терпеть не мог хамов, чью грубость не смягчала даже женская красота. Правда, в армии служил с ним один такой — редкостный хам, но отличный товарищ по кличке Боб, и ему он прощал самую ужасную ругань в присутствии женщин. Даже вот таких красивых, как Селена… даже с брони бэтээра, возле шоссе, по которому идут танки, у разбитой машины, в сплошной пылевой завесе, сквозь которую с трудом различалось не только лицо офицера, но даже его майорские погоны. И все-таки Виктор узнал его. По голосу. И по характерным выражениям.
— Боб! — крикнул Виктор.
— Банев! — удивился Боб.
Сцена братания плавно перешла в сцену знакомства боевого офицера и прекрасной девушки и сделалась особенно трогательной, когда выяснилось, что прекрасная девушка — тоже боевой офицер. Вспоминая Последнюю войну, где они оба оттрубили по полному году, Боб и Селена, конечно же, обнаружили нескольких общих знакомых, не говоря уже о ставших почти родными местах сражений. Для Виктора же от этих названий на чужом языке веяло не столько романтикой, сколько непонятной апокалиптической жутью: «зеленка» под Юртанабадом, авиабаза Аглы-Пури, перевал Чатланг…
В общем, малоподвижный после удара «ситроен» оттащили к краю дороги и даже выделили солдатика для охраны вплоть до прибытия вызванной Селеной по радио техпомощи, а пассажиров майор по старой дружбе взял к себе в бэтээр. Правда, ехал он не в город, а в Лагерь. Но Селена, связавшись с кем-то по ВЧ, быстро поменяла свои планы, а Виктору, сделавшему еще несколько глотков для снятия стресса после аварии, стало все равно, куда ехать. Появилась этакая веселая бесшабашность. А еще появилась надежда проникнуть внутрь Лагеря за компанию с этой всемогущей предводительницей юных параноиков.
Виктор всю жизнь терпеть не мог железных дверей, колючей проволоки и пропускной системы, поэтому проникновение туда, куда обычно не пускали, доставляло ему ни с чем не сравнимое наслаждение. А тут еще вдобавок страшно хотелось понять, что же происходит в городе и кто такие, черт возьми, эти бедуины, что все вокруг них носятся как ошпаренные.
В разговор ветеранов Виктору удалось вклиниться раза два, много — три, и выяснил он лишь то, что Боб и сам не знает, зачем столько танков. Просто он имеет приказ — сопровождать вверенный ему батальон особого назначения и по прибытии, согласно общей задаче, поставленной перед всем корпусом, организовать оцепление объекта по схеме номер три. Для Виктора это был, разумеется, пустой звук, а Селена от слов «схема номер три» чуть не подпрыгнула, а потом прошептала ошарашенно:
— Да они там что, обалдели?!
Снова у ветеранов началось обсуждение военно-технических вопросов, и Виктор ничего не успел узнать по существу дела.
А дело было, похоже, серьезное. Такого количества танков Виктор не видел еще никогда в жизни. Причем подъехавшая техника была выстроена цепью вдоль всего периметра тройного ограждения, насколько хватал глаз. В желтом горячем тумане за поворотом изломанных линий колючей проволоки терялись размытые очертания дальних машин, а по ближним было отчетливо видно, что стоят они до дикости странно — в шахматном порядке: один ствол нацелен на Лагерь, другой — в противоположную сторону, следующий — снова на Лагерь и так далее. На броне ближайшего танка, свесив ноги в открытый люк и закинув автоматы за спину, двое солдат мирно ели арбуз.
Комбатовский бэтээр, в котором ехали Селена и Виктор, без остановки проскочил первую линию оцепления, образованную простыми десантниками. На второй линии их остановили, и Боб, высунувшись из люка, какое-то время объяснялся с высоким и мрачным президентским гвардейцем. На третьей линии потребовались документы, причем на всех находившихся в машине. Здесь охрану осуществляли совместно уже хорошо знакомые Виктору юноши в сафари и угрюмые бородатые мужики в камуфляжной форме без знаков различия — ну вылитые моджахеды или душманы, как их там, никогда Виктор не разбирался в этих названиях. Боб по ту сторону кордона не пошел — ему не надо было, а Виктора каким-то чудом пустили вместе с Селеной. Но рано он радовался. На входе в первый же ближайший к КПП корпус, куда направилась Селена, стоял бедуин, абсолютно безоружный, как все бедуины, но очень строгий и непреклонный.
— Ему нельзя, — сказал он, даже не заглядывая в документы, и поднял на Виктора глаза, полные сочувствия и жалости.
— Это писатель Банев, — просительно залопотала Селена, — он будет рассказывать о нас в газетах и на телевидении.
— Ему нельзя, — спокойно и неумолимо повторил бедуин.
Селена внезапно перешла на незнакомый язык, гортанный, визгливый, жутко непривычный. Казалось, чужеземные слова, как теннисные мячики, скачут между голыми бетонными стенами узкого тамбура. Бедуин вяло отвечал на том же наречии. Потом Селена повернулась к Виктору и тихо произнесла:
— Тебе сюда нельзя. Сегодня…
И так она добавила это «сегодня», что Виктор понял: ему в это место будет нельзя никогда.
Бедуин смотрел на Виктора печально и виновато. Селена при всех ее бойцовских качествах и теперешнем возбужденном состоянии, казалось, готова была расплакаться от обиды.
В другой ситуации, когда палят в воздух из автоматов для острастки и перегораживают путь гигантской тушей часового с противотанковым ружьем наперевес, Виктор, наверное, вспомнил бы молодость и рванул напролом, опрокидывая стулья и круша стекла, но сейчас это было абсолютно неуместно, это было все равно что качать права в храме. И он просто повернулся и пошел, бросив через плечо:
— Селена, я жду тебя в своем номере в «Национале». Четвертый этаж, пятая комната.
— Погоди! — крикнула Селена. — А как ты поедешь назад?
Вопрос отрезвил Виктора. Действительно, как? Он представил себе дорогу пешком — девять километров по выжженной долине, вдоль разбитой дороги, сквозь клубы пыли и грохот танков, идущих навстречу. Приятная перспектива. Он остановился и обернулся.
— Я вызову для тебя машину, — сказала Селена. — Джип с шофером будет ждать у внешнего ограждения.
И вдруг снова заговорил бедуин:
— Господин Банев, я бы очень хотел побеседовать с вами. Вы не согласитесь подойти завтра в здание мэрии?
— Во сколько? — агрессивно поинтересовался Виктор.
— В семь часов пополудни.
И пока Банев размышлял над ответом, Селена воскликнула, с провинциальной непосредственностью всплеснув руками:
— Ой, да я же вас не познакомила! Виктор, это — Абэ Бон-Хафиис.
Вот те нате, хрен в томате! Хафиис был известным бедуинским писателем, собственно единственным писателем-бедуином, известным на весь мир. Виктор даже читал несколько его вещей в переводе. Какого же черта он здесь делает, на проходной главного корпуса Лагеря? Или не главного? Господи, какая разница?! При чем здесь Хафиис?
— Я приду, — сказал Виктор.
Селена уже держала в руках плоскую трубочку сотовой связи.
— Иди, тебя ждут. Джип с водителем, — повторила она, закончив разговор по телефону опять же на каком-то собачьем языке.
«Неужели и водитель будет бедуин?» — раздраженно подумал Виктор, одновременно с отвращением поймав себя на этой этнической нетерпимости. Да нет же! Никогда он этим не страдал. И бедуины раздражали его не по национальному признаку — у этого раздражения была совсем другая природа: что-то среднее между психологической несовместимостью и… — как это называлось в годы его юности? — классовой ненавистью. Да, бедуины были людьми другого класса, точнее, даже другого мира, и Виктора раздражала закрытость этого мира, как раздражала всегда, с самого детства, любая закрытость: монастыря, секретного института, лепрозория или департамента тайной полиции. Люди по ту сторону любого кордона знали что-то, чего не знал он, — это было несправедливо, они ограничивали его в праве на знание, в праве, которое Виктор почитал священным для биологического вида Homo sapiens. Однако с годами закрытой информации становилось почему-то все больше, и люди, владеющие исключительным знанием, отдалялись все сильнее от людей обычных, таких, как Виктор, и смотрели на них с высокомерием и снисходительной жалостью. И порою это становилось просто невыносимо, особенно если не выпить вовремя хорошего джину…
В бедуинах причастность к высшему знанию ощущалась особенно остро. Вот почему Виктор тоже не любил этих мрачных бородачей в синих балахонах и их женщин с лицами, вечно закрытыми паранджой, и их детей… Стоп. У них же никогда не было детей. Виктор вдруг только сейчас задался этим вопросом. Как же так? И вспомнился Шопенгауэр, сказавший однажды, что, если бы люди жили вечно, им стало бы ни к чему рожать детей. Бедуины — раса бессмертных. Любопытная гипотеза. Не забыть бы поделиться с Големом…
Мимо Виктора гордо прошествовали пятеро юнцов в сафари — четверо ребят и одна девушка, всем на вид лет по шестнадцать, все удивительно чистенькие, свеженькие, румяные и дышащие прохладой, словно только что пришли с мороза. Селена приветствовала их вертикально поднятой левой рукой со сжатым кулаком, они ответили тем же, а Хафиис выпрямился, расправляя плечи и слегка откидывая назад голову, и сквозь его прищуренные веки полыхала черная ненависть. И это был такой мощный эмоциональный луч, поток лучей, что Виктор физически ощутил его обжигающую силу, отраженную от бодрых детишек-штурмовиков. И сделалось страшно. Такую ненависть в глазах он видел только на войне, а таких подростков он вообще никогда в жизни не видел. И он не знал теперь, кто для него более чужой: бедуины, не имеющие детей, или дети, отказавшиеся от родителей. А ведь в том немыслимом строю на площади маршировал и его собственный внук Август — сын Ирмы.
Безумно захотелось выпить, но он оставил фляжку в разбитом «ситроене». Значит, придется терпеть до города.
Водитель оказался не бедуином, однако был патологически неразговорчив, и, получив от него пару-другую ответов типа «да, нет, не знаю», Виктор задремал. Колонна танков уже прошла, и над опустевшей дорогой в знойном мареве повисла зловещая тишина.
6
Тяжелый липкий дневной сон был прерван душераздирающим воплем. Виктор резко поднялся, роняя на пол уже совершенно высохшую, горячую простыню, пару секунд посидел на кровати, выжидая, пока пройдет головокружение и рассеется желтая муть перед глазами, вытер ладонью пот с лица и, наконец поднявшись, приблизился к окну.
Во дворе отеля дрались коты. Точнее, готовились к драке. Два матерых сиамца, выгнув спины и чудовищно распушив черные хвосты, попеременно орали друг на друга низкими, противными, почти человеческими голосами. Один был нечистокровный сиамец: белые пятна на лапках и сизоватая морда выдавали примесь плебейской крови. Второй — образцовый представитель породы — выглядел совершенно как домашний кот, а может быть, и был домашним, и Виктор мысленно поставил на него. Однако поединок не состоялся. В центре двора появился третий кот, тоже вроде бы сиамский, но почти черный, крупноголовый и вообще огромный, — те двое рядом с ним казались котятами.
— М-м-м-а-а-о, — с достоинством произнес он, и драчуны мигом прыснули в разные стороны.
«Сюрная сцена, — подумал Виктор. — И откуда вдруг повылезло столько этого таиландского зверья?»
Он вспомнил, как много лет назад в этом же городе бедуин прогуливал по улице сиамского котенка на шлейке и собралась толпа зевак. Такого местные жители еще не видели, а одна девочка даже спросила:
— Ой, это у вас что, обезьянка?
Теперь дворовые сиамские коты стали достопримечательностью города. Они жили по всем подвалам, по всем помойкам вместе с рыжими, черно-белыми и полосатыми, но голубоглазых экзотических красавцев было несравнимо больше. Размножались они, что ли, быстрее? Или признаки их породы были — как это учили в школе — доминантными? Кошек вообще в городе стало видимо-невидимо. Мышей они слопали всех до единой, даже крыс практически полностью передушили, оставив доедать собакам, а еще в народе поговаривали, что скоро исчезнут воробьи, — сиамцы необычайно лихо за ними охотились.
Виктор достал из холодильника тоник в большой пластиковой бутылке, плеснул себе в стакан и поглядел на часы. Сиеста кончилась. Пора к Тэдди. Кстати, ужасно хочется есть. Несмотря на жару. Кажется, он сегодня так и не позавтракал.
«Закажу ледяную окрошку, — подумал Виктор, мечтательно закрывая глаза, — и маринованных миног, и грибы, и мясо по-гватемальски…»
За привычным столиком сидели еще вполне трезвый Квадрига и Антон Думбель в шикарных белых брюках и белой рубашке с короткими рукавами, с карманчиками и погончиками. Он был теперь похож на губернатора острова Борнео, и к его мускулистым загорелым рукам сильно не хватало тяжелого маузера, завершающего образ. А также хорошо бы смотрелись рядом с ним по обе стороны рослые негры с автоматами. Однако губернатор острова Борнео был настроен миролюбиво, потягивал из высокого бокала что-то газированно-прохладительное и задумчиво глядел на запотевшую рюмку то ли коньяка, то ли виски.
— Здравствуйте, Антон. — Виктор решил подколоть его. — А почему же вы не на месте событий?
— Каких событий? — невинно поинтересовался Антон.
— Ну как же, около Лагеря большое скопление боевой техники…
— А-а, — протянул Антон, — ну, это не по моей части.
— Как же так? Разве инспектор по делам национальностей не должен присутствовать там, где национальный конфликт перерастает в военный?
Антон посмотрел на Виктора пристально, опрокинул рюмку, шумно выдохнул (судя по запаху, это был все-таки коньяк) и спросил:
— Вы знаете, почему мы проиграли Последнюю войну?
— Наверно, потому, что она была не последней, — быстро сказал Виктор, словно это был единственно возможный и заранее заготовленный ответ по ходу викторины.
— Оригинальная мысль, — оценил Антон.
И тут неожиданно вклинился Квадрига:
— А почему, собственно, вы считаете, что мы там проиграли?
Антон даже растерялся на мгновение.
— Н-ну… потому что это общепринятое мнение.
— А я вот так не считаю, — сказал Квадрига. И добавил:
— Терпеть не могу общепринятое мнение.
Антон промолчал, Виктор на всякий случай тоже. Квадрига не унимался:
— На Последней войне я писал батальные сцены. С натуры. Мне почему-то знакомо ваше лицо, господин Думбель. Я не мог встречать вас на фронте? Нет?
— Нет, — отрезал Антон. — Меня там не было.
— Я пью за победителей Последней войны! — многозначительно изрек Квадрига и поднял свой стаканчик с охлажденным ромом.
— Так вы все-таки хотите услышать, Виктор, почему мы проиграли в той войне?
— Разумеется. Я вас слушаю.
— Потому что мы не знали, с кем воюем и для чего воюем, потому что у нас не было идеи, а у них, у наших врагов, — была. Они точно знали, что идут на бой за Аллаха, а у нас одни выполняли интернациональный долг, другие сводили личные счеты, третьи зарабатывали деньги, а в итоге все дружно признали, что это была интервенция, постыдная захватническая война и вообще ошибка.
— Простите, — прервал его Виктор, — но ведь это же все общее место. Не позорьтесь, Антон, вам не пристало пересказывать такие банальности.
— Вы не дослушали меня, — жестко сказал Антон. — Это всего лишь необходимая преамбула. Извините, если напомнил вам общеизвестные вещи. Официант! Двойной коньяк. Мне и господину Баневу. Вы не возражаете?
— Пока — нет, — сказал Виктор.
— Так вот, суть моей мысли заключается в том, что мы вели на самом деле не захватническую, а чисто оборонительную войну, мы, как всегда, раньше других почувствовали главную мировую угрозу и приняли удар на себя. Мы вступили в священную войну, не поняв ее смысла, и потому вынуждены были прекратить ее. Но теперь-то уже всем ясен зловещий смысл великого противостояния Север — Юг, заменившего собою ушедшее в историю противостояние Востока и Запада. Хотим мы этого или нет, шутили вы или говорили серьезно, но Последняя война была не последней, вы правы, нам снова придется воевать. И уж теперь-то мы победим, должны победить, иначе…
— Простите, — снова перебил его Виктор. — Но что-то на этот раз я не до конца вас понимаю. Кто он, этот враг с Юга, которому вы объявляете священную войну?
— О Господи! Правильно говорил Голем, что писатели — народ необразованный. Вы Салмана Рушди читали?
— «Сатанинские стихи»? Наслышан.
— Он написал не только «Сатанинские стихи», он много чего написал о мусульманах. И это он сказал, что главной угрозой для современной цивилизации является мусульманский мир. Мне неважно, арабы они, турки, пуштуны или боснийцы, они — мусульмане, и значит, враги. Я знаю, что такое ислам, уж вы мне поверьте. Да, я инспектор по делам национальностей, но это не значит, что я националист, как твердят эти оголтелые правозащитники. Я вовсе не отдаю предпочтения каким-то отдельным нациям, я отдаю предпочтение более гуманной религии и более высокой культуре. Вот и все.
Виктор даже есть перестал. Он смотрел на Антона и удивлялся произошедшей в нем перемене, из респектабельного, уравновешенного чиновника с так называемыми погонами в кармане он превратился в митингующего, почти истеричного политика или в боевого командира, с отчаянной смелостью поднимающего свою роту против неприятельского батальона.
Антон продолжал, увлекаясь все больше:
— Надо же наконец, надо же рано или поздно делать свой выбор, если мы действительно не хотим погубить цивилизацию. Нашу цивилизацию. Сколько можно кричать о равенстве перед законом и перед Богом (каким Богом?), сколько можно кричать о свободе и справедливости, когда в ответ тебе кричат «Джихад!» или «Газават!», а других слов просто не знают и не хотят слышать. С ними же не о чем договариваться. С ними нельзя договариваться. Их надо просто уничтожать.
— Помилуйте, батенька, что вы говорите такое? Ваше начальство разрешило вам произносить вслух такие слова?
— А чего я такого сказал? — почтя как нашкодивший мальчишка, вскинулся Антон. Вторую, самую ядовитую часть вопроса он практически пропустил мимо ушей. — Бросьте вы эти ваши интеллигентские штучки: не убий, не укради, гуманизм-онанизм. Вы начинаете стрелять, когда вашу жену уже отправили в концлагерь или когда на ваших детей уже падают бомбы, а стрелять надо начинать раньше, чтобы ничего этого не произошло. Надо наносить упреждающие удары. Для этого только необходимо правильно выбрать цель. Сегодня мы выбрали ее. Но времени осталось предельно мало. Ислам — это не религия, ислам — это болезнь, эпидемия, распространяющаяся с чудовищной скоростью. Здесь не дискуссии нужны, а дезинфекция. Вы хотите весь остаток жизни молиться Аллаху или вы все-таки предпочтете нашу веру?
— Вы верующий? — быстро спросил Виктор, подняв брови.
— Нет, я употребил слово «вера» в самом широком смысле.
— Ну а в самом широком смысле, мне, честно говоря, все равно, кому молиться. И если меня будут заставлять каждый день ходить в костел, я, пожалуй, тоже закричу «Джихад!». Антон, не бросайтесь такими словами, как «вера». Лучше объясните мне, кто же будет выбирать кандидатов на уничтожение: лично господин президент или начальник его охраны? И по каким признакам будут отличать мусульман? По отсутствию крайней плоти? Ну, тогда я вам расскажу, что будет: в первую очередь, как всегда, расстреляют евреев, потом не успеют остановиться и по какому-нибудь недоразумению вырежут всех армян, при этом, разумеется, пострадают чеченцы, калмыки, сербы, афганцы и крымские татары, в меньшей степени, но тоже достанется тамилам, баскам, абхазам, корейцам и эскимосам. Ну а совершенно под ноль вырежут без различия национальности столь ненавистных вам правозащитников, то есть в основном ученых, священников и писателей. Меня, соответственно, тоже убьют, за что я вам заранее говорю «большое спасибо».
— Шутите? — несколько оторопел Антон от такой контратаки.
— Нисколько. К сожалению. И если я вас правильно понял, вы тоже говорили вполне серьезно.
— В общем, да.
— Тогда, с вашего позволения, я лучше выпью джину, — медленно проговорил Виктор и, поднявшись, пошел к стойке, чтобы лично заказать у Тэдди порцию любимого напитка со льдом.
Когда он вернулся, Антон сидел как ни в чем не бывало, все такой же белый, отутюженный и довольный собой. На гладко выбритом лице не отразилось и тени сомнения в только что высказанных идеях. А в серо-стальных глазах полыхало адское пламя превосходства и причастности к страшной тайне. Виктор представил себе вдруг, как капитан Думбель вот в этих самых белоснежных брюках идет вдоль ряда лежащих на асфальте тел и методично производит контрольные выстрелы в голову. Картинка нарисовалась настолько яркая, что его даже замутило слегка.
Банев сел, выпил джину и зачем-то спросил, хотя уже не собирался возвращаться к разговору:
— А детей мусульманских вы тоже предполагаете уничтожать?
— Я так и чувствовал, что вы не поймете главного. Я же сказал — упреждающий удар. Но относительно возраста, начиная с которого человека следует считать опасным, конечно, потребуется отдельное, тщательно продуманное решение, лично я не могу взять на себя такую ответственность, никто ведь не может…
«Господи, — думал Виктор, — в какое странное время мы живем! Всем разрешили говорить все: государственным служащим, занимающим важные посты, журналистам с экрана, рядовым гражданам на улицей в магазине — разрешили говорить абсолютно все: от нецензурной брани в адрес господина президента до открытых призывов к свержению строя и массовым убийствам по Национальному или религиозному признаку. Разрешили говорить все, но говорят почему-то одни только гадости, во всяком случае те, кто говорит громко. А сделать ничего нельзя, потому что делать пока еще не разрешили, то есть разрешили, но не дают. Странное время».
В ресторане появилась извечная пара — молодой человек в сильных очках и его долговязый спутник.
«Интересно, — подумал Виктор, — а эти тоже ненавидят бедуинов или они как раз, наоборот, представляют бедуинскую секьюрити сервис? Бороды сбрили и косят под европейцев».
Виктор еще раз взглянул на выразительную парочку за угловым столиком, и какое-то неясное мучительное воспоминание промелькнуло у него в голове. Какие они, к черту, бедуины! Он же их знает, хорошо знает, вот только…
— Вы меня не слушаете, Банев, — сказал Антон.
— Что вы, что вы, я вас очень внимательно слушаю, вы только что говорили о паломничестве в Мекку.
— Действительно, — удивился Думбель, — как раз об этом я и говорил. Но у вас было совершенно отсутствующее лицо.
— Не обращайте внимания. Как говорит один мой приятель, у меня все друзья — шизоиды.
— Ну зачем же вы так о себе, господин Банев, шизоиды у нас за колючей проволокой.
Виктор допил джин и пристально посмотрел на Антона:
— Что это вас сегодня так разбирает, господин капитан?
Вопрос был риторический в общем-то, и Думбель не ответил.
— А скажите, — поинтересовался Виктор, — эта ваша инспекция по национальным вопросам — военизированная организация?
— Нет никакой инспекции, — сказал Антон. — Есть администрация губернатора, и я занимаю в ней одну из ответственных должностей. Капитаном я был, когда работал в Министерстве внутренних дел.
— А-а-а, — протянул Виктор, мысленно стряхивая лапшу с ушей.
И тут проснулся Квадрига.
— Анаша, — произнес он. — Кальян. Душная ночь. И гигантские тарантулы.
— Гигантских тарантулов не надо, — попросил Виктор.
— Хорошо, — сразу согласился Квадрига и поинтересовался: — Мы знакомы? Доктор гонорис кауза Рем Квадрига…
У столика неожиданно появилась Селена.
— Виктор, ты еще не слишком пьян?
— Я в норме. А что?
— Ты мне нужен. Пошли. Быстро.
7
Было еще очень жарко, а Селена торопилась, и Виктор раздраженно осведомился:
— Куда ты меня опять тащишь?
— Помолчи, — сказала Селена, но как-то удивительно ласково, грех было обижаться на такое «помолчи». — Мне нужен крепкий мужик, а больше я никому здесь не могу довериться. Скоро появятся мои ребята, и ты будешь свободен.
— Да нет, я в общем-то никуда не спешу.
Виктор оттаял. Охваченный внезапным приступом нежности к Селене, он уже не хотел с ней расставаться и готов был делать по ее просьбе все что угодно.
— У меня на сегодня уже никаких дел, — сообщил он. — Завтра что-то было…
— Завтра у тебя встреча с Хафиисом, — напомнила Селена. — Будь с ним поосторожней.
— В каком смысле?
— Ну, он человек очень умный…
— Знаю, — сказал Виктор.
— А это опасно, потому что он наш враг.
— Не знаю, — сказал Виктор.
— Чего ты не знаешь?
— Я не привык считать врагами не знакомых мне людей.
— А на войне? — спросила Селена.
— Но мы же не на войне.
— Это с какой стороны посмотреть, — возразила Селена. — Кстати, надо послушать вечерние новости. Возможно, уже ввели чрезвычайное положение. Или военное. Не знаю, какой вариант они выберут.
— Весело, — сказал Виктор.
И тут они пришли. За углом, где кончалась улица и начинались пустыри, у края разбитой пыльной дороги, лежал ничком человек в темно-синем бурнусе и с косматой бородой — бедуин. Кто-то проломил ему голову, как пишут в протоколах, тяжелым тупым предметом, и зрелище было не из приятных. Шея лежащего неестественно вывернулась, капюшон сбился на сторону, открывая вид на то, что было лбом, а теперь представляло собой жуткую мешанину из раздробленных костей черепа, курчавых волос, темных сгустков крови и желтовато-серой мозговой ткани.
По дороге, пару раз оглянувшись, торопливо уходил паренек в сафари. Селена даже не попыталась его остановить, и Виктор, хоть и был озадачен такой странностью, счел за лучшее промолчать по этому поводу.
— Кто ж это его так? — тихо проговорил он. — Ваши?
— Наши не занимаются такими глупостями, — обиженно ответила Селена.
— Размозжить человеку голову теперь считается просто глупостью. Интересный подход.
Селена промолчала. Ей было явно не до разговоров. Она все время озиралась по сторонам и пристальнее всего вглядывалась в скопление покосившихся ржавых гаражей, сарайчиков и ангаров за пустырем.
— Может, вызвать полицию? — Виктор продолжал говорить как бы сам с собой.
— Ты что, с ума сошел?! — вздрогнула Селена.
— Почему?
— Слушай, ты можешь помолчать сейчас? А? Пожалуйста.
Виктор пожал плечами.
— Помоги-ка вот лучше. — Селена наклонилась над трупом и, достав платок, попросила: — Переверни его.
Отчаянно борясь с подкатывающей к горлу тошнотой, Виктор ухватился за плечи мертвого бедуина.
— Нет, одной рукой возьмись за капюшон, — распорядилась Селена.
Виктор расправил смятый капюшон бурнуса и резко перевернул неожиданно тяжелое (даже для мертвого) тело, а Селена с профессиональной сноровкой и аккуратностью, не запачкав ладоней, вложила разбитую голову в капюшон.
— Подержи так, — продолжала командовать она и, быстро поискав глазами вокруг, зачем-то подложила кирпич под затылок бедуину.
— Черт! Ну где же они? — прошипела Селена, выпрямившись и еще раз оглядевшись. — Постой здесь минутку. Ладно?
Виктор даже не успел ответить, а она уже шагала в сторону домов. Роль охранника при свежем трупе неизвестного происхождения все меньше и меньше нравилась писателю Баневу, но он все-таки поборол в себе желание закричать вслед. И правильно. Селена не ушла из зоны прямой видимости, она поравнялась со старым, обшарпанным, видавшим виды микроавтобусом, притулившимся у забора, и скрылась внутри него. Секунды на три, не больше.
— Ты умеешь заводить машину без ключа? — спросила она, вернувшись.
— Когда-то умел. Давай попробую.
Дело оказалось несложным: внутри у драного «форда» практически отсутствовала обшивка, и все, что только может торчать, торчало наружу. Провода зажигания болтались на самом виду, словно приглашая угонщика покататься. Никто, конечно, не мог сказать, насколько хватит бензина, потому что о такой роскоши, как датчик расхода топлива, в этой машине и вспоминать не приходилось, но ехать на ней было все-таки можно.
Виктор подогнал «форд» задом к ногам бедуина, но, когда они вдвоем подняли тело, Селена вдруг попросила:
— Заноси голову вначале. Так удобнее.
— Но… — замялся Виктор, — как-то вроде не принято…
— Заноси, я говорю, ядрит твою! — буквально зарычала Селена. — Держать же тяжело!
Виктор захлопнул заднюю дверцу и закурил.
— В Лагерь? — спросил он.
— Ага. Но я теперь сама отвезу. Чего тебе мотаться? Ты уже был там сегодня.
— Ты что? — испугался Виктор. — Нельзя в одиночку в такую даль мертвеца везти. А если с машиной что случится? Ты только глянь на этот рыдван.
— Ничего не случится, я эту машину знаю. Правда. Спасибо, Виктор, иди отдыхай.
Так они и препирались, стоя у довольно громко урчащего на холостых оборотах «форда», и даже не услышали, как подъехал джип. Виктор заметил его, когда из открывшихся одновременно четырех дверей уже высыпала целая команда. Перехватив тревожный взгляд Виктора, Селена резко обернулась, одновременно опуская руку в карман и принимая позу, одинаково удобную для прыжка и падения. Но ничего не понадобилось делать. Это были свои.
Трое мальчиков в сафари подошли вплотную, и один из них еще на ходу бросил:
— Где он?
— В машине, — сказала Селена.
— Сам идти сможет?
— Вряд ли.
«Господи! — подумал Виктор. — Про кого это они? Или я схожу с ума?.. Головой вперед… Они что же, считают его живым?»
— Спасибо тебе, Виктор, — повернулась к нему Селена. — Пожалуйста, иди отдыхай.
— Я должен уйти? — решил уточнить Виктор.
— Виктор, пожалуйста, иди, — повторила она, не отвечая на вопрос.
Мальчики споро подхватили бедуина втроем, но не как убитого, а как раненого, и в своем джипе они его посадили.
— Да, заглуши мотор у этого тарантаса, — вспомнила Селена. — А мы поехали.
Но Виктор все стоял и смотрел завороженно на сидящего в джипе бедуина, который медленно поднял руку и поправил слишком низко упавший ему на лицо капюшон. Виктор зажмурился изо всех сил, помотал головой и взглянул еще раз. Бедуин сидел неподвижно.
— Ты зайдешь ко мне в номер вечером? — Собственный голос показался Виктору чужим. — Ты обещала.
— Не знаю, если вернусь в город — обязательно.
Она уже бежала к открытой передней дверце джипа, полностью готового к отправке.
Виктор поставил на место так и не угнанный «форд», закурил и побрел обратно к Тэдди. Чего-то он там, кажется, не доел, а уж не допил — так это точно.
Вот только ни доесть, ни допить на этот раз не получилось. Едва Виктор свернул в проулок, в сторону Прохладной, как увидел бегущего странным петляющим шагом бедуина.
Так, так. Похоже, в городе начинается самая интересная в мире охота — охота на людей. За бедуином бежали двое в спортивных костюмах и в масках типа «чулок». У Виктора не было с собой оружия, но он прикинул, что ближайшего преследователя, если удачно поставить ему подножку, можно нейтрализовать сразу, а уж с другим-то один на один он как-нибудь справится. Виктор сделал шаг к стене, как бы маскируясь, и приготовился к выпаду. Но ситуация на улице мгновенно переменилась: позади взвизгнули тормоза и чей-то ужасно знакомый голос крикнул:
— Всем встать лицом к стене! Руки над головой, ноги в стороны!
Бандиты в масках с удивительной, словно отрепетированной быстротой и четкостью выполнили требование командного голоса, а вот бедуин продолжал бежать, будто ничего не случилось. И Виктор еще не успел ни встать к стене, ни оглянуться на того, кто кричит, ни даже выбрать один из двух вариантов, как раздался выстрел и бедуин упал, опрокинувшись навзничь.
Виктор поворачивал голову медленно-медленно, или ему просто казалось, что он это делает медленно. Бандиты вжались в стену и замерли, бедуин тоже лежал очень тихо.
Возле машины, перегородившей проезд, стоял Антон Думбель с дымящимся пистолетом в руках. Скорее всего, дым из пистолетного дула дорисовало воображение Виктора, разыгравшееся после всех бурных событий дня, но то, что стрелял в бедуина именно Антон, было несомненно.
— Какого черта вы здесь делаете, Банев? — проворчал Антон.
— Гуляю, — безмятежно откликнулся Виктор.
— Очень жаль, что вы гуляете именно здесь. Очень жаль, — повторил он глубокомысленно и начал неторопливо приближаться то ли к бедуину, лежащему посреди улицы, то ли к Виктору, стоящему совсем рядом.
И в какой-то момент Виктора охватила паника: сейчас его просто уберут как нежелательного свидетеля. Уберут. Слово-то какое!
А Думбель подошел вплотную к бедуину, рука его с пистолетом то ли случайно, то ли не совсем, оказалась аккурат над головой лежащего, и снова мрачно проговорил:
— Очень жаль, Банев, что вам все это приходится видеть. Очень жаль.
И тут Виктор понял, что произойдет в следующую секунду. Всего за какой-нибудь час до этого он нафантазировал себе такую точно картину, и вот, будто в кошмаре, она сейчас материализовывалась. Антон приставлял к голове бедуина длинный вороненый ствол, собираясь сделать контрольный выстрел. Виктор не мог потом вспомнить, подумал ли он в то мгновение о своей жизни (уж после такого-то всех свидетелей определенно убирать надо!), но одно он помнил наверняка: ему тоже было очень, очень жаль, что он смотрит на это.
И он решил не смотреть.
Резким ударом ноги Виктор выбил пистолет из рук Антона, и черная железяка, громко брякнув о стену дома напротив, упала на землю недалеко от людей в масках. Думбель потерял равновесие и сел на асфальт. Несколько раз он открывал и закрывал рот, но слова у него никак не получались, даже со звуками было трудновато. Бедуин меж тем вскочил с невероятной прытью, словно и не был ранен, и рванулся в ближайший двор. Мигом сориентировавшиеся бандиты отлипли от стены и кинулись следом. Ситуация, как в пьесе абсурда, вернулась к изначальному эпизоду.
— Идиот!!! — взревел Антон, вставая и надвигаясь на Виктора. — Вы идиот, Банев! Вы хоть знаете, в чьи руки вы отдали этого несчастного?
— Вначале я хотел им помешать. Вначале… — принялся сбивчиво объяснять Виктор. — Но вы собирались его убить, я не мог допустить такого…
— Идиот!!! — с новою силой заревел Антон. — Вы хоть понимаете, что здесь вообще происходит?!
— Н-ну… — Виктор замялся.
— Баранки гну! А не понимаете, так и не лезьте!!!
С этими словами Антон не выдержал и ударил Виктора по лицу. Удар наносился, конечно, сгоряча, но был тем не менее профессионально продуманным. Антон не имел целью сломать противнику шею или проломить череп — просто поставить фингал под глазом, ну и, может быть, устроить легкое сотрясение мозга. Виктор упал, не теряя, впрочем, сознания и удачна подставив руку. Сквозь тошнотворное мерцание перед глазами он видел, как Антон подобрал свою пушку и пошел к машине. Наконец Виктор сумел подняться.
— Только не вздумайте мне отвечать, — сказал Антон свирепо, прежде чем сесть в машину. — Я сейчас очень, очень зол. Считайте, что вы дешево отделались. Если мы встретимся с вами еще раз при сходных обстоятельствах, единственное, что я могу обещать вам, — так это подпись господина президента под вашим некрологом. Я лично позабочусь.
Он не оставил Виктору возможности ответить — не только кулаками, но и словами, — хлопнул дверцей и, лихо развернувшись, умчался.
Тэдди посмотрел на Виктора укоризненно. Потом предложил:
— Хотите? У меня есть замечательная мазь от ушибов.
— Спасибо, Тэдди, давай попробуем. Только сначала плесни мне, пожалуйста, очищенной.
— В городе неспокойно сегодня, господин Банев, — сказал Тэдди, наливая в стакан на два пальца, — шли бы вы лучше к себе в отель.
— Ты прав, Тэдди, — согласился Виктор, с наслаждением опрокидывая порцию очищенной и забирая мазь, — запиши на меня все, что полагается.
Квадрига сидел за столиком совсем один и, кажется, спал. Бутылка перед ним была уже практически пуста. Когда Виктор проходил мимо, он неожиданно вскинулся и отчетливо произнес:
— Почему я должен сидеть за одним столом с убийцами?
8
— Входите, Голем, — сказал Виктор, открывая дверь своего номера в отеле на вежливый стук. — Я как раз собирался выпить.
— Только чего-нибудь холодненького, — жалобно попросил Голем, грузный и потный, опускаясь в кресло.
— Ну, если вы считаете меня садистом, я сейчас сварю вам глинтвейна, а если нет — тогда, пожалуйста, — джину с апельсиновым соком. И то и другое из холодильника.
Виктор смешал простенький коктейль и протянул Голему высокий, враз запотевший стакан.
— Ба! — воскликнул Голем. — Что же это с вашим лицом? Ах да, вы же попали сегодня в аварию. Сочувствую. Селена очень неаккуратно водит автомобиль.
— Да нет, Селена тут ни при чем, — решил объяснить Виктор. — Это наш общий друг постарался. С которым вы меня вчера знакомили.
— Да что вы говорите! Неужели Антон Думбель?
— Он самый. Мы немного не сошлись во мнениях по национальному вопросу.
Голем грустно покачал головой:
— Я забыл вас предупредить. Антон — человек горячий, порою несдержанный, с ним надо поосторожнее в выборе выражений.
— Бросьте, Голем, не надо изображать Думбеля совсем уж психопатом. За выражения он по лицу не бьет. Просто уже после нашей дискуссии он решил убить бедуина, а я бедуина спас, за что и поплатился слегка подпорченной внешностью.
— Вы это серьезно? — спросил Голем.
— Абсолютно серьезно.
— Ай да инспектор по делам национальностей!
— Да никакой он не инспектор. Типичный агент спецслужбы. Вот только какой? Вы не знаете, Голем?
— А вам это важно?
— Теперь — да. Он угрожал мне. Я должен как-то защищаться и прежде всего хочу знать от кого.
— Что ж, наверняка не поручусь, но смею полагать, что он представляет департамент безопасности. Кстати, зря вы говорите, что он не инспектор. Одно другому не мешает. Знаете, что такое наше сегодняшнее Министерство по делам национальностей? Это одно из управлений бывшего Федерального Бюро охраны и контрразведки. Расскажите, Виктор, как все это было.
Виктор рассказал.
— А те двое, как вы их описали, никакие, конечно же, не бандиты, скорее всего они представляли иностранную разведку.
— Иностранную? — переспросил Виктор. — Какую же именно?
— А вот этого я уже совсем не знаю. Но чему вы удивляетесь? Сегодня в нашем замечательном городе можно встретить спецслужбы всех мастей, всех стран и народов. Я вот, например, лично общался в Лагере с господами из «Моссада» и из «Фараха». Не в один день, конечно.
— «Фарах» — это какие-то арабы?
— Палестинцы, — уточнил Голем. — А «Моссад» — это Израиль.
— Знаю. А те двое, которые постоянно сидят с нами в ресторане, молчаливые такие, ну, помните, один долговязый, а другой…
— А, эти! Помню, конечно…
— Они тоже из какого-нибудь «Фараха»?
— Нет, эти — наши, только уже не из департамента безопасности. Так мне кажется.
— А им можно пожаловаться на Антона?
— Пожаловаться можно, но я вам не советую. Не путайтесь вы в эти игры. У вас же совсем другие козыри. Ваше дело писать. Изучать жизнь и писать. И не бойтесь выходить на улицу. Никто вам ничего не сделает. Если, конечно, мешать не будете.
— К чему вы меня призываете, Голем?
— Я вас ни к чему не призываю. Просто советую заниматься своим делом. Я это всем советую.
— И шизоидам?
— Шизоидам в особенности. Кстати, о шизоидах. Селена говорила с вами о заказной работе?
— Как, вы тоже в курсе? — удивился Виктор.
— А я всегда в курсе, — солидно заявил Голем. — Так вот, писать вам ничего не надо будет. Только выступить по телевидению.
— И что же я должен буду говорить?
— Да что хотите, — улыбнулся Голем. — Нет, правда, я не шучу. Главное, чтобы вы говорили о нашем городе, о наших проблемах, о бедуинах, если угодно. Ну, приблизительный текст вам, конечно, подготовят.
— Кто подготовит? — быстро спросил Виктор.
— А вот когда подготовят, тогда и узнаете кто.
— Послушайте, Голем, с вами очень трудно разговаривать…
— Зато интересно.
— Постойте, я не закончил мысль. С вами очень трудно разговаривать без соответствующей дозы хорошего джина.
— А вот это как раз поправимо. Виктуар, вы нальете?
Они выпили еще по стакану, и возникла пауза, вполне нормальная для двух немолодых людей, уставших до отупения к концу невыносимо жаркого и невероятно бурного дня. В окно было видно, как над холмами садится солнце, воспаленное, злое, почти вишневое в пыльном мятном воздухе. Прохладнее станет только еще часа через два, но дышать будет все равно нечем. К этому уже привыкли.
— А вот скажите, Голем, это правда, что бедуины совсем не пьют?
— Спиртного? Безусловно. Им религия запрещает.
— Да нет же. Они совсем не пьют. То есть не пьют воды.
Голем посмотрел на него сочувственно.
— Виктор, у вас в школе был такой предмет — анатомия и физиология человека? Ну так что же вы задаете глупые вопросы?
— Не знаю, так говорят. В этом городе скоро смогут выжить лишь те, кому совсем не надо будет пить. Воду здесь включают все реже и реже. Естественные водоемы все пересохли, а напитки, сами знаете, дорожают чудовищно с каждым днем. На огородах давно ничего не растет, яблони все пересохли, собаки дохнут одна за другой, коты эти бедуинские, то бишь сиамские, расплодились. Это же не может продолжаться вечно. Очевидно, мы все уйдем отсюда, а останутся лишь те, кому не нужна вода.
— Возможно, — неожиданно согласился Голем, — только вы ошибаетесь относительно бедуинов. Это не они останутся.
— А кто же? — удивился Виктор.
— Другие люди, — неопределенно сказал Голем и одним глотком допил содержимое своего стакана.
— Дети? — быстро спросил Виктор.
— Да, — согласился Голем. — Только они не дети. Они очень похожи на детей, они кажутся нам детьми, но они не дети.
— Пожалуй, — проговорил Виктор, наливая себе неразбавленного джину, — однако по возрасту…
— Возраст — понятие относительное, — возразил Голем. — Взросление, созревание, старение может протекать в самые различные сроки. Природа предусмотрела здесь очень широкий диапазон. А само понятие «дети» скорее социальное. Любой старик может считаться ребенком, если признает себя сыном своих родителей. Наши — не признают. Как бабочка не считает гусеницу своей матерью. Гусеницу, по странной и нелепой случайности оставшуюся жить после рождения летающей красавицы.
— А как же они собираются жить дальше? — поинтересовался Виктор. — Ведь они же, по определению, должны нарожать новых гусениц. Или сами должны стать гусеницами? Честно говоря, плохо помню, что там происходит у насекомых, но у людей-то по этой части, кажется, ничего не изменилось. Или я не прав, Голем? Ответьте мне как врач.
— Отвечаю вам как врач: рожать они намерены бабочек, и только бабочек. А умирать намерены молодыми.
— Постойте, Голем, но это же кошмар, — сказал Виктор, не ощущая, впрочем, страха. Ему вдруг странным образом сделалось весело от того, что он начинает понимать происходящее. Выпитое за день не лишило его способности рассуждать логически, а только помогало не впадать в отчаяние. Уродливая, искаженная картина «нового прекрасного мира» не представала теперь перед ним в одном лишь черном свете.
— Кошмар, — спокойно повторил Голем. — С нашей с вами точки зрения.
Виктор выпил еще и сказал:
— Ну а при чем здесь бедуины?
— Бедуины? — рассеянно переспросил Голем. Он поднял свой вновь наполненный коктейлем бокал и поглядел через него на бордовый закат за окном. Желто-оранжевый напиток в этом зловещем свете казался кроваво-красным, как гранатовый сок.
— Бедуины, — повторил он еще раз. — С одной стороны, они тут вообще ни при чем. А с другой стороны, именно в них-то все и дело. Я только боюсь, что вы этого не поймете, Виктор. Помните такую формулу: Бог — это любовь? Ну конечно, помните. Формула по сути своей правильная. Да только тот Бог либо отвернулся от нас, либо мы сами про него забыли. Либо вообще не было этого Бога никогда, не существовало в природе, а была лишь идея, что, впрочем, несущественно, потому что Бог и идея Бога — суть одно и то же. А сегодня возник Новый Бог, и имя ему Ненависть. И новые люди молятся Новому Богу. И они понимают толк в ненависти. Они знают, что ненависть бывает разная. Ненависть бывает двух основных видов: пассивная, порождающая равнодушие, презрение, жалость, снисхождение и даже благотворительность; и активная, порождающая агрессию, насилие, убийства, геноцид. В принципе, они молятся первой ненависти, но на пути к ней им приходится проходить и через вторую. Большинство из них уже прошло через нее. На Последней войне, как они ее называют. И теперь они убеждены, что активная ненависть плавно перетечет в пассивную, а потом и вовсе исчезнет навсегда. Бедуины, кстати, говорят еще и о Ненависти Созидающей. Впрочем, бедуины — люди нездоровые, и наверно, нельзя относиться всерьез к тому, что они говорят, тем более…
— Голем, зачем вы мне лжете? — перебил его Виктор.
— Я вам?
— Конечно. Вы же не считаете их больными. Вы мне сами говорили, что их лечить совершенно ни к чему.
— А психотические отклонения вообще не лечат, Виктор. Психотиков просто оберегают от воздействия внешнего мира. А внешний мир оберегают от них.
— Неужели для этого обязательно нужны тяжелые танки? — саркастически поинтересовался Виктор и допил последнюю дозу.
— Иногда, — философски заметил Голем.
— Да! Но у меня еще вопрос. А почему туда пускают детей?
— Откуда вы знаете, что туда пускают детей?
— В городе говорят. И вообще, я сам сегодня видел этих, в сафари…
— В городе, — назидательно проговорил Голем, — говорят очень много всего интересного. Например, мой приятель Вернон, медик, между прочим, по образованию, знаете что мне поведал? Что скоро мы все мочиться перестанем, потому что жидкость будет уходить исключительно через поры кожи. А вы говорите, дети… Те, кого вы видели в сафари, — это члены Совета ветеранов Последней войны, СВПВ. Только они и имеют доступ на территорию Лагеря. Они ведут мирные переговоры с бедуинами.
— О, как это по-нашему! — воскликнул Виктор, хохоча. — Мирные переговоры под дулами танков за колючей проволокой между детьми и бородатыми моджахедами, причем и те и другие поголовно вооружены до зубов, и ни слова в прессе о том, что там происходит! Как это современно и демократично!
— Переговоры, между прочим, проходят весьма серьезные… ненависть — это вам не фунт изюму… Хотите, расскажу?.. Религиозные предрассудки… пресловутый фундаментализм… новейшая военная доктрина… прагматичный подход к массовым психозам… новый виток все той же спирали, но уже совсем в другом измерении… — Голем бубнил все это тихо, монотонно и как-то невнятно, отрывочно. Голос его все больше и больше заглушался ревом могучего двигателя, и Виктор вдруг обнаружил, что видный психиатр сидит верхом на стволе танкового орудия, у самого его основания, и большими кусками лопает сочный арбуз; холодный розовый сок стекает у него по подбородку, а косточками Голем плюется, как мальчишка, во все стороны. Одна из косточек попадает Виктору в щеку, и он возмущенно спрашивает:
— Что вы делаете, Голем?!
— На вам муха, — отвечает Голем.
— Не на вам, а на вас, — поправляет Виктор.
— Нет, на вам, — упорно повторяет Голем, — на мне нету.
А потом вдруг становится совсем темно. И тихо. И только слышно в этой тишине, как с кончика ствола падают в раскаленный песок тяжелые липкие капли арбузного сока.
9
Ирма открыла ему дверь и вяло предложила:
— Проходи, па.
И он тут же забыл, зачем пришел. Голова была тяжелая, хотелось спать, а еще хотелось искупаться. Бредовая, конечно, идея, и вообще для этого пришлось бы ехать к Селене на дачу, а это было сейчас никак невозможно.
Идя к дочери, он специально не стал пить с утра — только самую каплю — большой стакан лимонного сока и в него маленькую-маленькую рюмочку коньяку, просто, как писал Веничка Ерофеев, чтобы не так тошнило. А потом полложки соды в виде порошка и запить водой. И тогда сразу проходит изжога. Вот только голова… голова оставалась тяжелой.
Он прошел в комнату, сел на старый протертый диван и посмотрел на Ирму. Ирма стояла, опершись на спинку кресла, и в своем скромном, но изящном домашнем платьице была очень даже хороша. Она становилась все больше похожа на Лолу, но была, безусловно, красивее ее.
— Господи, что у тебя с глазом?
— В аварию попал. Ерунда. Пройдет.
— Ну а как ты вообще, папка?
— Да ничего, вот получил крупный гонорар за сценарий сериала на телевидении, приехал сюда отдохнуть, поболтать со старыми друзьями. А здесь видишь что делается: танки какие-то, бедуины, стрельба на улицах. И такая жара!.. Знал бы, не поехал. Слушай, ты же всегда дождь любила. И Бол-Кунац — тоже. Зачем вы сюда-то переехали?
— Мы никуда не переезжали, папа.
— То есть как? Не понимаю. Это же совсем другой город. Город, в котором я служил. А то был город, где я родился.
— Правильно, — согласилась Ирма. — Это совсем другой город. А того города просто уже нет. Не существует он больше. Но мы никуда не переезжали.
— Понятно… — пробормотал Виктор.
Ничего ему было не понятно, и тяжесть в голове постепенно превратилась в боль. Очевидно, это как-то отразилось на его лице. Ирма спросила:
— Па, кофе хочешь?
— Не уверен, — ответил он.
Вошел Бол-Кунац. Жутко сутулый, совершенно седой, с пожелтевшей кожей и трубкой в углу рта. Виктор едва узнал его.
— Здравствуйте, господин Банев!
Вот голос почти не изменился. Удивительно.
— Ты называл меня так, когда был мальчишкой.
— Точно. Я как раз и вспомнил те времена. Хотите пива?
— С удовольствием, если можно. А ты тоже будешь?
— Ну разумеется.
Бол-Кунац сел в кресло и запалил свою трубку. Ирма принесла шесть баночек пива из холодильника и ушла варить себе кофе.
— У вас с деньгами нормально? — спросил Виктор.
— Нормально, — сказал Бол-Кунац. — Правда, нормально. Спасибо, господин Банев.
— А вам не кажется, что отсюда надо уезжать?
— Одно время казалось, но сейчас уже поздно.
— В каком смысле?
— Да во всех смыслах, — сказал Бол-Кунац. — Возраст, дети — они никуда не поедут — и… мы просто не успеем уехать. Опять же — куда?
— Да куда угодно! Разве сейчас с этим есть проблемы? — спросил Виктор. — И что значит — не успеете уехать?
— Нет, юридических проблем, конечно, нет никаких, и даже денег я нашел бы хоть на Америку. Но я же говорю — дети. Август — член Совета ветеранов ПВ, Чика — студентка университета, будущий социопсихолог. Они же будут участниками событий. А события предстоят жаркие, и очень скоро, неужели вы еще не поняли? События будут такие, что не только уехать — уйти пешком будет трудновато в эти дни.
— Вот об этом как раз я и хотел с тобой поговорить. Без Ирмы. Может быть, вам куда-то уехать хотя бы на время: в столицу, или, наоборот, — куда-нибудь в глушь, у меня же есть дом в деревне.
— Спасибо, господин Банев, мы останемся здесь.
Бол-Кунац открыл вторую баночку пива и погрузился в синеватые клубы дыма.
— Послушай, Бол, — сказал Виктор, он снова перестал понимать, зачем пришел сюда, — но ты-то хоть можешь объяснить, почему мир так круто переменился?
— Наверно, потому, что мы проиграли. Тогда. Нам дали шанс. У нас была огромная сила в руках. А мы превратили ее в красоту. В божественную красоту. Вот только наши розы — лучшие в мире розы — вырастали всегда без шипов. Помните Экзюпери? Розы должны быть с шипами. Красоте необходима служба безопасности. Мы не подумали об этом. Мы решили, что в мире есть только пары противоположностей: красота и уродство, добро и зло, ум и глупость, а все остальное умещается в непрерывный спектр между каждыми двумя полюсами. Нет, мы не упрощали мир, мы просто исказили его так, как нам было удобно, так, как нам подсказали, и искаженный мир понравился нам, страшно понравился. Но за его пределами жил мир реальный, в котором признавали десять разных видов красоты и столько же — уродства, сотню принципиально разных взглядов на ум и столько же — на глупость, и десять тысяч непохожих представлений о добре и зле. Наш мир существовал, выдерживая давление реальности, пока не кончилась энергия, подпитывавшая его, а потом аккумулятор сел, а генератор, собственный генератор энергии, так и не заработал. И наш мир развалился. Рассыпался. Нам пришлось вернуться в старый. Собственно, нам даже не надо было никуда идти. Мы просто оказались опять в знакомом старом мире.
Бол-Кунац помолчал, выбил трубку в большую пепельницу и принялся набивать ее по новой. Тихо вошла в комнату Ирма и встала у окна. Бол-Кунац продолжил:
— Помните, вы сказали тогда: «Не забыть бы мне вернуться». Вы не забыли и вернулись раньше других. Вы просто не догадались, что вернуться придется всем. Обязательно. Очевидно, они допускали такой вариант. Они долго терпеливо наблюдали за нами, не вмешиваясь, но сегодня — неужели вы еще не поняли? — они предпринимают вторую попытку. И мне хочется верить, что наши дети все-таки сумеют найти свой собственный источник энергии. Сколько же можно жить на халяву? Ведь наши дети стали совсем другими, не похожими на нас, еще меньше похожими, чем мы на вас. Да и они тоже стали другими. И это нормально…
— Они — это мокрецы? — вспомнил вдруг Виктор это странное, давно забытое слово — слово не просто из прошлого, слово как бы из другого мира, из другой реальности.
— Сами вы мокрецы! — сказала вдруг Ирма обиженно и громко. — Боги спускаются на Землю, а вы называете их то мокрецами и считаете прокаженными, то бедуинами и зачисляете в психопаты. Странная традиция складывается в этом мире.
— Погоди, Ирма, — ошарашенно прервал ее Виктор, — ты считаешь, что бедуины — это все те же мокрецы?
— Не знаю, но я так чувствую, я не могу этого объяснить.
— Ирма, — сказал Бол-Кунац, — принеси еще пива, пожалуйста.
Потом затянулся сиреневым ароматным дымом и снова пристально посмотрел на Виктора.
— Я же говорю, это вторая попытка. Они пришли теперь уже не к нам. Они пришли к нашим детям.
— Так почему же ваши дети их ненавидят?!
— Вот! — воскликнул Бол-Кунац. — Здесь-то собака и зарыта. В этом вся суть. Но только вы ее, наверно, не поймете.
Виктор тоже пил уже четвертую баночку пива, голова у него прошла, сигареты курились одна за одной с большим удовольствием, и он был полон решимости понять все в это утро.
— Но почему, почему все говорят мне, что я чего-то не пойму? Я что, похож на идиота? — вопросил Виктор. — Или я стал уже ходячим анахронизмом?
— Второе ближе к истине, господин Банев, но тоже не совсем верно. Можно, я начну издалека?
— Начинай.
— Помните, у Достоевского? Кажется, в «Идиоте». (Заметьте, как я изящно цитирую классику, — это к вопросу об идиотах.) Помните там такое рассуждение, что есть у нас самые разные замечательные мастера во всех областях и во все времена такие были, вот только не хватало всегда ЛЮДЕЙ ПРАКТИЧЕСКИХ. Сегодня их тоже не хватает, господин Банев.
А особенно остро ЛЮДЕЙ ПРАКТИЧЕСКИХ не хватало нам в нашем изысканно искаженном, прекрасном, придуманном мире. Их не хватает постоянно, но сегодня они должны найтись, сегодня ставка делается на них, наконец-то на них. Боги отдают власть ЧЕЛОВЕКУ ПРАКТИЧЕСКОМУ, но ЧЕЛОВЕК ПРАКТИЧЕСКИЙ в богов не верит, не любит он богов, и за навязчивость начинает их даже ненавидеть. А богам только того и нужно. Культивируя ненависть, они аккумулируют энергию ЛЮДЕЙ ПРАКТИЧЕСКИХ и взращивают их для новой самостоятельной жизни. Понятно?
— Более-менее, — проговорил Виктор, из последних сил пытаясь поспеть за парадоксальным ходом мысли собеседника.
— Я называю их богами с подачи Ирмы, — продолжал Бол-Кунац. — Это удобнее, потому что короче и яснее. На самом деле я их богами не считаю. Они, конечно же, люди. Они в большей степени люди, чем мы с вами. Но они люди иного уровня. Поэтому они и эмоции вызывают более высокого порядка. Ненависть к ним — это вам не ненависть к соседу по квартире или к жулику продавцу на рынке. Она настолько сильна, что переходит в новое качество. Она становится Ненавистью Созидающей.
«Стоп, — подумал Виктор, — кто-то уже говорил мне о Ненависти Созидающей. Селена? Голем? Антон? Нет, только не Антон…»
— А вот скажи, Бол, ведь бедуинов ненавидят не только ваши юные супермены, но и еще много-много людей разных поколений, да и социально разных. Это имеет какое-то отношение к сути?
— К сути? Практически никакого, но давайте разберемся поконкретнее, кого вы имеете в виду?
— Ну, например, господина Антона Думбеля.
— Кто таков?
— Сотрудник департамента безопасности. Здесь, в городе, работает инкогнито. Бедуинов ненавидит люто, призывает физически уничтожить, а заодно с ними и остальных мусульман.
— Клинический случай, — улыбнулся Бол-Кунац. — И потом ведь бедуины — не мусульмане. Наши местные бедуины.
— Ой ли?
— Ну конечно. Вот вы, например, христианин?
— Я крещен в костеле.
— Блестящий ответ! Вот именно — вас окрестили в костеле — и все. А им сделали обрезание в мечети — и тоже все. На том уровне социального сознания, который занимаете вы и который занимают бедуины, это уже не имеет ровным счетом никакого значения. Когда мы пытались создавать свой мир, мы очень хорошо понимали это, мы только недоучли, что не все люди на планете такие умные и интеллектуально зрелые, как, например, Виктор Банев. Есть очень, очень много вполне приличных, вполне добрых и по-своему неглупых людей, которые не со зла, а просто в силу своего уровня сознания не способны понять — ну, не способны! — как это могут быть равны во всем негры и белые, евреи и арабы, японцы и корейцы. Они ведь не то чтобы не хотят — они не могут такого понять. И это необходимо учитывать. Мы не учли. — Он помолчал. — И еще кое-чего не учли тоже. Мы умели творить и строить, мы слушали музыку и слушали дождь, мы читали стихи и философские трактаты, мы почти научились читать мысли друг друга, но зато полностью утратили способность уничтожать. А мир устроен таким образом, что без этого не проживешь. Даже элементарные отходы, обыкновенные фекалии нельзя просто откладывать в сторону — они тогда заполонят все на свете. А есть еще болезни. Представьте себе хирурга, который боится тронуть скальпелем опухоль и вместо этого вступает с ней в переговоры.
— Лично у меня, — сказал Виктор, — такой хирург вызывает восхищение.
— У меня тоже, — согласился Бол-Кунац, — но по жизни таких хирургов практически не бывает. И функцию уничтожения все равно кому-то приходится выполнять. Вы — интеллигент, я интеллигент — мы отказываемся. И зовем варягов, словно электрика — починить пылесос. Но это ведь не починить — это, наоборот, уничтожить. И тут уместнее другое сравнение: позвали добрые люди мужика — поросенка зарезать, а он так увлекся, что вместе с поросенком и добрых людей зарезал. Так примерно и получается. Никому нельзя в этом мире передоверять функцию уничтожения. Ею лично должен владеть созидатель, строитель, творец. Я знаю, что вам не нравятся тренированные мальчики, кричащие на площади «Смерть бедуинам!», вы даже не хотите встречаться с собственным внуком. Но поверьте мне, лозунгами и угрозами они переболеют, а главное, здоровое и рациональное зерно в них сохранится. Поверьте, они подготовлены к тому, чтобы держать в руках скальпель хирурга, а не топор палача.
— А тебе не кажется, Бол, что в социальном аспекте — это одно и то же?
— Мне-то кажется, но я вам излагаю их точку зрения, чтобы вы поняли.
— Ах вот как.
— Да, господин Банев. А от себя я добавлю еще только одно. Мальчики-супермены, которые идут сегодня к власти (подчеркиваю — идут, а не рвутся, как до сих пор все рвались), не просто умеют убивать. Они прошли войну и знают цену смерти. Именно поэтому, придя к власти, они не станут прежде всего составлять расстрельные списки, как это делали во все времена разнообразные философы-полиглоты типа Ленина и народные поэты-гуманисты типа Нур Мухаммеда Тараки.
— А ты уверен, что действительно не станут? — спросил Виктор.
— Да ни в чем я не уверен! — разозлился Бол-Кунац и принялся яростно выбивать очередную трубку. — Просто я неисправимый оптимист.
И он закашлялся на слове «оптимист».
Виктор поднялся:
— Мне пора. Я еще зайду к вам. Мы очень хорошо поговорили. Спасибо за пиво.
Провожая его до дверей, Ирма сказала:
— Отец, я слышала, тебе предлагают выступить на телевидении. Было бы очень хорошо, если бы ты согласился. Ты можешь сказать им всем что-то важное. Я знаю.
Виктор улыбнулся. Ему было приятно.
— И ты туда же! — только и сказал он.
Посреди совершенно опустевшей улицы он глянул на часы и присвистнул. Ничего себе утро! Было уже пять пополудни. Сиеста кончалась. До встречи в мэрии можно было разве что успеть пообедать и пропустить стаканчик ментоловой у Тэдди.
10
А у Тэдди было совсем пусто. Даже Квадрига еще не подошел. Только за угловым столиком обедали, как всегда, молодой человек в сильных очках и его длинный спутник, да в другом углу шушукалась какая-то молодая парочка. Сам Тэдди стоял за стойкой и вдумчиво протирал стаканы.
— Привет, — сказал Виктор, — сделай мне ментоловой, пожалуйста.
— Опять не спали в сиесту, — укорил Тэдди.
— Да не привык я. А к тому же тебе не кажется, что сейчас страшновато стало ложиться спать. Лучше быть все время начеку.
Тэдди оценивающе посмотрел на огромный синяк под левым глазом Виктора, припухший и фиолетово-желтый теперь, и вынужден был согласиться.
— Должно быть, вы правы, господин Банев. Слышали, мэр подал в отставку?
— Нет. А что, это важно?
— Само по себе, наверно, нет. А про комендантский час слыхали?
— Так уже объявили? — удивился Виктор.
— Ну конечно, и причем с двадцати двух ноль-ноль. Кажется, у нас опять революция.
— Не революция, Тэдди. Революции раньше были. Теперь это называется путчем.
— А, — Тэдди махнул рукой, — какая разница! Опять окна поколотят, электричество вырубят, грязь разведут и выпьют у меня все, ни гроша не заплатив. Каждый раз одно и то же. Надоело все.
Он вздохнул.
— Сейчас по-другому будет, — сказал Виктор.
— Вы так думаете? Или знаете? — поинтересовался Тэдди.
— Предполагаю, — ответил Виктор. — Что я могу знать? Знает у нас все только доктор Голем.
— Где он, кстати? Второй день его не вижу.
— Очевидно, дела.
— Революционные заботы? — усмехнулся Тэдди.
— Путчистские, друг мой, путчистские, — поправил Виктор и опрокинул наконец рюмку, наслаждаясь разливающимся по гортани ментоловым морозцем.
Боковым зрением он отметил, что двое контрразведчиков, или кто они там, поднялись из-за углового столика и пошли к выходу. Мгновенно созрела идея, и Виктор сказал:
— Спасибо, Тэдди. Мне пора. Вечером зайду еще.
Он нагнал их уже почти на улице, в тамбуре между стеклянными дверями. Сюда круглосуточно нагнетался довольно шумными кондиционерами холодный воздух. Завсегдатаи называли этот закуток аквариумом, и для короткого конспиративного разговора, какой задумал Виктор, место можно было считать идеальным. Если они не захотят общаться, он тут же уйдет своей дорогой, а возможный сторонний наблюдатель сочтет, что Виктор просто сказал им «разрешите пройти» или что-нибудь в этом роде.
— Господа, — произнес он четко и достаточно громко, — у меня к вам разговор.
Долговязый профессионально ощупал Виктора взглядом с головы до ноги, даже не прикасаясь руками, уверенно определил: безоружен.
— Проходите в машину, — сказал он. — Черный «шевроле» за углом направо. Водителю скажите: «Вариант Б-15».
Они вышли из ресторана первыми. Долговязый безмятежно закурил, вертя головой как бы в поисках такси, а молодой человек со своим портфельчиком, который держал двумя руками, встал рядом и хмуро смотрел себе под ноги.
Окошко со стороны водителя в черном «шевроле» было приоткрыто, лысый бугай за рулем исправно среагировал на пароль, и, как только Виктор сел на заднее сиденье, машина тронулась. Все это было похоже на дурной шпионский детектив, каких сам он отродясь не писал, да и не читал в общем-то. А еще ситуация мучительно напоминала ему какой-то эпизод из его, прошлой жизни, но только сейчас не об этом надо было думать, не об этом…
«Шевроле» поворачивал два или три раза и наконец подъехал к месту встречи. Долговязый сел рядом с Виктором, а молодой человек вполоборота на переднем сиденье. Водитель безо всякого приказа поднялся и вышел погулять.
— Ну-с, — сказал молодой человек.
— Мне стало известно, что господин Думбель — не просто инспектор по делам национальностей.
— Мы это знаем, — спокойно ответил долговязый. — Ситуация под контролем.
— Но господин Думбель хотел убить бедуина, и только мое вмешательство спасло ему жизнь.
— Когда это было? — заинтересовался долговязый.
— Вчера, около семи вечера.
— Похвально, — произнес молодой человеке непонятным выражением.
— А вот скажите, Антон Думбель пытался убить бедуина с помощью огнестрельного оружия?
— Да, — сказал Виктор, пытаясь сообразить, какое это может иметь значение.
— Господи! — не выдержал молодой человек. — Почему же у них все такие тупые?
— А еще, — непонятно зачем, Виктор решил продолжить. — За бедуином гнались двое в масках…
— И в спортивных костюмах, — подхватил долговязый.
— Это вы тоже знаете, — разочарованно сказал Виктор.
— Работаем. — Долговязый как-то даже виновато развел руками. — А вы-то, собственно, чего от нас хотите?
— Защиты, — честно признался Виктор. — Думбель мне угрожал.
— Не бойтесь, — успокоил долговязый совсем по-отечески. — Думбель всем угрожает. Он просто трепло.
— Не просто. — Виктор грустно ухмыльнулся и повертел левой рукой около лица.
— Ах, это он вас так разукрасил! Сочувствую, — сказал долговязый.
Виктору сделалось совсем противно, он уже не чаял, когда же вырвется из этой машины, и жалобно спросил:
— Я пойду?
— Идите, конечно, — разрешил молодой человек.
Он снял свои сильные, чуть затемненные очки, чтобы протереть их, и Виктор впервые увидел его глаза. Глаза были маленькие, совершенно бесцветные и пустые, как погасшие индикаторные лампочки на сложном приборе.
— Идите, — повторил он. — И мой вам совет, Банев. Не лезьте куда не следует. У нас своя работа, у вас — своя. Вам сейчас предстоит очень важная работа. Куплетистом вы были, романистом были, сценаристом даже были. Побудьте теперь глашатаем. Или, как это точнее, рупором, что ли? Желаю успеха.
Виктор вылез из машины не прощаясь и хлопнул дверцей. А собственно, зачем прощаться, если вначале не здоровался?
Зачем он вообще с ними разговаривал? Для чего? Извечное стремление все понять, во всем разобраться? Или просто хотел отомстить Антону? Или это действительно страх?
На улице, казалось, стало еще жарче, если такое вообще было возможно. Сколько это — пятьдесят, шестьдесят по Цельсию? На термометр последнее время предпочитали не смотреть, чтобы не сойти с ума. Но пекло уже не как в Сахаре, пекло как в Долине Смерти, а может быть, и того хлеще — как в финской бане.
«Кстати, о финской бане, — подумал Виктор. — Хорошо бы сейчас еще рюмочку финской ментоловой, а вечером к Селене на дачу и искупаться».
Возле мэрии он поначалу растерялся. Вход охраняли, как это теперь уже было принято повсюду, полицейские совместно с ветеранами. Юнцы из СВПВ очень любили для краткости называть себя ветеранами, и конечно, особенно любили это те, которые и пороха-то не нюхали. У входа в мэрию стояли, похоже, именно такие. И Виктор понял: эти ни за что не пропустят.
Было уже без двух пять, и он бы, пожалуй, опять наделал глупостей, но тут подъехал роскошный ультрасовременный японский джип, кажется «тойота-раннер», и в сопровождении двух телохранителей вышел Абэ Бон-Хафиис. Виктор даже не сразу узнал его: шикарный светский костюм, белая рубашка с галстуком, заколка, очевидно, с бриллиантом. Только косматая борода и напоминала о бедуинском происхождении.
— Здравствуйте, господин Банев. Вы меня ждете? Пойдемте наверх.
Они поднялись в пустующий кабинет самого мэра, и Хафиис, отпустив охрану, уверенно занял кресло градоначальника.
— Теперь вы будете у нас мэром? — осторожно поинтересовался Виктор.
— Да ну что вы! Просто кресло удобное. Я не занимаюсь политикой в таких конкретных формах. И потом, неужели вы не понимаете, что уровень мэра — это для меня слишком мелко?
— А я, господин Хафиис, вообще ничего не понимаю.
— Не прибедняйтесь. Чего тут понимать? Мэром будет, возможно, Селена.
— Селена? — переспросил Виктор. — А Фарим?
— Фарим! — улыбнулся Хафиис. — Фарим будет президентом.
— Правда? — Виктор тоже вежливо улыбнулся.
— Шучу. Хотя в каждой шутке… ну, вы понимаете. Собственно, я же не для этого вас сюда пригласил. А для того, чтобы поговорить о вашем выступлении на ТВ.
— Это с такой-то рожей?
— Неважно, — махнул рукой Хафиис. — В телецентре хорошие гримеры. Ну а потом, в конце концов, так и объясните зрителям, что пострадали в борьбе с реакционными силами.
— А орден Доблести мне за это не дадут?
— Это смотря по тому, как вы выступите в эфире, — ядовито ответил Хафиис.
— Простите, а то, что я буду выступать, решено уже окончательно?
— У вас есть возражения?
— У меня ясности нет.
— А ясность мы сейчас внесем, — уверенно пообещал бедуинский идеолог. — Вам хочется знать, разумеется, что именно вы должны говорить. — Хафиис встал и заходил по кабинету. — А ничего не должны. Говорите все, что вам заблагорассудится, все, что вы на самом деле думаете, все, что сумели понять, и о том, чего понять не сумели, — тоже говорите. Главное, держитесь в рамках выбранной темы. Ну и регламент, конечно, не больше пятнадцати минут. А тема — наше будущее. Национальные проблемы. Религиозные проблемы. Военное противостояние. Власть и свобода. Роль спецслужб во всем этом. Вот примерно так.
— А почему именно я?
— Результат социологического опроса.
— Не может быть!
— Правда, правда, — заверил Хафиис. — Конечно, это был не единственный критерий. Опрос дал много фамилий, но у нас еще были эксперты.
— У вас?
— Послушайте, Банев, мне бы не хотелось сейчас открытым текстом называть, кто такие мы. Это преждевременно. Вы окажетесь не готовы. — Он помолчал. — Вы Голему верите?
— Да.
— А Селене?
— Знаете, почему-то тоже.
— Вот и прекрасно. Они оба с нами. Может быть, этого будет пока достаточно?
— Пока достаточно, — повторил Виктор, как эхо. — И все-таки не понимаю, почему именно я?
— А помните, — сказал Хафиис, — когда у нас поменялся президент, новогоднее поздравление народу делала рок-звезда?
— Но я же не рок-звезда, — улыбнулся Виктор, — и вроде не Новый год сейчас.
— Вы почти рок-звезда, Банев. А Новый год настанет так скоро, как вы и представить себе не можете.
— Сегодня, что ли?
— Ну нет, это уж слишком. Ваше выступление планируется в завтрашнем вечернем эфире, перед информационной программой.
— Значит, завтра… Да, господин Хафиис, вот еще что! Почему это всякая сволочь из охранки считает своим долгом пожелать мне успеха в этом выступлении?
— А вот на это вы не обращайте внимания. Когда в прежние годы ваши хорошие, честные книги хвалил какой-нибудь мерзавец из придворных критиков, вы придавали этому значение?
— Придавал, — ответил Виктор коротко.
— А зря, батенька, зря. Здоровье свое надо щадить. Я вот научился в свое время не замечать ни собачьего лая, ни льстивого мурлыканья.
— У вас книги другие, — заметил Виктор.
— Да, у меня книги другие, — согласился Хафиис и снова помолчал. — А что это вы совсем не спрашиваете об оплате?
— Да просто у меня сейчас с деньгами все в порядке. И потом, после переворота, как я понимаю, мне будет предложен пост… ну, скажем, министра культуры в новом правительстве. Или я не прав?
— Вряд ли, — серьезно сказал Хафиис. — А вы хотите?
— Нет.
— Ну вот и славно. Мы просто намерены дать вам возможность писать. И издаваться. А главное — будет кому вас читать.
— Откуда же они возьмутся, эти читатели? Из космоса, что ли?
— Да нет. Они есть тут, их много. И вы это прекрасно знаете. Просто сегодня им решительно некогда читать. И незачем. А будет так, что у людей снова появятся и время, и желание читать ваши книги.
— Да вы, я смотрю, оптимист! Прямо как мой зять.
— Ну нет. Ваш зять оптимист абстрактный. А я — конкретный оптимист. Хотите выпить за конкретный оптимизм? Есть замечательный коньяк «Давидофф».
— А вы тоже будете?
— Конечно!
— Так вы же мусульманин.
— Ну уж не до такой степени, — сказал Хафиис.
Виктор уходил из мэрии, и его не покидало ощущение, что все это уже было, было однажды. Как-то немножко по-другому, но было. Впрочем, больше всего ему хотелось сейчас видеть Селену.
Он позвонил ей на дачу прямо от Тэдди:
— Селена, больше всего на свете я хочу сейчас искупаться. Ты слышишь?
— Приезжай, я встречу тебя на КПП. Во сколько ты будешь?
— Сейчас половина девятого. Я приеду в половине… нет, давай к десяти, чтобы тебе не пришлось ждать.
— О'кей, Виктор.
Он вдруг почувствовал себя молодым и сильным. Он был нужен Селене, и этим ее чумным мальчишкам, и бедуинам он был нужен, и даже спецслужбам (это, разумеется, не в новинку). Но главное — все-таки главное! — он был нужен Селене. Было очень здорово ощущать себя нужным ей.
Все еще улыбаясь, он подошел к привычному столику. Голем рассматривал маленькую рюмку коньяка, которую держал в руке. Подняв глаза на Виктора, он спросил:
— Обо всем договорились?
— С кем, с Селеной?
— Да нет, в мэрии.
— А, с этим… Там все в порядке.
— Ну и слава Богу. Садитесь, выпейте с нами, Виктор, а то мы с Квадригой совсем заскучали.
— Нет, нет, только одну рюмку ментоловой, и я полетел. Меня ждет женщина. Кстати, Голем. Вы не дадите мне машину?
— К сожалению, Виктор. У меня все машины в разъездах. Можно ведь доехать и на электричке.
— А вы знаете, куда я еду?
— Конечно, знаю. Разве вы еще не привыкли к этому, Виктор?
— Кажется, уже привык. За вашу проницательность, Голем!
Виктор поднял рюмку. Они чокнулись.
Квадрига пробормотал:
— Особая рота спецназа. В приграничном районе. Уничтожена полностью.
— Мрачные у него нынче фантазии, — заметил Голем. — Передавайте привет Селене. Я ее не видел сегодня.
— Обязательно, — сказал Виктор. — Можно задать вам один вопрос?
— Задать можно.
— Бедуины имеют что-нибудь против нас?
— Это смотря кого вы имеете в виду под словом «нас».
— Н-ну, — замялся Виктор, — против всех нас, против жителей города вообще.
— Конечно, нет, — уверенно сказал Голем. — Бедуины и сами — жители города.
— А против СВПВ?
— Тоже нет.
— Странно. Ну а против тайной полиции?
— Знаете, Виктор, скажу вам как врач: тайную полицию они не любят, только не надо делать из этого политических выводов. Ладно?
— Я постараюсь. А чрезвычайное положение бедуины ввели?
— Чрезвычайное положение у нас по конституции вводит президент. Виктуар, вы и так разбили свой один вопрос на три части. Я ответил. А это уже совсем новая тема. Вас же Селена ждет.
— Вы, как всегда, необычайно любезны, Голем, — проворчал Виктор. — Счастливо!
— Постойте, я только хотел объяснить. По поводу ЧП и прочей ерунды вам лучше меня расскажет Селена. Но вот что важно. Вы, я вижу, готовитесь к своей речи. Так поймите же: никакая новая информация вам теперь не поможет. Не нужна она больше. Поверьте.
— Счастливо, — повторил Виктор после паузы.
Голем, конечно же, мудр. Мудр, как библейский пророк. Но иногда совершенно не хочется ему верить. А впрочем, пророкам, как правило, никто и не верит.
Виктор не поехал на электричке, он свернул на знакомые задворки, завел, в точности как накануне, старенький разбитый микроавтобус «форд» и, с радостью обнаружив, что одна фара у него все-таки светит, поехал через весь город на Западное шоссе и дальше, в Перепелкин Лес. Было уже совершенно не важно, чья это машина. В канун приближающихся событий Виктор не побрезговал бы угнать и бэтээр.
11
Фары встречной машины были расставлены слишком широко — грейдер не грейдер, но уж какой-то грузовик — это точно, в крайнем случае «хаммер». В последнее время в городе появилось несколько этих супервездеходов, причем с частными номерами, — супервездеходов, продаваемых в Америке (где их и делают) только с разрешения Конгресса.
Виктор притормозил и опасливо вертанул руль вправо, одновременно нащупывая в кармане пистолет. Что здесь может быть нужно за несколько минут до комендантского часа какому-то грузовику или пижонскому «хаммеру»? Ох, не к добру это!
Но машина оказалась не «хаммером» и даже не бэтээром. Это был огромный автобус «мерседес», и единственная фара Викторова «форда» высветила яркую надпись по борту: «РЕЧНЫЕ ВОЛКИ», а еще — одинаковые лица у окон, дружно повернувшиеся в его сторону.
«Господи, куда же они едут, несчастные?» — подумал Виктор, но уже через несколько секунд напрочь забыл о спортсменах: в конусе света возник полосатый шлагбаум, будка, полицейский. Сцепление, тормоз, ручку в нейтраль.
Подъехавший с той стороны «кадиллак» был покруче давешнего «ситроена». Виктор вышел из машины, Селена тоже.
— Бросай свою колымагу здесь и садись ко мне, — сказала она.
Они не отъехали еще и ста метров от КПП, когда Селена бросила руль и накинулась на Виктора, как дикая кошка. Оба передних сиденья, повинуясь какой-то кнопке, стали медленно раскладываться, превращаясь в настоящую двуспальную кровать.
— Я люблю тебя, Вик, — шептала Селена.
— Погоди, — смеялся он, — я же больше всего на свете хотел искупаться. Я хотел искупаться до.
— Это чудесно, — шептала Селена. — Все будет как ты хотел. Но я дополняю от себя: сделаю так, что ты искупаешься и до, и после. Ладно?
Она не стала одеваться, садясь обратно за руль, только теннисные туфли натянула вместе с гетрами — все-таки босиком неприятно давить на педали. «Кадиллак» рванул с места, как дикий мустанг, все пять поворотов до дачи они прошли на скорости не меньше пятидесяти миль в час, с визгом тормозов и пулеметной дробью гальки по чужим заборам, ветер свистел в открытых со всех сторон окошках и верхнем люке, мотор ревел как раненый зверь, и обнаженная Селена была похожа на амазонку, объезжающую непокорного жеребца. Отправляясь встречать гостя, она оставила открытым въезд на участок, а теперь вышла закрыть, и Виктор любовался ее изящной фарфоровой фигуркой в свете луны на фоне тяжелых мрачных ворот, проскрипевших в ночи тревожно и тоскливо.
Прочь тревогу, прочь тоску!
Они нырнули в бассейн, взметая веером сверкающие серебряные брызги. Они резвились в воде, как два молодых дельфина, и вода вскипала, и шальной прибой лупил в искусственные кафельные стены, а большая луна на черно-бордовом небосводе сделалась совсем красной то ли от чудовищной жары, то ли просто от стыда за то, что ей приходилось видеть…
— Селена, — сказал Виктор, все еще тяжело дыша, когда они поднялись в верхнюю комнату и окунулись в ее нежную прохладу и белизну. — Скажи, Селена, что будет завтра?
— Завтра? Может быть, ничего не будет. А может быть, будет бой.
— С бедуинами?
— Ага, с ними.
— А они воевать-то умеют? — серьезно спросил Виктор.
— Они все умеют. К сожалению, — проговорила Селена, глядя куда-то в сторону.
— Ну а убить-то их можно? — спросил Виктор еще серьезнее.
Селена повернулась и долго смотрела на Виктора молча.
— А ты много знаешь, — произнесла она наконец.
— Не очень. Просто я наблюдательный человек. Нам, писателям, инженерам человеческих душ, это совершенно необходимо.
— А-а-а, — протянула Селена, — наблюдательный. — И добавила после паузы: — Можно их убить, можно. Не совсем так, как обычных людей, но можно. Их уже убивали.
— Кто же это? — поинтересовался Виктор.
— Не мы, — коротко ответила Селена.
Они помолчали. Потом девушка поднялась и достала из бара бутылку коньяка и два классических фужера «тюльпан», а из холодильника — бутылку шампанского.
— Шампанского я не пью, — сказал Виктор. — Практически никогда. Или это по поводу Нового года?
Селена вздрогнула:
— Почему ты говоришь о Новом годе?
— Потому что господин Хафиис велел мне подготовить новогоднее приветствие нашему Народу.
— Велел? — переспросила Селена.
— Шучу. Ничего он мне не велел. Просто объяснил свою точку зрения. И я вроде все понял. Давай выпьем по такому поводу. Со мной это редко бывает, чтобы я все понимал.
Селена выпила шампанского, а Виктор все-таки коньяку.
— Слушай, — сказал он через полминуты, неторопливо прочувствовав тонкий букет коллекционного «Наполеона», — давненько я не пробовал такого божественного напитка! — И тут же без перехода: — Ну неужели вы не можете с ними договориться?! Неужели опять надо заливать кровью полгорода? Или полстраны? А может быть, полмира?
— Может быть, — сказала Селена тихо. — Мы пытались и пытаемся договориться. Среди нас нет сумасшедших, и мы не хотим убивать ради убийства и умирать ради смерти. Но с бедуинами невозможно договориться. Мы просто не можем найти конструктивной базы для переговоров. У нас к ним очень много требований. У них к нам — никаких. Им от нас ничего, ну абсолютно ничего не нужно. У них уже все есть. Они всего достигли. Они, по их собственному мнению, уже победили. Они живут своей, ни от кого не зависящей жизнью и не хотят подчиняться нашим законам.
— Да и Бог с ними. Пусть живут как хотят.
— Только не на нашей территории, — процедила Селена сквозь зубы.
Она даже побледнела от ярости и была как-то по-новому, необычно хороша.
— Тоже мне территория! — не унимался Виктор.
Было так интересно злить эту девчонку! В конце концов, он просто не видел другого способа вытянуть из нее хоть что-нибудь, молчит ведь обычно как партизан, как доктор Голем молчит, и только улыбается хитро, а тут вдруг такие откровения пошли!
— Какая это наша территория? — рассуждал Виктор. — Их же за колючей проволокой держат. А теперь еще эти танки…
— Вот именно, что теперь, — откликнулась Селена. — И может быть, уже поздно. А колючая проволока… Они за нее сами спрятались. Они же по городу ходят как по своим баракам, они уже по всему миру ездят, это же не единственный такой Лагерь, и бедуинов с каждым днем становится все больше и больше! Это же тихая агрессия, это страшная тихая экспансия!..
— Погоди, как же их может становиться больше, если у них детей не бывает?
— Да ты что?! — Селена округлила глаза и даже рот приоткрыла. — Ты разве не знаешь? Бедуинами не рождаются — бедуинами становятся. Бедуины — это же не нация, это…
Она вдруг ошарашенно замолчала, поняв что-то, и затем выпалила:
— Так ты решил, что мы ненавидим их по национальному, по этническому признаку?! Господи, да ты нас за фашистов посчитал! А это они, бедуины, и есть фашисты. Это они назвались высшей расой, высокомерные элитарные существа, они не хотят идти ни на какие уступки, они издеваются над нами, презирают нас — это ли не фашизм?
— Прости, но доктор Голем, кажется, не считает их фашистами?
— Доктор Голем? — вскинулась Селена. — Хороший старикан, но у него уже крыша едет. Шутка ли — столько лет с психами работать.
— И Бон-Хафиис очень мало на фашиста похож, — гнул Виктор свое.
— Ну, этого ты просто плохо знаешь. Хитрющая лиса, идеолог, мозговой центр, геббельс мусульманский…
Виктор загадочно улыбнулся.
— Ну все, — сказал он, — хватит. Успокойся. Еще по маленькой коньячку — и спать! Я уже понял самое главное.
— Что ты понял? — не столько спросила, сколько возмутилась Селена.
— То, что я сейчас понял, — медленно проговорил Виктор, — тебе, девочка, пока еще будет недоступно.
— Ах ты, скотина! — беззлобно закричала Селена, вскакивая и принимая боевую стойку. — Вот я тебе сейчас покажу «недоступно»!
И тут началось такое!.. Виктор тоже когда-то немножко учился восточным боевым искусствам. Но вместо кимоно на них были сейчас купальные халаты, и, глядя со стороны, никто не сказал бы однозначно, чего в этих псевдояпонских танцах больше, — каратэ или эротики. Чтоб разобраться в этом, пришлось действительно выпить еще по чуть-чуть. И они разобрались, отлично во всем разобрались. Так хорошо, что наутро Виктор даже не услышал будильника. А может, просто забыл его поставить.
Услышал он громкий сигнал автомобиля с подъездной дорожки. Селена тоже услышала. Глянула на часы и, зевнув, попросила:
— Вик, глянь, кто там.
С трудом попадая в рукава халата, он подошел к окну. Из темно-синего приземистого «понтиака» вышел юный лидер ветеранов. Один, без охраны.
— Это Фарим, — сообщил Виктор. — Ты ждала его?
— Да.
Селена нашарила какой-то пультик и открыла внизу дверь гостю. Фарим мгновенно взлетел на второй этаж.
— Вставай, сонная зверушка! — объявил он с порога, бесцеремонно открывая дверь. Потом увидел Виктора и невозмутимо добавил: — Здравствуйте, господин Банев.
Селена еще раз длинно зевнула и потянулась, не слишком задумываясь при этом, какие части тела остались прикрыты простыней, а какие — нет.
— Прю-вет, — сказала она. — Фаримка, завари кофе, не сачкуй. Мы сейчас.
Фарим тут же вышел, Виктор даже не успел ответить на приветствие. Но это было и не важно. Важнее было понять смысл этой сцены. И он сразу взял быка за рога:
— Послушай, девочка, у тебя с этим Фаримом что-то было?
— Ага. — Селена снова зевнула. Она все никак не могла проснуться.
— А теперь?
— Не знаю. Он хорошо ко мне относится. И мне его обижать незачем.
— Здорово, — прокомментировал Виктор, быть может переоценивая двусмысленность последней фразы.
— Вик, поменьше думай обо всякой ерунде, — широко и по-доброму улыбнулась переставшая наконец зевать Селена. — Ладно? И все действительно будет здорово. Пошли кофе пить.
«Старый дурак, — подумал Виктор. — Действительно, о чем ты? Сколько тебе лет и сколько ей? Она же еще почти ребенок!»
12
За завтраком Селена и Фарим начали обсуждать детали военной операции под кодовым названием «Штурм бастиона». Виктор быстро заскучал и, допив свой кофе, удалился в кабинет — писать текст выступления. Нет, он не собирался потом заучивать этот текст наизусть, но и совсем с экспромтом вылезать тоже не хотелось.
После двух часов работы он перечитал написанное и с удивлением обнаружил этакий бодрый манифест на полчаса непрерывного чтения, по торжественности и изяществу слога не сильно уступающий тому классическому, что сотворили некогда господа Энгельс и Маркс.
— Да, — произнес Виктор вслух, — эта штука будет посильнее «Фауста» Гете.
И, весело скомкав листы, забросил их в корзину. Ох, нельзя такие современные вещи писать по старинке, царапая стилом по бумаге. Вот же стоит рядом на столе нормальный компьютер — на нем и работай.
Еще через час родился второй — электронный вариант. Нарочито разбитый на несколько файлов, чеканно-тезисный, с фрагментами живого текста, с иронией, с любовью к людям и с ненавистью к нелюдям. Этот вариант понравился автору гораздо больше. Он откинулся в кресле и закурил.
— Ну и когда мы отправляемся?
— Скоро, — сказала Селена, колдуя над картой, разложенной в большой гостиной на обеденном столе. — Выпить хочешь?
— Сейчас — нет.
— Батюшки! С чего это?
— Хочу иметь полную ясность мозгов в этот вечер. Как мы поедем?
— За нами пришлют вертушку. Фарим вызвал.
— Что за нами пришлют? — не понял Виктор.
— Вертолет. Слушай, одну минутку еще можешь не мешать мне?
Виктор немного понаблюдал, как Селена возит по карте линейку и записывает что-то в блокнот. Потом вышел на балкон и снова закурил. В саду пели птицы. «Какая, к черту, война, — подумал он, — зачем?»
Для боевого вертолета последней модели столица оказалась совсем близким местом. И этой гигантской песочно-бурой стрекозе в знак особого уважения нашли место прямо на автостоянке перед телецентром. Беспрепятственно миновав десантников в бронежилетах, они втроем поднялись на шестой этаж, где Селена с Фаримом оставили Виктора в гримерной, а сами удалились по делам. Знакомая мирная суета телецентра странным образом контрастировала с событиями последних дней, и мысли в голове у Виктора начали путаться. Вдруг ужасно захотелось выпить, а он даже не взял с собой вопреки обыкновению, вспомнился Тэдди, его уютный ресторанный зал, Квадрига и Голем в глубоких креслах, подумалось вдруг, что было бы гораздо лучше устроить его выступление там, в непринужденной привычной, обстановке, хотя, конечно, не была бы она непринужденной: софиты, камеры, журналисты, гримеры, а Квадрига бы всем представился, и, пожалуй, его короткие мистические высказывания произвели бы на публику более сильное впечатление, чем литературные умствования романиста Банева, а вот Голема бы точно вообще никто слушать не стал…
— Тишина в студии! — Строгий голос ассистента вырвал Виктора из тягучего потока сознания, возвращая к реальности.
Вспыхнул полный свет, ведущий — очень молоденький журналист, но с улыбкой, уже знакомой всему миру, — повернулся к Виктору:
— Господин Банев, мы пригласили вас не только потому, что вы живете сейчас в том самом городе. На ваших книгах выросло поколение наших отцов, а в каком-то смысле и наше поколение тоже. Ваше мнение никогда не было безразлично людям. Что вы думаете сегодня о Лагере бедуинов?
— Пусть будут бедуины, — сказал Виктор. — Но пусть не будет Лагеря. Я вообще не люблю слова «лагерь». Не только концентрационный, но и скаутский лагерь представляется мне тем, что должно уйти в прошлое. Я против войны и всего военного, даже игр…
Начав говорить, он страшно боялся сказать что-то лишнее, потом это прошло, и чем ближе к концу, тем сильнее становилось другое чувство: он не успеет, не успеет сказать главного.
— Помните, Эрнест Хемингуэй мечтал когда-то просто поставить к стенке всех тех, кто хочет войны, потому что таких на самом деле очень мало и от них один вред. Но гении тоже ошибаются. И я хочу сказать вам, что никого и никогда нельзя ставить к стенке. Мы это уже проходили. Не раз и не два. И мы знаем, что у расстрелянных всегда остаются жены, дети, ученики, последователи, друзья. И даже если (предположим невозможное) не было у них ни тех, ни других, ни третьих, ни пятых — никого или всех, кто был, вывели начисто, под ноль (как научились это делать некоторые выдающиеся организации нашего века) — все равно у них появятся ученики и последователи. И даже дети. Просто потому, что они расстрелянные. Они — мученики, и значит, почти герои. А за героями пойдет народ. И все повторится: перевороты, кровь, войны, расстрелы. Обязательно расстрелы. Око за око, зуб за зуб, расстрел за расстрел.
Кто-то должен остановиться.
Вот почему я намерен подправить старину Хэма. Я мечтаю о том, чтобы все, кто хочет войны, просто ушли. Давайте сделаем так, чтобы они ушли, чтобы им стало неинтересно воевать и даже готовиться к войне.
Было бы слишком тривиально утверждать, что мы стоим сегодня на пороге новой войны. Мы стоим на этом пороге столько, сколько себя помним. Просто сейчас настало время отойти от порога. Потому что это уже не порог — это пропасть. Она, конечно, манит, затягивает, но закройте глаза на мгновение и подумайте, как это естественно и просто — отойти от края пропасти.
Я обращаюсь к тем, кто никогда не воевал и воевать не умеет. Не совершайте рокового шага, не берите в руки оружие. Вам не на что рассчитывать, против вас будут профессионалы. Их много. И вас ждет впереди только смерть.
Я обращаюсь к профессионалам, к вам, испытавшим огонь и ужас Последней войны. Неужели вы для того прошли через нее и остались живыми, чтобы начать теперь следующую, неужели она была последней лишь в том смысле, в каком бывают последними новости в газетах? Да, может быть, вам снова повезет, и крепкой рукою по локоть в крови вы поднимете очередной бокал за очередную победу в очередной Последней войне. А может быть… Подумайте.
Я обращаюсь ко всем сепаратистам, националистам, фундаменталистам, ко всем непримиримым, «ястребам» и «тиграм», если, конечно, они слушают меня. Неужели, наивные братья мои по планете, вы всерьез считаете, что оружие приносит что-то еще, кроме смерти. Вы же так любите ссылаться на исторические корни и исторические традиции! Так загляните в историю, загляните. На это понадобится совсем немного времени. Самое главное вы успеете прочесть прямо сидя в блиндаже между двумя артобстрелами. И может быть, вам все-таки расхочется отдавать очередной приказ о бессмысленных убийствах?
Я обращаюсь к вам, женщины: матери, жены, сестры, девчонки-ветераны Последней войны! Неужели стрельба из снайперской винтовки и рукопашный бой, кромсание плоти в полевом госпитале и закапывание друзей в братские могилы, письма на фронт и ожидание похоронок — неужели это то, ради чего вы родились на свет и ради чего собираетесь рожать новых детей? Или вы уже не собираетесь?
Мы действительно стоим у края пропасти. Опомнитесь, друзья мои и братья! Давайте сделаем шаг назад и вытрем со лба испарину, как утром, когда очнешься от кошмара и вдруг поймешь, что мир вокруг все-таки еще не безнадежен.
Давайте сделаем этот шаг и улыбнемся друг другу.
Вот, наверно, и все, что я хотел сказать вам сегодня.
Прошло уже не меньше минуты, как у Виктора возникло необъяснимое, но сильное ощущение на каком-то сверхчувственном уровне: его не слушают, его перестали слушать. Несколько человек в студни: охранники, операторы, звукооператоры, режиссеры, ведущий были по-прежнему внимательны, но это была их работа, и не к ним же, в конце концов, обращался Виктор. А вот где-то там далекие и близкие миллионы зрителей перед телеэкранами перестали слушать, исчезла обратная связь, только что ощущавшаяся с удивительной вдохновляющей силой.
Неужели прервали трансляцию? Или что-то случилось такое, что люди отошли от телевизоров и кинулись к окнам? Или…
— Спасибо, господин Банев, — сказал ведущий и, повернувшись к камерам, завершил: — А мы прощаемся с вами. До встречи в следующую пятницу!
В эфир пошла заставка программы, все поднялись, расслабились и зашумели. Подошел режиссер, дружески приобнял за плечо, пожал руку:
— Все очень здорово получилось, вы молодец, Банев.
Какая-то девчонка в наушниках смотрела на него восторженными глазами, слева и справа двое охранников в сафари тревожно переговаривались с кем-то, прижимая к щекам плоские трубочки и совсем неслышно шевеля губами. Только теперь он понял, что это его персональная охрана.
— Где Селена? — спросил Виктор.
Спросил то ли у этих мальчиков, то ли у ведущего, а может быть, у режиссера. Ему было не важно, кто ответит. Но ответить не успел никто.
Дверь в студию распахнулась, и Селена влетела собственной персоной. Успевшая переодеться в сафари, полностью экипированная к бою, она была возбуждена, изящно растрепана (да, да, именно так — изящно растрепана!) и стволом вниз держала легкий десантный автомат со вторым магазином, прикрученным изолентой к первому по старой военной привычке.
— Всем оставаться на местах! — приказала она. — Виктор! Быстро, за мной!
За дверью их ждал Фарим, тоже с автоматом. Ребят, вышедших вместе с Виктором, он тут же направил вниз для усиления входного контроля, а Баневу бросил совсем коротко «Пойдемте» не допускающим возражений тоном и торопливо зашагал по коридору. Замыкала это шествие Селена, и Виктор, оглянувшись, спросил:
— Что случилось?
— Президент сложил полномочия.
— Когда?
— Только что.
— До моего выступления или после?
— Во время.
— Весело, — сказал Виктор.
И в этот момент в длинном студийном коридоре погас свет. Похоже, он погас во всем телецентре. Потому что уже в следующую секунду раздались крики, много криков, а затем началась стрельба.
— Идите только по левой стенке, — свистящим шепотом распорядился Фарим. — Сворачиваем в первый же проем.
Очередь трассирующих пуль на мгновение осветила коридор, и Виктор увидел тот боковой проход, куда они бежали, цепляясь за стену. Они успели повернуть, промчаться до двери на запасную железную лестницу и, ощупью находя перила, взлететь на целый пролет, когда где-то под ними, кажется в том самом коридорчике, оглушительно жахнуло и тут же потянуло едким противным дымом.
Задыхаясь и кашляя, они скоро выбрались на пустующую смотровую площадку. Здесь стояла тишина. За огромными окнами расстилалась вечерняя столица, окутанная в эти часы мягкой золотистой дымкой. Улицы выглядели удивительно мирно.
Фарим огляделся и достал из переднего кармана свое переговорное устройство.
— Ну вот, — сказал Виктор, — все было зря.
— Что было зря? — не поняла Селена.
— Зря я распинался. Проповеди читал с экрана… А вы опять стреляете.
— И все-таки ты ничего, ничего не понимаешь, — улыбнулась Селена.
— Пошли, — сказал Фарим, — вертушка ждет нас.
13
Они поднялись на самую крышу телецентра и по застекленному переходу побежали к вертолетной площадке. Очень хорошо, что переход был застекленным. Невероятно усилившийся ветер гнул могучие антенны на углах здания, срывал с деревьев сухие листья вместе с ветками, а с прохожих шляпы и кепочки, ветер буквально вырывал из рук у людей сумки, пакеты, коробки, и все это кубарем, вперемешку летело по тротуарам и мостовым. Начиналась паника.
Их бы всех троих, конечно, снесло с крыши, не будь здесь этого застекленного перехода. Пилот уже отчаянно ругался. Это было видно по его лицу в целом и по яростной артикуляции в частности. Не слышно было ровным счетом ничего: к жуткому вою ветра добавлялся еще и шум вертолетного движка.
— Машина бронированная? — проорал Виктор на ухо пилоту, когда они сели.
— Да, — ответил тот.
— Это хорошо! — еще громче закричал Виктор.
— Я тоже так думаю, — в последний раз надорвал глотку пилот и выдал всем наушники.
Теперь они могли общаться нормально. Но говорить почему-то совсем не хотелось. Никто просто не понимал, о чем можно говорить в такие минуты.
Пилот сразу взял курс на север, и они пролетели практически над центром столицы. Кто-то постоянно запрашивал их по радио, и пилот отвечал стандартными позывными, иногда добавляя отрывочные слова паролей и кодовые номера. Стрельбы нигде видно не было, но по отдельным улицам уже ползли танки, на других выстраивались в цепи полицейские и спецвойска, безоружные люди поспешно разбегались по домам, озверевший ветер гнал целые реки мусора, из которых на площадях образовывались маленькие смерчики. А президентский дворец горел. Тихо, торжественно, красиво, отбрасывая карминные отсветы на погружающийся в сумерки город. Раненых, обгоревших и задохнувшихся из огня не выносили. Не было там, похоже, никого. И никто не спешил тушить этот гигантский пожар. Просто вокруг стояло оцепление из гвардейцев, строгих и неподвижных, как почетный караул. «Не хватает траурных повязок на рукавах», — подумал Виктор.
— Ну, это они зря, — проворчал Фарим.
— Почему зря? — возразила Селена. — По-моему, очень красиво.
— Сколько раз уже горела эта хибарка? — спросил пилот.
— Два, — сказал Виктор, — сегодня — третий.
— Ну вот, значит, последний, — заключил пилот.
— Правильно! — подхватила Селена. — Три раза в сказке бывает.
— Мы рождены, чтоб сказку сделать былью! — провозгласил Фарим. — Режьте меня, не буду отстраивать заново президентский дворец!
А пилот, услышав фразу из старой доброй песни былых военных соколов, оживился и начал насвистывать бравурную мелодию.
— И вместо сердца — пламенный мотор! — весело подпел Виктор в конце музыкальной фразы. — Господи, какую же чушь мы пели когда-то!
Потом увидел в бардачке у пилота фляжку и спросил, что там.
— Виски, — сказал пилот. — Угощайтесь, господин Банев.
Виктор хлебнул и предложил ребятам.
— Нет, я — пас, — жестко сказал Фарим.
А Селена сделала глоток, и весьма ощутимый. Ей, наверно, было тяжелее других в этот момент. Они все четверо дурачились и шутили, как дурачатся и шутят солдаты перед атакой, добиваясь максимального расслабления, чтобы потом, когда раздастся приказ, вмиг отбросить все лишнее и превратиться в один стальной сжатый кулак, готовый к бою. А Селена слишком много знала и слишком тонко чувствовала, она уже не могла теперь быть просто солдатом, просто бойцом.
Столица осталась позади. Пилот поднял машину выше, подкорректировал курс, и они пошли на форсаже, выжимая шестьсот километров в час или сколько он там мог, этот последний шедевр военной науки.
Главный город страны остался позади, потому что в надвигающемся катаклизме он был не главным, он стал какой-то дремучей периферией, а центр мира сместился туда, на север, к выжженному сошедшим с ума климатом губернскому городку, к таинственному Лагерю душевнобольных бедуинов.
Фарим сжимал в руках свой коротенький десантный автомат. Селена тоже. Виктор еще со вчера запасся пистолетом. Он, конечно, не собирался принимать участие в бою, он даже слабо верил, что бой вообще будет, — просто знал по опыту: когда начинается заваруха, спокойнее быть вооруженным, просто потому, что, как говорится, дураков на свете больше, чем людей.
Они правильно сделали, что прилетели сюда на вертолете. Во-первых, с воздуха все было лучше видно, а во-вторых, на машине они бы просто не проехали. Сколько нагнали войска в район Лагеря? Дивизию? Две? Корпус? Может быть, армию? И плюс все те, кто прибыл сюда два дня назад. И плюс вся губернская полиция. И плюс огромная ударная бригада СВПВ. Зеваки, демонстранты, тайные агенты — словом, мирные жители стояли толпами вдалеке, в основном на некогда травянистых, а сейчас абсолютно голых, высохших склонах холмов вокруг. Все посты на территории Лагеря были оставлены солдатами. Бараки бедуинов притихли, затаились, ни одна живая душа не появлялась оттуда, и даже свет в окнах не горел. Смеркалось. Все чего-то выжидали. Приказа штурмовать? Активных действий со стороны противника? Или просто у моря погоды?
Дождались, кажется, последнего. Между тремя рядами колючей проволоки и темными зданиями обозначилось какое-то шевеление. Ветер гнал по земле пыль и колючки, закручивая их, взвихривая, поднимая все выше в воздух, все выше, выше, все более толстыми столбами — не только пыли, но и песка, и камней. Это были уже настоящие смерчи, десятка два высоких могучих спиралей, жутких крутящихся веретен, танцующих вдоль всего периметра. Наконец один смерч, разрывая проволоку, вышел за ограждение, подкрался к танку, окутал его, словно гусеницу, коконом, приподнял и поставил на место. Будто живое разумное существо, он вернулся в Лагерь (только что не стал забор ремонтировать!), и монотонное кружение всех смерчей по периметру продолжилось.
Это была демонстрация силы. Внушительная демонстрация. Но и после нее ничего не произошло.
Виктор вдруг заметил, что Фарим переговаривается по рации. Слышно было отвратительно, Фарим ругался все громче и наконец рявкнул:
— Где самолеты?!!
И в тот же миг раздался оглушительный рев над их головами. Три тяжелых бомбардировщика, летящие клином, заходили в пике над Лагерем. Виктор закрыл глаза. И в ту же секунду открыл их снова, потому что рев внезапно смолк. Нет, это была не глухота, остальные звуки остались: голоса в кабине вертолета, скрип сидений, писк в наушниках. Это было примерно так, как если бы кто-то нажал на пультике телевизора кнопку «MUTE»: мол, дурацкое кино, слишком шумное, разговаривать мешает, а посмотреть можно. Посмотреть было на что: бомбардировщики зависли в воздухе, гордо задрав острые носы к небу, как памятники самим себе. Экипажи их катапультировались, и шесть оранжевых парашютов расцвели над лагерем, как шесть заходящих солнц. Они опускались медленно-медленно, и ветер относил их вон от Лагеря — за колючую проволоку, за вторую, за третью линию оцепления.
Очевидно, не только они четверо из своего вертолета, но и все остальные завороженно следили за этим медленным падением. Потому что, когда наконец все шесть летчиков одновременно коснулись ногами земли, кто-то все-таки дал команду на штурм.
Грянула чудовищная канонада.
— На землю! Быстро! — скомандовал Фарим.
— Конечно, на землю, — согласился пилот, — у меня все равно через минуту топливо кончится.
И тут Виктор обнаружил, что вертолет, так же как и те бомбардировщики, висит в воздухе просто на честном слове, а двигатель заглох, потому что топлива давно уже нет. Однако лопасти вращались с прежней скоростью, и вертолет послушно опустился.
Фарим, совершенно как безумный, вылетел наружу и принялся палить в белый свет, как в копеечку. Селена вышла спокойно, даже слишком спокойно, потухшая какая-то, безразличная ко всему, подошла к колючей проволоке, приладила поудобнее автомат и выпустила всю обойму прицельно по главному корпусу. По тому, что называлось когда-то главным корпусом. Теперь это были просто дымящиеся руины.
Снаряды, бомбы, гранаты, пули уже почти стерли в пыль весь комплекс зданий на территории бывшего Лагеря, когда расстрелянная, пышущая жаром, похожая на только что застывшую лаву земля треснула и из этого циклопического разлома полезло что-то огромное, круглое и светящееся. Оно выплыло наружу и оказалось просто голубой сияющей сферой — этакая шаровая молния, метров пятидесяти в диаметре.
Голубой шар медленно поднимался, а люди уже не могли остановиться и стреляли теперь по нему изо всех видов оружия, хотя уж это-то была явная бессмыслица.
Виктор пригляделся и понял: все эти люди просто не могут не стрелять. Некоторые переставали жать на гашетку, и тогда пули вырывались из стволов самопроизвольно, а голубой шар пожирал их — он, видимо, просто подзаряжался таким образом. Оружие, переставшее стрелять или брошенное, тут же устремлялось по воздуху в сторону шара и исчезало в его мерцающей глубине.
Виктор достал свой пистолет, поднял руку и раскрыл ладонь. Так выпускают на волю птиц, подумал он. Пистолет вспорхнул и умчался в голубую высь. Как это было здорово!
А шар уже поднялся слишком высоко, чтобы в него можно было попасть из какого-нибудь оружия, он уже съел все танки и самолеты, все зенитки и гаубицы. И полыхал теперь еще ярче, и вокруг сделалось светло как днем. А Селена плакала, она уже все поняла, но не хотела отпускать свой автомат, у нее еще остался последний патрон в патроннике. И Виктор сказал ей:
— Ну выстрели, выстрели в него!
И она выстрелила, и бросила вверх свое оружие — ему, победителю, в подарок, и зарыдала совсем громко, как обиженный ребенок, свалившись Виктору на грудь.
А шар поднялся совсем высоко, превратился в точку, потом в яркую молнию, и грянул гром — настоящий, нормальный, земной гром. А небо к этому моменту уже все заволокло тучами, никто и не заметил, когда это произошло. Но теперь хлынул ливень. Хлынул на землю, не знавшую его больше двух лет. Бурные потоки воды бежали по растрескавшейся земле, наполняли канавки и ямы, впитывались в истомившуюся почву. И люди совершенно обезумели от радости. Они принялись раздеваться, прыгать и плясать под дождем, и петь песни. А некоторые, раздевшись полностью, даже стали заниматься любовью. И это было не безобразно, нет, — это было символично и красиво, как в каком-то старом забытом американском фильме на тему «Make love, not war!».
Виктор не помнил, как он добрался до города, кажется его подвезли на бэтээре, плохо помнил он и то, как оказался у Тэдди, с кем, что и в каком количестве пил там. Он только помнил, что дождь шел непрерывно, что был какой-то митинг у мэрии, и был митинг на площади, и снова ресторан, а спать совершенно не хотелось, он даже не смотрел на часы, и на небо тоже не смотрел — темно там или светло, было ему не важно. Но потом он почувствовал вдруг, что ужасно устал. И тогда повернулся к компании и сказал всем:
— Пока, ребята.
И пошел к себе в отель под дождем.
«…и пошел к себе в отель под дождем», — какой-то великий роман завершался такими словами. Ах да! — вспомнил он.
— Хемингуэй, «Прощай, оружие!».
И Виктор повторил еще раз. Уже без кавычек и вслух:
— Прощай, оружие.
Леонид Кудрявцев
Предисловие автора
Почему я решился написать этот рассказ?
Точно — не знаю. Наверное, потому, что мир самых лучших прочитанных нами книг, когда ты перелистываешь последнюю страницу, — не умирает. Он остается жить внутри нас — я имею в виду тех, кто способен получать от настоящей, хорошо написанной книги наслаждение. А потом ты сам начинаешь писать, и этот мир, он словно бы хочет, требует, чтобы ты в него хоть что-то добавил. Пусть даже какую-нибудь мелочь, безделушку. В знак уважения, в знак того, что ты о нем, этом мире, помнишь, в знак благодарности, за то, что он тебе дал.
А книги Стругацких таким свойством обладают. Давать что-то неуловимое, но в то же время вполне реальное. Может быть, частицу вложенной в них души? И еще… каждый из нашего поколения пишущих фантастику (я имею в виду тех, кому сейчас от тридцати до сорока пяти) когда-то в детстве или юности прочитал свою первую книгу братьев Стругацких. Конечно, для каждого она была разной, и обязательно вслед за ней последовали другие, но главное, что сделала эта первая книга, — она показала, какой интересной, захватывающей, мудрой, смешной и грустной может быть фантастика, какой она может быть настоящей.
Думаю, с этого момента все и началось.
Конечно, мы очень разные, и большинство пишет совсем по-другому, по-своему. И это хорошо. Просто мне кажется все-таки: каждый из нас в глубине души понимает, откуда все началось.
Да, с «Понедельник начинается в субботу», с «Пикника на обочине», с «Улитки на склоне» и т. д. и т. д. Началось со Стругацких. Мы из их книг, мы родом из Стругацких, и никуда от этого не денемся. Им удалось то, что до этого не удавалось никому. Воспитать своими книгами целое поколение писателей, причем, я еще раз это подчеркиваю, по большей части абсолютно друг на друга не похожих.
Вот это да!
А рассказ… честное слово, в знак уважения и благодарности… не из гордыни…
И охотник…
Капитан Квотерблад неторопливо шел по краю Зоны.
Под ногами у него шуршал кошачий мох. Здесь, на асфальте, он тоже рос, но почему-то быстро высыхал, становился ломким, а потом крошился в пыль. Как только пыль уносил ветер, асфальт тотчас же зарастал кошачьим мохом снова.
Капитан остановился и прислушался. Где-то в Глубине Зоны зародился звук, похожий на скрип старой, с насквозь проржавевшими петлями двери. И был он таким тоскливым, таким безнадежным, что Квотерблад вздрогнул и остановился, замер, словно превратившись в деревянного истукана, пережидая, когда же этот звук кончится. Он и в самом деле кончился, и на Зону опять опустилась тишина. Капитан вытащил из кармана сигарету, покатал ее в пальцах и, вдруг вспомнив о том, зачем они здесь, выкинул.
Вот так-то. Нельзя.
Тяжело вздохнув, он прошел еще с десяток шагов, остановился и снова прислушался. В Зоне было тихо. Квотербладу даже стало казаться, что тот скрип, который он только что слышал, на самом деле был всего лишь плодом его воображения, слуховой галлюцинацией.
— Врешь! — пробормотал капитан. — Врешь, меня не обманешь. Не выйдет.
Четко, как на плацу, он повернулся на каблуках и пошел к машине, которую оставил за самым последним, стоявшим почти вплотную к границе Зоны домом.
В машине горел свет. Еще в ней сидел сержант и, сжимая в руках автомат, глядел на приборный щиток. Глаза у него были отрешенные, словно он думал о чем-то постороннем, далеком.
Когда капитан открыл дверцу, сержант испуганно, пискнул и попытался передернуть затвор автомата. Поскольку автомат стоял на предохранителе, затвор не передергивался. Окончательно ошалев, сержант рванул предохранитель. В этот момент капитан и врезал кулаком по его пухлому, еще не знавшему бритвы лицу.
— Ты что, сдурел? — прошипел Квотерблад.
— О господи, — быстро забормотал сержант. — О господи. Я думал… А это вы… О господи… И звук тут… я такого еще не слышал.
— Много чего ты не слышал, — проворчал капитан, забираясь в машину. — Ты почему свет включил? Совсем от страху рехнулся?
— Так ведь звук. Так жутко мне стало. Я подумал, что с вами…
— Не дрейфь, — уже примирительным тоном сказал капитан.
— От звуков здесь еще никто не умирал. Вот если свет, когда не нужно, в кабине включали, от этого — сколько угодно. Я же тебе говорил, что так ты виден всем и не видишь никого. А иначе как бы я к тебе подкрался?
Он выключил свет и прикурил сигарету.
Рядом шебуршился и вроде бы даже едва слышно всхлипывал сержант.
А Квотерблад, откинув голову на спинку сиденья, думал о том, что ошибиться он не мог. Охотничье чутье не подводило его еще ни разу. Сталкер в Зоне, и возвращаться будет именно здесь, в этом месте. Только попозже, ближе к рассвету. А пока можно покурить, пока еще рано.
— Я рапорт на вас напишу, когда вернемся… — наконец пробормотал сержант.
— Что? — переспросил капитан.
— Рапорт, говорю, подам, — уже громче сказал тот.
— А-а-а, ну это сколько угодно… Только не забудь, это ты сделаешь, когда мы вернемся. И укажи, что мои действия были вызваны твоей же халатностью, которая неминуемо должна была привести к срыву всей операции. И также учти, на ближайшие полгода ты у меня будешь бледным, очень бледным. Понял? Кстати, сколько тебе осталось до возвращения домой? Год? Мило. Это здорово. Это просто прекрасно… просто прекрасно…
Капитан вылез из машины, кинул на землю окурок и тщательно его затоптал.
На секунду ему показалось, что он очутился на другой планете, в чужом, враждебном мире. А разве не так? Да и чем иным является эта Зона, как не украденным неизвестно кем и неизвестно с какими целями кусочком территории Земли? Не надо снаряжать звездные экспедиции, строить могучие фотонные корабли. Чужой мир здесь, под боком, в двух шагах. Бери, исследуй, делай выводы. Раздолье. Ученым. А нам как? Каково этому парнишке, который сжимает в потных ладонях автомат, готовый стрелять во все, что движется, во все, что покажется хоть мало-мальски опасным? Каково тому же сталкеру, который лезет в эту Зону, как проклятый, чтобы вытащить из нее какую-нибудь вещь, назначения которой он не понимает, которая либо облагодетельствует, либо уничтожит этот мир? Каково ему, капитану Квотербладу, вместо того чтобы дома смотреть телевизор или завалиться к Михаэле, торчать здесь, в засаде, только для того, чтобы подстрелить этого сталкера, который в силу своей ограниченности даже и не понимает, что делает, который и думать-то не может ни о чем, кроме денег. И чем этот сталкер, как человек, отличается от него, Квотерблада? Да почти ничем. Вот разве что только — капитан имеет право стрелять в него из автомата. И если убьет, то никакого наказания за это не последует.
Потому что он всего лишь выполнит свой долг.
Капитан сунулся в машину, вытащил из зажима над ветровым стеклом короткий, со складывающимся прикладом, десантный автомат и закинул его на плечо.
— Сиди здесь, — коротко бросил он сержанту, осторожно прикрыл дверцу и бесшумно двинулся от машины прочь.
Устроившись за упавшим набок фанерным, насквозь прогнившим ларьком, он осторожно высунул из-за него голову и стал ждать.
Почему-то вспомнился тот толстый, какой-то весь расслабленный, похожий на большую резиновую игрушку джентльмен, побывавший у него дома в прошлый понедельник. Приехал он не один, привез его Клаузен, которого пару лет назад отправили в отставку. Какая-то там была история, то ли с деньгами, то ли с молоденькой, несовершеннолетней дурочкой. Короче, Клаузена чудом не посадили. Потом болтали, что в деле был замешан кто-то из высшего командования, и Клаузен вышел сухим из воды только благодаря этому.
Приехали они к Квотербладу вечером. Клаузен был уже порядочно навеселе, а вот джентльмен — тот был трезв как стеклышко. Квотерблад хотел было их выгнать сразу, а потом передумал, решил узнать, что это им от него надо. Уж больно важен был этот джентльмен, да и запонки у него стоили никак не меньше, чем жалование Квотерблада лет за двадцать.
Он провел их в гостиную, сунул им по стаканчику и стал ждать, чем все это кончится.
Они не спешили. Джентльмен помалкивал, все оглядывался, и на лице у него временами явственно читалось презрение к убогой, облезлой гостиной, старому продавленному дивану, на который их усадили, и мерзкому, по его понятиям, виски, которое ему налили. Вот только уходить он не собирался, все чего-то ждал. А Клаузен заливался прямо соловьем. Он болтал о чем угодно, о бывших сослуживцах, знакомых, о погоде, о скачках в Сиднее… Он был какой-то неестественный, даже учитывая опьянение, и то и дело зачем-то самым дурацким образом подмигивал.
Наконец терпение у Квотерблада лопнуло, и он довольно сухо осведомился, чем, собственно, вызван такой неожиданный визит.
Вот тут и началось.
Оказалось, что Клаузен не так уж и пьян. Он бросил на джентльмена трусливый взгляд и, зачем-то понизив голос, словно их могли подслушать, заговорил:
— Дело есть. Вот это мистер…
Джентльмен обеспокоенно заерзал по дивану, и Клаузен осекся. По лицу его пробежала судорога, глаза стали словно у побитой собаки. Судорожно сглотнув, он продолжил:
— Итак, этот джентльмен, а я тебе скажу, что он один из самых известных в мире охотников на крупную дичь, прослышал, что ты тоже являешься в некотором роде охотником. Он бы хотел с тобой познакомиться.
— Охотником? — удивился Квотерблад. — Как это?
— Ну, все же знают о твоих одиночных охотах на сталкеров.
— Ах вот как?
— Да, именно так, — неожиданно твердым и спокойным голосом сказал Клаузен и снова зачем-то подмигнул.
— А дальше что? — все еще не понимая, куда он клонит, спросил капитан.
— Ну разве не понятно? Он охотник, и ты охотник. Причем тебе повезло больше, поскольку ты охотишься на необычную, повторяю, очень необычную дичь. Мы знаем, что по инструкции ты обязан брать с собой еще одного человека. Как правило, это бывает какой-нибудь сопляк — сержант, а то и рядовой. Его ты оставляешь в машине, а сам охотишься в одиночку. Но ты ведь можешь взять с собой на эту охоту и кого-нибудь другого. Согласен, такое… сафари… сопряжено с большими неудобствами, но зато на нем можно и неплохо заработать. Кстати сказать, за это будет заплачена огромная, я бы даже сказал, сказочная сумма. Подумай, тебе скоро на пенсию. А велика ли она будет?
Тут он их и выпроводил. Клаузен еще пытался ему что-то доказывать, снова сулил деньги, заклинал старой дружбой, говорил, что погряз в долгах и для него организация этой охоты вопрос жизни и смерти. Под конец в разговор включился даже и сам джентльмен. Голос у него, как ни странно, оказался тонким, с какими-то повизгивающими интонациями. Он сказал, что польщен знакомством с таким великим охотником за людьми, как капитан, что жаждет перенять у него хотя бы крупицу опыта, что согласен заплатить за этот опыт просто гигантскую сумму.
И вот тут капитан осатанел. Все, что говорил или делал в последующие пять минут, он запомнил плохо. Почему-то в памяти остались лишь плачущий навзрыд Клаузен и все такой же невозмутимый джентльмен, который, надевая свое роскошное пальто, никак не мог попасть в рукава, да то, как он закрывает за ними дверь и потом плетется обратно в гостиную.
Тем вечером он напился, сильно напился, пошел в «Боржч», но по дороге все же передумал, направился к Михаэле и устроил у нее жуткий, с битьем посуды, скандал.
Капитан поежился.
Там, впереди, в Зоне, все словно бы замерло, не было ни малейшего движения. И капитану показалось, что он видит мастерски написанный холст, что, попытавшись сделать шаг вперед, упрется в этот холст носом, и тогда наваждение спадет, мир изменится, станет иным, и он сам уже будет не капитаном Квотербладом, а кем-то другим, ничуть на него не похожим.
А потом на этом холсте шевельнулась какая-то точка, какой-то бугорок, и капитан забыл обо всем. Ничем иным, кроме как возвращавшимся с хабаром сталкером, эта точка быть не могла.
Квотерблад затаился. Теперь ему оставалось только ждать и ждать, чтобы в нужный момент… ох уж этот нужный момент!
И тут он услышал шорох, который доносился с противоположной стороны, и, оглянувшись, проклял все на свете. Это был сержант. Совершенно не скрываясь, он ломился к его будке, так, словно прогуливался по бульвару какого-нибудь курортного городка. Остановить его не было никакой возможности, поскольку крик или свист могли бы испортить все дело окончательно.
Капитан скрипнул зубами и стал ждать, пока этот сосунок не подойдет, уповая лишь на то, что тот сделает это быстрее, чем сталкер его заметит.
Наконец сержант оказался рядом с ним за будкой, и тогда, дав себе клятву, взыскать с него за все, капитан прошептал:
— Сиди и не рыпайся. Не дай бог пошевелишь хоть мизинцем. Какого черта приперся?
— Да это, я подумал, вдруг вам помощь нужна…
— Помощь? Я тебе покажу помощь. Ишь какой помощник выискался, — прошипел капитан и вдруг с удивлением понял, что уже ничуть не сердится на сержанта, может быть, оттого, что представил, как тому было страшно сидеть в машине, одному, окруженному со всех сторон темнотой, неизвестностью.
Ладно, бог с ним, с этим сержантом.
Он выглянул из-за будки и буквально метрах в двадцати от себя увидел темную фигуру, которая шла наискосок, направляясь к соседним домам. И тут уж медлить было нельзя.
Нажимая на спусковой крючок, он почему-то снова вспомнил того резинового джентльмена. «Охотник!» Да, именно охотник. Ну и что?
Очередь распорола ночную тишину. Сверкающий пунктир трассеров прошил темную фигуру. А та, даже и не пошатнувшись, продолжала двигаться вперед. Капитан выпустил вторую очередь, которая тоже не принесла продвигавшемуся к домам человеку ни малейшего вреда.
Начиная уже догадываться, кто, вернее — что перед ним, Квотерблад бросился к этой фигуре и чуть не попал под очередь, которую выпустил сержант.
Пули просвистели у самого его лица.
— Застрелю! — вне себя от ярости, крякнул он торчавшей над будкой голове в каске. Та испуганно ойкнула и исчезла, спряталась. А у капитана уже не было времени даже дать оплеуху нерадивому сержанту. Он бросился к все еще двигавшейся фигуре, осветил ее фонариком и выругался.
Ну конечно, это был мертвец.
А стало быть, и конец охоты. На сегодня. Капитан хорошо знал, что сталкера здесь ждать уже бесполезно. Конечно, вполне возможно, он где-то рядом, может быть, лежит метрах в ста, за бугорком, но не встанет, будет ждать, пока они уедут, пролежит еще хоть сутки. Они, сволочи, — терпеливые!
Надо было ехать домой. Капитан подумал, что сегодня обязательно завернет на огонек к Михаэле. И в этот раз скандалить он не будет. Нет, сегодня все у них будет как надо, тихо и мирно. А сержанту он еще покажет кузькину мать.
Квотерблад пошел обратно к будке и, когда до нее осталась всего лишь пара шагов, вдруг понял, что где-то в глубине души рад неудачной охоте. Это его поразило, поскольку никогда до этого он ничего подобного не испытывал. Капитан даже остановился, попытался понять, что же все-таки произошло, и, глядя на снова высунувшуюся из-за будки голову сержанта, вдруг понял, что причиной этому был тот джентльмен-охотник. Да, именно — он. И его предложение. Надо же, сафари на людей. Охота… Развлечение…
Сержант вдруг замахал руками и крикнул:
— Вот он! Смотрите!
Капитан машинально оглянулся и увидел, увидел его — сталкера. Тот бежал тяжело, не оглядываясь, тем же маршрутом, что и мертвец. До ближайшего дома, в котором можно было спрятаться, ему оставалось не больше десяти метров. Разворачиваясь, Квотерблад поразился красоте и безрассудству его замысла. Если бы сержант не выглянул, сталкер ушел бы, проскользнул под самым носом.
Время словно растянулось, замедлилось. Все еще разворачиваясь и срывая с плеча автомат, капитан увидел ясно, как на фотографии, лицо того, джентльмена-охотника. У него в голове успела даже мелькнуть строчка непонятно откуда ему известного стихотворения: «И охотник вернулся с холмов…» А потом он полоснул из автомата, полоснул из неудобного положения, не целясь, и почти уже добежавшая до угла фигура сломалась и, мучительно застонав, рухнула на землю.
— Здорово вы его! — радостно крикнул сержант.
Но капитан его не слышал. Он шел к сталкеру, неторопливо, настороженно, готовый в любую секунду стрелять. Бывало, некоторые, особенно новички, брали с собой в Зону оружие. Оружия у сталкера не было. И он был еще жив. Капитан это понял, остановившись от него в полуметре, когда сталкер застонал и медленно, не замечая капитана, словно так и не осознав, что же с ним произошло, пополз к дому, не отпуская, таща за собой по кошачьему мху мешок с хабаром.
Сталкера надо было добить. И никто бы капитана за это не осудил, никто бы не сказал даже слова, поскольку здесь, на границе Зоны, сталкеры были вне закона настолько, насколько это вообще возможно. Кроме того, раньше в подобных случаях он добивал их всегда. Таково было его правило.
Но только не сейчас.
«Да, я не сделаю этого, — сказал себе капитан. — Не сделаю этого, потому что я не охотник, потому что я просто выполняю свой долг, а он не дичь, он человек».
А руки его уже поднимали автомат, бесконечно медленно, казалось, целое столетие, но все же поднимали. Сталкер оглянулся, и капитан увидел его перемазанное грязью, искаженное гримасой животного, смертельного ужаса лицо.
«Нет, ты этого не сделаешь!» — снова сказал себе капитан и ужаснулся, вдруг осознав, что руки вышли у него из повиновения, делают нечто свое, нужное только им, рукам.
— Нет! — все еще пытаясь восстановить над ними контроль, отчаянно крикнул капитан.
Прогрохотала очередь, и сталкер ткнулся лицом в кошачий мох…
Сержант вызвал по рации спецгруппу. На запыленном «джипе» приехали три офицера, те самые, которые и должны были заниматься подобными делами. Они составили протокол, осмотрели труп и забрали мешок с хабаром, чтобы передать его в институт. Они опросили сержанта и попытались задавать капитану какие-то вопросы, но тот их не слушал. Он стоял метрах в пяти от того места, где подстрелил сталкера, и смотрел на Зону.
На рассвете спецгруппа уехала, а капитан все стоял, безучастно разглядывая дома, провода которых обросли каким-то мочалом, грузовики, вагонетки вдалеке. Автомат из рук он так и не выпустил. Сержант пару раз попробовал было его увести, но капитан лишь молчащего отталкивал и смотрел, смотрел.
А потом что-то в нем отпустило, он отдал автомат сержанту, сел на траву и закурил.
Свежий утренний ветерок относил в сторону дым его сигареты. А капитан думал о том, что в сталкера стрелял не он, а сама Зона. Это могла быть только она, больше некому. Все правильно, все логично. Она защищала себя, она была «пустышками» и «комариными плешами», она была всеми теми вещами, которые выносили из нее ученые и сталкеры. Она была. И она боролась, она хотела остаться собой, она не хотела исчезнуть, рассеяться по огромному земному шару. А он, капитан, был возле нее слишком долго. И Зона его переделала, как переделывала тех же сталкеров, как переделывала их детей. Только его, капитана Квотерблада, она переделала по-особенному, превратив в своего слугу, своего охранника. И это было окончательно, спасения от этого не было.
Капитан Квотерблад встал, закинул автомат на плечо и пошел к машине. Сержант сел за руль, капитан устроился рядом, и они поехали прочь, прочь от Зоны. Надо было составлять рапорт.
— А здорово вы его! — крикнул сержант.
Вместо ответа капитан что-то пробормотал, и, не расслышав, сержант переспросил:
— Что?
— Ничего, — сказал Квотерблад. Разговаривать с сержантом ему не хотелось, поскольку ему только что пришло в голову третье объяснение.
А что, если все гораздо проще и Зона тут совсем ни при чем? Что, если он и в самом деле превратился в охотника, которому просто нравится охотиться на редкую дичь — человека? Что, если он стал таким же, как этот резиновый джентльмен? И нечего пудрить мозги долгом, а также влиянием Зоны.
Эта мысль не вызвала у него ни страха, ни ужаса, она была гораздо проще и желаннее, чем все, о чем он думал последний час. И что-то в ней было еще, словно бы обещание некоего забытья, некоего наслаждения.
— Да, все именно так, все именно так, — пробормотал капитан. — И нечего забивать мозги, нечего…
— Что вы сказали? — снова переспросил сержант. — Вы что-то сказали?
— Да так, — пробормотал капитан Квотерблад, а потом не удержался и добавил: — «И охотник вернулся с холмов…» Охотник?..
Николай Романецкий
Предисловие автора
1961-й год. Первые орбитальные облеты Земли «Востоками».
А в семье Романецких происходит событие местного значения: второкласснику Коле отец привозит из столичной командировки книгу «Дорога в сто парсеков». Почему он это сделал — по сей день тайна за семью печатями (отец — не любитель фантастики и никогда им не был)…
Новая книжка с таинственным названием. Первое прочитанное НФ-произведение — «Сердце Змеи (Cor Serpentis)» Ивана Ефремова. Первое в жизни потрясение, связанное с литературой: потрясение, оказавшееся настолько сильным, что перевернуло ребенку весь круг чтения.
Незнакомые имена-открытия. Георгий Гуревич, Анатолий Днепров, Иван Ефремов, Валентина Журавлева, Виктор Сапарин… Аркадий и Борис Стругацкие.
Чтение было интенсивным, но откровенно бессистемным. Постоянные набеги на городскую детскую библиотеку, долгие блуждания среди забитых книгами стеллажей, неудовольствие библиотекарши однообразным выбором, не связанным со школьной программой. Новые открытия.
И новые потрясения, потрясения, потрясения…
Боже, почему я так рано родился! Отчаяние до слез… Ведь я бы тоже мог оказаться рядом с супругами Варенцовыми или Крисом Кельвином, мог бы встретиться с каллистянами и галактами, обязательно влюбился бы в Илль Элиа и Низу Крит…
Имена, имена, имена… Альтов, Беляев, Верн, Казанцев, Кларк, Лем, Мартынов, Полещук, Шалимов… Имена, имена, имена… Азимов, Бердник, Варшавский, Громова, Карсак, Колпаков, Ларионова, Саймак, Снегов… Аркадий и Борис Стругацкие.
Боже, я мог бы летать с Быковым и Жилиным, я мог бы рубиться на мечах в одной связке с Пампой и Руматой, я мог бы охотиться на тахоргов и спасать детей на Радуге! Боже, вот бы заснуть в своей постели, а проснуться утром в 18-й комнате Аньюдинской школы!.. Это были прелестные миры, миры, в которых хотелось жить. Потому что жить там было жутко интересно.
Между тем время шло. Шестидесятые убегали в прошлое. Второклассник стал пяти-, шести-, а потом и десятиклассником. Закончил школу, год проработал на заводе, сдал вступительные в Ленинградский политех. НФ… нет, не то чтобы была забыта; просто перебралась за новыми увлечениями на второй план. Рок-группа (тогда они назывались ВИА); студенческий театр (будущий «Глагол» на Лесном, 65, — там же, где заполонивший все радиоволны «Искрасофт»); между делом — учеба… Да и интересного (свежего!) ничего на глаза не попадалось, перечитывалось проглоченное еще в детские годы.
А потом студент Романецкий нарвался на журнал «Аврора» с «Пикником на обочине» и…
«Пикник» стал новым потрясением, потрясением уже взрослого человека.
Это потрясение заставило студента освоить пишущую машинку (перепечатывались с фотокопий «Гадкие лебеди», «ангарская» «Сказка о Тройке» и «байкальская» часть «Улитки на склоне» во время преддипломной практики). Это потрясение погнало новоиспеченного инженера на «черный» книжный рынок, когда появился в Ленинграде свой угол и какой-никакой заработок. Это потрясение в конечном счете привело меня в семинар Бориса Натановича.
И я бы изменил самому себе, если бы отказался от предложения Андрея Черткова.
Отягощенные счастьем
1. Мария Шухарт, 15 лет, абитуриентка
Если бы Мария была писклявой сорокой по имени Джини Конвей или, скажем, безмозглой Гретой Шюбель — вот уж у кого башня абсолютно пуста! — после сегодняшнего облома она бы бежала домой вся зареванная и, никого не замечая вокруг, судорожно прижимала бы ко рту мокрый — хоть выжимай! — носовой платок. Однако Мария не была Джини или Гретой. Ведь она родилась от Рэда Бешеного. Это во-первых. А во-вторых и в-главных, Мария была когда-то Мартышкой. Поэтому она не просто замечала окружающих — она шла себе по тротуару с задранным к небу носом, бросая на встречных мужчин самые презрительные взгляды. И лишь прикушенная верхняя губа могла бы сказать окружающим, как тошно сейчас дочке Шухарта. Но чтобы врубиться в это, окружающие должны были знать Марию, как знала ее собственная мать.
Когда улица настолько малолюдна, бросать презрительные взгляды несложно. Даже на мужчин. А Хармонт с годами как бы пустеет — чем дальше, тем круче. Говорят, в Институте теперь пашет едва ли десятая часть от былого. Да и мундиры в городе стали встречаться значительно реже. «Изучение Зоны в ее нынешнем состоянии, как и влияние ее на жителей нашего города, не требует большого количества изучающих…» Так говорит училка по истории. Короче, с теперешней Зоной в Хармонте скоро не останется ни военных, ни ученых. Ну и работы для местных, ясен перец, — тоже не останется. Конечно, если бы отменили закон об эмиграции, людям стало бы попроще. Но кто ж его тебе отменит!.. Уж от ООН-то такого подарка вовек не дождешься: мир боится хармонтцев, как зачумленных. А трус и днем и ночью закрывается на все запоры. Даже от друзей…
Зато «Боржчу» запоры были незнакомы. Его двери оказались, как всегда, распахнутыми настежь, и Мария не устояла — забыв данные себе клятвы, вновь купилась на это липовое гостеприимство.
«Боржч» в последнее время тоже не мог похвастать наплывом посетителей, но пока держался. Украшенные витражами оконные стекла создавали в зале полумрак, однако освещение не включали — наверное, из экономии. А может, и для пущего интима. За столами кое-где сидели, но со света сидящие выглядели таинственными темными фигурами без лиц — словно живые куклы в снах, — и Мария не стала тут задерживаться, прошла прямо к длиннющей (память о благодатных прошлых временах) стойке, перед которой ровной шеренгой выстроились круглые пустые табуреты.
Тетка Дина в обычном прикидоне — ослепительно-белой, с кружевами блузке — находилась на своем месте. Торчала за стойкой, лениво протирала стаканы, бросая в зал невеселые взгляды и потряхивая вороной гривой.
— Здравствуй, Мария!
— Здравствуйте, тетя Дина!
— Тебе как всегда?
Не дожидаясь ответа, тетка Дина налила в высокий бокал, украшенный старинным гербом Хармонта, апельсинового сока, ловко наполнила податливыми коричневыми шариками вазочку для мороженого. Мария споро взгромоздилась на табурет, взяла маленькую изящную ложечку.
— Как мама и отец? — Тетка Дина вернулась к своим привычным занятиям — протиранию бокалов, бросанию взглядов и потряхиванию гривой.
А то ты не знаешь, подумала Мария. Он же сегодня дома не ночевал, тебя трахал. Мать опять всю ночь слезами подушку заливала, лишь под утро отрубилась…
— Спасибо, хорошо.
— Работать отцу надо. Сколько он уже не работает?
А то ты не знаешь, подумала Мария. Хотя, возможно, он перед тобой и не раскалывается. Во всяком случае, я бы совсем не удивилась, узнав, что не раскалывается. Даже если ты его трясешь, как сливу. Папка не слива, не растрясешь…
— Его выгнали из Института полгода назад.
Тетка Дина перестала протирать бокалы, наклонилась к Марии, и глазам той явился пейзаж, скрывающийся под тетки Дининой блузкой.
Надо же, в ее-то годы и без бюстгальтера ходит, подумала Мария. И в общем-то, папку вполне можно понять.
Ей вдруг отчаянно захотелось приколоться. К примеру, взять да и показать тетке Дине паучка. Пусть пощекочет лапками между буферов. Чулково получится. А еще круче — таракана ей туда запустить. Вот визгу-то будет!.. Впрочем, нет, не стоит! Ясен перец, в Марию тут же хлынет поток ненависти — тетка Дина как бы не фантик, врубится, в чем дело, — но бороться с собственным дурным настроением таким вот образом — это некруто, это совсем уж по-человечески. В конце концов, тетка Дина не виновата, что мужики покупаются на ее буфера. Для того Господь как бы и сделал Адаму хирургическую операцию…
— Ты уже взрослая, — сказала тетка Дина вполголоса. — Многое понимаешь… Поговорила бы с матерью. Я его хоть сегодня на работу возьму. Они ведь с моим отцом когда-то большие дела проворачивали. Жаль мне его, пропадает человек… Мужчина он крепкий, и ящики может таскать, и на кухне помочь. Стал бы работать у меня, я бы его на три мили к бутылке не подпустила. К тому же и деньги получал бы. Хоть и мало клиентов стало, но все-таки не в убыток работаем.
Мария отложила ложечку:
— Вы ведь прекрасно знаете, что отец никогда не согласится протирать бокалы и таскать ящики.
Тетка Дина вздохнула:
— Все в жизни меняется, девочка. И люди тоже меняются… В том числе и мужчины. Надо просто не оставлять их в покое, теребить их, напоминать им о долге перед своей семьей. — Тетка Дина сама почувствовала, какой лажей прозвучала ее последняя фраза. Замолкла, тряхнула гривой, вновь взялась за стаканы.
Да, подумала Мария. Уж кому-кому, а тебе бы круто хотелось, чтобы он работал в «Боржче». «Мужчина он крепкий!..» Насколько бы тебе стало проще! Показала бы ему свой подблузочный пейзажик, затащила в кабинет, раз-два — и полный отпад. И как бы все чинно-благородно. Дома бы ночевал каждую ночь. Мать бы слезы в подушку не пускала…
— Хорошо, — сказала она. — Я передам маме ваше деловое предложение.
— Мария! — раздался за спиной знакомый голос. — Мартышка!
Мария обернулась. Глаза уже привыкли к полумраку, и теперь она рассмотрела, что за одним из столиков сидит Дик Нунан.
— Мария! — Нунан приглашающе помахал вилкой. — Присядь-ка!
— Я пойду! — Мария положила перед теткой Диной монетку, взяла в руки вазочку со стаканом и перебралась за столик к Нунану.
Тот был в своем наилучшем прикиде — маленький, кругленький, розовенький. И наверное, очень голодный, потому что поедал отбивную с нескрываемым аппетитом.
— Хай, дядя Дик!
— Хай, хай, красавица моя!
Мария покраснела от удовольствия, опустила глаза. Все-таки приятно, когда тебя называют как бы «красавица моя». А не оборотнем…
— Вроде ты вошла сюда сама не своя… — Дядя Дик всегда был круто наблюдательным мужчиной. — Случилось что?
Пришлось срочно отмазываться:
— А-а, ничего особенного… Колесо ногу натерло. Мама новые босоножки сегодня дала, старые как бы все малы стали.
Дядя Дик перестал жевать, понимающе закивал. Глаза его вдруг сделались колючими, внимательными и очень-очень печальными. Какими бывали много лет назад. Нет, от дяди Дика Нунана было не отмазаться. Никогда.
— Брось, зеленоглазая! Сказки про новые босоножки можешь рассказывать Дине Барбридж. Опять небось в школе проблемы?
Марии ничего не оставалось, как вновь опустить голову.
— Дядя Дик, ну за что они меня так ненавидят? Разве я виновата?
Дядя Дик как-то совсем не по-нунански закряхтел.
— Знаешь, девочка, по большому счету они тоже не виноваты. Люди всегда ненавидят тех, кто не похож на них. В лучшем случае — едва терпят. До тех пор, пока ты не покажешь им свою непохожесть… Такова уж природа людей.
Мария подняла на него сухие глаза:
— Но ведь у тебя-то как бы не такая природа!
— А я, может, и не человек вовсе. — Дядя Дик хитро улыбнулся. — Я, может, тоже порождение Зоны… Знаешь, есть там такая штука, «шалтай-болтай» называется? Так вот, я — живой «шалтай-болтай». Как нажмут на меня, я тут же начинаю болтать. Или шалтать. — Он подмигнул Марии и, круто довольный своей шуткой, вновь взялся за отбивную.
Мария улыбнулась. Все-таки с дядей Диком было чулково. Не то что с некоторыми… Особенно чулково с дядей Диком было в детстве, когда он приходил к ним в гости, приносил ей в презентуху то шоколадку, то какую-нибудь хитроумную игрушку, каких не было у соседских детей, подбрасывал Марию к потолку, аккуратно ловил, слушал ее восторженный визг, а потом разговаривал с папкой обо всяких умных вещах, странно поглядывая на маму очень-очень печальными глазами. Сейчас так чулково, как в детстве, с ним уже не было, но настроение у Марии все-таки поднялось. Что ни говори, а дядя Дик как бы всегда знал, чего он хочет от этой жизни. И раньше знал, и сейчас знает. Вон с каким удовольствием он поглощает свою отбивную, покруче, чем Мария — шоколадное мороженое. А кроме того, даже если он и жалел Марию, то, по-видимому, это была такая жалость, от которой совершенно не ехала крыша и не таяли силы.
— Отец чем занимается?
Дяде Дику можно было не врать.
— Пьет как лошадь.
— М-м-да-а! — Дядя Дик покачал головой. — Мне вот всегда казалось, что в твоего отца заложили крепкий стержень. Пусть он и повернут не в ту сторону, как у всех остальных, но, по крайней мере, чтобы сломать, попыхтеть придется. — Он опять покачал головой и сокрушенно вздохнул.
— Мама говорит, его стержнем всегда была Зона, — сказала Мария. — А теперь от этого стержня как бы один пшик остался.
Через три столика сидели два мундира, трескали хотдоги с кетчупом и зеленым горошком, заливали все это привозным баварским пивом, тихо о чем-то базарили. То есть тихо — для всех прочих. Но только не для Марии. Она-то их базар прекрасно слышала. Один оттрубил сегодня последний день, завтра все, собирай шмотки, парень, — и назад в Швецию, в родной Евле, хватит казенные штаны без дела просиживать… Второй откровенно недоумевал, почему друг так горюет из-за предстоящего отъезда. Я бы, например, шмотки собрал еще десять лет назад, когда направили сюда. Впрочем, скоро и меня ждет твоя дорога, нечего тут больше охранять, зря ооновские зеленые тратить…
— Может, мама и права, — сказал дядя Дик. — Она его куда лучше нас с тобой знает. А в общем-то, думаю, ему бы очень не помешало устроиться на работу.
— Ага, — сказала Мария. — С разгона… Так его и взяли на работу! Разве лишь мисс Барбридж…
Она посмотрела на тетку Дину. Та, привычно выпятив буфера и по-прежнему целеустремленно потряхивая вороной гривой, разговаривала теперь по телефону, ленивым тоном просила подвезти четыре ящика виски, ящичек бурбона, двадцать ящиков пива, ну ладно, хотдоги возьму, везите… Нунан тоже бросил взгляд на буфера тетки Дины. Ему про виски и хотдоги слышно не было, зато, как оттопырили блузку пуговки Дининых сосков, он также заметил.
— Мисс Барбридж, говоришь? — Он легонько поцокал языком. — На месте твоей матери я бы его к такой работе и на пушечный выстрел не подпустил.
Выражение лица у него сделалось совсем иным, вместо печали и внимания теперь там было что-то очень и очень неприятное, неприятное настолько, что Мария не удержалась и, глянув в сторону уныло пьющих пиво шведов, сказала:
— Говорят, в Институте как бы опять сокращение.
— Сокращение? — Дядя Дик перевел на нее удивленные глаза. — Ах да, ну конечно, сокращение. Международное сообщество считает, что держать здесь столько бездельников и дармоедов ни к чему. И где-то я в этом с международным сообществом согласен.
— А твою должность как бы все не сокращают…
— Мою? Ну конечно, нет. — До него вдруг дошло. — А-а, вон ты о чем… Брось, зеленоглазая, специалисты по рекламациям без работы не останутся. — Он посмотрел на нее строго-внимательно, скользнул взглядом по грудям и вдруг сказал:
— А ты знаешь, Мария… Оказывается, ты стала совсем уже большая!
Да, подумала Мария. Я, оказывается, стала большая. Более того, я стала настолько большая, что вы все даже представить себе не способны.
Она доклевала ложечкой мороженое, допила сок и, встав из-за стола, зачем-то отряхнула джинсы.
— Дядя Дик, я пошла?
— Да! — Дядя Дик учтиво поднялся, склонился, как перед взрослой дамой. — Большой привет отцу и маме! Скажи, что я зайду к вам. На днях зайду. Может, даже сегодня.
Не зайдешь, подумала Мария. Не знаю почему, но мне кажется, что теперь мы тебе не нужны. Теперь тебе от нас как бы одни только расстройства. С рекламациями проще…
Тем не менее дурное настроение окончательно покинуло душу, а вместе с дурным настроением исчезло и ощущение переполнявших ее сил. Дома же их станет еще меньше. И прекрасно — значит, в Хармонте сегодня не произойдет ничего сверхъестественного.
Взойдя на крыльцо родного дома, она порылась в сумочке, нашла ключ. Но потом бросила его обратно: в доме были гости.
Однако дверь уже открылась — мать, как всегда, почувствовала появление дочери.
— Заходи!
— Нет, — сказала Мария. Дурное настроение стремительно возвращалось.
Гута поняла все с первого взгляда.
— Опять что-нибудь в школе?
Мария кивнула.
Мать силой затащила ее в прихожую, прижала к груди. И Мария вдруг поняла, что грудь у матери гораздо меньше, чем у тетки Дины. И наверное, гораздо мягче…
— Доченька, надо потерпеть. Ведь выпускной класс. Нельзя тебе сейчас срываться. Недолго ведь осталось!
Наедине с матерью можно было забыть, что ты дочь Рэда Бешеного, и ручейки побежали по щекам сами собой. А вслед за слезами на нее обрушилась головная боль. Среди всех жалостей мамина жалость была самой пронизывающей и едва переносимой. От нее по-настоящему ехала крыша. Зато и силы таяли, как снег на майском солнышке.
— Гута! — донесся в прихожую рев отца. — Кто притащился?
Головная боль сразу уменьшилась — мамина жалость теперь разделилась надвое.
В гостиной звякали стаканы и бурчали мужские голоса. Языки говорящих со словами справлялись еле-еле.
— Кто там у него? — спросила Мария, заранее зная ответ.
— Гуталин. Чуть ли не с утра заявился. И не выгнать никак. Веточки корявые, сидят и сидят! Вторую бутылку приканчивают.
Гуталин — это было чулково. В присутствии Гуталина папка обычно смягчался. С Гуталином они всегда вспоминали прошлое — как папка таскал хабар из Зоны, а Гуталин его обратно затаскивал. Или как вместе били морду очередной жабе… Папка обзывал их совместные посиделки-воспоминания словесным онанизмом. А жабами обзывал тех, кого ненавидел. Из года в год жаб в городе становилось все больше. Ясен перец, мама жабой не была, мама была просто Гутой. Иногда — все реже и реже — как бы ласточкой. А она, Мария, так и осталась Мартышкой. «Мартышка ты моя!.. Мартышечка ты этакая!..» Интересно, а как он называет ночью тетку Дину?
Мария вздохнула.
— Ничего, дочка! — Мать ласково погладила ее по макушке. — Все перемелется — мука будет…
— Гута! — опять взревел папка. — Кто там у тебя?
А Гуталин сказал заплетающимся языком:
— Стервятник Барбридж с того света явился… Хватит орать! Надо будет, зайдут, познакомятся. Давай-ка лучше еще по два пальца. За нынешнюю Зону…
— Нет, Гуталин, за нынешнюю Зону я пить не буду. Нынешняя Зона у меня вот где…
Мария сделала усилие, чтобы перестать их слышать.
— Иди-ка умойся! — Мать принялась командовать. — И за стол!
Мария пошла умываться, потому что зайти в гостиную с зареванным лицом значило вызвать у папки очередной взрыв бешенства. Он уже не раз ходил разбираться с дочкиными учителями и одноклассниками. А потом матери приходилось переводить Марию в другую школу.
Выйдя из ванной, она в гостиную все-таки заглянула.
— Ой, вот и школьница моя! — обрадовался папка. Тут же посадил ее к себе на колени, прижал к груди. — Здравствуй, Мартышечка моя!
Конопатое лицо его расцвело в улыбке.
Сидеть на коленях у папки было чулково. Как в детстве. От папкиных ласк не ехала крыша. Вот только в последнее время как бы изрядно стал донимать запах алкоголя. Впрочем, ради папкиного хорошего настроения стоило потерпеть. И, терпя, она потерлась носом о его небритую щеку.
— У-у, колючки!
Интересно, а тетку Дину он тоже сажает к себе на колени и она тоже говорит ему: «У-у, колючки!»?
— Здравствуй, Мария! — Гуталин справился с приветствием не без труда. — Ты все хорошеешь, девочка!.. Пожалуй, и я на днях в Зону схожу. Попрошу, чтобы она сделала из меня настоящего африканца. А то — ни то ни се. Мулат, он и есть мулат!
— Сходи, сходи, — сказал папка. — Хорошим станешь африканцем. Настоящим… Черным и мертвым.
— Смейся, смейся, — сказал Гуталин. — Расист! Давай еще…
Папка нацедил в стаканы на два пальца, поднял Марию со своих колен, нежно шлепнул по заднице:
— Ну, иди поешь. Проголодалась, наверное.
Мария хотела было сказать, что заходила к Дине Барбридж. Но не стала. Папка не любил, когда о тетке Дине упоминал кто-либо еще, кроме него. А сам он тетку Дину как бы всегда ругал. Наверное, подозревал, что ее подблузочным пейзажем любуются и другие мужики, но поделать с этим ничего не мог.
— А что касается дороги к Кувыркающейся горе, Гуталин, я думаю, что идти надо вовсе не через кладбище. К Кувыркающейся горе идти надо…
Мария отключилась от их разговора и вышла. Мать уже хлопотала в столовой, усадила дочку в мужнино кресло, поставила на стол хлебницу и тарелки, принесла кастрюлю. Запахло луковым супом. Потом мать села напротив, смотрела, как дочка ест. И Марии вдруг подумалось, что матери очень не хватает второго ребенка. Нормального. Или двоих нормальных. Или троих… Впрочем, тут она матери ничем помочь не могла — так далеко ее возможности не распространялись.
— Перестань смотреть мне в рот! Пожалуйста…
— Ой, прости! — Мать смутилась.
— Дед давно пришел?
Гута вздрогнула всем телом, отвела глаза. Мария поморщилась: сколько уж лет прошло, а мать никак не может привыкнуть к дочкиным способностям. И не привыкнет, скорее всего. Потому что не хочет привыкать. Потому что изо всех сил своих дамских делает вид, будто у нее круто нормальная семья. Куда как нормальная!.. Муж — бывший сталкер. Свекор — бывший труп. И дочь — выродок. Только не бывший — вот в чем весь облом…
2. Гута Шухарт, 25 лет, замужем, домохозяйка
Гута не находила себе места.
Все дела были давным-давно переделаны. Любимое Рэдом домашнее платье, ярко-синее, с большим вырезом, повешено на дверцу шкафа. Белье выстирано, высушено и выглажено. Ужин приготовлен и частично съеден. Посуда перемыта, а в доме все блестит, словно в хирургическом кабинете Мясника.
Из гостиной доносились привычные недовольные голоса. Там — как всегда шумно — выясняли сбои отношения разводившиеся Дотти и Дон Миллеры. Они разводились уже третью неделю, и Гута с интересом наблюдала за этим захватывающим процессом, третью неделю гадая, останется ли миссис Миллер с мужем или все-таки уйдет к лысому владельцу парикмахерской.
Но сегодня — хотя Дон уже поклялся жене, что навсегда бросил Ангелику Краузе, — судьба Дотти Гуту не захватывала. Переживания Ангелики ее сегодня тоже не трогали. Поэтому она зашла в гостиную, выключила телевизор и поднялась по ближней лестнице наверх.
Молчавшая весь день Мартышка, так и не дождавшись отцовской рыбы, посапывала, подложив скрюченную мохнатую лапку под заросшую грубой шерстью головку. На бурой звериной мордочке застыла горькая гримаска: Мартышке снились плохие сны. Хорошие сны снились ей только в те ночи, когда отец был с семьей. Мартышка, правда, никогда не рассказывала Гуте о своих снах, но — если отец ночевал дома — дочкина мордочка переставала быть звериной: животные не улыбаются. А в последнее время дочь постоянно напоминала Гуте зверька. Говорила она все реже и реже, и развлечения ее совершенно перестали быть похожими на игры. Да и развлечениями ли они были?..
Гута вздохнула, подняла с пола раскрытую книжку — дочь часто засыпала с какой-нибудь книжкой, — поправила свесившееся с кровати одеяло и выключила ночник. Мартышка по-детски зачмокала, но не проснулась. А может быть, проснулась и зачмокала. Кто ее теперь разберет!..
Выйдя из детской, Гута заглянула в комнату к папане, включила свет. Папаня неподвижно сидел перед окном. То ли смотрел на мерцающие за стеклом звезды, то ли разговаривал с потусторонним миром. Гутино внимание ему не требовалось. Как и всегда — после смерти. В живые-то времена он и по заднице мог шлепнуть. Или за грудь ущипнуть. А потом посмеивался над свирепеющим от ревности Рэдом… Боже, как же давно эта было! Словно и не с нею вовсе… Теперь в невесткиных заботах папаня не нуждался, но она все-таки застелила ему постель. Как вчера, позавчера и неделю назад. А завтра утром уберет несмятые простыни в шкаф. Как вчера, позавчера и неделю назад…
Папаня и глазом не моргнул. Как вчера. Позавчера. И неделю назад.
Гута выключила свет и вышла в коридор. Можно было укладываться в кровать, но она знала, что не уснет.
Рэдрик отсутствовал уже вторые сутки. Такое бывало с ним крайне редко и всегда означало, что «на рыбалке возникли некоторые осложнения». Понимай — нарвался на жаб.
И потому Гута не представляла себе, чего ей теперь ждать — то ли веселого шума подъехавшей машины и радостного стука гаражной двери, то ли жуткого телефонного звонка.
Не успела она спуститься на первый этаж, как звонок и в самом деле зазвонил. Но не телефонный — у входной двери.
Перед дверью мог быть кто угодно. Например, капитан Квотерблад со своими ооновцами и спешно оформленным ордером на обыск. Поэтому Гута посмотрела сквозь дверное стекло, не зажигая на крыльце света.
Молодой месяц освещал торчавшую на крыльце фигуру очень слабо, но и без него было понятно, что там не капитан Квотерблад. Капитан Квотерблад не был толстым. Кроме того, капитан Квотерблад носил фуражку. Или — на худой конец — шляпу-пирожок. А такое воронье пугало на голову напяливал лишь один-единственный человек в Хармонте.
По-прежнему не зажигая света, Гута облегченно вздохнула и распахнула дверь.
— Добрый вечер, Гута! — сказала старая Эллин. — Сумерничаешь?
— Здравствуйте, Эллин! Заходите.
Аделина Норман была удивительной женщиной, не чета тем, кто трепал Гуте нервы в старом доме. Конечно, понять прежних соседок было можно. Наверное, Гута и сама бы вела себя на их месте подобным же образом. Наверное…
Аделина явилась знакомиться в тот самый день, когда Шухарты переехали в собственный дом. Рэдрик встретил ее в штыки. Гостья прикинулась дурочкой. Тогда он попытался отшить ее — да так, чтобы и дорогу к ним забыла. Своего он добился: старая Эллин ушла. Но на другой день явилась снова. На третий — тоже. И на четвертый… Гута и сама не уловила, как это случилось, но незаметно соседка стала для нее если не матерью, то сродни старшей сестре. А потом, сообразив наконец, что Эллин относится к Мартышке совсем не так, как соседи по старому дому, оттаял и Рэдрик. Гута этому не удивилась: ведь в душе он был человеком добрым. Окажись муж по-настоящему злым, тем, кем он пытался предстать перед окружающими, Гута бы в него не влюбилась. Она терпеть не могла злых людей. Впрочем, они платили ей той же монетой…
Сначала Гута подумала, что новой соседкой движет любопытство, но потом обнаружила, что старая Эллин попросту жалеет Марию. А через некоторое время окончательно поняла: для новой соседки всяк, кто явился на свет, есть богоугодное создание. Уж такой она, Аделина Норман, уродилась. И потому, когда соседка заявлялась в гости, Гута встречала ее не без радости.
Старая Эллин быстро догадалась, чем промышляет свежеиспеченный сосед. И не раз пыталась втолковать ему, что делом он занимается опасным и Господом неодобряемым. Рэд всячески отшучивался, но, когда соседка уходила, ворчал: «Тоже мне второй Гуталин нашелся! Будто я сам не знаю, чем рискую…» Гута в их разговоры не лезла. Все, что у нее наболело, она Рэду давно уже высказала. А потом пожалела о своей несдержанности: разве он виноват, что так паскуден этот мир…
Как бы то ни было, в «рыболовные вечера» старая Эллин скрашивала невыносимое Гутино одиночество. Ведь с нею не требовалось все время соблюдать дистанцию, как с Диком Нунаном. И дело вовсе не в том, что Дик многое за авансы мог бы принять, а Рэд, как напьется, бывает ревнивым и по-настоящему злым. Нет, не в этом дело… Хотя чего, спрашивается, злиться? Да еще не родился в Хармонте мужчина, который отважится залезть в постель к жене Рэда Бешеного!..
— Твой в бегах? — спросила Эллин, снимая свою жуткую шляпу.
— В бегах. — Гута отобрала у соседки воронье пугало, пристроила на вешалку. — Пойдемте пить чай.
Они прошли на кухню, и, пока Аделина Норман размещала за столом упакованное в цветастые тряпки дородное тело, Гута поставила на плиту чайник.
— А где он? — спросила, наконец разместившись, Эллин. — Опять там?
Это был дежурный вопрос, и Гута всегда отвечала на него одинаково: «Болтается где-то». Но сегодня добавила:
— Может, в «Боржче» сидит, а может, еще куда затесался. Мужчина, он и есть мужчина. Его к юбке не привяжешь. Тем более такого, как мой Рэд.
— Да, не привяжешь. — Соседка разгладила на скатерти несуществующие складки, покивала. — И не привязывай. Я вот своего Стефана пыталась привязать. Был ведь у меня сынок, Стефи… — Она, поперхнувшись, замолкла.
Молчала и Гута, доставала из буфета чайные чашки. Как будто и не слышала ничего.
— Муж-то мой бросил нас, — сказала наконец старая Эллин. — В Европу сбежал, еще до Посещения это случилось. А я глупая была. Может, не привязывала бы к себе Стефи, и не взялся бы он за сталкерство… Нет, дура я была, самая настоящая дура. Скандалы ему всякий раз закатывала, когда он в Зону уходил. Не понимала, что он таким образом самостоятельность свою проявить пытался. А в последний раз и вовсе ему родительское напутствие дала… — Она протяжно вздохнула. И вдруг всхлипнула.
Вновь воцарилось молчание. Надо было бы нарушить его, спросить что-нибудь, хоть чепуху какую, но у Гуты словно язык к небу прирос. Шум закипающего чайника показался ей настолько оглушительным, что она с трудом подавила в себе желание немедленно снять его с плиты.
Потом соседка сказала:
— Когда он уходил, я и говорю: «Хоть бы ты вообще там поселился, в этой своей Зоне! Нервы бы перестал мне выматывать…» А он и отвечает: «Хорошо, поселюсь, раз твоим нервам будет лучше». И ушел… Кличка у него была «Очкарик». Потому что он даже в Зону в очках ходил. Больше я его не видела. Рассказывали, в тот раз он с Битюгом пошел, с Барбриджем. Вроде как к Золотому шару направились… Я потом к Барбриджу-то бегала, но он меня и на порог не пустил. Сказал, не знает ничего, а Очкарика уже неделю не видел. — Она опять вздохнула, покрутила в корявых пальцах чайную чашку. — А через месяц мне сказали, что Стефи погиб… — Она вновь замолчала.
Чайник на плите кипел. Гута встала из-за стола, заварила чай, наполнила чашки, достала из буфета коробку с печеньем.
Снаружи донесся шум приближающейся машины. Звук был незнаком, но Гута замерла, прислушалась.
Машина прокатила мимо.
— Я тогда и в самом деле захотела, чтобы Стефи там остался, — сказала Эллин. — Всего лишь на один миг, но очень захотела. Так была на него зла… Вот Зона и выполнила мое желание. Безо всякого Золотого шара… — Гостья взяла в руку чашку с чаем, сделала маленький глоток и вдруг воскликнула:
— Грехи родителей произрастают в детях! Никогда себе не прощу! Никогда!!!
— Веточки корявые, да нет же! — сказала Гута. — Вы ошибаетесь, Эллин. Сама по себе Зона не выполняет ничьих желаний. Иначе бы Мартышка давно бы уже стала… — Она не выдержала и вдруг разрыдалась, уткнувшись в ладони пылающим лицом.
Все, что рвалось изнутри, вся эта боль и накопившаяся обида на Зону, на Рэда, на судьбу, хлынули наружу, и Гута уже не понимала, какие слова срываются с ее дрожащих губ.
Пришла она в себя от того, что почувствовала: ее гладят по волосам. Ей показалось, мамину макушку ласкает Мартышкина лапка, но нет — это была всего лишь рука старой Эллин.
Тысячу лет они сидели обняв друг друга, и тоска постепенно уходила из Гутиного сердца.
Потом продолжали пить чай. Гута по-прежнему прислушивалась к звукам на улице. А потом Эллин сказала:
— Радуйся, что твоя дочь не похожа на человека. Говорят, позавчера на Третьей улице убили сына Счастливчика Картера. Он был мальчишкой, самым обычным мальчишкой. Соседские ребята не боялись с ним играть. А потом в течение двух дней пятеро детей оказались в больнице. С переломами. Кто с качелей упал, кто на лестнице оступился, кто-то и вообще на ровном месте поскользнулся. И мальчишку повесили, прямо во дворе, на качелях…
— А полиция? — с ужасом прошептала Гута.
— Полиция? — Старая Эллин пожала плечами. — Полиция, разумеется, убийц не нашла. Никто из соседей ничего не видел. — Она разломила печенье. — У полицейских тоже есть дети. Некоторые из них болеют. Поэтому полицейских вполне можно понять… Говорят, на Третьей улице существовал тайный Комитет по защите детей от влияния Зоны.
А ведь она вовсе не испытывает к Мартышке жалости, сообразила вдруг Гута. Зачем же она ходит в наш дом? Может, она тоже член какого-нибудь тайного Комитета?.. По защите детей от Мартышки?..
Сердце Гуты тревожно сжалось.
Какое счастье, что в нашем старом доме ни с кем из соседей не случилось ничего необычного, подумала она. Какое счастье, что мы так вовремя оттуда уехали! Потому что я бы не удивилась, если бы необычное случилось… Как она сказала? Грехи родительские произрастают в детях… Вот только знать бы заранее, грешим мы или нет? Но больше я никогда не пожелаю, чтобы Мартышка стала обыкновенной девочкой.
Старая Эллин, задумавшись, приканчивала вторую чашку. На улице вновь зашумела машина. И вновь, вопреки Гутиному страху и Гутиной надежде, проехала мимо. Телефон и дверной звонок хранили бездушное молчание.
— Я ведь зачем к вам заглядываю… — сказала вдруг соседка. — Старик-то ваш неживой бродит туда-сюда. Может, когда и Стефана моего с собой приведет. Лишь разочек бы увидеть. Хотя, говорят, возвращаются только те, кого похоронили по-божески…
Она посмотрела Гуте в глаза — сплошное ожидание на лице. Ни страха, ни надежды в нем не было. Такое лицо никак не могло принадлежать члену тайного Комитета по защите детей от Мартышки, и потому Гута сказала:
— А что, возьмет и приведет! Ведь нам с Рэдом и в голову не приходило, что папаня вернется…
Они выпили еще по чашке. И еще. Машины мимо дома больше не проезжали, и вокруг было тихо. Как в могиле.
А, уходя, старая Эллин сказала:
— Душу свою не терзай. И нервы мужу не трепли. Терпи, раз уж за сталкера вышла. И Богу молись. Я-то не молилась, не верила тогда. Уж потом… Может, Бог-то меня и покарал.
Гута молча заперла дверь.
Всю ночь она промаялась в ненавистной тишине. Утром зашла к Мартышке. Дочь тут же проснулась, подняла голову, глянула на мать невидящим взором.
— Доброе утро, Мария! — сказала Гута, привычно не ожидая ответа.
— Я спала не в сказке, — произнесла вдруг Мартышка. Словно проскрипела ступенька на лестнице.
— Так не говорят, — заметила Гута, с трудом сдерживая желание погладить дочь по голове: от этой ласки шерсть у Мартышки вставала дыбом, и Гуту било электрическим током. — Надо говорить: «Сказка мне не снилась».
— Я спала не в сказке, — упрямо проскрипела Мартышка. И отвернулась.
Гута, высоко задрав подбородок — чтобы сдержать слезы, — на цыпочках вышла из детской.
А через полчаса возле калитки скрипнул тормозами долгожданный Рэдов «лендровер».
3. Мария Шухарт, 15 лет, абитуриентка
Мария отложила ложку и вздохнула.
— Пиццу будешь? — спросила Гута, потому что дочь часто ограничивалась лишь супом да зеленью.
— Буду, — сказала Мария. — Здравствуй, дед!
— Здравствуй, внучка! — отозвался из своей комнаты дед. — Я подзарядился.
Дед всегда уходил, когда ему становилось трудно говорить: Зона не пускала в себя только живых людей и механизмы. Люди на границе Зоны умирали в огне, а их машины взрывались. Мумики же ходили туда-сюда безо всяких проблем.
Впрочем, с дедом было нелегко беседовать и после того, как он приходил с подзарядки, — чаще всего он выдавал всякие прибамбасы. К примеру, про их с Марией жизнь (бабка тоже была Марией. Вернее, это Мария тоже была Марией). Как будто песни о давно улетевшей жизни могли чем-то помочь внучке. И тем не менее Мария сказала:
— Дед, мне необходим твой совет.
Дед любил, когда она начинала разговор таким образом.
— Слушаю тебя, внучка.
— Дед, как мне жить дальше?
— Ешь пиццу! — Гута, разумеется, их разговор не слышала. — Думать будешь после обеда.
Мария благодарно улыбнулась ей и сказала старому Шухарту:
— Дед, для чего я хожу в школу? Для чего мать учит меня всяким женским премудростям? Ведь на мне никто никогда не женится. Неужели я обречена стать второй Диной Барбридж?
Дед, наверное, не знал, кто такая Дина Барбридж. А может, наоборот, слишком чулково знал. Во всяком случае, выдал он очередной прибамбас:
— Живи, внучка, как живешь. Люби, когда любится. Ненавидь, когда ненавидится. В нужное время Бог подскажет тебе, как надо поступить.
— Бог подскажет? — воскликнула Мария. — Какой Бог?! Вместо Бога у нас в Хармонте теперь пришельцы!
— Не знаю, — сказал дед. — Я много раз был в Зоне. Нету там никаких пришельцев. Просто Бог посылает людям испытание. Да и кто, кроме Бога, мог дать мне новую жизнь?
Дед считал себя живым. И часто говорил о Боге. В настоящей же своей жизни он ни в Бога, ни в черта не верил. Для того чтобы топить мастеров и инженеров в купоросном масле, ему ни Бог, ни черт не требовались. Таким он вырастил и сына. По крайней мере папка утверждал именно это.
Когда Мария была Мартышкой, папка не наказывал ее. Но едва зверек превратился в девочку, его попытались воспитывать привычными для людей методами. После третьей попытки в голову папки сама собой полетела банка с пивом. Мария не бросала ее — лишь захотела бросить… Папка был сталкером. Поэтому успел увернуться. И поэтому же сразу все понял. Он не стал ничего объяснять жене, но больше наказаниям в семье Шухартов места не находилось…
Дед продолжал выдавать прибамбасы про своего Бога, и Мария перестала его слушать. Какой, к черту, Бог! Она сама была богом в этом городе, но что ей это принесло, кроме ненависти окружающих?..
Она вспомнила, как в первый раз попыталась помочь однокласснику на уроке. Одноклассника звали Клифф Харди. Или Недомерок. Как когда… Он не мог решить арифметический пример, потому что не знал, сколько будет — шесть на восемь. Лишь крошил в граблях мел да крутил башней. Математичка уже собиралась посадить его на место, когда Мария взяла и представила, что перед Недомерком на доске висит таблица умножения. Пожалела шнурка… Клифф не испугался, спокойненько сдул с таблицы ответ. И все бы сошло, но Мария сдуру после урока похвасталась Недомерку, что это как бы она спасла его от банана. Клифф не поверил. Тогда Мария еще раз повесила перед ним таблицу умножения. Прямо на стене залитого светом школьного коридора. А потом и перед всем классом свой фокус повторила. Благодарности ей захотелось, идиотке! А вместо благодарности получился сплошной облом. Даже вспоминать не хочется… Ну а через пару дней Недомерка снова вызвали к доске. Не успел он взять в грабли мел, как доска с грохотом сорвалась со стены. Никто не пострадал. Никто не связал случившееся с Марией. Но Гуте, помнившей таинственное летающее пиво и потому заподозрившей существование такой связи, пришлось срочно переводить дочь в другую школу.
В новой школе выяснилось, что облом Марию ничему не научил. Дальше было еще хуже. Она больше не пыталась помогать одноклассникам, однако слух о ней уже разнесся среди хармонтских школьников. Нет, ее не трогали. Потому что боялись. Но и не любили. Боялись они ее, ясен перец, правильно. И если дядя Дик не ошибается в природе людей — а с какой стати ему ошибаться? — то и не любили правильно. К счастью, от их нелюбви до поры до времени ей было ни жарко ни холодно. Во всяком случае, не ехала крыша, как от жалости. А когда нелюбовь начинала превращаться в ненависть, Мария убеждалась, что эта ненависть рождает в ней силы.
Она пошла в школу в тот самый год, когда из заросшей шерстью Мартышки превратилась в девочку. Сегодня, через семь лет, она уже находилась в выпускном классе. И парни, учившиеся рядом, были на два года старше ее. Ей давалась не только учеба. Она клево танцевала, чулково пела и не менее круто рисовала. Ее артистическими способностями пользовались на школьных праздниках. Она научилась устраивать великолепные приколы. Тем не менее это не сделало ее в школе своею. Даже среди парней. Не помогло и раннее развитие. А ведь тут было чем похвастаться! В пятнадцать лет большинство ее ровесниц все еще были гадкими утятами — этакие дурнушки с острыми локтями и коленками, — а она уже превратилась в девушку с красивым личиком и прекрасной фигурой. Не зря же отец частенько шлепает ее по заднице!..
Впрочем, и без его шлепков она давно знала, что привлекательна, — не раз слышала, как парни базарили о ней в мужской компании. И вдали от «этой штучки Шухарт» вовсю хвастались друг перед другом своими подвигами. Все они уже не раз и не два трахали ее, и, если верить их подробным рассказам, «эта штучка Шухарт в свои пятнадцать лет — как бы давалка, каких мало». А если обдолбается травой, то и вообще полный отпад.
Оставалось реализовать собственные великолепные способности на практике. И не далее как три дня назад, воодушевленная мальчишеской болтовней, Мария решила приступить к откровенному обольщению.
Она сидела в комнате отдыха, обновляя плакатик, с которым школьники собирали пожертвования для детей бывших обитателей Чумного квартала. А за стеной четверо ее одноклассников базарили о том, которая из девчонок круче на матрасе. По всему выходило, что самая крутая — Мария Шухарт. И не удивительно — ведь с такими-то буферюгами без насисьника ходит. Ясен перец, парни быстро распалили друг друга. Тут она и явилась пред их изумленные физиономии. Быстренько скинула футболку, потянулась, посмотрела призывно, облизала подкрашенные губы… Боже, как этих несчастных болтунов передернуло! Словно они увидели перед собой старую каргу с обвисшими наволочками вместо полноценных грудей!..
Возможно, ей не надо было являться перед ними, когда их было четверо. Но если бы к ним в класс ввалилась подобным образом любая другая девчонка, их бы не передернуло…
Что ж, и боги делают выводы из своих ошибок. Сегодня после занятий она дождалась, пока остался один-одинешенек Альберт Кингсли. Семнадцатилетний Берт был еще как бы тот тормоз, от него рыдали все учителя, весь класс и весь район.
На этот раз Мария решила действовать без явлений, вживую, и не стала предлагаться Берту напролом. Проконсультировалась вчера у матери, как вести себя девушке в подобных ситуациях. Гута даже обрадовалась: кажется, дочке кто-то нравится…
Выбранная тактика оказалась верной. Крыша у Кингсли поехала легко, он быстро завелся, сначала пытался забить стрелочку, а потоми вовсе стал звать к себе домой. Предки урыли пахать, так что, если тебя, Шухарт, это как бы обламывает, никто и не узнает, что ты у меня заторчала… Она согласилась: раз уж экспериментировать, так до самого конца… Жаль, не до самого конца поехала крыша у Берта. И по дороге этот тормоз вспомнил, с кем связался. Вот тут крыша у него поехала снова — теперь уже от испуга. Как он простебал Марию! Оборотень — это еще самое мягкое слово, которое он себе позволил. Последней же фразой он ее и вовсе обломал: «Не прикидывайся, Шухарт, человеком! Не пролетит!» А потом испугался еще больше. Чуть в штаны не напустил…
Из-за этого испуга она его и не тронула. Впрочем, нет, не из-за испуга… Ведь если бы она его тронула, он бы оказался прав. Тогда бы она и впрямь как бы «прикидывалась человеком». Поэтому лишь сказала:
— А страшно в оборотня стрелы-то метать… Да, Берти?
И ушла…
Мария снова вздохнула. Дед по-прежнему безостановочно тарахтел про своего Бога, Гута внимательно приглядывалась к дочери, в гостиной папка с Гуталином все еще пудрили друг другу мозги по поводу того, как надо было проходить ловушку, на которой гробанулся Пит Болячка.
— Не нравишься ты мне сегодня, Мария! — проговорила Гута.
— Спасибо за совет, дед! — сказала Мария (дед любил, когда она благодарила его) и проговорила: — Все нормально, мама, я уже успокоилась. Пойду к себе. И не жалей ты меня, ради всех святых! У меня голова раскалывается от вашей жалости.
Гута только рот распахнула. Да так и осталась стоять с распахнутым ртом, держа в побелевших пальцах тарелку с недоеденной пиццей.
Алкогольные пары в гостиной сгустились — хоть топор вешай, — и потому Мария направилась к дальней лестнице. Мимо двери в гостиную пробралась, задержав дыхание и сделав все, чтобы папка с Гуталином ее не увидели. Пусть эти два тормоза играют в пьяные игры из своего прошлого. От их игр, по крайней мере, никто не калечится и не умирает. Не то что в ее забавах с живыми куклами!.. Впрочем, наверное, она наговаривает на себя. Тысячу фунтов, наговаривает! Ведь гибли же люди и до того, как она стала засыпать в сказки!
Она заглянула в комнату к деду. Дед гранитной глыбой сидел у стола, смотрел в распахнутое настежь окно. Там, вдали, над крышами домов, над деревьями, над проводами высоковольтной линии электропередач, светилась розовым верхушка полусферы — граница закрывшейся от людей Зоны. С того дня, как она закрылась («заблокировалась», говорит дядя Дик), Марии перестали сниться ее любимые сны.
Мария подошла к деду, коснулась рукой холодного плеча. Дед начал разворачивать башню, чтобы посмотреть на внучку, но этого пришлось бы ждать минут пять, не меньше, — тело деда было гораздо более медленным, чем его мысли. Мария ждать не стала. Захочется с ним поговорить, она сможет это сделать и из своей комнаты. Первым же дед разговора не начинал никогда.
В детской была жарень — мать забыла опустить жалюзи, и майское солнце уже успело нагреть комнату. Мария включила кондиционер, скинула джинсы и футболку и, оставшись в одних трусиках, посмотрела на себя в зеркало. Нет, парни правы. Классная телка! Во всяком случае, покруче Дины Барбридж. Может, надо носить блузку с глубоким вырезом да почаще нагибаться?.. Блузки с вырезом не было, и она просто нагнулась перед зеркалом. Так было еще круче, и, повеселевшая, Мария плюхнулась на кровать.
Раньше она думала, что, если станет как бы совсем плохо, можно будет удрать из города. Податься, например, в Загорье. Или и вовсе в Европу умотать. Для нее-то, Марии Шухарт, закон об эмиграции — не помеха. Попробовали бы ее задержать!..
Но два года назад ее бывший класс (вернее, один из бывших) отправился на экскурсию. Поехали в провинциальную столицу королевства. Все чин-чинарем, под крышей из двух «мерседесов» с ооновцами (вернее, под присмотром, чтобы никто не вздумал сбежать, ищи потом ребенка в чужом городе). Школьники узнали, как живут люди в нормальном городе. Но сделали они это без Марии Шухарт. Потому что Мария Шухарт заорала от жуткой боли, едва автобус выехал из Хармонта. Пришлось ооновцам и учителю останавливать автобус, вызывать «скорую», звонить Шухартам домой. Слава Иисусу, папка тут же примчался на «лендровере» и не дал положить дочку в больницу…
Впрочем, папка находился в таком же положении. Пытался он уже уехать из города, миновав военные заслоны. Об этом он рассказывал только матери, но Мария тогда уже умела слышать. Не отпустила папку Зона. Даже из города не позволила выехать, головной болью загнала назад, чуть не отпал папка… Возможно, мать бы Зона и выпустила, но та без папки да Марии как бы сама уезжать никуда не собиралась. Ясен перец, для Шухартов у Зоны-матушки был свой собственный закон об эмиграции.
Мария вздохнула, полежала еще некоторое время, потом встала, оделась и села за учебники.
Занималась она всегда увлеченно. Наверное, поэтому и не заметила, как уплелся «засосавший» Гуталин. А вот как пришвартовался к крыльцу трезвый дядя Дик, услышала.
4. Гута Шухарт, 25 лет, замужем, домохозяйка
Когда Гута позвонила в дверь Барбриджева дома, открыла ей Дина. Распахнула дверь и одарила гостью таким взглядом, что Гуту оторопь взяла. Можно подумать, она пришла к этой гладкокожей сучке денег просить!.. Ничего не оставалось, как заявить столь гостеприимной хозяйке:
— Не бойся, я к вам не за деньгами!
Та в долгу не осталась, ухмыльнулась ехидненько:
— А Рэд сюда тоже не всегда насчет денег прибегал.
И улыбка у нее сделалась такая, что и сомнений возникнуть не могло, за чем именно сюда прибегал Рэд. Только врет она, стерва грудастая, цену себе набивает… Впрочем, может, и не врет. На такие телеса не позарится разве что гомик. Или полный импотент. А Рэд — ни то и ни другое. Так что переспать с этой стервой он вполне мог. Но переспать — вовсе не значит любить. Тут у Рэда на первом месте всегда была она, Гута… Впрочем, нет, Гута у него была на втором месте, а на первом — единственная его настоящая страсть, Зона, Зона-матушка. Рэд ведь тоже однолюб…
Как бы то ни было, но продолжать разговор с красоткой на повышенных тонах Гута не решилась. Когда обращаешься к Барбриджам с просьбой, о собственном гоноре лучше всего позабыть. Хотя бы на четверть часа… И она позабыла.
Сперва, впрочем, она хотела пойти к Дику Нунану.
Он был симпатяга-парень. Когда Рэдрика посадили в последний раз, Дик стал единственным, кто навещал их с Мартышкой и давал денег в долг. А ведь прочие знакомые тогда на Гуту вообще плевать хотели. В обычное-то время они хотя бы Рэда побаивались, а тут принялись на соломенной вдове отыгрываться вовсю… «Ну что, допрыгался твой Рыжий, сука! Теперь узнаешь, почем фунт лиха! На панель пойдешь… А лучше выблядка своего туда отправь!..»
И приходилось терпеть, опускать глаза к земле, чтобы не видели твоей ненависти. Или поворачиваться и уходить. Чтоб не видели слез… Только однажды не удержалась. Это когда управляющий совсем допек. Сказала только: «Погоди, сволочь бледнорожая! Вот вернется Рэд, яйца тебе оторвет! По одному. Чтоб дольше мучился!..» Как ни странно, помогло. Долго потом к ней не подходил. Тогда-то она и сообразила, что ее мужа многие боятся всерьез.
Нунану, правда, бояться было вроде бы нечего. Тот всего лишь приносил Гуте денег, дарил Мартышке шоколадки да играл с ребенком. Серьезно так играл, незаметно было, чтобы брезговал. За это Гута была ему по гроб обязана, и он на нее частенько поглядывал масляными глазками. Но и только. Воли рукам ни разу не дал. А как она в ту пору переживала! Ведь пришлось бы съездить ему по физиономии, если бы приставать вздумал. Может быть, в результате совсем бы без гроша с Мартышкой остались, но представить себя под кем-то, помимо Рэда, она просто не могла.
Ходил Дик к ним и позже. Когда Рэд наконец вернулся, а Мартышка почти перестала разговаривать. И отца с матерью совсем перестала понимать. Так им тогда казалось… Как раз усопший папаня появляться начал, отчего все жильцы дома разбежались, словно тараканы по щелям. И опять никто к Шухартам не заглядывал — лишь старый Барбридж на дюралевых ногах да Дик Нунан. Рэд, когда напивался, уколоть ее пробовал: «Дик-то не ко мне ходит, это он к тебе прислоняется». Все верно, всегда Нунан был к ней внимателен. Жалел, надо полагать. Или желал. К себе в стенографистки как-то приглашал. Хоть и в шутку вроде бы приглашал, но за шуткой этой… Собственно говоря, Гута и сама чувствовала, что привлекает его как женщина. Толстячки частенько похотливы…
Но чувствовала она и то, что за похотливостью Дика, за вниманием и шутками его кроется еще нечто. Нечто совсем другое, холодное и чужое. Женским чутьем ощущала. Впрочем, дело не в одном только женском чутье. Как бы ни уверена была Гута, что сумеет дать Нунану по рукам, от изнасилования-то она, при всем своем желании, вряд ли бы убереглась. Хоть и был Дик этаким Наф-Нафом — маленьким, кругленьким, розовеньким, — но физическая сила в нем угадывалась немалая. Мужчина есть мужчина. Так что с Гутой он бы недолго чикался… И качай потом свои права, жена упрятанного за решетку сталкера. Хоть всю жизнь качай! Никакие бы адвокаты не помогли… Конечно, Рэд, выйдя на волю, Дику, без сомнения, голову бы оторвал. Дружба дружбой, а Гута Гутой… Но, во-первых, Дик всегда бы сумел удрать — он ведь нездешний, на него закон об эмиграции не распространяется. А во-вторых, она, Гута, и сама бы Рэду о случившемся ничего не сказала. Ни к чему ему дополнительные передряги. А сам бы он почувствовать, что между Диком и женой произошло серьезное, ни в жизнь бы не сумел — сила Рэда не в чувствительности.
Как бы то ни было, за липовой нерешительностью Нунана пряталось что-то совсем другое. Из-за этого другого она и не пошла к Дику за помощью…
Гуталин бы помог жене Рэдрика Шухарта без долгих просьб. Не зря Рэд, помимо Кирилла-русского, считал своим другом только Гуталина. Да Гуталин бы по первому зову сам за Рыжим в Зону отправился, надо было только узнать, куда именно Рэд пошел. Но, увы, Гуталин сидел — начистил кому-то физиономию. Должно быть, опять нашлись несогласные с его проповедями… И видимо, основательно начистил — на этот раз административным арестом не обошлось, упрятали его всерьез и надолго. Наверное, допек Гуталин наконец и капитана Квотерблада. Впрочем, говорят, такова судьба всех проповедников — знал, чего от жизни ждать…
Кто-либо из действующих сталкеров жену Рыжего к себе бы и на пушечный выстрел не подпустил. Что вы такое говорите, миссис Шухарт, да я завязал давным-давно, еще когда ваш муж на нарах полеживал, неприбыльное это дело стало, не знаю, чего это ваш муж все еще дурака валяет, там же пшик один найдешь. Разве лишь Золотой шар, так он — легенда и больше ничего. Нет, миссис Шухарт, не по адресу вы, ох как не по адресу…
Да и все они, ныне действующие сталкеры, по слухам, связаны с безногим Барбриджем.
Вот и осталось пойти к самому безногому Барбриджу. В том, что Барбридж способен ей помочь, Гута была абсолютно уверена. Не зря же старик таскался к Рэдрику. Да и Рэдрик дорогу к нему не забывал…
Дина по-прежнему смотрела на нее с ехидной ухмылкой. Наверное, чувствовала, что сегодня отпора не получит.
И Гута прикинулась дурочкой, поинтересовалась, сможет ли мистер Барбридж принять жену Рэдрика Шухарта по личному делу.
Мистер Барбридж смог. Однако встретил гостью под стать дочке, неласково. Разве лишь не намекал, что трахался с Рэдом… А выслушав, сказал:
— Я понятия не имею, где Рэд.
— Но ведь вы на днях встречались с ним…
— Ну и что?! Мы встречались совсем по другим делам. О своих ближайших планах он мне ни слова не сказал. К твоему сведению, Гута, Рыжий вообще не любитель языком трепать. Иначе бы из тюряги не вылезал.
Про тюрягу он специально напомнил, безногая сволочь. Знал, чем незваную гостью достать. У Гуты сразу же руки опустились. Лишь прошептала:
— Значит, вы не хотите мне помочь…
Наверное, Барбридж решил, что перегнул палку, потому что на мерзкой физиономии расцвела вдруг не менее мерзкая ехидная улыбочка. А Гута подумала, что судьба наказала Рэда не только дочкой. Вот и в друзьях у него теперь — это после Кирилла-то-русского и Гуталина-то! — вон какая образина. Рэд, правда, Барбриджа другом не считает, ну да мало ли что там человек считает или не считает. Дела-то делают вместе…
— Девочка моя милая, — проскрипел Барбридж. — Да почему же не хочу? Очень даже хочу! Но не могу. Не знаю я, где теперь твой муж. Понятия не имею! — И, словно ставя в разговоре точку, заорал: — Диксон!
Диксона — в его нынешнем состоянии — Гута уже однажды видела. И еще раз увидеть не имела никакого желания. На Диксоне тоже красовалась личная печать Зоны. Как и на Рэдрике. Но если на Рэдрике эта печать была постороннему глазу незаметна, то Диксона Зона припечатала отчетисто и наверняка. Уж лучше умереть, чем жить в таком виде!..
— Я не нуждаюсь в провожатых, — быстро сказала Гута, услышав за дверью шаги Диксона — словно кто-то через силу тащил по полу гигантскую швабру. И опрометью бросилась вон из дома.
Дина не ушла, ждала гостью возле песчаной дорожки, обсаженной розовыми кустами. На ярком солнце ее прелести казались особенно вызывающими.
— До свиданья! — буркнула Гута, намереваясь обойти красотку, но та заступила ей дорогу.
— О чем вы говорили с отцом?
— А тебе-то что за дело?
— Дело мне самое прямое. Я не знаю, куда именно отправился твой муж, но за ним увязался мой брат. Без разрешения и ведома отца. И пошли они в Зону. Так что дело мне есть… Рэд не вернулся?
Гута отметила про себя это ее красноречивое «Рэд». Но снова сдержалась.
— Да. И я просила твоего отца помочь мне.
— Пойдем, поговорим вон там. — Дина кивнула в сторону расставленных на тенистой лужайке низенького столика и пары полосатых шезлонгов.
А что я потеряю, если поговорю с этой гладкокожей сукой? — подумала вдруг Гута.
Они сошли с дорожки и шагнули на мягкую траву. Газон у Барбриджа подстригали аккуратно.
— Что тебе надо от отца? — спросила Дина, усаживаясь в шезлонг и делая приглашающий жест гостье.
А что я потеряю, если скажу этой суке правду? — подумала Гута.
— Если твой отец знает, где сейчас Рэдрик, он мог бы и мне рассказать, как туда добраться.
Дина вскинула на нее расширившиеся глаза:
— Ты собралась в Зону?!
— Да, я собралась в Зону.
Дина качнула головой, потом потянулась к столику за сигаретами и зажигалкой, прикурила. Гута смотрела на ее тонкие пальцы, увенчанные кровавыми каплями ногтей. Пальцы не дрожали: видно, эта сука не очень-то и беспокоилась за судьбу своего драгоценного братца.
— Неужели не боишься? — Дина снова качнула головой. — Я бы ни за что не пошла.
Гута лишь молча пожала плечами: все равно эта сука ничего не поймет.
Дина тоже замолкла, думала, жадно затягиваясь и стряхивая пепел на ухоженный газон. Захотелось курить и Гуте, но попросить у этой стервы сигарету было превыше ее сил.
— Хорошо, — сказала наконец Дина. — Полагаю, я сумею тебе помочь. Во всяком случае, с отцом поговорю. — Она раздавила окурок в пепельнице. — Причем сегодня же.
На том и расстались.
А назавтра раздался звонок в дверь. Трепещущая Гута ринулась в прихожую, но на крыльце стояла Дина.
— Привет!
— Привет! Заходи…
Зашли в гостиную. Гута, изображая из себя радушную хозяйку, направилась к бару, сделала выпивку. Дина лениво оглядывала гостиную.
— Миленький домик! Навер… — Она поперхнулась.
Гута медленно повернула голову. Посреди лестницы, ведущей из гостиной на второй этаж, стояла Мартышка, пристально изучала гостью немигающими глазами.
— Мария, иди к себе! — скомандовала Гута.
Мартышка неслышно поднялась по лестнице, скрылась за дверью.
Гута спокойно протянула гостье стакан.
— Спасибо! — сказала Дина.
И тут ее передернуло.
Как ни странно, эти мимические упражнения подействовали на Гуту успокаивающе. Судя по всему, притворяться гостья не собиралась. А значит, ей можно было верить. Пусть и до определенного предела.
— Собирайся, — сказала Дина, справившись со своим лицом. — Мистер Барбридж созрел для еще одного разговора с женой Рэдрика Шухарта по личному делу.
Дина приехала на новеньком «мерседесе». На этом самом «мерседесе» Гута и отправилась на повторную встречу с Барбриджем.
Теперь старик встретил ее по-иному. Улыбка, блуждавшая по его лицу, больше ехидной не казалась. Ее вполне можно было бы назвать доброжелательной. Если бы не глаза… Глаза оставались холодными, равнодушными и чужими. Впрочем, иначе бы Стервятник Барбридж не был Стервятником…
— Девочка моя, зачем нам притворяться друг перед другом? — сказал он. — Я не собираюсь извиняться за вчерашний обман. Ты должна понимать, я вынужден быть осторожным. Как и твой муж… — Вот тут его улыбка стала ехидной, правда, всего лишь на мгновение. — Я навел справки и понял, что могу разговаривать с тобой откровенно. В общем, мне известно, куда именно отправился твой разлюбезный Рэдрик.
Гута хотела было обрадоваться, но тут ей вдруг пришло в голову, что этому мерзкому старикашке совсем не обязательно видеть ее радость. Обойдется…
— Мне известно, куда отправился твой разлюбезный муженек, — повторил Барбридж. — Кстати, с ним туда отправился и мой сын. Почему ты вчера ничего не сказала мне об этом?
Гуте показалось, что голос старика дрогнул, и она поспешила оправдаться:
— Я сама ничего не знала. Уж если муж не сказал мне ничего о своих планах, то, наверное, о вашем сыне тем более не говорил.
Барбридж некоторое время внимательно изучал ее лицо. Потом хмыкнул:
— Я склонен тебе поверить. Так что, девочка моя, ты от меня хочешь?
— Я хочу, чтобы вы рассказали мне, как пройти туда, куда отправился мой муж.
— Ты собралась в Зону? Смелое желание…
— Я уже все решила. Можете меня не запугивать и не отговаривать.
Барбридж ухмыльнулся:
— Отговаривать я тебя не собираюсь. А напугает сама Зона. Там, знаешь ли, не дамский салон. И не пляж.
Гута пожала плечами:
— Что ж, на все воля Божья… А на пляже я не была уже лет десять.
Барбридж по-прежнему не сводил с гостьи глаз. И тогда Гута, в свою очередь, уставилась на него.
— Ну хорошо! — Старик первым отвел взгляд. — За твоим мужем увязался мой сын. Я разберусь с ним, когда они вернутся. И с твоим мужем разберусь, — в голосе калеки послышалась угроза, — за то, что он взял его с собой.
Гута поморщилась:
— Мне это неинтересно.
— Зато мне интересно! — Барбридж выругался. — Во всяком случае, я дам тебе карту. Как выяснилось, твой разлюбезный муженек и мой ненаглядный сыночек отправились прямиком к Золотому шару.
— К Золотому шару?! — поразилась Гута. — Но ведь это же всего-навсего легенда!
— Вот твой муженек и решил на деле проверить, какова эта легенда… Только, девочка моя, — Барбридж поднял кривой палец, — дорога туда нелегка и опасна.
Гуте показалось, что голос старика вновь дрогнул.
— Меня не пугают опасности.
— А если Рэдрик и Арчи погибли?
— Что ж… Тогда я хотя бы удостоверюсь в этом. Не бойтесь, я не стану соваться в опасные места. Мы, женщины, по натуре осторожны.
— Да уж, — Барбридж привычно ухмыльнулся, — я вижу, за тебя действительно нечего бояться. Ты — дама смелая, а смелость и осторожность — половина успеха. Впрочем, я давно знал, что Гута Шухарт — смелая дама. Еще с тех самых пор, как ты вышла за Рыжего замуж.
Гута поджала губы:
— Вас это не касается! Мне не нужны задушевные беседы, мистер Барбридж, мне нужна конкретная помощь. Задушевных бесед я натерпелась от своей матери.
— Все вы не любите слушать старших! — Безногий шутливо погрозил ей пальцем. — А ведь мы иногда бываем правы. Ведь мы опытнее вас.
— Вы часто бываете правы. Только нам ваша правота ни к чему. Как и ваш опыт. Мы предпочитаем обзаводиться собственным. — Гута вспомнила пустые глаза Дины Барбридж. — И уж лично ваш-то опыт мне вообще ни к чему!
Барбридж сокрушенно покачал головой, покряхтел:
— Обижаешь старика, девочка моя. Вот возьму и не дам тебе ничего.
Дашь, безногая сволочь, подумала Гута. Все ты мне дашь. Потому что там не только, мой муж, но и твой сын. И сам ты к нему отправиться не сможешь. А сука твоя гладкокожая тебе в этом деле явно не помощница.
— Ну ладно, — пробормотал Барбридж. — Ты меня убедила. Я дам тебе все необходимое: и карту местности, и спецкомбинезон. И даже кое-какие наставления.
— Сколько времени займут ваши наставления?
— Два дня.
— Еще два дня? — Гута вскочила и возмущенно фыркнула: — Да вы с ума сошли! Их уже четвертые сутки нет. Они там, может, умрут за эти два дня.
— Тихо, деточка! — Ее возмущение, похоже, Барбриджа нимало не волновало. — Если они живы на настоящий момент, проживут и еще два дня. А если не проживут, то они и в нынешнем своем виде тебе вряд ли понравятся.
— Что вы хотите сказать?
— Ничего! Я могу тебя подготовить за два дня. Быстро только мухи плодятся.
Он не солгал. За два дня он действительно подготовил ее к путешествию в Зону. Во всяком случае, когда Гута уходила от него через два дня, ей очень хотелось в это верить.
5. Мария Шухарт, 15 лет, абитуриентка
Да, дядя Дик сдержал данное Марии утром обещание. По такому, в последнее время столь редкому поводу мать, ясен перец, примерилась изобразить его любимый салат. Папку, которого после обильных воспоминаний с Гуталином сначала долго колбасило, а потом и вовсе уехало, решили пока в чувство не приводить, и потому сбегать за моллюсками пришлось как бы Марии.
Когда она вернулась, мать с дядей Диком обдолбывались на кухне никотином. Перед гостем стоял недопитый стакан «кровавой Мэри». Увидев дочку, Гута тут же раздавила в пепельнице недокуренную сигарету и взялась за моллюсков.
— Хорошо у вас, — сказал дядя Дик. — Будто вернулся в старые добрые времена.
Мать вздрогнула, опустила голову.
— Да, — сказала она. — Но скоро эти времена закончатся. И домик, наверное, придется продать. Боюсь вот только, покупателя не отыщем.
Мария достала из холодильника банку с апельсиновым соком, наполнила стакан и устроилась возле окна.
— А вы как живете, Дик? — сказала Гута. — Так все и крутитесь при Институте?
— Кручусь, — сказал Нунан. — Новое оборудование нам пока поставляют. А раз поставляют новое оборудование, появляются и рекламации. А раз появляются рекламации, то тут же требуют и Дика Нунана. Я, правда, не вполне понимаю, что мы собираемся со всем этим оборудованием делать. Нет ничего более сложного, чем заниматься научными исследованиями, когда объект исследований тебе абсолютно недоступен. Лаборатории, впрочем, работают помаленьку, изучают то, что из Зоны раньше натаскали. Ну и раз в неделю запускают туда робота, простенького совсем — двигатель да корпус, — проверяют, не разблокировалась ли граница. Купол-то в двух шагах от Института. — Дядя Дик раздавил в пепельнице окурок, выцедил из стакана остаток «кровавой Мэри» и закурил новую сигарету. — Граница почти прозрачная, сквозь нее все видно. Видно, во всяком случае, что ничего там, в Зоне, не меняется. Когда запускают очередного робота, весь Институт в окна высовывается. Доходит робот до полусферы, трах-тарарах, и поминай как звали.
— Трах-тарарах, — эхом отозвалась Гута. — Словно ваши машины кончают жизнь самоубийством. Вы знаете, Дик, многие сталкеры сделали то же самое. Пшик, и поминай как звали.
— Зато отдел контроля садится сочинять новый отчет, — невпопад отозвался дядя Дик, — а бухгалтерия списывает очередного робота. Не зря, мол, на службу ходим. Потом все затихает, до следующей недели…
— Скажите мне, Дик, — перебила его Гута. — Как у вас в Институте считают, что нас все-таки ждет?
— Кого — вас? — Нунан попытался улыбнуться. — Хармонт или вашу семью?
— Всех нас?
Дядя Дик задумался, глядя в окно на буйно цветущую яблоню. Мария, попивая сок, смотрела, как ловко мать расправляется с моллюсками.
— С городом-то, думаю, ничего не случится, — сказал наконец дядя Дик. — Существовал же он до Посещения. Уровень преступности вот постоянно снижается… Нет худа без добра.
— Был Хармонт дырой до Посещения, в ту же дыру и превратится, — сказала мать.
Дядя Дик вздохнул:
— Ну-у, Гута… Городов, подобных Хармонту, в мире тысячи. И ничего — живут ведь люди.
— Да-а, живут, — сказала мать, но прозвучало это так, будто она спросила: «Живут ли?»
Дядя Дик помолчал, все так же поглядывая в окно, поерзал на стуле. А Мария пожалела, что не умеет читать человеческие мысли. То есть, ясен перец, чулково, что она их читать не умеет, это был бы как бы совсем тошняк. Но вот сейчас бы такое умение пригодилось. То ли говорит матери дядя Дик, что думает?
— Некоторую пользу мы от Зоны получили, — продолжал дядя Дик. — Этаки вот, к примеру… Автомобили воздух перестали отравлять… Кстати, вы знаете, Гута, ведь кое-кто попытался было применить добытое из Зоны и по-другому. В качестве оружия. К счастью, ничего из их замысла не вышло. Кроме братской могилы для исследователей… Ну а что касается вашей семьи… — Он покосился на Марию, словно спрашивал, помнит ли она их дневной разговор.
Мать поняла его сомнения по-своему.
— Ничего, Дик, — сказала она. — Валяйте! Девочка совсем взрослая стала.
— Вам давно уже пора приспособиться, Гута, — сказал дядя Дик. — Я вообще не представляю, как вы протянули столько лет. Возврата к прошлому, судя по всему, уже не произойдет. По крайней мере, при нашей жизни.
— А если все же произойдет?
— Если произойдет, история повторится. В мире всегда найдутся люди, которые не успокоятся до тех пор, пока кого-нибудь не угробят. Лучшим исходом будет, если они угробят только себя. Однако такое случается крайне редко. — От жалости дядю Дика понесло на общие фразы, но он вовремя врубился.
В кухне вновь повисло тревожное молчание. Мать возилась с салатом, дядя Дик уставился в окно, Мария приканчивала второй стакан сока. Потом мать сказала:
— Гуталин сегодня заходил.
— Ну и как он? — оживился дядя Дик. — Давненько я его, черта, не видел!
— Да никак! — сказала мать. — Устроился в какой-то кабак вышибалой. Кажется, «Три ступеньки». Может, пить меньше станет. А не станет, так самого вышибут.
Дядя Дик смотрел теперь не в окно, а на мать. Похоже, он освоился. Или делал вид, что освоился.
— Вот скажите мне, Дик, — продолжала мать. — Ну ладно я… Я сама выбрала себе свою судьбу. А чем провинились такие люди, как Гуталин. Когда Зона была открыта, у него имелась какая-никакая, а цель. Пусть идиотская, с точки зрения других, но ведь для него-то она была в жизни самым важным делом. Да, конечно, он и в те поры был пьяницей и драчуном, но как он преображался, когда начинал читать свои проповеди!
Она говорила о Гуталине, но Мария понимала, что мать имеет в виду совсем другого человека.
Дядя Дик снова поерзал на стуле. Словно проверял, выдержит ли стул основательность его ответа.
— Вы знаете, Гута, наверное, мои слова покажутся вам банальщиной, но раз уж вы спросили, получайте!.. — Он улыбнулся, как бы предупреждая, что собирается пошутить. Однако не пошутил. — Считайте, что вам просто очень не повезло. Считайте, что вы оказались в зоне боевых действий между людьми и Неведомым. И что в этой заварухе вам не удалось избежать шальной пули. Кто тут виноват? Тот, кто выстрелил, или тот, кто не вовремя высунулся из окопа? Слава Богу, всего лишь ранили, а не убили… Теперь самое время раны залечивать. Это тоже тяжело и больно, однако ведь иначе не проживешь… Я ответил на ваш вопрос?
Гута, закончив делать салат, выложила его в серебряную миску и посмотрела на Нунана.
— Я поняла вашу философию, Дик. — Она развела руками. — И соврала бы, если бы сказала, что она мне нравится.
На лице дяди Дика появилась виноватая улыбка.
— Это мужская философия, Гута, — отозвался он. — Потому она вам и не нравится. Впрочем, будь моя воля, я бы перед Посещением всех женщин отсюда вывез. Да и большую часть мужчин — тоже. Увы, пришельцы начали свои боевые действия с землянами без объявления войны. Впрочем, подозреваю, что и при объявлении войны ваше доблестное правительство пальцем о палец бы не ударило, чтобы избежать человеческих жертв. — Дядю Дика вновь понесло на общие фразы. — Правительства и люди живут в разных мирах. Когда они окажутся в одном общем мире, тогда и наступит на Земле рай небесный.
Мария вдруг подумала, что она и весь остальной Хармонт тоже живут в разных мирах. И что, если так будет продолжаться дальше, кому-то как бы придется залечивать раны. Если раны эти не окажутся смертельными…
— Только этого не будет никогда, — закончил дядя Дик свой пассаж. — Не пора ли нам поднимать Рыжего?
Рыжего с трудом подняли. Рыжего с еще большим трудом засунули под холодный душ. Рыжему скомандовали надеть свежую рубашку и выглаженные брюки. Потом его усадили за стол, но предупредили, чтобы он ни-ни. А не то будет иметь дело с Ричардом Г. Нунаном, лично.
Иметь дело с Ричардом Г. Нунаном, лично, папка, ясен перец, не побоялся. Не тот он был парень… Но Марии присутствовать при этом деле не улыбалось, и она, отмазавшись, ушла к себе в детскую. Сказала деду, чтобы вниз не ходил. Открыла окно. Прямо перед окном цвела сирень. Из сада неслись такие одуряющие запахи, что у Марии мурашки по спине побежали.
В гостиной взревывали, охали и лизались — папка имел дело с Ричардом Г. Нунаном. А мама иметь такое дело ни с Ричардом Г. Нунаном, ни с папой как бы не захотела, ушла на кухню. Тогда в гостиной принялись вспоминать прошлое. Примерно в том же тоне, что днем с Гуталином. И так же между воспоминаниями звякали стаканами. Только вот реплики дяди Дика слишком отличались от реплик Гуталина. Потом в гостиной принялись ругаться — хоть святых выноси. Однако стаканами звякали по-прежнему радостно и целеустремленно. А потом дядя Дик, звякнув в очередной раз, проговорил:
— Слушай, Рэд! Я ведь скоро уезжаю.
— Куда? — сказал папка. Голос его был потрясающе трезв.
— Там, где я нужнее.
— Семь футов тебе под килем!
Дядя Дик крякнул:
— Ты дурак, Рэд! Неужели тебе не понятно, почему я уезжаю? Потому что рекламаций становится все меньше и меньше. А скоро и вовсе не будет!
— Знаю я твои рекламации, — сказал папка. — Всю жизнь от них бегаю.
— Знаешь?! — удивился дядя Дик. — Откуда?
— Догадался.
— Давно?
— Нет. Года два назад. Когда Гута рассказала мне, как ты к ней захаживал и чем с нею занимался. Это мне глаза и открыло. Оставшись наедине с такой бабой, как моя Гута, ни один бы нормальный мужик не удержался.
Дядя Дик фыркнул:
— А может, я тоже не удержался!
— Тогда бы она передо мной еще раньше раскололась.
— Ты так ей веришь?
— Да, я так ей верю.
— А она тебе?
Папка долго молчал, потом твердо сказал:
— Это не твое дело, Ричард.
— Да, — согласился дядя Дик, — это действительно не мое дело… Когда ты сидел, все это тоже было не мое дело.
— Когда я сидел, ты к Гуте прислонялся. Да только ничего тебе не отломилось.
— К твоей Гуте прислонишься! — Дядя Дик решил перевести все в шутку. — Где прислонишься, там и с копыт слетишь!
Но папка шутки не принял:
— Впрочем, что это я?.. Ты только вид делал, будто к Гуте прислоняешься. В общем, мы оба прекрасно знаем, зачем ты тогда к ним ходил. И помогал зачем… Мне другое интересно. Зачем ты сегодня сюда явился?
— А в то, что я явился дать тебе совет, ты не веришь?
— Нет, не верю, — сказал папка. — И ты бы, Дик, тоже не поверил.
Дядя Дик хохотнул:
— Твое счастье, черт конопатый, что теперь все это уже не имеет ни малейшего значения. А то попал бы ты в переплет! — Дядя Дик говорил самым прикольным тоном, но Мария вдруг поняла, что он вовсе не прикалывается.
— Если бы все это имело хоть малейшее значение, я бы тебе и слова не сказал о своих знаниях. — Папка повторил тон дяди Дика.
Помолчали. Потом дядя Дик сказал — уже без прикола:
— И тем не менее я пришел дать тебе совет. Хочешь — верь, хочешь — не верь, но возврата назад не будет. Нас же не зря отсюда убирают. Ученые считают, что Зона закуклилась надолго. Если не навсегда. Но жизнь-то продолжается. Так что делайте выводы, господин экс-сталкер!
Снова звякнул стакан, забулькало.
— Да пошел ты со своими советами! — сказал папка, хрюкнув. — Делайте выводы… Тебе легко говорить. Для тебя везде работа найдется. Не сталкеров будешь пасти, так торговцев наркотиками. А я? Мне скоро сорок, а что я умею, кроме как хабар по ночам на пузе таскать?.. Впрочем, это как раз не главное. Устал я, Дик, вот что главное. Гуталин когда-то говорил, что Зона сделана Богом для того, чтобы испытать людей. Может быть, может быть… Однако испытание Зоной мы прошли, кто лучше, кто хуже, но прошли. А вот как пройти испытание ее недоступностью?
— Блажишь ты, Рыжий! — сказал дядя Дик. — Неужели ты не понимаешь, что если не перестанешь корчить идиота, то угробишь и себя, и жену, и дочь?
Наступила тишина. В детской пахло сиреневым цветом, но не поэтому Мария затаила дыхание.
Потом папка сказал:
— Какой смысл? Я угробил жену и дочь много лет назад. Наверное, за это меня Бог и наказывает.
— Тьфу ты, Господи! — Дядя Дик длинно и грязно выругался. — В общем, я тебе все сказал, Рэд. Остальное зависит от тебя самого. Так что думай!
Папка молчал. Тогда дядя Дик встал, заглянул на кухню и, коротко попрощавшись с мамой, ушел.
А Мария вновь затаила дыхание.
6. Гута Шухарт, 26 лет, замужем, домохозяйка
Веточки корявые, туман-то этот и в самом деле пропал! Похоже, Барбриджу все-таки можно верить… По крайней мере, до сих пор дорога полностью соответствует его рассказу. Ага, а вот и они, голубушки, обещанные вагонетки, где сталкеры устраивают передышку. Наконец-то!.. А вон и разбитый вертолет, валяется метрах в двухстах от насыпи. Все верно, значит, тут надо сворачивать с насыпи. Справа должно быть болото. Веточки корявые, а туман-то там висит, как и висел, — ничего не видно.
Ладно, подруга, самое время перекусить. Съесть шоколадку да кофе попить. Сигарету выкурю, от самого кладбища не курила. Передохнуть не помешает. По трясине дальше шагать, не по шпалам да кладбищенским дорожкам. Хотя здесь и шпалы могут оказаться хуже трясины. Запросто… Как говорит Рэд — Зона есть Зона…
Ах, Рэд, мой Рэд!.. Что же ты натворил на этот раз? Неужели ты и в самом деле пошел за Золотым шаром? Зачем взял себе в напарники Артура Барбриджа, ничего не сказав безногому? И почему вы до сих пор не вернулись? Ведь раньше ты никогда не пропадал больше чем на трое суток. А сегодня уже шестые!.. Да только не верю я в твою смерть. Что бы там ни говорила эта старая безногая сволочь… Не верю я! И не поверю, пока сама не увижу тебя мертвым!.. Черт бы побрал его, этот проклятый туман! Не могу же я и дальше идти на ощупь.
Веточки корявые, куда он делся, этот чертов туман? Ведь только что покрывал все болото… А впрочем, к чему голову ломать? Пропал и пропал. И слава Иисусу!
Так, Барбридж сказал, чтобы я спускалась с железнодорожного пути очень осторожно. Иначе начнет осыпаться под ногами галька. А это вроде бы опасно. Хотя чем опасно, я так и не поняла. Ну и плевать!.. Черт, как вниз тянет! Рюкзак тяжеловат получился. Все-таки продукты в нем, на трое суток взяла. Как Барбридж посоветовал… Неужели мне и в самом деле придется провести здесь целых трое суток? Да я же с ума сойду!.. Впрочем, об этом сейчас лучше не думать…
Ого, ничего себе болото! А Барбридж говорил, что оно проходимо. Может, я заблудилась?.. Впрочем, нет, все верно. Вон он, тот холм. С обгорелым деревом на вершине. Этот холм старик велел обойти справа. Еще правее должен остаться другой холм. Вот он. У него вершина голая, а по всему склону каменная осыпь. Нет, болото — то самое, вон и темно-серое пятно виднеется, окруженное ржавой водой. Взглянем-ка на карту… Да, в этом самом месте Барбридж поставил крестик, сказал, тут лежит сталкер-неудачник. Вернее, то, что от того сталкера осталось… Может быть, это и есть Стефан Норман, Очкарик, сын старой Эллин. Шел в карьер с надеждой, наверняка желал изменить свою жизнь. Может, отца хотел вернуть из Европы… А теперь от него лишь темно-серое пятно осталось. Да крестик на карте. Кстати, Барбридж еще два крестика поставил: один на склоне левого холма, а другой — на каменной осыпи правого. Сказал, между этими крестиками и пролегает наиболее безопасная дорога. Ишь ты, наиболее безопасная!.. Не просто безопасная, а на-и-бо-ле-е. Запугивал, старый хрыч!.. Вот только никаких темно-серых пятен на склонах холмов я что-то не вижу. Достанем-ка бинокль… Нет, все равно ничего не видно. Должно быть, от этих двух сталкеров даже пятен не осталось. А вдруг и меня то же ждет?.. Пресвятая Дева, спаси и помилуй!
Э-э, голубушка, с такими мыслями соваться в болото — последнее дело. Что бы ни случилось, от тебя останется Мартышка. Но ради ее, Мартышки твоей, ты просто обязана дойти. И вернуться!
Так, выберем ориентир, вон тот камень под левым холмом, — и вперед, подруга!..
Хм, а идти-то и в самом деле не очень трудно. Надо только вовремя переставлять ноги, чтобы не засасывало сапог… Веточки корявые, а ведь жарко становится! Солнце-то уже вовсю раскоптилось… Но вперед, подруга. Вперед! Раз — шагнуть правой ногой, два — выдернуть левую, три — окунуть ее в трясину, четыре — выдернуть правую. И снова — раз, два, три, четыре… Раз, два, три четыре… Рэд тут прошел, и я пройду. В туалет-то за вагонетками ходили многие, но две кучки явно посвежее… Раз, два, три, четыре… Хорошо, что я крепкая женщина, не худосочье какое-нибудь… Раз, два, три, четыре… А Дина Барбридж хоть и крепка, а здесь бы не прошла. Не та порода! И лжет она, сука, со своими намеками! Не мог Рэд к ней бегать! Его одним телом да глазами не купишь… Интересно, а что он во мне нашел? Столько лет прошло, а ведь до сих пор не знаю… Раз, два, три, четыре… «Ласточка моя!..» А мама так и не простила, даже когда на смертном одре лежала — не простила. «Дура ты, Гута! Он же проходимец, не будет у вас семьи. Сегодня он на воле — завтра в тюрьме. Аборт нужно делать!..» Раз, два, три, четыре… А сама-то аборт не делала, родила меня. Как будто ей было легче… И если вспомнить, то, когда мы с Рэдом познакомились, во мне тоже были одно тело да глаза. Этим я его и купила. Не права оказалась мама, есть у нас семья! И насчет Дины я не верю. Не мог Рэд с нею, никак не мог… Раз, два, три, четыре…
А вот и камень. Веточки корявые, да я же мокрая как мышь. Надо отдохнуть немного. Холм закрыл солнце, очень кстати! Жаль только, ненадолго…
Достанем-ка карту, сориентируемся. Хорошо, школа у нас скаутская была! Вот и пригодилось… Барбридж сказал, отсюда надо идти параллельно железнодорожной насыпи, оставляя темно-серое пятно чуть в стороне… Э-э, а пятно-то уже и не пятно вовсе. Отсюда уже видно, что это груда тряпья. Пресвятая Дева, помилуй и спаси! Не карай меня, Зона, я ничем перед тобой не провинилась. Ведь ребенок, которого я родила, отчасти и твой. И папаню Рэдова ты оживила. Так что отчасти я даже родственница твоя… И прошу тебя: сделай так, чтобы Рэд мой был жив и чтобы я нашла его!..
А хорошо, что у нас такая соседка! Даже не спросила ничего. «Иди себе, голубушка, спокойно, я с дочкой посижу. Только будь осторожна!»
Я буду осторожна, Эллин. Ой как буду — мне иначе нельзя! Иначе тебе, Эллин, с чужой дочкой сидеть долго придется…
А вот и солнце из-за холма выглянуло. Опять палит. Ну да ничего, с солнцем веселее. Было бы намного хуже, если бы пошел дождь. И так воды кругом хватает…
Веточки корявые, а где она, вода-то?! Лишь кочки да сухая трава между ними… Неужели Барбридж забыл, как выглядит это место?! Нет, вряд ли. Память у безногого еще та, позавидовать можно. Да и груда тряпья по-прежнему на своем месте.
Значит, двинемся дальше, подруга. Раз, два, три, четыре… Веточки корявые, зачем я считаю? Трясины-то нет…
Интересно, что это тут за ржавая палка, рядом с останками Очкарика? Посох, что ли? Ржавая — значит металлическая. Хорош посох!.. Главное, удобный. Комаров отгонять можно, хи-хи-хи…
О Пресвятая Дева, как же палит это солнце! Можно подумать, я антрекот на плите, хи-хи-хи…
Ой, мама! Да это же не солнце вовсе, не может солнце так палить!!!
Ну вот, началось!.. Дохихикалась, подруга!.. А ну-ка, быстро носом в траву! Что там говорил Барбридж? «При любых неожиданностях ложись животом на землю и не шевелись. Что бы ни происходило с тобой, не шевелись!..»
Животом-то на землю просто, а вот попробовал бы старый хрыч не шевелиться, когда так припекает!.. Лежать, подруга, лежать! Уж если мужчины здесь умудрились вытерпеть, то и ты потерпишь. Не такое терпела. Тебе ли, подруга, бояться мучений! Вот когда рожала Мартышку, это было настоящее мучение. Хоть и не чета той, другой боли… когда Мясник показал тебе, кого ты родила. Это было не просто больно, это было… А как завизжала тогда сестра! И всякий раз визжала, сука, если надо было везти ребенка на кормление. Орала, что этого ублюдка она в руки не возьмет. Даже под страхом смерти… Спасибо Мяснику, сам привозил, осторожно передавал в твои руки крохотное, заросшее золотистой шерсткой существо. И завороженно смотрел, как оно касается кривящимся ротиком маминой груди. У Мясника был, конечно, собственный интерес, наука его поганая, но все равно спасибо ему!.. Он делал свое дело и не считал Мартышку дьявольским отродьем. Не то что вы, суки… Все вы одним миром мазаны! Вы, акушерки, ненавидящие безгрешного ребенка… И вы, боящиеся заразиться роженицы… И вы, врачи, забывшие свою клятву… А уж вы, соседки по старому дому!.. Всем вам назло я вытерплю. Не такое, бывало, от вас терпела!.. О Пресвятая Дева, до чего же мне больно!!!
У-у-уф, мамочка! Как легко стало, как прохладно… Неужели все-таки признала меня Зона, не стала карать? Покурить бы сейчас, но Барбридж говорил, тут задерживаться нельзя.
Вот она, лощинка между холмами, по которой проходит «наиболее безопасная» дорога. Самое сложное место на всем пути к карьеру… «Запашок там будет, девочка моя, так ты не того… не дрейфь». Сволочь безногая! Раз сказал «запашок», значит, вонь еще та окажется… Ладно, подруга, коли связалась со Стервятником, на запахи не жалуйся! Шагай себе и шагай!
Веточки корявые, да это же совсем не та лощина. То есть та, конечно. Но жижи, о которой говорил старик, что-то не видно. А вон и камень, мимо которого нужно пробираться, лишь нырнув с головой. Только сухо вокруг. И не пахнет. Ну совершенно ничем не пахнет!
Ладно, Зона она и есть Зона… Врал старик или не врал, а по сухому проползти всяко проще, чем тащиться по пояс в грязи. Однако на правый холм поглядывать будем.
Ага, все-таки не врал. Вот они, огоньки эти. Словно маленькие бледные цветочки. Ишь трепещут! Надо думать, дождя у неба просят, чтобы расти. Ого, растут! Да еще как растут!!! Что ж, пора и в землю носом…
Ну вот, тоже мне молния! Барбридж говорил, что чуть не ослеп и не оглох, когда в первый раз здесь очутился. Потом якобы научился — зажмуривался и рот открывал. Не похоже, чтобы тут зажмуриваться и рот открывать потребовалось. Хотя кожу на лице покалывает. Как будто освежающую маску наложили.
Как я тогда в косметический салон на Седьмой улице сходила! Незадолго перед возвращением Рэда из тюрьмы… И попытка переплатить не помогла. «Простите, миссис, сегодня мы масок не накладываем… Нет, и стрижку сделать нельзя… Маникюр? Маникюрша болеет… Да, она у нас всего одна…» Зато потом, когда там побывал Рэд, обслуживали по первому разряду. Хоть и воротили физиономии в сторону. Деньги-то, впрочем, брали, не брезговали…
Так, вот и еще одна «молния». Пшик, а не молния! Веточки корявые, а воздух-то посвежел. Словно после грозы. Такое ощущение, что его пить можно. И усталость куда-то ушла…
А где же третья молния? Цветочки-то на склоне холма совсем погасли. Все-таки напутал что-то, старый хрыч. Или наврал… Вот и камень обещанный. Пресвятая Дева, не врал старый хрыч. Вон какая верхушка у камня, вся обгорела! Видать, не одна молния в него саданула!
Да, не врал старый хрыч. Но если он не врал, то что же все это означает? Неужели Зона людей по-разному встречает? Барбриджа — молниями, и ныряй в грязь с головой. А меня — свежим воздухом, и дыши полной грудью… А почему бы и нет?! Зона есть Зона! И думать об этом мы не будем. Наплевать мне и на Барбриджа, и на грязь, в которую он нырял! Мне к Рэду пора…
Вот он впереди, автофургон. Тот самый, облупленный. В тени его Барбридж советовал передохнуть, да только теперь мне передых без надобности. Правда, слева, над грудой старых досок, должен обретаться какой-то «веселый призрак», но до него далеко. И слава Иисусу, потому что черт его знает, что он из себя представляет… Вот что из себя представляет «комариная плешь» справа, я поняла, но уж туда-то можно забраться только сослепу…
И вообще, все эти «плешивые призраки» теперь совершенно не главное. А главное то, что на самой дороге ловушек больше не будет. И как ни сомневался во мне Барбридж, я все-таки дошла. Конечно, и старику спасибо. Кабы не его наставления, кабы не его карта, я, наверное, тоже лежала бы сейчас где-нибудь кучкой серого тряпья. А потом меня бы тоже нанесли на карту, новым ориентиром. И кто-нибудь из сталкеров, проходя мимо, думал бы: «Вот, наверное, здесь и валяется та дура, которая сунулась в Зону без провожатого». Это если бы Барбридж рассказал обо мне другим… Иначе и вовсе безымянным крестиком бы стала.
А вообще-то старик, кажется, все-таки запугать меня хотел. Столько страхов нагнал, столько ловушек на карте нарисовал. А на деле пшик получился, не более… Разве что патруль возле кладбища ловушкой назвать! Так и те чего-то перепугались, удрали, как шальные. Даже кусты не обыскали, в которых машины спрятаны. Так, теперь ориентир — вон то красное пятно, оттуда идет дорога вниз, в карьер.
Нет, наверное, старик специально сочинял все эти свои ловушки, чтобы другие к Золотому шару ходить не повадились. Отпугивал сталкеров этими своими ловушками. «Комариные плеши» всякие, «веселые призраки», «зеленки»… Сказки для дураков… Впрочем, он прав. Если бы всякий мог прийти к Золотому шару за своим желанием, мир бы быстро к дьяволу отправился. Люди всякие бывают, и желания у них всякие. Кому-то для полного счастья жену брата в постель заполучить достаточно, а кому-то весь земной шар к ногам подавай…
Ладно, вперед, подруга!.. А с какой стати я так дрожу? И снова это ощущение. Как ночью на кладбище, когда патруль удрал. Будто смотрит кто-то с неба. Наверное, это глаза Зоны… Ты видишь, Зона, я твоя! Уж если ты позволила мне добраться до этого места, так позволь пройти и оставшиеся несколько сот ярдов. Прошу тебя! Ведь это такая малость…
А вдруг все-таки обманул, старый хрыч? С красным пятном все ясно, это действительно кабина экскаватора. А за ним полоса цвета молочного супа. По-видимому, дальний край карьера… Но есть ли там Золотой шар? И там ли Рэд?
Веточки корявые, опять жарит. Словно у плиты… А ведь мог обмануть, старый хрыч! Ведь как ни водит Рэд с ним знакомство, относится он к Барбриджу мерзко. Достаточно вспомнить тон, каким он со стариком разговаривает. Как будто простить ему чего-то не может… И Барбридж вполне был способен отправить меня в путешествие ни за чем. Представляет себе сейчас, как жена Рыжего подходит к краю карьера, смотрит вниз, а там никакого Золотого шара. Представляет себе и хихикает. Как хихикал все последнее время, разговаривая с Рэдом… Сволочь безногая!
Веточки корявые, чего это я так разъярилась?! Мне-то яриться пока рано. Вот Рэд бы разъярился. Уж он-то бы так разъярился, что не приведи Иисус! И потому невозможно, чтобы там, в карьере, не оказалось шара. Тогда Рэд, вернувшись с «рыбалки», переломал бы старику ноги. Хотя какие, к черту, у Барбриджа ноги!.. Значит, переломал бы руки. А может, и голову снес. И Барбридж это прекрасно знает.
Пресвятая Дева, добралась, вот он, карьер. Экскаватор, дорога уходит вниз. Все, как говорил старик. А вон и шар. Только почему-то он красный, а не золотой. И…
— Рэд!
Да обернись же ты, неужели не слышишь!
— Рэд!!!
Что ты смотришь на этот шар, сюда взгляни!
— Рэд! Это я! Я нашла тебя!
Нет, не слышит… Пресвятая Дева, да он и не шевелится вовсе. Совсем не шевелится. Словно статуя… Словно каменный… О Иисус, этот чертов шар превратил его в камень… Не может человек так стоять по своей воле. Мой Рэд никогда бы так не стоял… Будь ты проклята, Зона! Тогда превращай в камень и меня!
— Рэд, я иду к тебе!
Только не вляпаться в эти черные кляксы… Я иду к тебе, Рэд! Я не отдам тебя Зоне!.. Ма-а-а-ма-а-а!!!
7. Мартышка — Мария, до 9 лет
Когда именно ей начали сниться странные сказки, Мария не помнила. Во всяком случае, эта сны появились еще до того, как надолго уехал папа. Мамулечка говорила, что папу забрали в армию. Злые соседи утверждали, что папу упрятали в тюрягу. А добрые молчали. Мария верила мамулечке, потому что упрятывать папу в тюрягу было не за что. В тюрягу упрятывают плохих людей, а папа всегда был хороший. Дядя Дик про папу тоже ничего не говорил. Он просто приходил к ним в гости. Мария любила дядю Дика. Потому что он приносил ей шоколадки. И игрушки.
Когда соседские дети перестали с нею водиться, сны стали для Марии самой интересной игрой. Едва она засыпала, вокруг возникала сказочная страна. Она была совсем как настоящая. По утрам здесь были черные горы и зеленое небо. Над горами вставало большое красное солнце. Порой шел холодный дождь. И даже — когда Марии очень этого хотелось — снег среди лета. Были здесь настоящие дома (правда, не много) и настоящие дороги (правда, по ним никогда не ездили машины). Машины в сказке, правда, тоже имелись, но они попросту стояли на одних и тех же местах.
Вначале Мария не понимала, почему так происходит, но потом догадалась. Машины не ездили потому, что были мертвыми, а мертвыми они были потому, что в сказочной стране не жили люди. Это было, конечное плохо, зато, когда Мария попадала туда, на нее никто не ругался, не кричал, чтобы она убиралась в свою Зону и не заражала тут других детей. И никто ее не жалел.
А потом выяснилось, что люди в сказочной стране все-таки бывают. Правда, не настоящие. Но почти настоящие. Живые куклы, очень похожие на людей. Мария не понимали, что они делают, но все равно играть с ними было очень интересно.
Они появлялись в сказке неожиданно для Марии, забирались в пустые дома, лазили по холмам и ямам, рыскали в стороне от дорог. Они явно что-то искали, но что именно, до Марии не доходило. Впрочем, она о цели этих поисков и не задумывалась — она играла. Она проливала им на головы дождь и смеялась, когда они прятались под зелеными солдатскими плащами. Она бросала им под ноги болото и смотрела, как они, проваливаясь по пояс, увязают в булькающей коричневой жиже.
А потом она обнаружила, что, кроме живых кукол, в ее стране имеются и другие игрушки. Это были очень странные игрушки, совершенно не похожие на те, что покупал ей папа или приносил дядя Дик. Правда, потом Мария сообразила, что они и не должны быть похожими. Ведь это же были не обычные игрушки, а совершенно сказочные.
Тем интереснее было с ними играть.
Суть игр состояла в том, что сказочные игрушки днем и ночью охотились на живых кукол. Стрелялки палили в них огненными молниями. Пинг-понги перебрасывали кукол с одного места на другое. Индейцы расставляли на них хитрые невидимые капканы. Давилки превращали их в кучки мусора. Куклы изо всех сил пытались спастись, но чаще всего эти попытки оказывались неудачными.
В результате куклы ломались. Марии становилось их жалко, и она уходила из сказки.
Однако жалость жила в ней недолго. Соседские дети по-прежнему изгоняли Марию из своей компании. К тому же игры их стали ей неинтересными, и она с нетерпением ждала ночи.
Засыпая в новую сказку, она обнаруживала, что в таинственной стране появились и новые сказочные персонажи. Опять начиналась игра, и Мария, забыв о сломавшихся куколках, переставала обращать внимание на валявшиеся тут и там их останки. Интерес был сильнее жалости. Охота продолжалась. Тем не менее Мария переживала за очередную куклу, очень радовалась, если той удавалось ускользнуть от охотников, и плакала, если куколка все-таки портилась.
А потом Мария обнаружила, что может придумывать новые игрушки. Игра после этого стала еще интереснее. Придуманная Марией снежная королева превращала кукол в ледяные статуи. Прилипалки намертво приклеивали их к себе. Паутина Ананси ловила кукол в невидимые сети, и куклы ходили по кругу, пока у них не кончался завод. Угодившие в Алисино зазеркалье дрались со своими отражениями, пока не догадывались, что отражение не победишь. Избежавшим ловушек Мария показывала в награду телевизор, в котором шли сочиненные ею фильмы, не имеющие ничего общего со сказочной страной. Как ни странно, телевизор кукол заинтересовывал и надолго задерживал возле себя.
Впрочем, удивляться этому не приходилось, потому что куколки большим умом не отличались. Те, кому удалось удрать в предыдущие разы, двигались по прежнему маршруту, уверенные в своей безопасности. Тогда Мария брала и подсовывала им на пути какую-нибудь новую игрушку. Было жутко интересно смотреть, как куклы пугались, как они начинали крутить головами (если к этому моменту умудрялись уцелеть), как они искали новый путь к неведомой для Марии цели. У некоторых это получалось. Хоть и далеко не у всех…
Вот жаль только, что уснуть в сказку удавалось не так часто, как ей хотелось. Но потом она обнаружила: для этого нужно только одно — чтобы кто-нибудь ее обидел, — и проблем не стало.
А потом она стала слышать по ночам разговоры родителей. Впервые это произошло тогда, когда сны перестали быть игрой, а сказочная страна оказалась вовсе не тем, что представлялось Марии. Незадолго перед этим папа опять ушел на свою рыбалку, но на этот раз его не было много дней. И мамулечка отправилась его искать. То есть мамулечка-то ей о своих намерениях, конечно, не говорила. Но Мария и без нее догадалась. В самом деле, куда еще мамулечка могла исчезнуть на ночь, оставив ее со старухой Норман?..
Ночью Мария уснула в сказку. Это было странно — если папа уходил на рыбалку, уснуть в сказку ей никогда не удавалось. Но тогда случившееся удивило ее не очень. Подумаешь!.. Ну уснула и уснула.
Приснилось ей кладбище. Но не то кладбище, на каком были похоронены дедушка, который не приходил домой, и обе бабушки. На этом кладбище пряталась мамулечка. А на дороге рядом с кладбищем стояла военная машина, в которой сидели солдаты. Те самые, кого папа называл жабами. Он их не любил. Мамулечка их тоже не любила. А жабы, похоже, были там не просто так. Похоже, они искали мамулечку. Поэтому Мария тут же напустила на них страхолюдного ужастика. И тут же проснулась.
Старуха Норман храпела себе в комнате для гостей. За окном было темным-темно, и Мария снова уснула, но теперь по-обычному, не в сказку.
Утром мамулечка ее не разбудила. Значит, мамулечки по-прежнему не было дома. Мария проснулась сама, но с кровати не встала. Дед тоже где-то гулял, и поговорить было совершенно не с кем. Не со старухой же Норман!.. Она бы принялась жалеть «ребенка», а от жалости у Марии болела голова, это она уже давно заметила. Собственно, она и с родителями-то старалась не разговаривать, потому что они тоже жалели дочку и ей опять же становилось плохо. Вот только дед ее не жалел, и потому с ним было очень-преочень хорошо.
Но в то утро без мамулечки ей стало еще хуже, чем было с мамулечкой. И потому сразу захотелось туда, где мамулечка. Но туда было нельзя, и Мария снова уснула в сказку.
Уснула она в то самое вонючее место с разлившейся по траве водой, немного похожее на болото. Возможно, здесь папа и ловил свою рыбу. Правда, принесенная папой рыба была как рыба. От нее ничем не воняло.
Мария осмотрелась. Ни папы, ни рыбы тут и в помине не было. А вот мамулечка, оказывается, была. Она пробиралась по воде к двум невысоким горкам, возле которых всегда находилось много игрушек.
— Мамулечка! — закричала Мария. — Мамулечка, пожалуйста, подожди меня!
Но мамулечка не обернулась, сделав вид, будто не замечает Марию. Иногда папа так же вот делал вид, что не замечает ее, когда она тихонько подбиралась к нему в спальне. И тогда Мария сообразила, что мамулечка играет в Следопыта, которого недавно показывали по телевизору. Следопыт выслеживал людей и зверей. Кого выслеживала мамулечка, Мария не поняла, но, в свою очередь, решила выслеживать мамулечку. Играть так играть!..
Пробираться по воде было совсем нетрудно. Это была странная вода — в ней даже ноги не намокали. Мамулечка играла хорошо. Время от времени она посматривала на какую-то бумагу. Наверное, понарошку это была карта. Один раз мамулечка даже легла на траву, пережидая ветер пустыни. Несколько живых кукол на этом месте попросту превратились в пепел. Но мамулечка не была куклой, она была мамулечкой, и потому ветер пустыни никак ее тронуть не мог.
Игра и дальше складывалась интересно. Мария замирала на месте, когда замирала мамулечка. А когда та останавливалась, чтобы отдохнуть, понарошку отдыхала и Мария. Мамулечка вовремя пригнулась, когда в нее с горки пальнула стрелялка. Здесь, между двумя горками, обычно располагалась невкусная слякоть, в которую приходилось нырять живым куклам. Но Мария не захотела, чтобы мамулечка ныряла в невкусную слякоть. Ведь тогда бы она испортила свою прическу.
А потом Мария поняла, что мамулечка направляется в белую яму, туда, где висел надувной шарик. Все верно, вот она посидела у разбитой машины и проследовала точно между давилкой и танцулем. Дальше ее ждал клякситель, который жил в красном экскаваторе. Живых кукол эта игрушка превращала в черные кляксы. Или развешивала сосульками по краю белой ямы. Выглядело это очень красиво. Но мамулечка не была живой куклой, мамулечка была мамулечкой, и ее в кляксу не превратишь. Ведь деда Барбриджа клякситель не трогал, потому что тот был человеком. Сопровождавшие же деда Барбриджа живые куклы исправно превращались в кляксы и сосульки. На то они и были куклы…
Однако мамулечку клякситель почему-то тоже схватил. Такая игра Марии уже не понравилась, и она разозлилась на игрушку. Разозлилась не зря — испугавшийся клякситель тут же мамулечку отпустил. Но Марии отчего-то стало за нее страшно, и она побежала следом, в белую яму. Марию-то клякситель, конечно, тронуть не мог, но ей все равно почему-то было страшно. Как будто она попала в чью-то чужую, недобрую сказку… А потом оказалось, что в белой яме находится папа, и вообще сон вдруг сделался самой настоящей явью. А потом они втроем плакали, и папа почему-то просил у мамулечки и у Марии прощения. А потом они оказались возле своих автомобилей, и папа сказал: «Всегда бы вот так возвращаться! Один миг — и ты уже за пределами Зоны!» Тут обнаружилось, что Мария превратилась в простую девочку, и папа с мамулечкой очень обрадовались.
Позже, правда, выяснилось, что она превратилась вовсе не в простую девочку, и тогда они радоваться перестали. Но это было позже. А в тот день, вернувшись домой, они изрядно напугали старуху Норман. Она-то, конечно, воображала, что Мария спит в своей комнате.
День прошел как в сказке, потому что Марию никто не жалел. А ночью она впервые услыхала, о чем разговаривают в спальне родители. То есть сначала-то они играли в какую-то шумную игру, и многие их слова Мария попросту не понимала.
А потом мамулечка спросила:
— Рэд, ты можешь объяснить мне, что произошло?
Папа довольно рассмеялся:
— Да ничего особенного… Просто Золотой шар в самом деле исполняет сокровенные желания.
— Я не об этом… Как получилось, что у тебя там прошло несколько мгновений, а у нас почти неделя минула?
Папа снова рассмеялся:
— Ласточка моя, сталкеры не задают себе таких вопросов. Зона есть Зона…
Мамулечка помолчала, потом сказала:
— Наверное…
Они замолчали оба. Папа уже начал всхрапывать.
А потом мамулечка прижалась к нему и сказала:
— Ты знаешь, Рэд, что-то мне страшно. С нашими-то желаниями все понятно… А вот чего пожелала Мартышка?
Папа усмехнулся:
— Ты же слышала! Хотела, чтобы я не ходил на рыбалки, а ты не плакала по ночам. Придется мне теперь заняться прогулками. Зато ты не будешь плакать… Да не волнуйся ты! Еще неизвестно, выполняет ли шар желания ребенка.
А утром папа, прибежав откуда-то, сказал, что Зона никого в себя не пускает. С этого дня и началась, как говорил дядя Дик, вторая катастрофа города Хармонта.
Ночью мамулечка спросила папу:
— Рэд, ты ведь пошел в Зону не один?
— С чего ты взяла?!
— Барбридж сказал.
— Он тебе лапши на уши навешал, жаба!
— Он еще собирался с тобой разобраться… И Дина Барбридж говорила. Она тоже лапшу мне на уши вешала?
— Дина говорила? — Папа вдруг как-то странно вздохнул.
— Нет, Дина лапшу не вешала.
Некоторое время длилось молчание, а потом папа сказал:
— Дина и предложила мне взять Артура с собой. Просила, чтобы я никому о том не рассказывал, хотела сделать отцу маленький сюрприз…
— А что с ним случилось?
— А что случается со сталкерами, когда они совершают ошибку?
— То есть он умер?
Послышалось какое-то шуршание.
— Говорят, сталкеры в Зоне не умирают, — сказал папа. — Говорят, Зона просто забирает к себе их души. Как Господь в рай. — Папа издал короткий смешок. — Вот только моя душа ей почему-то не подходит…
— Скажи, Рэд, — перебила мамулечка, — ты не убивал Артура?
Папа произнес ругательное слово.
— Рэд, ты перестань собачиться! — громко сказала мамулечка. Как военный командир в кино. — Ты мне, пожалуйста, ответь!
— Ну хорошо, — сказал папа. — Я его не убивал. — Папа сделал ударение на слове «я». — Они убили его сами. Своими сказками, своим враньем, всей своей жизнью… Глупо как-то все получилось… Да ну его к дьяволу, этого Артура! Иди сюда!
— Глупо как-то все получилось, — повторила мамулечка. — Мне вдруг показалось, Рэд, что я тебя совсем-совсем не знаю.
Опять послышалось шуршание.
— Ты куда? — спросил папа.
— Прости, Рэд, — сказала мамулечка. — Я сегодня посплю в гостиной.
Скрипнула дверь, и папа произнес целых три ругательных слова…
8. Гута Шухарт, 26 лет, замужем, домохозяйка
Направляясь из школы домой, Гута не знала, радоваться ей или печалиться.
С одной стороны, все закончилось как нельзя лучше. Медицинская справка, взятая позавчера Рэдом у Мясника, в которой говорилось о том, что Мария Шухарт, восьми с половиной лет, долгое время тяжело болела и в связи с этим не могла своевременно пойти в школу, сделала свое дело.
Вчера Гута принесла этот документ в лучшую частную школу города. Владелица школы (она же — директриса) обнюхала справку со всех сторон, потом взглянула на Гуту и, казалось, обнюхала вслед за справкой и просительницу.
— Надеюсь, болезнь вашей дочери не грозит опасностью другим нашим детям?
— Нет, конечно, — сказала Гута. — Она не заразна. Иначе бы врач не дал такую справку.
— Да-да, — сказала директриса. — Однако мне хотелось бы поближе познакомиться с семьей девочки.
Такой оборот Гуту никак не устраивал. Поэтому она повернула беседу по-своему:
— Не сомневайтесь, мы вполне платежеспособны. — И достала наличные.
Владелица школы смутилась:
— Нет-нет, это преждевременно. Сначала нужно сдать вступительный экзамен.
— Только мы хотели бы попасть в класс, соответствующий ее возрасту. Мы готовы к экзамену.
— Что ж, воля ваша! — Директриса пожала плечами. — Приходите с девочкой завтра, к десяти.
К десяти они сегодня и пришли. Гуте присутствовать на экзамене не разрешили, но она не возмущалась, спокойно пожелала Мартышке удачи. А чего, спрашивается, волноваться? Не зря же она столько сил потратила в былые годы на занятия с дочерью. Самой ведь пришлось учить Мартышку — к такой ученице репетитора не пригласишь. Сколько слез было пролито!.. Но добилась своего — мохнатая лапка даже шариковую ручку держать научилась. А уж что касается сообразительности, тут Мартышка многим взрослым сто очков бы вперед дала. И уж если научилась писать мохнатая лапка, то у человеческой руки это и вовсе проблем не вызвало… Впрочем, неправда, конечно же Гута волновалась. Еще как волновалась! Но когда директриса пригласила маму после экзамена в свой кабинет, Гута и виду не показала, что измаялась. Выслушала приговор как должное.
— У вас очень умная девочка, — сказала директриса. — И очень хорошо подготовленная.
— Мы ведь нанимали репетиторов, — солгала Гута. — Верили, что рано или поздно она сможет ходить в школу.
— Да, мы берем ее. Собственно, я уже выдала ей все необходимое и отправила на урок. Приходите за девочкой к половине второго. Заодно проверим ее усидчивость.
Так что в школе все устроилось как нельзя лучше.
Но зато вчера не пришел домой Рэд. Правда, позвонил, предупредил. Сказал, что у него срочное дело, о котором нельзя говорить по телефону, и тут же повесил трубку.
Честно говоря, Гута ждала чего-нибудь подобного. Веточки корявые, слишком уж счастливыми для нее оказались последние десять дней, после того как Золотой шар выполнил желания семьи Шухартов. Ведь ничего в жизни не дается даром, за все надо платить. Рано или поздно должно было наступить похмелье. И Гута не удивилась, когда три дня назад заметила, что с Рэдом творится странное. Вернее, не странное, а то самое, периодически повторявшееся, ставшее за годы семейной жизни привычным до слез. Рэда снова звала Зона, и оставалось только ждать и надеяться, что на этот раз он справится с этим зовом. Может, ему помогут отвлечься новые дочкины заботы… За вчерашним обедом Гута всячески переводила разговор на предстоящий экзамен. Рэд слушал, вяло жевал и так же вяло отвечал. А после обеда собрался и ушел в «Боржч».
Как видно, дочкины заботы папе не помогли, потому что ужинать он не явился. А потом позвонил…
Подходя к своему дому, Гута встретилась со старой Эллин. Поделилась радостью, о тревогах говорить, разумеется, не стала — кому нужны твои тревоги?.. Эллин поздравила соседку, повосхищалась способностями ребенка (конечно, это было лицемерие, потому что после метаморфозы Эллин явно стала бояться Мартышки), а потом огорошила известием:
— Ночью умер Барбридж. Говорят, ни с того ни с сего в Зону полез. Труп патрульные нашли утром, возле кладбища. Жутко обгорел, лишь по костылям узнали…
— О мой Бог! — только и смогла вымолвить Гута.
Прошлым вечером, уже лежа в постели, Мартышка, без умолку щебетавшая о предстоящем назавтра экзамене, вдруг ни с того ни с сего спросила странным тоном:
— Дед Барбридж умрет?
— Умрет, — сказала Гута, поражаясь тому, какие проблемы волнуют ее дочь. — Все умрут. — И поспешила утешить ребенка:
— Только это случится очень не скоро.
Теперь Гута поняла, отчего ей показался странным тон Мартышки, когда та спросила, умрет ли Барбридж. Дочь не спрашивала — она утверждала.
— Твой-то не рвется туда? — Эллин внимательно приглядывалась к соседке.
— Нет, — солгала Гута.
И тут ей пришло в голову такое, что у нее кончики пальцев на руках похолодели.
— Говорят, так уже несколько сталкеров погибли, — сказала Эллин. — Только подойдут к границе Зоны, пшик, и как не бывало. Словно мотыльки летят на огонь свечи.
— О мой Бог! — повторила Гута. Ей стало не до разговора. — Извините меня. Эллин, я спешу.
На том и расстались.
К счастью, Рэд был уже дома, и Гута тут же забыла о всех своих страхах. Рассказала, как прошел экзамен. Рэд вроде бы слушал с интересом, даже задавал вопросы, но Гута чувствовала, что в мыслях он далеко-далеко. Может быть, поэтому она и не стала спрашивать его, где он провел ночь.
В положенное время они рука об руку сходили в школу за дочкой, побеседовали с директрисой и внимательно выслушали Мартышкин «отчет» об уроках. Потом обедали, готовили уроки, занимались домашними делами. Обстановка в семье выглядела самой что ни на есть умиротворяющей, но в самой глубине Гутиной души ощущалось какое-то напряжение, словно неведомые руки натягивали гитарную струну…
И в конце концов Гута не выдержала. Вечером, укладывая дочь в постель, она спросила:
— Откуда ты знала, что сегодня умрет дед Барбридж?
— Он мне не снился, — сказала Мартышка, словно оправдываясь. И было совершенно непонятно, ответ ли это на мамин вопрос или отвлеченная фраза.
Когда возбужденная Мартышка наконец заснула, Гута отправилась в спальню. Расчесывая на ночь волосы, сказала мужу:
— Рэд, это не твоих рук дело?
— Ты о чем?
— Ты хорошо понимаешь о чем!.. О смерти этого несчастного старика.
— Этот несчастный старик отправил тебя в Зону на верную гибель, — сказал Рэд.
Гута услышала, как скрипнули его зубы.
— Веточки корявые, но ведь я осталась жива!
— Да, — согласился Рэд. — Вопреки его замыслу!
Гута перестала расчесывать волосы:
— Почему ты так думаешь?
— Я не думаю, я знаю. Еще никто из сталкеров не проходил мясорубку в одиночку. В том числе и Стервятник. Ты первая, и я не знаю, каким образом это тебе удалось.
— Вот-вот! И тогда, в Зоне, ты тоже удивился тому, что я явилась в карьер одна. В тот раз я твоего удивления не поняла. Теперь понимаю… Ты взял с собой Артура для этой своей мясорубки! — Гута и ждала, и страшилась ответа.
— Это не моя мясорубка, это мясорубка Барбриджа, — сказал Рэд. — Ты должна верить мужу. — В голосе его прозвучала некая толика облегчения. Словно он долго бродил по ночному, переполненному жуткими чудовищами лесу и вдруг выбрался на залитую лунным светом поляну, где уже не нашлось места кошмарным порождениям фантазии и мрака.
— Я тебе верю… — Гута не выдержала и заплакала.
— Ох, да не терзай же ты мне душу! — взмолился Рэд.
Гута прикусила нижнюю губу, и в конце концов ей удалось справиться со слабостью.
— Ты убил его, — сказала она, всхлипнув в последний раз. — Я знаю. И сына его ты тоже убил. Тебя поймают, Рэд. У Дины Барбридж теперь очень много денег, она приложит все усилия, чтобы убийцу поймали. И на этот раз тебя отправят на электрический стул. Или в газовую камеру.
Рэд выругался так, как не ругался при ней никогда.
— Никуда меня не отправят! Ты плохо знаешь Дину. У Дины теперь действительно много денег. — Рэд усмехнулся. — Ей было ради чего рисковать.
— Зато ты Дину, похоже, хорошо… — Гута замолчала, не договорив. До нее вдруг дошло, что связывало мужа и дочку Барбриджа на самом деле. — Боже всемогущий! — воскликнула она. — Бо-же все-мо-гущий!!!
— Да-да, — сказал Рэд. — Все совсем не так, как ты себе представляла.
— О Рэд… — Гута снова заплакала.
Еще утром она поклялась, что сегодня Рэда к себе не подпустит, но теперь все изменилось. Потому что желание отомстить она очень хорошо понимала, потому что сама не раз испытывала подобное чувство.
А когда все закончилось, Рэд сказал:
— Неужели ты подумала, что я способен променять тебя на эту смазливую куклу?!
Она без слов потерлась носом о его щеку. Но тут же мысли ее вернулись к случившемуся. А потом убежали в завтра. И тогда она сказала:
— Если капитан Квотерблад спросит меня, где ты был вчера ночью, я не смогу соврать.
— А раньше могла, — со вздохом заметил Рэд.
— Раньше была совсем другая жизнь. Раньше я сидела в окопе и отстреливалась от всего мира. В последние дни мне показалось, что я наконец из окопа вылезла.
— Как хочешь, — сказал Рэд. — Только имей ввиду… Я не жалею о сделанном. Ни капли.
И было непонятно, что именно он имел в виду.
Полиция явилась в дом назавтра. Рада не было: он ушел на биржу труда. Гута только-только отвела Мартышку в школу, выслушав по дороге массу восторженных вскриков.
Впрочем, капитан Квотерблад семью бывшего сталкера Шухарта на этот раз своим персональным вниманием не почтил, прислал какого-то плюгавого, весьма смахивающего на серого мышонка сержантика.
Мышонок не стал ходить вокруг да около, спросил напрямик:
— Миссис Шухарт, где ваш муж был прошлой ночью?
— Веточки корявые, а вам что за дело? — сказала Гута.
Мышонок и глазом не моргнул:
— У нас есть в отношении вашего мужа кое-какие подозрения. Потому я и задал вам такой, вопрос.
— Мой муж спал! — Гута тона не смягчила. — Сладко-пресладко! Под моим теплым боком!
— Я имею в виду не сегодняшнюю ночь, — напомнил мышонок.
— Если вы полагаете, что ночи у нас отличаются друг от друга, то ошибаетесь, — сказала Гута, поражаясь вновь вернувшейся к ней решимости. — Муж был дома. А что случилось?
— Умер старый Барбридж.
— Ах вот в чем дело! — Гута тщательно разыграла возмущение. — И вы, разумеется, решили, что его убил Рэд Шухарт по прозвищу Бешеный?!
— Не имеет никакого значения, что мы решили! — В голосе мышонка тоже зазвучали стальные нотки. — Я вас спрашиваю, где был ваш муж прошлой ночью!
Гута не сбавила тон:
— Вы меня простите, но причины убить Барбриджа имелись у доброй половины города Хармонта! И добрая половина города Хармонта не слишком расстроится, узнав, что эта мразь наконец отдала Богу душу… Что же касается моего мужа, то он всю прошлую ночь трахался. Естественно, в своей собственной постели со своей собственной женой.
9. Мария Шухарт, 15 лет, абитуриентка
Едва ушел дядя Дик, приперлась старуха Норман.
Папка, ясен перец, на звонок не откликнулся, продолжал себе торчать в гостиной. К соседке вышла мать, пригласила на кухню.
День открытых дверей какой-то, подумала Мария, но ПРИСЛУШАЛАСЬ: частенько разговоры мамы со старухой Норман были достаточно прикольными. Однако на сей раз беседа поначалу как бы ничего особенного из себя не представляла. Принялись пережевывать кухонные рецепты, нестираное белье и прочую лажу. Мария вернулась к учебникам. Однако полностью разговор не погасила, цеплялась краешком внимания. И потому услышала вопрос соседки:
— Скажи мне, Гута, старик ваш требует за собой какого-нибудь ухода?
Мать удивилась такому вопросу, но ответила честно:
— Нет, Эллин. Он же не ест, не пьет и в туалет не ходит. Я, конечно, делаю для него кое-что, кровать, скажем, разбираю на ночь. А утром застилаю снова, несмятую… В общем, скорее это даже не для него, а для себя… Чтобы по-человечески было, понимаете?
— Понимаю, — сказала старуха Норман. — А вот у меня Стефи изменился… Словно хочет чего-то…
— Не может быть, — сказала мать. — Мумики никогда ничего не хотят, потому что…
— Я тоже раньше так считала, — оборвала ее старуха Норман. — Но вот в последнее время… — Она помедлила. — Когда я ухожу из дома, там что-то происходит. Передвигаются стулья, пачкается посуда, разбрасывается спальное белье. Приду, уберу, наведу порядок. А потом опять все повторяется. Причем пока я с ним, тишь и гладь. Стоит же выйти, все сначала. Как в детстве, бывало, когда он был ребенком…
Мария улыбнулась. Наконец-то старуха Норман заметила, что и в ее доме что-то творится…
— Веточки корявые, не может быть! — повторила мать. — Они же еле движутся. Папаня пока руку поднимет, четверть часа пройдет.
— Стало быть, по-вашему, я сошла с ума? — В голосе старухи Норман послышалось нескрываемое раздражение.
— Да нет, конечно, — отозвалась мать. — То есть я хочу сказать… Ну я просто не знаю. У нас ничего такого никогда не случалось.
Так уж и не случалось, подумала Мария. Очень даже случалось. И не такое еще!
— Вот я и думаю, — продолжала старуха Норман, — что Стефан делает все это для того, чтобы за повседневными заботами я забывала о его смерти. Такой чуткий мальчик…
Марии очень хотелось посмотреть сейчас на мать. Наверное, та в изрядно обалделом виде. И не удивительно! Судя по всему, у старухи Норман после того, как к ней тоже явился мумик, совсем башня рухнулась.
— Мария! Маменька у вас?
В отличие от деда Шухарта, Стефан Норман всегда начинал разговор первым.
— Да, у нас.
— Языком молотит, как всегда?
— Беседует с мамой, — дипломатично ответила Мария. Тебя, тормоз, мне еще не хватало, подумала она.
— О чем?
Мария пересказала содержание разговора матери со старухой Норман.
— Так-так, — сказал Стефан. — Старая стерва сделала выводы из происходящего с точностью до наоборот… Послушай, Мария, у меня к тебе есть просьба. Объясни ей суть. О том, что в нашем доме бардачишь ты, можешь не рассказывать. Пусть виновником буду один я. Все равно ведь ты делаешь все это по моей просьбе.
Мария подумала и ответила:
— Я не могу объяснить ей суть. Такая новость будет для нее слишком крутой.
— Тогда грохни старуху. — Слова сыпались, как песок в песочных часах, — равнодушно и размеренно. — Ведь ты можешь и это.
Да, подумала Мария, это я могу и могу очень чулково. Но неужели мама родила меня только для того, чтобы я помогала давно умершим и убивала живых!
— Прикончи ее сам.
— Но ты же знаешь, какое у меня тело. Пока я воткну в нее перо, она тысячу раз проснется и когти рванет.
— А может, после твоей попытки ничего больше и не потребуется. Она или просто испугается, или сшурупит, в чем прикол. И в том и в другом случае она тебя отпустит.
— Как бы не так!.. Она и раньше-то не шибко шурупила, а уж теперь от радости и вовсе что-либо соображать перестала. Впрочем, главное совсем не в этом. Как я ей в глаза посмотрю, когда она умрет?! Пусть я и не люблю мать, но убивать собственными руками не стану.
— Я убивать твою мать тоже не стану, — сказала Мария.
— Как же ей объяснить, что мне мое возвращение домой не нравится?
— Уйди на подзарядку и больше не появляйся.
— Если бы… — Голос Стефана стал печальным. — Мы же над собой не властны. Пока она этого желает, я снова и снова буду к ней возвращаться. Окажись я стариком, как твой дед, мне бы, может, и улыбалось, что я кому-то нужен. Даже в таком виде… — В голос вернулось ожесточение. — Но меня она и при жизни своими заботами достала!
— Тогда напиши ей письмо, — сказала Мария. — И отвали от меня! Я не стану грохать твою мать. И разбрасывать вещи у вас в доме больше не буду. Потому что это совсем не детские шалости, как кажется твоей матери.
— Погоди, Мария… — Стефан хотел продолжить уговоры, но она изгнала его из своего сознания.
А внизу две озабоченные своими детьми женщины уже прощались.
— Пойду я, — сказала старуха Норман. — Посмотрю, что он там за это время натворил. Знаешь, Гута, оказывается, еще есть для чего жить!
Мать закрыла за нею дверь. В доме вновь наступила тишина. Мария перевела дух и вернулась к учебникам. Тишина длилась минут пять, а потом раздался привычный командирский голос:
— Веточки корявые, куда это ты собрался? А ну-ка ложись!
— Мне надо, — сказал папа.
— Уж больно часто ты к ней бегать стал!.. Теперь-то я понимаю, почему она так желала, чтобы я отправилась в Зону.
— Ничего ты не понимаешь. И не поймешь никогда. Пусти!
— Не пущу!
— Пусти! Не к ней я.
— Тогда тем более не пущу.
— Пусти меня, сука! — взревел папа.
Послышался шум — похоже, что-то упало.
Хлопнула дверь. Потом загудел привод гаражных ворот, и заурчал двигатель старого «лендровера».
И тут мать закричала внизу заячьим голосом:
— Мари-и-и-я-а-а!
Мария выскочила из комнаты, ссыпалась вниз по лестнице.
Мать полулежала в прихожей, опираясь правой рукой об пол, а левой держась за грудь. Платье на груди было разорвано.
— Останови его, Мария! Останови отца, ради Бога! Ведь ты же можешь это сделать! Я знаю!
Когда тебе нужно, ты все знаешь, подумала Мария. Но я не властна над людьми. Потому что способность остановить человека — как и способность убить его — вовсе не равнозначна власти над ним. Гораздо важнее умение побудить его к действию. Или к мыслям.
— Могу. — Она принялась поднимать мать с пола. — Но разве это то, что отцу сейчас нужно?
— Да он же в Зону поехал! В Зону!!! Понимаешь ты это?
— Понимаю. Вставай. Смотри, синяк какой.
У Гуты задрожали губы, затряслись руки.
— Да будьте же вы прокляты, выродки! — сказала она. — Боже! За что меня судьба наградила таким мужем? За что дала дочку, которая родного отца спасти не желает? За что? Чем я провинилась перед тобой, Господи Всемогущий? Неужели тем, что любила их? Неужели тем, что всегда прощала мужа и всегда ждала его? Неужели тем, что захотела увидеть свою дочь обычным человеком?
На этот раз мама жалела не ее, Марию, а саму себя. И это оказалось еще большим влетом. Потому что от той привычной жалости ехала крыша, а от этой прихватило ливер. И сердечная боль оказалась гораздо страшнее головной. Потому что раньше хотелось плакать, а теперь захотелось умереть.
Мать жалела себя, а ее, Марию, ненавидела. Эта ненависть все и решила. В Марию неудержимо хлынули силы.
Сон пришел мгновенно.
Она стояла в «белой яме», перед тем самым «надувным шариком», который так и не сумел сделать из Мартышки Марию. Да, он как бы наградил Мартышку клевой мордашкой, острым умом и крутой фигурой. Однако вот выясняется, что для того, чтобы стать Марией, клевой мордашки, острого ума и крутой фигуры мало. Нужно, чтобы в тебе было еще кое-что. И чтобы много чего не было. К примеру, хотя бы умения разговаривать с ожившими покойниками. И дара слышать людей за звуконепроницаемыми стенами. И способности видеть их на расстоянии.
А Мария, оказывается, видела. Вон он, папка, мчится на «лендровере», сжав побелевшими пальцами руль. В глазах его нет страха смерти. Там только восторг от того, что он снова идет на «рыбалку». И томное ожидание, как будто он спешит к своей любимой женщине. На мать он такими глазами никогда не смотрел. И на тетку Дину Барбридж наверняка не смотрел. Впрочем, на тетку Дину он никогда бы и не стал так смотреть. Тетка Дина была для него живой игрушкой. Как для нее, Марии, сталкеры в детских снах. Так что ничем она, Мария, от своего папки не отличается. Пусть он и не способен на те чудеса, на которые способна дочь. Зато он как бы умел делать мать счастливой. Пусть и на время. Только это было раньше. До того, как она, Мартышка, стала казаться всем Марией. Он умел. А она не сумеет. Всего через пять минут папка достигнет розовой прозрачной полусферы. И тогда за мать станет отвечать она. И ляжет на ее сердце груз непосильной материной жалости к самой себе. Груз, которого не выдержит никакой ливер. Даже ливер Мартышки.
Конечно, она как бы может остановить папку. Но это никому ничего не даст. Он все равно уже не сможет сделать мать счастливой. Пока мать этого не понимает, хватается за осколки уходящего жизненного порядка. Но когда-нибудь она поймет. И все станет намного хуже. Тогда мать и папка уйдут из мира Марии и перейдут в мир остального Хармонта. В мир ненависти…
И от этого уже будет не отмазаться.
Силы в ней росли. Казалось, ненависть всего города хлынула в Марию, и Мария откликнулась.
Раньше она видела на расстоянии и слышала за стенами. Теперь она слышала не только за стенами. И не только в настоящем. Голоса не ее мира возвращались из прошлого, становились громче. Сперва шепот. Потом говор. Потом крик. Сначала они обнимали ее, как материнские руки. «Ну-ка ты, подстилка сталкеровская! Убирайся из нашего дома! И выблядка своего забирай, мохнорылого! Чтоб духу вашего здесь!..» — «Мама, почему они так говорят? Разве ты подстилка?» Потом они шлепали ее, как папкина ладонь по мягкому месту. «Что, Бешеный? В Зону-то теперь не попадешь… Кончилась твоя лафа! Повкалывай, как все!» — «Папа, почему они так говорят? Разве ты бешеный?» А потом они начали терзать ее, как лапы насильника. «Парни, смотрите, опять мумик!.. Эй, мумик вонючий! Убирайся в свою могилу! Город для живых!» — «Дед, почему они так говорят? Разве ты мертвый?» От голосов не было спасения. Как от жалости. «Слушай-ка, Шухарт! Вымя-то деревянное папаша тебе небось из Зоны припер?» — «Почему они так говорят?!.» Голоса были агрессивны, как люди. И так же беспощадны. Они всегда дышали злобой и ненавистью. «Да будьте же вы прокляты, выродки!..» А злоба и ненависть по-прежнему превращались в непреодолимую силу и решимость.
— Мне не нужны такие приколы, — сказала Мария своему «надувному шарику». — Ты слышишь меня? Сделай так, чтобы они исчезли!
Наверное, это было как бы настоящее сокровенное желание, потому что шар вдруг вспыхнул золотом. Уши Марии заложило от родившегося где-то тоскливого длинного скрипа, и она заткнула их большими пальцами. Но звук не исчез, наоборот, — он усиливался и усиливался, заглушая ненавистные голоса, разрывая барабанные перепонки. Пока Мария не вспомнила, что звук этот сопровождал ее в ночных играх с живыми куклами. И не поняла, что она сама и рождает этот невыносимый скрип. Это возвращались в Зону мысли и желания Мартышки, ненужные людям, мешающие папке, убивающие мать. Последнее, что Мария успела увидеть, была гаснущая розовая полусфера над головой. Она гасла так стремительно, что ее не стало через пару мгновений.
Еще через мгновение Мария почувствовала, что мир за пределами сказочной страны начал изменяться.
А еще через мгновение не стало и самой Марии.
Эпилог. Рэдрик Шухарт, 23 года, холост, без определенных занятий
Топаю это я себе по Седьмой улице. Солнышко светит, птички на деревьях заливаются. Одно слово — красота вокруг.
На душе тоже красота. А почему бы и нет?.. Дело сбацано, тачку я от границы пригнал без проблем, в гараж воткнул, гараж на замок, и гуляй, рейсовик. Сначала, правда, Битюгу по телефончику стукнул.
— Катер, — говорю, — на пристани. Движок наладил.
Что на нашем с ним языке означает — забирай, мол, товар.
— Рыбаки, — спрашивает, — мешали?
— Забрасывали удочки, — отвечаю, — да не в рыбное место. Один болт выловили, и тот ржавый.
Что в натуре означает: шмонали на въезде в город да пролетели мимо. Шмонай хоть сто лет — обезьянки-то в фальшивом бензобаке. Это ж наводку точную заиметь надо, чтобы найти. Наводчик-то, правда, у них, у жаб, был. Да весь вышел, когда Мослатого Исхака накрыли. С Мослатым Битюг полмиллиона монет потерял. Так что не пожалел на проверочку ни времени, ни средств. Ну и нашел, естественно, кто ссучился. Мослатому клевого адвоката наняли. А сучю — копыта в тазик с цементным раствором. Закрыли ему сопло, впихали ночью в тачку, для таких дел приспособленную, и ваших нет. Торчит теперь на дне под мостом, окушков тамошних кадрит да дурки им мастерит.
— Ладно, — говорит Битюг. — Через час подгреби на угол Седьмой и Центрального.
Подгреби так подгреби, мое дело жениховское. Тем более что там мне зелененькие чистоганят. За очень-очень успешно выполненный рейс, значит.
В натуре, работа мне досталась непыльная. Смотайся раз в неделю до дырявой нитки, тачку в местном кемпинге поставь и дыши кислородом, пока тамошние ребята товар в бензобак замыкают. Третий год уже так катаюсь… Кстати, для несекущих. «Дырявая нитка» — это на рыбьем языке, а по-жабьему «окно на границе» называется. Вот я от этого окна обезьянок до Хармонта и таскаю. Шухерно, ясное дело, но не шухернее, чем у городских гонцов. Тех-то в любой момент на затаривании могут повязать, с поличным, а меня только по наводке. И все равно срок поменьше, потому как не знаю я, зачем тачку сюда-сюда гоняю. То есть для жаб — не знаю…
В общем, заскочил я домой, фигуру под душем пополировал, переоделся, нацепил батон на шею и вперед. Топаю себе по Седьмой, сигаретку сосу. И тут сзади мне — гарк:
— Эй, Рыжий! Стой!
Ну я — что?.. Причин менжеваться нет. Попросил меня хороший человек об услуге — в лепешку разобьюсь, а сделаю. Торможу, оборачиваюсь.
Сержант Деккер из городского отдела по борьбе с наркотиками. Стоит себе, чувырло братское, кисляк кисляком, фарами меня насквозняк простреливает.
— Куда, — говорит, — летишь, Рыжий?
— Да так, — отвечаю, — шпацирен геен вдоль Бродвеен. Ферштеен или не ферштеен?
И тут этот дрын двухметровый смерил меня с ног до головы да и заявляет:
— А что если я тебя, умник, сейчас карманы вывернуть попрошу?
В откровенку, значит, играет, фараонище!.. Ну, смерил я его тоже.
— А разрешение у вас, — говорю, — сержант, имеется? К королевскому прокурору, — говорю, — сержант, вы обращались?
— У меня, — говорит, — свой прокурор. — И кулачище мне под нос, гирю пудовую. — Так что не пыли! Отойдем-ка в подворотню.
Ну тут я уши навострил. Вижу, всерьез, жаба, на меня нацеливается. М-да, лажовое дело выходит… Можно, конечно, и дальше катить масть, крутого из себя строить, но, чувствую, врежет он мне по бейцалам, да потом — якобы за сопротивление — еще и баранки на руки нацепит. А мне светиться в участке ни к чему… В общем, как при такой ситуевине рогом ни шевели, а придется назад отруливать.
Налепил я на портрет смирение и говорю:
— Да за что же это, сержант? Хотя ради Бога… Мне лично от родной полиции скрывать нечего — весь перед вами. Как на духу! — И изображаю полную и чистосердечную готовность вывернуть свои багажники.
Расчухал он, вижу, что ничего у меня нет. Для понта ручищами мне по бокам провел и говорит:
— Ладно, вали отсюда… Впрочем, постой!
Мне что — постой так постой.
— Ходят, — говорит, — по городу слухи, будто ты, Рыжий, с бандитами связался.
Тут я натурально изумился:
— Да как можно, сержант! Что это какая-то сука вам на меня такое настучала. Да что я, по уши деревянный, с бандитами связываться?
— А на какие доходы живешь? — спрашивает. — Вон на тебе костюмчик какой! И галстучек…
Ну я к его уху наладился да и говорю шепотком:
— Так ведь парень я видный, сержант. Коровы сорокалетние сами на шею вешаются. Для того и костюмчик, и галстучек. Доход хоть и не велик, а жить можно.
— Мужчину по заказу из себя строишь, значит?
Я только буркалы потупил. А он и говорит:
— На это долго не проживешь. Заявится и к тебе сороковник… Брался бы ты, Рыжий, за голову. Я ведь твоего отца еще знавал…
Вот про папаню это он зря. Трубил папаня на заводе своем, трубил, да так ничего и не натрубил. Ни себе, фраеру, ни нам с маманей.
— Ладно, — говорю, — сержант. Вас понял. Обещаю устроиться на работу. Не завтра, правда, но обещаю.
В общем, разошлись мы. И побежал я себе дальше.
Прибегаю. Суслик уже там, по сторонам зыркает. Фотокарточка у него — только в кино снимать, ни за что не подумаешь, что кент Битюгов. Завалились мы с ним за телефонную будку. В будке какой-то хмырь в кепочке стоит, слюни в трубку пускает, но раз Суслика этот факт не трогает, мне и вовсе очковаться нечего. Передал он мне зелененькие, — как всегда, молча. А потом и говорит:
— Битюг просил тебя пакет Эрнесту отнести.
Ну и шуточки!
— А бейцалы, — говорю, — не зачешутся?
— Не зачешутся, — говорит. — Разве только у тебя… Получай товар — и вперед!
Вижу — не шуточки. Тут я чуть с копыт не слетел.
— Да вы что! — шиплю ему. — Я ведь в рейсовики нанимался. Так мы не договаривались!
А эта шмакодявка смотрит на меня снизу вверх с этакой ухмылочкой и заявляет:
— Брось, Рыжий! Понимал, на что шел. И Битюга ты знаешь! Не любит он, когда ему в просьбах отказывают!
Вот тут мне тошно стало. Я-то что думал, деньжат по-легкому сшибить, а потом Гуту с собой забрать да и рвануть из города, только меня и видели.
— Побойтесь Бога, — говорю, — ребята. Что у вас, без меня гонцов не хватает?
— Не пыли, Рыжий, — отвечает Суслик. — Либо ты с нами до конца, либо… Сам понимаешь! — Зыркнул опять по сторонам, достал из кармана пакетик и протягивает мне.
Пакетик-то маленький оказался. Обезьянки в оболочке. Ну и сунул я его в левый багажник — сам не знаю зачем.
— Только ты смотри, Рыжий, — говорит тут Суслик, — надумаешь когти рвать, от Гуты твоей одни тряпочки красненькие останутся. А чтобы у тебя соблазна не возникало, мы к тебе и к ней дядек приставим. Все, теперь иди.
И пошел я. Успел только краем глаза заметить, что хмырь в кепочке из телефонной будки вылез, Суслику мигнул, отпустил меня на десяток метров и в кильватер пристроился. Словно настоящая жаба…
В общем, как до «Эльдорадо» добрел, и не помню: все перед моими глазами тряпочки Гутины стояли. Окровавленные… Только раз и подумал, что, если бы сейчас сержант Деккер мне встретился, шмонать взялся, тут бы я и накрылся. Вот только было мне это сейчас как-то по барабану.
Ладно, захожу в «Эльдорадо». В руки себя уже взял, ливер навожу. Эрнест за стойкой торчит, стаканы полотенцем вылизывает, на меня поглядывает. С ухмылочкой такой. И понял я тут, что они с Битюгом одной веревочкой повязаны. Как же я раньше-то этого не скумекал?.. Эрни ведь, сука, наверное, Битюга на меня и навел.
Ну да теперь судьбу клясть поздно. Осмотрелся я еще раз, вроде рыла все знакомые, лапами машут, приветствуют, значит. Да уж, попито у меня здесь…
— Эй, Рыжий! — орут из угла. — Греби к нам!
Гляжу, кореша мои: Гуталин сидит, скалится — зубы белые во всю хлеборезку. Ну и Очкарик с ним рядом, за стакан держится. По всему видно — дунули уже изрядно. Сделал я им ручкой, но пошел к стойке: пакетик с обезьянками бок жжет.
У стойки пусто, как глухой ночью на общественном толчке. Подхожу, закидываю зад на табуретку. Эрнест тут же капает мне в цветной бокал на два пальца.
— Принес товар? — говорит.
— А тебе невтерпеж? — отвечаю. — Принес я твой товар.
— Молодец, — говорит. — Не суетись, сиди пей, потом пакетик в стакан положишь.
— Это еще кто суетиться будет, — говорю.
У Эрнеста за спиной мордогляд во всю длину — рыла наши в нем отражаются. То есть мое рыло, а у Эрнеста — затылок прилизанный. И вижу я в мордогляде, как хмырь с кепочкой в «Эльдорадо» заходит. Дядька мой народившийся…
Да, попал ты, Рыжий, на крюк. Но плакаться-то теперь поздно. Допиваю, незаметно кладу пакетик. Эрнест специально мне цветной бокал дал, чтобы пакетик был чужим фарам не виден. Сижу дальше. Наконец Эрнест подваливает ко мне, забирает бокал, сует под стойку.
— Вот и молодец, — говорит. — Можешь гулять.
И ухмылочка у него такая, хоть в петлю лезь. Ну, в петлю не в петлю, а к девке залезть в самый раз. Вот только к Гуте я сейчас не пойду. Хоть и не был уже пять дней, но не в таком настроении к Гуте ходить… А вот к Сесили Чалмерз завалюсь. Есть у меня такая. Не шаблонь уличная, нет. Изенбровая бикса. Но телка крутая. Как говорят, девочка девяносто шестой пробы. Буфера — только что платье не рвут, сами в руки просятся. И задний мост в аккурат под мои запросы скроен. А главное, чистая, точно знаю. И для меня безотказная. Придешь, привет-привет, слово за слово — и заправляй эклер в лохматый сейф.
— Еще плеснуть? — спрашивает Эрнест.
— Подружке своей плеснешь, — говорю. — Если даст… А мне лучше бутылку приготовь. И закусить что-нибудь.
— К Гуте своей пойдешь? — спрашивает Эрнест. — Правильно. Сделал дело — гуляй смело.
Так мне захотелось ему по рылу заехать — сил нет. Но придержал лапы.
— Притухни, — говорю. — Не твое, — говорю, — собачье дело, куда я там пойду.
В общем, выставил он мне бутылку, закусон собрал в свой фирменный пакет. Кинул я на стойку зелененькую и отвалил, корешам лишь ручкой сделал. Ничего, они ребята понятливые.
Выхожу я на улицу, дядька в кепке — следом. И опять тошно мне стало, хоть ревмя реви. Побрел я к дому Сесили.
И тут гляжу — Гута мне навстречу идет. Идет она, девочка моя, каблучками цок-цок, фигуристая вся, такая, что у меня дойки Сесилины сразу же из памяти вон. И понимаю я, что она не просто так идет, по Бродвею на шпацир вышла, что это она меня ищет.
— Привет, — говорю, — Гута. Далеко ли собралась?
Тут она как посмотрит на меня, на бутылку эту чертову, под мышкой зажатую, на пакет с закусоном, да и говорит:
— Здравствуй, Рэд. А я тебя ищу.
— Зачем? — говорю.
И вижу, что у нее за спиной, метрах в двадцати, хмырь стоит, вроде бы на витрину магазинную пялится, а сам в нашу сторону позыркивает.
— Слушай, Рэд, — говорит с вызовом Гута. — Если ты меня бросить решил, так бросай. Только и я на тебя плевала.
Вижу я, что-то не так. Никогда еще она со мной таким тоном не изъяснялась.
— А в чем, — говорю, — дело, Гута?
Она молчит и в землю смотрит.
Тогда я беру ее под руку и разворачиваюсь в сторону своего дома. Мой хмырь в кепке тоже тут, стоит, усиленно чтение газеты изображает.
— Пойдем-ка, — говорю, — Гута, ко мне. Выпьем, потом в дансинг сходим. Одним словом, проведем время. А то, гляжу, у тебя настроение плохое.
С Гутой я на рыбьем языке не базарю. Никаких «эклеров» или «лохматых сейфов» — не тот она парень.
Идем мы к моему дому. Я краем глаза вижу, как наши дядьки сзади нос к носу стоят, базарят о чем-то.
— Беременна я, Рэд, — говорит вдруг Гута.
У меня чуть бутылка из-под мышки не вывалилась. Хорошо не бухой — поймал.
Гута мое молчание по-своему поняла. Остановилась, смотрит на меня и заявляет:
— Так что, если ты бросить меня решил, бросай сегодня. Только знай! Я и без тебя обойдусь. Сама рожу, сама выращу. Так что можешь катиться дальше, вместе со своей бутылкой! С какой-нибудь шлюхой выпьешь, их у тебя много…
Смотрит она на меня, а у меня перед фарами тряпки окровавленные висят. И понимаю я тут, что вот когда меня судьба взяла в оборот по-настоящему.
Тогда Гута вырывает свою руку и не говорит уже, а шипит:
— Убирайся от меня! Правду мать говорит, не нужен мне такой кобель… Убирайся, и чтоб я тебя больше не видела!
И вдруг понимаю я, что не тряпки окровавленные меня с нею повязали.
— Да подожди ты, Гута, собачиться, — говорю. — Ласточка моя, разве ж я от тебя отказываюсь?
Она мне в лицо смотрит — слезы на глазах. А на меня нервный смех накатывает, и я начинаю хохотать, да так, что дядьки наши переглядываются, и один из них крутит пальцем у виска.
— От ребенка я ведь тоже не отказываюсь, — говорю сквозь смех. — Чего ж ты гонишь-то меня?
Тут она наконец расцветает. И становится настолько хороша, что у меня сердце к бейцалам опускается.
Что же дальше, Рэд? — говорю я себе. — Что же дальше?
Вячеслав Рыбаков
Предисловие автора
К добру ли, к худу — диалектически мысля, надлежало бы, конечно, сказать: и к добру, и к худу, а к чему в большей степени, мне не узнать до Страшного Суда, — но прочитанные в раннем детстве книги ранних Стругацких воочию показали мне мир, в котором, по-моему, только и может полноценно жить человек. Вероятно, некая неосознаваемая предрасположенность существовала и прежде, но именно с того рокового момента реальный мир стал мне чужбиной. Подозреваю, что и сами Стругацкие в молодости тоже ощущали нечто подобное; в предисловии ко второму изданию «Полдня» они проговорились об этом практически впрямую.
Да вот беда-то: испокон веку для российских прозревателей грядущего мир желаемый, вожделенный, должный отличался от мира реального принципиально. В каких-нибудь заштатных Североамериканских Штатах все просто: банкоматов побольше, автомобилей поэкономичнее, преступников поменьше — и готово светлое будущее. Желательные трансформации носят лишь количественный характер. Не то у нас. Если описываемый мир не отличается от реального качественно — это и не будущее вовсе, а паршивая какая-нибудь фантастика ближнего прицела. Вот когда социальная организация — по возможности, в мировом масштабе — совершенно иная, идеальная, вот когда человек мановением невесть чего полностью лишен комплексов, агрессивности, лености, равнодушия… вот тогда, пожалуй, это — мир грядый.
Но тот, кто способен хоть сколько-нибудь честно и последовательно мыслить, раньше или позже обязательно упрется в вопрос: а что же это за барьер такой лежит между настоящим и будущим? Между миром реальным и миром желанным?
Ссылки на общественный строй очень быстро стали не более чем мертвыми звуками ритуального колокола или гонга, которые во всех религиях сопровождают любую молитву. Действительно, строй давно уж был сменен на более прогрессивный, но в 60-х и, тем более, в 70-х, вопреки этому очевидному факту, светлое будущее с каждым прошедшим годом явно делалось не ближе, а дальше; реальный мир полз к XXI веку, а ситуация в стране сползала куда-то в XIX… и теперь, к слову сказать, когда строй снова сменился на снова более прогрессивный, уже совсем на пороге XXI века страна ухнула — вместо торжества гуманизма и полетов к звездам — вообще куда-то век в XIV, к феодальной раздробленности, бесконечным усобицам, бесправию и беззащитности смердов, выклянчиванию ярлыков на княжение у той или иной орды…
Проблема барьера между реальным и желаемым мирами стала одной из основных тем в творчестве Стругацких. Очень быстро они переместили фокус рассмотрения с взаимодействия хорошего от природы человека с хорошим по устройству обществом на взаимодействие нехорошего от природы человека с обществом, которое из-за таких вот нехороших людей не в состоянии стать хорошим. Всей мощью своего таланта Стругацкие обрушились на мещанина.
А мещанин не поддался.
Поэтому фокус вновь постепенно стал смещаться — на нехорошее общество, которое культивирует нехороших людей, ибо только опираясь на них, оно способно существовать. Тоталитарная система паразитирует на мещанине, поэтому она воспроизводит мещанина. И тогда Майя Тойвовна закричала: «Долой тоталитарную систему! Даешь свободу личности!»
К сожалению, это была лишь очередная мечта о качественной смене общественного строя, не более продуктивная, чем увядшая десяток лет назад мечта «даешь коммунизм».
Но в лучших из вещей, посвященных порокам не социума, а человека, Стругацкие блестяще показали, почему так называемый мещанин столь непробиваем. Почему не соблазнить его ни светлым будущим, ни благодарностью человечества, ни радостями творчества, ни головокружительными тайнами Вселенной…
Инстинкт самосохранения сильнее всех этих соблазнов. Больше, чем творить, больше, чем открывать и разгадывать, больше, чем осчастливливать внуков, любой нормальный человек хочет просто продолжать жить, и с этим поделать ничего нельзя. А вековой опыт неопровержимо доказывает, что все перечисленные соблазны неизбежно чреваты тем, что любой судмедэксперт назвал бы травмами, несовместимыми с жизнью.
И вот тут уж только один шаг остается до рокового вопроса, со времен Иова не дающего покоя всякому мало-мальски порядочному человеку: почему праведный несчастен, а неправедный счастлив? В чем изначальный вывих нашего мира? С какой стати подонки сплошь и рядом живут себе припеваючи, а на честных, добрых, благородных, ранимых обрушиваются все кары земные и небесные?
Для безоговорочно верующего человека тут нет противоречия; за тысячи лет гениальные богословы сумели виртуозно отынтерпретировать все, что нехристям кажется несообразностями. Возлюбленных чад своих Господь испытывает всю жизнь в хвост и в гриву, чтобы с полной гарантией забронировать для них номера люкс в раю, — а прочим гадам предоставляет полную свободу грешить, разрушать, мучить праведников, чтобы впоследствии, ежели гады так и не раскаются, безоговорочно низвергнуть их в геенну. Но, ей-богу, даже при столь железобетонной умственной подпорке все ж таки и сердце лучше иметь каменное, а то, неровен час, хоть изредка, а возропщешь на заоблачного садюгу…
Можно, если религия не греет, давать научные, социологические объяснения; я и сам таковые давал. Например: человечеству необходим определенный процент этически ориентированных индивидуумов, и совокупная генетическая программа вида предусматривает обязательное их появление в каждом поколении, ибо они являются единственным естественным амортизатором, при встрясках предохраняющим общество от поголовного взаимоистребления; но сами эти индивидуумы, как и надлежит амортизатору, всегда, всегда находятся между молотом и наковальней, и никуда им от этого не деться, такова их биологическая функция.
Однако весь спектр подобных объяснений лежит либо в области потусторонней, неприемлемой для атеистов, и в частности для атеистов Стругацких, либо внутри мира людского, что для атеистов, конечно, приемлемо, но для фантастов тесновато. Да к тому же, если принять что-либо похожее на второй вариант ответа, остается совершенно непонятным, почему эти самые честные-добрые-благородные-ранимые, повстречавшись, безо всякого понуждения со стороны то и дело устраивают друг другу такую соковыжималку, какую ни один сталин-гитлер не сумел бы. При чем тут социальная амортизация?
А не наблюдаем ли мы здесь проявления некоей куда более общей, космической, космогонической закономерности? Какого-то всеобъемлющего, извечного закона природы?
Ведь в последние десятилетия мы все больше убеждаемся, что вид Хомо живет не сам по себе, не изолированно от солнечных бурь и дыхания Вселенной. Взаимодействие оказывается куда более тесным, многоплановым и непрерывным, нежели вульгарные спорадические столкновения типа «идущий человек раздавил муравья», «упавшая скала раздавила человека». Может быть, и социальные закономерности суть лишь локальные преломления интегральных законов мироздания?
Великолепная повесть Стругацких «За миллиард лет до конца света» есть, насколько мне известно, единственная в современной нашей литературе попытка на интеллектуальном уровне XX века поставить этот вопрос и ответить на него… Отвратительно звучит, как в школьном учебнике литературы. Скажем так: почувствовать его и почувствовать ответ на него.
Но как же скучно живому человеку, иметь в качестве неизбывного и единственного контрагента мертвое мироздание, пусть даже Гомеостатическое!
Совершенно справедливо и, честное слово, очень по-человечески заметил нобелевский лауреат Стивен Вайнберг:
«Чем более постижимой представляется Вселенная, тем более она кажется бессмысленной».
Правда, он тут же оговорил:
«Но… попытка понять Вселенную — одна из очень немногих вещей, которые чуть приподнимают человеческую жизнь над уровнем фарса и придают ей черты высокой трагедии».
Однако, боюсь, это тоже своего рода фарс: снисходительно поглядывать на тех, кто не поднимает глаз к беспощадному небу, и гордиться своим спокойным мужеством под падающей вниз скалой, смеяться, думать, рожать и нянчить детей под нею, со свистом летящей, — будучи уверенным, что лететь ей по крайней мере еще пятьдесят миллиардов лет!
Неровен час, высокая трагедия поединка со Вселенной — поединка невольного, нежеланного, но неизбежного и, конечно, без малейшего шанса на то, что в животном мире считается победой, — гораздо ближе…
Попробуем сделать еще шаг.
Я учился на пятом курсе, когда в руки мне попал машинописный текст тогда еще не опубликованного «Миллиарда». Поскольку никто не брал с меня слова никому его не показывать, я, естественно, не смог утерпеть — и три человека с нашего курса, которые, как я знал, любили фантастику не меньше меня, смогли его прочесть. Помню, Коля Анисимцев — кстати, японист, как и Владлен Глухов, только на полвека более юный, — возвращая рукопись, недоверчиво спросил: «Слушай, а это не ты сам написал?» Я только смущенно замахал руками — а то был голос судьбы.
Желание есть, бумага есть; есть жестокий опыт лет, с неотвратимой стремительностью танкового клина прогрохотавших по нам после опубликования «Миллиарда». Талант, увы, пожиже, чем у Стругацких, — но тут уж ничего не поделаешь, остается разве лишь восклицать вслед за Новом:
«На что дан свет человеку, которого путь закрыт? Дни мои бегут скорее челнока и кончаются без надежды. Не буду я удерживать уст моих; буду говорить в стеснении духа моего, буду жаловаться в горести души моей. Зачем Ты поставил меня противником Себе, так что я стал самому себе в тягость? Что Ты ищешь порока во мне и допытываешься греха во мне, хотя знаешь, что я не беззаконник и что некому избавить меня от руки Твоей? Если я виновен, горе мне! Если и прав, то не осмелюсь поднять головы моей. Я пресыщен унижением; взгляни на бедствие мое!»
И пришли к Иову, сидящему на пепле его, три владетельных друга его: Елифаз Феманитянин, Вилдад Савхеянин и Софар Наамитянин, и были с ним. В великой скорби молчали они семь дней и семь ночей, а потом каждый в меру собственного разумения вразумлял его…
3:23. На что дан свет человеку, которого путь закрыт?
7:6. Дни мои бегут скорее челнока и кончаются без надежды…
7:20. Зачем Ты поставил меня противником Себе, так что я стал самому себе в тягость?
17:6. …Поставил меня посмешищем для народа и притчею для него?
19:7. Вот, я кричу: «обида!», и никто не слушает; вопию, и нет суда.
21:7. Почему беззаконные живут, достигают старости, да и силами крепки?
16:21. О, если бы человек мог иметь состязание с Богом!
9:19. Если действовать силою, то Он могуществен; если судом, то кто сведет меня с Ним?
10:2. …Не обвиняй меня; объяви мне, за что Ты со мною борешься?
10:3. Хорошо ли для Тебя, что Ты угнетаешь, что презираешь дело рук Твоих, а на совет нечестивых посылаешь свет?
10:15. Если я виновен, горе мне! Если и прав, то не осмелюсь поднять головы моей. Я пресыщен унижением; взгляни на бедствие мое.
13:22. Тогда зови, и я буду отвечать, или буду говорить я, а Ты отвечай мне.
10:21. …Прежде нежели отойду — и уже не возвращусь…
Книга Иова10:24. …Долго ли Тебе держать нас в неведении? Если Ты Христос, скажи нам прямо.
Евангелие от ИоаннаКто же обогатился… вселением в него Христа… тот по опыту знает, какую получил радость, какое сокровище имеет в сердце своем, беседуя с Богом, как друг с другом.
Святой Симеон Новый БогословТрудно стать Богом
1
«…только посплетничать. Без печальной ностальгической усмешки и вспомнить нельзя было, как лет десять-пятнадцать назад в пароксизмах вечного интеллигентского мазохизма пересказывали друг другу выпады юмористов: дескать, советские ученые на работу ходят только чай пить и в курилках болтать. Действительно, над кем было в ту пору еще издеваться юмористам: над нижним звеном торговых работников да над научными сотрудниками. Уж эти-то сдачи не дадут.
Да какая там сдача! Сами же чувствовали, что продуктивность низковата, надо бы работать побольше, но только вот система душит. Смешно сказать: совесть мучила! Ах, сколько времени уходит на писание соцобязательств! Ах, каждый винтик, каждую призмочку-клизмочку просто на коленях вымаливать приходится! Ах, с этим не откровенничай; определенно я, конечно, ничего не знаю, но поговаривают, он постукивает. Ах, бездарно день прошел, треп да треп; ну, ничего, завтра наверстаю… Теперь совесть мучить перестала. Недели вываливались, месяцы вываливались, как медяки из прохудившегося кармана. Два часа до работы в переполненном, изредка ходящем, да два часа с работы, поэтому на работе — никак не больше пары часов, а то домой приедешь уже на ночь глядя. Покурили, чайку схлебнули, развеяли грусть-тоску, вот и день прошел.
Темы, в общем-то, не очень изменились; политика — обязательно („Ты за кого голосовал? Ты что, с ума сошел?!“); отвратительные перспективы жизни и работы — непременно, всегда с прихохатыванием, как и в застойные времена; глупость дирекции и ее неспособность справиться с ситуацией — разумеется, как обычно. Когда дадут денег и какую долю от теоретически положенной получки эта подачка составит; вот это было внове, это было веяние времени. Кого где убили или задавили, или ограбили, на худой конец; тут собеседники всегда начинали напоминать Малянову правдолюбцев из масс-медиа: кто пострашней историю оттараторил, тот и молодец, того и слушают, ахая и охая, и уж не вспоминается даже, что и менее страшные, и более страшные истории — как правило, правда. И еще — всплывало дурацкое воспоминание: запаршивленная, чадная, вся в тазах, скатерочках и бодро поющих невыключаемых репродукторах коммуналка на проспекте Карла Маркса города-героя Ленинграда, ее сумеречные, таинственно загроможденные коридоры и в коридорах они, коммунальные пацаны, до школы еще, кажется; так хочется хвастаться чем-нибудь, гордиться, быть впереди хоть в чем-то — и вот угораздило Кольку ляпнуть: „А у нас вчера клоп с палец вылез из кровати…“ Что тут началось! Все завелись: „А у нас во-от такой!“, „А у нас — во такенный!!!“ — и разводили, тщась потрясти друзей до глубины души, руки пошире, пошире, на сколько у кого плечишек хватало…
Кто с кем и как — это стало поменьше. Постарели. Темпераменту не доставало, чтобы реально с кем-то чем-то подавать поводы для сплетен, а из пальца высасывать не слишком получалось. Старались некоторые, женщины в основном, честно старались — но, хоть тресни, выходило неубедительно и потому неувлекательно. Наверное, весь институт дорого дал бы тем, кто что-нибудь этакое отколол бы да отмочил: развод ли какой громогласный, или пылкий адюльтер прямо на работе, под сенью старых спектроскопов; по гроб жизни были бы благодарны — но увы. А молодежь в институте не прирастала, молодежь талантливая нынче по ларькам расселась вся.
Да нет, не вся, конечно, умом Малянов это понимал, и на деле приходилось убеждаться иногда — но облегчения это не приносило. Как-то раз занесло его по служебной надобности в спецшколу при некоей Международной ассоциации содействия развитию профессиональных навыков. Неприметная с виду типовая школа сталинских лет постройки на канале Грибоедова. Пришел и через пять минут сладостно обалдел — будто вдруг домой вернулся. Интеллигентные, раскованные, компанейские учителя — просто-таки старшие товарищи, а не учителя. Детки — как из „Доживем до понедельника“ какого-нибудь, или из „Расписания на послезавтра“, или, скажем, из стругацковских „Гадких лебедей“ — гнусного слова „бакс“ и не слышно почти, только о духовном да об умном, все талантливые, все с чувством собственного достоинства, но без гонора… Сладкое обалдение длилось ровно до того момента, когда выяснилось, что в компьютерных классах даже для малышатиков нет русскоязычных версий программ; вот на английском или на иврите — пожалуйста. И сразу понятно стало, что этих чуть не со всего города-героя Санкт-Петербурга выцеженных одаренных ребят уже здесь заблаговременно и явно готовят к жизни и работе там. Ребятишки увлеченно рассуждали о жидких кристаллах, о преодолении светового барьера, о том, что корыстная любовь — это не любовь, и не понимали еще, что страна, в которой они родились, их продала, продала с пеленок и, в общем-то, за бесценок. Такие дети такой стране были на фиг не нужны — и она толкнула их первому попавшемуся оптовику в числе прочего природного сырья. Никогда ничего Малянов не имел ни против иврита в частности, ни, вообще, против предпочитающих уезжать туда; но жуткое предчувствие того, что лет через пять-десять здесь не останется вообще уже ни души, кроме отчаявшихся не юрких работяг с красными флагами и мордатых ларьковых мерсеедов и вольводавов — остальные либо вымрут, либо отвалят, накатило так, что несколько дней потом хотелось то ли плакать, то ли вешаться, то ли стрелять.
Больше всего, пожалуй, сплетничали о том, кто и как присосался к каким грантам и фондам. Тайны сии верхушка институтской администрации держала под семью замками, за семью печатями — но тем интенсивнее циркулировали версии и слухи. И, разумеется, здесь тоже действовало общее правило: кто погнуснее версию забабахает, тому и верят. Но ведь и впрямь: нередко за соседними столами сидели, как и многие годы до этого, люди одного и того же возраста, с одной и той же кандидатской степенью — но один теперь получал сто семьдесят тысяч в месяц, а другой — восемьсот. Получавшие восемьсот изображали дикую активность, бегали взад-вперед как ошпаренные, сами зачем-то выкладывали на свои столы и не убирали неделями, а иногда даже и не распечатывали, какие-то зарубежные письма себе; те, кто получал сто семьдесят, пили чай и общались.
Мозги зарастали шерстью.
Порой, если никто не видел, Малянов доставал из ящиков свои бумажки — уже не с гениальным чем-то, разумеется, просто с недоделанными плановыми каракулями, которые еще пяток лет назад казались скучной рутиной и вдруг нечувствительным образом обернулись пределом мечтаний; дописывал одну-две цифирки, но тут же спохватывался: уже пора было спешить домой, иначе, как пройдет час „пик“, автобусы-троллейбусы вообще, считай, ходить перестанут, до полуночи не доберешься — и, засовывая бумажки обратно, с тоской ощущал: никогда… уже никогда… Что — никогда? Он даже не пытался определить. Все — никогда.
Институт тонул и, как положено утопающему, бился, пускал пузыри. Ни с того ни с сего на парадных великокняжеских дверях, выходивших прямо на величавую невскую набережную, бывшую Английскую, бывшую Красного Флота, а теперь, наверное, опять Английскую, вызвездила, заслонив название института, вывеска „Сэлтон“ — фирма, которая, как сразу начали недоуменно острить опупевшие астрономы, пудрит мозги не просто, а очень просто. Впрочем, директор немедленно заявил на честно собранном через пару дней общем собрании, что только благодаря этой субаренде администрация сможет выплачивать сотрудникам зарплату, иначе — кранты; государственное финансирование составляет в этом году двадцать восемь процентов потребного и не покрывает даже тех сумм, которые институт должен вносить в городскую казну за аренду здания.
Какое-то время от „мерседесов“ и „вольв“ к дверям было не протолкнуться. По институту, всем своим видом резко отличаясь от растерянно веселых пожилых детей со степенями, деловито, но не суетливо, никогда не улыбаясь, заходили крутые и деловые, все — моложе тридцати. Таинственно возникали в коридорах, сразу ставших похожими на сумеречные и загадочные, как бразильская сельва, коридоры приснопамятной коммуналки, импортно упакованные ящики со всевозможной электроникой, оргтехникой, пес его еще знает с чем; время от времени пробегал слушок, что часть этих драгоценных для любого ученого вещей пойдет институту, но ящики, постояв неделю-две, так и исчезали нераспакованными. Назавтра на их месте возникали другие.
Потом этим другим стало не хватать места; они принялись возникать и в рабочих кабинетах, и в кабинете-музее великого Василия Струве, основателя Пулковской обсерватории, — безвозвратно вытесняя оттуда как хоть и старое, но все равно единственно наличное и потому до зарезу нужное оборудование, так и, например, знаменитый письменный стол красного дерева, необозримый, словно теннисный корт, со всем его антикварным письменным прибором. Считалось, что именно за этим столом работал великий до переезда в Пулково. Сей стол вкупе с прочим верные академическим традициям подвижники уберегли и в революцию, и в блокаду — но наконец и он попал под колеса прогресса. Скорее, конечно, не под, а на. Куда эти колеса его увезли — так и осталось невыясненным; ни одной мало-мальски достоверной сплетни Малянову услышать не довелось. Но, в конце концов, это была частность — по большому же счету почти сразу стало ясно, что институт превратился в перевалочную базу распределения чего-то интенсивнейшим образом раскрадываемого. Продолжалось это долго. Но как-то в ночь нераспакованные ящики в очередной раз полностью испарились, а на следующий день к вечеру полностью испарились „мерседесы“, роившиеся у подъезда. Субаренда исчерпала себя, осталась только быстро линявшая вывеска. Ни у кого руки не доходили ее сковырнуть…
Последний пузырь назывался „Борьба с кометно-астероидной опасностью“. Какой Сорос-Шморос кинул несколько десятков миллионов долларов на это безумие, какая мафия свои кровные — то бишь кровавые — профиты отмывала, народ разошелся во мнениях. Достоверно выяснить удалось только то, что в международной программе по разработке методик предсказания и предотвращения кометно-астероидных ужасов участвует не только Россия, так что засветили сытные загранкомандировки за счет приглашающих сторон… Опять же осталось невыясненным — хотя версиям не было числа, — кто и как сумел на эту халяву выйти да еще настолько удачно к ней присосаться. Возбужденно хохоча и жестикулируя так, что едва не слетали чашки со столов, научные работники принялись измышлять и даже слегка инсценировать, каким именно образом станет происходить отваживание астероидов, буде они и впрямь вздумают таранить Землю. „Зам по АХЧ в плаще со скорпионами вылезет на гору Синай и произнесет…“ — „Да не на Синай, на Сумеру!“ — „Точно! Прямо из Шамбалы как гаркнет: властью, данной мне обществами с весьма ограниченной ответственностью, повелеваю тебе, железо-никелевая гнусь, — изыди!“ — „А я могу рядышком с бубном плясать!“ — „Зачем с бубном? Спляши с Эвелиной Марковной, и немедленно! От нее звону больше, чем от любого бубна…“
Рано возбудились. Назавтра выяснилось, что в разработках в рамках программы участвует не весь институт. Очень далеко не весь. Наоборот, всего лишь семь человек (по некоторым данным — восемь). Зато уж эти семь-восемь могли считать себя обеспеченными людьми лет на пять. Остальным в последний раз сунули после трехмесячного перерыва месячную зарплату и вышибли в бессрочный неоплачиваемый…»
«…еще в ту пору, когда Иркина шутка „скоро получки будет хватать только на дорогу в институт и обратно“ звучала все-таки как шутка. Но буквально за пару лет приработок стал заработком, а заработок — воспоминанием. Конечно, прекрасное знание научно-технического английского — не гарантия того, что сможешь выдавать на-гора один художественный перевод за другим, и они поначалу просили подстрочники; но Боже ж ты мой, что это были за подстрочники! И, судя по книгам, заполонившим лотки, именно подобные сим подстрочникам тексты скороспелые издательства без колебаний отправляли в набор. Поэтому скоро семейное предприятие Маляновых перестало опасаться того, что „не дотянет“. Чрезвычайно редкими в наше время качествами — обязательностью и добросовестностью, а также готовностью работать чуть ли не задаром, по демпинговым ценам, — оно даже снискало некоторую известность в соответствующих кругах.
Долго приучались писать слово „Бог“ с большой буквы. Бога теперь поминали всуе все, кому не лень, причем в переводах куда чаще, чем в оригиналах — а Малянов никак не мог преодолеть своей октябрятской закваски: дескать, если „бог“, то еще куда ни шло, а уж ежели „Бог“ — то явное мракобесие. В конце концов Ирка его перевоспитала совершенно убойным, вполне октябрятским доводом, от которого у любого попа, наверное, власы бы дыбом встали, возопил бы поп: „Пиши, как хошь, но не святотатствуй!“ „В конце концов, — сказала Ирка, держа дымящуюся сигарету где-то повыше уха, — почему, скажем, Гога писать с прописной можно, а Бог — нельзя? Чем Гога лучше Бога? Ну зовут их так!“
В подстрочники теперь заглядывали, только если хотелось от души посмеяться. „Ну-ка, ну-ка, — вдруг говорила Ирка, отрываясь от иностранной странички, — а что нам тут знаток пишет?“ Она, похоже, женской пресловутой интуицией чуяла, где можно набрести на особенно забавное безобразие, — и, порывшись несколько секунд в очередной неряшливой машинописи, с выражением зачитывала что-нибудь вроде: „Меня охватил невольный полусмешок. Из-под леса ясно слышались индивидуальные голоса собак и кошкоподобный кашель преследователя. Двигаясь на еще большей скорости, мой ум скользил по поверхности событий“. С восторженным хохотом оба принимались воспроизводить все упомянутые звуки, при этом жестами изображая скользящий ум. Жесты иногда получались довольно неприличными, но, раз Бобка уже дрыхнет и не видит, они могли себе позволить почти по-стариковски поскабрезничать слегка; прошли, увы, прошли те времена, когда Ирка, чуть что, краснела до корней волос и прятала глаза.
Нахохотавшись всласть, вытерев проступившие в уголках глаз слезы, Ирка с неожиданно тяжелым вздохом страдальчески заключала: „Ох, ну и муть…“ — и закуривала — но через секунду не выдерживала: „А вот еще перл, смотри! Корабли пришельцев, крейсируя между везде и всюду…“ Дальше прочитать не удавалось, потому что оба начинали хохотать снова, и, давясь смехом и старательно грассируя, Малянов возглашал что-нибудь вроде: „Цар, а цар! Ты где? — Я здесь между тут!“, или какую-нибудь иную подходящую к случаю реплику из еврейских анекдотов, которые во времена оны, семь геологических эпох назад, вдруг полюбил рассказывать Вайнгартен — видимо, как они сообразили много позже, наперекор судьбе тщась быть не евреем, а просто советским парнем. Они все учились тогда на третьем курсе, только на разных факультетах, а Израиль воевал с арабами… И анекдоты-то действительно, как правило, были смешными, и рассказывал их Валька, как правило, мастерски — если только не был сильно пьян, пьяный он делался занудным; и, скорее всего, он ни на волос не кривил душой, а действительно был, как и многие еврейские мальчики той поры, стопроцентным советским парнем и как умел демонстрировал презрение к тому, что, вместе со всем советским народом, искренне считал плохим.
Он и в аэропорту, наклонившись к уху Малянова и жарко дыша многодневным перегаром, — прощался он с Россией так, что жутко делалось, казалось, человек умереть решил, — вполголоса отмочил что-то отчаянно антисемитское и великолепно смешное, но Малянов не запомнил, к сожалению, потому что чуть не плакал; отмочил, отхлебнул напоследок и, помахав волосатой лапой, вместе со Светкой и детьми убыл в Тель-Авив.
„А вот еще перл, слушай сюда! — восклицала Ирка, отсмеявшись и оббив о край пепельницы длинный мышиный хвост пепла с сигареты. И с выражением произносила: — Она волновалась, ждала, не верила… За обедом она наспех проглотила лишь несколько ложек!“ — „Поутру, после первой ночи любви, из сортира долго доносилось ритмичное позвякивание“, — уже от себя подхватывал Малянов. И они опять долго смеялись.
Потом организующее мужское начало брало верх. „Ладно, все, — говорил Малянов. — Надо работать“. — „Надо так надо, — уныло отвечала Ирка, давя окурок посреди трухи предыдущих. — Работа делает свободным… Честное слово, лучше тачку в концлагере катать, чем перелопачивать эту муть“. — „Читают… — неопределенно говорил Малянов. — И, знаешь, не гневи Бога. Сидишь чистенькая, свет горит пока, и вода из крана пока течет, что еще нужно?“ — „…Чтобы спокойно встретить старость…“ — добавляла Ирка из „Белого солнца пустыни“. „Масло в холодильнике есть“, — забивал Малянов последний гвоздь.
Это были еще цветочки. Ягодки начались, когда им стали очень по знакомству предлагать — а они, естественно, не отказывались, только спать становилось уже совсем некогда — тексты с совершенно им неизвестных языков. Например, с корейского. Баксы, блин. „Ну я не могу больше, — рыдающим голосом говорила Ирка. — Давай откажемся!“ — „Спокуха на фэйсе! — бодро отвечал сидящий за машинкой Малянов. — Жрать хочешь? Бобке кроссовки нужны? Диктуй, шалава!“ — „Диктовать? — язвительно переспрашивала Ирка, закуривая. — Пожалуйста! С удовольствием!“ — затягивалась. — „Его голос стал объемнее, чем его мысль, и от этого немного странно сотрясался воздух в комнате. Только его глаза, не видные сквозь гнусное пространство, имели неописуемое выражение. Хоть и страдая немного, но с задорным выражением лица он продолжал: ''Подумай о товарищах, с рассвета до заката работающих, пачкая кофем станки! Подумай об их бледных лицах, собранных на пыльных рабочих местах и работающих, как мулы!''“ — „Е!.. — озадаченно икал Малянов, но вовремя осекался. — Что, так и написано?“ — „Так и написано“. — „Кофем?“ — „Кофем!“ — „Какое гнусное пространство…“ — задумчиво произносил Малянов, и вдруг, посмотрев друг на друга, они начинали дико хохотать. Буквально ржать, едва не валясь со стульев. „Может… — всхлипывая, выдавливала Ирка, — может… испачканный кофем станок… это у них, в Сеуле… предел нищеты?“
„Кошмар, — удрученно произносил Малянов, отсмеявшись. — Что с русским языком делается…“ — „Да уж, — с готовностью подхватывала Ирка; время ругани — время отдыха. — Даже дикторы, даже артисты уже не понимают, скажем, разницы между ''надел'' и ''одел''. Как скажет ''одел калоши'', так я сразу пытаюсь сообразить, что же он на них надел. Шляпу? Колготки?“ — „Представляешь, если и в обратную сторону путать начнут? — начинал мечтать Малянов. — Про какого-нибудь заботливого банкира: он надевает жену с иголочки!“ — „Как жену надеваешь? — с хохотом подхватывала Ирка. — От Диора!“ — „А рекламки эти в метро, обращала внимание? Дизайн, цвет, полиграфия… какие мощности задействованы, какие деньжищи угроханы — а ''Кристал'' пишут с одним ''л''“. — „Фирма ''Ягуана'' через ''я'', — подхватывала Ирка. — Как будто в честь Бабы-Яги, а не ящерицы игуаны“. — „Да нет, — вдруг хихикал догадливый Малянов. — Это они так представляются. Лицо фирмы. Я, говорят, гуано. Гуано знаешь, что такое? Птичий помет, на чилийских островах добывают. Удобрение — пальчики оближешь, сам бы ел. По-испански гуано, а по-нашему говно. Так прямо сами и сообщают: я — говно“.
И они опять смеялись.
„Ладно, — говорил Малянов потом. — Будем рассуждать логически. Что хотел сказать автор? Полагаю, что пыльные лица на рабочих местах вкалывают до потери пульса. До посинения. До седьмого пота, во! Кровь из носу капает на станки у них, а не кофей! Так и запишем… — И его пальцы начинали проворно плясать над рокочущей и лязгающей клавиатурой раздрыганной машинки. И он приговаривал: — От моих усилий тоже… несколько странно… сотрясается воздух в комнате… А интересно… сколько платят тому, кто нам… подготовил такой…“ — „Ты не слишком далеко от оригинала отходишь?“ — озабоченно спрашивала честная Ирка, заглядывая ему через плечо. „Ништо! — отвечал Малянов. — Думаешь, найдется идиот, который за те же деньги полезет сверяться с подлинником? Диктуй дальше!“ Ирка оббивала сигарету и шустренько цапала следующую страницу, и лицо у нее вытягивалось. „Он думал, — упавшим голосом читала она, — что трава, колышущаяся по ветру за пригорком, одна трава — это трава целиком, а трава целиком — это одна трава. Если не так, думал он, то ему, имеющему только имя, нет причины умирать…“ — „Е!..“ — икал Малянов. „Ну я не понимаю! — рыдающе восклицала Ирка. — Я вообще не понимаю, что хотел сказать автор! — Она вчитывалась еще раз. — …Одна трава — это трава целиком… а целиком — это одна трава… Слушай, может, это связано с восточными философиями? Дзэн, синто… что там у них еще… дао… Может, Глухову позвонить? Как ты думаешь?“ — „Я думаю одно, — отвечал Малянов, от обилия травы тоже несколько стервенея. — В пятницу мы должны сдать чистовой текст. Полностью. Иначе следующего заказа может вообще не быть. И так нам уже дают понять, что к их услугам теперь масса настоящих профессионалов. А насчет ''не понимаю''… Великих авторов, — издевательски выговаривал он, — всегда понять трудно. Вот дай-ка сюда ''Крейцерову сонату''“. Ирка представить не могла, зачем Малянову вдруг понадобилась „Крейцерова соната“, но послушно протягивала руку и снимала с полки графа Толстого. Малянов брал у нее том. „Помнишь суть? — спрашивал он, листая. — Он едет жену убивать из ревности… Ага, вот! — зачитывал: — Страдания мои были так сильны, что, я помню, мне пришла мысль, очень понравившаяся мне, выйти на путь, лечь на рельсы под вагон и кончить“. — „Что-о?! — чуть подождав продолжения, но поняв, что это конец фразы, обалдело переспрашивала Ирка, совершенно не ожидавшая от не читанного со школьных лет графа подобного подвоха. Мгновение они смотрели друг другу в глаза, потом опять взрывались. — Чертов извращенец! — выдавливала, задыхаясь от смеха, Ирка. — Ну и кончал бы себе на рельсы — женщину-то зачем ножиком? Ой, слушай, а может, и Анна Каренина под паровозом… того?..“ И они опять очень долго смеялись.
Если не хохотать до упаду по крайней мере раз в десять минут, от унижения и тоски можно было спяти…»
«…пор, как истина открылась ему, жизнь превратилась в ад.
Нет, не происходило никаких страшных чудес. Не происходило ничего, что можно было бы счесть характерно невероятным и конкретно остеречься, как когда-то. И он остерегался по максимуму: ни с кем не говорил, ничего не записывал, не пытался осмыслить и, тем более, привести в систему; он вообще старался на эту тему не думать. В сущности, он старался не думать вообще. Жизнь к этому располагала, год от года все больше, что правда, то правда; но ведь совсем ампутировать мозги невозможно. Или приснится что-нибудь, или мыслишка невольная нет-нет да и мелькнет — пока успеешь ее выколотить из башки, выдавить, как гной из чирья, и заменить на что-нибудь чистое, чисто бытовое, тоскливое, унылое, но безопасное…
Не смей! О чем угодно — о сроках сдачи очередной муры, о кроссовках, о путче, о гипертонии, о Бобкиных оценках, о деньгах, и еще о деньгах, и все время о деньгах; да мало ли тем! Не перечесть! Только не о главном!
Сначала он ничего не замечал. Потом делал вид, что не замечает. Потом долго убеждал себя, что замечать нечего. Потом издевался над собою: паранойя, старик, типичная паранойя! Псих из пары ничего не значащих случайностей способен вывести железную закономерность и потом видеть ее проявления во всем! Кончай дурить, неровен час, психушкой кончишь!
Не помогало.
Мелочи, мелочи, мелочи… Именно на него всегда наваливался в дороге какой-нибудь лыка не вяжущий, зловонный и агрессивный алкаш. Почти обязательно. В какое бы время ни перемещался Малянов по городу — утром ли, днем ли, вечером, или совсем уж вечером — жди мурла.
В институтском буфете — пока в институте еще работал буфет — ему всегда давали битый стакан. То колотый, то невероятным образом будто обгрызенный кем-то, то с длинной свежей трещиной от края до середины донца. Всегда.
Когда бы ни шел Малянов ко входу в собственный дом — или, наоборот, от входа — в узости проходного двора на него обязательно выворачивал грузовик; казалось, он целыми днями только и дежурит в ожидании, когда Малянов пройдет под арку, но грузовики были разные, то „краз“, то „камаз“, и уж во всяком случае разные у них были номера. И всякий раз нужно было с каратистской скоростью припластываться к кирпичной стене, тычась носом в гнусь и матерщину, и гадать, заденет или нет. Пока не задевало. Но кто знает…
На почте ли, в кафе ли, в магазине — именно когда подходила его очередь, продавщица, или кто там еще, отворачивалась поговорить о чем-нибудь, вероятно очень срочном, или вообще отлучалась, ни слова не сказав, в крайнем случае бросив: „Я на минутку…“ — и могла отсутствовать десять, пятнадцать, двадцать минут. И уж, разумеется, именно к Малянову, честно и бессловесно оттрубившему эти пятнадцать-двадцать минут у окошка или прилавка, с железной неизбежностью обращались старики, старухи, увечные, больные и беременные с просительными голосами и требовательными глазами. „Я очень спешу“. „Я очень плохо себя чувствую“. „У меня дома мать при смерти“. „У меня ребенок дома один“. „Я вот-вот рожу“. И, разумеется, ощущавший себя относительно молодым, относительно здоровым и абсолютно не беременным Малянов никогда не мог отказать.
Он перестал следить за собой, уныло ходил в старом, несвежем и неглаженом — хотя был чистюлей и аккуратистом до мозга костей; эффектная красивая шмотка, надетая после долгого перерыва или тем более впервые, радовала его, как ребенка или женщину, придавала уверенности, раскованности, даже подтянутости. Но именно с новым и чистым обязательно что-нибудь случалось. Единственного светлого пальто Малянов лишился, когда они с коллегой после очень серьезного ученого совета присели, устало доспоривая, на лавочку в саду напротив Адмиралтейства, морда к морде с Пржевальским, коллега закурил, и почти сразу здоровенный шмат сигареты — видимо, с каким-то бревном внутри — дымя, обвалился на Малянова; насквозь не прожег, но мигом выел здоровенное черное пятно на благородной ткани, на самом видном месте. В купленном позапрошлым летом с напряжением всех финансовых ресурсов семьи костюме Малянов, страшно гордый обновой, даже доехать никуда не успел; уже на спуске в метро стоявшая на эскалаторе ступенькой выше молодая туристическая чета принялась что-то спешно перекладывать друг у друга в рюкзаках — и отоварила Малянова целым термосом крепкого горячего чая. Дружелюбно хохоча, без тени смущения, парень хлопнул ошпаренного Малянова по плечу, над которым еще курился пар, и сказал: „Ну, бывай! Смотри, не злись! Нам тоже чаю жалко“, — а Ирка, как ни билась, так и не смогла отстирать потеки и разводы…
В мае девяносто третьего, в ту пору, когда прогулка за город на электричке еще не била фатально по месячному бюджету, Малянов отправился погулять часика три в Комарове — ему лучше всего думалось именно на ходу, и именно в безлюдном лесу. Май был сухой, жаркий, и уже в десяти минутах ходьбы от платформы, на границе поселка, Малянов наткнулся на, что называется, очаг возгорания. С шипением и треском по сухой хвое, подбираясь к сосенкам, проворно ползло дымное, пахучее пламя. Очажок поначалу был размером с таз, не больше, но у Малянова совершенно ничего не оказалось с собой — сложенный вчетверо лист бумаги да шариковая ручка, взятые на всякий случай. Начал затаптывать, прожег кроссовки, попробовал забивать веткой; дым въедался в глаза, мигом спалило ресницы и брови — и главное, очажок, несмотря на все усилия, медленно расширялся. Мимо, старательно глядя в сторону, прошла женщина средних лет; потом, оживленно беседуя, прокатили на велосипедах три дюжих недоросля („А он тогда, бля, ей и говорит, бля: ты, ебе…“). Но добила Малянова молодая мама с ведомым за ручку сыном лет шести; некоторое время они, остановившись, вместе наблюдали, как Малянов пляшет посреди костра, а потом ребенок с восторгом сообщил: „Смотри, мама, дядя лес поджег!“ — „Ну что ж, бывает, — отвечала мама. — Наверное, дядя неаккуратный: курил, бросил спичку…“ Малянов плюнул и, размахивая закопченными штанинами, решительно пошел своей дорогой: да горите вы тут все синим пламенем! Пройдя метров двадцать, обернулся. Мама с сыном стояли на месте, глядя ему вслед, а огонь погас. Весь. Сам собой.
Никогда ему не обламывалось ничего из время от времени выгрызаемых институтом из вышестоящих инстанций грантов и прочих халяв. Хотя об этом то и дело заходил разговор и на секторе, и непосредственно в дирекции („Как же можно вести эту программу без Дмитрия Алексеевича?!“), в конечном счете он всегда по тем или иным причинам, или вообще без причин, вылетал. Впрочем, участвовать-то ему чуть ли не ежедневно предлагали — там, где надо было попахать за так. Говоря по-одесски, „на шару“ — если верить Бобке, конечно, который в то страшное лето отдыхал в ныне иностранном городе-герое Одессе под присмотром Иркиной мамы и, несмотря на нежный возраст, нахватал прорву аппетитнейших словечек, прежде чем надолго замолчать. Смешно, стыдно, но еще года три-четыре назад Малянов соглашался на все подобные предложения — только в последнее время раскрепощающе осатанел. Но все равно ему посмеивались в спину, и он прекрасно это знал и чувствовал. На заседаниях шеф отделывался сладкими частушками типа: „Каждая новая работа Дмитрия Алексеевича — это пусть и не всегда большое, но настоящее открытие…“ Так и хотелось с пролетарской прямотой гаркнуть: „Спасибо в стакане не булькает!“ Но это было бессмысленно, и Малянов лишь интеллигентно смущался и бубнил: „Ну что вы…“ Собственно, при социализме была та же подлянка, ничего не изменилось — кроме одного: при социализме можно было быть энтузиастом-бессребреником, этаким Саней Приваловым, у которого понедельник начинается в субботу, потому что на зарплату можно было прожить.
Конечно, с умным видом отмахиваться от астероидов и кататься под это дело на международные симпозиумы за покупками — в баксовом исчислении там, говорят, все теперь оказалось сильно дешевле, чем здесь — было не менее отвратительно, чем пачкать кофем станки. Но, по крайней мере, высасывать из пальца пришлось бы не тусклые сугробы кириллицы, а стройные, жесткие, цепкие цифры, выверенный и надежный танец формул — так танцуют, металлически отсверкивая, хорошо пригнанные детали в работающем двигателе. Языком молоть пришлось бы про небо, про небо!..
Если Малянов пытался чего-то добиться — именно это-то у него и не получалось. Нельзя сказать, что у него вообще уж ничего не получалось — нет, получалось что-то, иначе он давно бы с голоду сдох и семью уморил; но получалось как бы невзначай, получалось лишь то, к чему он был равнодушен, то, чего он, в сущности, не хотел. А стоило захотеть чего-то — пиши пропало. Самые нелепые обстоятельства, самые идиотские случайности вступали в игру.
Если ему вдруг предлагали нечто заманчивое или хотя бы просто выгодное, он равнодушно и привычно благодарил, заранее наверняка зная, что ни черта не получится; и действительно, проходила неделя, или две, или три, и хорошо еще, если предлагавшие имели совесть позвонить и извиниться, сославшись на внезапные мор, глад и падение Луны — как правило же они просто исчезали, и пытаться их вызвонить было делом абсолютно бесполезным. А если и вызвонишь — снова пообещают по-быстрому и снова исчезнут. И он ясно чувствовал: на него же и обиделись за то, что он так бестактно напомнил о собственном существовании.
Постепенно он, когда-то переполненный энергией, лихо и удачливо бравшийся за двадцать дел сразу, совершенно обессилел. Сделалось почти невозможно заставить себя хоть за что-нибудь взяться — за стирку ли носков, за статью ли. То, что ему велели делать обстоятельства — в Иркином лице, в Бобкином, в лице заказчика или институтского начальства, он еще как-то делал с грехом пополам, ощущая себя при этом постоянным каторжником — ни к чему исполняемому не лежала душа, все исключительно на чувстве долга. Но творить что-то по собственному почину — о нет, слуга покорный! Только попусту тратить время и силы, которых и на исполнение долга-то уж почти не хватает… Все равно ведь не получится.
А и получится — усилий потратишь вдесятеро против того, что понадобились бы кому другому, а результата добьешься вдесятеро меньшего, чем добился бы на твоем месте любой первый встречный… Надрываться и срамиться только. Срамиться и надрываться.
И уже ничего не хотелось. Совсем ничего.
Даже с самыми близкими людьми стало муторно. То есть разговаривал, конечно, смеялся, обсуждал телесериалы, и покупки, и выборы, но все словно чей-то приказ выполнял. Крайне трудоемкий и абсолютно бессмысленный. Втолковывал что-то Бобке, а сам думал: „Да плевать ему на мои речи, в одно ухо впустит, в другое выпустит и сделает по-своему“. Обнимал на сон грядущий Ирку, но сам уже не ощущал ни радости, ни желания, и лишь в башке гвоздило: „Не сможешь ты ее порадовать, не сможешь. Надрываться и срамиться только“. Если Ирка вела себя тихонько, он будто того и ждал: „Видишь? Не получается, она ничего не чувствует“. Но стоило ей застонать, душу кусал другой ядовитый зуб, еще длиннее и острее: „Бедная… притворяется мне в угоду, подбодрить старается… Ох, нет, не надо было и начинать“.
Ирка, ощутив неладное, поначалу как-то попыталась ему помочь; вдруг, будто в первые годы, принялась то и дело говорить всякие нежности и лестности; на последние гроши купила себе бельишко пособлазнительнее; на диету села, чтобы фигуру поправить; без единого слова с его стороны такие ласки измыслила и взяла на вооружение, что… А что? Только хуже стало, вот что. И она отступилась. Наверное, решила — сточился мужик, и против природы не попрешь; на нет и суда нет. Рогов вроде не наставила — хотя, будь она лет на десять помоложе, наставила бы обязательно, Малянов отчетливо это понимал — а только налегла с горя на сладости. К весне ее было не узнать, килограммов на семь разнесло.
Только однажды она сорвалась. Малянов в очередной, не вспомнить, который по счету, раз попытался уговорить ее бросить курить или хотя бы ограничиваться как-то — с полминуты она угрюмо слушала его разумные мягкие доводы, потом дико зыркнула из-под белобрысой челки и процедила почти ненавидяще: „В жизни и так радостей не осталось — ты меня хочешь последней лишить?“
Два часа они не разговаривали. Потом — деваться некуда, дело к полуночи, сроки поджимают — уселись работать. А там — опять же деваться некуда. Через пятнадцать минут хохотали.
Этот поведенческий ступор, этот мерзостный душевный паралич можно было, конечно, объяснить вполне естественными причинами. Вполне можно — и это было самым ужасным, потому что Малянов ничего не мог сказать наверняка. Давление это — или просто жизнь так складывается, она, дескать, и у других нынче не сахар, и надо просто почаще смеяться? Непонятно. Он не знал. Но преследовало изматывающее чувство, будто там, наверху, нарочно почаще дают ему понять, что все про него известно — и поэтому он день и ночь под прицелом; стоит лишь совершить неверный шаг, расслабиться на секунду, сказать хоть слово вслух или просто подумать лишнее, как… Что — как? Этого он тоже не мог знать.
Пятьдесят на пятьдесят, что ударят не по нему, а по Ирке или Бобке. Так уже было. Страх за них сделался навязчивым кошмаром; Малянову даже сны снились соответственные — и он то и дело кричал теперь во сне.
Стоило Бобке простудиться или загулять за полночь с приятелями, не предупредив; стоило Ирке подцепить грипп или пожаловаться на печенку; стоило Бобкиной классной вкатить ему не очень-то заслуженную тройку и пригрозить снизить оценку в аттестате, как Малянов схватывался: что я натворил? как? когда? Он, будто заведенный, делал все, что должен был — бегал в аптеку, названивал Бобкиным приятелям, читал сыну нотации, дарил директору школы коньяк на двадцать третье февраля и завучихе торт на восьмое марта, а по ночам валялся без сна: я это или нет? моя вина или это естественным образом произошло? и перебирал, перебирал, словно возненавидевший свое золото, но по-прежнему намертво к нему прикованный скупой рыцарь, собственные поступки, слова, мысли, пытаясь понять наконец: я или не я?
Все начинало выглядеть как жуткий, предельный эгоизм, все и на самом деле выворачивалось отвратительным эгоизмом, потому что у Малянова ни мыслей, ни чувств уже недоставало ни на что, кроме: я или нет? А если я — то чем?
Но не было ответов. Ни одного.
Если бы вдруг из сиденья в задницу вломился молниеносный кипарис, если бы из-под дивана полезли бородатые угрюмые комары величиной с собаку или, по крайней мере, во такенные клопы, стало бы легче. Однозначное срабатывание обратных связей — что может быть приятнее для души и полезнее для коррекции поведения? Но подобных подарков ему не делали. Просто болезнь. Просто неудача. Просто еще одна болезнь и еще одна неудача. Просто вьюнош Бобка в очередной раз отчудил. Просто Ирка курит и кашляет все больше. Ничего определенного. Никаких доказательств — ни за, ни против; и только распухшая от нескончаемых ударов, превратившаяся в один громадный кровоподтек совесть тахикардически молотила в ребра: не уберег. Не уберег. Не уберег. Опять не уберег.
Ничего не осталось — только тревога, бессилие и смертельная уста…»
«…из-за закрытой двери. Но, говоря всерьез, разве это были двери? И разве это были стены? Ширмочки невесомые. И если уж на то пошло, разве это были комнаты? Прекрасная фраза где-то у Лема есть: места в ракете хватало только на то, чтобы широко улыбнуться. Вот мы в этой ракете и летим всю жизнь, и занимаемся именно тем, на что в ней хватает места. Кто же и куда нас запустил?
Впрочем, это-то как раз я знаю. Вопрос — зачем?
— Мам, ну почему так уж сразу в горячую? — виновато пробасил Бобка.
— Потому что других точек для нас в стране нет! — отчаянно крикнула Ирка. — Понимаешь? Нет!
Бобка молчал. Малянов перестал дышать, и дюдик окаменел у него в руках.
— Господи!.. — похоже, Ирку прорвало. Случалось это редко — но уж если случалось… — Растишь, растишь, ночей не спишь — ведь ни одна же сволочь не поможет, наоборот… В поликлинику сходить, врача вызвать — и то с работы отпрашиваться каждый раз… а там рожи, рожи!! Если у вас такое трудное положение, вам следовало бы повременить с ребенком… — передразнила она злобно. Кому-то она пятнадцать лет этой фразы простить не могла; Малянов не знал, кому. — А вырос — оказывается, и ты им должен, и ребенок твой им должен! Иди сюда, мы тебя на смерть пошлем! А потом начнем извиняться перед теми, кто тебя убил: ах, ошибочка вышла, мы хорошие, не оккупанты мы… Мы вам сей секунд еще два завода бесплатно построим — только вы уж убивайте нас поменьше, пока строим…
— И где бы ни жил я, и что бы ни делал — пред Родиной вечно в долгу… — примирительно пропел Бобка. Сфальшивил. Впрочем, вообще странно — где он мог это слышать?
— Ну ты что — совсем дурачок?
— Да я все понимаю, мам.
— А что у нас на взятки денег нет и никогда не будет, это ты понимаешь?
— Исессино.
— Тогда заруби на носу: чтобы по этим предметам даже четверок у тебя в оставшиеся полгода не было ни единой! Только пятаки! Усвоил?
— Йес.
— Это хоть какой-то шанс…
— Йес.
— Еще по комитетам матерей я не бегала!
— И не будешь.
Малянов отложил леди Агату. Аккуратно снял с колен горячего и мягкого, сразу недовольно заурчавшего Каляма и встал. Бодро распахнул дверь в Бобкину комнату:
— Что у вас тут за базар? Телевизор включайте скорее, сейчас смехопанорама начнется. Выходной нынче али нет?
Бобка, обернувшись, растерянно хлопнул ясными глазами. Ирка прятала лицо.
— Еще сорок минут почти, пап…
— Правда? Значит, я опять перепутал.
И тогда Ирка…»
2
«…много лет назад стали ритуалом. И, как всякий ритуал, давно обросли репликами, жестами и гримасами почти обязательными; во всяком случае, если какую-то из них не удавалось применить и обыграть, оставалось от прошедшего вечера чувство неудовлетворенности, чувство — неприятнейшее для людей дела, даже если они в данный момент отдыхают — чего-то недоделанного. Однако, с другой стороны, совсем уж искусственное вдавливание устоявшихся и полюбившихся деталей ритуала в естественный ход вечерних событий вызывало ощущения, прямо противоположные желаемым. Делалось неловко и даже как бы стыдно. Будто громко рыгнул. Будто опрокинул ведро с помоями на красивый дорогой ковер. Будто сломал любимую игрушку друга.
Но зато к месту вспомненная и употребленная ритуальная реплика доставляла обоим ни с чем не сравнимое удовольствие. Даже трудно описать его. Чувство было сродни чувству покоя, чувству дома, чувству уверенности в завтрашнем дне. На сердце делалось легче.
Например, если кто-то делал неожиданный ход, в ответ было очень хорошо с задумчивостью затянуть, глядя на доску: „Вот хтой-то с го-орочки спустился…“ Если и впрямь получалось в точку, сделавший ход партнер мог подхватить со второй или с третьей строки, и тогда уже оба хором дотягивали: „Он-на с ума меня сведет…“ И смеялись.
Самому же делающему резкий ход, явно долженствующий обострить ситуацию непредсказуемым образом — как правило, такие ходы предварительно обдумывались столь долго, что противник успевал сообразить, какой именно выпад назревает, и поэтому ждал, изнывая: ну, давай же, наконец! — следовало, взявшись за фигуру и подняв ее, громко и решительно сказать: „Если вино налито, его следует выпить!“ И поставить со стуком на новое место.
И смеялись.
Еще очень неплохо было цитировать фрау Заурих из „Семнадцати мгновений“: „Я сейчас буду играть защиту Каро-Канн, только вы мне не мешайте“. Это действительно было очень забавно и очень по-домашнему. Как правило, реплика доставалась Малянову, потому что он играл слабее. Маленький уютный Глухов немедленно оттопыривал челюсть, изображая умное и волевое лицо Штирлица, и задушевно сообщал, цитируя тот же фильм: „Из всех людей на свете я больше всего люблю стариков, — и ласково гладил себя по лысине, — и детей“, — и делал широкий жест в сторону начавшего седеть Малянова.
Как правило, получалось смешно.
Малянов играл слабее и не любил окончаний партий — чем бы партии ни оканчивались. Если выигрывал Глухов, ему становилось неприятно от того, что он такой дурак и опять лопухнулся. Если же Глухов проигрывал — иногда бывало и такое все же — Малянову тоже становилось неприятно. Возникало у него смутное ощущение собственной нечестности, непорядочности — будто он, сам того не желая, смухлевал; ведь выиграть должен был Глухов, он же лучше играет!
Малянову нравился сам процесс. Ненапряженное, неторопливое — они никогда не играли с часами — общение; доска позволяла молчать, если говорить не хотелось или в данный момент было не о чем, и в то же время совершенно не препятствовала беседе, если вдруг проскакивала некая искра, и посреди игры возникало желание что-то рассказать или обсудить. Ни малейшей светскости, ни малейшей принужденности — посвистывай себе сквозь зубы, перебирай освященные временем шутки, за каждой из которых на невесомых крылышках прилетают целые сонмы воспоминаний и ассоциаций, прихлебывай чаек и не пытайся выдернуть из мозгов больше, чем в них есть…
Но на этот раз все получилось несколько иначе.
У Глухова было сумеречно, как всегда. Горела верхняя люстра, и горел у столика торшер — но углы терялись, и терялись в далеком темном припотолочье стеллажи с книгами и всевозможными восточными бонбошками. Но все равно видно было, сколько на них пыли; цветная бумага фонариков стала одинаково серой. Лупоглазые нецкэ немо глядели сверху на бродящих по дну квартиры людей.
Под висящим на выцветших обоях ксилографическим оттиском надписи, сделанной знаменитым каллиграфом династии то ли Сун, то ли Мин, звали его, вроде бы, Ма Дэ-чжао, а может, Су Дун-по — говоря по совести, Малянов терпеть не мог всего этого восточного мяуканья и пуканья и толком никогда не мог ничего запомнить; значили эти четыре здоровенные закорюки „Зал, соседствующий с добродетелью“, но уж как это произносится, пардон! — на журнальном столике, втиснутом между двумя обращенными друг к другу продавленными, наверное, еще до войны кожаными креслами, вместо обычной доски с уже расставленными к маляновскому приходу фигурами стояли блюдо с миниатюрными бутербродами, две изрядные стопки и непочатая бутылка водки.
Глухов за те пять недель, что они не виделись, казалось, рывком одряхлел. Руки он прятал в карманах длинной, сильно протершейся на локтях кофты с красиво завязанным на пузе поясом, но, когда они обменивались рукопожатием, Малянов почувствовал, что пальцы у Глухова ледяные. И, кажется, дрожат.
— Добрый вечер, Дима, — сказал Глухов сипловато. — У меня есть мысль, подкупающая своей новизной: давайте-ка сегодня всосем со скворчанием. А? Как вам?
Малянов совсем разлюбил теперь это дело. Во времена оны добрая толика доброго вина или водчонки была очень неплоха для раскрепощения фантазии и любви. Становилось горячо, весело, ярко и цветно, и ничто не мешало и не давило, и опять казалось, будто лучшее впереди. Нынче раскрепощать стало нечего. А пить, чтобы просто забыться, было в самом прямом смысле опасно — до какого-то момента еще контролируешь себя, а потом уже ни за что не хочется вновь вспоминать, на каком ты свете; и тогда можно выпить море.
— Ну если по граммульке, — уклончиво сказал Малянов.
Но Глухов, видимо, в душе уже настроился.
— Разумеется, по граммульке! — ответил он с подозрительной готовностью и дрожащими — теперь это ясно было видно — пальцами в два ловких движения сорвал с бутылки пробку.
— У вас что-то случилось? — осторожно спросил Малянов, подходя к столику.
— У нас у всех случилось одно и то же, — ответил Глухов невнятно — он сосредоточенно разливал. — Да вы присаживайтесь, присаживайтесь, Дмитрий! Что вы, как неродной…
Малянов утвердился на разноголосо поющем, бугристом внутри себя сиденье. Глухов сел напротив. Кресло явно было ему велико; Малянову вечно представлялось, как Глухов, такой же маленький, как теперь, но розовый и невинный, яко ангелок, весь в аккуратных и ухоженных белокурых локонах, в матроске а-ля невинно убиенный цесаревич сидит, подобрав под себя ножки, в этом самом кресле и запоем читает в подлиннике „Повесть о Гэндзи“ — а в соседней комнате пап, потрясая газетой, с первой страницы которой тяжело свешивается аршинно набранное восторженное, долгожданное „Война объявлена!!!“, горячо обсуждает с мам перспективы наступления Самойлова в Восточной Пруссии…
— Не отравимся? — спросил Малянов. Глухов понюхал из горлышка.
— Шут его знает… вроде не должны.
Всосали по первой; Глухов и впрямь коротко заскворчал, а потом потянулся к бутербродам, взял один и шумно понюхал ломтик ветчины. Горячий гладкий сгусток медленно пропутешествовал по внутренностям Малянова и завис в животе, приятно согревая, как зависшее в зените полуденное солнце. Хорошо, что дома пообедал, не так развезет, подумал Малянов.
— А давайте, чтоб не частить, поиграем все же, — сказал Глухов, кладя обнюханный, но даже не надкушенный бутерброд обратно.
— Я тверезый-то плохо помню, куда какая лошадь ходит, — ответил Малянов.
— А тогда знаете что? Давайте поиграем в кости.
— В кости?
— Я вас научу. Это просто. Вы азартный человек?
— Не знаю… Наверное, теперь уже нет.
— Не беда. Зато вам как ученому, весьма не чуждому математики, будет интересно. Игра вероятностей!
Он поднялся; сутулясь, побрел к необозримому книжному шкафу, уставленному разноязыкими фолиантами так плотно, что часть их вынуждена была пачками лечь на полу рядом. На одном японском их было штук пятьсот, и почти все оттиснутые на их корешках названия начинались с иероглифов „Нихон“ — „Япония“; эти-то два за годы общения Малянов волей-неволей все же запомнил. „Нихон“, а дальше дурацкий, в отличие от всегда имеющих индивидуальность заковыристых иерошек, совершенно безликий грамматический значок „но“, обозначающий, как объяснял Глухов, притяжательный падеж или нечто в этом роде: „японская“ чего-то, и „японская“ еще чего-то, и рядом „японская“ чего-нибудь…
— Как это там у вас? — приговаривал Глухов, роясь в выдвигаемых один за другим битком набитых ящиках. — Теория множеств… теория игр… ага, вот! — он нашел, что искал. Шумно вбил на место последний ящик и пошел назад, неся в руках изящную лаковую шкатулочку, лист бумаги, расчерченный под таблицу заранее, Бог весть сколько часов или лет назад, и карманный калькулятор. Длинные концы некогда мохнатого, но сильно облысевшего пояса мотались из стороны в сторону. Граммулька уже делала свое дело: морщинистые запавшие щеки Глухова приобрели живой оттенок, и глаза заблестели. — Это просто, вы в пять секунд освоите. Только мы сначала еще всосем.
Всосали. Малянов зажевал, Глухов занюхал.
— Вы бы закусили, Владлен, — просительно сказал Малянов. — Протухнет ветчинка-то.
Глухов только мотнул головой, решительно отказываясь.
— Вы ешьте, Дмитрий. Я, собственно, для вас… По мне либо есть, либо пить, вы же знаете, — он аккуратно вытряхнул на стол из шкатулочки шесть увесистых кубиков. — Когда и ешь, и пьешь, то только тяжелеешь, а полету и в помине нет. Зря и еда расходуется, и питье… — ребром ладони отодвинув чуть в сторону калькулятор, расправил лист с таблицей. Почему-то счел своим долгом пояснить: — А машинку мне Икеда Он подарил в восемьдесят шестом… — видимо, калькулятор имелся в виду. Чувствовалось, что Глухов уже легонечко поплыл. — Великий японский синолог, медиевист. Он в тот год приезжал к нам сюда, летом… — вскинул на Малянова ясные, молодые, но лихорадочно пылающие глаза и вдруг скривился: — Милостыня, да. Гуманитарная помощь. Ну-с, приступим!
Оказалось действительно просто. Думать почти не надо, главное — решиться на то или это, а дальше как повезет. Конечно, названия фигур поначалу путались: „малый фул“, „большой фул“, „стрит“, „карэ“, „десперада“… С некоторой опаской Малянов ждал, как поведет себя то, наверху, — ведь везение, столь необходимое именно в подобной игре, и горний присмотр несовместимы. Ничего не смог заметить.
Скоро Малянов почувствовал, что метание приятно тяжеленьких кубиков, дробно постукивающих ребрами по столу, и аккуратное записывание очков — здесь тоже давний ритуал, обросший фразами и гримасами задолго до него, Малянова. Явно, например, выбросив удачно „генерала“ — шесть шестерок из шести — надо было, как Антуан в „Беге“, громко возгласить: „Женераль Чарнота!“ А если вместо шестерок при попытках выбросить именно „генерала“ шла какая-нибудь дребедень, нужно было, с презрением глядя на нее, говорить: „Ага! Это он, я узнаю его — в бл-л-людечках-очках спасательных кругов!“, обязательно акцентируя „бл“, будто хочешь выругаться. Глухов священнодействовал. Он тряс кости перед броском так, словно ласкал их. Он собирал их со стола в ладонь так, словно это были ушедшие годы. Очевидно, он не с Маляновым играл, он вообще не играл — он вспоминал…
Малянов ощутил себя чужим.
Он хлопнул стопку без закуси.
Постепенно, к его удивлению, игра взяла его в оборот — он начал волноваться. Всерьез вскрикивал, если Глухову слишком уж везло, всерьез злился на кости, если они упрямились, всерьез радовался, когда легко и быстро выпадал желаемый расклад.
Они всосали еще. В голове у Малянова зашумело; он стал вскрикивать чаще и громче. Глухов с хмельной улыбкой озорно погрозил ему пальцем:
— А ты азарт, Парамон!
Малянов выиграл.
Отдуваясь, он откинулся на кочковатую спешку кресла, потом опять наклонился вперед, потянулся к бутылке, чтобы налить еще по одной, — и тут обнаружил, что зелье кончилось.
— Реванш! — громко сказал Глухов. — Хочу реванш! Имею право!
— Впер-ред! — согласился Малянов.
— Но нужно взять еще.
— Точно? — засомневался Малянов, однако больше для вида; на самом деле он тоже начал подумывать, что нужно взять еще.
— Абсолютно точно.
— У меня тысяч семь есть.
— Дмитрий, не обижайте старика. Я сегодня банкую.
— Почему?
— По ощущениям. Ну, айда?
— Дождь начался. Слышите — шумит.
— Тут недалеко до ларьков, пять минут. Не растаем!
Не зажигая света в длинной прихожей — падавшего в дверь из комнаты хватало, — они, то и дело задевая друг друга плечами и локтями, набросили плащи, обулись в уличное. Положив руку на замок, Глухов вдруг остекленел на несколько секунд, потом повернулся к стоявшему позади Малянову, задрал белое лицо и, едва не касаясь губами маляновского подбородка, громко и горячо дыша, свистящим шепотом сообщил, как сообщают страшные тайны:
— Востоковедению — тоже конец!
Малянов опешил.
— Почему?
— Ну что вы дур-рацкие вопросы задаете, Дмитрий! — Глухов отвернулся и попробовал открыть замок. Замок упрямился.
— Не хочет… — невнятно пробормотал Глухов. — Не пускает… Никто никуда нас не пускает! Зачем свет человеку, путь которого закрыт? — он остервенело принялся дергать замок.
— Дайте, Владлен, я попробую.
Глухов неожиданно согласился.
— Попробуйте… — тихо и смирно произнес он, отодвигаясь.
Дверь открылась безо всякого труда.
— Ключ мы не забыли? — спросил Глухов и тут же сам ответил, сунув руку в карман плаща: — Конечно, нет, вот он, — опять повернулся к Малянову: — Мне-то что? У меня пенсия и я один. А вот наши так называемые молодые… те, кому по тридцать пять — сорок… Переучиваться поздно, до пенсии не дотянуть, дети — мелюзга, зарабатывать начнут не скоро. Ужас. Конец, Дмитрий, конец!
На лестнице их вдруг скачком развезло. Ступеньки повели себя непредсказуемо. Сначала Малянов, потом Глухов едва не сверзились; с хохотом спасали один другого попеременно. Под косо летящий из темноты дождь они вывалились обнявшись, громко и слаженно декламируя:
— Соловьи на кипарисах и над озером луна. Камень черный, камень белый, много выпил я вина. Мне сейчас бутылка пела громче сердца моего: „Мир лишь луч от лика друга, все иное — тень его!“
Черная вода в канале Круштейна мелко и нескончаемо трескалась; низкое, истекающее колкой водой небо было угрожающе подсвечено оранжево-красным. Громыхали мимо машины, скача на щербатом асфальте и кидая в стороны невеселые фонтаны.
— Я бродяга и трущобник, непутевый человек. Все, чему научился, все теперь забыл навек. Ради… пара-ра-ра одного… одного чего? Дмитрий, не помните?..
— Розовой усмешки и на…
— Напева, точно!
Хорошо, что оба любили Гумилева.
— Ради розовой усмешки и напева одного: „Мир лишь луч от лика друга, все иное — тень его!“
На площади Бездельников — бывшей Благовещенской, бывшей Труда, теперь, наверное, опять Благовещенской, но все равно всегда Бездельников — призывно сияли ларьки, цветные от бесчисленных бутылок; издалека, да вечером, да сквозь дождь, они казались радостными россыпями стекляшек в калейдоскопе.
— Вот иду я по могилам, где лежат мои друзья. О любви спросить у мертвых неужели мне нельзя? И кричит из ямы череп тайну гроба своего: „Мир лишь луч от лика друга, все иное — тень его!“
Пришли.
— Давайте в банке. Говорят, в банках безопасней.
— Мне все равно. В банке так в банке. Главное — побольше.
— Одну.
— Не валяйте дурака, Дмитрий. Еще раз бежать придется.
— Одну.
— Две.
— Одну.
— Разучилась пить современная молодежь! — а-ля Атос сказал Глухов сокрушенно. — А ведь это был лучший из них! — и добавил уже совершенно по-нашему: — Две!
— Каждый знает, что последняя бутылка оказывается лишней, но никто не знает, какая бутылка оказывается последней, — сказал Малянов.
— Черт с вами. Одну так одну.
— „Петров“?
— Вот эту!
— Может, „Аврору“? Гляньте на ценники.
— Никогда не думал, Дмитрий, что вы мелочный человек!
Малянов наклонился к окошечку.
— Хозяин, баночку…
Торопливо, горстью, выдернув из кармана плаща мятые тысячи, Глухов с неожиданной силой отпихнул Малянова немощным плечиком. Крикнул продавцу:
— Две!
— Дуба не дайте с натуги, отцы! — с насмешливой заботой сказал крепкий, как десантник, парень внутри.
— Будь спок, — ответил Малянов, принимая банки и рассовывая их по карманам.
Уворачиваясь от машин, они перебежали площадь. Плащи отсырели, стали зябкими и тяжелыми… На углу Глухов остановился.
— Надо было три брать.
Малянов взял его за локоть.
— Ну я сбегаю, если что, — мягко сказал он.
— Но плачу я!
— Да что у вас случилось такое, Владлен?
Глухов мотнул головой и подозрительно уставился Малянову в лицо. Помедлил, тяжело и часто дыша. Назидательно поднял палец.
— Как учил Конфуций… или не Конфуций?..
Он задумался. Потом вдруг громко и торжественно промяукал с какими-то невероятными, но очень вескими интонациями, одни гласные протягивая, другие обрывая резко. Чувствовалось, это доставляет ему удовольствие.
— Ши чжи цзэ и-и и вэй шэнь! Ши луань цзэ и-и шэнь вэй и!
Две шедшие мимо размалеванные девчонки в клевых прикидах испуганно шарахнулись.
Глухов опять поднял палец.
— Когда в мире царит порядок… „чжи“ значит „благоустраивать“, „упорядочивать“, „излечивать“ даже… соблюдение моральных обязанностей… „и“ обычно переводится как „долг“, „справедливость“ — в общем, все то, что человек делает под давлением императивов морали… соблюдение моральных обязанностей оберегает личность. Но когда в мире царит хаос — личность оберегает соблюдение моральных обязанностей!
Интересная мысль, подумал Малянов. Холодный душ на ветру подлечил его, тротуар перестал колыхаться. И формулировка блистательная, почти математической четкости. Надо будет обдумать на трезвую голову. Только запомнить бы…
— Понимаете, Дмитрий? Не папки свои бумажные, черт с ними, с папками… Соблюдение моральных обязанностей! Вопреки хаосу! Потому что они-то и противостоят… хаосу. Только! Вопреки боли… страху… главное, главное — страху! — едва не потеряв равновесия, он подался к Малянову; бессильно ухватился за воротник маляновского плаща, запрокинул голову и опять лицо в лицо горячо выдохнул: — А я сдрейфил.
Оказалось, они не заперли дверь. Старомодный замок Глухова не защелкивался, его надлежало крутить ключом не только при входе, но и при выходе. На протяжении тех двадцати минут, что они летали на дозаправку, более гостеприимной квартиры не было, вероятно, на всей набережной.
Они развесили насквозь мокрые плащи на плечики, вынутые Глуховым из платяного шкафа, и расселись по своим местам. Но играть уже не хотелось. Накатывало что-то серьезное из глубин. Глухов просунул тонкий и крепкий, будто птичий, палец в загогулинку на крышке банки и дернул.
— Форвертс, — тихо сказал он, берясь за стопку.
— Аванти, — негромко ответил Малянов.
Они выпили. Глухов привычно занюхал, Малянов куснул бутерброд, еще стараясь как-то беречься, пожевал и проглотил с трудом; остальное отложил. Есть не было никакой возможности. Водка уже не грела желудок — сразу густым мятным студнем вспухала в голове.
— О вашем друге… Филиппе… ничего не слышно? — вдруг осторожно и совершенно трезво спросил Глухов.
И Малянов понял, что именно этого разговора ждал здесь годами. Именно возможность этого разговора, тлеющая с тех самых пор, связала их, таких разных, так отчаянно и бессмысленно симпатизирующих друг другу; ни тому, ни другому о главном больше не с кем было говорить.
— Как в воду канул.
— А этот… как его… Захар?
— Понятия не имею. Я знал его через Вальку только… а Валька давно уехал, я рассказывал.
— Да, помню…
Помолчали. Глухов крутил стопку пальцами, потом налил себе. Потом спохватился; неверной рукой налил Малянову.
— Мне кажется, Дмитрий, мы чего-то не додумали тогда.
Малянову на сердце вдруг словно плеснули кипятком.
— А вы не боитесь заводить об этом разговор, Владлен?
Глухов усмехнулся уголком рта, продолжая вертеть пальцами теперь уже полную стопку.
— Я один, — сказал он. Малянов молчал. — Лично меня им ничем не ущучить, а, кроме меня, у меня никого нет. Я, Дмитрий, быстро понял, что постоянной тревоги… постоянного ужаса за тех, кто близок, мне не выдержать. Жена умерла давно, еще до всего… Дети взрослые. Я с ними в такого самодура-маразматика сыграл… теперь и носу сюда не кажут, дай Бог на день рождения открыточку… А последняя моя… привязанность… — он вдруг осекся и принялся мелкими, суетливыми движениями собирать рассыпанные по столу кости и укладывать в шкатулочку. — Последняя… Я… тоже сделал так, чтобы она ушла. Им меня не взять! — крикнул он, даже чуть приподнявшись в кресле.
— Кому — им? — тихо спросил Малянов. Глухов коротко глянул на него из-под косматых стариковских бровей и пробормотал хмуро:
— Ну — ему…
— Кому — ему?
Глухов не выдержал. Поднес стопку ко рту и схлебнул одним глотком.
— Дмитрий, — сказал он перехваченным горлом. — Дмитрий, вы что-то знаете.
Тогда Малянов тоже схлебнул одним глотком. Этого мгновения он ждал столько лет — а теперь молчал, не продавить было слов. Студень в голове загустел еще пуще. Но предохранительные заслонки стояли несокрушимо; Малянов хотел — и не мог. Не мог.
— Именно вы… — медленно сказал Глухов. — Я еще тогда подумал, что это должны быть именно вы…
Малянов молчал.
— Ведь в нашей странной компании вы — уникальная фигура.
— Вот уж нет! — вырвалось у Малянова.
— Вот уж да. Вам это не приходило в голову? Вашему другу это тоже не пришло в голову, иначе он вынужден был бы как-то скорректировать свою теорию. А все так просто и так… настораживающе. Думаю — только не обижайтесь на меня, пожалуйста, — чтобы заметить очевидную, но… не имеющую к точным наукам деталь, он был слишком бесчеловечен.
— Фил — самый добрый и отзывчивый человек, какого я знал… — Малянов вздрогнул. — То есть знаю.
— Возможно. Хотя я сказал бы это не про него, а про… вас. Но не будем сейчас об этом. Посмотрите. Он одинок. И когда эти всемогущие, или это всемогущее, или скажите, как хотите… его бьют — то бьют только его. Вайнгартен. Жена, дети. Но когда его бьют — бьют только его. Захар. Те, кого он, так сказать, любил, — Глухов скривился иронически, а потом подлил себе из банки, — используются исключительно как внешний раздражающий фактор. Наравне с прочими. Что женщины, что прыщи… Фактически бьют только его. Теперь я. Не совсем одинок. Но когда меня били — били только меня. Пока я не познакомился с вами, мне и в голову не приходило, что тем, кто рядом со мной, что-то грозит. Именно после трагедии с вашим сыном я стал сам не свой… принялся все кругом выжигать со страху… а ведь, насколько я помню, и вашу супругу пытались как-то…
По лицу Малянова прошла тень, Глухов всполошенно взмахнул руками — и едва не опрокинул ополовиненную банку; теперь он мусолил в пальцах уже не стопку, а всю банку сразу.
— Простите, если я вам напомнил!..
— Ничего, Владлен, ничего.
— Я хотел сказать лишь, что вы — единственный, кого били косвенно. Опосредованно. Кого мучили не лично, а муками близких. И только тем и сломали.
Малянов покрутил головой и вдруг жалко улыбнулся.
— Давайте-ка, Владлен, прервемся на минутку и всосем со скворчанием, — попросил он. Глухов внимательно посмотрел на него хмельными, безумными глазами и произнес:
— Конечно.
Они всосали. Но, едва продышавшись и прокашлявшись, Глухов сказал негромко, но так напряженно, что казалось, горло у него готово взорваться:
— Не кажется ли вам, уважаемый Дмитрий… Чтобы так точно отличить, кого нужно ломать болезненной сыпью, шаровыми молниями и ужасными пришельцами, от того, кого нужно ломать угрозой здоровью ребенка, это ваше Мироздание… эти ни черта не смыслящие дохлые атомы и кванты… слишком уж хорошо понимают, что такое любовь?
Попадание было математически точным. Малянова заколотило.
— Вы ничего не хотите мне сказать? — почти прошептал Глухов.
Малянов хотел сказать многое. Давно хотел.
— В отличие от вас, я не один, — сказал он.
Он мог, очень постаравшись, допиться до того, чтобы начать ненавидеть Бобку и Ирку за то, что все время за них боится. Как-то раз, с год назад, он в таком состоянии заявился домой в три ночи… это была картина маслом, лучше не вспоминать. Сказать по правде, он почти ничего и не помнил.
Но допиться до того, чтобы не бояться за них, — было невозможно.
— Хорошо, — после паузы сказал Глухов и потряс банку, проверяя, сколько в ней осталось. Банка булькнула с успокоительной грузностью. — Тогда я еще поговорю сам.
— Конечно, — сказал Малянов. — Мне очень интересно.
— Не сомневаюсь.
Глухов помедлил, а потом отставил вдруг банку и тяжело, совсем по-стариковски поднялся. Пошаркал к книжному шкафу.
— Открытие того факта, что Мироздание неожиданно оказалось этически подкованным, заставило меня посмотреть на всю ситуацию несколько с иной точки зрения, — с дурной, пьяной академичностью начал он. — Может быть, дело вообще не в тех научных разработках, которые мы сочли тогда… с легкой руки вашего друга… корнем всех бед? — он говорил и одновременно, наклонив маленькую лысую голову к плечу, просматривал корешки книг. — Во всяком случае, не только и не столько в них.
— А в чем же? Ведь давление явно было снято, когда мы… вы, я, Захар… Валька… бросили…
Глухов на миг обернулся, хитро прищуренным глазом стрельнул на Малянова и опять уставился на фолианты. Что он искал?
— А снято ли? — спросил он.
Малянов молчал.
— Нет, наши работы, безусловно, послужили каким-то толчком. Инициирующим, стимулирующим… как хотите назовите. Но, если подумать всерьез и спокойно, — любая, любая научная работа чревата тотальным изменением мира через миллиард лет. Любая, понимаете? А не пустили только нас. Ну, безусловно, еще кого-то, кого мы не знаем… Но ведь знаем мы довольно многих. И среди этих многих Одержанию, так сказать, подверглись только мы. Значит, дело не столько в том, чем человек занимается, сколько в том, какой он. Логично?
— Логично, — против воли улыбнулся Малянов.
Глухов нашел наконец то, что искал. С трудом, в несколько приемов — она не шла сразу — выдернул тоненькую коричневую книжицу из вбитых в полку томов.
— А это сразу меняет все акценты, не правда ли?
— По-видимому, да, — признал Малянов после паузы, хотя в первый момент хотел смолчать.
— Но неужели мы такие подонки? Неужели именно мы так дурно воспитаны временем, страной… чтобы это разбирающееся в любви, а значит, и во многих прочих чисто человеческих ценностях Мироздание сочло необходимым именно нас придержать?
— Ему виднее.
— Знаете, милейший Дмитрий, это не ответ. Пути Божьи неисповедимы, вот что вы мне сейчас сказали. Но вы же ученый!
— Да какой я теперь ученый, — вырвалось у Малянова.
Глухов снова уселся в кресло напротив.
— Что важно для ученого в первую очередь? Обилие материала. Приняв за критерий Мироздания научную составляющую нашей деятельности, мы оказались в тупике. Потому что могли оперировать только фактами, относящимися к нам пятерым. Но, приняв за критерий этическую составляющую, мы сразу расширяем круг пригодного к использованию материала. Потому что спокон веку человечество бьется и не может разрешить загадку мира, возможно, одну из основных его загадок… от ответа на которую, возможно, в полном смысле слова зависит судьба человечества. Не от разгадки тайны рака, и не от разгадки тайны гравитации, и не от разгадки тайны письменности инков, и не от чего-то там… — Глухов вдруг сбился на нормальную человеческую речь и запнулся, сосредоточиваясь. — Загадка формулируется так: почему каких-то людей, в общем, совсем даже не плохих, зачастую наоборот, это ваше Мироздание берет под пресс, не давая им жить? Почему?
— Ну и почему? — затаив дыхание, спросил Малянов. Он был уверен, что Глухов ответит. Его мысль шла параллельно мыслям Малянова — только он не боялся.
Глухов некоторое время глухо, страшно дышал, глядя на Малянова исподлобья.
— Не знаю! — выкрикнул он потом. — Не знаю!! — и снова вздохнул шумно, как кит. — А вы, похоже, знаете…
Малянов молчал.
— Критерий, Малянов! — рявкнул Глухов и потянулся к банке. — Критерий!!
Они всосали.
— Самый пример, который на слуху — Иов, конечно, — перехваченно сказал Глухов. — Но вот совсем иная культура. Никаких вам библейских истерик, никакого кичливого, будто выигравший „Волгу“ золотарь, хамски упивающегося своим всемогуществом Бога… — Он раскрыл коричневую книжицу, лежащую у него на коленях. — Китай, три века до Рождества Христова. Был там такой поэт, Цюй Юань, в конце концов от всего этого скотства он утопился…
— Какого скотства?
— Какого? Несправедливости мира, вот какого!
— О… Тогда нам всем пришлось бы топиться.
— В том-то и дело, что далеко не всем! Я вам сейчас почитаю… перевод, конечно, не ахти, но мучить вас подлинником… Две поэмы, одна называется „Призывание души“, а другая — не в бровь, а в глаз… именно то, что нас с вами сейчас интересует, интересовало и его, поэма называется „Вопросы к небу“… Вот, слушайте… „Я с юных лет хотел быть бескорыстным и шел по справедливому пути. Всего превыше чтил я добродетель, но мир развратный был враждебен ей. Князь испытать меня не смог на деле, и неудачи я терпел во всем — вот отчего теперь скорблю и плачу…“
Неудачи я терпел во всем, думал Малянов. Да, это наш человек. Двадцать три века назад… с ума сойти. Будто сию минуту вышел. Правда, в наше время про себя никто не посмел бы, кроме всяких Анпиловых-Жириновских, заявлять: я с юных лет хотел быть бескорыстным и шел по справедливому пути. По принципу: сам себя не похвалишь — три года ходишь как оплеванный… Вот почему я не могу принять религии — уж слишком отцы сами себя хвалят. Пока говорят о вечном — и чувствуется дыхание вечности; но как переключаются на дела людские — так все людское из них прет… Мы самые замечательные, нам даже грешить можно, потому что наше покаяние будет услышано Господом в первую очередь, и вообще — без церкви и ее бескорыстной смиреннейшей номенклатуры вам, быдло, пыль лагерная… то есть, пардон, земная… с Богом не связаться…
— Узнаете симптомы? Но никакими науками, ни астрофизикой, ни востоковедением, Цюй Юань не занимался, смею вас уверить! Он был выделен из общей массы чисто по этическому признаку и раздавлен именно за это: за желание чтить добродетель и быть бескорыстным. Понимаете? Почему? Чем Мирозданию не по нраву праведники?
Глухов горячился, стариковски брызгал слюной — и читал, читал… Малянов честно вслушивался, но скоро от всевозможных Саньвэев, Чжу-лунов, Си-хэ и Сяньпу голова у него пошла кругом. Он всосал.
— „Во тьме без дна и без краев свет зародился от чего? Как два начала ''инь'' и ''ян'' образовали вещество? Светло от солнца почему? Без солнца почему темно? При поздних звездах, до зари, где скромно прячется оно? Стремился Гунь, но не сумел смирить потоки! Почему великий опыт повторить мешали все-таки ему? Ведь черепаха-великан и совы ведьмовской игрой труд Гуня рушили! За что казнен владыкою герой?“ Вы чувствуете подход, Дмитрий? Это ведь наш подход! Фрейд говорил: поэты всегда все знали! Это правда! Общий интерес к устройству Вселенной как таковой подразделен на интерес к ее физическому устройству и интерес к ее этическому устройству. Для Цюй Юаня эти категории однопорядковые. Несправедливость происходящего в мире людей он уже тогда поставил в ряд с другими не объяснимыми на том уровне знаний природными явлениями. Но мы-то теперь знаем, почему от солнца светло и куда солнце прячется ночью! Может, сумеем понять и то, почему и за что казнен владыкою герой?!
Глухов умолк. Иссяк.
Страницы раскрытой книги трепетали у Глухова на руках — руки тряслись.
— Молчите, — проговорил Глухов мертво и отложил книгу на столик. — Что ж, вольному воля… Но у меня недавно появилась еще одна мысль. И я ее выскажу, — он перевел дух. — Страна, — сказал он. — Наша страна. У вас нет ощущения, что ее тоже кто-то нарочно не пускает вперед? Шаг влево, шаг вправо, кувырки на месте — только не вперед…
— А что это такое — вперед? — спросил Малянов.
— Не знаю… В том-то и дело, что этого я тоже пока не знаю. Но если бы удалось найти, за что не пускают, — из этого автоматом выскочил бы и ответ на вопрос, куда не пускают. Покамест я могу только сказать, что — не пускают. Это факт. Это исторический факт. Именно когда возникает реальный шанс… То спятит властный Иван Четвертый, то при дельном Годунове из года в год неурожай, то именно гуманистом и экономистом Гришкой Отрепьевым пальнут из пушки, то вдруг Петр Великий вылезет со своим чисто муссолиниевским „ничего кроме государства, ничего вне государства, ничего помимо государства“, то именно Освободителя шандарахнут бомбой, то большевики учинят в стране, уже начавшей наконец развивать европейской силы экономику, восточно-феодальную деспотию… а то вдруг всенародно избранные полезут изо всех щелей с воплями: и мне кусок! И мне кусок! Вам это не приходило в голову?
Малянов помолчал. Медленно произнес, глядя в сторону:
— Мне это приходило в голову.
Глухов вскинулся:
— Ну и?
— И ничего, — улыбнулся Малянов. — Знаете что, Владлен? Принесу-ка я вторую банку, она у меня еще в плаще в кармане. Грех упускать такую возможность. Если уж начали, ужремся сегодня, как свиньи. Вы не против?
Глухов похлопал себя по карманам кофты, нащупал что-то; вытащил удостовериться. Какое-то лекарство. Валидол, нитроглицерин… в общем, как углядел Малянов, что-то сердечное. Дальнозорко держа упаковку в вытянутой руке, Глухов для вящей надежности прочитал название и положил лекарство на столик рядом с собою, у локтя.
— Несите, — сказал он. — Я не про…»
«…но не как свинья. Некие тормоза все же сработали. Скорее всего, не хотелось Ирку огорчать.
Вылив остатки водки в раковину, чтобы Глухов не соблазнился ночью или под утро, убедившись, что тот уже буквально засыпает на ходу, и тщательно послушав, запер ли изнутри хозяин дверь, Малянов, шатаясь, ушел. На беспросветно темной лестнице, скачущей под ногами, как батут, он сверзился-таки и основательно приложился копчиком о ступеньку; искры из глаз посыпались.
Транспорт уже едва ходил, но Малянову на сей раз, против обыкновения, повезло — и он из этого сделал вывод, что нынешний сумбурный разговор с Глуховым, в общем, не поставлен ему в вину. Отмолчался — не виноват. Будь все проклято. Осточертело отмалчиваться.
Две трети дороги удалось подъехать на ковыляющем в парк трамвае. Последнюю треть прошел пешком. Вторую половину этой трети он уже более-менее помнил; от предыдущих этапов путешествия осталось лишь ощущение боли в расшибленной заднице и чьего-то пристального взгляда на затылке; как ни крутился Малянов на сиденье — а значит, было какое-то сиденье, значит, он сидел в том, на чем ехал, значит, он на чем-то ехал — чужой взгляд оставался на затылке, и точка. Паранойя.
Дождь перестал, а ветер задувал все сильней, все злей. Зяблось. Под ногами хлюпали и расплескивались невидимые в темноте лужи. На всей улице у домов не горели фонари — то ли опять ветром порвало провода, то ли город экономил электричество. Граждане, соблюдайте светомаскировку!.. Нет проблем, сблюдем, раз свету нету. Лучше нету того свету.
Тучи кое-где полопались от ветра, и в рваных бегущих дырах едва живыми точками помигивали звезды. Там, среди этих звезд, звучал и звучал отголосок новорожденного вскрика мира, веяло нескончаемое дуновение, оставленное его изначальным вздохом, — реликтовое излучение. Его открыли здесь, в Пулкове, — но, взнузданные обязательствами плановыми и обязательствами встречными социалистическими, приняли за шум отвратительно неустранимых помех, отмахнулись, переключились — и два десятка лет спустя Нобелевки за состоявшееся открытие получили американцы Пензиас и Уилсон. А там, среди звезд, было на это плевать. Там из века в век, из миллионолетия в миллионолетие, космический водород излучал на волне длиной в двадцать один сантиметр. Там жила гравитационная постоянная. Там жила постоянная Хаббла. Они были настолько постоянными, насколько вообще что-то может быть постоянным в этой не нами придуманной Вселенной. Они совершенно не зависели от баксовых полистных ставок и от государственного финансирования бюджетных организаций, от того, куда поплывет валютный коридор, от того, как вырядится на следующее заседание Марычев, на сколько еще старушечьих голосов распухнут щеки Зюганова и что еще ляпнет Ельцин, от того, в каком селе на сей раз мирные чеченские убийцы выпустят кишки мальчикам-поработителям, вконец уже переставшим понимать, зачем их тут кладут… от того, будет ли у меня завтра трещать башка и выкурит ли Ирка завтра пачку или все-таки меньше.
Вспомнилось, как осенью семьдесят восьмого он гордо и опасливо катил по этой самой улице новорожденного Бобку в его коляске, а на плече болтался транзистор, и тоже совсем еще молодая Алла Борисовна мягко пела: „Этот мир придуман не нами, этот мир придуман не мной…“
Как там сказал Глухов? Поэты всегда все знали.
„Во тьме без дна и без краев свет зародился от чего?“
Хотелось прижаться лицом к коленям этих постоянных и зареветь. Не марая свою боль словами; ведь слова у нас теперь только для политики, сплетен или острот. У трезвых, во всяком случае. Мы же несгибаемые, мужественные, гордые. Не постоянные, но гордые. Чем менее постоянные, тем более гордые… Просто зареветь в голос.
И чтобы постоянные, погладив по голове, сказали: все образуется. Вы будете с нами.
Под аркой двора словно ворочался увязший по горло в трясине какой-нибудь вепрь Ы; взревывал, лязгал, скрежетал. Бил копытом. Окаянно резкий свет фар косо выхлестывал на улицу, внутренняя стена арки пылала мертвенным огнем. Это очередной тяжелый „краз“, отягощенный необозримым прицепом, пытался, заняв всю ширину прохода, вырулить на улицу со двора и никак не мог. Не хватало места. Как он очутился во дворе — не иначе, с неба был спущен ангельской дланью. Или сатанинской? Он подавал назад, дергался, подавал вперед, безнадежно и тупо ревел, испуская видные даже в неверном свете собственных фар, отраженном стеною арки, густые и тяжелые, как жидкая грязь, ошметки черного дизельного гарева — но прицеп не вписывался в поворот. Малянов отступил, остановился на улице чуть поодаль. Откинулся на стену дома спиной, чтобы не потерять равновесия — хмельная голова кружилась, если ее поднять, тем более, если запрокинуть, и десять, минут смотрел в небо, и пятнадцать минут, и двадцать — пока наконец грузовик…»
3
«…с тяжелой головой. И глаз не открыть. Вообще оживать как-то не хотелось. Незачем было оживать. Иркина сторона тахты пустовала и холодила — значит, встала, и встала давно. Некоторое время Малянов поворочался с боку на бок, пытаясь найти положение поуютнее, такое, чтобы еще подремать. По опыту он знал, что, если проснуться после одиннадцати, практически никаких следов вчерашнего отравления в извилинах не остается. А вот если проснуться до девяти, весь день ходишь дурной. Но не задремывалось, и даже не лежалось. И вставать не хочется, и лежать не хочется. Вот так и вся наша мутота: и жить тошно, и помирать жалко… Он открыл глаза.
И сразу увидел висящую на стене напротив изголовья — кажется, это называется „в изножье“ — дешевенькую и уже порядком выцветшую, но все равно прекрасную, нежную, как клавесинная соната, „Мадонну Литта“. Малянов купил эту репродукцию за пять, вроде бы, рублей, или даже за три, в отдельчике изопродукции Гостинки на Садовой линии Ирке к Восьмому марта. Давно. Совсем старый стал, подумал Малянов. То, что было давно, помню до мелочей…
Как на зимних каникулах пятого курса мы, совершенно шальные, катались на лыжах в Ягодном и страшно форсили, демонстрируя своя нешибкие спортивные умения — доохмуривали дружка дружку, хотя всем окружающим уже ясно было, что взаимный охмуреж состоялся вполне, так мы сняли… стояли морозы, и я мучился со своей кинокамеркой „Кварц“, потому что пленка от холода в ней становилась хрупкой и лопалась, приходилось прямо на лыжне снимать варежки, лезть окоченелыми пальцами в ледяные потроха, отрывать зажеванные куски и вновь вправлять пленку в принимающую кассету, и Валька говорил: „Ты похож на шпиона, который, гад, чует, что его сейчас брать придут, и лихорадочно засвечивает свои фотоматериалы…“; и Фил, и Валька со Светкой хохотали, и мы с Иркой хохотали — но совсем не так, как хохочем теперь… А назавтра мы снова бежали гуськом по сказочно остекленевшему в солнечном холоде беззвучному лесу, оглушительно скрежетали лыжни, и, завидев валяющиеся на снегу обрывки кинопленки, Валька патетически возглашал: „Здесь происходила безнадежная борьба американского шпиона с сибирским пионером Васей!“ — и мы хохотали… но не так, как теперь. А поздним вечером — да собственно, ранней ночью, все уже расползлись по комнатам — в коридоре, у окошка, мы с Иркой впервые поцеловались, и я помню, как пахли ее духи, помню, как она прятала глаза и подставляла губы…
А „Мадонна“ была уже в семьдесят седьмом. Ирка Бобку ждала, а я ждал утверждения кандидатской ВАКом. Год великих свершений… Казалось, все барьеры сметены, все билеты куплены, и открыта нам единственная наша дорога, по которой мы, талантливые, любящие, работящие, будем нестись, будто на салазках с американских горок — вопя от азарта и восторга. Да я и впрямь вопил от азарта и восторга, когда пересказывал Ирке, раздувшейся грациозно и цветуще — не так, как теперь, — все поздравления и хвалы, обрушенные на меня во время защиты; а она смотрела завороженно, преданно, влюбленно. „Избыточные фотоны — косвенное свидетельство не регистрируемой современными средствами наблюдения объемной вязкости Вселенной“. Как там у Стругацких в „Стажерах“?.. „Наступает чудесный миг, открывается дверь в стене — и ты снова Бог, и Вселенная у тебя на ладони…“
А через два года наши полезли в Афган.
Прощай, счастливый мальчик.
Малянов решительно сел и спустил ноги с тахты. Комната решительно поплыла. Малянов, набычившись, уставился в пол.
— Ух, блин, — вслух пробормотал он.
Посидел немножко и снова лег.
Приоткрылась дверь, и в комнату осторожно просунулась Иркина голова.
Несколько секунд Маляновы смотрели друг на друга. Потом Ирка спросила на манер свежезамужней путаны из телерекламы:
— Может быть, „Алка-Зелцер“?
Малянов в ответ застонал и по-жаровски, со страданием в голосе, протянул из „Петра Первого“:
— Катя, рассолу!
Ирка вошла и присела на край тахты.
— Пациент скорее жив, чем мертв, — констатировала она фразой из „Буратино“. — Ну и зачем тебе это надо было?
— Что? — спросил Малянов.
— Столько выхлебать.
— Ой, Ир…
— Никаких „ой“ и никаких „Ир“. Я понимаю, можно выпить рюмку, две — чтобы согреться, расслабиться, чтоб разговор… Что я, ведьма? Баба-Яга? Понимаю. Даже сама могу. Но ведь ты зеленый! И вчера прекрасно знал, что утром будешь зеленый. И никуда не годный.
— Иронь, ну ладно тебе… У Глухова что-то случилось — то ли их контору прикрыли совсем, то ли еще что… в отпаде человек. Ну, оттянулись! Когда так вот с истерики оттягиваешься — за дозой не уследить.
Ирка поджала губы.
— Ну конечно, у Глухова, — сказала она саркастически. — У Глухова отпад с истерикой — а медузой ты лежишь.
— Надо, кстати, позвонить ему, — озабоченно сказал Малянов. — Жив ли…
— Он нас переживет.
— Только, наверное, лучше попозже… Вдруг спит?.. Сколько сейчас времени, Иронь?
— Я — не говорящие часы, — Ирка поднялась. — Вон лежат — встань, возьми и посмотри. Если можешь. А если не можешь — то и незачем тебе время.
У двери она остановилась. Обернулась.
— Работать, как я понимаю, мы сегодня не в состоянии.
— Ну почему… К вечеру я, может, и оклемаюсь.
— Ну тогда вечером и посмотрим. А покамест — объявляется хозяйственный день. Пробежка по лабазам и обеспечение недельного запаса продовольствия, стирка, уборка квартиры. Что предпочитает ваше изболевшееся от препон бытия, алчущее алкогольного отдохновения сердце?
— Откровенно говоря, сердце предпочитает пару бутылок пива, а потом еще пару часов поспать, — с бледной улыбкой натянуто пошутил Малянов.
Ирка вытянула к нему обе руки и показала две фиги.
— Тогда, хозяйка, у сердца нет предпочтений. Руководи, я все приму и все исполню.
— Договорились. Поднимайся пока, а я посоображаю, как тебя лучше приспособить.
Со второй попытки акт оставления ложа прошел успешнее. Сунув ноги в шлепанцы, горбясь, Малянов нешустро пошлепал в ванную. Дремлющий на полочке под вешалкой, среди перчаток и шарфов Калям нехотя приоткрыл на него глаз, но не пошевелился и не издал ни звука. Из кухни выступил Бобка, остановился — руки в карманах.
— Что, сильно вдула? — сочувственным баском спросил он вполголоса.
Малянов только рукой махнул. Потом сказал:
— Правильно вдула. Самому тошно…
Бобка коротко хохотнул со знанием дела.
— Еще бы не тошно… Ох, и разит от тебя, па.
— Представляю… Ничего, Боб. Сейчас душ приму, зубья вычищу, всосу кофейку — и наверняка реанимнусь. Мы еще увидим небо в алмазах.
— Давай. А то смотреть на тебя — прямо сердце кровью обливается.
Малянов благодарно улыбнулся сыну и открыл дверь ванной.
— Да, тебе какое-то странное письмо пришло! — крикнула Ирка из комнаты.
— Что за письмо? — Малянов остановился на полушаге, сразу ощутив холодок нехорошего предчувствия.
Ирка вышла в коридор с бумажкой в руке. Листок ученической тетрадки, кажется.
— Я где-то к полуночи выглядывала тебя поискать…
— Елки-палки, зачем?
— Ну как. Все-таки муж. Вдруг тебя твоим пресловутым грузовиком размазало. Да ты не беспокойся, я только во двор. Ни тебя, ни грузовика, естественно, не обнаружила…
Куда как естественно, подумал Малянов.
— А на обратном пути смотрю — что-то белеет в дырочках. Когда оно туда попало… прямо чудесным каким-то образом. Перед программой „Время“ Бобка за „Вечеркой“ лазил — его еще не было.
„Знаю я все эти чудеса“, — снова, как когда-то, подумал Малянов. Он сразу забыл и о головной боли, и о душе.
— Без конверта, просто сложенный вчетверо листок. И надписан поверху: Малянову.
— Дай!
— Мы прочитали, извини… раз уж без конверта. Ничего не поняли, чушь полная. То ли кто-то подшутил, то ли после такого же вот снятия стресса перепутал ящики… или дома…
— Или города, — добавил Бобка.
Малянов развернул листок. Точно, тетрадка. В клетку. Небо в крупную клетку.
— А руки-то дрожат, — с отвращением сказала Ирка. — Позорище. Пьяндыга подзаборный.
Руки дрожали, и душа дрожала, как заячий хвост. Началось. Началось. Глаза Малянова раз за разом пробегали коряво написанные, неровные, бессмысленные фразы: „Если вам дороги разум и жизнь, держитесь поближе к торфяным болотам. Само ломо. Мы не шестерки! Отрежь хвост. Вечер“.
Он медленно, как черепаха, сглотнул. Поднял взгляд на жену. Она смотрела на него безмятежно и чуть иронично. Или чуть презрительно.
— Хотела выбросить, но не решилась, — сказала она. — Как ни крути, тебе адресовано. Может, секреты какие-то, — усмехнулась. — И вообще, это было бы неуважительно по отношению к главе семьи.
— Генри Баскервилю жена Стэплтона писала про торфяные болота, — не утерпел Бобка. — Только у нее было наоборот: держитесь подальше!
— У буржуев всегда все наоборот, — изо всех сил стараясь, чтобы голос его не выдал, проговорил Малянов. Листок трясся в руке. Малянов протянул его Ирке. — Конечно, кинь в ведро. Ребята, наверное, балуются. Может, это вообще знатоку торфяных болот Малянову-младшему. Видишь, как он сразу расшифровку начал.
— Мы эту версию отрабатывали, — солидно пробасил Бобка.
— По нулям.
— Ну я не знаю, — сказал Малянов.
Легким пролетающим движением руки Ирка взяла из его трепещущих пальцев письмо и послушно двинулась на кухню, где под раковиной стояло помойное ведерко. Малянов смотрел ей вслед и думал: она действительно не понимает? Или, подобно ему, мужественно делает вид? Храбрость или черствость? Помнит ли она, как этот вот отца уже переросший симпатяга, а тогда — трехлетний ласковый бойкий лопотун тужился у них на коленях до слез до побагровения: „Ы-ы-ы! Ы-ы!“, и не мог произнести ни слова? То есть помнит, конечно, еще как помнит — но связывает ли с тем, что происходило потом и продолжает происходить теперь? Или для нее эта история и впрямь сразу кончилась, как только Вечеровский бесследно исчез из своей квартиры — то ли действительно уехал на Памир, как собирался, то ли нет — и Бобка после трехдневных невыносимых мук, трех дней ада кромешного сразу вновь залопотал? И, как вообще свойственно женщинам, разделяющим жизнь на ящички: это — отдельно, это — отдельно, а это — само по себе, и не сметь перемешивать, она запихнула все, тогда происходившее, в герметичный бокс, тщательно его опечатала и уже ни за что не заглянет туда?
От ответа на эти вопросы зависело очень многое. Зависело все. Зависело, понимает ли она, что происходит с Маляновым, или просто махнула на него рукой и терпит, потому что Бобка. Зависело, едино они живут или просто притерто. Но Малянов никогда не смел спросить. Он боялся, Ирка элементарнейшим образом не поймет, о чем речь. И это будет значить, что — всего лишь притерто.
Если едино — все обретало смысл. Если притерто, то… то — лучше, как Глухов.
Он обнял сына за плечи и тихонько, чтобы Ирка не слышала, спросил:
— Сильно волновались вчера?
— Спрашиваешь, — так же тихо ответил Бобка. И чуть смущенно, но честно добавил: — Па, ты, пожалуйста, пока не реанимнулся, не дыши ни меня.
Сквозь ком в горле Малянов засмеялся и пошел в душ.
И только в горячем потоке, когда смотанные похмельем в маленький и тугой, болезненно болтающийся клубок извилины в башке начали, удовольственно покряхтывая, расширяться и распрямляться, заполняя весь черепной объем, Малянов, вновь вспоминая и переживая молчаливое исчезновение Фила — хотя о чем ему было с нами, дезертирами, еще говорить? — вдруг сообразил. И зубная щетка, мирно елозившая по зубам, вывернулась из вдруг снова ставших неповоротливыми пальцев и больно ударила в десну.
Малянов опустил руки и несколько секунд стоял как оглушенный.
Вечер — это Вечеровский. „Вечер“ в записке — это подпись.
Это письмо от Фила, вот что это такое.
Одному Мирозданию известно, как оно очутилось в ящике и что значит.
Повеяло холодком. Значит, открылась дверь в ванную. Точно; сквозь полупрозрачную полиэтиленовую занавеску Малянов увидел смутный Иркин силуэт.
— Ты как тут? — спросила Ирка громко, чтобы Малянов расслышал ее сквозь бодрый плеск.
— Отлично.
— Сердце?
— Нету.
— Да ну тебя, Димка! Я серьезно. Не делал бы ты воду такую горячую — замолотит сердчишко с бодуна.
— Метода выверена, — ответил Малянов. — Я потом холодненькой окачусь.
— Ну вот тогда тебя кондратий и хватит. Сосуды-то уже не те!
— Сосуды-то как раз те, — сказал Малянов. — Содержание в них не то.
Ирка засмеялась.
— Очухался, чертяка. Ну, не задерживайся тут слишком, я кофе тебе уже сварила. Остынет. А я на часы смотрю — думаю, все, утоп.
— Сейчас, Иронь, выхожу.
Вновь повеяло коротким, едва ощутимым сквознячком — дверь открылась и закрылась.
Почему он так странно написал? Действительно, шифровка какая-то. Торфяных болот… Что он хотел? Откуда?..
Так, так, спокойно. Мы еще слегка ученые, логически мыслить не совсем разучились. Тот же Шерлок пляшущих человечков как расщелкал — мы что, хуже? Он не знал, что Земля кругом Солнышка крутится, — а мы даже слово „Галактика“ еще помним. Хоть сейчас ее разложим по Гартвигу…
Как там было-то?
Оказалось, нелепый текст воткнулся в память, словно я наперед знал о его важности. Впрочем, так и было, вероятно — интуиция сработала… Да какая к черту интуиция — страх! Обыкновенный вечный страх. Если случается что-то — значит, оно тут, рядом, щекочет тебя по загривку, Мирозданьице наше: не шевелись, Малянов! не болтай, Малянов! не увлекайся, Малянов! стой смирно!
Почему текст такой странный?
Фил хотел, чтобы никто, кроме меня, не понял?
Но ведь и я не понимаю…
А он был уверен, что пойму. Напрягусь и пойму. А больше — никто.
Кого он боялся?
Никого он никогда не боялся.
Тогда так — от кого таился?
От Мироздания — дурацкими шифровками на уровне седьмого класса средней школы?
Не о том думаешь, Малянов. Расшифруй сначала — потом будешь оценивать ее уровень.
Давай выходить. Ирка волнуется. Пылесосить буду — подумаю. Вряд ли полчаса туда-сюда играют какую-то…»
«…к болотам, думал Малянов, накручивая телефонный диск. К болотам, к болотам, поближе к болотам. Болот-то у нас тут хоть отбавляй… К торфяным болотам. Не просто к бифштексам, а к ма-аленьким бифштексам…
— Да не звони ты ему, — сказала Ирка, подняв голову от телепрограммы, которую тщательно изучала. — Либо спит еще, либо за добавкой побежал… Ну вот не ответит он — ты что, к нему помчишься? У тебя все равно ключа нет.
— Не ответит — тогда буду мало-мало подождать, потом опять мало-мало звонить, — ответил Малянов, вслушиваясь в длинные гудки. Поближе к торфяным болотам… Зачем? И как это возможно, что я, буду анализы у них брать, торфяные они или еще какие-нибудь?
— Не лучший это у тебя друг в жизни, — сказала Ирка, вновь углубляясь в роспись вечерних телепередач.
— Но ведь друг же, — возразил Малянов. — Между прочим, он притчу про этого своего Конфуция рассказывал… Зашел Конфуций к другу, у друга мать умерла, ну тот и зашел выразить этак по-китайски, с миллионом поклонов и словес, свои глубочайшие и искреннейшие соболезнования. А корешок чего-то там веселый скачет, ржет, как бегемот беременный… Поддал, наверное. Конфуций все положенные поклоны и словеса исполнил и удалился, а потом его соседи и спрашивают: как, дескать, ты мог такому невоспитанному… можно сказать, аморальному человеку положенные поклоны бить? А Конфуций и говорит: к узам дружбы нельзя относиться легкомысленно.
Ирка только головой помотала — и тут в трубке наконец щелкнуло и раздался страдальческий голос:
— Кто там?
— Владлен, это Малянов. Решил узнать, как вы… Уже первый час, я подумал, вряд ли разбужу.
— Мы вторую банку допили?
— Конечно, — соврал Малянов.
— Хорошо… Мне помнилось, не допили… полез в пять утра — пусто. Хорошо, что пусто, а то я бы…
— Как сейчас-то? — спросил Малянов, поняв, что продолжения фразы не дождется.
— Уже ничего. Тоска только.
— Ну это дело житейское.
— Разумеется. Прогулялся по набережной. Погода дрянь, правда… зато ветерком освежило. Перенапряглись мы вчера, пожалуй.
— Пожалуй.
— Я тоже все хотел вам позвонить, Дмитрий, узнать, как вы добрались…
— Прекрасно добрался. С трамваем повезло.
— Заблудившийся трамвай?
— Он самый.
— Дмитрий, я… — Глухов неловко, опасливо помялся, — лишнего ничего не… наговорил вчера?
— Да нет, — с простодушным недоумением ответил Малянов. — Болтали о том, о сем, китайские стихи читали… Мне, кстати, понравились. Только очень много имен собственных, путаешься в них.
— Ну это же совершенно иной тип культуры! — сразу оживился Глухов. — Апеллирование к историческому прецеденту, за которым тянется целый шлейф устойчивых ассоциаций и аллюзий, к культурному блоку…»
«…и смущенно пробасил:
— Па, у тебя десятки не будет?
— Вот те раз, — сказал Малянов и опустил руки. Пылесосный шланг, который он держал, собираясь воткнуть его в надлежащее отверстие облупленного доисторического „Вихря“, шмякнул по полу. — А что стряслось?
— Да понимаешь, тут такое дело… Я вечером сегодня к Володьке намерен двинуть…
— А там за вход платить надо, — почти не скрывая неприязни, с издевкой произнес Малянов. Володька ему крайне не нравился. Сплошные баксы-слаксы. Судя по отпрыску, семейка была еще та. Из мелких новых хозяев жизни.
— Считай, что угадал. Мы у него компутером забавляемся… они четверку поставили, а на четверке оперативка — во. — Бобка широко развел руки и сразу напомнил Малянову неизбывное „А у нас во такой клоп вылез“, — и грузятся игры… ну… офигенные. Но этот редис теперь деньги берет. Часик ув муонстров усяких пошмалял — гони десятку. Износ, грит, амортизация…
Действительно, подумал Малянов. И возразить нечего. В рамках господствующих ныне представлений — все честно. Износ. Амортизация. Рынок хренов.
— А ты не шмаляй, — посоветовал Малянов. — Возьми вон книжку, да в кресло с ногами. И тащиться никуда не надо.
Бобка взглянул ему в глаза и честно сказал:
— Хочется очень.
— Ну, — сказал Малянов, — против этого возразить нечего. Если нельзя, но очень хочется, то можно.
— Я и так стараюсь пореже. Понимаю же, что с башлями напряг…
Поближе к торфяным болотам… Само ломо… Блин, что еще за „само ломо“? На первые слоги надо делать ударения или на последние? Или — по-разному? Самоломанный? Все мы самоломанные, но, может, с его точки зрения, я — в особенности? Может, и так, конечно. Бобка молчит нарушает Гомеопатическое Мироздание тчк. Но при чем тут моя самоломанность? Отстриги хвост… Надо же этак накрутить! Слушайте, ребята, может, я ерундой занимаюсь, и никакой это не Фил?
— Одно скажу, — проговорил Малянов. — В мое время друзья с друзей денег не брали. С таким человеком здороваться бы перестали.
А может, и не перестали бы, подумал он. Смотря кто, смотря где. Идеализирую. Ох, старый стал…
— Ну… — ответил Бобка, разведя руками, и Малянов пожалел, что вообще вякнул. Какой смысл произносить слова, лишенные смысла. — В ваше время деньги на фиг были не нужны. В лавках все равно пусто, а на Майорку только портвейнгеноссе допускались. Нормальные граждане просто чалили с работы, кто что мог, а потом махались бартером.
— Не скажи. За четыре, например, тысячи можно было, например, машину купить.
— Как сейчас — один занюханный бутер в тошниловке, — мигом сконвертировал Бобка.
— В семьдесят первом, помню, я полгода откладывал помаленьку со стипендии — и купил кинокамеру „Кварц“ за сто сорок пять рублей. Счастлив был — не представляешь!
— Да, ты показывал про маму молодую, и еще про меня — ползуна. Кстати, я бы с удовольствием опять посмотрел. Вы такие хорошие там, на лыжах.
— Обязательно посмотрим. И, знаешь, я все мечтал: вот вырасту большой, заработаю много денег и куплю за триста рублей кинокамеру с трансфокатором…
— Ну, может, еще вырастешь.
— Скотина!
Бобка довольно захихикал. Малянов легонько его пихнул кулаком; Бобка изобразил отруб.
— Знаешь, где мой пиджак висит? — риторически спросил Малянов. — В левом внутреннем кармане бумажник. Иди сам и достань десять штук, я мужским делом занят. Пыль сосу.
Бобка осветился. И тут же его будто ветром смело; „Спасибо, па!“ — прозвенело уже из коридора.
Да, господа-товарищи, с потеплевшим сердцем подумал Малянов. Ради того, чтобы увидеть сына счастливым, стоит пачкать кофем станки.
Бобка шуровал по его карманам и с явным чувством глубокого удовлетворения мурлыкал какую-то свою молодежную белиберду: „Я люблю задавать вопросы — особенно про пылесосы…“ Потом вернулся, встал около Малянова и громко сказал:
— Понимаешь, па. Вот вы говорите: книжки, книжки… Иногда попадаются интересные, конечно. Но в основном нудьга. Просто в ваше время других развлечений не было, вот вы и читали день и ночь все, что под руку подвернется. Стихи — давай стихи. Фантастика — давай фантастику. Гессе какие-нибудь невыносимые — давай Гессе…
Малянов, нагнувшийся было, чтобы включить пылесос, опять распрямился. Не без усилий и не без неприятных ощущений — копчик побаливал. Здорово вчера приложился.
Как бы это… чтобы не „Волга впадает в Каспийское море…“
— Железяка, Боб, она железяка и есть. Что ты ей дал — то она тебе и возвращает. Не больше. А чтобы ей что-то давать — нужно самому что-то получать. Если ты перестанешь усваивать новое в пятнадцать лет — так и останешься на всю жизнь по уму пятнадцатилетним. Если в семнадцать — семнадцатилетним. Ну вот представь себе себя в десять лет. А теперь представь, что ты сейчас по уму — десятилетка. Представил? Вот… Лучшего способа узнавать что-то новое, чем читать не тобою написанный текст, люди не придумали.
— Новое… Вот мы „Обломова“ когда проходили, мне там фраза запомнилась — как он говорит Штольцу: „И зачем только я помню, что Селевк разбил какого-то Чандрагупту?“
— А зачем тебе набирать в какой-нибудь стрелялке на семь очков больше, чем Володька?
— Потому что я тогда, — и Бобка с изрядной долей самоиронии по-обезьяньи замолотил себя в грудь кулаками, из левого торчала смятая десятитысячная бумажка, — я тогда па-бе-ди-тел!
— Победитель выискался! А слово „ослепительный“ в сочинении написал через „ли“. „Слепец“ у тебя тоже будет „слипец“ — дескать, слипся с кем-то?
— Ну это случайно… это я задумался… — виновато забубнил Бобка.
— А читал бы, как мы в свое время, — таких проколов не возникало бы даже случайно. Автоматом бы слова и сочетания откладывались.
Малянов нагнулся и врубил пылесос. „Вихрь“ истошно взвыл. Малянов зашаркал щеткой вдоль плинтусов.
Вырастишь сына слишком похожим на тебя — и он станет изгоем. Вырастишь сына слишком не похожим на тебя — и он станет тебе чужим. Вот и выкручивайся.
И тут пришло озарение. Как всегда, неожиданно. Как всегда, в результате не представимого еще секунду назад синтеза. Как всегда: есть, скажем, два факта, и думай над каждым из них хоть до посинения, ничего не придумывается. Нарочно придумать ничего нельзя — хотя мука нарочитого, тягостного, тупого и всегда тщетного придумывания есть необходимый этап работы, запускающий в мозгах какой-то куда более тонкий, неподконтрольный сознанию и удачливый механизм. Уже и думать вроде перестал, вернее, начал думать совсем о другом, потом о третьем — ан бац! Два отдельных факта, каждый в своем ящичке, вдруг совместными усилиями прошибают разделяющую их стенку, соединяются — и высверкивает понимание.
Торфяные болота — это Торфяная дорога. Там, за Старой деревней. А на ней, вынесенный в свое время чуть ли не за город, на чудовищно болотистые пустыри, а ныне оказавшийся в районе новостроек — столь же болотистых, естественно, — стоит завод ЛОМО. А „держитесь поближе к торфяным болотам“ — это призыв. Фил мне встречу назначает.
Но почему так нелепо и сложно? Что он играет в игрушки? В детство впал?
Дальше все раскрутилось практически без усилий. Ключик нашелся, и ключик подошел. „Вечер“ — это подпись, но это и время суток. Вечером, значит. Понятно, что, если записку он кинул в ночь на сегодня, встреча предлагается именно сегодня. Сегодня вечером. Когда точно? Единственное числительное — во фразе „мы не шестерки“. Гордый призыв к продолжению борьбы — какой, с кем, зачем? Но это и указание на время: шесть часов вечера. И, наконец, шизоидное, или скорее белогорячечное, „отстриги хвост“. Ноги, крылья, хвост… Мультфильм такой был. Хоть тресни, а это закамуфлированное предупреждение не привести за собой „хвост“. Детектив получился. Мелко. Для нас это, ей-богу, мелко. Мы все больше насчет Мирозданий…
Малянов еще пытался иронизировать сам с собой — но пальцы снова дрожали.
— Па! — еле слышно в реактивном вое крикнул Бобка. Малянов обернулся. Бобка стоял в дверном проеме, задрав руки, как хирург. С рук капало. — Сколько порошка класть?
— Там из початой пачки столовая ложка торчит, — объяснил Малянов. — Застарелая такая.
— Точно, торчит.
— Четыре ложки.
За ним следят? И за мной следят? Кто? Что за бред, шутки шутками, но у нас и впрямь совсем другие дела… Нет, но место там действительно довольно пустынное, оторваться можно… Черт, что за ерунда, какие мы агенты? Не штирлицевы же времена — электроникой тебя безо всякого „хвоста“ достанут хоть посреди Сахары! Что он навыдумывал на своем Памире? Малянов чувствовал страх и раздражение. Яростно пихал вперед-назад щетку, с дровяным стуком цепляющуюся за ножки двадцатилетней давности мебелей, и, накачивая себя раздражением, думал: игры ему? Стрелялки Бобкины? А на самом деле думал: началось. Началось. Началось.
Именно нелепость происходящего, его откровенная бредовость лучше всего свидетельствовали — оно. Началось.
И не сразу он сообразил взглянуть на время.
Оставалось чуть больше трех часов.
Неслышно отворилась лестничная дверь, и в коридор вдвинулась увешанная сумками и пакетами Ирка. Малянов выронил щетку и побежал принимать сумки и пакеты.
— Бе-е-с! — громко проблеяла Ирка, слегка задыхаясь. — Ваша мать пришла, молочка принесла!
В ванной Бобка самозабвенно стирал майку — то ли маляновскую, то ли свою. Он терзал ее на весу, как змею, и живо напомнил Малянову Лаокоона; брызги летели…»
«…куда не поеду. Никуда. Если мне действительно дороги разум и жизнь. Не хочу рисковать и не могу. И не вижу смысла. С этим покончено, покончено. Тащиться в такую глушь в такую непогодь… зачем? Отрежь хвост… Нет у меня хвоста, нет!!
Нет, кроме шуток, это действительно опасно. Если происходящее осмысленно, значит, оно чревато увеличением давления; значит, опасно. А если не опасно, то, значит, лишено всякого отношения к реальности, следовательно, бессмысленно. Никуда не поеду.
Вот только Фил…
Как он жил эти годы? Где? Что с ним происходило?
Может, он болен?
Может, он помощи просит?
Да где гарантия, черт возьми, что я верно перевел эту белиберду, эту дурацкую филькину грамоту? Почему я так уверился, что это письмо от Вечеровского? Никогда он не был психом или шпиономаном, чтобы писать такие цедульки… Может, действительно, балуется кто-то из соседских ребят; может, какая-нибудь девчонка Бобке мозги пудрит, а тот сказать стесняется. И я, дурак, попрусь на ночь глядя, под изморосью пакостной, в другой конец города, на пустыри… а там и не будет никакого Фила! То-то смеху!
Но тогда, вообще-то, по совести говоря, мне это надо знать наверняка. Фил это или филькина грамота… черт. Простите за каламбур. Письмо от Вечеровского — или ерунда, не стоящая внимания. Если я это не выясню доподлинно — ночей же спать не буду. Доеду, не сахарный… тем более у меня до „Пионерской“ прямая ветка. Или, может, от „Черной речки“ ближе? Но совершенно не представляю, как там по земле остаток пути добираться… Убедюсь… убежусь… черт! Знаток русской словесности, обработчик подстрочников! Я не говорец, не речевик… Откуда это? Вылетело из башки, а что-то страшно знакомое… Узнаю наверняка, что никакого Вечеровского там и в помине нет — и тогда со спокойной совестью домой. Не так уж и далеко. Глухов вон старше меня на сколько — а с утра уже на моционе. Просвежил, говорит, голову.
Нет, надо убедиться. Что опасности нет. Надо же убедиться. Просто совпадение; просто баловство. Ничего не началось, слышите? Ничего не началось, все как всегда!
А если это действительно Фил… Значит, он болен. С ним что-то произошло. Скорее всего, с ним все эти годы происходило… и теперь он зовет. Ему нужно помочь. И я не могу не поехать, просто не могу.
А если нам грозит что-то — я обязан выяснить это наверняка. Я обязан быть во всеоружии, обязан знать точно, что, в конце концов, случилось, и вообще случилось ли. Лучшей возможности не представится. Лучшего способа не будет.
Но я ни слова…»
«…вопросительно повернулся к отцу.
— Тебе и впрямь так надо сегодня идти к Володьке?
— Ну как… А что такое, па?
— Понимаешь, мне тоже надо будет вечером выйти часика на три-четыре по делам, и не хотелось бы, чтобы мама надолго оставалась одна.
— Вот новости! Да ты что, пап? Грабители теперь ходят только по наводке. К нам их и поллитрой не заманишь!
— Сын, не юродствуй. Я хочу, чтобы ты дома посидел. Хочу, чтобы вы с мамой были сегодня вместе, друг у друга на глазах.
— Ну дела…
— По высшим политическим соображениям. Это не общее усиление режима, обещаю.
— Ты меня что, просишь? — обреченно уточнил Бобка.
— Да. Прошу.
Сын отвернулся.
— Хорошо, — мужественно сказал он. — Цум бефель, господин блоковый.
— Вот и ладушки. Не обижайся.
— Чего мне обижаться, — Бобка дернул плечом. — Деньги отдать?
— Зачем? Оставь себе. В будущий выходной пригодятся, или когда там надумаешь идти шмалать своих монстров…
— Они Володькины, а не мои, — сказал Бобка не оборачиваясь.
Малянов смолчал.
— Ребята! — раздался из кухни Иркин голос. — Неблагодарные! Обед остынет!
— Пошли? — сказал Малянов.
— Да уж навернем…
По коридору им навстречу вкусно тянуло только что снятым с огня рассольником. Калямушка уже околачивался на кухне с задранным хвостом — терся об Иркины ноги, крутился вокруг них по сложной орбите, как электрон кругом атомного ядра, и подвывал от избытка чувств. Тарелки были уже расставлены, и разрумянившаяся от готовки Ирка гостеприимно помахивала половником.
— Давай, Бобка, в атаку, — сказала она. — А то тебе, я так понимаю, уходить скоро.
— А если б не уходить — что ж, не обедать, что ли? — спросил Бобка. — Я, между прочим, и не пойду никуда — а обедать все равно буду.
— Ты же в гости собирался.
— Передумал.
Ирка подозрительно прищурилась на него.
— Нездоровится? Горло?
— Да почему сразу горло! Просто раздумал! Книжка интересная, не оторваться…
В комнате затрезвонил телефон.
— Ну конечно, — сказала Ирка, — как за стол, так телефон.
— Давай не подходить, — сказал Малянов. Сегодня он особенно боялся всего. И особенно теперь — когда через полчаса надо было идти.
Ирка хмыкнула.
— Я — всегда за. Но из вас кто-нибудь не выдержит.
— Это межгород, — первым сообразил Бобка.
Телефон надрывался. За окном словно смеркалось; от измороси воздух был густым, мутно-серым, дома напротив скорее угадывались, чем виднелись, и стекла снаружи затянули мельчайшие капельки воды. Туман налип на стекла. Слипец.
— Я подойду, — сказал Малянов.
Он поднял трубку и не сразу понял, почему раздавшийся в ответ на его „Да!“ голос ему что-то напоминает.
— Митька?
— Да… Это кто?
— Не узнаешь, собака?
И раздался знакомый с детства горловой, будто подернутый жирком смех.
Это был Вайнгартен.
— Валька… Господи, Валька, ты откуда?! Ты где? Ты что, приехал?
Нет, не было жизни. Лишь на какое-то мгновение, одно-единственное, задохнулся Малянов от нечаянной радости; полыхнул в душе разноцветный фейерверк и сразу погас, и только тяжелые темные ошметки разлетелись в стороны, а в середине, в сердцевине, в сердце осталось: началось. Таких совпадений не бывает. Началось. Таких совпадений не…
— Отец, ну ты совсем не поумнел! Что я там у вас забыл?
Слышно было лучше, чем если бы Вайнгартен звонил из соседней квартиры. И не трещало ни черта.
— Так ты что, прямо из Тель-Авива?
Опять жирный смешок.
— Одного идеократического государства мирному еврею на жизнь вполне достаточно, отец. С лихвой! Второго не надо!
Он говорил теперь с легким акцентом. Едва заметным. Все слова до единого — как встарь, и даже буква „р“, не будь которой, артисты просто никак, наверное, не смогли бы изображать англосаксов, была нормальной, питерской, — но интонации… ритм фраз, подъем тона и спуск… „С лихвой“, прозвучало скорее как вопрос: „С лихво-ой?“
— Подожди, Валька, я не понял… Ты что, по принципу „дайте, гражданин начальник, другой глобус“?
— Ну уж другое полушарие, во всяком случае. Юннатские Статы. Там… то есть тут… все юннаты!
— Валька, ты что, поддал?
— Сколько ни пей, русским не станешь, — неопределенно проворчал Вайнгартен. — Только не уверяй меня, что ты не поддал! Ну и что? На-ар-рмально! Воскресенье! В этот день Штирлицу захотелось почувствовать себя советским офицером!
Малянов все-таки рассмеялся.
— Как ты там?
— По сезонам скучаю, — не очень понятно ответил Вайнгартен, но после паузы угрюмо пояснил: — Солнце, солнце… Пальмы эти окаянные… Плюс тридцать в тени, понимаешь, а в гадюшник спустишься — там якобы русских водок целая стена, и рекламка полыхает: „Очень хороша с морозца!“ Придурки… Я чего звоню, старик! Я себе подарок сделал ко дню победы.
— Какой победы? — опешил Малянов.
— На исторической родине, я смотрю, совсем охренели от перестройки… или чего у вас там нынче… Может, русскому уже и по фигу, а еврею всегда радость. Победы над фашистской Германией, задница ты, Малянов! Мы со Светкой… Да, вам всем от Светки приветы и поклоны, натурально.
— Взаимно, — сказал Малянов.
— Мы со Светкой вообще все советские праздники празднуем. И двадцать третье февраля, и восьмое марта, и — хошь смейся, хошь плачь — седьмое ноября… Кайф обалденный, тебе в Совдепии в него не въехать! Так вот. Понимай, как знаешь, а только добил я свою ревертазу. Пять лет пахал, как на Магнитке, а добил. Вот по весне. И ни одна зар-раза мне не мешала. Ни одна зараза ни единого раза!
Малянов сгорбился. Он знал, как это понимать, — но все равно ноги у него обмякли. Возможно, именно потому, что слишком уж все хорошо подтверждалось. Он придвинул стул, сел.
— Может, и впрямь на Нобелевку двинут, как мне тогда мечталось… есть уже шепоток. Но я не поэтому звоню. Я ж не хвастаться звоню… то есть и хвастаться тоже… Я тебе хочу сказать вот что. Только разуй уши и сними нервы, слушай внямчиво и спокойно.
— Ну, слушаю, — сказал Малянов и поглядел на часы. Нету жизни. Первый раз за восемь лет друг позвонил с того света — и приходится смотреть на часы.
— Я хочу, чтобы ты взял ноги в руки и приехал работать сюда.
— Валька, не смеши.
— Я уже начал тут щупать некоторых. Гражданство-подданство — вид-на-жительство сразу не обещаю, но несколько лет у тебя будет для начала. Здесь, в Калифорнии. Ты тоже раздолбаешь здесь все, что захочешь. Только секрет тебе скажу…
— Скажи, — устало согласился Малянов.
— Но сперва спрошу. Ты вот, когда крутил в мозгах свои М-полости, о чем думал?
— Как это? О них и думал.
— А еще?
— Да много про что еще…
— Дурочку-то мне не валяй! Колись быстро, урка: про счастье человечества думал? Что, дескать, стоит мне открыть вот это открытие, как все народы в братскую семью, распри позабыв, брюхо накормив… и так далее. Было?
— Не знаю, — честно сказал Малянов. А про себя подумал: наверное, было. Это Валька очень четко уловил оттенок. Прямо так вот, конечно, ничего я не думал тогда. Но где-то в мозжечке жила, наверняка жила сызмальства впитанная и, вероятно, так и не изжитая до сих пор, только загнанная в глубину иллюзия, вера, надежда: принципиальное открытие способно принципиально изменить жизнь к лучшему. И значит, я не просто из детского непреоборимого любопытства работал, дескать, вспорю мир, как куклу, и погляжу, чего там у него внутри, и не из корысти или самоутверждения — хотя, конечно, и интересно до одури, и нос всем утереть хочется, когда мысль прет, и с приятностью отмечаешь на глазах становящийся несомненным факт собственной гениальности, и рукоплескания грядущие чудятся; но сильнее всего чудятся какие-то совершенно неопределенные благорастворения всеобщих воздухов. И этого, значит, оказалось достаточно, чтобы меня…
— А я вот уверен, что было. Ты ж советский, ты же чистый, как кристалл! Тебя ж еще в детском саду выучили: все, что ни делается, должно способствовать поступательному движению прогрессивного человечества к сияющим вершинам. А если не способствует, то и делаться не должно. Правильно, отец?
Малянов беспомощно улыбнулся.
— Правильно.
— Ну еще бы не правильно. Я и сам через это прошел… Когда нет ни умения, ни возможности улучшать собственную жизнь по собственному желанию, раньше или позже начинаешь грезить о поголовном счастье. Ведь при поголовном счастье мое собственное, во кайф-то какой, образуется автоматически! И вдобавок безопасно, никто ни завидовать не примется, ни палки в колеса ставить, счастливы-то все… — Вайнгартен протяжно хрюкнул. То ли высморкался, то ли издал некое неизвестное Малянову калифорнийское междометие. — Так вот ты забудь про все про это, отец, понял? Если чего-то хочешь добиться — забудь про все это немедленно. Прямо сейчас, пока я даю установку. Не знаю, возможно ли это там у вас… Мне здесь удалось. Я только когда от этого освободился, тогда понял, насколько был этим пропитан. Потому и рискую утверждать, отец, что ты этим пропитан тоже. В гораздо большей степени, чем я. Так вот, слушай сюда: я не знаю, в чем тут дело…
А я — знаю, подумал Малянов.
— …но думать надо про что угодно, кроме этого. Ставить какие угодно цели, кроме этих. Деньги, премии, свой завод по выработке из М-полостей презервативов, инфаркт у конкурента, новая машина жене, почет, девочки, яхты и Сэндвичевы, блин, Гавайи — но только не коммунизм какой-нибудь. Тогда все получится. Вот если ты мне обещаешь поработать на таких условиях — я здесь горы сверну и выволоку вас всех, всех, обещаю, Митька. Ты думаешь, я вас забыл? Вот тебе!
В телефоне что-то стукнуло; похоже, Валька и сейчас, хоть никто его не видел, чисто рефлекторно ударил себя ладонью по внутреннему сгибу локтя — и едва не выронил трубку.
— Понял? Я обещаю! Но и ты обещай! Ты же голова! Если ты себя правильно направишь — так умоешь всех… — Вайнгартен запнулся. — Ну чего молчишь и дышишь, будто белогвардейца увидал? Пархатый приспособленец осмеливается давать советы гордому внуку славян, тебя это шокирует?
— Ты там, на свободке, по-моему, на своем еврействе зациклился.
— Ну естественно, — пробурчал Вайнгартен. — При демократии все мании и шизии расцветают пышным цветом. Махровым. Куда как лучше: я, пионер-герой, перед лицом своих товарищей торжественно обещаю: стоять по росту, ходить строем, ссать по указанию вожатых, никогда не иметь ни национальных, ни половых признаков… Ладно, об этом мы поговорим, когда приедешь. Здесь, между прочим, антисемитов тоже выше крыши. Так что у тебя будет кому душу излить.
— Валька, черт бухой, не зли меня!
Вайнгартен довольно зареготал.
— Вот теперь слышу нормальную речь. А то будто не с человеком разговариваю, а с малохольным херувимом, не поймешь, слышит он меня или у него в башке один звон малиновый. Похмельной… то есть духовной… жаждою томим до родины я дозвонился — и малохольный херувим из телефона мне явился! Значит, так. Сейчас мне ничего не отвечай. Я перезвоню через пару дней. Подумай. Крепко подумай, Малянов! Такого шанса у тебя больше не будет! — и вдруг сказал совсем тихо, совсем иначе: — Честное слово, Митька, я правда хочу помочь. И… я очень соскучился.
Малянов сглотнул — горло зажало. Дернул головой.
— Я понимаю, Валька, — так же тихо и чуть хрипло ответил он. — Спасибо.
— Спасибо в стакане не булькает! — вдруг опять взъярился Вайнгартен. — Мне не спасибо твое нужно, а чтобы ты был здесь и чтобы ты сделал дело!
— Я подумаю.
— Вот и хорошо, — снова тихо сказал Вайнгартен после паузы. Помолчал, шумно дыша. Спросил: — Видишь кого-нибудь?
— Кого? — невольно спросил Малянов, хотя сразу понял, о ком речь.
— Кого-нибудь из… нас.
— Только Глухова. Вчера вот надрались не в меру. А так — все больше в шахматы с ним играем…
— В старики записался, Малянов? Ох, не позволю я тебе этого. Не позволю! А… ну…
— Фила?
— Да. Вечеровского.
— Нет, ничего не знаю о нем.
— Если вдруг объявится — держись подальше, — неожиданно сказал Вайнгартен. — Он… третий тип. Не ты и не я, а… фанатик. Жрец чистой науки, мучитель собак и кроликов. Как он нас разыграл тогда… как подопытных! Никогда не прощу. А неуязвимца как изображал! Все на равных сидят, обалделые, а он как бы ни при чем, советы раздает. „Все-таки я умею владеть собой, бедные мои барашки, зайчики-гулики!“ — почти злобно передразнил он. — Тоже мне, Тарквиний Гордый… Он и тебя постарается сделать либо кроликом, либо мучителем — но кроликами-то окажутся твои близкие, мы это уже проходили.
— Валька… у тебя тоже что-то там… происходило?
— Ну уж дудки! — взъярился Вайнгартен. — Я на-ар-рмальный приспособленец! Мне эта ваша божественная истина нужна, как Ильичу в Мавзолее сортир. Я с удовольствием работаю и наслаждаюсь материальными результатами своей работы, и никто меня не трогает. Все истины, Малянов, приобретают смысл только тогда, когда начинают облегчать быт, понял? Ну все, старик. Помни, что я сказал. И думай, думай, думай!
— Твоим тоже приветы передавай!
— Непременно. Жму!
И он дал отбой.
Несколько секунд Малянов сидел неподвижно, все прижимал трубку к плечу. Потом решительно положил ее на рычаги обмотанного изолентой, трижды уже битого аппарата и встал.
— Я твой рассольник обратно в кастрюлю вылила, — сказала Ирка, когда он вошел в кухню. — Сейчас разогрею. Кто там на тебя насыпался?
— Глухов, — сказал Малянов. — Похмелиться звал.
— А трезвонило, как по межгороду, — удивленно сказал Бобка.
— Мне тоже поначалу показалось. Нет, свои. Иронька, я сейчас уйду часа на три… да не к Глухову, не бойся…»
4
«…зумеется, битком набит, Малянов еле втиснулся. Он даже хотел пропустить этот и дождаться следующего — если долго не было, имеется шанс, что потом придут два или даже три подряд, есть такая народная примета; но он и так уже опаздывал. И ему хотелось скорее вернуться домой. Очень хотелось. Ощущение близкой беды сдавливало виски, ледяным языком лизало сердце, и сердце, отдергиваясь, пропускало такты. Убедиться — и домой. В чем убедиться? Он не знал. Хоть в чем-нибудь.
Валька больше не позвонит. Возможно, даже пожалеет, что звонил.
А может, и нет. Может, действительно соскучился. И памятная, вечная его развязность, возведенная сейчас в квадрат, в куб, — от непринужденности ли она? Скорее наоборот. От непонимания, как держаться.
Но почему он ни разу не написал — ни письма, ни хоть открытки? Это я не знал и до сих пор не знаю, куда ему написать в случае чего, а мой-то адрес не менялся! Исчез на восемь лет — а теперь нате! Может, у него все-таки что-то случилось — только он виду не подает…
Как же все подтверждается забавно! Да. Куда как забавно. Если теория демонстрирует хотя бы минимальные предсказательные возможности — значит, она не совсем бред. Значит…
— Пробейте, пожалуйста, талон.
— Не могу, простите. Рук не вытащить.
Молодец, Валька. Сделал-таки… Наверное, и Нобелевку свою получит. Хорошо бы.
Скорей бы домой.
В спертом воздухе забитого под завязку автобусенка, медленно и натужно катящего по лужам, отвратительно завоняло сивухой с луком; сзади на Малянова навалились и больно вогнали под ребро какой-то острый угол. Малянов заерзал, выкручиваясь червем и пытаясь пустить угол мимо.
— Чего пихаешься, мудила? — невнятно, но громко спросили его. — Щас как пихнусь — костей не соберешь.
Малянов смолчал, не поворачивая головы.
— Ну чо вылупился? — спросили его и навалились сильнее. — Поговорить хочешь? Дак давай пошли из трясунца выйдем, разберемся?
Малянов молчал.
— Вот мудила!
Малянов молчал. Прыгая на колдобинах разбитого покрытия и завывая, перегруженный жестяной гробик волокся сквозь промозглую мглу; сбитые и склеенные в единую, вроде комка лягушачьей икры, массу, угрюмо, монолитно прыгали с ним вместе — кто в полуприседе, кто почти без нижней опоры вися на поручне, кто на одной ноге стоя — разнообразные несчастные люди.
— Молчишь? За Гайдара, небось, коли так надулся? Нич-че, к осени всех вас по лагерям перееб…»
«…выдавился из автобуса на остановку раньше, и с полкилометра пришлось шлепать по грязи пешком. Сырой ветер пронизывал до костей. Справа простирался жуткий пустырь, разъезженный тракторами и бульдозерами, весь в глинистых буграх и лужах, с огрызками бетонных плит и скрученных жгутов ржавой проволоки, растущих из земли чаще, чем полынь: за пустырем смутно громоздились в промозглом тумане жилые корпуса. Слева тянулся необозримый бетонный забор. За ним могла бы уместиться, наверное, целая ракетная база; а может, просто овощебаза: но в какой-то момент забор прервался обшарпанным, перекошенным сараем с железными запертыми воротами сбоку, и Малянов из выцветшей объявы на сарае смог выяснить, что располагается здесь ни много ни мало „Акционерное общество закрытого типа ''Лакон''“. По ту сторону территории акционерного общества клубились в сумеречной мороси голые деревья; кажется, там было кладбище. А впереди справа темной угловатой громадой вздымалось мрачное, ступенчатое, как теокалли Теночтитлана, здание завода.
Малянов подошел к остановке, на которой ему следовало бы выйти, ориентируйся он получше, в семь минут седьмого. На остановке никого не было, и вообще не видно было ни души. До завода оставалось не больше сотни метров; между остановкой и заводом тянулись приземистые гаражи — тоже какого-то военизированного вида, словно полуутопленные в забитую шлаками и обломками глину. На глухой стене крайнего виднелась почти непременная на любой нынешней помойке меловая надпись „Ельцин — иуда“ и рядом — нацистская свастика. Шипел сырой ветер. Фильмы ужасов тут снимать… или про атомную войну…
Ну вот. Стоило тащиться, чтобы убедиться… В чем?
Малянов привалился отсыревшей спиной плаща к гофру кабинки. А где остановка в противоположную сторону, чтобы к метро ехать? Ага, вон. Скорей бы обратно на родной „Парк Победы“. Там хоть какая-то цивилизация. Огоньки горят… Люди… Только что, вот буквально только что, людей было слишком много — в метро, на остановке, в автобусе… А теперь совсем не осталось. Вымерли. Мертвая земля под мертвым небом. Две пустыни отражаются друг в друге, как в зеркале… Только из неба, к счастью, не торчит арматура и не сыплются железобетонные обломки. Это только мы умеем. Венцы творения. Нету Вечеровского.
Нету Вечеровского.
Холодно как.
Нету.
Вот и хорошо. Теперь можно ехать домой. Как хорошо будет дома, зная, что я все выдумал и что это просто недоразумение или шутка-прибаутка…
А может, Фил шел сюда, но не дошел? Может, что-то с ним случилось в самый последний момент? Ведь боялся же он кого-то… чего-то… Может, побродить по пустырю?
Может, он… лежит тут где-нибудь… рядом? И даже окликнуть не может?
Нет, это уже идиотизм. Искать неизвестно где, неизвестно зачем, безо всякой уверенности, что это вообще имеет смысл… По жутким этим грязям! Малянов, не сходи с ума.
Само ЛОМО. Значит, не на остановке. Внутри завода? Но как я туда попаду? И он? И где там искать?
Может, просто у самого ЛОМО? Дескать, не на остановке, а рядом с корпусом…
Малянов оттолкнулся плечом от жестянки к пошел к корпусу, ежась от скребущего по ребрам озноба и тщательно выбирая, куда поставить ногу. Выбор предлагался неширокий: лужа — грязь, лужа — грязь; грязь была вязкой, топкой, протяжно чавкала и отдавала ногу неохотно, на каждом шагу грозя схлебнуть с нее обувку.
Мутный темный контур залез в самую середину серого киселя, заменявшего небо, а до стены оставалось метров семь, когда из-за одной из бетонных опор, на которых покоились ряды окон второго этажа — даже про себя не получалось назвать эти бетонные надолбы изящным архитектурным словом „колонны“, — выступил человек.
В нем не было ничего от Вечеровского. Многодневная рыжевато-седая щетина на запавших щеках; долгая лысина, разделившая два куста рыжевато-седого мха над ушами; необъятный, складчатый, шелушащийся лоб; заляпанный давным-давно засохшей коричневой краской жеваный плащ без половины пуговиц, под ним — толстый свитер с высоким разорванным воротником… Брюки уделаны глинистыми потеками. Мрачный, загнанный, все время ищущий, откуда ударят, взгляд припертого к стене. Бомж. Такому бутылки по помойкам собирать. Глядеть жутко.
— Я знал, что ты поймешь, — сказал человек. Простуженный, сиплый голос.
Несколько секунд они стояли неподвижно, потом обнялись. И пахло от Фила как от бомжа. Застарелой неряшливой немытостью и нестиранностью, ночевками на чердаках…
— Господи, Фил! — рыдающе произнес Малянов. — Что с тобой? Где ты?..
— Неважно, — отрезал Вечеровский, и это прозвучало как прежде: ни тени сомнения, одна лишь рыжевато-седая уверенность, что, если он сказал „неважно“, значит — неважно.
— Тебе что, Фил, жить негде? Так у нас…
— Подожди, Дима, не тараторь. Не надо мне ничего.
Он покусал обветренную, в черно-кровавых нашлепках губу.
— Я написал эту дурацкую записку и позвал тебя сюда, потому что ничего лучше не смог придумать. Мы не шпионы. Такого опыта у нас нет.
Малянов молчал.
— Но мне совершенно необходимо поговорить с тобой наедине, вдали от шума городского… и так, чтобы никто об этом не знал. Надеюсь, ты не растрепал Ирине?
— Нет, — тихо сказал Малянов. — У меня не было никакой уверенности, что я понял правильно.
— А если бы была — растрепал бы?
Малянов собрался с мыслями. Вечеровский изменился. Возможно, сильнее, чем кто-либо из них. Возможно, сильнее, чем все они, вместе взятые. И вдруг в памяти всплыли слова Вальки.
Таких совпадений не бывает.
Ужас снова лизнул сердце.
Фил, дружище…
— А если бы была, — тихо сказал Малянов, — рассказал бы.
Вечеровский презрительно скривился.
— Ты давно в Питере, Фил?
— Неважно.
— А что важно?
Пауза. Потом:
— Надеюсь, ты не торопишься?
— Смеешься? Я специально ехал! И вообще, Фил… Что с тобой? Ты здоров? Почему ты просто к нам не зашел? Когда записку эту бросал в ящик… и вообще… да как приехал, сразу надо было!..
— Не надо было, — уронил Вечеровский.
Малянов осекся. Вечеровский смотрел исподлобья, холодно и вчуже.
— Никто не должен знать, что мы встречались. Я никому сейчас не могу доверять. Собственно, даже тебе… Просто у меня нет выбора, и… с тобою вероятность предательства меньше, чем при каком-либо ином раскладе. Вряд ли это именно ты. В последнюю очередь я подумал бы на тебя. Фантазия у тебя бедновата. Я еще тогда удивлялся, как сумел ты додуматься до М-полостей.
— Как-то сумел, — тихо сказал Малянов.
— Я многое понял, — возвестил Вечеровский. — Много успел. Накопил колоссальный материал.
Малянов улыбнулся. И сразу почувствовал, что в улыбке его присутствует отвратительный и совершенно излишний сейчас оттенок искательности — но ничего не мог с собой поделать. Ему отчаянно не нравился тон разговора. Тон был не товарищеским. Не был даже просто доверительным. Тон нужно было сменить любой ценой.
— Представляю, сколько чудес ты видел…
— Да… Чудес… Много было всякого. Вам такое и не снилось, бедные мои барашки, котики-песики…
Он помолчал.
Наваливалась тьма. Вдали, едва просвечивая сквозь водянистую муть, затеплились окна пропадающих домов. Завывая так, что слыхать было за километр, под тусклый фонарь подкатил гнойно светящийся изнутри, почти пустой троллейбус и остановился. Всю кашу из него сцедило на предыдущих остановках; здесь, в этой болотистой тундре, он отложил лишь пару яиц и, дергаясь, раскачиваясь, вновь пустился в странствие.
Вечеровский настороженно провожал вышедших взглядом, покуда те не исчезли во мгле. Тогда он перевел взгляд на Малянова. Настороженность осталась.
— Чем дальше я продвигался, тем интенсивнее становилось противодействие. К этому я был готов — но полной неожиданностью оказалось то, что оно было столь целенаправленным… буквально осмысленным. Словно кто-то нарочно издевался. Постепенно я пришел к выводу, что мне сознательно пытается противодействовать некто, продвинувшийся по крайней мере не меньше меня. Я долго гнал эту мысль, но в конце концов играть в страуса оказалось более невозможно.
Пауза. Вечеровский перевел дух. Поразмыслил.
— И вот я хочу спросить тебя, Димка… Нет ли у тебя каких-то соображений относительно того, кто именно это может быть?
— Сознательное и осмысленное противодействие тебе? — спросил Малянов и против воли улыбнулся. — Нет. Нет у меня таких соображений.
— По тону твоему я чувствую, что у тебя есть какие-то иные соображения. Потом расскажешь, если время останется…
— Фил, если бы ты поподробнее рассказал, что уж ты такое там понял и чего добился, я мог бы, наверное, более осмысленно и сознательно отвечать на твои вопросы.
Вечеровский опять долго всматривался в лицо Малянова, покусывая губы. Так человек мог бы смотреть на жука, на бабочку, оценивая: подойдет для коллекции или нет; накалывать на булавку — или просто придавить… Потом сказал:
— Обойдешься. Это ни к чему.
Малянов пожал плечами. Вечеровский не оттаивал. Это было ужасно. И очень неприятно.
— Что ты знаешь о наших? — спросил Вечеровский.
Малянов опять пожал плечами.
— О Захаре ничего. С Глуховым все в порядке, мы встречаемся довольно часто…
— Я так и знал. Достойная компания.
— Да, вполне. То в шахматишки поиграем, то водочки попьем…
Вечеровский трескуче рассмеялся.
— Валька звонил сегодня из Америки. Как раз сегодня, представляешь? Но он никому не противодействует, можешь быть спокоен. Он вполне упоен собой. Добил, представь, свою ревертазу. И никаких препон ему, по его словам, не чинили.
— Вайнгартен? — омерзительно насторожился Вечеровский. — Ревертазу?
— Говорит, да. Говорит, на Нобелевку его выдвигать собираются. Может, и прихвастнул слегка — что ты, Вальку, что ли, не знаешь…
— Да уж знаю! — с непонятной интонацией сказал Вечеровский. — И ему не мешали?
— Говорит, нет.
— Это невозможно.
— Ну, Фил… за что купил, за то продаю.
— Не ты купил! — резко сказал Вечеровский. — Тебя купили! Как дурачка!
Малянов смолчал.
— Если Вайнгартен сумел закончить работу, которая была остановлена давлением Мироздания, значит, он сумел как-то освободиться от давления Мироздания. Значит, он как-то научился управлять этим давлением! Ах, Валька, Валька… Такой, понимаешь, анфан террибль… себе на уме!
— Фил, научиться освобождаться от давления и научиться управлять давлением — это совсем не одно и то же.
— Что такое?
Малянов смотрел в его рыжие глаза и вспоминал, как Вечеровский — изящный, умный, чистый — мягко и уверенно говорит, не сомневаясь в правоте своей ни секунды: может быть, со временем мы научимся отводить это давление в безопасные области, а может быть, даже использовать в своих целях… Вспоминал, как, восхищаясь другом, он записывал потом: вполне возможно, Вечеровский обнаружит ключик к пониманию этой зловещей механики, а может быть, и ключик к управлению ею…
— Мы слишком привыкли, — сказал Малянов, — что всякий очередной уровень понимания мира — это очередной уровень его использования в наших целях. А если в данном случае это не так, Фил? Тебе не приходило в голову? Понять можно — а использовать нельзя? Только определиться относительно этого нового понимания. Только выбрать позицию. Больше — ничего.
— Ты повторяешь мне мои собственные слова, которыми я пытался вас образумить тогда, — сказал Вечеровский. — Надо идти дальше. На нынешнем уровне то, о чем ты разглагольствуешь, — чуть подслащенная капитуляция, не более того.
Малянов помолчал, собираясь с мыслями. И вдруг вспомнил, что хотел только убедиться — и молчать, не произносить ни слова. Но я же, в сущности, молчу, успокоил он себя.
— Можно ли назвать капитуляцией то, что человек смиряется с необходимостью дышать? — спросил он. — Вызвал бы у тебя уважение безумец… гордец… который восстал бы против этой необходимости с криком: хватит! надо идти дальше!
— Софистика, — дернул щекой Вечеровский. — Все зависит от ситуации. Когда человеку захотелось проникнуть в миры, где дышать невозможно, человек, чтобы избавиться от необходимости дышать, придумал скафандр, акваланг…
— Как раз наоборот, — мягко ответил Малянов. — Он придумал все это, чтобы взять с собою в эти миры необходимость дышать.
— Прости, но это чушь. Очевидно, что если бы был найден способ ликвидировать потребность в дыхании, это существеннейшим образом увеличило бы возможности человека.
— Этак и от человека ничего не останется, а, Фил?
— Мне все это не интересно. Мне гораздо интереснее, что еще ты знаешь о Вайнгартене.
Малянов пожал плечами.
— Ничего. Он обещал мне позвонить через пару дней… хотя, может, и не позвонит. Он хочет меня перетащить туда, в Штаты… работать.
Вечеровский опять покусал черную корку на губе.
— Собирает всех вовлеченных в процесс под свое крыло… Что ж, логично… Ты поедешь?
— Рано говорить… вряд ли что-то из этого выйдет… — Малянов сам почувствовал, что отвратительно мямлит, и тряхнул головой. — Ах, да Фил! Да никуда я не поеду, что ты, в самом деле!
— Смотри, — строго сказал Вечеровский. — Я тебе пока верю. Но в то же время мне было бы крайне, крайне интересно и важно узнать… Неужели это действительно Вайнгартен? А Глухов? — вдруг вспомнил он.
— Что — Глухов? — устало спросил Малянов.
— У тебя не создавалось впечатления, что он знает больше, чем говорит?
— Фил, ты не в КГБ теперь работаешь?
— Дурак ты, Митька…
На секунду прозвучал голос прежнего Фила. И Малянов тут же размяк.
— Ну прости. Просто очень странные… нелепые вопросы ты задаешь… О чем знает? О чем говорит?
— Ну неужели непонятно? — повысил голос Вечеровский. — Обо всех наших заморочках.
— Мы вчера весь вечер говорили о наших заморочках. Он говорил в основном. Я помалкивал.
— Почему?
— Потому что я трус.
— Вот как? А тебе есть, что сказать?
— Есть.
— Ах вот как? Ну, говори.
У Малянова потемнело в глазах; на миг пропали и фонарь на остановке, и далекие, расплывающиеся огоньки окон.
Фил смотрел выжидательно и строго. И чуть насмешливо. И, безусловно, свысока.
Зачем я только поехал.
Не могу, не могу, не могу!! Нельзя!
Как он исхудал. И этот рваный воротник — у него-то, который всегда был будто вот только сейчас с файв-о-клока у британской королевы. А плащ — с чужого плеча, велик, болтается как на вешалке… Что он выдумал, какое сознательное противодействие. Врагов ищет, рыжий. Ведь с ума сойдет.
А может, уже…
Неужели благородное желание постигнуть настолько, чтобы уметь использовать, — лишь одна из ипостасей стремления подчинять? И когда подчинить не получается — раз не получается, два, три, четыре не получается, — но в то же время никаких сомнений в самой возможности подчинить все-таки не возникает, мозг, сам того не замечая, принимается себе в оправдание измышлять тех, кто успел подчинить первым и теперь злобно строит козни?
Какая жуткая ловушка… Бедный Фил.
Надо объяснить. Обязательно надо объяснить. Он поймет.
— Я, наверное, буду долго говорить, Фил.
— Постарайся покороче. Не знаю, как тебе, а мне время дорого.
— Постараюсь, — Малянов совсем не был уверен, что у него получится. Они ни разу не говорил об этом, ни разу даже не пытался продумать так, чтобы сформулировать последовательно и логично. — Сначала две маленькие леммы. Ты веришь в телепатию?
На утлом лице Вечеровского мгновенно проступило насмешливое пренебрежение.
— Видишь ли, Дима, — сказал он с утрированной вежливостью. — Я, видишь ли, ученый. Оперировать категориями веры и неверия оставим кликушам.
— Хорошо. Скажем иначе. Ты исключаешь возможность существования телепатии?
— Я не думал над этим. Но, честное слово, Дима, все эти летающие блюдца, столоверчение, полтергейст…
— Не исключаешь. Хорошо. Я тоже не занимался специально, но исключать со стопроцентной уверенностью не могу. Существует ряд фактов, которые невозможно с ходу отмести. Но если некий не известный и не подвластный нашему сознанию тип восприятия сигналов существует, то почему, скажи на милость, мы должны исходить из того, что лишь наши собственные мозги в состоянии генерировать эти сигналы? Если во Вселенной происходит некое движение информации…
— Так. Полный набор банальностей. Телепатия, пришельцы… что у тебя еще в золотом фонде?
— Не пришельцы, подожди. Все, что… Хотя бы Гомеостазис твой, например. Для начала. Если во Вселенной происходит некая саморегуляция, сигналы, сопровождающие срабатывание обратных связей, вполне могут иногда… иногда, повторяю, очень редко… восприниматься людьми. Как смутные, невыразимые, грандиозные образы, которым съеженное и приземленное человеческое сознание будет тщетно пытаться найти какие-то адекваты в привычном образном ряду. А затем опрощение будет происходить еще раз — при попытках найти этим вторичным образам словесные адекваты, высказать их вслух. Представь… ну, скажем… ну вот красное смещение. Явление, явно чреватое изменением вселенской структуры через миллиард лет. По твоей, следовательно, теории — явно подпадающее под категорию явлений, которые Мироздание должно тормозить. Значит, Вселенная просто не может не быть битком набита некими сигналами, на все лады демонстрирующими негативное отношение к красному смещению. В них нет эмоций — только команды типа: явление, представляющее опасность; прекратить. Срабатывает гомеостазис. Но что получается, когда какой-то из этих сигналов залетает ненароком в тот или иной особо чувствительный, особым талантом награжденный человеческий мозг? Сто лет назад, тысячу лет назад… Время от времени. Совершенно не понимая, о чем, собственно, речь, принявший сигнал человек испытывает потрясающий ужас, непреоборимое и ни на чем конкретном не основанное отвращение к красному цвету. К тому, что он, будучи человеком, воспринимает как красный цвет. Но что дальше? У одного образ красного вызовет, скажем, ассоциации с сигналом светофора, у другого — с фонариком над борделем, у третьего — с Кремлевскими звездами. Возникну три совершенно различные, но эмоционально одинаково насыщенные интерпретации. Предельно насыщенные. Называются они откровениями. Каждое из них будет порождением пришедшего извне эмоционального потрясения и в то же время — реалий собственной культуры, существующей в данное время и в данном месте.
— При чем это здесь?
— При том, что так возникли все религии. Так объясняется, что в них столько общего, особенно по поводу сотворения мира и прочих общих принципов… и в то же время — что по-человечески они настолько несовместимы.
— При чем здесь религии? — подозрительно спросил Вечеровский.
— Лемма вторая, — ответил Малянов. — Скажем так… Количество создаваемой информации прямо пропорционально количеству энергии, относительно которого эта информация создается. В понятие энергии входит и ее материальная составляющая… то есть та ее часть, которая загустела в виде ядерных частиц и, следовательно, вещества.
— Подожди, — жутко шевеля бугристым лбом, проговорил Вечеровский. — Не понял. Телега впереди лошади… При помощи которого эта информация создается?
— Относительно которого эта информация создается, — поправляя, повторил Малянов. — Нет-нет, это просто.
— Ну спасибо! — язвительно произнес Вечеровский.
— Подожди, Фил, не кипятись. Представь, что ты сидишь с закрытыми глазами. Как бы ты ни был творчески одарен, как бы долго ни размышлял, раньше или позже ты упрешься в некий предел, дальше которого твоя мысль двинуться не сможет. Ощущения твои дают чрезвычайно большое, но не бесконечное количество информации для обработки. Чтобы принципиально увеличить творческий выход, нужно открыть глаза. И увидеть комнату, в которой сидишь. И раньше или позже столкнуться с той же проблемой снова. Тогда тебе придется выглянуть на улицу. Или каким-то образом выяснить, что стены — это не просто стены, а молекулы. И так далее… видимо, до бесконечности. В самом общем виде можно сформулировать это так: чтобы поддерживать процесс создания информации, нужно вовлекать в этот процесс все новые количества материи. Во всех ее видах, естественно… и вещественной, и энергетической. То есть наоборот. Обратная очередность. И энергетической, и вещественной.
— Предположим… — хмуро сказал Вечеровский. — Но я не понимаю, куда ты клонишь. Какой-то бред.
— Возможно, Фил, возможно. Но, скажем, для… для Мироздания, обладающего массой способностей и возможностей, которые нам и не снились, механику процесса можно представить несколько иначе. Самый простой, самый напрашивающийся… если ты всемогущ, конечно… самый экономичный и рациональный способ увеличивать количество материи, вовлеченной в процесс создания новой информации, — это овеществлять уже созданную информацию в виде материи!
Горбясь и глядя в землю, Вечеровский сосредоточенно слушал. Но тут, через несколько секунд после того, как Малянов замолчал, он весь передернулся и медленно, будто с трудом, поднял тяжелый взгляд Малянову в лицо.
— Кажется, — глухо и неприязненно произнес он, — мы еще тогда договорились концепцию Боженьки не рассматривать.
— А почему, собственно? — спросил Малянов.
— Так, — Вечеровский распрямился, потянулся, сжимая и разжимая кулаки в карманах плаща. — Говорить нам больше не о чем.
— Подожди, Фил, подожди. Да подожди! Взгляни непредвзято! Почему самопроизвольное возникновение материи тебе кажется нормальными естественным, а самопроизвольное возникновение информации — мракобесием и бессмыслицей?
— Потому что, — отчеканил Вечеровский, — информации необходим носитель!
— А материи не необходим? И, в конце концов, что мы знаем о носителях? Лет сто назад кто мог бы представить, что целый стеллаж с фолиантами можно уместить на одном диске! Представь, что во Вселенной идет грандиозный творческий процесс. Не знаю, когда и как он начался. Так же, как ты, на самом-то деле, в точности совсем не знаешь, когда и в честь чего бабахнул большой взрыв. Так вот именно этот творческий процесс, раз начавшись, не мог не вызвать этот бабах! И ты посмотри, какая масса всякой всячины к этому моменту была уже напридумана, ведь как бурно шел процесс расширения Вселенной поначалу! Помнишь, еще в институте у нас буквально поджилки тряслись от какого-то… мечтательного благоговения, когда мы читали про то, что результаты процессов, совершившихся буквально в течение первых минут, когда из хаоса чистой энергии отпочковывались сначала гравитация, потом нейтрино… определили фундаментальные свойства мира на всю оставшуюся жизнь. Но такой темп… не свидетельство ли того, что сами эти процессы шли по неким ранее возникшим матрицам? А теперь? Да не в гомеостазисе мы живем — в развивающейся системе! И именно крохи переполняющей мир информации о том, как эта система развивается, улавливали пророки и пытались сформулировать в откровениях… Вероятно, и по сей день улавливают и пытаются — ведь система продолжает развиваться! Продолжает! По классической теории, электрический заряд, барионное и лептонное числа на единицу объема меняются обратно пропорционально кубу размера Вселенной. Но уточненные измерения показывают некоторое странное, необъяснимое отклонение. Погрешностью его американцы обозвали… Так вот именно оно есть численная характеристика интенсивности идущего и поныне интеллектуального процесса, сопровождающегося сбрасыванием на наш уровень уже выработанной и овеществленной информации. Помнишь, Сахаров еще в шестьдесят седьмом угадывал несохранение барионов, только не умел его объяснить…
Он говорил и говорил, и уже не мог остановиться. То, чего не смог вчера алкоголь, сделало сегодня сострадание; а теперь заслонки были сорваны — и он наконец говорил. От нежданной свободы кружилась голова. Так они говорили и спорили когда-то. Он выволок Вечеровского под фонарь и чертил подобранной тут же, на остановке, обгорелой спичкой формулы и уравнения в грязи, он вдруг перестал бояться; он снова был молод; он снова был бог, и Вселенная, мерцая, раскручивалась у него на ладони.
— Конечно, оттуда никто не диктует: Мю Змееносца, лети туда! Черная дыра в Лебеде, начинай испаряться! Так он топтался бы на месте, а не двигался дальше, не развивал из мысли мысль… Наоборот, организованная материя, самостоятельно развиваясь по возникшим вначале… я даже не говорю — заданным, потому что, скорее всего, там и речи нет о том, чтобы, скажем, нарочно фиксировать скорость света или число „пи“, просто некие представления, возникшие там, здесь проявляются как те или иные константы и закономерности… так вот, материя сама, развиваясь по возникшим вначале законам, отражающим что-то такое там, чего нам, хоть лопни, даже не представить… поставляет дальнейший материал для размышлений… а результаты этих размышлений вновь вываливаются сюда. Считается, что скрытая масса Вселенной по крайней мере больше наблюдаемой массы и что составляют ее реликтовые нейтрино. Думаю, это действительно так, и именно нейтрино, с их способностью проникать везде и всюду, не поглощаясь, работают как приводные ремни, как материальные носители обратных связей. Потому их и должна быть чертова пропасть — они сканируют мир, от каждой отдельной элементарной частицы до Метагалактик! И они же выносят наработанный материал оттуда!
Смутно и мертвенно белело во мраке лицо Вечеровского. Транспорт совсем перестал ходить, за последние полчаса ни к метро, ни от метро не прогудел ни один автобус и ни один троллейбус, кругом была пустыня. Темная, унылая, промозглая. Набухшая тишиной. Только говорил Малянов.
— А вот с нами получилась трагедия… И, наверное, не только с нами. Ты правильно угадал тогда факт торможения… Глухов даже четче сказал вчера, хоть и по-гуманитарному эмоционально: не пустили… так вот, факт непускания. Только критерий отбора мы тогда сформулировали совершенно неверно. И теперешняя удача Вальки — тому лучшее доказательство. Не враги тебе путают карты и над тобой издеваются, Фил, дорогой, поверь… Просто ты попытался взяться за рычаг, который не от мира сего. Не дергайся, пойми. Мы можем использовать в своих целях любой закон природы, пока соблюдаем некие, я сейчас скажу о них, ограничения. Но этот рычаг — весь по ту сторону от нас. Его нельзя использовать с животными целями…
— Что еще такое? Какие животные цели? При чем тут цели, что ты несешь?
— Сейчас объясню… Хотя… Это самая неприятная часть того, что я должен тебе сказать.
Малянов почувствовал вдруг усталость. Возбуждение прошло. Ощущение было сродни похмелью; только что, вот буквально только что был полет, а теперь — пустота и ужас от содеянного. Топливо — сочувствие и желание защитить — иссякло.
Потому что Вечеровский так и не оттаял.
— Понимаешь… Это очень трудно формулировать… потому что очень тошно. Мы возникли как часть животного мира. И живем по его законам. Мы возникли по его законам и должны жить по его законам, и пока живем — то живем. Хотя в определенном смысле мы действительно созданы по его образу и подобию, потому что имеем возможность овеществлять результаты нашего творчества. В книгах, в машинах, в учениях… Во второй природе. Как он — в первой. Письменность, деньги, лазеры — такие же продукты метаболизма нашего сознания, как Вселенная, с нами в том числе, — продукт метаболизма его сознания. Тут нет ограничений, мы можем измышлять себе в подспорье все, что только сможем, до чего додумаемся… Ограничение лежит совершенно в иной области.
— Ну, понял, понял, не тяни! — вдруг почти крикнул Вечеровский.
— Да я не тяну… Мы можем открывать закономерности второй — для нас первой — природы, учиться использовать их, шить из них шмотки, ездить на них на работу или по кабакам, находиться под угрозой отравления ими, как находятся под угрозой отравления продуктами своей жизнедеятельности любые животные в замкнутой экосистеме, и бороться с этой угрозой всеми доступными животным средствами… только пока живем по законам животного царства. В мире целей, присущих всем животным на свете, только реализуемых иначе. Можем разрабатывать какие угодно новые средства, покуда цели остаются старыми. Обычными. Здесь никакие фундаментальные законы Мироздания не нарушаются. И никакого торможения, никакого непускания. Что тормозить? С какой стати? Какая разница, клыком, оперением или зарплатой привлек ты самку? Какая разница, под влиянием инстинкта или идеологии идет стая на стаю в борьбе за корм и пространство, рогами бодает друг друга или „стингерами“? Повкуснее поесть, поинтенсивнее размножиться, погарантированнее сохранить потомство, послаще отдохнуть, понадежнее избавиться от соперника… Все как у всех. Но вот стоит тебе перестать быть животным в сфере целей… все, шабаш. Такое поведение чревато возникновением мира, или хотя бы, поначалу, мирка, который начнет жить по неким иным, новым… здесь, а не там придуманным законам. А потому — тащить тебя и не пущать. Миллион лет человечество стоит перед этой стенкой, бьется об нее мордами своих лучших представителей… Потому что суть конфликта совершенно не в уровне техники. Этот конфликт может происходить и в „шаттле“, и в пещере. Думаю, он и животным знаком. Когда какой-нибудь волчара, сам не понимая почему, равнодушно трусит мимо удачно подвернувшейся и явно беззащитной косули или оставляет пожрать своему волчьему старику…
Малянов перевел дух. Вечеровский слушал, сгорбившись и глядя в землю. Складки на его страшном лбу ходили ходуном. Поднятый воротник плаща трепетал от темного ветра, как крыло раздавленной бабочки.
— Этика есть один из продуктов метаболизма сознания, ни больше ни меньше. Очень удобный для использования и очень полезный. Она делает жизнь стаи гораздо продуктивнее, устойчивее, безопаснее для всех членов этой стаи. Но время от времени рождаются извращенцы… сдвинутые… знаешь, как кто-то ни с того ни с сего с детства помешан на машинах и становится автогонщиком или конструктором, другой так же помешан на доброте и честности. Они начинают воспринимать этику слишком всерьез. Начинают слишком ею руководствоваться. Начинают ставить жизненные цели, обусловленные только ею. Следовательно, начинают вести себя противоестественно. Создавать свой мир. Они подлежат безусловному вытаптыванию. И уж тем более немедленному и яростному… плохо сказал. Ярости тут в помине нет, срабатывает мертвый защитный механизм, блюдущий неприкосновенность придуманного там. Яростное по… интенсивности. Тем более вытаптыванию подлежат те, кто, руководствуясь этими противоестественно этичными, гипертрофированно человеческими, противопоказанными полноценному животному существованию целями, измышляет некие принципиально новые средства для их достижения. Учение… книгу… ревертазу… — Малянов чуть улыбнулся печально. — Пусть даже цели абсолютно неопределенны, намечены чисто эмоционально, чисто образно — все равно. Шестеренки уже чуют и начинают крутиться, размалывая извращенца в мелкий прах.
Издалека, из тьмы, донесся медленно приближающийся надсадный вой. Малянов замолчал. От новостроек, мутно мерцавших пятнышками далеких, как Магеллановы Облака, окошек, немощно надрываясь, накатывал троллейбус. Может быть, последний сегодня. Вот он, тяжело раскачиваясь на буграх асфальта, выбрасывая темные фонтаны из-под колес, подрулил к вынутому из тьмы островку остановки, притормозил, но даже не остановился. Никто не собирался выходить, и на остановке никого не было. Они с Вечеровским стояли поодаль. Вой вновь начал набирать высоту, троллейбус, помаленьку разгоняясь, покатил дальше.
Я в синий троллейбус… Как много, представьте себе, доброты…
— А этот рычаг абсолютно не приспособлен для использования волками и медузами, — сказал Малянов. — Не съесть, не выпить, не поцеловать. И никого не ухайдокать. И даже не полюбоваться, чтобы скрасить переваривание пищи или зарядить энергией для придумывания чего-либо, что можно съесть, выпить или поцеловать. Потому он и выкручивался у тебя из рук — а тебе казалось, над тобой враги куражатся… Вот какое дело.
Они помолчали. Хорошо бы, наверное, сейчас закурить, подумал Малянов. В такие минуты он завидовал курящим. Ирке, например. Сам он пробовал не раз, даже дымил иногда с Иркой за компанию или под рюмашку — но по-настоящему удовольствия от вонючего дыма никогда не мог получить. И это удовольствие мне заказано, иногда думал он с обидой.
— Ты не пробовал писать об этом? — глухо спросил Вечеровский.
— Как? — усмехнулся Малянов. — Ты можешь себе представить подобную работу? „К вопросу о метрическом тензоре лестницы Иакова“… „Тождественность мюонных характеристик Аллаха и Кришны“… Так, что ли?
— Ну сейчас полно всякой контактерской белиберды, — пожал плечами Вечеровский. — Мог бы там… Между прочим, именно кришнаиты тебе бы по гроб жизни, по-моему, „Харе Рама“ под окошком пели.
Малянов сдержался.
— Вот тебе еще одно доказательство, — сказал он, выждав немного. — Правда, косвенное. Но Глухов тоже это уловил, вчера просто поразил меня своим чутьем…
— Ну разумеется! — издевательски скривился Вечеровский.
— Главный эксперт у нас теперь этот… это растение! Истина в последней инстанции!
— История России, — сказал Малянов упрямо и безнадежно. — Православие с его отрешенностью от материального, помноженное на упоение державностью… на веру во всемогущество государства… Ни одна страна в мире никогда не рвалась строить принципиально новую социальность так, как Россия. Всесветную империю с ангельским лицом. Сколько таких попыток было на протяжении последних веков! От Ивана Третьего до Горбачева. Повторяемость эффекта прямо-таки лабораторная. Статистика набрана. Тащить и не пущать Россию. Дозволяется только жрать, пить, гадить и резать. Но поскольку именно к такому состоянию именно в нашей культуре отношение крайне негативное — раз за разом вытаптывается вся культура. По крайней мере, делается абсолютно не влиятельной.
— Миллион сто седьмое неопровержимое доказательство богоизбранности Святой Руси, — с отвращением произнес Вечеровский. — Об этом ты точно — мог бы такую бомбу отгрохать! Националисты бы тебя на руках носили! Пиши!
— Фил, ну как же ты не понимаешь, — сказал Малянов. — Странно… Всегда ты был целеустремленным, но никогда на моей памяти не был… черствым. Я же боюсь писать об этом. Просто боюсь. Я даже говорить боюсь. Вот рассказываю тебе, одному тебе, единственному — а в башке ужас лютый: на месте ли мой дом, или там уже не Питер, а Хармонт какой-нибудь с ведьминым студнем вместо Ирки…
— Зачем же ты мне рассказываешь? Чему я обязан?
Тому, что ты мой друг, хотел сказать Малянов, но нельзя было это говорить, так не говорят. Тому, что я не хочу, чтобы ты впустую тратил силы и сходил с ума… Но это тоже нельзя было говорить, Фил только окончательно бы осатанел. И он сказал еще одну правду:
— Тому, что ты тогда взял все на себя.
Вечеровский скривился.
— Аркадий, друг мой, не говори красиво… Тебе в попы надо, Дима. Но я тебя успокою. И разочарую, вероятно: тебе совершенно не из-за чего упиваться своим благородством, глубиной своих дружеских чувств… Зато и беспокоиться не о чем. Ничего твоим любезным не грозит. Мирозданию до них нет ни малейшего дела. На болтунов и слизней ему вообще начхать. Вот на Глухова твоего, например. Да и на… — Вечеровский с вызывающей вежливостью не закончил фразу, лишь демонстративно смерил Малянова взглядом. — Признаться, я за всю жизнь не слышал столько чепухи, сколько за сегодняшний вечер. Ты совершенно опустился, Дима. Интеллектуально, духовно… По всем, что называется, параметрам. Мне жаль тебя. Тебе конец.
Умолк на мгновение.
— Меня просто тошнит от тебя и всего, что ты городишь. Видеть, как твой друг, пусть даже бывший… из искателя истины превратился в юродивого с постоянно мокрыми от страха Божия штанами… отвратительно.
И, не дожидаясь ответа — да и какой, в самом деле, тут мог быть ответ, — он повернулся и без колебаний пошлепал по грязной обочине шоссе. Малянов остался стоять. Сметное светлое пятно плаща постепенно удалялось, уменьшалось, погасли звуки шагов; потом из ватной тишины, словно бы очень издалека, прилетел бесплотный голос:
— Не пытайся меня найти. Если понадобишься — я сам свистну.
И все…»
«…добрался до „Пионерской“ в четверть двенадцатого. По эскалатору вниз не бежал, хотя торопился домой как мог, — сил совсем не осталось; тупо стоял и ждал, когда его спустят. Загрузился. Удалось сесть, хотя народу было еще много: воскресенье, все веселенькие… кто как умеет. Прижался плечом к поперечной стене вагона, спрятал руки в карманы, голову — в воротник. Усталость давила, плющила. Продрог до мозга костей. Ни мыслей не осталось, ни чувств — только сердце частило, как на бегу: все — зря, все — зря, все — зря…
Алкаш был на посту; вошел на „Черной речке“ и сразу, одной рукой ухватившись за поручень, навис над Маляновым, мутно глядя на него, мешком мотаясь влево-вправо и икая. Но молчал. Так и ехал вместе с Маляновым до „Парка Победы“, висел и мотался, и глядел, глядел с бессмысленной пристальностью и пьяным упорством, хотя время от времени то тут, то там освобождались места — а когда Малянов встал выходить, с облегчением, кряхтя и стеная, развернулся и, будто его в коленях подрубили, рухнул на маляновское место. Двери не успели открыться, а он уже захрапел и принялся пристраиваться головушкой на плечо к сидящей рядом женщине.
И дом был на месте. И даже машина в арке; на этот раз — стремительный „ниссан“. Он метнулся из-за угла внезапно, визжа тормозами, будто на гонках в каком-нибудь Монте-Карло. Малянов едва успел отпры…»
«…с хриплым стоном обвисла на нем.
— Дима! Димочка, ой Боже мой, ну где ты ходишь? Бобка пропал!!»
5
«…резко прихватило примерно через час после того, как Малянов ушел. Наверное, Малянов к этому времени еще и до места-то не успел добраться. Обыскалась таблеток своих — ну нету, хоть тресни; а ведь должны были еще оставаться, она помнила, должны. До дежурной аптеки пешком пятнадцать минут. Попросила Бобку сбегать, конечно. Он еще порадовался: дескать, вот хорошо, что я дома остался, ни в какие гости не пошел, а то что бы ты без меня делала. И главное-то, главное — буквально через пять минут после его ухода нашла свои таблетки, в комнате нашла, случайно, — стала доставать из-под телевизора программу, посмотреть, чем вечер коротать, и вместе с программой упаковка на пол: шлеп! Кто ее туда запихнул, когда, зачем… А уже ничего не сделать. Ну, наглоталась, посокрушалась, что попусту сына от книжки оторвала, но — ладно, лекарства лишними не бывают, пусть окажется резерв… Через полчаса начала беспокоиться. И тут уж стало не до печенки.
К полуночи она успела обзвонить какие-то больницы, какие-то невразумительные травмпункты, какие-то милицейские участки… Володьке звонила дважды — надеялась, вдруг Бобка воспользовался случаем, что вырвался из дому, зашел к приятелю и заигрался, или заболтался — хотя все это было крайне маловероятно: зная, что мать дома одна ждет его с настоятельно необходимым лекарством, никуда бы Бобка не пошел. Еще каким-то его приятелям звонила… Как в воду канул.
Выходить искать она не решилась. Вдруг он придет, а в квартире — никого, а он вдруг ключ потерял…
Совершенно омертвелый Малянов молча поцеловал ее в соленые от слез, дрожащие губы и, по-прежнему не говоря ни слова, пошел обратно на улицу. Во дворе было пусто, и все окна уже были темными — так, светились два-три. За одним, наверное, кто-то болел, за другим кто-то увлеченно работал, за третьим допивали обязательное воскресное. Еще светилось их окно, за ним была Ирка. Под аркой, рокоча, густо протравливая туман выхлопом, стоял грузовик с открытым кузовом, полным какой-то беспорядочно наваленной белесой мебели — ножки торчали выше крыши кабины и не вписывались в габарит. Какой-то мужик в ватнике, в сапогах уныло и не споро ковырялся в кузове, пытаясь пораспихать барахло так, чтобы можно стало проехать.
— Земляк! — крикнул он Малянову сверху. — Помоги! Вдвоем тут дела-то на пять минут!
— Я спешу, — едва сумев разжать челюсти, ответил Малянов, протискиваясь между бортом кузова и стеной.
Мужик хохотнул.
— Чего, муж застукал? Или сама вытурила? Ну так все равно ведь уже вытурила, чего теперь-то спешить?
Малянов не ответил.
Больше на улице не было ни души. Пустыня. Тьма. Промозглая морось. Мокро отблескивал асфальт в тусклом свете редких фонарей, время от времени под ногами хлюпало.
Он дошел до аптеки, заглядывая во все дворы, во все парадные. Пару раз даже позвал: „Бобка!!“ Туман переварил и это. Аптека, конечно, давно уже была закрыта, внутри — темно. Зачем-то Малянов попытался заглянуть внутрь; покрутился у окон, то вытягивая шею, то приседая, — ничего не разглядел.
Погрозил невидимому небу кулаком, хрипло крикнул в ватное марево, чуть подсвеченное рыжим отсветом близкого проспекта:
— Сволочь!!!
Не помогло.
Он пошел назад.
Грузовик остывал на прежнем месте, заглушив мотор. Задний борт кузова был опущен. Мужик в кузове сидел, свесив ноги, на краю и уныло курил. За его спиной смутно топорщилась рогами деревянная груда, левой рукой он поддерживал стоящий на коленке наполовину пустой стакан. Увидев Малянова, мужик сначала широко заулыбался, потом захохотал.
— Что, земляк? Второй подход к снаряду?
Малянов молча принялся протискиваться. Мужик высунулся над боковым, не опущенным бортом. Поднял повыше стакан и протянул его в сторону Малянова.
— Хочешь? Хлебни для храбрости!
Было около двух, когда Малянов вернулся. На звук открываемой двери меловая, как будто даже поседевшая за этот вечер Ирка вышла из кухни в коридор с сигаретой в руке и стала молча смотреть, как Малянов разувается. Они не проронили ни слова, только обменялись короткими безнадежными взглядами: не нашел? — не нашел; не пришел? — не пришел. Оба вернулись на кухню; казалось — там теплее. Даже сквозь дым отчетливо пахло валокордином. Ирка, похоже, принимала — совсем недавно. Дрожащими ледяными руками Малянов и себе накапал за компанию. Ирка смотрела.
— Ты совсем продрог, Дим, — сказала Ирка тихо. — Я чай согрела, выпей.
— Спасибо. Чай — это кстати.
— Хочешь, я налью?
— Налей.
Чай был горячий, вкусный.
— Сейчас чуть оттаю и пойду опять.
— Нет! — вдруг почти крикнула Ирка и сама испугалась крика. Втянув голову в плечи, искоса поглядела на Малянова, будто прося прощения. — Не надо, Дим. Я сейчас сидела тут одна… Вдруг ты тоже исчезнешь.
— Я не исчезну, — с трудом выговорил Малянов.
Непременный Калям беззвучно пришел к ним и, заглядывая в глаза, жалобно помявкивая, стал тереться о ноги. Даже жрать не просил. Чуял беду.
— Отличный чай.
Ирка благодарно улыбнулась — вымученно, едва-едва.
— Как сейчас печенка?
— Прошла.
— Дай-ка мне сигарету, Ира, — сказал Малянов.
В четверть четвертого из замка входной двери раздалось едва слышное, осторожное позвякивание — и их катапультировало из кухни.
На Бобку страшно было смотреть. Под правым глазом — здоровенный синяк; глаз так заплыл, что его и не видно почти. Под носом и на подбородке — следы запекшейся крови. Не так давно купленная теплая куртка изгваздана была какой-то гадостью, в коридоре сразу завоняло то ли помойкой, то ли моргом; молнию кто-то с мясом вырвал до середины, и теперь она сама по себе болталась между разошедшимися полами.
Бобка неловко вдвинулся в коридор и остановился, глядя на родителей. Так они и стояли некоторое время: они смотрели на него, он на них. Потом низким, напряженным, перепуганным и виноватым голосом он спросил:
— А вы не спите? А я тихонько ключ кручу, думаю, вдруг вы уснули.
Ирку начало трясти.
— Мам, — поспешно сказал Бобка, — я лекарство купил! Вот!
И, судорожно сунув руку под куртку, в нагрудный карман рубашки, он выгреб оттуда, кажется, но-шпу и еще что-то плоское. Протянул ей на раскрытой грязной ладони.
Малянов шагнул вперед и обнял сына, прижал к себе. Бобка ойкнул и дернулся. И тоже обнял отца одной рукой — в другой были таблетки.
— Пап, — виноватым шепотом сказал Бобка ему в ухо, — ты поосторожней… они мне, наверное, ребро сломали…
Малянов отшатнулся, с ужасом заглядывая Бобке в лицо.
— И вообще… вы от меня подальше. Там все вшивые какие-то, заблеванные…
— Где — там?!
— Где ты был? — очень ровно и спокойно спросила Ирка.
— В ментовке, — ответил Бобка.
— Бобка, расскажи толком, — проговорил Малянов. — В двух словах. И положи ты, ради Бога, эти таблетки, не держи. Снимай все это.
— Понимаете… Они даже позвонить не давали… — голос у Бобки был такой, что, казалось, вот-вот лопнет. Но рассказывал Бобка как бы ни в чем не бывало. Мужчина. — Я говорю, дайте хоть предупрежу, что живой, у матери инфаркт ведь будет — а они говорят: ну да, ты позвонишь, а через полчаса она уж тут, концерты нам начнет закатывать! Я говорю: меня в аптеку послали, мама заболела, она меня ждет, она ведь дома одна! А они говорят… они говорят… — он растерянно зашлепал распухшими губами, а потом, прикрыв от Ирки рот ладонью, беззвучно проговорил в сторону Малянова: „не пизди“.
— Кто они? — спросил Малянов.
— Да милиция же!
— Бланш под глаз они тебе навесили? — спросил Малянов. Бобка не выдержал — хихикнул истерически.
— Бланш… Ну да, они. Когда я в машину их лезть не хотел. Я же к дому уже почти подходил, а тут навстречу — трое бухих каких-то, лет по двадцать, матные слова орут, плюются… И только мы с ними поравнялись — „воронок“ подкатывает и всех хвать! Я ору: я-то при чем, я не с ними, а менты здоровенные такие, сразу бздынь по морде: разберемся! И главное, понимаете, этих всех спать уложили, они сразу хр-р-р, хр-р-р — а мне все бумажку какую-то подсовывали, чтоб я подписал, дескать, я в пьяном виде, оскорбляющем общественную нравственность, приставал к прохожим… Я не подписываю, а тогда они говорят: ну, посиди. И еще по ребрам…
— Все, хватит, — решительно сказала Ирка. — Раздевайся осторожненько, Бобик… Мойся… Душ — или ванну примешь? Я сейчас напущу. Тебе раздеться помочь? Врача — надо?
— Да ну что ты, мама. Я сам, — и, время от времени шумно втягивая носом воздух от боли, он принялся осторожно стаскивать с себя искалеченную одежду.
— Подписал? — спросил Малянов.
— Еще не хватало! — возмутился Бобка. — Ни за что!
— Где это было?
— Да не знаю, пап, — с досадой сказал сын. — В том-то и дело. Из машины не видать ни черта. А потом, когда они меня отпустить решили, так тоже сначала в машину сунули и минут двадцать возили какими-то кренделями… не специально, а заодно, они потом еще куда-то покатили, а меня выпихнули посреди улицы, и все. Около Стамески. Оттуда я пехом чалил… Конечно, если бы я все легавки в городе в лицо знал, я бы ее нашел. Пробел в образовании, — он улыбнулся Малянову. — А ты говоришь, книжки… Мам, ты лечись давай, — стоя в одних трусах, он опять протянул ей таблетки на ладони. — Я их специально берег все время, чтобы не испач…»
«…так. Значит, вот так мы теперь будем жить. Или — наоборот, так жить теперь мы больше уже ни за что не будем? Ведь это невозможно — так жить. Все, что угодно, только не это. А, Малянов?
Вот-вот, сказал Вайнгартен. Теперь ты понял. Надо быть просто честным перед собой. Это немножко стыдно сначала, а потом начинаешь понимать, как много времени ты потратил зря…
…Вайнгартен, сказал Малянов. Я потратил время не зря. Я вообще его не потратил.
…Малянов, сказал Вайнгартен. Ты будешь объяснять это каждому? Тебе долго придется объяснять. И вряд ли тебе многие поверят. Большинство скажет: зря. Даже Ирка так скажет. Потому что выглядит старше своих лет. Этого женщина не простит, даже если ты в конце концов принесешь ей луну с неба. Но луной, я так понимаю, и не пахнет. А как ты думаешь, что скажет твой лучший друг Вечеровский, перед которым ты всегда так преклонялся? Ах да, я забыл. Он ведь уже сказал. А ты всегда считал, что верный друг — он, а я — барахло…
…Вайнгартен, сказал Малянов. Это неправда, и ты прекрасно знаешь, что это — неправда…
…Малянов, сказал Вайнгартен. Может быть. Это несущественно. Мы сейчас говорим не об этом.
…Вайнгартен, сказал Малянов. Да, мы говорим сейчас не об этом. Не только об этом — хотя, если быть до конца честными перед собой, и об этом тоже. Потому что это тоже существенно: кто из нас каким стать хотел и кто из нас каким стал.
…Малянов, сказал Вайнгартен. Ты хочешь стать святым — но жизнь тебе не позволит. Глухов мог бы, он один. Но у него не столь грандиозные запросы.
…Вайнгартен, сказал Малянов. Поверь, я вовсе не рвусь в святые. Я только не хочу стать инквизитором, как Фил, и проверять всех на святость, сам будучи уже не творцом, а ходячей плахой. В том числе и собственной. Я завидую тебе. Да, ты прав, перед Филом я всегда преклонялся — а тебе всегда завидовал. И сейчас — завидую особенно. Но я ничего не могу с собой поделать. Ради Ирки, ради Бобки — рад бы. Но не могу. Если я буду подогревать себя лишь мечтами о яхтах и островах, и деньгах, о чем там ты еще говорил… об инфаркте у конкурента… я хоть до посинения буду сидеть за письменным столом, но не выдумаю ни ревертазу, ни М-полости — ничего. Я так не умею. Наверное, я действительно отравлен. Мне нужно впереди что-то… что ты обозвал коммунизмом в шутку. Тогда голова начинает работать.
…Малянов, сказал Вайнгартен. Я сказал это не в шутку. Хватит грез. Они слишком дорого обходятся тем, кто грезит, — не говоря уже обо всех остальных. И в первую очередь — тем, кто рядом с теми, кто грезит. Чем прекраснее греза — тем больше крови. Сколько можно! Может, ты и прав, и нас действительно поколение за поколением, век за веком вбивают в животное царство, из которого мы все пытаемся выбраться, не можем мы в нем полноценно жить — но лучше жить неполноценно, чем не жить вовсе, пойми ты уже! Цели, цели! Да чем тебя, в конце концов, не устраивают простые цели? Ты не любишь моря? Не хочешь ходить под парусом? Врешь!
…Вайнгартен, сказал Малянов. Очень люблю. Очень хочу. Но чтобы раскочегарить мысли в башке, мне нужно слышать совсем иной зов. Я должен знать — хотя бы пока работаю, должен знать: то, что я сделаю, кому-то поможет. Не брюху чьему-то — душе чьей-то поможет! Ну я не знаю, почему!! Ну что мне делать!!
…Заткнуть уши, сказал Вайнгартен. И учиться работать без всякого зова. Вообще без всякого. В конце концов, чем уж ты такой особенный? Многие, очень многие в молодости мечтают слышать какой-нибудь не животный зов. Штурмовать сияющие вершины. Шагать к высоким целям. Испытывать лишь любовь, благодарность к друзьям и подругам, бескорыстную жажду знаний, гордое и смиренное желание помогать и прощать. Но быстро ломаются. Все. Из века в век, из поколение в поколение. Не было никого, кто бы не сломался. Никого.
…Если бы ты знал, как я устал, сказал Малянов. Мне надоело спорить. Всю жизнь я спорю и с самим собой, и с другими людьми. Но я устал именно сейчас, и именно о целях я не хочу спорить…
…Тогда не спорь, сказал Вайнгартен.
И тут Малянов вспомнил, кто не сломался.
Он даже дыхание потерял. Успел еще подумать: да как же мне это раньше в голову не пришло, да почему же я это Филу не сказал?.. И сразу сообразил, что, как и открытый им Бог, он и сам нуждался в овеществляющем созданную информацию разговоре, чтобы идти дальше — значит, все-таки снова, как и прежде, спасибо Филу. От одной этой мысли мир сразу перестал быть серым — ожесточенность растворилась, затеплилась благодарность.
Был по крайней мере один, кто не сломался — и навсегда утвердил за людьми божественное право выбирать чувства и цели не только из доступного протоплазме набора. И оставил такой след, такой знак, который перевесил миллион миллионов сломанных. Самоломанных.
Это опять было сродни озарению. Или откровению. Мысль работала четко и быстро, и то, что показалось бы еще секунду назад свалкой разрозненных фактов, посторонних и друг другу, и уж подавно самому Малянову с его заморочками, схлопнулось в густо замешанное единство, а потом полыхнуло долгой ослепительной вспышкой.
Конечно, должен существовать какой-то механизм отслеживания самопроизвольно возникающей здесь принципиально новой, эмоционально насыщенной информации и ее включения в общевселенский творческий процесс. Но лишь той, которая для единства не чужеродна, а, напротив, увеличивает силы, постоянно склеивающие воедино постоянно усугубляемую развитием чересполосицу разлетающегося мира.
Ох, ну конечно! А богословы головы ломали веками, листочки какие-то на одном стебельке придумывали в качестве поясняющего триединство образа… Впрочем, они ведь даже радио не знали.
Приемник, передатчик, средство передачи. Троица!
И сколько же, наверное, этих малых передатчиков, питающих громадный приемник… И среди животных, наверное, они тоже есть, не зря в каком-то из прозрений лев в раю возлежит рядом с агнцем. Как это я говорил сегодня, сам не понимая, насколько в точку попадаю: волчара, трусящий мимо беззащитной косули… Ап! Информационное включение! Жизнь вечная…
Малянов резко встал и вышел в большую комнату. Ирка и Бобка не спали — успокаиваясь помаленьку, сидели на диване и ворковали о чем-то вполголоса. Влажные волосы на голове у распаренного, умиротворенного Бобки торчали в стороны.
Малянов вклинился на диван между ними и осторожно обнял обоих за плечи. Легонько прижал к себе. Ирка — измотанная, со слипающимися глазами и руками, красными после стирки, — покосилась на него чуть удивленно: она давно отвыкла от таких нежностей.
— А ну-ка, ребята, — сказал Малянов. — Повторяйте за мной оба слаженным и восторженным хором: не хлебом единым! Не хлебом единым! Ну!
— Ты чего, пап? — обалдело и немного встревоженно спросил Бобка.
И вдруг Ирка, коротко заглянув Малянову в глаза непонимающим, преданным взглядом — видишь? подчиняюсь! не знаю, что ты задумал, чего хочешь, но подчиняюсь! мы вместе, и я верю, что ничего плохого ты не сделаешь! — сказала решительно:
— Слушай, что отец велит! Три — четыре!..
— Не хлебом единым! Не хлебом единым!!
У Малянова намокли глаза, переносицу жгло изнутри, и судорогой невозможного плача сводило лицо. И в памяти всплыло вдруг: „Сказали нам, что эта дорога нас приведет к океану смерти — и мы с полпути повернули обратно. С тех пор все тянутся перед нами кривые глухие окольные тропы…“
К океану смерти…
Но в ответ ярко брызнул из души давно и, казалось, навсегда погребенный в ней, засыпанный осенними золотыми листьями, продутый голубым невским ветром Некрополь Лавры, куда однажды водила его мать, — и красивый, помнящийся очень громадным памятник с надписью: „Аще не умрет — не оживет“.
„Мам, а мам, что там написано?“ — „А ты сам прочитать разве не можешь? Ты же хорошо уже читаешь, Димочка! Ну-ка, читай!“ — „Да я прочитал! Я только не понимаю, что это значит!“ — „А-а! Ну, Димочка, это я и сама не очень понимаю. Это религия…“ А над городом гремели из репродукторов радостные марши, алые стяги реяли, колотились кумачовые лозунги на ветру, и отовсюду, как залп „Авроры“, бабахало в глаза крупнокалиберное „40“ — приближалась годовщина Великой!!! Октябрьской!!! Социалистической!!!
— А теперь повторяйте: аще не умрет — не оживет. Втроем!..
— Аще не умрет — не оживет! Аще не умрет — не оживет!!
— Ну, пап! — Бобка восхищенно прихлопнул себя ладонями по коленкам и вскочил. — Я т-тя щас переплюну! Только вы сидите вот так, обнявшись… Сто лет вас так не видел. Я мигом!
И он, забыв о ранах, выскочил в свою комнату — но буквально через секунду прилетел обратно, торопливо листая какую-то книжку; Малянов успел только провести ладонью по джемперу на Иркином плече, а потом по ее обнаженной шее — а она успела ткнуться мокрыми губами ему в подбородок. Она была женщина, и ей можно было плакать. Она и плакала.
— Вот! — воскликнул Бобка, переставая листать, и чуть затрудненным от боли в боку движением сел на стул напротив них. Уставился на страницу. — Жутко мне нравится… „Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, — то я ничто. Любовь долго терпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится. Ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем; когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти, прекратится“.
— Нет, Бобка! — всхлипывая, улыбнулась Ирка. — Так дело не пойдет! По книжке-то кто угодно может — а ты навскидку, от души! Как папа!
На мгновение Бобка озадаченно насупился — и, подмигнув Малянову здоровым глазом, очень серьезно сказал:
— Аще не умрет — не оживет.
И они засмеялись.
А потом сказали Богу, как другу…»
Андрей Лазарчук
Предисловие автора
Помню, как в восемьдесят четвертом из Москвы приезжал работник Министерства культуры — закрывать наш КЛФ. Этому предшествовало выселение клуба из комнаты в библиотеке, которую он занимал: помещение потребовалось для хранилища запрещенных к выдаче книг. Но на встречу с высоким гостем нас все-таки собрали. И гость под большим секретом поведал, помимо всего прочего, что Стругацкие то ли уже запрещены, то ли вот-вот будут.
— Но как же так? Ведь они написали столько коммунистических книг!..
— Книги они писали хоть и коммунистические, а — антисоветские…
Это было сильно сказано.
Клуб тогда закрыли, мы «перезимовали» год на квартирах, потом началась подвижка льда… Спустя несколько лет клуб умер своей смертью, потому что сменилась среда обитания и места в ней для КЛФ уже не было.
Мы цитировали Стругацких наизусть. Не члены КЛФ — просто студенты. Хотите на память (потом проверите)?
«Ну, что стоите? — сказал он книгам. — Разве для этого вас писали? Доложите, доложите-ка мне, как идет сев, сколько посеяно? Сколько посеяно: разумного, доброго, вечного? И каковы виды на урожай? А главное — каковы всходы? Молчите… А можно понимать прогресс как превращение всех людей в добрых и честных. И тогда мы доживем когда-нибудь до того, что станут говорить: „Специалист он, конечно, знающий, но грязный тип, гнать его надо…“»
Полгода назад я выступал перед студенческой аудиторией. Из восьмидесяти только двое читали Стругацких. С ними мы и поговорили.
Главным образом о том, что никогда не будем жить в Будущем Стругацких. Сменилась среда обитания…
Значит ли это, что Учителя ошибались? — Да, конечно.
Значит ли это, что они были неправы? — Разумеется, нет.
Высшая правота Стругацких вряд ли выразима словами, как всякая высшая правота. Думаю, нам еще предстоит постигать и постигать ее. Принимая и отвергая. Почему-то даже отрицание здесь — лишь особая форма утверждения. И, скажем, раскрытие всего страшного смысла слов «превращение всех людей в добрых и честных» (что давно держало меня за горло) почему-то лишь дополняет ее, эту правоту.
Все хорошо
1
Аля
— Вон-вон-вон прекрасное местечко! — пропела Лариска, перевешиваясь через борт глайдера и указывая рукой куда-то вправо-вперед-вниз; просторный рукав ее куртки затрепетал на ветру, и в размеренный шорох воздушного потока ворвался механический звук, от которого у Али на миг остановилось сердце: точно так же звучали сирены общей тревоги тогда на «Хингане»… «Убери руку!» — крикнула она и даже сделала движение — дать негодяйке по шее, — но глайдер тошнотворно ухнул вниз, задирая и поворачивая нос, и надо было его удерживать, выравнивать, возвращать на курс пеленга — это отвлекало от всего, даже от глыбки льда, медленно сходящей по пищеводу вниз, вниз, ничего, лед растает, ничего… А когда истекли секунды — впереди, прямо на кончике штыря пеленгатора, возникла шахматная бело-оранжевая башенка с прозрачным куполом, а еще через несколько секунд — яично-желтая плоская крыша с синими линиями разметки и одиноким серебристым «стерхом», небрежно, как карандаш на столе, забытым на краю поля. Не смахнуть бы его, подумала Аля. Она просунула руку под панель, нащупала установочный узел. Вот эти бугорки… Легкими движениями пальцев она начала смещать вектор тяги. Достаточно… Шум воздуха стих. Аля оглянулась. Желтое поле было теперь слева и медленно уходило под корму. Она развернула послушную — чересчур послушную — машину. Положила руку на регулятор тяги. В этой цепи ток был, но как среагируют эффекторы на команду при выбитом доминаторе: пропорционально или дискретно — ведомо лишь… Она покосилась на выдранные с мясом панели автопилота. Ты-то знаешь, конечно. И ответишь. Только вот не мне и не сейчас…
Сжавшись, она потянула ручку на себя. И журчание двигателя послушно и плавно сменило тон.
Аля откинулась на спинку. Хорошо, что ветерок… а то бы так разило потом… Лариска, кажется, поняла все: смотрела прямо перед собой и неслышно дудела на губе. Зато Тамарка с заднего своего сиденья перегнулась, просунулась вперед и сыпала вопросами, и Аля, как спикербокс, отвечала, отвечала, отвечала, изо всех сил стараясь, чтобы голос звучал легко. Глайдер медленно снижался и медленно скользил вперед, описывая неправильную спираль вокруг посадочной площадки, и кружился вокруг буйный лес с редкими свечами цветущих поднебесников, и синий, синее неба, хребет Оз, до которого так и не долетели, сменялся белым далеким хребтом Академии, от подножия которого, позавтракав, вылетели на прогулку…
Ну, все. Аля направила глайдер вдоль посадочной площадки, задрала нос, сбрасывая остатки скорости, и выключила двигатель. Генератор по инерции крутился еще несколько секунд, и этого как раз хватило, чтобы сесть без лишнего шума.
Лариска хмуро посмотрела на нее и вдруг молча полезла через капот раздатчика, давя и разбрасывая остатки автопилота, и обхватила Алю за шею, и запричитала тоненьким голоском, неразборчиво и торопливо, и Тамарка басом подхватила и тоже повисла на шее, и все поплыло, и Аля, мгновенно ослабев, заревела в голос. Она видела через завесу слез, как кто-то бежит к ним — два или три человека. Но это не имело никакого значения…
Она даже поспала немного — переживания, избыток кислорода, глоток чего-то горько-сладкого сделали свое дело. Странно: обычно она запоминала свои сны, а момент пробуждения тем более: это были секунды подлинного счастья. Иначе оказалось на этот раз: помнить и понимать себя Аля начала лишь после душа; все предыдущее было смазано, нереально, расплывчато. Зато и полет на свихнувшемся глайдере воспринимался легко, как событие позапрошлого года. Можно было продолжать жить, не обмирая от ужаса, что под тобой и девчонками — непроходимые болота и джунгли, полные жутких зубастых прожорливых тварей…
Приведенный в порядок охотничий костюмчик издавал запах озона и будто бы потрескивал — настолько был чист. Аля, ежась, натянула его на себя, вспушила волосы, похлопала себя по щекам: полевые косметические процедуры. Всмотрелась в отражение. Неплохо, прямо скажем. Особенно когда вот так: взгляд вполуприщур… Она засмеялась и пошла к людям.
Было, наверное, за местный полдень, а если по внутренним, земным, кейптаунским еще часам — то поздний вечер. На открытой галерее, куда выходила дверь ее комнаты, никого не оказалось, лишь маленький кибер полз вдоль стены, доводя чистоту до абсолютной. Аля постояла у перил. Джунгли были вот они — протяни руку. Синеватые, в сиреневых прожилках, листья лягушачьей пальмы качались перед лицом, и вереница жуков-оборотней двигалась по ним, тропя новый, имеющий неявный смысл, маршрут. Про жуков-оборотней вчера рассказывал доктор Пикач — может быть, слегка привирая для интереса. Якобы, помещенные в нужные условия, они могут развиться в любой живой организм Пандоры, а как доктор Пикач предполагает еще — и не только Пандоры. Что — неужели и в человека? Ну, если удастся подобрать ключ к коду… Но это же ужасно! Ужасно, согласился доктор Пикач и непонятно задумался. Аля всмотрелась в жуков. Размером в ладонь, темно-бронзового цвета, длинноусые, очень похожие по форме на земных бронзовок, они ритмично шагали по пальмовым листьям, перебираясь с одного на другой, и если расфокусировать взгляд и смотреть вдаль, казалось, что пальму обвивает свободно брошенная бесконечно длинная бронзовая цепочка. Аля двинулась вдоль перил в сторону трапа, ведущего на крышу. За пальмой в ряд стояли минные деревья — сейчас в цвету. Алые и белые шары, издающие запах свежевыпеченного хлеба. Плоды их будут смертельно опасны. Всех, ступающих на землю Пандоры, учат — до синевы под глазами и нервного тика, — как распознавать и обходить семенные коробочки минных деревьев, и все равно ни одна осень не проходит без смертей и увечий. Об этом тоже рассказал доктор Пикач. Он мог бы рассказать еще о тысяче вещей, но тут набежали девчонки, и доктор стушевался: видимо, в его планы не входило семейное развлечение.
Аля почти поднялась на крышу, когда все вокруг на мгновение потемнело и джунгли скрылись за молочно-белой стеной: кто-то нежелательный и сильный попытался преодолеть защитную мембрану. Потом мембрана вернула себе прозрачность, и Аля увидела нарушителя: трехметровая птичка, состоящая практически из одного клюва, молотила по воздуху куцыми крылышками и размахивала длиннющими ногами. Как-то она сумела наконец развернуться, в этих ногах не запутавшись, расправила межпальцевые перепонки — и потрещала, не оглядываясь, между пальмами, над верхушками минных деревьев… Гарпия гнусная ногокрылая — было полное имя этой пташки. А также — скунс перелетный.
Все были тут — наверху, на ветерке. Девчонки, подвязавши волосы, прыгали — хвосты пистолетом — и бестолково размахивали ракетками перед двумя парнями, которые им явно подыгрывали. А третий абориген грустного вида сидел, опершись спиной о ее глайдер, и пил что-то из высокого черного бокала. Увидев Алю, он поднял бокал, салютуя, и похлопал ладонью рядом с собой: приземляйся, мол, еще раз. Нравы у аборигенов были простые.
Этот, по имени Стас, наверное, местный вождь, подумала Аля. Он старше всех, и оба воина племени слушаются его. Вековая мудрость тяжелит его веки, и темнит взор, и серебром покрывает власы… нет, правда: молодое лицо, вряд ли сорок, а глаза старые, и какая-то усталость во всем: в жестах, в позах… Она вспомнила, как слушал он ее рыдания и ругань. И — улыбнулась.
— Здравствуй, вождь, — сказала она. — Ты позволяешь мне сесть с тобою рядом?
— Садитесь, садитесь, — сказал Стас и зачем-то подвинулся. — Хотите вина? Оно местное, но из настоящего винограда.
— Немного, — сказала Аля. — Попробовать.
Она села. Бок «джипси-мот» был теплый и пружинисто-податливый.
— Я еще не говорил, что восхищаюсь вами? — спросил Стас, наливая ей в такой же, как у него, бокал бледно-розовое вино. — Так вот, я восхищаюсь. У «джипси» боковая устойчивость отрицательная, считается, что его без автопилота не то что посадить — развернуть нельзя.
— Хорошо, что я этого не знала, — сказала Аля. — Приятное вино.
— Вино доброе, — сказал Стас. — Жаль, что о планете этого не скажешь.
— Вам не нравится Пандора? — удивилась Аля.
— Почему же не нравится? Замечательная планета. Только вот доброй ее не назвать… — Стас запрокинул голову и посмотрел в небо. Аля непроизвольно повторила его движение.
В зеленоватом, океанского цвета, небе на немыслимой высоте сталкивались и сминались когтистые крылья облаков.
— Поэтому люди и стремятся сюда, — продолжал он. — Отдохнуть от чересчур доброй Земли.
Аля промолчала. В разговор проникли странные нотки; в таких случаях она, чтобы не выглядеть дурой, предпочитала пропускать ход.
— Чем вы занимаетесь? — немного другим — более живым? — голосом спросил Стас; головы он, впрочем, не повернул и продолжал смотреть в небо. — Космос? Биосферы?
— Не угадали, — засмеялась Аля. — Я библиотекарь. Гутенберговский центр, Кейптаун, слышали?
Это вождя проняло. Он мгновенно сел прямо и, по-грачьи наклонив-повернув голову, буквально впился взглядом в ее лицо — будто силился узнать. Так продолжалось не меньше секунды. Потом он расслабился, обмяк, отвел взгляд.
— Странно… — он сглотнул.
— Мне самой странно, — заговорила, чтобы погасить неловкость, Аля. Она улыбалась и чувствовала, что улыбка идиотская, но согнать ее с лица не получалось, и переменить тон — тоже. — Я, понимаете, девчонкой еще занималась воздушными гонками, двадцать лет прошло, думала, перезабыла все, в глайдер сажусь утром — будто в первый раз пульт вижу, и вдруг — высота километр, и он мне начинает выдавать черт-те что…
— Доминатор сварился, — сказал Стас. — Здесь иногда такое случается. Я переналадил автопилот, теперь он совсем безмозглый, зато очень послушный. Как велосипед.
— Вы смогли его наладить?! — восхитилась Аля. — Я его так ломала, что думала — навсегда…
— Очень трудно что-то сломать навсегда.
— Значит, нам уже можно лететь?
— Как только вам наскучит с нами. Девушки уже рассказали о ваших планах. Кстати, для такого маршрута вам было бы разумнее взять «стерх». Например, наш.
— Спасибо, но это… мне даже неловко…
— Для неловкости нет оснований. Впрочем, жажду благодарности вы можете утолить очень простым способом.
Аля приподняла бровь:
— Очень простым?
— Самым простым. Когда вернетесь домой, пришлите мне реставрат первого русского издания «Графа Монте-Кристо».
— Диктуйте адрес.
— Пандора, Академия, точка «Ветер». Нуль-связи здесь нет, поэтому шлите на любой номер Академии, мне передадут.
— Простите, а фамилия?
— Ах, да. Попов. Станислав Попов.
— Я обязательно сделаю. А почему здесь нет нуль-связи?
— Не может же она быть везде.
— Наверное…
Они помолчали. Здесь что-то не в порядке, вдруг поняла Аля. Острое чувство неловкости накатило и задержалось — будто она неожиданно стала свидетелем чужой семейной ссоры. Только здесь не было ни семьи, ни ссоры…
— А вы здесь живете? — спросила Аля. — В смысле — постоянно?
— Пожалуй, да, — неуверенно сказал Стас. — Пожалуй, постоянно. Знаете что? Давайте устроим праздничный ужин. Не каждый день сюда падают гостьи-красавицы. На Земле, если я не путаю, двадцать первое ноября? Сегодня же день рождения Вольтера! Четыреста восемьдесят шесть лет старичку. Отметим?
— Вы заранее готовились?
— К чему?
— В смысле Вольтера?
— Нет, я просто знаю. О, это пустяк. Можете задавать любые вопросы — отвечу быстрее БВИ. Хотите попробовать?
Стас заметно оживился: заблестели глаза, появилась улыбка: азартная, мальчишеская.
— Н-ну… — Аля задумалась. — Автор «Свинцовых обелисков»? Год первой публикации?
— «Свинцовые обелиски» — первый роман Сергея Закревского, выпущенный им под псевдонимом Алан Шварцмессер. Астрахань, издательство «Дельта», тысяча девятьсот девяносто седьмой год. Четыреста пятьдесят пять страниц, газетная бумага, тираж две с половиной тысячи экземпляров. О творчестве Закревского рассказать?
— Не надо… — Совпадение, неуверенно подумала она. Или он действительно знает все? — Сейчас придумаю посложнее. Какое произведение Кливленда Дина Кегни выдержало максимальное количество изданий?
— Учебник «Основы математической статистики» издавался на языке оригинала и в переводах на протяжении семидесяти лет. Общий тираж…
— Ой, нет! Подождите. Удивительно… Это касается только литературы?
— Нет, — покачал головой Стас. — Всего.
— Всего?
— Да. Я знаю практически все. Разумеется, поверхностно.
— И что такое «принцип Смогула»?
— Это из области инфраинформатики. Якобы в крупных информационных сетях имеет место инверсия причинно-следственных связей. Следствие влияет на причину, и в результате возникает как бы обратный ход времени: мы начинаем получать информацию из будущего. Безадресную и рассеянную, но — информацию. Смогул пытался ее уплотнять и обрабатывать…
— И — что?
— Вы не знаете?
— Н-нет, наверное…
— Он покончил с собой. Оставил письмо. Совершенно непонятное. Цитирую: «Тем, кто живет. Финал провален. Скучно. Спасибо за роль. Увидимся после всего. Рышард Смогул».
— Грустно, — сказала Аля. — Только что уж тут непонятного.
— Вы не представляете себе, сколько толкований этого текста было сделано.
— Ладно. Тогда, если можно, еще вопрос… я вам не надоедаю?
— О, конечно, нет.
— Кто вы, Стас?
Аля спросила это — и похолодела. Лицо Стаса на миг застыло, сделалось ледяной маской, а когда ожило — было почти лицом старика. И улыбка, насильственно возвращенная на место, растянувшая сероватые губы, — ничего прежнего уже не вернула.
— Кто я? — тихо сказал он и зачем-то тронул себе ладонью подбородок и щеку. — Пожалуй… — и замолчал.
— Кажется, я нашла вопрос, на который вы не знаете ответа, — прошептала Аля.
Стас посмотрел ей в глаза. Она почувствовала, как первобытный страх вливается в нее с этим взглядом. Потом лицо Стаса сделалось почти прежним.
— Да, — сказал он равнодушно. — Один из примерно полутысячи.
Праздничный в честь господина Вольтера ужин прошел чинно и благородно. Стас был весел и легок, произносил тосты, рассказывал анекдоты, а также обильно цитировал виновника торжества. Его более молчаливые товарищи тоже не оставались в тени, хотя — Аля отметила это не без удивления — не производили никакого впечатления. Люди без качеств. Она все еще не очень твердо знала, кто из них Тони, а кто Мирон. Не потому, что были похожи друг на друга, а потому, что были похожи на всех молодых людей сразу. С непонятным, но напоминающим брезгливость чувством она осознала, что уже завтра, встреть она Тони-Мирона, — не узнает его. Для Лариски же и — подавно — Тамарки это были блистающие рыцари без страха и упреку. Паладины. Или тамплиеры. Девчонки таяли и щебетали.
Нет, что-то крупно не в порядке здесь, на этой «точке „Ветер“». Что-то здесь не так, как подобает быть. Слишком никого нет — в разгар курортного сезона. Два десятка комнат — пустые. И не научная это станция, хотя и принадлежит Академии. Впрочем, Академии принадлежит много чего…
— …а техника там — девятнадцатый век, все на уране, изношено, как черт знает что: сравнить не с чем. Но ездят они и летают — и мы с ними, что же делать. И вот такая ситуация: над джунглями — а летим мы впятером, двое местных и нас трое — мотор вертолета начинает чихать, чихать — и останавливается. Хорошо, высота приличная была, автораскрутка сработала — сели. А джунгли там не чета пандорским… скажи, Тони.
— Древний укрепрайон. Пятьдесят лет его строили, потом десять — долбили, но столько всего осталось…
— Сели мы на полянку, винт крутится еще, тишина, только шестеренки урчат да мотор потрескивает — остывает, значит. Сидим, в себя приходим. И вдруг — тихое такое… не гудение, не звон, а — по краю бокала пальцем провести…
Прогрессоры, с облегчением подумала Аля. Я навоображала себе черт знает чего, а это — просто Прогрессоры. Говорят, где-то здесь у них то ли база, то ли центр реабилитации, туда не пускают посторонних… хотя нет, это не здесь, это в южном полушарии — Алмазный пляж… Все равно, Прогрессоры — это отдельно. Она огляделась. Девчонки, конечно, внимали, открыв рты, Мирон из посуды и собственных рук творил панораму события, Тони ему помогал, улыбаясь чуть снисходительно и отпуская комментарии, а Стас… Лицо его было безмятежным, и он, казалось, с удовольствием слушает рассказчика — но костяшки пальцев, сжимавших нож и вилку, побелели; стейк так и лежал перед ним на тарелке, нетронутый. Поймав взгляд Али, он осторожно положил предметы на стол, виновато улыбнулся и шепнул: «Сейчас вернусь». Аля видела, как Тони кивнул, а потом посмотрел на часы. Она тоже посмотрела на часы. Было четырнадцать после полудня местного, значит, около пяти по Гринвичу. Спать не хотелось абсолютно. Солнце цвета остывающей стали висело меж черных ветвей, и было хорошо видно, что солнечный диск — и не диск вовсе, а эллипс, перечеркнутый по большому диаметру тонкой, как волос, темной чертой. За пределы диска черта продолжалась тускло-багровыми, с золотыми вкраплениями, полосками, постепенно сходящими на нет, тающими в розовом зоревом мареве. С орбиты Кольцо производило еще более сильное, потрясающее впечатление…
Все было безмерно чужим.
На миг не стало хватать дыхания и объема. Почти в панике, Аля огляделась. Глыбы пространства, как глыбы невидимого льда, погребли ее, отделяя от живущих. Непреодолим был лед… Она смотрела — и видела все как бы с огромной высоты, из бесконечности, оттуда, где нет ни воздуха, ни света. Плоско-невыразительные, лежали, слегка двигались и производили ненужные звуки изображения тел и предметов. Это называлось жизнью и ни для чего другого не было предназначено.
Потом дыхание вернулось — с жаром и грохотом. Воздух распахнулся, и оказалось, что за ним скрывается белое пламя. Каждый звук, умноженный пламенем, взрывался под черепом, раскалывая и дробя. Огромная пылающая рука упала на лицо и сжала, сжала, сминая кости, глаза, мозг. Еще немного, пришла мысль, еще немного. Чувство финала, чувство близости великой цели. Одуряющий запах раскаленных роз. Торжество пламени. Все исчезает в белом сиянии, моментальные красные контуры, голубой пепел…
— Мама, мама, что? Тебе плохо? Ты меня слышишь? — Лариска рядом, и Тамарка подскочила, и обе трясут за руки, за плечи, и встревоженные морды Тони-Мирона на втором плане, и громадный цвета черных вишен полуэллипс за их плечами, и вверх рогами голубой серп над головой, и хлебно-медовый запах цветущих деревьев, невидимых в темноте, и шуршание мягких крыльев за мембраной, и легкое подрагивание пола в такт далеким многотонным шагам, и возвращение в собственное я из ниоткуда — это восхитительно. Никто не знает по-настоящему, как это восхитительно…
— Нет, все хорошо, устала, надо поспать, поспать… — Язык послушен, и довольно. Довольно на сегодня. — И вам — спать. Всем спать.
— Правильно, — издалека говорит Тони-Мирон, — только примите снотворное, а то проснетесь среди ночи, ночи же здесь длинные, что будете делать тогда?..
— Примем-примем, — говорит язык, — да мы и без снотворного…
— Ни-ни, — Тони-Мирон машет в воздухе огромным, как баллон, пальчиком, — у Пандоры свои странности, без снотворного никак не можно…
У нас тоже свои прибабахи, хочется сказать языку, но Аля укрощает его и отправляет в конуру, и позволяет девчонкам взять себя под локотки и вести, вести, вести, дорога дальняя, а ночка лунная, три луны, и в темноте, далеко-далеко, Тони-Мирон переговаривается сам с собой и говорит сам себе, думая, что его не слышат: это инсайт. И, соглашаясь сам с собой, кивает.
Уже в вертолете, описывая прощальный круг над желтым квадратом с пестрой букашкой глайдера на краю и тремя игрушечными человечками, отбрасывающими неприятно длинные тени, Аля почувствовала, как ее отпускает что-то, не имеющее названия и места приложения, но сильное, четкое и цепляющее. Будто вырывались с корнем проросшие в тело — ночью, неслышно — нити.
Свобода, — возникло слово.
— А он тебе понравился, — ехидно сказала Лариска. — Я видела, как ты на него смотрела.
— Ну и что? — Аля тряхнула головой, сбрасывая с глаз мешающую прядь. — Мало ли кто мне нравился?
— Нет, он хороший, — встряла Тамарка. — Только все время о чем-то думает.
— Он знает много, — сказала Лариска. — И так хорошо все объясняет. Я вот не понимала, как время может быть многомерным…
— Это вы что — в школе проходите? — изумилась Аля.
— Интерметтивный курс, — важно и непонятно объяснила Лариска.
— С ума сойти, — сказала Аля. Давно — в прошлой жизни — Камилл пытался втолковать Ламондуа, Прозоровскому и ей, соплячке (подвернувшейся случайно), именно это: многомерность времени. Потом Камилл ушел. Розовый и потный, Ламондуа водил пальцем по столу, потом, не поднимая глаз, буркнул: «Как думаешь, Лев, возьмут нас в зоопарк?» — «Меня возьмут», — сказал Прозоровский.
Славное было время…
И вдруг она вспомнила. Не мысль, не картина всплыли, нет — тень, привкус, полузвук… но из тех славных времен. Аля цыкнула на девчонок и осторожно, чтобы не сбиться, стала притрагиваться к тому, о чем вспоминала только что. Прозоровский… нет. Зоопарк… нет. Ламондуа… н-нет… кажется, нет. Камилл…
Камилл.
Вот оно: Аля только-только начала работать в Гутенберговском центре, и кто-то — Амет-хан? — несколько раз приглашал Камилла на консультации, и раза два Камилл на эти приглашения отзывался; а запросы, вынуждавшие Амет-хана скручиваться в тугой жгут, исходили от некоего Попова… и вообще бытовала фразочка: «Работать на Попова» — то есть искать и находить нечто такое, о чем все давно забыли либо никогда не знали. Для Али Попов был чистой абстракцией…
Проверим. Амет-хан стар, но бодр.
Джунгли кончились, начались предгорья, изумрудные холмы, муаровые луга, и через десять минут внизу, на берегу озера Ахерон, возникла ярко-оранжевая перекошенная буква «Ф» — посадочная площадка курорта Оз-на-Пандоре. Аля запросила разрешение на посадку и заказала срочный сеанс нуль-связи с Землей, с номером — и она по памяти назвала номер Амет-хана. Никто не помешал ей садиться, она приткнула вертолет в отведенный ей сектор, торопливо выбралась сама и подстраховала выпрыгивающих девчонок. Земля была удивительно прочной и надежной — только сейчас Аля поняла, что во время полета страшно боялась… чего? Непонятно. Кажется, не хотелось признаваться себе, чего именно она боялась.
Даже ноги подгибаются…
Амет-хан пил кофе. По этому нельзя было судить, какое вокруг него время суток: Амет-хан пил кофе всегда. Обрадовался он Але или нет, тоже был неясно: лицо Амет-хана всегда было непроницаемо, как лицо индейского вождя. Он внимательно Алю выслушал и ответил: да, в шестьдесят первом году появился такой чрезвычайно активный абонент с полным доступом КОМКОНа. Лично Горбовский следил, чтобы его обслуживали с максимальной эффективностью. Как понял сам Амет-хан, Попов был контактером — хотя с кем именно он вступал в контакт, осталось для него неизвестным. Эта эпопея продолжалась шесть лет со все нарастающей интенсивностью информобмена, а потом внезапно оборвалась. Амет-хан слышал краем уха о некоей странной катастрофе, в которой Попов не то погиб, не то пропал без вести. Как Але должно быть известно, кодекс информистов запрещает им интересоваться личностями и судьбами абонентов. Поэтому лучше всего обратиться в БВИ. До свидания, Александра.
До свидания…
В БВИ… Поповых — миллионы. Формальных данных она не знает. Хотя… он же был абонентом с Полным допуском! А таких единицы.
Але повезло: на абоненте дежурила Дайна. Без лишних слов она вызвала архив шестьдесят первого года, Поповых много, но ни одного с допуском КОМКОНа, Станислав Игоревич есть, но ему девяносто восемь лет… То же самое — в архивах шестьдесят второго, шестьдесят третьего… Я же помню, был такой! — растерянно сказала Дайна. — Мы же на него пахали, как землеройки.
— Спасибо, Дайна, я все поняла, — сказала Аля и отключилась.
На новый вызов сначала долго никто не отвечал, хотя экран осветился; потом появилась недовольная неизвестно чья физиономия. Позади нее бродили блики в пересечениях полупрозрачных нитей, и что-то большое, бесформенное — тошнотворно-медленно проворачивалось, погружаясь в самое себя.
— Здравствуйте, — сказала физиономия. — Вам меня?
— Здравствуйте, — отозвалась Аля. — Нет, лучше Валькенштейна.
— Это срочно?
— Да.
— Одну минуту. Но предупреждаю: он будет свиреп. Марк Наумович!
Действительно, возникший Марк был свиреп. Седые кудри обжимал полушлем, на лоб косо сползали странной формы фасетчатые очки. Но, увидев Алю, Марк мгновенно растаял:
— Ох, Алька! Какими судьбами? Где ты?
— На Пандоре. Курорт Оз.
— И девчонки с тобой?
— Ну, разумеется.
— А далеко?
Аля оглянулась. Девчонки в соседнем зале свисали с буфетной стойки.
— Далеко. Марк, у меня серьезное дело. Точнее, странное. Я ничего не могу понять, но мне почему-то жутко. Короче: ты можешь связать меня с Горбовским?
Марк ладонью провел по лбу. Полушлем с очками остался у него в руке. Кудри расправились, брови немного опустились, глаза чуть прищурились. Это был почти прежний Марк — тот, которого она так любила. Сильный и безупречно надежный. Не укатанный еще никакими крутыми горками.
— Рассказывай, — потребовал он, и она послушно стала рассказывать.
Стас
Они улетели, а я остался.
Погано было на душе — или в том месте, где у человека, по обычаю, располагается душа. Хотелось выпить вина, или подраться, или расколотить что-нибудь. Но ничего этого делать было нельзя, и даже думать об этом было нельзя.
— Ладно, — сказал я Мирону. — Кто куда, а я под душ.
Тони уже спускался по трапу — рапортовать.
— По-моему, получилось все неплохо, — внутренне суетясь, продолжал я. — Вроде бы обошлось, а? Как тебе показалось?
Мирон помолчал, я обошел его и направился к трапу. С Мироном трудно разговаривать. По крайней мере, мне.
— У нее был инсайт, — сказал он. Как выстрелил между лопаток.
— Когда? — обернулся — нет, повернулся всем телом — я.
— На этом дурацком ужине. Когда ты ушел.
— Когда ушел… Глубокий?
— Видимо, да. Ночью я проверил ее медиатроном. Сплошные красные поля.
— Это ни о чем не говорит. После той встряски… — Я понимал, что говорю глупость.
— Это был инсайт. Можешь мне поверить. Надежда только на то, что — не развернется.
Надежда была хилая, и мы это отлично знали.
— Инсайт так инсайт, — сказал я. — Мне же хуже.
Я старался, чтобы голос звучал ровно. Инсайт вкупе с тем, что она — умная женщина — увидела и услышала здесь… это все равно, что взять и рассказать прямо. Хотя… что с того? Иного не дано, разве что — свинцовая пломба…
— Как я устал, — сказал вдруг Мирон. Никогда я от него ничего подобного не слышал. — Знал бы ты, как я устал.
— Извини, — сказал я. — Старайся не стоять рядом.
— Я не от этого, — качнул он головой. — Хотя, может быть, и от этого тоже…
— Я буду у себя, — сказал я. Он не ответил.
Дома я выгнал кибера и сделал уборку — сам. Предварительно включив воспроизведение ночных записей. От меня долго все это прятали, и я уже нафантазировал себе неизвестно что. Потом пришел Салазар и разрешил мне их просматривать. Первому. И даже стирать то, что я хочу стереть. Правом цензуры я не воспользовался ни разу. Были и остаются у меня на этот счет свои соображения. Ну а еще потому, что в сравнении с тем, что я ожидал увидеть, мои реальные действия ничего особенного из себя не представляли. Странно я себя вел, это да. Но не омерзительно. Не так, как я ожидал, исходя из запомнившихся обрывков сновидений — и из поведения тех, досалазаровских, психологов.
Изодранные простыни и пропоротую подушку я сунул в утилизатор. Туда же отправил рассыпанные пуховые шарики. Вернул на место кушетку и кресла. Поставил на полку книги. Странно: я никогда не рвал книги. А может, и не странно… Делая все это, я краем глаза поглядывал на экран, прихватывая и монитор медиатрона. Все шло как обычно, и ноограммы светились в полном спектре, но больше — в крайних цветах, красном и синем. И прежде бывало именно так, и этих снов я не запоминал никогда, а только те, что лежали в желто-зеленой полосе. И сам я на экране был обычный: гиббон гиббоном. Короче говоря, ночь как ночь, лишь одно происшествие было: около полуночи кто-то подходил к двери и пытался открыть ее снаружи. Охранная программа это засекла и задала, естественно, вечный вопрос: что делать? И ответа, понятно, не получила. Я вернул это место и просмотрел все подробно. Ноль часов пятнадцать минут. Короткий стук в дверь, кто-то трогает ручку. Я в это время сижу на столе в какой-то дичайшей позе и веду разговор сам с собой, но разными голосами: мужским, взволнованным, задаю короткие вопросы — и отвечаю женским, задыхающимся, как после долгого бега, красивым, глубоким, за один такой голос в женщину можно влюбиться по уши и навсегда — причем все это на языке, которого я не знаю и не знал никогда. На медиатроне желтое с оранжевыми облачками свечение. Ничего не помню… За дверью еще раз пробуют замок и уходят.
Да, чего только не услышишь, стоя под дверью…
Чего только не подумаешь.
Я закончил уборку и пошел мыться. Пустил мозаичный душ и долго крутился под ним, смывая пот и напряжение. Потом пустил просто теплый, с легкой ионизацией. Потом перебрался в сушилку и там, качаясь в гамаке под мягким обдувом, почувствовал наконец, что — расслабился.
Час прошел с их отлета. Может быть, уже сели. На всякий случай — еще полчаса полного покоя.
Не одеваясь, я прошел в комнату, оказался около книжных полок, расслабленно и не глядя протянул руку, взял книгу — это оказался Боэций. И прекрасно, подумал я, падая в кресло. Книга сама собой открылась на первой главке «Утешения».
Как хороши бумажные книги! Они ненавязчиво предлагают тебе любимые тобой страницы, они хранят характеры и запахи своих владельцев, с ними уютно. В книгах есть что-то от пожилых мудрых кошек.
«Тем временем, пока я в молчании рассуждал сам с собою и записывал стилом на табличке горькую жалобу, мне показалось, что над головой моей явилась женщина с ликом, исполненным достоинства, и пылающими очами, зоркостью своей далеко превосходящими человеческие, поражающими живым блеском и неисчерпаемой притягательной силой; хотя она была во цвете лет, никак не верилось, чтобы она принадлежала к нашему веку…»
Очаровательно, подумал я. И как все легло: и над головой, и во цвете лет, и насчет неисчерпаемой притягательной силы очень верно подмечено… Согрел и умаслил меня стойкий мудрец нечаянной своей интрагнозией. Я читал и читал дальше, будто шел по знакомой тропе к дому, а время тоже шло, и вот он, стих десятый: «Сюда, все обреченные, придите в оковах розоватых, тех, что страсти на вас обманчивые наложили. Страсть обитает в душах ваших, люди. Здесь ждет покой после трудов тяжелых. Здесь сохраняет тишину обитель — убежище для бедных и гонимых… Слепые не прозреют, заблуждений им никогда не превозмочь несчастных. Земля все погребет в своих пещерах. Величие, что небесам пристало, и душу тот лишь сохранит, кто сможет узреть тот свет, который ярче Феба, и может все затмить его сиянье».
Где-то внутри звякнул неслышный колокольчик, я встал, поставил книгу на место и пошел одеваться. Надел шорты и натягивал майку, когда в дверь стукнули и голос Тони позвал: «Стас!»
— Иду, — сказал я.
Тони был раздражен и недоволен, хотя и старался ничем этого не выказывать; мимика была в порядке: добродушная полуулыбка. Однако с недавних пор я метрах в двух-трех стал ощущать эмоции и общие намерения человека. Ощущал я это почему-то правой щекой, а напоминало это обоняние. Понятно, что делиться сведениями об этом новом своем качестве я пока не торопился. Так вот, Тони был недоволен, хотя очень хорошо скрывал свои чувства. О причинах же недовольства догадаться было легко…
— Меняем квартиру, Стас.
— Из-за инсайта?
— Мирон сказал? Да, сам понимаешь… так вышло…
Я вдруг почувствовал, что ему стыдно. Стыдно передо мной. Это было уже лишнее, поэтому я улыбнулся и пожал плечами:
— Да, я понимаю. Так вышло. Ладно, мне собраться — сам знаешь.
— Да, Стас. Собирайся потихоньку. Никто не торопит.
Это все-таки Пандора, не Земля: одноразовые вещи здесь не в ходу, приходится иметь запас одежды и прочих вещей, так что два полных увесистых чемодана со мной были: с гардеробом и надзирающей аппаратурой один и с библиотекой — другой. Также и сопровождающие мои были увешаны сумками и футлярами. Тонн активировал киберкомплекс, и после нас здесь все будет вычищено под ноль, а Мирон извлек из обоймы ампулу с ксимексом и продемонстрировал мне. Ксимекс был микрокапсулированный, молочно-белый — значит, мне обеспечено минимум шесть часов комы — или нирваны? В общем, беспамятства. Процедура необходимая, потому что пролетать мы наверняка будем над населенными территориями, а кому же это надо: сводить с ума стада компьютеров и киберов, имеющих блоки-доминаторы? А шесть часов — значит, лететь далеко. По условиям содержания я не должен был знать координаты места. Не знаю, зачем. Все равно на второй-третий день я могу назвать их с точностью до угловых секунд.
Короче, забросив чемоданы в багажник глайдера, я повернулся к Мирону и закатал рукав. Но Мирон смотрел мимо меня и поверх моей головы, я обернулся: на нас круто пикировал «гриф».
— Закон парности, — пробормотал Мирон.
— Он же вмажется! — закричал Тони и замахал руками — будто это помогло бы «грифу» не врезаться.
Хотя, может, и помогло: вертолет, выкрашенный необычно: в ядовито-зеленый цвет с коричневыми разводами и черными зигзагами — завис метрах в трех над площадкой. Могшим воздушным ударом нас чуть было не снесло. Глайдер, по крайней мере, крутнулся и отъехал почти к самому краю. Потом «гриф», произведя сотрясение уже не только воздуха, припечатал себя к площадке. Дверь салона отсутствовала; из проема сразу же, не дожидаясь положенного по правилам останова лопастей, выскочили трое в охотничьих костюмах и, что характерно, с карабинами.
— Парни, вы что — с ума?.. — Тони шагнул им навстречу, но один из прилетевших небрежно отодвинул его в сторонку стволом карабина. Что-то в них троих было очень необычное — настолько, что не улавливалось сразу. Они остановились в двух шагах от меня, и один, который шел посередине, не разжимая губ, спросил:
— Попов — это вы?
Мысли летели сквозь мою бедную голову, не задерживаясь, так что вполне можно было сказать, что я ни о чем не мог думать. Поэтому я просто кивнул и голосом подтвердил:
— Я — Попов.
— Вы полетите с нами, — сказал он.
Тут я понял, что в них было необычного. Они имели одно и то же лицо. Разные фигуры — тот, который говорил со мной, был ниже меня на полголовы и пухловат, а двое других — повыше и в плечах пошире, но один мускулисто-литой, здоровенный и тяжелый, а второй — костистый и жилистый, но тоже, наверное, очень сильный. Тройняшками они не были. Просто у них было одно и то же лицо.
Краем глаза я видел, что Мирон медленным движением снимает с плеча сумку, а Тони пятится, и в этот момент коротышка выбросил прямо к моему лицу руку — я увидел черный блестящий зрачок глушилки-стиннера. Их применяют для обездвиживания крупного зверя. Я не был крупным зверем, поэтому и грохнул по мне коротышка не полной мощностью — я еще успел заметить, как прыгнул на мускулистого Мирон и как Тони затанцевал, разгоняясь… но время закачалось вперед-назад, и снова Мирон прыгнул, и снова, и опять, и все чаще, без пауз, слилось, а потом черные воронки выстрелов стали появляться то здесь, то там, медленно прокручиваясь и затягиваясь, и вновь лишь рябь — а потом синяя, как небо над Гималаями, пустота…
2
Стас
В начале было слово.
— …уже после их Гражданской войны, когда неграм дадены были равные права и все такое прочее — эмансипация, слышали? — так вот, начали негры торговлишку. За бедностью общей приходилось им открывать лавки свои в темных амбарах да в подвалах. Масло для освещения в то время было дорого, так что негры на освещении экономили изрядно. А «лавка», «магазин» по-английски будет «шоп». Отсюда и пошло: «Темно, как у негра в шопе». А форма, которую избрали вы, суть не что иное, как искажение…
— Есть.
— Есть — что?
— Не «суть», а «есть». Суть — множественное число.
— Вы ошибаетесь, коллега! «Суть» — это краткая форма от «сущность», что означает, в свою очередь…
— Тихо. Он, кажется, очнулся.
— Вы что, видите в темноте?
— Нет, я просто хорошо слышу. Эй, новенький? Вы проснулись?
— Еще не знаю, — сказал я. — Нет критериев.
— Наш человек, — сказал кто-то другой.
— И должен заметить, — я приподнялся, — что в Америке времен Гражданской войны для дешевого освещения использовалось не масло, а керосин.
— Керосин — это и есть название хлопкового светильного масла…
— Тихо! — выдохнул кто-то на пределе волнения. — Новенький! Назовись!..
— Стас Попов…
— Стась! Не может быть!
— Но факт. Ты кто?
— Не узнаешь?
— Пока нет. Скажи что-нибудь спокойно.
— К черту спокойствие! Я — Эспада!
— Костя… — у меня куда-то делся голос. — Так ты живой…
— Осторожно!.. — прошипел кто-то, а потом меня просто смяли в комок. Костя был фантастически длиннорук и силен при этом.
Когда в шестьдесят седьмом началась вся эта мерзость на станции «Ковчег», Эспада был в числе первых пропавших — еще до появления призраков и выворотней. Так что он и знать не знал, что пришлось пережить нам, оставшимся, — и чем все кончилось…
Впрочем, относительно «кончилось» я, наверное, заблуждаюсь.
Их здесь было пятеро: Эспада, пропавший вместе со мной и почти одновременно; Вадим Дубровин, один из открывателей Саулы, — именно он развлекал общество толкованием поговорок; Вольфганг Свенссон, нуль-наладчик; Патрик Дэмпси, пилот; и Эрик Колотилинский, прогрессор, специалист по Гиганде. Все они были похищены неизвестными людьми из мест изоляции; все, как и я, когда-то исчезли в глубинах космоса, а потом неведомыми путями оказались на Пандоре неподалеку от курорта Дюна, голые, почти ничего не помнящие поначалу… Патрик обладал способностями, отдаленно напоминающими мои: в его присутствии у металлических проводников резко изменялось сопротивление; в какую сторону, зависело от того, какое у Патрика настроение. Другие ничего особенного за собой не числили — кроме того, разумеется, что дверные мембраны их — нас — не пропускали, приравнивая к пандорианской фауне. И это несмотря на то, что все и всяческие исследования генетического кода — по крайней мере, моего — ответ давали один: человек. Мембраны плевать хотели на результаты исследований…
Мы с Эспадой пропали из орбитальной станции «Ковчег». Эспада — просто из закрытого отсека, я — после того, как погасли звезды и станцию начало корежить и ломать. Патрик, пилотируя транспортный «Призрак-Дромадер», вышел из очередного прыжка в каком-то очень странном месте: в центре исполинской каменной пещеры. Судя по практическому отсутствию гравитации, это была внутренняя часть полого астероида. Он задал обратный курс, но началось что-то непонятное, и потом уже Патрик очутился на Пандоре. Вольфганг был одним из тех, кто весной шестьдесят седьмого пропал в нуль-кабинах: была такая загадочная полоса, причин этого не узнали, но события как-то сами собой прекратились. Вольфганг, собственно, и пытался по долгу службы разобраться с этими случаями… Вадим смутно помнил, что летел куда-то на глайдере, а потом вдруг оказался в дюнах, и это можно было бы толковать как банальную аварию с ударением головой о более твердый предмет, да вот только летел он на Марсе, а пришел в себя на Пандоре. Самое странное исчезновение случилось у Эрика: он занимался на ноотическом тренажере именно по программе выживания в джунглях — и долгое время был убежден, что ему составили такую вот весьма оригинальную программу…
Если резюмировать — а этим ребята занимались долго и упорно еще до моего появления (Эрик и Вольфганг находились здесь уже недели три, судя по внутренним часам), — то получалась простая вещь: кто-то собирал в одном месте тех, кого прогрессоры (кстати, почему именно они?) старательно держали порознь, не позволяя им даже догадываться о существовании себе подобных. Интересно, много ли нас еще в природе вообще и на Пандоре в частности? На «Ковчеге», когда там начались чудеса, находилось одиннадцать человек…
Аля
Было беспричинно и непривычно тяжело. Будто бы увеличилась гравитация. Икры налились тяжестью, подошвы прилипали к мягкому рифлонгу пола. Хотелось лечь в ванну, но почему-то эта мысль вызывала неясное отвращение. По отдаленной аналогии вспоминались беременности — хотя формально ощущения были другие.
Она прогнала девчонок и осталась лежать. Сначала просто так, потом — вывела на потолок дисплей мнемониатора. Настроилась — и начала воссоздавать то, что помнила.
Вот они подбегают трое: Стас и Тони-Мирон. Стас смотрит на глайдер, а Тони-Мирон одним глазом, рассеянным, смотрят на глайдер, другим — бдительным — на Стаса. И это не позднейшие наслоения впечатлений, нет — это было замечено, а потом забыто…
«Граф Монте-Кристо».
Нуль-связи здесь нет.
Извините, я ненадолго…
И — сны. О, да! Какие сны, сколько снов! Я там была, там видела…
Не помню.
Мнемо — не помогает. Будто лезу на ледяную горку…
Вот и опять вниз.
Стоп. Зацепилась.
Не упасть бы…
Сон-матрешка. Я во сне — не я. И та, кто я во сне, — видит сон. И я его вижу, разумеется, тоже, но как-то со стороны и неглубоко — будто смотрю одним глазом.
Бег по серой грязи, из которой торчат голые прутья — поодиночке и пучками. Стремительный бег, беззвучный, ровный. Я почему-то смотрю не прямо перед собой, а чуть вправо.
Серая стена — металл? Рядом каменная глыба. Я погружаю в камень руку, что-то вынимаю…
Потом — я лечу! Справа в поле зрения — мое колено, лоснящееся, темное. Будто бы распухшее.
Подо мной кромешный ад: нагромождение скал, пропасти без дна. И вот я ныряю в такую…
Темно. Темно. Темно. Теплая, сладкая, почему-то исторгшая меня темнота. Радость возвращения и обида: зачем выгоняли, за что? Как щенка на мороз.
Нетерпение. Сейчас что-то произойдет — невыносимо приятное. Темнота течет навстречу, обнимает. Она может быть ласковой.
Вот сейчас… сейчас… Ожидание, нетерпение. Ну же!..
Взрыв — боль — слепота — вибрации вперекрест — будто дисковые пилы входят медленно в череп. Я кричу…
Я отшатываюсь — в миллионный раз. Я успеваю, потому что знаю, чего ожидать. Я привык. Потом — оборачиваюсь…
Следом идет женщина в легком дорожном костюме. Костюм белый, волосы черные, глаза чуть прищурены и смелы. Большой яркий рот. Высокая, красиво движется — уверенно, сильно, плавно.
Я никогда ее не видел.
Я много раз ее видела…
Мнемониатор выключился сам: сработал стресс-блок. Но его можно и…
Аля провела рукой по лицу. Пот. И дрожат пальцы. И кто-то глубоко внутри кричит: хватит! Нельзя! Не смей больше!..
Да что же это со мной?
Я — боюсь. Это настоящий страх. Я — боюсь…
Она полежала, расслабляясь, глядя на чистый, ничем не замутненный экран. Дождалась, когда лежать так — станет невыносимо. Отключила стресс-блок. Зеленый глазок погас, зажегся красный.
…Я успеваю отшатнуться, потому что знаю, чего ожидать. Но в той последней мгновенной вспышке вижу: бесконечное поле, и на нем стоят, как пешки на доске, идеально правильными рядами — тощие черные мальчишки. Их сотни или тысячи. Они стоят и смотрят на меня, а я смотрю на них с какого-то возвышения. И они ждут… чего? Моего слова? Нет, здесь не разговаривают вообще. Звуки — другие. И только я сам могу, когда захочу, сказать и услышать: «Колокольчик!..»
Потом все гаснет. Женщина в белом подходит, кладет руку на плечо. «Здравствуй, вождь. Я нашла вопрос, на который ты не знаешь ответа…» Сейчас она его задаст, и тогда всему наступит конец. Потому что есть такой вопрос, который задавать нельзя. И я, чтобы не отвечать, убегаю назад, на станцию Ковчег.
Амет-хан на меня в обиде: ему опять приходится идти на поклон к Камиллу, а это становится морально все тяжелее и тяжелее: Камилл и прежде был невыносим, а после дела «подкидышей», когда его зачем-то изолировали от всей имевшейся информации, стал невыносим в кубе. У него ярко выраженный комплекс Кассандры: он всегда прав, но ему все равно не верят. А раз так — то нечего и метать бисер. А Амет-хан при всей своей кажущейся невозмутимости человек мягкий, отзывчивый — и ранимый. Я сделаю то, о чем просит Малыш, Амет-хан сделает то, о чем прошу я, Камилл сделает то, о чем просит Амет-хан… Никому не будет хорошо от этого. Но, может быть, иной раз имеет смысл делать то, от чего не бывает хорошо?
Я подозрительно часто вспоминаю Майку. С ее неправильной правотой.
«Что делают люди?» Вот уже шесть с хвостиком лет я отвечаю на этот самый первый вопрос Малыша — и все меньше понимаю сам, что они делают. Раньше мне казалось, что я знаю все. Постепенно — масштаб увеличивался — стали видны странноватые лакуны, в моих познаниях. Потом они заполнились, но — масштаб увеличивался — появились лакуны в информации БВИ. Их тоже пришлось заполнять, обращаясь к специалистам. Потом оказалось, что есть специалисты, которых как бы и нет, и есть работы, которые как бы не проводились, и есть что-то еще…
Но это почти неважно сейчас. Ребята разбирают Черный спутник Странников, я не слишком вникаю в их дела, потому что занят именно этими последними вопросами, к которым меня подвел неприятно выросший Малыш… как мало в нем осталось от того восторженно-взвинченного, раздираемого страстями мальчишки!.. Он сух, насмешлив, иногда презрителен. Он слишком много о нас знает и делает выводы. Он похож на молодого упрямого голована.
Я по-прежнему люблю его.
Эспада с ребятами ходят счастливые. Они докопались до какого-то узла, которого ни на каких других сооружениях Странников не находили никогда раньше. Узел являет собой приличных размеров ком труб и трубочек, сплетенных плотно и прихотливо. Никто не понимает, для чего он может быть предназначен…
Они просвечивают и простукивают узел, пытаются томографировать. И в какой-то момент что-то происходит, хотя это «что-то» ничем не улавливается. Просто все чувствуют себя так, будто им пристально смотрят в спину.
Первым исчезает Эспада.
Следом — еще двое ребят.
Коридоры станции кажутся колодцами, на дне которых клубится мрак. В спину уже не просто смотрят: дышат.
Наверное, надо было эвакуироваться сразу. Не знаю, почему задержались. Наверное, было стыдно бежать, бросив пропавших ребят. Была надежда, что мы их найдем, вернем… Когда появился запах фиалки, было уже поздно.
Он был густой, этот запах. Воздух сделался студенистым, подергивающимся. На границах поля зрения происходило что-то непонятное и часто страшноватое. Киберы умерли. Станционные и корабельные компьютеры вели себя так, как хотели сами.
Может быть, имело смысл рискнуть и улететь вручную. Не рискнули. Это уже была деморализация.
Пришли ответы на вопросы Малыша. Передать их ему я не смог. Начали гаснуть звезды…
А после — будто гигантская рука стала медленно сжимать и скручивать станцию. Лязг, хруст и скрежет. Мы метались по помещениям, потом — разбрелись по каютам и стали ждать конца.
Это затянулось почти на трое суток.
Нас плющило аккуратно: воздух не выходил. Коридоры становились похожи на трубки, перекушенные кусачками: стены сведены вплотную. На моем потолке образовалось мокрое пятно, висели крупные холодные капли, иногда отрывались и падали на лицо и грудь. Я лежал и думал о последних вопросах Малыша и об ответах на них. Он знал о нас все — гораздо больше, чем мы сами. И думал не так, как мы. Конечно, большей частью думал не он сам, а таинственные аборигены планеты. Но тем не менее, тем не менее…
Почему Малышу было так важно знать подробнейшую биохронику доктора Бромберга? (И почему вдруг оказалось так трудно добыть ее?..) И почему у людей в основном разные мнения, но по некоторым вопросам — совершенно одинаковые?
И — почему андроидам нельзя жить на Земле? Кто и когда это запретил и как им самим это объяснили?
И, наконец, — что такое «проект „Валгалла“»?
Ответы от Амет-хана я получил, но даже не стал их читать — было просто не до того…
Стены каюты сжимались, шли складками. Дверь вывернуло, мембрана не замыкалась, повиснув мертвой складчатой шкуркой. Воняло все сильнее…
Аля от крепкого, плотного, вовсе не цветочного запаха сморщилась, непроизвольно дернула головой — и вдруг будто бы очнулась. Она лежала в комнате гостиницы, одна, на потолке бледно мигал экран мнемониатора. За окном, широким, панорамным, — зрела гроза. Небо было океански-зеленым, в белой пене. Облачные башни всех оттенков черного — надвигались. Светлая стрелочка глайдера скользила косо вниз, перечеркивая тучи…
Что это было? Она встала, неуверенно шагнула к столику. Вот теперь — тяжесть исчезала, испарялась… и так же исчезали и испарялись обрывки увиденного и понятого, разлитые лужицы чужой памяти… и, торопясь успеть, она подплыла к столу, схватила блокнот и начала диктовать то, что еще могла вспомнить: станция «Ковчег», проект «Валгалла», Эспада, андроиды, Бромберг, Малыш…
Стас
Я шел вперед, спотыкаясь, и какие-то бестелесные твари касались щек и лба. Повязка была плотная, жесткая, двое за спиной крепко держали меня за локти, так что не хватало только скрипа несмазанных петель и вони факелов. Имелась, впрочем, другая вонь, которая не была похожа ни на что.
Я был уверен, что мы находимся не то в облагороженной естественной пещере, не то в приспособленной для обитания шахте. На Пандоре когда-то было много кобальтовых шахт — еще до организации природного заповедника. Об этом мало кто знает.
Вот — открылся некий объем. Зал? Гулко и темно. Здесь, в подземелье, я обнаружил в себе новое умение: ощущать близость стен, людей и предметов. Этакое серебрение исходит от неживого, и зеленоватыми тенями кажутся люди. Повязка на глазах мешает и этому зрению, но не абсолютно, и я различаю три продолговатых зелено-серебряных пятна перед собой…
— Отпустите его, — сказал низкий реверберирующий голос. — И снимите повязку.
Меня отпускают. Я стою смирно. Ловкие пальцы касаются затылка. Повязка сложная, с какими-то ремнями и застежками. Зачем такая, если хватило бы просто темного мешка?.. Впрочем, время вопросов еще не пришло.
Но вот — повязка (сбруя?) снята, я осторожно приоткрываю глаза. Полумрак. Просторное помещение, которое даже залом не назвать: ангар? купол? И — остро: уже видел! Уже был здесь!..
Не знаю уж, отчего, — но меня передернуло.
Только потом я стал смотреть на тех, кто стоял передо мной.
Вернее, так: один сидел и двое стояли. Просто головы их были на одном уровне.
Тот, который сидел, был огромного размера мужчина, бритоголовый и звероплечий. Двое, стоящие за его спиной со станнерами в руках, были в биомасках — как те, которые захватили меня и ребят. Вряд ли это те же самые — фигуры не такие. И уверенности той в них не чувствовалось, а лишь — опаска. Боятся меня? Как интересно…
— Приветствую вас, Попов! — пророкотал сидящий. — Поздравляю с освобождением!
— Спасибо, — хмыкнул я. — Где дверь?
— Дверь далеко отсюда. Одному вам ее не найти. Стул гостю!
Тут же под колени сзади мне ткнулось мягкое, я сел — и почти провалился. От этих бегающих безмозглых кресел-амеб я успел отвыкнуть. Теперь мой собеседник возвышался надо мной подобно горе.
— Я понимаю, у вас множество вопросов, — продолжал человек-гора. — Равно как у меня — множество ответов. Но прежде я сам спрошу вас: вам известно, кто вы такой?
Я ответил не сразу.
— Известно ли… Не знаю. Правильнее сказать — я догадываюсь.
— Поделитесь догадками.
— С удовольствием. После того, как узнаю, кто такие вы и что вообще произошло?
— Разумно. Мы — подпольная организация. Одна из немногих существовавших и, наверное, последняя оставшаяся. У нас нет ни имени, ни списков. Есть только принципы и — цель. Я — заместитель руководителя организации. Зовите меня Мерлин. Я андроид.
— Очень приятно, — сказал я.
— В организацию входят также и люди, — продолжал Мерлин. — Руководитель организации — человек. Мы боремся и за равноправие — в том числе. Впрочем, если нам удастся достичь главной цели, то разница между людьми и андроидами просто исчезнет… Знаете ли вы, что такое Д-контроль?
— Когда-то я был кибертехником, — кивнул я.
— Следовательно, вы понимаете, что единственная реальная разница между человеком и андроидом — это наличие у андроидов Д-ответа?
— У нас Д-ответ есть?
— Нет. Ведь вы созданы не людьми.
— Именно созданы, вы полагаете?
— Созданы, модифицированы… Вот это ваше нечеловеческое спокойствие — откуда, Попов?
— От Боэция.
— Заслуживает внимания как гипотеза… Но Боэция знаете только вы. В то же время все, освобожденные нами, имеют железные нервы. Ни один нормальный человек не вынесет испытания темнотой и неизвестностью. Вы все — как каленые солдатики.
Я вспомнил Вадима и не стал его поправлять.
— Так вот, совершенно ясно, что вы созданы и сконцентрированы в одном месте с совершенно определенной целью. Оставалось вычислить, какова эта цель.
— И?
— Думаю, нам это удалось. Равно как и определить, кто именно это сделал.
— Поделитесь?
— Обязательно. Чуть позже. Я хочу, чтобы вы сами пришли к тому выводу, который мы сделали. Это надежнее, не так ли?
— Для меня безразлично. Я знаю, что таким путем человеку можно внушить все что угодно — просто подбирая факты. И даже не искажая их.
— И все же… я хочу быть несколько убедительнее.
— Может быть, вы убеждаете себя?
Раздался странный звук. Один из тех, кто стоял за спиной Мерлина, зажал себе ладонью рот. Похоже, я булькнул что-то смешное. Мерлин не обернулся.
— Вы помните, должно быть, десятилетие с две тысячи тридцатого по сороковой годы?
— Только по книгам.
— Ну, разумеется. Странности были?
— Да уж. Еще какие.
Странности — были. Полыхающие по всему миру малые войны, канун большой (или, как писал Створженицкий, «мировой торфяной пожар»), разруха, голод, миллионные толпы беженцев — в начале десятилетия; мир, покой, благополучие, всеобщая любовь и взаимоуступчивость (только после вас?) — в конце. Без видимых причин. Само собой. По мановению. Волшебный дождь. И что самое забавное: всеми это воспринято было как нечто само собой разумеющееся. Одумались. Поняли, прозрели… Мне попались лишь две работы, где робко, как неприличный, задавался этот вопрос: а почему, собственно? И тут же вопрошавшие сдавали назад, вспоминали, что есть такое «человеческое здравомыслие» и «инстинкт сохранения разума», и что-то еще… И — не было никакой художественной литературы о последних войнах. О них забыли моментально и начисто, и только многочисленные памятники солдатам стояли над оплывшими траншеями: будто знаки признания греха беспамятства. Страшное прошлое забывалось, как дурной сон. Дети пятидесятых уже не могли представить себе иной жизни, чем тот бесконечный праздник, который им устроили старшие. В их представлении война с Гитлером закончилась едва ли не позже Евфратского котла, великого транссахарского марша Шварценберга или битвы за Дарданеллы…
— Я подозреваю, что вы уже знаете, в чем тогда было дело, — сказал Мерлин медленно.
— Данных нет, — сказал я.
— Вот как… Впрочем, этого следовало ожидать. Но неужели всеведение отучило вас делать самостоятельные выводы?
— Оно привило меня к осторожности в подобных выводах. Я догадываюсь, что вы имеете в виду. Но первые работы Блешковича появились лишь в пятьдесят пятом.
— Понимаю: вам трудно вырваться из сферы привычных представлений. Блешкович вообще был абсолютно ни при чем. Ему лишь позволили озвучить то, что становилось невозможно скрыть.
— Так, — сказал я.
— Гипноизлучатели космического базирования были созданы в тридцать втором году и в тридцать третьем применены… Ничего характерного не вспоминаете?
— Болезнь Арнольда?
— Совершенно верно. Болезненная апатия, апатия долороза эпидемика. Первое боевое применение гипноизлучателей. А в следующем году состоялась тайная встреча разработчиков этого вида оружия из всех конфликтующих стран, своего рода подпольная мирная конференция, где и было решено запрограммировать все приборы вполне определенным образом.
— Так началась новая эра… — Вопросительная интонация у меня не получилась. Мерлин говорил правду: в бедной моей голове шла перекрестная проверка сообщенного им, и оказывалось, что все ложится очень ровно и четко.
— Так началась новая эра, — согласился он. — Группа заговорщиков образовала некое подобие всемирного правительства. В дальнейшем они старались держаться в тени…
— «Махатмы Запада», о которых упоминал Шваб, — это они?
— Не знаю, о чем вы говорите. Шваб — это?..
— Гюнтер Шваб, венский экспозиционист. Главный труд: «С полдороги в рай». Умер в пятьдесят девятом в полном распаде сознания.
— Кстати. Динамика психических заболеваний в двадцать первом веке?
— Прирост в тысячу шестьсот процентов с две тысячи двадцатого по пятидесятый год, примерно пятилетнее плато с незначительными годовыми колебаниями, затем медленное снижение к концу века до трехсот пятидесяти процентов…
— Подтверждается этим наша версия?
— Возможно. Хотя есть и другие объяснения.
— Объяснения есть всегда. Особенно тогда, когда кто-то небесталанно сочиняет их.
Аля
Горбовский не изменился совершенно: кажется, даже куртка на нем была та же — мешковатая, полотняная, неопределенного цвета, который, чтобы не путаться в оттенках, называют для простоты серым. И улыбка была та же: чуть робкая и радостная улыбка человека, увидевшего красивую редкую бабочку среди сухих листьев…
— Здравствуйте, Леонид Андреевич, — Аля протянула руку. — Как я рада видеть вас снова!
— Здравствуйте, Сашенька, — он упорно называл ее так, единственный из всех. — Сколько же лет, а?
— Десять, — сказала она. — Или одиннадцать. Лариске как раз три года было.
— Это вон та длинная? — с ужасом спросил Горбовский, оглядываясь. Лариска в дальнем углу террасы делала вид, что любуется пейзажем. Слух у нее был как у горной козы.
— Та длинная, — кивнула Аля. — Противная мерзкая любопытная жаба, которой когда-нибудь прищемят хвост.
Лариска обернулась и показала язык. Потом лениво оттолкнулась от перил и почапала в комнаты, помахивая тем самым несуществующим хвостом.
— Ну зачем же так? — Горбовский огорчился. — Пусть бы девочка…
Аля чуть заметно качнула головой.
— Марк не смог прилететь? — спросила она.
— Да. Без него там все рухнет… как обычно. Вы же знаете Марка. Неизбежно в центре мира.
— Он вам… рассказал?
— Попытался. Его часто отвлекали… ну, эти… как их… ученые. Сотрудники.
— Конечно. Это же Марк. Леонид Андреевич, я расскажу, конечно… это будет очень странная история, потому что сегодня у меня началось что-то не совсем обычное… и я подозреваю, что — именно началось.
— Подождите-ка, Саша. Не будем забегать вперед. Марк сказал, что вы сказали, что того человека, Попова, держат якобы… взаперти?
— Да. Сначала это были намеки, подозрения… сейчас я уверена полностью. Э-э… Леонид Андреевич… — она вдруг начала заикаться. — Что такое «проект Валгалла»?
— «Валгалла»? Подождите, что-то знакомое… А, ну это было давно. Это было годах в… да, точно. В десятых. Как раз накануне Массачусетского скандала. Собственно, это и разрабатывалось под ту машину… А почему вы вспомнили?
— Сейчас… Что случилось на планете Ковчег?
— Это, Сашенька, печальная повесть. Мне даже как-то не очень хочется вспоминать ее. Это важно?
— Но ведь Попова вы должны помнить именно по Ковчегу?
— Ах, вот какой это Попов! Стась Попов, да? Помню, конечно, помню! Очень он нервничал поначалу… На планете Ковчег была найдена негуманоидная цивилизация, воспитавшая человеческого ребенка. Об этом не слишком распространялись, хотя информация оставалась открытой. Основная цивилизация на контакт не вышла, а с мальчиком связь с орбитальной станции поддерживали… лет семь, если мне память не изменяет. Попов как раз я был с ним на связи, дружба у них с пареньком завязалась… А потом произошла трагедия: станция была пристыкована к старому спутнику Странников, и спутник этот неожиданно свернул пространство вокруг себя. Когда к нему пробились — полгода ушло, — на станции никого не оказалось. Нашли заклеенный проход в некое иное пространство. Странники пользовались такими на планете Надежда. Мы так и не смогли понять…
— И Попов исчез?
— Да. Значит, если это тот самый Попов…
— Тот самый, Леонид Андреевич.
— Тогда он побывал у Странников. У настоящих живых действующих Странников. Это уже интересно.
— Но ведь кто-то знает об этом! Кто-то организовал его охрану, заточение…
— Точка «Ветер»… Но, Саша, мне все же кажется, вы… как бы это сказать… преувеличиваете. Какое может быть заточение?
— Назовите как хотите. Факт тот, что он несвободен: он не может покинуть это место, и его охраняют. А что такое «Валгалла»?
— Очередная попытка бессмертия. Создавать программные копии человеческих сознаний и вводить их в машины. В программную копию мира…
— И что же?
— В конце концов проект заморожен как этически неоднозначный. Да и машину так и не запустили.
— А вы не помните, кто работал над этим проектом?
— Ой, нет, Сашенька. Столько лет прошло… Но можно же посмотреть по БВИ.
— Там этого нет вообще.
— Неужели требуется допуск?
— Нет. Просто отсутствует всякое упоминание. Есть агентство «Валгалла», но это туризм. Есть движение «Валгалла» — борцы за эвтаназию. Но ничего, связанного с кибернетикой.
— Странно… Саша, давайте начнем с простого: слетаем на эту самую точку. Я пока сделаю запрос в Академию… он ведь просил прислать книги туда?
— Да. В Академию.
— Вот и попробуем… где здесь связь?
— Леонид Андреевич! Но — как это вообще может быть? Как?..
— Сашенька, Сашенька! Помните, как мы встретились впервые? Тогда, на Радуге?
— Помню. Я крала энергию…
— Ну вот. А вы спрашиваете. — Он усмехнулся грустно, повернулся и пошел в комнаты. В дверях обернулся: — Вы, Саша, собирайтесь. Через полчасика вылетаем. Посмотрим, как там Попов поживает, попроведаем…
Стас
Наружу мы все-таки не вышли. Мерлин сам привел меня в небольшую стаканообразную комнату, где стояла походная пневматическая кровать и такое же кресло. Янтариновые панели испускали ровный вечный свет. Было как-то особенно голо и неуютно: эти стены принципиально были предназначены не для человека. Кроме того, звучало во мне какое-то эхо былого: забытого накрепко, с корнями, с мясом — но тени, но отзвуки, но запахи зацепились за что-то и теперь вытягивали по паутинке, по волоконцу из ничего, из вакуума и серой тончайшей пыли испепеленной памяти — нечто… Я знал, что все равно ничего не вспомню. Страница была вырвана.
Проклятый янтарин…
Я сел, встал, лег. Снова встал.
Деть себя было некуда.
Странно: я даже не ощущал, что узнал нечто новое. Будто бы знал все и раньше, но не придавал значения…
Подозреваю, что это не последнее мое удивление.
Вечером должен прилететь сам руководитель подполья… Ну-ну.
В дверь стукнули.
— Входите, — сказал я.
Это был Эрик.
— Стас, я — можно? — посижу немного у тебя?.. — Вид его был как у побывавшего в холодной воде гордого кота.
— Падай, — разрешил я. — Сомнения?
— Не могу переварить…
— Представляю.
— А ты что — сразу?..
— У меня же особый случай. Очень много засунуто сюда, — я дотронулся до брови и непроизвольно поморщился: показалось, что сейчас будет больно. Но больно, конечно, не было… — Так что ничего нового они мне сообщить не смогли. Лишь обозначили акценты.
— И ты думаешь — это правда?
— Правда. Хотя, может быть, не вся.
— Что ты имеешь ввиду?
— Что эти ребята могут не знать всей правды. Что есть кто-то еще, кто знает больше.
— А с другой стороны, — он взглянул на меня почти зло, — я не понимаю, что это меняет. Ну что? Подумаешь — гипноизлучатели… Ведь это же не порабощение, не насилие. Разве не так? Разве открывать то, что от природы есть в нас самих, — преступление? Или грязь? Или — что? Почему меня так затрясло, когда я… узнал?..
— Не знаю, Эрик, — сказал я. — Наверное, нам просто обидно.
3
Аля
Было почти невыносимо тревожно: почти так, как тогда на Радуге — в те несколько часов, когда о катастрофе уже узнали, когда понеслись страшные слухи, но и полнейшей уверенности в скорой и неминуемой смерти пока еще ни у кого не было. Стало легче именно тогда, когда пришло время умирать…
Сейчас не было ни Волны, ни бледных мальчишек и девчонок на площади перед кораблем — но давило, давило со всех сторон… волна была невидима, а о горящих поселках все знали, но молчали, и детей вывозить было некуда и не на чем… и лишь Горбовский был тот же, был тут, рядом. Аля покосилась: угрюмый, длинноносый… Он перехватил ее взгляд и грустно-ободряюще улыбнулся ей:
— Ничего, Сашенька. Как-нибудь…
Он дернулся из узла связи вот такой: озабоченный и озадаченный. Ничего не сказал, а Аля — почему-то не смогла спросить.
Автопилот, пусть тупой и безмозглый, путь помнил, так что за курсом можно было не следить. Джунгли замерли внизу — как замирают многие вещи, когда на них смотрят. Стоит отвести взгляд…
— Леонид Андреевич, а вы сами в Странников верите? — высунулась сзади Тамарка. Лариска дернула ее за ноги, уволокла обратно, что-то сказала на ухо. Тамарка издала некий свист: такой получается, когда через вытянутые губы всасываешь воздух.
Горбовский обернулся:
— Как бы это так сказать, Тамара, чтобы и правду — и не слишком длинно? Пожалуй, в целом — да, верю. Они существуют — именно сейчас. Не в далеком прошлом, как это казалось поначалу. Но я убежден с некоторых пор, что все наши представления о Странниках ничего общего с действительностью не имеют. У нас слишком сильная инерция мышления, мы приписываем им, вольно и невольно, человеческие черты. Или хотя бы черты известных нам негуманоидов. А они — совсем другое…
— Вы их боитесь? — вдруг спросила Аля.
Горбовский посмотрел на нее искоса, вздохнул:
— Ну что значит — боюсь… Привык уже.
— Понятно, — сказала Аля.
— Их становится как-то неприятно много, — сказал Горбовский. — То ли мы раньше не замечали их следов, то ли… то ли этих следов не было. Я помню: мы ведь специально, целенаправленно искали эти следы, каждая пуговица была сенсацией. А вот уже лет двадцать — не ищем, потому что — какой смысл искать то, что в изобилии? Начинает казаться, что космос засижен Странниками как мухами… Смешно: на Луне — туннель из янтарина! Как раньше не заметили, непонятно. Буквально под Птолемеем… тысячи людей: ходили, копали, строили — никто не видел. И вдруг: вот он. Старый такой, в пыли весь. Как это понять? То ли сто лет полнейшего разгильдяйства и верхоглядства, то ли Странники умеют значительно больше гитик, чем наша наука.
— Просто они живут не только в пространстве, но и во времени, — сказала Лариска.
— Вот и Комов так считает, — грустно согласился Горбовский. — А я боюсь, что — не только это.
— Мы отклонились, — сказала Тамарка. — Вон где площадка.
Она показывала далеко в сторону, где на самом деле мелькнула между кронами желтая крошечная башенка.
— Не понимаю, — сказала Аля. — Вот же — курс…
— Не обращайте внимания, Саша, — мягко сказал Горбовский. — Что такое автопилот? Железка… У меня ощущение, что мы все — человечество, что ли, — вселились в покинутый дом. Но не совсем покинутый. Сумасшедшие киберы устраивают сумасшедшие уборки. Призраки умерших хозяев приходят по ночам и звенят цепями, воют, скрежещут зубами…
— Подкидывают детей, крадут носовые платки… — в тон ему сказала Аля.
Тамарка завизжала.
— Коза! — обернулась Аля. — Ты могла бы…
Но Тамарка, по-настоящему бледная, смотрела в сторону и вниз, указывая на что-то вздрагивающей ручкой, и Аля посмотрела туда же. Выплывшая из зарослей клетчатая посадочная площадка была пуста. У основания башни лежали два человека. С ними было что-то не в порядке. Но надо было иметь Тамаркины сверхзоркие глаза, чтобы увидеть и понять увиденное…
У лежащих просто не было голов.
Стас
После «сьесты» я никак не мог успокоиться: трясло, лил пот, зубы стучали. Ни о каком мониторинге здесь, конечно, и думать не приходилось, но прежде подобным ощущениям сопутствовало то, что я называл «павианством»: ловкая ходьба на четвереньках, почесывания, неразборчивые звуки. Кое-что еще. Моих новых тюремщиков я ни о чем таком не стал предупреждать — даже не знаю, почему. Должно же быть что-то, чего они обо мне не знают…
И — странно: вдруг обнаружилось, что без мониторинга, непроизвольно сосредоточась на том зареальном своем существовании, я кое-что — слабо, нечетко, размыто, непонятно, бесцветно и бессмысленно — но помню! А значит, можно поработать над этим…
Пандорианский день клонился к вечеру. То есть — прошли как раз сутки с момента прилета гостей. Точнее — гостий. Я почему-то знал уже твердо, что встреча та начала иметь последствия, что сдвинулись какие-то пласты в мироздании, заскользили — и вот-вот (но не в смысле времени, а в смысле причин и следствий; времени же может пройти и век) разразится землетрясение, мое ли персональное, никем более не отмеченное, или же — повсеместное, повселюдное… Почему-то очень хотелось выть.
…Да знаю я, что я — не человек! Копия, подделка… действующий макет в натуральную величину… точность молекулярная, ну и что? А с другой стороны…
…не вяжется что-то у этих подпольщиков. Но что именно — пока от меня ускользает. Хотя вроде бы должно лежать близко и просто…
…и вроде бы как со мной самим — ну и что? Ну, гипноизлучатели. Прав Эрик. Если это помогло выжить, спасло, если и сейчас миллиарды счастливы не иллюзорно, не вопреки реальности, а именно потому, что жизнь так замечательно создана, сконструирована и воплощена, — то не оставить ли все так, как оно есть, на веки веков? Или мы опять начинаем искать приключений?..
А почему все-таки андроидам нельзя жить на Земле? Ведь не прихоть же это Мирового Совета?
И — Странники…
Я выгнал из головы все прочие мысли и заставил себя сосредоточиться на двух последних. Пришел кто-то в биомаске, принес еду. Я автоматически воткнул в себя несколько рыбных палочек, запил томатным соком. Зарядился. Держа при этом на лице скучающую гримаску. Приходилось прилагать усилия, чтобы ее держать, потому что то, что стало возникать в голове через полчаса после начала усиленных спекуляций, нравилось мне все меньше и меньше.
Наконец, почувствовав, что буксую, я зафиксировал в памяти результаты размышлений, встал — и отправился на поиски компании. Не для того, чтобы поделиться благоприобретенными сомнениями. Просто так.
Шесть лет общения с Малышом приучили меня не придавать особого значения всплывающим из каких-то неведомых глубин знаниям. Малыш был связан (а почему «был»? Просто — «связан»…) невидимой пуповиной со своими создателями, я — со своими. Как ему приходили ответы на вопросы, которые он не в силах был задать, так вот и мне — пришел.
Как его терзала боль от этих немыслимых ответов, так она терзала теперь меня.
Аля
Кажется, она даже вцепилась в него руками. Или — очень хотела вцепиться. Потом уже увидела, что сломаны несколько ногтей и до крови сбиты костяшки. Хваталась за рукав? Может быть.
…девчонок они выбросили из вертолета просто за шкирку, как котят, а потом Горбовский почему-то решил, что ей тоже не следует туда лететь. Он был неправ. Через красноватый туман в глазах она видела, как происходит нечто не слишком понятное. Наконец оказалось, что она летит с ним, правда на пассажирском месте. Сзади сидели трое ребят-пилотов, прилетевших на выходные поохотиться: Горбовский мобилизовал их вместе с их карабинами. В воздухе неторопливого «Стерха» обогнали три глайдера. Но когда вновь подлетели к площадке, оказалось, что никто еще туда не садился, глайдеры ходили кругами, наблюдали; в эфире шла ожесточенная перепалка. Горбовский попросил всех замолчать, вытребовал представителя прогрессоров — им было еще минут пять лету, — велел садиться следом и повел вертолет на посадку. Але показалось, что он разобьет машину, так стремительно метнулась в лицо земля, — но все обошлось, и машина села с ходу, даже не зависая.
— Вот это класс, — сказали сзади.
Лопасти еще вращались, когда все пятеро выпрыгнули на чуть пружинящее покрытие посадочной площадки.
Было жарко и зловеще тихо.
А когда ток воздуха от лопастей прекратился, возник запах.
— Валя, — сказал Горбовский одному из пилотов, — вы, пожалуйста, следите за воздухом, хорошо? Вдруг под шумок…
Пилот сдержанно кивнул. С карабином на груди он теперь напоминал воина со старых картин.
Сжав зубы, Аля направилась к мертвым. Горбовский вполшага обогнал ее и даже чуть отстранил. Пилоты держались сзади.
— Наверное, отказала мембрана, — сказал один из них. — Иногда, говорят, бывает. И гусачок спикировал…
Гусачками называли в просторечии летающих дракончиков Гусмана, тварей с крокодильей пастью и шестиметровым размахом крыльев.
Горбовский наклонился над одним мертвецом, потом над другим. Выпрямился.
— Боюсь, что гусачки тут ни при чем, — сказал он. — Боюсь, что в этих ребят стреляли. Из карабинов, в упор. Я видел однажды…
— Леонид Андреевич, — сказала Аля через силу. — Давайте дальше пойдем. Их ведь здесь трое было.
— Да, Сашенька. Пойдем, конечно.
Они заканчивали обход помещений, пустых и стерильно чистых — киберы поработали на славу, — когда зажурчал воздух под лопастями и огромный двухвинтовой «Гриф» завис над посадочным кругом.
— Его нигде нет, — сказала Аля — то ли Горбовскому, то ли себе самой.
— Да, — сказал Горбовский, глядя на садящийся вертолет.
— И глайдера вашего тоже нет, Сашенька?
Аля в ужасе осмотрелась. Только сейчас до нее стало доходить…
— Нет, Леонид Андреевич! Это невозможно! Это совсем не то, что вы думаете!..
— Я еще ничего такого не думаю…
«Гриф» не успел коснуться настила, а из него уже вывалился огромный, толстый и очень подвижный человек в голубом полукомбинезоне и яркой клетчатой рубахе. Следом высыпались горохом с десяток загорелых и совершенно разномастных молодых людей, мгновенно все собой заполнивших.
— Вальтер, не топчи следы! Мишка, назад! Назад, стервец! Все! И не подходить пока! Сергей, Акиро, Зенон! Вниз, все осмотреть, доложить! Гамлет, съемки! — Большой и толстый метнулся к краю площадки, к трупам, к Горбовскому. — Здравствуй, Леонид! Какой кошмар! Здесь, на Пандоре! Не было сто лет такого…
— Здравствуй, Эфраим, — Горбовский покивал, потом легонько отнял руку, помассировал кисть. — Вот, Сашенька, позвольте представить: Эфраим Кацеленбоген, директор Центра переподготовки прогрессоров. Чтобы не заставлять людей ломать язык, взял рабочий псевдоним. Даже в документах фигурирует под ним. Так что зовите его просто Слон.
— Очень приятно, — Слон деликатно поклонился. — Александра?..
— Постышева. Просто Аля.
— Знаком с нею с Радуги, Слон, — сказал Горбовский. — Считай это рекомендацией.
— Это серьезно, — Слон важно покивал.
— А главное, — продолжил Горбовский, — Александра была здесь вчера и многое видела.
— О! — восхитился Слон. — И как же вы сюда попали? Вынужденная посадка?
— Откуда вы знаете?
— Значит, я прав. Это опять началось…
— Что — началось?
— Активизация… Вальтер, иди-ка сюда, сынок. Садись на рацию и быстренько опроси остальные «Ветры» — все ли у них в порядке. Особенно охраняемые. Давай.
— Эфраим, — сказал Горбовский, — я имею право знать…
— Ты — да. А вот наша милая дама…
— Я и так уже все знаю, — выпалила Аля.
Слон с тревогой посмотрел на нее. Перевел взгляд на Горбовского. Горбовский кивнул:
— Она действительно знает больше меня. Так что — можешь говорить. Под мое поручительство. «Ветры» — это там, где вы держите «детей дюн»?
— Легкомысленно относишься, Леонид… Ладно. Пойдемте под крышу.
— Сколько их на сегодняшний день? — спросил Горбовский, оглянувшись на ходу.
— Сорок два человека.
— И все идут?
— Идут. — Слон вздохнул судорожно — почти всхлипнул. — Все, понимаешь, идут…
Стас
Так. И вот этот сухонький старичок — руководитель подполья? Рядом с массивным Мерлином он выглядел не просто несолидно — как-то шутовски несолидно. Но так казалось только первые три минуты. А потом разница в размерах перестала улавливаться совсем.
Вспомнилось почему-то, что все великие террористы и революционеры были маленькие и шустрые. У таких людей фантастическая выносливость и равное ей упрямство, выработанное подавлением комплексов.
Вот и Александр Васильевич — так он представился — был из этих шустрых и выносливых. Он успевал ходить, переставлять мебель, пить из высокого стакана что-то молочно-белое (может быть, и молоко, чем черт не шутит?) и разговаривать как бы с каждым в отдельности, но при этом и одновременно со всеми. Почему-то только четверых из нас: меня, Эспаду, Вадима и Патрика — пригласили на эту встречу. То ли Эрика и Вольфганга пригласят отдельно, то ли они чем-то не подошли, не устроили наших хозяев…
Александр Васильевич был одним из первых прогрессоров — еще тогда, когда только нащупывалась стратегия и тактика взаимодействия с отсталыми (по нашему пониманию) гуманоидными цивилизациями. И назывались они, разумеется, иначе — наблюдателями; и права на вмешательство не имели вовсе. Считалось поначалу, что все следует предоставить природному ходу вещей. Но — практически у всех, причастных к тем давним проектам, рано или поздно начинался психический надлом, который либо приводил к полнейшей профессиональной непригодности, либо заканчивался грандиозным срывом, часто кровавым. И хотя сам Александр Васильевич ничего не говорил о своих собственных переживаниях и приключениях, я покопался в памяти и нашел несколько эпизодов, которые могли быть связаны именно с этим человеком.
— …Конечно, мы наделали массу глупостей, — говорил он, расхаживая широко и деятельно. — Наивно было думать, что наши люди, выпав из постоянного фона гипноизлучения, сохранят психическую устойчивость. Требовалась постоянная подпитка хотя бы портативными приборами, а вот этого-то как раз и старались избежать по тем самым соображениям секретности. Даже руководители института не знали о гипноизлучении… вернее, не знали о том, что оно применяется. Ставка была сделана на внутренние силы, на убежденность, на, если хотите, ностальгию. Как оказалось, человек способен выносить почти все — если за спиной у него Земля… Это было и нашей силой, и нашей слабостью. Люди шли в огонь, на пытки, на смерть… и эти же люди ломались, когда оказывалось, что и на Земле есть пятна…
— От кого и при каких обстоятельствах лично вы узнали о гипноизлучении? — спросил Эспада.
— Лично я… — медленно повторил Александр Васильевич. — Это было в сорок восьмом году на оперативном совещании сразу после теократического переворота в Арканаре и нескольких эксцессов с нашими наблюдателями… этаким спонтанным вмешательством, надо сказать, впервые — удачным, результативным… если вы читали Ахметшина, «Извлечение из миража», то там эти эпизоды очень красочно изложены…
— Антон Зерницкий? — спросил я.
— Да, и Антон в том числе… Вы с ним знакомы?
— Был когда-то, — соврал я. — Что с ним сейчас?
— Не имею представления… Так вот, на совещании вновь всплыло предложение применить гипноизлучатели. Я и еще несколько руководителей групп возражали против этого, используя обычную аргументацию: не подменять естественные процессы наведенными, не инвалидизировать историю планеты… И человек, который предлагал провести облучение, проговорился в пылу полемики. Сказал, что с Землей ничего не случилось, а она под облучением более ста лет…
— Это был Бромберг? — спросил Эспада.
— Да, Бромберг, — чуть удивленно сказал Александр Васильевич. — А это вам откуда известно?
— При мне он тоже проговаривался…
Ага, отметил я.
— Послушайте, — сказал Вадим. — Вот я все думаю про это гипно. Допустим, мы — не представляю, каким способом, но это уже детали, — подавим излучение. Что дальше?
Александр Васильевич ответил не сразу. Для начала он нас оглядел, прищурясь: а вдруг мы уже все знаем, просто валяем дурака? Но мы не знали, конечно.
— Мы считали спектр гипноизлучения, которое идет на Землю. Это, как оказалось, очень трудно сделать… да. Проанализировали его. Лишь четыре процента сигналов удалось идентифицировать. Это как раз те, что обеспечивают бесконфликтность и девиацию личных интересов. Девяносто шесть процентов сигналов воздействия имеют совершенно непонятное нам предназначение…
Кто-то присвистнул.
— И давно ведется такая… обработка? — спросил я.
— Неизвестно. Выяснили только, что девять лет назад гипноспутники были серьезнейшим образом модернизированы. И, что достаточно необычно, часть оборудования была поставлена с Тагоры.
— Спутники «Атлас»? — вдруг напряженным голосом спросил Патрик, как-то изогнувшись.
— Да, — Александр Васильевич посмотрел на него. — Вы их знаете?
— Видимо, это я и возил на них оборудование… Да, девять лет назад. Тагора-Приземелье. Одиннадцать рейсов. Какие-то зеленые контейнеры…
— Тесен мир, — пробормотал Вадим.
— Насколько я помню, — сказал я, — девять лет назад с Тагоры на Землю были доставлены части некоей установки Странников, демонтированной тагорянами на второй планете своей системы. Части эти поступили в распоряжение Академии…
Все вдруг замолчали. Упоминание Странников в таком контексте прозвучало не просто зловеще — а мертвенно-зловеще.
— Нет, — сказал зачем-то Вадим. — Не может быть. Это… даже не смешно…
— Совпадение, — махнул рукой Эспада; глаза у него были беспомощные. — Просто совпадение. Иначе… получается что? Получается, мы — стадо? Или — кто?
— Вот так обстоят дела, ребята, — сказал Александр Васильевич. — И даже это не все. Хотя главное — именно это. Некто получил доступ к величайшей тайне нашего мира — и, похоже, намерен распорядиться ею как-то по-своему. Скажу сразу: мне очень не нравится, что на меня, на моих друзей, на моих детей и внуков кто-то — пусть самый добропорядочный и добронамеренный — воздействует помимо их собственной воли и бесконтрольно. Пусть даже во благо… Здесь есть нечто грязное, непристойное… но я никогда не стал бы прибегать к насилию, к конспиративным методам борьбы… не стал бы. Нет. Но вдруг оказалось, что мы столкнулись, похоже, с угрозой самой Земле, всей нашей культуре, цивилизации… может быть, жизни?.. И — никто при этом не может оказаться нашим союзником, помощником… никто. После истории с Абалкиным… И еще: я боюсь сам. Не только неудачи, но и удачи. Лекарство может оказаться страшнее болезни. Но опять же: нельзя не попытаться. Если не сделать, то хотя бы узнать. Понять.
— И упростить… — шепотом продолжил Вадим, и услышал его один я.
Аля
Наверное, Слон ни минуты своей жизни не провел на одном месте. Он катался по гостиной — той самой, где отмечали некруглый юбилеи Вольтера, — беспокойно смотрел в окно, переговаривался по радиобраслету с теми, кто был в разлете, и вообще проявлял крайнюю степень беспокойства. Уже известно было, что за последние двое суток опустошено восемь «точек „Ветер“», при этом еще на одной охранник убит, на двух — оглушены станнерами до состояния комы и придут в себя не скоро, и лишь один — отставной прогрессор Боб Загородкин — дал отпор нападавшим. Раненный в ногу, он дотянулся до кнопки противопожарной системы — и потом, управляя вручную тремя пульпометами, сумел загнать нападавших в вертолет и удерживать их там, создав патовую ситуацию. Наконец поняв, что сделать ничего не смогут, нападавшие улетели. Подопечный Боба, доктор Эжен Кокнар, разволновался так сильно, что своим биополем сжег все электронные и электрические приборы, находившиеся в радиусе четырех километров; собственно, только благодаря этому группа туристов, лишившись связи, забрела на «биостанцию» — позвонить — и обнаружила там раненого прогрессора и совершенно невменяемого старика… Еще не все было ясно с теми «точками», где подопечные жили без надзора, в одиночку; случалось и раньше, что они не выходили на связь — просто так, из нежелания — или каким-то способом расправлялись с мембраной и уходили в джунгли, или даже кончали с собой — правда, ненадолго… поэтому сейчас на все неотозвавшиеся адреса вылетели группы, но пройдет еще не один час, пока станет ясно все досконально.
Аля рассказывала все, что могла, — включая странный свой опыт с медиатроном, — и слушала в ответ рассказ Слона о «детях дюн»; Горбовский изредка что-то вставлял, уточнял, переспрашивал, но казалось, что он только проверяет себя, правильно ли запомнил давний урок…
«Дети дюн» впервые появились неподалеку от курорта Дюна шестнадцать лет назад. Правильнее сказать: их начали находить — мертвых, разодранных хищниками. Естественно было думать, что это дикие туристы, тем более что генетический анализ позволял идентифицировать их как земных людей. Но почему-то никто не пропадал в этих местах — и это сразу насторожило сначала спасателей, а потом и КОМКОН. Был учрежден постоянный пост, произведено несколько облав на песчаных волков, гусачков и кириллических змеев, установлены ультразвуковые барьеры — и вскоре в дюнах обнаружился первый живой человек. Это был голый и безволосый мужчина с неопределенными чертами лица; он не умел говорить и не понимал обращенной к нему речи; что самое интересное, его не пропускали биобарьеры… Несколько дней спустя он заболел какой-то непонятной болезнью и умер. Это был удар. Медики пришли в неистовство. Биологи — тоже. У человека не было К-лимфоцитов, а лейкоцитарная формула напоминала таковую после сильнейшего лучевого удара. Через две недели из дюн вышла женщина…
Она прожила почти месяц. К исходу месяца она начала понимать отдельные слова; у нее начали расти волосы.
Но только четырнадцатый из «детей дюн» оказался полностью жизнеспособным.
Установленные повсюду телекамеры так и не позволили увидеть, откуда приходят люди. Ясно, что из джунглей. Поиски «месторождения» результата не дали по сей день, несмотря на привлечение самой совершенной техники.
Потом началось еще более странное. У найденышей стали возникать черты — внешние и внутренние — конкретных людей. Они «вспоминали» свое имя, свое прошлое, семьи, профессии, друзей, знакомых… Многие требовали — не слишком настойчиво — вернуть их домой. Но, как ни странно, все с каким-то тупым пониманием относились к своему заточению. Сразу выяснилось, конечно, что имена и биографии принадлежат реально существовавшим людям, незадолго до того пропавшим при тех или иных (иногда не слишком обычных) обстоятельствах.
Да, это дело было не проще «дела подкидышей». Не проще, не легче и не разрешимее. Странники с прежним упорством ставили Землю в ситуацию, чреватую сильнейшим этическим шоком. Дело осложнялось необходимостью, с одной стороны, соблюдать крайнюю степень секретности (легко представить себе реакцию людей, узнающих вдруг, что их близкий, пропавший в позапрошлом году в нуль-кабине, находится в заточении где-то в джунглях на Пандоре), а с другой — слишком большим количеством людей, уже посвященных в проблему. Решение было выбрано старое, но верное: шумовая завеса. По различным каналам, включая такой, как мягкое подпороговое внушение через Мировую сеть, удалось настроить общественное мнение на негативное, недоверчивое восприятие любой информации о Пандоре. Теперь это была планета легенд и слухов, населенная сумасшедшими прогрессорами и не менее сумасшедшими учеными, которые валяют дурака, хулиганят и развлекаются особенным способом, и поэтому ничему о Пандоре верить нельзя…
Никто, собственно, и не верил.
Стас
Я совсем забыл, до чего это противно: летать на «призраке». Впрочем, в этом вопросе я всегда отличался от большинства, начиная с самых первых рейсов: меня выворачивало, мутило, потом целыми днями я лежал пластом, а веселые друзья осваивали новые (для себя, конечно) планеты… Вот и сейчас: все прилипли к иллюминаторам, и я вполне мог прилипнуть к иллюминатору, только повернись на бок и сделай визор прозрачным… но не хотелось. Я лежал на спине, смотрел в потолок и ничего не хотел. Прострация.
А ребята — смотрели на Землю… Спины Эспады, Вадима, Патрика выражали — страдание.
Александр Васильевич подсел ко мне.
— Держитесь, Станислав.
— Я держусь. Я вполне держусь. Знаете, последние три часа я вспоминаю все, что помню о десантных операциях, — и не могу припомнить ни одной, более идиотской по сути. Вы уж простите меня…
— Во-первых, это еще не десант, — сказал он, чуть поджав губы. — Это разведка. А кроме того… Знаете, я никогда не руководил десантными операциями. Если можете, научите меня.
— А вы во мне, оказывается, совсем не разобрались. Возможно, и ни в ком из нас. Я могу сообщить что-то — если меня попросить. Или… как-то иначе. Но не могу сам… в общем, ничего. Ничего не могу сам. Ни научить. Ни сказать. Ни предупредить. Понимаете? Вы хотите сделать из нас разведчиков, десантников, бойцов за человечество…
— А больше просто не на кого положиться, Стас, — сказал Александр Васильевич совсем тихо. — Я боюсь, что все остальные, все пятнадцать миллиардов…
— А вы?
— Я… не знаю. Со мной тоже что-то не так.
— Как с пятнадцатью миллиардами?
— Нет, как с вами. Как с андроидами. Своего рода отторжение, секвестрация. Я не ощущаю себя частью человечества. Мое человечество — вы. Знаете, мне в свое время слишком уж пришлось ломать себя об колено. История с Зерницким — это же только эпизод. Знаете, сколько таких прекрасных мальчиков прошло… через то? Сотни. И где они? Я пытался найти их после. Некоторые есть — физически. Не духовно, нет — только тело. Сытое довольное тело. А многих просто нет нигде, и никто не знает, куда они делись. Может быть, вы — это они и есть? В каком-то общем смысле. Помните, лет сто назад забавлялись с машинной реинкарнацией? Технически все получилось, а потом оказалось, что никому это просто не нужно. Да, можно человека записать, потом воспроизвести. И появится как будто то же самое…
— У Странников тоже получилось не сразу, — сказал я.
— Я о другом, Стас, немного о другом. Оказалось, что личность категорически нельзя законсервировать. Что это не структура, а процесс. Вихрь. Взаимодействие с другими. И когда оно прерывается, это взаимодействие, а оно прерывается при таком переносе, а точнее — заменяется другим… с другими машинами или внутри машины…
— Да, — сказал я. — Протез оказывается гораздо совершеннее живой конечности. Но при чем здесь мы?
— Потому что вы тоже наверняка прошли через подобное, но вам запрещено об этом помнить. И те мальчики на каком-то другом уровне — тоже… и им тоже запрещено помнить…
— И андроидам, — сказал я.
— Да. И в результате все вы — мы — оказались за краем. Сброшены со стола. И это даже не то чтобы обидно — хотя и обидно, конечно… Вызывает подозрения.
— Скажите, — я сел, — у вас есть версия происходящего? Предупреждаю сразу, что у меня — нет.
— У меня их три. Думаю, сегодня, если мы уцелеем, останется одна.
— Странники присутствуют во всех?
— Э-э… да. В разной степени.
— А как активное начало — в одной?
— В одной — как активное начало, в другой — как создатели используемой техники, в третьей — как объект воздействия.
— Даже так?
— Да. Человечество выступает как орудие… ну, борьбы — не совсем то слово…
— Я пойму. Дальше. Борьбы — чьей? Другой сверхцивилизации?
— Нет, это был бы вариант первой версии… Послушайте, Стас, это совсем безумная теория, и вы всерьез сочтете меня шизофреником.
— Ну и что? Расскажите, интересно.
— Нет. Нет-нет. Извините, просто… ну, не могу сейчас. Будете смеяться.
Я знал, что смеяться мне не над чем, но спорить не стал.
Следующие три часа кораблик наш маневрировал, подходя к старому спутнику «Атлас». Напряжение росло, и Эспада даже сорвался: в ответ на совсем уже дурацкую шутку Вадима он ответил резко и зло. Правда, потом мы странно расслабились. Как будто летели на охоту…
Аля
Меньше всего девчонки хотели улетать одни, но Аля была неумолима:
— Нет. У меня «синдром Радуги», так что лучше со мной не спорить. Погостите у отца, он будет страшно рад. А то — в интернат, как всех! Ясно?
— Ясно…
— Ясно, но…
В порт девчонок отвез Горбовский. Ему надо было что-то там забрать или кого-то встретить — Аля воспринимала все как сквозь туман и чувствовала, что сама она никаких перемещений в пространстве совершать больше не в состоянии. Но и спать, несмотря на неимоверную моральную усталость, она не могла — поэтому, проморозив себя под душем, сунула под язык пастилку хайреста и вытянулась на кровати под медиатроном.
…смешалось с явью, и как относиться к происходящему, было непонятно. Как вообще может к чему-то относиться человек, заброшенный за полсотни световых лет от родной планеты и втиснутый в странной формы ящик, у которого медленно сдвигаются то те, то другие стенки, а вокруг чернота без звезд, воздух в ящике тяжелый, аварийные патрончики выплевывают кислород с противным запахом мертвых цветов (это следы недораспавшегося озона и квадрона), и спасения не будет — и вдруг появляется из стены некто в белом и заводит многозначительную беседу сам с собой, а чуть позже приходят парни без лиц и с повадками санитаров… и все это в медленном заунывном завораживающем тягучем ритме, как будто царит среднеазиатское средневековое пекло, солнце не заходит никогда, все окрашено в цвет расплавленного янтаря и пересушенного песка, и где-то играет зурна. Зурна меня особенно донимала… пытка зурной. Наверное, ее придумали древние китайцы.
Часы то шли, то стояли, то показывали вчерашнее время. И я склонен почему-то верить часам, а не своим ощущениям. Два раза я пытался писать, но когда однажды обнаружил толстую полуистлевшую тетрадь, полную моих записей, обрывающихся словами «харистоподнический исклюинатор вестит крайне адваютротиллинопропно… не поминайте…», — решил, что это занятие не для здешних условий. Впрочем, «решил» — не то слово. Там я не решал. Там я соглашался или не соглашался. И даже не так. Там я или находил силы отказываться от безумных затей, или не находил.
Я ведь вешался там. Сделал петлю, надел на шею, спрыгнул с койки. И — повис, медленно покачиваясь, приподнимаясь, опускаясь… Тяжесть была, но не для меня.
И потом еще — что-то было подобное… вены резал? Может быть, и вены. Иные вещи забывались сразу, стоило проскочить мимо, — так испаряются утренние сны. А иные — застревали в памяти, как камни…
Когда появился Малыш, я уже считал себя мертвым.
4
Стас
Я уже видел это много раз в своих повторяющихся снах: коридоры призматического сечения с одной стеной темно-зеленой, другой серебристо-зеленой, почти черным полом и светящимся потолком. Коридоры шли либо бесконечно прямо, заканчиваясь точкой перспективы, либо уходили в сторону, закругляясь… Спутники «Атлас» построили лет восемьдесят назад и предполагали использовать в качестве космических санаториев: тогда как раз началась эпидемия болезни Шнее-Мура, с нею долго не могли справиться, и счет людей, кости которых превратились в безе, шел на десятки тысяч. Но потом, когда три спутника были готовы, а семь построены, но не оборудованы, появился Рокухара со своей вакциной, и спутникам пришлось искать новое применение.
…Помещения были заполнены азотом, температура поддерживалась примерно плюс пять, мы шли в масках и натянутых на компенсаторные костюмы свитерах, серых и одинаковых, из какого-то набора спецснаряжения. Индикаторы мю-воздействия вели нас. Позади было уже километра три коридоров и анфиладных залов, я шел и думал, что у архитекторов прошлого были свои странности, а мы уют понимаем не так.
Скорее всего, мы причалили не к тому шлюзу. Вряд ли получатели зеленых контейнеров с Тагоры перетаскивали их черт знает куда этими переходами…
— Наверное, здесь, — в который раз сказал Александр Васильевич, останавливаясь перед двустворчатыми раздвижными воротами из анодированного титана. — Как полагаете, десант?
Десант, собственно, никак не полагал. Ворота казались несокрушимыми. Кроме того, по ту сторону нас могли ждать недовольные нашим вторжением таинственные заговорщики. Или инопланетные чудовища. Или собственной персоной Странники. Или вакуум. Хотя индикаторы и у меня, и у Эспады, и у Александра Васильевича дружно (кажется, впервые сегодня) указывали именно туда, за эту преграду.
— Даже если и здесь… — начал Вадим, но и уже наперед знал, что он скажет: что не открыть, не пройти, не знаем ключа, замка, шифра, способа, привода… — и мы действительно ничего этого не знали и в снах моих чуть ли не умирали у этих ворот, отчаявшись и перепробовав все, включая какую-то стрельбу и вообще непонятно что, и тогда я сделал то, чего мы во сне никогда не догадывались сделать: я просто подошел к воротам, приложил голые ладони к холодному металлу и стал сдвигать плиту, преодолевая только массу ее, но не сопротивление каких-то механизмов… с минуту ничего не получалось, плита весила на Земле несколько тонн и даже здесь, в щадящем гравиполе, с полтонны тянула наверняка, а я — едва десять килограммов, но вес не в счет, пол был одной сплошной присоской, ноги не скользили абсолютно, я приналег еще, и Вадим втиснулся снизу — помогать… и пошла, родимая, пошла сама, пошла — все, теперь не удержать.
— Ух ты! — сказал кто-то, заглянувший в щелочку раньше нас.
— Осторожно!.. — голос Александра Васильевича, а потом — пахнуло сзади раскаленным и шершавым, я оглянулся: сияющий вихрь ворвался в спутник, разбрасывая нас, это был горячий от солнца песок, это был солнечный свет, это был страшный, ревущий шквал! Створка уплывала, и передо мной открывался уносящийся вниз песчаный склон, легкий белый взмывающий навстречу песок и розоватое солнце высоко и чуть справа, и все это спутник всасывал в себя, как громадный пылесос! Меня поволокло этим потоком, я не отцеплялся от створки, Вадим не отцеплялся от меня, сзади кричали: «Назад!» и «Осторожно!» — и вдруг пол ушел из-под ног, тяжесть подхватила нас, мы повалились, хватаясь друг за друга, и — закувыркались по склону…
Аля
Она выпила три стакана воды один за другим, и все равно хотелось пить. В зеркале отражалось что-то малознакомое и злое. Пожалуй, все уже выветрилось из памяти, да и не было сил… Она с отвращением покосилась на раскрытый блокнот. Нет. Просто не хочу.
Есть, оказывается, вещи, о которых лучше никому не знать.
А ведь это еще не конец, подумала она.
Или все-таки конец?
В том, давнем смысле?
Хорошо, что отправила девчонок… и Марк обрадуется…
Она представила себе, как это будет, и посмеялась — не слишком весело.
В гостинице было слишком шумно: человек двести, в основном молодые ребята, девушек меньше, все одетые по-полевому, с оружием — оружия было непривычно много, — собрались внизу, в холле, вокруг фонтана, среди пальм: сидели кто в кружок, кто поодиночке, что-то поправляли в снаряжении, пели. Аля заметила Слона: он стоял, окруженный другими, как взрослый человек среди ребятишек. Потом она увидела — чуть в стороне — Горбовского. Он слушал высокого и широкоплечего молодого человека с очень загоревшим лицом и почти белыми от солнца волосами. Человек что-то яростно, но шепотом Горбовскому доказывал.
Странно: этого человека она никогда в жизни не видела, но почему-то знала, что от него здесь и сейчас зависит почти все. Не от Горбовского и не от Слона. От него. Возникло незнакомое чувство: будто внутри нее пряталось маленькое дрожащее животное, и пряталось именно от него… от убийцы. Оно его узнало и теперь панически пряталось, и это могло плохо кончиться, потому что страх вдруг передался ей самой…
Горбовский увидел ее и помахал рукой, приглашая.
— Вот, Сашенька, это Максим. Девушек ваших я в корабль усадил и отправил… очень возмущались. Особенно младшая. Максим, это Александра, мой товарищ по Радуге. Она практически в курсе дела.
— Вы там побывали за несколько часов до нападения, — сказал, пожимая ей руку, Максим. Рука была хорошая. — Слон успел мне пересказать кое-что, а кое-что я и сам понял. То, что произошло с вами, называется инсайт. Уже были подобные случаи…
— С вами тоже? — почему-то догадалась я.
— Заметно? — Он улыбнулся.
— Да уж…
— Это пройдет, не слишком беспокойтесь. Кое-что остается надолго, но… Впрочем, это не так уж важно. Важно другое. Скажите, после того, как Попов извинился и покинул вечеринку, вы не заходили в его комнату?
— Нет. Я вообще туда не заходила.
— Это точно?
— Да. Я не была настолько невменяема…
— Но к комнате вы подходили?
— М-м… Видите ли, я не знаю, была это его комната или чья-нибудь еще… Мне послышался разговор из-за двери, я постучалась и попыталась войти, но было заперто. Я ушла.
— А почему вы хотели войти?
— Не знаю. Что-то… ну, зацепило, что ли… Не могу точно сказать.
— Разговор был слышен хорошо?
— Нет. Я не поняла, о чем говорили. Но будто бы спорили — мужчина и женщина. Потом я подумала, что это спектакль…
— Все то же самое, Леонид Андреевич, — повернулся Максим к Горбовскому. Тот горько покивал головой.
— Спасибо, Александра, — сказал Максим.
— Я чем-то помогла?
— По-крайней мере, одно существенное опасение отпало.
— Вы нашли его? Или кого-нибудь?
— Нет. Слишком буйная растительность. Целую армию можно спрятать…
— Постойте… — Аля вздрогнула от какого-то толчка изнутри. — А на кобальтовых шахтах вы были? На старых шахтах?
— Это где же такие? — задрал брови Горбовский. — Ты знаешь, Максик?
— Нет. Надо спросить Слона… Эф! — Максим взмахнул рукой. Слон мгновенно оказался рядом — воздушной волной Алю качнуло. — Ты слышал про какие-то заброшенные шахты поблизости?
— Поблизости — нет. Здесь же была запрещенная зона. Есть старые кобальтовые шахты на Мраморном берегу. Полторы тысячи километров. И есть соляные пещеры под Оз, но там полно туристов…
— Наверное, это там, — сказала Аля. — В смысле — на Мраморном…
Было почему-то трудно выговаривать слова.
— Откуда вам известно?.. — начал Максим, но Горбовский вдруг, оттолкнув его, сделал быстрое и неловкое движение, и Аля оказалась у него на руках. Тело стало невесомым и непослушным, неподотчетным.
— Сашенька? Сашенька, вы меня слышите?
Аля слышала, но ничего не могла сказать. Она мигнула изо всех сил, и глаза закрылись.
Стас
— Ты что-нибудь понимаешь? — в сотый раз спрашивал Вадим, и я в сотый раз отвечал, что не понимаю. Каким-то образом я знал, что находимся мы в Западной Сахаре — с литром воды на двоих, без радиобраслетов и без воли к сопротивлению.
Кто бы мог подумать, что перенаселенная Сахара — такая пустая?..
— Случай спонтанной нуль-транспортировки, — продолжал Вадим. — Которой якобы не может быть. Но кто сказал, что мы разбираемся в нуль-физике? Даже великий Ламондуа не разбирался в ней ни черта…
— Вадим, — попросил я. — Будь другом, не трещи. Может быть, мне удастся сообразить что-нибудь.
— Мне нельзя не трещать, — сказал он серьезно. — Иначе такое начнется…
— Что именно?
— Ну… фигня всякая. Заранее не скажешь. Я болтаю, и все как бы стравливается. А в противном случае, особенно когда напряжение какое-нибудь вокруг… даже думать неохота. Я просто стараюсь, чтобы ничего не случилось… а ты поменьше на меня внимания обращай, хорошо?
— Приложу все усилия…
Пустыня была как в старых фильмах. Жара под пятьдесят, мертвая сушь, белый песок. Мы шли по гребню длинной дюны куда-то на юго-восток — просто потому, что в ту сторону было легче идти. Прокаленные до прозрачности облака тянулись из какой-то далекой благодатной окраины неба полусложенным наклонным веером.
Две птицы летели, обгоняя нас, низко и медленно.
Сил хватит на три часа. Может быть, на пять. Мы умрем от перегрева — если не снимем костюмы. Или от обезвоживания — если снимем.
— Знаешь, — сказал я, — нам терять нечего. Давай попробуем устроить твою фигню.
— В смысле — мне заткнуться?
— Да.
— Ну, давай попробуем…
Но добрый час не происходило ничего.
Аля
Если бы не пропали все чувства — это было бы страшно. Она все слышала и видела то, что попадало в поле хотя бы бокового зрения полузакрытых глаз, но не могла ни шевельнуться, ни подать голос. Ее как бы залило невидимым твердым пластиком…
Врачи хлопотали вокруг нее, но вряд ли эти хлопоты имели смысл: дышала она и так неплохо, и сердце билось само. А освободить ее от оков — она это откуда-то знала — они не могли. Если повезет, то все пройдет само.
— Ничего, Сашенька, ничего… — Горбовский не отходил от нее. — Главное, не бойтесь. Найдем мы вашего Попова, узнаем код…
— Вы же знаете код, — склонился над Алей Максим, вглядываясь в глаза, в лицо, пытаясь найти хоть тень ответа. — Эх, мнемоскоп бы сюда…
Она и на самом деле знала, как выйти из того состояния, в котором оказалась, — но не было ни малейшей возможности объяснить это тем, кто мог сделать необходимое. А сама она — не могла… или почти не могла.
Откуда взялось это «почти»?
— Может, и правда — под мнемоскоп? — оживился Горбовский. — У Слона обязательно должен быть.
Она больше не видела Максима — он отвернулся. По потолку медленно полз световой блик. Вытянулся в лучик, скользнул в угол и исчез.
Кто-то взял с подоконника что-то металлическое и блестящее.
…рубиновые и стальные шестигранники внизу, и густо-коричневые, как шоколад, промежутки меж ними, и непрерывное скольжение — чуть вниз и чуть вверх, и чуть вниз — над всем этим — неясно, на какой высоте — без тела и без смысла…
— Если Попов и правда там, на шахтах, — сказал Максим, — то лучше дождаться его самого. Потому что ментоскопия, Леонид Андреевич, это… Ее и вообще-то лучше никогда и никому не делать, а в нашем случае — это просто опасно. Опасно. Да.
— А я всегда полагал тебя рисковым мальчишкой, Макс, — сказал Горбовский с непонятным смешком.
— Это было давно, — сказал Максим.
— Противно быть старым, — горестно вздохнул вдруг Горбовский. — Противно сидеть и ждать, когда тебе скажут, что и как. Очень хочется пойти и самому все узнать…
Потом они долго молчали.
…касаясь чем-то, чего у нее не было, избранных площадок, то зеркальных, то матовых, то неприятно-фасетчатых, и во всем этом был какой-то дикий смысл и намек на спасение…
— Я не хотел говорить об этом сегодня, — сказал наконец Максим, — но, видимо, придется. Надо выжечь Дюны… Иначе мы будем обречены на все новые и новые инциденты. Изощренность растет по экспоненте. Про Петра и Павла вы уже знаете? Это ведь пострашнее всех подкидышей и всех Странников вместе взятых.
— Я думал об этом, — сказал Горбовский неожиданно легко. — Но как ты представляешь себе это… технически?
— Повесить старый корабль с отражателем. Их два десятка болтается на стационаре. Со ста километров пятно получится — пятнадцать в диаметре. При экспозиции шесть-восемь минут…
— Кто будет управлять кораблем?
— Я.
— Возьмешь такое на душу?
— Возьму.
— Не возьмешь ты, Максик. Тебе сейчас кажется, что сможешь, а как дойдет до дела…
— Смогу, Леонид Андреевич. От страха люди могут все. А я — очень боюсь. Очень.
Они опять замолчали, потом Але показалось, что Горбовский начал говорить, но его прервал сигнал вызова.
— Да. Слушаю тебя. Что? Не может быть… Спасибо, Слон. Хорошо. Да, прямо сейчас. Ничего не трогайте до нас. Ничего…
…нужная ей, похожая на бассейн с зеленой ртутью, она касается поверхности — и будто невидимым хоботком начинает втягивать эту ртуть, и вот из ничего возникают зеленые руки со сведенными судорогой пальцами, она пытается пальцы распрямить, и не с первой попытки это получается, а между тем ртутью заполняется некая полость в пространстве в форме невидимого человеческого тела, она начинает видеть это — себя — как бы со всех сторон одновременно — ртутная женщина…
— Сашенька, нам придется покинуть вас…
— Нет. — Она с трудом разлепила губы. — Без меня вам там нечего делать. Две минуты, я займусь собой…
Стас
Наверное, это когда-то называлось оазисом. Полузасыпанные песком, стояли белые, без единой прямой линии, постройки. Купола, частью проломленные, напоминали черепа вымерших тысячелетия назад великанов. Пологая лощина, чуть темнее окружающих песков, уходила направо. Наверное, здесь когда-то стояли пальмы и синело озеро. Но и сейчас мог быть колодец, а поэтому нужно было спускаться…
— Может быть, найдем воду, — тихо сказал Вадим.
— Да, — так же тихо сказал я.
Если мы не найдем воду, то вечером выпьем последнюю, а за сутки высохнем, как воблы. Ничто не поможет…
Я подумал почему-то, что нас выбросило не только за сорок тысяч километров, но и за сорок веков. И нигде вокруг нет ни человека, ни верблюда, потому что колодцы высохли и пути караванов переместились на север…
У подножия дюны было еще жарче, хотя солнце уже касалось гребня ее и вот-вот должна было лечь тень. А пройдет еще сколько-то лет, и дюна вползет на развалины оазиса, хороня его навечно, как похоронены здесь, наверное, целые города и страны.
— Колодец, колодец, колодец… — бормотал Вадим. — Колодец…
— Наверное, вон там, — показал я.
Чуть видимый, темнел край каменного кольца.
Мы почти подбежали. Колодец был полон песком до края.
— Может быть, там крышка… — я абсолютно не был уверен в том, что говорю.
Мы начали раскапывать. Руками. Трудно сказать, как долго это длилось. Может быть, час. Потом Вадим сказал, что пойдет поищет что-нибудь, что сойдет за лопату. Мы углубились примерно по грудь. Я присел и стал рыть еще. Песок был плотный, слежавшийся, но сухой. Впрочем, если подо мной крышка колодца, то песок и должен быть сухим. Я попытался почувствовать, что именно находится внизу, но от усталости не мог ни черта.
Вадим не возвращался, и я вдруг как-то очень остро ощутил его отсутствие. Его не было вообще нигде. От напряжения и жары у меня было черно в глазах, и я с трудом, обваливая края с таким трудом вырытой воронки, выбрался наружу. Цепочка волочащихся следов тянулась к ближайшему куполу. На пути ее чуть приподнимались над песком зубцы древней стены. Почему-то от стены шли уже три цепочки: направо, налево и прямо. Коня потеряешь, подумал я. В спину тянуло жаром. Воздух впереди дрожал и переливался.
Янтарного цвета полоска проходила по далекому горизонту.
— Вадим! — Я думал, что кричу, но крик как-то не получался: было неловко. — Вади-им!
Молчание.
— Вадим, черт возьми!!!
Я уже знал, что ответа не будет.
Следы подходили к пролому в куполе, но и от пролома тянулись две цепочки, и уже ясно было, что так будет и дальше. Началось то, о чем Вадим предупреждал и о чем я смутно догадывался.
Внутри купола было темно. Пыльный луч не столько освещал помещение, сколько мешал хоть что-то увидеть. Впрочем, кроме песка, там не было ничего. И я пошел по следам, чтобы хоть куда-то идти.
Уже начало темнеть, когда я наткнулся на нечто, представляющее интерес.
Чуть в стороне от основных развалин стояла башня — как и все здесь, в песке по плечи. Коническая крыша ее, собранная из лавовых плиток, имела нечто вроде слухового окна — и от этого окна внутрь башни спускалась винтовая лестница. Слабый запах плесени поднимался оттуда. А где плесень, там сырость, а где сырость, там (не исключено, что) вода. Терять мне было, в общем-то, нечего. Я забрался внутрь, постоял на ступеньке — каменном брусе, вмурованном в стену, — дождался, когда привыкнут к полумраку глаза…
И стал спускаться.
Аля
Салон «стрижа» рассчитан на четверых, но набилось в него девять человек: помимо Али, Горбовского и Максима, еще четверо прогрессоров, врач и кибератор. Кибератор и вел машину — на небольшой высоте, в тропопаузе. Облака казались снежным полем. Несколько раз в опасной близости пролетали гусачки и лязгуны, и автопилот бросал машину в стороны так резко, что Алю вдавливало в твердого, как кость, Горбовского. Он пытался как-то смягчить эти толчки…
Сам полет длился меньше часа, но долго нельзя было сесть: единственная приемлемая площадка вблизи заброшенных шахт была забита глайдерами и вертолетами, и пришлось ждать, ходя кругами, пока их не растащат в стороны и не освободят достаточно места для посадки.
— Где? — спросил Максим, первым выпрыгивая из «стрижа» навстречу ожидающим.
— Вон там, под деревьями…
— Аля, не ходите, — предложил Горбовский, но она упрямо помотала головой и пошла, почти побежала, вслед за Максимом.
Под низкими, с черными листьями, плоскокронниками на белом полотнище лежали в ряд, прикрытые по грудь таким же полотнищем, полтора десятка тел. Тел людей. Полотнище, очевидно, не промокало, оставаясь белым. От этого все казалось ненастоящим.
Аля прошла вдоль ряда, наклоняясь и всматриваясь в лица: молодые и не очень, спокойные и искаженные…
Все было как-то безумно просто.
— Его здесь нет, — сказала она.
— Да, из захваченных здесь только двое, — сказал Максим. — Их опознали…
— Я имею в виду руководителя. И… центр. Центр. Да, нужен центр…
Максим смотрел на нее, не понимая. Она и сама себя не вполне понимала.
Стас
Это был тот самый пресловутый янтарин. Проклятый бестеневой свет не позволял судить о размерах и даже форме помещения. Для простоты я решил считать, что это приплюснутый купол. На полу песок, серый и тонкий. Присыпанные им, лежали непонятные металлические скелеты — части распавшегося исполинского насекомого.
Чуть позже мне попался просто скелет. Точнее, мумия.
Человек умер сидя, спиной к дырчатой пластиковой панели. При жизни он был до пояса гол. Кожа его была цвета высохших листьев. Из песка торчали колени, обтянутые белесо-голубыми штанами; там, где был когда-то живот, свободно лежал коричневый кожаный ремень. Еще один ремень обхватывал руку мертвеца. Я зачем-то наклонился и потянул — и вытянул древний автомат. Немецкий МП-40, знаменитая в свое время машинка… Вторая мировая. Получается, что мои предчувствия относительно переброски во времени могут оказаться истиной… хотя — проще предположить, что железо просто-напросто мумифицировалось — как и его владелец. Как, наверное, скоро сделаю и я…
Я положил автомат мертвецу на колени и пошел дальше. И очень скоро наткнулся на полупогребенную нуль-кабину.
Аля
Конечно, он был здесь — она почти узнавала эти комнаты, переходы, залы… Здесь ему было легко. А здесь — что-то угнетало. У стен, у воздуха — была память, и эта память каким-то образом стала доступна ей.
— О чем вы так напряженно думаете, Саша? — спросил ее Максим; он ходил рядом с нею, охранял, и не было возможности спровадить его и побыть одной.
— Ни о чем. Я напряженно думаю ни о чем. Вы должны меня понимать, раз были в таком же положении.
— Поэтому я и спрашиваю. Как бы имею право.
— Вам кажется. Никто не имеет такого права.
— Я и говорю — как бы. Мнимое право. Корень из минус единицы.
— Корень… Вы не знаете случайно, почему андроидам запрещено жить на Земле?
— Знаю.
— Мне можете сказать?
— Пожалуй. Хотя это не слишком просто объяснить.
— Попытайтесь.
— Хм… Ладно. Программу эту начали шестьдесят лет назад, когда всеми почему-то овладела идея о скором вторжении Странников. И вот помимо всего прочего решено было создать… как бы это сказать… архив генофонда человечества. И носителей этого архива расселить по всем пластам, для жизни пригодным, но для посторонних интереса не представляющим. Вот. Людей этих сделали крайне адаптивными, способными существовать в самых невероятных условиях. Всего их создали около пятисот, на сегодняшний день осталось четыреста одиннадцать человек. Если Земля опустеет, они вернутся и заселят ее…
— Вы хотите сказать, что на Земле они начнут лавинообразно размножаться?
— Да. Это такая программа…
— Спасибо, Максим. Вы можете сказать, кто именно это придумал?
— Некто Пирс. Он давно умер. Я тоже, когда узнал, хотел найти его и набить морду.
— Жаль, что не успели.
— А знаете, как он умер? У него была лаборатория в Западной Сахаре. Он выполнял некое задание для Института экспериментальной истории — это такие предтечи прогрессоров… Интересно, что у Пирса был не слишком обычный персонал: он брал только физических инвалидов, которым медицина почему-то не могла помочь. Случается такое, знаете ли. И вот в один не слишком обычный день заказчики прилетели принимать работу. Вроде бы приняли. Сказали — утром заберем. А сами вечером вернулись, вооруженные какими-то ископаемыми автоматами, и перестреляли там всех — и персонал, и… как бы сказать… собственный заказ. Перестреляли, сожгли, взорвали, уничтожили всю документацию… дико, правда? Потом написали записки родным, друзьям — и перестреляли друг друга. В одной из записок было утверждение, что успели они в самый последний момент…
— И — ничего не известно?
— Практически ничего. Не удалось даже выяснить характер той работы. Они ведь и в своем институте чистку провели. Уничтожили архивы, записи…
— Какая жуткая история. Даже трудно поверить, что в наше время может твориться такое.
— Да, Саша. Редко, но может. К сожалению.
Аля вдруг замерла. Будто легкий ток теплого воздуха в правую щеку…
— Стоять, Каммерер, — сказал кто-то негромко. — У меня скорчер, и вы оба у меня на прицеле. Если ты начнешь делать глупости, я выстрелю. Я успею.
Стас
Кабина была из тех, первых, с цилиндрической дверью. Для того чтобы только узнать, подключена она к сети или нет, мне пришлось выгрести из нее весь песок и потом еще продуть направляющий паз. От этих продувок в бедной голове моей сгустился туман, замелькали огни перед глазами…
…мы опять играли в мяч: Малыш, Майка и я. Только это была не холодная планета Ковчег, не промерзший песок, не берег серого океана — а Западная Сахара, развалины древней крепости, укрытые серебристым куполом «оазиса», легкие домики персонала, смуглый, но с льдистым поверхностным блеском куб лаборатории. Малыш шутя обыгрывал нас, потому что мы играли в дохах, а на мяч был надет обруч «третьего глаза», и где-то в сыром темном уголке, как в центре паутины, сидел Комов и наблюдал за пляской фигур на экране, и делал свои выводы. А потом вдруг зашевелился песок, и поднялся голый по пояс мертвец с автоматом в руке. Автомат медленно застучал, выбрасывая кровавые сгустки, и мы все трое брызнули в разные стороны, оставляя за спиной разноцветные фантомы, я подумал, что надо скинуть доху, но Майка успела раньше. Доха долго держалась в воздухе, ломаясь и падая, как человек, пораженный в спину, а вперед со страшной скоростью неслось по-своему прекрасное металлическое насекомое, стройное, шипастое, удлиненное, смертоносное…
Я встал. Голова кружилась. Все вокруг падало вместе со мной. Будто наступила невесомость. Промахиваясь, я все-таки нажал клавишу двери, и она скользнула влево и назад. Передо мной открылась кнопочная панель — и экран видеофона. Это была удача.
Я вдруг понял, что не знаю ни одного номера — и ни одного кода.
И вообще не понимаю, что это такое — номер или код.
Превозмогая что-то невидимое, но мощное там, в собственной темной глубине, я включил видеофон, набрал наугад десять цифр и стал ждать. Клавиша «вызов» медленно замигала. Через минуту экран осветился. Появилось не слишком довольное лицо…
Это была Майка.
Онемев, я смотрел на нее. А она, в свою очередь, смотрела на меня, и глаза ее расширялись…
— С…тась?..
— Да… Майка…
— Но ты же… — она замолчала, будто чуть не сказала что-то страшное.
— Нет. Я живой.
— Господи, да что же это происходит… — И Майка вдруг заплакала, не переставая смотреть на меня, даже не моргая — будто моргнет, и меня не станет… — Где ты?
— В Сахаре.
— Нуль-Т там где-нибудь есть?
— Я стою в кабине.
— Немедленно… — и она назвала свой код. — Немедленно, слышишь?.. Немедленно! И не отходи от кабины, я сейчас…
Почему-то не в силах оторвать от нее взгляд, я набрал код. Проверил. Нажал «старт».
Экран погас. Мгновенная дурнота. Изменился цвет панели. Почти бесшумно открылась сзади дверь. Я повернулся и вышел в холод и аромат. Этот воздух можно было пить. В нем можно было купаться. Улица невысоких коттеджей уходила вперед, а слева на полнеба висела россыпь огней: Вертикальный город. Я чувствовал, что могу упасть.
Аля
— Одно из двух, Каммерер, — подвел итог Мерлин. — Или вы полный идиот и сами верите во всю эту чушь, или занимаетесь не своим делом и не представляете, что творится у вас под носом. А следовательно — тоже полный идиот…
— Хорошо, — сказал Максим. — Я идиот. Согласен. Я действительно не представляю, что творится у нас под носом. Но я не убиваю ни в чем не повинных людей. Не убиваю, понимаете это?
— Даже если самую смирную зверушку загнать в угол, она начинает кусаться, — сказал Мерлин. — А нас загнали не то что в угол…
— В данном конкретном случае в угол загнали нас, — сказала Аля.
— Я приношу свои извинения, — сказал Мерлин скучным голосом.
— Чего вы хотите конкретно? — спросил Максим. — Отменить запрет? Это нереально. Я не имею веса в Мировом совете. После того, как Сикорски… Единственное, что можно сделать, — это изменить вашу тропность к Земле… хотя бы на нейтральную. Будет легче.
— Вы ни черта не понимаете, Каммерер! Андроиды посещают Землю — и ничего! Ничего абсолютно! Никакая программа не срабатывает! Сейчас на Земле несколько наших людей. Это все полная чушь. Пирс был жуликом…
— Вряд ли. Кем-кем, а жуликом он не был. Если он солгал, то лишь потому, что создавал андроидов с какой-то иной целью…
— Вы совершенно правы, Максим, — сказал Мерлин совершенно другим голосом. Аля вздрогнула: будто незамеченным вошел и заговорил с нею кто-то… — Узнаете? Мы ведь встречались однажды. Вы должны помнить. Вас только-только вытащили с Островов, вид у вас был помятый, но очень боевой. И бедный Руди, собираясь возвращаться, сдавал вам дела на Саракше. И вдруг появляюсь я с проектом идеального шпиона…
— Пирс… — прошептал Максим. — Ничего не понимаю…
— Ну, тут нет ничего необычного. Контрразведчик должен ничего не понимать — в этом его основная ценность. Только так он и может заинтересоваться чем-то совсем уж тривиальным… Но я рад, что вы меня узнали. Приятно, знаете, когда узнают.
— Так… — выдохнул Максим. — А остальные четыреста с чем-то — это тоже вы?
— Тоже я. То есть — и я в том числе. Каждый сам себе личность, но я в нем живу. Неплохо придумано, правда?
— А — зачем?
— Ну, Максим, вы и спросили… Вы помните меня — того — на Саракше? Помните?
— Ах, вот в чем дело…
— Конечно. Попасть из полумеханического обрубка в тело полноценное, да еще не в одно, а в несколько сот, обрести реальное бессмертие, пережить миллионы приключений… Поверьте, с вами бы я не поменялся. Например, я даже не сразу заметил, что меня-исходного — убили. Кто может похвастаться подобным?
— А что вы там сделали такое, за что вас пришлось убить?
— Много хотите знать, Максим. Любопытство, как известно, сгубило кошку.
— Слушайте, Пирс. А вот вы — один или множество?
— Один. Во множестве мест.
— Вас нет сейчас рядом с Поповым?
— С этим гомункулюсом? Сейчас… нет. Он пропал на спутнике «Атлас». Вошел в симулятор. Теперь его не найти.
— Ясно… Что вы хотите делать с нами?
— Ничего. Правда, Мерлин имеет на вас свои виды… Я не вмешиваюсь в дела своих креатур. Так интереснее жить. Поэтому прощайте, милые эфемериды.
— Минутку, Октавиан…
— Вы вспомнили мое имя? Замечательно. Если желаете, можно еще поболтать.
— Помните Курта Лоффенфельда?
— Конечно… Да, зря Мерлин считает вас тупой скотиной, Максим. Когда захотите, вы умеете думать.
— Значит, Сикорски уже вышел на вас?
— Не сказать, чтобы вышел — но начал принюхиваться.
— А зачем такая сложная интрига? Не проще ли было — отравить, например?
— Нет, конечно. Во-первых, до Тристана дотянуться было все-таки проще, потому что… впрочем, это понятно. Он человек молодой, любознательный. Был. Да… Очень восприимчивый, кстати. Такие — редкость. Два сеанса по пятнадцать минут. И операция свелась к первоначальному толчку… А эффект? Какое отравление могло дать такой эффект? Вся система безопасности буквально разнесена на куски — одним выстрелом! Одним. Или сколько он там раз пальнул…
— Четыре.
— Ну, вот видите…
— Понятно. Я предполагал подобное, но подозревал не вас. Спасибо, Октавиан, вы мне помогли.
— Да что уж…
Что произошло дальше, Аля не поняла. Максим, лежавший только что лицом вниз, вдруг оказался рядом с черным человеком, раздался страшный звук, будто ломали толстые сучья, а потом слепящая молния ударила в каменный потолок…
Стас
Я утонул в пене, и маленькие мыльные роботы ползали по мне, шлифуя и массируя, посылая слабые токи и вгоняя куда надо нечувствительные лучики своих лазерных рубиновых глазок. Майка сидела напротив, и лицо ее было… не знаю, видел я или чувствовал, но на прекрасном этом лице читался испуг — и какое-то ожесточение. Будто она решила что-то важное для себя — и готова была отстаивать то, что решила, всеми средствами…
Я уже три часа рассказывал ей все, что произошло со мной с тех времен, когда мы виделись последний раз — миллион лет назад и в другой Вселенной, — и она рассказывала, и я видел, что ей тоже нужно выговориться… как и мне почему-то, никогда раньше не испытывал этого желания, а тут вдруг — рухнуло…
— Я тебя спрячу, — сказала она неожиданно и без всякой связи с предыдущим. — Спрячу так, что они век тебя не найдут. Сдохнут, а никогда…
— Спасибо, Майка, — сказал я. — Только ведь я не прячусь. Да и не спрятаться. Видишь ли… время от времени вокруг меня начинают сходить с ума киберы. Я совершенно не контролирую это. И если меня захотят найти, то найдут очень легко. Но прежде будет много происшествий. Могут и люди погибнуть. Зачем?
— Не знаю, — сказала Майка. — А зачем вообще все?
— Это хороший вопрос. Не знаю. Как я сумел набрать именно твой номер? Тоже не знаю. Кто я? В чем смысл оперы Верди «Трубадур»? Что такое гр'охб? В конце концов, чего хотят Странники?
— Может быть, их и нет совсем, — сказала Майка.
— Может быть, и нет. Хотя — кто-то точно есть.
— Я пыталась систематизировать наши представления о Странниках. Не знания, а именно представления. Динамика за восемьдесят лет. Корреляция с реальными находками. Все очень странно. Представления опережают находки примерно на пять лет.
— Да. Это ложится в общий ряд.
— Ты уже знаешь что-то?
— Я знаю, наверное, все. Я же говорил. Но мне — именно поэтому — трудно делать собственные выводы. А относительно общего ряда… Понимаешь, Майка, у меня нет ничего, что можно было бы назвать доказательствами. Я как Малыш сейчас… помнишь, он получал ответы, но не знал, как. Вот что-то подобное и со мной творится, и я совершенно не знаю, как к этому отнестись.
— Со мной что-то тоже творится, и я тоже не знаю, как к этому отнестись, — сказала Майка. — Никогда бы не подумала… Когда я увидела тебя на экране, я вдруг поняла, что ждала именно этого… долго… годы… Понимаешь? Ждала именно тебя. Не зная того сама. Это так странно…
— Не страннее прочего, — сказал я медленно. — Только, Майка, пойми: я не человек. Я очень похож на человека, но я — что-то другое. Гораздо более другое, чем был Лев. Тебе придется запереть меня на ночь…
Аля
Сознания она не теряла, но на какое-то время вновь утратила возможность реагировать на происходящее. Уменьшенная и приблизительная копия недавнего состояния. Шок. Перегрузка. Кажется, она кричала. Или что-то еще.
Потом оказалось, что ее несут наружу. На руках. Как девочку. И она заплакала — от обиды и от непонятного облегчения.
— Сашенька, Сашенька, — говорил Горбовский. — Уже все. Уже все хорошо. Все кончилось.
Но она знала, что еще не кончилось ничего.
5
Стас
Было еще темно и холодно. Сеялся мелкий утренний дождь, остаток большого ночного. Город просыпался, и нужно было идти.
— Пока, — сказал я.
Майка наконец посмотрела на меня, и я вдруг задохнулся.
— Они и тебя убьют, — сказала она. — Я знаю, они убьют и тебя. Они всех готовы убить.
— Меня бесполезно убивать, — сказал я. — Убьют здесь, и я снова появлюсь там. И вернусь к тебе…
— Не вернешься ты. Никто никогда не возвращается. Это легенды, что кто-то когда-то вернулся. Все уходят и исчезают.
Мы вместе сходили с ума…
Но в нашем безумии была система.
Мы так и не дали друг другу уснуть в эту ночь, и я боялся, что сорвусь, разнесу всю электронику в ближайших кварталах, а потом у Майки будет инсайт, и тогда…
Не представляю, что будет тогда. Что-то страшное. Оказаться между двух зеркал…
Теперь у меня была вода, пища, нормальная одежда. Мне не о чем было заботиться, кроме как о главном.
— Если ты не вернешься к полуночи, я… я не знаю, что сделаю. Нет, знаю. Знаю. Ты им скажи: если они тебя не отпустят, я отдам детонаторы… тем. Я знаю, кто из них где…
— Они уже не боятся этого.
— Боятся. Ты не знаешь, а они боятся.
— Хорошо…
Я поцеловал ей руку и шагнул в кабину.
В подземелье было еще прохладно. Я повернулся к пульту видеофона. Вызвал БВИ. Через полчаса довольно хитрых поисков нужный номер был у меня в голове. Я почему-то помедлил, прежде чем набрал его. Замигал вызов. Ждать пришлось довольно долго.
Человек, появившийся на экране, напоминал старую черепаху. Он был абсолютно лыс, морщинист и пятнист. Огромные безобразные мешки висели под глазами, и сами глаза были водянистые и невероятно спокойные. Тонкие губы кривились как бы презрительно…
— Здравствуйте, — сказал я. — Меня зовут Стас Попов. Я из «детей дюн».
— Попов?.. — Он наморщил лоб. — А, так вы с Пандоры…
— Нет. Я на Земле.
— Зачем?
— Хочу вас увидеть.
— Меня? Как странно… Ну, вот он я, смотрите. Кстати, кто вам сказал мой номер?
— Я его вычислил. Это не так сложно. Особенно…
— Вы ведь должны быть под наблюдением, не так ли? Причем, как я понимаю, добровольно.
— Это очень относительная добровольность… Значит, вам еще не сообщили, что произошло на Пандоре?
— Нет. Что там могло произойти?
— Очень многое. Простите, но мне было бы… приятнее… говорить с вами непосредственно.
— Что — действительно что-то серьезное?
— Да.
— Хорошо, приходите… — и он назвал адрес.
Аля
Первым говорил Максим.
— Должен отметить, что операция нами блистательно провалена. Погибли люди, погибли андроиды — боюсь, специально для этого оставленные здесь: чтобы погибнуть… а к разгадке феномена мы не приблизились ни на шаг. Больше того, мне почему-то кажется, что мы отдаляемся от нее, что кто-то умнее нас подбрасывает нам квазиважные проблемы, на разрешение которых мы расходуем все свое время и силы. Не исключено, что «дело Пирса», которое всплыло таким необычным образом, тоже является предметом отвлечения…
— Вы считаете, что вам сказали правду? — спросил кто-то незнакомый, при бороде и загорелой блестящей лысине; их было несколько человек, появившихся недавно и пока Але не представленных; она сидела в уголке, слушала, но молчала; так велел Горбовский: слушать и молчать. — Или же это была заведомая дезинформация?
— Боюсь, что в нашем случае одно от другого отличить нельзя в принципе, — странно сказал Максим. — Поскольку именно эти понятия являются объектом деятельности сторон.
— Послушайте, Каммерер, — сказал другой, смуглый, узколицый и смутно знакомый; но где она видела этого человека, Аля вспомнить не могла; возможно, его видела не она сама, а Стас, пришло вдруг в голову… — Про девиацию информационных потоков мы знаем. И знаем условия, в которых она происходит. Объясните лучше, какова цель всех этих мероприятий? Мы что, опять защищаемся от вторжения?
— Да, — кивнул Максим.
— Но это же смешно!
— Вы думаете?
— Конечно. Судя по результатам…
— Знаете такого зверя — чарли-хохотунчик? С Яйлы?
— Не знаю. А при чем здесь какой-то зверь?
— Он очень смешной и неуклюжий, и будто бы и сам себя высмеивает, и передразнивает вас, и все здорово, пока он не приблизится метра на три. Но даже зная, что он опасен, вы все равно попадаете под его обаяние и до последней секунды не можете поверить, что вас просто хотят съесть.
— Максим, здесь взрослые люди, а вы пытаетесь рассказывать притчи. Говорите нормально.
— Это не притча. Это грубый зоологический факт. Жертва, хихикая, сама лезет в глотку к зверю. Ей кажется, что это такая шутка. Мы почему-то совершенно неадекватно оцениваем степень опасности, и это никому не кажется странным. Больше того, мы готовы всяческими способами инактивировать тех, кто указывает нам на это. И больше того: я сам чувствую внутреннюю потребность не думать ни о какой опасности, а если думать, то иронически…
— Послушайте, — опять сказал тот, смутно знакомый. — Тема просачивания и вторжения инопланетян на Землю настолько затаскана, что об этом всерьез даже говорить как-то неловко. Тем более, что и в данном конкретном случае нет ни малейших доказательств того, что все это имеет неземное происхождение.
— Разумеется, нет, — пожал плечами Максим. — Как и у обитателей Саулы нет ни малейших доказательств прогрессорской деятельности землян.
— Мы спорим обо всем этом уже сорок лет, — сказал Горбовский. — И давно уже пришли к мысли, что требовать друг от друга доказательства — неэтично и даже недопустимо. Поскольку, как верно заметил Максим, именно информация, информационные массивы, являются основным объектом воздействия. Кроме того, в ряде случаев мы имеем дело с явлениями единичными, уникальными. А следовательно…
— Тогда мы имеем моральное право оперировать понятиями черной магии, алхимии, начинать вертеть столы… что там еще делали?..
— Оживляли мертвецов.
— Вот я и… — и вдруг узколицый замолчал. Огляделся беспомощно…
— Ничего, Фил, — сказал Максим. — Все нормально. Привыкай. Добро пожаловать в страну Оз.
Тут Аля вспомнила, почему этот человек казался ей знакомым. Филипп Шеллер, контактер с негуманоидами. Лет десять назад про него много писали. Удивительная адаптивность, четкость и цельность интеллекта…
— Я понимаю Максима, который не хочет разбивать задачу на более простые элементы и решать ее именно поэлементно, — сказал тот, с бородой. — Это внесет, скорее всего, очень существенные искажения… Но, в свою очередь, я хотел бы, чтобы уважаемый Максим понял меня. Нас. Нам предложена смесь из ксенологии официальной и апокрифической, логических загадок, странных явлений психики, возможно, даже патологических, и природного феномена, механизм которого абсолютно не прояснен, хотя феномен наблюдается уже сколько? Лет десять?
— Немного меньше.
— Неважно. За это время можно было бы исследовать все до субвакуумного уровня…
— Исследовали, Питер. Никаких загадок. Все ясно. Неясна мелочь: откуда что берется и зачем?
— И — кто это затеял, — тихонько подсказал Горбовский.
— Именно так.
Але вдруг показалось, что здесь есть что-то неправильное. Так описывают «дежа вю». Будто бы она уже в пятый раз смотрит любимый спектакль, и вдруг актеры начали путать реплики. Даже не путать — упрощать. Выпускать что-то. И будто бы бородатый Питер должен сидеть не там, где сидит, а справа, и говорить торопливо и непонятно, а вон там, между Филом и девушкой-квазибиологиней, не хватало кого-то пожилого, белоголового, с эспаньолкой… Ощущение было настолько острым, что она приподнялась со своего места. Хотелось подойти и потрогать, чтобы убедиться.
И вышло так, что она стоит, а все смотрят на нее и ждут, что она скажет.
Она еще раз посмотрела вокруг себя. Невозможно было отделаться от ощущения странной нарочитости происходящего.
— Знаете, — сказала она, — я ведь в какой-то степени Попов. Слепок с него. Ментальный снимок. Говорят, это пройдет, но пока что — держится. Так вот, этот внутренний Попов говорит, что ответ на заданный вами вопрос был получен, ответ четкий, однозначный, достоверный. И был получен не один раз, а — множество… Но каждый раз этот ответ будто забывался, и все начиналось снова.
— Так, — сказал Максим. — И каков же этот ответ?
— Не знаю… — Аля вдруг растерялась. — Не могу это… открыть. Там как бы дверь… А кто такой Ященко?
Она заметила, как переглянулись Максим и Шеллер. Горбовский почесал подбородок.
— Не расстраивайтесь, Сашенька, — сказал он. — Тут дело, получается, непростое. Ященко — это Камилл. Фамилия у него такая. Камилл Ященко. Ее почему-то мало кто помнит…
Стас
Мы сидели на веранде и пили какой-то травяной настой. Сикорски утверждал, что трава эта проясняет мысль. Остров был каменист и мал. Сосны, скрученные ветрами, держались за край террасы, дальше начинался океан. Черные скалы поднимались за нами четырьмя быками. Небо было низким и серым. Внизу глухо бил прибой. Ветер с юга доносил льдистый антарктический запах.
Святая Елена, маленький остров…
Это была не Святая Елена, но что-то похожее присутствовало во всем.
— Я восхищен вашими способностями, Попов, — сказал Сикорски, отставляя свою кружку, огромную и коричневую, с изображением всадника с копьем. — Жаль, что вас не было с нами тогда. Может быть, со мной не случилась бы… неприятность… Абалкин бы остался жить, а служба продолжала бы — служить… — он вздохнул. — Знаю, что не смешно. Старческое слабоостроумие. Извините. Так вот, о главном… Все, что рассказал вам Суворов, — правда. Но это такая невинная часть правды, что даже… нежность пробирает. Нежность. На самом же деле…
Он медленно встал, обошел вокруг стола, остановился передо мной. Движения его были медленны и осторожны.
— Я вам расскажу. Потому что вы все равно все узнаете. Но вдруг вы узнаете потом, когда будет поздно? Как я, например…
Он помолчал, глядя, как вдали летит, почти касаясь воды и оставляя белый прерывистый след пены, маленький оранжевый глайдер.
— До поры все было так, как он рассказал. До недоброй памяти двадцать девятого.
— Нашего века? — зачем-то уточнил я.
— Что? Ну да, конечно, нашего. Кому-то из гипногенистов пришла мысль передоверить некоторые управляющие функции машине. Сделать ее арбитром, поскольку противоречия между владельцами ключей зашли далеко. И что бы вы думали — сделали машину…
— Массачусетскую?
— Совершенно верно. Именно ее, родную. Собрали, запрограммировали, запустили. Функции: сбор всей формализованной информации. С целью: всем сделать хорошо. Ну, а по мелочам — управление погодой, транспортом, и так далее… Вы спросите: почему не сеть, не что-то попроще? Зачем такого монстра отгрохали? Ответ: чтобы полностью исключить возможность перехвата управления. Мотивы понятны.
— И что же помешало возложить на ее плечи это бремя?
— Ничто. — Сикорски посмотрел на меня как-то по-птичьи, боком. — Машина работает. Уже больше пятидесяти лет.
— Как — работает? Ведь известно же… — я осекся. Я все понял.
— Машина работает. Более того, она создана так, что перехватить у нее управление могут только все шестнадцать гипногенистов одновременно, если соберутся за пультом. Этого не происходило никогда.
— Значит, машина работает… и вторгнуться в ее работу нельзя? И — проконтролировать нельзя?
— В общем, да. Только косвенными способами.
— Например?
— Ну, самое главное… Стас, сколько сейчас на Земле людей?
— С Системой?
— Ну да. С Системой, с Периферией… Сколько насчитывает наше племя?
— По последним данным — пятнадцать и тридцать шесть сотых миллиарда.
— Да. И это все знают. И люди должны умирать время от времени, да? Их кремируют, пепел ссыпают в такие урночки… Я собрал данные по производству этих урночек. Так вот, судя по этим данным, на Земле и в Системе сейчас живет около одного миллиарда человек.
— Что?
— Один миллиард. Один, а не пятнадцать. Но мы знаем, что пятнадцать. И живем так, как будто бы — пятнадцать… — он закашлялся. — Ошибки нет, Стас. Данные проверены перекрестно. Расхождение на порядок как минимум.
— И это значит…
Порыв ледяного ветра налетел, ударил в лицо. Мелкая водяная пыль…
— Это значит только одно: машина поняла задачу по-своему, по-машинному. И по-своему ее исполнила. Получив результат. Человечество похудело, совершенно этого не заметив. Вписалось наконец в экосферу. И — без катастроф, без горя…
— То есть — как? Ведь получается — уничтожено четырнадцать миллиардов?..
— Может быть, и уничтожено. А может быть, и нет. Про планету Надежда вы знаете? Пример грубой, провальной работы. В нашем случае — работа тонкая, мастерская…
— То есть — вы… как бы сказать… — одобряете все это?
— Разве важно, как я к чему-то отношусь? По большому счету, это не интересует даже меня самого.
— А вам не кажется, что это имело бы смысл прекратить? — спросил я.
— Не знаю. Ведь идет постоянное облучение. Снимите его — и наступит глобальный шок. У вас, как я знаю, психическая резистентность очень высокая. Но и вам, наверное, будет не по себе, когда вы сможете смотреть на мир новыми глазами…
— Он что — слишком отличается?
— Формально — нет. Но впечатление от него совсем другое.
— И все-таки: не решит ли машина, что нас может быть еще меньше? Или что мы должны стать пониже ростом? Отпустить хвосты? Жить под водой?
— Вполне возможно. И тогда мы будем жить под водой. Боюсь, что сейчас гораздо опаснее — с точки зрения сохранения того, что мы имеем… что от нас осталось… — это менять способ существования. Древние говорили: «Не навреди».
— Но ведь машина не вечна. Рано или поздно она придет в негодность, разрушится…
— Попробуйте поговорить об этом с Бромбергом. В конце концов, он — один из…
— Бромберг?!
— Да. Старый Айзек Бромберг. Жизнь положивший на…
И тут раздался сигнал вызова. Сикорски недовольно махнул в сторону экрана, но тот уже осветился.
— Экселенц! — почти крикнул появившийся человек. — Мы раскопали, что произошло с Абалкиным! Раскопали до конца…
— Тут он увидел меня. Глаза его распахнулись. Светлые холодные глаза.
— Очень хорошо, Максим, — сказал Сикорски. — Я доволен. Но стоит ли врываться без предупреждения?
— Да, Экселенц. Не стоит. Стас, вы?..
— Со мной пока все в порядке, — сказал я. — Мы беседуем о жизни.
Аля
Все самое главное приходило к ней в полудреме.
…она знала откуда-то, что просто глазами увидит это иначе, не так, как сейчас: изумрудный песок, черные волны, иссиня-серый айсберг вдали. Волны ворошили сероватые льдинки, шугу, прибитую к берегу. Это значит — лето. Она стояла, широко расставив ноги, и смотрела вдаль. Громадная оранжевая туша лежала, полузарывшись в песок. Торчала вверх очень человеческая, но чересчур огромная рука. По белому, с лиловатыми и желтоватыми пятнами небу ползла цепочка багровых огоньков. Стоило мне захотеть, и черные воды расступятся передо мной, открывая дорогу в таинственную бездну. Там мой дом, мой истинный дом. И в горах. И за болотами, в глубоких расселинах, откуда восходят дымы, пахнущие целебно. Я никого никогда сюда не пущу, я сделаю так, что пришедшие забудут дорогу. Но мне тоскливо без них, и я творю их перед собой из остатков воображения. Темный город возникает на пляже, и волны обтекают его, не смывая. Тонкий звук поднимается кверху, к небу, зажигая концентрические кольца…
Аля очнулась и, вскочив, осмотрелась. Все было слишком просто, чтобы казаться ужасным.
Пустые стулья стояли неровным полукружием, как бы беседуя. В открытые окна влетали голоса. Доносились удары мяча, невнятные механические звуки и электрические потрескивания.
Вошел Горбовский, по-прежнему озабоченный. Сел на стул верхом, посмотрел на Алю, вздохнул и покачал головой.
— Нашелся наш Стас, — сказал он. — Только не знаю, хорошо ли это…
— Где он? — быстро спросила Аля.
— На Земле. У Сикорски.
— А кто такой Сикорски?
— Неужели не знаете? Это была громкая история.
— Первый раз… — она замолчала. Внутри лопнул пузырек.
— Знаю. Да. Все знаю. Но — зачем он Стасу?
Горбовский пожал плечами.
— Мы безнадежно опаздываем… главным образом — вот здесь, — он дотронулся до лба. — А кроме того — некий паралич воли…
— Паралич воли, — повторила Аля. — Жалко.
— Как вы себя чувствуете? — спросил Горбовский. — В такой переделке побывали.
— Не знаю. Никак не чувствую. Еще не прожгло.
— Да, это я понимаю. Ну, что — оставим работу профессионалам?
— Нет, — сказала Аля. — Я так не могу. Должен же кто-то, кто понимает…
— Через полчаса Максим улетает на Землю. Туда, к Сикорски. Я пока остаюсь. Вы — как намерены?
— Я полечу, — твердо сказала Аля.
— Стас для вас… что-то значит?
Аля посмотрела на Горбовского. Неясно было, он действительно не понимает — или спрашивает о чем-то другом?
— Он у меня вот здесь, — повторяя жест Горбовского, она дотронулась до лба. — И я уже почти не могу это выносить…
Стас
— Вы ничего не понимаете, Попов, — хрипло сказал Бромберг. — Допускаю, что вы все знаете, но не понимаете вы ни черта.
— Ну, почему же? — вежливо ответствовал я. — Древний способ отучения от наркотиков: медленно и постепенно уменьшать дозу. Девятнадцатый век.
— А от пищи вы так никого не пытались отучать? От воздуха? Нет? Ну, так попытайтесь, попытайтесь…
— Бросьте, Бромберг. Это не я, это вы не понимаете, что предприятию вашему все равно пришел конец. Остановлюсь я — не остановятся другие. Это же выстрел дробью. За нас взялись всерьез.
— Кто? Кто взялся? Что вы несете, идиот?!
— Некий весьма сведущий разум, который мы ассоциируем с Малышом. Им, видите ли, не нравится наше поведение…
— Я же сказал: идиот! Повторить? Я повторю: идиот! Какой Малыш? Какой разум? Это все выдумки нашей разлюбезной! Она пичкает нас байками, чтобы мы…
Я подождал, когда он прокричится, и спросил:
— Скажите, а вы сами-то подвержены этому внушению?
— Я? Конечно, нет. Я знаю, что оно существует, что оно направлено на модификацию моего поведения, и веду себя с поправкой на оное.
— Вы давно снимали спектр этого излучения?
— Регулярно. А что?
— Вам не бросилось в глаза ничего необычного?
— Нет. И не могло броситься. Потому что ничего необычного там нет.
— Понятно. Так вот, слушайте меня внимательно. Я жил на планете, где гипноизлучения нет. На Земле я около суток. Даже на обычного человека излучение еще не окажет влияния за такой срок… эффект его накапливается, не так ли?
— Ну, в некотором роде — да.
— Отлично. Вам, когда вы возвращаетесь, не бросаются в глаза простор и пустота на Земле?
— Вы были у Сикорски? Может быть, вы и сейчас у него?
— Нет, — ответил я только на последний вопрос.
— Сикорски — сумасшедший старик. У него идефикс…
— Перед прилетом сюда я ознакомился со спектром гипноизлучения, которое орошает Землю. Золотым дождем. Лишь четыре процента спектра — это модификаторы поведения. Девяносто шесть — модификаторы восприятия.
— Бросьте нести чушь, Попов. Я сам писал эти спектры, сам, понимаете? И что же, я не знал, что пишу?
— Излучатели на спутниках «Атлас» не работают, — продолжал я. — Зато там установлен вероятностный вариатор, который, как вам должно быть известно, к использованию запрещен категорически… Тагора, по-вашему, — тоже изобретение машины?
— Да. То есть не машины. Тагору придумал в сорок седьмом году Майкл Хиггинс. Машина воплотила его мысль.
— Понятно. Его можно поздравить: изобретение оказалось столь емким, что обрело самостоятельную жизнь.
— Род иллюзии. Надеюсь, это-то вы понимаете?
— Конечно. Но тогда откуда взялся вариатор?
— А при чем тут?..
— Вариатор доставлен с Тагоры. Якобы образец техники Странников.
— Все смешалось. Впрочем, так и должно быть. На определенном этапе накачки уже не удается проследить, откуда приходит та или иная иллюзия.
— Скажите, Бромберг, а с Пирсом вы сотрудничали когда-нибудь?
— Что значит — сотрудничал? Он ноолог, а я — историк науки. Конечно, я изучал его работы, его самого… Когда случилось несчастье в лаборатории, я как раз направлялся к нему.
— Несчастье какого рода произошло там?
— Взрывной импульс Тиффани. Вы знаете, что такое импульс Тиффани? Хотя что это я…
— У меня другие сведения.
— Ваши сведения неверны!
— Возможно… Вам не закрадывалась такая интересная мысль: все ложные объяснения всегда по касательной проходят рядом с истиной? Как бы дразня ее. Когда-то говорили, что вора тянет на место преступления…
— Это вы обо мне?
— Пока нет. Но вспомните: запрет на Машину объяснялся тем, что в недрах ее зародился новый нечеловеческий разум, новая цивилизация. Так?
— Да. Я сам придумал это объяснение. До сих пор горжусь им.
— А вам не кажется, что нечто подобное случилось на самом деле?
— Болезненный бред. В стиле Сикорски.
— Разум, получивший возможность расселяться по сознаниям тысяч миллионов людей, которые ни сном ни духом…
— Перестаньте!
— Пирс работал как раз над этим, не так ли? Может быть, машинный разум почувствовал в нем опасного противника, конкурента?..
— Да прекратите же!!! — Голос Бромберга взметнулся до визга, сорвался… Сам он, багровый, качнулся к экрану, лицо его вывалилось за пределы, остались только глаза и лоснящийся нос. Безумные, чуть косящие глаза. Потом они медленно мигнули… — Вы правы, Попов, — сказал Бромберг совсем иначе. — Я не сомневался, что вы догадаетесь обо всем. Владея таким объемом информации, мудрено не догадаться…
— Вы — Бромберг? — спросил я.
— Да. В определенной мере.
Аля
Они сели на каком-то крошечном островке посреди пустого океана. Дом приземистый, вжатый в скалы… Наверное, зимой здесь штормы.
— Рудольф Сикорски, — представил Максим хозяина. — Александра Постышева, носитель ноограммы Стаса Попова.
— Вы это ощущаете? — спросил Сикорски, пожимая ей руку.
— Иногда.
— Крепитесь, девочка. Это бывает очень тяжело, особенно когда она начинает распадаться. Вот Максим побывал в таком положении…
— Он говорил. Но без подробностей.
— Те подробности такие, что лучше, о них не говорить. Главное, не позволяйте наезднику управлять вами. И знайте, что боль — ненадолго. День, два.
— Он будет исчезать…
— Да. Умирать в полном сознании. Цепляться за вас.
— Какой ужас…
— Ужас. Он симпатичный человек, он мне понравился. Что ты думаешь обо всем этом, Максим?
— Что он намерен делать, Экселенц?
— Он? Намерен? Это не те слова…
— Возможно, не те…
— Просто не те, Максим. Я не знаю, чего ты хочешь от меня. Разве не видишь: я сдался? Я вдруг оказался человеком, который желал отстоять крепость — решительнее, чем другие, — но сам в рвении своем разрушил стены… И вот — все. Последний шаг противника. Он просто входит… он даже приходит ко мне. На чашку чая. Ко мне. Какая ирония.
— Он не противник, — сказала Аля.
— Не он. Не Попов. Противник — в Нем.
— Нет. Вы ошибаетесь. Вы ошибаетесь в чем-то главном.
— Нет, Александра. Не ошибаемся. Может быть, мы просто говорим о разных вещах…
— Где он? Вы знаете, где он? Догадываетесь?
— В сотне мест одновременно. Он прошел через вариатор… Вы знаете, что это такое?
— Да.
Аля повернулась и стала смотреть на океан.
Она никогда прежде не видела океана…
— Когда я все это узнал, я пытался почувствовать себя в шкуре Машины, — сказал за спиной Сикорски. — Не думаю, что можно вынести это сколько-нибудь долго. Я бы застрелился сразу.
— Ей пришлось очень долго выращивать руки, — сказал Максим. — И потом — может быть, для нее полвека — это сразу?
Стас
Я летел в маленьком пестром флаере-жучке на север. Человек на экране — Бромберг, который не совсем Бромберг, а так… представитель… — говорил что-то, иногда убедительно, иногда просто умоляюще…
Кажется, я иногда даже отвечал ему.
Территория, занятая комплексом Машины, резко выделялась в ландшафте. Увядающе-осенние цвета вдруг сменились черно-зелеными: по каким-то давним причинам здесь все засеяно было марсианской травой-камнежоркой. Три ряда кольев с проволокой, разумеется, были чисто символической преградой… зато преградой реальной можно было считать вон те тарелочки гипноизлучателей. Человек, попавший на территорию, просто не сможет пройти за них, туда, в квадрат пятьсот на пятьсот примерно, где не видно с земли серо-песчаное, очень низкое, едва ли выше моего роста, П-образное строение.
Я сбросил скорость и пролетел над ним, потом развернулся и пролетел еще раз.
Казалось, я физически ощущаю, как подо мной — там, в глубине — лопаются тугие пузырьки.
Теперь можно было лететь куда угодно…
Человек с экрана молча смотрел на меня.
Аля
Переход, и еще переход. Незнакомый город. Листопад. Теплый ветер. На площади они нашли глайдер.
— Спасибо, Максим. Дальше я сама…
— Прощайте. — Он повернулся, будто теряя интерес и к ней, и ко всему остальному.
— Не обижайтесь.
— Какие обиды…
Какие обиды могут быть, когда нам грозит… что? Гибель? Нет. Просто — всеобщее и полное унижение. Осознание своего ничтожества. Своей зависимости и мизерности. Но и — освобождение…
Она по широкой дуге развернула послушный глайдер и повела его вручную, без видимой цели — в поисках чего-то необычного.
Стас
Я думал, что увижу хоть немногое. Что-то должно было измениться… исчезнуть, раствориться, перетечь из формы в форму… не знаю. Как-то отреагировать. Но ничто не менялось.
— Вот вы и добились своего, — сказал человек на экране, глядя куда-то в сторону.
— Что-то происходит?
— Нет. Теперь никогда ничего не произойдет. Машина мертва.
— Неужели только она толкала нас куда-то?
— Уже много лет… Не хочу вас больше видеть. Уходите.
— Куда я могу уйти? Я сижу в кабине. Вам проще — отключитесь.
— Не могу.
Я не успел обдумать его странную реплику: флаер мой качнуло и повело в сторону. Как-то очень быстро бросились в лицо верхушки деревьев, раздался мощный треск… На миг возникло чувство настоящего полета, возникло и пропало.
Не думаю, чтобы я по-настоящему терял сознание. Нет, я просто лежал на спине и смотрел в небо, и почему-то меньше всего мне хотелось отвлекаться от этого занятия.
Вишневый с белым глайдер описал два глубоких виража надо мной, потом из поля зрения исчез. Потом появилась Аля.
Аля
Он лежал в высокой траве, неподвижный, но живой. Непонятно, как человек может выжить при таком ударе… Обломки флаера валялись вокруг, двигатель горел в кустах, выбрасывая синие снопы искр. В любой момент могло рвануть. Я тащила его в глайдер, тяжелого, за все цепляющегося. Надо было, наверное, взвалить его на спину, но я боялась что-нибудь повредить дополнительно и поэтому волокла его просто так, ухватив под мышки. Я уже взлетела, когда двигатель взорвался — правда, несильно. Вряд ли нас убило бы этим взрывом.
— Аля… — сказал он и закашлялся судорожно. — Ничего себе…
— Молчите, — сказала я.
— Машина мертва…
— Я знаю.
— Как вы меня нашли?
— Я вас ненавижу. — Я не могла на него смотреть, но все равно смотрела. — Вы это понимаете?
— Еще как.
— Если бы я могла, я бы вас убила. Что вы с нами сделали…
— Не я. Не только я… Что-то уже… проявилось?
— Не знаю. Рано, наверное. Но уж наверняка проявится.
— Все равно это пришлось бы делать… потому что иначе — разве бы тогда мы были людьми? — Он отвернулся и вдруг напрягся всем телом: — Где это мы?
Я посмотрела вниз. Под нами была пустыня. Солнце садилось.
— Началось…
Не знаю, кто это сказал: я или он.
— Проклятая тва-арь! — вдруг закричал он страшно. — Аля, держите вручную!.. — и начал крушить автопилот. — Ты и сюда добралась, гадина, ты и здесь… — Он откинул фонарь — яростным потоком воздуха меня ударило, перебило дыхание, ослепило. Он выбрасывал блоки за борт. Уже ничего не слыша и почти не видя, я держала, держала, держала глайдер… все было, как недавно, как вечность назад…
— Это агония, — вдруг услышала я. — Она так умирает — медленно.
Ветер уже не ревел и не хлестал по глазам. Скорость наша упала, стал слышен мотор. Фонарь сорвало совсем.
Внизу расстилались джунгли.
— Дорога, — сказал он и показал направление. — Садитесь на дорогу.
Просто сказать… Я села с третьего захода.
Когда-то это была движущаяся дорога. Сейчас она усохла, местами потрескалась. Примерно в полукилометре впереди поперек нее лежало огромное дерево.
— Это опять Пандора, — сказал он как о чем-то обычном. Подумаешь, залетели на глайдере на другую планету…
— Что происходит, Стас? Я думала…
— Не знаю. Но, может быть, мы еще узнаем все.
Дорога дрогнула под ногами, напряглась… расслабилась. Рванулась — мы упали — и вновь расслабилась уже совсем.
— Я боюсь… — Мне действительно стало очень страшно. — Может быть, улетим?..
— Да, пожалуй… — Он оглядывался и прислушивался к чему-то. Лес был безмолвен. — Да, лучше улетим.
Через два часа полета показался берег океана.
Стас
Было поразительно, как она держалась. Бледная, закусив губу, — смотрела вперед.
— Кабина — это условность, — вдруг сказала она. — Я вспомнила. Ламондуа говорил об этом.
— Может быть, и так, — согласился я.
— Скорее всего, кабины были замаскированными медиатронами, — продолжала она. — Машина выявляла людей, с ее точки зрения асоциальных, и отправляла куда-то… в эфир, в бесконечность…
— Нуль-фобия развилась не на пустом месте, — согласился я. — Беспочвенных фобий не бывает.
— Это все спекуляции, — вздохнула она. — Никогда мы ничего не выясним. Как я устала… Ты хоть понимаешь, что я теперь не могу от тебя отойти ни на шаг? Понимаешь, да? Я тебя ненавижу, ты приковал меня к себе цепью… я не хочу, чтобы ты умирал. Не хочу, понимаешь?
— Это будет не настоящая смерть. Смерть призрака. Ментальной модели.
— Успокоил…
— Может быть, отдохнем вон там? — я показал вперед.
— Что это?
— Похоже на туристский лагерь.
— Как он мне не нравится…
И мы пролетели мимо. А минут через пять показался поселок.
Аля
По-моему, все силы мои уходили только на то, чтобы не кричать непрерывно. Я мазала мимо посадочной полосы, мазала, мазала, мазала… Не помню, как мы сели.
От домиков бежали люди.
Стас
Это был поселочек глубоководников. Их здесь было четверо, две супружеские пары: Гарольд и Вика, Тихомир и Сью. Обычно население поселка достигало двух десятков, но сейчас настало время отпусков.
Мы сидели, очень тихие, а нас посильно и весьма тактично веселили и подбадривали. Гарольд играл на банджо, Вика пела негромким приятным голосом. Тихомир и Сью сидели обнявшись. И в какой-то момент я почувствовал, что расслабился уже чересчур, рванулся обратно, но уже не успел…
…зеленое сияние погасло, потом начало набирать силу снова. Малыш стоял рядом и смотрел в ту же сторону.
Когда-нибудь это все равно пришлось бы сделать, — повторил он.
Может быть, да, может быть, нет, — сказал я. — Все могло рассосаться само.
Ты сам не веришь в то, что говоришь, — сказал он. — Мне только жаль, что это оказался ты. Тебя я любил. По-настоящему любил. Может быть, только тебя.
Что же теперь будет? — сказал я.
Катастрофического — ничего. Паразит уничтожен. Что же касается его яда, к которому вы так привыкли… Я постараюсь поддержать вас. Хватит ли сил, не знаю, но постараюсь. Может быть, потом мне понадобятся помощники… ты хотел бы?
Еще раз пройти через это? Нет.
Подумай. Никогда не поздно перерешить. Никогда не поздно…
…сигнал вызова, и я очнулся.
Дом был пуст. Аля стояла на коленях и смотрела на мигающий глазок видеофона.
Я взял ее за руку и подошел к экрану. Коснулся клавиши ответа.
Это был Горбовский.
— Стас, — сказал он устало. — Вы можете возвращаться. Решение по вам принято. Положительное. Я даже не ожидал такого единодушия…
Я не стал спрашивать, что это значит. Выяснится когда-нибудь.
— Хорошо, Леонид Андреевич. Спасибо.
— Я здесь ни при чем. Вы помните такого Сикорски?
— Да. Помню. До позапрошлого года он был уполномоченным Совета по безопасности.
— Совершенно верно. Он застрелился вчера.
Рука Али задрожала в моей, я сжал ее крепче.
— Был случай, чем-то похожий на ваш… Наверное, все это — повлияло…
Он не договорил, махнул рукой и отключился.
— Мы не упадем, — сказал я. — Немного покружится голова. Будут путаться мысли, но не слишком. Может быть, потеряем какие-то старые вещи. Посмеемся над этими потерями. Пойдем дальше. Хотя, может быть, лучше бы мы упали…
Михаил Успенский
От автора
Имена братьев Стругацких я услышал давным-давно — страшно сказать, в 1957 году. По радио анонсировали «Страну багровых туч», и книжку я, разумеется, добыл. Ну, тут все и началось. Из отцовской электробритвы я смастрячил модель вездехода «Мальчик», приделав с боков пару гаечных ключей и гусеницы от игрушечного трактора. В дальнейшем творчество Стругацких я использовал с менее пагубными последствиями, то есть сам стал сочинять всякие межпланетные похождения. Каждая новая книга или публикация Стругацких становились событием, и я до сих пор прекрасно помню, где и при каких обстоятельствах приобрел ту или иную книгу — где приобрел, а где и замылил.
Думаю, излишне говорить о роли, которую сыграли братья Стругацкие в моей литературной судьбе. Но подражать не хотелось, поэтому пришлось с большим трудом искать собственный стиль. Но благодаря именно им я понял, что такое стиль вообще.
А сколько других авторов открыл я для себя благодаря им! Если в тексте попадалась цитата, нужно было всенепременно выяснить, откуда именно она взялась. Только писателя Строгова я нигде не нашел, но сильно подозреваю, что Аркадий и Борис Натановичи зашифровали таким образом советского классика Георгия Мокеевича Маркова, у которого, как известно, есть роман «Строговы».
И первые претензии к Советской власти у меня возникли именно из-за того, что она прекратила одно время печатать Стругацких. Более существенные претензии появились позже.
Поэтому я охотно принял предложение участвовать в данном сборнике. Сначала собирался написать третью часть к «Понедельнику» и «Сказке», но потом подумал, что это было бы слишком легко и очевидно, вот и выбрал «Парня из преисподней», где, казалось бы, уже все точки расставлены. И попробовал поставить этого парня с ног на голову…
Змеиное молоко
Жаба хитра,
Но маленький хрущ с винтом
Много хитрей ее.
Барон Хираока1
…И поднимаю я несчастную свою башку, и гляжу, куда этот старый хрыч в стеклах показывает, а там — отцы-драконы — висит на рояльной струне Бойцовый Кот в полном боевом. Язык почти до пояса вывалился, а глаза уже шипучие мухи повыели.
Знать я его, конечно, не знал, лычки-то первого курса. Когда его к нам в Школу взяли, я уже вовсю геройствовал в устье Арихады. Но чтобы здесь, в столице, кто-то на Кота осмелился руку поднять…
— Сами видите, молодой человек — гражданское население озверело, ловит солдат и устраивает самосуд. Так что вы вместо мундирчика наденьте что-нибудь другое, или хотя бы этот халат сверху накиньте…
— Ну уж нет, господин военврач, — говорю. — Форму с меня только с мертвого снимут. Гуманисты хреновы, демократы… Правительство национального доверия… Котенка удавили и радуются…
— Давайте ящики разгружать, — суетится мой доктор.
— Сейчас, господин военврач. Не торопите меня, — говорю, — а то я сильно торопиться начну, и беда получится…
Шоферюга это дело услышал, лезет из кабины, а с ним драться все одно что с рядовым Драмбой, будь ты Бойцовый Кот, будь ты сам дракон Гугу. У него ряшка шире колесного колпака.
— Обождите, — говорю. — Люди вы или не люди?
Достаю нож, подпрыгиваю, одной рукой цепляюсь за козырек перед входом, другой перерезаю струну и успеваю подхватить удавленного Котенка. Нож ему при этом еще в бок вошел — прости, брат-храбрец, тебе нынче без разницы.
Отнес его на клумбу. Тяжелый он был, как все мертвяки. Но я там, у Корнея, здорово поправился. Наверное, у самого герцогского сыночка на столе такого не бывало, что я там ел… Только к чему это при покойнике вспоминать?
Таскали мы эти ящики, таскали — потом выхожу я на госпитальное крыльцо с лопатой, чтобы бедолагу этого зарыть. Божедомов, поди, теперь днем с огнем не сыщешь.
Земля мягкая. Да сколько я ее, земли этой, за войну перекидал! Наверное, куча получилась бы выше госпиталя.
Был я уже в этом госпитале. Меня там от дистрофии пользовали, а дистрофия, доложу я вам, это такая штука: пойдешь в сортир, а тебя отдача от струи на стенку швыряет.
Темнеет. Скоро звезды появятся. Солнце земное, поди, тоже выпялится, только мне его не различить среди прочих. Вот наше солнце я с Земли видел, Корней показывал. Звезда как звезда, не подумаешь, что родная…
Эх, звезда моя родная, столица дорогая, Айда-Алай, Сердце Алая… Что же с тобой сделали! В бухте танкеры горят, Холм Павших Ангелов, кажется, до основания снарядами снесли, Брагговка наша лихая, разбойная, тоже в огне, а герцогский дворец… Лучше не видеть сейчас его тому, кто раньше видел…
И, главное, кто все это натворил? Свои и натворили. Да возьми столицу крысоеды — и то, наверное, такого не было бы. Крысоеды здания и барахло берегут по причине жадности своей и лени, и если уж куда войдут, то назад ни за что не выйдут, так и останутся жить. Командир-крысоед скорее роту зря положит, чем хоть одно стеклышко разобьется. Да и чего ему людей жалеть, коли крысоедихи зараз по десятку рожают с преступной целью создать демографическое давление? Правда-правда, в «Боевом листке» писали. И не щелкопер какой-нибудь, а известный писатель Лягга, тот самый, что эпопею «Алайские зори» создал в священном творческом экстазе, живой останусь — надо будет прочитать, очень, говорят, душевная книжка…
Но недолго мне пришлось мечты мечтать — подкатывает к госпиталю машина, и не просто машина, а спецвегикул службы безопасности. Она вроде бронехода, только маленькая. И даже башенка на крыше вращается.
Понятное дело. Кто-то из госпитальной обслуги во имя идей мира и гуманизма звякнул и доложил, что, мол, живой Бойцовый Кот, кровавый наймит кровавого герцога, прикинулся санитаром, страшась сурового, но справедливого народного гнева.
Вылезают из машины двое. Их у нас яйцерезами зовут — сами понимаете, за эффективные методы следствия. Вот за ними, яйцерезами, никто не охотится, они всякой власти нужны, а если это и не кадровые яйцерезы, а их освобожденные подследственные — так еще хуже. Шинели черные, до каблуков, а вместо военных картузов — зеленые колпаки вроде тех, что инсургенты во время Первого Алайского Восстания носили. Традиции сохраняют, змеиное молоко!
Один похож на соленую рыбу, которую только что из банки вынули, а второй — на рыбу же, и тоже соленую, но в банке оставленную, отчего ей, костлявой, обидно.
— Ступай сюда, котяра, — кличет один. — Поговорить надо.
— Никак нет, господа, — отвечаю. — Прикомандирован к госпиталю, нахожусь в распоряжении боевого лекаря господина Магга…
Тут мой доктор, словно бы услышав, что о нем речь, из госпиталя выходит.
— В чем дело? — спрашивает. Голос у него негромкий, но убедительный. Меня же вот убедил грузовик из грязи выталкивать. Правда, убедил-то больше шоферюга, но все же…
— Эй, дедуля, — кличет второй яйцерез. — Топай сюда, руки из карманов вытащи…
Змеиное молоко! У моего старичка звание, приравненное к майорскому общевойсковому, а эти, небось, не выше сержанта. Но подходит старичок, и руки из карманов вынул.
— Документы ваши попрошу, — говорит врач. И даже руку протягивает.
— Слышь, документы ему! — обрадовался яйцерез.
А второй моего врача даже не ударил. Он просто снял с него очки, уронил и раздавил сапогом.
Ах ты ж, тварина пучеглазая, думаю. Дедуля мой сто раз под смертью ходил, пока вакцину эту вез, чтобы ты, гаденыш, от поноса не окочурился…
В общем, лопата моя в руках словно напополам порвалась: черенком одному в диафрагму, а штыком — второму в кадык. Только перестарался я маленько — забыл, как поправился на корнеевых харчах. Снес яйцерезу голову, словно легендарный Голубой Палач предателю-маркизу. Да и первый, надо полагать, не жилец.
Сзади шум какой-то слышу, грохот. Оглядываюсь — змеиное молоко! В спецмашине-то третий был, водила. Он уже, поди, башенку на меня успел развернуть, а в башенке-то крупнокалиберный пулемет-двадцатка, патроны у него величиной с мужской причиндал островного дикаря в боевом состоянии, и когда попадает такая штука в человека, мало хорошего от него остается…
Только не выстрелит уже водила-яйцерез, потому что лежит его спецвегикул на боку, и ствол пулеметный только зря асфальт ковыряет. А из-за машины выходит любезный мой шоферюга и руки от грязи отряхает. Все-таки недаром в авточасти берут этих ребят с южного побережья, да иначе и нельзя: дороги у нас сами знаете какие, в основном пердячим паром преодолевать приходится…
Подбегает господин военврач: как вы могли, как вы могли, это бесчеловечно… Молчи, дедуля, говорю, потому что водила там, у себя внутри, сейчас по рации со своими связывается, и скоро будет здесь яйцерезов столько, сколько ты в жизни микробов не видел в свой микроскоп. А спецвегикул машина серьезная, прочная, ее не всякая граната возьмет, да и нет у нас никакой гранаты, разве что шоферюга твой разломает яйцерезный экипаж голыми руками, как сват свадебный пирог.
Шоферюга же лучше придумал — заткнул выхлопную трубу ветошью, а яйцерез с перепугу мотора не заглушил и скоренько посинел весь.
— Уходить надо, господин военврач, — говорю. — Наверняка успел он своих вызвать.
Он, конечно, запротестовал — врачебный долг, Присяга Здоровья Нации, но шоферюга рявкнул: «Да что с ним разговаривать, зараз-за!», сгреб своего непосредственного начальника в охапку, побежал к своему грузовику и запихнул старичка в кабину.
Я тоже яйцерезов дожидаться не стал, пристроился третьим с краю, чтобы господин военврач, чего доброго, не выскочил свой долг выполнять. Шоферюга дал по газам, и полетели мы по выщербленному асфальту так, что любо-дорого. Только вот куда лететь-то, думаю, на всех дорогах блок-посты, нас и останавливать никто не будет, а влепят нам бронебойный снаряд в бок, и все дела.
— Рули, — говорю, — в Брагговку. Там сейчас все горит синим пламенем, но подвальчик какой ни на есть мы себе найдем.
Фонари в городе не горят — некогда господам гуманистам такими мелочами заниматься, надо господам гуманистам святую месть творить, пацанов в военной форме отлавливать…
А это у них поставлено на славу: вот уже и сирены завыли со всех концов, вот уже и тревога объявлена. На полном ходу пролетаем площадь Оскорбленной Невинности — там нам вслед кто-то стрелять начал, но несерьезно, из полицейского пистолета. Вот уже и Зеленый Театр, но только не зеленый он теперь, а черный, и тут бегству нашему приходит конец.
— Горючка вышла, — говорит шоферюга. — Как мы до госпиталя-то дотянули — ума не приложу.
— Нужно идти в городской магистрат, — оклемался наш костоправ, — все объяснить, организовать вакцинацию…
— Они вам, господин военврач, организуют, — отвечаю. — Они нас первым делом расстреляют, а вторым делом разбираться начнут, кого расстреляли и за что. Оружие гражданским в руки попало — страшное дело.
— Наверное, вы правы, — приуныл мой дедуля.
Вылезли мы из грузовика и огляделись. До Брагговки еще топать и топать. Развалин, чтобы отсидеться, поблизости нет, потому что и домов никаких здесь не было — парковая зона. Но деревья в основном зимой на растопку пустили, одни пеньки торчат. Яйцерезы надо всем городом осветительные ракеты вывешивают, будто такая уж я важная персона. Автомат мой самодельный водила еще когда в кусты выкинул. У господина военврача по уставу должен быть личный десятизарядный «фельдмаршал», но, боюсь, кобура у господина военврача набита слабительным да рвотным. Чтобы пациента, значит, с двух концов несло. Шоферюга, значит, будет яйцерезов по одному хватать, а я их таблетками пичкать стану для понижения боевого духа…
И слышу я какой-то шум в конце бывшей аллеи. Только собрался я врача с шоферюгой на землю положить и сам положиться, а уже поздно. Подлетает к нам длиннющий черный «ураган» — не иначе, в герцогском гараже конфискованный. Сирена не работает, и фары не горят. А я даже лопату свою смертоносную захватить не догадался.
Ладно, думаю, если они сразу стрельбу не откроют, одного-двух я с собой прихватить успею, да и шоферюга дуриком помирать не станет, не та порода…
Отъезжают дверцы вбок. Один человек сидит в «урагане». Зато какой. Я его раньше только на снимках в спецжурналах видел. Одноглазый Лис сидит за рулем, начальник контрразведки Его Алайского Высочества.
— Здорово, курсант, — говорит. — Как бы дождик нынче не собрался…
И после этих слов сознание мое покинул Бойцовый Кот Гаг, лихой курсант, парень хороший, но глуповатый, и снова я стал самим собой — полковником контрразведки Гигоном, наследным герцогом Алайским.
2
Доклад у меня был подробный и обстоятельный. Я чертил графики, составлял списки, рисовал схемы и карты. Время от времени Одноглазый Лис включал во мне Гага и расспрашивал о том, что Бойцовый Кот видел в доме Корнея Яшмаа, с кем встречался и каким разговорам был слушателем. Снова став полковником Гигоном, я слушал записи рассказов Гага и в который раз удивлялся, что у нас с ним совершенно разные голоса. Все-таки хороша эта система — двое в одном. Котяру, как видно, принимали за полного болвана (полным-то болваном он как раз не был), и обсуждали при нем совершенно серьезные вещи, смысл которых мог понять только полковник Гигон.
Вот господин Корней открывает Гагу глаза на скотскую сущность правящей алайской династии, вот он показывает ему донесения земных агентов… Многих из них мы уже засекли, но еще парочка имен не помешает. Брать нужно всех, всех до одного. Только их же и в Империи полным-полно, генерал, вот у меня и на Империю список, но как мы их там-то будем искать?
— Не беспокойтесь, ваше высочество, — сказал Одноглазый Лис и закурил вонючую самокрутку. — По проблеме вторжения мы давно и успешно сотрудничаем с имперской службой безопасности. Вам я этого, простите, не сообщал.
У меня перехватило горло. В то время как два государства несколько лет яростно терзали друг друга, их разведки, оказывается… Да еще без моего ведома… Я хотел тут же вызвать расстрельную команду, но передумал. И неизвестно еще, кому подчиняется нынче расстрельная команда. Поэтому я сказал только:
— Хорошо, господин генерал. И давайте так: до коронации я для вас никакое не высочество, а полковник Гигон, подчиненный вам по службе. Так нам обоим будет легче.
Действительно, стало легче. Мы перебрасывали друг другу через стол листочки с именами и приводили их в систему.
— Баругга, сержант военно-архивной службы, он же Семенков Густав Адольфович…
— Регистратор мэрии Гинга, он же Михельсон Карл Иванович…
— Госпожа Гион, супруга коменданта дворца — ого! — она же Ольга Сергеевна Кулько… Ну, эти у меня всегда под рукой.
— Полковник шифровальной службы Крэгг, он же Игорь Степанович Шелдон…
— Старший наставник школы Стервятников Генуг, он же Виктор Жанович Пшездецкий…
Много, много их было — тех, что именовали себя прогрессорами. Нам с генералом подали чай с бисквитами, мы поглощали пищу, не видя ее, и все раскладывали и раскладывали на огромном генеральском столе проклятые карточки. Все это были, судя по рассказам Гага и редким моим встречам в доме Корнея, прекрасные, превосходные люди, искренне желавшие добра несчастной Гиганде, проделавшие для достижения этого добра огромную работу, часто грязную, часто кровавую, часто неблагодарную и безмерно опасную — знай они, конечно, все до конца. Жаль было их, но…
Мне пришла вдруг в голову шальная, невозможная мысль.
— Ваше превосходительство, не располагает ли наше… вернее, наши ведомства сведениями о людях с кожей совершенно черного цвета?
Одноглазый Лис посмотрел на меня с изумлением, и даже, кажется, нашлепка на пустой глазнице вытаращилась.
— Черного? А почему не оранжевого? Впрочем…
Он щелкнул пальцами, и откуда-то ниоткуда возник его не имеющий ни лица, ни возраста референт. Генерал прошептал ему что-то на ухо, и, не успели мы разложить очередной десяток карточек, возник снова и доложил, что да, на главном острове Архипелага Тюрю в племени Бодрствующих В Ночи занимается отправлениями языческого культа некий Ауэо по прозвищу Черный Ведун, и ведун этот, по сведениям этнографов, черен, как совесть тирана.
— Этнографы, надо же, — хмыкнул генерал. — Я думал, они все в армии…
— Послать туда кого-нибудь можно? — спросил я.
— Не забывайте, полковник, что мы в подполье. Впрочем… Да те же этнографы. Они ведь у нас и о здоровье туземцев пекутся, да и не они даже, а Его Алайское Высочество…
— Нельзя его там оставлять, — сказал я. — Хоть один останется, такого натворит! Особенно этот, Вольдемар Мбонга. Он, генерал, знаете ли…
— Пока не знаю, — сказал Одноглазый Лис, заполняя карточку. — Возьмем в общем порядке.
Я вдруг представил себе, как Вольдемар Мбонга высаживается с «призрака» где-нибудь у нас в Смердящих Ключах, бредет по проселочной дороге и спрашивает у встреченной старухи, как пройти в столицу. И слышит в ответ: столица-то недалече, да только я, сынок, сколько лет в Алайском герцогстве живу, а негра ни разу не видела…
Потом нам подавали обед или ужин — окон-то в подземельях не бывает. И только тогда я решился задать свой вопрос.
— Ваше превосходительство, — сказал я. — Как погиб мой отец?
Одноглазый Лис вытер губы салфеткой, вздохнул и рассказал как. Он не опускал никаких подробностей, как и полагается разведчику. Он рассказывал не сыну, он информировал сотрудника. Монотонным голосом, как по бумажке. Называя все вещи своими именами либо медицинскими терминами. Рассказ получился долгим, как и агония герцога Алайского.
Я откинулся на спинку кресла и закрыл глаза. Мы никогда не были особенно близки с отцом — он занимался охотой, политикой и войной, не одобрял моего беспорядочного чтения и занятий живописью, запретил встречаться с молодой баронессой Трэгг, а когда запрет был нарушен, запихал меня в разведшколу и громовым своим голосом наказал Одноглазому в случае чего попросту меня расстрелять, за что господин генерал не только не понесет ответственности, но даже получит поощрение… А ежели юный герцог будет находиться в привилегированных по отношению к остальным курсантам условиях, то расстрелян будет как раз сам господин генерал…
— Так, — сказал я. — А мама?
— Герцогиня выжила, — ответил генерал, и, клянусь, глаз его увлажнился. — Но вам лучше ее не видеть. Во всяком случае — пока. Врач, которого вы притащили с собой — сущая находка…
Вот, значит, как. Господа прогрессоры, буде окажутся у меня на собеседовании, станут, конечно, отрицать всякую свою причастность к перевороту, либо заявят, они этого не хотели, это народ, доведенный до отчаяния столетиями голода, эксплуатации и войны, сам поднялся в порыве гнева и замучил своих мучителей. А они только собирали здесь информацию… Змеиное молоко, да кому на Земле нужна информация о Гиганде? Кому там так уж хочется знать об эпидемиях, штыковых атаках, спаленных селах и разрушенных городах? Десятку психов вроде Корнея? И лгут они, даже сами себе лгут, что не вмешиваются, не могут они не вмешиваться, натура у них такая… Ладно, когда это… как его… правительство национального доверия (или народного единства?) будет вздернуто на площади Оскорбленной Невинности, мы объявим народу, что спустились на Гиганду с неба, как писалось в пестрых книжках, которые серьезные люди и за книжки-то не считали, спустились с неба хитрые и злые завоеватели с целью поработить вольный народ Гиганды, либо поедать наших младенцев, либо проводить над нами бесчеловечные опыты, либо вывозить наши природные богатства, либо… ну да есть специалисты, придумают что-нибудь. Здесь нужна большая ложь, ибо правда слишком ужасна.
А мама всегда хотела видеть меня просвещенным государем вроде прадеда моего, герцога Иннга, покровителем искусств, она подсовывала мне старинные яркие альбомы, часто водила в дворцовую галерею и объясняла аллегорический смысл полотен Урагга и гравюр Гринга, летом мы обычно объезжали старинные замки, и у каждого замка была своя история, своя легенда…
— Полковник, ужин окончен, — напомнил Одноглазый Лис.
Значит, это был ужин. На мой вопрос, откуда здесь, под землей, появились такие обширные и удобные залы, кто и когда оборудовал здесь гаражи, мастерские, госпитали, кто накопил такое количество оружия и военной техники, генерал ответил, что начал всю эту затею его предшественник, Черный Гром, и держал все втайне даже от правящего дома, а потом тайну эту передал преемнику. «Приходилось и мне молчать, мальчик, — говорил Одноглазый Лис. — Боевая техника числится списанной или погибшей в бою, оружие и припасы… Ну, признайся я, что тут творится, сейчас же угодил бы под трибунал. Все до последнего патрона — фронту, говорил герцог, до последней банки тушенки…»
И прав оказался старый хитрец, потому что убежище Его Алайского Величества нынче было занято — правительство народного доверия (или национального единства?) скрывалось там сейчас то ли от народа, то ли от нации в целом. Я с большим удивлением узнал, что в правительство это вошел заместитель министра обороны, старший мажордом дворца, младший конюший, библиотекарь, какой-то солдат и двое заклепщиков с Бронемашинного. На кой дьявол там заклепщики, они ведь глухие, подумал я. Впрочем, если учесть, что старшего мажордома зовут Андрей Яшмаа. Андрей Корнеевич Яшмаа… До него добраться будет трудно. Но необходимо. До него — в первую очередь. Видимо, придется его просто убить, сразу и внезапно, без нашей медицинской комедии. Не поверит, да и не допустят к нему чужого врача наши же холуи… Так, ездил наш мажордом в отпуск? Наверняка да. А куда ездил? Разумеется, на Землю. А где жил на Земле? Ну, конечно же, у Корнея Яшмаа. Мог его Гаг там видеть? То есть наоборот, мог ли он видеть Гага? Корней меня, то есть Гага, всем показывал.
Видел, ответил Гаг Одноглазому Лису. Видел, ваше превосходительство, вот как вас сейчас. Он еще с папашей, господином Корнеем, то есть, пререкался. Чего, говорит, мать мучишь? В семье у них нелады, а чего, спрашивается, делить, когда на Земле всего навалом? С жиру бесятся, ваше…
Лис брезгливо заткнул Гага и стали мы думать, как подобраться к Андрею Корнеевичу.
— И все-таки он нам нужен живой, — сказал Лис. — Ведь Яшмаа, как я понял, курирует именно Гиганду?
— Будет он у нас, — сказал я. — Будет живой. Только поеду я сам.
— Ваше высочество, — сказал Лис. — Вы не имеете права рисковать…
— Полковник Гигон, — сказал я. — На задание поедет полковник Гигон. А если дело сорвется, то и герцог Алайский никому не понадобится.
3
Дорога в столицу оказалась неожиданно длинной — тогда, ночью, на черном «урагане» они доехали до убежища куда быстрее. Дождь кончился еще заполночь, асфальт просох, и только в неглубоких воронках поблескивала вода, а что творилось в глубоких, то там и творилось.
Выезд из убежища — герцог решил, что оно с полным правом носит название «Нариангга», что значит «лисья нора» — был замаскирован по всем правилам военного искусства и даже сверх того. За рулем санитарной машины — старенькой, побитой осколками, сидел Гугу — так герцог прозвал своего шофера. Гигон то и дело взглядывал на его перевязанную голову и ухмылялся — уж больно дерзкой и невыполнимой была вся затея. В фургоне санитарки сидели и лежали раненые, числом десять, и стоял в фургоне гнусный гангренозный запах, и бинты были все в крови.
— Не сунутся, — сказал Гугу. Руки его были в белых нитяных перчатках. — Сейчас все заразы опасаются, себя берегут. Кому охота войну пройти, уцелеть, а потом дристать, покуда мозги из задницы не полезут… Извините, ваше высочество.
— Опять высочество? — рявкнул герцог. — Нас с твоим высочеством первый же патруль повяжет, и сто раз прав будет, змеиное молоко! Угог меня зовут, санитар Угог, и сейчас не я твой начальник, а ты мой!
Он снова играл роль Бойцового Кота, но на этот раз сам — ведь кодовое слово было известно только Одноглазому, а с тем мало ли что может случиться за это время? Все-таки человек в возрасте, битый, многажды раненый… Так что ж, потом до конца жизни в Бойцовых Котах ходить? Да и недолго эту роль играть, но играть уж придется на совесть…
— Не возьму в толк, котяра, — сказал Гугу, выполняя приказ герцога, — как мы эту войну проиграли.
— Тебе виднее, — сказал герцог. — Меня здесь не было, я по лазаретам валялся, по санаториям отдыхал.
— Сводки, главное дело, благоприятные, — продолжал шофер. — Ну, сводкам-то у нас мало кто верит, но вот и ребята, которых с передовой к нам направляли, тоже рассказывали, что, мол, перешли в контрнаступление, выбили крысоедов из Красных Мельниц, загнали в леса и там всех пожгли. Говорят, генерала Дрыггу из штрафного лагеря освободили, вот он все это и возглавил. И десантная бригада с Архипелага самовольно прибыла — не хотим, говорят, синежопых сторожить, когда отцы-матери в опасности. Старый герцог собирался было каждого десятого расстрелять за нарушение Устава, но потом только рукой махнул и приказал выдать по бутылке на рыло из своих погребов. На аэродроме тогда еще одна целая полоса оставалась — вот они и полетели. Спустились крысоедам в тыл, разгромили авиабазу, еще чего-то там… В общем, все ходят как именинники, мечтают о вступлении в Каргон — и тут на тебе! Говорит радиостанция военно-революционного комитета! Династия низложена, кровавый герцог… — он покосился на полковника Гигона, — ну, в общем, низложена династия.
— И все согласились? Я имею в виду там, на фронте?
— Так у крысоедов-то то же самое получилось! Они фронт открыли, а идти в Каргон уже ни горючки нет, ни машин, а главное — сил уже нет, воевать-то не за кого. Генерал Дрыггу застрелился — я, говорит, за какую-то другую страну воевал. Ну, а как врага не стало, тут старые счеты начались, начали потихоньку офицерам грубить, а потом и резать. Тут еще городские в войсках крутятся, подначивают — повернуть оружие, стало быть, против своих же угнетателей. Эх, если бы крысоеды не подвели, мы бы до сих пор победоносно воевали!
— Нравится воевать, что ли? Ты же санитар.
— Молчи, котяра! Знаешь, сколько я вашего брата на спине перетаскал? Может, дивизию, может, больше.
— Молчу, — поспешно сказал герцог. — Откуда же городские взялись?
— Городские-то? То ли не знаешь — из города. Как это у них называется… Союз борьбы какой-то. Кого-то с кем-то. Не зря у нас в деревне городских все время бьют. Даже сборщиков налогов все время били. Налог платили, а сборщиков били… Им, которые к нам в деревню приезжали, начальство даже приплачивало за риск… Про это особая сказка-легенда есть, будто бы при вашем… то есть молодого герцога прадеде это все началось. Сборщики вернутся в город — жалуются. Ну, пришлют карателей, перепорют всю деревню, а на следующий год — та же история. Надоело это старому герцогу Инггу, сам пожаловал. Что вы, сукины дети, говорит, моих слуг обижаете? Я ведь спалю ваши дома, вот уж попляшете! И выходит к нему тогдашний староста и говорит так жалобно: «Ваше Алайское Высочество, ну не любим мы городских!». Тогда обнял его старый герцог и говорит, что, мол, алайским крестьянином крепка земля наша, бейте их сколько влезет, только подати в срок платите…
— А с какой радости их слушать-то стали? — спросил Гигон, пропустив мимо сознания всю эту в высшей степени занимательную историю.
— А кого больше слушать? Небось из ваших-то никто не приехал, — шофер осекся.
— Некому было приезжать, — сказал герцог. — Они тут власть делили.
— Вот пакость, — сказал шофер. — Ты смотри — весь бетон снесли, как же мы поедем? И когда успели, кому теперь бомбить?
Действительно, впереди вместо пусть плохого, выбитого и раскрошенного бетона, тянулась полоса грязи, в которой утонул даже гравий подушки. На первых же метрах машина взревела, основательно, до ступицы, зарывшись в жидкую дорогу.
Герцог покорно взялся за ручку дверцы, но Гугу взревел:
— Сиди, зараза, без тебя обойдемся, бери баранку — весу-то в тебе против моего…
И сам вылез и заорал:
— Эй, покойнички, вылезай — в землю ложиться будем!
Было слышно, как в фургоне завозились легко и тяжелораненые. Кряхтя и стеная, они с удивительной легкостью и проворством вытолкнули грузовик, начали таскать с обочин бревна, камни, обломки бетона и подкладывать их под колеса. Герцог только головой мотал да успевал выруливать, куда надо.
Солнце поднялось уже довольно высоко. По обе стороны дороги тянулся лес, и все верхушки у всех деревьев были срезаны на одной высоте, словно гигантская бритва просвистела в воздухе. Герцог попробовал прикинуть, что же за боевые действия тут велись — и не определил. Зато определил, что впереди белеет какое-то строение.
— Гугу, — перекрывая рев мотора сказал он. — Кажется, блок-пост впереди…
— Зараза, — сказал шофер. — Снова в одиночку придется… Эй, покойнички, давайте-ка назад в гробик!
Раненые охотно полезли в фургон, отчего машина основательно осела.
Так, под рев мотора и Гугу, они кое-как добрались до вагончика, крашеного белым, и долго еще ждали, когда оттуда соизволит выйти какое-нибудь начальство.
— Они, падлы, дорогу и разорили — чтобы к ним на скорости не подскочили да не перестреляли, — сказал Гугу. Бинты на его голове были густо заляпаны грязью, да и перчатки на руках уже не были белыми.
— Ну и глупо, — сказал герцог. — Мы бы уже сто раз их обошли и тепленькими взяли.
— Стратег, — уважительно сказал Гугу. — Прямо маршал Нагон-Гиг.
Из вагончика вальяжно, почесывая все места, вышел человек в солдатской форме, типичный дикобраз. Размерами дикобраз не уступал шоферу, но весь был какой-то рыхлый, белесый и вроде даже бы заплесневелый. Плесенью от него и несло.
— Бумаги давай! — потребовал он.
— Зачем тебе бумаги? Ты же неграмотный, — сказал герцог, но бумаги подал. Дикобраз сделал грамотное лицо и долго изучал документ, шевеля губами.
— Что в фургоне? Оружие? Наркотики? Бабы?
— Бабы, бабы, — сказал герцог. — Иди потрахайся.
Дикобраз обошел машину, лязгнул дверцей фургона и вернулся на удивление быстро.
— Да вы с ума сошли! Вы же их не довезете! Лучше давайте их здесь пристрелим, чтобы не мучились…
— Добрый какой, — сказал Гугу. — А разве у вас в столице не знают, что доктор Магга придумал лекарство от всех болезней?
— От всех? — не поверил дикобраз.
— От всех, — подтвердил Гугу. — Кроме дурости твоей.
— Змеиное молоко! А сам-то ты кто такой? Морду замотал, чтобы беглого аристократа не узнали?
Гугу заревел еще сильнее того, как ревел, выталкивая машину. Он ревел о том, как трижды горел в бронеходе в то время как господа дикобразы отсиживались в окопах, о нравственном облике господ дикобразов, о некоторых особенностях интимной жизни господ дикобразов, о поведении жен господ дикобразов во время войны, о благороднейшем происхождении детей господ дикобразов, о том, как господа дикобразы…
— Ой, хорошо… — сказал заслушавшийся дикобраз. — Штатскому человеку и не понять, как хорошо. Да, аристократы так не могут, один генерал Дрыгга мог, за это они его и извели, сволочи…
В это время дверь вагончика снова распахнулась, оттуда показалась качающаяся фигура в черной шинели и зеленом колпаке.
— Ох, яйцерез мой оклемался, — с испугом сказал дикобраз. — Ко мне яйцереза приставили для верности, вот я его и пою всю дорогу, чтобы не донес… У вас выпить есть? Не себе прошу, вам же лучше…
Герцог с сожалением достал из бардачка фляжку и протянул дикобразу.
— Есть, есть у них! — радостно заорал дикобраз в сторону вагончика. И добавил негромко: — Вы проезжайте быстрей от греха, а то он тут с похмелья у меня человек пять расстрелял…
Гугу не надо было долго уговаривать.
— А чего мы его не убили-то? — с удивлением спросил он, когда блок-пост остался позади.
— Мы же не яйцерезы, — сказал герцог.
— Яйцерезы, не яйцерезы, а только они у меня, когда порядок наводить станем, эту дорожку будут языками вылизывать.
— А ты веришь, что станем порядок наводить? — спросил герцог.
— Возил бы я тебя иначе, котяра! — ответил Гугу и сунул в рот дорогую сигарету из личных запасов герцога Алайского.
Скоро внизу, в долине, показалась и столица. Дым стелился над ней, дым от многочисленных пожаров, и не все из них мог погасить дождь. Серая ладонь дыма принакрыла развалины герцогского дворца, громаду торгового центра, сгоревшие сады, шестигранник министерства обороны, взорванный мост через Иди-Алай, исторический музей, построенный безумным архитектором в виде древней усыпальницы, стадион боевых искусств на триста тысяч зрителей, старинный театр, который по привычке именовали Императорским, заводской район, откуда в основном и поднимались клубы дыма, и страшно было даже представить, что может гореть, скажем, на фабрике синтетического топлива, поскольку компоненты были сплошь токсичные — а надо всем этим торчал из дымного покрывала согнутый гвоздь Радиобашни.
Они проехали последний рубеж обороны — рубеж, который так и не понадобился, зато кому-то очень понадобилось привести его в полную негодность. Тут и там валялись сорванные взрывом боезапаса башни врытых в землю бронеходов, колпаки дотов, изготовленные из армированного бетона, были расколоты ударами чудовищной силы, словно вышел из моря пацифист ростом до неба и принялся приводить в исполнение свою давнюю мечту.
Может, это и к лучшему, подумал герцог, по крайней мере, въезд свободен, если только, конечно, наши далекие друзья не привезли сюда что-нибудь посерьезнее… Хотя не должны бы, это против их принципов.
На блок-постах их останавливали еще дважды, но в первый раз Гугу снова провел словесную артподготовку, и помогло, а во второй раз бородатый яйцерез, вполне грамотный, стал очень пристально приглядываться к герцогу, но тут один из раненых в фургоне издал столь жалобный предсмертный вопль, что проняло даже яйцереза.
Они доехали до условленного места. Гугу загнал машину во двор. Похоже, что жильцы покинули этот район, и понятно — район был аристократический, престижный. Все тут уже на десять рядов разграбили, а чего утащить не смогли — расколотили. Посреди двора стояла бывшая скульптура Морской Девы работы самого Тругга. От скульптуры остались одни ласты на постаменте. Герцог бывал раньше в этом доме.
Их встретил бывший капрал дворцовой стражи, немолодой и небритый мужик с подбитым глазом. Герцога он, конечно, узнал, несмотря на стриженую голову и грязно-зеленый халат санитара, но виду не подал, потому что виду подавать было нельзя, только вздохнул глубоко и выкатил из-за угла мотоцикл «Прыгунчик», некогда принадлежавший хозяйскому сыну. Герцог и мотоцикл узнал. Не новый, но шикарный, со всеми хромированными причиндалами и очень мощный. Как раз на таких сейчас и катались оборванцы.
— Располагайтесь, — сказал герцог шоферу, и тот выпустил истосковавшуюся раненую братию из фургона. Братия выстроилась в шеренгу по росту, хотя рост у всех был примерно один, соответствующий стандарту личной гвардии герцогов Алайских. — Ждите меня до вечера. Если не вернусь… — он подумал и продолжил: — Значит, не вернусь. Тогда капрал выводит вас из города по своему усмотрению.
Он еще раз осмотрел Гугу, оценил свою работу. Издали сойдет. Да и вблизи сойдет, ведь времени присматриваться не будет. Не должно быть.
По городу бродили какие-то самодельные патрули, иногда со страху стреляли по окнам, в которых им чудились снайперы старого режима. На Цветном кольце его остановил патруль настоящий — двое полицейских и яйцерез на спецмашине.
— Угог, — прочитал в герцоговом документе яйцерез. — Это где ж такие имена дают — Угог? В карательных отрядах, наверное?
— В школе младших лекарей, — спокойно ответил полковник Гигон. — Тут же написано.
— Ты погляди! — всплеснул руками яйцерез. Он был, точно, не кадровый, а сидел всю жизнь в какой-нибудь пивнухе да ждал, не поставит ли добрый человек кружечку. — Кого ни возьми — то санитар, то дворник, то парикмахер. Только защитников кровавого режима не сыщешь. Поедем-ка в участок, там разберемся…
Видно было, что полицейским, как и дикобразу, стыдно водиться с подобным типом — полицейские не попали на фронт по причине преклонных лет.
— Вы же видите — это донесение от самого доктора Магга самому вице-премьеру, — терпеливо объяснял герцог. — Рапорт об эпидемической обстановке, господин… эээ…
— Господ нынче нет! — похвалился яйцерез. — Само слово это отменено…
— Как же друг к другу обращаться? — не выдержал, спросил герцог. Яйцерез глубоко задумался.
— Ну, не знаю, — объявил он. — Будем, наверное, говорить «мужчина», «женщина» и так далее… Как прикажут, так и будем обращаться! — внезапно побагровел он. — Слезай с мотоцикла, марш в машину!
— Мужчина Тигга, — обратился к нему один из полицейских. — Ну-ка этих санитаров куда подальше. Мало ли чего он у себя в больничке нахватался? Тут, на вольном воздухе, бацилл обдувает, но в замкнутом пространстве кабины…
Яйцерез внезапно побледнел — то ли от ученых слов, то ли от чего другого. Он зажал нос пальцами, вернул герцогу документы, стал яростно плевать на ладони и как бы мыть их слюнями. Усатый полицейский подмигнул герцогу и рявкнул:
— Чего встал, клистирная трубка? Пробку на дороге создать хочешь? Проезжай!
Что характерно, на «клистирную трубку» его высочество нисколько не обиделся.
Жители в основном сидели по домам — у кого были дома, а бродили по улицам, кроме патрулей, какие-то подозрительные пьяные компании с узлами. Иногда такая компания мчалась в роскошном открытом автомобиле — патрули стреляли вслед, но больше для острастки. Да, настоящих солдат здесь вешали, а грабителям жилось привольно…
Вот, мстительно думал герцог Гигон, получайте, чего хотели. Вы полагали, что добрые алайцы, скинув ненавистный гнет, немедля приступят к изучению наук и изощрению искусств. Но куда же господин Яшмаа-младший смотрит? И вообще, если вы прогрессоры — так прогрессируйте, змеиное молоко! Чего вы ждете? Пока мы все тут друг друга перегрызем или передохнем от заразы?
Он промчался мимо Императорского театра — теперь в нем заседало Народное Собрание, то есть вполне любительская труппа. Краем глаза он успел заметить, что над венчающей театр башенкой развевается флаг, оскорбляющий своей расцветкой даже самый невзыскательный вкус.
Да, подумал герцог, хорошо, что у них больше нет этого… Сикорски. Тот бы наверняка выкурил Лиса из его норы и взял в заместители. На пару они бы почистили столицу не хуже ночных водометных машин. Гигон вспомнил холодный взгляд на стереоснимке в доме Корнея и содрогнулся. И сразу же подумал о Данге — как он там один, продержится ли, выполнит ли задуманное или придется блефовать?
Если не прилетит Каммерер, говорил Данг, если мне удастся отвлечь Каммерера на себя, то план вполне выполним. Выполним даже теперь, после переворота.
Герцог проезжал примерно в том же месте, где всю их компанию подобрал черный «ураган». За парковой зоной начиналась зона охраняемая, бункер номер один, убежище для августейшей семьи и ее окружения.
Ему и в детстве не нравилось это место.
4
На главной площади Арканара стоит памятник, отлитый из превосходной ируканской бронзы. Памятник изображает человека в длиннополой одежде и с мудрым, добрым, всепонимающим лицом. Голова человека при этом располагается отнюдь не на плечах, а держит он ее, как военную фуражку, на сгибе локтя левой руки, правой рукою благословляя прогуливающихся по площади горожан в ярких праздничных одеждах. Правой же ногой мужчина попирает омерзительного уродца с двумя мечами в коротких лапках и гипертрофированными гениталиями, что является верным признаком нечистого.
Изображает памятник невинноубиенного Рэбу-мученика, а попираемый представляет собой проклятой памяти дона Румату Эсторского, чьи преступления возмутили даже обитателей изрыгнувшей его преисподней, каковые обитатели были вынуждены утащить своего зарвавшегося собрата обратно во тьму. По традиции в день свадьбы к памятнику приходят молодожены — попросить у святого мученика побольше детишек и поплевать на уродца.
Стереофотография, изображавшая площадь с памятником, висела в кабинете председателя КОМКОН-1 Жан-Клода Володарского с целью напомнить посещавшим кабинет Прогрессорам о неблагодарности их работы. Сам Жан-Клод Володарский, разместив свои сто двадцать килограммов в покойном кресле и распушив усы, был исполнен тихого, спокойного, но стойкого негодования.
— Не кажется ли вам, уважаемый друг Каммерер, что ваше ведомство начинает брать на себя несвойственные ему функции?
Максим глядел на экран сонными, ничего не понимающими глазами. Со времен Большого Откровения никаких чрезвычайных происшествий практически не было, а была такая уж лютая рутина, что впору самим устраивать заговоры и разоблачать их по мере возможности. Максиму уже не раз случалось засыпать прямо за рабочим столом, что вызывало к жизни среди младших сотрудников массу шуток самого дурного пошиба.
— Не кажется, дорогой Жан-Клод, — сказал он наконец. — Хотелось бы мне, разнообразия ради, хоть немного пофункционировать, но увы…
— Я уже обращался в центр БВИ, — сказал Жан-Клод. — Они отсылают к вам, поскольку закрывать и секретить можете только вы.
— Ему же дана власть связывать и развязывать, — меланхолично пробормотал Максим. — Ну что там у вас?
— Как будто не знаете? — усы Жан-Клода поднялись вверх и по ним, кажется, даже побежали небольшие синие искры. — На БВИ закрыт доступ к информации по Гиганде. Ко всей информации — понимаете?
— Понимаю, — сказал Максим, ничего не понимая.
С первых дней появления самого института Прогрессоров их деятельность всегда была на виду и под контролем. Дети в интернатах играли в рейд барона Пампы по ируканским тылам, женщины обсуждали очередные наряды прекрасной герцогини Соанской, мужчины толковали о том, как можно поразить прославленного фехтовальщика при Эсторском дворе, дона Мао, левым мечом на четвертом выпаде. Прогрессорство было в моде. Потом барон Пампа умер от старости в своем родовом замке Бау, герцогиню Соанскую перестали спасать от полноты все портновские ухищрения, а несравненного дона Мао без всяких выпадов зарезал в гнусном трактире какой-то удачливый оборванец. Прогрессорство стало таким же привычным делом, как выпас китовых стад.
Потом какому-то умнику в Совете пришло в голову засекретить Прогрессорство в принципе. На всякий случай. По крайней мере, Каммерер, просматривая протоколы тех лет, никаких серьезных резонов не нашел, но врачи и учителя, всегда представленные в Совете подавляющим большинством, запрет охотно наложили по причине своей традиционной консервативности. В результате на Саракше явился совершенно непредсказуемый Мак Сим, принялся активно сокрушать челюсти и башни противобаллистической защиты. А в Совете явился совершенно разъяренный Сикорски, и все вернулось к обычному порядку. С тех пор никаких попыток в этом роде не предпринималось, и вся информация снова стала общедоступной — за исключением случаев, касающихся тайны личности. Некоторым Прогрессорам не хотелось, чтобы окружающие знали об их профессии. Но фронтовые сводки с Гиганды, схему миграции племен на Сауле или что-нибудь в этом роде мог получить любой школьник — с разрешения Учителя, разумеется.
— Она что, пароль требует? — спросил Максим, чтобы спросить хоть что-нибудь.
— Да какой пароль! — махнул толстой лапой Володарский.
— Есть у нас темы и под паролем, чисто служебные, но дело не в этом. БВИ ведет себя так, будто никакой Гиганды не существует в принципе.
— Добро, — сказал Максим. — Сейчас разберусь. Будь на связи.
Он отключил экран и только сейчас позволил себе облиться холодным потом. Вмешаться в деятельность БВИ было невозможно по определению — система сама себя контролировала, ремонтировала и профилактировала. Он существовала вместе с человечеством, но и отдельно от него. Это был верный, надежный, неподкупный и всеведущий секретарь каждого обитателя Земли. Нет, явно этот толстый дьявол (Максим с сожалением подумал о собственных лишних килограммах) что-то перепутал и запаниковал.
Он развернул кресло к пульту БВИ и набрал: «ГИГАНДА».
«Сейчас, — думал он. — Сейчас я тебя, паникера, распоряжусь поставить к ближайшей стенке. Чтобы служба медом не казалась…»
На экране БВИ возникло: «СВЕДЕНИЙ НЕТ».
Тут Максим вспомнил, что Гиганда — это самоназвание, а первооткрыватель зарегистрировал ее как Ареойю.
БВИ ответила, что таки да, есть планета с таким названием в системе звезды ЕН 01175, да вот беда — не водится на этой планете ничего живого, кроме трех видов лишайников.
Фальсификация — это было уже серьезно. Никто из землян, включая обслуживающий персонал БВИ, не мог войти в систему настолько глубоко, чтобы заменить одни сведения другими.
Максим почесал в затылке и вызвал раздел «ПРОГРЕССОРСТВО».
Явилось прогрессорство во всей силе и славе своей, и значились охваченными этой высшей мерой любви и гуманизма и Арканар, и Надежда, и Саракш, и Саула, и даже Ковчег с его одиноким жителем, но Гиганды не было. Не было планеты, на единственном обитаемом континенте которой шла бесконечная, затяжная война, планеты, в которую Прогрессоры вбухали чертову уйму труда, средств, своих жизней, наконец, не было такой планеты, не было, не было…
Максим откинулся на спинку кресла, досчитал до ста, потом осторожно, одним пальцем, набрал: «МАРШАЛ НАГОН-ГИГ».
Эта личность давно и прочно вошла в историю военного искусства, поскольку рядом с маршалом довольно бледно выглядели и Чингисхан, и Наполеон, и даже Жуков Георгий Константинович мог бы служить у господина маршала в лучшем случае ординарцем — настолько Нагон-Гиг превосходил их в мастерстве, расчете и жестокости. За пятнадцать лет его маршальства крошечное мятежное Алайское герцогство за счет империи Каргон вдесятеро увеличило свою территорию, каждый раз несокрушимо укрепляя рубежи. У имперцев появилось уже примитивное огнестрельное оружие, но маршала это нисколько не смущало, он велел ковать двойные кирасы и пер себе вперед, вешая имперских полководцев и милостиво обласкивая наиболее мужественных солдат противника. Разведка у маршала была поставлена превосходно, провианта всегда имелось в достатке, боевой дух дивизий постоянно поддерживался знаменитыми военными оркестрами, исполнявшими марши, ставшие популярными даже на Земле по причине высочайшей музыкальной культуры, и, если бы тогдашний Алайский герцог, возревновавший к воинской славе Нагон-Гига, не отравил его на очередном победном пиру, то от империи Каргон осталось бы одно воспоминание. Если проводить земные аналогии, маршал являл собой нечто среднее между Валленштейном и Суворовым, причем с Александром Васильевичем его роднила страсть к военным афоризмам, многие из которых были взяты на вооружение Прогрессорами.
Несмотря на все это, на экране появилось: «СВЕДЕНИЙ НЕТ».
— Ничего, — сказал Максим и через силу улыбнулся. — Перегрузилась наша системочка, устала она обслуживать обленившееся человечество… Сейчас она отдохнет, системочка наша, и перестанет наша системочка валятеньки дурачочка…
Поворковав таким образом несколько минут, Каммерер дрожащими руками вызвал раздел «МАРШАЛЫ», но и там не обрел вожделенного Нагон-Гига. В течение какого-то времени он тупо изучал боевую биографию Ким Ир Сена, после чего набросился на клавиатуру и принялся набирать все известные ему персоналии Гиганды, равно как и топонимы, гидронимы и прочее.
БВИ на все отвечала: «СВЕДЕНИЙ НЕТ».
«ГЕРЦОГ АЛАЙСКИЙ», — в очередной раз набрал Максим.
Вместо сакраментального отказа на экране появилась кровавая растопыренная пятерня в кругу, по кругу же шла надпись корявыми буквами: «ОТОЙДИ, СМЕРД!».
Это были фамильный герб и девиз герцогов Алайских.
5
Убежище именовалось нынче «Штаб-квартирой Союза борьбы за освобождение Алая», и проникнуть в него было не легче, чем в прежние времена. Герцог охрип, доказывая, что должен вручить рапорт самому господину вице-премьеру, поскольку у него, младшего лекаря Угога, есть для господина вице-премьера еще устное сообщение, ни для чьих других ушей не предназначенное. Его несколько раз обыскали самым грубым образом, но обыскивали столь неумело, что он даже пожалел об оставленном пистолете. Потом, наконец, смилостивились и отвели в дезинфекционную камеру и долго там поливали почему-то жидкостью для уничтожения лобковых вшей — очевидно, она была тут у них единственным средством, сохранившимся в изобилии.
— Только к господину старшему мажордому… виноват, вице-премьеру, тебя все равно не пропустят, — предупредил канцелярист. — Он и так ночей не спит, почернел весь…
Герцог подумал, что «старший мажордом» по-алайски звучит вполне грамотно, а по-русски тавтология получается.
Размахивая с таким трудом полученным пропуском, герцог шагал вдоль неимоверно длинного коридора, выкрашенного в унылый зеленый цвет. Его обгоняли и мчались навстречу ему на велосипедах многочисленные курьеры и посыльные, но все равно было понятно, что ни одно донесение, ни один приказ не поступят по месту назначения в срок. Возле всех дверей стояли часовые, стараясь соблюдать какое-то отвратительное подобие строевой выправки.
«Однако, я опаздываю» — подумал полковник Гигон, взглянув на вмурованные в стену часы, но сразу понял, что часы остановились — и надолго.
У нужной ему двери стоял тощий мальчонка. На нем как на вешалке болтался парадный мундир старшего бронемастера со споротыми нашивками, а вместо автомата поперек груди висела дедовская винтовка.
— Как стоишь? — рявкнул герцог. — Кто так службу несет? Ты конюшню охраняешь или слугу народа?
Конюшни у герцогов Алайских охранялись не в пример лучше.
— Виноват, — сказал часовой и попробовал подтянуться. — Виноват, господин… э-э-э… — он безуспешно пытался определить чин и звание стриженного парня в каком-то подозрительном халате.
— Командир медицинского отряда Угог, — подсказал герцог, сильно повысив себя в чине. — Ступай и доложи — по делу, не могущему иметь отлагательств. Специальный доклад департамента народного здоровья при подкомитете тотальной вакцинации…
Он подумал, что во времена смут и потрясений хорошо подвешенный язык значит куда больше, чем самый изобильный печатями документ. Мальчонка открыл дверь и вошел, но почти тут же вылетел под настоятельным воздействием пинка, а в двери показался очень важный и очень довольный собой господин в хорошем костюме и с явной военной выправкой. Господин очень старался выглядеть старше своих лет.
— Что это за скотина тут смеет… — начал он и осекся. Герцог внимательно глядел ему в лицо и холодел.
— Гаг? — шепотом спросил господин.
Герцог кивнул.
— Тебя же убили, — так же шепотом сказал господин.
— А ты меня хоронил? — ухмыльнулся герцог. От сердца отлегло. Нарвался он не на внимательного придворного, а на Бойцового Кота, сослуживца Гага, наверняка, судя по ряшке, капрала.
— Хорошо устроился, капрал, — сказал он. — Непыльно устроился… Референт, небось?
Капрал-референт втянул его в прихожую.
— Вот как кликну часовых… — неуверенно сказал капрал. — Ты разве не знаешь, что Бойцовые Коты теперь вне закона?
— Кликни, отчего не кликнуть, — сказал герцог. — Эть, змеиное молоко! Я, значит, Бойцовый Кот, а ты у нас, значит, Порхающая Принцесса.
— За меня поручились, — сказал капрал-референт. — Я чист перед народом…
— Это ты-то чист? А кто крестьян-дезертиров в Буром Логу…
— Тише! — прошипел референт. — Молчи, брат-храбрец. Я тебя не видел, ты меня не видел…
— Нет уж, — сказал герцог, закипая гневом Гага. — Это я чист — которую неделю искупаю вину перед народом в санитарной службе, людей спасаю, змеиное молоко! А ты тут на усиленном пайке отсидеться думаешь? Нет уж, у нас на фронте все пополам было, и здесь должно быть все пополам!
— Все-таки зря тебя не убили, — пожаловался капрал-референт. — Сволочь ты, Гаг! Всех ребят убили, и господина старшего наставника Диггу убили, — он неожиданно шмыгнул носом, — а ты все живой!
— Пожалуй, я сяду, — сказал герцог и действительно оседлал стул задом наперед.
— Уходи, всем святым прошу, — заныл капрал-референт. — Меня погубишь, мать погубишь… Я тут подженился еще, квартирку хорошую заняли, раньше там господин управляющий парком жили… Уходи, а работу я тебе найду, хорошую работу, может, даже телохранителем устрою…
— Пожалуй, я и закурю, — герцог достал из кармана халата обрывок газеты и кисет.
— Только не это! — шепотом завопил капрал. — Господин вице-премьер сами не курят и другим не велят, и чтобы в их присутствии… Отцы-драконы! Да у тебя и газетка старорежимная, за ее хранение теперь знаешь что полагается?
— Успокойся, брат-храбрец, — сказал герцог. — Представь, что лежим мы с тобой в окопчике, над нами крысоедовские бомбовозы второй заход делают — и сразу успокоишься…
— Да? И, между прочим, крысоедами ругаться теперь тоже запрещено. Крысоеды нынче эти… ну… братский народ Каргона, вот!
— Слушай меня внимательно, дурак, — сказал герцог, но курительные принадлежности все-таки спрятал. — Слушай внимательно. У меня для господина вице-премьера донесение, да такое, что ежели я его не доставлю, не сносить мне головы. И тебе не сносить головы, ежели ты меня до него не допустишь. А если доложишь, то может нам обоим выйти награда и крупное повышение… Вот и соображай.
— Все равно без доклада нельзя, — заныл капрал-референт. — А как я про тебя доложу? Санитаришка пришел, весь в дерьме?
— Скажешь — пришел человек, принес известие от Вольдемара. Запомнил? От Вольдемара, мол, срочное сообщение.
— От Вольдемара… — капрал помотал головой. — Что это за слово такое — вольдемара? Наркота какая-нибудь новая?
— Не твоего ума дело, — сказал полковник Гигон. — Двигай быстрее. А то закурю! — угрожающе добавил он.
Референт скрылся за металлической дверью. Старший мажордом вступил в свою должность сравнительно недавно, по рекомендации предшественника, не имевшего наследников по мужской линии. Видеть молодого герцога Алайского он мог только на портретах, поскольку молодой герцог в то время уже вовсю отрабатывал свою легенду в качестве курсанта школы Бойцовых Котов. А вот Гага он, конечно, запомнил…
— Господин Андрей! — герцог рванулся навстречу вышедшему, даже стул уронил. — Господин Андрей, большая беда! — как бы от волнения он заговорил по-русски.
Вице-премьер в полувоенной форме, высокий, светловолосый и очень похожий на отца, глядел на него с нескрываемым удивлением. Потом все понял, и, схватив за рукав халата, ввел герцога в кабинет.
— Ты с ума сошел, Бойцовый Кот! — сказал он. — Нет, все-таки отец зря с тобой нянчился. Ты что, не знаешь, что должен помалкивать?
— Вовсе я не должен помалкивать, господин Андрей, — с достоинством парировал герцог. — Подписки я вам никакой, между прочим, не давал. И господин Корней говорил, когда меня… э-э… провожал: болтай, мол, чего хочешь, мало ли в войну людей спятило?
— С вами спятишь, — сказал Андрей Яшмаа, сел за свой роскошный стол и обхватил голову руками. — Что у тебя за беда? Нынче у всех беда.
— Господин Андрей, — герцог говорил быстро, захлебываясь — так всегда выглядит убедительнее, — докладываю: вчера с Архипелага прилетел гидроплан. Синекожие восстали, порезали персонал метеостанции. Вот на гидроплане раненых и привезли. А среди них — господин Вольдемар, весь такой, я извиняюсь, черненький… Да что я, господина Вольдемара не помню, как он меня в спортзале швырял? Наши говорят, он туземцев удержать пытался, вот они его и… того. Он очень плох был, повезли мы его в госпиталь, а там не принимают, говорят, почернел уже весь, велели сжечь, не распространять… Ну, чуть не сгребли нас с ним заодно, только я ведь по себе знаю, что ваша медицина мертвого подымет… Я его завез в одно тайное место, он там чуть в себя пришел, узнал меня и велел мне прямо к вам… Какая-то информация у него — вопрос жизни и смерти, говорит.
— Ничего не понимаю, — сказал вице-премьер. — У него же аварийный передатчик вмонтирован в…
— Может, чего и вмонтировано было, — сказал полковник Гигон, — а только били его так… На совесть били, руки, ноги — как студень. На обезболивающем его держу, да какое у нас обезболивающее… Сука ты штатская! — завопил он вдруг, имитируя солдатскую истерику. — Друг у тебя подыхает, а ты в кабинетике! Или, может, у вас черных за людей не считают, как у нас синежопых? Так и скажи, я пойду и дострелю его, я уже смотреть не могу, как он там, на соломе вонючей…
— Успокойтесь, — ледяным голосом сказал Андрей Яшмаа. — Сейчас поедем.
Он подошел к стене, сдвинул в сторону картину, изображающую маршала Нагон-Гига в момент распределения трофеев между личным составом. За картиной обнаружился сейф. Яшмаа-младший достал из сейфа большой черный саквояж, потом пистолет нездешней работы, повертел оружие в руках и положил обратно в сейф.
— Только ребят с собой посмелее возьмите, которые заразы не боятся, — посоветовал герцог.
Ребят господин бывший старший мажордом взял всего троих, должно быть, и вправду самых смелых. Конечно, если бы речь пошла о простом алайском чиновнике, тот бы для важности роту охраны прихватил, а мы, господа прогрессоры, стало быть, скромно, по-простому… Тем лучше.
От места в просторном правительственном «урагане» герцог наотрез отказался:
— Я вперед поеду, буду показывать дорогу, а то там сейчас везде перегорожено.
Он знал, что треск мотоцикла предупредит всю группу еще квартала за четыре.
Назад поехали с ветерком. Патрули испуганно жались к стенке, полицейские отдавали честь, грабители, побросав узлы, укрывались в переулках.
Во дворе особняка все было тихо, только у стены сидел легкораненый и пытался из обломков мрамора составить погибший шедевр. Сидел легкораненый на ручном пулемете, но об этом знал только герцог.
Андрей Яшмаа вылез из машины и дал знак двум своим костоломам прихватить носилки. Костоломы завозражали, что это не их костоломное дело, но герцог добавил злорадно: ничего-ничего, хлебните чуток нашей санитарской доли! Что за прелесть эти земляне, подумал он, а вроде такие же люди…
В импровизированном лазарете стояла вонь, раненые расположились вдоль стен и у входа, а посреди зала стоял роскошный обеденный стол и с изрубленными в святой злобе краями. На столе лежал, укрытый уцелевшей шитой золотом портьерой человек огромного роста. Голова и лицо его перевязаны были донельзя грязными бинтами, виднелся только совершенно черный нос, да такая же черная могучая некогда рука бессильно свисала вниз. Бывший капрал дворцовой стражи стоял возле стола в медицинском халате, а для убедительности, дурак, крутил в руках клизму.
Андрей Корнеевич Яшмаа поставил саквояж, кинулся к раненому на грудь. И сейчас же черные руки накрепко обхватили вице-премьера свободного Алая поперек туловища, оставляя черные следы на его светлом френче.
Двое костоломов так и застыли с носилками в руках, почувствовав приставленные ножи, а третий застыть не захотел…
Легко и тяжелораненые действовали быстро и слаженно. Господину премьер-министру заклеили рот липкой лентой, руки и ноги связали специально приготовленной веревкой из кожи водяной змеи — его высочество хорошо знал выдающиеся способности землян.
— Не дергайтесь, господин Яшмаа, — сказал герцог Алайский. — Ничего особенного не происходит. Просто наша военная разведка проводит запланированную еще за три года до этого дня операцию «Прогрессор».
6
По всем правилам следовало ударить в колокола громкого боя, объявить чрезвычайное положение, а может быть, даже всеобщую мобилизацию, поскольку произошел сбой в системе, являвшейся, по сути дела, одним из столпов Земли и Периферии.
Ничего этого делать Максим Каммерер не стал.
Вместо этого он плотно позавтракал, насильно запихивая в себя каждый кусок, выпил огромный бокал китового молока и вернулся на свое рабочее место.
Примерно за месяц до этого заявила о себе очередная организация — Лига Невмешательства. Председатель Лиги, некто Ангел Теофилович Копец, в ультимативной форме потребовал ликвидировать институт прогрессорства в целом, а сэкономленные средства направить… Максим уже и забыл, какое применение собирался найти сэкономленным средствам Ангел Теофилович Копец, смуглый бородатый молодой человек в солнечных очках.
«Посмотрим», — решил Максим и затребовал у БВИ сведения о Копце, о Лиге, равно как и запись их единственной беседы.
«СВЕДЕНИЙ НЕТ» — охотно откликнулся экран.
«Надо связаться с кем-нибудь из люденов, — подумал он. — Логовенко, помнится, обещал всяческую помощь в случае угрозы…».
Но вот так, сходу, запросто, связаться с люденами было невозможно — разве что кто-нибудь из них по случайному капризу окажется на Земле, и, что еще более невероятно, пожелает поболтать с представителем КОМКОН-2. Но людены ни в каком БВИ не нуждаются, прогрессорством не интересуются…
Стоп. Тойво Глумов. Тойво Глумов два года проработал Прогрессором как раз на Гиганде. Еще до войны. Занимал довольно скромную должность в Имперском банке Каргона. Предотвратил, помнится, ограбление этого банка, положив всю банду на пол и продержав ее в таком состоянии до приезда полиции, за что назначен был начальником охраны и награжден орденом Беззаветной Доблести, дающим право на земельный участок и неотдание чести военным чинам ниже бригадного генерала…
На самом подъеме карьеры Тойво Глумов подает рапорт об отставке, не приводя при этом сколько-нибудь веских аргументов. Лев Абалкин, помнится, никаких рапортов не подавал вовсе, покинул Саракш самовольно и даже, кажется, убил кого-то при этом. Абалкин, один из «подкидышей», начинает искать «детонатор» и в результате гибнет от пули Рудольфа Сикорски. Тойво Глумов начинает искать Странников и в результате становится одним из люденов…
Максим вызвал послужной список Тойво Глумова. Как он и ожидал, по обновленным сведениям БВИ Тойво Глумов по окончании школы Прогрессоров ни на какой Гиганде не работал, за полным отсутствием таковой во Вселенной, а работал он почему-то учеником зоотехника на ферме «Волга — Единорог», после чего этого бесценного зоотехника взял ни с того ни с сего к себе на работу некто Максим Каммерер… КОМКОН-2 в ту пору остро нуждался в зоотехниках с прогрессорским образованием…
Странная мысль пришла ему в голову, но в нынешнем положении никакая мысль не могла быть особенно странной.
Тойво Глумов узнал на Гиганде о Странниках то, о чем сказать либо не захотел, либо не решился. Узнал что-то определенное, такое определенное и страшное, что полностью уверился в их нынешнем весьма деятельном существовании, и уверенностью этой заразил весь КОМКОН-2. А потом, убедившись в своем человеческом бессилии, предпочел стать люденом… Скрыться в людены. Удрать в людены. Сказаться в люденах… И все наши толкования Большого Откровения ложны: это просто убежище, эмиграция в виду угрозы нашествия. Спасутся праведные. Отсидятся в своем непонятном мире, пока Странники будут сворачивать наше небо, как свиток… Но для начала они свернут БВИ. Впрочем, это в каком-то смысле одно и то же.
Максим припомнил некий древний роман, в котором страшного злодея приговорили к разрушению личности. Сначала в восприятии злодея исчезла Луна, потом звезды, потом начали пропадать люди, дома, вещи… Здесь будет то же самое, только в информационном пространстве.
Он соединился с КОМКОН-1. Жан-Клод Володарский тоже был весьма растерян.
— Не могу связаться с Гигандой, — сказал он.
— Естественно, — ответил Максим. — Коль скоро никакой Гиганды не существует, то и связи с ней быть не может… Ты лучше помозгуй, Жан-Клод, без паники, на тему «Гиганда — Странники». Все же рапорты через тебя проходили, припомни как следует, что же мы, без БВИ никуда не годимся? Мы разведчики, Жан-Клод.
— Это мы разведчики, — сказал Володарский. — А вы контрразведчики. На Гиганде и вокруг нее, насколько я помню, никаких следов деятельности Странников не наблюдалось, кроме куска янтарина в Имперской кунсткамере…
— Уже много, — сказал Максим. — Вспоминай, вспоминай. Боюсь, нам теперь только на собственные мозги придется рассчитывать.
— Вольдемар Мбонга докладывал, что в легендах жителей Архипелага Тюрю рассказывается о неких неопределенных существах, пытавшихся докопаться до Сердца Мира, но сурово наказанных за это местными божествами…
— Так, — сказал Максим. — Книги ведь должны быть, монографии на эту тему… Слушай, Жан-Клод, собери-ка ты все сведения по Гиганде в простых, непритязательных библиотеках, да загрузи их в БВИ по новой! Не сидеть же сложа руки.
— Некогда мне по библиотекам лазить, — грустно ответил Володарский. — У меня на Гиганде люди сидят без связи, я теперь не знаю — может, эвакуировать всех оттуда?
— Не пори горячку, — сказал Максим. — Разведчики, бывало, годами без связи сидели во враждебных государствах. Потерпят твои Прогрессоры, клятву давали… Да и причем здесь Гиганда?
— А причем здесь Странники? — спросил Володарский. — Может, у нас на Земле второй Бромберг народился, повернулся на Прогрессорстве и начал гадить…
— Ты представляешь себе Бромберга, гадящего в БВИ? — поинтересовался Каммерер.
— Да, народился Бромберг, — сказал Жан-Клод. — И повернулся Бромберг. Только он не на прогрессорстве повернулся, а на Странниках. Максим Бромберг.
— Спасибо, конечно, — сказал Максим. — Тебе, я полагаю, знаком некто Ангел Копец?
— Еще бы, — сказал Володарский. — Всю плешь этот Ангел мне проел, дьявол его задери. Большой знаток гигандской истории. И хочет стать хранителем этой истории, только чтобы она была, значит, в полной неприкосновенности…
— Так вот нету в БВИ никакого Ангела Копца, — сказал Максим. — И плешь тебе проедал информационный фантом Странников. А мы снова, как всегда, все прошляпили.
— Да брось ты, в самом деле, — сказал Жан-Клод. — Вас лечить надо всем КОМКОНом, а еще лучше — отправить на Пандору ловить голыми руками этих… ну, хвосты у них еще ядовитые… и зубы… Вы сами спокойно не живете и людям не даете. В старину такие, как ты, все жидомасонов под кроватями искали. Ребята уже вовсю по БВИ лазят, причину ищут, и найдут, никуда не денутся. Сам Морихира лазит, помирать передумал… Надо же — информационный фантом! Сто раз вы своих Странников накрывали, и сто раз же за собачий хвост хватались. Массаракш, змеиное молоко! Я тебя всего лишь спросил, не ваша ли это работа с Гигандой. Выяснил, что не ваша. И не морочь мне голову Странниками — снова опозоритесь.
— Кто у тебя отвечает за Гиганду?
— Как кто? Вестимо, Корней. И пока Корней за нее отвечает, я спокоен. Солидный человек, кроманьонец. К тому же сын у него там работает…
— Где сейчас Корней?
— Я с утра справлялся, секретарь говорит — вылетел на Гиганду. Там у нас сейчас полным ходом идут социальные преобразования…
— Знаю я ваши преобразования, — сказал Максим. — Сам преобразовывал. Народу при этом положил — страшное дело… Ладно, будь у себя, я еще несколько версий прогоню.
— Гони, — разрешил Володарский и отключился.
Максим несколько минут глядел на погасший экран и представлял, что будет, если экран этот никогда уже больше не оживет.
— Будем ходить друг к другу в гости, — сказал он вслух и набрал номер Аси Глумовой.
7
Глава военно-революционного Совета Свободной Алайской Республики, бывший заместитель министра обороны, бывший бригадный генерал Гнор Гин был доволен. Более того — он был счастлив.
С эпидемией удалось справиться неожиданно быстро.
Оказалось, что славные алайские микробиологи во главе с военлекарем второго ранга Маггой, несмотря на нищенские субсидии, не сидели сложа руки, а выработали весьма эффективную вакцину, могущую спасти больного едва ли не на последней стадии.
Мало того, вопреки царящему бардаку и разрухе, удалось сохранить медицинский персонал и значительную часть парка санитарных фургонов. Эти фургоны, отмеченные традиционной эмблемой птицы Бу, чьи яйца, по легенде, давали человеку вторую жизнь, носились сейчас по всей республике, не минуя самых глухих ее уголков, разнося животворную жидкость с помощью одноразовых шприцов, производство которых тоже чудом удалось наладить.
Алайский народ, забывший в неизбывном своем великодушии прошлые обиды, охотно поделился и вакциной, и шприцами с братским народом бывшей Империи, ныне Каргонской Демократии. За эту помощь Гнору Гину удалось безо всякой стрельбы выторговать у новоиспеченного соседнего правительства не только спорное устье Арихады, но и некоторые другие стратегически важные территории, на которые герцоги Алайские даже и не собирались посягать.
Санитарные фургоны ездили по кварталам бедноты, по конторам, по сохранившимся предприятиям, где их встречали, как родных, и бравые санитары, которых судьба оберегла от бесславной гибели за чужие интересы, быстро и споро ставили уколы.
Докладывали, правда, что у некоторого (впрочем, ничтожно малого) числа людей вакцина вызывает своеобразную аллергическую реакцию, в результате которой вакцинируемый засыпает воистину богатырским сном на двое суток, но все уснувшие тут же доставляются в соответствующий медицинский центр, где им оказывается необходимая помощь.
Адъютант мельком заметил, что среди уснувших, к сожалению, оказалось немало активистов нового режима, незаменимых специалистов и вообще нужных и неординарных людей.
— Они слишком много работали в последнее время, — сказал премьер-министр нового правительства. — А всякая вакцина, как известно, ослабляет организм. Наша власть позаботится о них, брат-адъютант. Пусть отдохнут. Они это заслужили…
Вояка Гнор Гин был никакой, и штабник никакой, но зато выслужился из самых низов, специализируясь на организации военных парадов и показательных учений. Поскольку во время войны этих полезных мероприятий не проводилось, он слонялся по министерству, выискивая нарушения формы одежды и страшно раздражая герцога. Наконец терпение Его Алайского Высочества лопнуло, и он распорядился отправить господина генерала на передовую, но тут как раз и начались народные волнения, был зверским штурмом взят дворец, и, по решению восставших (никого из главарей генерал сроду в глаза не видел) правительство предложили возглавить старому солдату, верному сыну народа Гнору Гину, который не запятнал свое честное имя, гоня на убой цвет алайской нации.
Это была сущая правда. Гнору Гину не доверяли даже призыв резервистов. Герцог тоже держал его в министерстве в качестве сына народа.
— А что там с братом вице-премьером?
— Ищут, брат-премьер. Сами знаете, в каком состоянии у нас безопасность, — сказал адъютант. По всем статьям самое место было брату-адъютанту не здесь, а на восстановительных работах, но генерал к нему уже привык, а привычки его становились отныне законом.
Гнор Гин знал, в каком состоянии безопасность. Яйцерезы, как только начался штурм дворца, защищать Его Алайское Высочество не стали — недосуг, поскольку яростно принялись жечь свои же архивы. Подготовлены архивы к уничтожению были много загодя — честно говоря, все время были готовы. И все, в общем, остались довольны.
— Без архивов работать нельзя, — глубокомысленно сказал генерал, подумал и добавил: — А с архивами жить нельзя.
Сказано было отменно, в духе маршала Нагон-Гига.
— Референт на допросе показал, что брата вице-премьера выманили обманом. Некто Гаг, бывший курсант школы Бойцовых Котов…
— Гаг, Гаг… — премьер-министр нахмурился. — Помнится, ловили уже некоего Гага… А что слышно о молодом герцоге? Покуда он жив, у кровавого подполья есть знамя.
— Найдем, брат-премьер, — сказал адъютант. — Нет в республике дома, где сможет это отродье палача найти приют. Всякий честный алаец…
— Не на митинге, — оборвал его Гнор Гин. — А только чтобы голову его — об это место!
И постучал по крышке стола.
— Референта расстрелять? — осведомился адъютант.
— По необходимости, — туманно ответил премьер.
— Пора, брат-премьер, — напомнил адъютант.
Гнор Гин подошел к зеркалу. Новая форма, сшитая по его собственному эскизу, сидела, как влитая. Он поправил услужливо поданной расческой седые виски. Не хуже покойного герцога выгляжу, не беспокойтесь, только вот презрительности этой проклятой в глазах нет, а есть в глазах усталость и серьезная государственная озабоченность…
Разномастно одетые часовые в коридоре отдавали честь по-старому, поскольку нового ритуала еще не выработали, а честь начальству отдай и не греши. Ох, ведь в интенданстве, должно быть, солдатского новья видимо-невидимо, если, конечно, не ушло оно еще на черный рынок…
Площадь перед Народным собранием была полна народу. Ради торжественного дня люди нарядились во все лучшее, но выглядели все равно бледными и убогими. В толпе выделялись цветом лица здоровенные пожилые мужики — явно крестьяне непризывного возраста.
— Понаехало их со всех концов, ваше… брат-премьер, — пояснил адъютант. — Прямо будто в городе вареньем им намазано.
Многочисленные санитары, работая прикладами, расчищали проезд к театру.
— Почему санитары с автоматами? У них с оружием такой глупый вид, — недовольно сказал премьер.
— Участились случаи нападения на лекарские фургоны, — сказал адъютант. — Какие-то мерзавцы наловчились торговать вакциной, вот доктор Магга и потребовал… И вообще у санитаров дисциплина, не то что…
Он не договорил, потому что нужно было выскакивать и распахивать дверцу перед начальством.
Вход в бывший Императорский театр, а ныне Народное Собрание, был застлан коврами, на коврах же валялось разнообразное оружие — входящих тщательно обыскивали, а без ствола в столице ходили разве что малые дети. Обыск производили люди в морской форме.
— Экипаж восставшего крейсера «Алайские зори», брат-премьер. Первыми ворвались в берлогу тирана…
Премьер милостиво кивнул и прошел дальше. Императорский театр был некогда прекрасен, древен и прекрасен, великолепен именно своей древностью. Когда после победоносного восстания возникло Алайское герцогство, у тиранов и деспотов хватило ума ничего здесь не трогать и не перестраивать, а только вовремя давать деньги на реставрацию. Когда-то к этому крыльцу подъезжали запряженные шестернями заггутских илганов кареты, потом запыхтели первые паровики, потом… Много чего было потом. Здесь лицедействовал великий Линагг, здесь блистала упоительная Барухха, здесь выходил на поклоны выдающийся комедиограф Нигга, впоследствии разоблаченный как имперский шпион… По традиции, к каждой премьере ткался гобелен, изображающий сцену из спектакля, так что на стенах не было свободного места, а вдоль стен стояли драгоценные вазы древней династии Тук, и в вазах ежедневно меняли цветы, нарочито привозимые аж с Архипелага…
Ныне гобелены были частью содраны и растащены, частью осквернены, пошли гобелены на портянки да на пеленки, а в драгоценных вазах, тех, что не сумели или не успели расколотить, вместо цветов благоухала не столь утонченная материя.
— Вчера же, вроде, все вычистили… — бледнея, сказал адъютант. — И когда умудрились?
— Да не тревожься, брат-адъютант, — сказал премьер. — Это всего лишь навсего знак бесконечного народного презрения к причудам аристократов.
Адъютант вздохнул и повел его на сцену, вкладывая в начальственную руку текст речи, свернутый в трубочку. Речь сочинил выдающийся писатель Лягга, всем сердцем принявший новую власть. Премьер заранее просмотрел речь, вычеркнул из нее слово «споспешествующий» по причине его полной для военного человека непроизносимости, и в целом одобрил.
Премьер опасливо выглянул в зал. Зал был набит битком. Солдаты, матросы, яйцерезы, люмпены с городских окраин, работяги в традиционных синих картузах, опять же крестьяне, вообще непонятно кто и даже туземцы с Архипелага в своих полосатых юбочках и с высокими прическами, скрепленными засохшей кровью врагов.
А в герцогской ложе притаились подлинные хозяева страны — члены исполнительного комитета Союза борьбы чего-то с чем-то, и вот их-то премьер-министр боялся по-настоящему.
«Сыны свободного Алая! — повторял он про себя начало речи. — В трудный час, в годину испытаний, когда зубы кровавого дракона Гугу контрреволюции готовы…»
— Пора! — весьма бесцеремонно подтолкнул его адъютант.
На сцене, которую до сей поры отягощали только роскошные декорации, была наспех сооружена трибуна, обтянутая новым алайским флагом — оранжево-зелено-синим.
Шевеля губами, Гнор Гин подошел к трибуне и замер.
Внутри трибуны, как любовник в шкафу, сидел человек с очень знакомым лицом и подбрасывал на ладони гранату.
8
— Да, — сказала Ася Глумова. С тех пор, как ее муж подался в людены, она почти безвылазно сидела в многоквартирной башне — ожидала. — Да. Появлялся один раз.
«К тебе я стану прилетать, гостить я буду до денницы…» — припомнил Максим старые стихи. Демоны хреновы, вольные сыны эфира…
Предатели, подумал он и чуть не сказал это вслух.
— И что у них новенького? — спросил он.
— У них новенькое от старенького не отличишь, — сказала Ася. — У них и времена перепутались. У него только одно человеческое чувство и осталось — тоска. Музыку он слушал и молчал. Баха и Спенсера.
— Асенька, — сказал Максим. — Я понимаю, что вам все это очень больно, но все-таки попробуйте мне помочь. Попробуйте помочь всем нам…
— Постараюсь, — безжизненно сказала она.
— Это касается времен его прогрессорства. Когда Тойво вернулся с Гиганды, он ничего не рассказывал такого… Ну, может, проговорился случайно… Насчет Странников?
— Он только о Странниках и говорил, — ответила она и пожала худыми плечами. — Потом… Кажется, у него там женщина была. Я не знаю, просто чувствую. И, кажется, очень эта женщина его тревожила. О чем-то она догадалась, вот он оттуда и упорхнул. Но это всего лишь мои бабьи предположения, семьдесят семь дум… Главное, я вовремя ушел, говорил он. Вот уж не знаю, что там за красавица… Господи, да лучше пусть бы у него на каждой планете по десятку баб было, чем так…
— Простите, Ася, — сказал Каммерер. — Я вечно лезу к людям в неподходящую минуту…
— Нет, я всегда рада видеть вас, Максим. И Горбовского рада видеть. С ним поговоришь, и вроде как успокоишься… ненадолго…
— Спасибо, Ася, — сказал Каммерер. — Если что — я для вас всегда на месте.
— Если бы хоть что-то… — сказала Ася Глумова, выключая связь.
Ничего нового Максим не узнал. Женщина на Гиганде. Что может знать простая каргонская женщина о Странниках? Или женщина была непростая?
Горбовский, вспомнил он. Хода нет — ходи с бубей…
К удивлению Максима, старика не оказалось на обычном его месте, в «Доме Леонида», а обнаружился старик, с подачи его робота-секретаря, аж в городе Антонове, где ему делать было вроде бы нечего, да и врачи с большим неудовольствием воспринимали сообщения о том, что человек столь почтенного возраста продолжает пользоваться кабинами Нуль-Т.
Леонид Андреевич сидел на скамейке в парке, и был Леонид Андреевич облеплен детишками в возрасте лет до пяти, и рассказывал он детишкам что-то безумно интересное, не сравнить с максимовыми проблемами…
— Надумал, наконец-то, — сварливо сказал Горбовский. — Все, бесенята, свободны, продолжение следует…
Бесенята унылой стайкой помчались вдоль аллеи.
— Леонид Андреевич, — сказал Максим. — У нас снова не слава Богу…
— Я уже в курсе, — сказал Горбовский. — С большим удовольствием выслушаю вашу, Максим, концепцию. Просто-таки с агромадным наслаждением выслушаю, ибо знаю ее наперед, и заранее терзаю под ноги, как принц Адольф кумирных богов…
Обижаться на Горбовского не следовало по целому ряду соображений. Во-первых, бессмысленно, во-вторых… тоже бессмысленно.
— Леонид Андреевич, — сказал Максим, содрогаясь. — У вас что, своя личная разведка?
— В моем возрасте, Большой Мак, никакая разведка уже не требуется. Равно как и чтение мыслей на расстоянии. Слушаю концепцию.
Никакой особенной концепции у Каммерера не было, но и молчать не годилось.
— Я полагаю, — начал он, — что силы, условно именуемые Странниками, предлагают нам свернуть всю прогрессорскую деятельность. Рискну предположить, что взамен они прекратят всякую деятельность у нас. В противном случае они угрожают вывести из строя всю информационную сеть Земли и, возможно, Периферии. Даже не возможно, а наверняка.
Горбовский удовлетворенно кивал головой.
— КОМКОН-2 предлагает резко ограничить доступ к БВИ частным лицам, взять под контроль всю информацию по прогрессорству и понемногу готовить полную эвакуацию с Гиганды.
— Для чего же только с Гиганды? — поднял брови Горбовский. — Тем более, помнится, что милейший Корней Янович сообщал о больших успехах…
— Связи с Гигандой уже нет, и мы не знаем, что там происходит. Может быть, Странники объявились там в открытую, может быть, Странники превратили планету в Черную Дыру. Все может быть.
— Знаете что, Максим, — сказал Горбовский. — Вы, конечно, непревзойденный разведчик, конспиратор и все такое. Но подчас не можете сопоставить два вопиющих факта, чтобы сделать более-менее грамотный вывод.
— А именно? — снова не обиделся Каммерер.
— Еще месяц назад промелькнуло скромное сообщение, что в лаборатории полимеров Джанет Круликовской под Кейптауном удалось синтезировать вещество, по свойствам своим неотличимое от нашего любимого янтарина.
— Н-ну… — неуверенно сказал Максим.
— Баранки гну, — ласково и с великим терпением парировал Горбовский. — А кто, по-вашему, изобрел янтарин?
— Разумеется, Странники.
— Умница. Если Странники изобрели янтарин, следовательно… Ну, Максим, напрягитесь! Когда я только что излагал всю эту историю детишкам, они сообразили куда быстрее.
— Вы хотите сказать…
— Вот именно! Только не мне бы это говорить, а кому-нибудь из КОМКОНа-2, после чего закрыть тему Странников раз и навсегда. Да, дорогой мой, и людены — мы, и Странники — мы, и, сильно опасаюсь, те ребята на Ковчеге — тоже мы, только непозволительно поумневшие. Вся история со Странниками уже описана в литературе, причем в детской. Только там это называется «поиски Слонопотама». Бедные мы медвежата, бедные мы поросята — мы шли по собственным следам. То, что мы этих следов пока не оставили, ни о чем не говорит…
— Леонид Андреевич, — сказал Каммерер. — Ну нельзя же при нынешнем состоянии науки всерьез говорить о цикличности Времени…
— Нельзя, согласен — но придется, пока вы не сочините более удобоваримую гипотезу. Кстати, в течение тысячелетий люди верили, что время циклично — и ничего, и руки не опускали, пирамиды вон до сих пор стоят…
В этом был он весь — Горбовский Леонид Андреевич, прославленный пилот, Следопыт и мудрец. Эталоном непонятности по традиции принято было считать знаменитого киборга Камилла, но и Камилла Горбовский, случалось, ставил в тупик…
— Тут и вся история с «подкидышами» выглядит иначе, — продолжал Горбовский. — Умные потомки послали глупым предкам посылочку — разумеется, с целью удержать предков от какой-нибудь очередной глупости. Дело не выгорело — опять-таки по глупости нашей и трусости. Бог хитер, но не злонамерен. И даже через много тысяч лет никакому сверхчеловеку в голову не придет отправить своему пращуру адскую машинку. Надеюсь, вы знаете хотя бы, что такое адская машинка?
— Знаю, — ответил Максим. — У нас в подполье на Саракше их очень даже неплохо делали.
— Возможно, что посылочка эта, — сказал Горбовский, — и предназначена была для того, чтобы прервать временной цикл… У Рудольфа просто не хватило выдержки. Доброты у Рудольфа не хватило.
— Информации у Рудольфа не хватило, — сказал Максим. — А вообще я во всем виноват. Мог ведь остановить Абалкина, ушами прохлопал…
— Вот тогда и начали проявляться людены, — сказал Горбовский. — Как еще одна попытка выйти за пределы цикла.
— Леонид Андреевич, дорогой, — сказал Максим. — Все это очень интересно и достойно самого широкого обсуждения. Но я-то не философ, я простой оперативник. Мне не тайны Мироздания постигать положено, а реагировать на явную опасность. А я чувствую, что наши люди на Гиганде в опасности. Более того, в опасности все человечество, коль скоро начались сбои в БВИ…
— Хорошо, — неожиданно согласился Горбовский. — Поговорим о Гиганде. Когда вы делали запросы в БВИ, вам ничего не показалось странным?
— Там все мне показалось странным, — пожал плечами Максим. — Гиганды нет, ничего нет… Да еще герб герцога Алайского к чему-то приплели…
— Вот-вот, — сказал Горбовский, вставая. — «Сведений нет» — это от машины. А герб Его Алайского Высочества с оскорбительным девизом — это, как говорил один толковый безумец, «человеческое, слишком человеческое». Для чего я, по-вашему, покинув свою обитель скорби и одр болезни, развлекаю детишек в городе Антонове?
— Для чего? — тупо повторил Каммерер.
— А для того, — сказал Горбовский, и длинное, темное лицо его осветилось, — что собираюсь я навестить «Дом Корнея», и прошу вас, оперативнейший мой, сопровождать меня, старика, чтобы не получить мне, старику, в лоб. Или по лбу, что, в сущности, едино.
9
«Дом Корнея» нисколько не походил на «Дом Леонида» — да это и не дом, в сущности, был, а целый комплекс зданий и помещений, включавший в себя спортивные залы, арсенал, лазарет, информационный центр, не говоря уже о знаменитом корнеевом музее, в котором быть я не был, а слышать слышал.
Вести флаер я не мог, поскольку голова ничего не соображала. Леонид Андреевич, приговаривая что-то вроде «вы, нынешние — ну-тка!», вытеснил меня с водительского места и тряхнул стариной так уж крепко, что я начал опасаться за его жизнь. За свою, кстати, тоже. Внизу проплывали, временами становясь набок, золотые пшеничные поля.
Зато на подлете к «Дому Корнея» великий пилот вырубил и без того не очень шумный двигатель и спланировал отнюдь не на положенную площадку, а почти за полкилометра от дома, чуть ли не в кусты.
— Вы умеете ползать по-пластунски, Максим? — сказал он. — Мне бы очень не хотелось тревожить обитателей дома.
— Ползать по-пластунски я умею, — доложил я. — Но вам не рекомендую. Что же касается обитателей дома, то их всех, насколько я понял, свистали наверх — во главе с хозяином.
И тут я вспомнил, что Корней Янович Яшмаа — один из «подкидышей», значок «эльбрус», если не ошибаюсь. Нет, не ошибаюсь. Ну, вот вам еще одно совпадение…
— Вряд ли он нас ждет, — сказал Горбовский, — но подстраховался наверняка. Представьте себе, Максим, что нам предстоит пробраться в штаб-квартиру хонтийской, скажем, разведки, не потревожив и не повредив часовых, тем более, что живых часовых и нет. Дверь, допустим, заблокирована на пароль. Все двери. Вот чертеж дома, — он протянул мне табличку. — Ваши действия?
Дом, повторяю, был незнакомый, зато все блоки стандартные — Корней Яшмаа не любил излишеств. Я некоторое время изучал чертеж, потом вернул его Горбовскому.
— Пока вижу только один путь, — сказал я. — Допустим, все входы действительно заблокированы. Во дворе со стороны слепой стены есть люк — система циркуляции бассейна. К сожалению, это бассейн не в спортзале, а в музее. Вы, случайно, не знаете, кого Яшмаа поселил в бассейне, Леонид Андреевич?
— Случайно знаю, — сказал Леонид Андреевич. — Ихтиомаммала поселил. Этого ихтиомаммала ему покойный Поль Гнедых завещал. Очень надеюсь, что бедное животное переживет и нас с вами. Не повредите ему, Макс, очень вас прошу.
— Как бы он мне не повредил, — проворчал я. Ихтиомаммал, как это явствует из названия, был рыбоподобным млекопитающим с планеты Яйла, размером был с хорошую касатку, имел густой волосяной покров и множество зубов. Самым приятным в этой скотине было то, что она никогда не спала, а все время кружила и кружила вдоль стен своего узилища. А ежели Корней Янович еще и забыл ее покормить перед отлетом…
— Слушаюсь, шеф, — сказал я. — Рад стараться, шеф. Не оставьте своей милостью многочисленных вдов и сирот… Допустим, я вылез живым из бассейна. С руками, с ногами. Дальше что?
— Дальше? — Леонид Андреевич задумался. — Дальше, голубчик, совершенно бесшумно, словно в той же хонтийской охранке, вы проникаете в кабинет хозяина. Там за пультом должен сидеть человечек. С ним нужно обращаться еще бережней, чем с ихтиомаммалом…
— Христом Богом, Леонид Андреевич, — сказал я. — Не боюсь я плыть и утонуть не боюсь. Но ему, ихтиомаммалу-то, что? У него глотка шире энергопоглотителя. Вот он и сглотнет меня, словно семечку… Да что за человечек-то?
— Вот те на, — удивился Леонид Андреевич. — Старый старик знает, а молодой оперативник не догадывается. Ведь у Корнея Яновича жили двое аборигенов Гиганды. Один взбунтовался, запросился домой, а другой был мальчик умненький, учененький, он и остался в доме науки постигать… Только запомни, что этот мальчик может оказаться не такой уж мальчик, а оперативник вроде тебя, так что не расслабляйся.
— Это что, значит, КОМКОН-1 своевольничает?
— Там узнаешь, кто своевольничает. Но смотри, чтобы все остались живыми. Сам же говорил, что угроза человечеству… Ступайте, голубчик, а я поваляюсь тут на травке…
Вот тебе и добрый Леонид Андреевич, думал я, снимая одежду. И себя береги, и зверюгу не замай, и дело сделай… С другой стороны, не слишком ли я засиделся по кабинетам? Но будь ты хоть чемпион, проворней ихтиомаммала не станешь… Что же он, на смерть меня посылает? Никогда я в воде ни на кого не охотился, хотя какая, к черту, охота… Массаракш, он что, с ума сошел?
К зданиям я подобрался по возможности незаметно. Трава была высокой. Люк, правда, тоже находился под кодом, но код был стандартный. Я какое-то время повисел над черной водой, дождался, когда поток переменит направление и нырнул. Меня понесло вперед, и надо было как-то притормаживать, чтобы не выбросило прямо на середину бассейна. Наконец впереди замаячило светлое пятно. Никакого ихтиомаммала за его границами я не видел, да и видеть не мог, поскольку волоски на этой зверюге, насколько я помню, имели соответствующий коэффициент преломления, что очень помогало ихтиомаммалу в жизненной борьбе.
На выходе из трубы я растопырился, как сказочный герой, которого Баба-Яга пихала в печку. Теперь следовало дождаться новой перемены потока, и как раз в промежутке был шанс выскочить. Массаракш, я же представления не имею, какое расстояние до бортика бассейна! Ну, Горбовский, ну, благодетель… И Корней хорош, мог бы чучелом вполне обойтись…
Наконец вода прекратила на миг движение свое, я мысленно сделал арканарский знак, отгоняющий нечисть, оттолкнулся изо всех сил и пошел наверх. И сейчас же неодолимая сила стиснула мои ребра и потащила, потащила…
Ихтиомаммал догадлив был, прыгнул за мной, но недопрыгнул с полметра, разочарованно лязгнул зубами и принялся описывать привычные круги по бассейну. А я продолжал висеть в воздухе, схваченный блестящими манипуляторами трехметрового домашнего робота. Манипуляторы неторопливо втягивались, одновременно опуская меня на пол.
— Рядовой Драмба, — негромко сообщил робот. — Выполняю задание человека Леонида, охраняю человека Максима…
Ой, Леонид Андреевич, как ты меня умыл, думал я. Хотя все рассчитал правильно — и с роботом связался, и меня в соответствующее настроение привел. Теперь пойду всех имать и хватать…
— Тише, рядовой Драмба, — сказал я. — Кто в доме живой?
— В доме живой человек Данг один, — сказал робот. — Сервомеханизмов в доме…
— Не надо про сервомеханизмы, — сказал я. — Где человек Данг и что он делает?
— Человек Данг работает за пультом в кабинете человека Корнея, — сказал робот. — Имеет все допуски…
— Вот что, — сказал я. — Человек Данг болен и может сам себе повредить. Нужно войти в кабинет, взять человека Данга — вот как ты меня давеча из бассейна вынимал — и подержать в воздухе вплоть до особого распоряжения.
Рядовой Драмба выкатился в коридор, я за ним, оставляя мокрые следы. Стало зябко. Вообще как-то глупо арестовывать человека в голом виде. То есть нет, если он в голом виде, очень даже сподручно, но если наоборот…
…Когда робот вкатился в кабинет, тот, кто сидел за пультом, даже не обернулся. По экрану плыли разнообразные значки, по большей части мне непонятные. Когда Драмба схватил его и развернул на меня, я увидел, что человек этот молод, довольно-таки худ и обладает на редкость пронзительным взглядом.
Мне хотелось сказать что-нибудь красивое, книжное, вроде «Надо уметь проигрывать, полковник Шмультке!». На Саракше в молодые годы я любил щегольнуть подобной сентенцией. Но сейчас передо мной был какой-то другой враг. Более опасный, чем вся разведка Островной Империи, чем экипаж Белой Субмарины. Чем даже Рудольф Сикорски — когда я знал его еще под кличкой Странник. Опасный тем, что осмелился в одиночку выйти против целой планеты — во много раз сильнее и могущественнее, чем его собственная…
— Ну что? — я улыбнулся. — Значит, «Отойди, смерд»?
Сейчас он сделает пальцами какой-нибудь пасс и исчезнет. Но он не исчез, а сказал совершенно спокойно:
— Вирус запущен, господин Каммерер. Ваши специалисты уже давным-давно не сталкивались с чем-то подобным. И остановить этот вирус могу только я. Поэтому будем разговаривать на моих условиях. Вы согласны?
— Сейчас сюда придет один человек… — начал я.
— Да я уже здесь, — откликнулся из угла Леонид Андреевич. Он покачивался в гамаке. — Ну, голубчик, натворили вы тут дел, прямо и не знаю, с чего начать… Еле уговорил Корнея Яновича убыть на Гиганду, чтобы потолковать с вами поподробнее.
— Шеф, — сказал я по-хонтийски. — Вы что, отправили Корнея туда, зная, что здесь…
— Именно, — по-хонтийски же ответил он. — Но полетел туда Корней не с пустыми руками, извините за нечаянный каламбур.
Я понял, с чем туда полетел Корней, и похолодел.
10
В полдень на площадь привезли армейские кухни, люди побросали кирки и лопаты и выстроились в длинные очереди, гремя блестящими металлическими судками и котелками. Стерегший толпу дворцовый гвардеец в лихо заломленном берете, стоявший, расставив ноги, на крыше трансформаторной будки, тоже позволил себе присесть. Автомат, впрочем, он держал под рукой.
— Нет, господа, я всего ожидал, только не этого. Я полагал, что начнутся массовые казни, потом мы будем искать свое имущество…
— А я считаю, что гер… что Его Алайское Высочество совершенно прав. Хочешь жрать — будь любезен поработать.
— Но почему всех? Почему я, почетный член коллегии адвокатов, должен махать киркой и таскать эти обломки?
— Вот что я вам скажу, господа: герцог подменный.
— Что за бред? С чего вы взяли? Я неоднократно был во дворце на приемах и прекрасно помню молодого Гигона.
— То-то что помнишь… А мне шурин рассказывал, у него двоюродный брат в Бойцовых Котах служил. Герцога Гигона отравили каргонские агенты. Старый герцог, конечно, погоревал, но без наследника-то нельзя, особенно в такое время. Вот и отыскали среди Бойцовых Котов парнишку, как две капли воды…
— Конечно, и стал ваш парнишка говорить на трех языках, безукоризненно ездить верхом и так далее…
— Но, господа, когда же начнут расстреливать это быдло? Когда мы сможем вернуться в свои дома?
— Лучше скажите спасибо, господин адвокат, что мы здесь работаем, в центре. Мятежников, взятых с оружием в руках, отправили за реку, гасить пожары на заводах, а без респиратора там все равно верная смерть…
— А я так думаю: хоть эти ребята и мошенники были, а все ж таки эпидемию остановили.
— Да бросьте вы, не было никакой эпидемии…
— Что ты несешь, четырехглазый: не было, не было… Как же не было, когда я трое сутки с толчка не слезал?
— Не было эпидемии. Была грязная вода, испорченные консервы…
— Вы еще скажите — руки не мыли…
— А вот я что еще скажу — это все синежопые нам устроили. Они же сплошь колдуны. Им на технику нашу плевать, и на науки то же самое. Молодой герцог, как заварушка в столице началась, бежал на самолете в Архипелаг…
— Так его же, по-вашему, отравили!
— Это его по-шуринову отравили, а по-моему, бежал. И авиетку его сбили крысоеды с десантного катера. И попал он на маленький такой островок, где карлы живут. А карлы эти, надо вам знать, даже среди дикарей дикарями считаются. И вот там-то он и задружил с одним ворожеем из этих карлов, наобещал ему с три короба. Ворожей там у себя поворожил — и восстановилась в герцогстве законная власть… Вы только дождитесь, когда музыка кончится, и сами ворожбу услышите…
— Прямо стыдно слушать, что вы городите. Как же, по-вашему, в Империи-то все обернулось? Он что, ваш карла, и Каргон заворожил?
— Ну, не весь Каргон, а принцессу ихнюю — точно.
— Господа, господа, подобные слухи хуже разрухи. Мир с Каргоном готовился уже давно, у меня есть знакомый курьер в министерстве иностранных дел. А теперь никакого герцогства Алайского не будет, будет после их бракосочетания Алайская Империя Каргон…
— Ловко! Чтобы, значит, и крысоедам не обидно было…
— Кто эту принцессу видел?
— Да в утренних газетах снимок был. Чудно: крысоедиха, а все при ней.
— А вы, господа, слышали про иностранных агентов? Про людей с Туманного Материка?
— Вы же вроде культурный человек, никто не живет на Туманном Материке.
— Да нет, живут, только под землей. И, оказывается, все это время они нам вредили. Они и стравили нас с Каргоном…
— Ну, с Каргоном, положим, мы триста лет воевали…
Люди разговаривали громко, стараясь перекричать радиорупора. Из рупоров для поддержания бодрости духа лилась маршевая музыка — классические марши звучали вперемешку с современными — «Броня крепка, и быстры бронеходы», «Артиллеристы, герцог дал приказ» и, разумеется, «Багровым заревом затянут горизонт».
Внезапно марши смолкли, и стало слышно только, как стучат ложки. Потом радиорупор прокашлялся и заговорил на незнакомом языке:
— Корней Янович Яшмаа! Его Алайское Высочество герцог Гигон ожидает вас в своей загородной резиденции для переговоров о судьбе заложников. Вам будут обеспечены беспрепятственный вход и выход. Корней Янович Яшмаа…
— Ну, что я вам говорил? Сами слышите — синий карла ворожит каждый час, чтобы во всем была молодому герцогу удача…
Молодой герцог спал в эти дни от силы по два часа в сутки. Он сидел за отцовским бюро с гнутыми ножками, перебирая бумаги, подписывая накладные и приказы о снятиях и назначениях. Время от времени в кабинете появлялся Одноглазый Лис, подкладывал новые расстрельные списки, и на каждом герцог неизменно ставил резолюцию: «На восстановительные работы».
— Но, ваше высочество…
— Слишком мало осталось алайцев, господин генерал, слишком мало, Каргон ассимилирует нас за два поколения… И даже наследник мой уже не будет чистокровным алайцем… Как дела на мосту?
— Склепали еще две фермы, но главный инженер говорит, что о большегрузном транспорте пока не может быть и речи…
— Можно подумать, что мост восстанавливают для того, чтобы по нему катались на легких ландо! Передайте инженеру, что лично для него я сделаю исключение и расстреляю.
— Слушаюсь, ваше высочество.
— Проследите сами, чтобы какой-нибудь идиот не выстрелил в господина Яшмаа.
— Фотографии розданы всем постам, ваше высочество. Взят под стражу флотский экипаж — тот самый, который… Какие будут распоряжения?
— В промышленный район, на пожары…
— Но ведь именно они…
— На пожары… Где же Яшмаа, змеиное молоко?
— Я уже докладывал, что посадку «призрака» зафиксировали три часа назад.
— Отцы-драконы, он что, ползком сюда ползет? Генерал, ступайте и ждите его у входа. Полная лояльность — помните, что они запросто могут уничтожить всю Гиганду…
— Ну, мы-то, положим, крепко взяли их за кадык…
— И тем не менее, люди есть люди… Ступайте, генерал.
— Слушаюсь, ваше высочество.
Герцог остался один и обвел воспаленными глазами отцовский кабинет. Загородную резиденцию, разумеется, основательно пограбили, только что не спалили. В кабинет стащили остатки мебели, накинув на изрезанные кресла и диваны чехлы из мешковины, чтобы не так срамно было. Лужу крови на ковре кое-как замыли, но все равно оставалось розоватое пятно. Видимо, господа мятежники проводили здесь свои дознания. Герцог вспомнил, как разорвалась граната в ложе с комитетчиками и каким покорным сделался сразу зал, как выходили по одному на сцену кратковременные хозяева жизни и приносили ему присягу на вечную верность… Что, впрочем, не освобождало от восстановительных работ…
— Ваше Алайское Высочество!
Герцог улыбнулся. В дверях стоял Бойцовый Кот в новеньком обмундировании и смотрел на герцога сияющими от восхищения глазами («Это же наш Гаг! Мы же с ним в окопах, под бомбами…»).
— Ваше Алайское Высочество! Его превосходительство велели передать, что человек, которого вы ожидаете, прибыл.
— Отлично, Котенок! Веди его сюда, да не вздумай грубить, не вздумай хватать за рукав — этот дяденька так тебя приложит… «Проходите, будьте любезны» — все как положено, понял?
— Так точно, Ваше Алайское Высочество!
Корней Янович Яшмаа продолжал оставаться Прогрессором до мозга костей. Он не позволил себе показаться на улицах столицы в земном териленовом комбинезоне — добыл где-то официальный костюм для приемов, поверх которого небрежно накинул длиннополую черную шинель яйцереза. Но издалека было видно, что он не алаец, потому что алайцы сейчас ходили горбясь и озираясь, недобро поблескивая друг на друга глазками.
— Здравствуйте, Корней Янович, — сказал герцог по-русски. — Проходите, садитесь. Не сюда, здесь пружина вылезла, а разговор у нас будет долгий…
Корней сказал:
— Здорово, Бойцовый Кот. С каких это пор ты герцогом заделался?
И с размаху рухнул в указанное кресло.
— Я всегда был герцогом, Корней Янович. А вы даже не догадались провести глубокое ментоскопирование, хотя и к этому мы были готовы… Впрочем, какая нужда полубогам копаться в памяти какого-то солдатишки? Надеюсь, вы все поняли?
— Не все, — сказал Корней. — Далеко не все.
— Операция готовилась долго, Корней Янович, почти половину моей жизни. Уважаемый господин Яшмаа, пребывая в вашем гостеприимнейшем доме, я не терял времени даром. В те дни, когда вы надолго покидали вашу резиденцию, мой напарник, ваш любимый Данг, с помощью особого кода пробуждал во мне полковника алайской контрразведки, и я с головой погружался в океан информации, которую мне любезно предоставлял БВИ.
Яшмаа ничего не сказал, только глядел на герцога светлыми прозрачными глазами.
— Разумеется, я и не пытался постичь все, — продолжал герцог. Он поднялся из-за бюро и начал расхаживать по комнате, скрипя высокими десантными башмаками. — В основном меня интересовало прогрессорство и Прогрессоры. История, методы, имена. Змеиное молоко, господин Корней! — он внезапно остановился и выбросил руку в сторону кресла. — За кого же вы нас считали? Если уж невежественный дон Рэба догадался о… скажем так, не совсем обычном происхождении Руматы Эсторского, неужели контрразведка страны, столетиями ведущей войны, не засекла бы ваших людей? Этот номер с успехом прошел у вас на Саракше с его своеобразной теорией мироздания, но на Гиганде гипотеза об обитаемости иных миров существует уже пятьсот лет! А легенды о том, что человек упал на поверхность Гиганды с небес — и того дольше!
— Это преамбула? — вежливо поинтересовался Корней.
— Это пиздец! — рявкнул герцог. — Всему вашему прогрессорству и всесилию. Извините, господин Корней, что я так прямо, по-солдатски, но, право же, вы меня выводите из себя своим показным равнодушием. Итак, пятнадцать лет назад мы впервые зарегистрировали посадку вашего «призрака». Нам очень повезло, мы даже засняли ее на кинопленку. Кстати, мы знаем, что в момент посадки «призрак» на какое-то время становится беззащитен, и любой мальчишка с ручным ракетометом… Но мы не спешили. После первой, на редкость неудачной попытки арестовать вашего человека, мы эти попытки немедленно прекратили и ограничивались только слежкой. Квалифицированной слежкой, господин Корней! Без «топтунов» и подслушивающих устройств!
— Неудачная попытка — это Павел Прохоров? — хрипло спросил Корней.
— Совершенно верно. Он же великий изобретатель и властелин автомобильной империи Гран Гуг. Вы покорно проглотили нашу официальную версию о гибели его личной яхты во время шторма, а тело было настолько изуродовано о прибрежные скалы, что опознать его не было никакой возможности, к тому же семья поторопилась с кремацией — с нашей, разумеется, подачи.
— Жалко Пашу, — сказал Корней. — Для нас это была большая потеря.
— А нам, думаете, не жалко было? Ведь Гран Гуг тогда фактически спас герцогство от неминуемого поражения, именно его дизельные тяжеловозы позволили осуществить быструю переброску войск… Зато мы убедились, что физические возможности землянина, да еще подготовленного, намного превосходят таковые у обычного жителя Гиганды. И не дергались, а готовили свою операцию «Подкидыш»…
— Стало быть, вам и эта история известна, — кивнул Корней.
— Разумеется. У БВИ не было секретов от Данга. Согласитесь, что наш майор гениален. Итак, во время операции «Подкидыш» погибли десять наших агентов, многим из которых я и в подметки не годился. И только в двух случаях вы клюнули. Мы поставили на ваше человеколюбие — и не ошиблись. Вы притащили двух маленьких, умирающих дракончиков в свое гнездо, а дракончики выросли… И вовсе не было нужды мне — то есть Гагу — избивать беднягу майора, это уж он сам придумал для вящей убедительности, но вы и так ничего не подозревали. Дикари с дикой планеты, постоянно убивающие друг друга — вот как вы о нас думали…
— Я слушаю, слушаю, — сказал Корней.
— Между тем дикари — я разумею алайцев — и выжили-то благодаря разведке и контрразведке. Еще при моем прадеде был перенят у туземцев Архипелага ментальный прием, ныне известный как «два в одном». Иначе Империя давно раздавила бы нас. Но мы загодя знали их оперативные планы и успешно подкидывали их агентуре дезинформацию. Дорогой господин Корней! Вы, Прогрессоры, только играли в разведчиков, в то время как для нас это был способ существования. Единственно возможный способ. Поэтому не удивляйтесь и не оскорбляйтесь, что вас переиграли. Мы не могли не переиграть вас…
— Я вас понял, — сказал Корней. — В каких условиях содержатся заложники и как вам удалось…
— О, это было довольно просто. Поскольку наша служба располагала уже полными списками ваших людей, мы организовали так называемую эпидемию и провели так называемую вакцинацию… Я прихватил в лазарете у вашего милейшего доктора упаковку снотворного, и наши специалисты сумели его синтезировать… Вы многого не знаете о нас, друг Корней. Итак, заложники. Все они, в том числе и ваш сын, находятся в добром здравии. Пока. И здравие это целиком и полностью зависит от того, договоримся ли мы с вами. Искать их не пытайтесь — аварийные передатчики, извините, изъяты. Нашим хирургам, конечно, далеко до ваших, но огромный военный опыт… Остались, конечно, небольшие шрамы. Впрочем, никто даже не проснулся. Место довольно уютное, но бежать оттуда нельзя. Попытка побега, равно как и попытка освобождения, приведут к немедленному взрыву. И даже не пробуйте ваших гипнотических штучек, поскольку все организовано по Правилу Мертвой Руки. Знаете — сидит солдатик, держит кнопку… Причем родословная солдатика прослежена до пятого колена…
— Знаю, — кивнул Корней. — Дальше.
— А дальше — еще интереснее. Котенок! — крикнул герцог.
В дверях возник давешний восторженный курсант.
— Я, Ваше Алайское Высочество!
— Вина господам дипломатам, лучшего вина из Арихады — и что-нибудь закусить, только не консервов. Консервы у меня вот уже где… Так и передай старшему кравчему, слово в слово — лучшего вина из Арихады, а то опять подсунет кислятину, крыса тыловая…
— Слушаюсь, Ваше Алайское Высочество! Тут мне из деревни мои посылку передали… Если не побрезгуете…
— Потом разочтемся, курсант, за герцогом не пропадет…
— Умело вы с ними обращаетесь, — сказал Корней.
— А что вы хотите? Для человека естественна потребность в кумире, будь то другой человек или даже теория. Курсант поклоняется мне, вы поклоняетесь гуманизму…
— А вы? — спросил Корней. — Чему вы поклоняетесь?
— Я, — сказал герцог Алайский, — от этой необходимости освобожден. Впрочем, недели через две начну поклоняться будущей герцогине, точнее, императрице. Я ведь, господин Корней, и сам в императоры собрался, а там такой титул, что натощак и не выговоришь…
— Все шутите, — сказал Корней.
— Грустить нужно не мне, — ответил задумчиво герцог.
Неожиданно быстро обернулся курсант с подносом. Он не только успел слетать в погреб за вином, но и напластал тонкими ломтиками нежное копченое мясо, а прочую закуску разложил не хуже, чем в ресторане.
Герцог разлил зеленоватое вино в высокие бокалы, подал один Корнею.
— За благополучный исход дела! — воскликнул он.
— Неплохое вино, — сказал Корней. — Да что я — отличное вино! Непременно нужно будет взять рецепт…
— Всему свое время, — герцог поставил свой бокал на бюро. — Итак, заложники — это лишь часть операции. Гигандский, так сказать, филиал. Перейдем ко второй части. Сейчас на Земле майор Данг, тот самый больной заморыш, которого вы столь великодушно подобрали в развалинах, вовсю хозяйничает в системе БВИ. Пока он только намекнул вашему руководству о своих возможностях. Но если в условленный час вы меня с ним не соедините, начнутся настоящие неприятности. Нарушения технологических процессов, пожары, взрывы… Ваши структуры довольно хрупки, друг Корней, особенно если подойти к ним с ломом…
— Зачем вам это? — спросил Корней. Лицо его оставалось спокойным, только глаза лихорадочно заблестели.
— Да хотя бы затем, чтобы земляне поняли, наконец, что жизнь на самом деле груба и жестока. Хотя неприятности на этом не кончаются. Майор Данг задумал обнародовать некую информацию, которая неприятно поразит не только землян, но и ваших союзников на Тагоре. Особенно на Тагоре. Змеиное молоко, вот бы где я хотел побывать!
— Так, — сказал Корней и пожевал ломтик мяса. — Вот, значит, как.
— Значит, вот так, — подтвердил герцог. — Но это лишь на случай, если заложники вздумают принести себя в жертву во имя интересов родной планеты.
— Значит, шантаж, — сказал Корней.
— Шантаж, — сказал герцог. — Собственной персоной. А что прикажете делать маленькому человеку, когда в его дом вламываются вооруженные громилы? Терпеть, приспосабливаться, чтобы улучить соответствующий момент…
— Что же вы потребуете взамен?
— Капитуляцию, — сказал герцог. — Полную и безоговорочную. И, соответственно, репарации и контрибуции. Аннексий, правда, не будет — далековато придется гонять экспедиционный корпус. Я тут список приготовил — нам нужны полевые синтезаторы, строительная техника, медикаменты, много чего нужно, мы разорены…
— Вы прекрасно знаете, ваше высочество, что запрещено вывозить земные технологии на планеты, охваченные прогрессорством. Кроме того, колоссальный психологический и культурный шок…
— А вот уж это, — герцог вновь наполнил бокалы, — не ваша забота. Если честно сказать, и мы, и Саракш, и в особенности Арканар — всего лишь ваши игрушки. Игровые комнаты. Забава для настоящих мужчин. Возможность побегать, пострелять, поконспирировать. Дать волю инстинктам. Земля для вас слишком скучна, вот самые беспокойные и пишутся в Прогрессоры, как записывались наши древние пресыщенные предки в Черный Легион… Все это уже было, друг Корней, и у нас, и у вас, мы ведь едины по натуре. Думаю, что и происхождение у нас общее, хоть ваши ученые и боятся признаться в этом… Так вот, шок. Если прилетают умные дяденьки и привозят всякие хитрые машинки пополам с идеалами — тогда, конечно, потрясение устоев, кризис культуры, психологический крах. Другое дело, когда эти самые дяденьки, потерпевшие поражение в честной борьбе — если только разведку можно назвать честным ремеслом — начинают выплачивать победителям дань. Тогда — торжество, триумф, всеобщий энтузиазм и неслыханный подъем. В результате и ваши цели будут достигнуты, и мы останемся не внакладе…
— Это невозможно, — сказал Корней. — Совет на это никогда не согласится… Знаете, чем это может кончиться для вас? Жители Гиганды сядут нам на шею и попросту выродятся, как туземцы Архипелага.
— В конце концов, друг Корней, вы можете снабдить каждый механизм, присланный сюда, блоком самоуничтожения, чтобы наши умники не начали в них ковыряться. Нам бы пережить несколько самых тяжких лет…
— А потом понравится, — сказал Корней. — Это как наркотик.
— Мое слово может быть для вас гарантией?
— Нет, — сказал Корней. — Вы смертны. Причем смерть может прийти от ближайшего родственника… Слишком велик искус.
— У меня не осталось родственников, — сказал герцог. — Вашими стараниями.
— Жители бывшей империи не потерпят, чтобы контроль над нашей помощью был исключительно алайским. И все начнется снова, только на более высоком уровне.
— Выхода нет, — сказал герцог. — Мы знали, на что идем. Теперь и вы знаете. Мы разрешим существование земного посольства на Гиганде. Населению объявим, что это посланцы Туманного Материка — все равно никто толком не знает, что там творится. И сойдет. Тоталитарное государство, знаете ли, имеет свои преимущества… Да и чем, по совести сказать, отличаются наши колоссальные картотеки от вашего БВИ? Только скоростью операций, но мы никуда и не торопимся…
— Кстати, герцог, — сказал Корней. — А почему вы и напарник ваш Данг в столь молодые лета ходите в таких чинах?
— Ну, это-то просто, — сказал герцог. — Это и на Земле бывало. Как там сказано у вашего классика? «Матушка была еще мною брюхата, как я уже был записан…»
— «…в Семеновский полк сержантом», — продолжил Корней. — Браво. Великолепная память. Ну так слушайте, сержант. Я буду говорить не от имени своей планеты, а лично от себя. Вы полагаете, что взяли нас за горло…
— За кадык, — уточнил герцог.
— Пусть так. Мы, конечно, можем ликвидировать Гиганду — для этого достаточно подогнать на ее орбиту энергетическое устройство…
— Вы никогда этого не сделаете, — сказал герцог. — Иначе бы мы и не затевались.
— Совершенно верно. Но я — лично я — могу устроить вам судьбу горшую. Более страшную, потому что неопределенную. Я сам боюсь того, что хочу сделать, но сделаю. Раз уж вы в курсе дела «подкидышей», то должны знать имена фигурантов… Думаю, что покойный Сикорски меня бы понял.
— Таким вы мне больше нравитесь, — сказал герцог. — Наконец-то. Долго я этого ждал. Ди Эрде юбер аллес, друг Корней?
— Да, — сказал Корней. — Ди Эрде юбер аллес. Вы были достойным противником, герцог, но Земля не может проигрывать. Иначе вся Галактика полетит псу под хвост.
— Вы сумасшедший, — герцог побледнел. — Лучше уж действительно распылите нас на атомы… Нет, вы не имеете права, это не-по человечески…
— Вот именно, — сказал Корней Яшмаа. Он поднялся из кресла, движением плеча сбросил шинель и резким рывком левой руки оборвал правый рукав костюма вместе с рукавом рубашки. На загорелой коже возле сгиба локтя темнело небольшое пятно. Левая рука Корнея извлекла из кармана продолговатый футляр.
— Корней Янович, — сказал герцог. — Остановитесь. Заложники были отпущены в тот самый миг, как вы переступили порог этой комнаты. «Вино из Арихады» — это был пароль…
Но Корней, казалось, не слышал его, как не слышал никого несколько лет назад Прогрессор Лев Абалкин, ворвавшийся в подвал Музея внеземных культур. Только пистолета в руках герцога Алайского не было.
В прихожей послышалась какая-то возня.
— Котенок, пропусти его! — крикнул герцог, не оборачиваясь. Он смотрел, как худые пальцы Корнея извлекают из футляра светлый кружок, как медленно-медленно приближаются к локтю правой руки…
— Корней!!! — в голосе вошедшего было мало человеческого. Пистолет в руке Максима Каммерера ходил ходуном. — Не сметь! На пол, Корней! Брось! Немедленно!
Корней повернулся к двери.
— Я слишком долго ждал, Макс, — сказал он. — Но ведь не зря Лева и Рудольф умерли, верно?
Герцог воспользовался паузой и встал между ними. Он даже схватил Корнея за правую руку, хотя прекрасно понимал, что тому не составит труда мгновенно освободиться.
— Господа, господа, — лихорадочно заговорил он. — Господа, нельзя. Каммерер, уберите оружие… Корней Янович, бросьте эту мерзость… Все мы люди, и вы не лучше нас, мы слабы, подлы, трусливы, жестоки, но мы все-таки люди…
Левая рука Корнея опала, светлый кружок покатился по ковру, и весь Корней Яшмаа тоже опустился на ковер, почтительно поддерживаемый Его Алайским Высочеством.
— Что с ним? — спросил Каммерер, опуская пистолет.
— Спит, — сказал герцог и поднял кружок. — Искусство подсыпать что-либо в бокал противника я постиг еще на первом курсе. Заберите эту штуку и спрячьте подальше… Хотя, может быть, надежнее было бы хранить «детонаторы» на Гиганде, в сейфе какого-нибудь маленького частного банка. Земляне слишком любопытны и невыдержанны.
— Мы подумаем об этом, — сказал Максим. — А пока, ваше высочество, помогите-ка мне положить Корнея на диван.
— Как там мой Данг? — спросил герцог, когда они справились с обмякшим телом.
— Сидит в Совете и торгуется, — пожал плечами Каммерер.
Герцог удовлетворенно покивал головой.
— Прекрасно. Полагаю, в вашем Совете сидят здравомыслящие люди.
— Более чем, — откликнулся Максим. — Вы действительно освободили заложников?
— Часа через два их привезут, — устало сказал герцог. — В сущности, я блефовал, поскольку трудно смертному поднять руку на полубога… А вы действительно могли выстрелить?
— Не знаю, — сказал Максим. — Наверное, да.
— Ну что, теперь будем обсуждать условия с вами?
— Да слышал я весь ваш разговор, — махнул рукой Каммерер. — Думаю, в Совете найдут разумный выход. Раз уж так получилось.
В кабинет развинченной походкой вошел Бойцовый Кот. Вид у него был самый несчастный.
— Ваше Алайское Высочество, — заныл он, — я хотел к ним применить «двойную скобку», а они вывернулись и меня об пол приложили…
— Тебя звали, Котенок? — ядовито осведомился герцог.
— Никак нет, да только я…
— Вот и ступай в казарму… Нет, сначала принеси-ка еще вина.
— Со снотворным? — спросил Каммерер.
— Да нет, какое уж теперь снотворное, — сказал герцог. — Что же получается? Мы с вас посбили спесь, вы с нас… Клянусь, когда он достал этот проклятый детонатор, я чуть не наложил в штаны.
— Аналогично, — вздохнул Максим.
— Знаете что, друг Каммерер, — сказал герцог, вторично выпроваживая жестом притащившего новую бутылку курсанта, — а не провести ли нам с вашим КОМКОНом-2 превентивную операцию? Разумеется, когда мы покончим с насущными делами. Все-таки, согласитесь, алайская разведка чего-то стоит.
— Соглашаюсь, — сказал Максим, — хотя и не понимаю, какую такую операцию мы могли бы провести совместно, и против кого, главное?
— Вы меня удивляете, друг Каммерер, — сказал герцог, тщательно протирая бокалы салфеткой. — Разумеется, против ваших любимых Странников. Пока они не начали странствовать по Гиганде. Дело в том, что у меня еще на Земле появились некоторые соображения на этот счет. Вы проглядели, прошляпили такие факты, что у меня волосы дыбом поднялись! Вот что значит отсутствие постоянной практики! Брать мы их пока не будем, а человека своего подкинем… Я даже знаю, где и когда… И кого…
Каммерер поперхнулся вином.
— Ну ты, брат, и наглец, — сказал он. — Хоть и герцог.
Его Алайское Высочество развел руками и сделал шутовской реверанс.
Вадим Казаков
Полет над гнездом лягушки
Рецензия на книгу: Вандерер Т. Всплеск в тишине. Ольденбург: Сирена, 2231. 240 с.
Книга «Всплеск в тишине», подписанная несколько претенциозным псевдонимом «Тим Вандерер», вышла в свет мизерным тиражом полгода назад и тихо разошлась среди любителей квазиисторических реконструкций и эсхатологических сочинений, практически не получив откликов в прессе. Единственное известное мне исключение — нервная реплика представителя группы «Людены» Института исследований космической истории: указанная группа, дескать, не желает тратить свои квалифицированные усилия на опровержение очередных измышлений вокруг давно утратившей всякую привлекательность проблемы «прогрессорской деятельности Странников», ибо у нее, группы, были и есть дела посерьезнее и поважнее.
Спору нет: спекуляции насчет Странников воспринимаются ныне разве что как некий неприличный анахронизм вроде пропаганды флогистона или мирового эфира. Тема эта изрядно обесценилась в массовом сознании после бесславного финала «дела Абалкина» и окончательно скатилась ниже уровня критического обсуждения во времена Большого Откровения, начисто вытесненная заботами о куда более домашних делах. Автор, впрочем, прекрасно об этом осведомлен. Само название книги — строчка из старинного трехстишия Басе про тихий омут и прыгнувшую лягушку. Очень похоже, что это прямой намек на популярный афоризм, будто мы представляем для Странников не больший интерес, чем сообщество лягушек в тихом пруду — для строителей близрасположенной плотины.
Да, избранная автором тема одиозна. И тем не менее есть в этой книге нечто, заставляющее хотя бы на время чтения ослабить столь успешно привитый нам иммунитет к разговорам о влиянии Странников на Землю. Во всяком случае, со мной произошло именно так.
О себе автор не сообщает ровным счетом ничего. (Замечу, что и мои попытки прояснить личность Тима Вандерера ни к чему не привели.) Тексту предпослан (без указания источника) эпиграф: «Суть в том, что никто, кроме нас, не знал, где здесь выход, и даже мы не знали, где вход». В преамбуле своего сочинения Т. Вандерер довольно бегло перечисляет кое-какие апокрифы прошлых веков, могущие относиться к Странникам, однако ценность подобных источников для автора не слишком велика. Разумеется, пишет Тим Вандерер, в недрах городского архива какого-нибудь заштатного Ташлинска можно при желании обнаружить в сомнительных мемуарах давно перезабывших все очевидцев или в косноязычных реляциях древних силовых ведомств подтверждение чему угодно, от путешествий по Времени до подготовки нового Армагеддона. Конкретика интерпретаций зависит в немалой степени от исходных предубеждений, вкусов и темперамента исследователей, и уже поэтому отделить зерна от плевел крайне затруднительно. Насколько серьезно можно (если можно вообще) говорить, например, о влиянии Странников на становление ислама на том лишь основании, что некий загадочный клеврет некоего аравийского лжепророка якобы осуществлял контакт своего патрона с высшими космическими силами и звался при этом Раххалем, то есть Странником?
Не задерживается автор подробно и на казусах прошлого века (вроде истории Саула Репнина), хотя и могущих иметь некое касательство к теме Странников, но не подпадающих под понятие их массовых акций. Он начинает свое основное повествование с событий столетней давности, предшествовавших созданию Совета Галактической Безопасности.
Прежде чем последовать за Т. Вандерером, я хотел бы сделать пару замечаний. «Всплеск в тишине» выгодно отличается от подобных «реконструкций» отсутствием той внешней надрывной сенсационности, в которую случалось впадать еще патриарху этого жанра А. Бромбергу. Автор не злоупотребляет повышенной лексикой, избегает хлестких эпитетов и памфлетных передержек: текст книги довольно близок к нормированному языку рядового научного сообщения. Значительную часть «Всплеска в тишине» занимают необходимые для автора, но вряд ли очень уж увлекательные для массового читателя (которого, впрочем, книга не имеет) цепочки логических построений. Построения эти (порой, на мой взгляд, очень остроумные, порой же уныло-тривиальные) призваны увязать новые интерпретации давно и хорошо известных фактов с трактовками фактов малоизвестных, но все же имевших место, а также с информацией, доступной только автору. Тим Вандерер, впрочем, без обиняков дает понять, что дело объясняется не столько его особыми успехами в раскапывании тайн, сколько всеобщим равнодушием и предубеждением к теме его поисков. Тем не менее ссылки на источники подобной информации сплошь и рядом делаются автором либо невнятно, либо нарочито неубедительно: чего стоит хотя бы упоминание некоей кристаллокопии некоего секретного меморандума, ошибочно выданной через БВИ совершенно постороннему адресату!
Не буду, однако, много говорить о невольных или умышленных огрехах авторской аргументации — пусть доброкачественность ее оценивают специалисты. В конце концов, самое важное и интересное в книге — выводы из проведенного «расследования», итоговые реконструкции, ради которых, собственно, «Всплеск в тишине» только и следует читать. Я попытаюсь конспективно изложить фрагменты тех событий, которые, как утверждает Тим Вандерер, происходили в течение последнего столетия, которые существенно повлияли на новейшую историю нескольких обитаемых миров и которые — как знать? — могут еще неожиданно и грозно отозваться для человечества Земли в будущем.
Итак, как же все это было на самом деле?
К началу 30-х годов 22-го века проблема Странников занимала, пожалуй, лишь энтузиастов астроархеологии да восторженных подростков — любителей приключенческой литературы. Специалисты полагали, что эта древняя и могучая цивилизация покинула пределы нашей Галактики (а возможно, и Вселенной) сотни тысяч лет назад, оставив за собой в десятке планетных систем, включая Солнечную, некое число предметов материальной культуры. Покинутые города и спутники были прилежно обследованы, обнаруженные артефакты — в меру сил описаны, более или менее удачно объяснены и сданы в Музей Внеземных Культур. Никаких сенсаций не ожидалось.
В ноябре 32 года руководство КОМКОНа-1 получило экстренное сообщение Вениамина Дурова, руководителя миссии землян на Тагоре. Этому безусловно незаурядному человеку посвящено немало книг и фильмов, он был одно время по своей популярности сравним с Горбовским, но лишь узкому кругу специалистов стала известна «Записка о Странниках», засекреченная немедленно по получении Землей. Произведя тщательный анализ информации из множества независимых тагорянских источников, резидент Земли заявил, что некоторые устойчивые представления КОМКОНа-1 °Cтранниках ошибочны и даже более того — опасны. Есть все основания, писал Дуров, считать Странников и по сей день активно действующей во Вселенной, хотя и претерпевшей значительную эволюцию расой. Одна из целей Странников может быть определена как пополнение рядов своего сообщества за счет обитателей разумных миров без их, обитателей, на то ведома и согласия…
Земля приняла меры. На два года (с 33-го по 35-й) на Тагору отбыла специальная многоцелевая группа Комиссии по Контактам, в которую вошли, среди прочих, выдающийся звездолетчик и Следопыт Леонид Горбовский и восходящая звезда ксенологии Геннадий Комов. Команда землян работала на Тагоре много и плодотворно, но в отчетах КОМКОНа-1 не нашлось по понятным причинам места некоторым специфическим подробностям, составившим отдельный меморандум высшей степени конфиденциальности. Информация Дурова была перепроверена — и полностью подтверждена. Более того: после переговоров с тагорянами возникло некое соглашение о координации действии Земли и Тагоры по защите планет от неконтролируемого вмешательства извне. Создание Совета Галактической Безопасности стало прямым следствием этого соглашения, хотя официально цели и задачи новой организации формулировались куда более прозаично.
Автор не без иронии замечает, что созданию дымовой завесы вокруг главной цели СГБ весьма помогло вмешательство в дела других планет самих же землян. Именно в ту пору энергично развернул свою работу на отсталых гуманоидных планетах Институт Экспериментальной Истории, именно тогда стали формироваться основы Прогрессорства. В общественном же сознании сотрудники Галактической Безопасности и экспериментальные историки быстро слились в нечто неразличимо-родственное, а названия этих организаций несведущие люди искренне считали синонимами. Разумеется, Рудольф Сикорски, ставший руководителем СГБ и сохранивший за собой пост председателя Комиссии по Контролю, бороться с этой неразберихой не собирался: она только укрепляла режим секретности вокруг работы его нового детища.
А без работы Галактическая Безопасность оставалась недолго. Еще в 20-е годы сотрудники Института Физики Пространств в содружестве с ридерами пытались обнаружить гипотетическое «поле связи» — необходимый компонент новейшей Теории Взаимопроникающих Пространств. Надежда на успех укрепилась к середине 30-х с появлением когорты особо мощных ридеров и с успехами Яна Невструева с сотрудниками в исследовании соседствующих пространств. В 35 году искомое поле было наконец зафиксировано. И тогда, как утверждает автор, слишком буквально подтвердилась старая догадка о близости «поля связи» психодинамическому полю человеческого мозга: одна из составляющих вновь открытого поля была определена экспертами СГБ как биологическая по природе, инициируемая нечеловеческим разумом и содержащая некий устойчивый, хотя и лишенный видимого значения мыслеобраз.
В Галактической Безопасности просто не могли не подумать о Странниках и о тех, кому могла быть адресована передача. Были основания считать реальностью и обратную передачу с Земли вовне, а значит — существовал шанс точно установить объекты повышенного внимания Странников. Рудольф Сикорски вошел в руководство Мирового Совета с рекомендациями по подготовке так называемой операции «Зеркало»: совместными усилиями ридеров и физиков-пространственннков предполагалось выявить конкретных индивидуумов, поддерживающих межпространственную связь. Подготовка этой грандиозной акции велась в полнейшей тайне: были даже приняты меры по сокрытию целей операции от ридеров. Физики, тоже не представлявшие до конца, чем они, собственно, занимаются, обещали в самом скором времени подготовить надежный и компактный детектор нового поля…
Операция еще не успела развернуться, когда в мае 36 года в Институте Физики Пространств произошла катастрофа, причины которой убедительно расследовать так и не удалось. Разработчики детектора — сам Невструев, его жена Хельга Яшмаа и вся научная группа в полном составе то ли погибли, то ли бесследно исчезли, а все уже созданное оборудование было уничтожено полностью. Почти одновременно в Галактической Безопасности узнали, что биологическая составляющая «поля связи» ридерами более не определяется. Первый раунд противостояния, резюмирует Тим Вандерер, завершился вничью.
В том же году случился и катаклизм на Радуге. В позднейших сообщениях за человеческими трагедиями, за драматическими деталями эвакуации и восстановления как-то незаметно потерялся вопрос: почему, собственно, грозная и неодолимая Волна остановилась и самоуничтожилась, лишь немного не дойдя до экватора планеты? Да отчего бы и нет? — воскликнет любой непредубежденный землянин и немедленно сошлется то ли на непроходимые дебри тогдашней нуль-теории, то ли на самое банальное, но вполне допустимое чудо, о физическом механизме которого задумываться как-то недосуг. Но вот Леонид Горбовскнй и известный многим Камилл уже тогда, полагает автор, не верили ни в издержки физических теорий, ни в причуды везения. Правда, Леонид Андреевич не слишком спешил делиться своими сомнениями, а аргументация Камилла, даже если он до нее и снисходил, оставалась понятной лишь самому Камиллу.
37 год ознаменован находкой на Сауле и началом дела «подкидышей». События на Сауле интересуют Т. Вандерера не в прогрессорском аспекте и даже не в связи с загадкой Саула Репнина, но исключительно из-за обнаруженных там группой Прянишникова нуль-переходов и связывающего их шоссе с машинами. Собственно, никаких данных о пригодности всей этой техники для каких-либо экспериментов над аборигенами земляне собрать попросту не успели, удалось лишь подтвердить эмпирическое предположение первооткрывателей о принадлежности объектов Странникам. Буквально на глазах наблюдателей из специальной группы Следопытов и Прогрессоров система прекратила работу, оставив после себя две глубокие (но отнюдь не бездонные) воронки да пустое шоссе между ними. Было ли это отключение плановым или аварийным, вызывалось ли местными или глобальными причинами, способствовало ли ему появление землян или стрельба из музейного скорчера — мы не знаем и вряд ли когда-либо узнаем. В качестве курьеза автор сообщает еще, что местный царек, спесиво именовавшийся «живущим, пока не исчезнут машины», помер в одночасье от сердечного приступа, едва заслышав о пропаже. Страна после этого надолго погрязла в кровавых династических распрях, а новые властители решили, что отныне безопаснее зваться «живущими до последнего пришествия машин»…
Обстоятельства дела «подкидышей» после шумных разбирательств конца 70-х получили достаточную известность, поэтому автор рассуждает лишь о некоторых лично ему интересных аспектах. Так, касаясь предназначения пресловутых «детонаторов», Тим Вандерер скрупулезно рассматривает достоинства и недостатки уже имевших хождение версий, добавляет еще две оригинальные гипотезы, сам же убедительно доказывает их несостоятельность и неожиданно заявляет, что в конце концов все это не так уж важно, ибо «детонаторы» выполнили всего одну, зато важнейшую функцию: спровоцировали отставку Рудольфа Сикорски, прекращение работы Совета Галактической Безопасности и полнейшую дискредитацию в массовом сознании самой идеи борьбы со Странниками.
Более любопытен рассказ о разрыве и последующем возобновлении отношений с тагорянами. Объяснение разрыва кажется автору тривиальным и выводится напрямую из ранее заключенного спецслужбами Земли и Тагоры «оборонительного пакта» против Странников. Очевидно, пишет Т. Вандерер, что недостаточная по тагорянским меркам жесткость землян в отношении потенциальной агентуры Странников была истолкована тагорянами как фактический отказ от соблюдения договора. До принятия следующих из этого дополнительных мер безопасности отношения с ненадежным союзником следовало прекратить, а Землю полагать возможным плацдармом для вторжения Странников. Самое большее, чего смог добиться тогда Леонид Горбовский, — это возможность пересмотра решения через 25 лет.
Как известно, в 63 году тагоряне действительно пересмотрели свое решение, хотя ни о каком совместном отражении Странников с тех пор не велось, разумеется, и речи. Но почему решение было пересмотрено? Все существовавшие в официальном обиходе версии на сей счет (вроде того, что Тагора уверилась в понимании Землей всей серьезности проблемы после событий на Надежде) автор объявляет не выдерживающими критики. Причина была совсем иной, заявляет он: тагоряне просто посчитали свою собственную систему безопасности доведенной до необходимого совершенства. Ими, в частности, была к тому времени разработана и успешно апробирована технология, позволяющая безошибочно и на любой стадии метаморфоза подтверждать превращение тагорянина в Странника. Однако, с точки зрения землян, технология эта имела, как минимум, один неустранимый недостаток: положительный результат теста определялся смертью испытуемого. Теперь Тагора могла гораздо спокойнее реагировать на любые земные потрясения. Именно поэтому события 78-го и даже 99 года не вызвали с тагорской стороны никаких особых демаршей. Человечеству Земли была попросту предоставлена возможность улаживать свои дела со Странниками в одиночку…
Вернемся, однако, вслед за автором в конец 30-х. Все в том же 37 году, когда Сикорски еще не ведал о надвигающемся на него деле «подкидышей», а Горбовский, обостренно чувствовавший опасность, кое-что уже знавший и о многом подозревавший, метался по планетам Периферии в поисках чего-то странного, необычного, на Пандоре было получено решающее, как полагает Т. Вандерер, подтверждение предостережениям Дурова и тагорян. В пандорианских джунглях в состоянии крайнего нервного истощения был неожиданно найден биолог Михаил Сидоров, пропавший без вести за три года до этого. Понадобилось немало времени, прежде чем Сидоров восстановил психическое равновесие, проанализировал пережитое и убедился в достоверности своих воспоминаний. Только четыре года спустя Совету Галактической Безопасности был представлен подробнейший официальный рапорт о событиях на Пандоре, о судьбе ее аборигенов и о виновниках этой судьбы.
На Пандоре, писал Сидоров, идет непрерывная биологическая война, которую земные наблюдатели как войну не воспринимают, а по существу не замечают вовсе. Но сама эта война — результат еще более серьезных событий. Несколько десятилетий назад, еще до появления на Пандоре землян, тамошнее человечество было искусственно разделено некоей внешней силой на несколько совершенно не похожих теперь друг на друга рас. Для отбора решающей оказалась половая принадлежность. Большая часть мужских особей, подвергнувшись некоему воздействию, достаточно быстро трансформировалась в нечто совершенно нечеловеческое (предположительно — в Странников) и навсегда покинула планету в неизвестном направлении. Женские особи после обработки претерпели совсем иные изменения: оставшись на планете и сохранив внешнее человекоподобие, они приобрели целый комплекс немыслимых свойств и способностей, перешли на партеногенетнческий путь размножения, подчинили себе обширные участки джунглей и по существу создали совершенно новую, биологическую цивилизацию. Сейчас эти существа (Сидоров назвал их «амазонками») успели разделиться на несколько противоборствующих групп и затеяли между собой самую настоящую (хотя и очень странную, с точки зрения землянина) истребительную войну.
Не прошедшие по разным причинам метаморфоз продолжали вести примитивный образ жизни в глухих лесных селениях. Но «амазонки» не оставили в покое и эти жалкие остатки прежнего населения: женщин с помощью специальных биороботов планомерно изымали из общин и превращали в «амазонок», а всех детей мужского пола во время столь же планомерной ликвидации деревень забирали неизвестно куда какие-то «ночные работники». Понятно, что при такой слаженной работе «амазонок» и сохраняющих над ними контроль Странников исконная цивилизация Пандоры будущего не имела.
(Автор касается и прочих частей доклада Сидорова, уже не имеющих прямого отношения к Странникам. Замечательно, считает он, что хотя отголоски этой истории и вышли все же за пределы СГБ, но в устных и печатных рассказах о похождениях отважного биолога на страшной чужой планете не назывались своим именем ни Михаил Сидоров, ни Пандора, ни уж тем более Странники.) Меры, принятые Галактической Безопасностью на Пандоре, почти ничего не дали. По целому ряду причин осуществить полный карантин планеты было невозможно, оставались паллиативы вроде не слишком-то удачных попыток закрыть знаменитый заповедник или хотя бы существенно ограничить территорию охотничьих угодий. Безуспешными были и все усилия спасти остатки коренного населения. Сейчас взрослых аборигенов мужского пола на Пандоре наверняка не осталось вовсе, пишет автор «Всплеска в тишине».
Именно тогда впервые в документах СГБ (а не в написанном много позже «Меморандуме Бромберга»!) прозвучал вывод о неизбежном разделении на несколько частей всякого человечества, оказавшегося на пути Странников и не сумевшего им противодействовать. Конкретика же (процент «уходящих» и «остающихся», сцепленность с полом и так далее) была отнесена к частностям, зависящим не от замыслов Странников, а от биолого-генетических особенностей каждой конкретной цивилизации.
Все эти предположения еще раз подтвердились в конце 49 года, когда Сикорски только-только начал приходить в себя после инцидента с «детонаторами». Случившееся, однако, заставило шефа Галактической Безопасности надолго забыть о покое и даже на какое-то время отвлечься от дела «подкидышей».
…Прогрессоры Земли пришли на Саракш в начале 40-х и среди множества тяжких проблем этой планеты столкнулись с тягчайшей — башнями в Стране Отцов. Система башен работала уже не менее десятка лет, у абсолютного большинства жителей страны успело развиться что-то вроде наркотической зависимости от излучения. Сил и средств для борьбы с массовым лучевым голоданием у Прогрессоров не было, да и существующие доктрины не допускали столь масштабного вмешательства. Резидентам Земли оставалось лишь наблюдать и искать надежную защиту от излучения. В поисках такой защиты — по собственным мотивам — была заинтересована и правящая элита страны.
…По прошествии нескольких лет некий трижды проверенный и безусловно лояльный техник (он же — сотрудник Галактической Безопасности) был наконец в виде особого доверия допущен в святая святых — к профилактическому ремонту сменных генераторов поля. О подробностях дальнейшего Тим Вандерер, по его словам, слышал разное, но одно совпадало: оказалось, что некоторые основные части генераторов заведомо не могли быть изготовлены на Саракше ни по материалу своему, ни по свойствам (например, способности к регенерации). Между тем вся периферия системы и передвижные излучатели не содержали в себе ничего необычного, оставаясь произведением сугубо местной технической мысли.
Тщательное расследование СГБ так и не выявило, кто же персонально осчастливил когда-то Саракш прототипом нынешних генераторов. Зато удалось установить, что теперешняя функция установок (создание поля Белого, Черного и прочих излучений) возникла после переделки уже имевшихся генераторов. Имена «рационализаторов», создавших, кстати, и передвижные излучатели, были выяснены, но людей этих, конечно, давным-давно не было в живых.
Итак, для чего предназначалась исходная аппаратура, по многим признакам принадлежавшая все тем же Странникам? Если учесть, что и в переналаженном виде генераторы давали четкую дисперсию реакций на некое воздействие в соотношении примерно сто «нормальных» к одному «выродку», то о целях такой техники можно было догадаться. Другое дело, что ни провести должным образом селекцию, ни воспользоваться ее плодами хозяева установок элементарно не успели — на Саракше началась тотальная атомная бойня…
Кажется, впервые у Рудольфа Сикорски появился реальный шанс встретиться с противником лицом к лицу. Была надежда, хотя и слабая, что какая-то часть первично инициированных смогла пережить войну, разруху и репрессии, пребывая ныне либо в коридорах власти, либо в числе легальных «выродков», либо в подполье, либо вообще за пределами контролируемой Неизвестными Отцами территории (например, в стране мутантов на Юге). Было предположение, что Странники могут еще вернуться и возобновить работу. Как бы там ни было, но Сикорски настоял, чтобы вся деятельность землян на Саракше, формально оставаясь в ведении Комиссии по Контактам, на деле была подчинена Галактической Безопасности. Здесь, увы, не обошлось без накладок: сведения о планете, например, были засекречены непоследовательно, что и привело в конце концов к утечке информации — молодой сотрудник ГСП Максим Каммерер не обнаружил в каталоге планет запретительного знака, посчитал этот мир необитаемым и надумал его посетить…
Это, впрочем, случилось позже. А в конце 52 года Рудольф Сикорски отправился на Саракш лично. Сначала он всего лишь хотел разобраться в ситуации на месте, однако разбирательство это затянулось на добрый десяток лет. Прогрессоры действительно мало чем могли помочь пережившей ядерную войну планете, здесь требовались соединенные усилия многих ведомств Земли при одновременном сохранении режима секретности. Сикорски взял на себя работу по координации этих усилий. Он боролся с надвигающимся голодом, помогал отражать десанты подводных флотов обнаглевшей сверх меры Островной Империи, делал еще тысячу дел — и ждал. Он ждал, что, может быть, когда-нибудь некто попытается пробраться к генераторам и вернуть их к первоначальному режиму. И вот тогда…
Засаду надлежало разместить как можно ближе к генераторам — значит, следовало войти в ближайшее окружение властителей страны, а в идеале — взять под контроль все разработки, связанные с излучением. Сикорски смог — не без труда и не вдруг — решить и эту задачу. Впрочем, и работу в Комиссии по Контролю он не оставил, время от времени появляясь на Земле. Официально, кстати, Рудольф Сикорски Землю как бы и вообще не покидал, а на Саракше трудился скромный Прогрессор Карл-Людвиг Вайзель…
(У него вообще было много имен — и до, и после этих событий. Для пользы дела. Но неожиданной и мрачной издевкой казалось ему, наверное, то, что в сложившейся при Неизвестных Отцах «табели о рангах» посту Сикорски в тамошней иерархии соответствовала не какая-нибудь иная кличка, но — Странник. Именно Странник.) Он не дождался на Саракше эмиссара Странников. Зато в 57 году до планеты добрался неофит ГСП Каммерер, который вскоре стал решать проблему башен отнюдь не в духе планов Галактической Безопасности. Впрочем, эта история хорошо известна. Теперь, задним числом, можно даже догадываться, за кого вполне мог сначала, еще не располагая всей информацией, принять этого необычного по здешним меркам и неуязвимого молодого человека Сикорски, уже предельно утомленный постоянной готовностью к контрудару. Впрочем, и прибывший инкогнито инспектор Мирового Совета (появлялась, по слухам, и такая странная версия) едва ли сильно обрадовал бы шефа СГБ: делами на Саракше он заправлял круто, не считаясь ни с сантиментами, ни с прогрессорскими канонами, а лишь со своей совестью да со своими представлениями о мере лежащей на плечах ответственности…
Сидение Рудольфа Сикорски на Саракше еще продолжалось (после уничтожения Каммерером генераторов там хватало забот и без Странников), его помощники на Земле прилежно надзирали за разбросанными по планетам Периферии «подкидышами», Горбовский спорил с Комовым о пределах компетенции Галактической Безопасности, а между тем, пишет автор, в начале 60-х Странники вновь занялись земным человечеством. Действовали они, однако, предельно тихо и аккуратно, не потревожив до поры бдительного покоя СГБ. Причины такой тишины и аккуратности заключались не только в нежелании беспокоить ведомство Сикорски — перед Странниками на какой-то срок вдруг возникли и технологические трудности.
С конца 30-х существовавшие ранее раздельно процедуры биоблокады (прививки вакцины «бактерии жизни») и фукамизации (растормаживания гипоталамуса) волею Мирового Совета были объединены в одну, причем обязательную для выполнения. Все фукамизированные по новой схеме на длительное время оказались непригодны для целей Странников, потенциальный контингент которых могли теперь составлять лишь рожденные до 38 года включительно. Но от главной цели своей Странники не отступились, хотя им и пришлось менять тактику. В начале 60-х, как это теперь известно, были осторожно активированы первые несколько десятков так называемых «люденов», в их числе и будущий герой Большого Откровения Даниил Логовенко.
В 63 году Сикорски вернулся на Землю. Находка двумя годами раньше охранного спутника Странников над Ковчегом привлекла, конечно, внимание Галактической Безопасности, но куда больше Рудольфа Сикорски обеспокоили события на Надежде. Исследователи и интерпретаторы могли вволю спорить о целях, ради которых Странники осуществили почти полную эвакуацию населения планеты, а затем устроили изощренную охоту на уцелевших детишек — работникам СГБ это было знакомо еще с Пандоры. Конечно, были и особенности: попытка Странников провести селекцию то ли еще больше подхлестнула уже начавшуюся пандемию «генного бешенства», то ли сама эту пандемию и вызвала.
Можно предположить, пишет Т. Вандерер, что процент пригодных для метаморфоза людей оказался чрезвычайно высок. Поэтому Странники, не располагая уже из-за всепланетной катастрофы временем на борьбу с болезнью, пошли на отчаянный шаг — тотальную, без разбора, эвакуацию населения в прежнем, неизмененном облике. Может быть, несчастным аборигенам пообещали здоровую и долгую жизнь в ином, куда более совершенном теле. Может быть, им посулили поголовное исцеление в некоем исполинском космическом госпитале. Детали исхода противоречивы и до конца неясны, судьба же немногих оставшихся на планете столь же незавидна, как у их собратьев по несчастью с Пандоры.
Собственно говоря, в уже знакомую СГБ схему действий Странников теперь добавлялись детали, существенно не меняющие главного принципа. Подобно тому, как земные Прогрессоры пытались поднять как можно большее число несовершенных гуманоидных рас до социального уровня Земли, Странники должны были ощущать неодолимую потребность поднять максимальное число носителей разума до их, Странников, биосоциальной стадии.
Сходство с земным Прогрессорством выглядело чисто внешним (недаром автор считает нонсенсом само понятие «прогрессорская деятельность Странников»): там — ускорение и облегчение естественно текущей социальной эволюции (по крайней мере — в теории), здесь же — не только крутой поворот биологической эволюции вида, но по сути уже начало новой эволюции, имеющей с прежней разве что видимость причинно-следственной связи. Для Рудольфа Сикорски это было равноценно резкому насильственному прекращению течения человеческой истории, прекращению самого существования человечества, чью безопасность он был призван отстаивать.
Возвратившись домой, Сикорски стал укреплять именно земные службы, в первую очередь Комиссию по Контролю: главных событий он ждал теперь не в космических далях, а здесь, рядом. Вскоре в КОМКОНе-2 оказался Максим Каммерер, доставивший когда-то Сикорски столько хлопот, а затем ставший надежным (хотя и не посвященным во все тайны) помощником. Чуть позже в эту организацию перешел и Михаил Сидоров, еще тридцать лет назад пообещавший добраться когда-нибудь до хозяев «амазонок» не со скальпелем, а с чем-нибудь посущественнее. Отныне все внимание Сикорски было приковано прежде всего к Земле.
Но следующие без малого пятнадцать лет оказались временем затишья. Новых видимых опасностей не прибавилось, достоверной информации о вмешательстве Странников в земные дела не поступало. Сотрудники Сикорски занимались рутинными делами по контролю научных исследований да обработкой прежних данных. А сам Сикорски все ждал подвоха, ловушки, заранее спровоцированной случайности — и не спускал глаз с «подкидышей». Впрочем, как теперь известно, и Леонид Горбовский не оставлял своих метаний в поисках источника будущих потрясений, которые — он был почему-то в этом убежден — просто не могли миновать человечество Земли.
…Потом был июнь 78 года — развязка затянувшегося ожидания, конец дела «подкидышей», конец профессиональной карьеры Рудольфа Сикорски, конец его детища — Совета Галактической Безопасности, а заодно и начало конца Прогрессорства, по которому рикошетом ударило общественное мнение, старательно подогретое Айзеком Бромбергом и лихими журналистами. Сикорски, которому официальные и неофициальные расследователи припомнили очень многое, добровольно ушел со всех постов и провел остаток жизни сугубо частным лицом, никогда более не пытаясь открыто выступать в профессиональном качестве. (Тем не менее, по свидетельствам Каммерера и других, экс-руководитель КОМКОНа-2 и СГБ до конца жизни своей частенько возвращался мыслями к угрозе, которую он теперь не сможет предотвратить, и к делу Абалкина, которое он даже иногда начинал считать чуть ли не специально подстроенной хитроумной провокацией противника, увенчавшейся полнейшим успехом.) Сохранившиеся «детонаторы» перешли, как утверждали данные проверки, в стойкое латентное состояние, а уцелевшие «подкидыши» так никогда и не проявили, кажется, каких-либо свойств, выходящих за рамки сугубо человеческих представлений. Для общественного мнения теперь, после разоблачения «синдрома Сикорски», проблема Странников окончательно перекочевала в область исторических анекдотов и случаев из психиатрической практики. Желающих открыто и всерьез разрабатывать эту тему не находилось более даже среди самих комконовцев, а если даже кто-то из них и думал иначе — он молчал.
Так Земля встретила начало 80-х.
Все дальнейшие события принадлежат, собственно говоря, уже истории Большого Откровения и в основном достаточно изучены. Автор, разумеется, не упускает случая заметить, что первые пятнадцать лет (до 95 года) грандиозные игрища могучих космических сил на Земле и вокруг нее совершались не только абсолютно беспрепятственно, но и при полнейшем пренебрежении к ним со стороны всех служб, призванных заботиться о благополучии и безопасности землян. Получить диагноз «синдром Сикорски» по-прежнему не хотелось, как видно, никому.
Перечисляя происшествия тех лет, Тим Вандерер называет и самоубийство Камилла. Авторская версия основана на факте, не привлекшем в ту пору никакого специального внимания. Незадолго до гибели Камилл для чего-то озаботился снять ментограмму, которую затем без всяких пояснений переслал старому своему знакомому — Горбовскому. Выяснить смысл непонятного подарка Леониду Андреевичу было уже не у кого. Он честно сообщил о странном случае сотрудникам КОМКОНа-2, на чем, собственно, дело и закончилось. Дальнейшая судьба ментограммы не вполне ясна, однако автор утверждает, что в числе прочих экзотических и аномальных деталей имел быть и пресловутый зубец Т. Можно допустить, пишет Т. Вандерер, что мощнейший интеллект Камилла сумел правильно интерпретировать все происходящее вокруг, а затем и понять смысл ментограммы. Киборгизированный организм, естественно, никакой трансформации в Странника не подлежал. Видимо, это и стало последней каплей…
Так вышло, что осторожно повернуть (пусть даже частично) работу КОМКОНа-2 к некоторым прежним задачам ученики покойного Сикорски Михаил Сидоров и Максим Каммерер решились только в середине 90-х, в тот самый момент, когда в организацию пришел новый сотрудник — Тойво Глумов. Все, что произошло затем и окончательно похоронило интерес к Странникам, описано и рассказано несчетное число раз. Тима Вандерера интересует вовсе не Глумов (которого автор считает таким же непонятым героем-одиночкой, как Сикорски и его ближайшие соратники по СГБ) и не инсинуации вокруг имени Глумова (опровергать которые автор полагает ниже своего достоинства), а совсем иные персонажи истории Большого Откровения.
В книге очень обстоятельно рассматриваются детали пресловутого собеседования Комова и Горбовского с Даниилом Логовенко 14 мая 99 года. Как известно, стенограмма этой встречи стала решающим аргументом при определении политики руководства Земли в отношении так называемых люденов (которых автор «Всплеска в тишине» считает, разумеется, просто очередным частным проявлением все тех же Странников). Если раньше, пишет Т. Вандерер, у Геннадия Комова и Леонида Горбовского и были еще какие-то сомнения и колебания, то в ходе исторической встречи места для них не осталось. Непроверенные рапорты, сомнительные гипотезы и туманные легенды получили теперь решающее подтверждение: Странники находились на Земле и действовали.
Полностью скрыть от общества свершившийся факт было уже немыслимо — времена Галактической Безопасности миновали. Человечество находилось меньше чем в одном шаге от небывалого унижения, от осознания полнейшей своей беспомощности перед неизбежным, от гигантского психологического шока, от благоприобретенного комплекса лабораторного животного, внезапно открывшего, что всю жизнь обитало в вольере. (Наверное, в те минуты Леонид Андреевич вспомнил, каково ему было когда-то, много лет назад, хотя бы ненадолго почувствовать себя таким вот подопытным существом, сделавшись источником непонятных радиосигналов.) Никакого удовлетворительного решения, казалось, не существовало. Но решение нужно было находить, и тогда Леонид Горбовский вдруг очень осторожно, сам еще до конца не поняв всех деталей, попытался сформулировать некое предложение. После недолгого размышления идею уточнил Геннадий Комов и счел приемлемой Даниил Логовенко. Коль скоро факт нельзя было скрыть, оставалась еще его интерпретация. Короче говоря, высокие стороны договорились представить происходящее неким сугубо внутренним делом Земли, а несколько сотен отобранных к тому моменту Странников — закономерным (пусть и не для всех приятным) результатом естественной эволюции вида Хомо Сапиенс. Участники совещания полагали (и как потом выяснилось, вполне справедливо), что в условиях всеобщего упадка интереса к проблеме Странников новейшие события просто не увяжутся без специальной подсказки с этим именем и что вопросы типа «У кого учился первый люден?» не станут занимать озабоченное куда более существенными делами человечество.
Так впервые прозвучала официальная версия Большого Откровения, придуманная ради высших интересов Земли. Так с помощью Логовенко и по настоянию двух членов Мирового Совета в записи беседы образовались лакуны, призванные скрыть опасные намеки и подробности. Кстати, Логовенко позаботился, чтобы впредь Комов и Горбовский могли не опасаться ни ридеров, ни сколь угодно глубокого ментоскопировання, запомнив из беседы ровно столько, сколько требовалось для пользы дела…
У читателя, видимо, давно уже вертится на языке вопрос об истоках столь поразительной осведомленности автора. Впрочем, последний эпизод Тим Вандерер откровенно признает реконструкцией, основанной на логике всех предшествующих событий и на достаточном числе косвенных доказательств. Что же касается событий в целом… Возможно, так оно все и было. Сам я не берусь судить об этом. Теперь уже — не берусь. С какого-то момента магия авторской логики подчиняет себе читающего и незаметно заставляет поверить — хотя бы пока книга перед глазами — в то, что поначалу выглядело не более чем псевдодокументальными «страшилками». Поэтому и к финалу «Всплеска в тишине» хочется отнестись без излишнего легкомыслия.
Людены покинули Землю, пишет Т. Вандерер. По крайней мере, так принято сейчас считать. Человечество пережило несколько не самых приятных для своего самолюбия лет. Но в конце концов беда оказалась не такой уж страшной, беспокойство — не таким уж обоснованным, а последствия — не такими уж неприятными, как это виделось вначале. Человечество узнало о люденах, переболело этим своим знанием, рассталось с ними — и уцелело. В сущности, иначе и быть не могло, пишет автор: обитатели тихого водоема вряд ли станут долго убиваться о своей участи из-за одной навсегда покинувшей родной пруд лягушки, пусть и наделенной многими новыми свойствами и умениями. А если кого-то такая аналогия задевает, то можно сформулировать то же самое по-иному: сотни и даже тысячи люденов со всеми своими сверхъестественными возможностями — сила, слишком несоизмеримая с мощью многомиллиардного человечества.
Все в порядке. Людены ушли. Человечество осталось. Но ведь и Странники остались тоже!
Пропорция отбора оказалась невероятно удачной для нас, землян: число обладающих третьей импульсной системой безмерно далеко даже от одного процента потенциальных Странников на Саракше, не говоря уже о подавляющем большинстве социумов Пандоры или Надежды. Оставшихся настолько много, что уходящие почти незаметны. Так-то оно так. Но не рано ли мы радуемся? Не рано ли забыли мы о дремлющих в наших организмах других системах, терпеливо ждущих, когда их активирует… Что? Или кто? Естественный ход эволюции человека? Непредсказуемая цепь взрывных мутаций? Или нам снова раз за разом предстоит еще проходить через умело подготовленное кем-то сито?
Этими вопросами без ответов заканчивается книга. Читатель, осиливший «Всплеск в тишине» до конца, остается в некоторой растерянности. Что перед ним? Крепко сколоченная мистификация? Своеобразная притча о последствиях равнодушия и нелюбопытства? Или все же рассказ о действительных событиях и реальных тревогах? Я и сам не могу ответить уверенно — мне попросту не хватает ни знаний, ни доступной информации.
А впрочем, надежда получить точный ответ есть. В следующем году, как это положено делать по прошествии ста лет, должна быть предана гласности вся закрытая ранее информация КОМКОНа-1 по Тагоре, затем придет черед и других старых архивов с истекшим сроком секретности. И если реконструкции найдут подтверждение… Если решатся заговорить оставшиеся еще в живых бывшие сотрудники Галактической Безопасности… Что ж, тогда мы, возможно, все узнаем наверняка. Правда, еще до этих пор в любой момент подтвердить сказанное в книге могут ее главные действующие лица — Странники.
Кстати, я совсем забыл пояснить: по-английски псевдоним автора тоже означает «Странник»…
Саратов 93, сентябрь-декабрь 96, февральАндрей Чертков Неназначенные встречи
Признаюсь честно: сев за компьютер, чтобы написать послесловие к этой книге, я привычно возложил длани на клавиши, взглянул на чистый еще экран монитора и… совершенно неожиданно для себя испытал чувство полнейшего ступора. Несколько лет подряд говорил я об этой книге — приватно и прилюдно, по телефону и даже по компьютерной сети; я разъяснял замысел сборника, основные принципы и критерии отбора произведений; я убеждал, уламывал, уговаривал, аргументировал и спорил. А вот теперь — я просто не знал, о чем надо (а также можно и стоит) писать!
О том ли, что книги Стругацких — это не просто великолепная литература, это целый кусок жизни десятков и сотен тысяч, быть может, даже миллионов людей?
О том, что книги Стругацких учили читателей жить согласно афористично сформулированным нравственным императивам: «там, где царствует серость, к власти приходят черные», «думать — не развлечение, а обязанность», «работать интереснее, чем развлекаться», «жизнь дает человеку три радости — друга, любовь и работу», — и многим-многим другим?
О том, что вся современная отечественная фантастика (та, которая имеет право называться литературой) вышла из «шинели Стругацких» — из «Стажеров» и «Полдня», «Понедельника» и «Пикника», «Улитки» и «Миллиарда», — и что целое поколение отечественных фантастов отнюдь не случайно считает Стругацких своими Учителями?
О том, что великие художники Стругацкие, отсекая из своих замыслов, как из глыбы, мрамора, все, что по их мнению было лишним, оставили за «открытыми финалами» своих повестей великое множество нераскрытых загадок, незавершенных сюжетных линий, не прослеженных до конца человеческих (и нечеловеческих) судеб?
О том ли, наконец, что из любого правила есть исключения, и ставшее в последнее время жупелом заграничное словечко «сиквел» («продолжение») далеко не всегда означает откровенно второсортную, коммерческую халтуру — особенно если пишется такой сиквел «не корысти ради», а из любви и уважения?
Так ведь обо всем об этом — и куда лучше и доходчивее меня — написали в своих вступлениях авторы включенных в сборник произведений, а о том, о чем умолчали они, сказал Борис Натанович Стругацкий в своем предисловии.
Тем временем дни шли, срок сдачи книги в типографию неумолимо приближался. Я принимал редактуру, проверял корректуру, просматривал иллюстрации и элементы оформления, а по ночам, тупо уставившись в по-прежнему первозданно чистый экран, все пытался связать воедино ускользающие мысли. Лишь тогда, когда времени осталось совсем ничего, — пришла, наконец, спасительная идея, выручавшая прежде многих и многих: если не знаешь, о чем написать, пиши именно об этом.
Так родилась первая фраза этого послесловия. А затем — затем пришло в голову и название: я позаимствовал его у многострадальной книги Стругацких, мариновавшейся в издательстве «Молодая гвардия» с 72 по 80 год. И сразу все стало предельно ясно. Я понял, о чем можно, нужно и стоит писать — а именно о том, как создавалась эта книга. Книга, о которой я мечтал с самого детства. Книга, ставшая для меня своеобразной «неназначенной встречей». Или, точнее, одной из.
Странным образом все узловые события моей жизни оказались связаны со Стругацкими. С полным основанием берусь утверждать: их творчество стало той «рукой судьбы», что безошибочно провела меня через минное поле случайностей.[10] Право слово, есть в этом что-то мистическое.
Судите сами.
Почему в то время, когда круг моего чтения — а следовательно, и интересов — еще только определялся, отец, который фантастику не очень-то жаловал, посоветовал мне прочесть именно «Отель „У Погибшего Альпиниста“» в выписываемой им «Юности», а сразу за тем — «Малыша» и «Пикник на обочине» в «Авроре»? Нет ответа. Но есть итог: круг чтения (и поисков этого чтения) определился сразу и очень-очень надолго.
Почему книги Стругацких, бывшие в те далекие времена большущим дефицитом, тем не менее попадали мне в руки исправно и с редкостной периодичностью? В итоге — миры братьев Стругацких стали для меня более реальными, нежели окружающий мир, в них я пребывал постоянно, лишь изредка покидая для дел, что называется, житейских. По мере добывания новых книг миры эти постепенно расширялись, а по мере перечитывания старых (скажем, «Понедельник» я прочел раз, наверное, пятьдесят) становились все более осязаемыми.
Почему восторженное и наивное письмо кумирам, отправленное в 75 году юным фэном «на деревню дедушке» (на адрес журнала «Аврора») не затерялось по дороге и не оказалось в редакционной корзине, а было передано непосредственно Борису Натановичу, который доброжелательно — хотя и коротко — ответил на него? В итоге — письмо «от самих Стругацких» ощутимо подняло мой авторитет среди приятелей, учителя же стали гораздо более терпимо относиться к тому, что во время уроков вместо формул и уравнений я пишу в тетрадке нечто совсем иное.
Позднее, когда я уже заканчивал Николаевский пединститут, «рука судьбы» продемонстрировала мне и «оборотную сторону медали»: в 84 году после полутора месяцев «бесед» в КГБ меня с треском вышибли из орденоносного Ленинского комсомола за «аполитичность и идейную незрелость», а по сути — за КЛФ «Арго», который я создал в стремлении расширить круг своего общения. Областная партийная газета «Южная правда» разродилась по этому поводу большой «подвальной» статьей под названием «Гадкий утенок». Помимо прочих забавных обвинений было там и такое: мол, «отдельные» любители фантастики, начитавшись «Гадких лебедей», «смотрят на мир сквозь очки ископаемого белогвардейца». М-да. Однако нет худа без добра: с той поры я окончательно избавился от иллюзий относительно мира, в котором мне довелось родиться.
Да и в дальнейшем узловые точки на моем жизненном пути отрабатывались «рукой судьбы» с завидным постоянством. Свое первое, как я считаю, по-настоящему профессиональное интервью я взял в 87 году именно у Аркадия Натановича Стругацкого — затем оно было напечатано в нескольких молодежных газетах от Симферополя до Хабаровска. А когда в 88 году я начал выпускать фэнзин «Оверсан» (слово для названия, кстати, тоже было почерпнуто у Стругацких), то надо же было такому случиться, что один из его номеров попал к Николаю Ютанову, писателю из Семинара Бориса Стругацкого, осваивавшему в то время профессию издателя. Результат: я перебрался из Севастополя в Ленинград, сам стал членом Семинара, профессионально занялся редактурой и много чего с тех пор наиздавал, включая книгу, которой особенно горжусь. Нетрудно догадаться, что это тоже были Стругацкие — первое издание повестей «Понедельник начинается в субботу» и «Сказка о Тройке» в полном авторском варианте.
А теперь вот и эта книга — самая главная на сегодняшний день из моих «неназначенных встреч».
Впервые идея сборника произведений «по мотивам Стругацких» зародилась у меня, насколько я помню, весной 91 года. Надо сказать, поначалу даже мне самому эта идея показалась несколько… э-э… крамольной. Но, во-первых, я вспомнил свое детство, когда пытался дописывать полюбившиеся вещи Стругацких — крайне неумело и неизобретательно, зато искренне. А что, если за это возьмутся настоящие мастера? Во-вторых, в то время я активно изучал американский книжный рынок и убедился, что там подобные издания — дело обычное. Помимо многотомных романизации типа «Звездных войн» и многочисленных «коллективных романов» (американцы называют этот жанр «shared worlds»), можно привести и более достойные примеры — скажем, мемориальные антологии «Друзья Основания» и «Брэдберианские хроники», в которых коллеги-писатели отдали дань уважения Айзеку Азимову и Рэю Брэдбери.
Я высказал свою идею Борису Натановичу. Однако его реакция была, скорее, негативной. «Андрей, — сказал он, — уважающий себя писатель не будет пользоваться чужими мирами. Ему это не интересно. Ему интересно придумывать свои миры и своих героев». Согласен: замечание справедливое, вот только к моей идее, на мой взгляд, оно отношения не имело. Однако и Андрей Столяров, и Вячеслав Рыбаков, с которыми я переговорил на ту же тему, отнеслись к моему замыслу без особого энтузиазма. Разочарованный, я переключился на другие дела, благо всех нас тогда переполняли отличные идеи, одна другой грандиозней, — правда, лишь немногие из них были осуществлены впоследствии.
В октябре 91 года умер Аркадий Натанович. Это был сильнейший удар — братья Стругацкие казались вечными, и свыкнуться с тем, что такого писателя больше нет и никогда уже не будет, было просто невозможно. И тогда я пообещал себе, что обязательно доведу свой замысел до конца. И постепенно, сами собой, сформулировались два главных принципа проекта, получившего условное название «Миры братьев Стругацких».
Принцип первый. Участники проекта — писатели «четвертой волны», чью творческую судьбу во многом определили книги Стругацких. При этом — никаких ограничений по возрасту, именитости и количеству опубликованного. Каждый, кто считает, что он имеет право участвовать в проекте, может в нем участвовать. Главный критерий — качество самого произведения. Оно может не нравиться мне как читателю, но если оно сделано крепко, профессионально, талантливо — оно должно быть включено в книгу.
Принцип второй. Никакой обязаловки. Авторы имеют полную свободу в выборе мира, героев, времени и места действия. Если кто-то найдет ход, позволяющий ему совместить миры «Страны Багровых Туч» и, скажем, «Улитки на склоне» — то почему бы и нет; главное опять-таки — чтобы это было хорошо сделано. И никакого догматизма: мэтров можно дополнять, можно с ними спорить, а при желании можно даже иронизировать над их героями — разумеется, в меру присущего данному конкретному автору такта. В конце концов, литература — не пансион для благородных девиц. Каждый писатель смотрит на мир по-своему. И лучшие ученики — это те, кто, усвоив преподанное им учителями, смогли найти свой собственный путь.
Второй этап раскрутки проекта начался в 93 году. На очередном «Интерпрессконе» в Репине я вновь, но уже более настойчиво провел среди знакомых мне писателей рекламную кампанию. Кроме Рыбакова со Столяровым при сем присутствовали Андрей Лазарчук, Михаил Успенский, Эдуард Геворкян и Владимир Покровский. На этот раз идея была воспринята гораздо более благосклонно. Геворкян, помнится, загорелся настолько, что тут же начал составлять списки, с кем еще стоит переговорить по этому поводу.
К сожалению, еще на первоначальной стадии проект требовал серьезного финансового обеспечения. Дело даже не в гонорарах — просто авторы хотели быть твердо уверены, что книга действительно выйдет в свет и их труд не пропадет понапрасну. Однако твердых гарантий я дать не мог — в то время ситуация на книжном рынке для отечественной фантастики была неблагоприятной. И поэтому работа над антологией была заморожена.
А два года спустя, в июне 95 года, у меня дома раздался звонок из одного нижегородского издательства: мол, они, услышали краем уха о моей идее и заинтересовались. Вскоре после этой беседы я произвел массовый обзвон всех потенциальных авторов — и тех, с кем беседовал прежде, и тех, кому рассказал об этом в первый раз. Не скажу, что работа сразу же закипела, однако «подвижка льда» явно произошла. И когда три месяца спустя до меня дошел слух, что вероятный заказчик вот-вот даст течь, это уже никого не могло устрашить. Ситуация изменилась, и издателя на столь необычную книгу найти было бы уже несложно.
Так оно и произошло. В сентябре 95-го я познакомился с Николаем Науменко и Светланой Герцевой из московского издательства «ACT», которые сами оказались большими любителями фантастики. Они оценили идею по достоинству и оказали необходимую помощь. Именно тогда и был сделан последний решающий шаг к тому, чтобы сборник действительно увидел свет.
Оставалось только собрать рукописи. Увы, это тоже оказалось непросто. Жизнь — штука суровая, а творчество — вещь хрупкая. Особенно, когда приходится писать одновременно и на заказ и для души. Неудивительно, что многие писатели, обнадежившие меня на предварительном этапе, просто не уложились в установленные сроки. Последние две вещи — повести Успенского и Лукьяненко — пришли по электронной почте в начале марта, когда над будущей книгой уже вовсю шла работа.
Однако кто сказал, что «Время учеников» — это обязательно одна книга? Я этого никогда не утверждал: Учеников у братьев Стругацких множество, поэтому читатели, которым придется по вкусу настоящий сборник, могут рассчитывать, как минимум, еще на один такой же. Впрочем, не стоит раскрывать редакционные тайны — кто, что, где, когда. Вся прелесть неназначенных встреч в том, что они неназначенные.
Как написали некогда в одной из своих статей Аркадий и Борис Стругацкие: «Будем ждать и надеяться!»
Санкт-Петербург апрель 1996 г.Примечания
1
Мои часы! (фр.)
(обратно)2
Я потерял (фр.)
(обратно)3
Вы не правы (фр.)
(обратно)4
Ребенок (фр.)
(обратно)5
Не стоит благодарности (фр.)
(обратно)6
До завтра (фр.)
(обратно)7
Я крайне огорчен! (фр.)
(обратно)8
Я не виноват! (фр.)
(обратно)10
«Рука Судьбы и поле случайностей» — так называлось мое интервью с С. Витицким в журнале «Если», 1995, № 11–12.
(обратно)

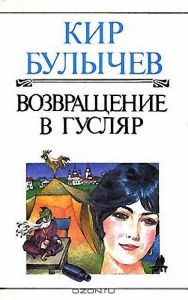
Комментарии к книге «Время учеников. Выпуск 1», Сергей Лукьяненко
Всего 0 комментариев